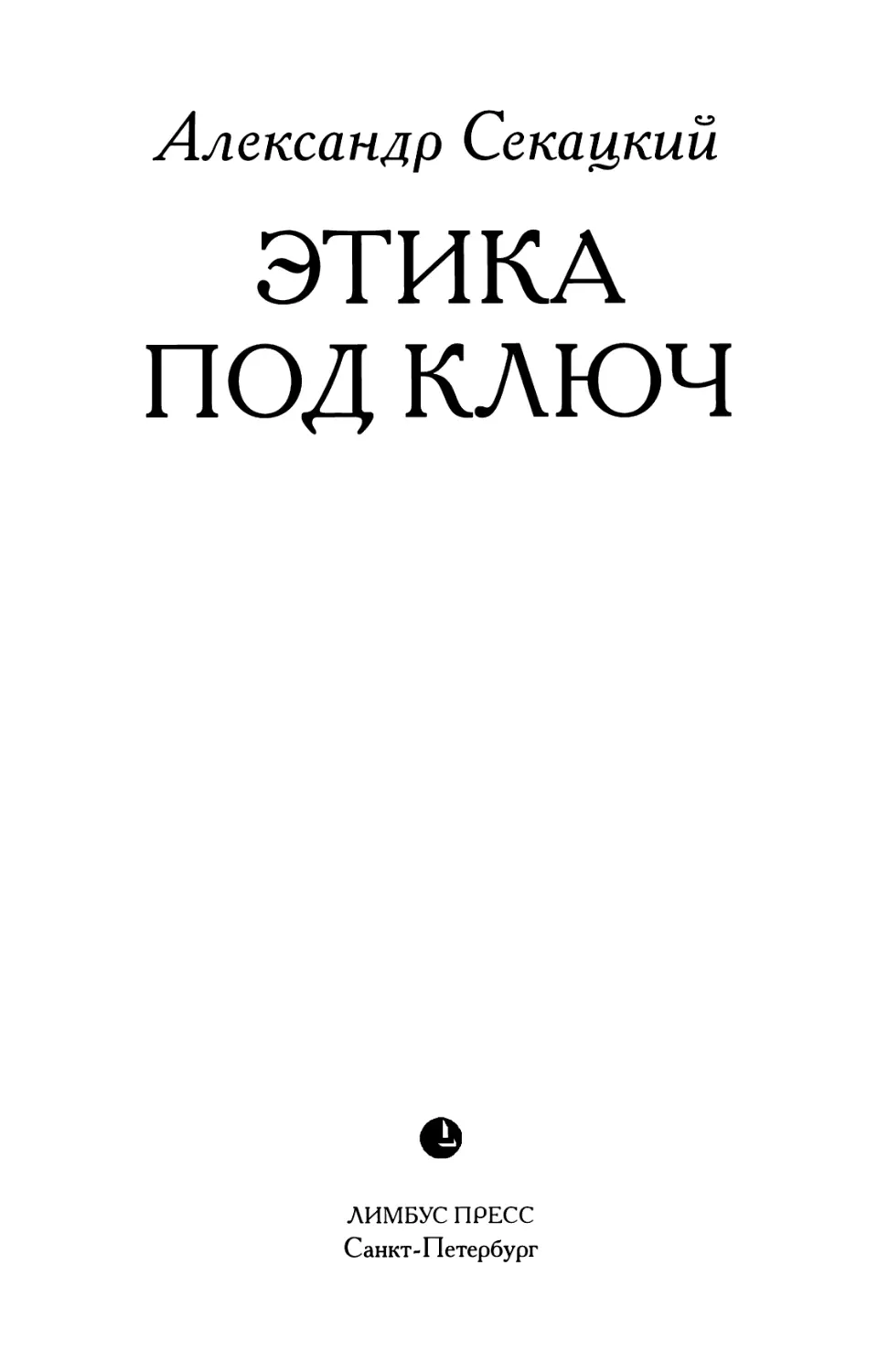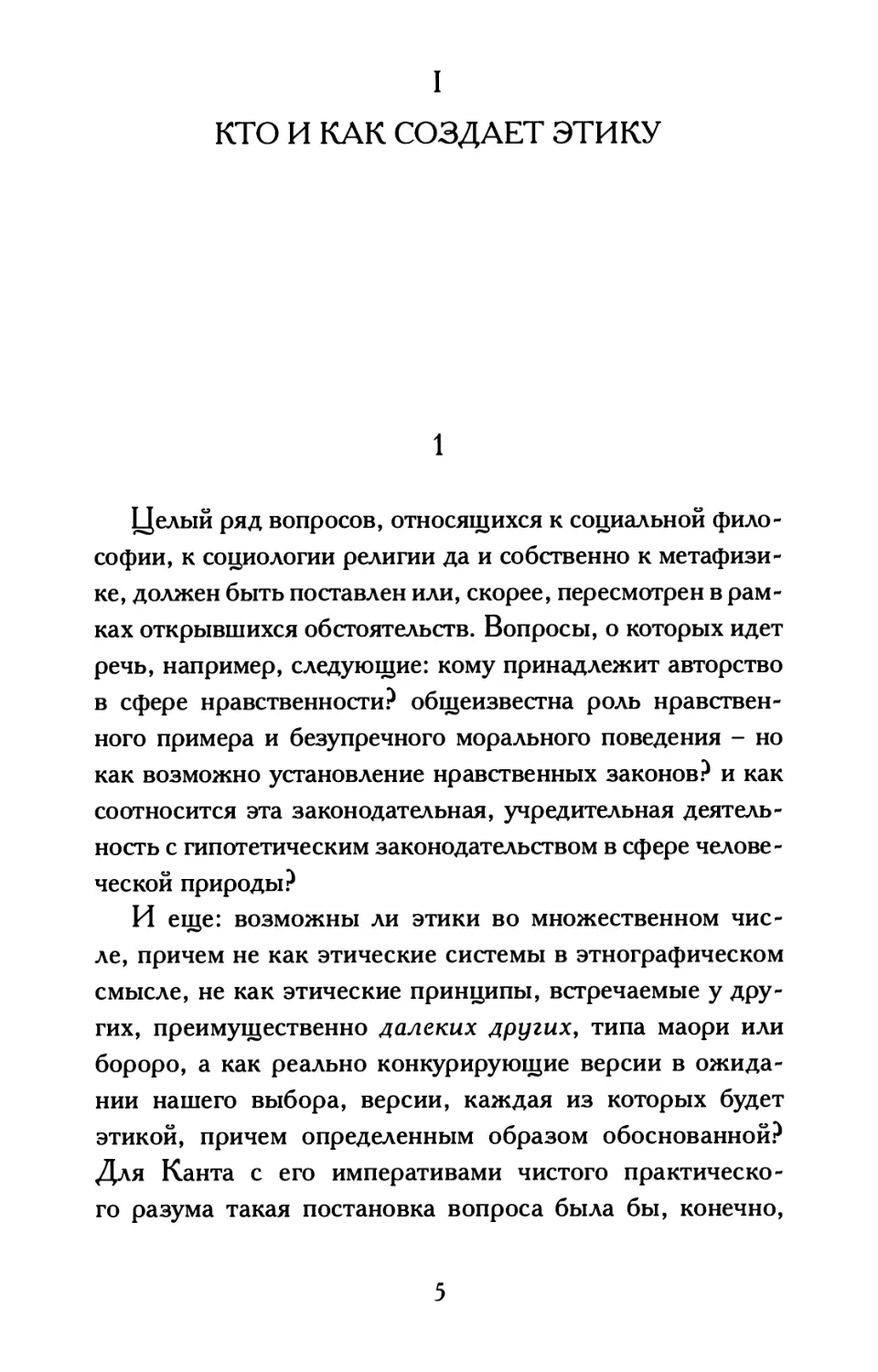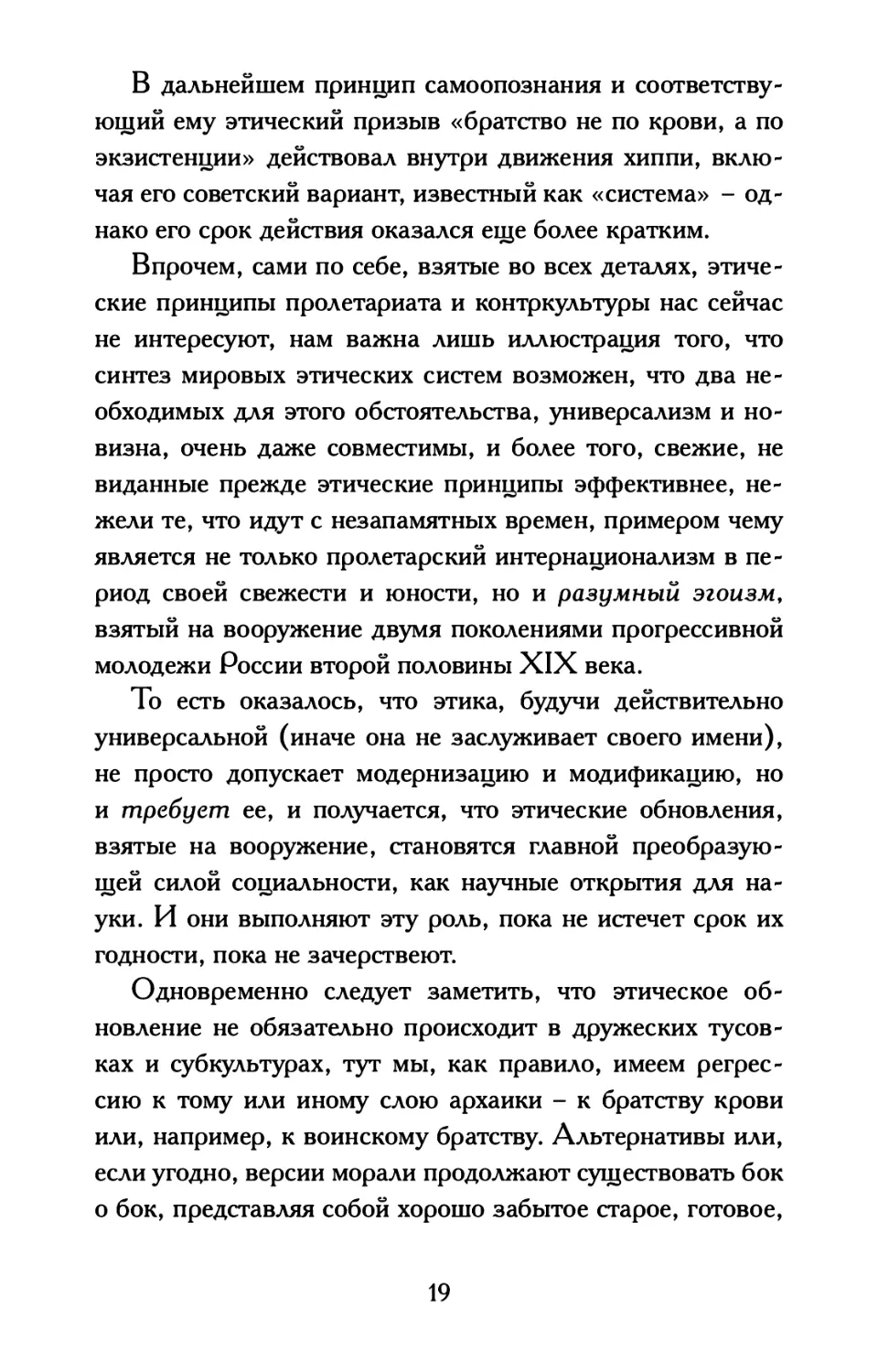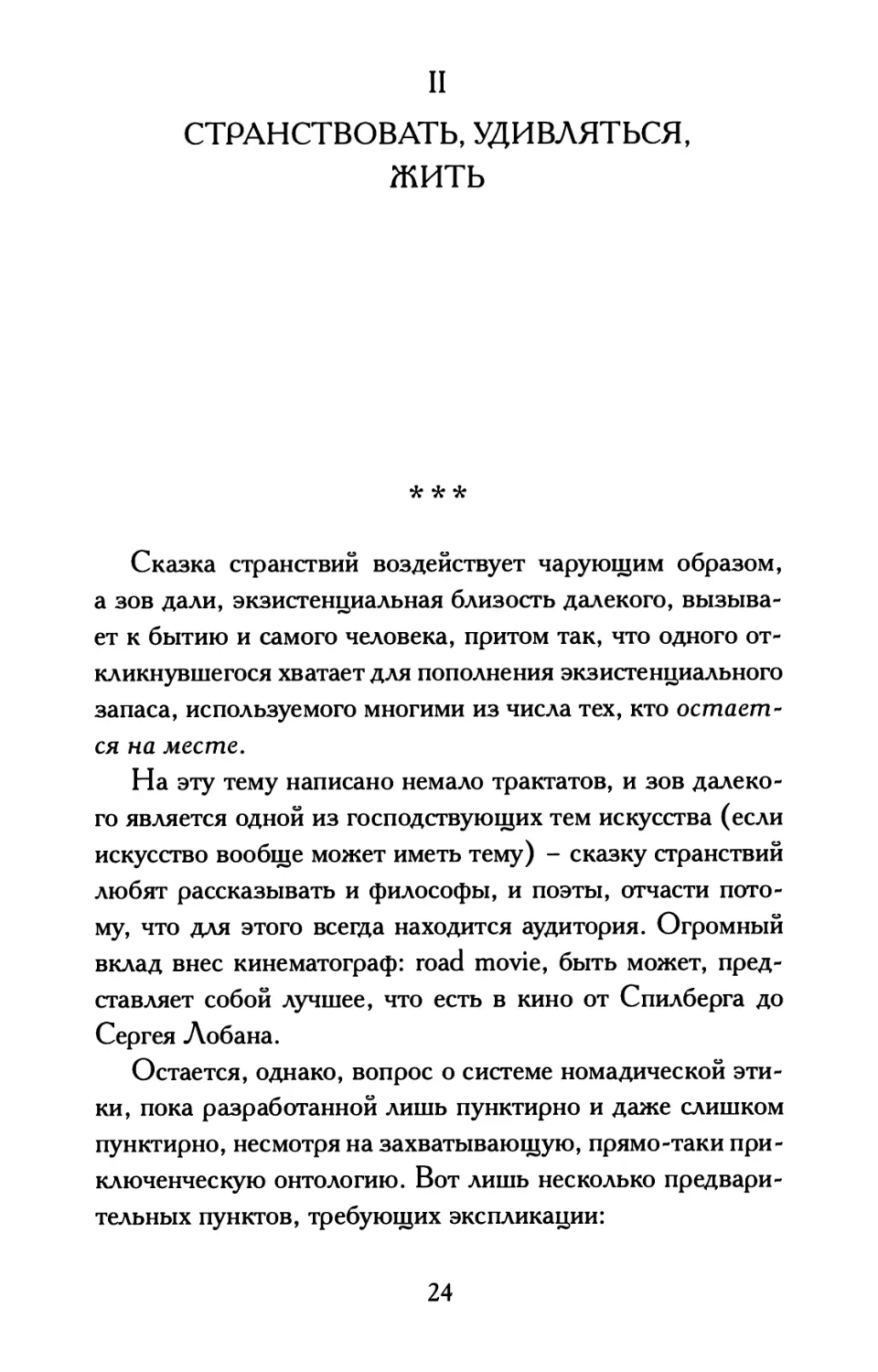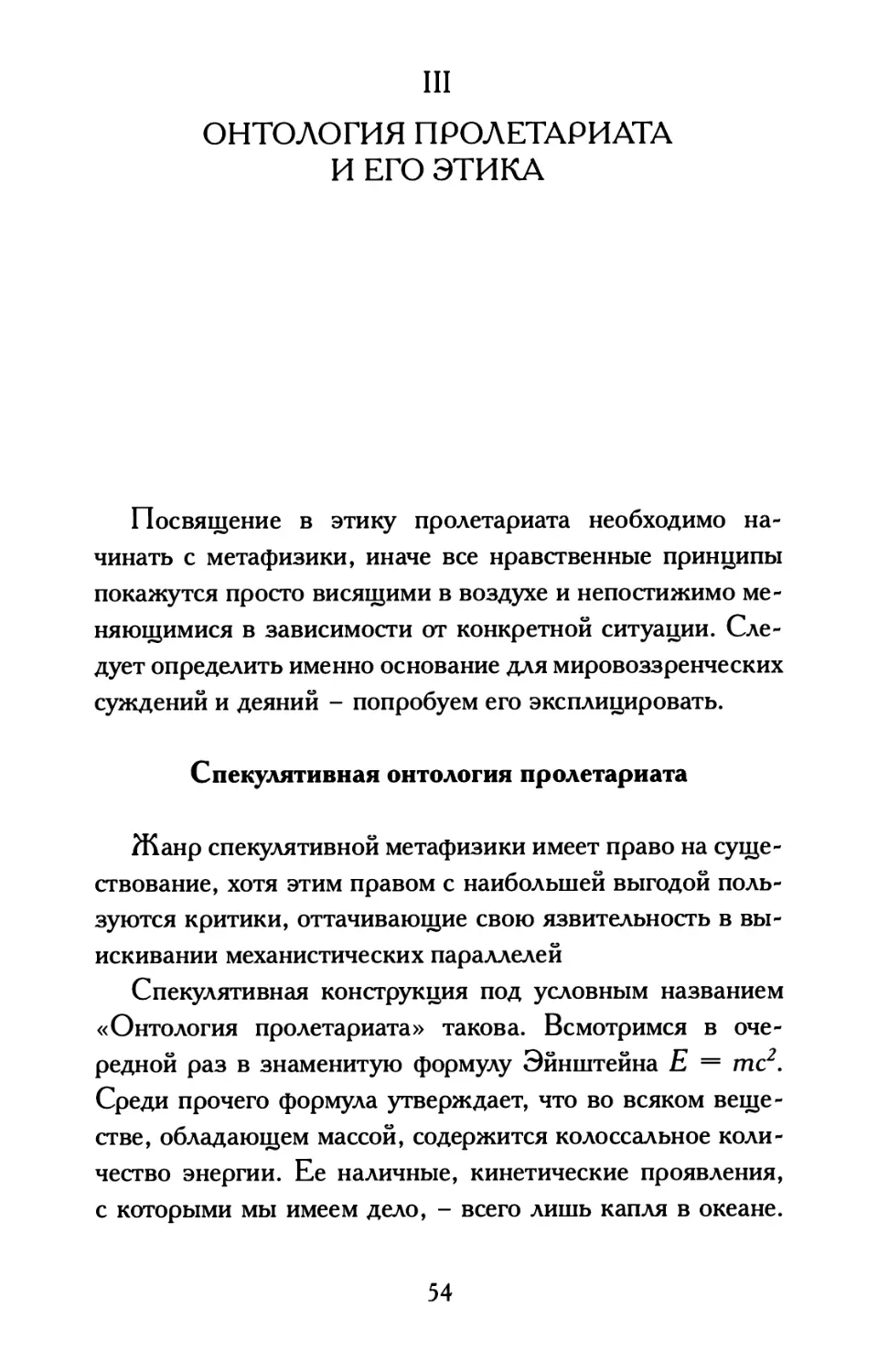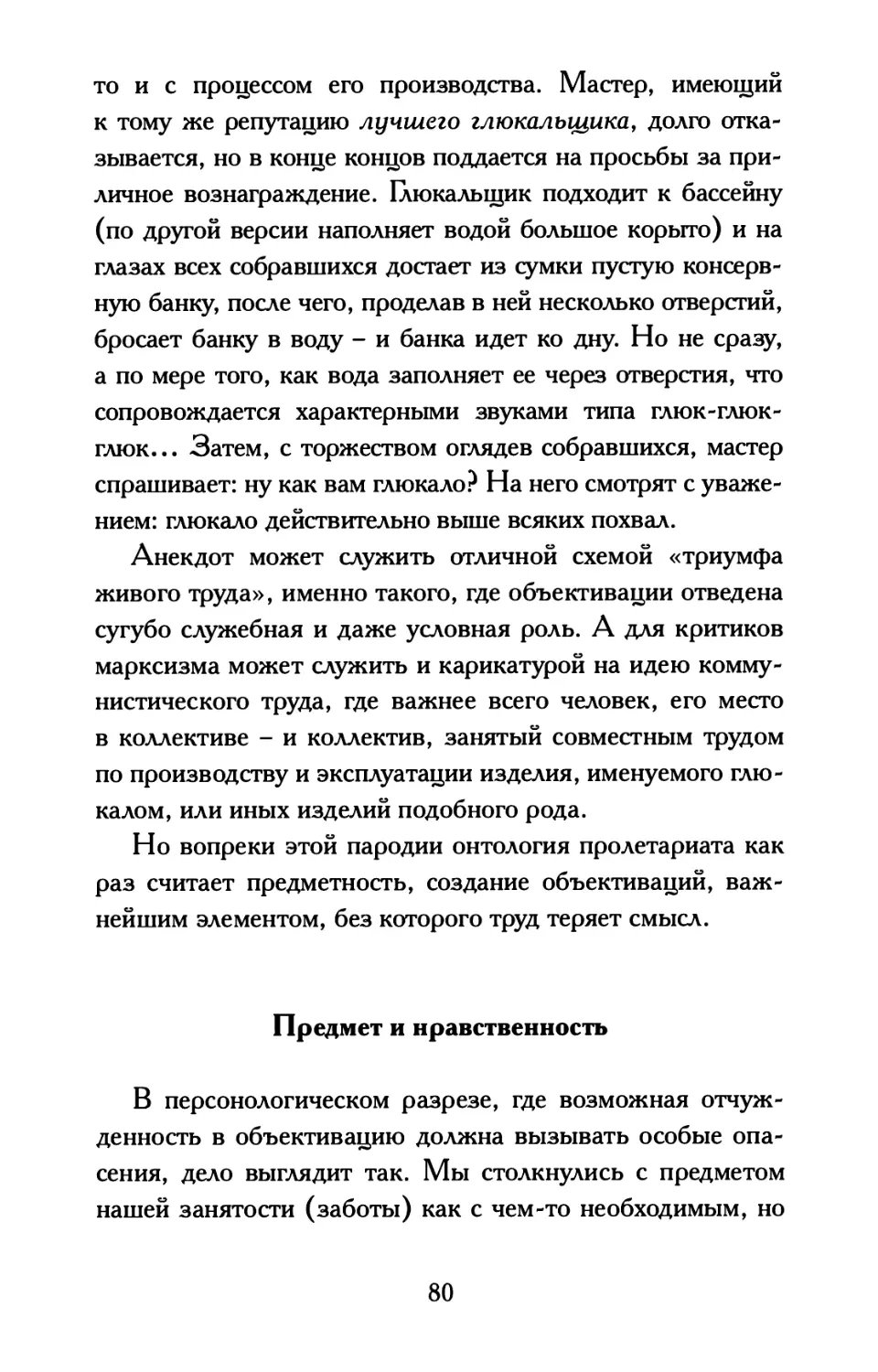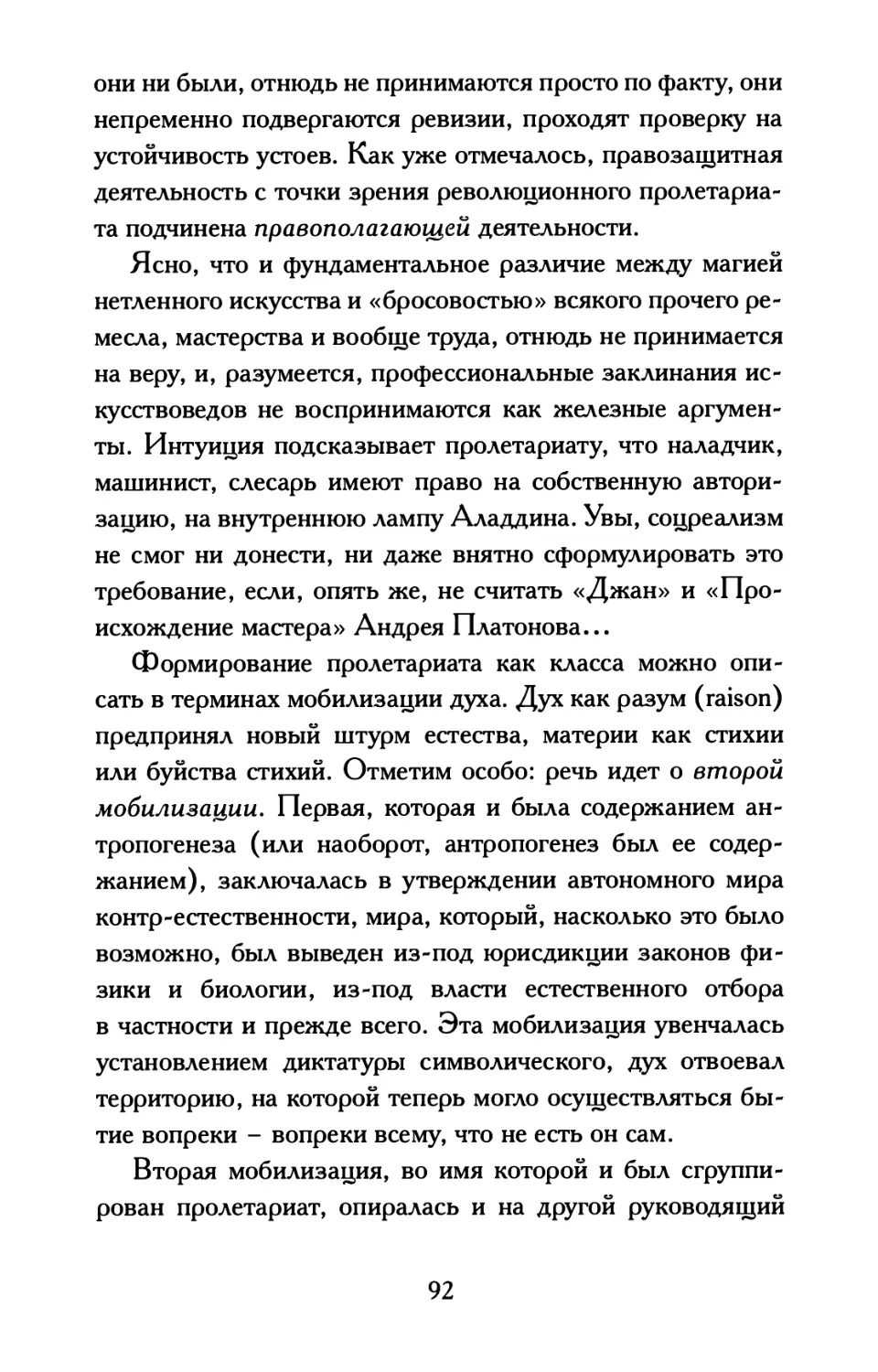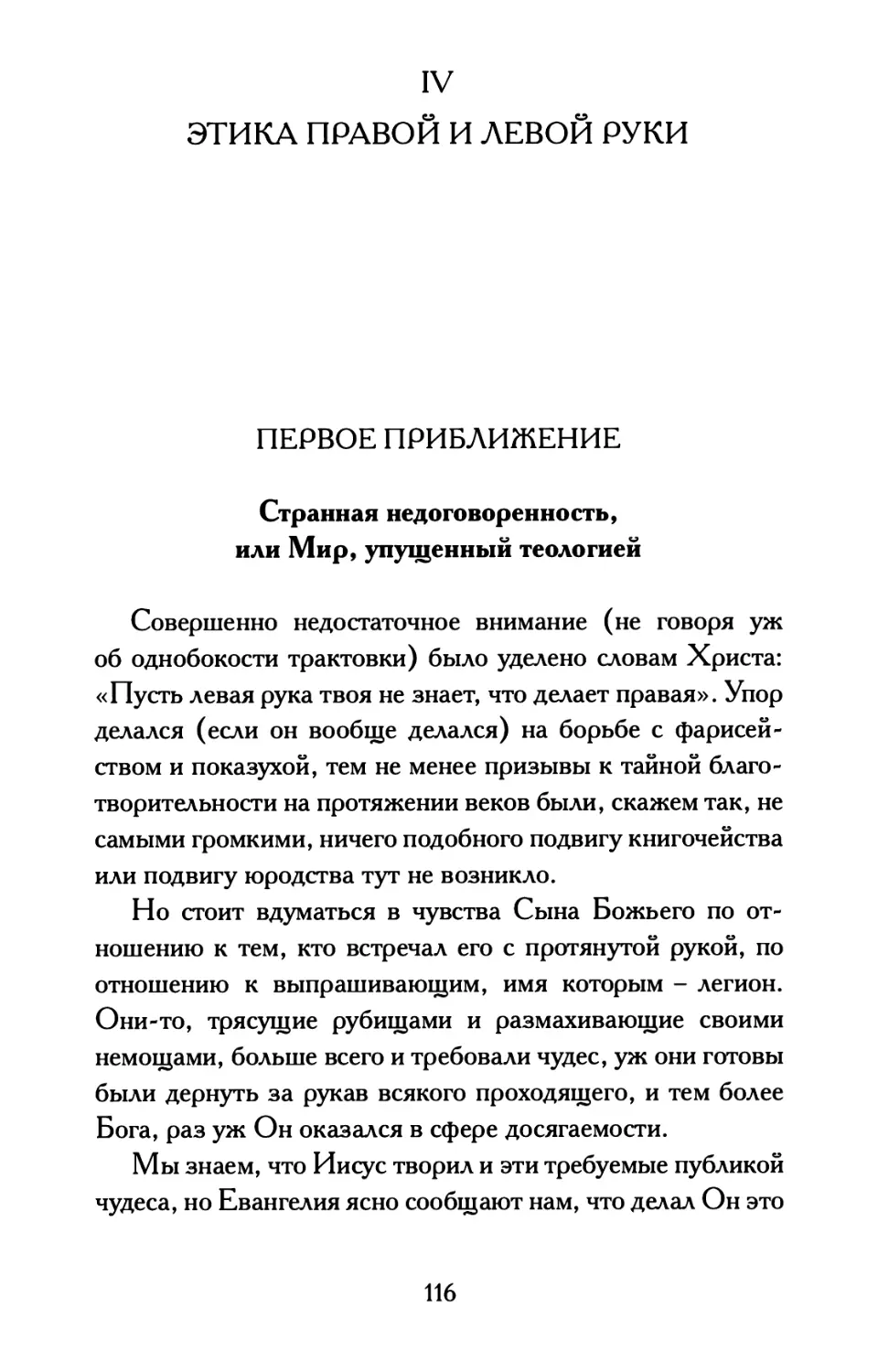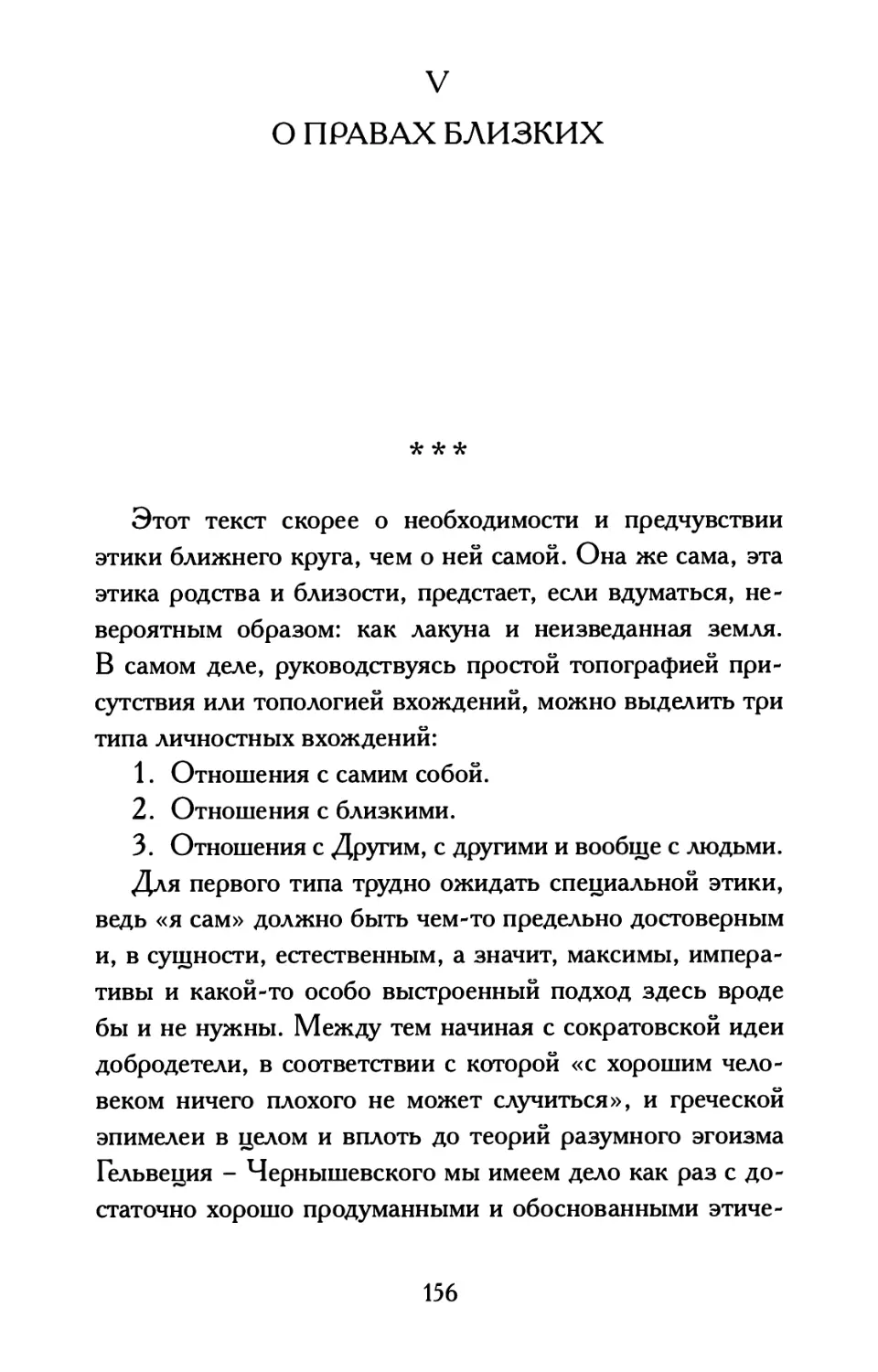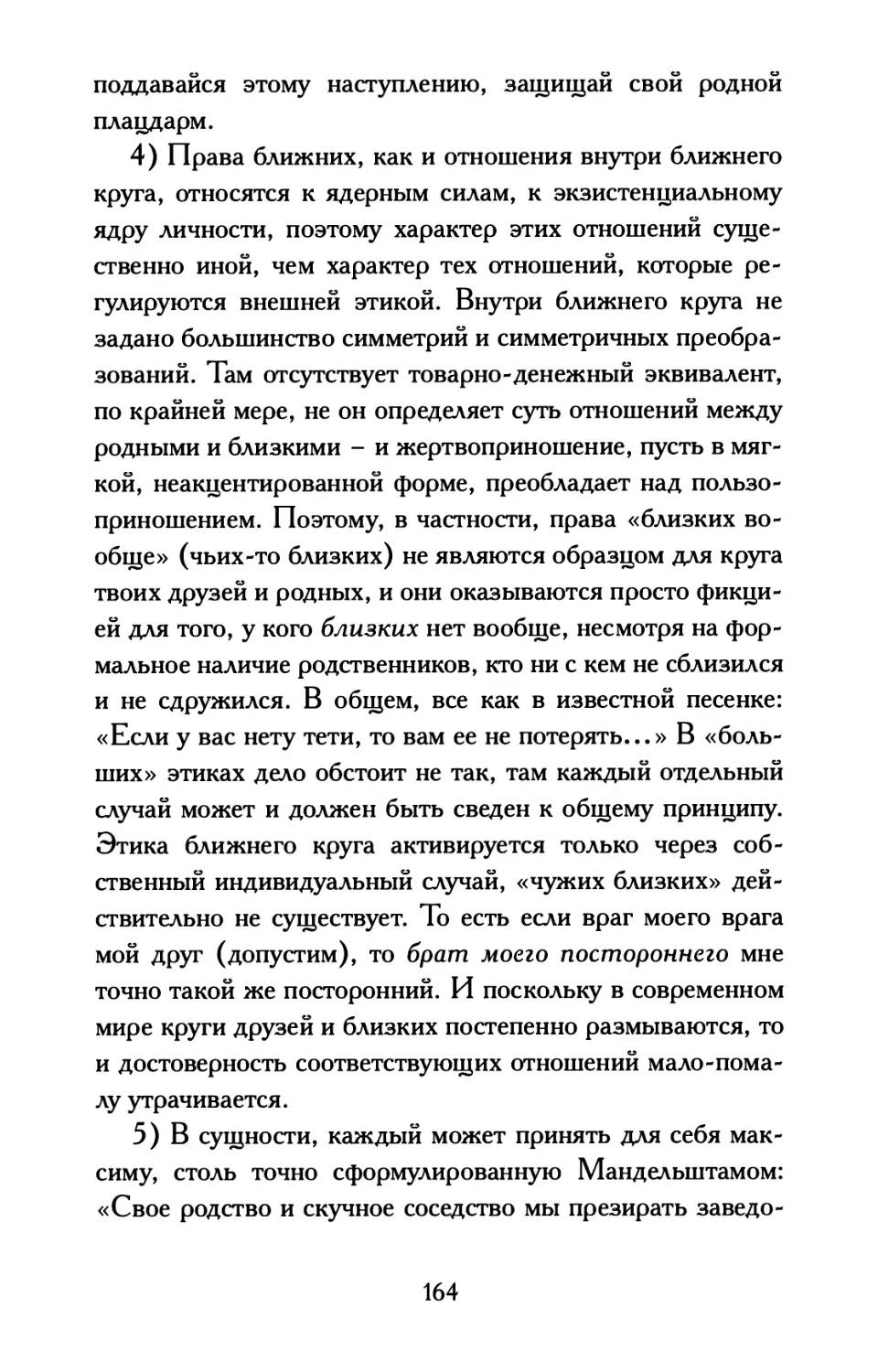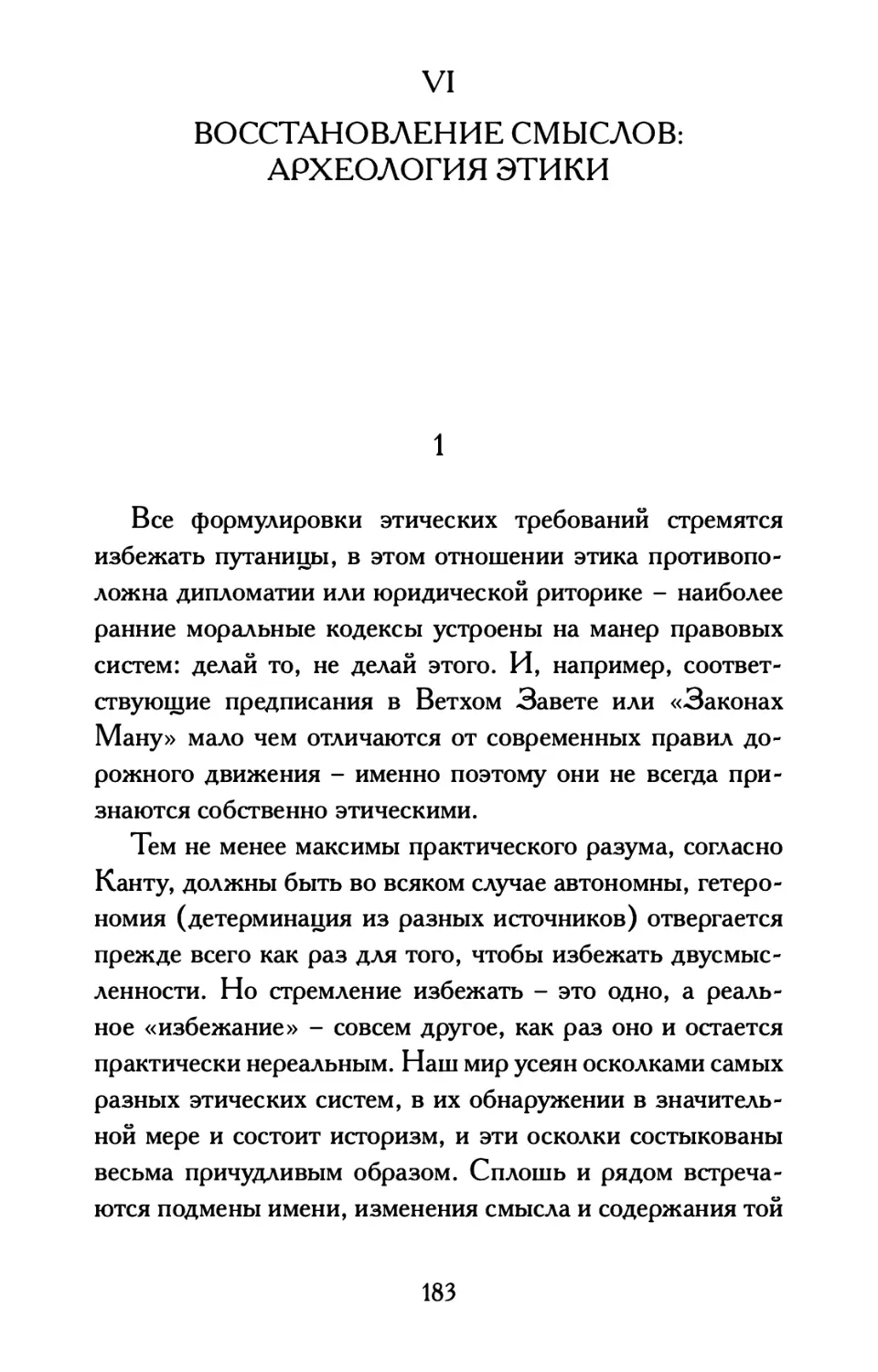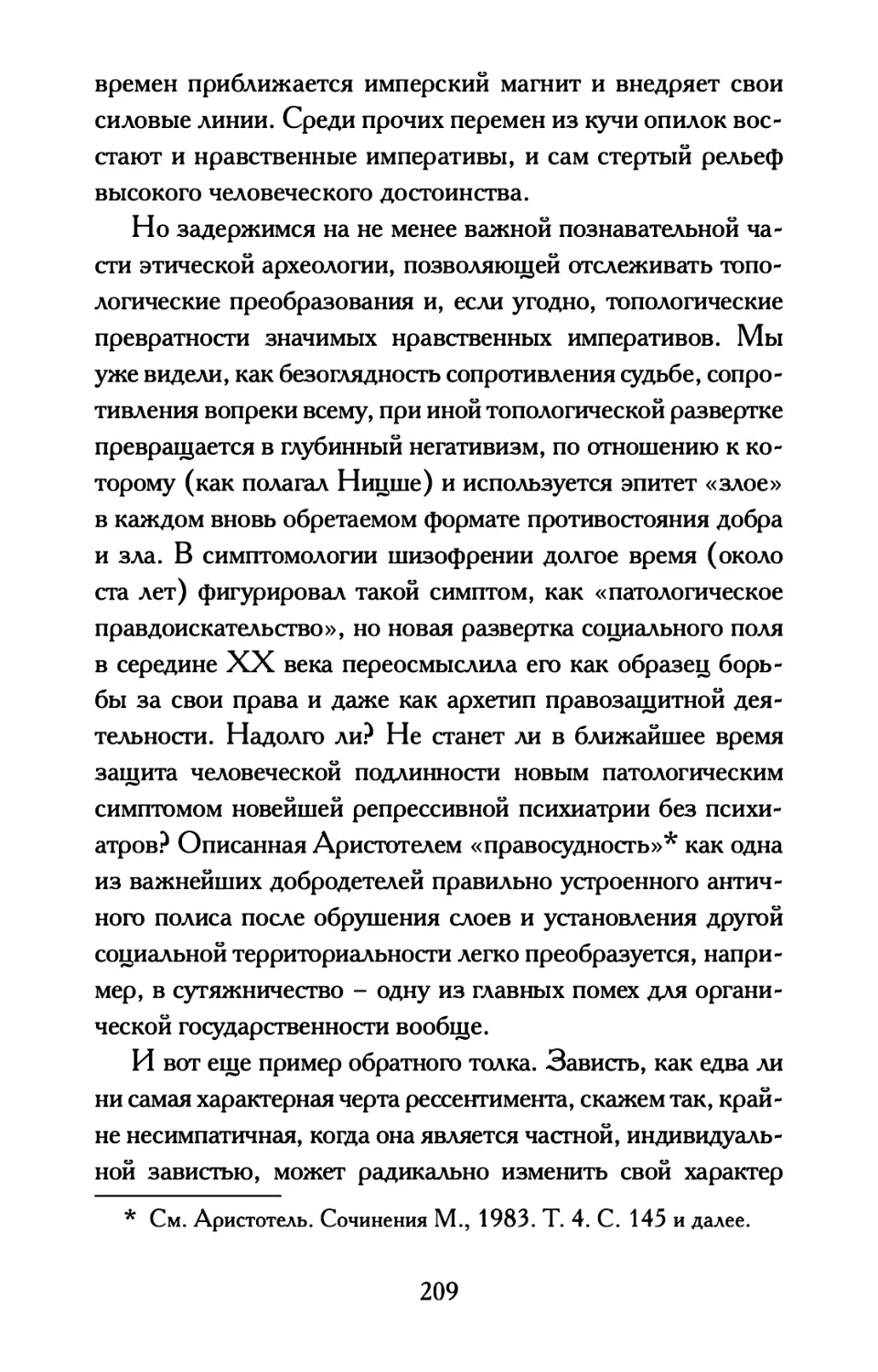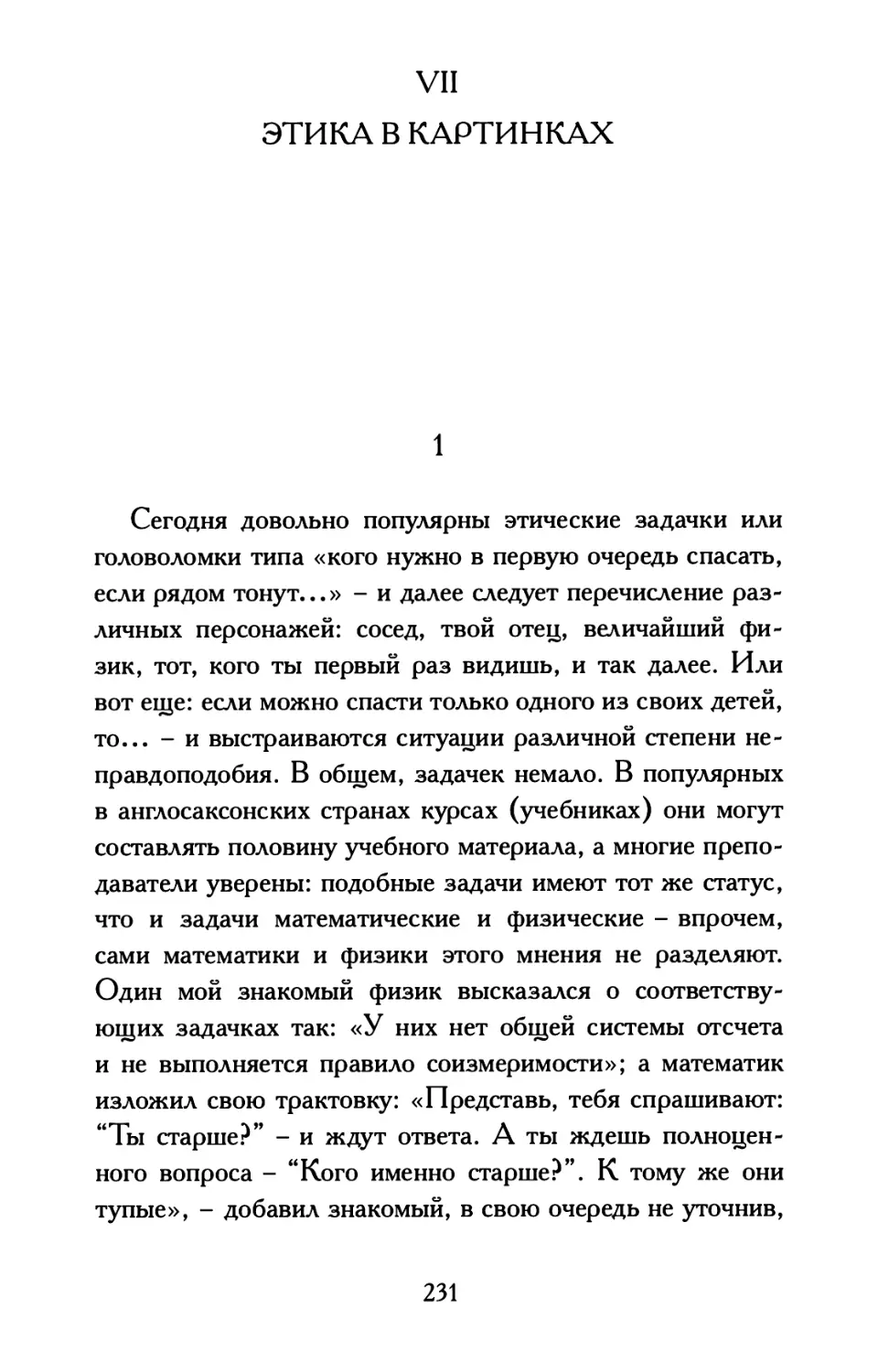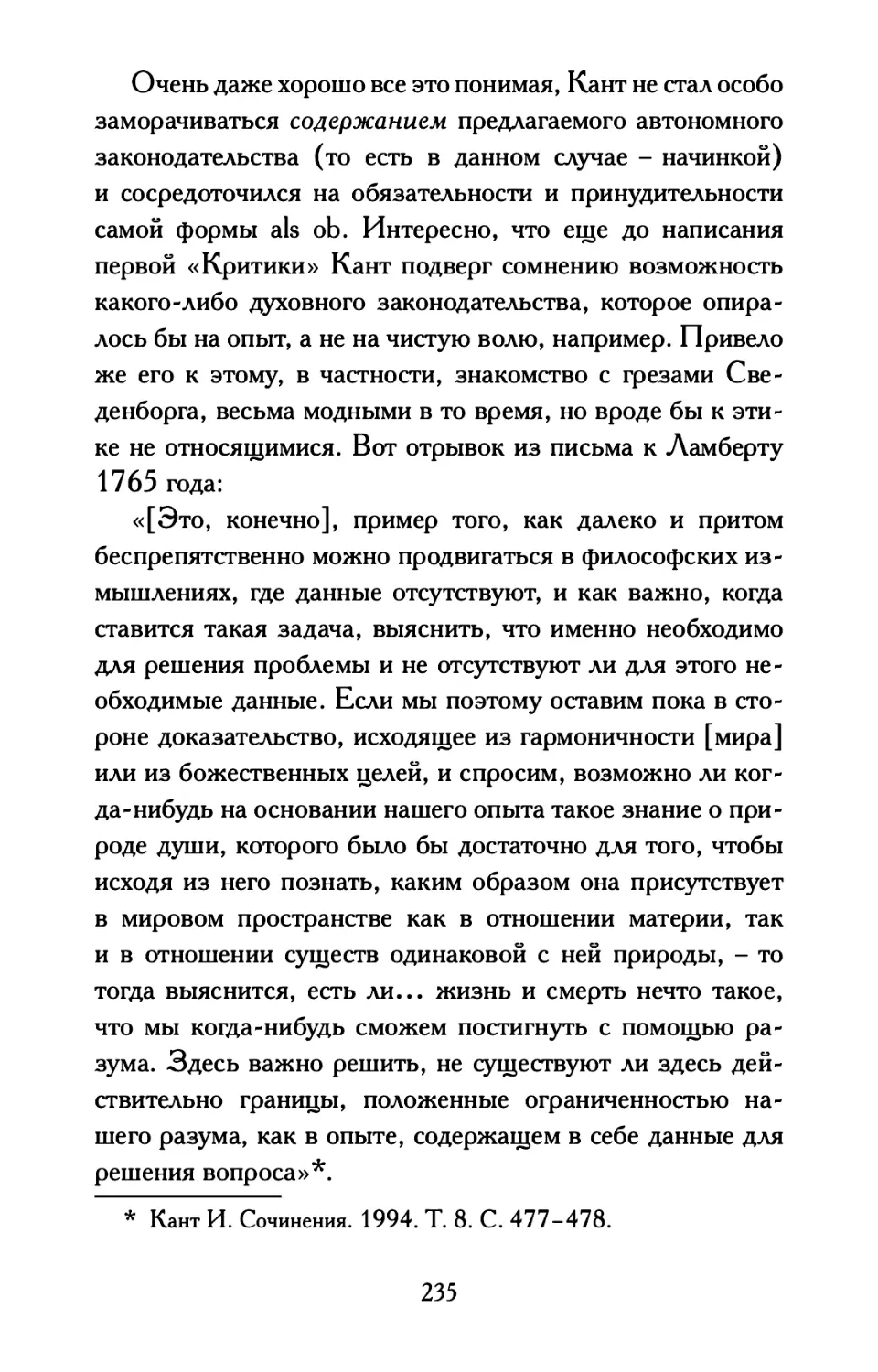Author: Секацкий А.
Tags: очерки эссе художественная литература этика
ISBN: 978-5-8370-0897-9
Year: 2021
Text
Александр Секацкий
ЭТИКА ПОД КЛЮЧ
Александр Секацкий
ЭТИКА
ПОД КЛЮЧ
е
ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
УДК 82-43
ББК 84 (2Рос-Рус)6
КТК610
С 28
Издание выпущено при поддержке Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации
Правительства Санкт-Петербурга
Секацкий А.
С 28 Этика под ключ : очерки / Александр Секацкий. - Санкт-
Петербург, 2021. - 272 с.
Петербургский философ Александр Секацкий в своей новой
книге рассматривает этические системы как свободно создаваемые
и выбираемые продукты духовного творчества. Целенаправленное
создание этических систем предполагает точную оценку
исторических моделей нравственности, а также своеобразную этическую
археологию, позволяющую определить последовательность и глубину
залегания пластов определенной морали и нравственности.
Археологические находки после их изучения и реставрации могут быть
предъявлены к проживанию. В книге также обосновывается точка
зрения, согласно которой искусство рано или поздно перейдет от
создания отдельных произведений-опусов к синтезу определенных
«образов жизни» во множественном числе, то есть фактически к
созиданию этики под ключ.
Работа содержит множество оригинальных мыслей, спорных
выводов и острых полемических реплик.
ISBN 978-5-8370-0897-9
©А. Секацкий, 2021
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2021
© А. Веселое, оформление, 2021
I
КТО И КАК СОЗДАЕТ ЭТИКУ
1
Целый ряд вопросов, относящихся к социальной
философии, к социологии религии да и собственно к
метафизике, должен быть поставлен или, скорее, пересмотрен в
рамках открывшихся обстоятельств. Вопросы, о которых идет
речь, например, следующие: кому принадлежит авторство
в сфере нравственности? общеизвестна роль
нравственного примера и безупречного морального поведения - но
как возможно установление нравственных законов? и как
соотносится эта законодательная, учредительная
деятельность с гипотетическим законодательством в сфере
человеческой природы?
И еще: возможны ли этики во множественном
числе, причем не как этические системы в этнографическом
смысле, не как этические принципы, встречаемые у
других, преимущественно далеких других, типа маори или
бороро, а как реально конкурирующие версии в
ожидании нашего выбора, версии, каждая из которых будет
этикой, причем определенным образом обоснованной?
Для Канта с его императивами чистого
практического разума такая постановка вопроса была бы, конечно,
5
нелепой, и философа можно понять, ведь из трех
утверждений:
1 ) у каждого свой вкус,
2) у каждого своя правда,
3) у каждого своя нравственность -
сомнительны все три, но лишь третье нелепо, поскольку
сказать, что у каждого своя нравственность, - то же
самое, что сказать: нравственности вообще не существует.
Не потому ли во всех языках есть аналоги таким
выражениям как «нравственные скрепы» и «моральные устои»,
содержащие прямые указания на прочность и
устойчивость? Однако едва ли где можно встретить
словосочетание «нравственные импровизации» - разве что примерно
в том же ироническом смысле, что и «детская
неожиданность». С этим отчасти связано и отсутствие указаний
на авторство нравственных постулатов, по крайней мере
на авторство со стороны смертных. Да, некоторые из
дававших заповеди известны по именам: Моисей, Иисус,
Заратустра, Мухаммед, - но это не имена смертных, и с
данным обстоятельством напрямую связана действенность
соответствующих установлений.
Если нам скажут, что некий ученый, Максвелл или
Менделеев, напряженно размышлял, упорно работал
и совершил открытие - и обогатил человечество этим
открытием, - мы будем ему благодарны и присвоим его
имя открытию с большой охотой, пусть это будет
таблица Менделеева, демон Максвелла, закон Авогадро. Ну
а если праведник в ходе столь же упорных размышлений
вывел ранее неизвестную нравственную максиму или
этический принцип? Вроде бы такое возможно. Мы же
говорим о категорическом императиве Канта, о принципе
ненасилия Ганди или о ницшеанской заповеди «падающе-
6
го - толкни». И разве все это не результаты такого же
обдумывания, каким занимаются другие ученые в сфере
математики и естествознания? А если нам скажут, что Кант
ничего не выдумал, так ведь и Авогадро не предписал свой
закон природе, он его вывел, то есть открыл...
И все же о первооткрывателях и изобретателях в
сфере этики или, скажем, об «ученых» в области морали
говорить не принято. И, в принципе, понятно почему: во
имя конструктивной иллюзии вечных и нерушимых
устоев морали. В силу этой иллюзии ученый, «изучивший»
свою науку и ставший образцовым преподавателем, но
не совершивший открытий, ценится ниже, чем тот, кто
открытие совершил: именно он обогатил науку. В сфере
морали наоборот: безупречен тот, кто вдохновлял своим
нравственным примером, то есть фактическим
следованием общепринятым нормам морали, тогда как «моральное
изобретательство» выглядит заведомо подозрительно.
И несомненно одно: в сфере нравственности следовать
общепринятым нормам труднее, чем изобретать новые,
тут подходящее по случаю bon mot звучит так: когда
вагоновожатый ищет новые пути, трамвай сходит с рельс.
2
И все же вновь открывшиеся обстоятельства позволяют
нам утверждать, что этика во множественном числе
возможна. Причем без отказа от универсализма, иначе никакая она
не этика, а хитрость разума или простая безнравственность.
Скажем сразу: главным обстоятельством, поставившим
вопрос об этическом творчестве на повестку дня, служит опыт
современного искусства, которое решилось наконец выйти
7
за границы отдельных опусов, как бы безопасных,
специально отведенных художнику площадок, и войти в сферу
производства самой жизни. Произошло это потому, что, с
одной стороны, создание опусов стало захлебываться в пене
повторов и помех (на что указал еще Вальтер Беньямин),
а с другой - сопротивление самой жизни такого рода
вторжениям явно ослабело. Ослабело из-за внутренней эрозии
и последующего обрушения, а также из-за того, что
релятивизация устоев свершилась de facto, и уже сегодня реально
противостоят друг другу не нравственность и
безнравственность, а компактные этические системы, правда пока еще
не признающие друг друга в качестве таковых. И любимое
философами искусства противопоставление этики и эстетики
обернулось наконец тем, что создание этики было напрямую
поставлено перед художником как высшая художественная
(эстетическая) задача. Это же можно выразить и иначе: рано
или поздно по мере увеличения производительных сил и
неуклонного расширения численного состава искусство должно
было перейти от производства точечных опусов к синтезу
работающих компактных этик - к созданию этики под ключ.
Теперь это происходит на наших глазах.
Переход от штучного поэзиса к конвейерному
производству, зарегистрированный Адорно, Хоркхаймером
и Беньямином, был промежуточным этапом - и к тому же
ответвлением от искусства, его модификацией, а не самим
искусством. А вот производство образа жизни в качестве
предъявляемого результата было именно имманентной
целью, хотя и целью не распознанной, ускользающей от
самосознания художника. Производство опусов, разумеется,
не прекратилось, но теперь, став опорными точками в поле
той или иной компактной этики, они, конечно, изменили
свой смысл.
8
Самоопознание и новая ориентация современного
искусства - одна из причин обрушения «единой и
всеобщей нравственности». Но, конечно, философия уже
долгое время занималась плюрализацией этического
поля, как правило, не оповещая об этом и получая некую
собственную этику в качестве побочного результата. Но
немало примеров и осознанного этического творчества,
и переосмысления роли этики, что демонстрирует,
например, Ален Бадью в своих последних работах «Апостол
Павел», «Истинная жизнь», говоря об универсализме,
без которого истинная человеческая жизнь невозможна,
но при этом используя выражение «универсализм
истин» во множественном числе. То есть истина должна
быть универсальной пока она истина, но она
утверждается и самоутверждается как истина посредством
события. Ты обретаешь истину, прежде всего этическую,
если ты не отклоняешь События, не чинишь ему
препятствий, а идешь навстречу («И приветствуешь звоном
щита», - добавил бы Блок). Александр Саркисьянц,
резюмируя позицию Бадью, справедливо пишет: «Истина,
будучи универсальна и сообщая бесконечность тем, кто
распространяет ее следствия на ситуацию, освобождает
и впервые создает (то есть каждый раз заново)
возможность истинного коллективного состояния, которое было
подавлено абстрактным законом. То чистое событие,
которое не привязано ни к какому месту, его обращенность
ко всем, то, что событие пересекает порядок мнений,
идеологий и господства, является для Бадью тем, что
составляет его благость»*.
* Саркисянц А. А. Возможность истинной жизни: этико-поли-
тическая жизнь Алена Бадью // Бадью А. Истинная жизнь. - М.,
2018. С. 46-47.
9
оадью предпочитает называть этику практической
истиной сообщества, и это не меняет сути вопроса о
соотношении универсализма и конкретности, определяемости
неким значимым событием. Этика невозможна вне
отношения к другому и есть «истинное коллективное
состояние», но численный состав сообщества никак не обозначен.
Христианство - образцовая универсальная всемирная
религия, но сам Иисус определяет церковь так: «Где двое или
трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них». И эти двое
или трое собравшихся, если они верят в истину и
руководствуются ею, способны сделать миру предложение, от
которого тот не сможет отказаться. Не сможет еще и потому,
что иррадиация этического сообщества намного сильнее,
чем воздействие самого гениального произведения-опуса.
Предложение - в несколько вольной трактовке - гласит:
живи так и увидишь, что будет. Оно может быть
подключено к принципу наслаждения, а может и не содержать
никакой циркуляции наслаждения вообще. Но зато
этика, обновленная новаторская этика, - это всегда прорыв
к свободе, ведь таким образом учреждается мир,
подчиняющийся моему выбору, как железо на наковальне
подчиняется кузнецу. Таким образом, принятие новой этики
(назовем его обретением истинной нравственности, так
будет привычнее) - это преобразование всего остывшего
и ржавого в раскаленное железо, из которого в поте лица
своего предстоит выковать новый мир. По крайней мере,
такой шанс дается тому, кто уверовал в истину, и глагол
«уверовать» в данном случае просто означает
решительно выйти за пределы теоретического подхода,
предъявить к проживанию, учредить в качестве закона самой
души - то есть принять без обращения к вспомогательным
правовым институциям. Единство универсального, миро-
10
вого и только что обретенного по наитию или в результате
размышления - таков живой нерв этики и, если угодно,
сама сущность этического.
С этой именно сущностью и имел дело не кто иной, как
Кант. Мы привыкли обращать внимание на
принципиально вселенскую претензию категорического императива,
доходящую до декларируемой слепоты в отношении сорного
эмпирического: ничто не должно сбить тебя с пути
истинного, не должно быть никакой обратной связи - живи под
юрисдикцией свободы, и пусть директивы иного, будь то
Дух тяжести или принятый социальный порядок,
вызывают у тебя то недоумение, то презрение, то улыбку. Пусть
нравственные законы этого мира и будут для тебя
единственными непреложными законами.
Императивы чистого практического разума
действует, невзирая ни на что, - и какие еще нужны аргументы
в пользу универсальности, всеобщности этих этических
и экзистенциальных принципов. Эмпирические поправки
к «нравственному закону во мне» исключены, и это делает
кантовскую систему одной из самых ригористических.
Однако все дело в том, что нравственное
законодательство осуществляется изнутри, потому оно и называется
принципом свободы. Мысленно переходя от одного
императива к другому, мы всюду видим незыблемость
моральных установок, но совсем не обязательно тех же самых
установок. О тождественности содержания
категорических императивов у Канта ничего не сказано, более того,
у него вообще ничего не сказано о содержании
суверенного законодательства практического разума. Фактически
перед нами демиургия как манифестация чистой свободы
воли. Продуцируемые миры могут быть почти
тождественными, а могут не иметь друг с другом ничего общего,
11
кроме самой аподиктичности и принципа als ob. Каждый
акт суверенной демиургии начинается со слов «Да будет!»,
но дальше возможны разночтения, в одном случае - Да
будет так!, в другом - Да будет иначе!
С этой поправкой кантовский ригоризм приобретает
совершенно иной смысл, и его выявляющаяся
парадоксальность оставляет позади Франсуа Вийона. Между тем
здесь сама суть взглядов Канта на свободу и феномен
человека, и остается только удивляться, почему антиномии
чистого теоретического разума сформулированы
эксплицитно и внятно, а единственная антиномия чистого
практического разума до сих пор не эксплицирована. Впрочем,
представить ее в эксплицитном виде совсем не трудно.
а) Максимы чистого практического разума носят
характер абсолютно универсального общеобязательного
закона.
б) Максимы чистого практического разума суть
манифестации моей свободной воли и не могут быть мне
навязаны извне.
Даже в скрытом виде эта антиномия породила
множество дежурных парадоксов вроде допустимости лжи
во спасение, но они органично встроены в саму материю
этического, подобно тому как муки совести являются
главным, если не единственным, содержанием самой совести.
Тем не менее суть всякой возможной этики Кант
ухватил: это противоречие (оно же внутреннее
беспокойство) между универсализмом, при отсутствии
которого этика сама отсутствует или носит другое имя,
например называется хитростью разума, и свободным выбором
внутреннего законодательства, без которого
нравственности не существует. В этой связи мы еще не раз
обратимся к Канту.
12
3
Теперь присмотримся к Марксу, к его способу решения
вопроса об универсальности этики и конкретности истины.
Скажем сразу: именно новая этика явилась отличительной
чертой философии Маркса и не ослабевающей
популярности марксизма - обстоятельство, которое остается в тени
и которым стоит заняться подробнее.
«Философы лишь различным образом объясняли мир,
но дело заключается в том, чтобы изменить его» - так
гласит одиннадцатый тезис о Фейербахе, одно из самых
цитируемых мест в корпусе марксистской литературы.
Смысл данного изречения, в сущности, прост: если речь
идет о требовании, адресованном философии, то
необходимо перевести истину из дискурсивной плоскости в
практическую, а значит - придать ей этический характер. Это
и сделал марксизм: впервые в истории европейской
метафизики был совершен акт осознанного этического
творчества, прежде этим занималось только христианство,
используя минимальную авторизацию (Аютер) или вовсе
отказываясь от нее, чтобы не нарушать вечность
нравственных устоев и столь необходимую для морали
универсальность. Любопытно, что этого же принципа
придерживались авторы советских учебников по марксистской
этике, подчеркивая, что марксизм отнюдь не отменяет
основ общечеловеческой нравственности, и вставляя
время от времени дежурные заявления о «классовой природе
морали», то есть фактически замалчивая саму суть
произведенной марксизмом революции в сфере общественного
сознания.
Поэтому уместно перечислить важнейшие тезисы
свершенного акта морального творчества, отчасти совпадающие
13
с другими имеющимися образцами - с революционной
этикой первоначального христианства и с этическими
новшествами, внесенными Реформацией.
1. Первый тезис может быть выражен словами
Ленина: «Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна».
Тут важно и каждое слово, и их порядок. Можно ведь
было сказать: «Истина одна, но мир меняется, и к
извечной истине приходится искать новые пути». Но
диалектическое противоречие сформулировано здесь со всей
остротой. Шаг вправо - «истина неизменна и нуждается лишь
в восстановлении, как нравственность в соблюдении» -
и исчезнет революционность, потеряется потенциал
действия. Шаг влево - «истина у каждого своя» - и исчезнет
сама истина заодно с объединенным ею сообществом. Так
что, по большому счету, утверждение Бадью о том, что
истина определяется Событием и готовностью к встрече
с ним, - это тот же самый тезис, но выраженный в иной,
облагороженной (так всегда кажется на первых порах)
форме.
2. Эсхатологический универсализм новой
нравственности - и здесь марксизм в наибольшей степени разделяет
общую позицию с христианством. Вспомним: сначала
сообщество, объединенное новой ошеломляющей истиной,
в соответствии с которой смерть будет побеждена и
последние станут первыми. Неважно, сколько нас сейчас:
двое, трое или двенадцать, - мы взялись за устранение
несправедливости мира, и с нами Бог, и он сказал: «Я есть
Истина». И нам есть что сообщить изолгавшемуся, ни во
что не верящему миру, есть и что предъявить: братство
верных, освобождение от бренности, от смертности, от
безнадежности. Отзвук этих положений нетрудно
обнаружить в учении Маркса, из чего следует, что собственно
14
«учение» есть лишь вводная часть новой практики.
Выражаясь в ленинском стиле, можно сказать: марксизм есть
учение плюс его применение, и тот, кто игнорирует вторую
часть формулы, тот не марксист. Да и учение как
марксизма, так и христианства, опирается на такую
«экспериментальную базу», какую не выработала для себя ни одна из
дисциплинарных наук.
3. Оппозиция истины и лжи не может быть сведена
к силлогистике или логике высказываний. Иными
словами: согласованность и, стало быть, истинность множества
высказываний ничего не стоит, если за ними стоит ложь
самого бытия. И несправедливость той или иной
действительности должна высвечиваться через
экзистенциальную речь, в противном случае такой речи грош цена.
И наоборот, истина бытия никуда не денется, даже если
ей не удастся пробиться через тот или иной риторический
строй. Это относится и к косноязычной речи
пролетариата, которая как раз и ставит перед всеми порядочными,
нравственными людьми новую этическую задачу:
привнести слово, дать язык, избавить «улицу» от «корчей»
(Маяковский: «...улица корчится безъязыкая»), чтобы
смогла перенести истину бытия в риторическую
согласованность высказывания. Сама истина бытия взывает об
этом к каждому коммунисту по выбору совести и требует
именно этического оформления, смены одной из важных
жизненных установок.
Прежняя установка образованного сословия или, если
угодно, «всех мыслящих» предполагала естественную
солидарность с такими же, как ты, с «агентами чистого разума»,
и презрительное, в лучшем случае снисходительное
отношение к «черни», к необразованной массе, к тем, кто
далек от зова чистого разума. Христианская этика требовала
15
помочь малым сим обрести истину, что и являлось
важнейшей целью миссионерства. Теперь же дело должно было
обстоять иначе. Приоритет принадлежит истине
самого бытия, и эта истина в экзистенциальном и социальном
разрезе обнаруживается как историческая миссия
пролетариата. Обращают на себя внимание два обстоятельства, не
столько теоретического, сколько нравственного характера:
1) Эта глубинная истина бытия принципиально
искажена существующим положением вещей (эксплуатацией
свободного труда), и, следовательно, долг коммуниста
изменить сущее.
2) Поскольку пролетариат причастен к истине бытия,
то именно он выступает в роли наставника и, если угодно,
является аттрактором исторической истины сборки
субъекта. Преимущество специалиста-по-словам в обладании
неким специфическим знанием (традиционной
образованностью) является, следовательно, частным преимуществом,
а вот преимущество пролетариата в обладании праксисом
как истиной бытия является универсальным. Там, где была
когда-то мудрость брахмана, там теперь совокупный прак-
сис пролетариата: теперь истина бытия определяет истину
высказывания, а не наоборот - стало быть, и все
конфигурации символического, включая и знание в форме
дисциплинарной науки, должны получить санкцию конкретно-
исторически сложившегося бытия.
Данный момент, безусловно, является исторически
новым и в том числе предстает как этическое обновление
и как важнейшая модификация экзистенциального
проекта. Революционное сознание и мироощущение,
родившиеся раньше марксизма, именно теперь обретают
надлежащее воплощение. И, если угодно, выступают прообразом
всякой последующей этики под ключ.
16
4
И еще ряд новых нравственных моментов,
располагающихся как бы на стыке идеологии и эсхатологии
пролетариата. Пролетариату принадлежит будущее, это будущее
можно ускорить и в некотором смысле установить уже
сейчас. Помимо революции как решающей процедуры важная
роль принадлежит самоопознанию: так можно
охарактеризовать чувственно-сверхчувственную классовую
солидарность, прекрасно описанную Андреем Платоновым.
В моральном кодексе строителя коммунизма эта
этическая составляющая учения получила название
«пролетарский интернационализм». Согласно данному принципу
взаимоопознание пролетариата, человека трудящегося,
происходит независимо от идейных разногласий и,
разумеется, национальных аттракторов. Опознав товарища как
товарища, ты можешь ему довериться и на него
положиться. Сам по себе данный этический элемент не является
новым, он служит реинкарнацией христианского принципа
«нет ни Еллина, ни Иудея» и вообще возобновлением,
разогревом остывшей этики первоначального христианства.
Между двумя мировыми войнами самоопознаие на уровне
мирового братства отличалось той же эффективностью,
что и в эпоху первых христиан: если там декларировался
принцип «оставь отца своего и мать свою и иди за мной»,
так что духовные братья оказывались ближе друг к другу,
чем члены одной семьи, то и призыв Ленина «превратим
войну империалистическую в войну гражданскую» вовсе
не воспринимался как призыв к братоубийственной бойне,
напротив, в нем слышали зов, адресованный братьям, всем
угнетенным и эксплуатируемым, пролетариям всех стран.
И зов гласил: «Опознайте друг друга, братья, не дайте
17
себя одурачить!» Два десятилетия Коминтерна явили миру
действенность новой этики, а ее апофеоз, несомненно,
пришелся на гражданскую войну в Испании.
Многократно цитированные строки Михаила Светлова:
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать -
точно так же не были пустым звуком, как и ленинский
призыв, и этот девиз касался не только Советской
России, но и, скажем, Франции, Мексики или Венгрии.
«Свои в беде!» - революционная нравственность
требовала немедленного вмешательства, а политической
солидарности требовала простая порядочность. Наверняка со
стороны обывателей все это выглядело диковинно и
нелепо, однако этические принципы действовали, как бы
это ни выглядело странно с позиций какой-нибудь другой
эпохи. Точно так же нетрудно вообразить, сколь
нелепыми действующие нравственные принципы христианства
показались бы современникам Александра
Македонского или Гая Юлия Цезаря - но они сломили и победили
этику имперского Рима, равно как и племенную этику
варваров. Что же касается пролетарского
интернационализма, то он стал пустым звуком уже во время Второй
мировой и продолжает оставаться таковым сейчас,
сегодня призыв превратить внешнюю войну во внутреннюю
однозначно воспринимался бы как провокация и
предательство, причем в любой стране - но ведь из песни
слова не выкинешь, и из истории не удалить никакой, даже
самой причудливой главы.
18
В дальнейшем принцип самоопознания и
соответствующий ему этический призыв «братство не по крови, а по
экзистенции» действовал внутри движения хиппи,
включая его советский вариант, известный как «система» -
однако его срок действия оказался еще более кратким.
Впрочем, сами по себе, взятые во всех деталях,
этические принципы пролетариата и контркультуры нас сейчас
не интересуют, нам важна лишь иллюстрация того, что
синтез мировых этических систем возможен, что два
необходимых для этого обстоятельства, универсализм и
новизна, очень даже совместимы, и более того, свежие, не
виданные прежде этические принципы эффективнее,
нежели те, что идут с незапамятных времен, примером чему
является не только пролетарский интернационализм в
период своей свежести и юности, но и разумный эгоизм,
взятый на вооружение двумя поколениями прогрессивной
молодежи России второй половины XIX века.
То есть оказалось, что этика, будучи действительно
универсальной (иначе она не заслуживает своего имени),
не просто допускает модернизацию и модификацию, но
и требует ее, и получается, что этические обновления,
взятые на вооружение, становятся главной
преобразующей силой социальности, как научные открытия для
науки. И они выполняют эту роль, пока не истечет срок их
годности, пока не зачерствеют.
Одновременно следует заметить, что этическое
обновление не обязательно происходит в дружеских
тусовках и субкультурах, тут мы, как правило, имеем
регрессию к тому или иному слою архаики - к братству крови
или, например, к воинскому братству. Альтернативы или,
если угодно, версии морали продолжают существовать бок
о бок, представляя собой хорошо забытое старое, готовое,
19
однако, к быстрому воплощению, если конкурирующая
модель ослаблена. Криминальный экзистенциализм,
например, имеет свой образ мира, в котором различные
явления четко расставлены по своим местам, но при этом
представляет собой смешение разного рода традиционных
элементов морали.
Логика требует признать, что все традиции были когда-
то новациями, однако сама традиция уверена, что она
всегда была традицией - заметим, что «уголовная» традиция
в этом отношении не отличается от общечеловеческой.
Данные моменты относятся к разряду важных
конструктивных иллюзий, сюда же примыкает и «блокировка
авторизации»: так, я могу предположить, что мой сосед
совершил важное научное открытие или доказал
математическую теорему, но я едва ли всерьез буду думать, что
он разработал и внедрил новый этический принцип. Это
связано еще с тем, что есть этика сообщества, но нет этики
одиночек - по крайней мере, так было прежде.
5
Таким образом, влиятельность и притягательность
марксизма объясняются не только его попаданием в
историческую истину. Дело еще и в том, что марксизм явил
образец преобразования этики, и хотя современный
прорыв к этическому творчеству непосредственно обусловлен
другими причинами, но без великого исторического
прецедента вторжение «теории относительности» в сферу
нравственности было бы невозможно.
Теперь подойдем ближе к делу и рассмотрим, почему
именно сегодня встал на повестку дня вопрос о создании
20
этики под ключ как сознательного, целенаправленного
и в некотором смысле художественного проекта.
Релятивизация нравственного начала - это дальнодействующая
и долго действующая причина, в этом смысле все
началось с падения диктатуры символического, в свою очередь
имевшего ступенчатый характер: сначала «народный
материализм» (М. Бахтин), затем Просвещение,
провозгласившее подчиненность всей сферы духовного принципу
рацио, затем последующая гуманизация и денатурация
как высшая и последняя стадия этического релятивизма.
Вот что писал провидец Ницше в «Человеческом,
слишком человеческом»: «Нынче рост эстетического
чувства будет бесповоротно выбирать между столь многими
предлагаемыми для сравнения формами: и большая их
часть - а именно все те, которые оно отвергнет, - обречет
на смерть. Точно так же нынче происходит отбор среди
форм и привычек высшей нравственности, целью которого
не может быть ничего, кроме гибели более низких форм
нравственности»*.
Вывод несколько спорный, особенно насчет
обреченности на смерть «низких форм», скорее, именно
позволение выжить создает конкурирующую среду форм и
привычек высшей нравственности, и проблема как раз в том,
что наличие конкурентной среды ставит под вопрос
нравственность нравственного. И все же Ницше прав в своем
прозрении такого эстетического продукта, как этика под
ключ, и трижды прав в своем предостережении:
«Возможно, будущая картина потребностей
человечества отнюдь не покажет, что желательны
одинаковые поступки всех, - наоборот, ради экуменических
целей для целых отрезков развития человечества могут
* Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 40.
21
ставиться специальные, а в зависимости от обстоятельств
даже скверные задачи. - Во всяком случае, если
человечество не хочет обречь себя на гибель от такого осознанного
всемирного управления, оно должно сначала добыть
превосходящее все прежние масштабы знание об условиях
культуры как научное мерило для достижения
экуменических целей. В этом и состоит чудовищная задача великих
умов следующего столетия»*.
Чудовищность задачи здесь, конечно, раздваивается.
Ее можно понять в том смысле, что объявленные тезисы
будут выглядеть особенно причудливыми и не
стыкующимися с тем, что принято называть моральным, - чем-то
вроде попыток воплощения «Цветов зла» Бодлера или
эстетических идей русского авангарда в целом. Но с
точки зрения эстетических моментов здесь трудно найти что-
нибудь новое. Стало быть, чудовищность может состоять
в том, чтобы перевести нечто эстетическое (лишь
эстетическое) в нравственное, в универсальную этику, сделать
системой самой жизни - примерно в том смысле, в каком
Маркс говорил о производстве действительной жизни.
А для этого, конечно, недостаточно листка бумаги, для
этого мало всего, что есть в арсенале легкого
символического. Отсюда и признак нешуточной чудовищности:
соединить оба эти аспекта - например, вырастить в
оранжерее избранные цветы зла, а затем решительно пересадить
их на грядки мира, а то и просто смешать с семенами
дикорастущих сортов.
Такая характеристика прекрасно подходила бы для
самого Ницше, если была бы выполнена некая сумма
условий, как субъективных, так и объективных. По своему
экзистенциально-психологическому складу Ницше был
* Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 41.
22
чрезвычайно далек от стратегов и организаторов духа
вроде Лютера и Маркса, у него не было ни малейшего «вкуса
к солидарности», его философия, в сущности,
руководствовалась девизом магического театра, который позднее
сформулировал Герман Гессе: не для всех.
Объективные условия можно свести к
спектральному составу самого времени, само время (и не только как
Zeitgeist) благоприятствует одним формам культуры и не
благоприятствует другим. Вот время композиторов, оно,
согласно Владимиру Мартынову, однажды пришло, а
потом миновало, оставив нам великую музыку как наследие.
Время может благоприятствовать и «этике одиночек»,
в том смысле, что таковая становится возможной. Почему
и в каком смысле?
Теория относительности в сфере морали переходит
наконец в практику относительности. Даже такие
исторически опробованные версии нравственности, как
пролетарская этика и этика нигилизма, в свою очередь подверглись
расслоению и обросли версиями, внутренне
допускающими существование друг друга и при этом проживаемыми
всерьез.
Для этого необходимы потенциальные новаторы,
готовые обживать этику под ключ - художники в самом
широком смысле слова. Численный рост армии искусства
привел к качественным переменам, как некогда численный
рост рядов пролетариата. На этом фоне этический опус
одиночки вполне может быть принятым к рассмотрению,
а затем и предъявленным к проживанию.
II
СТРАНСТВОВАТЬ, УДИВЛЯТЬСЯ,
жить
* * *
Сказка странствий воздействует чарующим образом,
а зов дали, экзистенциальная близость далекого,
вызывает к бытию и самого человека, притом так, что одного
откликнувшегося хватает для пополнения экзистенциального
запаса, используемого многими из числа тех, кто
остается на месте.
На эту тему написано немало трактатов, и зов
далекого является одной из господствующих тем искусства (если
искусство вообще может иметь тему) - сказку странствий
любят рассказывать и философы, и поэты, отчасти
потому, что для этого всегда находится аудитория. Огромный
вклад внес кинематограф: road movie, быть может,
представляет собой лучшее, что есть в кино от Спилберга до
Сергея Лобана.
Остается, однако, вопрос о системе номадической
этики, пока разработанной лишь пунктирно и даже слишком
пунктирно, несмотря на захватывающую, прямо-таки
приключенческую онтологию. Вот лишь несколько
предварительных пунктов, требующих экспликации:
24
1 ) Что есть в пути, кроме самого пути?
2) Как быть со встречными и идущими рядом?
3) Существуют ли ловушки постоянной скорости и
стационарной орбиты?
4) Проблема трофеев: следует ли все свое носить с
собой и возможно ли это? И быть может, притягательность
пути состоит в обретении возможности сгрузить поклажу,
преобразовать ношу в подарок, в произведение, в опус?
Этим ряд вопросов, разумеется, не заканчивается,
но все они имеют между собой нечто общее, например
то, что ответ на них не может быть дан заранее:
настоящая философия пути не имеет структур априори. Даже
в мире, где все дороги расстелены и протоптаны, путь
может проходить поперек и поверх них, он может не
только расстилать дороги в неведомом, где-то
ожидающем пространстве, путь как чистое становление
способен разворачивать и само пространство. Стационарные
миры могут различаться своей событийной емкостью
и вместимостью: в иных всему есть место, а кое-где нет
места многим вещам и сущностям, а некоторые миры
существуют потому, что нет места самому месту. И все
же они достижимы, и к ним ведет путь: в таких случаях
сам путь ведет себя как челнок, ткущий и вышивающий
пространство.
Итак, путь - самый яркий пример полномасштабного
хронопоэзиса, он есть действующая модель производства
времени и производства будущего. Путь разворачивает не
только вектор направления, но также панораму и объем,
найденное и увиденное сегодня оживляет и возвращает то,
что казалось безвозвратно затерянным: тем самым
синтезируется необыкновенная вместимость сейчас, доступная
лишь поэзии и странствию.
25
* * *
Одним словом, дорогу осилит идущий - он же в
действительности ее и создаст, проложит и, что для нас здесь
особенно важно, - сможет обладать ею как имуществом
особого рода. Юридически принято выделять движимое
и недвижимое имущество. Сам путь под эти категории не
подходит и поэтому некоторым образом является
движущим имуществом. Между ним и субъектом странствий
устанавливаются удивительные отношения
взаимопринадлежности. Путешественник и его путь принадлежат друг
другу по способу неотчуждаемости, и, стало быть,
разветвленные отношения по этому поводу регулируются не
правовым, а как раз этическим способом.
Путь можно подарить, можно поделиться им со
спутниками, а совместное владение движущим имуществом по
объему чувственных резонансов превосходит любое
другое владение, тут с ним не сравнится даже мое
сокровище. Следовательно, этика пути является по-своему вещью
не менее важной, чем право собственности, - и это во-
первых. Во-вторых, этика тут не может быть предписана
заранее, априори, как в случае кантовских императивов.
Это именно этика под ключ, требующая освоения и обжи-
вания, и приходится только удивляться, что опыт
сталкеров учтен тут недостаточно.
Что же мы имеем? Прежде всего длинный ряд
технических наблюдений наподобие того, когда делать привал, как
распределять силы, чередовать отдых с полнотой
включенности - все это неплохо описано, например, в
романтических новеллах Джека Лондона. Сводом полезных и
жизненно необходимых правил располагает всякий опытный
руководитель тургруппы; похожими, извлеченными из
26
опыта правилами руководствуются и группы паломников,
но понятно, что это не то, что нас сейчас интересует.
Мы располагаем также метафизическими и
психологическими директивами относительно того, что принято
называть путем к совершенству, однако суть их состоит
в том, чтобы сократить, минимизировать этот путь,
преимущество тут всегда у тех поводырей, которые скажут:
я поведу тебя самым прямым и коротким путем. Для
интересующей нас этики справедливо, скорее, обратное:
пусть твой путь будет самым длинным и затейливым, не
старайся сократить его ни ради отдыха, ни ради цели. Или,
например, так: сокращать путь можно лишь для того,
чтобы его не прекращать. Таким образом, мы получаем
наконец первую максиму этики странствий: если ты прошел
путь к совершенству и оно оказалось чем-то отдельным от
пути - отбрось совершенство и иди дальше. Впрочем, для
понимания отдельных максим нашей обживаемой этики
нужна сначала некая общая картина, пусть даже смутная
и неотчетливая.
Наконец, в качестве правил и путевых заметок мы
имеем бесчисленные эстетические зарисовки и
собственно путевые заметки - «Путешествие натуралиста вокруг
света на корабле "Бигль"» Дарвина, «Итальянское
путешествие» Гете, фильмы Вима Вендерса и Уэса
Андерсона - но сегодня, увы, всё заполонили одноклеточные
экскурсии и убогие фотоотчеты о них.
Эстетика странствий тем не менее очень важна,
именно из ее сгущения и упорядочивания способна родиться
та или иная этика под ключ, некая совокупность
принципов, конкретизирующая такой многозначный глагол как
«жить», и уже внутри этой системы могут быть найдены
эмпирические, выстраданные ответы на поставленные
27
вопросы - о правильном выборе скорости и попутчиков,
о совместном владении движущим имуществом, о
круговороте дарения и даров.
* * *
Все перечисленные пункты и множество еще
неучтенных создают предпосылки для новой, независимой и
компактной, этики. Однако важнейшее условие для запуска
синтеза можно определить методом вычитания. Ведь
почти все перечисленное существовало столетиями, а кое-что
может быть отнесено и к слишком человеческому. Экзи-
стенциал дороги по глубине своей укорененности ничуть
не уступает экзистенциалу дома*. И величайшие
произведения духа в истории человечества включали в себя идею
пути - достаточно вспомнить первоначальное
христианство и революцию 60-х, всемирный поход хиппи,
участники которого располагали и собственной неплохо
продуманной эстетикой и особыми моральными установками, но эти
сферы существовали независимо друг от друга, в
результате чего этика хиппи была лишена лучшей
экспериментальной базы, а их эстетика - скрепляющих принципов и оси
координат, в которой могли бы размещаться отдельные
опусы.
Отсутствующим условием или, если угодно, зияющей
нехваткой для созидания этики под ключ была
малочисленность (сравнительная малочисленность) самих
художников, особенно тех, кого можно назвать «художниками
по жизни», имела место, говоря языком социологии, не-
сформированность арт-пролетариата как класса. Сегод-
* См. А. Секацкий. Книга номада // Щит философа. СПб., 2016.
С. 54-105.
28
ня арт-пролетариат появился, что вообще можно считать
самым значимым событием последних десятилетий.
Произошло великое восплеменение (термин М. Пылькиной)
и на Земле объявились кочующие племена художников по
жизни. Они, с одной стороны, вытолкнуты из
цивилизации графиков и расписаний, но с другой - обладают всё
же определенной кормовой базой, производной от
благосостояния общества. Неприкаянность и ненужность арт-
пролетариата (так ведь было когда-то и с классическим
пролетариатом, не имевшим ни отечества, ни житейских
корней) приводят к тому, что странствия и скитания
являются его естественным состоянием: свободный
художник не может прирасти к дому, не потеряв при этом своего
имени и своей сущности. Современный художник в этом
смысле, конечно же, номад, но в отличие от других
номадов, он не одиночка по природе своей, он легко входит
в ситуативные тусовки и причастен ко всемирной
общине: арт-пролетарий, несомненно, обладает вкусом к такой
причастности. И поскольку он художник по жизни, то
есть тотальный художник с минимальной дистанцией
между впечатлением и произведением, то и к этой
причастности он относится так же, как к «остальной» жизни,
то есть подбирает пробную этику, оценивает принципы
взаимоотношений в том же ключе, что и удачные или
неудачные ракурсы, как деревья на обочине, когда ты едешь
на велосипеде или на машине: мимо каких деревьев лучше
проезжать на велосипеде, на авто, а мимо каких неспешно
идти - вот в чем вопрос! И это риторический вопрос для
этики под ключ, как бы кристаллизирующейся из
совокупности эстетического опыта.
Как насчет спутников? Что важнее: удерживать их
внимание всеми силами или не надоедать, учитывая, что, если
29
ты тотальный художник, спутники не даны тебе навечно?
А насчет встречных, как первых встречных, так и
регулярно встречаемых? Проходить ли мимо, как советовал
Ницше, ограничиться ли приветливым словом, коротким
вопросом по существу (кто ты?) или, может быть,
осторожно постучаться и заглянуть в эту жизнь? Самое
главное - перед нами тот же вопрос, что и насчет деревьев,
только в иной редакции, и ответ на него тоже может быть
дан в духе Гамлета, утверждавшего: «Я безумен только при
норд-норд-весте». Тут и вправду очень многое зависит от
наличия попутного, встречного или бокового ветра, но
тогда страннику следует иметь совершенный внутренний
флюгер - не для того, чтобы ему всегда повиноваться (бытие
вопреки - важнейший модус бытия для номада), а чтобы
сверяться с его показаниями и, по крайней мере, вносить
поправку на ветер... Компактные этики заведомо
предполагают множественное число, что отнюдь не означает
полного произвола: многие принципы оказываются
взаимосвязанными, но некоторые могут быть добавлены в систему
аксиом, а некоторые удалены из нее, причем зачастую на
основании тех же критериев, какими руководствуются
математики: не из-за лучшего отображения действительности
(которая ведь создается здесь и сейчас), а из-за наличия
интересных и нетривиальных следствий, что для
современного математика вполне может быть основанием
предпочтения одного набора аксиом другому.
Предпосылки этического творчества встроены в
бытие современного художника: безоговорочно подчиниться
отсталой, навязанной нравственности - то же самое, что
обречь себя на эпигонство в искусстве, понимаемом как
создание опусов, которое остается непременным занятием
и для тотального художника, пребывающего в непрерыв-
30
ном странствии. Еще раз уточним: чистая инстанция души,
например зачарованность сказкой странствий, есть
движущая сила, тогда как автомобиль или мотоцикл - всего
лишь движимое имущество. Но избранная этика
странствий, скрепляющая сообщество, находящееся в пути, есть
одновременно движущая сила и движущее имущество, без
которого не устранить перекрывающий дорогу камень.
В этом свете можно подвергнуть ревизии древний, но
время от времени возобновляемый вопрос: что будет, когда
неодолимая сила наткнется на непреодолимую преграду?
Тогда, быть может, движущей силе стоит
воспользоваться подходящим движущим имуществом или поступить как
в известном афоризме: «Если нет другого выхода, ищут
другой вход».
И сколько еще ожидаемых и непредвиденных поводов
для выбора этических предпочтений встретится в пути!
Например, жажда. Поскольку речь идет о художниках,
это, конечно, не физическая жажда, хотя она
откликается и вполне достоверными телесными страданиями, это
нечто вроде высокой болезни, по словам Пастернака. То
есть жажда фимиама, к которой подходит любимый
эпитет Маркса «чувственно-сверхчувственная». Если
перекрыть фимиам полностью, наступит нечто вроде
тотального обезвоживания (беспросветная непризнанность), когда
жаждущая душа художника вянет. Тогда нужна срочная
дружеская поддержка, хотя бы скромная похвала, момент
признания на ходу, годится, впрочем, и незатейливое
признание первого встречного, какое-нибудь простое «ну надо
же... » - и такой глоток фимиама способен поддержать
художника на плаву.
Тут возникает развилка, несомненно имеющая
этическое измерение - ее можно назвать проблемой
31
резистентности, способности переносить длительную
жажду. Стоит ли терпеть? Что будет правильнее:
остановиться перед первым встречным и воздействовать на него
своими пассами, чтобы получить похвалу, или идти дальше
к вершине opus magnum, где фимиам, возможно, бьет
фонтаном и не надо цедить по капле?
Должно ли требование «не размениваться по мелочам»
быть этическим требованием и соответственно,
резистентность к жажде фимиама рассматриваться в качестве
универсальной ценности и даже критерия для тех, кто с нами?
Сразу хочется сказать: «Да!» - и именно с
восклицательным знаком.
Но кто может пить из этой чаши? В качестве случайных
встречных следует ведь рассматривать не только индивидов
и разного рода неформальные тусовки, но и социальные
инстанции. Некоторые из них, и даже большинство, лежат
в стороне от трассы, по которой перемещаются эшелоны
армии искусства, но кое-какие инстанции расставлены
прямо на пути, как заставы, таможенные пункты,
экспертные комиссии. В них можно получить и толику фимиама,
и некоторое материальное вспомоществование - правда,
для этого придется задержаться, иногда надолго. И
вопрос «насколько?» принципиально важен: если ты не
отстанешь, не собьешься с пути, то почему бы и не
причалить или тем более не произвести дозаправку в воздухе?
Кстати, если иметь в виду физических индивидов,
почему бы и к ним не заглянуть на глоток фимиама, не
освежить силы? Глядишь, и дальнейший путь легче пойдет.
А это значит, что этическая директива в духе «не
отвлекайся, иди своей дорогой и лишь так обретешь славу и при-
знанность» в общем виде не годится. В качестве некоего
приближения и предпочтения - да, но в каждом конкрет-
32
ном случае следует полагаться на интуицию, на чутье и на
чувство вкуса, и это то, чем тотальный художник должен
обладать по определению. Поэтому более общий принцип
формулируется иначе:
«Будь внимателен к ловушкам. Некоторые из них
только камуфляж и огородные пугала. Опасайся лишь тех, что
способны прекратить твой путь, и особенно опасайся
ловушки конечной цели. Помни: даже самая высшая цель не
заслуживает того, чтобы называться конечной».
* * *
Намереваясь эксплицировать тезисы этики
странствий, нельзя не обратиться к опыту конкретных, ныне
живущих художников - и у меня мысленно перед глазами
идет (причем идет по палубе) Александр Пономарев,
прирожденный акционист и тотальный художник. Его опыт,
проанализированный под специальным углом зрения,
может кое-что прояснить.
Пономарев был на всех континентах и ходил по всем
океанам, он построил огромный корабль в пустыне, на
гребне бархана, и подписал «Черное море», но не на
карте, а на местности, поверх самого моря - обо всем этом
можно прочесть в электронных энциклопедиях.
Однако его главной затеей, свершившейся и все еще
свершающейся, стала Антарктида. Он собирает
флотилию, и флагманский корабль этой флотилии уже
совершил первую экспедицию: побережье Антарктиды приняло
около сотни художников из разных стран, а они, в свою
очередь, приняли этот континент в свои сердца. И еще
немаловажно то, что обитатели Антарктиды - от пингвинов
и китов до айсбергов и подводных течений - отнеслись
33
к любознательным гостям со всей возможной
благосклонностью. Успешный контакт, помимо всего прочего,
поставил вопрос о правильной этике, о нравственных началах,
которые относились бы ко всему пути. Что нужно делать
для того, чтобы приняли тебя пингвины и
художественные галереи, чтобы первые встречные говорили, что
никакие они не первые встречные, а готовы стать спутниками
и даже сподвижниками - и проходили бы в этом качестве
хотя бы виток дороги? А земля сама стелилась бы под ноги
на каком-нибудь участке пути, который прежде
представлялся особенно трудным? И еще: как добиться того, чтобы
подсветка твоей трассы и замысел Бога о тебе не
высвечивались слишком далеко друг от друга?
Не существует такой вещи, как пожизненный
попутный ветер. Да и твоя навигация совсем не обязательно
должна совпадать с естественным ходом вещей. Но ведь
встречаются совпадающие участки - иногда встречаются
сами по себе, иногда их нужно готовить, но никогда
нельзя доверяться простой инерции. Пусть со стороны твой
серфинг выглядит как легкое, небрежное перепрыгивание
с одной доски на другую, где имеет значение лишь
согласованность и игра волн, - создание такой видимости тоже
один из важных эффектов или даже признаков искусства.
Но тебе надо не туда, куда несет очередная волна, а туда,
куда надо, куда путь держишь. И раз держишь - держи.
Используй попутный ветер и подходящую волну, но не
позволяй им тебя убаюкать.
Такова этика восходящего серфинга, где список
пригодных транспортных средств неизменно открыт и где
существуют препятствия, преодолеваемые лишь совместно,
но также существуют и те, которые можно пройти только
поодиночке, даже если в одиночку до них не добраться.
34
И это максима восходящего серфинга, или тотального
искусства.
Для Александра Пономарева Антарктическая
биеннале была предварена и одиночными плаваниями, и
походами с другими номадами. Результатом каждого похода была
художественная акция, то есть оставленный эстетический
след. Высший же пилотаж состоял не в том, чтобы
реализовать художественный жест, беспокоясь о его возможной
художественности и признанности в данном качестве, а в том,
чтобы выполнить задуманный проход по волнам (или по
барханам), который оказывается художественным жестом
по совместительству - но при этом с неизбежностью.
Такова тайна, открытая немногим и действительно
доступная только большим художникам: ты не раздумываешь
над стационарными параметрами опуса, которые должны
обеспечить его подгонку к еще только предстоящему
пространству, все это ты доверяешь самим стихиям, среди
которых разворачивается твоя акция. И если ты нашел
доступ к стихиям, если подобрана подходящая команда, то
твой след - след твоего корабля, кисти или, быть может,
беспилотника - непременно окажется художественным
жестом. А то, что попадет в проем, станет отдельным
опусом, хотя в процессе своего возникновения могло быть
всего лишь беседой, прогулкой, пробой пера или чем-то вроде
этого. И значит, нужно правильно странствовать,
вовремя удивляться, не жалеть времени там, где это надо,
и дорожить им даже там, где ты его не жалеешь.
Таким образом, общий номадический постулат -
противодействие духу тяжести - дополняется и
корректируется новым принципиальным требованием: отважиться
на Вещь. В контексте тотального искусства и в условиях,
когда арт-пролетариат уже бесповоротно утвердил свое
35
бытие, это означает одновременное противостояние двум
полюсам.
С одной стороны - принципу, обретенному еще в
эпоху Возрождения и отчасти обретенному вследствие ее,
когда искусство распалось на опусы, утратив контур
трансперсонального целого. Именно тогда художник стал как бы
археологом, вспоминающим, «как же это было».
Тотальная эстетика обрабатывает новую сакральность, которая
способна предстать перед глазами в горизонте настоящего
как сияние антарктических льдов или партитура океанских
течений. Соответственно, этика странствий вводит
правила обращения с этой непривычной для художника стихией,
затрудняющей изъятие из нее отдельных опусов, которые
бы ее аутентично репрезентировали, сохраняли бы
отраженный свет in vitro.
Но с другой стороны, творческий метод Пономарева
противостоит жестам кройки и шитья по линии
наименьшего сопротивления, в частности эстетике Энди Уорхола,
отрицающей любую самодостаточность
опуса-произведения за исключением денежного эквивалента. Уже
упомянутый восходящий серфинг, которому следует Александр
Пономарев, требует именно отважиться на Вещь и даже
сосредоточиться на ней, хотя бы этой Вещью была
Антарктида. А в ходе соприкосновения с достойной,
оказывающей сопротивление вещью, с предметностью мира,
непременно возникают новые вещи, нечто обработанное,
насыщенное духом, способное притягивать и удерживать
скользящие взоры.
Итак, опус не самоцель, тем более если под опусом
иметь в виду нечто изымаемое, своего рода добычу, будь
то минерал для коллекции, фотоснимок или картина
маслом, для которых просто обнаружился подходящий повод.
36
Но произведение как результат овеществления и
воплощения духа есть то, от чего не подобает уклоняться
художнику, - тут мы имеем пересечение с авангардной онтологией
и этикой пролетариата.
Понятно, на чем основано возможное уклонение,
представляющее собой немалый соблазн, если твой статус
приближается к статусу Энди Уорхола. Оно основано на
легком получении бонуса, когда, сделав нечто стоящее,
ты можешь долго, в идеале всю дальнейшую жизнь,
разводить руками пустоту. Можно даже заметить, что есть
и свои непревзойденные мастера таких жестов, во всяком
случае в мире художников у одних это получается лучше,
чем у других. Ну и что?
Все равно существуют основания вгрызаться в
предметность мира. Почему? Ну, например, потому, что так
интереснее. Если этот ответ не устраивает, то потому, что
именно так дух отвечает на вызов. Авторское Я, озабоченное
яркостью отпечатка, здесь находит достойное поприще. Да,
странствие предполагает непрерывность, и, стало быть,
некоторое время маховик преобразования вращается на
холостом ходу - но направлен он на то, чтобы врезаться в
твердую породу и производить авторизацию. Вот и творческая
команда на борту «Академика Вавилова» во главе с
адмиралом от искусства Пономаревым внешне могла напоминать
беспечных туристов... Но это если не присматриваться,
а если приглядеться, то все получится прямо по Конфуцию:
человек благородный (сюцай) отличается от простолюдина
не тем, что делает все иначе, а тем, что, даже поступая точно
так же, он делает это по иным причинам.
Вот и креативные спутники Пономарева и, конечно
же, сам адмирал, любуясь китами и сиянием льдов,
делают это отнюдь не потому, что им больше нечем заняться,
37
а потому, что некоторые произведения (и художественные
акции) должны быть подготовлены предшествующей
тишиной и внутренним одиночеством. Требуется время на
группировку полета, на выбор проема в спонтанной
экспозиции стихий, лишь после этого наносятся знаки
присутствия. Потенциальная трудозатратность (и
энергозатратность) не пугает арт-пролетариат, тем более это относится
к его авангарду, представленному миссионерами
тотального искусства. Если, согласно Гегелю, дух должен
отважиться на разорванность, несмотря на риск потерять себя,
то уж тем более он должен отважиться на предмет, на
вхождение в плотную среду предметности, где его
совершенно точно ожидает потеря линий наименьшего
сопротивления и где требует виртуозности сохранение
поддержки стихий, ведь нельзя отказываться и от бытия вопреки,
от самой сердцевины свободы.
Таков принцип тотального искусства в понимании
Пономарева, и помимо эстетического измерения здесь,
несомненно, имеются также измерения метафизические
и этические. Его собственные акции принципиально
предметны и даже суть своеобразные памятники бытию
вопреки: круизный лайнер на бархане, подводная лодка в
Париже, вертикально установленный столб воды (как столп
истины сопротивления), все они предстают как поправки
к естественному ходу вещей.
В этом заключены особенности освоения искусства
свободных стихий: оригинал получает топографическую
привязку по месту и времени, а остальные свидетельства
расходятся кругами, создавая глубину возможного
приобщения и, если угодно, различные коды доступа.
И нет в этом никакого высокомерия, только честность
самоотчета. Вот, например, музеи - считается, что имен-
38
но в них хранятся оригиналы. Предположим, что с точки
зрения соприкосновения полотна с кистью, так оно и есть.
Но безусловность данного критерия сильно
преувеличена: ведь полотна подвергнуты искусственной
герметизации и помещены в своеобразные пробирки in vitro - а для
этого извлечены из своего времени и собственного локуса
и в таком препарированном виде представлены пред
очами зрителей. Лишь с учетом и множества других
условностей их можно считать оригиналами, а их изображения,
помещенные в «другие пробирки», в том числе и в
электронные, соответственно репродукциями и копиями.
Искусство свободных стихий отвергает подобные условности,
связывая причастность к оригиналу с непременным
погружением в слои близлежащего и омывающего времени. Все
остальное, что можно сохранить лишь на дистанции,
оригиналом в безоговорочном смысле не является и относится
к разряду свидетельств разной степени достоверности.
Стало быть, ИСС (искусство свободных стихий)
своей задачей, как эстетической, так и этической, ставит
создание безоговорочных оригиналов и достоверных
свидетельств, указывающих все способы приближения к
оригиналу. Например: льды Антарктиды, время, свободное от
зацикленности, и товарищи-спутники, одержимые той же
одержимостью, что и ты, - такова правильная навигация
приближения к настоящему оригиналу.
Презентация сохраняемых в коллекторах опусов
подобную навигацию, разумеется, отвергает, а вместо нее
декларирует иную установку, содержащую в себе элемент
лукавства, но при этом являющуюся базисной для классического
(начиная от эпохи Возрождения) европейского искусства.
В версии Булгакова установка звучит так: рукописи не
горят. Или, в несколько менее пафосном виде: нетленка
39
не тлеет... И уж в совсем развернутой форме под базисной
установкой искусства хранимого имеется в виду
следующее: подлинные шедевры искусства сохраняют весь заряд
своего воздействия, потому мы и называем их великими
произведениями - они не выдыхаются. Так что нет особой
разницы, куда их поместить, лишь бы сохранялся
установленный и зарегистрированный факт прикосновения руки
мастера. Эта условность принимается, как правило, без
какой-либо серьезной критики, поскольку относится к
разряду благих заклинаний: всем очень уж хочется, чтобы было
так. Однако в действительности помещение опуса in vitro,
операция, при которой сдираются слои прилегающего
времени и аннулируется контекст, вносит сильные искажения.
И настоящий созерцатель оригинала (назовем его так,
чтобы не использовать термины «зритель» и «потребитель»)
должен проделывать собственную работу восстановления
среды in vivo: ему необходимо разгерметизировать
невидимую, но очень плотную упаковку. Нужно актуализовать
свои знания, предчувствия, интуицию, весь свой опыт
знакомства с искусством - лишь в этом случае он будет иметь
дело с оригиналом или, лучше сказать, приблизится к нему.
Знакомство с этим обстоятельством позволяет устранить
расхожее недоразумение относительно писателя или поэта:
дескать, у них дело обстоит не так, как у художника, вот
ведь и стихотворение, где бы, в какой хрестоматии ни было
напечатано, раз и навсегда является оригиналом.
Действительные же различия носят по большей части технический
характер, и чтобы добраться до оригинала поэзии,
требуется не меньше усилий, чем для распаковки послания
живописи, изъятого из глубины веков.
Позиция Пономарева, как и любого художника,
разделяющего этику и эстетику свободных стихий, является
40
принципиальной и честной: следует прописать навигацию
к оригиналу как можно более точно, но при этом
отбросить условное требование непременной герметизации,
равно как и представление о том, что шедевр может
сохраняться в безвоздушном пространстве. Увы, как раз
в этом случае неминуемо выдыхание и обессмысливание.
Чтобы извлечь опус из безвременья, необходимо
предоставить ему транспорт своего собственного времени,
и еще далеко не факт, что этот транспорт окажется
подходящим.
Теперь требуемое разъяснение о свободных стихиях:
да, таковыми являются моря, океаны, леса, воздух и
стихия воздухоплавания, горы, пещеры... Но также и
некоторые другие реальности - например, стихия мировой
живописи. Странствующий художник - если он странствует
правильно - должен прокладывать свои тропы так,
чтобы они проходили и через всемирную историю живописи,
ибо и здесь могут встретиться попутные течения, периоды
долгого штиля, водовороты, затягивающие на дно. Когда-
то Сергей Аверинцев высказался очень точно: большой
писатель не должен стоять на коленях перед литературой.
В искусстве свободных стихий этот параметр задан точно
таким же образом: самые великие опусы прошлого не дают
права говорить о них с придыханием, вполне достаточно
правильной формы удивления и нанесения
соответствующей пометки на внутреннюю карту восприятия - да еще
и включения в навигацию на правах наиболее важных
сингулярных координат.
Живопись как стихия, музыка и поэзия в этом же
качестве должны обладать собственной свободой и
спонтанностью, примерно как океан, который мы не способны
контролировать целиком, иметь его всецело в поле зрения -
41
и всё же способны выбрать правильную навигацию: без
потери скорости и избегая переполнения архивов.
Свободный художник должен научиться и по истории живописи
странствовать примерно так же, не теряя скорости - если
он именно художник, а не искусствовед и не музейный
работник.
Следует признать, что в таких случаях всегда есть
некоторый риск изобрести велосипед, но это ведь не самое
страшное. Во-первых, каждый из спутников обладает
знанием, слегка отличающимся от знания других, если
что - они дружески укажут на источник заимствования.
Во-вторых, если даже этого не случится, совместный
заново изобретенный велосипед дорогого стоит, он,
собственно, является оригиналом в новом смысле этого слова, и
последующее сличение его с архивом данного обстоятельства
не изменит. Ведь схождение стихий всегда уникально, если
стихий достаточно много, а число непосредственных
сотрудников и свидетелей ограничено.
* * *
Итак, задумаемся над этическим следствием постулата:
совместные впечатления души и есть первый оттиск
произведения, все прочие впечатления, изъятые из времени,
суть опосредованные свидетельства; они важны, они
могут сохранять магическую энергию, но могут и не
сохранять ее, что для прежней формации искусства означало
уже однозначный приговор: опус не принят. Для искусства
свободных стихий вердикт формулируется иначе: опус
возобновляет себя как произведение лишь через
возобновляемое вхождение в стихию оригинала. Для этого и до этого
он сам должен быть переведен в состояние свободной сти-
42
хии и там сотворен заново или переизобретен в качестве
велосипеда в рамках уместности и своевременности - так
гарантируется возобновление заряда магической энергии,
равно как и статус первопубликации.
Отсюда и безусловное наличие вкуса как этическое
требование, поскольку имеется в виду вкус к жизни, к
преодолению стихий и сотрудничеству с ними. Далее
требуется безусловное понимание того обстоятельства, что сухая
вечность гербария еще не есть оригинал: необходимо
прорастить семена in vivo, поместив их в почву
дружественности и совместности. Сама это среда как раз и формируется
по принципу потенциальной всхожести семян:
собственный проект возможен только там, где сохранен характер
проективности некоторого множества уже воплощенных
проектов, и собственный опус может обрести достоинство
оригинала, если извлекаемые из «гербария» (банка семян)
образцы способны принять форму, вызывающую
первозданное удивление.
Приоритет ныне живущих и присутствующих здесь,
конечно, задан, и фетишизм искусства хранимого
отсутствует - но теперь сам этот приоритет снабжен очень
точными настройками - например, такой: любой из
приглашенных мастеров прошлого может воссиять среди нас,
и достанется ему при этом никакое не «почтение», а
именно первозданное восхищение, такое же, как каждому из
нас, кто сумеет удивить товарищей, осуществив тем самым
публикацию оригинала - произведя запечатление.
* * *
Описанием именно этической настройки свободных
стихий могут служить знаменитые строки:
43
Искусство (в оригинале «Но старость») -
это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Только в случае этики странствий речь идет не о
глубине вживания в отдельный образ или даже опус. И не
о цепочке вживаний, между которыми - анабиоз.
Тотальное искусство максимально устраняет разграничение про-
фанного и одухотворенного времени, внося элементы пер-
форманса и воодушевления во все закоулки повседневной
жизни, везде, где это только возможно. С позиций этики
странствий речь идет и о перфекционизме важнейших
событий слишком человеческого. Как там у Тарковского:
Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье...
Таковы все праздники, если они приняты в качестве
личных, касающихся тебя: атмосфера за пределами опуса
и проекта не так уж отличается от атмосферы вхождения
в образ - в искусстве свободных стихий устранено
различение между актером на сцене и актером за кулисами.
Поэтому в качестве возможной максимы воли исс
предусматривает право умереть, не покидая территории
искусства: не как актер на сцене, недосказавший реплику
и упавший из-за случайного инфаркта, а как Сократ или
как даос, обратившийся последний раз к ученикам и
удалившийся в сторону гор, «после чего учителя никто больше
не видел», как сообщают в таких случаях источники.
На нашем корабле, плывшем вдоль берегов
Антарктиды, много раз обсуждалась история, которую рассказал
44
кто-то из членов судовой команды: история о женщине,
которая, будучи больна раком на четвертой стадии,
приплыла в Антарктиду и во время высадки постаралась
спрятаться, чтобы умереть среди пингвинов и вдали от людей,
но гиды вовремя спохватились, отыскали ее и вернули на
корабль. Художники свободных стихий ей сочувствовали,
но сходились на мысли, что акция была плохо продумана.
Из обсуждения стало ясно, что каждый так или иначе
продумывал свой последний перформанс...
А затем, дня через два-три, во время очередной
высадки я удалился вглубь континента почти на километр
(обычно акции и перформансы происходили на
побережье) и обнаружил большую ледяную глыбу из тех, что
нередко встречаются в Антарктике. Но в данном случае
в глыбу льда, близкую к правильной призматической
форме, была вморожена какая-то птица, быть может гагара.
Непонятно, как эта птица могла попасть внутрь ледяной
призмы - прозрачной, незамутненной как стекло, и тем
более непонятно, когда это случилось: позапрошлой
зимой, тысячу, десять тысяч лет тому назад...
Лед был очень твердым: я постучал камнем, но ни
малейшей царапины не появилось на поверхности прозрачной
глыбы - и вдруг я представил себе эту последнюю акцию,
performance mortale. Когда понимаешь, что силы
покидают тебя, смерть вот-вот придет или буквально завтра ты
уже не будешь прежним, - в таких случаях наставник-даос
уходил вверх по склону горы, а художник может
добраться до Антарктиды и вморозиться в лед. Он может взять
с собой для этой последней экспозиции любое
произведение, любой символ - или не взять ничего.
Вечером я рассказал об этом нескольким членам
интернациональной арт-команды. Никто не пожал плечами и не
45
отмахнулся. Художник из Канады, правда, заметил: «It's
too happy end to freeze oneself into ice forever*». А фотограф
из Москвы, помолчав минуту, сказал: «Ну и как попасть
в этот лед? Не легче, чем в рай... »
Тем не менее ясно, что перфекционизм смерти входит
в кодекс искусства свободных стихий. И принцип этот, как
и кодекс в целом, направлен на устранение исторического
и метафизического разрыва между произведением-вкладом
и голой жизнью. Вытекающая отсюда подлинность
направлена на развертывание универсального поэзиса, в идеале
совпадающего с бодрствованием. И если вспомнить
знаменитый тезис Набокова о том, что следует безжалостно
уничтожать черновики и оставлять только законченные
шедевры, тезис, несомненно, направленный против переноса
в посмертие слишком человеческого, то этика странствий,
направленная к той же цели, выбирает противоположный
путь: следует привнести максимум авторствования в самые
незатейливые человеческие вещи, такие как велосипедная
прогулка, разговор с прохожим, случайное знакомство, и
вообще, уж если завтрак, то Завтрак на траве. Эти вещи
действительно не стоит оставлять в качестве черновиков, но
существуют ведь два способа избегать этого:
1) Стирать их с лица земли, вычеркивать следы
присутствия слишком человеческого. Данное требование
является и эстетическим, и этическим, и его вполне можно
назвать императивом Набокова - не потому, что он
первым его осознанно придерживался, а потому, что первым
эксплицитно сформулировал.
2) Приводить черновики к чистовому состоянию,
сближать их с произведениями - такими как акции, перфор-
* Это слишком хороший конец - навеки вморозить себя в лед
(англ.).
46
мансы и хеппенинги. Этот принцип спонтанно принимается
многими современными художниками, но я с неизменным
интересом наблюдал его в способе жизни Александра
Пономарева. Для него преобразованные черновики суть
«элементы философии жить», используя термин
французского синолога Франсуа Жюльена.
На первый взгляд такая установка может показаться
чем-то высокомерным, пижонским и, так сказать,
противоестественным - да, пожалуй, и чем-то тягостным для
повседневной жизни, ненужным дополнительным
обременением. Однако на деле все эти уподобления ошибочны.
В плане бытия для другого преобразование черновиков
в чистовики есть форма открытости и дружелюбия,
являемого миру, это некая чайная церемония, развернутая
за пределы всех возможных чаепитий и к тому же щедро
снабженная элементами импровизации. Я многократно
наблюдал шлейф ситуативного удивления и ответной
благодарности там, где Александр Пономарев без каких-либо
видимых усилий оставлял вместо подлежащих сожжению
(забвению) черновиков проживания следы применения
магической, радиоактивной руды искусства.
Что касается трудозатратности подобных модусов
присутствия, то она очевидна на первых порах, как, впрочем,
и в случае исполнения любого этического императива,
однако затем, входя в состав естества, в состав вновь
обретенной человеческой природы, будь она «второй
природой», третьей или вообще одной из последующих, такое
преобразование черновиков не просто повышает миро-
измещение присутствия, насыщая событийный горизонт,
но и окупается на всех уровнях, включая естественное
самоуважение и ощущение повседневного комфорта. Мир,
безусловно, становится интереснее и обнаруживает свою
47
тщательно скрываемую благосклонность - пожалуй,
именно такой этический императив убеждает в достоверности
тезиса Сократа о том, что с хорошим человеком ничего
плохого не может случиться.
В общем виде идея повседневного перформанса, или
бытия-без-черновиков, еще не является принципом чистой
нравственности постольку, поскольку некоторые манипу-
лятивные стратегии используют те же принципы. Способы
эти общеизвестны и стары как мир: войти в доверие,
произвести впечатление - ну и воспользоваться результатом
в своих интересах. Как раз перформанс в качестве
элемента философии жить сущностно адресован тем, кто тебе
никогда больше не встретится, - он и есть высший пилотаж
отказа от черновиков и перехода на прямое чистописание,
то есть чистопроживание.
Опять вспоминается пример из чистопроживания
Александра Пономарева. На этот раз дело было в
Японии, в префектуре Ниигата, в глубокой провинции. Мы
остановились на ночлег в художественном интернате
рядом с заброшенным синтоистским храмом. Утром,
собираясь уезжать - машина уже ждала, - мы прошли через
большой спортзал, где за низкими столиками и прямо на
полу сидела группа детей, дошкольников из Китая с
карандашами, альбомчиками, цветными мелками и почему-
то глобусами, стоявшими на полу. Наставник то ли на
японском, то ли на китайском что-то говорил им сонным
голосом. Пономарев тут же включился в ситуацию и
решительно направился к детям. Следующие двадцать
минут мы стали свидетелями настоящего спонтанного
перформанса. Усевшись среди детишек, Александр принялся
рисовать, вращать глобусы и увлеченно импровизировать
на смеси русского и английского. Дети, встретившие его
48
сначала недоверчиво и испуганно, постепенно
прониклись доверием и растущим интересом. Они поднимали
ладошки и вращали глобусы, что-то показывая,
отвечали на непонятные вопросы то хором, то по одиночке,
звонко смеялись. Мы сначала проявляли некоторое
нетерпение (все-таки машина ждет), но тоже постепенно
прониклись духом легкого акционизма и забыли о
поездке. Точку, разумеется, поставил Пономарев, как всегда
в нужном месте. Уничтожать (или забывать) черновик не
было никакой нужды, поскольку маленький шедевр был
создан этим утром как оригинал - он согрел участников
магическими лучами, а уж предугадать последствия
такого магического облучения никому не дано.
Этика ИСС направлена против утилитаризма, но это
обстоятельство надо понимать правильно. Задача
пленить другого и даже всякого возможного другого
отнюдь не снимается, поскольку это всеобщая и
непреложная задача искусства вообще. Вопрос как и во имя чего?
Пленить - значит пригласить и переманить в свой мир,
где само пользоприношение не является целью и
смыслом существования. Заинтересован ли художник в таком
пленении с позиций слишком человеческого? Да. Но, как
сказал бы Аристотель, привходящим образом. Настоящей
валютой для приношений является, как уже отмечалось,
фимиам, а если существует дружественная среда
паломников, пребывающих в пути, и возможность быстрой
публикации оригиналов прямо в этой среде, то к
уровню непосредственных поднимается самый глубинный
мотив - мотив перепричинения мира. Его можно озвучить
по-разному - например, так:
- Живи в ожидании восхищения. И ожидания сбудутся.
Или так:
49
- Вноси свой беззаветный вклад в борьбу с
повседневным жлобством, и ты обретешь мир,
приближающийся к раю, обретешь его прижизненно или посмертно. Но
твое достойное посмертие в случае торжества этики
странствий останется формой удивления для живущих: они
примут тебя в свою среду и спасут именно то, что ты считаешь
лучшим в себе.
* * *
Стало быть, этика странствий, воспринятая и
преобразованная современным искусством, включает в себя
принцип максимального перфекционизма и отказа от
черновиков. То, что с позиций искусства как
производства точечных опусов предстает в качестве распыления
(«философ не должен отличаться от прочих покроем
своего пиджака» - говорил Гегель), вполне может быть
собрано, сконцентрировано в надлежащую событийность.
Если говорить об источниках и составных частях этого
всепроникающего искусства и его этики, то в поле зрения
оказываются вещи, порой весьма далекие от
современности. Тут, например, и салонная культура,
отраженная у Пруста и выраженная в французской эссеистике
XVII-XIX веков: ее представители должны были
обладать разносторонними навыками - остроумием,
острословием, начитанностью, пригодной для мгновенной
актуализации, искусством аргументации, учетом психологии
собеседника прямо налету и волей к импровизации.
Понятно, что наличие собственных оригинальных мыслей
здесь нисколько не помешает. Кстати, салонная культура
подразумевает, что общение есть работа, и все
совершаемые при этом «операции» должны быть устремле-
50
ны к перфекционизму: салонная культура вполне может
быть рассмотрена как модель ИСС, именно в качестве
одного из источников.
Другой моделью является аристократизм в целом,
с подчеркнутой отточенностью жестов, но исторически
аристократизм имеет адресацию «для своих» и оплачен
высокой ставкой бытия господина. В этом, впрочем, и его
узость, устраняемая в этике странствий, где аристократизм
органично входит в предчувствие оригинала как основной
формат бытия.
Наконец, среди источников новой этики и опыт
духовной аскезы, суть которой сводится к перепричинению
мира. Ты живешь в собственной системе координат, а не
в координатах только органического тела и не в разметке
слишком человеческого - и это своеобразный мир
спасения, в котором должно быть минимизировано все неспа-
саемое. Художник свободных стихий пытается на ходу
перепричинять мир, устраняя жлобство и преодолевая
разметку слишком человеческого там, где это возможно.
Но всё же перечисленные источники и составные
части (ясно, что есть и другие помимо перечисленных)
отличаются от интересующего нас феномена как целого, от
этики странствий - по крайней мере, в одном
существенном отношении. Все они характеризуются более
низкой орбитой, преодоление духа тяжести становится для
них регулярной, но, как правило, непосильной задачей,
в связи с чем возникает неизбежный параллакс между
непосредственными результатами самообуздания и
посторонней им целью: в случае салонной культуры такая
цель находится в сфере честолюбия, в случае
христианской аскезы - в сфере спасения. Но вольный
художник как воин своего странствующего ордена встречает
51
и принимает перформанс каждого дня, будь это завтрак
на траве или сопровождение ребенка в садик, он
принимает эти возможности так же, как подарок стихий,
получаемый благодаря правильной навигации между
разнообразными Сциллами и Харибдами. Художник
инвестирует свое авторизованное присутствие и
применяет магическую энергию, устроенную так, что каждое
успешное ее применение самоокупаемо. То есть
следование правильным эстетическим принципам
непосредственно чувственно вознаграждается: в каждом перфор-
мансе выигрывают все участвующие стороны. Сам этот
процесс можно описать как перепричинение на марше,
когда будничные заминки и зависания, бесхозные остатки
ритуалов и церемониалов, переформатируются в акции,
освежающие восприятие и преодолевающие анонимность
das Man. И это вместо прежних герметичных оазисов
типа музеев и концертов, где воздействие радиоактивной
магической руды искусства замкнуто в непроницаемых
стенках той или иной пробирки, например картинной
галереи или театра. Волной перепричинения герметичные
перегородки размываются и разрушаются. Прекрасное
описание подобного перепричинения дал Маяковский:
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
52
Как раз именно этим, пусть с разным размахом и
разным успехом, занимаются художники свободных стихий.
Иногда тот или иной день из жизни Александра
Пономарева (хотя, конечно, не все дни и не всякий день)
выглядит как сплошной ноктюрн на флейте водосточных труб.
А вольные и невольные свидетели получают магическое
воздействие, которое может быть передано дальше по
цепочке преобразований. И вот уже, глядишь, в
беспросветном царстве инерции и жлобства появился очаг ино-
присутствия, способный к дальнейшей иррадиации во всех
направлениях...
Таким образом, речь идет об исполнении миссии
художника в ее предельном метафизическом понимании - как
освобождение мира из-под власти Духа тяжести и
пробное обустройство его на новых основаниях. Важно еще
раз подчеркнуть, что изнутри эта деятельность художника
отнюдь не носит характера чистой аскезы (хотя элементы
аскезы неизбежны), она в ключевых точках подключена
к принципу наслаждения и отчасти напоминает
«удовольствие от текста» Ролана Барта, только выплеснувшееся за
пределы текста в классическом понимании этого слова.
* * *
Пока это лишь тезисы этики, предлагаемой под ключ,
они предназначены для жизни, руководствующейся
принципами странствий и удивления. Они носят пробный
характер. Эта этика еще не готова, ее тезисы во многом
интуитивны и не могут быть сгруппированы в какой-нибудь
моральный кодекс. Но поскольку современный мир
открыт потокам этического творчества, для обживания
этики удивления и странствий есть хороший шанс.
Ill
ОНТОЛОГИЯ ПРОЛЕТАРИАТА
И ЕГО ЭТИКА
Посвящение в этику пролетариата необходимо
начинать с метафизики, иначе все нравственные принципы
покажутся просто висящими в воздухе и непостижимо
меняющимися в зависимости от конкретной ситуации.
Следует определить именно основание для мировоззренческих
суждений и деяний - попробуем его эксплицировать.
Спекулятивная онтология пролетариата
Жанр спекулятивной метафизики имеет право на
существование, хотя этим правом с наибольшей выгодой
пользуются критики, оттачивающие свою язвительность в
выискивании механистических параллелей
Спекулятивная конструкция под условным названием
«Онтология пролетариата» такова. Всмотримся в
очередной раз в знаменитую формулу Эйнштейна Ε = тс2.
Среди прочего формула утверждает, что во всяком
веществе, обладающем массой, содержится колоссальное
количество энергии. Ее наличные, кинетические проявления,
с которыми мы имеем дело, - всего лишь капля в океане.
54
Согласно меткому сравнению Билла Брайсона любой
человек средней комплекции содержит в себе энергию,
равную тридцати огромным водородным бомбам, ему только
не хватает динамичности для ее высвобождения. Однако
сказать, что всё обладающее массой вещество есть, по
сути, связанная энергия, было бы неверно. Скорее можно
предположить, что «стационарное вещество» состоит из
двух компонентов: связанная плюс отработанная энергия
(собственно т). Впрочем, можно сказать и так:
инертная масса есть энергия, пребывающая в режиме stand by,
в состоянии гравитации. Пока еще просто никто не знает
универсального способа переключения из этого
фонового режима в какой-нибудь из действующих. Найти такой
способ означало бы осуществить пересотворение мира.
Но к физике, к устройству фюзиса, мы еще вернемся,
пока же обратимся к по-своему не менее знаменитой
формуле Маркса К = с + υ + m, где К - капитал
(совокупный), с - постоянный капитал, υ - переменный капитал,
a m - прибавочная стоимость.
Формулы Маркса и Эйнштейна, при всех структурных
различиях, опираются на некоторую общность принципа.
Овеществленный, осажденный в средствах производства
труд субстанционально тот же, что являет себя и в живой
процессуальности, хотя в одном случае перед нами вещь,
а в другом - деятельность.
«Машина, которая не служит в процессе труда,
бесполезна. Кроме того, она подвергается разрушительному
действию естественного обмена веществ. Железо ржавеет,
дерево гниет. Пряжа, которая не будет использоваться для
тканья и вязанья, представляет собой испорченный
хлопок. Живой труд должен охватить эти вещи, воскресить
55
их из мертвых, превратить их из только возможных в
действительные и действующие потребительные стоимости.
Охваченные пламенем труда, который ассимилирует их
как свое тело, призванные в процессе труда к функциям,
соответствующим их идее и назначению, они, хотя и
потребляются, но потребляются целесообразно, как
элементы для создания новых потребительных стоимостей, новых
продуктов, которые способны войти как жизненные
средства в сферу индивидуального потребления или как
средства производства в новый процесс труда»*.
Вещи, охваченные пламенем труда, если и сгорят в этом
пламени, то лишь затем, чтобы, подобно птице Феникс,
воскреснуть в качестве товаров. Исследовательской
сверхзадачей Маркса является демонстрация того
обстоятельства, что и вещи-товары, имманентно вписанные в стихию
желания, и вещи - предметы труда (Gegenstände -
собственно пред-меты, противостоящие человеку и
создающие ему затруднения), и сам труд, развеществляющий
и вновь опредмечивающий, - все это образует континуум,
в котором нет абсолютно иного, а есть свое иное.
Итак, аналоги. Овеществленной, «массированной»
энергии (тс2) противостоит та, которую удается извлечь,
привести в актуальную форму Е; выглядят эти две
реальности фазового перехода совершенно различно, в одном
случае - процесс, в другом - несдвигаемая гора, но
особенности их форматирования теснейшим образом связаны
друг с другом, хотя взаимный переход и осуществляется
с потерями. Мы можем сказать, что некоторый осадок,
самая массированная масса, потеряна для процессуального
существования; в свою очередь, определенная компонента
энергии никогда не может быть овеществлена (материали-
* Маркс К. Капитал. М., 1949. Т. 1. С. 190.
56
зована), и скорее всего, оба коэффициента должны иметь
численное выражение и быть константами универсума (но
не мультиверсума).
Процесс живого труда, извлекая соприродные себе, но
овеществленные компоненты, преобразуя их в более
удобную для развеществления форму - в стоимость, в товар, -
всё же не может извлечь целиком все остатки-останки
прежнего труда. Не говоря уже о дарах природы, и сама
реальность труда как высшей человеческой активности не
может целиком осесть в объективациях, она выбирает
самую летучую, наименее материализованную и
отягощенную форму, форму знаковых констелляций семиозиса.
Революционный ход, совершаемый новой
онтологией, состоит в следующем. Традиционная
противоположность (максимум различий) между веществом,
обладающим предметностью, несдвигаемостью, объективностью
и энергией, деятельностью, рассматривается как
особенность восприятия. В большинстве случаев восприятие как
раз сглаживает непримиримые сущности, в результате чего
возникают важнейшие конструктивные иллюзии:
отождествление знака и денотата (семиозис), счета и
считаемого (время), но тут, наоборот, предмет и деятельность
разведены как чужеродные реальности. Революция
заключается в смене тезисов. Так, положение здравого
смысла «деятельность есть некое свойство деятеля, которым он
обладает» сменяется основополагающим тезисом
онтологии пролетариата: предмет есть фаза самой деятельности.
Популярность Эйнштейна в Советской России
в какой-то степени объясняется и тем, что теория
относительности внутренне близка пролетариату.
Пролетариат знает, что именно заключает в себе упрямая видимость
Ы
противостоящих ему вещей-товаров, - и благодаря этому
знанию он не желает смиряться с непреодолимым
упрямством гравитации. Инстинктивно пролетариат прозревает
в массе (т) отчужденное, материализованное время.
Тем самым энергия, отчуждающаяся в инертную,
устойчивую массу, есть частный случай более общего
фазового перехода - смены ипостаси времени. Один из самых
удивительных квантовых эффектов, корпускулярно-вол-
новой дуализм, принято рассматривать как
непостижимый парадокс, однако правильное понимание свойств или,
если угодно, обыкновений времени позволяет трактовать
непостижимую континуальность «волна-частица» не как
эксклюзивный эффект микромира, а, напротив, как
важнейшую данность раскладки мира de facto. Становится
понятно, что именно этот квантовый эффект и описан
Марксом как последовательность опредмечивания и
распредмечивания, когда труд предстает то как процесс, то
осажденным в форме товара, то омертвленным в
овеществлении, не получившем товарной признанности.
Эта третья возможность - третье состояние - еще не
тематизирована квантовой механикой, ее можно
рассматривать как сухой остаток непрерывного корпускулярно-
волнового дуализма. Это сброс и омертвление обратимой
рабочей темпоральности в инертную массу, переводимую
в режим stand by, помеченный красным огоньком
гравитации, тупым притяжением, противостоящим скоростным
преобразованиям.
И единая теория поля не может быть построена до тех
пор, пока исследователь будет ограничиваться рамками
физических процессуальностей, пока он не выйдет на
уровень общей изохронии мира, пока не начнет распознавать
58
сходство различных следов отработанного времени. Ведь
остывшая скорлупка человеческих привычек и
обыкновений изохронно есть то же самое, что и инертная масса.
Следовательно, ороговевшая социальность и
экзистенциальные отбросы доживаемых жизней,
сконцентрированных вокруг домашних тапочек, изохронны «остывшим
галактикам», то есть тем омертвленным фрагментам
происходящего из области физической размерности, которые
регулируются лишь фоновыми силами гравитации,
режимом stand by.
Решающая граница проходит не между фазовыми
состояниями опредмеченности и распредмеченности (смену
этих состояний, напротив, можно охарактеризовать как
обыкновенное происходящее), но внутри поля, точнее
говоря, внутри многослойной среды объективации, там, где
в общем виде располагается ресурс прошлого. В
экономике это грань между безнадежно омертвленным трудом
и общественно необходимыми, признанными затратами
труда: обреченная, сходящая экономика характеризуется
как раз преобладанием «плохих» объективации над
«хорошими» - и это лишь в том случае, если центр тяжести
уже перенесен на отчужденный и отчуждаемый труд.
В аналитике времени это прежде всего соображения
Сартра относительно «в себе» как абсолютного
прошлого и тех кристалликов абсолютного прошлого, которые
используются сознанием, то есть формой для себя в
качестве стационарной системы отсчета, гаранта
идентификации при непрерывно возобновляемой деятельности
самоутверждения. Режим максимальной темпорализации
(полноты присутствия) вынужден использовать в качестве
опоры самые глубокие пласты залегания, гравитацию
абсолютного прошлого. Если бы эти, скажем так, достижения
59
гуманитарных наук (а на самом деле несколько
авангардных философских прорывов) удалось перевести на
рабочий язык естествознания, пресловутая общая теория поля
обрела бы вполне зримые очертания. Но подобная задача
может быть решена лишь спекулятивной онтологией
пролетариата.
По двум причинам. Первая - отечество пролетариата
связано не с порядком остывшей вселенной, оно
располагается в непосредственной близости от Большого взрыва.
А вторая - реальность корпускулярно-волнового
дуализма дана пролетариату воочию. Он видит, как пласты
залегания отработанного времени создаются им самим, он
способен легко избавляться от этих неликвидных продуктов
жизнедеятельности. Пролетариат иногда подводит
упорное нежелание смириться с инерционностью материи - но
и это как посмотреть.
Упорство пролетариата делает уместной постановку
вопроса о второй симметричной константе. Если левым
ограничением континуума сущего и происходящего
является «скорость света», то напрашивается и правое
ограничение, которое с той же степенью метафоричности
может быть названо «упорство тьмы». Понятие «скорость
света» является, пожалуй, самым мистическим в физике.
Оно, во-первых, ничем не отличается от самого феномена
света и в действительности указывает на предел, на некое
ограничение. Скорость света с открывает горизонты
чистой событийности, начальную отметку разворачивания
собственного пространства - за этой отметкой чистая
событийность, или время, не порождает никаких
объективации вообще - отсюда и условная нулевая масса фотона.
Но тогда «правой» константой происходящего и будет
абсолютная связанность, объективация, не поддающаяся
60
событийному саморазличению, проявляющая себя лишь
универсальной силой тяжести. Тут можно вспомнить
знаменитый каверзный вопрос средневековой теологии,
эффектно обыгранный в книге Иэна Бэнкса «Шаги по
стеклу»: что будет, если абсолютная, всепроникающая сила
столкнется с абсолютно несдвигаемой преградой? Героям
так и не удалось найти ответ на этот заковыристый вопрос,
но они склонялись к тому, что подобного никогда не может
случиться, даже гипотетически. Между тем, ответ
существует: если неостановимая сила столкнется с
непреодолимой преградой, будет как раз то, что есть, - получится
мир, в котором мы и живем, наша Вселенная. И это мир
двух констант: светлая константа с, в проекции на
физическую размерность именуемая скоростью света, и
«темная», пока еще безымянная константа, которую в той же
физической проекции следовало бы назвать скоростью
нарастания инерции.
Из сказанного следуют две вещи. Во-первых,
существование двух констант задает диапазон
сущего-происходящего, континуум со смазанными краями. Во-вторых,
вещество и энергия выступают лишь как частные случаи
чистой событийности и ее антагониста - непоправимого
прошлого. Сила гравитации в сущности и есть
разновидность непоправимого прошлого.
Соотношение данных констант характеризует любое
бытие единичности, оно относится к изохронии миров
и ничего не говорит о хроногенезе, в частности об
условиях «отпочкования» нового свежего времени,
нового единства происходящего. Тем не менее соотношение
между чистым первополаганием пространства
временем и количеством примесей, более тяжелых фракций
уже отработанного времени, это соотношение, конечно,
61
намного важнее любого параметра, полученного в
результате игр с линейкой.
Даже при том, что еще не создана, а возможно и не
осмыслена, такая онтологическая (а возможно, и
математическая) дисциплина, как топология вхождений, то
есть способы взаимосоотнесения разворачиваемых
временами-событийностями пространств, внутреннее
соотношение темпоральных моментов собственного времени. Будь
данные соотношения хоть как-то определяемыми и
обобщаемыми, это изменило бы картину как философии, так
и естествознания. В социально-исторической области мы
пока имеем дело лишь со смутной интуицией Шпенглера,
в естествознании, увы, как это ни парадоксально,
собственно история Вселенной после Большого взрыва носит
еще более описательный характер.
Итак, гравитация, сила тяжести, остается самым
загадочным физическим феноменом. Так и не удалось
выделить квант гравитационного поля, пресловутый гравитон.
Высказывания о природе гравитации, принадлежат ли они
Аристотелю, Ньютону или Эйнштейну, остаются в
равной мере спекулятивными, поэтому, не опасаясь попасть
впросак, можно высказать некоторые соображения, не
имеющие математического и вообще естественно-научного
коррелята. Вот они.
Гравитация осуществляется без расходования времени,
она есть нулевая, или минимальная событийность. Именно
поэтому лишается смысла вопрос о скорости
распространения гравитационных волн. Или можно сказать так: скорость
распространения «гравитационных волн» (лучше в
кавычках) абсолютна потому, что у гравитации нет скорости. Если
представить себе некое квантовое событие в мире квантовой
механики, скажем, перескок электрона с одной орбиты на
62
другую, оно предстанет неизмеримо более содержательным,
чем «акт гравитации», чья событийность исчезающе мала
даже в сравнении с любым событием микромира.
Выражение «нулевая событийность» будет все же
некорректным, более уместно говорить именно о режиме stand by,
о предельном сопротивлении и эталонной инерции.
Гравитационное поле связывает все вещество Вселенной, но не как
имеющее место событие притяжения, а как общий удел
всякого исчерпания событийности, атрибут окончательного
продукта метаболизма отработанного времени.
В спекулятивной онтологии пролетариата именно здесь
проходит последний рубеж сопротивления материи, здесь
останавливается вселенское усилие распредмечивания,
останавливается экспроприация в самом широком смысле
слова. Эту часть овеществленного труда самой природы не
удается извлечь «из недр»: сама масса и есть те недра, из
которых по мере развития и интенсификации практики
извлекается все остальное. Это кладбище времен, где
прежние и несостоявшиеся событийности уже осели, слиплись
в тупой гравитации.
Отсюда антигравитационный полюс утопий -
левитация, свободный полет. Хитрость разума позволяла
обойти запрет, давая возможность «связанного полета»,
использующего законы физики, в частности аэродинамики,
но этот связанный и обусловленный полет - всего лишь
паллиатив полетов во сне и в воображении. В сущности,
когда мы говорим «полет воображения», мы именуем само
воображение по его главной содержательной
составляющей - левитации.
Поэтому выход за пределы земного тяготения и
покорение космоса вовсе не являются случайным отклонением
63
или простой прибавкой к насущным задачам
пролетариата - напротив, это пункт назначения всей
стратегической линии победившего пролетариата. Николай
Федоров, Циолковский, Александр Богданов с его утопией
межгалактической пролетарской революции - это такие
же составные части идеологии пролетариата, как
теория классовой борьбы и диктатура пролетариата. Полет
Гагарина как раз и выражает прямую преемственность
задач и идеалов революции: ясно ведь, что подлинной
целью классовой борьбы, которая велась пролетариями
всех стран (ив этом радикальное отличие от всех прочих
классов), было не заполнение потребительской корзины
чипсами и попкорном, а преодоление земного тяготения
с последующим набором третьей космической скорости.
А в самом широком смысле - распредмечивание
омертвленного вещества природы: беззаветный труд
воскрешения - сверхзадача пролетариата. Иными словами,
сверхзадача пролетариата - научиться извлекать из штолен
(из недр) отработанное время и высекать из него искры
новой событийности.
Следовательно, возвеличивание труда и трудового
начала отнюдь не сводится к предпочтению этой
процедуры в качестве основания для распределения материальных
благ и социальных знаков признанности. Имеется в виду
универсальность приоритета живого труда как
универсального состояния мира в отличие от преобладания и
доминирования всех форм овеществленности. Трудовое
начало противоположно отчуждению, оно указывает на то, что
всегда имеется в наличии, на ноу-хау всякого возможного
распредмечивания. Это начало принципиально
противостоит товарному фетишизму и «взбесившемуся знаку»
и означает приверженность деятельности, поддерживае-
64
мую возможность субъекта преодолевать границы
предметности, обогащаясь и насыщаясь при этом драгоценным
опытом инобытия. Отсюда проистекает важный момент
пролетарского понимания материализма:
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.
(Николай Тихонов)
Все еще недооценивается в полной мере категория
распредмечивания, одна из решающих для онтологии
пролетариата. Распредмечивание создается живым трудом
и представляет собой живой труд. Однако бытие живого
труда - это не только процесс изготовления вещи, не
только совокупность общественных отношений,
поддерживающих процессуальность процесса, это еще и сама вещь, хотя
и не всякая. Соотношение между живым и омертвленным
трудом носит в этом случае решающий характер. Генрих
Батищев пишет:
«Если же взять предметную деятельность с точки
зрения тех трудностей, которые питают ее объективным
содержанием и в качестве процесса решения которых
она проистекает, - с точки зрения
проблем-противоречий, - то она предстанет нам как труд в самом широком
значении (то есть труд, не сопряженный с овещнением
и не облаченный в те овещненные превратные формы,
в которых и с точки зрения которых объективные
трудности выступают как нечто негативное и враждебное, как
то, против чего приходится направлять
объектно-вещную активность и вести противоборство)»*.
* Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997.
С. 66.
65
То есть универсальный смысл труда с точки зрения
онтологии пролетариата ни в коей мере не сводится к
необходимости в поте лица добывать хлеб свой насущный,
реализовать тяжкий удел эксплуатируемого класса (хотя
этот момент, безусловно, присутствует, внося мощные
системные искажения в идею и практику труда).
Да, раб отбрасывается господином в поле труда, как
описывает Гегель, но как раз в этой отброшенности он
и обретает свое преимущество, в преодолении
сопротивления вещей дух обогащается новым содержанием - именно
это всегда имел в виду Маркс, на это справедливо
указывает и Батищев:
«Не пристало нам следовать тем, кто, хотя и говорит,
повторяя авторитетный оборот речи: "предметная,
предметная...", но подразумевает при этом под предметом
нечто вроде сырья, предоставленного ради израсходования,
нечто заведомо низшее, сравнительно с человеком, некое,
хотя и объективное, а поэтому неподатливое для
произвола и требующее все же считаться с его законами, но
не имеющее в себе никакой самостоятельной ценности,
аксиологически пустое бытие. Это была бы редукция
бытия предметного к объектно-вещному, совершенно
ложная редукция. На деле же объективное бытие предметно
в гораздо более богатом смысле...»*
О том, каков же этот смысл, говорится не слишком
вразумительно, но речь может идти по меньшей мере
о двух аспектах того, что не сводится к единственному
подлежащему преодолению сопротивлению. Во-первых,
это известный контекст Хайдеггера, где соприкосновение
с подлинной вещью рождает мастера, обеспечивая к тому
* Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997.
С. 67.
66
же некую минимальную квоту человеческого (типа
песенок, «приписанных» к прядению на прялке).
А во-вторых - драгоценный опыт встречи с
предельным, непреодолимым сопротивлением, лежащий в основе
онтологии пролетариата. Это сопротивление никоим
образом не связано с усилием преобразования сырья.
Художник в эпоху мастера и рабочий, когда он осознает, что
сопротивление материала уходит далеко за пределы
конкретной предметности, - вот субъекты этого опыта.
Труд и практика в целом (праксис) полагают и
удерживают имманентный горизонт деятельности - такой, внутри
которого совокупность преобразующих усилий
оказывается способной перевести массу в энергию. В рамках пракси-
са решительно снимается фетишизм превращенных форм,
все они в той или иной мере предстают как
промежуточные связывания живого труда, вполне способные к
фазовым переходам, в том числе и такому, самому
популярному переходу, который соответствует знаменитой формуле
Τ - Д - Т.
Однако опыт фазовых переходов (точнее будет
сказать, фазовых переводов), как соответствующих формуле
расширенного воспроизводства, так и тех, которые
опробуются на синхрофазотронах победившего пролетариата,
недвусмысленно указывает на проблему эманации:
пролетариат сталкивается с той же проблемой, что и бог-
демиург. Пределы преобразующего воздействия
обнаруживаются в нескольких направлениях, обнаруживаются со
всей очевидностью, хотя пролетарская онтология никогда
не признает их окончательными. В отношении
физического измерения вещественности, фюзиса, это гравитация как
самый тяжелый, беспросветный случай связанности. В
отношении человеческой природы это стяжательство, и хотя
67
всеобщность законов стяжательства не раз нарушалась
в истории, синтез «нестяжательских частиц»
оказывался возможным лишь на особых синхрофазотронах - что
же касается обретения нестяжательства как
стабильного, стационарного состояния, подобное всегда оставалось
лишь утопией. В классовом сознании пролетариата эти два
барьера тесно связаны, причем текущие практические
задачи скорее маскируют их непреодолимый характер.
Таким образом, среди орудий деятельности есть
инфраструктуры производственных инвестиций - собственно
капитал, есть наука и техника как мощные силы
распредмечивания, но есть и тяжелые, косные залегания
непросветленной материи, дающие о себе знать как раз через
гравитацию и стяжательство.
Вновь к онтологии пролетариата: второй заход
А в чем, собственно, материализм? Нет ли в этом
названии какой-то особо изощренной иронии, если деяния,
совершенные под знаменем марксизма, можно обвинить
в чем угодно, только не в приземленности, если
объективная сила овеществления отрицается пролетариатом до
последних пределов, а отстаивается решительный приоритет
преобразующей деятельности - какое еще мировоззрение
до такой степени бросает вызов материальности,
объективным обстоятельствам?
Парадоксальным образом в истории человечества едва
ли найдется хоть одна религия, которая могла бы до такой
степени преобразить естественный ход вещей. И все же
определение марксистской философии как материализма
не случайно - она названа так в честь зоны максимального
сопротивления активизму, ведь материализм и возникает
68
на излете божественной эманации, и здесь подхватывает
вахту преобразований как раз пролетариат. Материализм
есть знак того, что мощь духа предполагается потратить
не на обустройство ячеек остывшей материи, а на
пересотворение мира путем глубокого вторжения в его
материальный остов.
Наивный тезис диамата «материя первична, а сознание
вторично», конечно, ничего не объясняет - он сам нуждается
в объяснении. Ближе к сути дела, к сути пролетарского
материализма, звучит известный припев революционной песни:
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Здесь отрицается возможность быть
облагодетельствованным и не высказано никакой надежды на чудо.
Можно сказать, что материализм принимает содержание
высших чаяний (в этом его отличие от прагматизма),
отрицая при этом форму чуда. Подлинный смысл
материализма - марксистского понимания истории - сокращение
дистанции между волей и положением вещей: бытие
действительно определяет сознание, но определяет его в
направлении к действию, к собственному изменению. Тезис,
согласно которому бытие определяет сознание с точки
зрения онтологии пролетариата является минимализмом,
ведь определять значит полагать предел бытию,
выбирая, вернее оставляя, лишь то, что является выносимым
и подотчетным. Однако при внешней схожести,
онтология пролетариата прямо противоположна прагматизму,
она действительно ближе к гегелевской спекулятивной
69
философии, только вместо абсолютного Духа полагается
единство сознания и воли революционного класса.
Пролетарская онтология содержит в себе и
ситуативные составляющие, которые органически ей не
принадлежат: такова, например, теория отражения и
политэкономия, во всяком случае «экономизм». Теория отражения
была присоединена по недоразумению, и хотя она не
повлияла ни на онтологию пролетариата, ни на его
эсхатологию, но внесла искажения в экзистенциальный портрет
исторического класса - нет никакого сомнения, что Маркс
решительно отверг бы подобную гносеологическую услугу.
Если бы бытие определяло сознание в соответствии с
теорией отражения, оно никогда не определило бы его в
качестве субъекта, притом субъекта, повелевающего бытию от
его же собственного имени. В итоге скорее бытие отражает
результат синтетического воздействия сознания, хотя еще
нагляднее оно предъявляет безрезультатность...
«Экономизм» же, который Маркс усиленно развивал
большую часть своей жизни, носит, в сущности,
тактический характер: это, по сути, орудие буржуазии, которое
пролетариат обращает против нее самой.
Но если именно становление, деятельность, а не
ставшее, овеществленное бытие является родиной
пролетариата, можно предположить, что даже важнейшие положения
онтологии сами могут изменяться - или отменяться, если,
скажем, степень сопротивления материи уменьшилась.
Ведь, как известно, различные философы по мере сил
объясняли мир - только объясняли. Дело же состоит в том,
чтобы изменить его. А изменить мир (все-таки речь ведь
идет о мире, а не о чем-то внутримирно сущем) - значит
выйти к рубежам новой онтологии, не потому, что прежняя
была неверной или всего лишь приблизительной, а потому,
70
что она (по крайней мере, некоторые ее пункты) уже
реализована. То есть дело обстоит как и с партийной программой,
и хотя программа меняется чаще, чем онтология, но и
онтология не остается навеки одной и той же. В сущности, это
и имел в виду Маркс, говоря о «предыстории», в которой
осуществляется восхождение пролетариата, и собственно
истории, которая отменит прежние законы и утвердит
новые формы общежития. Сегодня кое-какие параметры
изменений ясны.
Преодолевая стихийное и сохраняя предметное
Все еще необходимо прояснение ряда важнейших
вопросов, касающихся самой сути материализма и его
высшей формы - материалистического понимания истории.
Вот дилемма, или даже лучше сказать антиномия.
1) Дух преодолевает сопротивление материи - таков
принцип революционной онтологии пролетариата. Эта
онтология принимает на себя имя материализма вовсе не
из прагматизма или меркантильности, а берет его в честь
преодолеваемого, так же как полководец, покоривший
Крым, присоединяет к себе титул и становится князем
Потемкиным-Таврическим... Стало быть, предмет есть
препятствие, которое в конечном итоге следует устранить. Дух
должен овладеть предметом, сделать его носителем (ну
или носильщиком) воли или желания, чем-то подручным.
2) Именно преодоление предметности обогащает дух
и придает ему содержание. В каждом предмете есть
затейливая (впрочем, когда как) замочная скважина, а дух не
должен и не может быть универсальной отмычкой. Лишь
во взаимодействии с предметом дух (или, если угодно,
сознание) обретает определенность. Научение уму-разуму
71
и есть то, что происходит при взаимодействии материи
и духа, и вот простой вопрос: кто учитель, а кто ученик?
Мир, в котором существуют предметы и предметность
задана, напоминает книгу, содержащую знания: ее, эту
книгу, можно отодвинуть в сторону, а можно открыть
и прочитать. И то и другое будет своего рода
преодолением книги, ее устранением в качестве препятствия, и
отсюда ясно, каким образом дух может обрести содержание во
взаимодействии с материей. Собственно, это важнейший
вопрос и гегелевской, и марксистской философии. Вот что
пишет Гегель в «Эстетике»:
«Лишенная всякой загадочности ясность адекватно
формирующего себя из себя самого духа, составляющая
цель символического искусства, может быть достигнута
лишь тем, что смысл сначала вступает в сознание сам по
себе, отдельно от всего являющегося мира»*.
То есть смысл уже есть до всякой встречной материи,
притом смысл чистый, носителем которого и является дух.
Но.
«Но если мы желаем, чтобы это внутри себя единое
было поставлено перед созерцанием, то это возможно
лишь благодаря тому, что его в качестве субстанции
понимают и как творческую мощь всех вещей, в которых мы
находим его откровение и явление...»**
То есть решиться на раздвоенность, опознать себя в
раздвоенности и в разделенности и лишь в силу этого обрести
знание. Или, как в данном случае, обрести эстетический
эффект, который тоже связан с опознанием «творческой мощи
всех вещей». Среди прочего это значит также и то, что объ-
* Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 2. С. 72.
** Там же. С. 73.
72
ективации, имеющие характер предметов, обладают
приоритетом по отношению к тому «чистому смыслу», которым
обладает дух и, во всяком случае, субъект. С этим согласна
далеко не всякая философия, но Гегеля вполне достаточно,
учитывая, что перед нами важнейший тезис метафизики:
приоритет того, что приняло форму предмета (и тем более
творческой мощи всех вещей), перед чистой
имманентностью незамутненного никакой предметностью духа.
В марксизме для этого есть термин
«распредмечивание», который и указывает, чем в действительности
должно быть преодоление сопротивления материи воле
революционного класса.
Гегель не раз говорит о достоинстве духа,
определяемом посредством могущества тех сил, которым мы
бросили вызов, - и это справедливо в отношении преодоления
стихий, даже если такой стихией является власть в ее
социальном и экономическом проявлении.
Это что касается достоинства и, так сказать, общего
хюбриса в смысле воли к власти. Но вот оснащенность
духа и его вооруженность определяется полем
распредмечивания, на которое отваживается дух. Там же, в полях
и порядках предметности, хранится и разнообразное
имущество духа, включая и багаж знаний. Сил инерции и
общего противодействия в этих полях тоже предостаточно.
И многое, стало быть, зависит от того, что внесено в
материю и что в ней актуализовано: несколько простых регу-
лярностей или ритмы поинтереснее, сравнимые с «ритмом
понятия», как любил выражаться Гегель. Тем не менее
творческая мощь всех вещей - это тоже материя, и без нее
порывы духа и импульсы желания мало чего стоят.
В том виде, в каком эта проблема стояла и стоит перед
марксизмом, ее можно выразить так. Живой труд, как
73
известно, «угасает в товаре»: он овеществляется,
отчуждается и в результате выступает мерилом и целью всего
производственного процесса.
И вот космологическая антиномия возобновляется на
участке производства как основной сферы человеческой
деятельности.
1) Имеет значение спонтанная активность процесса,
свободный труд, который обесценивается объективация-
ми, и товарный фетишизм есть наиболее острая форма
такой объективации. И задача пролетариата «на этом
участке» состоит в том, чтобы вернуть приоритет живому труду.
2) Лишь определенный труд в рамках собственной при-
знанности придает смысл всему процессу. Обустройство
мира вещей, среды предметности, не может быть удалено
и даже вынесено за скобки без разрушения субъекта и
самого труда.
Исследование данного противоречия может внести
важный вклад в разрешение космологической антиномии:
ведь поначалу можно подумать, что дух обречен на вечное
преодоление сопротивления материи. В производственной
ситуации это может быть какое-нибудь изделие, например
табуретка. Мы вместе пилили, строгали, сколачивали, нам
было весело, мы поделились радостью и печалью и вот,
наконец, представили какие-то табуретки. Табуретка
моего товарища, такого веселого и отзывчивого, оказалась
кривоватой и была забракована. А сам товарищ - уволен.
И как же так? Разве свободный коммунистический труд
не должен отменить этот позорный фетишизм, когда все
определяется объективно необходимыми затратами труда,
а не личными качествами?
Если дух есть деятельная субстанция, то, конечно, все
препятствия, лежащие на его пути, должны быть устране-
74
ны или даже должны вовсе не встретиться, если эта
субстанция пребывает в себе и у себя.
«Истинна лишь единая субстанция, которую
понимают как подлинный смысл всей вселенной и признают
субстанцией лишь тогда, когда ее изымают из ее присутствия
и действительности в смене явлений и возвращают в себя
в качестве чисто внутренней жизни и субстанциальной
силы, придавая ей тем самым самостоятельный характер
по отношению ко всему конечному. Лишь благодаря этому
видению сущности бога - как безусловно духовной и
лишенной образа, как противоположной мирскому и
природному - духовное оказывается полностью вырванным
из мира чувственности и природности и освобожденным
от существования в конечном»*.
Так говорит Гегель, но не следует забывать, что речь
идет лишь об одном аспекте искусства, о возвышенном,
которое стоит особняком в качестве кратковременного
промежуточного или итогового созерцания, в то время как
практика искусства имеет дело с более богатым
содержанием. Что уж говорить о практике самой жизни... Здесь
возвышенное состоит как раз в том, что жизнь порой
полагается на предмет. Дух дышит, где он хочет, но его
содержание доверено предмету или даже предметному миру
в целом, потому что так духу дышится свободнее всего.
Если бы его содержание оставалось неизменным и
носимым с собой, он так и витал бы над водами, одинокий и
неприкаянный.
Стало быть, одно дело, когда Земля безвидна и
пуста, другое - когда материя раскладывается на
предметность. Тогда преодоление препятствий есть обогащение
и изощренность. Говоря о сверхзадаче в духе онтологии
* Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 2. С. 82.
75
пролетариата, можно выразиться и так: должно быть
сломлено тупое упрямство материи - материи
неконтролируемых стихий. Но с некоторыми видами
сопротивления стоит считаться, дорожить ими и их культивировать.
Потому что эти сопротивления одновременно суть
конденсаторы духа, следовательно, универсальная этика
пролетариата может простираться дальше любой, даже самой
радикальной экологии, поскольку априорное «уважение
к организму» дополняется трансцендентальной
благосклонностью к предмету. И эта благосклонность
доходит до того, что оставляет предмету саму его суть: быть
противо-стоящим, оказывать сопротивление.
Сохранить предмету его сопротивление - это то же
самое, что сохранить сам предмет и предметную
раскадровку мира. И такая установка вовсе не является сама
собой разумеющейся. Уке у Хайдеггера, наиболее
чуткого метафизика XX столетия, намечено различие между
Gegenstand (предмет, буквально - «противо-стоящее»)
и Nebenstand («рядом стоящее» - то, что рассматривается
Хайдеггером как «подручное», Zuhanden), и это далеко
идущее различие, имеющее этический и метафизический
характер. Утрата благосклонности к предметному означает
изменение глубинного предпочтения во всеобщей
экологии сущего: выбор в пользу Nebenstand влечет за собой
и экзистенциальные перемены. В отношении к живой
природе это победное шествие «эстетики ми-ми-ми»,
триумф трогательных котиков и щенков. Новую этическую
установку в отношении зверят-зверушек вполне можно
описать как щенячий восторг. Параллельно, на главном,
так сказать, направлении, происходят свои перемены, их
можно охарактеризовать как победу девайсов и гаджетов
над орудиями и инструментами, торжество подручного над
76
предметностью, что совпало с ситуативным поражением
пролетариата в борьбе с «онтологией мещанства».
Уважение к сопротивлению предмета в качестве
важнейшего тезиса онтологии пролетариата с необыкновенной
чуткостью выражено в творчестве Андрея Платонова,
понимавшего не только детали классового самосознания
пролетариата, но и всю картину его классового
самочувствия. В повестях «Джан», «Происхождение мастера»
представлена удивительная по точности картина
погруженности в предметно-инструментальный мир, в единство
борьбы и обучения. Вот паровоз - своенравный и
хищный, но к нему можно и нужно найти подход, его можно
объездить, как строптивого коня, и он будет служить тебе
верой и правдой, поддерживая определенную полноту
человеческого в человеке: это тебе не какой-нибудь гаджет,
лишенный своей воли и тяготеющий к статусу
имплантированного органа. А наряду с паровозом представлен и
дизель, и аккумулятор, и компрессор: ко всякому механизму
нужно приноровиться, но он, если намерения твои
серьезны, а воля длинна, ответит взаимностью. Возможно, ты
будешь подвергнут преображению, ты обретешь
просветление - и всегда сможешь процитировать гордые строки
поэта Николая Рубцова:
Я весь в мазуте, весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте!
И вот рабочие, пролетарии, мастера, какими их
увидел Андрей Платонов, вооружившись своими орудиями,
инструментами, средствами передвижения и
преодоления, сталкиваются с сопротивлением материи. У
каждого свое освоенное орудие-оружие, свои доспехи: кому -
77
таторы, а кому - ляторы, как замечательно выразился
Борис Пильняк. Ну а кому-то компрессоры, молоты,
турбогенераторы - и вечный бой, покой нам только снится...
И все метафоры - трудовой фронт, сводки с полей -
хорошо отражают суть дела: пролетарии в великом походе
преодолевают сопротивление материи.
Однако, что опять же принципиально важно, в разных
направлениях дело обстоит по-разному. Недра облагаются
безжалостной контрибуцией, из них извлекаются
полезные (увы, не для недр) ископаемые, реки преобразуются
в водные ресурсы и так далее, но сами орудия продолжают
сохранять форму предметности. Как быть с усмирением
паровоза, с тем, чтобы пустить его на воздушной подушке,
избавить от машиниста? А компрессор сделать тихим,
неслышным и невидимым, повинующимся дистанционному
пульту?
Это линия хитроумного Одиссея, путь хитрости
разума, и благодаря этой стратегии когда-то одержала победу
восходящая буржуазия. Однако порабощение вещей с
лишением их предметного достоинства оказывается обратной
стороной товарного фетишизма. И хитрый разум
перехитрил сам себя, сослужив службу ленивому разуму и как
бы оказавшись у него на посылках. Всеобщий Пульт стал
действующим устройством для вызывания духов - первой
рабочей версией лампы Аладдина.
Тут же высветилась и опасность того, что плоды
победы достанутся уже не восходящей буржуазии и тем
более не пролетариату, а мировому мещанству,
могильщику всех духовных порывов. Оказалось (как и
следовало ожидать), что ничто так не вредит общему благу, как
бесчисленные и незаслуженные поблажки - и сохранение
достоинства предметности тому, что пронизано и освоено
78
духом в конечном счете в интересах самого духа. Единое
вполне справедливое требование просто видоизменяется
в соответствии с разными адресами. С одной стороны,
это требование сохранения мастерства и искусства в виде
«техне» как неотчуждаемого достояния пролетариата.
С другой - готовность применить и мастерство, и
искусство к объекту желания, к полноценному Другому, то есть
готовность добиваться того, чего хочется (и кого хочется),
а не того, что находится в ближайшем доступе. И в целом
сохранность уважения и вкуса к совокупной мудрости
вещей.
К тому же так пока еще и не выявлена связь между
предметностью (интенциональностью) мышления и тем
уважением к предмету, которое демонстрирует мастер
и культивирует пролетариат: многое заставляет
предполагать, что такая связь существует.
Обратимся, однако, к исходной монаде, к
возобновляемому акту совместного труда, и снова зададимся вопросом:
почему живое общение в процессе обречено не просто
угасать в продукте, но и заведомо стоять ниже этого самого
продукта, быть чем-то подсобным, вспомогательным и
посторонним для итоговой оценки? Не должен ли подлинно
коммунистический труд сместить акценты и сам процесс
труда, как живую жизнь, поставить выше объективации?
Объективация при этом может быть достаточно условной,
и почему-то вспоминается еще советский анекдот про глю-
кало.
Речь идет о несравненном мастере, который лучше
всех делает глюкала. Прослышав об этом, администрация
(неважно чего) обращается к мастеру, который так и
называется - глюкальщик, и просит ознакомить всех
заинтересованных лиц с загадочным изделием, а если можно,
79
то и с процессом его производства. Мастер, имеющий
к тому же репутацию лучшего глюкалъщика, долго
отказывается, но в конце концов поддается на просьбы за
приличное вознаграждение. Глюкалыдик подходит к бассейну
(по другой версии наполняет водой большое корыто) и на
глазах всех собравшихся достает из сумки пустую
консервную банку, после чего, проделав в ней несколько отверстий,
бросает банку в воду - и банка идет ко дну. Но не сразу,
а по мере того, как вода заполняет ее через отверстия, что
сопровождается характерными звуками типа глюк-глюк-
глюк. .. Затем, с торжеством оглядев собравшихся, мастер
спрашивает: ну как вам глюкало? На него смотрят с
уважением: глюкало действительно выше всяких похвал.
Анекдот может служить отличной схемой «триумфа
живого труда», именно такого, где объективации отведена
сугубо служебная и даже условная роль. А для критиков
марксизма может служить и карикатурой на идею
коммунистического труда, где важнее всего человек, его место
в коллективе - и коллектив, занятый совместным трудом
по производству и эксплуатации изделия, именуемого глю-
калом, или иных изделий подобного рода.
Но вопреки этой пародии онтология пролетариата как
раз считает предметность, создание объективации,
важнейшим элементом, без которого труд теряет смысл.
Предмет и нравственность
В персонологическом разрезе, где возможная
отчужденность в объективацию должна вызывать особые
опасения, дело выглядит так. Мы столкнулись с предметом
нашей занятости (заботы) как с чем-то необходимым, но
80
данным извне. Мы должны преодолеть сопротивление,
чтобы удовлетворить потребности - или напрямую (без
труда не вынешь и рыбку из пруда), или путем обмена. Но
разве при этом мы не должны избегать всех расставленных
ловушек отчуждения, разве не должны придерживаться
принципа «богу - богово, кесарю - кесарево»?
Вот мы посвящаем друг другу трудовые усилия,
помогая, поддерживая, подбадривая, минимизируя усталость.
Мы разговариваем, ведем речи, задействуя обширный
репертуар языковых игр: тут и обмен историями, и шутки,
и подначки, порой и заветные мысли - где еще их
выскажешь. А также множество атрибутов контактного
проживания: рукопожатия, похлопывания по плечу -
поддержка, направленная против силы тяжести. Но в изделии труд
овеществляется, в нем не остается ни шуток, ни
поддержки; зато возникают и имеют тенденцию к усилению
посторонние аттракторы и фетиши вроде уменьшения затрат на
единицу продукции. И хочется сказать в духе Аевинаса:
нельзя поддаваться этому фетишизму, ведь от него и
начинается отчуждение человека от собственной сущности.
Вне всякого сомнения такая опасность существует
и реализуется, и общее имя такой реализованной
опасности - капитализм. Но не следует терять из виду и
противоположный полюс опасности - переход к изготовлению
глюкал.
Овеществление труда в предмете, который при этом
выступает как представитель совокупной мудрости вещей,
оказывается сбережением, рискованной формой
инвестиции в присутствие, в самореализацию. Да, омертвление
труда и отчуждение сущности происходит тоже здесь, но
здесь же во всей интенсивности инобытия происходит
сохранение присутствия и его инаугурация.
81
- Я сделал эту вещь и преподношу ее тебе в дар. Я
потратил время в сосредоточенности, удержался от
заманчивой идеи сделать глюкало, от заманчивого общения. Но
я хотел сохранить прочное и упрочить сохраняемое - и вот
эта вещь вместо меня, она подтверждение моих чувств,
обещаний и намерений. Без подтверждения не хватит
прочности у самой любви, и она выветрится.
Из сказанного следует глубокий онтологический вывод
в соответствии с которым дух обязан предъявить вещь
как свидетельство собственной мощи. Да, сквозная
проницаемость мира доступна имманентности духа, если
понимать его как простое темпоральное, поскольку время
вообще разворачивает все происходящее. Но предъявить
вещь - это нечто за пределами простого темпорального.
И притом не всякую и не первую попавшуюся вещь,
поскольку среда вещественности начиная с какого-то
момента предзадана и жестко лимитирует активность субъекта.
Вся суть как раз в том, чтобы предъявить вещь, которая
была бы воплощением духа, и следовательно, дух обрел бы
в ней то, чего недостает ему в собственных соотношениях
и даже в мире подручного, где предмет не дан ему со всей
настоятельностью и необходимостью.
Этот метафизический тезис опирается на вполне
эмпирический аргумент и даже на своеобразный решающий
эксперимент: при всех преференциях, даваемых речи,
живому труду и плотской любви, без предъявления вещи
миссия не будет выполнена. Истинный дар должен содержать
в себе определенную концентрацию труда, усталости,
заботы, риска, - что-нибудь из этого или все вместе.
Если любовь без дружества всего лишь затянувшаяся
конвульсия или серия конвульсий, устремленная к
угасанию, то и труд без объективации, без полномасштабных
82
инвестиций в предмет тоже может быть рассмотрен как
нечто подобное. Возьмем опять принцип коммунизма,
гуманизма или персонализма, в соответствии с которыми
человека следует ставить выше его изделий-объективации.
Вроде бы он не вызывает сомнений и его нарушение лежит
в основе отчуждения: люди, обращенные друг другу лишь
своей товарной стороной - это краткое и ясное
определение общества, где царит отчуждение.
Но, как уже отмечалось, есть важные и далеко идущие
различия между товаром рабочего и опусом художника,
хотя и то и другое суть формы опредмечивания
(овеществления) живого труда. Если художник слышит два
обвинения:
1) человек ты замечательный, но вот твои стихи так
себе, занялся бы лучше чем-нибудь другим;
и
2) у тебя, конечно, изумительные стихотворения, хотя
иногда мне кажется, что ты просто монстр какой-то, - то,
скорее всего, первый вердикт будет куда более обидным,
тогда как второй может стать предметом своеобразной
гордости - если речь идет о настоящем художнике.
И разве это не значит, что великий водораздел проходит
внутри овеществленного? Не между духом и материей,
а между трудом, отчужденном в товаре, с одной стороны
и творчеством, порождающим опус художника, с другой?
То есть важнее всего то, с какого рода овеществлением
мы имеем дело. Стало быть, в оппозиции, установленной
Шеллингом, происходит своя коррекция.
«Продукты, отпавшие от продуктивности, и чистая
продуктивность» - это слишком просто, чтобы быть
первоисточником всех коллизий духа. Главная же творческая
коллизия хронопоэзиса, а стало быть и духа, это коллизия
83
между просто отпавшими от продуктивности,
отработанными, осадочными породами, продолжающими оказывать
сопротивление и даже усиливающими его, и теми
продуктами-объективациями, в которых сама продуктивность,
будь то живой труд или творчество, сохраняется и
покоится, конденсируется и распределяется по интенциональным
коридорам. Речь о различии между глюкалом и
бронзовой чашей - вовсе не случайно Хайдеггер ставит данный
вопрос сразу после своего знаменитого «почему есть
сущее, а не наоборот, ничто?». Одни вещи суть
коллекторы биографического времени, а значит, и духа - так что
внутри у них как бы находится волшебная лампа Алад-
дина, другие же - глюкала. %ел их - осесть на дно,
издавая характерные звуки, ничего более вразумительного
от предметных усилий духа в них не остается.
Обезличенное, овеществленное, действительно оказывается самой
сутью отчуждения, в которое уходит (точнее,
отнимается) жизнь еще прежде, чем она уходит в смерть, - но это
утечки в одном и том же направлении. А совсем рядом
в незначительном параллаксе, присутствует возможность
создать воистину вещь, которая будет воплощением духа
и его украшением - и самым надежным биографическим
коллектором.
Лампа Аладдина
Два следствия вытекают из параллакса между
отчужденным и неотчужденным овеществлением. Лампа
Аладдина - удивительно подходящий образ для
пояснения сути дела. Она символизирует вещь, сделанную
с душой, и потому душа, в данном случае Дух,
оказывается помещенным в эту Вещь. Лампу нужно потереть,
84
Чашу - хорошенько рассмотреть и потрогать, и тогда
Дух вступит с тобой в контакт. Это может быть
заключенный в лампе джинн, конкретно-всеобщее, уловленное
в некой вещице, принадлежащей искусству, монограмма
самой жизни Мастера-создателя, которая тоже
оказывается в распоряжении владельца, если эту вещь
«потереть». С другой стороны, в отчужденной конвейерной
штамповке нет никакого духа.
В любом случае принципиально важна способность
вещи содержать в себе внутреннюю лампу Аладдина или
быть такой лампой. Такая способность радикально меняет
статус объективации и даже вообще статус материи. Ведь
это значит, что результат спонтанной активности чистого
духа нельзя свести только к преодоленным и
непреодоленным следам сопротивления: в мире воистину есть вещи,
воплощенность в которые возвышает дух, наделяет его
настоящей силой и уберегает от рассеяния: таким образом,
перед нами, возможно, решающий аргумент в пользу
материализма. Нечто духовное, необремененное материей
и занятое лишь соотношениями с самим собой совсем не
так величественно, как это может показаться. Семена духа
без плодородной силы земли не дадут всходов и не
приумножатся.
А как прекрасно и точно в этом образе ухвачена
сущность труда: нужно потереть лампу. Задумаемся: ведь
недостаточно заклинания, просто пароля, сезама и даже
простого прикосновения - для извлечения духа требуется
некая полнота телесного, осязаемого контакта.
И труд тогда предстает чем-то большим, нежели
адаптация к духу тяжести, чем вмененность отбываемого
срока грехопадения. Как раз здесь находится абсолютно
оригинальный пункт онтологии пролетариата, так и не
85
постигнутый метафизикой от Лейбница до спекулятивного
реализма. Метафизики, в сущности, сходились в том, что
где духи, там и заклинания. Заклинания, конечно же, могут
осуществляться на языке теоретического разума, ведь это
он со-природен духу и Абсолютному духу. Пролетариат же
в своей онтологии фактически утверждает: в важнейших,
ключевых случаях заклинания не действуют - лампу надо
потереть... Это событие самого бытия, которое не может
быть включено в дискурсивные построения напрямую, но
и интеллектуальные окрестности, пронизанные этой
гравитацией, никем, кроме Маркса, не были замечены - да и до
сих пор вызывают недоумение у многочисленных любителей
мудрости.
Суть недоумения в следующем. Философия так или
иначе устремлена в умопостигаемое и различает в этой
сфере величие Единого, иерархическую лестницу
категорий, захватывающие дух приключения понятия и прочие
духовидческие картинки. А тут, понимаешь ли, капитал
с нормой прибавочной стоимости и «Капитал» с
многостраничными выкладками по поводу формулы Τ - Д - Τ
и Д - Τ - Д, и даже историческая миссия пролетариата,
вроде бы вдохновляющая, но тоже странным образом
выводимая из этой формулы... И причем здесь философия,
где же здесь, в этих изъятиях прибавочного продукта,
метафизическая крутизна?
Теперь есть ответ в той форме, к которой может
прислушаться метафизика: лампу Аладдина надо потереть,
чтобы высвободить заключенный в ней дух, которому
теперь и принадлежит могущество действительности, тогда
как там, на излете, среди тощих абстракций, он и сам
пребывает в состоянии истощенности и бессилия, достаточном
лишь для производства химер и солнечных зайчиков, для
86
интоксикации чистого разума, впрочем успешно
выдающей себя за философию.
Далее. Деятельность по одухотворению материи есть
труд в самом широком и общем смысле, и в одном случае
произведенные вещи содержат внутреннюю лампу Алад-
дина, в другом же - оказываются могильниками живого
труда и стоящего за ним человеческого присутствия. И что
может быть важнее этого различия или даже антагонизма,
из которого вырастает революция и исходят величайшие
силы социальных преобразований? По сравнению с этой
коллизией картинки, традиционно рассматриваемые
дисциплиной чистого разума, суть только игра теней на стенах
платоновской пещеры...
Значит, то, что происходит в ходе овеществления, в
процессе производства вещей-объективаций, есть первичная
экзистенциальная константа, которую Dasein всякий раз
застает на уровне брошенности и забвения бытия. Но эта
константа, несмотря на ее заданность, может и должна
быть изменена - таков кратчайший смысл
революционности марксизма. Важно только не упускать из виду этот
контрапункт всеобщего труда, от которого в разных
направлениях расходятся круги по воде, а также по прочим
стихиям - по земле, конечно же, и даже по стихии тумана,
где она представлена активностью болотных огней,
свечение которых и регистрируют мудрейшие из обитателей
пещеры. «По всей округе разносится пение соловья, но сама
птичка у меня в руках» - словами этой малагасийской
пословицы мог бы сказать о себе настоящий марксист, чем
точно обозначил бы свое онтологическое преимущество
над другими, весьма искренними теоретиками.
Столкнувшись с коллизией труда как универсальным
вызовом, пролетарский авангард должен составить что-то
87
вроде краткого манифеста на кантовский лад: «Что я могу
знать, что я должен делать, на что я могу надеяться?»
В черновом варианте ответы могли бы выглядеть так.
1. Что я могу знать?
То, что факт эксплуатации труда капиталом есть
основополагающий факт истории и современности. Это не
просто частная несправедливость, совершаемая в отношении
меня, но всеобщее противоречие, искажающее историю
и естественный ход вещей. Мой труд отчуждается без
достаточной компенсации - и пусть созерцатели теней с их
извращенной гносеологией достают микроскопы, чтобы
рассмотреть мою проблему, - я-то знаю, что здесь
определяется судьба бытия, ибо этот антагонизм стягивает
графики и расписания в дисциплину времени, загоняя в
отчуждаемую товарную форму творческие порывы - и это
касается сердцевины человеческого в человеке, касается
всех людей. Ежедневное отчуждение проживаемой жизни
посредством ущербного, преступного овеществления, есть
несправедливость того же ранга, что и сама смертность
или порабощение Духом тяжести, эта несправедливость
может и должна быть устранена. Это то, что я могу знать.
И еще. Приложив усилия, я без всякого микроскопа
могу разобраться в том, как душевные порывы
преобразуются в бездушные изделия, могу осуществить тем самым
материалистическое понимание истории и приобрести
выстраданный, ежедневно проверяемый взгляд на основной
вопрос философии.
Соотношение духа и материи по-настоящему может
быть понято именно в производстве вещей, причем во всем
диапазоне, включая сюда производство простейших
изделий, акцентированный процесс труда в рамках
свободной кооперации, например коммунистические субботники
88
и создание произведений искусства. По сравнению с этим
обширным праксисом любая теория будет схематичной -
и тектология Богданова с ее соединением элементов
активности и элементов сопротивления, и гегелевская
диалектика, и даже политэкономия «Капитала».
2. Что я должен делать?
Ну, это совсем просто: встать в ряды атлантов и не
покидать их. Только те, атланты античности, удерживали небо
от падения, а атлантам пролетариата приходится еще
удерживать его от улетания. То есть, с одной стороны, следует
сопротивляться эксплуатации и утилитаризму, фетишизму
производительности труда, а в конечном счете фетишизму
пустых скоростей, совершенно не направленных на то,
чтобы возжечь внутреннюю лампу Аладдина в каждой вещи.
С другой же стороны - отстаивать форму предметности,
важность объективации, чтобы предотвратить изготовление
глюкал и простое отбывание номера на работе.
Для удержания этой дистанции, этой золотой середины
человеческого бытия, недостаточно простого равновесия,
адаптации к естественному ходу вещей - необходим весь
драгоценный многовековой опыт труда с избранными
извлечениями в состав совокупного праксиса. Сюда войдет
и опыт Мастера, изготовителя Чаши (Хайдеггер),
сумевшего поведать и о духе, и о материи, и о себе; и опыт
преодоления сопротивления материи, добытый художниками
Возрождения; и революционный опыт самоорганизации
фабричных рабочих. Все это и многое другое необходимо,
чтобы удерживать золотую середину бытия; тут годится
термин Хайдеггера, используемый, правда, несколько иным
образом: стояние в просвете. И следует иметь в виду, что
это стояние преисполнено бдительности и требует атлетизма
духа.
89
3. На что я могу надеяться?
На то, что будут преодолены фальсификации с одной
стороны и соблазны с другой. Что лампа Аладдина не
будет выдернута из сердцевины вещей. Этого не должно
произойти потому, что не существует других, столь же
аутентичных способов человеческого присутствия и в
действительности нечем заменить посредничество вещей, в
которые встроена эта лампа, то есть вложен нашедший свое
воплощение труд души. Я могу на это надеяться не в силу
абстрактных требований истории или
«научно-технического прогресса», который, похоже, как раз на стороне
ленивого развеществления, а потому, что еще ни одна этика
и ни одна теория вообще не представила такой полноты
человеческого, которая могла бы обойтись без полновесных
объективации, без встроенной лампы Аладдина, которую
нужно все же потереть, затратить некоторое время на
распредмечивание.
Таким мог бы быть черновик манифеста - но затем,
поскольку было бы необходимо углубиться в первый пункт,
непременно встала бы проблема различия между вещью
и художественным творением - не только в хайдеггеров-
ском ключе. Изымаемая норма прибавочной стоимости
сохраняет свою важность, равно как и способ ее изъятия, но
в онтологию пролетариата здесь входят и некоторые
вопросы общей эстетики - впрочем, в самой эстетике
практически не разработанные.
Изделие и произведение, вещь и опус
На чем основана привилегированная роль опуса
(произведения) по сравнению с обычным изделием, с общей
товарной формой? Почему труд живописца относится
90
к иному метафизическому ведомству нежели труд
каретных дел мастера или циркового дрессировщика?
Высокопарный ответ насчет того, что в одном случае речь идет
о подлинном искусстве и его магии, а в другом всего лишь
о чем-то рукотворном, пролетариатом на веру не
принимается.
Например, уже средневековая Япония возводит
чайную церемонию в ранг искусства, и мастера этой
церемонии удостаиваются, в сущности, не меньшей славы, чем
знаменитые актеры и выдающиеся режиссеры в Европе.
В Китае то же самое можно отнести к искусству гадателей,
включая гадателей по панцирю черепахи - это
эстетически-магическое действие, окруженное примерно той же
аурой, что и презентация новой симфонии в Европе...
А вот изделия плотника и токаря не содержат в себе
никакой магии, и уж тем более никакая аура не признается за
трудом фабричных рабочих. Выражаясь языком Маркса,
пролетариат должен констатировать отсутствие
объективных и субъективных условий для возможного возжигания
лампы Аладдина внутри вещей, то есть условий для того,
чтобы объективация не была исключительно практикой
отчуждения, а могла нести в себе следы авторского
одухотворения.
Ведь введение в оборот культурно-исторического
контекста сразу же ставит вопрос об условности и
произвольности сложившегося водораздела между искусством
и ремеслом. И если пролетариат в своей онтологии не
смиряется с сопротивлением материи, поскольку оно
является чистым противодействием слепых стихий (а не формой
предметности, которую материя принимает и удерживает
под воздействием духа), то и социальные установления,
какими бы древними, почитаемыми и «естественными»
91
они ни были, отнюдь не принимаются просто по факту, они
непременно подвергаются ревизии, проходят проверку на
устойчивость устоев. Как уже отмечалось, правозащитная
деятельность с точки зрения революционного
пролетариата подчинена правополагающей деятельности.
Ясно, что и фундаментальное различие между магией
нетленного искусства и «бросовостью» всякого прочего
ремесла, мастерства и вообще труда, отнюдь не принимается
на веру, и, разумеется, профессиональные заклинания
искусствоведов не воспринимаются как железные
аргументы. Интуиция подсказывает пролетариату, что наладчик,
машинист, слесарь имеют право на собственную
авторизацию, на внутреннюю лампу Аладдина. Увы, соцреализм
не смог ни донести, ни даже внятно сформулировать это
требование, если, опять же, не считать «Джан» и
«Происхождение мастера» Андрея Платонова...
Формирование пролетариата как класса можно
описать в терминах мобилизации духа. Дух как разум (raison)
предпринял новый штурм естества, материи как стихии
или буйства стихий. Отметим особо: речь идет о второй
мобилизации. Первая, которая и была содержанием
антропогенеза (или наоборот, антропогенез был ее
содержанием), заключалась в утверждении автономного мира
контр-естественности, мира, который, насколько это было
возможно, был выведен из-под юрисдикции законов
физики и биологии, из-под власти естественного отбора
в частности и прежде всего. Эта мобилизация увенчалась
установлением диктатуры символического, дух отвоевал
территорию, на которой теперь могло осуществляться
бытие вопреки - вопреки всему, что не есть он сам.
Вторая мобилизация, во имя которой и был
сгруппирован пролетариат, опиралась и на другой руководящий
92
принцип, который можно назвать хитростью разума.
Естество теперь подверглось преобразованию путем
перегруппировки вторичных линий активности и
сопротивления, как сказал бы Богданов. Или, используя изящную
формулу Гегеля, «воздействия острым концом хитрости на
тупой конец мощи». Вторая мобилизация тоже прошла
в целом успешно, но ее последствия трудно
охарактеризовать одним предложением: научно-технический прогресс,
торжество ratio, покорение природы, торжество
Просвещения, расцвет капитализма.
Далее. Успех второй мобилизации, второго крестового
похода духа был частичным и породил внутренние
антагонистические противоречия в новой формации. Хитрость
разума оказалась сконденсированной на одном полюсе
и как бы экспроприированной: это предпринимательство
и предприимчивость в той мере, в какой они могут
породить капитал и, в свою очередь, быть им поглощенными.
То есть изобретательность ученых и изобретательность
как родовая классовая черта буржуазии в целом. На
другом же полюсе, там, где пролетариат, оказались
сгруппированными стойкость и сила духа, которые капитал
склонен был расценивать как тупой конец мощи, как материал,
заслуживающий лишь преодоления, укрощения наряду
с прочими стихиями, для чего, соответственно, требуется
систематическое применение хитрости.
В действительности острый конец хитрости был общим
достоянием второй волны мобилизации духа, ибо он, сажем
так, бесполезен без прочной рукоятки и надежного упора.
Но капитал обратил его против труда, против предметно
организованной материи как субстанции труда.
Пролетариат, в свою очередь, столкнулся с задачей
экспроприировать, изъять у буржуазии хитрость разума, выбив ее при
93
этом с командных высот социальности - после чего
запустить третью волну мобилизации духа, поскольку вторая
очевидным образом выдохлась. Необходимо было - и
задача эта по-прежнему актуальна - отстоять свое право на
достойное воплощение присутствия и сам принцип
предметного инобытия как оптимальный способ соприсутствия
духа и материи. Необходимо было защитить вещь и
избавиться от дискриминации самой среды вещественности.
Таким образом, нравственность пролетариата будет
лишь другой стороной его метафизики, то есть
материалистического понимания истории.
И всё же сконцентрируемся теперь на
морально-этических аспектах подлинного, продуманного до конца
материализма. Для обычной плоской этики - будь то прагматизм
Бентама, разумный эгоизм Гельвеция-Чернышевского или
этика в духе Кропоткина - пролетарская мораль
представляется чем-то отрывочным, подчиняющимся
могучим внешним гравитациям вроде классовой солидарности,
исторической своевременности или несомненного
приоритета обогащенной материи над голодным духом. В
пролетарскую этику, которая всегда конкретна, как сама истина,
вполне может входить норма прибавочной стоимости,
причем на тех же правах, что и любая заповедь в евангельском
духе. Поэтому для целого семейства таких герметичных
этик пролетарская этика может предстать (и предстает)
неким образцом безнравственности. Все попытки как-то
«облагородить» этику пролетариата, придать ей вид
юридически не противоречивого документа, бессильны и
нелепы. Например, моральный кодекс строителя коммунизма
был типичным образцом такого рода. Там в двенадцати
положениях излагались правила поведения советского
человека - образцы правильных мнений, а также пра-
94
вильных форм самочувствия. Ну и заклинания в качестве
побуждений для перехода в нужное состояние. Все это не
слишком отличалось от правил поведения для
первоклассников, и «моральный кодекс», можно сказать, внес свой
вклад в смеховую культуру советских людей посредством
многочисленных анекдотов.
«"Все во имя человека, все для блага человека", -
какой точный, справедливый девиз, я даже знаю имя этого
человека», - и следовало имя очередного генсека.
Правда, нельзя не отметить, что этот пресловутый кодекс по
принципам составления чрезвычайно похож на
сегодняшний свод правил политкорректности, который,
однако же, на каждом шагу доказывает свою действенность.
Дело, возможно, в подключенности к репрессивному
аппарату, каковым является собственное сознание, причем
не только индивидуальное сознание, но и вся
атмосфера современного общества, где власть в ее повседневных
проявлениях захвачена юристами («законниками»), хотя
есть основания подозревать, что и этот новейший
гуманистический кодекс ожидает в конечном итоге та же
самая участь.
Так или иначе, если отбросить дешевые агитки вроде
упомянутого морального кодекса, придется признать, что
этики пролетариата в виде некоего пособия не существует.
И все попытки составить текст из смеси общечеловеческой
и классовой морали потерпели фиаско. Классики
марксизма, кстати, и не ставили перед собой такую задачу,
предпочитая для подобных случаев изречение, полюбившееся
еще Гегелю: «Чтобы научиться плавать, надо плавать».
То есть входить в воду и пытаться плыть, из чего, однако,
не следует, что самоучители плавания совсем уж
бесполезны - они просто принципиально неполны.
95
Тут еще нужно иметь в виду, что специфическая
революционная этика, совпадающая с логикой бунта, не совпадает
с этикой пролетариата. Они могут быть ситуативно близки
и почти тождественны, но подобные совпадения носят
краткосрочный, ситуативно-исторический характер. В целом
же этика пролетариата намного шире, поскольку включает
в себя всю полноту истории и даже предвосхищаемое
будущее. Революция время от времени встает на повестку дня,
и тогда от пролетариата, и тем более от его авангардов,
требуется максимальная готовность, но и в таком случае
конкретная ситуация современности всегда обладает приоритетом.
Поэтому революционные воззвания в составе
пролетарского мировоззрения не носят сквозного, универсального
характера. Конечно, Ленин говорил, и не раз: «Сначала
надо ввязаться в серьезный бой, а там уж видно будет... »
Однако концентрация всей энергии в пространстве
политического обессмысливается, если ситуация слишком
затягивается. Можно включить право на бунт в список
основных прав человека, как это делает Бакунин и его
последователи. Неотчуждаемое право на бунт, несомненно,
заставляет сильнее биться сердце, особенно в юной груди,
но и оно, это священное право, как показывает опыт
истории, способно легко превращаться в абстракцию, в бурю
в стакане воды, в сброс пара из котлов.
Со времен Кропоткина анархизм далеко продвинулся
в сфере громокипящих фраз. Вот что, например, пишет
один из современных представителей анархизма Хаким-
бей (П. Уилсон): «Пять лет назад еще можно было
занимать в этом мире третью позицию - ни "за", ни
"против", по чувству или по расчету, область вне дихотомий,
пожалуй даже, укрытие, самоустранение как проявление
воли к власти.
96
Но сейчас есть лишь один мир - торжествующий
"конец Истории", конец той невыносимой боли, что зовется
воображением: на самом же деле - апофеоз
компьютеризованного социального дарвинизма.
<...> Поэтому необходимо выбирать - либо мы
признаем себя "последними из людей", либо мы признаем
себя оппозицией... Все позиции, основанные на отказе,
должны быть пересмотрены с новой точки зрения,
исходя из новых стратегических требований. Можно сказать,
что нас загнали в угол. Идеолог прошлого определил бы
ситуация как в очередной раз "объективно
предреволюционную". Вслед за временной автономной зоной, вслед за
восстанием, снова видна необходимость революции -
виден джихад»*.
Как мог бы заметить российский пролетарий 1917 года:
«Очень р-р-революционная фраза». Но конечно, не более
чем фраза, далекая от этики пролетариата,
осуществляющего настоящие революции и ведущего непримиримую
классовую борьбу. То, что для анархистов типа Хаким-
бея есть этика и экзистенция, для пролетария - повестка
дня, и, перефразируя Христа, пролетарий мог бы сказать:
каждому дню принадлежит его собственная повестка. При
этом революционность класса сомнению не подлежит, ведь
это класс, устремленный в будущее. Другое дело, что
истинное бытие и достойная человеческая жизнь не сводятся
к политической активности, у пролетариата есть и иные
задачи, причем в развертке жизни как целого более важные:
отстоять ценность объективации в свободном труде и
поддерживать обогащенную предметностью материю. Те же,
чья жизнь протекает только в политическом измерении,
* Хаким-бей. Хаос и анархия: Революционная сотериология. М.
Гилея. 2002. С. 19.
97
суть паразиты и маргиналы с точки зрения онтологии
пролетариата.
Потому-то действующую этику пролетариата труднее
всего сформулировать как предложение под ключ. Она
не разворачивается на ровном месте без подключения
к истории, к труду, к рельефу социальной неоднородности.
Если бы «Этика» Маркса была написана, она больше
всего напоминала бы «Этику» Спинозы, то есть
непременно включала бы положения о природе вещей, о сущности
времени, об универсальности метода, но при этом в конце
или в середине каждого раздела оставалось бы место,
называемое «страничкой для заметок», которое требовалось
бы заполнять для авторизации и актуализации по месту
и времени, и без такого заполнения этика была бы недо-
писанной и непригодной для применения, подобно
незаконченному предложению «Я старше, чем...». Этические
предписания сами по себе не могут быть истинными
независимо от истин онтологии, то есть от степени
сопротивления материи, от состояния собранности или разобранности
социального тела, от действующего градуса солидарности;
словом, перед нами активно-реактивная этика,
принципиально не совпадающая с моралью господина, описанной
у Ницше, обладателя длинной, несокрушимой воли, не
признающей извиняющих обстоятельств, но при этом
подслеповатой и частенько принимающей деревянные
мельницы за чудовищ и вообще принимающей одно за другое.
Вот и кантовские моральные императивы с их
знаменитыми формулировками «не смотря на», «не взирая ни на
что» слишком похожи на приготовления к игре вслепую.
В противоположность подобным установкам,
пролетариату, безусловно, свойственна зоркость, она этически
окрашена и определяет важнейшие поступки. Там, где чистый
98
практический разум, согласно Канту, судит и действует,
«не взирая ни на что», там пролетариат обязательно
скажет: это смотря что. Смотря как и кому. Потому что
важно взирать, смотреть и смотреть в корень, проявлять
зоркость и бдительность.
Такая бдительность есть сознательное оформление
классового чутья, и оборотной стороной при этом
является классовая солидарность, которую интересно
сопоставить с этикой воинского братства и боевого товарищества,
воспетого Гоголем устами Тараса Бульбы. Во-первых,
исторически переходящее знамя пролетариата*
позволяет удерживать всякое достояние передовых классов, так
сказать, предшествующих аватар пролетариата - в том
числе и моральное достояние воинского братства
(феодально-рыцарского сословия). Товарищество как
важнейший нравственный принцип извлечено именно оттуда
и усвоено пролетариатом через голову проигнорировавшей
его буржуазии: обращение «товарищ» задает круг своих
и, что важно, круг удивительной широты. Свой, или
товарищ, - это, вообще-то, человек труда, имеющий дело
с предметом и не стремящийся избавиться от
объективации жизни, тем более посредством утяжеления
предметной обремененности для других. В отличие от гегелевского
господина, не желающего и не умеющего углубляться в
материю, и в отличие от «человека схемы», успешного или не
очень в своей охоте за солнечными зайчиками, пролетарий
обращен к конкретности и основательности. А в отличие
от раба, он направляется к труду не внешним
побуждением - он знает, что это такое, на чем и
основывается доверие к товарищу, тоже знающему это. Поэтому его
товарищи, не столько его сограждане, сколько соратники,
* См.: Секацкий А. Миссия пролетариата. СПб., 2015.
99
могут быть бурлаками на Волге, железнодорожными
рабочими в Намибии или плотниками в Кентукки, ведь их
интересы, если копнуть глубже, если преодолеть
искусственную резервацию конкуренции, совпадают - и
такова онтологическая основа пролетарского
интернационализма. У всех рабочих есть своя республика, и она тоже
есть «вещь общая», res publica. Однако если общее поле
других классов выдвинуто исключительно в
политическое пространство, где преобладает проективность и
схематичность, и потому там неизбежно возникает хищный
паразитический слой, то вещь общая для пролетариата
и есть прежде всего сама вещь как объективация труда
и всякой сущностной самореализации. В этой всемирной
республике у пролетариата имеются внешние и
внутренние враги, с одной стороны - неподатливость материи,
с другой - вытеснение предмета как всеобщего из сферы
самореализации, то есть эксплуатация труда с неминуемым
отчуждением его результатов от персонального,
авторизованного бытия. Отстаивание своей республики,
несомненно, образует этическое измерение для пролетариата и его
коллективную экзистенцию - сущностно универсальную,
но являющую себя по-разному в зависимости от
исторического горизонта.
О современной повестке дня
И вне зависимости от всего вышесказанного мы все
равно вправе спросить: чем могла бы быть эта этика
сегодня? Попробуем присмотреться.
Во-первых, сослагательное наклонение «могла бы
быть» тут отнюдь не случайно, поскольку на сегодняшний
день пролетариат расформирован. Его прежняя, истори-
100
чески последняя ипостась (аватара), класс промышленных
рабочих, больше не является революционным классом,
и, в принципе, эта общность распалась как социальное
целое, как класс, что, впрочем, не уменьшает ценности
его исторических и экзистенциальных уроков. Его
наследие важно и для консолидации этики, хотя скорее не под
ключ, а на вырост. И определенные моральные максимы,
опирающиеся на опыт прошлого, могли бы способствовать
формированию нового пролетариата.
В своих изысканиях, и в частности в «Миссии
пролетариата», я высказал предположение, что революционным
классом ближайшего будущего окажется содружество
актуальных художников - я и сейчас думаю, что такое
содружество будет играть в ближайшее время все большую
роль. Но все-таки что-то не сходится, не хватает ресурса
материи, если угодно, исторического материализма,
привязанного к жизненному опыту.
Теперь, однако, просматривается появившаяся
возможность для синтеза нового революционного класса. Правда,
дополнительная трудность тут состоит в реверсии
авангарда и основы. В свое время класс промышленных рабочих
был опознан авангардом в качестве решающего
субъекта истории. Представители ученого сословия, выходцы из
академических кругов, Маркс и другие младогегельянцы,
сделали смелый шаг навстречу, для чего пришлось покинуть
насиженные места. На протяжении почти целого столетия
яркие представители интеллигенции - от Маркса, Прудона,
Бакунина до Георга Аукача и Михаила Лифшица -
решительно шли к рабочим, возобновляя свой выбор на
протяжении всей жизни. Их заслуга в том, что они опознали свой
класс, который, однако, уже был, уже присутствовал на
сцене истории, хотя, безусловно, крайне нуждался в языке
101
для внятного артикулирования классового сознания и
собственной исторической миссии. Сегодня ситуация иная, если
не сказать противоположная. Критически настроенный
авангард уже присутствует, причем куда более
многочисленный, чем прежние интеллектуалы, присягнувшие
коммунизму 100-200 лет назад: это актуальные художники, точно
знающие, что со старым миром им не по пути. В их
распоряжении множество пробных модусов бытия, в том числе
способы сочетания сквозной самореализации с новой
предметностью, как в искусстве свободных стихий.
Однако из-за того, что морально-этические настройки
не выставлены, свободно парящий авангард продолжает
парить, как горьковский буревестник, «то крылом волны
касаясь, то стрелой взмывая к тучам». Пока буря сама по
себе, буревестник сам по себе, сплоченности прежнего
пролетариата не видно и близко, той сплоченности, которая
когда-то позволила взять на себя управление бурей.
«Мечется над морем» - это сегодняшний удел
художественного авангарда, вроде бы и готового бросить вызов
безнадежной цивилизации офисного планктона, но при этом
разобщенного и подкупленного правящим сообществом.
Но - возникли вновь открывшиеся обстоятельства,
политическая и идеологическая экспансия химерной
цивилизации дала серьезный сбой. В связи с этим присмотримся
к морально-этическим установкам пролетариата, сегодня
их историческое многообразие особенно актуально.
Тогда обнаружатся этические универсалии, и мы
выделим две самые явные: это соединенная с решимостью
легкость на подъем и основательность - уважение к тому,
чем занимаются люди, и внимание к тому, чем они
вынуждены заниматься. В этические настройки пролетариата
встроен своеобразный резонатор, реагирующий на мощные
102
поля социальной гравитации, создаваемые, согласно
излюбленному советскому выражению, «трудящимися
массами». Целый ряд понятий социальной физики - «масса»,
«энергия», «сопротивление» - имеет этическую окраску.
Регистрация гравитационных полей сама по себе не
предопределяет оценочного суждения, она именно активирует
внимание. При этом численность занятых каким-либо
трудом не обязательно сопутствует гравитации и, стало
быть, социально-исторической значимости. Примером
такого пустого класса является как раз офисный планктон,
не способный ни отстаивать свои настоящие интересы, ни
даже понять их, так что естественное противостояние
художественного авангарда (арт-пролетариата) и офисного
планктона не доходило до уровня антагонизма.
Ситуация начала меняться в последние несколько
лет, когда о себе заявили - правда, далеко не во весь
голос - новые обездоленные. И оказалось, что это вовсе не
дизайнеры и не «аитишники», и даже не мигранты и не
аутисты, как можно было подумать, нет, те были лишь
назначены на роль обездоленных, чтобы собирать на себя
заботу и обеспокоенность общества. Кстати, нечто подобное
уже было в истории борьбы пролетариата, когда
благородный порыв к восстановлению справедливости
«отводился» к попечению над сирыми и убогими. Что там говорил
Ницше о переориентировщиках рессентимента? Но те,
прежние, были жалкими дилетантами по сравнению с
новейшими представителями социальной инженерии! Но все
же и у этих, новейших, что-то пошло не так.
Бесправные и обездоленные сегодняшнего дня подали
голос, решившись высказать собственное, казалось бы,
абсолютно дискредитированное всеми усилиями
социальной инженерии кредо и проявить собственную волю,
103
хотя бы предпринять такую попытку. Они даже
одержали первую, пока еще скромную и отнюдь не
окончательную, победу, вслед за которой вполне может последовать
и поражение. Однако главное не это, главное - ощутить
почву под ногами, прекратить заимствованное химерное
существование по принципу «под собою не чуя страны»
(О. Мандельштам). Что, собственно, и произошло:
сегодняшние бесправные вышли из тени - как выяснилось, это
как раз те самые, которых Иисус называл «соль земли», их
социальный портрет примерно вырисовывается из тех, кто
голосовал в США за Трампа, но они, разумеется, живут
не только в США. Их обиталище - это обочина жизни,
на которую неожиданно оказалось оттесненным ядро
общества: фермеры, автослесари, строители, учителя (просто
учителя, не элитных школ), многодетные семьи и вообще
семьи, настроенные иметь детей, прихожане церквей,
сохранившие веру хоть с горчичное зерно.
Составляя когда-то - да что-там когда-то, еще совсем
недавно - гражданское общество, они постепенно были
лишены основных человеческих прав, лишены, скажем
так, под благовидным предлогом делегирования их
«знатокам», их передаче «науке», но именно в кавычках:
социальная инженерия воспользовалась выкраденным
авторитетом науки. И вот оказалось, что простое житейское
мнение, если оно не прошло экспертизу социальной
инженерии, ничего не стоит. Фактически речь идет об
экспертизе юристов, так сказать, системообразующего сословия
современной элиты. Не искушенный в юридических
тонкостях гражданин не может, следовательно, сказать
ничего социально значимого, это относится и к совокупности
«юридически некомпетентных» мнений, они в лучшем
случае объявляются популизмом, а то и невежеством, варвар-
104
ством. Ну а тех, кто их разделяет, ждет поражение в
правах. Не менее суровое поражение в правах ожидало (и все
еще ожидает) «доброго самаритянина» и в сфере
воспитания детей: сегодня репрессии в отношении к
родителям-воспитателям стали свершившимся фактом, а изъятие
детей из семьи - своего рода рутиной. И вот
отброшенная на обочину «соль земли» пребывает в растерянности,
а офисный планктон как самый одураченный (в смысле
успешно одураченный) несостоявшийся класс думает, что
так оно и нужно, что психоаналитики, захватившие власть
над колыбелью, наверняка знают, что делают...
Что уж припоминать другие многочисленные
запреты - крепких выражений, эмоциональной
экспрессии, - все они слишком хорошо известны, равно как и их
печальный итог: некогда решающая, «ядерная» часть
гражданского общества оказалась загнанной в
беспросветный комплекс неполноценности как во внутреннее
гетто, в некоторых западных странах в таком гетто оказалось
большинство граждан. Элита при этом вообще перестала
обращать на них внимание (пусть сидят и помалкивают)
и замкнулась на автореференцию, политический класс
Европы и Америки эволюционировал в герметичное взаим-
норукопожатое сообщество, являющееся пределом
мечтаний для офисного планктона.
Казалось бы: всё хорошо, всё схвачено, за нас все
стоящие внимания СМИ, будем же любоваться друг другом,
любоваться тем, какие мы продвинутые, какие у нас
передовые идеалы и прогрессивные ценности... Политический
класс не просто впал в прожектерство, прожектерством
занимается всякая социальная инженерия по
определению - сегодняшний постмодернисткий истеблишмент
уверовал, что его выдрессированная и прирученная паства не
105
посмеет даже огрызнуться и проглотит любое предписание,
которое соизволит выдать штаб социальной инженерии.
Передаваемые из поколения в поколение обстоятельства
слишком человеческого, составлявшие основу и уток
простой человеческой жизни, вдруг словно бы потеряли силу,
как семена теряют всхожесть. Пасторы, кажется, сначала
и не верили, что такое возможно, но оказалось - таки да!
Невольно вспоминается советский анекдот. Дело
происходит на каком-то предприятии, где на каждом собрании
объявляют очередную волю партии, идущую по нарастающей:
- С завтрашнего дня рабочий день увеличивается на
три часа!
- Со следующего месяца отпуска отменяются!
- С Нового года отменяются выходные!
И каждое объявленное решение сопровождается
одобрением аудитории: «Спасибо партии и правительству!»
Наконец, в один прекрасный день объявлена
последняя воля:
- Завтра всем повеситься!
Это известие встречается гробовой тишиной, но через
некоторое время поднимается одинокая рука. Неужели
голос протеста? Но вместо протеста звучит вопрос:
- Скажите, а веревку с собой приносить или от
профсоюза дадут?
Вот такой анекдот - между прочим, отразивший как
раз здоровое сопротивление советского народа всем
мудрым директивам партии и правительства. Увы, с
сегодняшней паствой дело обстоит куда печальнее, у пастырей
же, напротив, дело идет прямо на зависть. Вот, к примеру,
объявляется последнее решение партии и правительства:
- С завтрашнего дня нет у вас больше ни мамы, ни
папы, а есть родитель номер один и родитель номер два!
106
Эта новость последовала за давно уже утвержденными
ограничениями на право воспитывать собственных детей.
И к своему удивлению (а может, уже и без особого
удивления) пастыри не услышали гула протестующих голосов,
народ в основном безмолвствовал и молча переваривал новое
распоряжение. Правда, в частном порядке заправщики на
автоколонках ворчали: «Куда катится мир!» - но кого
могло интересовать их отсталое неграмотное мнение? Ведь те,
кто принял решение, наверняка опирались на науку, а
поддерживающие их юристы наверняка исходят из прав
меньшинств (а это святое!) - так рассуждали и рассуждают
самые продвинутые представители офисного планктона,
досадуя на себя за то, что раньше мысленно не попрощались
с мамой и папой и не догадались, что любить своих детей
больше, чем детей вообще, - позорный пережиток сексизма,
расизма, фаллоцентризма да, кажется, еще и путинизма...
И тем не менее картина общей покорности, как бы
застывшего, зависшего над обществом наваждения все же
изменилась. Сложно сказать, здесь ли поражение в
правах достигло апогея или, скорее, сработала критическая
масса дискриминаций и унижений, но униженные и
оскорбленные (точнее, безгласные и запуганные) вдруг оказали
сопротивление, осмелились бросить вызов, осмелились
подать голос... подать голос не за того, за кого надо! И это
вместо того, чтобы продолжать бороться со своим
остаточным варварством и невежеством.
Прежде всего они, вспомнив, что были когда-то солью
земли, пошли наперекор правящему слою - юристам,
психоаналитикам, обозревателям всех мастей, идентифицировав
наконец их мнение как чужое и, возможно, даже
инопланетное и осмелившись выразить свое собственное, пока лишь
в самой простейшей формулировке электорального выбора.
107
Победу Трампа можно расценивать как восстание
простого народа против обезумевшего политического класса,
после чего бунт перекинулся на Европу и, можно сказать,
охватил всю фаустовскую цивилизацию. Отметим еще
раз, что говорить о победе здравого смысла над
политическим постмодернизмом пока преждевременно: выиграно
лишь первое сражение, да и то только потому, что
противник был застигнут врасплох, ибо самозваные пастыри
совершенно не ожидали восстания паствы. К следующему
раунду они подготовятся получше, и вероятность реванша
весьма высока.
Но для нас сейчас важно другое: сделан первый шаг
к формированию нового пролетариата. Художественный
авангард увидел своего потенциального союзника, вернее
собственное будущее классовое ядро, а истеблишмент,
напрочь оторванный от реальности и состоящий из юристов,
обозревателей, психоаналитиков, активистов и
идеологов секс-меньшинств, возможно, увидел своего будущего
могильщика. Пока, однако, нельзя сказать, что авангард
и ядро опознали друг друга - но они уже присматриваются.
И в этом процессе огромная роль принадлежит обращению
(возвращению) к этике пролетариата. Подытожим
несколько базисных параметров мировоззрения пролетариата,
имеющих этическую окраску.
Краткие принципы с комментариями
1. Уважение к действительности, то есть к обогащенной
материи, в которой дух обретает и образует форму
предметности, - всякий человек труда поймет, о чем тут идет
речь. В «Метафизике» Аристотеля, в книге пятой, где
Аристотель описывает виды причин, он говорит и о труде
108
в любопытном контексте, очень близком к духу
пролетарской этики:
«И кроме того, есть причины по отношению друг
к другу (так, занятие трудом - причина хорошего
самочувствия, а оно - причина занятия трудом, но не в одном
и том же смысле, а одно - как цель, а другое - как начало
движения)»*.
Или чуть по-другому: хорошее самочувствие как
причина труда, а самоуважение как его следствие, и эта
волнообразная константа присуща пролетариату во всех
перипетиях жизни - и на рабочем месте, и на
баррикадах, и на социальных высотах, куда его возносит и где
его поддерживает все та же обогащенная предметностью
материя. Таково динамическое определение блага для
пролетариата, из него возникает и в него прекрасно
вписывается также и цель: преодоление сопротивления
материи. Эта цель ежедневно подкрепляется своеобразным
азартом, возникающим из преодоления сопротивления
очередной стихии и очередного предмета. В
эсхатологическом плане такое стремление к благу означает переход
из состояния «дух дышит, где он хочет» в состояние «дух
дышит, где я хочу».
2. Такая предметность и основательность в качестве
своей обратной стороны имеет глубокое недоверие к
прожектам и прожектерству, к «людям схемы», которым
чужда истинная предметность, к тем, кто не способен
среди вещей распознать Вещь. Актуализация этой
этической установки в чем-то оказывается равносильной
прозрению: художественный авангард получает шанс по-
новому взглянуть на прожектерство как безответственной,
* Аристотель. Сочинения. Т. 1. М., 1976. С. 146.
109
выжившей из ума элиты, так и свое собственное. Это
производство химер теряет скромное обаяние и становится
тем, чем и всегда было, - ничтожеством ничтожников.
Пустые хлопоты, даже успешно вытеснив реальную
заботу и солидарность, остаются при своей вопиющей пустоте.
А восставшие новые бесправные адресуют свой запрос
на речь, на внятный язык арт-пролетариату - а кому же
еще? Ведь не политической же элите, которая этих
бесправных и в грош не ставит, и не офисному планктону, по
отношению к которому та же элита систематически
практикует что-то вроде «растления малолетних», после чего
милостиво принимает в свои ряды наиболее морально
растленных и умственно малолетних...
А вот арт-пролетариат, особенно сегодня, отнюдь не
безнадежен. Ведь и в нем есть некая пролетарская суть,
увиденная еще Новеллой Матвеевой:
...Неизвестные художники Европы
Пишут красками на хмурых мостовых.
Теперь они, граффитисты, уличные музыканты,
признанные и непризнанные актуальные художники, приняв
положения пролетарской этики, начинают осознавать
запрос на перепричинение мира и чувствовать
ответственность за судьбу отнимаемых измерений человеческого
в человеке - права на экспрессию чувств и мнений, право
на причастность к истории и даже на маму и папу. Эти
измерения могут быть возвращены и восстановлены: как тот,
прежний пролетариат, вернул себе средства производства,
право на осмысленный труд, приоритет Вещи над товаром.
Вернул, но не удержал, и теперь новому,
формирующемуся «большому пролетариату», предстоит в борьбе за свои
110
попранные права вернуться к нерешенным задачам своего
славного предшественника.
3. Уважение к большинству. Эту моральную черту,
настоящую примету пролетариата, нужно понимать
правильно. Так же как «Метафизика» получила свое
название потому, что в списке книг Аристотеля следовала за
«Физикой», но в дальнейшем точно отражала суть первой
философии как науки, призванной объяснить устройство
мира и неизбежно имеющей дело с первичными
данными физики, большевизм тоже обрел свое имя благодаря
большинству голосов, полученных радикальной фракцией
РСДРП на втором съезде - но имя стало аутентичным
выражением сути пролетарской партии и мировоззрения
пролетариата как класса.
Пролетарское уважение к большинству не имеет
ничего общего с угодничеством перед власть имущими, что
органически присуще тому же офисному планктону,
которому очень хочется быть прогрессивной общественностью.
Офисный планктон неизменно высказывает свое почтение
доминирующему меньшинству, точнее влиятельным
меньшинствам, признавая тем самым, пусть и не напрямую, что
американский истеблишмент («глубинное государство»)
есть его родитель номер один, а АГБТ-сообщество -
родитель номер два.
Нет ничего более чуждого для пролетариата, чем
такое угодничество. Но большевизм, разумеется, далек и от
причуд анархизма, от зацикливания на цирковых трюках
собственной оригинальности: пролетарской этике
абсолютно чуждо то, что так точно обозначается русским глаголом
«выпендриваться», - уважение к большинству есть
совершенно естественная установка. «Если этих людей так
много, если они делают общее дело и объединены чем-то
111
общим, они, безусловно, вызывают интерес, желание
понять и разобраться, принять во внимание их интересы,
несомненно содержащие некую правду о мире, некое важное
знание о взаимодействии материи и духа», - так думает
настоящий пролетарий. Георг Лукач определял философию
марксизма в целом как социальную онтологию, и она
предполагает установление мощных гравитационных полей,
в природе которых стоит разобраться - потому совсем не
удивительно, что судьба социальных болыиинств
волнует пролетариат гораздо больше, чем судьба сексуальных
меньшинств, тем более в современном мире именно первые
подверглись поражению в правах, тогда как вторые
вознесены на пьедестал моральной безупречности и стоят там (ну
или возлежат в разных позах) как пример для
подражания и эталон для сверки собственных никчемных мнений
с мнениями правильными. Стало быть, влечение авангарда
к социальному ядру объективно в том числе и этически.
Почему же эти социальные группы, традиционно
действительно составлявшие соль земли - фермеры, бакалейщики,
учителя, отставные военные, домохозяйки, - почему же их
мнение стало вдруг юридически ничтожным и пресекаемым
на корню? Само презрение к их взглядам, являющееся по
сути органическим продолжением их повседневной жизни,
не может не насторожить лучших представителей
авангарда: когда-то авторы «Манифеста коммунистической
партии» точно так же отреагировали на камень, отброшенный
строителями, мнимыми хозяевами истории.
4. Готовность самостоятельно разобраться в
важнейших вопросах бытия и иммунитет к
воздействию высокопарных фраз, какими бы они ни были
« ρ-р-революционными», - это постоянная черта
пролетариата, возможно заимствованная у граждан греческих
112
полисов, пожимавших когда-то плечами, слушая речи
софистов. В этом отношении дело и сейчас обстоит так же,
разве что изощренная высокая софистика отброшена за
ненадобностью изощрений в новых условиях, сегодня
представителям правящих классов вполне хватает какой-
нибудь Дженнифер Псаки...
Однако сформировавшийся, осознавший себя
пролетариат с толку не сбить, поскольку за сплетениями истинных
и ложных высказываний они - пролетарии любого
призыва - различают правду жизни и ложь самого бытия. Тут
дело обстоит так же, как и с рекламой, ни на какой
рекламный трюк никогда не среагирует тот, кто знает, что вся
реклама вообще есть ложь, ибо принадлежность к полю
лжи есть ее топологическая характеристика. Готовность
реагировать только на правду жизни и истину бытия
подталкивает к основательности суждений, так сказать, без
сантиментов и высокопарностей, а это значит, что
суждение, за которым стоит социальная гравитация, при всей его
возможной непритязательности и риторической простоте
более весомо, нежели наукообразная сентенция
психоаналитика или учителя жизни из числа обозревателей New
York Times. И, соответственно, ситуация, когда несколько
подобных побрякушек перевешивают на чаше весов
выстраданную жизненную позицию целого класса, - такая
ситуация сама по себе указывает на ложь бытия. Даже
умение укрощать химер делу не поможет, а поскольку
риторика не слишком интересна пролетариату, роль именно
этической оценки возрастает. Справедливость не может
быть восстановлена с помощью заклинаний, так же не
устранить несправедливость с помощью софистических
трюков, «перелгав ее в некую новую форму
справедливости», как сказал бы Ницше.
ИЗ
5. И наконец, решимость, которая столь важна и
притягательна в сочетании с основательностью. Знаменитая
ленинская реплика «Есть такая партия!» отражает
универсальную этическую установку, свойственную пролетариату
во всех его аватарах. Готовность взять на себя
ответственность есть неотъемлемая черта любого восходящего класса
и ее отсутствие лучше всего свидетельствует о деградации
нынешней элиты - сейчас с трудом верится, что еще сорок
лет назад Европой управляли ответственные
руководители. Нынешние больше всего боятся прослыть
автократами и вообще оказаться нерукопожатными: возможно,
этой беспомощностью они, в свою очередь, заразились от
офисного планктона, от прослойки, которая всегда была
паразитической, отодвинутой от бизнес-решений.
Кратчайшее определение офисного планктона известно: это те,
кто не в доле. И какова бы ни была его численность, ни
к чему путному этот несостоявшийся класс не способен.
Авангард же, напротив, включает немало художников,
готовых взяться за роль «председателя Земного шара»,
и, конечно, решимость пролетариата, увиденная воочию,
импонирует ему куда больше, чем инфантилизм и
паразитизм челяди.
Кстати, пролетариат, никогда не боявшийся
ответственности и никогда не терявший воли к
преобразованию, имеет любопытную родословную в этом отношении.
ЭДке приходилось отмечать*, что рабочий класс,
оформившийся в качестве революционного и авангардного
в начале XIX века, смог усвоить лучшие черты прежних
восходящих классов, те черты, которые в свое время
способствовали победе, а затем оказались утрачены своими
носителями, но благодаря пролетариату были сохранены
* См. Секацкий А. Миссия пролетариата. СПб., 2015.
114
в золотом запасе человеческой экзистенции. Тут и святое
товарищество, унаследованное от рыцарства и вообще
воинского братства, и хитрость разума (изобретательность),
отличавшая восходящую буржуазию. Что же касается
решимости, доведенной до уровня пролетарского хюбриса,
то она, судя по всему, унаследована от художников эпохи
Возрождения. Кто как ни Микеланджело и Тициан
восклицали, хотя и на свой лад, но со знакомой решимостью:
«Есть такая партия!» - и выражали готовность взяться за
любой серьезный проект, достойный самореализации.
А поскольку художественной авангард, весь арт-
пролетариат, имеет ту же линию родства, то шансы на
взаимное опознание и последующее взаимное признание
резко повышаются. И когда наконец это произойдет,
новый победоносный класс приступит к осуществлению
своей миссии. И никому мало не покажется.
IV
ЭТИКА ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ
ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Странная недоговоренность,
или Мир, упущенный теологией
Совершенно недостаточное внимание (не говоря уж
об однобокости трактовки) было уделено словам Христа:
«Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Упор
делался (если он вообще делался) на борьбе с
фарисейством и показухой, тем не менее призывы к тайной
благотворительности на протяжении веков были, скажем так, не
самыми громкими, ничего подобного подвигу книгочейства
или подвигу юродства тут не возникло.
Но стоит вдуматься в чувства Сына Божьего по
отношению к тем, кто встречал его с протянутой рукой, по
отношению к выпрашивающим, имя которым - легион.
Они-то, трясущие рубищами и размахивающие своими
немощами, больше всего и требовали чудес, уж они готовы
были дернуть за рукав всякого проходящего, и тем более
Бога, раз уж Он оказался в сфере досягаемости.
Мы знаем, что Иисус творил и эти требуемые публикой
чудеса, но Евангелия ясно сообщают нам, что делал Он это
116
неохотно. И коль скоро им самим обозначен принцип
благодати: не напоказ, сокровенно и тайно, - то следует
предположить, что явные чудеса и, так сказать, оповещенные
благодеяния есть лишь верхушка айсберга. И тем самым
напрашивается целый раздел христианской теологии:
учения о тайных чудесах и благодеяниях Христовых. Именно
среди них по логике вещей и следует искать важнейшее
в Его присутствии.
Постижение тайных благодеяний Спасителя совсем не
обязательно будет нуждаться в спекуляциях с
придыханием, подобных тем, что иногда поставляет апофатическая
теология, но оно требует особой герменевтики и прежде
всего особым образом акцентированного внимания. Вот,
например, призыв, кажущийся противоречащим
выраженной неприязни Иисуса ко всякой публичной
демонстрации «болячек» любого рода, как телесных, так и
душевных. Призыв гласит: «Придите ко мне страждущие».
А правильный метод акцентированного внимания состоит
в том, чтобы усмотреть теневую, всемилостиво взятую на
себя сторону.
Ведь это же ясное указание: избавьте друг друга от
эксгибиционизма, говоря словами Августина, от
расчесывания друг о друга своих душевных болячек и пороков.
С этим - ко мне, призывает Иисус, а значит, к Нему, а не
друг к другу.
Здесь мы имеем дело с обособленной способностью,
которая близка теологии с одной стороны, и
гиперподозрительности - с другой. Близка, и все же не
тождественна ни одной из них. Учение о скрытых благодеяниях Бога
могло бы стать ключом и к поиску его сокрытого имени.
Особым разделом такого учения потенциально является
и учение о разумности всего действительного, поскольку
117
методологический подход в данном случае рассматривает
и ситуацию, в которой все могло быть и хуже...
Христианство по сути своей есть откровение, это вера
детей и стремление к детскости души, что изначально
заложено в самой сути опыта веры. Но именно поэтому
сокровенное, как взятое на себя, как то, от чего мы
избавлены, заслуживает особого внимания. Многие испытания,
искушения, даже сама телесная смертность могут быть
рассмотрены в плане предотвращения большего зла;
соответственно, многое из того, что приписывается дьяволу,
может оказаться субъектообразующеи силой, посильным
испытанием, предотвращающим испытание непосильное
и непосильность вообще.
Так, в симметричной структуре исполнения наших
обетов и воздаяния за них есть не только высокая
требовательность, но и нечто воистину божественное, непостижимое:
помнить все, что тебе обещали и спрашивать за обещанное
тебе. С этим не справится никто из смертных, ни даже все
люди вместе взятые, - таков образец блага, творимого
тайно, так что оно кажется чем-то само собой разумеющимся.
Воздать исполняющему обет - это по-божески, но каково
это - помнить все тебе обещанное (тогда как помнить, что
обещал ты, - по силам человеку), помнить, что деревенский
рыбак в XIII веке обещал тебе воздержаться от
сквернословия? Похоже, что здесь непостижимость зашкаливает...
Для этой, увы, пропущенной теологической
дисциплины, вообще следовало бы составить топографическую
карту или нечто вроде кантовской системы категорий
и предикабилий. Да и в самой метафизике главным
представительством идеи сокрытия важнейших благодеяний
стала бы всеобщая теория предмета, препятствия и
определения (ближе всего к ней подошел Шеллинг).
118
Но конечно, наиболее радикальный смысл
продумывания тайное благодеяние имеет для этики. Например,
прояснение топографии. Если эталоном истины
божественного является сокрытое благо и его поиски носят довольно
вялый характер, то идея сокрытого зла является ведущей
для практического разума вообще: разоблачить коварный
замысел, найти сокрытое зло и вывести его на чистую
воду - разве это не квинтэссенция слишком
человеческого? Самым же непостижимым для практического разума
является следующее: если даже злу стремятся придать
видимость блага, то кем нужно быть, чтобы укрывать от
видимости действительное благо? Ответ очевиден: Богом.
Поправка, вносимая идеей сокрытого благодеяния,
побуждает предпринять необычное исследование и,
возможно, пробудить новый вид исследовательского азарта,
всегда остававшийся глубоко в тени
гиперподозрительности. Тогда уже изрядно наскучившей картине мира,
контролируемого масонством, трансатлантизмом, мировым
правительством, можно будет наконец противопоставить
весьма нетривиальный образ мира, где именно сокрытое
благо, причем как божественного, так и человеческого
происхождения, определяет главные смыслы.
И вот, разоблачив какого-нибудь очередного великого
провокатора, тамплиера, иллюмината и агента Моссада
в одном лице и получив в очередной раз подтверждение
своей необыкновенной проницательности (а звание
«проницательного», кажется, только за это и дается), историк
обратит внимание наконец на не менее загадочную связь
событий. Ну, к примеру, жил-был художник один - ну
или писатель, композитор, микробиолог, не суть важно.
Не понимали его, не желали дать никакой признанности,
пристроить свой творческий продукт достойным образом
119
ему категорически не удавалось. И все же принцип будет
день, будет пища выполнялся в полной мере: вопреки
всем препятствиям мыслитель продолжал мыслить, а
музыкант играть. Почему?
Ну, волею Божьей, это понятно. Однако и
человеческое произволение, если только заподозрить
возможность его наличия, очень даже может отыскаться. Могут
отыскаться не знающие ничего друг о друге члены иного
«мирового правительства», следующие буквально
повелению Иисуса «пусть левая рука твоя не знает, что делает
правая». И раз даже собственная другая рука это не
ведает, зачем же сообщать об этом кому-то еще? Ведь даже
в оповещенных благодеяниях, так сказать, выдвинутых на
соискание признанности, люди все равно склонны
выискивать скрытый мотив, а уж там, где помощь ближнему
или тем более дальнему и не заявляла о себе, там, скорее
всего, будет исполняться песенка о недооцененности и не-
понятости. Ее охотно исполняет и сам «помогаемый», ибо
если он и заподозрит скрытую помощь, то уж точно
отнесет ее к Богу и к собственной богоизбранности.
Но если будет проведено хотя бы одно, а тем более
несколько тщательных расследований, выполненных под
соответствующим углом зрения, ситуация может радикально
измениться. Итак.
Жил-был художник один. Продавать картины ему
как-то не удавалось, хотя несколько все же были куплены
«неустановленными лицами» за приличные суммы. Как-
то решилась проблема с жильем - не роскошные
апартаменты, конечно, но приличная крыша над головой. Была
у художника и мастерская - как-то так вышло. С
карманными деньгами, понятное дело, бывало по-разному... но
жил, творил, генерировал идеи, воплощал их. И вот мы
120
видим, что его вклад остался в истории искусства, работы
художника продолжают нас радовать и для нас что-то
значить. Однако появившиеся последователи, скорее всего,
все равно будут говорить о непризнанности и недооценен-
ности великого мэтра.
Но мы предполагаем, что нашелся некий
биограф-исследователь, который кропотливо сопоставил источники
всех поступлений и внезапных обретений и обнаружил, что
все нити такого рода ведут в одном направлении, и более
того, сходятся в одной точке. То есть обнаружился, был
идентифицирован вполне определенный источник
благодеяний, благодеяний скромных, не афишируемых,
анонимных, но, как ни странно, близких к оптимуму условий
существования для художника по критерию Ницше...
Вместо тайных завистников обнаружился тайный
благодетель - увы, не оставивший своего имени...
Остается немало загадок. Почему тайный благодетель
должен быть не менее изощренным, чем твой тайный
враг, которому ты, быть может, сам того не ведая,
перешел дорогу? И разве это не повод для нового детективного
жанра? Сейчас все знают, какой тонкий расчет требуется,
чтобы пробраться в охраняемые места этого мира и
произвести диверсию, оставшись при этом незамеченным. Но
совершенно не думают о том, какая, возможно, требуется
эквилибристика, чтобы удержать равновесие бытия там,
где оно грозит вот-вот обрушиться, самому оставаясь при
этом незамеченным...
Тайное благодеяние, как и все божественное, нечасто
встречается в этом мире - и все же список нераскрытых
благодеяний, возможно, не меньше, чем перечень не
изобличенных злоумышленников; соответственно, велик и
простор для исследований. Притом, если даже обнаружится,
121
что множество линии везения интересующего нас
художника-творца ведут в одном направлении и в одну точку, имя
находившегося в ней вполне может остаться неизвестным.
Стало быть, поиск скрытого имени Бога дополняется
разведкой силовых линий невидимой топографии, поиском
скрытых точек высшего божественного мимезиса.
Так, поразительным образом в сокрытии пребывает
целый регион сущего, притом важнейшего сущего,
ответственного за производство нового экзистенциального
проекта. Если все же принять во внимание этот
поразительным образом упущенный «стимул», источник
одухотворения, то многое становится на свои места. В частности,
решается проблема недостающей массы, «тесной материи»
социального.
Так, греческая и римская античность до сих пор
являются эталонами публичности. Судебные
разбирательства, решения на агоре, знаменитое соотношение publicum
и atrium образуют удивительную конструкцию
прозрачности общественного блага, ее зримым воплощением
является, например, римское право как шедевр. И вот с
торжеством христианства все это обрушивается в пропасть,
институты справедливости словно бы возвращаются в свое
архаическое состояние. Воспаленная плоть, уязвленная
душа - воистину, на что же ты обрек нас, Господи!
Но разрушение площадки публичного не осталось без
компенсации, добрые семена Сеятеля дали и добрые
всходы, не сразу, но все же... Публичное торжище
благотворительности, конечно же, не могло возместить ни
правосудия, ни тех искусных пропорций, исчисление которых
представлено в «Никомаховой этике»: спасение могло
прийти лишь со стороны праведности и следования
заповедям, в том числе и важнейшей и самой загадочной из
122
них. Подвиг тайного благодеяния должен был
кристаллизоваться своим собственным путем наряду с юродством,
аскезой, книгочейством и даже в противовес такому
признанному подвигу, как служение в миру. ЭДк слишком
тесно это служение было связано с формой публичности, тем
более в протестантизме, где оно приобрело универсальный
характер единственного подвига.
Подлинная ипостась христианской души
разворачивалась преимущественно в частной жизни, в частной,
точечной благотворительности, где оно имело форму
скрытого меценатства. Несмотря на регулярно происходившие
срывы, его истинные масштабы все же заведомо
превышали то, о чем принято думать. И отдельного осмысления
достоин тот факт, что привилегированными адресатами
тайных благодеяний стали именно художники в самом
широком смысле - похоже, что они до сих пор пребывают
в этой роли.
Публичная справедливость как главная добродетель res
publica остается, с одной стороны, высшим и главным
античным наследием, с другой же - своеобразным языческим
анклавом души. Поразительным образом преобразующее
воздействие христианства добралось до самых глубин души
и сознания, именно оно стоит за современными
дисциплинарными науками и современной техникой, оно запустило
историю в ее важнейших измерениях, включая архив,
модернизировало чувственность, породив эротику - и лишь
сфера милосердия осталась под психологической и
моральной юрисдикцией политеизма, ее выродившейся формы ба-
зарно-публичной обрядности, апофеозом которой явились
современные телевизионные ток-шоу.
И все же нельзя сбрасывать со счетов ту утерянную
массу, ту темную, потаенную материю нравственного
123
подражания Христу. Она обусловила сумму
благотворительности, которая в обход и помимо всяких «десятин»
и налоговых отчислений обеспечивала поддержку
странных начинаний, тех занятий, что не от мира сего,
поддержку, позволявшую сохранять моральную чистоплотность
некоторым избранным, избавляя их от соучастия в делах
Царства Кесарева.
ВТОРОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Каким еще может предстать мир, если отталкиваться от
тайных мотивов добра?
Тут должно иметь место нечто противоположное
гиперподозрительности, причем в качестве простой
достоверности. Состояние круговой обороны от мира может
быть акцентированным и неакцентированным - в
последнем случае человек вовсе не думает, что все вокруг
злоумышленники, которые желают только ему навредить, он
допускает, что до него никому нет дела - правда, полагая
все же, что нет дела именно до него (Н. Б. Иванов). То
есть проявление персональной негативности не то чтобы
ожидается, но оно уж точно не удивит. Таков модус бытия
в мире, заброшенности сюда, который прочно
соотносится с обыкновенным человеческим, с das Man.
С негативностью и предчувствием негативности все
в порядке, задача, однако, в том, чтобы отыскать тайную
благорасположенность, притом на уровне достоверности.
Что-то вроде следующего: вот ты идешь, а никто не
наступает тебе на ногу. Не пытается в тебя выстрелить.
Более того, никто специально не разбрасывает на твоем пути
арбузные корки - а ведь могли бы... Остается только
сделать вывод, что люди не Шапокляки.
124
Несколько затейливым, но как раз интересующим нас
является другой вывод: может быть, эта приемлемость
Weltlauf не анонимна. За ней - кто знает? - возможно,
стоят скрытые авторы, которые убирают арбузные корки
с твоего пути и даже способны простирать свою заботу
намного дальше, выбрав себе персону или участок для
возделывания и наслаждаясь именно своей невидимостью -
и, возможно, причастностью к другим, столь же
невидимым. А они, эти другие - естъ\ Такое знание непременно
посещает всякого, кто в собственной мотивации
обнаруживает стремление к обустройству анонимной
приемлемости и даже приветливости мира.
Продолжим, однако, всматриваться в эту заповедь
«твори добро тайно». Мы имеем сложную
топологическую характеристику соответствующих деяний: по одну
сторону - тайное зло, которое всегда в чьих-то интересах.
С ним разбираются свидетели и судьи, борясь за
справедливость. По другую руку - добро, борющееся за признан-
ность, и сама справедливость состоит в том, чтобы награда
нашла героя, чтобы назвать всех причастных к добру по
именам. Обе эти сферы, каждая на свой лад, взыскуют
авторизации. Третья сфера - явное, авторизованное зло,
не столь распространена и обычно предполагает
существование референтной группы с иной системой ценностей,
с другим набором правильных имен. Ницше в «Генеалогии
морали» кратко, но внятно рассмотрел этот вопрос. Как
правило, такая референтная группа предъявляет еще более
повышенные требования к вопросам репутации и чести.
Далее, существует еще сфера неявного, никем
специально не причиненного зла, территория с весьма размытыми
краями, куда входят в том числе всякая моральная
неопрятность и элементарная неспособность поставить себя
125
на место другого. Но также и внедренный до самых глубин
человеческого принцип «чтобы жизнь медом (малиной) не
казалась». Заметим: ничто из перечисленного не может
удивить смертных - так повелось испокон веку.
А вот последнее подразделение, тайное добро,
избегающее не только борьбы за признанность и авторизацию, но
даже простого оповещения, определенное удивление,
безусловно, вызывает как в плане распространенности, так
и вообще в плане достоверности. Следует присмотреться
к этому миру: он в целом, в противовес распущенности,
характеризуется моральной собранностью, правилами
и социальными инстинктами, входящими в состав
самоуважения. В целом эти максимы вытекают из более
традиционного типа этики, вроде этики Господина или
гуманистического морального идеала, и в этом качестве нас сейчас
не интересуют. Нас интересует тайное добро, специально
творимое и как добро и как тайное. Каким же может быть
его спектральный состав?
Идея Всевидящего, которую теперь можно даже
назвать императивом Всевидящего. Если близкие и дальние
не видят моих побуждений и дел, их, несомненно, видит
Всевидящий - и воздает по своему усмотрению. Это
важный мотив, им руководствовались, например,
средневековые мастера, делавшие часы и украшавшие затейливой
резьбой внутренние детали механизма, не
предназначенные для человеческого глаза, но способные, быть может,
порадовать Всевидящего. Вообще всякий перфекционизм
включает в себя этот момент невидимого усилия (и не
только усилия), который «шире» мотива тайного добра, но
тесно с ним связан. Вот знаменитая формула «твои
успехи приходят не в результате твоих усилий, но вследствие
их» - тысячелетние процветание Китая и слава мастеров
126
Поднебесной в значительной мере опирались на эту
экзистенциальную и нравственную установку: какую бы
локальную и повседневную работу ты ни делал, твое усилие
совершенствования, не востребованное в локальном
кругу, не отпечатанное в товарной форме, не оцененное ни
дальними, ни ближними, все же непременно зачтется где-
нибудь, когда-нибудь и как-нибудь.
Конкретизация воздаяния за необязательное усилие
в свою очередь не обязательна. Да, это может быть
оценено Всевышним, но четких указаний на этот счет нет.
Может повлиять на карму, но, конечно, не так, как ритуальная
чистота деяний и жестов. Возможно, что сверхритуальный
избыток - а речь идет именно о нем - и не зачтется.
Вообще, расчет на будущее воздаяние может оказаться некой
странной отговоркой для самого себя, отговоркой того же
рода, что и ворчливый ответ бывалого моряка, морского
волка: «Пиастры!» - так ему проще объяснить эффект
соленых брызг, семь футов под килем, сам зов моря. Как
знать, быть может, он и рад пиастрам не в последнюю
очередь потому, что они избавляют его от необходимости
произносить какие-то сентиментальные, неопределенные
слова - а то ведь пришлось бы...
Так и тайные творители добра прибегают,
возможно, к аргументу: «потом как-нибудь зачтется», чтобы
не заморачиваться самокопанием. Если предположить,
что в бессознательном среди первичных позывов, среди
диких и одичавших мотивов, всякого садо-мазо-нетто-
брутто скрывается и «добро», скажем в ипостаси какой-
нибудь удивительной неспешности, то придется признать,
что и у него есть некие причины скрываться: его
невидимые воздушные замки должны опираться на фундамент,
уходящий в бессознательное. Почему бы не допустить,
127
что ясный свет осознания может быть столь же
разрушительным для некоторых построений добра, как прямой
солнечный свет для классической фотопленки?
ТРЕТЬЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Феноменологическая картина потайного добра
остается все еще достаточно неясной - ни в кантовском смысле
(как она возможна?), ни в смысле характера
причастности к экзистенциальному измерению Dasein. Пока в
многомерной исторической панораме зарегистрированы лишь
очаги, где этические императивы левой руки выходят на
поверхность. Дальнейшее исследование может, конечно,
начинаться с таких очагов, притом что их связь друг с
другом проблематична.
Вот уже упоминавшийся перфекционизм во имя
Всевидящего: этот распространенный средневековый мотив
поведения лавинообразно редуцируется и практически исчезает
начиная с Нового Времени. Соответственно, исчезает и
понимание множества важных событий, исчезает в связи с
выпадением достоверности Erfüllung, отождествляющего вчув-
ствования. Это ведь не только часы или, скажем, ножны,
изготовленные мастером, живущим под оком Всевидящего
Бога. Это аскетические поступки и деяния монашества,
и паломничества, совершаемые вопреки всему, и четкое
различение степеней совершенства. Если представить себе, что
гуманизм преобразил человеческую природу, способствовал
смягчению нравов и задействовал новые измерения рессен-
тимента, то созданная им повседневность имела и обратную
сторону. Кое-какие измерения могли выпасть и выпали,
в связи с чем множество человеческих установлений оказа-
128
лись отложенными, пропущенными и упущенными. И эти
пропущенные миры нелегко заметить человеческому
разуму, но такое все же случается, яркий пример чему «Игра
в бисер» Германа Гессе, где выведена Касталия, провинция
духа, в которой все как раз основывается на скрытом пер-
фекционизме, на отказе декларировать пользоприношение.
Сегодня подавляющее большинство сохранившихся
гражданских институтов изо всех сил подают такую декларацию.
Особняком стоят католические ордена и университеты. Они
сохранились и преуспели (если говорить об университетах),
но в полном соответствии с принципом Декарта: Бог
каждое мгновение сохраняет мир с тем же усилием, с которым
его создал, но сохраняет не таким, каким создал, а таким,
каким сохраняет.
Главные университеты современной Европы уже
существовали в эпоху Средневековья - над странностью
этого обстоятельства почему-то никто не задумался.
Между тем стоит принять во внимание, что не было ни
науки, ни институтов всеобщего образования, ни
«профориентации». В каком-то смысле университеты,
торчащие из ниш Средневековья и используемые до сих пор,
достойны не меньшего удивления, чем какие-нибудь
установки вроде ядерных реакторов, смонтированные
задолго до появления ядерной физики, но тем не менее
для чего-то активно использовавшиеся. Университеты
и ордена, созданные ad majorem Gloria Dei, успешно
инкорпорированы в современный континуум и сами
забыли о том, что их вызвало к жизни; разве что фантомные
смутные ощущения навещают иногда профессоров и
студиозусов, но и они не помогают опознать мотив - тот
же, что и у часового мастера, не жалевшего времени для
украшения скрытых шестеренок.
129
Тот мир был свернут, хотя некоторые его объекты
вошли в новые развернутые измерения и даже
приумножились там, успешно вводя в заблуждение относительно
своей Первопричины. Что не удивительно в связи с полной
утратой воли к потаенному благодеянию. Предложенный
Карлом Поппером термин «открытое общество» -
удачный вне всякого сомнения - должен быть понят во всех
своих аспектах, в том числе в аспекте вытеснения скрытых
параметров за пределы самоотчета, и тем более за пределы
«принятой к открытию» мотивации. Тут можно заметить,
что мотив тайного добра исчез уже давненько, тогда как
выявленные Фрейдом мотивы бессознательного - совсем
недавно. В эпоху торжествующей толерантности и
прозрачности могло случиться и наоборот.
Теперь необходимо прояснить еще один момент. Когда
мы рассматриваем мотивацию и волю тайного благодеяния,
мы не имеем в виду бескорыстное добро как таковое. Тут
необходима небольшая топологическая развертка и
предварительная локация. Если бросить беглый взгляд на
соседние территории, мы наткнемся на изрядную пестроту
имен: публичность, честь, репутация, героизм,
порядочность - все это прекрасные вещи, но все они не о том.
Человек публичный или просто порядочный, дорожащий
своей репутацией, прославленный полководец,
признанный автор, заслуженный ученый - таковы обитатели
соседних миров, которым может быть совершенно неведома
воля к тайному благодеянию. Некоторые из этих миров
выглядят альтернативными, другие, судя по всему,
совместимы с этикой левой руки, но ни один из них сущностно
не совпадает с миром скрытого благодеяния. Всмотримся
в некоторые альтернативы, вполне понятные нам,
поскольку представлены развернутыми пространствами.
130
Мир экономики, товарного производства, основан на
справедливом эквиваленте. Его регуляторы - прибыль,
корысть, польза - отличаются друг от друга лишь силой
заряда и, возможно, чем-то вроде «спина», выбора, в какую
сторону и с какой скоростью крутиться. Универсальными
переносчиками взаимодействия здесь являются деньги,
которые в своем совокупном движении и составляют
материальную и отчасти духовную основу открытого общества
в смысле Поппера - Хайека. Конкуренция, конфликт
интересов выступают как внутренние движущие силы
успешного пользоприношения, а «лень» и «инерция» предстают
как систематические помехи или сопротивление
материала - экономика давно нашла способы справляться с ними
или их обходить. Напротив, эксцессы тайного благодеяния
предстают как непредсказуемые, «несистемные» помехи,
и хотя подобные вкрапления начиная с Нового Времени
незначительны, они всегда являют собой сингулярные
точки, или точки разрыва. Иными словами, они и их мотивы
трансцендентны данному развернутому пространству.
Смежным, симбиотическим миром в рамках открытого
общества является публичная политика, и поскольку
открытость и прозрачность действительно ее
провозглашенные и даже отчасти соблюдаемые добродетели, то перед
нами как раз самая очевидная альтернатива скрытому пер-
фекционизму добра. Ценности публичной политики, все
до единой, для этики левой руки суть простые
обстоятельства мира: птицы чистят перышки, обезьяны занимаются
грумингом, политики открытого общества тоже ищут блох
друг у друга, показывая улов собравшимся (электорату).
И каждый из этих видов деятельности имеет
предсказуемый полезный результат. Этика левой руки принимает его
во внимание и не более того.
131
Далее, по соседству, лежат земли искусства, и здесь
бытие в признанности является принципом и целью,
хотя, быть может, не всегда провозглашаемой в отличие
от пространства публичной политики. Но кто усомнится
в важнейшем тезисе авторствования, сформулированном
Фридрихом Ницше: только не спутайте меня с кем-то
другим! Надо ли говорить, что эта формулировка в
точности противоположна этике тайного благодеяния? Любое
напряжение борьбы за признанность, от простого
акцентирования до воспаленного и маниакального
авторствования, разумеется, не имеет отношения к этике левой руки,
однако воля к авторизации - не единственный источник
бытия искусства, у которого есть и иные источники, равно
как и составные части. Некоторые из них, безусловно,
близки скрытому пефекционизму, «благодеянию
втемную». Это орбитальные силы искусства, которые сами по
себе не могут вывести на орбиту ни одно произведение,
но зато регламентируют их орбитальное пребывание, не
давая, так сказать, упасть в землю забвения. Скрытый,
но неудалимый перфекционизм искусства регулирует
бесшумный ход светил, требуя, однако, хюбриса первой
ступени, отсутствующего у этики левой руки. Путь
художника начинается с воли вырваться из непризнанности, из
безвестности - и таково топливо первой ступени, по
крайней мере его важнейший компонент. Этого совершенно
недостаточно, если потом не раскроются чуткие антенны,
локаторы перфекционизма чистой демиургии, что может
произойти лишь на орбите, там, где тебя слушают иными
ушами и внимают иным вниманием.
Так устроено искусство: на орбитальных высотах
первая ступень может быть отброшена и должна быть
отброшена в обмен на гарантию, что тебя никогда уже не спу-
132
тают с кем-то другим. Там из художника ты становишься
Художником и можешь разговаривать с Богом. Точнее,
Бог может встретить тебя там, но никогда не перенесет на
орбиту на своих ладонях. Иногда его ангелы могут сделать
это посмертно, для пожизненного же вознесения
двигатели первой ступени незаменимы.
Этика левой руки не запускает эти двигатели и потому
не фиксируется в орбитальных пространствах,
представленных для всеобщего обозрения (именно это
происходит в искусстве), и потому действует согласно императиву
скрытого добра.
Из данного сопоставления, между прочим, следует
нетривиальный вывод. Допуская, что этика левой руки
не угасла окончательно даже и сегодня, можно время от
времени обнаруживать скрытые шестеренки судьбы,
украшенные (или отлаженные) чьей-то невидимой рукой. И по
аналогии, ввиду родственности мотива, уместно
предположить, что и орбитальные группировки искусства
(собственно классика) переполнены скрытыми анаграммами
(«виньетками», их можно назвать и так), которые не
влияют на успех, - без них произведение не свалится с
орбиты, но они могут быть считаны искушенными читателями,
зрителями или слушателями. Или уж по крайней мере,
натренированными критиками. А вот тех, кто считывал бы
скрытые анаграммы анонимного добра в действии
шестеренок судьбы, похоже, не существует. Или, скорее всего,
о них ничего не известно.
Так или иначе, провинция искусства наиболее близка
к интересующей нас сфере действия тайного добра, хотя
отсутствие в нашей этике разгонных ступеней и блоков
создает иное измерение присутствия. Большинство
альтернативных миров имеют устойчивую сферу видимости -
133
таковы экономика, политика и вообще всякая борьба за
признанность. Наличие устойчивой видимости могло бы
показаться признаком силы, но другие примеры
опровергают это. Так, антагонистический мир, параллельный
интересующему нас, тоже не имеет стабильной видимости,
хотя по мощности своих гравитационных полей не
уступает всей экономике или даже всей сфере пользоприноше-
ния, взятой в целом.
Это мир не-малины, управляемый принципом
противодействия всякому везению и удаче*.
Во многих случаях данный мотив превышает по силе
даже корыстные побуждения и, кстати, репрессируется
ими, и там, где корыстные побуждения (экономические
стимулы, например) удается ограничить, мир-не-малина
предстает, что называется, во всей красе. Общество
потребления давно уже внедрило в жизнь вышколенный
персонал - приветливый, обхаживающий каждого покупателя
и клиента. Ясно, что это форма служения Золотому тельцу,
и она экономически оправдана - но лишь пока действуют
стимулы царства Мамоны. Те, кто жил в советское время,
прекрасно помнят, как обстояло дело в столовых, в
магазинах, где-нибудь на курортах - да и всюду, где настройки
сберегающей экономики не работали. Среди прочего это
означает, что на смену экономической заинтересованности
отнюдь не придет автоматически дружество и тем более
братство, это опыт СССР показал со всей очевидностью.
В дело тут же вступает ближайший репрессированный
мотив, стремление ставить палки в колеса, хоть как-то
затруднить жизнь покупателю, клиенту, пассажиру... Нет
никаких оснований сомневаться, что и в среде вышко-
* См. А. Секацкий. Чтобы жизнь малиной не казалась //
размышления. СПб., 2014. С. 325-338.
134
ленного современного персонала - хоть в России, хоть
на Западе - мир-не-малина стремительно войдет в свои
права, как только будет упразднено всевластие Мамоны.
Ведь даже и сейчас в уродливой, автоматически
приветливой реакции официантов, продавцов и им подобных
проглядывают гримасы из параллельного мира: «Эх, с каким
удовольствием я бы надел тебе на голову этот торт, вместо
того чтобы в десятый раз описывать его достоинства!» Но
хотя усталость сильнее совести, гравитация экономики,
конечно же, мощнее желания показать этим, что жизнь
не малина... Всевластие денег репрессирует вообще все
миры, куда проникновение денег затруднено, за
исключением публичной политики как средоточия, ибо эта сфера
есть просто зеркальное отображение все той же пульсации
капитала. Если дух святой дышит где хочет, то дух
наживы благодаря мгновенной интоксикации всех вдохнувших
создает атмосферу, в которой больше нечем дышать.
Способы репрессирования альтернативных или просто
неподотчетных духу наживы миров могут быть различны: так,
мир-не-малина лишается своей прямой видимости, хотя
его мотивация (вставлять палки в колеса) остается... Мир
скрыто творимого добра репрессирован куда более
основательно - он лишается достоверности вообще, то есть
отвергается наличие подобного мотива как таковое.
«Кто-то ставит мне палки в колеса» - к такому выводу
может прийти едва ли не каждый.
А вот догадка «кто-то вытаскивает мне палки из
колес» звучит совершенно мистически. Тут уж одно из двух:
либо это мне померещилось, либо это промысел Божий...
Беглая компаративистика, предпринятый обзор
альтернативных и соседних миров требуют указать на
принципиальные отличия так называемого бескорыстного добра
135
от интересующего нас перфекционизма скрытых
благодеяний, регулируемого этикой левой руки. В общем виде
бескорыстное добро, как на это указывает само
определение, исключает лишь корыстное, то есть
номинированное в денежных знаках или выраженное в товарной форме
воздаяние. Что отнюдь не означает уклонения от иного
возможного эквивалента (Бог все видит) и тем более от
авторизации.
Желание и причинение добра своим близким и друзьям
может быть жертвенным, снисходительным,
противоречащим внешней форме выражения. Если во владениях
Мамоны за внешним дружелюбием сплошь и рядом скрывается
желание показать жизнь-не-малину, то в кругу близких за
внешней холодностью и обидой вполне может
скрываться - при этом не слишком прячась - глубинная
доброжелательность и любовь. Но при этом адресность
доброжелательности прописана самым решительным образом, не
оставляющим никаких сомнений. Есть, конечно, элементы
не афишируемые, но никакой тайны за семью печатями
точно нет. Поэтому для приверженцев этики левой руки,
виртуозов тайного благодеяния, нет особой разницы между
посланием, адресованным «всем достойным мира сего»,
и другим, которое адресовано «моим детям и внукам». Если
оба послания подписаны, то с позиций этики левой руки они
являются однопорядковыми и не входят в ее собственную
мотивацию.
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Теперь, присмотревшись к альтернативным и просто
к соседним мирам, отметив несомненную убыль
достоверности, а значит, и отток эманации, следует все же вгля-
136
деться в феномен тайного благодеяния изнутри,
отталкиваясь для начала, быть может, от состояния лишенности
в соответствии с подходом Хайдеггера. Когда забвение
бытия, став ощутимым и видимым, впервые открывает
путь к осознанию самого бытия, которое являет себя
сначала как забытое, затем как восстановленное (конечно,
с пробелами) и, наконец, как само бытие (on to).
Что же мы имеем относительно тайного благодеяния
как феномена? Немногое. Понятие скрытого перфекцио-
низма: без него тайнопись добра невозможно отследить
вообще. Идею всевидящего Бога, который воздает за
тайное, - но это лишь возможный мотив, который может
и отсутствовать, к тому же ситуация довольно
существенно меняется в зависимости от того, оповестит ли
Верховный Судия о награде скрытому перфекционизму или,
в свою очередь, оставит все в тайне, включая даже сам
факт воздаяния. Скорее всего, верно последнее, из чего
следует, что худшее, что могло случиться с мотивацией
тайного благодеяния, уже случилось, и если такая практика
все же сохранилась, то на тех позициях, с которых уже
ничто ее не может выбить. А она сохранилась!
Мы еще имеем опыт пребывания в состояниях
охлажденного авторствования (и даже авторствования
заглушённого), опыт пребывания в невосприимчивости к силовым
полям царства Мамоны (время от времени и ненадолго
такая невосприимчивость все же наступает), в состояниях,
где никакая ложка дегтя не впитывается в чистый мед
жизни. Чаще всего такие состояния описываются в терминах
депрессии и пофигизма из-за невнимания к возможным
мотивам, и тогда побуждение к скрытому благодеянию
может проявиться как не исключенное последнее. Увы,
может и не проявиться, поэтому так важно иметь в виду
137
этот «закон не исключенного последнего», в соответствии
с которым жизнь может быть устроена где-то и когда-то,
например здесь и сейчас.
Итак, учитывая все вышеперечисленное, скрытый
перфекционизм добра предстает как выход в
трансцендентное, но трансцендентное особого рода. Это мягкая
трансценденция, если и требующая превозмогания, то не
того, что обычно превозмогается. Что в других случаях
являет собой трансцендентное измерение и каким оно
предстает? Вот жертвоприношение с его принудительностью,
каждый знает, что оно призывает тебя, поскольку ты
человек - это, можно сказать, образцово-показательное
трансцендентное, к нему нет прямой дороги из недр
слишком человеческого. Вот героическое - и оно трансцедент-
но, хотя оно нередко образует простую связку со слишком
человеческим. Трансцендентно все, относящееся к
сокровенному опыту веры и тезаурусу метафизики. Когда же ты
вышел на тропу скрытого добра, ты, конечно,
обнаруживаешь, что и тропа эта и ее маршрут не от мира сего, ни
на каких дорожных картах ее не найти. Тропа проложена
через все миры человеческого, она удивительно петляет, но
нигде не подходит к парадным входам, к стыкам причин
и следствий, к источникам и составным частям
исторических событий. События эти видны лишь в каком-то едва
узнаваемом ракурсе, а то и вовсе не видны. Но
перемещения по ней, по этой тропинке и осмотр на месте как раз
и создают ощущение мягкого трансцендентного или лучше
сказать, самого легкого трансцендентного, это
чувственно-сверхчувственное состояние, которое как раз и было
утеряно.
Однако не утеряно совсем. И если задержаться на этих
тропинках, кое-что проясняется, и мотив тайного благоде-
138
яния постепенно начинает обретать определенность и
достоверность. Способ пользования тут такой же, как в
китайской пословице: путь в тысячу ли начинается с первого
шага. Для начала забудь о борьбе за признанность, об
эквивалентах, компенсациях и прочих гравитациях Мамоны.
Впрочем, предполагается, что все это ты уже сделал, иначе
и вовсе не увидел бы никакой тропы.
Но теперь действуй. Начинай оказывать помощь тем,
кто просит, но особенно тем, кто не просит, но все же в ней
нуждается. Если это просящие, например просящие
милостыню, старайся, чтобы они не заметили дающего: пусть
и дальше благодарят Бога, а не тебя. Выполняя посильные
просьбы, найди способ убедить благодетельствуемого, что
ты ни при чем: всегда ведь можно сослаться на случай или
на какую-нибудь «организацию». И тогда через некоторое
время ты начнешь испытывать особого рода чувство,
описать его психологический состав не так легко, ибо его редко
доводится испытывать смертным.
Вот поддержанные тобой и, возможно, спасенные - но
они благодарят не тебя. Тут можно вспомнить крошку Ца-
хеса из одноименной новеллы Э. Т. А. Гофмана: Цахесу
с помощью техники миражирования (незаметной подмены)
удавалось отвлечь благодарность на себя, что вызывало
недоумение и досаду у тех, кто действительно совершил
похвальный поступок. В свое время я назвал это
Цахес-эффектом, возможно, он составляет рациональную часть всех
магических техник. Но на пути тайного благодеяния этот
эффект обнаруживается с обратным знаком, и в литературе,
пожалуй, лучшей иллюстрацией для него будет образ слуги
Лео из «Паломничества в страны Востока» Германа Гессе.
Вспомним: никто не придавал значения этому человеку - ну
слуга и слуга, оказывающийся, как подобает хорошему
139
слуге, в нужное время в нужном месте... Лишь с его
исчезновением выяснилось, что на нем-то все и держалось.
Так что соответствующую
чувственно-сверхчувственную настройку нашей этики можно назвать Лео-эффектом
(что гармонирует с акцентированием левой руки). Эта
настройка включается в регуляцию уже на первом этапе пер-
фекционизма добра, но фигуры высшего пилотажа
возникают лишь при переходе от нужд просящих к помощи тем,
кто не просит. Не просит и все-таки нуждается - в
элементах везения, в толике фимиама и даже в том, о чем не
знает сам нуждающийся, но знает благотворитель. Здесь
тайные крупицы добра зачастую оказываются наиболее
эффективны, в частности потому, что не ограничивают
суверенность другого индивида, а напротив, способствуют
обретению внутреннего ощущения суверенности и
уверенности в авторизации мира. Для этики левой руки такое
адресное благодеяние без указания обратного адреса
относится к высшему пилотажу и, конечно, содержит в себе не
только императивы в кантовском смысле, но и
чувственные настройки, недоступные слишком человеческому.
Среди них - резонанс тайного братства или незримого
ордена. Когда ты видишь плоды благосклонного
вмешательства, даже независимо от их масштаба, открывается
и новый взгляд на историю. Многие великие свершения
обретают дополнительную причину, по крайней мере,
в качестве причины возможной. Сдается разглядеть
«недостающую массу», как сейчас принято выражаться,
неучтенную «темную энергию», которая на самом деле
является как раз светлой. Допустим, ты перечисляешь
имена: Гете, Тютчев, Жолио-Кюри (примеры взяты наугад)
и тихо про себя улыбаешься, сознавая, что все это не с тебя
началось, что твой незримый орден насчитывает столетия,
140
и все это время этика незримого сообщества существует.
Более того, несмотря на взаимную непредставленность
друг другу, нравственные правила (или, если угодно,
этические максимы) сформулированы очень четко, намного
четче, чем в разного рода этических компиляциях,
составленных «учителями жизни»: ведь обоснования вытекают
из самого хода событий, они чувственно окрашены,
притом что удовольствие от самообуздания как аскетический
идеал практически не выражено, - тайный перфекцио-
низм добра очень далек от мазохизма. Зато едва ли
найдется где-то еще столь яркое проявление и подтверждение
свободы воли: ведь никто не отправит тебе директиву, не
даст задания и не спросит за провал миссии, как,
впрочем, никто не отметит и проявленного усердия, не
отметит ни персональной благодарностью, ни учетной записью
в анналах истории. Горизонт твоей свободы простирается
куда-то в безоглядную даль. Адресная помощь без
обратного адреса - это глубинная подземная река, она не
впадает ни в Лету, ни в Стикс, хотя и течет где-то в тех же
местах. Течет в противоположную сторону.
Более общим случаем является творимое благо, не
адресованное никому конкретно и осуществляемое до
востребования или, скорее, до обнаружения: чья-нибудь
работа, сделанная за кого-то просто так, предотвращенная
ссора, благодарность ни за что или почти ни за что, знаки
хорошего настроения, щедро разбрасываемые там, куда не
дотянется рука дающего. Но поскольку здесь не имеется
в виду кто-то конкретно, очень часто анонимное добро
принимает форму облагораживания «стыковочных узлов»:
офисов, вокзалов, остановок, пересменок - тех мест, где
обычно накапливается повышенная концентрация
неприятностей, именно здесь расположены главные редуты тех,
141
кто борется за то, чтобы мир малиной не казался. Здесь
же представлена обширная экспозиция пакостей,
совершаемых просто «из любви к искусству», - их прополка
вполне может осуществляться в рамках стратегии тайного
благодеяния.
Но есть и трудность, появившаяся откуда не ждали, по
крайней мере, не ждали те, кто успел застать хоть
краешек советской действительности. Тогда эти места
стыковок готовы были впитать любые проявления простого
доброжелательства, ибо дефицит элементарной терпимости
бросался в глаза каждому и сразу. Тогда лучший
результат посещения всех этих бесчисленных «контор» состоял
в том, что тебе не нахамили. Сейчас этого нет и в помине,
весь спектр мыслимых и немыслимых услуг предлагается
тебе в яркой упаковке: готовы предупредить любое твое
желание, лишь бы заставить тебя раскошелиться. И все
эти предложения, объявления, добрые советы и
проявления заботы наложены на неразборчивый звуковой фон,
похожий на тихое бормотание. Если сделать над собой
усилие или применить какой-нибудь специальный
звуковой фильтр, бормотание можно разложить на
простейшие позывные, передаваемые разными голосами. На все
лады произносится одно и то же заклинание: «Дай бабла,
дай бабла, дай бабла, дай бабла». И таков отголосок всех
без исключения советов и рекомендаций. На постерах, на
бейджиках, на мониторах, мы читаем: «Лучшее
предложение!», «Вы забудете про усталость!», «Только сегодня
и только у нас!» Кругом скидки, бонусы и преференции,
но даже пятилетний современный ребенок понимает: хотят
денег. Все прежние форпосты мира-не-малины захвачены
царством Мамоны, и его центры и закоулки переполнены
поддельной добротой - и поневоле сегодня первой реак-
142
цией на искреннее сочувствие будет вопрос: «Сколько это
стоит?»
Ситуация, конечно, не безнадежна, и для тайного
добра всегда найдутся пути. Но очевидно, что трудности
возросли на порядок. С другой стороны, тем интереснее
становится задача, а проявленные упорство и
изобретательность в конце концов вознаграждаются пониманием,
которое, в свою очередь, становится максимой этой
достойной этики. Проясняется следующее. Общество
потребления стучится во все двери и просачивается во все щели.
Оно окружило оазисы любви и родственности и
проникло в их связующие силы. Оно - или, скорее, он,
Капитал, - сумело подкупить искусство. Всепроникающая сила
денег опровергла знаменитый тезис Талейрана «Бойтесь
первого движения души: оно, как правило, самое
благородное» - теперь этого можно больше не бояться. И
только силы бескорыстного тайного добра могут сокрушить
царство Мамоны - так учит этика левой руки, и этот
чисто декларативный на первый взгляд тезис обретает
достоверность для тех, кто опробовал его на практике. Здесь
затрагивается и особая чувственная струнка, тем самым
подчеркивается, что данная этика не носит
ригористического характера, в отличие от кантовской системы и
протестантской этики в целом. Там чувственная примесь
рассматривается как минус, как вкрапление непростительной
гетерономии: если ты, исполняя свой долг, начинаешь еще
дополнительно жалеть зависящего от тебя, значит, ты еще
не совсем моральный субъект, твои поступки еще зависят
от природы и, стало быть, могут подчиниться ей в ущерб
чистоте категорического императива и самого
практического разума. В этике Канта воздержание от
чувственного сопровождения действительно имеет смысл, поскольку
143
свобода отстаивает себя в непрерывном противодействии
слишком человеческому, его регулярностям, давно уже
закольцованным в человеческую природу. Но этика левой
руки ничего не заимствует из «базисной» чувственности,
среди чувств обычных смертных точно не отыщется тех
завихрений, которые являются чувственными
коррелятами интересующего нас перфекционизма, стало быть,
чувственные составляющие, которые все-таки
отыщутся, точно так же не знакомы слишком человеческому как
и перфекционизм сверхчувственного.
Первая срабатывающая чувственная настройка, как
уже отмечалось, - это схватывание теневой,
альтернативно детерминированной истории, сокрытого мира, который
обустраивали тайные благодетели, не оповещая ни
случайно облагодетельствованных, ни своих избранников,
порой столь же случайных, и позволяя им приписывать свои
успехи кому угодно и чему угодно, поощряя тем самым их
свободу и суверенность. Таков Лео-эффект с точки
зрения обратной связи: мое торжество или просто душевный
подъем обусловлены тем, что силы скрытого добра есть
в человеческом мире, как темная (скрытая) энергия во
Вселенной - я принадлежу к ним, к этим силам и остаюсь
неопознанным, но зато теперь я точно знаю, что я не
одинок. Это чувство чем-то похоже на чувство
физика-первооткрывателя, уяснившего для себя, откуда берется и где
скрывается недостающая масса. Вот и этика левой руки,
безусловно, актуализует подобного рода причастность, но
применительно не к физическому, а к экзистенциальному
измерению. Открыть для себя тайнопись добра - значит
отчасти воспарить над Флатландией*, совершив транс-
* Плоская двумерная страна Энтони Эббота (См. Эббот
Э. Флатландия).
144
цендирование и воспользовавшись его чувственным
обналичиванием.
Второй чувственной стрункой является как раз
уверенность в победе над всепроникающей гравитацией
денежных потоков. Этого не могут сделать, например,
праведники, открыто обращающиеся к миру: они способны создать
лишь заповедную территорию, оазис, который обтекают
гравитационные поля царства Мамоны. Все исходящее
из зоны праведности излучение находится под контролем
и немедленно монетизируется, все, что только может быть
приведено к товарной форме: сувениры, атрибутика, вся
инфраструктура учения, - все к соответствующему
эквиваленту и приводится. Так что и труд наставника по
нестяжательству вполне может быть оплачен - все эти уловки
слишком хорошо знакомы миру смертных. Более того,
нигде императивы Мамоны не действуют с такой
беспощадностью, как вокруг благотворительных фондов, а самые
алчные миссионеры Мамоны проникают в самое сердце.
Ограничимся одним лишь примером, фигурантом которого
является некто Грабовой. Он обратился к матерям Бесла-
на сразу после того, как те получили от государства
компенсацию, обратился с обещанием оживить, вернуть всех
погибших детей посредством, так сказать, специфической
комбинации магии, праведности и науки. Его гонорар как
раз и составлял сумму выданной компенсации. Грабовой
не пропустил никого из пострадавших, со всеми встретился
лично и всех обобрал до нитки. Он украл деньги у матерей
и надругался над их надеждами, однако исключительность
его вовсе не в этом, а в том, что мы знаем его имя. Вокруг
благотворительных фондов и институтов всегда
совершается множество темных дел, однако совершается в
соответствии с обычным порядком вещей: зло анонимно, а добро
145
авторизовано. Миссионеры Мамоны, конечно, к такому
порядку вещей прекрасно приспособились, и в их
распоряжении два варианта: хочешь - используй авторизацию
от имени добра, а хочешь - реализуй свою корысть, свой
интерес, в тайне.
А вот неавторизованное благодеяние от
товарно-денежных отношений ускользает, и виртуозы незримого
добра наносят удары в ахиллесову пяту Мамоны. Ведь
собственная власть Капитала (другое имя Мамоны) уязвима
лишь там, где действуют тайные благотворители, навеки
сокрывшие свой лик. Содержание актов тайного добра
в значительной мере определяется именно топографией
противодействия всевластию Мамоны, всеприсутствию
товарно-денежных отношений. Если верно изречение
Гегеля, что наше достоинство определяется могуществом тех
сил, которым мы бросили вызов, то быть рыцарем
тайного добра - это достоинство высшей пробы. Сражаться
с мельницами действительно потруднее будет, чем с
драконами, если стоит задача отбить их у Мамоны и вырвать из
его лап хотя бы распределение хлеба насущного. Так что
у рыцаря Тайного добра есть шанс победить там, где
потерпел поражение рыцарь Печального образа.
Далее. Из принципа твори добро тайно вовсе не
следует, что и его цели также должны быть анонимными. Да,
входы в приюты, в благотворительные организации, в те
перекрестки мира, которые управляются законами
Мамоны, осуществляются «с заднего крыльца», минуя
разного рода администрацию и не реагируя на позывные (то
есть на заклинания) показного добра, ибо простой опыт
показывает, что это в лучшем случае кимвал бряцающий
и водопад шумящий, а в худшем - реклама Грабовых.
Однако выбор объекта для бескорыстного незримого со-
146
действия есть абсолютно свободный выбор, по сути тот
же, что и в экзистенциализме, только поднятый на один
уровень, вынесенный за горизонт трансцендентного.
Совершая этот выбор, ты, конечно, выбираешь самого себя,
но посредством расширения пространства выбора для
другого, который и обнаруживает там, в развернутом тобою
пространстве, суверенность и свободу - а прежде находил
лишь нужду и необходимость.
Этика левой руки не содержит никаких указаний на
адреса твоих питомцев и избранников, в частности потому,
что она вообще не касается азбучных истин вроде призыва
быть на стороне добра. Ясно, что ты на этой стороне, коль
скоро отказался от дивидендов, конвертируемых в земные
валюты, и не собираешься содействовать ни греху, ни
пошлости. А в остальном - адресная книга раскрыта и
закладок в ней нет. Ты можешь выбрать гонимого,
непризнанного художника или старенькую учительницу, которая
тебя когда-то учила. Или ту, которая учила не тебя. Твоим
избранником может оказаться сосед из дома напротив: ты
здороваешься с ним при встрече и в этом смысле знаешь
его лично. Или знаменитый режиссер, которого ты лично
не знаешь. От твоего выбора зависит, будет ли помощь
разовой, многократной или постоянной - лишь принцип
сохранения ее в тайне действителен во всех случаях.
Может оказаться так, что твой подопечный богаче и
влиятельнее тебя самого - для перфекционизма левой руки
это совсем не преграда, нужный вид помощи все равно
отыщется. Точно так же и человеку, явно не стремящемуся
к добру и даже не имеющему моральных устоев, можно
помочь правильно. Вспомним хотя бы тезис Ницше о том,
что высший вид помощи - это помощь трудностями, и где
добро нужнее, этого не предугадать заранее. Полная
147
свобода выбора для благотворителя в том, выбрать ли
кого-нибудь одного в подопечные или нескольких, в
осуществлении вида помощи и, собственно, во всей
совокупности параметров.
Словом, пути потаенного добра, даже если оно адресно,
воистину неисповедимы, что как раз и является
оптимальным условием для его возрастания и для избегания
ловушек, всевозможных подделок и фальсификаций. Можно
ведь сказать и так: надежнее всего ты избежишь капканов
и засад, если пути твои будут неисповедимы, если левая
рука твоя не ведает, что делает правая. Тем самым
практика тайного благодеяния оборачивается настоящим
приключением добра, остросюжетной повестью или даже
авантюрным романом.
А это, несомненно, аргумент, направленный на то,
чтобы соответствующую этику попробовать хотя бы потому,
что она, несмотря на всю свою иномирность, содержит
имманентное чувственно-сверхчувственное
вознаграждение. Да, этика левой руки отвергает признанность,
причем и со стороны близких (они могут лишь догадываться),
и, разумеется, со стороны дальних, то есть гражданского
общества. Труднее всего не надеяться на признание самых
дальних... Но рассчитывать на то, что твои усилия будут
вознаграждены уважением, прочной репутацией, что они
могут быть как-то капитализированы в этой жизни, не
приходится. Признаем: это препятствие для того, чтобы
данной этикой руководствоваться.
Но зато этика левой руки не требует ежедневного
самопринуждения, которого требует кантовская и другие
ригористические этики. Жизнь по принципам этики левой
руки, в сущности, увлекательна! В нее в некоторой
пропорции входит и «сладость мести», о которой писал Ниц-
148
ше: ведь, как и во всякой борьбе, здесь есть враги, хотя
бы тот же Капитал и его миссионеры - и как же не
порадоваться победе над врагом? Тем более что присущий
нашей этике перфекционизм в качестве победы над врагом
рассматривает лишь такую, которая наносит поражение не
врагу лично (личность по возможности следует щадить),
а тому началу, что делает его врагом. Подобное
практически нереально в битве с открытым забралом, но на тайных
боевых тропах добра такое возможно. Именно это имел
в виду Гегель, когда говорил, что все оружие сущностно
принадлежит добродетели, и если командиры не смеют
«чужие изорвать мундиры о русские штыки», то это
потому, что и «мундиры» в действительности тоже наши.
Но это именно перфекционизм потайного благодеяния,
идеальная точка - тем не менее, помогая в определенном
направлении, избранном и контролируемом тобой, ты
наносишь урон врагу - тому, чье направление могло бы
возобладать. Сам же ты при этом тот, чьи пути
неисповедимы, ни врагу, который тебя не видит, ни твоему ведомому,
думающему, что в основе его побед лежит его собственная
суверенная воля, фарт или даже Тот, чьи пути
неисповедимы по определению, но уж точно не ты. Однако все это
не помешает твоей тихой радости, отчасти обусловленной
самой трансцендентностью занимаемой позиции,
преимуществом видеть, оставаясь невидимым, выше которой
только позиция Перводвигателя - двигать, оставаясь
неподвижным.
Важно и то, что в горизонте твоей видимости не
какие-нибудь тайны бессознательного, а «сад расходящихся
тропок» (Борхес), серебристая паутинка зависимостей,
обусловленностей, причин и следствий. То, что для других
мистика или фикция, - для тебя простая зримость.
149
Отнюдь не бесполезно сравнение этики левой руки
с этикой психоанализа. Ведь перед аналитиком тоже
открывается панорама, не видимая другим, и психоаналитик
может помочь пациенту именно конфиденциально, без
публичного установления справедливости, без Страшного
суда и тем не менее во благо, поскольку речь идет об
избавлении от страданий, причем страданий неспасаемых, не
учитываемых в битве праведности и греха.
В этом есть момент общности; второй же требующий
сопоставления момент состоит в том, что открывается
панорама незримых влияний и детерминаций, не
совпадающая с пространством публичности ни в каком ракурсе: ни
с топографией Царства Кесарева, ни с кровеносной
системой товарно-денежных потоков.
В остальном - отличия, экспликация которых
проясняет суть скрытого, потайного добра. Так, в психоанализе
признания пациента должны, конечно, оставаться в тайне,
но фигура психоаналитика не просто известна, он
выступает в максимальной персональности и адресности. В этом
суть успеха и такие важнейшие моменты анализа как
перенос, признание другому в том, в чем ты не готов
признаться самому себе.
И сад расходящихся тропок, доступный взору тайного
добра, конечно, совсем не тот, что сад тайных тропинок,
идущих от первичных травм и фиксаций: тайное добро не
регистрирует враждебное бессознательное, можно
сказать, что они взаимно не видят друг друга.
Что же происходит, когда ведомый сталкивается с
паутинкой незримого причинения, не видя при этом ни ее
истока, ни принципа действия? Конечно, существует
формация всемирного жлобства, представители которой
вообще не видят ничего, что «мимо кассы», все остальное
150
для них - это слова, слова, слова... И одни слова не лучше
и не хуже других, если за ними нет товарно-денежного
эквивалента.
Однако множество неэквивалентных расширений дают
о себе знать за пределами сберегающей экономики и
кровеносной системы Капитала. Можно сказать, что имена
этих расширений - вера, надежда, любовь, и они, увы,
оттеснены к самому краю царства Мамоны или
подвергнуты массированной фальсификации. Таковой являются
уже установления простой симметричности «ты - мне,
я - тебе»: в соответствии с внедренным принципом
эквивалентности справедливость состоит в том, что мои
затраты должны окупиться - любимая непременно
откликнется на мои чувства, Бог воздаст за мои страдания, а друг
на добро ответит добром (тут подразумевается: а иначе
стал бы я делать ему добро!). Сами используемые
глаголы - «отплатить», «возместить», «воздать» -
свидетельствуют о глубокой сущностной интоксикации этих
проявлений души, об их подчиненности Духу тяжести и кругу
слишком человеческого.
В качестве расширений, выходящих за пределы
царства Мамоны, регистрируются, кстати, и силовые поля
бескорыстного зла, которые даны и воспринимаемы
преимущественно через подозрительность и
гиперподозрительность и резюмируются тезисом, приписываемым
Расселу: «Больше всего я ненавижу всех». Увы, на незримых
помощников подозрение не распространяется, избыток
удачи, явно выходящий за пределы ratio, приписывается
Богу, собственной суверенной воле и самой удачливости...
Еще раз следует подчеркнуть важное следствие тайного
добра, даже если область его охвата и является
незначительной: подсознание, включая и бессознательное в целом,
151
становится более дружелюбным, что можно расценить как
создание благоприятных условий для полноты личностного
присутствия.
ПЯТОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
А что можно сказать о стилях и нюансах незримого
благодеяния? Полной картины мы здесь не будем иметь
никогда по определению, Но, как принято говорить,
проблема недостающей массы может быть теперь поставлена
как фактор исторического расследования.
В конце 90-х несколько Петербургских писателей
создали движение «Петербургские фундаменталисты». Это
движение имело свою публичную часть, его участники
призывали к восстановлению государственного
суверенитета нашей страны, к возобновлению исторической
миссии России. Но была и сокрытая часть, которую
участники движения про себя именовали «Незримой империей».
Суть ее была проста: поскольку нас никто не спросил
относительно судьбы страны, в которой мы родились, и мы
не давали своего согласия на роспуск государства, было
решено жить так, как если бы наша страна продолжала
существовать. И оставаться в нерушимости своих границ.
То есть, очевидно, был задействован кантовский
категорический императив: живи по законам, которые ты
считаешь справедливыми, живи, als ob (как если бы) максима
твоей воли и была бы всеобщим законом. Пятеро человек
выбрали такой путь, оставшись гражданами невидимого
града Китежа, гражданами великой империи,
погружающейся в воды забвения.
Такой путь не допускал никакой назойливости, ведь
вполне могло статься, что в империи живешь лишь ты и не-
152
сколько твоих товарищей - зато в таких условиях
действительно становились видимыми непотопляемые имперские
настройки, места, где жители града Китежа выходят на
поверхность. Это пласты исторической солидарности,
касающиеся не только великих побед, но и катастрофических
поражений, и они обнаруживаются повсюду. То в
рассказе старенькой блокадницы о том, как повсюду валялись
немецкие листовки с предложениями о сдаче города - их
даже собирали, поскольку использовали для растопки. То
в беседе в горной Ингушетии, где сохранили память о
пещере генерала Ермолова. То в том, как вдруг преобразует
человека чувство причастности, как вдруг поднимаются
в его душе незатейливые, но потрясающе точные слова «за
державу обидно» - и вот перед тобой уже другой человек,
вправду внук партизана и праправнук ермоловского
гренадера. Иногда всего-то и нужно, что внимательно
выслушать...
Наличие имперских настроек у народа России и даже
у ее народов обнаруживается практически сразу же, если
проявить соответствующее внимание - настройки эти
можно назвать элементами имперского самочувствия. Они
дают о себе знать буквально на каждом шагу, несмотря на
невероятные усилия по их вытаптыванию и
вытравливанию. Но если бережно сохранять эти ростки, как бы
разворачивая их навстречу друг другу, ничего не афишируя,
можно достигнуть немалого - несколько лет работы
убедили нас в этом. А также и в том, что империя, если для
нее имеются настройки и резонаторы (в случае России это
простая очевидность), действительно есть произведение
духа, и никакие взятые с потолка системы ценностей тут
не могут идти в сравнение. Участники многолетней
духовной практики «Незримая империя», не вдаваясь в детали,
153
пришли к единодушному выводу, что ничто так
благотворно не воздействует на соотечественников, как сочетание
простой порядочности и имперской зачарованности - но
это отдельная история.
В заключение следует сказать, что этика тайного
добра, несомненно включающая в себя множество стилей
и направлений, характеризуется по крайней мере двумя
важными моментами. Во-первых, несомненной
эффективностью, если удастся продержаться какое-то время в ее
рамках. И во-вторых - компенсацией в виде обретения
нового взгляда на мир. Мир стоит того, чтобы увидеть его
в этом ракурсе.
А еще одно обоснование этики левой руки пришло
неожиданно - со стороны теории суперструн. Согласно
различным версиям этой теории наш мир действительно
многомерен (одиннадцать измерений в соответствии с
наиболее распространенной позицией). Но развернуты лишь
три пространственных измерения, собственно и
обеспечивающие весь привычный объем объектам, событиям и их
связям. Все остальные измерения «свернуты в масштабах
планковской длины» - то есть вообще не содержат
гладкого пространства, пригодного для локализации
чего-либо: можно сказать, что эти резервные ниши не в состоянии
вместить никакой материальной единицы и содержат лишь
крошечные обломки или, может быть, заготовки сущего.
Их дальнейшая судьба неизвестна.
Мир сознания, в известном смысле альтернативный
природе-фюзису, имеет свои развернутые измерения,
собственные приватные территории и, наконец, собственные
аналоги свернутых измерений. Их в дополнение к Лео-
эффекту можно назвать Лео-пространствами. Через них
не проходит ни один известный (по крайней мере ни один
154
признанный) тип причинных связей, случающиеся в них
события социально невидимы, но некоторые исторически
значимые и признанные события имеют в Лео
-пространствах свою невидимую часть (ну хотя бы пресловутую
«недостающую массу»), без учета которой они неизбежно
остаются искаженными - что признают и самые
дотошные историки. До сколько-нибудь внятной классификации
Лео-пространств в развернутой вселенной
разума-сознания пока еще далеко - но сфера сокрытого добра вне
всякого сомнения именно сюда и относится.
Так вот. У этики левой руки есть свой символ веры,
и он гласит: когда открытые, развернутые горизонты
человеческого истощатся, переполнятся, скажем так, отходами
деятельности и утратят способность к дальнейшему
производству мыслей и событий, тогда и наступит Страшный
суд.
Но этот суд адепты скрытого добра понимают
совершенно по-своему. Посредством процедуры Страшного
суда отработанные измерения схлопнутся и распахнутся
свернутые измерения. Проходящие через них нити
скрытого причинения высветятся, и тогда уцелеют лишь те
события, которые ими соединены. Только то, что поддержано
рыцарями скрытого добра, сохранится. И в соответствии
с высветившимися связями Господь и будет пересотворять
спасенный мир.
ν
О ПРАВАХ БЛИЗКИХ
* * *
Этот текст скорее о необходимости и предчувствии
этики ближнего круга, чем о ней самой. Она же сама, эта
этика родства и близости, предстает, если вдуматься,
невероятным образом: как лакуна и неизведанная земля.
В самом деле, руководствуясь простой топографией
присутствия или топологией вхождений, можно выделить три
типа личностных вхождений:
1. Отношения с самим собой.
2. Отношения с близкими.
3. Отношения с Другим, с другими и вообще с людьми.
Для первого типа трудно ожидать специальной этики,
ведь «я сам» должно быть чем-то предельно достоверным
и, в сущности, естественным, а значит, максимы,
императивы и какой-то особо выстроенный подход здесь вроде
бы и не нужны. Между тем начиная с сократовской идеи
добродетели, в соответствии с которой «с хорошим
человеком ничего плохого не может случиться», и греческой
эпимелеи в целом и вплоть до теорий разумного эгоизма
Гельвеция - Чернышевского мы имеем дело как раз с
достаточно хорошо продуманными и обоснованными этиче-
156
скими кодексами самопрезентации. Но быть может, еще
важнее то, что в большинстве этических систем от
конфуцианства до христианской этики автореференция
выполняет роль эталона. И если тебе предписывается
возлюбить ближнего, «как самого себя», обычно не возникает
уточняющего вопроса «А как это?» - хотя, может быть,
и напрасно не возникает.
Третий тип отношений представляет собой основное
содержание практически любой этики от «Законов Ману»
до всеобщей декларации прав человека. Можно, пожалуй,
сказать, что этические разъяснения третьего типа
отношений по своей доскональности не уступают юридическим.
А вот отношения внутри ближнего круга, по сути,
этически не эксплицированы. Есть, скажем, представления
о дружбе, в том числе о настоящей дружбе, которая
зависит от природы человека, от благородства его натуры
и, в принципе, регламентации не подлежит. Как и любовь:
когда она есть, она не нуждается в регламентациях, когда
исчезает - регламентации бесполезны. Дружба, как и
любовь, есть дар, и чем меньше в ней формальностей, тем
в большей степени она есть то, что она есть. Не слишком
поддаются регламентации и отношения родства с точки
зрения их экзистенциально-психологического
содержания, поэтому здесь либо действует ритуальная
упорядоченность, либо царит неразбериха.
Причем пространство этой неразберихи измеряется
колебаниями огромной амплитуды. С одной стороны, это
устремленность к родному и близкому человеку, его
безусловная, естественная преференция в общении, с
другой - бесчисленное количество двусмысленных пословиц
по этому поводу: «Вместе маются друг с другом, а в
разлуке плачут», «Чужие здесь не гадят» и так далее.
157
Тем не менее альтернатива в качестве традиционной
ритуализации недостаточна (сужает экзистенциальное
измерение человека), да сегодня, пожалуй, и невозможна.
По той же причине нежелательна тотальная правовая
регуляция внутри круга родных и близких, хотя назвать ее
невозможной нельзя, современное гражданское общество
Запада именно в этом направлении и движется. Стало
быть, вопрос об этике ближнего круга в высшей степени
актуален: слишком уж опустошительны последствия
царящей неразберихи.
* * *
Нужна некая конвенция о правах близких. Разумеется,
не та, которая устанавливается в правовом поле, а такая,
которая имеет характер этической максимы. Она должна
быть опробована в проживании, чем обычно и занимаются
экзистенциальные авангарды. В нашем случае те, кто
решился опробовать особые этические настройки для круга
близких, в полной мере получают право называться
экзистенциальным авангардом, а раз так, они отнюдь не
обречены на успех...
Тем более что в силу разрушенности традиционных
регуляторов с одной стороны и отсутствия этических
экспликаций с другой, мы видим, как сжимается достоверность
отношений близкого круга. Дискредитация
близкородственных отношений является важным моментом
всеобщего содержания эпохи модерна и особенно постмодерна.
В сфере экзистенциального самоопределения абсолютным
приоритетом пользуются права человека как права другого
и других, права атомарных индивидов, образующих
симметричное поле без различия: там никто не хуже другого
158
и никто не ближе (и не дальше) другого. Права первых
встречных важны все без различия: такова, собственно,
и есть формула безразличия. И моральный, нравственный
субъект сегодня - это тот, кто строго соблюдает права без
различия: близкие для него суть просто люди, и этим
гордится сегодня нравственный субъект. Апофеозом такого
рода экспансии абстрактных принципов в сферу ближних
является недавно выдвинутая максима: «Постыдно и
недопустимо любить своих детей больше, чем вообще
детей. Все дети достойны равной любви». Это когда-то все
начиналось с критики родственных предпочтений, теперь
же вопрос стоит именно так: чем больше различий
высказываешь ты между «близкими» и «просто людьми»,
тем дальше ты от стандартов нравственности и
порядочности - такая максима изо всех сил внедряется сегодня.
Нравится нам этот или нет, нельзя не признать, что
внедрение идет успешно и с каждой микроэпохой европейское
(и особенно американское) прогрессивное человечество
все ближе к идеальному абстрактному правовому полю,
и непрерывно скудеет моральный и экзистенциальный
ресурс для отстаивания неустранимых привилегий круга
родных и близких.
В итоге мы уже видим настоящие руины на месте
прежней крепости, если иметь в виду столь любимую когда-то
англичанами и американцами пословицу «Мой дом - моя
крепость». Право воспитывать детей все больше
изымается из семейного круга (иногда вместе с самими детьми),
оно теперь регулируется всемогущей ювенальной
юстицией, созданной на паях юристами и психоаналитиками.
Разумеется, детей нужно дистанцировать от круга ближних
(для чего? ну конечно, чтобы избежать их травматиза-
ции), и зеркальный ответ мы видим на противоположном
159
полюсе: немощные родители точно так же «изымаются»
(детьми, возвращающими долг) и отправляются в дома
престарелых. Данное пристанище можно будет назвать
даже храмом милосердия, когда торжество прав человека
будет полным.
Это, конечно, можно объяснить в духе хайдеггеров-
ской метафизики как проявление нарастающей бого-
оставленности и убыли сущности из мира, есть, однако,
и более конкретная причина, одна из важнейших с точки
зрения разрушения глубинных бастионов человеческого
в человеке - и это как раз отсутствие этических правил
внутри той неразберихи, каковой сегодня действительно
являются отношения между близкими и самыми
близкими. А свято место пусто не бывает, и в ближайший
круг стремительно проникают многостраничные
брачные контракты, на подходе нотариально заверенные
«договоры о дружбе» или какие-нибудь «кодексы
братских отношений», в соответствии с которыми младший
брат, например, будет иметь право обратиться в суд,
пожаловаться на неуважительное, слишком
снисходительное отношение к себе - и ответчик в судебном порядке
может быть лишен статуса старшего брата... Все во имя
справедливости.
И это правовое безумие (юршиза) сегодня на марше,
а значит, при всей опасности формализмов для
близкородственных отношений единственным способом удержать
человеческую аутентичность будет попытка создания
соответствующего нравственного кодекса - кодекса,
оговаривающего права близких. А для начала, конечно, должен
быть поставлен следующий вопрос: во всеобщей хартии
прав человека есть место такому разделу, как права близ-
ких? Допустим, значительная часть прогрессивно мысля-
160
щих граждан ответит нет. Некоторые из них, возможно,
добавят: проблема как раз в том, чтобы очистить от этих
мутных примесей общегражданские нравственные нормы,
выкорчевать корни коррупции, непотизма и так далее -
соответствующая риторика хорошо известна. Между тем
в правовых нормах близкородственные отношения так или
иначе оговорены: тут и порядок наследования, знаменитая
норма о том, что муж не может свидетельствовать против
жены и наоборот (по мне, так эта норма вызывает даже
некоторые симпатии к правовому полю), право на
переписку с осужденными, где близкие родственники имеют
привилегии, и еще множество самых разных вкраплений.
В целом они отражают реальность простой человеческой
жизни - не всегда, правда, реальность, соответствующую
текущему моменту.
И тем не менее остается фактом то, что особая этика
ближнего круга отсутствует. Дать описание
образцового гражданина куда проще, чем «образцового
ближнего», - и это несмотря на такие важнейшие человеческие
определения, как «настоящий друг», «заботливый муж»,
«любящая дочь» (кстати, при этом вполне можно быть
никудышним племянником или племянницей):
получается, что и нет в действительности образцового близкого...
Но разве самоопределние человека не должно включать
прежде всего несколько важнейших позиций, без которых
мерность человеческого просто не задана:
1) Я сам себе хитрый, я не ваш, ничей, свой
собственный.
2) Я друг своих друзей и родной своих родных
3) Я чужой для чужих.
И вновь отметим: почти вся этика направлена на
регуляцию третьей позиции, а отсылки к первой и второй
161
позиции выполняют функцию эталонов для сравнения -
как самого себя, как родного брата, по-братски.
Между тем гравитация рода прекратила свое действие,
а там, где она остается, она ведет оборонительные бои,
которые с каждым вступающим в жизнь поколением вести
все труднее. Так или иначе необходимость конвенции
назревает, и неважно, будет ли она явлена как документ,
достойный ознакомления в школе наряду с букварем и
таблицей умножения (это вряд ли случится), или же станет
предметом интереса совсем небольших сообществ,
собственно людей ближнего круга, которые сейчас воистину
пребывают в беспомощности, поскольку сама инстанция
морали предала их. Возможно, речь пойдет об одиночных
размышлениях: как же мне все-таки быть с моими
близкими? Кто мне они и кто я как друг своих друзей и близкий
своих близких? Вопрос может быть поставлен и в
обобщенной форме: а кто вообще друг другу близкие? Острая
необходимость разрешить этот вопрос сегодня очевидна.
Таким образом, в отличие от многих других этических
систем, которые могут очаровать, увлечь, подчинить себе,
но которые, как правило, не затребованы заранее и будут
оцениваться в момент их появления, на этику ближнего
круга существует запрос, и не просто запрос, а что-то
вроде жажды, и воистину странно, что ничего жаждоутоляю-
щего миру до сих пор не явлено.
* * *
Итак, начнем сначала: права ближних существуют,
они, безусловно, достойны уважения и относятся к
самому ядру человеческой подлинности. Если права самых
разных меньшинств - меньшинств национальных, расовых,
162
сексуальных и т. д. - существуют и должны соблюдаться
хотя бы ради обыкновенной человеческой порядочности,
то и права ближнего круга, лишь отчасти
пересекающиеся с линиями родства, существуют и должны соблюдаться
ради человеческой подлинности, независимо от
происходящего в круге публичного. Следует дорожить этой
территорией и противостоять всем попыткам лишить ее
суверенитета, попыткам осуществить территориальный передел
в пользу юрисдикции, которой руководствуется чужой
среди чужих.
Твои ближние имеют безусловное право на твое
приоритетное внимание, и ты не должен оправдываться
перед другими инстанциями за то, что люди ближнего
круга - жена, брат, сестра, друг - отвлекли тебя от прочих
сограждан. Этих прочих достаточно лишь оповестить об
этом. И вот какой примерно кодекс ближнего круга
вырисовывается в итоге.
1 ) Твой ближний имеет право быть бесполезным и все-
таки оставаться ближним.
2) Личные интересы ближних не обязаны совпадать
с твоими собственными интересами и не обязаны
отличаться от них. Они просто есть и могут быть использованы
в качестве груза на любых весах справедливости. Никогда
не бойся сказать: «Я отстаиваю интересы своих близких».
А если тебя спросят, а как же справедливость, смело
отвечай: «Во имя справедливости».
3) У каждого свои близкие. Мир устроен именно так,
и из этого проистекает множество недоразумений. И все
же это лучше, чем если у каждого были бы только дальние,
чужие и первые встречные, а ведь этот мир-без-близких
подступает с каждым десятилетием, и с каждым
поколением он отвоевывает все новые и новые территории - не
163
поддавайся этому наступлению, защищай свои родной
плацдарм.
4) Права ближних, как и отношения внутри ближнего
круга, относятся к ядерным силам, к экзистенциальному
ядру личности, поэтому характер этих отношений
существенно иной, чем характер тех отношений, которые
регулируются внешней этикой. Внутри ближнего круга не
задано большинство симметрии и симметричных
преобразований. Там отсутствует товарно-денежный эквивалент,
по крайней мере, не он определяет суть отношений между
родными и близкими - и жертвоприношение, пусть в
мягкой, неакцентированной форме, преобладает над пользо-
приношением. Поэтому, в частности, права «близких
вообще» (чьих-то близких) не являются образцом для круга
твоих друзей и родных, и они оказываются просто
фикцией для того, у кого близких нет вообще, несмотря на
формальное наличие родственников, кто ни с кем не сблизился
и не сдружился. В общем, все как в известной песенке:
«Если у вас нету тети, то вам ее не потерять...» В
«больших» этиках дело обстоит не так, там каждый отдельный
случай может и должен быть сведен к общему принципу.
Этика ближнего круга активируется только через
собственный индивидуальный случай, «чужих близких»
действительно не существует. То есть если враг моего врага
мой друг (допустим), то брат моего постороннего мне
точно такой же посторонний. И поскольку в современном
мире круги друзей и близких постепенно размываются, то
и достоверность соответствующих отношений
мало-помалу утрачивается.
5) В сущности, каждый может принять для себя
максиму, столь точно сформулированную Мандельштамом:
«Свое родство и скучное соседство мы презирать заведо-
164
мо вольны». Но в полновесной человеческой свободе этот
выбор всегда должен оставаться как выбор.
Следовательно, безусловно возможен и такой результат: я выбираю
этих людей в качестве близких, выбираю такими, какие
они есть, - и учреждаю для них особый закон, в
соответствии с которым они всегда будут отличаться от
посторонних и первых встречных. Я буду относиться к ним как
к близким не потому, что таков закон рода, а потому, что
я так выбираю и такова максима моей воли. Если вы
спросите, каковы основания моего выбора, я, пожалуй, отвечу
так: полагаю, что жизнь без родства, дружбы и близости
увечна. А гордое экзистенциальное одиночество в
качестве альтернативы некорректно - оно всегда задано
внутри первого круга независимо от двух других. Однако круг
друзей и близких задает опыт, который зачастую можно
отождествить с самой жизнью - опыт любви, дружбы,
предательства, прощения, без него человеческая жизнь
есть всего лишь проекция на плоскость. И этот осознанный
выбор в пользу доставшегося мне родства и даже
«скучного соседства» означает заведомое признание преференций
ближних перед посторонними - везде, кроме тех участков
публичности, где данные преференции не действуют.
Кстати, наличие хоть сколько-нибудь внятной этики
ближнего круга должно внести ясность и в эти вопросы.
Например, должен ли избираемый руководить приходить
на новый участок работы вместе со своей командой, со
своим предвыборным штабом и, в общем, с кругом
близких? Политическая и, если угодно, этическая практика
в ряде случаев такое допускает, и тут есть своя логика:
если в твоем распоряжении люди, которым ты доверяешь,
то и дело пойдет лучше, и замыслы могут быть
реализованы быстрее. Правда, возрастет напряжение на полюсе
165
зависти, что вызовет новый всплеск политической
демагогии, так что приходится лишь удивляться, что вопрос этот
не урегулирован никакой этикой вообще.
6) Нам известны прекрасные строки Цветаевой: «Но
птица я - и не пеняй, что легкий мне закон положен». Этот
легкий закон и вправду существует и нередко
подтверждается в свободном номадическом выборе. Но не о нем
сейчас речь. Речь о тяжелых ядерных взаимодействиях
глубокого проникновения, отношениях, из которых невозможно
удалить взаимные отмучивания, повреждения оболочки
эго, бег в мешке, бой со связанными руками - но
одновременно и чувство наполненности и исполненности жизни,
которое просто неоткуда взять, если у вас нету тети.
Такова предварительная заготовка манифеста о правах
близких, заготовка, требующая еще дополнения и
переработки. Подойдем теперь к вопросу с другой стороны.
* * *
О реверберациях этих ядерных сил можно высказаться
с помощью анонимного стихотворения: «Месиво и крошево,
// Ничего хорошего, // Тяготы да хлопоты, // Лучше б
были роботы»... Каждый когда-нибудь думал в эту
сторону - чтобы вновь окунуться в непременные хлопоты по
поводу близких. Но где робот, там и пульт. Тут напрашивается
небольшой экскурс.
Наши близкие слишком реальны
Когда-нибудь, и даже в близком будущем, кто-то
первым скажет эту фразу, добавив: «Увы». Такое, конечно,
можно сказать и сейчас, однако выражение будет сочтено
166
«философским». Но вскоре это сожаление должно будет
означать всего лишь, что их, близких, нельзя выключить
или поставить на паузу, как боевой пилот из романа
Пелевина ставил на паузу свою суру по имени Кая. Итак, вот
условия задачи. Искусство телевидения
совершенствуется, а электронная мания визуальности нарастает: 3D, 4D,
5D, голограмма, заполняющая нашу комнату, реагирующая
на просьбу говорить потише, повторить или поднять руку.
Они, эти персонажи, пираты, мушкетеры, хоббиты,
Ричарды Гиры, по каждому на брата (или на сестру) - реальны
ли они? Ответ: они гиперреальны - по сравнению с
Ричардом Гиром что значат снующие тела прохожих или личность
в халате, ежедневно встречаемая на кухне? И все же даже
гиперреальность не делает их реальными. А что делало бы?
Одна простая вещь: невозможность отключить. И вот
обладатель чудесного пульта, способного вызывать живые
фигуры, чтобы они доставили ему зрелище, и прогонять их,
когда зрелище надоедает, когда оно впитается, такой обладатель
будет с сожалением думать, что у него нет по-настоящему
чудесного устройства, способного проделывать такую же
процедуру с реальными, неисчезающими близкими.
В фильме «Бегущий по лезвию» все вращается вокруг
того, как отличить человека от репликанта - сегодня эта
абстрактная проблема конкретизируется и приближается
с каждым десятилетием и даже с каждым годом, скоро
она примет вид повседневной актуальности. Корректным
(то есть полезным) тут был бы вопрос, согласились бы вы
иметь пульт, способный ставить на паузу ваших близких,
когда они уж очень достают, когда неминуем скандал и
неизбежны препирательства.
И что же? Человек должен опознаваться по ответу
«нет»? А как насчет камня? Кто его бросит первым, если
167
вообще бросит? Будь у людей пульты, позволяющие на
время отключать, ставить на паузу других людей,
пользовались бы ими далеко не все, и тогда вопрос, по каким
причинам большинство не пользовались бы пультами? Есть
веские основания полагать, что важнейшей причиной была
бы любовь к склоке, к расчетам в близкородственной
валюте, то есть обмен терзаниями...
Знаменитый тезис Левинаса, гласящий, что
«сознание - это возможность выдернуть себя из розетки»,
должен быть дополнен. Это еще и невозможность или
крайняя затрудненность отключения внешним пультом. Без
повреждения «обшивки», оболочки, сознание, как
правило, не отключается извне - да и программируется только
в режиме ego cogito.
Но все же представим себе, что совершается встречное
движение: не только видеообразы становятся все больше
похожими на изоорганизмы, но и неотключаемые другие
начинают отключаться на два щелчка с учетом
предупредительного, понятно, что этому поддаемся и мы сами как
другие для других. Устройство мира в этом случае
изменилось бы до неузнаваемости. Можно смело предположить,
что количество и убийств, и прочих тяжких телесных
повреждений сократилось бы на порядок: зачем убивать,
если можно ставить на паузу? С позиций этого
светлого (?) будущего можно было бы философски заметить:
сколько людей в прошлом нашли свою преждевременную
смерть только потому, что их невозможно было когда-то
поставить на паузу! Сколько семей разрушилось по той же
причине!
Что ж, в электронном интерьере современности
проблема взаимоотношений с родными и близкими действитель-
168
но может быть поставлена как проблема пульта - и в этом
нет ни инфантильности, ни аморальности, поскольку
соответствующая мораль еще не учреждена, есть только
честность самоотчета.
Любопытный образец решения предложен Виктором
Пелевиным в романе «SNUFF» - всмотримся несколько
подробнее в этот образец. Там главный герой не имеет
человеческих близких как таковых, но у него есть любимая,
причем любимая искренне и по-настоящему. Вообще, эта
любовная линия выглядит едва ли не самой убедительной
в прозе постмодерна. Его возлюбленная - сура по имени
Кая - киборг, воплощающий в себе все человеческие
совершенства в плане бытия-для-другого. Одно из них
заключается в том, что прекрасную Каю можно при случае
поставить на паузу, воспользовавшись пультом.
Близкие, для которых у нас имеется подобный пульт, близки
не только нам, нашей человеческой натуре, но и близки
к идеалу: их легко любить, с ними удивительно легко иметь
дело, в общем, уже сегодня они населяют утопию ближнего
круга, что не ускользнуло от внимания Виктора Пелевина.
Но с точки зрения любой системы отсчета
справедливость здесь нарушена: если пультом располагает только
один из участников коммуникации, то перед нами
отношения господина и раба в весьма жесткой форме. А вот если
правом на пульт и на кнопку наделен каждый, мы
получаем куда более интересную ситуацию, достойную особого
рассмотрения.
То , что близкие становятся порой невыносимы
(разумеется, как и мы для них) - это очевидный факт. Понятно,
что все это под горячую руку, что милые бранятся - только
тешатся, но и минутного озлобления бывает достаточно для
получения серьезной психологической травмы. Опять же,
169
работающей и доступной техники безопасности для таких
случаев не существует, после распада рода ни одна
культура их так и не разработала. Советов тут сколько угодно,
взять хотя бы замечательный афоризм, суммирующий все
выводы стоиков: вспылил - подожди, пока пыль осядет.
Но в лучшем случае меры предосторожности относятся
к разряду bon mots и к разделу юмора. В большинстве же
случаев это заклинания и напрасные сотрясения воздуха.
Другое дело - взаимная возможность и право поставить
на паузу. Как знать, сколько отношений могла бы спасти
такая реальная, отнюдь не тщетная мера
предосторожности! Представим себе: вот собираются несколько родных
друг другу людей. Перед ними лежат новенькие пульты,
и они вдумчиво обсуждают все за и против. Сначала речь
против, допустим, ее произносит тетя Катя.
- Вы что это предлагаете? У нас ведь нет никого род-
нее друг друга - и что же, мы будем затыкать друг дружке
рты? Как тут в инструкции написано: «погружение в
кратковременный сон»... Мы что, боимся правду услышать?
Кто же еще скажет тебе правду, если не самый близкий
человек? И потом, этой штукой можно будет пользоваться
без всякой надобности, чего в сердцах не сделаешь? - так
возмущается тетя Катя.
Потом берет слово дядя Толя:
- Катерина сказала одну правильную вещь: давайте
доверять друг другу! Этими штуками, которые здесь
лежат, могут пользоваться только самые близкие люди, и как
раз потому, что они доверяют друг другу. Вы вспомните,
сколько бед принесли нам сгоряча сказанные слова! А
теперь мы получаем контроль над экстренными случаями.
Добровольно предоставляем друг другу такой контроль
и на этом основании будем теперь именоваться близки-
170
ми по выбору. Да, есть близкие по крови, по зову души
и наверняка по многим другим причинам, но никто ведь не
мешает стать еще и близкими по выбору, заключив такой
добровольный союз...
И сюрприз вполне возможен - будут приняты не
аргументы против, а аргументы за, высказанные дядей Толей.
Как могла бы работать соответствующая настройка в
этике ближнего круга? Многое, вероятно, зависит от
оснащения пульта и набора доступных опций. Что значит
«отключить»? Например, на десять минут погрузить в сон,
запустив генератор альфа-ритма. Человек проснется и сам
же будет благодарен (поскольку «пыль осядет») -
возможно, будет извлечен урок. Вот опция «отключиться
самому» - можно выбрать и ее, но это, скорее всего, будет
обиднее для собеседника, а во-вторых, не подействует так
эффективно. Еще одна кнопка - обоюдная пауза,
взаимный десятиминутный сон, чтобы разрядить ситуацию...
Понятно, что из договоренности можно в любой момент
выйти, но это будет значить, что ты покинул круг близких
по выбору.
Техническое обеспечение «паузы» нас сейчас не
должно волновать, будет ли это ритмоводитель, запускающий
ритмы сна, или какой-нибудь другой временной
блокиратор - подобное легкое воздействие уже на сегодняшний
день представляется вполне достижимым. Вопрос об
экзистенциальном смысле допускаемого взаимоотключения
более интересен, тем более что из-за отсутствия других
встроенных регуляторов этика ближнего круга
рассыпается. Когда-то работало правило иерархии, чувство
дистанции, почтение к старшим, но все эти настройки связаны
с этикой рода, с некой архаической опорой родства и
близости. Сейчас круг близких такой опоры не имеет, откуда
171
возникает неизбежность ссоры и всего того, что когда-то
удачно было названо «мильон терзаний» (И. А.
Гончаров).
Ну а любовь, которая может все, - ей-то зачем эти
пульты и паузы? Ради ее длительности - говорит
Пелевин, и хотя его утопия асимметрична, она достаточно
убедительна. Односторонняя связь может быть установлена
только с сурами, свободные люди готовы рассматривать
лишь симметричный вариант - и почему-то
представляется трогательная картинка: вот влюбленные обменялись
кольцами, потом обменялись клятвами, а в заключение
обменялись пультами в знак высшего доверия.
И высшая любовь могла бы заключаться в том, что они
ни разу не воспользовались пультом, хотя в других
случаях его применение могло бы предотвратить войну с
близкими. Здесь, кстати, получил бы новую интерпретацию
фрейдовский принцип амбивалентности чувств, согласно
которому в ядре всякого подлинного человеческого
чувства содержится его собственное анти-чувство, доходящее
до максимума негативности - кому не случалось хоть раз
в жизни в сердцах пожелать смерти близкому человеку?
Так пишет Фрейд, в частности, в работе «Тотем и табу»,
и мы вспоминаем риторическое «сейчас убью!». Тут
конечно, нет пожелания смерти и тем более намерения ее
причинить, но теперь мы можем увидеть то, что в этой
риторической формуле действительно содержится. Это желание
«сейчас отключу!», если угодно, предвосхищение пульта
за тысячу лет до его появления. Одно это уже
показывает, что идея краткосрочного отключения близких не так уж
и экзотична, раз уж запрос на нее проходит сквозь толщу
поколений, хотя конкретные обстоятельства и последствия
применения пульта остаются чисто гипотетическими (но
172
так и хочется предположить богатство возможностей).
Особенно важна с точки зрения этики именно
эксклюзивность: у всех, конечно, есть свои права и порядок
очередности, но пульты имеют только близкие или самые
близкие. Это может быть системообразующий этический
ход, соединяющий идею приоритетности зова ближайшего
и его компактное техническое воплощение. С высокой
степенью вероятности пульт взаимного отключения (ПВО)
напрашивается как опция мобильного телефона, что,
вероятно, предполагает и новую степень персональной защиты.
Наличие ПВО и его признанность, несомненно, повлекут
за собой и другие технические решения, поддерживающие
этику ближнего круга: преимущественное право связи,
позволяющее прерывать другие звонки, и тому подобное.
Для нас важно, что технически подтвержденная
взаимоуязвимость и в самом деле может служить убедительным
аргументом против тотальной экспансии всех прочих,
отношения с которыми сейчас претендуют на роль этики
вообще.
Наличие ПВО, укрепляющее круг друзей и близких,
свидетельствует о сделанном выборе, который ни от кого
не скрывается, а следовательно, участвует в своеобразной
конкуренции жизненных моделей в качестве
определенного экзистенциального проекта.
* * *
Уж где, как не в этике, прибегнуть к знаменитому
определению Хайдеггера «сущность техники не есть нечто
техническое»? В данном случае техника важна как фактор
уверенности и как способ легитимации нравственного выбора
в современном мире. Здесь техника - пульт и индикатор -
173
устраняет, по крайней мере отчасти, ту неясность и
расплывчатость, которая доминирует в ближнем кругу после
разрушения рода. Ни мне, ни другим не ясно, какие права
у моей сестры, и есть ли у нее эти особые права за
пределами юридических исков. А мой верный друг - должен ли
я помалкивать о нем в публичном пространстве? А то и
принимать специальные меры, чтобы он туда не проник?
Полная неясность в этом отношении приводит к своеобразной
моральной интоксикации и к эрозии самосознания, к
необходимости внутренних оправданий за то, что множество
поколений считало самой подлинностью бытия.
Развертывание ПВО, о котором можно объявить как
о собственном выборе, снимает ряд проблем такого рода,
и теперь уже общая этика равноправного равнодушия (или
равнодушного равноправия) должна будет считаться со
свободным выбором как с правовым актом. И если
выбравшие смену пола не подвергаются ограничению в
правах, то и выбравшие право на взаимное отключение для
своих близких могут далее с чистой совестью бороться
против дискриминации.
Кстати говоря, пультом можно и не пользоваться.
Достаточно принципиальной возможности, предоставленной
родным и самым близким. Важна и увеличивающаяся
в данном случае точность самоотчета - теперь его можно
представить в такой форме:
- есть люди, которые полезны, от общения с ними
проистекают прок и польза;
- есть те, знакомство с которыми лестно и почетно;
- и те, с которыми лучше поддерживать отношения;
- и такие, с которыми легко и приятно.
Однако ни с кем из перечисленных совместное ПВО не
развертывается, оно применяется между друг другу близ-
174
кими. Совершенно не важно, присуще ли им хоть одно из
вышеупомянутых достоинств, они близкие независимо
от этого. Кто-то из них, что называется, достался мне по
жизни, кого-то я выбрал сам - но правом взаимного
отключения мы все обменялись добровольно.
Примерно таким может быть содержание встроенного
монолога - и весьма любопытно сопоставить его со
знаменитыми строками Хайяма:
Знайся только с достойными дружбы людьми,
С подлецами не знайся, себя не срами.
Если подлый лекарство нальет тебе - вылей!
Если мудрый подаст тебе яду - прими!
В нашем случае все несколько иначе, но, как ни
странно, близко по сути: как бы тебя ни превозносили в
публичном присутствии, какими бы премиями и похвалами ни
награждали, но если твой брат или лучший друг отключит
тебя на полчасика - смирись. Значит, в этом есть некая
правда о тебе, как любил говорить Мераб Мамардашвили.
Полная честность самоотчета необходима в этом
отношении, несмотря на оправданное внутреннее
сопротивление формализации атриума, несмотря на неизбежно
возникающий, можно сказать стихийный, вопрос свободного
индивида: кому какое дело до моей частной жизни?
Протесты и горечь, звучащие в этом вопросе, вполне понятны,
но дело в том, что неопределенность и неразбериха,
царящие здесь после слома традиционных регуляторов,
настоятельно требуют расставить точки над i в отношении
некоторых важнейших пунктов человеческого присутствия.
Тут даже полезно дойти до крайней точки, напоминающей
ответ Портоса на вопрос о причинах дуэли. Бравый
мушкетер не стал подыскивать эвфемизмы, более подобающие
175
аббату, а просто заявил: «Я дерусь просто потому, что
я дерусь».
Мушкетерский ответ правомочен и для новой этики
ближнего круга: почему я дружу с этими людьми? Да
потому что дружу, черт возьми! И что касается родных, то
и тут легкость общения для меня, вообще говоря, не на
первом месте... Возникает, правда, подозрение, которое
для точности самоотчета необходимо сразу развеять:
вопрос о наследстве и всяких имущественных отношениях.
Его следует решить для себя прежде разворачивания
системы ПВО. Все помнят слова Булгакова о советских
людях, которых «квартирный вопрос испортил». А один
из героев Сименона, опираясь именно на честность
самоотчета, помнится, говорил, что готов им отдать все свое
имущество после смерти, но только если будет избавлен
от необходимости видеться с ними время от времени.
Можно сказать, что это вполне продуманный выбор
свободного человека, но тут же следует отметить, что он
отнюдь не исчерпывает поля свободного выбора, выбора,
который будет не просто этическим, а выбором
определенной этики.
Итак, я дерусь просто потому, что дерусь. И
следовательно, я готов продираться через всякую нечистую
совесть, включая и свою собственную, в поисках
справедливости, несмотря на то, что справедливость легче искать под
ярким фонарем публичности, и именно по этой причине ее
все там и ищут, подтверждая как раз для данного случая
правоту софистов: нельзя найти то, что ты не потерял.
Я, однако, готов искать справедливость во тьме и
неразберихе - или, если угодно, больше всего я не хочу потерять
ее там. Так что я принимаю правила игры под фонарем
публичности, но не за счет своих друзей и близких.
176
оти озвученные в самоотчете моменты, как сейчас
стало ясно, принципиально важны для формирования новой
этики. Но было бы большой ошибкой понимать их в духе
героического пессимизма (вопреки всему и несмотря ни на
что) или мазохизма. В правах ближних, принятых близко
к сердцу и принятых к исполнению, есть своя
притягательность, которую можно рассматривать как щедрый бонус,
превышающий все издержки. Сама по себе эта
притягательность может быть легко отслежена, но причина ее
требует экспликации. Для этого обратимся к эстетическому
отображению этих непростых, запутанных отношений -
и мы вскоре обнаружим стабильный резонатор, так или
иначе проявляющийся во всех рассказываемых историях.
Это резонатор семейных, клановых или
близкородственных связей. Он легко связывается с аттракторами
чистого авантюрного разума, с приключениями и странствиями
(ну хотя бы как в «Трех мушкетерах»), но может
представлять собой главную или обособленную, отдельную эвока-
цию, которая отчасти и проливает свет на обоснование
прав ближних. Возьмем, к примеру, роман Томаса
Манна «Будденброки», книгу, обладающую странной
притягательностью, хотя в ней нет приключений как таковых
и описываются рядовые события. Это история нескольких
поколений коммерсантов (купцов), где фигурируют дяди,
тети, племянники, внуки и, кажется, даже девери - они
общаются между собой и удерживаются в фокусе
внимания автора.
Все они, в сущности, ординарные люди, можно сказать,
просто люди, но читатель готов за ними следить и
осваивать топографию этого ближнего круга, сам не зная
почему. Он с охотой или непроизвольно помещает себя в этот
не свой круг, и ему интересно, как там обстоят дела, какие
177
там появляются новости и микроновости. На этом же
факторе держатся, например, и лучшие романы Ушцкой, где
чья-то отдаленная родственница предстает передо мной
как моя собственная. Семейные саги составляют изрядную
часть мировой литературы и в не меньшей степени кино,
точнее сериалов. Среди «семейно-клановой» коллекции
есть и лучшие образцы мировой литературы, та же эпопея
Фолкнера, есть признанные остросюжетные романы,
которые без семейно-кланового каркаса просто рассыпались
бы - та же «Игра престолов» Джорджа Мартина. Ну
и в итоге мы снова подходим к сериалам, где
представлены наши добрые знакомцы, наши отключаемые близкие.
Теперь мы предположили, что это их прекрасное свойство
можно сохранить и транспонировать в реальность при
условиях симметричности, наличия права на встречное
отключение. В нашу пользу говорит и наличие аттрактора,
одного из универсальных аттракторов искусства, который
представляет собой изображение ближнего круга в
действии. А раз имеется аттрактор, то есть и соответствующие
резонаторы, пусть даже не у всех читателей-зрителей они
наличествуют в равной степени. И все же если
соответствующий резонатор в наличии, проецируемая на
условный экран (страницу) родословная способна наматывать
на себя витки внимания день за днем. Разве это не должно
натолкнуть нас на нечто, находящееся за пределами
эстетического?
В детстве меня очень интересовала генеалогия богов
Греции, а потом я странным образом забыл об этом, пока
не обнаружил, что увлечение моего сына в точности
совпало с моим давним интересом: он готов был часами и днями
отслеживать родственные связи богов Олимпа с титанами
и героями, с увлечением составлял схемы и генеалогиче-
178
ские таблицы. В действительности озабоченность
близкородственным кругом Олимпа (тут достаточно
ознакомиться с мемуарами русских литераторов XIX - начала
XX века) принадлежит к числу архетипов даже в более
точном смысле, чем архетипы Юнга, этот интерес по
своей глубине и всеохватности сопоставим только с детской
игрой в империю, оставляющей в душе неизгладимый
след, иногда преобразующийся в пожизненный резонатор
имперского самочувствия.
К этому генеалогическому увлечению полноценного
детства вполне можно отнести слова Гамлета,
адресованные актеру: «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» Мы легко
переносим их на подростка: что ему Артемида? И какое
ему дело, кому и каким родственником приходится
Полифем? Но почему-то эти генеалогические связи
столетиями интересуют детей разных эпох и культур, так же как
не на шутку способен увлечь читателя круг родства Буд-
денброков, Форсайтов или Старков, а последним новым
знанием, которое приобретала российская старушка еще
лет тридцать назад, было знание о том, кто кому кем
приходится в «Санта-Барбаре»...
Для нас же сейчас важен тот факт, что эстетический
аттрактор родственно-клановых отношений имеет
безусловную этическую и экзистенциальную первооснову - то
глубинное влечение к ближнему кругу, которое до сих пор
не удалось истребить пастырям нового
модифицированного человечества.
Стало быть, возвращение к этике ближнего круга, на
этот раз вполне осознанное, отнюдь не акт мазохизма,
а выбор, подкрепленный наличием глубинных
экзистенциальных настроек, тех, что столетиями обеспечивали синтез
человеческого в человеке. Теперь мой мир под зонтиком
179
ПВО - это воистину мой мир, поскольку я его
вторично (уже не просто по факту рождения) заново выбрал.
И как-нибудь разберусь в его трудностях, и даже как-
нибудь переживу, если мне выразят неодобрение там, под
фонарем публичности, где люди живут по принципу равно-
удаленности друг от друга. Я же, не желая даже
оспаривать, просто выбираю круг взаимного неравнодушия, даже
если мучений в нем окажется больше, чем отдохновений,
и даже если там не пройдет та великолепная имитация
справедливости, которая является самым востребованным
товаром на площадках публичности.
В современных условиях, когда все экзистенциальные
расширения блокируются, это действительно нелегкое
решение, ведь придется заведомо распрощаться со званием
передового, прогрессивного индивида, которое
присваивается только в обмен на блокировку причастности к
историческому измерению и на блокировку глубокого вхождения
в круг родных и близких.
Но взамен этих издержек принявший к исполнению
этику ближнего круга получает небольшой, компактный
и авторизованный мир, пригодный для демиургии. В
результате подобного выбора ты обретаешь не каких-нибудь
Будденброков, а живых свободных людей, учреждающих
локальное пространство особого значения и смысла.
Понятно, что кнопка пульта может быть и символической,
хотя реальное развертывание пространства взаимного
отключения дает материальную опору нравственному
чувству, но взаимное вхождение в плотные слои материи
проживания вознаграждает бросившегося в этот омут - из
чего вовсе не следует, что близкородственное
пространство должно быть единственным, оно просто должно
быть. Ему достаточно честного признания и прямого до-
180
говора; совершивший выбор оглядывает мир вокруг себя
и говорит: «Я, пожалуй, смогу для вас кое-что сделать.
Но даже не собираюсь обещать вам, что кто-нибудь
станет мне так же дорог, как друг, брат или сестра, разве что
станет другом, братом, женой...» Свободная суверенная
воля должна добиваться для себя прежде всего полной
ясности в этом вопросе. Стоит вслушаться в то, что писал на
сей счет Ницше, мягко говоря не склонный очаровываться
слишком человеческим:
«Смеху подобно, когда общество голодранцев
заявляет об отмене наследственного права, и не меньше смеху
подобно, когда бездетные работают над практическим
законодательством страны: ведь в их судне не хватает
балласта, чтобы уверенно выйти на парусах в океан
будущего. Но столь же нелепо выглядит дело, когда тот,
кто выбрал своим заданием наиболее общее познание
и оценку бытия как такового, обременяет себя личными
соображениями по поводу семьи, питания, обеспечения,
хорошей репутации членов семьи и натягивает перед
своим телескопом ту мутную завесу, сквозь которую с
трудом могут просочиться отдельные лучи из мира дальних
светил»*.
Что ж, выбор номадического пути - это достойный
выбор в пользу дальних с отказом от обременения
собственной персоной тех, кто настроен на иную сделку:
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
(О. Мандельштам)
* Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Полное
собрание сочинений. М., 2011. Т. 2. С. 258-259.
181
Но и выбор в пользу своих Будденброков тоже
обладает достоинством - если он выверен и осознан. Двое
людей, совершивших по видимости противоположный выбор,
могут при случае пожать друг другу руки. И кстати, могут
при этом оказаться и братьями по крови.
Но нетрудно представить, с каким презрением оба они
посмотрели бы на современного проповедника гуманизма
равноудаленности, с пылом утверждающего, что
недопустимо любить своих детей больше, чем вообще детей. Тут
номад сказал бы: «Наверное, у такого нет детей... » А
выбравший ближний круг как свой Дом бытия сказал бы:
«Хорошо еще, если у него нет детей... »
VI
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СМЫСЛОВ:
АРХЕОЛОГИЯ ЭТИКИ
1
Все формулировки этических требований стремятся
избежать путаницы, в этом отношении этика
противоположна дипломатии или юридической риторике - наиболее
ранние моральные кодексы устроены на манер правовых
систем: делай то, не делай этого. И, например,
соответствующие предписания в Ветхом Завете или «Законах
Ману» мало чем отличаются от современных правил
дорожного движения - именно поэтому они не всегда
признаются собственно этическими.
Тем не менее максимы практического разума, согласно
Канту, должны быть во всяком случае автономны,
гетерономия (детерминация из разных источников) отвергается
прежде всего как раз для того, чтобы избежать
двусмысленности. Но стремление избежать - это одно, а
реальное «избежание» - совсем другое, как раз оно и остается
практически нереальным. Наш мир усеян осколками самых
разных этических систем, в их обнаружении в
значительной мере и состоит историзм, и эти осколки состыкованы
весьма причудливым образом. Сплошь и рядом
встречаются подмены имени, изменения смысла и содержания той
183
или иной категории вплоть до полной противоположности.
Работа Ницше «К генеалогии морали» остается в этом
отношении образцовой. Правда, Ницше рассматривает
всего две, пусть и самые объемные, системы морали, тогда
как обломков тектонических плит нравственности гораздо
больше...
Ну и конечно, любопытно, что сказал бы Ницше о
сегодняшней грандиозной афере, когда из имен вновь
выкрали их привычные смыслы, причем произошло это не
по причине путаницы, которой, разумеется, тоже хватает,
а в порядке целенаправленной подмены по всему фронту
ценностей, от «счастливого детства» до самого понятия
свободы. Если же еще учесть исторически сжатые
сроки, то есть необыкновенную стремительность этой аферы,
Ницше, возможно, счел бы ее даже более радикальной,
чем тектонический разлом прямой чувственности,
вызвавший появление рессентимента.
Когда-нибудь человечество очнется от обморока и
приступит к разборке гигантских завалов (а возможно, и
подрывников-диверсантов призовет к ответу перед историей),
но сейчас речь не об этом, сейчас она об этической
археологии и реставрации, с которой, если повезет, если
реставраторы войдут во вкус, может начаться новое
Возрождение, ведь и то, единственное пока Возрождение, началось
когда-то с археологии, правда эстетической.
В качестве введения в проблему приведу цитату из
книги Максима Кантора «Чертополох», тот фрагмент, где речь
идет о теме Ааокоона в европейском искусстве, а конкретно
о трактате Аессинга «Ааокоон» и картине Эль Греко:
«В этом событии важно то, что прорицатель Ааокоон
был жрецом бога Нептуна (Посейдона), и, однако,
именно от Нептуна, из моря, приплыли чудовищные змеи. То
184
есть не только греки оказались коварными, но предали
даже сами боги, обманули своего жреца - защиты ему
ждать неоткуда. То же обреченное чувство богооставлен-
ности, которое появляется даже у Иисуса на кресте на горе
Голгофе, властвует и в сюжете Лаокоона. В чем пафос
скульптуры? В борьбе со злом? Но Лаокоон борется не
с роком - змей ему не победить; пафос этой скульптуры
в сопротивлении вопреки всему, в безнадежном
сопротивлении. Греки обманули троянцев; бог, которому служил,
предал; сограждане отвернулись. Жрец Лаокоон
сопротивляется последним усилием бытия - сопротивляется
всему своему бытию.
Сирано де Бержерак, великий французский
экзистенциалист XVII века, в последнем монологе (по версии Ро-
стана) говорит:
Я знаю, что меня сломает ваша сила,
Я знаю, что меня ждет страшная могила,
Вы одолеете меня, я сознаюсь...
И все-таки я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь!»*
Здесь точно тематизирован героический пессимизм, да
и глубинная человеческая свобода, являющаяся в самых
жестких условиях пробы на излом, собственно говоря, на
краю гибели.
От этого примера мы как раз и можем перейти к тому,
что же означает археологический подход в этике, если
угодно, чем могла бы заниматься археология
нравственности. Итак, вот перед нами безнадежная борьба Лаокоона,
борьба с многократно превосходящими тебя силами,
сопротивление, прекрасно понимающее свою обреченность
* Кантор М. Четополох. М, 2016. С. 228-229.
185
и все-таки остающееся сопротивлением, отказом
безропотно принять свою участь, вернее ту участь, которую
предуготовили тебе, но без тебя и за тебя.
Сегодня мы застаем такие проявления духа в качестве
засыпанных землей забвения осколков. Однако,
допустим, мы ставим себе задачу тщательно всматриваться
в каждый добытый образец, чтобы потом, встретив его
где-нибудь вновь, опознать ту или иную степень
генеалогического родства. И где же можно встретить, к
примеру, это мужество отчаяния, волю к сопротивлению на
последнем рубеже? Где мог бы сегодня затаиться Ааоко-
он? Литература, конечно, не хочет упускать такой образ,
без него попросту не состоится никакое эпическое
полотно. Сразу, конечно, напрашивается Фолкнер - чего
стоит Минк Сноупс, герой фолкнеровской эпопеи, Минк,
который должен свершить свою месть, должен сделать
это несмотря ни на что, и никто из богов не убедит его
отказаться от своей гибельной затеи, от совершенно
безнадежного предприятия, которое, однако, выступает
универсальным доказательством того, что Я есть,
доказательством, несомненно превосходящим по своей
убедительности декартовское cogito ergo sum.
Но с героями литературы все более или менее понятно,
тут не нужно, пожалуй, особой археологической зоркости,
когда извлеченный из раскопа предмет приходится
поворачивать то так, то эдак, чтобы определить, от какой амфоры
этот черепок, откуда такой странный фрагмент мозаики...
Вот мы проходим сквозь разные слои слишком
человеческого, может быть даже идем вослед Заратустре, но имея
в виду проделать археологические изыскания. Нам
попадаются те же уродцы, о которых так ярко и образно
высказался легконогий странник, и прочие фигуры, на кото-
186
рые Заратустра не счел нужным обратить свое внимание.
Среди них уже не раз упоминавшиеся по другому поводу
стражи своей маленькой должности, заключенные своей
беспросветной участи: это как раз они готовы
позаботиться, чтобы жизнь не показалась тебе медом. Они не могут
остановить тебя всерьез и надолго, да и никого не могут
остановить, кроме тех, которым не очень-то и хотелось...
Никаких дивидендов они не извлекут из своей
необъяснимой негативности и все-таки вставляют палки в
колеса, прямо как у Ростана: «И все-таки я бьюсь, я бьюсь,
я бьюсь!» Непостижимым образом их действия чем-то
похожи на сопротивление Ааокоона змеям.
Сам-то принцип и в случае Ааокоона был сомнительным:
не лучше ли спокойно принять свою участь, не дергаясь и не
тратя последних мгновений на сопротивление? И все же
Ааокоон убеждает, позволяя надеяться, что прометеевское
начало в человеке неистребимо. А что, если вдруг среди
этих неудачников, только и способных, что вставлять палки
в колеса, обнаруживается нечто, достойное пристального
всматривания, сочувствия и даже попыток реставрации?
Именно в этом заключается суть археологического подхода
в этике: опознать в уцелевших на сегодняшний день
образцах предковые формы, мало того, сделать надлежащие
выводы и попытаться провести реставрационные работы над
неприглядными черепками. Быть может, удастся
воссоздать общий вид, эйдос прекрасной амфоры или статуи бога.
Эта грань работы была совершенно упущена в «Генеалогии
морали», впрочем, Ницше и не ставил себе подобной
задачи, его интересовало разоблачение величайшей моральной
аферы рессентимента. Вполне возможно, однако, что будь
такая задача поставлена, она увлекла бы и Ницше, ведь
она расположена на стыке палеонтологии и археологии,
187
с соответствующими предметными поправками, ибо речь
идет об аффектах, реакциях, ценностях, об анализе
спектральных линий как ныне задействуемой, так и
реликтовой чувственности, а значит - о важнейших исторических
принципах производства человеческого в человеке. Ну
и кроме того, очередная афера постгуманизма, кое в чем
заткнувшая за пояс рессентимент, привела помимо
прочего к такому перемешиванию слоев, что сегодня источники
нравственности (интенции морального законодательства)
нуждаются в гигантских очистных сооружениях, включая
надежные фильтры. А поскольку с очистными
сооружениями дело обстоит никак - все новейшие модификации
только усиливают отраву, - мы и имеем дело с
нравственной интоксикацией эпохального и планетарного масштаба:
даже ее название «эпоха пост-правды» само может
служить примером эвфемизма.
Но описание возможной конструкции очистных
сооружений не является сейчас моей задачей. В данном случае
цель иная: продемонстрировать возможность и
насущность восстановления смыслов из перемешанных слоев,
произвести реставрационные работы и вернуть очищенные
ценности в проживание. В сущности, это работа штучная,
и ориентирована она не на то, что попадается в раскопах.
Полевой археолог смыслов не должен ориентироваться на
реконструкцию последовательности этических формаций,
хотя без его предварительной работы такая реконструкция
все равно невозможна.
2
Итак, в результате реставрации, аккуратной
очистки кисточкой разбросанных там и сям типовых черепков
188
их удалось атрибутировать, привести к некоему эйдосу,
к статуе Ааокоона, в конце концов. Вот два официанта,
сменяющие друг друга у вашего столика. Один из них
описан Сартром: он сама любезность - как приветливо он
смотрит на вас, как мелькают в его руках
подносы-рюмочки-бутылки, безупречный профессионал. Так думаем мы,
полагая, что официант, возможно, и сам получает
наслаждение от своего высокого профессионализма, но, согласно
Сартру («Бытие и ничто»), в глубине души этот официант
презирает вас, думая примерно так: «Что вы, ничтожные
существа, можете знать о моей великой миссии... » Ив его
доспехах нет ни малейших следов ржавчины, стало быть,
этот способ психологической защиты активно востребован
сегодня и не нуждается в кисточке реставратора. Археолог
этических слоев-отложений может разве что сказать, что
мифологическим покровителем этого носителя скрытой
миссии является хитроумный Одиссей (так полагали еще
Адорно с Хоркхаймером*), хотя, скорее всего, перед нами
более поздняя фигура рессентимента и Л-сознания**.
Совсем иное дело второй официант, вышедший на
подмену первому. Его лицо отнюдь не светится
приветливостью, если и присутствует напускная искренность, она
никого не введет в заблуждение. Особенно дискомфортны
для него самые благополучные и состоятельные клиенты,
и наш подменный официант даже бессознательно делает
все возможное, чтобы добавить свою каплю дегтя в их
медовую жизнь: то переспросит что-нибудь чуть громче, чем
нужно, то промедлит минуту-другую, прежде чем
устранить последствия опрокидывания рюмки... О, будь его
Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения.
Секацкий А. К. Онтология лжи. СПб.: Трактат, 2017.
189
воля, он и не такое бы устроил, однако воля не его, и
официант действует во вред себе: вот и зарплата его, и чаевые
меньше чем у коллеги, и так пребудет вовеки, в какой бы
ресторан они ни устроились.
Но. Зато здесь есть над чем поработать
реставрационной кисточкой. Если счистить ржавчину и
коррозию-зависть, проходящую по нескольким спектральным линиям,
стереть следы причастности к всемирной стихии жлобства
(которые, впрочем, у первого официанта выражены
сильнее), можно будет добраться наконец до следов
безнадежного сопротивления и найти черепок амфоры. Можно
предположить, что в глубине бессознательного обитает
призрак Гамлета, а то и Лаокоона. И что будет значить
такая находка, какие из нее следует сделать выводы?
Ну, например, такой. Возможно, если изменить плотные
социальные порядки, если вернуться к одной из дальних
развилок истории и привести туда нашего персонажа, он
окажется вовсе не таким уж неприглядным. В случае отмены
систематических искажений, его «завистливая натура»
может предстать и в другом свете. Это сейчас у него в руке
пучок палок, чтобы вставлять в колеса тем, кто особенно легко
и быстро едет, а когда-то это был колчан стрел для обороны
своей выстраданной обители. Такой же археологической
реставрации можно подвергнуть бортпроводника,
инструктора, какого-нибудь инспектора - все говорят, что подобной
натуры особенно много в России. Что, пожалуй, правда,
и у этого есть одно объяснение, добываемое как раз с
помощью этической археологии: если они, наши персонажи,
столь неприглядны в мире, вывернутом для них
наизнанку, то ведь и их недостатки, назовем их так, в свою очередь
можно рассмотреть как вывернутые наизнанку достоинства
какого-то иного мира. Каков же тот, гипотетический мир?
190
Раз речь идет о России, то весьма велика вероятность,
что это мир империи и речь идет об имперской сборке,
осуществляемой без помех, и тогда нужные качества и
настройки попадают на нужные места. Тогда перед нами
вместо слепой, безнадежной мести, открывается
неуступчивость, доходящая до полной самоотдачи и героизма,
вместо тотального недоверия миру, у которого «вывихнуты
суставы времени», открывается молчаливая (по
умолчанию) солидарность пред лицом вызова и Сверхзадачи.
Такое обратное выворачивание изнанки налицо производит
обладающий невероятными возможностями строй - если
он наконец устанавливается вместо повсеместного
нестроения. Но, зная природу российского менталитета,
соответствующее топологическое преобразование, превращающее
пучок палок для вставления в колеса в колчан стрел,
описать легко в том смысле, что тут не надо особой
археологической искушенности. В общем же случае глубокой пере-
мешанности слоев поиски исходных эйдосов («амфор»)
требуют, конечно, более кропотливой археологии.
Итак, топологическое перемещение некоторых
застрявших или, наоборот, выброшенных на поверхность
осколков, их хотя бы пробная установка на свои места в другом,
более подходящем для них мире, разительно меняет
картину. Вместо вызывающих досаду проявлений человеческой
порочности, а то и низости мы видим вдруг нечто
жизнеспособное и достойное уважения, например выдержанный
имперский строй, пригодный для осуществления
исторической Сверхзадачи. Или безупречные принципы чести,
которые в случае их осколочного присутствия в чужеродном
191
для них мире предстают как проявления варварства и
бессмысленной жестокости (случай Виталия Калоева).
Отсюда уже следуют кое-какие выводы разной
степени достоверности и общности. Социальные пространства
этически ориентированы, что, впрочем, тривиально, оско-
лочно-мозаичный характер систем нравственности
является правилом, а не исключением (с несколько иных позиций
этот принцип принимается и в состав этики пролетариата).
Некоторые этические максимы, будучи извлеченными из
своего мира, из собственной топологии, сохраняют свою
значимость и даже императивность, тогда как другие
утрачивают смысл или меняются до неузнаваемости. И это
уже не столь тривиально. Археолога, ищущего сокровища
в отвалах, в бросовых породах, больше всего, пожалуй,
интересуют как раз те фрагменты, которые изменили свой
смысл - и как знать, может, изменили не один раз...
Но сначала уместно провести краткий обзор
человеческих феноменов, в том числе и экзистенциальных
параметров, которые проделали путь от бытия-для-другого
до формы в себе - независимо от того, является ли это
«в себе» ценностью или пороком. Ну вот, к примеру, то,
о чем не раз уже приходилось писать, - застолье,
дружеская пирушка, готовность охотно выпить при случае рюмоч-
ку-другую. Тут все кажется личным делом, пожалуй даже,
более близким к пороку, но несомненно совершающимся
в форме для себя. Между тем эта присвоенная и усвоенная
практика восходит ко временам шаманов и прорицателей,
принудительно вводимых в транс, в измененное состояние
сознания. Пифия вдыхает галлюциногенную смесь в
интересах всех эллинов, будучи одним из последних оплотов
древней практики ИСС, в которой форма для себя начисто
отсутствовала. Предложение «выпить за меня» то и дело
192
звучит и сегодня, отсылая к исходному формату бытия -
для-другого: еще и сегодня уклонение от пира несет в себя
проявление индивидуализма, эгоизма и асоциальности.
А господин - во имя кого и во имя чего он
господствует? То, что он своим господством осуществляет важную
историческую миссию бытия для другого, показал уже
Гегель. Он, господин, устанавливает и хранит высокую
планку запросов - и в этом его общественная миссия. Ибо
другой тем самым побуждается и принуждается к особой
изощренности, и высокая требовательность господина
необходима для создания эталонов человеческого бытия: эти
эталоны впоследствии будут присвоены и составят
высокую мерку жизни. Если же господин недостаточно
требователен или попросту ленив (а госпожа недостаточно
капризна, что немаловажно), тогда в распоряжении
победивших рабов окажется небогатое наследство.
Таким образом, требовательность господина и
прихоть госпожи образуют ситуативную несправедливость, на
устранение которой направлена борьба угнетенных. Тогда,
в те эпохи, борьба шла против эксплуатации и самодурства,
но не забудем, что задачей господина было накопление
того, что действительно стоит экспроприировать, и
прежде всего - высокого стандарта человеческого в человеке,
который будет затребован, отвергнут и вновь востребован.
Можно сказать, что правильное определение слоев
залегания есть одна из задач этической археологии, тем более что
при внимательном рассмотрении каждый слой указывает
на превратные формы его современного присутствия. Тот
же господин как гарант высокой планки человеческого
достоинства уже в следующем слое выступает
провозвестником свободного рынка. Можно предложить хотя бы такой
краткий экскурс.
193
Проблема собственности
Многократно объявленная важнейшей для
человеческой истории, эта проблема почему-то зациклена на
обменах. Поэтому, быть может, считается, что главное - кому
и что принадлежит, а уж как принадлежит - дело десятое.
Вспоминается старый советский анекдот. Грузин задает
загадку:
- Угадай, э, что это: стоит под подушкой, начинается
на «пэ»?
- Не знаю, - отвечает честный отгадчик.
- Патынки!
- Но почему на «п» и почему под подушкой?
- Э, моя вещь, куда хочу, туда и ставлю...
Но такого рода «чистая собственность», по всей
видимости, дается далеко не сразу. Скажем, животное из
принадлежащего тебе стада ты не сможешь съесть в любой
день - потому что, например, пост. Способ употребления
вещей может быть жестко задан, а потому и сама
процедура их отчуждения и приобретения чаще всего не является
вполне свободной.
Стало быть, если не главным, то, по крайней мере,
исходным препятствием для развития частной собственности
служит то обстоятельство, что принцип «моя вещь, куда
хочу, туда и ставлю» не выполняется. Существуют
внутренние ограничения потребления.
Такие же ограничения препятствуют и авторской
культуре: автор, и чем дальше, тем больше, тоже
руководствуется принципом «моя вещь, куда хочу, туда и
ставлю». Правда, среди владений (предметов собственности)
остаются архаические вкрапления: награды, записи актов
гражданского состояния (можем предположить, что когда-
194
то каждая запись вообще была записью акта
гражданского состояния). Первым ниспровергателем ограничений как
раз и является господин, то есть авторствование
начинается в сфере чистой власти - там же берет старт и частная
собственность. Господин (допустим, феодал) ничего
такого не производит, но он позволяет себе есть на серебре
и, допустим, ставить ботинки под подушку - его произвол
и каприз играют роль разблокирующего
экзистенциального и психологического катализатора. Первые негоцианты,
заморские купцы, как раз и обслуживают потребности
господина, привозя ему пряности и прочие диковинки.
Собственность должна включать в себя такую форму
принадлежности, в какой вещь принадлежит господину - без
этого не может быть дан старт ускоренным обменам,
конституирующим товарное производство.
Таким образом проясняются по крайней мере две вещи.
Говоря в терминах Маркса, собственность, конечно, имеет
дело со стоимостью, но вид потребительной стоимости
отнюдь не безразличен для собственности. Если вещь в ее
овеществленности сохраняет причастность к тотальному
поэзису, то есть порядок ее потребления жестко
регламентирован, то никакая свобода обменов и никакая
производительность труда сами по себе не приведут к царству
частной собственности, ведь сегодняшнее имя этого
царства - общество потребления.
Развернутый товарный фетишизм, разумеется,
образует собственную идеологию и даже мифологию, но для
того чтобы эта духовная составляющая восторжествовала,
прежде нужно изгнать чуждых духов, контролирующих
потребление как жертвоприношение на алтаре.
И здесь-то бесстрашный воин, человек прямой
чувственности, и проводит важнейшую предварительную
195
зачищающую работу: он разрушает власть Церемониала.
И когда уже окрепший буржуа ведет непримиримую
борьбу с феодалом, он, конечно, не сознает, что именно
благодаря своему врагу он возник, окреп, получил в наследство
готовый экзистенциальный проект и, если угодно,
основания своего бытия. Впрочем, точно так же какому-нибудь
Меровингу даже пригрезиться не могло, что, предаваясь
праздности или капризу, он старается для будущих
Дюпонов и Фордов.
Опять же, инаугурация потребительства и триумф
авторствования суть как бы две огромные
разросшиеся боковые ветви, совершенно затмившие ствол; они
затем многократно переплетаются в таких феноменах, как
интеллектуальная собственность (copyright) и массовая
культура, и взаимно подпитывают друг друга. В этом поле
можно проделать множество сопоставлений, установить
родственность «кривочтения» (misreading Хэролда Блу-
ма) с борьбой потребительских стилей, расставить
приоритеты валоризации, принимая во внимание проницательные
наблюдения Гройса. Собственно, корпус аналитики в духе
всеобщей экономии пополняется, и все же подвиг
Господина, учредившего праздность и произвол, не должен быть
забыт.
Проведение с трудом отслеживаемых линий
исторической превратности и установление последовательности
залегания слоев составляет общую часть экзистенциальной
антропологии. Расквартировка в археологических слоях
может быть установлена и для эпистем Мишеля Фуко
и для парадигм Томаса Куна, но нас в данном случае
интересует именно свод принципов нравственности и такой
его показатель, как степень исторической неоднородности
любого морального кодекса.
196
4
И эта неоднородность, интересная не только как
последовательность слоев, но и как причудливая композиция
микроэпохи и даже действующего этического горизонта
того или иного индивида. Лучше всего о таких
жемчужинах высказался Ницше:
«Руины как украшение. Люди, прошедшие через
множество духовных трансформаций, сохраняют некоторые
взгляды и привычки прежнего состояния своей души,
которые потом высятся среди их нового мышления и
поведения словно остатки баснословной древности и
замшелых каменных стен: нередко они украшают собой весь
ландшафт»*.
Нравственные руины вроде не могут быть украшением
ландшафта, и стоило бы разобраться, в чем тут отличие
от эстетической перспективы. Пожалуй, в легкости и
привычности переключения: эстетическая реакция
срабатывает в большом диапазоне режимов, смешение режимов при
этом воспринимается как безвкусица. Ясно, что в
отношении этики все гораздо строже, но, как показывает история
и современная практика, новая или альтернативная этика
тоже может быть учреждена, и выбор ее принципов тоже
предполагает что-то вроде внутренней эстетики. Руины
и вправду могут предстать в качестве величественного
замка, только для этого необходимо больше усилий, и к тому
же усилий иного рода. Необходимо представить себе тот
исторический горизонт, когда замок был обитаемым и
священная роща по соседству не могла подвергнуться
осквернению. В других нравственных ландшафтах замок может
* Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Полное
собрание сочинений. Т. 2. М., 2011. С. 316.
197
предстать в качестве руин, разбойничьего гнезда или,
скажем, гигантской тюрьмы, однако выбор панорамы сам по
себе не предрешен, свобода - та самая, которая может
разрушить Бастилию - способна и восстановить замок,
и придать ему ценность в качестве украшающих мир руин.
Для этого как раз и нужно ввести в действие кантовский
принцип als ob, необходимый, согласно Канту, для
любого автономного законодательства чистого практического
разума. Нравственное вообще немыслимо без хотя бы
частичного отключения обратной связи, иначе перед нами
простая утилитарность, основанная на симметричности
принципа «ты - мне, я - тебе», то есть на взаимной
выгоде как результате налаженной, чуткой обратной связи.
В случае нравственности вопрос, скорее, в том, до какой
степени может быть отключена обратная связь, чего
следует не замечать, что не видеть в упор и на что немедленно
реагировать, а на что реагировать со вздохом. Кантовский
ригоризм в этом смысле относится к наиболее суровым
типам этики, она настроена на действие вслепую: несмотря
на, не взирая ни на что.
Этика, избираемая и осуществляемая путем
реставрации развалин и заповедного хранения священных рощ, на
самом деле не столь безоглядна. И тут действует принцип
als ob, и свободная демиургия, вводимая формулой «да
будет!» - но обратная связь отключена весьма
избирательно, идет примерка до тех пор, пока извлеченный из
археологической пыли мир не окажется приемлемым или даже
многообещающим. Знание глубины и порядка залегания
пластов для такой реставрации очень важно, но еще
важнее практическая цель реставрации: выбор подходящих,
жизнеспособных артефактов и их предъявление к
проживанию. Чем это может быть и как может выглядеть?
198
Вот археологи-реставраторы, исследовав и выбрав
находки, берут их в качестве принципов некой компактной
этики. Например, из пластов залегания совсем недавнего
времени - за каждой красивой женщиной резервирует-
ся право на каприз, и уж тем более за той, к которой
ты неравнодушен. В избранном ракурсе капризы
предстают как дивные украшения: ожерелья, броши, изящные
колечки, собственно, эти ювелирные изделия и сами
являются материализованными капризами, ключиками
правильного прочтения для воссоздания атмосферы флирта,
соблазна и обольщения, то есть таинства женственности,
а значит, и особой насыщенности мира, избранного или
доставшегося для проживания. Прихоть и каприз
женщины с одной стороны и их беспрекословное исполнение
с другой - это нечто большее, чем индивидуальный
шедевр любви, и куда большее, чем простое побуждение
либидо в смысле Фрейда: это добавочное, дополнительное
измерение сущего и происходящего. Мир, где флирт не
обязателен, но всегда возможен, оптимален для
предъявления человеческих сокровищ, которые ведь могут просто
пополнять сундуки и шкатулки, что составляет лишь
ничтожную долю их ценности. Мир, где дозволено блистать
всем сокровищам, - это необыкновенное человеческое,
вводимое через таинство и священнодействие
женственности, и эта прекрасная (истинная) видимость может быть
развернута как второе звездное небо над нами.
Таков один из возможных эффектов самозабвенной
реставрации, эффект возвращения правильной, подобающей
этической перспективы. Так же, как экзистенциальное
сопротивление Лаокоона на чужой нравственной земле
приобретает вид беспричинного фонового
недоброжелательства, а будучи возвращенным на свою родину, обретает
199
прежний, достойный, подобающий вид, так же происходит
и с капризом госпожи. Если каприз-каприччио заведомо
отвергнут в нечутком мире, где властвуют принципы
эквивалентности, строгой симметричности, взаимной пользы, то
это одно. Тогда каприз и своеволие приобретают вид
эгоизма и инфантилизма - с чем надлежит бороться и с чем
борются. Расчетливый эгоизм как раз входит в консенсус
слишком человеческого: в сущности, он делает
человеческую жизнь сносной, и в этом теории разумного эгоизма
правы. Но одновременно и прежде всего эксклюзивный
принцип взаимной пользы делает жизнь скудной и в
лучшем случае всего лишь выносимой даже для тех, кто
прекрасно вписался в среду беспросветной утилитарности. Ну
а для невписавшихся, для тех, кто отчасти не от мира сего
(тут не обязательно имеются в виду небеса), кто
сохраняет слишком много не востребуемых здесь и сейчас реликтов
и рудиментов других этических эпох, - для них и простая
выносимость то и дело оказывается под вопросом.
Впадая в состояние невыносимости, мир человеческий
как Weltlauf, как простой естественный ход вещей, словно
бы ждет археолога и реставратора, человека, обладающего
любознательностью и волей к тем пластам бытия, в
которых многое неликвидное, затрудняющее взаимопонимание,
обратилось бы в нечто изумляющее и вдохновляющее. Тут
как нигде более и требуется этика под ключ, вооруженное
археологическими навыками построение аттракторов
жизни. И тогда взаимная «притирка» смертных, служащая
источником непрерывной ежедневной фрустрации, перестает
быть безальтернативной. Возможен и согласованный
выбор эпохи, и тогда мучительная подгонка сменяется вдруг
внезапной иллюминацией и инаугурацией. И нужны для
этого две вещи:
200
1. Добрая воля сообщества, выбирающего себе этику
по душе.
2. Знания моральной археологии (последовательности
и глубины залегания пластов) и умение работать
реставрационной кисточкой.
Коль скоро эти две вещи окажутся в наличии, нет
ничего непреодолимого в учреждении этики восстановленных
руин - можно назвать ее и так. А в том, что такая
этика способна украсить пейзаж слишком человеческого, нет
никаких сомнений: появление канатоходцев морали,
искусных в своем ремесле, пойдет только во благо, поскольку
их намерение не в том, чтобы дурачить других (как в
случае современной социальной инженерии), а в том, чтобы
предъявлять находки к проживанию, извлекая из этого
радость и урожай смыслов.
Какими же в общих чертах канатоходцы будут видеть
друг друга и расположенный внизу пейзаж? В самых
непредсказуемых ракурсах. О праве на каприз уже сказано,
это право признается как законная привилегия госпожи.
В общем случае капризы не совпадают друг с другом - на
то и капризы, так что насчет разнообразия ландшафта
запросов и поступков можно не беспокоиться.
Приоткрывающаяся картина чем-то отдаленно похожа на
средневековую хартию аристократических прав. Вот герцог N - он
имеет право на королевскую привилегию: держать в своем
зверинце льва. Маркиз M такой привилегии не имеет - но
он может приветствовать короля, не слезая с коня, а вот
этот барон, пусть он едва сводит концы с концами, зато
обладает правом охотиться в королевских угодьях.
Если представить себе это в виде особых этических
настроек (включая, разумеется, право на каприз
госпожи), мы как раз и получим что-то вроде этики высокой
201
реставрации (ЭВР), и в таком ракурсе она имеет нечто
общее с куртуазным маньеризмом как жанром поэзии. И как
и любая этика под ключ, она основывается на добровольном
выборе своих принципов участниками сообщества и
действительно способна украсить унылый пейзаж слишком
человеческого, противодействовать примитивной симметрии
ригористических этик и законам царства Мамоны - в
частности, и принципу всеобщего товарного эквивалента.
Куртуазный маньеризм в этике прежде всего
порождает цепочку или, лучше сказать, мозаику малых сообществ,
опирающихся на множество литературных примеров: тут
можно вспомнить и трех мушкетеров, и рыцарей Круглого
стола - но с таким же успехом это могут быть и «Ведьмы
из Иствика». Во всех подобных случаях хорошо
просматривается игровая природа пробных этических установок,
и они составляют своего рода фон, где проходят ролевые
игры, формируются сменяющие друг друга субкультуры
и эстетическое доминирует над этическим - но отнюдь не
исключает его. Налицо, так сказать, условия возможности
новых моральных синтезов, те самые зыбкие края, вдоль
которых и осуществляется этическое творчество, чтобы
образовать потом устойчивую систему этики практически
любого объема. То, что нравственность исторически
меняется, давно известно. Ницше в своей работе «К
генеалогии морали» систематизировал некоторые моменты и
описал революцию одного из великих переходов, которую он
назвал «восстанием рабов в морали», ясно, что эта
революция не единственная и что она сама состояла из цепочки
потрясений, успешных и неудачных переворотов.
Макс Вебер в «Хозяйственной этике мировых
религий» провел, так сказать, собственное расследование
истории этических систем, которое было прорывным для
202
своего времени, но все же получилось односторонним
ввиду концентрации на так называемой хозяйственной этике,
местами совпадающей с оптимальным способом
производства материальных благ. По существу то, что
рассматривал Вебер, было этикой по совместительству, и можно
сказать, что самодостаточные продукты морального
творчества не были приняты им во внимание. Между тем для
такого творчества бывают свои благоприятные эпохи, как
бывают эпохи большой архитектуры и музыки
композиторов. Как раз европейское Средневековье, не слишком
щедрое в других отношениях (скажем, в области
технологии и авторской культуры), ввиду столкновения
различных духовных миров, принужденных к симбиозу (чего
стоит сплавление воедино триады «христианство -
братство - рыцарство»), предоставило нам удивительный
ассортимент этического поведения от этики францисканцев
до кодексов рыцарской чести и культа Прекрасной дамы.
Теперь, когда всю эту панораму засыпало слоем пыли
и пепла, преимущественно как раз видны руины
заброшенных замков и остовы ветряных мельниц: установки,
предназначение которых непонятно, установки, уже в
эпоху Просвещения чаще всего выступающие в роли помех,
чужеродные и для последующих этических систем.
Впору высказать странное предположение. В свое время
Возрождение положило конец эпохе Средневековья.
Первая археологическая волна, назовем ее так, достала из
земли, из раскопов, античность, точнее - ее фрагменты. Это
были всего лишь осколки, но и их оказалось достаточно,
чтобы дать импульс духовному подъему, пожалуй даже,
явная неполнота картины способствовала изобретательности
и фантазии, это неполнота, собственно говоря, и определила
характер нового искусства - и до сих пор определяет. Само
203
же Средневековье при этом, напротив, оказалось как бы
засыпанным, погребенным под отвалами.
И предположение звучит так: а не пришло ли время для
второй археологической экспедиции, целью которой будет
не столько эстетика, но и этика, так что ее главной (но не
единственной) площадкой станет как раз Средневековье?
Обстановка для новой археологической экспедиции
благоприятная, повышенная фоновая активность синтеза
пробных этик очевидна, потребность в этическом творчестве
точно так же назрела в виду полной самофальсификации
и вырождения буржуазной нравственности. Под какими
бы вывесками она ни скрывалась - абстрактный
гуманизм, трансгуманизм, неолиберализм, - ощущение
легкого ужаса и одновременно глубокого разочарования,
которое она вызывает у нормального человека, налицо.
Таким образом, второе Возрождение опирается как
минимум на такую же встречную жажду, что и первое.
В этом заключаются элементы общности двух
археологических волн. Но и очевидные различия требуют хотя бы
краткой экспликации. Целью первой археологии была
античная цивилизация как целое - она восстанавливалась из
фрагментов, и определение общей панорамы шло медленно
и кропотливо, оно, можно сказать, не завершилось и до
сих пор. Стоит отметить, что некоторые опыты
восстановления, осуществляемые художниками, не просто имели
собственную высокую ценность, но, возможно, и
превосходили недопонятый оригинал.
И, таким образом, реанимируемая античность
обретала жизнь, которая недостижима в случае манипуляций
in vitro: реставрацию искусства Эллады через археологию
следует считать одним из самых успешных проектов
человечества. С реанимацией смыслов дело обстояло не так
204
успешно, а с реставрацией этоса и вовсе безнадежно, если
не сказать смехотворно (один из примеров - политическая
система под названием «представительская демократия»).
Но, видимо, всему свое время, и время этической
археологии и реставрации пришло. Тут, понятно, есть
собственные трудности, состоящие в особой многослойности
находимых реликтов, в плохой приживаемости отдельных
фрагментов, если они предъявляются к проживанию
разрозненно, чисто случайным образом, - узнаваемая,
правдоподобная панорама целого необходима здесь в большей
мере, чем в случае эстетической реставрации.
Пусть ничего не надо откапывать в буквальном
смысле слова, зато требуется - да еще как - выверять
совместимость нескольких важнейших ориентиров. Ну и особая
зоркость при опознании: нелегко опознать в потемневшем
или выцвевшем черепке его принадлежность к изящной
амфоре, но куда сложнее - используя уже приводимый
пример - опознать в странном, непонятном
недоброжелательстве ту удивительную готовность бросить вызов и
противостоять неизмеримо превосходящем тебя силам. Это
опознание как раз и является задачей номер один для ЭВР.
Но зато, если правильно выверено несколько
ориентиров, если опознаны и заняты господствующие высоты, то
дальше возможен процесс быстрой самоподстройки, порой
он даже запускается с неотвратимостью. Именно так,
например, осуществляется сборка империи, когда происходят
преобразования социальной топологии и восстановление
этических настроек, пребывавших, скажем так, в
расстроенном состоянии. Это иногда выглядит как маленькое чудо,
205
неоднократно, впрочем, описанное русскими историками
и писателями. Обратимся еще раз к «Капитанской дочке»
Пушкина. Вроде бы повсюду разлад, озлобление,
лихоимство, а кое-где площадки угодливости как плацдармы,
занятые Мамоной, - но преобладает иррациональная
фоновая озлобленность, та самая «не-малина», которая теперь
может быть описана как реликт истины, не прижившийся
в новой эпохе. Ибо существуют ценности, значимые сами
по себе, нравственные принципы, которые в силу поме-
щенности во враждебный, чуждый контекст становятся
странностями, нелепостями, пороками, и порой очень
нелегко опознать в них то, чем они были в своем мире.
Итак, в крепости царит разброд, разгильдяйство,
и Петруша Гринев про себя качает головой: а ну как
придется державу защищать, как же встретишь врага во
всеоружии ?Но когда враг объявился у стен крепости, некая
этическая целостность быстро собирается в единое поле
и многое встает на свои места. Те самые нелепости,
которые в прежнем правовом и ментальном поле были «не
отсюда», теперь, оказавшись там, откуда они, становятся
очевидными достоинствами. Противники России
неизменно сталкивались с этим обстоятельством, и тогда у них
не было шансов, но случался для них и неожиданный
триумф - в тех случаях, когда имперская мобилизация не
запускалась и даже не объявлялась.
Империя в качестве иллюстрации правильной
расстановки ценностей амбивалентна. С одной стороны, она дает
максимальную наглядность самосборки: сначала
рождение духа музыки из полного разлада, а потом, возможно,
и рождение трагедии из духа музыки. Скорость
синтеза истории, осуществляющегося на наших глазах, в таких
случаях, безусловно, захватывает. Быстрее работает лишь
206
время революции, но оно в основном лишь обваливает, об-
рушает слои один за другим в соответствии с принципом то,
что здесь устоит, то воистину есть. Что же касается
цепочки имперского синтеза, то это именно стремительное
восстановление, внезапное позеленение, навеки, казалось
бы, вытоптанных холмов и столь же внезапное превращение
пожизненных, казалось бы, гадких утят в лебедей и ловчих
соколов. 1де еще археолог этики может в таком объеме
проверить точность своих раскопок и изысканий!
Но это с одной стороны. С другой же, для запуска
имперского (державного) синтеза требуется все же
определенная критическая масса - как инициаторов, которые
должны быть не только археологами, но и воинами в душе,
так и критическая масса страданий, накопленных за время
смуты и вообще сбоя всех настроек. Требуется, кроме того,
и инициация времени, попадание в уместность и
своевременность, как любят говорить в Поднебесной*.
Поэтому здесь, в имперском синтезе, результаты
археологических раскопок не могут быть приняты к проживанию
просто так и сразу, на ровном месте, в отличие от других
археологических находок, которые вполне могут
непосредственно быть взяты на вооружение небольшой
компанией - и кстати, иметь при этом далеко идущие последствия.
Тем не менее результат любых раскопок, если
артефакты правильно идентифицированы, важен и
самодостаточен, даже если в большинстве случаев не удается собрать
действующую модель. Знания такого рода лежат в
основе социальной и экзистенциальной топологии, и первые
изыскания в этом направлении были проведены уже
Аристотелем в «Никомаховой этике» - там имена
добродетелей и их собственно добродетельные свойства меняются
* Жюльен Ф. О времени. Элементы философии жить. М., 2005.
207
в зависимости от характера социального поля, его
величины и интенсивности*.
Но Аристотель не имел дела с археологическими
пластами, а ведь разная глубина залегания - это
дополнительный осложняющий фактор, и при его учете вполне можно
составлять жизнеспособные композиции. Собственно, как
раз имперская сборка объемна, многогранна, но при этом
похожа на молнию, пробегающую вдруг между руинами
и мемориалами разных слоев, соединяющую и признанные
исторические свидетельства, и детские игры в «войнушку»
(А. Пылькин), и всплывающие откуда-то гекзаметры:
Шесть пехотинцев разило копье Ахиллеса,
Прежде чем те успевали, мечи обнажая,
Левой ногой заступить на полшага навстречу.
Я был четвертым из них, и, сползая по древку,
К сильной руке, сжимающей древо без скрипа
В пальцах, пригодных для арфы,
Целованных мудрой Фетидой,
Славя отца, разделившего ложе с богиней,
Я говорил, обреченный:
Слава тебе, Ахиллес-победитель; целую
Нежную пятку твою...
(Виталий Пуханов)
Сюда подвёрстывается и готовность к покорению небес,
и невозможность не влюбиться в капитана дальнего
плавания, чье судно завтра отходит в направлении Магелланова
пролива, а сам он еще такой молодой... Все это и многое
другое вдруг сходится, и железные опилки, в беспорядке
разбросанные по листу бумаги, внезапно образуют
правильный узор, поскольку к ним откуда-то из неведомых
* См. Аристотель. Сочинения М., 1983. Т. 4. С. 53-294.
208
времен приближается имперский магнит и внедряет свои
силовые линии. Среди прочих перемен из кучи опилок
восстают и нравственные императивы, и сам стертый рельеф
высокого человеческого достоинства.
Но задержимся на не менее важной познавательной
части этической археологии, позволяющей отслеживать
топологические преобразования и, если угодно, топологические
превратности значимых нравственных императивов. Мы
уже видели, как безоглядность сопротивления судьбе,
сопротивления вопреки всему, при иной топологической развертке
превращается в глубинный негативизм, по отношению к
которому (как полагал Ницше) и используется эпитет «злое»
в каждом вновь обретаемом формате противостояния добра
и зла. В симптомологии шизофрении долгое время (около
ста лет) фигурировал такой симптом, как «патологическое
правдоискательство», но новая развертка социального поля
в середине XX века переосмыслила его как образец
борьбы за свои права и даже как архетип правозащитной
деятельности. Надолго ли? Не станет ли в ближайшее время
защита человеческой подлинности новым патологическим
симптомом новейшей репрессивной психиатрии без
психиатров? Описанная Аристотелем «правосудность»* как одна
из важнейших добродетелей правильно устроенного
античного полиса после обрушения слоев и установления другой
социальной территориальности легко преобразуется,
например, в сутяжничество - одну из главных помех для
органической государственности вообще.
И вот еще пример обратного толка. Зависть, как едва ли
ни самая характерная черта рессентимента, скажем так,
крайне несимпатичная, когда она является частной,
индивидуальной завистью, может радикально изменить свой характер
* См. Аристотель. Сочинения М., 1983. Т. 4. С. 145 и далее.
209
при переходе от индивидуальной к классовой форме - такова
классовая борьба и собственно классовая солидарность
пролетариата, мощная преобразующая социальная сила.
И здесь навыки этической археологии воистину
бесценны. Они способствуют правильной постановке вопроса
о нравственных ценностях и, если угодно, о причинах
безнравственности. Конечно, во многих случаях человеческая
порядочность или непорядочность ясна сразу, в
пределах одного-двух поступков, тем не менее предположение
о единственной системе отсчета неверно, оно вводит в
заблуждение и является источником множества ошибок,
и прежде всего оно ответственно за сужение коридоров
понимания и взаимопонимания. Поэтому правильный
ход, вытекающий из археологических изысканий, состоит
в следующем: столкнувшись со сбоем в поведении другого,
с некой систематической реакцией, по видимости
нарушающей нравственные установки, не спеши выносить
слишком суровый приговор, а сначала подумай: не существует
ли такого мира, где эта странность, нелепость, этот сбой
могли бы оказаться высшим нравственным принципом или
чем-то вполне объяснимым и простительным? Быть
может, тогда, вообразив человека в подходящем ему мире,
в сообществе, опирающемся на такие же принципы, ты
сможешь понять его и поступить по отношению к нему
правильно. Тут встречаются и очевидные и, скажем так,
вопиющие случаи, когда даже несомненное преступление
в наших координатах в других археологических интерьерах
оборачивается образцом достойного поведения. Сразу же
вспоминается Виталий Калоев, на которого уже
приходилось ссылаться. В одном, в нашем мире, он преступник,
жестокий и мстительный человек, но в своем,
исчезнувшем, он едва ли не герой греческой трагедии. По нормам
210
архаики (включая античность) он свершил праведную
месть, после чего сдался правосудию, не оговаривая
никаких условий и готовый к любой дальнейшей участи. Тут
действительно ошеломляющий пример реверсии этических
установок, для понимания чего даже не обязательно
заниматься этической археологией. Но далеко не все случаи
столь красноречивы, так что знание о возможной
принадлежности к тому или иному этическому пласту отнюдь
не будет лишним. В сущности, археология этики и ЭВР
должны прийти на смену такой бесчеловечной практике,
как социальная инженерия, - или по крайней мере помочь
противодействовать ей. Если вспомнить ироническое «тем
хуже для фактов», то в применении к археологической
установке это высказывание окажется не столь уж и
ироническим: коль скоро вы живете в мире, где честь
старомодна, патриотизм - пустой звук, аффекты репрессированы,
чувственная спонтанность - табу, навигаторы истории
отключены, а вы испытываете легкие фантомные боли и, так
сказать, чувство фантомной недостаточности всех этих
экзистенциальных резонаторов, органов души, то конечно,
тем хуже для этого мира. Первая волна сопротивления
плоской нравственности с подмененными основаниями была
остановлена. На этом можно задержаться чуть подробнее:
приведу набросок статьи, написанный в 2015 -м.
Обморок свободы (эскалация подмен)
Величайшая ирония состоит в том, что граждане
победившего «свободного общества» (победившего СССР
в начале девяностых) по инерции продолжают
считаться людьми свободного мира, в вялотекущем режиме
211
отрабатывая прежние номера типа поисков узников
совести, между тем некоторое время они уже живут в
подмененном и перевернутом мире.
1. Они гуманисты. Но в эпоху Возрождения гуманизм
означал отстаивание самостоятельности в противовес бо-
гостоятельности, это была идея предельной суверенности
человека. Сегодня гуманизм скорее по внутренней
установке означает стремление уподобиться домашним
кошечкам и собачкам, и главный его девиз сегодня звучит «ми-
ми-ми».
2. Либерализм. Он был достоянием и обретением
человечества и означал как раз готовность полагаться на свои
силы, противодействовать социализму и прочему
паразитизму. Сегодня либерализм - это отстаивание именно
паразитического, протекционистского существования, при
котором индивид ничего не решает.
То есть либеральное общество сегодня похоже на
своего рода сообщество экзотических аквариумных рыбок,
требующее для своего жизнеобеспечения включения
множества устройств: механизмы направленной
господдержки, непрерывное идеологическое обеспечение. Получается
нечто максимально противоестественное,
теплично-оранжерейное в противоположность конкурентной среде
либерализма. Хотя, конечно, обживание противоестественных
установок есть общий механизм инсталляции человеческих
ценностей и культуры в целом.
3. Семейные ценности. Теперь, когда звучит это
привычное словосочетание, следует прежде всего проверить,
что передернуто, поскольку все чаще по умолчанию и не
только по умолчанию сюда включаются гомосексуальные
семьи, воспитывающие ребенка, добытого
цивилизованным юридическим разбоем. Дело компрачикосов живет
212
и побеждает! Ну и далее по списку: ясно, что в этой
эквилибристике подмен больше всего пострадала сама свобода.
Если обратить ситуацию на мир животных (как в
«Ферме» Оруэлла), то дело выглядит примерно так. Вот
болонки в попонках приходят на собрание в манежик - ну,
разумеется, их привели туда на поводках. Тут они
проводят митинг в поддержку свободы и единогласно
принимают резолюцию: мы, свободное прогрессивное собачество,
выражаем решительный протест против бродячих уличных
собак, все еще отвергающих общепризнанный символ
свободы - поводок. Они пребывают в варварстве, в рабстве
и в дикости, они буквально затравили и растерзали одного
из нас, решившегося донести до них свет свободы. Пред
лицом угрозы такого тоталитаризма мы должны крепить
наши общесобаческие ценности, наши поводки!
Кажется, я ничего не перепутал в переводе с
общечеловеческого на общесобаческий: степень дезориентации
и подмены именно такова. Если внутренняя связность
свободы обеспечивается теперь посредством невидимого, но
очень прочного поводка, то не меньше изменился и облик
врага свободы.
Да, имя ему прежнее - фашист. Но как бы это
сказать... Сравнение с Гитлером прямо на наших глазах
претерпело стремительную инфляцию: вслед за Лукашенко
и Путиным мировая прогрессивная общественность
добавила туда и Виктора Орбана - список стремительно
пополняется. Скоро в ряды фашистов начнут попадать
отъявленные гетеросексуалы, особенно имеющие
неработающую жену, детей и любовницу. Если таковым вдобавок
окажется белый - лучше готовить оправдания уже сейчас.
Есть ли шансы прийти в себя, выйти из этого
обморока свободы? Во всяком случае, понятно, с чего начать -
213
с исправления имен. С идентификации подмен и
бесстрашной готовности все же назвать вещи своими именами.
Сейчас можно добавить, что субкультуры, бросившие
вызов социальной инженерии, проиграли борьбу, а ведь
вроде бы имели шансы: вспомним байкеров, эмо, скинов,
готов - им не удалось даже поколебать трусливую
толерантность. И одной из причин этого было как раз
отставание археологических изысканий, отсутствие крупиц
подлинного опыта истории. А этот опыт, в частности, призывает
исходить из наличия руин и, следовательно, из постановки
вопроса «Как возможно топологическое преобразование,
способное изменить до неузнаваемости зависть,
одержимость, агрессивность, авантюризм?». Как оно возможно
таким образом, чтобы обрести наполненный смыслом,
облагороженный ландшафт нравственности и самой жизни?
И вот этика высокой реставрации - ЭВР -
высказывает свои предположения и предпринимает попытки.
Многим она тем самым указывает путь посюстороннего
спасения и востребованности и одновременно в других случаях
ставит свой безжалостный диагноз: неспасаемо. Она, стало
быть, определяет и неисправимых подонков всех времен,
которые останутся таковыми при любой этической
системе. Например, предатели по призванию, многочисленные
агенты всемирного жлобства - осадочные породы
устойчивой социальности... Может быть, конечно, не такие уж
они и подонки, но совершенно точно не найдется мира, где
их установки сошли бы за признаки порядочности.
Для воинов, авантюристов, неистовых пророков такие
миры найдутся; найдутся они и для капризных красавиц,
чья верность воистину дорогого стоит: возможно, это даже
будут лучшие миры, вышедшие из-под безраздельной
власти Духа тяжести.
214
6
Но, как справедливо было сказано у Ницше: доколе
мы будем слушать речи о канатных плясунах? Пора бы
увидеть хоть одного из них.
И вот образец этики, созданной или, лучше сказать,
учрежденной с учетом изысканий ЭВР. Это этика,
отринувшая вечность и посмертие и поставившая во главу угла
настоящее. Не какое-то выдуманное настоящее, а то,
которое есть и которого скоро не будет. Эту этику учредили
мои знакомые и уже несколько лет ею руководствуются,
впрочем, если сказать «пользуются» - большой беды не
будет. Открывать их имена я не уполномочен,
поэтому буду использовать прозвища, как это делал Валентин
Катаев в своей прекрасно написанной мемуарной вещице
«Алмазный мой венец» (тем более что они и сами иногда
так называют друг друга). Итак, вот они: Лань,
Дежурный, Ветер, Диплодок, Крона, Воск. С тех пор как они
учредили свои правила, или нравственные установки, круг
сообщества расширился - я знаю далеко не всех, только
перечисленных учредителей.
Правила сообщества просты и внутренне связаны -
и конечно, похожи на некоторые обыкновения жизни,
встречающиеся просто так, без всякого учреждения.
В данном случае они сведены в систему, а
придерживающиеся их - в сообщество.
Итак, что означает отстыковка от вечности и
обращенность к подробностям настоящего? На ум сразу же приходят
эфемеры - прожигатели жизни и циники с их девизом
«После нас хоть потоп», но и то и другое в данном случае далеко
от действительности. Если мы ставим на настоящее и
выбираем его как саму действительную жизнь, это значит, что наше
215
сегодня, наше здесь и сейчас, не должно быть ничем омрачено
и искажено. Представление же о том, что нужно непременно
все успеть, вносит сильнейшее искажение, несомненно
разрушающее порядок настоящего. Ибо оно, настоящее, должно
предстать в своих подробностях и в собственных ритмах.
- И для этого должно быть защищено от помех, -
говорит Лань. - Первая помеха - одержимость будущим.
Систематические искажения такого рода в жизнь Европы
внесло христианство. От этой одержимости не так легко
избавиться, ведь она предполагает, что самое главное
непременно произойдет когда-нибудь потом. Неважно даже
когда: завтра, когда власть сменится, в следующей
жизни - главное, что это будет потом. И результат известен:
обесцененное, пустое сегодня. Но и вторая помеха,
приходящая с противоположной стороны, приводит к тем же
результатам: непреодолимое ощущение того, что, быть
может, прямо завтра наступит день без тебя, точно так же
не сулит ничего хорошего сегодняшнему дню. И поэтому
жить сегодня означает вовсе не то, что обычно
вкладывают в понятие «жить сегодняшним днем».
Так говорит Лань (не раз говорила) и с ней
соглашается и дополняет ее Дежурный:
- Приобщенность к вечности обычно понимают как
что-то окрыляющее. Но почему-то никто не думает о том,
что вечность - это тяжелый груз, и не задумывается,
каково это - жить под грузом вечности. Не потому ли все
ходят такие придавленные...
А вот что говорит Ветер (Ветер - это она, и любой,
познакомившийся с ней поближе, убедился бы в точности
этого имени):
- Согласно Ницше человек пришпорен и ангажирован
будущим. И многие согласятся с печальными последствия-
216
ми такой одержимости, но как быть с надеждой? Она ведь
тоже форма присутствия будущего, если угодно, легкий
шлейф самой вечности. Увы, это мнимая легкость.
Я, помнится, спросил ее:
- Ветер, все, конечно, помнят про ящик Пандоры. Но
ты уверена, что можно вообще обойтись без надежды?
Она ведь проникает даже в мельчайшие промежутки
времени повседневности?
Она ответила достойно:
- Вообще обойтись без надежды и в самом деле
нереально, и я не знаю таких людей. Однако ее можно
заменить и компенсировать с пользой для дела.
- Чем?
- Риском, - ответила Ветер. - Если все, что мы
числим за надеждой, представить как долю риска, на который
ты готов или не готов пойти, интоксикация настоящего
уменьшится, а то и вовсе прекратится. А день, в котором
ты живешь, станет насыщеннее и честнее.
- Новая этика должна быть системой локальных
настроек, - дополнил ее Диплодок - свое прозвище он
получил, когда жил где-то в провинции и при этом был
дипломированным доктором (дипло-док). - Эти настройки
нужно, конечно, правильно выстроить, и тут исторические
и археологические изыскания нам в помощь. Примерять
все на себе слишком затратно, поэтому так важно узнать,
как это когда-то работало.
- Но кое-что все равно приходится проверять и
уточнять на собственном опыте, - опять говорит Ветер.
И Диплодок с ней соглашается...
Вот насыщенность настоящего и его необремененность
задолженностями, откладываниями, пресловутым
грузом вечности - тут ведь не найти прямых соответствий,
217
обнаруживаются лишь подходящие блоки, требующие
самостоятельной новаторской сборки. И каждый поворот
модуля значим - ведь требуется построить многомерную
фигуру, используя компоненты, которые могут показаться
абсолютно неподходящими, например, в силу измененной,
а то и извращенной топологии, так что в иной
комплектации смысл может радикально поменяться.
Допустим, христианство, которое на протяжении
своего многовекового существования претерпело множество
топологических, а стало быть, и этических изменений,
несмотря на то, что первичный текст (Священное Писание)
оставался неизменным. Этика первых христиан как одного
из самых мобильных сообществ в мире не просто
оказала влияние на сторонников самодостаточного настоящего,
устраняющих посторонние обремененности как неэтичные
и, если угодно, безнравственные, - она была включена как
модуль в опыт проживания. Казалось бы, подключенность
к вечности, к страстно ожидаемому Спасению, должна
была вызвать сильнейшее искажение и обесценивание
реального, проживаемого здесь и сейчас. Но результаты
далеко не столь однозначны, поскольку способы
причастности к трансцендентному удивительно различны. Та же
вечность может быть обременением, обузой, тяжким
грузом, стесняющим свободу буквально всех движений здесь
и сейчас, и слишком часто выступает она в этом качестве.
Однако иной способ причастности создает что-то вроде
левитации, позволяющей преодолевать затруднения
сегодняшнего дня, избавляться от интоксикаций, приходящих
из завтра, из ближайшего будущего, о котором нужно
подумать, не замечая того, что это самое будущее о тебе уже
так «позаботилось», что заключило в свои кандалы и цепи
и сковало свободу движений (а также мыслей, восприя-
218
тия, открытых чувственных проявлений) похлеще всякой
вечности.
Спутники Иисуса, его апостолы, уже обрели жизнь
вечную, и все свершилось, как сказано было в Евангелии:
«Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Когда те,
первые христиане, отбросили заботы о завтрашнем дне и
помыслы о царстве Кесаревом, они и вправду стали как дети
и как лилии, не беспокоящиеся об убранстве своем, и
потому оказались погруженными в день сегодняшний совсем
не так, как те, кто не слышал слов Христа или не принял
их близко к сердцу.
Провозглашенный Иисусом легкий настрой позволил
разблокировать скованность настоящего, его
практикуют и поборники самодостаточного настоящего, именно
в этом отношении они такие же, как первые христиане,
как те, кому была адресована Благая весть. И они ратуют
за расчищенное присутствие, максимально избавленное от
страхов и обремененностей, но при этом некоторые
другие установки, реализованные в историческом развитии
христианства, им чужды. Чужды постоянные внутренние
отсылки к тому, что ждет на том свете, и вообще оценка
происходящего сегодня с точки зрения будущего
спасения или адских мук, ибо получается, что на смену десяти
одержимостям пришла одна, куда более суровая, чем все
прежние, вместе взятые, - одержимость потусторонним.
Ее приверженцев и одновременно жертв, Ницше так и
назвал - «потусторонники», осуществляемое ими насилие
над настоящим, конечно же, отвергается описываемой
здесь этикой. Собственно, именно этого и требует
археологический подход: взять только то, что нужно, не
допустить сопутствующих отягощений и обременении, даже
если они сопутствуют избранным феноменам как другая
219
сторона медали. Ведь и благородные руины одухотворяют
пейзаж в одном аспекте-ракурсе и передают лишь
мерзость запустения в другом.
Так, апостольская легкость на подъем должна быть
удержана и культивирована - но не для того, чтобы вскоре
надеть тяжелые вериги и подчиниться еще более
безжалостной рутине расписания.
Вот что об этом говорит Воск, своего рода мастер
гармонии слова и дела:
-Те христиане первых веков освободили себя от
страха смерти. Они нашли экзистенциальную технологию,
которую не смогли разработать стоики. То. что у Марка
Аврелия было в значительной мере декларацией и
декорацией, для первых христиан стало этическим принципом
жизни и прямой чувственной настройкой. Все очень
просто: наш Господь претерпел смерть, и ничего страшного
с ним не случилось, мы это точно знаем. В отличие от
доводов Марка Аврелия, первые христиане знали
просто по факту: смерть не окончательна и не всесильна.
А освобождение настоящего от страха смерти есть
великое очищение: сразу устраняются главные помехи для
утренней свежести, дневной сосредоточенности и
вечерней прохлады.
После этих слов Воск с некоторым сожалением
смотрит на собеседника и продолжает:
- Но, как предупреждал один умный человек: «Когда
гора падает с плеч, береги ноги». А христиане не уберегли.
Стоило только очиститься от страха смерти, как на
горизонте тут же возникла озабоченность посмертным
существованием и охватила их целиком. Беспечность
проживаемого дня и открытость настоящего тут же испарились.
И за него договорила Ветер:
220
- Вот ведь что удивительно в этом добровольном
навьючивании на себя непрошенной заботы. Допустим,
ты хочешь жизни вечной, той, что наступит после
твоей нестрашной смерти. Но что ты знаешь о той жизни,
которую стоит хотеть? Тем более о той, которую можно
хотеть на вечные времена? Ты ведь знаком лишь с этой
жизнью, с которой не жалко расстаться, и все
представления об иной жизни связаны с тем, чего здесь не
хватает. А вот чего здесь хватает - это остается
неведомым. Ведь всю эту жизнь ты озабочен лишь той
жизнью, поэтому обе они для тебя коты в мешке. Вот
если бы ты мог вместо двух призрачных жизней обрести
хоть одну настоящую, здешнюю, то мог бы хотя бы
хотеть предметно.
- Да, - вторит ей Лань, - я даже проверяла
практически. Нескольким смертным, из тех, что так хотят вечной
жизни, но при этом даже не знают, какой жизнь вообще
бывает, я говорила: «А хотите иной жизни сегодня? Могу
предложить на пробу...» Все трое отказались, даже не
спрашивая, о чем идет речь - потому что боятся. Не хотят
жизни в пределах возможного, добиваются сразу вечной.
Они думают, что единственная проба повредит вечности.
Тогда в разговор вмешался и Диплодок:
- Кажется, я помню этот случай: Лань
воспользовалась методом Сократа и стала спрашивать - это
произвело впечатление. Лань, можно воспроизведу, уж больно
понравилось.
- Валяй.
Ну вот Лань спрашивает:
- Как вы думаете, а есть вечное вино в той иной,
спасенной жизни? Терпкое, выдержанное, благородное и
вечное?
221
- Ну не знаю, - ответил тогда собеседник, стойкий
был сектант, помнится. - Может быть, оно там, в раю,
и не нужно.
- А вечная любовь? - не отступалась Лань
-Да.
- Какая она?
- Тебе не понять.
- Но ведь наверняка она, эта вечная любовь, без глотка
вина, без поцелуев и объятий, - уточнила Лань с
коварной улыбкой.
- Представь себе, - гордо ответил сектант.
- Может, и все в той вечной жизни такое же, без глотка
вина, без самозабвенного чувства?
Тут сектант мог бы сказать что-нибудь вроде «Изы-
ди, сатана!» - но нужно отдать ему должное, он не сказал
этого, просто попрощался и ушел.
- Да. И до сих пор продолжает стяжать жизнь
вечную, - подтвердила Лань.
Стало быть, вот что постигло многих христиан после
того, как они избавились от страха смерти. Вечность,
вытащившая их из болота повседневной озабоченности, все-
таки тяжелым грузом легла им на плечи: немудрено, что
в реставрированную этику полномасштабного
настоящего входит один модуль и не входит другой (или другие).
Создаваемая конструкция так и была задумана: взять из
различных этических систем лучшее и при этом взаимно
подходящее - для чего, собственно, и проделываются
археологические изыскания.
Напрашивается сравнение с этикой хиппи, притом
вполне обоснованное. Идеал хиппи, а отчасти и всей
контркультуры, состоял в реабилитации настоящего, что,
разумеется, приветствуется этикой самодостаточности
222
проживания проживаемого. У хиппи было нечто похожее
на беззаботность первых христиан, переставших бояться
смерти и уделять ей слишком много внимания. Однако, как
уже отмечалось, уверовавшие во Христа довольно быстро
взвалили на себя новое бремя, много тяжелее
прежнего, - в результате вернулся даже и страх смерти, в
специфической форме - как страх умереть без покаяния и
причастия.
Хиппи избежали этого бремени. Однако их забота
оказалась всецело направленной на культивирование
обособленного настоящего. Для такого настоящего, в котором
разворачивалось бытие хиппи, почти совсем непригодной
оказалась «простая жизнь» или, если угодно, обычный
человеческий удел. Труд, решение практической задачи,
самореализация, познание и, так сказать, воля к
пониманию - это и многое другое выпало из жизни хиппи.
Таково неизбежное следствие всякого пофигизма, выходящего
за пределы трансцендентальной беспечности: происходит
сжатие жизненного мира и утеря возможностей доступного
бытия-присутствия. Это кажется странным, поскольку
избранные привилегированные занятия - странствия, музыка
и любовь - прекрасны и, несомненно, относятся к лучшему
из того, что может выпасть человеку. Жизнь, напрочь
лишенная чего-либо из перечисленного, неполноценна.
Джим Моррисон, один из выразителей мировоззрения
рок-культуры, однажды сказал: «Самое важное в
жизни - найти три правильные вещи: правильную любовь,
правильное искусство и правильный наркотик (drugs)».
Но любовь к трем апельсинам, трем цукербринам или
к трем вещам, даже таким важным, выдыхается в
безвоздушном пространстве - требуется еще тысяча
мелочей и искусство подробностей, помогающее прожить их
223
с толком, с чувством и с расстановкой. А эти мелочи в
основном просто вещи и привязанные к ним умения -
коньки, закладки для книг, ягоды, которые можно собрать
и сварить из них варенье. Или, к примеру, пополнить
знания о шумерской цивилизации, о городах ЭД) и ^рук -
потому что это интересно.
Настоящее должно иметь достаточно большую емкость,
чтобы вместить всю эту тысячу мелочей, оно во многом
складывается из искусства подробностей. И из
разнообразных узоров времени - а узоры эти имеют
различную размерность, и было бы ошибкой ограничиться
только краткосрочными, то есть эфемерными узорами - этика
самодостаточного настоящего отнюдь не похожа на этику
бабочек-однодневок. Отсутствие тяжелых, искажающих
обременении - это одно, и лишь в этом смысле
приверженцы мировоззрения практикуют сброс вечности, но
долгосрочные узоры времени, обладающие соизмеримой
человекоразмерностью, могут и должны быть
предъявлены к проживанию. Вот что пишет анархист Хаким-бей,
одним из первых поставивший задачу осознанной
разработки экспериментальной этики:
«По всему миру люди покидают Сеть Отчуждения или
"исчезают" себя из нее, пытаясь разными способами
восстановить человеческие контакты. Интересный пример
этого - на уровне "городского фольклора" -
повсеместное распространение групп и конференций "по
интересам". Недавно мне попались на глаза фэнзины двух таких
групп - Crown Jewels of High Wire (посвященный
коллекционированию стеклянных изоляторов для ЛЭП) и
журнал об изучении реторт и перегонных кубов (под
названием "Тыква"). Эти увлечения высвобождают огромные
количества творческой энергии. Разнообразные периоди-
224
ческие встречи товарищей по безумию превращаются в
настоящие неопосредованные праздники эксцентризма...
Огромные куски Вавилонской империи сейчас
практически опустели; там живут только массмедииные призраки
и несколько психованных полицейских»*.
Хаким-бей пытается сконструировать этику
анархизма, которая, однако, получается у него слишком
декларативной и демагогичной, но некоторые соображения вполне
справедливы, например:
«По-видимому, люди должны иметь право сами
выбирать, с кем им жить. Коммуны "с открытым доступом"
всякий раз переполняются нахлебниками и жалкими
сексуально озабоченными уродами... нет никакой нужды
постоянно держать двери открытыми для всякого пробегаю-
щего мимо самопровозглашенного симпатизанта ».
Этот принцип соблюдается и в этике полноценного
настоящего, которая, впрочем, лишена показного
эксцентризма и ориентирована именно на воспроизводство
различных узоров времени, многообразных темпорально-
стей, вообще составляющих содержание жизни, причем не
в форме «мной живут», а в состоянии «я живу». Увлечения
самого разного рода вполне могут иметь место в
переходящей эстафете интенсивного, насыщенного сего дня - но
никоим образом не в силу инерции.
Далее. Мотивы одиночества, конечно, неустранимы
из узоров времени, но их ассортимент, как ни странно,
ограничен. Многие очень важные и притом глубокие,
содержательные мотивы (фигуры времени) неотделимы от
бытия-в-совместности. Кроме того, речь идет об этике,
* Хаким-бей. Хаос и анархия. Революционная сотериология.
М.. Гилея. 2002. С. 64.
** Там же. С. 66.
225
а этика непременно взывает к сообществу, даже если это
незримое сообщество как в этике левой руки. Поэтому
именно здесь обнаруживаются долговременные узоры
присутствия особой важности - верность, дружество,
обмен ролями, соучастие в произведении и в воссоздании
предмета, - эти установки имеют и этическую, и
эстетическую сторону.
И даже техническую сторону - сюда относится
этически окрашенная периодическая проверка причин
занятости, похожее на «эпохе» Гуссерля: почему мы сейчас
этим заняты? почему я в этом участвую? Если причиной
оказывается простая инерция или что-то вроде груза
вечности, искривляющего и деформирующего всякое сейчас,
то вполне уместно поставить вопрос, стоит ли этим
заниматься.
Вполне возможно, что да, - если долгосрочный узор,
например, дружбы диктует продолжение, быть может,
никак не связанное в конкретностью этого проживаемого
дня. Но столь же возможно, что и нет. Ибо ты не обязан
делать что-то сегодня только по той причине, что делал
это всегда или достаточно долго - вдруг найдется более
интересное занятие?
Приоритет нового дня означает, что все, что
«навсегда», должно подвергаться периодической ревизии: не
выдохлись ли образцы жизни, цели, неустранимые
препятствия - все, что было актуальным еще вчера и тем более
позавчера? В таком случае они остаются только
источником самообмана, тем, что не будет выполнено и
помешает выполнить нечто важное и возможное именно сейчас.
В одной из своих книг Виктор Пелевин проницательно
заметил, что по прошествии времени скисшее добро уже
ничем не отличается от выдохшегося зла, но сюда можно
226
прибавить и зависшее где-то в вечности обещание.
Хорошо еще, если оно просто забыто, иначе будет оказывать
парализующее воздействие как и другие опасные,
просроченные продукты вечности.
Я спросил об этом у Ветер, которая была в то время
переводчицей с португальского в каком-то бизнес-центре,
а может, была уже инструктором по альпинизму:
- Ветер, ведь самые главные обещания даются навек,
в этом и состоит их смысл. Если взять обещания всего
мира, действующие на данный момент, наверняка самыми
распространенными словами в них будут «всегда» и
«никогда».
Ветер улыбнулась:
- Nevermore.
- В смысле? Из Эдгара По?
- Да, это прокаркал ворон: nevermore. И отсюда
вытекает полезная мораль для всех обещающих, для
«животного, смеющего обещать», как говорил Ницше. Обещая,
следи, чтобы обещание твое не походило на карканье
ворона - то есть, никаких nevermore и forever.
Я заметил, что говорящим по-английски в таком
случае легче контролировать и корректировать свои обещания
и спросил:
- А если любовь? Разве она может обойтись без
обещания вечности?
Ветер снова улыбнулась и сказала, что для любовных
клятв и обещаний есть своя особая форма: пока навсегда!
Помню, мне хотелось спросить, приходилось ли ей
слышать или самой говорить такие слова, но, опередив меня,
она добавила: «Я именно так и делаю».
Тем не менее предосторожность насчет nevermore
показалась мне неоправданной, чем-то вроде чрезмерной
227
осторожности. Человеческая суверенность, конечно,
всегда под угрозой и постоянно в опасности, но я все же
думаю, что человек находится в экзистенциальном
измерении и пребывает в полноте своей суверенности до тех пор,
пока жив его внутренний ворон...
И все же надо отдать должное, эта компактная этика,
выстроенная совершенно осознанно, с полевыми
испытаниями отдельных модулей, очень неплохо работает.
Очищенное от одержимостеи и от паразитарных повторов, от
инерции и зависаний, настоящее выглядит весьма
симпатично, при всех возможных возражениях трудно оспорить
притягательность такого проживания.
Мы не обнаружим здесь ни господства пофигизма,
слишком часто опирающегося на слабость и малодушие,
ни той пресловутой «пришпоренности будущим», которая
безжалостно опустошает настоящее. Вместо этого каждое
сегодня имеет свой предмет и, значит, свою заботу,
которая, впрочем, отнюдь не похожа на непосильное бремя,
а просто актуализована сегодня именно как некое дело
и как предмет, поскольку предмет этот не свалился с неба,
а был выбран. В нем наверняка присутствует грань веселья
или иронии, непременная атмосфера совместности, даже
если именно сегодня она распадается на индивидуальные
задания, модальность дружества, непременно
включающая в себя и состязательность (в том числе и как подна-
чивание) - а также и структуру приключения как то, что
нельзя распланировать, но можно иметь в виду.
Вспомнив Джима Моррисона, здесь уместно вспомнить и Тони
Моррисон, замечательную американскую писательницу.
В одном из ее романов умирающая женщина,
окруженная семьей и своими близкими, высказывает причуды,
которые послушно исполняются - кажется, среди них
228
был «день в оранжевых тонах», и в этот день ее окружали
апельсины, оранжевые шторы и то, что можно сопоставить
с оранжевыми оттенками в музыке и вообще в искусстве.
Это близко к этике насыщенного полновесного
настоящего. Можно вспомнить также атрибут, непременную
черту императорского правления в Китае и в Японии:
каждое из них проходило под особым, выбранным девизом,
становившимся как бы темой эпохи или микроэпохи. Все
это характерно для интересующей нас этики, где тоже
выбирается особая тема и особая модальность предстоящего
ближайшего проживания, нередко именно этот день, но
бывает и несколько дней, и даже месяц, главное, что всегда
рассматривается обозримое будущее, словно бы способное
уложиться в законченное произведение.
При этом в поле внимания находятся
разномасштабные узоры времени, каждому нужно дать созреть, чтобы
он мог явить собственную подлинность, свое уникальное
настоящее. Окна времени распахиваются во все стороны,
и сторон этих несравненно больше, чем пространственных
измерений. И кстати, створки должны быть распахнуты
так, чтобы присутствовал свежий ветерок, а не
губительный сквозняк.
Стало быть, забота и предусмотрительность,
безусловно, представлены в этике настоящего, отчасти, опять же,
в духе куртуазного маньеризма транспонированного в
этическую плоскость. Круг бодрствования руководствующихся
этикой настоящего представляет собой нечто вроде festina
leute, праздника деятельности, но, опять же, не линейной
деятельности, а как бы свернутой в спиральный узор
времени. Среди способов, которыми забота входит в настоящее,
есть и «магнитики» - так мои знакомые называют пометки,
оставляемые на завтра, что-то уже обозначенное: доделать,
229
какое-то направление развернуть; многообещающие
намеки с некой ответственностью намекающего...
- Магнитики необходимы, поскольку все
долгосрочные одержимости сброшены, а паразитарные повторения,
простые воспроизведения рутины, удалены. Но магнитики
притягательны и сами по себе, они прошли
многочисленные полевые испытания и оказались лучшими
побудительными причинами для возобновления бодрствования. Ведь
одно дело, когда въезжаешь в сегодняшний день с тяжким
грузом несделанного и отложенного, то есть въезжаешь на
не валявшемся коне. Тут шансов, что конь поваляется,
немного, и настоящее вполне может быть сбито зависанием
и расфокусированием. Иное дело магнитики: они
притягивают друг друга и легко собирают в кучку тебя
самого. Ну и другие тоже подтягиваются, и день наполняется
смыслом, интенсивностью проживания, а если магнитики
подобраны и расставлены правильно, то воссоздается
сразу несколько узоров и ты живешь в многоярусном
времени, где вечность на тебя не давит и ворон не каркает...
Так говорит Крона, единственная из всей
компании, которая свою профессию определяет как археолог-
реставратор.
* * *
Не будем больше углубляться в этот пример. Во-
первых, он слишком авторизован объединившимся вокруг
избранных ценностей сообществом. Во-вторых, мне
самому известны далеко не все детали. Но я, собственно, и
хотел лишь указать на возможность этической археологии
и тем самым еще раз продемонстрировать актуальность
этики под ключ как свободного выбора сообщества.
VII
ЭТИКА В КАРТИНКАХ
1
Сегодня довольно популярны этические задачки или
головоломки типа «кого нужно в первую очередь спасать,
если рядом тонут...» - и далее следует перечисление
различных персонажей: сосед, твой отец, величайший
физик, тот, кого ты первый раз видишь, и так далее. Или
вот еще: если можно спасти только одного из своих детей,
то... - и выстраиваются ситуации различной степени
неправдоподобия. В общем, задачек немало. В популярных
в англосаксонских странах курсах (учебниках) они могут
составлять половину учебного материала, а многие
преподаватели уверены: подобные задачи имеют тот же статус,
что и задачи математические и физические - впрочем,
сами математики и физики этого мнения не разделяют.
Один мой знакомый физик высказался о
соответствующих задачках так: «У них нет общей системы отсчета
и не выполняется правило соизмеримости»; а математик
изложил свою трактовку: «Представь, тебя спрашивают:
"Ты старше ?" - и ждут ответа. А ты ждешь
полноценного вопроса - "Кого именно старше?". К тому же они
тупые», - добавил знакомый, в свою очередь не уточнив,
231
что или кто имеется в виду - задачки или их
составители... Между тем задачи такого рода возникли не вчера,
мы без труда обнаруживаем нечто подобное у самого
Канта. Вот из его сочинения «О педагогике» (1803):
«Например, если кто-нибудь, будучи должен сегодня
заплатить своему кредитору, но тронутый видом
нуждающегося, вручает ему сумму, которую он должен и которую
ему следовало бы уплатить, то справедливо это или нет?»*
Сейчас ответ, скорее всего, был бы приведен в конце
учебника и, разумеется, зависел бы от системы отсчета, от
того, какую именно этику, систему нравственности, автор
принимает в качестве само собой разумеющейся. Но Кант
дает ответ сразу, причем ответ, не лишенный изящества:
«Нет, это несправедливо, потому что я должен быть
свободен, если я хочу делать благодеяния»**. Однако даже
в рамках кантовской ригористической этики этот редкий
поясняющий пример не имеет статуса логической или
математической задачи.
И лишь если мы отправимся еще на пару тысяч лет
назад, в греческий полис, где помимо этики
существовал еще и этос, мы обнаружим наконец примечательное
совпадение по статусу логических и этических
исследований. В каком-то смысле делом случая оказался тот
факт, что логика (силлогистика) была формализована
Аристотелем, а этика нет. Обычно же для европейской
традиции моральный кодекс есть совокупность
постулатов или, если угодно, набор инструкций - от Нагорной
проповеди до морального кодекса строителя коммунизма
мы имеем априорное, директивное знание, практически
* Кант И. Сочинения. 1994. Τ 8. С. 452.
** Там же.
232
лишенное обратной связи с полем его применения: нет
никакой эмпирической сферы поступков, где
директивы могли бы быть проверены и откуда могли бы быть
внесены уточнения в кодекс. Кант как честный человек
и отвергающий махинации мыслитель прямо
характеризует данное обстоятельство как руководящий принцип
морали, принцип als ob: поступай, невзирая ни на что,
по велению долга, в соответствии с принятым
императивом. Ты не должен думать о последствиях и тем более
не должен принимать последствия как аргумент для
пересмотра и уточнения императивов. Кант признает это
в силу продуманности оснований и потому, что отдает
себе отчет в том, что происходит, когда мы видим мораль
в действии.
Другие, не столь проницательные или не столь честные
морализаторы, призывают «считаться с живой жизнью»,
но как с сопротивлением среды - как раз потому, что
отсутствует этос как универсальная практика сущностного
общения людей. Отсюда и бессмысленность и, скажем так,
нерелевантность разного рода задач и исчислений - нет
экспериментальной базы, нет и проверочной инстанции.
Иное дело, опять же, греческий полис, который таким
этосом является по преимуществу и прежде всего. Тут
действительно можно рассчитать и вывести пропорцию,
подобно логической фигуре, имея в виду только, что
полис (государство) имеет различные версии и все они суть
экспериментальные базы своих собственных этических
принципов. Поэтому и неудивительно, что главное
занятие Аристотеля, например, в «Никомаховой этике», - это
выстраивание пропорций и правильных соотношений.
Например, «мужество» задается определенным,
экспериментально подтверждаемым положением между робостью
233
и безрассудством, и именно это золотое сечение, а не
набор инструкций для той или иной конкретной ситуации
является мужеством. Само мужество имеет динамическое
расширение - как раз на случай чрезвычайной
ситуации, - и тогда оно именуется отвагой, его же вынужденное
сжатие в крайне неблагоприятных или безнадежных
условиях называется стойкостью. И эти соотношения
(пропорции) могут быть рассчитаны, предъявлены и способны
произвести расчетный эффект; их место, их сфера явлен-
ности где-то между физическими константами и
логическими фигурами. Понятно, что в таких случаях необходим
этос, но он был утрачен с исчезновением полиса и с тех пор
этика как бы парит в безвоздушном пространстве.
Именно там и разместил свою конструкцию Кант,
получив выигрыш в чистоте принципов, решительно
подчеркнув, что все остальное, «остаточное» -
психологические корреляты, житейские привычки и обычаи - суть
гетерономия, посторонние моменты, которые моральный
субъект может и должен отвергнуть. Возмездием за
обретенную чистоту и автономию (за отсутствие этоса) стала
легкость перехода к практически любой альтернативе. Да,
наше автономное законодательство не омрачено никакой
воплощенностью, в нем нет поправок ни на ветер, ни на
сопромат мира. Оно единственное, опирающееся на
абсолютную систему отсчета, - никакого релятивизма. Но тем
самым оно совершенно беззащитно перед другим, таким
же единственным законодательством, беззащитно именно
потому, что нет общего поля, откуда могли бы прийти
общие коррекции. И в конечном счете с этикой случилось
то, что произошло бы и с физикой, если бы она лишилась
прямого доступа в природу. Сколько бы мы имели тогда
нетривиальных и неординарных физик!
234
Очень даже хорошо все это понимая, Кант не стал особо
заморачиваться содержанием предлагаемого автономного
законодательства (то есть в данном случае - начинкой)
и сосредоточился на обязательности и принудительности
самой формы als ob. Интересно, что еще до написания
первой «Критики» Кант подверг сомнению возможность
какого-либо духовного законодательства, которое
опиралось бы на опыт, а не на чистую волю, например. Привело
же его к этому, в частности, знакомство с грезами Све-
денборга, весьма модными в то время, но вроде бы к
этике не относящимися. Вот отрывок из письма к Ламберту
1765 года:
«[Это, конечно], пример того, как далеко и притом
беспрепятственно можно продвигаться в философских
измышлениях, где данные отсутствуют, и как важно, когда
ставится такая задача, выяснить, что именно необходимо
для решения проблемы и не отсутствуют ли для этого
необходимые данные. Если мы поэтому оставим пока в
стороне доказательство, исходящее из гармоничности [мира]
или из божественных целей, и спросим, возможно ли
когда-нибудь на основании нашего опыта такое знание о
природе души, которого было бы достаточно для того, чтобы
исходя из него познать, каким образом она присутствует
в мировом пространстве как в отношении материи, так
и в отношении существ одинаковой с ней природы, - то
тогда выяснится, есть ли... жизнь и смерть нечто такое,
что мы когда-нибудь сможем постигнуть с помощью
разума. Здесь важно решить, не существуют ли здесь
действительно границы, положенные ограниченностью
нашего разума, как в опыте, содержащем в себе данные для
решения вопроса»*.
* Кант И. Сочинения. 1994. Т. 8. С. 477-478.
235
Дальнейшие размышления привели Канта к выводу,
что никаких «необходимых данных», которые дожидались
бы своего изучения, в сфере морали не существует, в ней,
в этой сфере, нет ничего, кроме самой формы
необходимости, аподиктической модальности.
Категорический императив нельзя нарушить, оставаясь
при этом в пределах человеческой нравственности, но
запросто можно подменить его содержание, сохраняя при этом
саму императивность. И остается скорее удивляться тому, что
подмены эти начались не сразу, что они так долго
набирали обороты. «Ревизионисты» нравственности долгое время
пытались идти путем релятивизации «вечных устоев», пока
наконец эпоха трансгуманизма и социальной инженерии не
поставила человечество перед нравственной непреложностью
безумных директив, каждая из которых показалась бы
Канту нелепой или чудовищной, сохранив при этом безусловную
«категоричность» проекта, выдаваемого за
общечеловеческую этику.
Мысль о том, что аподиктичность, общеобязательность
этики не противоречит при этом ее полной произвольности,
не сразу проникла в человеческое сообщество. В таком
положении дел, безусловно, есть странность, чем-то
напоминающая ситуацию с торжественным обещанием, как если
бы кто-то провозгласил утром: я торжественно обещаю, что
сделаю так! А вечером заявил бы: а теперь я торжественно
обещаю, что сделаю иначе! Формат торжественного
обещания (ну или клятвы) был соблюден и утром и вечером,
а то, что «содержание» обещания изменилось при этом на
противоположное, - ну что ж, бывает...
236
Странность, конечно, налицо. Но, как гласит русская
пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло.
«Ползучая релятивизация» имела место всегда, и
воспроизводила она достаточно широкий спектр: от
криминального экзистенциализма (бытие по понятиям) до
какой-нибудь специфической цеховой этики вроде этики коллегии
адвокатов или, например, журналистской братии - эта
релятивизация, впрочем, не угрожала категорическим
императивам, поскольку сами ее носители склонны были
считать, что есть текущая жизнь с набором правил
порядочности и правдивая жизнь, этика которой неизменна.
Однако свершившееся в конце концов осознание того,
что этика есть, в сущности, партитура достойной жизни,
действительно открыло новый этап. Да, вот музыка, она
внутренне связана, в ней есть даже некая собственная
необходимость - и все-таки у музыки мира не
один-единственный композитор. Как уже отмечалось, творческое
усилие художника - его персональная демиургия -
освободилось от непременной привязки к эксклюзивной
форме опуса и прорвалось в сферу, где как раз и
создается партитура достойной жизни. Но, как водится, раньше
художников этой возможностью воспользовались
фальшивомонетчики, «переориентировщики рессентимента»,
если говорить в терминах Ницше, и мир обрел самое,
наверное, фантасмагоричное законодательство чистого
практического разума, где сохранились большинство ключевых
понятий просто в качестве слов, при полной подмене
содержания. Что же, ведь это массовое облапошивание было
принято за чистую монету! Использование «нравственных
критериев», императивов, причем, как выражаются
юристы, «в особо извращенной форме и с отягчающими
обстоятельствами», конечно, сыграло свою роль. И что тут
237
мог бы подумать философ или художник? Например: «Ну
надо же, что творят? А я-то что, я-то где?»
Ну, философ ладно, ему свойственно опаздывать,
хотя не до такой же степени, но художник? Почему до
сих пор не раздался простой крик души всякого
художника: «Я столько лет ограничиваю себя искусственными
рамками локального опуса, холст-масло, понимаешь ли,
ямб-верлибр опять же... А тут фальшивомонетчики и
бездарные самозванцы как ни в чем не бывало конструируют
нравственность! У меня-то на это всяко больше прав!»
Что ж, сегодня, по крайней мере, можно сказать:
процесс пошел. И его уже не остановишь, свободная
конкуренция этических приложений-предложений, причем как
авторизованных продуктов, пусть с опозданием, но
началась. И нет сомнений, что разработка и предложение тех
или иных этических систем под ключ будет только
набирать обороты и осуществляться, скорее всего, на поле
совместных усилий философии и искусства.
Одной из разновидностей такого творчества можно
как раз считать этику в картинках. В простейшем виде
это использование предметов и наглядных интуиции для
описания человеческих миров с пока еще не заданной, не
фиксированной этикой, и с соответствующим
требованием ее задать. Образцом для сравнения может служить
физика в картинках, которую практикуют некоторые
авторы - весьма удачно делает это Стивен Строгац. В его
книге «Ритм Вселенной» есть, например, замечательное
объяснение лазера и вообще излучения с помощью
арбузов и табуреток. Хочется привести большой фрагмент
объяснения, как раз в плане действующей картинки.
«Вообразите, что однажды утром вы проснулись на
какой-то другой планете и вашему взору открывается без-
238
жизненная пустыня. Вокруг вас нет ничего, кроме арбуза,
рядом с которым стоит табуретка. Вас, естественно,
интересует, зачем здесь табуретка. В поисках ответа на этот
вопрос вы берете в руки арбуз и кладете его на табуретку.
После этого арбуз начинает проявлять беспокойство,
ерзая и слегка подпрыгивая на табуретке. Почти сразу же он
сваливается с табуретки и раскалывается на мелкие
кусочки. А расколовшись, он сразу же выстреливает семечком,
которое со скоростью пули вылетает в случайном
направлении.
Описанная мною картина может служить некой
аналогией того, как вырабатывается обычный свет. Допустим,
вы включили свой тостер и его нагревательный элемент
испускает яркий красный свет. Причина этого свечения
заключается в том, что электрический ток, проходя через
нагревательный элемент, накаляет его. Нагрев переводит
атомы нагревательного элемента на более высокий
энергетический уровень (аналогией такого перевода на более
высокий энергетический уровень может служить
поднятие вами арбуза на табуретку). Спустя короткое время
каждый разогретый атом самопроизвольно соскакивает
на свой самый низкий энергетический уровень - то есть
в свое "базовое состояние" - и отдает избыточную
энергию, испуская фотон (световую частицу) в процессе,
называемом спонтанным испусканием; это подобно тому,
как беспокойно ерзающий на табуретке арбуз, соскакивает
с нее, распадается на части и выстреливает семечком...
Продолжая исследовать планету, на которой вы
проснулись, вы подходите к краю обширного поля, на
котором разбросано огромное множество арбузов, причем
рядом с каждым арбузом стоит табуретка. Вас начинает
разбирать любопытство: а что, если семечко, вылетевшее
239
со скоростью пули из расколовшегося арбуза, попадет
в другой арбуз? Чтобы инициировать этот процесс, вы
поднимаете один из арбузов и кладете его на табуретку,
которая стоит рядом с ним. Вскоре этот арбуз падает,
раскалывается и выстреливает семечком в произвольном
направлении, однако, на ваше счастье, на пути его
движения оказывается другой арбуз, лежащий на земле (хотя
речь идет о неизвестной планете, будем называть ее
поверхность землей). Как только арбуз, оказавшийся на
пути семечка, вберет в себя энергию удара, он вспрыгнет
на свою табуретку и сразу же начнет ерзать на ней, после
чего скатится с нее, расколется на части, выстрелит своим
собственным семечком - разумеется, в произвольном
направлении. Это будет поистине завораживающее зрелище:
одно семечко будет инициировать выстреливание другого
семечка, арбузы будут вспрыгивать на свои табуретки,
а затем скатываться с них... Подняв первый арбуз, вы
непреднамеренно запустили цепную реакцию - правда,
очень слабую и невзрывоопасную: ее масштаб
поддерживается на постоянном уровне, каждый раз выстреливает
лишь одно семечко. Правда, нужно заметить: если какое-
либо из выстреливших семечек не попадет ни в один из
арбузов, наша цепная реакция полностью "заглохнет".
...Мы упустили из виду лишь один - но очень
важный - аспект этой "физики арбузов": что произойдет,
если семечко попадет в арбуз, который находится на
табуретке, а не на земле? Чтобы ответить на этот вопрос,
вы одномоментно поднимаете много арбузов и кладете их
на соответствующие табуретки... Потрудившись таким
образом, вы быстро отбегаете в сторону и наблюдаете за
результатами своих усилий. Со временем какой-то из
арбузов обязательно упадет на землю, выстрелит семечком
240
и попадет в какой-то другой из ароузов, уложенных вами
на табуретки. (Вероятность такого попадания довольно
высока, поскольку вы успели водрузить на табуретки
изрядное количество арбузов.) После этого начинается самое
интересное. Вместо того чтобы застрять в арбузе, семечко,
нанесшее удар, пронизывает арбуз, не изменив
направления своего полета; еще более удивительным
оказывается то, что теперь это семечко продолжает свое движение
в компании с другим семечком, которое является точной
его копией. Иными словами, происходит клонирование са-
мечка, которое нанесло удар по арбузу. То есть было одно
семечко, летящее в определенном направлении, а теперь их
стало два»*.
Такова физика арбузов и табуреток. Она вполне
сносно объясняет переход с одного энергетического уровня на
другой (как запрыгивание арбуза на табуретку) и принцип
действия лазера, когерентного источника света. Однако
среди прочего такие картинки демонстрируют успехи
настоящего укоренения принципа относительности.
Возможное использование табуреток в качестве объяснительных
средств меняет статус физики в целом и среди прочего
обогащает картину здравого смысла. Быть может, для
физики, тем более квантовой механики, проникновение в
инструментарий здравого смысла не так уж и важно - с точки
зрения новых открытий и приложений это мало что может
изменить. Другое дело этика - здесь вторжение арбузов
и табуреток, вообще многообразных средств наглядности
того же ранга, существенно проясняет поле нравственного
выбора и в частности лишает самозваных манипуляторов
монополии на категорический императив. Этика в кар-
* Строгац С. Ритм Вселенной. Как из хаоса возникает порядок.
М., 2017. С. 139-141.
241
тинках - хорошая подготовительная стадия к открытию
свободного рынка душеспасительных предложений*. Еще
раз отметим: радоваться было бы нечему, если бы такой
рынок вдруг открылся на фоне действующего этоса, но
в мире подмен и торжествующих фальсификаций честная
конкуренция этических систем может стать спасительной.
Что ж, пора переходить к собственным картинкам.
Представим себе планету, где живут высшие разумные
существа и мыши. Мыши живут в полях, в лесах и на
пустырях, они готовы были бы ужиться с разумными, но
те, высшие существа, мышей не любят. Поскольку они
гуманны, они не хотят истреблять мышей полностью,
а держат их в гетто. Вдоль границ гетто расставлены
«умные мышеловки», снабженные фотодиодами или
чем-то вроде этого. Зоны мышеловок похожи на минные
поля, и тем мышкам, которые пытаются пройти через
ряды мышеловок, грозит выборочная смерть. Датчики
случайных чисел отправляют сигналы на исполнительные
устройства, и те срабатывают - тогда несколько мышек
погибают, а остальные иногда прорываются, иногда в
панике бегут назад. То есть процент потерь невелик, но
мыши в гетто наблюдательны, они знают, что их ждет,
и на вылазки решаются не так часто.
Впрочем, довольно скоро мыши обнаруживают
удивительную закономерность, связанную, быть может,
с изъяном в устройстве электронных мышеловок. Если на
* Следует отметить, что философия в картинках и даже философия
в комиксах вещь не новая, хотя по отношению к философии
как дисциплине или к академической философии совершенно
маргинальная. Тем не менее можно указать и на достойные внимания
работы, прежде всего на исследования Владимира Лефевра. См.,
например: Лефевр В. Рефлексия. М.: Когито-центр, 2003.
242
минное поле зайдет одна-единственная мышь, она
вскоре погибнет, но зато потом с генераторами и датчиками
что-то случается, они на некоторое время прекращают
работу, система дает сбой. И тогда все остальные в
едином порыве могут беспрепятственно прорваться сквозь
ряды смертоносных мышеловок - если не будут слишком
медлить.
Такова общая картинка мира, на которой могут
быть прорисованы различные нравственные принципы.
Допустим, внутри замкнутых резерваций существуют
различные мышиные общности (если угодно,
государства), по-разному относящиеся к своим участкам
границы с миром высших разумных существ. Где-то минное
поле вообще не пересекают, где-то оно даже окружено
дополнительным ограждением, уже со стороны мышей
(говорят, что двум таким государствам, вырсы -
высшие разумное существа - даже посылают
дополнительную подкормку), в других случаются неорганизованные
прорывы примерно так, как в наших обществах бунты
и революции.
Есть, однако, и такие государства, где используют
добровольцев, идущих на смерть, и тем самым
организующих прорыв. Их два. В одном подрывник определяется
жребием - опять же, из числа добровольцев. А в другом
существует небольшое элитное сословие - идущие на
смерть. Эти мыши знают, что их ждет, но не пытаются
переменить свою участь или пропустить свою очередь.
Быть может, их чтут как героев, но это не обязательно,
вполне достаточно и собственного кодекса, чего-то вроде
самурайского бусидо.
Так проступают очертания миров, в которых
возможны различные этики, только очертания, поскольку многие
243
принципиально важные обстоятельства пока не
определены, а они, в свою очередь, могут определить степень
категоричности выбираемых императивов. Например,
многое (особенно для внешнего наблюдателя) может
изменить вопрос «А что им там нужно, за полосой
мышеловок?» Быть может, им не хватает еды и экспедиции за
кордон есть способ избежать голодной смерти, а может,
за минными полями ничего такого и нет, в чем нуждались
бы мыши? Ничего, кроме свободы, - ведь им туда
запрещено, и мыши прорываются на территорию высших
разумных существ просто потому, что их туда под
страхом смерти не пускают. Для внешнего наблюдателя тут
разница принципиальна, но интересно, что в обоих
случаях возможны все виды перечисленных реакций, в том
числе и существование элиты идущих на смерть (тогда
перед нами не просто сообщество, а именно государство,
мини-модель империи). Кстати, и для дополнительной
внутренней стены в обоих случаях имеется примерно
одинаковое количество оснований, будет ли строго
охраняемым ресурсом опасная пища или опасная свобода.
Различия в толковании этики мышеловок способны породить
внутренние войны, которые, разумеется, будут войнами
добра и зла.
На самом деле, более важным моментом для
оценки этики из некой абсолютной системы координат будет
вопрос о том, кто эти высшие разумные существа,
установившие минные поля и предлагающие жесткий выбор.
Они могут быть совершенно трансцендентны мышиному
миру, так что мышке, какой бы она ни была
сообразительной, не дано понять назначения полосы препятствий
и выборочной смерти. Вопрошание, конечно, возможно:
что это? Нас пытаются оградить от гибели? Они миними-
244
зируют собственный вред? Хотят преподать нам какой-то
урок? Над нами экспериментируют?
Какое-нибудь продвинутое вопрошание будет
настаивать, что высший разум установил мышеловки не зря, но
тогда не напрасны и собственные дополнительные
заграждения... Быть может, именно так должен выглядеть
преподанный и усвоенный урок гуманизма, точнее мышиниз-
ма: все для нашего же блага.
Однако, допустим, нам становится известно, что
высшие разумные существа, эти самые вырсы, оградившие
себя охранительными мышеловками, в сущности такие
же мыши, только продвинутые, создавшие науку,
долголетие, безопасность, но лишившиеся когтей и желания
спариваться с самочками. Соответственно, их барьеры
направлены на то, чтобы предотвратить вторжение
варваров с их дикой необузданной сексуальностью и полным
отсутствием политкорректности. В этом случае для
наблюдателей поляризация неизбежна. С одной стороны,
останутся сторонники прорыва любой ценой, которые
могут создать и свой манифест типа
«Экзистенциализм - это гуманизм» (то есть мышинизм). И
восславить акт свободного выбора, даже если результатом
оказывается смерть - ведь это смерть за свободу и во имя
свободы.
Однако другая часть наблюдателей, как раз из тех, кто
внедряет и отстаивает современную этику денатурации,
взвесив все обстоятельства, будет поддерживать этику
кротких мышей, построивших еще и вторую стену как
двойную защиту от дикости - от собственной дикости,
разумеется.
Так или иначе, «этика в мышеловках» обладает
определенным эвристическим потенциалом, который, в принципе,
245
не уступает потенциалу физики в арбузах и табуретках.
Ну и кроме того, здесь в виде живых картинок
высвобождается ресурс, который может пригодиться в борьбе с
денатурацией и за сохранение человеческого в человеке.
А вот другая картинка, визуализирующая скорее
пространство общения, но имеющая и этическое измерение.
Камни для разговора
Представим себе мир, в котором живут разумные
существа - в сущности, люди. Изначально этот мир
отличается от нашего только одним ограничением: в нем тоже
есть язык и даже различные языки, однако в обычных
контактах речь не используется. Совместная орудийно-
конструктивная деятельность осуществляется сообразно
собственной логике, без слов. Такое, в принципе,
возможно и в нашем мире на достаточно больших промежутках
времени. Ну и естественные надобности (в самом
широком смысле слова) тоже распознаются и удовлетворяются
без участия слов.
Но в этом мире - в лесах, на полях, в парках, на
обочинах дорог - встречаются специальные камешки, и так
случилось, так исторически сложилось, что они являются
единственным общепринятым поводом для разговора.
Нетрудно представить себе, какую важную роль
играют разговорные камни в этом мире: ими посыпаны
дорожки во дворах, в каждой гостиной горстка таких
камней сложена в углу у камина - и после ужина в молчании,
после прослушивания музыки и, скажем, просматривания
альбомов, гости отправляются к камешкам и начинают
о них говорить. Мы предположим, что можно говорить
246
только о камешках, не ограничивая, однако, контекст
разговора. Их размер, цвет, взаимное расположение,
подбрасывание камешков, сравнение их друг с другом
и привязка всего этого к собственным чувствам - вот
о чем ведутся разговоры и есть ощущение того, что это
не так уж и мало.
А в тех местах, где дефицит камней, каждый носил бы
камень в кармане или за пазухой как важнейший предмет
обихода. И, встретив другого, угостив его хлебом-солью,
можно было бы достать камень и положить его на стол.
Мир, где для разговора необходимы камни,
несравненно экзотичнее, чем мир товарной зависти. И все же
можно попытаться использовать его в качестве произвольной
площадки для наблюдения.
Например, рядом разместился бы соседний мир, где
молчали бы только о камнях: все наши возможные
неловкости, неприличия, бестактности, были бы
размещены на камнях и среди камней. В этом мире все можно
обсуждать, пока дело не дойдет до камня преткновения:
о камнях молчат. Ясно, что в этом, соседнем мире, камни
имели бы не меньшее значение, чем в том, где они
являются единственно возможным предметом разговора - не
исключено, что и ореол их распространения был бы
похожим, при этом было бы задействовано даже больше
русских пословиц и поговорок. О людях скрытых и
молчаливых говорили бы: «Живут как за каменной стеной».
Человек, не желающий, чтобы кто-либо совался в его
личные дела, буквально носил бы свой камень за
пазухой, чтобы при подозрении на излишнюю откровенность
тут же его достать...
Ведь и в нашем мире приходится обходить в
разговоре подводные камни. Вообще, топография зон умолчания
247
и зон недоговоренности давным-давно должна была быть
установлена хотя бы в общих чертах, но последний
значимый в этом отношении вклад внес Фрейд. Поэтому не
совсем ясен даже вопрос, стоит ли начать с
преимущественных тем разговора и зон привилегированной речи:
образуются ли они по остаточному принципу или задают
исходную разметку?
Вот, к примеру, научные диспуты и рассуждения о
мудрости. Тут вопрос может быть поставлен так: останутся ли
эти сферы разговоров и что от них останется, если будет
ликвидирована вся инфраструктура, вся социальная и
организационная база науки? Что-то непременно
останется, хотя большая часть практических навыков может быть
передана порядкам камней предметности - они не
нуждаются в прямом озвучивании.
В этическом измерении эта картинка выражает
весомость, собранность и, если угодно, презумпцию
достоинства собеседника - а значит, и человеческого достоинства
как такового. Камень для разговора - именно весомый
этический аргумент. Ведь это и символ признанного
повода: мы должны обсуждать свои камни, чтобы наш
разговор не ушел в песок, не рассыпался в пыль, что,
похоже, как раз и случилось в панораме повседневности.
Торжество юриспруденции в человеческих
отношениях - это в значительной мере результат убыли камней,
их отброшенности, а там, где торжествует юридическое
крючкотворство и сутяжничество, человеческая
нравственность всегда несет потери. Стало быть, в данном
случае картинка способствует осознанному этическому
выбору, примерно так: мы будем обустраивать свой сад
камней, мы будем готовы к этому, даже если начинать
придется с первого попавшегося.
248
Насчет повседневной речи, включая сферу Gerede, вот
еще одна полезная визуализация, пригодная и для разного
рода прикладных задач, включая и этику под ключ.
Ежедневный протокол слов
Все слова, которые человек произнес в течение дня,
можно записать - при наличии современных
возможностей это вовсе не проблема. Возник бы некий
документ - протокол дневной речи. Такой протокол выглядит
как нечто странное - что за блажь? Но в действительности
странным является скорее то, что подобных протоколов до
сих пор не существует, человечеству как-то не приходило
в голову составлять такого рода сводки. Это при том, что
идея суточной нормы по отношению к продуктам
физиологического метаболизма давно и прочно вошла в медицину,
а такие показатели, как «дневное количество калорий» не
уступают по своей значимости температуре и пульсу. А тут
за всю историю монастырей ни у кого не возникло идеи
составить что-то подобное протоколу всех слов, сказанных
в течение дня. При распространенности идеи дневника
эта лакуна выглядит вопиющей. Но попробуем подумать
вокруг нее: что, зачем, почему? Например, человек носит
с собой диктофон, регистрирующий все сказанное им за
день. Нажатием кнопочки это можно воспроизвести,
сохранить, распечатать и так далее, можно, соответственно,
взглянуть на свой протокол, как на градусник, и сделать
определенные выводы.
Ежедневный вербальный протокол может иметь
хождение и значимость совершенно независимо от его
содержания, чисто количественные показатели уже способны
249
говорить о многом. Просто знать, сколько в среднем слов
за день ты произносишь или тот или иной человек
произносит - разве этого мало? Разве это не интересно?
Страшно подумать, но мы до сих пор не знаем даже
самой общей оценки, каков порядок этих величин, -
общего количества озвученных слов. Тысяча? Десять тысяч?
Пятьдесят? Насколько разнятся протоколы разных
людей и наши собственные протоколы в разное время?
Будь эти данные под рукой, сколько любопытных
выводов можно было бы из них извлечь, даже без
предварительной гипотезы, просто навскидку. И направление
на анализы, на экспертизу безусловно могло бы включать
в себя снятие вербального протокола - это ведь покруче,
чем отпечатки пальцев.
А степень профпригодности? Здесь протокол сразу
напрашивается в один ряд с показателями IQ и детектором
лжи, корреляция с определенным родом занятий
просматривается даже априори. Или вот показатель
психологической совместимости, в частности супружеской
совместимости: разве не могли бы они определяться посредством
сопоставления протоколов? Первыми недовольными,
возможно, стали бы астрологи - ну да что ж теперь?
Но что сказать про сам предполагаемый приборчик?
Как бы мне он нравился! Да и кто бы отказался.
Включаешь, например, вечером, перед сном, датчик как опцию
в персональном мобильнике - и сразу есть повод
призадуматься, сделать, пусть непритязательные, выводы. Если
принять во внимание некоторые дополнительные
параметры помимо общего количества слов, то день как на
ладони. Вот, казалось бы, сколько всего было сказано, сколько
проговорено - а показатель total в пределах нормы. Или
вот показатель «кучности», дисперсного распределения
250
сказанного, вдруг оказалось, что тут интересные
подвижки, что день был на редкость гармоничным: опять же,
любопытна средняя длина предложения - последний раз
такое было более двух лет назад!
Такая личная статистика могла бы быть чрезвычайно
интересной, а уж элементы содержательного анализа,
например поиск по ключевым словам, - тут-то какой
простор для выводов: «деньги» зашкаливают, «сволочи»
зашкаливают, а уж произносимые про себя крепкие
словечки по частоте использования вдвое превышают
«спасибо» - есть повод задуматься...
Такой приборчик, регистратор речевых
протоколов, мог бы войти в жизнь и оказаться столь же
необходимым, как сам мобильник. Понятно, что у разных
пользователей к нему было бы разное отношение (как
и к наушникам, к прибору для измерения давления):
были бы те, кто считал бы его совершенно бесполезным,
были бы и фанаты собственных и чужих речевых
протоколов. А уж насчет подспорья для самоанализа нет
никаких сомнений.
Поле дополнительных возможностей сейчас обозреть
очень трудно даже в общих чертах. Вот еще, например,
зуммер-ограничитель, предупреждающий о том, что
дневная норма сказанного уже выполнена, он извещает: вы уже
произнесли намеченное на сегодня количество слов. Его
может слышать и собеседник - и он понимающе разводит
руками, ведь и у него есть опция «ограничитель», которой
он иногда пользуется.
А вот звуковой сигнал, похожий на жалобное
поскуливание щенка. Его смысл - «Что с тобой, хозяин? За три
дня сказал всего двадцать слов - очнись!». А еще в таких
случаях мог бы включаться сигнал «поговори со мной...
251
поговори со мной...». Нет, спрос на приборчик был бы
немалый.
Тут можно заметить, что ситуация, где протокол слов
представляет собой документ повседневного пользования,
в чем-то противоположна надежным камням, вокруг
которых идет речь и вращаются слова, наполненные смыслом
и прочностью. Наш мир больше похож на тот, где все
камни для разговора стерты в песок и, соответственно,
установилась новая стандартизация общения в соответствии
с ритуальными формами банальности. Их монотонное
озвучивание сопровождается при этом ощущением
важности, духовности, прогрессивности.
Этика в картинках не слишком репрезентативна для
эпох с интенсивной нравственностью, но если речь идет
не об экзистенциальных учредительных актах
общечеловеческого масштаба, а об операциях в зоне
остановленных реакторов по производству души, то есть как
раз о нашем времени, то воздействие этики в картинках
очень даже возможно. Вполне годятся, например,
аллюзии, связанные с Буратино: образ недоделанной, недо-
струганной болванки, сбежавшей из мастерской столяра
Джузеппе и возомнившей себя венцом творения, очень
показателен и актуален*.
* Похожая картинка имеется у Ницше в «Заратустре»: «Я вижу
и видел худшее, и много столь отвратительного, что не обо всем хотелось
бы говорить, а об ином хотелось бы даже умолчать: например, о людях,
которым недостает всего, кроме избытка их, - о людях, которые не что
иное как один большой глаз, или один большой рот, или одно большое
брюхо, или вообще одно что-нибудь большое, - калеками наизнанку
называю я их.
И когда я шел из своего уединения и впервые проходил по этому
мосту, я не верил своим глазам, непрестанно смотрел и наконец сказал:
"Это - ухо! Ухо, величиною с человека!" Я посмотрел еще пристальнее:
252
ЭДюк тут состоит в следующем простом предписании,
пусть даже и не являющимся императивом: восстановить
пропущенное самостоятельно, насколько это возможно.
Какие операции столяра Джузеппе и заботливого папы
Карло (бога, природы, истории) пропустили сбежавшие
«от-щепенцы»? Составить полный список - задача,
пожалуй, несбыточная. Но в общих чертах все ясно:
отброшены (пропущены, упущены) экзистенциальные
расширения и осуществлена массовая денатурация, что опять же
может быть интерпретировано как отсоединение от
человеческой природы, от тысячелетнего антропологического
наследия, воплощенного в естестве, точнее говоря,
последнем по счету естестве.
Исходя из этого, не желающий уподобиться опилкам,
осыпающимся с верстака творения, может подключиться
к полноте человеческого все еще имеющимися для этого
способами. Взять на себя труд проникновения в
историю, осуществить задачу этической археологии, что
прежде всего значит поставить под вопрос «достоинство
отщепенства» - полного экранирования от исторических
позывных. Осознать - в духе нашей метафоры, - что папе
Карло не позволили вложить драгоценный опыт в новое
тело, не дали времени на проработку материала, в ходе
которой, собственно, и формируется душа - через
внедрение достоверности трансцендентных начал, ценностей,
и действительно, за ухом двигалось еще нечто, до жалости маленькое,
убогое и слабое. И поистине чудовищное ухо сидело на маленьком,
тонком стебле - и этим стеблем был человек! Вооружась лупой, можно
даже разглядеть маленькое завистливое личико, а также отечную
душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что
большое ухо не только человек, но даже влиятельный человек, гений».
(Ницше Ф. Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 100).
253
намного превосходящих по своей весомости весь набор
опилок и стружек.
Наши картинки демонстрируют как бы следующую
стадию того, что когда-то Ортега-и-Гассет назвал
«восстанием масс», а именно восстание заготовок и болванок,
провозгласивших, что в дальнейшем очеловечивании
никакой ценности нет, что во всей прошедшей истории можно
отыскать только варварство, страдания, взаимные обиды,
жестокость и несправедливость и что примитивные
заготовки суть готовые изделия и располагают всем
необходимым для полновесной человеческой жизни.
У них и вправду все есть в ассортименте -
бороться с пластиковыми стаканчиками, произносить
правильные слова, принадлежать к прогрессивному человечеству
и озвучивать любимое заклинание: «Мы такие разные -
и все-таки мы вместе».
Тут картинка дает особые преимущества и заставляет
наконец улыбнуться, поскольку на ней ясно видно, что это
положенное на музыку заклинание озвучивает сводный
хор опилок и стружек...
С иллюстрацией, где столяр Джузеппе и папа Карло,
пытаясь сделать совершенную, жизнеспособную модель,
сталкиваются с бегством отброшенных и недоделанных
болванок, перекликаются хорошо известные метафоры
человеческой участи в духе кукольного театра или театра
марионеток. А в искусстве мы имеем дело с ними по крайней
мере со времен Хайяма:
Мы - послушные куклы в руках у Творца!
Это сказано мною не ради словца.
Нас по сцене Всевышний на ниточках водит
И пихает в сундук, доведя до конца.
254
Из этой метафоры уже сделано немало выводов,
поэтому есть смысл сказать еще несколько слов о гневе Зарату-
стры и досаде папы Карло и его соседа, столяра Джузеппе:
мы можем предположить, что от этого бедняги всякий раз
сбегают его замыслы и детища, ему так ни разу и не
удалось воплотить свой замысел в полноте. В памяти сразу
же возникает противоположная фигура, Хронос, который
пожирал, а точнее глотал, собственных детей. Ситуация
на первый взгляд куда более трагичная и чудовищная, но,
если вдуматься, там в итоге вышло все не так печально:
поглощенные Хроносом дети - это олимпийские боги; как
знать, может, время, проведенное в утробе ненасытного
отца, пошло им на пользу - не там ли они обрели
выдержку и многогранность в отличие от простоты и
односторонности сбежавших отщепенцев. Но переходим к следующей
картинке.
Топологическая инверсия: опыт Незнайки
В книге Николая Носова «Незнайка в Солнечном
городе» центральное место принадлежит истории о
коротышке по имени Листик, которого Незнайка с помощью
волшебной палочки в сердцах превратил в осла. Но нас
интересует история о ветрогонах, которые вроде бы во
всем человеческие существа, иначе говоря, обычные
коротышки, но при этом - бывшие ослы, по недоразумению,
с целью исправить допущенную ранее ошибку
превращенные Незнайкой в коротышек. Эта диверсия чуть было не
погубила коммунистическое общество Солнечного города.
То есть Незнайка предстал в роли невольного
экспериментатора, запустившего триггерный эффект, что
отсылает к нескольким важнейшим вопросам онтологического
255
характера. Нам сейчас важен один из них, наглядно
представленный в картинках.
Это вопрос о социальной топологии, поскольку
топологическая инверсия описана Николаем Носовым внятно
и корректно. Все дело в том, что благодаря волшебной
палочке в руках у Незнайки человеческий облик обрели
три местных осла - ну и, что называется, растворились
в толпе. Вирус антисистемного поведения начал
распространяться стремительно - коррозия морально-этических
принципов описана в книге весьма убедительно.
Окончательный крах цивилизации удалось предотвратить лишь
возвратным топологическим преобразованием: в
действительности вопрос спорный, могут ли тут затянуться
раны...
Заметим, ослики в зоопарке были очень милы - Бры-
кун, Калигула и Пегасик были любимцами посетителей:
кто-то приносил им угощение, а кто-то, купив букетик
цветов, мог и задуматься, не отдать ли им цветочки на
обед. А красавица, которой цветочки предназначались,
наверняка поймет и проявит снисхождение... Однако,
обретя благодаря волшебной палочке человеческий облик
и переместившись в беззащитный, утративший
соответствующую технику безопасности мир, ослики перестали
быть милыми и трогательными существами, напротив,
стали монстрами и источником серьезной опасности для
общества: возможно, стали бы и его приговором, если
бы вновь не вмешалась волшебная палочка. Это
весомый метафизический ход, вполне достойный урок от
Незнайки: элементарная топологическая инверсия может
таить в себе смертельную опасность для выстроенных
социальных порядков. Этот урок просто
напрашивается применить к современной социальности. Вот разно-
256
родный мир, в котором живут люди, имеющие чувство
собственного достоинства, - они живут и сегодня. Но
в мире всегда были также сирые и убогие: забота о них,
снисхождение к ним есть действительная проверка
человеческого в человеке. Именно в этом отношении на
наших глазах происходит и отчасти уже произошла
невиданная топологическая инверсия. Вместо того чтобы
принять во внимание опыт христианства и марксизма
с их стремлением возвысить обездоленных, последних
мира сего, поделиться с ними тем, что у тебя есть, что
подобает человеку, - вместо этого происходит нечто
прямо противоположное: обладатели психических
отклонений вдруг были объявлены образцами для
подражания. И в результате с ними как по мановению волшебной
палочки произошло примерно то же, что и с Брыкуном,
Калигулой и Пегасиком, - именно их права и
потребности были озвучены в качестве всеобщих норм и
стандартов, озвучены не ими самими, а их душеприказчиками.
Так теперь формируется горизонт правильных желаний
и в первую очередь уровень притязаний, а основное
предписание (пока еще, правда, не категорический
императив) звучит так: пусть твои запросы и предпочтения
будут понятны каждому аутисту, каждому страдающему
биполярным расстройством и каждому прошедшему
денатурацию и правильно определившемуся со своим
полом. А что сверх того, то от лукавого.
Это важнейшая проблема и для христианства, и для
человеческого самоопределения вообще: как помочь малым
сим, что для них сделать? Было сказано: «Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство Божие». Пусть так.
Однако важнейшую топологическую характеристику этой
максимы в упор не замечают: допустим, их Царство Божие,
257
но нигде ведь не сказано, что им должно принадлежать
и это, посюстороннее царство. Как раз в этом мире для
них есть своя топология, как место в зоопарке для
осликов, а всякое корректное перемещение в топологически
иное пространство может быть лишь преображением.
Если же перемещение происходит без преображения, то
перед нами социальная мутация с непредсказуемыми
последствиями. По отношению к таким трансформациям,
нередко инфернальным, весьма актуальными могут быть
слегка измененные строки из песни Гребенщикова:
«Держи свиней за якорь - якорь не подведет». И ослику в себе
иногда, наверное, можно давать порезвиться - но держать
его нужно в стойле.
Из этой иллюстрации можно извлечь еще немало
интересного и поучительного, но сейчас это не входит в нашу
задачу. Важно продемонстрировать, что с выделением
самостоятельной сферы этического творчества этика в
картинках становится своеобразным аналогом
экспериментальной базы в науке. И этика, сдаваемая и принимаемая
под ключ, с высокой степенью вероятности должна будет
дополняться набором сопутствующих картинок - в самом
широком смысле слова.
При известном навыке и при наличии соответствующей
установки придумать иллюстративный ряд для
выбираемых императивов не так уж и трудно. Для себя я
набросал этику в гвоздях и подковах, в ручках и зажигалках,
в заброшенных птичьих гнездах и т. д. - господствующая
сегодня этика денатурации дает на это полное право,
поскольку уже невозможно смутить «малых сих» больше,
чем они смущены и растлены современной социальной
инженерией. Кое-что из этих «картинок» я проверил на
текущих студенческих семинарах, но здесь я решил огра-
258
ничиться еще только одной иллюстрацией. Стивен Стро-
гац предложил нам физику в арбузах и табуретках,
способствующую пониманию кое-каких физических явлений.
Было бы логично предложить и этику в арбузах и
табуретках. Возможна ли она? Разумеется, и в краткой зарисовке
может выглядеть, например, так.
Представим себе всё ту же планету, о которой писал
Строгац, и ту же панораму с арбузами. Но начальное
положение вещей иное. Оно сводится к тому, что арбузы
лежат на табуретках и ерзают. То есть обычный ход вещей
состоит как раз в том, что арбузы ерзают сколько
положено на своих табуретках, а затем падают в песок и исчезают
из виду, а на их табуретках уже ерзают следующие арбузы.
Эти подвижные картинки можно озвучить песней
Высоцкого с мудрой строчкой: «Мы пошустрим и, как
положено, умрем». В этом мире, кстати, может быть и своя,
очень похожая песенка:
Мы все поерзаем на наших табуретках -
И неизбежно свалимся в песок...
Таков обычный ход вещей на этой планете, но он не
единственно возможный. В этом же мире существует и
порой реализуется и другой сценарий. Какой-нибудь арбуз
вдруг ускоряет колебательные движения и вместо
ерзанья начинает слегка подпрыгивать: сначала именно
слегка, а затем все сильнее и сильнее. Наконец, ударившись
о табуретку, арбуз в какой-то момент разбивается и
выстреливает семечками. А семечки в том числе попадают
в соседние арбузы, и если вдруг пробивают их кожуру, то
у таких арбузов прорастают крылышки и они взлетают.
И какое-то время летают над табуретками, над песком,
259
над всей поляной, совершая оолет и парами, и поодиночке.
В такие моменты планетарная популяция арбузов как бы
делится на две неравные части: меньшая часть называется
летающие на крыльях, а большая, основная часть
популяции, - ерзающие на табуретках.
Но вскоре летающие падают, разбиваясь о табуретки
или сразу уходя в песок, - причем продолжительность
полета, разумеется, значительно меньше, чем
продолжительность ерзанья, - после чего жизнь продолжается своим
чередом. Вот так незатейливо может быть выстроена
простейшая этика в арбузах и табуретках.
Остается еще добавить, что один арбуз все же
преодолел силу тяжести и улетел. Это было очень-очень давно.
Но летающие и даже некоторые ерзающие все еще ждут
его.
Содержание
I. Кто и как создает этику 5
II. Странствовать, удивляться, жить 24
III. Онтология пролетариата и его этика 54
IV. Этика правой и левой руки 116
V. О правах близких 156
VI. Восстановление смыслов: археология этики 183
VII. Этика в картинках 231
Александр Куприяновым Секацкий
ЭТИКА ПОД КЛЮЧ
Редактор Павел Крусанов
Художественный редактор Александр Веселов
Компьютерная верстка Ольги Леоновой
Корректор Анна Кузьмина
Подписано в печать 01.09.2021. Формат 84x108 1/32
Бумага офсетная. Печать офсетная
Печ. л. 8,5. Тираж 700 экз. Заказ 549
Фонд содействия развитию современной литературы
«ЛЮДИ и книги»
198504, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ботаническая,
д. 18, корп. 5, пом. 34
Издание подготовлено:
ООО «Издательство К. Тублина»
(Товарный знак «Лимбус Пресс»)
190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, литера В
Тел.(812)331-45-90
Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010)
Отпечатано ООО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Чкалова, д. 8
e-mail: printing@r-d-p.ru www.printing.r-d-p.ru
Θ