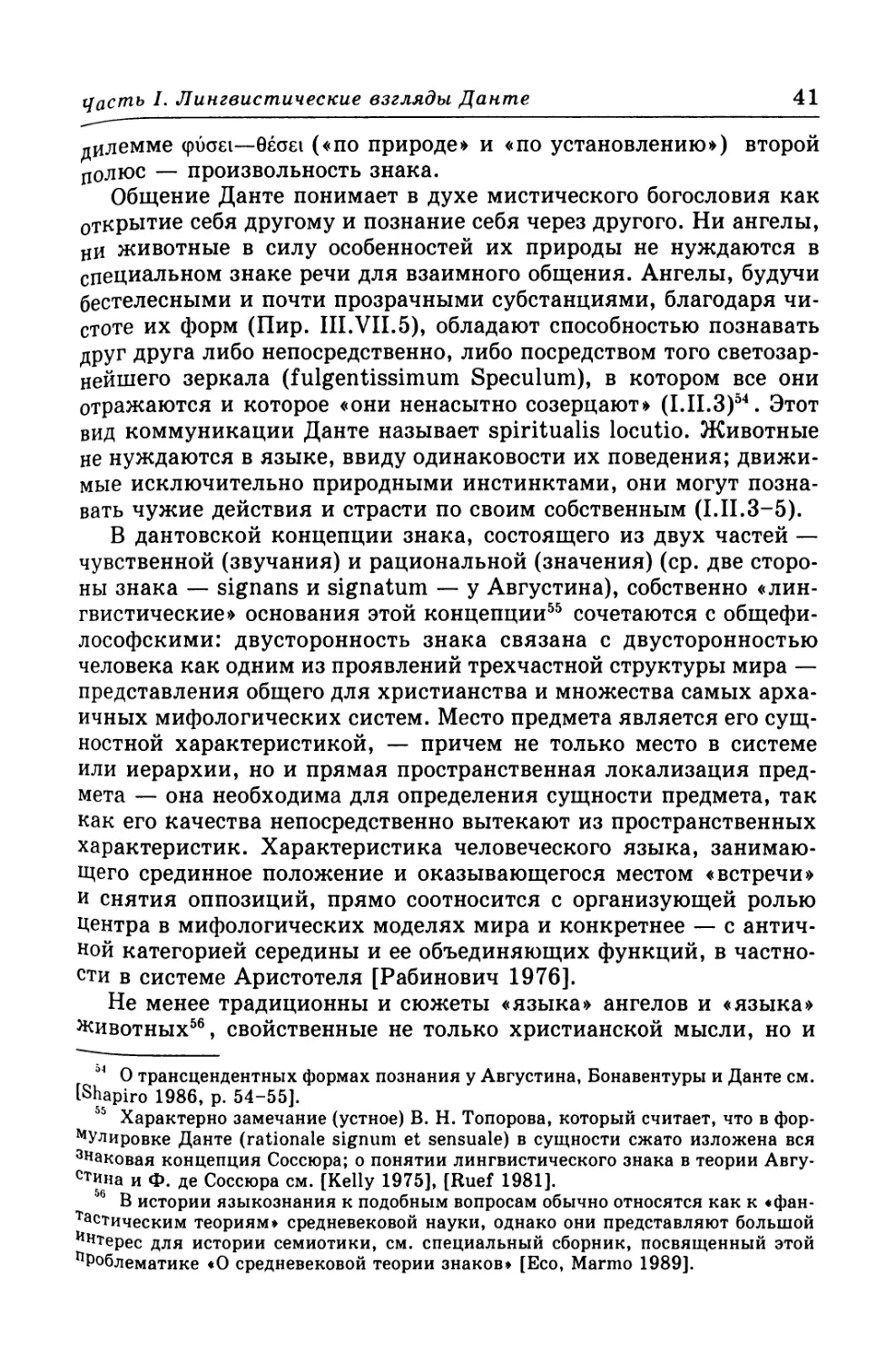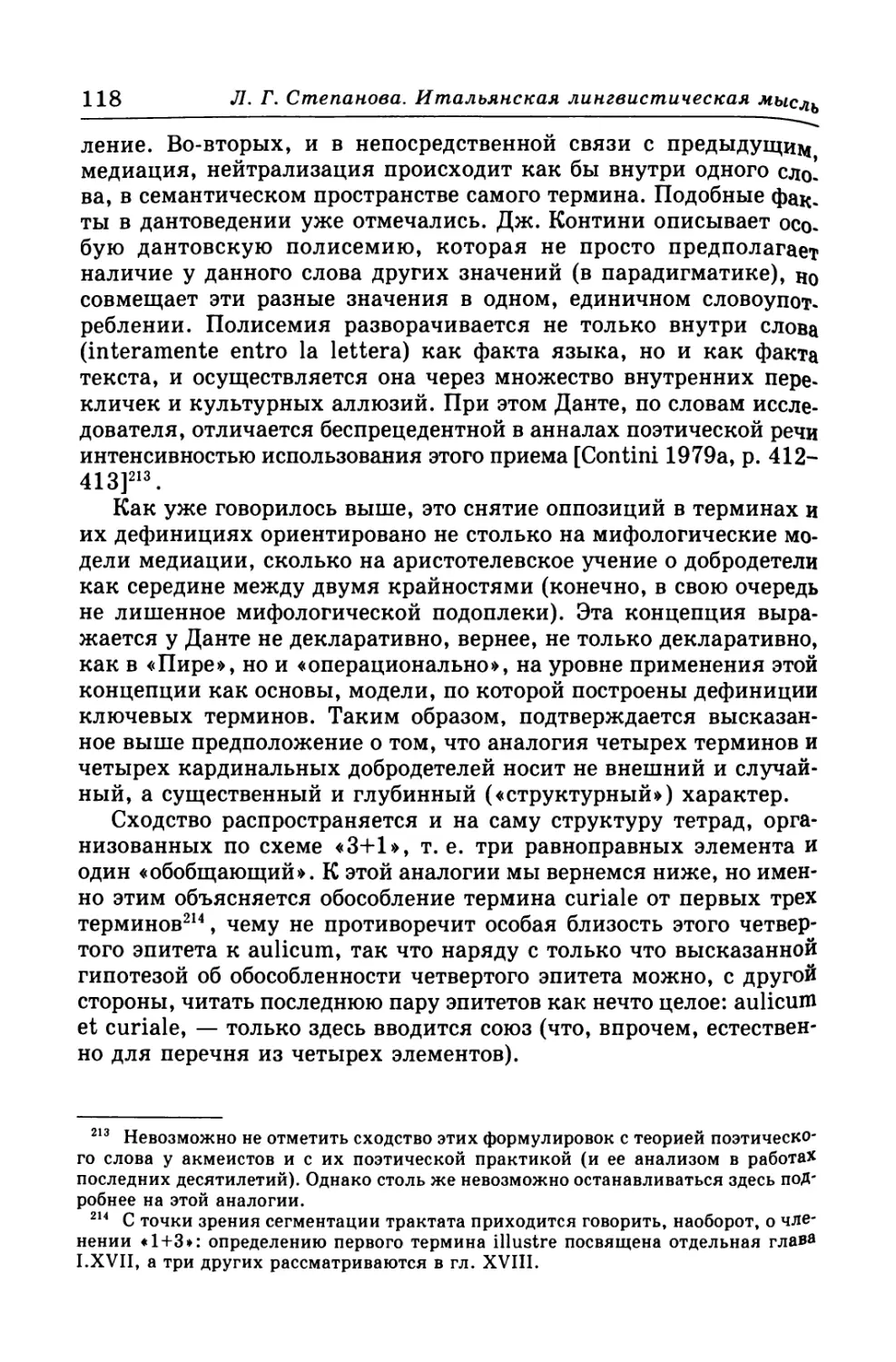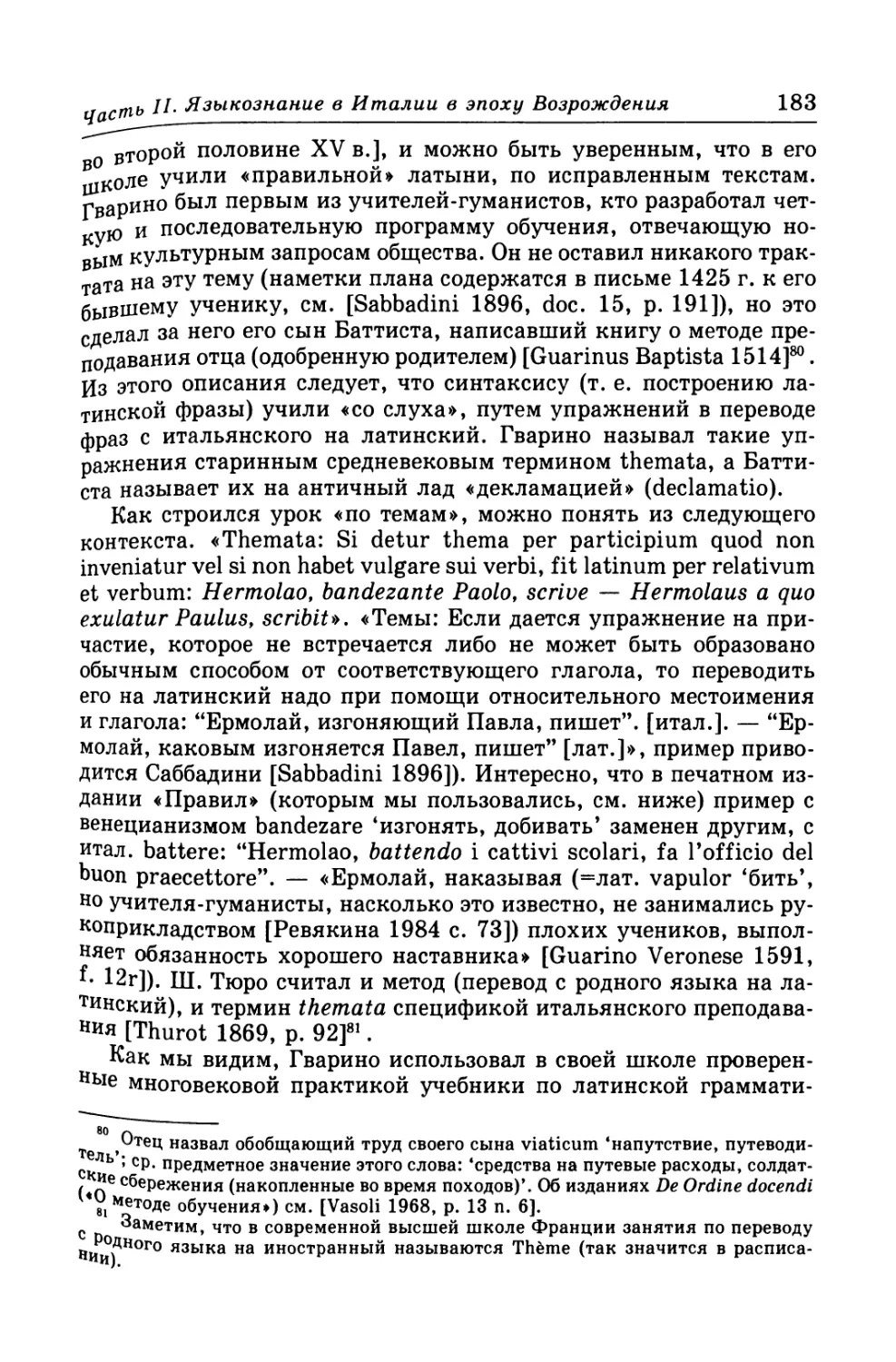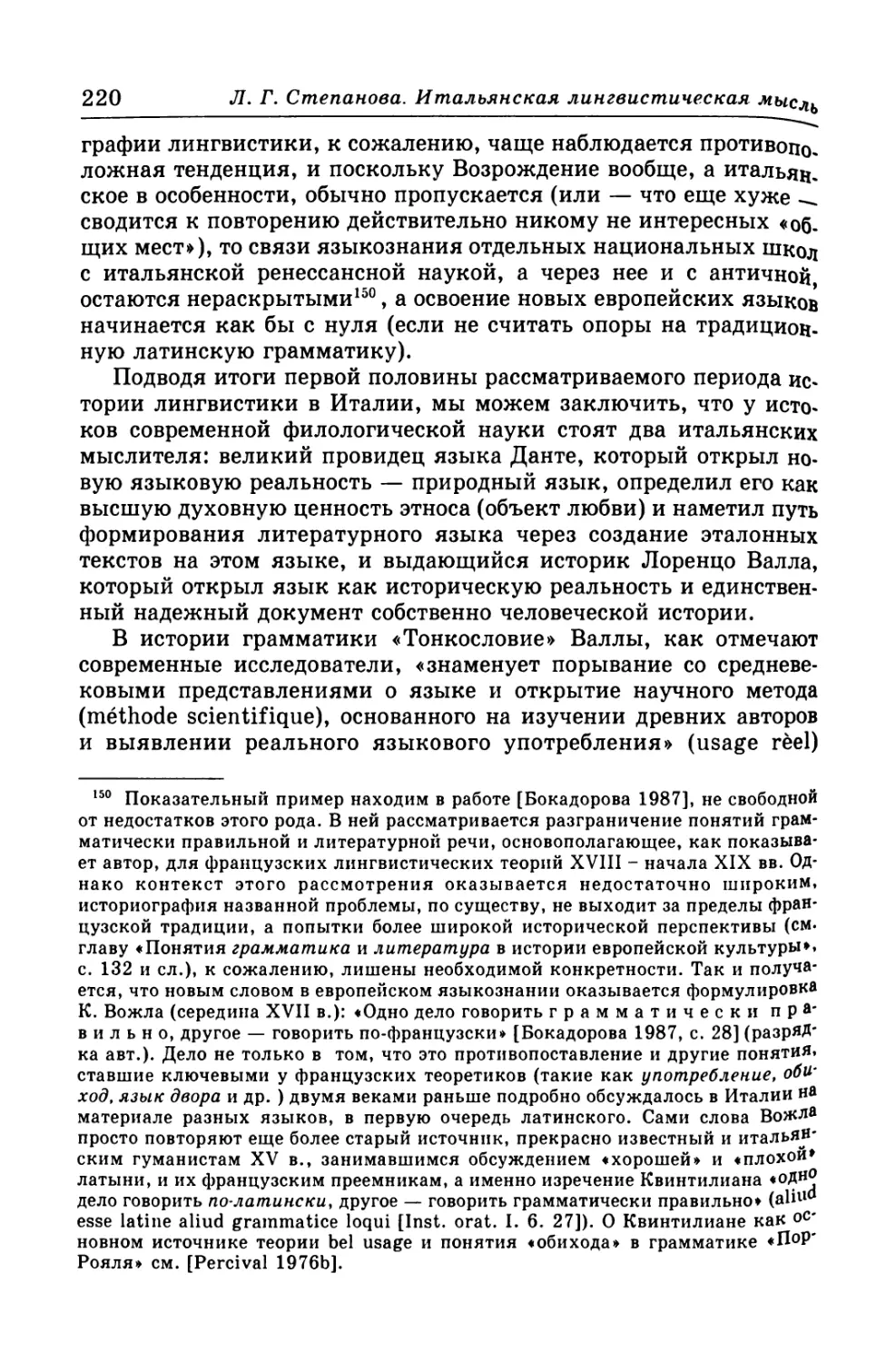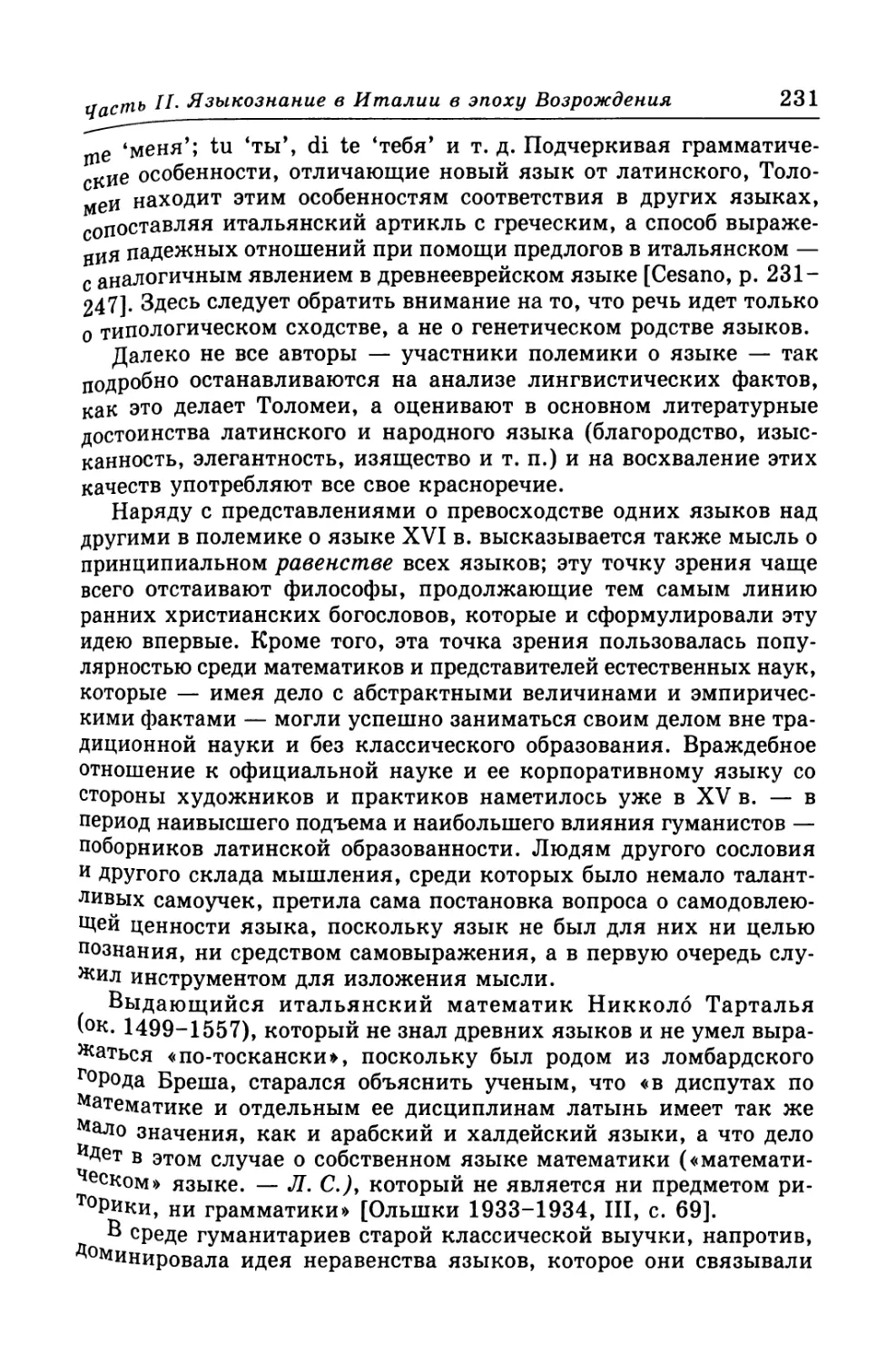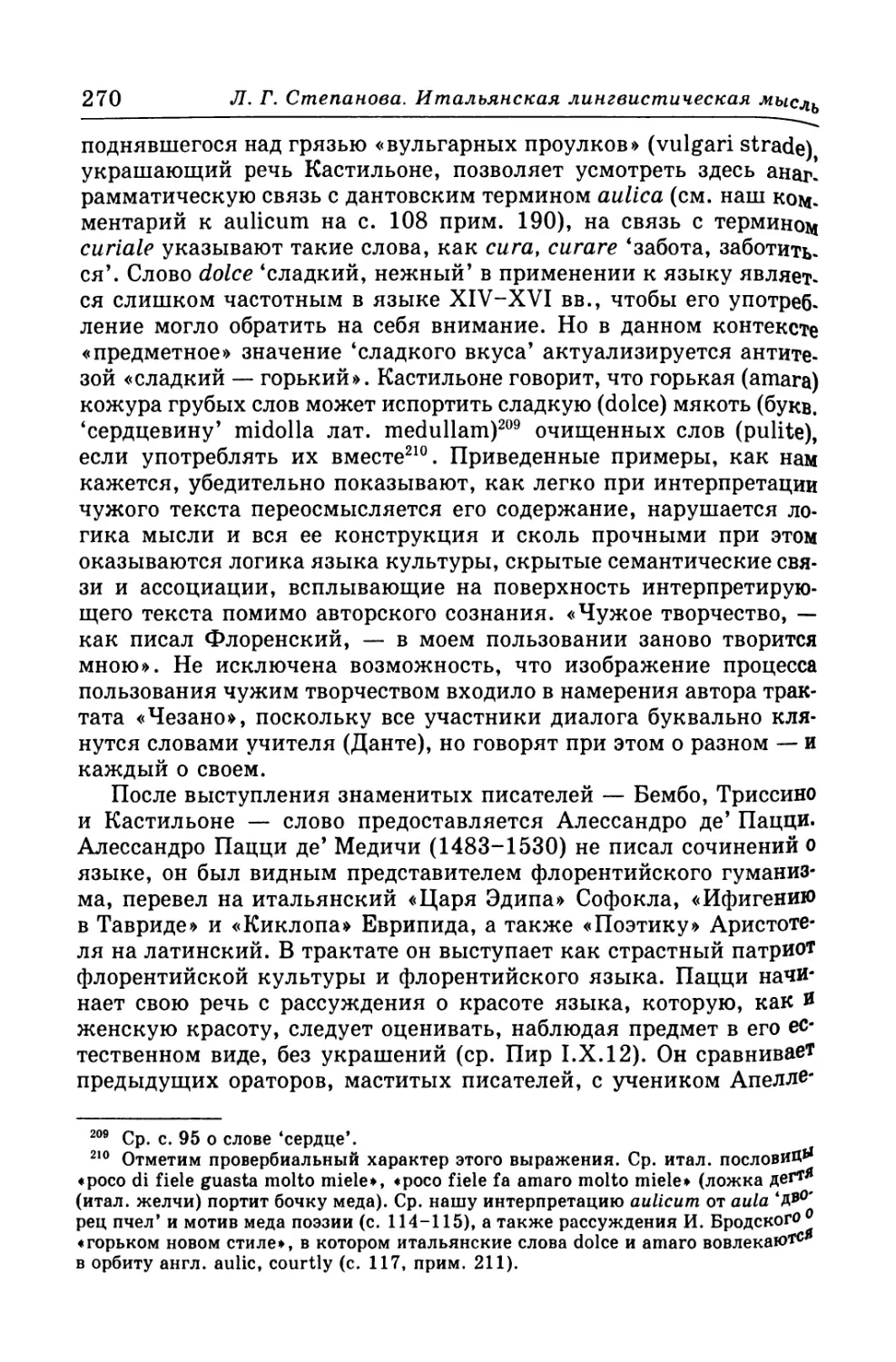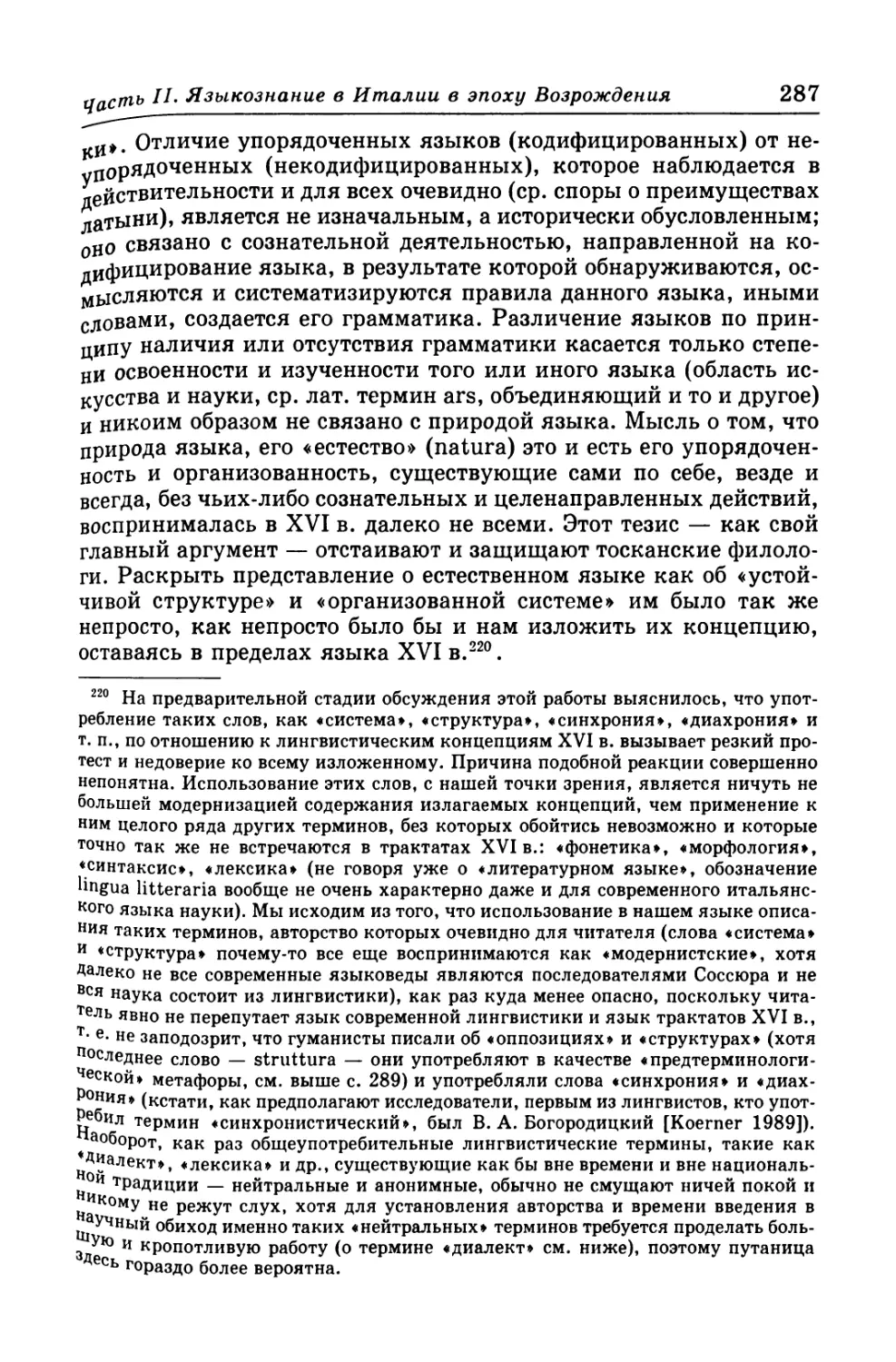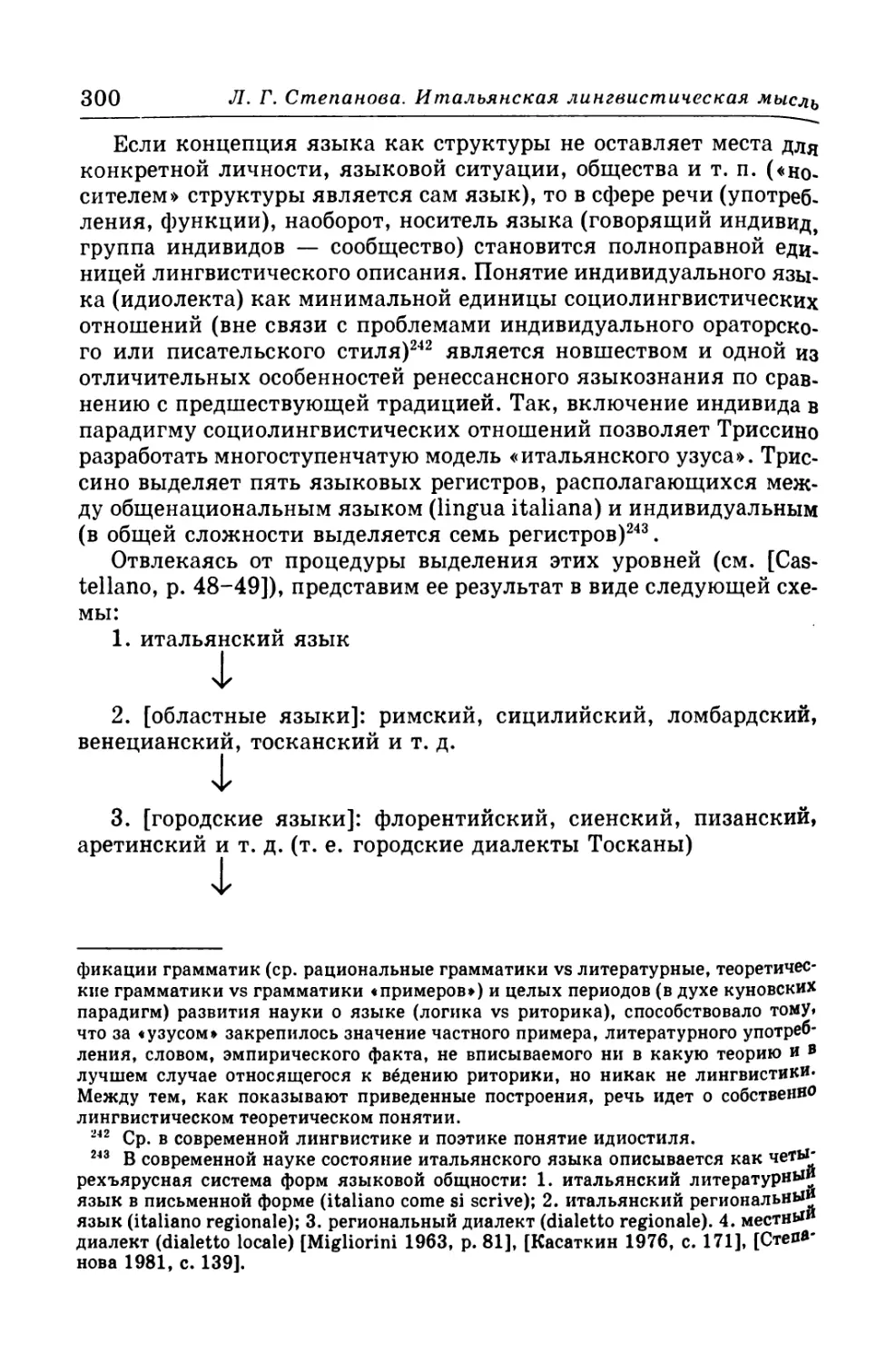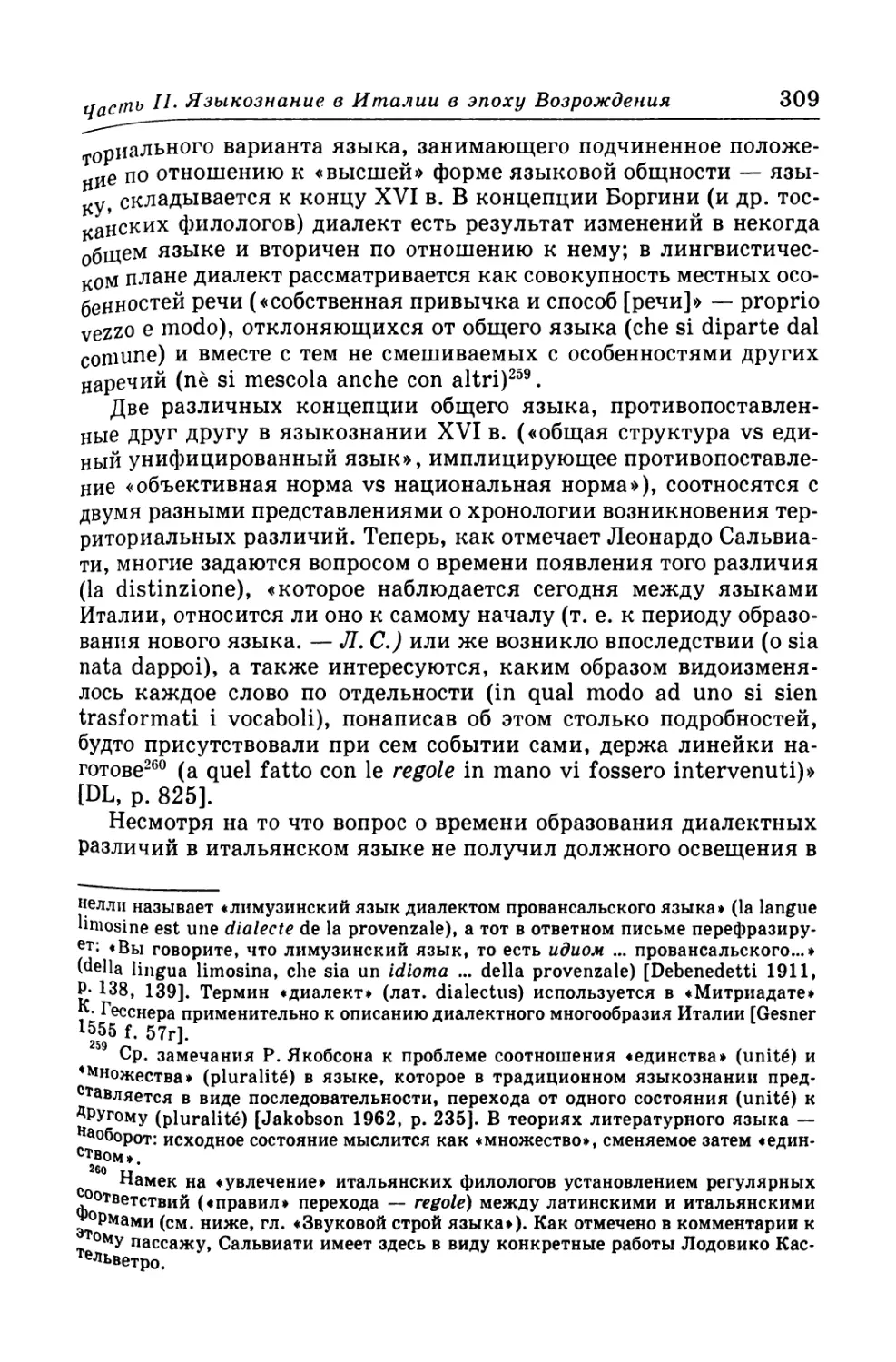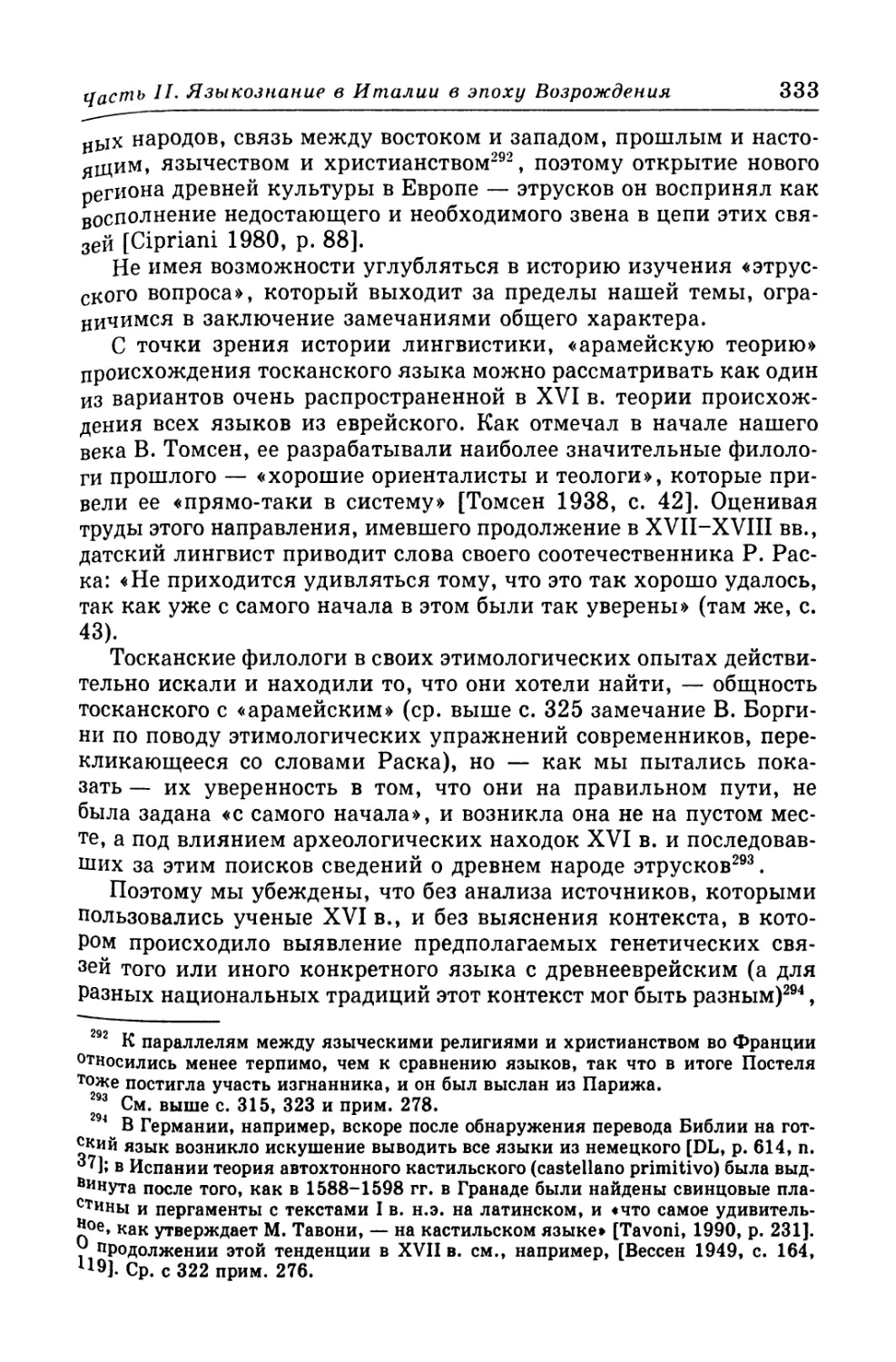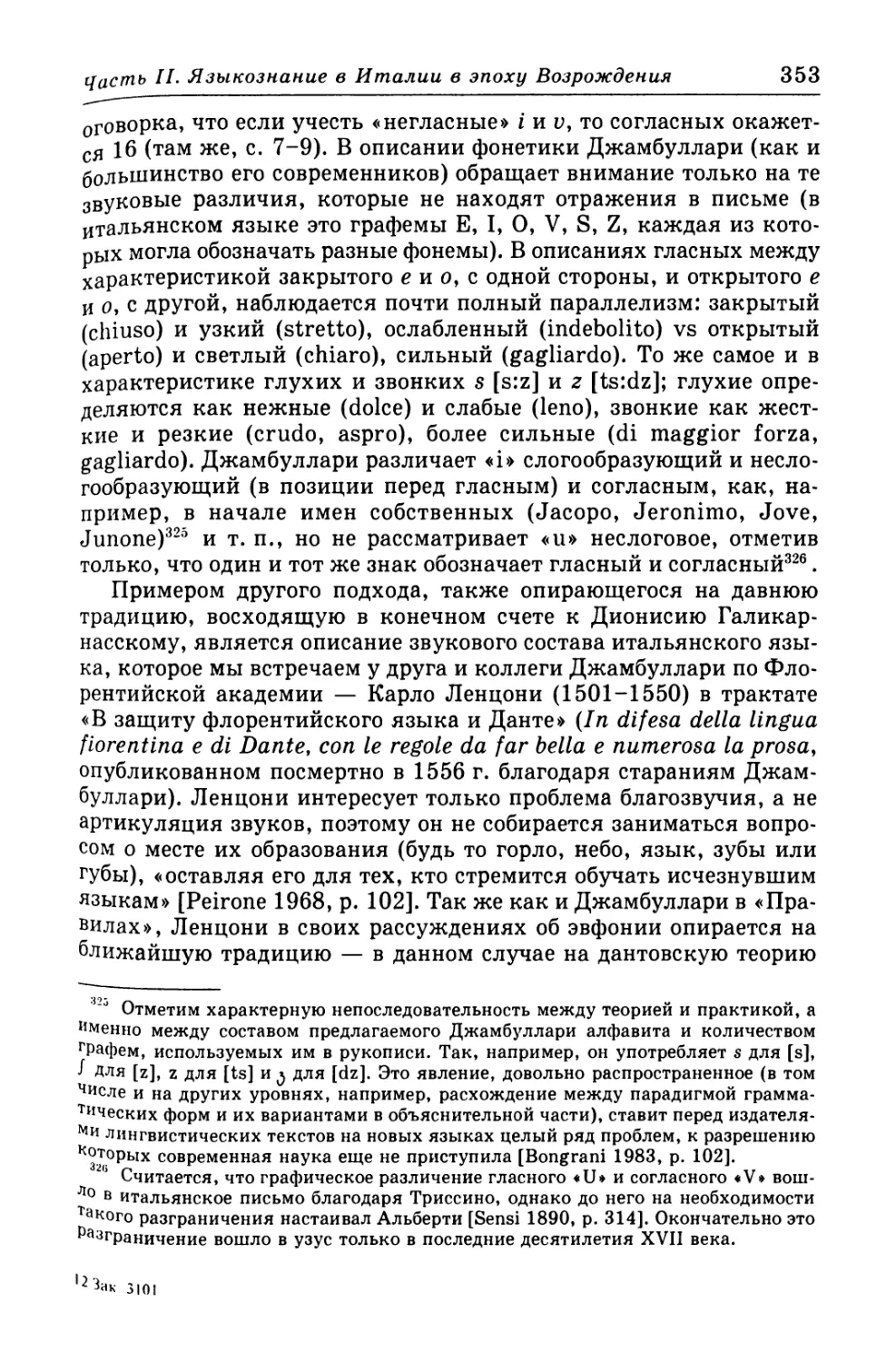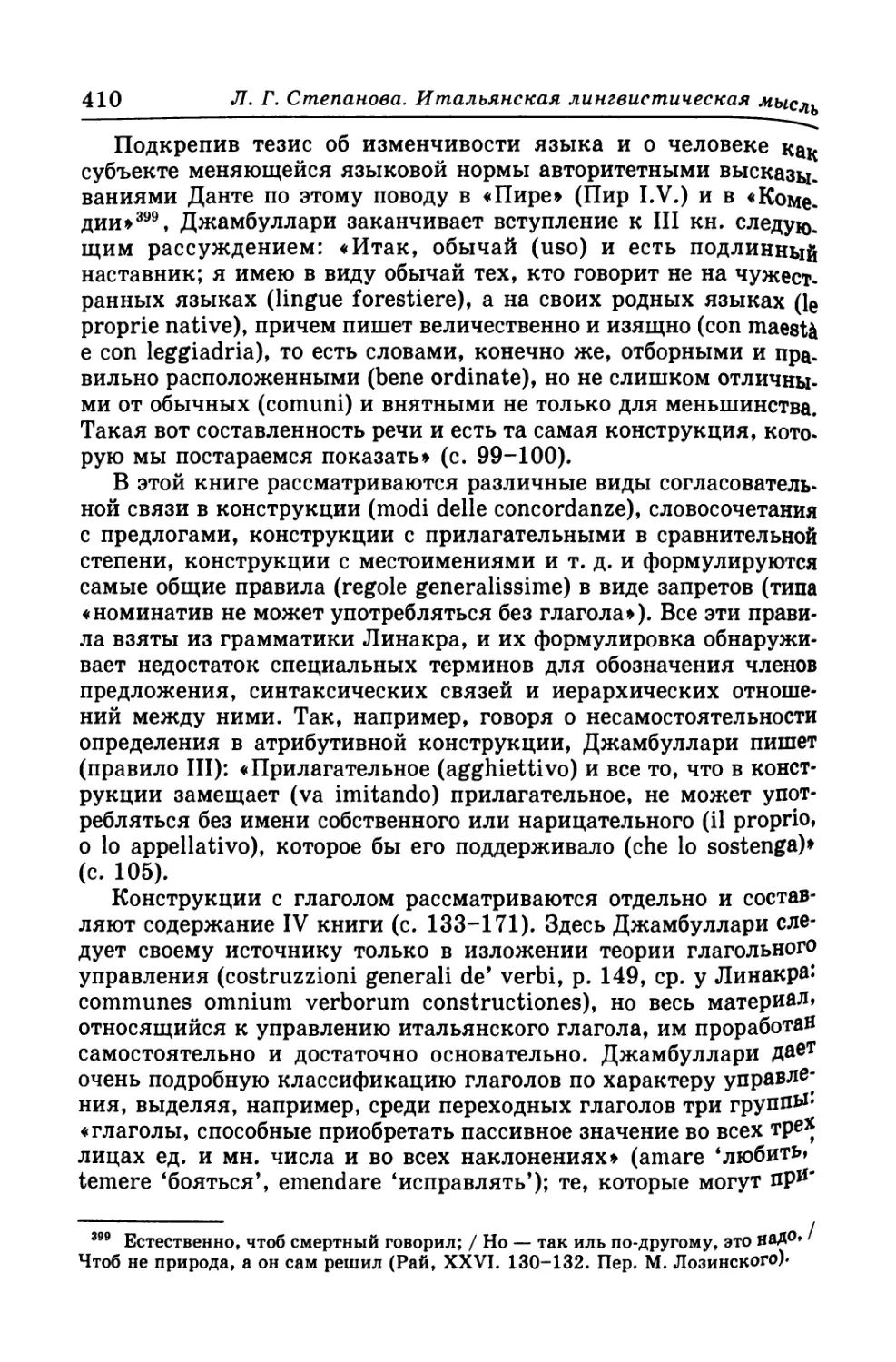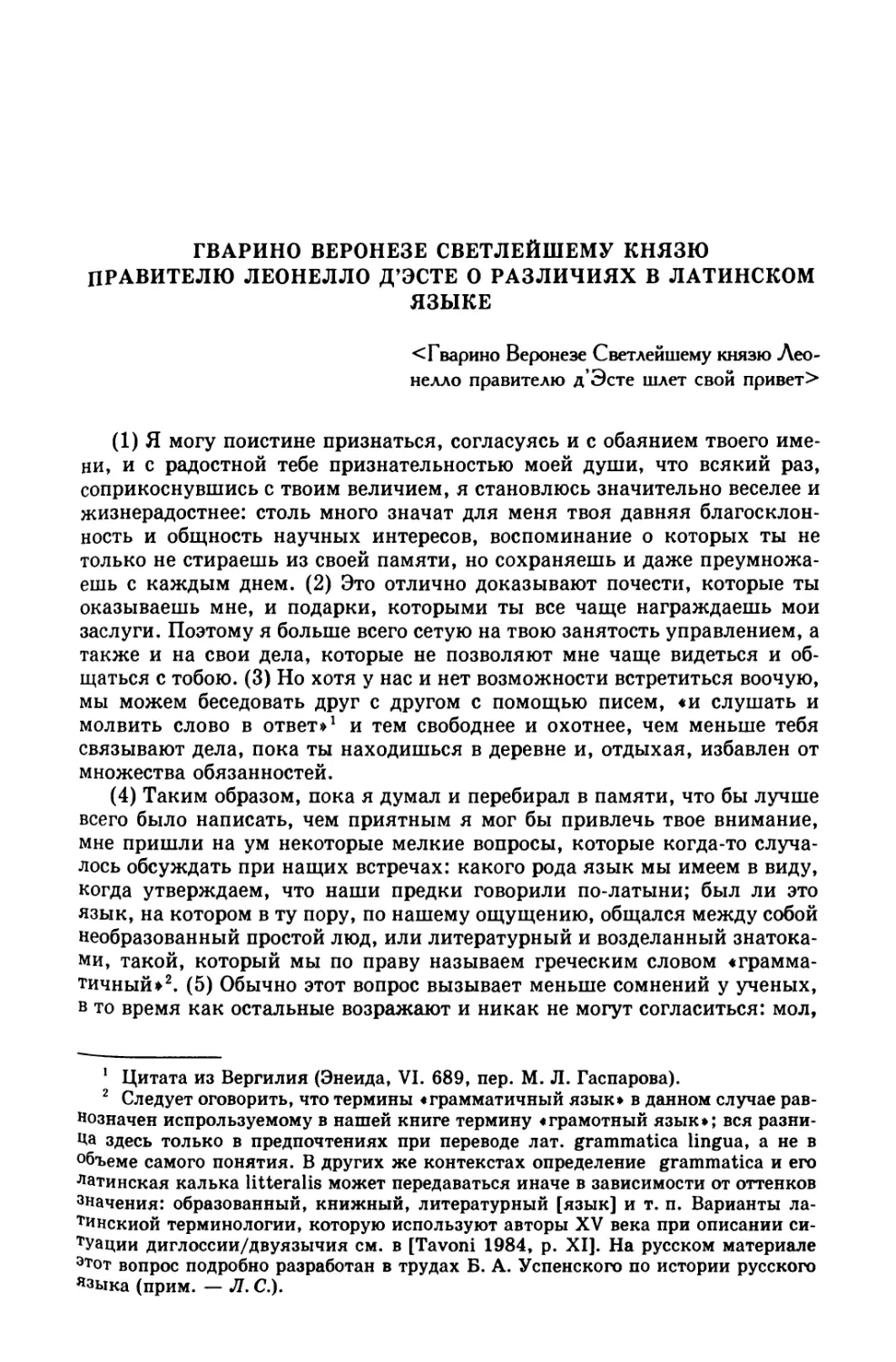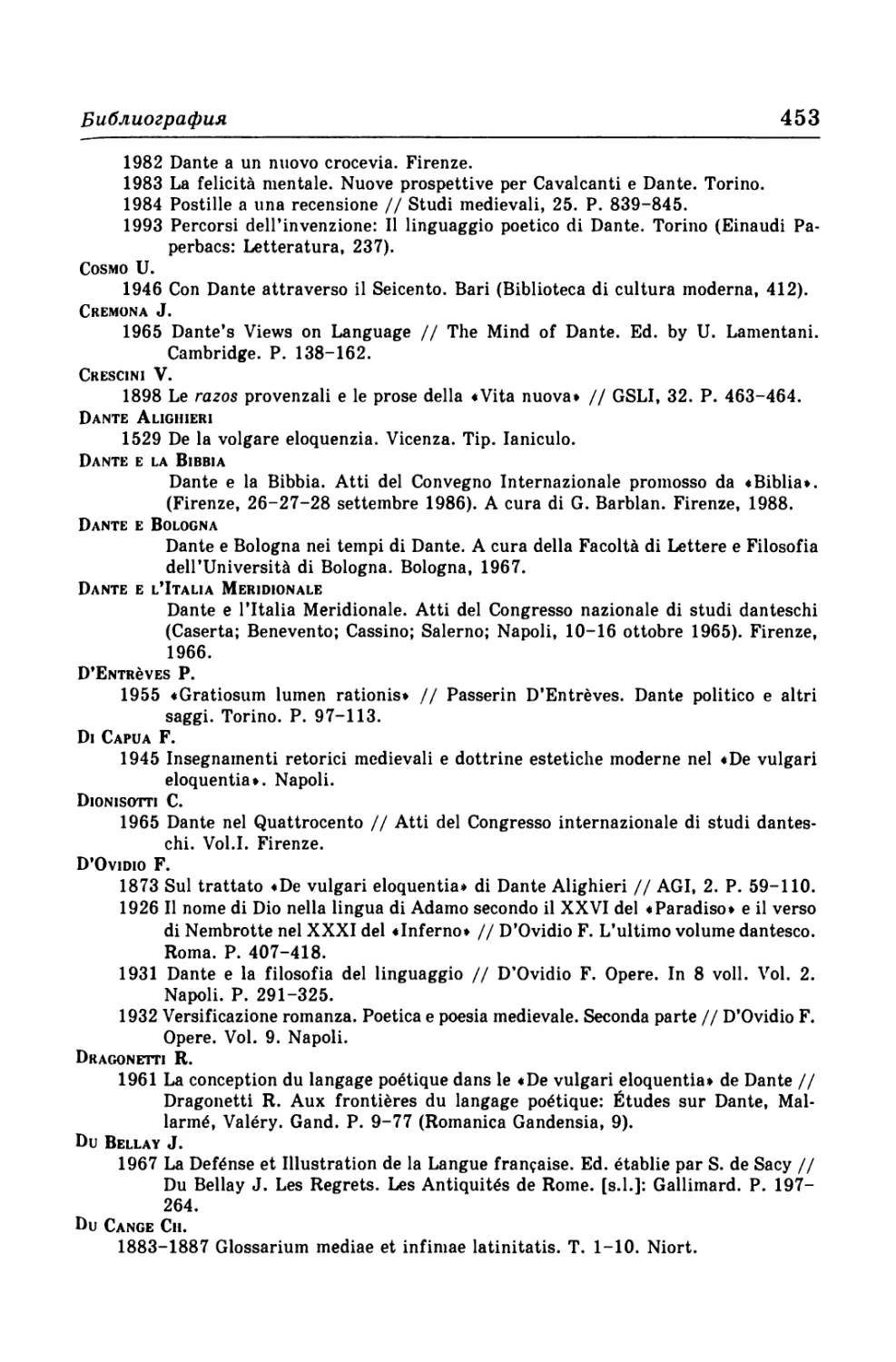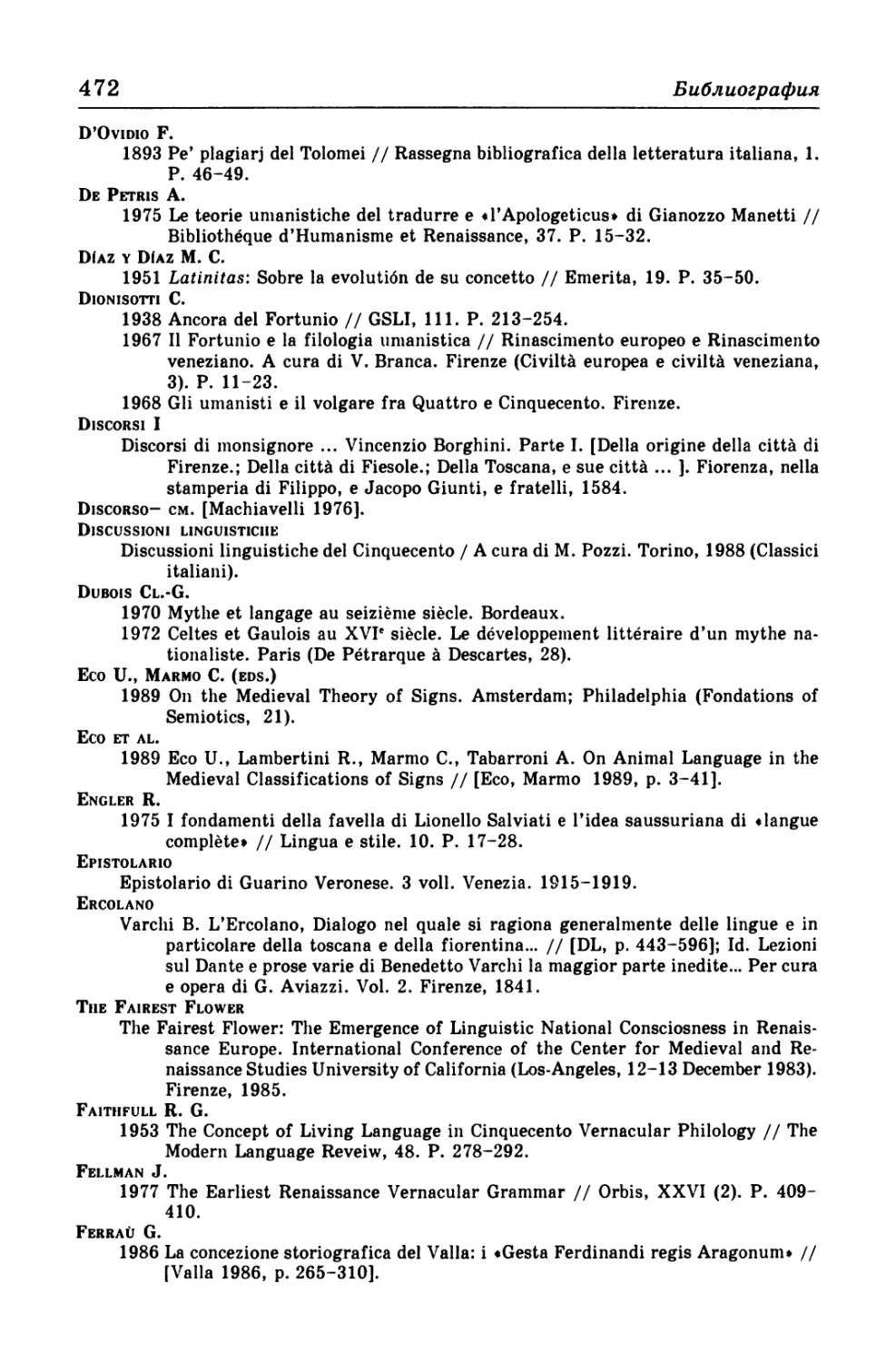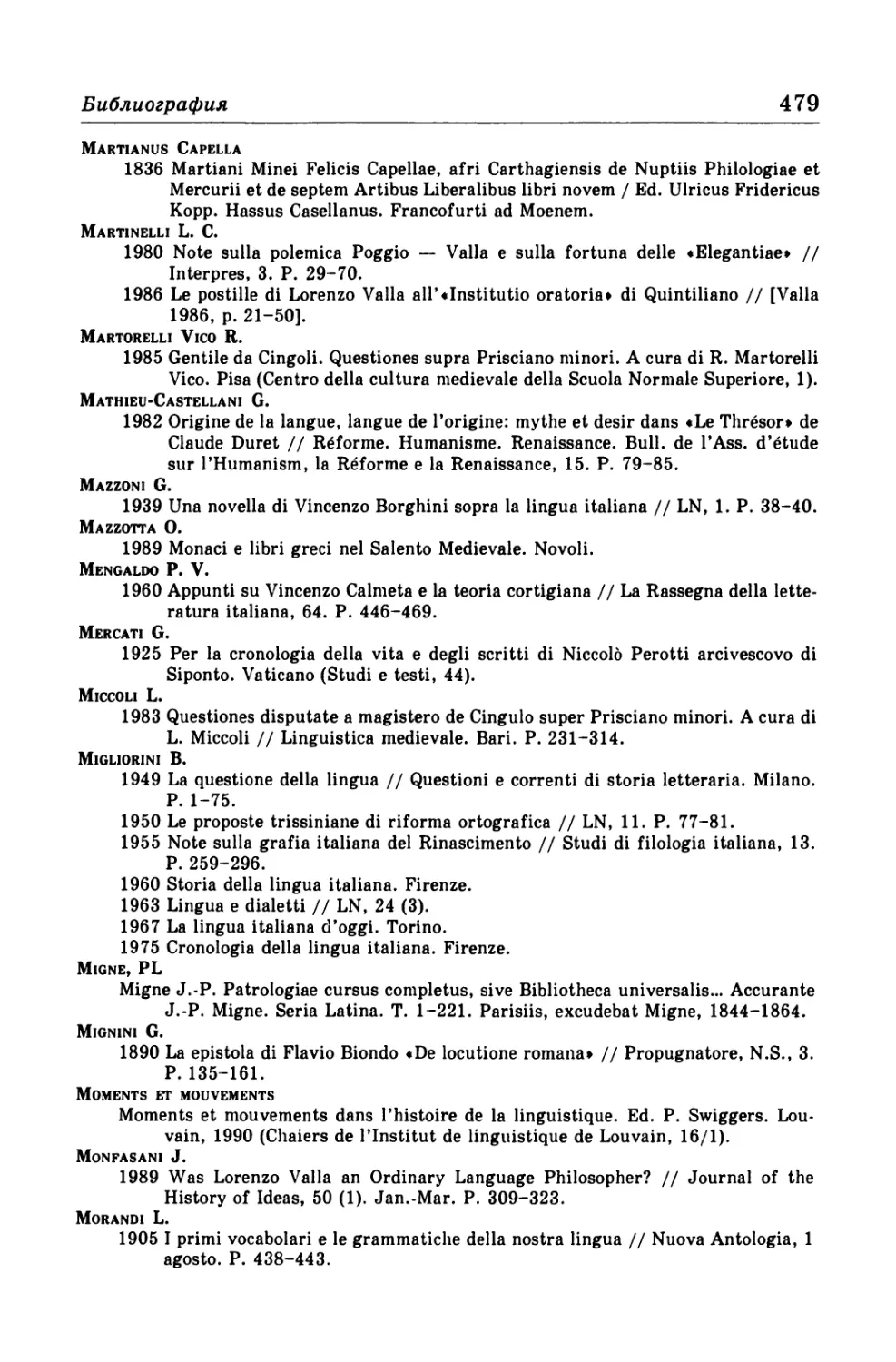Author: Степанова Л.Г.
Tags: история лингвистика языкознание изучение языков языковедение издательство санкт-петербург итальянская лингвистика
Year: 2000
Text
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Л.Г.СТЕПАНОВА
ИТАЛЬЯНСКАЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
МЫСЛЬ XIV—XVI ВЕКОВ
(ОТ ДАНТЕ ДО ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ)
*
Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2000
Л. Г. Степанова
Итальянская лингвистическая мысль XIV—XVI веков (от
Данте до позднего Возрождения).— СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. — 504
с. с илл.
Монография посвящена истории лингвистической мысли в Италии
периода перехода от средневековья к новому времени, когда страна была
культурным лидером Европы. Детальное исследование этого
интереснейшего периода развития науки о языке вводит в научный обиход целый
ряд имен и трудов, никогда не упоминавшихся по-русски или же
освещенных скупо и поверхностно. История лингвистики в единстве собственно
лингвистической теории, философии языка и филологии рассматривается
в контексте философских и теологических концепций своего времени и
предшествующей эпохи (средневековые истоки лингвистических идей
Данте и т. д.).
Книга предназначена для лингвистов разных специальностей,
специалистов по истории культуры, преподавателей и студентов
филологических и исторических факультетов, а также для всех интересующихся
культурой итальянского Возрождения.
Larissa G. Stepanova
Italian Linguistic Thought of the Fourteenth to the Sixteenth
Centuries (From Dante to the Late Renaissance)
This monograph deals with the history of linguistic thought in Italy
during the transition from the Middle Ages to the modern era when Italy
was the cultural leader of Europe. The book's detailed examination of this
most interesting period in the evolution of the science of language introduces
into Russian scholarship a number of names and works that have never been
mentioned or that have received only scant or superficial treatment. The
history of linguistics — linguistic theory proper, the philosophy of language,
and philology — is examined here in the context of the philosophical and
theological conceptions of the Renaissance and of the preceding epoch (the
Medieval origin of the linguistic ideas of Dante, etc.).
This book is intended for linguists, specialists in the history of culture
and teachers and students of philology and history, as well as those interested
in the culture of the Italian Renaissance.
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект 99—04—16081д
ISBN—5—88812—042—1
© Л. Г. Степанова, 2000
© РХГИ, 2000
TQCCQQQ1 О Гк 7 Q 1
Памяти моего отца,
филолога-романиста
Георгия Владимировича Степанова
«Для социальной и нравственной
жизни переживание ценности столь
же необходимая форма, как
причинность, время, пространство —
необходимые формы восприятия
внешнего мира».
Л. Я. Гинзбург
ОТ АВТОРА
Предлагаемая вниманию читателей книга, посвященная
истории итальянского языкознания от Данте до позднего
Возрождения, продолжает основную линию историко-лингвистических
разысканий, проводимых Институтом лингвистических исследований
РАН, ту линию, которую теперь можно назвать традицией. К
настоящему времени вышли в свет четыре коллективных
монографии под общим названием «История лингвистических учений»,
охватывающие лингвистические теории Запада и Востока с
древнейших времен до позднего средневековья. Эти книги были
изданы под редакцией двух замечательных ученых, ныне покойных
— Агнии Васильевны Десницкой (1912-1992) и Соломона Давы-
довича Кацнельсона (1907-1985).
Исходные теоретические установки работы были
сформулированы С. Д. Кацнельсоном в Предисловии к первому тому. Среди
них важнейшими представляются следующие: во-первых, взгляд
на историю науки как на историю проблемных ситуаций,
сменявших одна другую в ходе развития данной области знания, и, во-
вторых, глубокая внутренняя связь истории языкознания с
теорией языка. «В сущности говоря, — писал С. Д., — теория языка
— это та же история языкознания, но очищенная от проявлений
субъективного фактора и систематизированная по объективным
основаниям и, с другой стороны, история языкознания — это
персонифицированная и драматизированная теория языка, в которой
каждое научное понятие и теоретическое положение снабжено
ярлыком с указанием лиц, дат и конкретных обстоятельств,
связанных с их появлением в науке» (История лингвистических
учений: Древний мир. Л.: Наука, 1980. С. 5).
В отличие от названных книг настоящая монография
охватывает сразу две эпохи, но только в одной стране — это период от
средневековья до конца Возрождения в Италии. Таким образом,
первая часть книги «Лингвистические взгляды Данте», по сути
Дела, дополняет тот том «Истории лингвистических учений», кото-
6 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
рый посвящен европейскому языкознанию позднего
средневековья (сокращенный вариант этой работы о Данте по первоначальному
замыслу редколлегии и должен был выйти в составе этого тома
еще в 1991 г.) Это обстоятельство необходимо особо подчеркнуть,
ибо в обобщающих работах по истории итальянского языка и
литературы Данте как автор первого памятника на итальянском
языке, имеющего мировое значение (или, как пишут в современных
энциклопедиях, «создатель итальянского литературного языка»),
рассматривается в одном ряду с двумя другими великими тречен-
тистами (писателями XIV века), стоящими у истоков
итальянской литературы, — Боккаччо и Петраркой и тем самым нередко
ассоциируется с новой (по сравнению с латиноязычной культурой
средневековья) культурой Возрождения.
Между тем, как мыслитель и теоретик языка, Данте
принадлежит средневековой культуре, и, как отмечают зарубежные
исследователи, Дантова концепция языка и учение модистов стали в
последнее время двумя центральными темами в современной
историографии средневекового языкознания. С другой стороны,
трактаты Данте — это тот редкий случай, когда о языке пишет — и
притом создает связную, последовательную теорию — великий поэт
(и в самом деле «создатель языка»). В этом смысле они не
укладываются в свой хронологический контекст и перекликаются
через столетия с другими подобными примерами вплоть до XX века.
Ряд дополнительных материалов и обобщений, касающихся
истории средневековой грамматической традиции в Западной
Европе, содержится также и во второй части книги (см., например,
очерк «Латинская грамматика в Италии» и особенно обзор
собственно средневековых инноваций в системе грамматического
описания с. 177-179, перечень главных трудов средневековых
лексикографов в подстрочном примечании к с. 145-146 и др.).
Вторая часть книги посвящена языкознанию Возрождения —
совершенно иному, новому периоду в истории европейской
лингвистической мысли, который не может быть сведен к одной только
практической работе над языком, как это делалось в
историографии еще сравнительно недавнего прошлого и до сих пор
признается аксиомой в русской науке. Хотелось бы специально обратить
внимание на то, что кардинальный пересмотр значения ренессан-
сной лингвистики и ее места в истории науки о языке является
результатом интенсивных историко-лингвистических штудий
последних лет (см., например, 3-х томную библиографию [Renaissance
Linguistics Archive]), которые находят свое отражение в новых
многотомных трудах по истории лингвистики, начавших
выходить на Западе на рубеже 80-х и 90-х годов.
От автора
7
Ведущая роль Италии в развитии и распространении
лингвистических идей в ренессансной Европе явилась основной темой
Международного конгресса «Италия и Европа в лингвистике
Возрождения: Сопоставления и связи» (Феррара, 1991), на который
съехались 150 ученых из разных стран мира («Труды» изданы в
2-х томах [Italia ed Europa], 589c. 4- 641с). Мне посчастливилось
принять участие в этом представительном форуме, что и
послужило толчком к пересмотру тех общих мест и сложившихся
стереотипов в характеристике этого периода, от которых я
отталкивалась, приступая (надо сказать, без особого энтузиазма) к работе
над второй частью книги. По мере накопления материала, по мере
более глубокого знакомства с первоисточниками (сочинениями
итальянских ученых XV-XVI вв.) и их анализа передо мной стала
открываться поразительно интересная и своеобразная эпоха в
эволюции лингвистической мысли (во многих отношениях — эпоха
зарождения новых подходов к изучению языка), так что одним из
побуждений, определивших характер этой книги, стало желание
прежде всего просто изложить сведения и факты, практически не
упоминаемые в русской историографии.
Сложный и неоднородный состав исследуемого материала
уравновешивается единством подхода и общих методологических
установок автора. По моему глубокому убеждению, история науки
есть прежде всего история метаязыка науки, поэтому особое
внимание в работе уделяется истории и анализу понятий и терминов
(как средневековой, так и ренессансной науки). Логика
материала заставила отказаться от традиционного принципа изложения,
«по авторам» или «по школам» и «отдельным теориям» и, отведя
ему подсобную роль, группировать материал по проблемам,
аспектам и уровням языка (например, работы гуманистов по
морфологии — «грамматике» — как правило, известны значительно
лучше, чем их фонетические исследования, которым здесь
отведена целая глава). Преимущественное внимание уделено
зарождению и становлению таких дисциплин, как классическая
филология, романское языкознание и итальянистика. Вопросы изучения
Других языков (помимо романских и индоевропейских) в данной
работе специально не рассматриваются, поскольку такую тему,
как, например, семитская филология, целесообразнее освещать в
общеевропейском научном контексте (см. [Italia ed Europa], т. 2:
Италия и нероманские страны Европы. Восточные языки).
Главной задачей настоящей работы было объективное
изучение прошлого состояния науки о языке в определенный период и
б определенном регионе, а не критика несовершенства рассматри-
8 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ваемых учений и концепций с позиций современной науки.
Вместе с тем я считала своим долгом дать критическую оценку
использованной научной литературы (библиография к I и II части дается
раздельно), включая частные замечания и исправления
отдельных ошибок и неточностей в работах коллег и предшественников.
Хочу закончить свое краткое вступление словами сердечной
благодарности всем тем, кто в той или иной форме участвовал в
подготовке этой книги — моим друзьям и коллегам в Институте
лингвистических исследований в Петербурге и в Отделе редкой
книги БАН, а также многим зарубежным ученым. Некоторые из
них хорошо знали моего покойного отца, и их благорасположение
перешло ко мне по наследству, с другими я познакомилась позже.
Все они щедро снабжали меня недоступными в России
материалами, присылая новые критические издания текстов, свои работы
(порою еще неопубликованные) и самые разнообразные сведения
справочного характера. Огромное спасибо Д'Арко Сильвио Авал-
ле, Паоло Бонграни, Марии Корти, Эудженио Косериу, Киту Пер-
сивалю, Мирко Тавони, Паскуале Саббатино и Губертусу Яну за
их неоценимую помощь.
Я также необыкновенно признательна профессору Авалле и
президенту Дантовского общества Франческо Мадзони за
предоставленную мне возможность выступить с докладом о
лингвистической теории Данте в центре современного дантоведения в Па-
ладжо дель Арте делла Лана во Флоренции и президенту Академии
Круска (Флоренция) Джованни Ненчони за труднодоступные
иллюстративные материалы.
Наконец, особенно благодарна я ученым, взявшим на себя труд
прочитать работу (целиком или отдельные главы) в рукописи и
высказавшим свои замечания и предложения, которые я
постаралась учесть: моим рецензентам, Н. В. Ревякиной и Л. Г. Герцен-
бергу, а также А. П. Володину, Вяч. Вс. Иванову, Н. Н.
Казанскому, П. А. Клубкову, Ю. К. Кузьменко, Г. А. Левинтону, Эдварду
Станкевичу, Н. Л. Сухачеву, А. Б. Черняку, и наконец, Джадсону
Розенгранту за его великодушную готовность перевести мое
резюме на английский язык.
Часть I
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДАНТЕ
С именем Данте связано начало итальянской культуры в том
новом для средневекового сознания качестве, которое определяется
впоследствии как национальная традиция — традиция,
очерченная кругом своего языка и литературы на этом языке.
Для народов средневековой Европы не существовало проблемы
нации как таковой; хотя национальные культуры и языки
развивались непрерывно, представления о самоценности отдельных
культур и об их специфических различиях с трудом пробивали себе
дорогу сквозь «толщу объективирующего мышления», склонного
рассматривать сам феномен (культуру) как некий объект —
вечный, неизменный и не зависящий от своего носителя [Бицилли
1919, с. 140]. Данте, опережая историческую мысль своего
времени, обозначил контуры этой проблемы, обратив внимание как раз
на субъекта деятельности, и выделил в качестве одного из слоев
общественного бытия ту сферу, где поведение индивида
регулируется не универсальными понятиями добра и зла и не
гражданскими законами, а обусловлено его принадлежностью к определенной
этнической общности со своими, только ей присущими моделями
поведения. К этой сфере, которую мы связываем с расплывчатым
понятием «национальное», Данте относил обычаи, нравы и язык
Данного народа («народный язык» — лат. vulgare, итал. volgare),
справедливо усматривая в языке главные проявления этого
особого модуса национальной жизни, или — выражаясь языком самого
Данте — наших поступков в качестве италийцев, как он пишет в
10 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
трактате «О народном красноречии»1: «...поскольку мы
поступаем как италийцы, у нас имеются известные простейшие признаки
(simplicissima signa) и обычаев, и нравов2, и речи, по которым
измеряются и оцениваются поступки италийцев» (I. XVI. 3).
Отсюда — дантовский интерес к философским проблемам
онтологии языка и к фактическому состоянию конкретного языка,
которые были бы сопоставимы с категориями двух других уровней
социальной действительности — общечеловеческой добродетелью
и гражданским законом. Это и составило основное ядро
концепции языка, известной в истории лингвистики как теория vulgare
illustre.
О ее значении замечательный историк античности и
средневековья П. М. Бицилли писал: «Момент, когда Данте задумался над
проблемой vulgare illustre, следует считать поворотным пунктом
в истории европейской культуры» [Бицилли 1925, с. 62].
К этой проблеме Данте обращался дважды: в монографическом
трактате De vulgari eloquentia («О народном красноречии», далее
сокращенно VE) и во вводной главе другого прозаического
трактата, более широкого по своей тематике — Convivio («Пир»). Оба
трактата (оставшиеся незаконченными) были написаны в первое
десятилетие XIV века3, до создания «Божественной комедии»,
масштаб которой определил сам Данте, назвав ее священной
поэмой (sacrato poema), «отмеченной и небом и землей», а значение
столь же лаконично определил другой поэт семь веков спустя,
назвав поэму «памятником из гранита, воздвигнутым в честь грани-
1 Ссылки на этот трактат далее даются в тексте без повторения названия.
Латинский текст De vulgari eloquentia цитируется по изданию П. В. Менгальдо
[Mengaldo 1979] и в необходимых случаях по изданию [Marigo 1957]; при
ссылках на комментарии мы указываем имя издателя в круглых скобках: (напр.:
Marigo с указанием страницы). Ссылки на «Пир» (Convivio) даются также в
тексте (с указанием названия «Пир» и места трактата) по изданию [Vasoli 1988]; мы
пользовались также комментарием к изд. Дж Буснелли и Дж. Ванделли [Busnelli
1934-1937]. Русские переводы трактатов цитируются по изд. [Голенищев-Куту-
зов 1968]: с. 112-169 («Пир», пер. А. Г. Габричевского, пер. канцон И. Н. Голе-
нищева-Кутузова); с. 270-304 («О народном красноречии», пер. Ф. А.
Петровского); с. 305-362 («Монархия», пер. В.П.Зубова). О рукописной традиции VE,
основных изданиях и переводах см. наше Приложение 1.1.
2 Мы отступаем здесь от буквального перевода Ф. А. Петровского «обычаев и
одежды». Как показала М. Корти, выражение mores et habitus в текстах дантов-
ского времени выступало как формула со значением «нравы и обычаи». См. [Corti
1982, р. 56-57]. О переводе simplicissima signa см. ниже с. 78-79.
3 Приведем датировку этих трактатов в современных критических изданиях.
А. Мариго датирует VE между 1303 и 1305 гг. (Marigo, p. XXII-XXIII), той же
датировки придерживается автор новейшего и признанного более авторитетным
издания — П. Менгальдо (см. сборник его дантоведческих работ, включающий
предисловие к VE [Mengaldo 1978, р. 19-22]). «Пир» — между 1304 и 1307 г.
(Busnelli, p. XIX; Vasoli, p. XIV-XV).
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
11
та» [Мандельштам 1967, с. 17]. Поэтому трактат Данте,
излагающий его учение о народном языке, можно рассматривать как
проект памятника в честь итальянского языка, его рабочий чертеж
или, если угодно, рецепт сотворения вещи, описывающий весь
процесс — от порождения материала до советов по ее украшению4 —
рассчитанный на грамотного специалиста (что, по всей
видимости, и определило выбор латинского языка в качестве языка
описания).
Ученое сочинение, написанное на латыни, — явление столь
естественное и нормативное для культуры рассматриваемого
периода, что большинство исследователей даже не обсуждают всерьез
вопроса о языке, на котором написан трактат, как бы исключая
саму возможность альтернативного решения. П. В. Менгальдо,
пожалуй, одним из первых обратил внимание на то, что Данте, по
сути дела, «нарушает» уже сложившуюся практику составления
грамматических пособий и различных руководств по поэтике и
риторике на новых языках [Mengaldo 1978, р. 48], начатую в
провансальских трактатах конца XII — начала XIII вв.5. В самой
Италии, отчасти под влиянием знаменитой юридической школы в
Болонье с характерным для нее интересом к прагматике речи (не
только устной, но и письменной), на протяжении XIII века
интенсивно развивалась эпистолярная, политическая и юридическая
проза на volgare6. Наряду с практическими пособиями, широко
известными письмовниками и образцами публичных речей,
составленными болонским «maestro in grammatica» Гвидо Фава в
первой половине века, особое значение приобрела «переводная»
риторическая литература, свидетельствующая о том, что
красноречие, лишившееся публики в средние века [Гаспаров 1986, с. 96],
вновь ее обретало. Несмотря на то что в наших знаниях о
литературе XIII века имеется немало лакун и целый ряд текстов еще не
опубликован, наличие таких произведений, как «Цвет риторики»
(Fiore di Rittorica) Фра Гвидотто из Болоньи, компендиум
псевдоцицероновской «Риторики к Гереннию» (или «Новой риторики»,
как ее называли в средние века), а также «Риторика» (La Rettorica)
Брунетто Латини, представляющая собой комментированный пе-
4 О средневековых правилах составления рецептов см. [Харитонович 1982].
5 О первых окситанских и французских грамматиках см. [Черняк 1991; 1991а],
о провансальских трактатах XII-XIVbb. по поэтике [Гринина 1986; 1993].
6 Вопрос о соотношении текстов на латинском и народном языке в ранний
период формирования итальянского литературного языка (в итальянской
традиции этот период обозначается термином Le Origini — «Истоки» или Duecento, в
Русской традиции: Дудженто — XIII век) рассматривается во всех историях
итальянской литературы и в трудах по истории итальянского языка; о языке прозы
этого периода см. [Kristeller 1946; 1985].
12 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ревод первых семнадцати глав цицероновского учебника De
inventione («О нахождении материала», известного также под
названием «Старая риторика») позволяет говорить о существовании
традиции сочинений на volgare в области риторики, традиции в
количественном отношении пока еще скромной, но достаточно
известной и авторитетной (см. [Grayson 1963], [Nencioni 1967]; о
латинских руководствах этого же времени см. во II ч. наст, книги
с. 176-177).
Помимо этого общего фона на возможность альтернативного
решения прямо указывает второй дантовский трактат — «Пир»,
написанный по-итальянски. Вопрос о выборе языка для этого
трактата составляет содержание целой главы, служащей введением к
основному тексту (который, по замыслу, должен был состоять из
14 книг, построенных по одинаковой схеме: канцона, написанная
Данте специально для «Пира» или же ранее, и прозаический
комментарий к канцоне). Данте не удалось полностью осуществить
этот замысел, и дошедший до нас текст состоит лишь из четырех
книг. Сам факт обращения к «простонародному языку» говорит о
том, что «Пир» рассчитан на свою национальную аудиторию, на
сравнительно широкий круг читателей, не особенно сведущих в
латыни (и в этом смысле необразованных — illiterati), в отличие
от латинских трактатов, предназначенных для международной
ученой аудитории. Однако если бы выбор «демократического»
языка был обусловлен только ориентацией на соответствующего
адресата и просветительскими задачами автора, этот выбор едва ли
потребовал бы столь обстоятельной аргументации, поскольку
такая же мотивировка определила появление уже существовавшей
дидактической литературы на новых языках. Аллегорическая
поэзия, нравоучительная и энциклопедическая проза выполняли
посредническую функцию между высокой средневековой
(латинской) ученостью и интеллектуальными запросами illiterati.
Правда, как раз итальянской прозе этого рода приходилось
преодолевать опередившую ее традицию французской прозы. Так, один из
наиболее популярных компендиумов, рассчитанный на самые
разнообразные вкусы и интересы, «Книга сокровищ» (1262-1266),
была написана флорентийским нотариусом и политическим
деятелем Брунетто Латини по-французски. Мотивируя свой выбор,
Брунетто прибегает к стандартной для таких случаев формуле и
говорит, что французский язык (roumanc) «est plus delictable et
plus commune a tous langages» (Tresor I.I.7).
Энциклопедии XIII века [Ольшки 1933-1934, II, с. 10-17;
Пекин 1985], представляющие собой компиляции из разных
латинских источников, подобные французскому «Сокровищу» Брунетто
(вскоре переведенному на итальянский) или состязающемуся с ним
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
13
в популярности итальянскому сочинению о мироздании (Сотро-
sizione del mondo, 1282) Ресторо д'Ареццо [Restoro d'Arezzo, 1976],
покрывали довольно широкий диапазон тем, так что ко времени
создания трактатов Данте «вульгарная» проза освоила уже не
только область филологии (грамматику, риторику, поэтику), но и ряд
других религиозных, философских и научных сфер7.
От названных образцов общенаучной прозы, хорошо известных
Данте, «Пир»8 отличается именно тем, что выбор языка
становится в нем предметом теоретической рефлексии, а не просто
утилитарной мотивировки.
Само появление «ученых» сочинений на новых языках
принципиально изменило языковую ситуацию: признак
«литературности» перестал быть привилегией одной лишь латыни и, таким
образом, для итальянских авторов — современников Данте — выбор
языка уже не сводился к присущей средневековому двуязычию
дихотомии книжного и простонародного. Ситуация многоязычия
в сфере литературной речи выдвинула в качестве первоочередной
задачи необходимость новых критериев для ориентации.
В связи с этим во вводной главе «Пира», которую часто
называют «апологией volgare», рассматриваются такие —
принципиальные для понимания языковой ситуации и статуса
литературного языка — вопросы, как соотношение латинского и
итальянского народного языка, отношение к родному языку,
осознаваемому как ценность, и соответственно — к «чужим
языкам», т. е. в данном случае к близкородственным языкам
соседних стран и культур.
1. ТРАКТАТ «ПИР» И ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
САМОЦЕННОСТИ РОДНОГО ЯЗЫКА
Антитезу латыни и народного языка, являющуюся
кардинальной проблемой истории формирования романских литературных
языков, Данте рассматривает в «Пире» (Convivio) на примере упо-
' В частности, книга Брунетто, наряду с многочисленными историческими и
теологическими компиляциями, включала бестиарий и первый перевод на новый
язык «Никомаховой этики» Аристотеля. При переводе этой книги на
итальянский в нее был включен уже готовый перевод «Этики», сделанный Таддео д'Аль-
Деротто, о котором нам еще придется упоминать.
8 Название это, вероятно, отражает античную традицию философских
«пиров», восходящую к Платону (хотя упоминания его «Пира» у Данте нет,
впрочем, название этого диалога и зависимых от него текстов Ксенофонта, Плутарха,
Лукиана, Афинея могли быть известны и из вторых рук). Однако в трактате
Данте не соблюдается важнейший критерий этого жанра — его диалогичность (о
Жанровых характеристиках симпосия см. [Рабинович 1972]).
14 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
требления языка в самом «Пире»9. Он считает себя новатором в
этом отношении не потому, что пользуется народным языком в
ученой прозе, а потому, что впервые применяет его в жанре
комментария. Хотя в качестве прецедента можно указать на
итальянский комментарий Брунетто к Цицерону в «Риторике» [Brunetto
Latini 1968], тем не менее значение жанровой инновации Данте
трудно переоценить, ибо для средневековой латинской традиции
как таковой комментарий был одним из самых распространенных
жанров и едва ли не основной формой интеграции античного
наследия, особенно философского (см. [Mac-Lennan I960]). Второй
языковой особенностью «Пира» является то, что предметом
комментария здесь выступает не сакральный, не философский, не
античный текст, и вообще не латинское и не переведенное с латыни
произведение, а новые стихи на живом языке, занимающие то
место, которое в традиции отведено Писанию, античной
философии и поэзии (как заметил М. Фуко, «чтобы комментировать
необходима предварительная безусловность текста» [Фуко 1977,
с. 133]). В нашей науке, даже в новейших работах (см., например:
[Елина 1988, с. 135]), Данте считается пионером и в этом
отношении. На самом деле первым произведением итальянской поэзии,
удостоившимся ученого комментария10, была канцона «первого
друга» Данте — Гвидо Кавальканти—Donna me prega. Автором
этого — латинского — комментария был флорентийский медик
Дино дель Гарбо11, учившийся в Болонском университете как раз
в то время, когда там преподавал его соотечественник Таддео
д'Альдеротто — автор уже упоминавшегося перевода «Никомахо-
вой этики» Аристотеля (см. прим. 7). Любопытно, что этот
перевод Данте упоминает в той же вводной главе «Пира», объясняя
свой выбор народного языка: «Предполагая, что желание понять
9 Трактат «Пир» никогда не был предметом отдельного рассмотрения в
связи с лингвистическими воззрениями Данте. Эти вопросы обычно
рассматриваются либо в общих работах, посвященных трактату в целом, см., например,
предисловие М. Барби к изд. [Busnelli 1934-1937] и предисловие Ч. Вазоли к новому
критическому изд. [Vasoli 1988], либо в связи с анализом главного
лингвистического трактата Данте «О народном красноречии». О философии «Пира» см.
классический труд Э. Жильсона [Gilson 1939]; большинство итальянских работ
посвящено анализу этого сочинения как памятника ранней итальянской прозы: [Lisio
1902], [Schiaffini 1934], [Terracini 1957, p. 273-278; p. 279-293], [Vallone 1967],
[Segre 1976, p. 227-270], [Nardi 1992], осн. библиографию см. [Vasoli 1988,
p. XCIV-XCVI]; о рукописной традиции — наше Приложение I. 2.
10 Здесь следует оговорить, что прозаические пояснения к светским стихам,
которые часто включались в сборники провансальских трубадуров, не относились
к жанру комментария. Так, в «Новой жизни», структуру которой повторяет «Пир»,
Данте нигде не пользуется термином commento, называя свои комментарии, на
провансальский манер, ragione. См. [Crescini 1898, р. 463-464].
11 См. [Corti 1982, р. 24], [Kristeller 1985, р. 108]. Подробнее о канцоне
Кавальканти и ее многовековой комментаторской традиции см. [Corti 1983, р. 3-38].
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
15
эти канцоны заставило бы какого-нибудь некнижного человека
(illiterate) перевести латинский комментарий на язык народный, и
опасаясь, что народный язык будет кем-нибудь изуродован, как это
сделал Таддео Гиппократист, который перевел с латинского
«Этику», я предусмотрительно применил народный» (Пир. 1.Х.Ю.). Не
исключено, что пример Дино дель Гарбо — латинский
комментарий к итальянской канцоне — полемически учитывался Данте, когда
он избрал для такого же комментария народный язык.
Выбор народного языка подробно мотивируется Данте в V-XIII
главах Первой книги трактата (т. е., изложив цели своего
сочинения, всю остальную часть вводного раздела он посвящает вопросу о
языке). Он приводит «в оправдание этого ... три довода, которые и
заставили» его избрать народный язык. «Один из них вызван
опасением неподходящего выбора; второй — желанием быть щедрым;
третий — любовью к родному наречию» (Пир. I.V.2). Нетрудно
заметить, что два из них четко соотносятся с «участниками
коммуникации»: адресатом (второй «довод») и адресантом (третий «довод»).
Тема «щедрости» относится к аудитории, которой адресован
«Пир», и непосредственно связана с просветительской, учительской
функцией трактата. «Латинский комментарий был бы
благодеянием лишь для немногих, народный же окажет услугу поистине
многим» (Пир. I.X.4). При этом Данте делает немаловажное с
«социолингвистической» точки зрения уточнение: «...здесь говорится о
многочисленных князьях, баронах, рыцарях и многих других
знатных особах, не только о мужчинах, но и о женщинах, говорящих
на языке народном и не знающих латыни» (Пир. I.IX.5)12, и далее:
«дар этого комментария ... не может не принести пользу тем, кому
свойственно истинное благородство ... а люди эти почти все
выражаются на языке народном, подобно тем знатным особам, которые
перечислены выше в настоящей главе» (Пир. I.IX.8). Важно
отметить, однако, что «прагматические» заботы Данте не сводятся к
одному лишь количественному охвату: его цель — охватить всю
итальянскую аудиторию и только ее. В другой главе он приводит
как недостаток латинского комментария то, что он «толковал бы
канцоны для людей чужого языка ... содержание их толковалось
бы там, куда они не смогли бы проникнуть» (Пир. VII.13)13. Это
ограничение связано именно с тем самосознанием итальянского
12 Учитывая роль Данте как первого в европейской истории «основателя»
нового языка, стоит упомянуть о том, что последний из приведенных аргументов —
ссылка на женщин аристократического круга — не раз повторялся в
аналогичных ситуациях. Наиболее очевидный пример в русской традиции — Н. М.
Карамзин. См. об этом [Успенский 1985, с. 57-60].
13 Далее следует замечание о принципиальной непереводимости поэзии,
иллюстрируемое весьма любопытными примерами: во-первых, тем, что Гомер из-за
этого не был переведен на латинский язык, и, во-вторых, тем, что псалмы в
Двойном переводе «лишены сладости музыки» (Пир. I.VII.14-16).
16 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
языка в творчестве Данте, о котором шла речь выше, идея же
всеобщности (в этих рамках) народного языка становится отправной
точкой рассуждения в VE.
Аргумент, связанный с «говорящим», — это «любовь к родному
наречию», не случайно Данте разбирает этот «довод» последним,
поскольку здесь он отходит от конкретных потребностей
комментария и говорит о народном языке в целом. С тем же педантизмом
Данте анализирует проявления любви: «природная любовь
побуждает любящего: во-первых, возвеличивать любимое, во-вторых,
ревновать и, в-третьих, защищать его» (Пир. I.X.6). Если
«возвеличиванию» и «ревности» Данте уделяет лишь по несколько фраз
(ревность иллюстрируется одним примером — уже
цитировавшимся выпадом против Таддео д'Альдеротто), то защите народной речи
от ее хулителей он посвящает полторы главы (Пир. I.X.11-XI). Речь
идет о тех, кто предпочитает родному языку не латынь, а иные
новые языки (volgare altrui), в особенности язык «ос». Аргументы
в защиту языка «si» сводятся в основном к разоблачению пороков
его хулителей (например, тщеславия — желания похвалиться
знанием чужого языка, малодушия, связанного с принижением своих
достоинств, и т. п.), но один из аргументов вскрывает важную
особенность отношения Данте к языку: тех, кто не умеет «владеть
словом», но хочет казаться искусным в этом и потому, «чтобы
оправдать себя в том, что словом не владеют или владеют плохо,
обвиняют и уличают материал, то есть собственный народный язык, и
восхваляют чужой», Данте сравнивает с кузнецом, который «хулит
предложенное ему железо ... думая переложить вину за дурно
выкованный нож ... на железо и этим снять вину с себя» (Пир. I.XI.11-
12). Это сравнение весьма значимо для Данте (ср. его знаменитое
определение Арнаута Даниэля в «Комедии»: miglior fabbro del parlar
materno — кузнец родной речи или «ковач родного слова» в
переводе М.Л.Лозинского — Чист. XXVI.117), и нам еще придется к
нему возвращаться.
Данте открывает таким образом ряд тех европейских
мыслителей, которые сделали своей задачей прославление и защиту
родного языка, хотя сам он ссылается на прецедент Цицерона: «Против
таких-то и витийствовал Туллий ... ибо в его время хулили
римскую латынь и превозносили греческую грамматику по причинам,
сходным с теми, по которым ныне объявляют итальянское наречие
пошлым, а провансальское — изысканным» (Пир. I.XI.14). Однако
важно, что для Данте в системе его подхода к языку задачи
возвеличивания и защиты представляют собой лишь частные
проявления более общего понятия — природной любви к языку. При этом
«любовь» — одна из центральных категорий мышления Данте, она
относится не только к сфере эмоций, к сфере этики и религии, но и
к области философии (см. [Nardi 1949] и даже космогонии: «Лю-
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
17
бовь, что движет солнце и светила» (Гатог che move il sole e Taltre
stelle - Рай. XXXIII, 145).
Концепция философии и любви и их взаимопересечений
подробно разбирается в третьем трактате «Пира», представляющем собой
комментарий к канцоне Amor che ne la mente mi ragiona. He имея
возможности останавливаться на анализе этого сюжета, отметим
одну из наиболее характерных формулировок, согласно которой
философия предполагает отношение взаимности между душой (anima)
и премудростью (sapienza), которые становятся друзьями и всецело
любят друг друга. При этом sapienza определяется как предмет
философии (subietto materiale), а любовь — как ее форма, и Данте
заявляет о своем намерении прославить любовь как часть
философии (Пир. III.XIV.2). «Это он (Amor) вызывал в уме моем (ne la mia
mente informava) постоянные, необычные (nuove) и
возвышеннейшие (altissime) размышления (considerazioni) о даме [т. е.
философии]» (Пир. III.XII.3). В тех же терминах Данте прославляет и
народный язык, демонстрируя его способность (vertu букв,
«добродетель») обнаруживать самые высокие и необычные понятия
(altissimi e novissimi concetti (Пир. I.X.12; здесь и далее в цитатах
из Данте везде курсив мой. — Л. С).
Таким образом, дантовская любовь к языку (и связанная с ней
тема друзей народного языка) предполагает не только обращение к
нему (как к материалу), но — ив этом главная задача поэта —
требует «оформления» этого материала14, нахождения адекватной
языковой формы для воплощения концептуальной. В трактате эта
идея выражена на языке философских категорий и
противопоставлений (forma — materia, in atto — in podere15, (in)formare —
fabbricare), в «Комедии» — в образе диктующей любви: Г mi son
un, che quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch' e' ditta
dentro vo significance. — Когда любовью я дышу, / То я
внимателен; ей только надо / Мне подсказать слова, и я пишу. — Чист.
XXIV. 52-5416.
14 На это значение любви, определяемой как «действенная» причина (causa
efficiens), которая соединяет субъект (духовное начало — anima) с предметом
любви (объект внешнего мира) и преобразует одно в другое (fa che l'uno si trasforma
ne Paltro), обращали внимание ранние дантоведы XVI в. См. например, [Simon de
la Barba 1556, p. 60].
15 Термины atto и podere являются итальянским переводом главных терминов
схоластической философии — actus et potentia, которые соответствуют двум
важнейшим понятиям в философии Аристотеля, разработанным для обозначения
актуальной действительности предмета (evepycta) в отличие от потенциальной
возможности (Suvauiq).
16 Перевод М. Л. Лозинского не передает слов ditta dentro «диктует внутри»
(Амор), ср. в цитате-пересказе Ахматовой: «Ты ль Данту диктовала страницы
"Ада"?». «Ученический» аспект темы диктовки уловлен и подчеркнут в
интерпретации Мандельштама: «Он пишет под диктовку, он переписчик, он перевод-
18 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Таковы аргументы Данте, относящиеся к адресату речи
(прагматический «апеллятивный» аспект) и к субъекту речи («эмотивный»
аспект), — то есть второй и третий «доводы» в пользу комментария
на народном языке. Первый довод — это, как уже говорилось,
«опасение неподходящего выбора». В отличие от двух других он может
относиться и к «объекту речи», и к контексту (в разных смыслах
этого термина), и к собственно стилистической сфере. Однако
жанровые особенности «Пира», по существу, снимают эти различия,
поскольку для комментария «объектом» речи, описываемой
действительностью является комментируемое произведение — т. е. факт
в такой же степени лингвистический, как и сам комментарий.
«Неподходящий выбор» (disconvenevole ordinazione) нарушил бы прежде
всего языковую гармонию в тексте трактата (т. е. соответствие между
языком канцон и языком комментария). Вопрос о языке
комментария — именно в аспекте уместности его в данном трактате —
решается подчеркнуто ad hoc. Латинский язык отвергается не из-за его
недостатков, а как раз в силу его превосходства над народным. Само
это превосходство носит объективный и общий характер, оно
относится не к частному случаю, каким является выбор языка, а к
природе сравниваемых языков, и проявляется это превосходство в трех
параметрах: латинский язык отличается, во-первых, большим
благородством (nobilita), нежели народный, ибо он устойчив и не
подвержен порче, тогда как народный язык ё поп stabile e corruttibile
(«неустойчив и подвержен порче» — Пир. I.V.7); во-вторых —
достоинством (или даже, точнее, «добродетелью» — vertu), так как
лучше выполняет свое предназначение: «латинский язык
открывает многие мысли, которые народный выразить неспособен» (Пир.
I.V.12); в-третьих — красотой (bellezza), ибо в нем «слова обладают
должным соответствием друг другу ... в большей степени, чем в
народном, ибо народный следует обычаю (uso), а латинский —
искусству (arte), почему он и считается более красивым, более
достойным и более благородным» (Пир. I.V.13). Таким образом, Данте
завершает рассуждение изящным, обратным по порядку перечнем
тех преимуществ латыни, с которых начинал свою аргументацию.
Важно подчеркнуть, что, с одной стороны, язык оценивается в
категориях общефилософских, прежде всего этических17, а с другой
чик... Он весь изогнулся в позе писца... Тут мало сказать списыванье — тут чисто-
писанье под диктовку самых грозных и нетерпеливых дикторов. Диктор-указчик
гораздо важнее так называемого поэта... Вот еще немного потружусь, а потом
надо показать тетрадь, облитую слезами бородатого школьника, строжайшей
Беатриче, которая сияет не только славой, но и грамотностью» [Мандельштам, 1967,
с. 50-51].
17 В частности, категории благородства посвящен IV трактат «Пира». «Под
словом "благородство" разумеется совершенство собственной природы каждой вещи.
Поэтому слово это прилагается (ё predicata) не только к человеку, но ко всему без
исключения» (de tutte cose — Пир. IV.XVI.4-5). На универсальный характер
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
19
стороны, эти чисто оценочные и, на первый взгляд,
метафорические характеристики наполнены достаточно реальным и
конкретным лингвистическим содержанием: устойчивость и неизменность
языка, богатство его лексического (понятийного) состава и
грамматический тип (признак красоты, скорее всего, следует понимать
как противопоставление флективного строя латыни, при котором
слова «соответствуют друг другу», аналитизму итальянского)18.
Однако все эти преимущества, объективно присущие латыни, с
точки зрения трактата, для которого избирается подходящий язык,
оказываются недостатками. Сразу же за цитированным выводом
Данте следуют слова: «Из этого и вытекает основное положение,
а именно, что латинский язык оказался бы не подчиненным
канцонам, но над ними главенствующим» (Пир. I.VI.13). Именно
превосходство латыни делает ее непригодной для комментирования
итальянского текста. Развернутое сравнение отношений текста и
комментария с отношениями господина и слуги, равно как и сам
вывод о непригодности латыни для комментария именно в силу ее
превосходства, показывают, что для Данте проблема оценки
явления (в данном случае языка) не решалась вне вопроса о его
конкретной функции19.
В развернутой метафоре господина и слуги (Пир. I.VI-VII) так
же, как в метафоре «дружбы с языком», Данте перечисляет
необходимые свойства слуги, а затем «проверяет» их применительно к
языку. Достоинства слуги — это понимание и послушание,
которые в свою очередь имеют ряд свойств. Если тема «послушания» в
общем только развивает мотив «подчинения» комментария тексту
канцон, вопрос о понимании хозяина слугой имеет собственно
лингвистический смысл. Понятливый слуга должен понимать харак-
этого критерия в средневековой культуре обратил внимание П. М. Бицилли [Би-
цилли 1919, с. 35-36]. Он приводит примеры иерархии стихий (вода благороднее
земли и т. д.), тел (человеческое тело знатнее прочих тел на свете), имущества
(недвижимость почтеннее (dignior) движимости), частей тела; даже собаки
«делятся на сословия так же, как люди: есть знатные и незнатные», даже чудеса и
видения различаются «иерархически», по «достоинству». В этот ряд Бицилли
включает и Дантово сопоставление латыни с народным языком, а также
иерархию семи свободных искусств в соответствии с семью небесами (Пир. II.XIV). О
концепции «благородства» в XIII в. см. специально: [Corti 1959], о философии
любви и благородства в «Пире»: [Battaglia 1971].
18 На такую интерпретацию «соответствия» слов, по всей видимости,
указывает рассуждение о «сообразности» в VE II.VI.2-3. Дантовская концепция
«строения» (constructio) латинской фразы и ее проекция на «сплетенность» (contexte)
слов в итальянской канцоне рассматриваются в [Mengaldo 1978, р. 281-288],
[Scaglione 1978; 1990, р. 307-309).
19 Ср. позднейшую формулировку такого подхода: «Оценивать динамический
факт с точки зрения статической — то же, что оценивать качества ядра вне
вопроса о полете. «Ядро» может быть очень хорошим на вид и не лететь, т. е. не быть
ядром, и может быть «неуклюжим» и «безобразным», но лететь хорошо, т.е.
быть ядром [Тынянов 1977, с. 260].
20
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
тер своего господина, т. е. la natura del volgare, и должен понимать
его друзей. Несмотря на строгое разграничение аргументации по
этим двум пунктам, оказывается, что на самом деле они
переплетаются. Аргументация Данте здесь совмещает философские
абстракции (восходящие, в частности, к Фоме Аквинскому) и вполне
конкретные соображения из области прагматики языка: «Тот, кто знает
лишь род какой-нибудь вещи, в совершенстве ее не знает...
Латинский знает (conosce) народный язык вообще, но не в отдельных
проявлениях (in genere ma non distinto), ибо если бы он различал его
надлежащим образом, то познал бы (conoscerebbe) все народные
языки — ведь нет оснований, чтобы он один понимал (conoscesse)
лучше другого» (Пир. I.VI.6-7). Здесь речь идет о чисто
философских категориях знания, о соотношении рода и индивидуального
явления, и весьма затруднительно выяснить из этого контекста,
что собственно Данте имел в виду, говоря о «знании»,
«понимании» одного языка другим. По всей видимости, эта трудность
проистекает из того обстоятельства, что Данте действительно имел в
виду сразу несколько различных смыслов и уровней: от проблемы
взаимопонятности языков (для их носителей — т. е.
прагматический аспект) до общепринятой схоластической теории
универсальной грамматики, согласно которой все языки имеют общую
«субстанцию», а различаются только «акциденциями». Как утверждал
один из главных авторитетов грамматической науки того времени
Боэций Дакийский (Датский), «кто знает ее [грамматику] в одном
языке, знает ее и в другом (qui scit earn in uno idiomate scit earn in
alio — Modi sign. 14.61-62)20. Поскольку теория модистов
разрабатывалась на основе латинского языка, концепция универсальной
грамматики за пределами школы естественным образом
отождествлялась с реальной грамматикой латинского языка, или попросту с
латынью. Учитывая это отождествление, слова Данте можно
рассматривать как прямую полемику с тезисом Боэция.
Однако в «Пире» интерес Данте направлен в большей мере не
на абстрактные вопросы схоластической науки, а на язык в его
20 «Данте и модисты» — тема сравнительно новая и в отечественном дантове-
дении еще не появившаяся ввиду того, что до сравнительно недавнего времени
основным источником сведений о модистах служила антология Ш. Тюро 1868г.
[Thurot 1869], во многих отношениях несовершенная. Критические издания
сочинений представителей этой школы — Иоганна, Мартина, Симона и Боэция
Датских начали выходить с середины 50-х гг. нашего века в Corpus Philosophorum
Danicorum Medii Aevi и существенно изменили само представление о научном
контексте сочинений Данте. В Италии к этой теме впервые обратилась (если не
считать эпизодических замечаний комментаторов трактатов Данте) Мария Корти
в монографии 1981г. «Данте на новом перепутье» [Corti 1982], без которой
многие вопросы (в том числе и затронутые в настоящей работе) могли бы остаться вне
нашего поля зрения.
цасть I. Лингвистические взгляды Данте
21
непосредственном бытовании, поэтому общий тезис он доказывает
и проясняет уже на прагматическом уровне, обратившись к
языковой компетенции носителя. Он продолжает: «таким образом,
если бы какой-нибудь человек полностью и в совершенстве
овладел латынью, то он, как может показаться, приобрел бы
способность охватить и познать все народные языки» (Пир. I.VI.7). У
Данте здесь стоит единственное число: «народный язык» (l'abito
di conoscenza distinto de lo volgare). He исключено, что он имеет в
виду некий «тип» народного языка, конкретизирующийся в
отдельных языках подобно универсальной грамматике, во всяком
случае, далее он поясняет эту мысль не только с помощью
«понимания», но и умения опознавать, различать (distinguere) разные
«новые» языки: «Но этого не бывает; человек, владеющий
латынью, если он из Италии, не отличает [английского]21 народного
языка от немецкого, ни немец, знающий латынь, не различает
итальянский народный язык от провансальского» (Пир. I.VI.8).
Здесь, как мы видим, речь уже идет о конкретных народных
языках и о способности носителей одних языков понимать другие.
При этом Данте ставит в вину латыни даже то, что она не
помогает понять (или отличить) германские языки, и дело здесь вовсе не
в том, что он не знаком с понятием родства языков22. На уровне
примеров он отчетливо различает (distingue) родственные языки
и заставляет немца опознавать романские, а итальянца —
германские, но на уровне общего утверждения он пренебрегает этим
различием, сопоставляя латынь с «народным языком вообще»
(частным проявлением этой категории служат отдельные или «все»
народные языки), и соответственно делает общий вывод: «Отсюда
явствует, что латынь не понимает народного языка» (снова в ед.
числе — Пир. I.VI.8). Затем он снова меняет уровень
аргументации, показывая, что прагматический уровень был нужен только
для иллюстрации, а к прагматике как самостоятельной проблеме
он переходит только сейчас: «К тому же она (латынь) не понимает
и его друзей» — т. е. носителей языка. Здесь уже
подготавливается переход к последующим доводам, к доступности языка (вопрос
о носителях) и любви к языку (дружбе с ним), однако
нисхождение к конкретным уровням происходит постепенно. Поначалу
Данте, не оставляя своей метафоры «понимания» (смысл которой в
предлагаемой интерпретации несомненно далеко не исчерпан),
говорит, что латынь «не понимает» друзей, т. е. носителей народно-
21 «Английского» — представляет собой традиционную конъектуру (см.,
например, комментарий в: [Голенищев-Кутузов 1968, с. 524]).
22 Этой проблеме (со ссылками на дантовский трактат VE) посвящена статья
Дж. Бонфанте «Заметки о родстве европейских языков (К истории постановки
Опроса в период с 1200 по 1800 г.)» [Бонфанте 1957].
22 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
го языка, «переворачивая» последующее и для нас более
естественное утверждение, что носители народного языка не понимают
латыни. Лишь после этого, в качестве доказательства, он упоминает
факт собственно прагматический: «без общения и близости
невозможно понимать людей, латинский же ни в одном народе не
имеет общения со столькими людьми, со сколькими общается язык
народный; а следовательно, латинский и не может понимать
языка народного» (Пир. I.VI.10). Здесь полностью повторена та же
структура: вначале, на более абстрактном уровне, речь идет о
народном языке вообще, затем в качестве аргументации и примера
вводится множественность отдельных языков («ни у одного
народа») и затем вывод снова делается на абстрактном уровне, в
единственном числе.
Такова, в основном, аргументация Данте в «Пире»,
оформленная с педантизмом схоласта, разбитая на отдельные доводы,
аргументы и выводы. Правда, уже в ходе предыдущего изложения
нетрудно было заметить, что собственно лингвистические темы
трактата отнюдь не совпадают с этой рубрикацией «доводов».
Внешняя логика, эксплицитная аргументация, составляет лишь
первый уровень мысли Данте. На этом уровне тезис, доказываемый в
первом трактате, сводится к тому, что латинский язык
объективно «лучше» народного, но для целей «Пира» народный язык
уместнее. Однако на более глубоком уровне этот тезис, в сущности,
опровергается и утверждаются достоинства volgare, не
уступающие латыни. Эти положения не выстроены в такую же строгую
цепь доказательств, они формулируются «исподволь», в ходе
аргументации первого тезиса, тем не менее они несомненно и
убедительно доказываются в трактате. Каждый пункт первого тезиса,
т. е. каждый (или почти каждый) признак, по которому латынь
превосходит народный язык, к концу первого трактата находит
свое опровержение. Этот второй уровень ни в коей мере нельзя
назвать «скрытым» или «тайным», все положения
сформулированы недвусмысленно и четко, они лишь не выдвинуты в качестве
тезисов, доказываемых по всем правилам аргументации, как
доказывается частное утверждение о необходимости избрать
народный язык для комментария в данном сочинении. Второй уровень
аргументации противоречит первому лишь в своей «модальности»;
если логически стройная система доказательств первого уровня
начинается с извинения за использование народного языка и
представляет собой «оправдание» этого выбора, то на втором уровне
отрицается как раз необходимость такого извинения. В этом смысле
полную параллель двум этим уровням мы находим в той сквозной
метафоре трактата, от которой и происходит его название, мета-
Цасть I. Лингвистические взгляды Данте
23
форе хлеба, очищаемого от пятен23, именно в той ее части,
которая совпадает с началом обсуждения вопроса о языке.
Свое «извинение» за выбор народного языка, которым и
открывается вся лингвистическая часть трактата, т. е. описанная
выше аргументация, Данте начинает с нового поворота «хлебной
метафоры»: «После того как хлеб этот был очищен от случайных
пятен, остается просить извинения за одно существенное пятно, а
именно за то, что он написан на языке народном, а не на
латинском; пользуясь же сравнением можно сказать, что это хлеб
простой, а не пшеничный» (Пир. I.V.I). Эти слова не только
подчеркивают факт «извинения» за выбор народного языка, но и вводят
его в тот контекст, на который ориентирована вся формальная
аргументация «Пира», поскольку сама метафора хлеба основана
на подчиненном положении комментария — «угощением» на пиру
являются канцоны, а комментарий служит хлебом, необходимым
для их усвоения (Пир. 1.1.13-14). Однако уже в первой главе
появляются формулировки, свидетельствующие о самоценности
хлеба. Сначала Данте говорит: «Я намереваюсь задать всеобщее24
пиршество из того хлеба, который необходим для такой снеди»
(Пир.1.1.11), но в следующем предложении переворачивает эти
взаимоотношения: «А это и есть пир, достойный этого хлеба»
(Пир. I.I.12), причем без этого хлеба «бедняки», т. е. те, кто не
может присутствовать за «трапезой», где вкушают ангельский
хлеб, вообще не «смогли бы отведать» эту снедь, — что, как уже
отмечалось, указывает на необходимость писать на народном
языке.
Извинение за простой хлеб открывает пятую главу, в которой
излагаются основные «доводы» в пользу volgare и
рассматриваются преимущества латинского языка перед ним. Аргументация
начинается с VI главы, и в ней, в контексте, где наиболее наглядно
подчеркивается подчиненная роль комментария (метафора
господина и слуги) и функциональность выбора языка для него, мы тем
не менее встречаем утверждение о языке, относящееся,
по-видимому, к самому высокому уровню абстракции для этого трактата.
23 Речь идет о хлебе — комментарии к яствам — канцонам. «В начале каждого
хорошо устроенного пира слуги берут поданный на стол хлеб и очищают его от
всякого пятнышка» (Пир. I.II.I). Данте сам очищает свой хлеб, то есть отводит
возможные обвинения (формально это представлено как извинения за его
недостатки — «пятна»). Сначала он отводит обвинения, внешние по отношению к
комментарию (необходимость говорить о самом себе и т. п.), а затем переходит к
языку комментария.
24 Уже здесь, в первой главе, вводится и «прагматический аспект» языковой
проблемы — «всеобщее пиршество» (generale convivio): «Но пусть придет сюда
всякий ... и сядет за одну трапезу вместе с другими» (Пир. I.I.13).
24
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Мы имеем в виду высказанное выше предположение о скрытой
полемике с универсальной грамматикой модистов. Если
рассуждение Данте о непонимании латынью народных языков (или
народного языка как более общей категории)25 направлено против
цитированных слов Боэция, то оно тем самым должно
опровергать и более общий тезис модистов, согласно которому,
повторяем, языки различаются лишь «акциденциями» — случайными,
внешними проявлениями — но едины по своей «субстанции». Едва
ли случайно именно с этих слов (которые у модистов были
основными терминами) начинается «извинение» за простой хлеб в I.V.I,
в более буквальном переводе: — «После того как этот хлеб
очищен от недостатков (пятен) акцидентального характера, остается
освободить его от обвинения в одном субстанциональном изъяне,
то есть в том, что он вульгарный, а не латинский и, можно
сказать, подобен простому хлебу, а не пшеничному» (Convivio. I.V.I)26.
Введение модистских терминов в эту метафору свидетельствует о
том, что как разница между хлебом из пшеничной и простой
муки — это разница субстанций, так и языки различаются
субстанцией, а не акциденциями, в противоположность
единодушному мнению модистов, что в языках: «Est diversitas solum in
accidentibus» («Есть различие только в акциденциях»).
На наличие второго смысла в этой метафоре указывает,
по-видимому, еще один термин: similitudine. Латинские богословские
тексты подчеркивают различие между сравнением (comparatio) и
25 Нужно специально оговорить, что в ряде случаев трудно решить, понимает
ли Данте под volgare тот или иной конкретный язык (прежде всего итальянский,
как в главах о «природной любви» к своему языку) или же «народный язык»
вообще, как некий инвариант (как это, вероятно, имеет место в разбиравшихся
выше формулировках главы VI).
26 Здесь следует различать два значения термина «акциденция»: в
традиционной латинской грамматике accidentia означает категории, присущие имени,
глаголу и т. д. (напр., акциденции имени — это род, число, падеж и т. д. ) и только;
в философии термин «акциденция» (accidens) означает случайное,
несущественное в противоположность существенному, субстанциональному, т. е. является
коррелятом термина «субстанция»; в связи с этим в философских грамматиках
позднего средневековья (модисты составляют лишь одно из направлений схоластической
науки о языке) переосмысляется и традиционный термин грамматического
описания «акциденция». Как отмечают историки науки, деление свойств вещи на
субстанциональные качества (сущностные и постоянные) и акцидентальные
признаки (случайные и преходящие) постоянно сталкивалось с неразрешимыми (в
рамках этой системы) противоречиями при интерпретации определенных
процессов и явлений в самых разных областях знания. В связи с дантовской метафорой
хлеба важно отметить, что в этих же терминах — субстанции и акциденции —
интерпретировали богословы таинство евхаристии. Интересным для нас
представляется решение этой проблемы у Фомы Аквинского, который полагал, что
функцию субстанции хлеба и вина после их пресуществления выполняет их
количество [Гайденко, Смирнов 1989, с. 244].
Цастъ I. Лингвистические взгляды Данте
25
подобием (similitudo).27 Действительно, традиционное еще для
античности сравнение литературного или духовного сочинения с
пищей (вплоть до языковой метафоры «духовная пища») в
трактате развито с такой детальностью (характерной, впрочем, для
Данте)28, что начинает превращаться из риторической аллегории в
теологическую. Это происходит не только за счет подробного
развития или терминологического характера слова similitudine. Сама
метафора еще раз кратко упоминается в начале десятой главы I.X
(в тех же словах: pane di biado е поп di frumento — Пир. I.X.I) и
возникает снова в самом конце первого трактата, по завершении
всей аргументации: «Итак, обратив взоры вспять и собрав
воедино все приведенные выше доводы, можно увидеть, что хлеб, с
которым надлежит вкушать приведенные ниже канцоны,
достаточно очищен от пятен и от того, что он из простой муки (е da Tessere
di biado). Настало время подавать само кушанье» (Пир. I.XII. 11-
12). Однако, когда метафора и все построение трактата, казалось
бы, завершены, Данте повторяет: «Итак, это будет тот ячменный
хлеб (pane orzato), которым насыщаются тысячи, для меня же
останутся полные коробы» (Пир. I.XIII.12). Давно отмеченная
комментаторами аллюзия на чудо о пяти хлебах (Ин 6: 5-13)29
подкрепляется тем, что впервые вместо pane di biado «простой,
грубый хлеб» здесь употреблено pane orzato «ячменный хлеб», как и
в Евангелии (в Вульгате: panis hordeacius). He исключено, что
противопоставление пшеничного и ячменного хлеба имеет и чисто
религиозный аспект: пшеница была символом истинной
католической веры (в частности, гостия делалась из пшеничной муки)30,
а ячмень ассоциировался с ересью31 — «lo vitio de resia» как ска-
27 См., например: Epistola ad Severinum de caritate. IV.38.20 [Ives 1955, p. 85].
«Послание к Северину о любви» называют в числе источников «Комедии» и VE,
см.: [Corti, 1982, р. 53-56].
28 Ср.: «Сила дантовского сравнения — как это ни странно — прямо
пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской
логической необходимостью» [Мандельштам 1967, с. 21].,
29 Здесь, конечно, заключен и каламбур: хлеб, которым насыщаются тысячи,
это не только евангельские пять хлебов, накормившие людей «числом около пяти
тысяч» (Ин 6: 10), но и пища, доступная всем итальянцам — всем говорящим на
народном языке и не знающим латыни. Ср. категорию «количества» в
интерпретации пресуществления, см. выше сн. 26.
30 Заметим, что одна из возможных этимологии biada возводит его к oblata,
Данте мог это знать, благодаря, в частности, соответствию прованс. blada —
«облатка, гостия», см.: [Raynouard 1836-1843] s. v. blada.
31 С другой стороны, один из «доводов» Данте — ревность к своему языку,
быть может, связан с тем обстоятельством, что из всех хлебных жертв «жертва
Ревнования» приносится ячменным хлебом: если «найдет на него дух ревности, и
°н будет ревновать жену свою ... пусть приведет муж жену свою к священнику и
принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки; но не возливает на
пее елея и не кладет Ливана потому, что это приношение ревнования, приноше-
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
26
зано в стихотворении Бонвезина да ла Рива Disputatio musce cum
formica: «Per l'ordio si s'intende lo vitio de resia, /.../ Guaia ki
mangia l'ordio, ki 's pass de l'heresia / ke lassa sta '1 formento, zoe
la drigia via / Zoe la fe catholica, k'e senza tenebria». (Ячмень
подразумевает грех ереси /.../ Горе тому, кто ест ячмень и впадает в
ересь / кто отказывается от пшеницы, то есть от прямого пути /
то есть от католической веры, на которой нет тьмы. — Цит. по:
[Corti 1973, р. 165, п. 17]). Существует ли какая-то взаимосвязь
между этим гипотетическим аспектом «хлебной метафоры» и ее
лингвистическим аспектом — неясно. Данте мог связывать
противопоставление латыни и народного языка с какими-то
антипапскими идеями и т. п., но это уже явно не относится к области его
лингвистических взглядов32.
Итак, извинения за «простой хлеб» сменяются в конце
трактата его прославлением, также меняется статус народного языка на
уровне прямых, неметафорических высказываний. Эта смена
происходит постепенно, и она непосредственно связана с
постепенным раскрытием разных функций комментария как такового.
Дидактическая функция комментария (как «популярного»
сочинив воспоминания, напоминающее о беззаконии» (Числ 5: 14-15), в Вульгате:
offeret oblationem pro ilia decimam panem sati farinae hordiaciae..., quia sacrificium
zelotypiae est et oblatio investigans adulterium.
32 В одной из недавних работ [Lanza 1990] доказывается, например, что в
своем эзотерическом трактате «Пир» Данте проповедует одну из религиозных
доктрин гностицизма и для сокрытия еретического — с точки зрения официальной
церкви — учения использует иносказательный язык. Согласно концепции А. Лан-
цы, которую мы никак не можем принять, соотношение латыни и народного
языка, обсуждаемое в Первой книге трактата, является не более чем
«аллегорией», скрывающей истинный смысл «введения»: противопоставление
официальной религии (=латынь) и «дантовской веры» (=вольгаре) [Lanza 1990, р. 54]. В
этом же ключе трактуется и заключительная фраза кн. I о «новом свете и новом
солнце». Не принимая такого прочтения в целом, отметим, однако, то важное
обстоятельство, что церковь действительно сопротивлялась проникновению
народного языка в свою сферу. Так, постановления церковных соборов (1229 и
1234 гг.) запрещали пользоваться переводами на «романский язык» (т. е.
окситанский) псалмов и молитвенников: верующим предписывалось сдавать их в
восьмидневный срок епископу, который обязан был предать огню эти еретические
тексты, а специальная булла Иннокентия IV (1245 г.) объявила народный язык
«языком еретиков». Эти исторические факты свидетельствуют о том, насколько
серьезной для дантовского времени и небезопасной для автора рассматриваемого
трактата была тема «защиты и прославления» народного языка (заметим, кстати,
что в «Пире» Данте цитирует Писание по-итальянски. О Данте как переводчике
см. [Groppi 1962]). С другой стороны, отождествление латыни с официальной
церковной доктриной, а народного языка с «новой» верой было бы слишком
прозрачным для современников Данте, чтобы можно было поверить в то, что он
воспользовался именно этой аллегорией для сокрытия подлинного смысла своего
трактата.
цасгпъ I. Лингвистические взгляды Данте
27
ления в смысле упомянутой трактовки Ольшки) подчинена
собственно комментаторской: «Поистине дар этого комментария —
смысл тех канцон, для которых он написан [=функция
толкования], смысл, главная задача которого направить людей к
познанию и добродетели» [=дидактическая функция] (Пир. I.IX.7). Обе
эти функции Данте подчеркивает и в главе I.I., уточняя, почему
канцонам, «посвященным как любви (amor), так и добродетели
(vertu), необходимо толкование, без него они «остались бы темны
и непонятны», и, главное, «многим их красота могла понравиться
больше, чем содержащееся в них добро» (Пир. I.I.14). Красота
(bellezza), т. е. внешняя привлекательность, противопоставлена
категории добра, или христианского блага (bontade). Внешнее
сияние добра, блага33 требует постижения — особых средств,
направляющих чувственное восприятие. Хлеб этот, то есть
истолкование, будет тем светом, «который выявит все оттенки смысла
канцон» (ogni colore di loro sentenza — Пир. 1.1.15).
В этой толковательной функции комментарий подчинен
тексту, прозаический язык — поэтическому. Эти господа, то есть эти
канцоны, «которым комментарий в качестве слуги и
предназначен, повелевают ... и хотят быть разъясненными всем тем людям,
до которых может дойти их смысл», как если бы они говорили
сами (Пир. I.VII.11), — «смысл» здесь intelletto, т.е., видимо,
более глубокий смысл, значение по сравнению с «содержанием»
плана выражения — sentenza, которое употребляется в остальных
местах трактата в традиционном значении «sententia verbi».
Однако, начиная с главы IX, возникают и несколько иные
определения комментария, свидетельствующие о его
самостоятельной ценности. М. Фуко, говоря о позднем Ренессансе, прямо
связывает роль комментария с авторефлексией языка: «Язык XVI
века был по отношению к себе в положении непрерывного
комментария» [Фуко 1977, с. 132]. Это, конечно, любопытным
образом соотносится с третьей функцией комментария у Данте —
языковой. Закончив рассуждение о «даре полезном» (каковым является
смысл канцон и их дидактическая польза), Данте переходит к «дару
не выпрошенному», который состоит в том, что через настоящий
комментарий народный язык преподнесет самого себя (dara se
medesimo per commento), чего еще никто от комментария не
требовал (Пир. I.IX.10).
Здесь сформулировано сразу несколько принципиально
важных положений. Во-первых, комментарий выступает не только
как толкование стихов, но и как самостоятельный текст, как об-
33 См. Словарь библейского богословия / Под ред. К. Леон-Дюфруа и др.
Брюссель, 1974. Стлб.54.
28
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
разец итальянской прозы, который и должен продемонстрировать
совершенство языка,34 в этом смысле противопоставление «Пира»
«Новой жизни» (Пир. I.I.16) можно понять так, что для создания
литературного языка недостаточно повествовательной прозы, он
должен овладеть всеми областями знания. Точно так же
недостаточно для него поэзии — уже существующей, — поэтому нет
никакого противоречия в том, что в одном месте трактата Данте
говорит, что язык мог бы достигнуть устойчивости (а это качество
оценивается положительно), «только связав себя размером и
рифмами» (Пир. I.XIII.6), а в другом утверждает, что только в прозе
можно понять и оценить красоту языка (Пир. I.X. 12-13, оба эти
примера будут рассмотрены ниже), и дело здесь не только в том,
что речь идет о разных параметрах («благородстве», с которым
связана устойчивость, и «красоте»), но и, прежде всего, в том, что
задачей «Пира» было утверждение позиций народного языка в
прозе. Во-вторых, Данте высказывает мысль, которая не только
до него, кажется, никогда не высказывалась, но и по сей день по-
настоящему не усвоена филологической наукой, а именно ту, что
всякое произведение сообщает не только (и может быть не столько)
о внеположных ему вещах (о действительности, об авторе и т. д. ),
но и о самом себе и о языке, на котором оно написано (напомним
цитировавшиеся выше слова Мандельштама о «Божественной
комедии» как «памятнике из гранита, воздвигнутом в честь
гранита»). Поэт таким образом не просто совершенствует, «кует»,
формирует язык, поэт заставляет язык осознать самого себя, он
выявляет его потенциальные достоинства — то есть превращает
их в актуальные и этим отчасти уподобляется Творцу35.
Непосредственно перед двумя обсуждавшимися
формулировками даров («смысл канцон» и «язык») Данте говорит: «Ибо вещь
полезна лишь постольку, поскольку ею пользуются, и качество
(точнее «добродетель») ее, остающееся только возможностью (sua
bontade in potenza) не обладает совершенным бытием» (Пир. I.IX.6).
Это совершенное бытие соотносится с той совершенной любовью к
языку, которая доказывается, прежде всего, усилиями,
направленными к его благу, но важнее здесь тема реализации тех
достоинств вещи, которые существуют «в потенции», ибо в этом
состоит истинная задача поэта по отношению к языку.
34 Именно в этом смысле, видимо, нужно понимать многочисленные выпады
Данте против предшествующих опытов прозы на народном языке.
33 Кроме евангельской аллюзии (чудо о хлебах) в конце трактата, сошлемся на
то же рассуждение о даре: «даровать что-либо многим есть не заставляющее себя
ждать благо (pronto bene ср. выше), которое уподобляется благодеяниям Бога,
всеобщего Благодетеля» (benefici di Dio che ё universalissimo benefattore — Пир.
I.VIII.3).
ДДНТЕ ДЛИГЬЕРИ
„DE VULGARI ELOQUIO"
(„О НАРОДНОЙ РЕЧИ")
1321г.—1921г.
Перевел Владимир Б. ШКЛОВСКИЙ.
ПЕТРОГРАД
1922
Рис. 1. Первое издание трактата Данте De vulgari eloquentia
на русском языке.
30 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Выявление доселе скрытых (потенциальных) достоинств языка
позволяет пересмотреть те определения, касающиеся
соотношения народного языка с латинским, которые были даны в начале
языковой части трактата. Эти определения применимы к
реальному состоянию народного языка, но не к его потенциальным
качествам, которые выявляет поэт. В следующей — десятой — главе
Данте формулирует все это вполне эксплицитно (причем слова
«дарую» или «даю» и «друг» отсылают к предыдущим главам, где
впервые названа цель: выявление скрытых потенций языка):
«Такое именно величие я и дарую этому другу — народному языку.
Добрую сущность (bontade) его, которой он обладал потенциально
и втайне, я привожу в действие (in atto) и делаю всем явной в его
собственных проявлениях, обнаруживая способность народного
языка выражать замыслы» (conceputa sentenza — Пир. I.X.9). Здесь
акцентируется метод — выявление потенциальных достоинств,
«доброй сущности», но сам аргумент — способность выражать
«замыслы» или «смыслы» опровергает то превосходство латыни,
которое выше, в главе V, было названо «достоинством» (vertu). Если
здесь это делается еще осторожно и в сущности не снимает
«количественного» аргумента («латинский язык открывает многие
мысли, которые народный выразить неспособен» — Пир. I.V.12), то
прямой «ответ» на него дается в следующем абзаце той же X
главы, где эксплицитно указывается, какие именно преимущества
латыни опровергает это определение, и как бы подводится общий
итог: «Великие достоинства (gran bontade) народного языка "si"
обнаружатся благодаря настоящему комментарию, где выявится
его способность (= достоинство — vertu) раскрывать, почти как в
латинском, смысл самых высоких и самых необычных понятий
подобающим, достаточным и изящным образом» (Пир. I.X.12).
Дважды утвердив «достоинство» народного языка, т. е. его
способность выражать мысли, Данте переходит к «красоте» —
критерию, на который указывает уже завершение предыдущей фразы.
Здесь он не повторяет тех конкретных признаков, на основании
которых утверждал, что латынь «красивее» народного языка, но
просто описывает его красоту, неоднократно повторяя это слово.
Нужно полагать, что критерии красоты представлялись Данте
многообразными, не в смысле общей аргументации
(соразмерности, гармонии), а в отношении того лингвистического содержания,
которое он вкладывает в эти общие понятия (например, в VE
красота языка определяется качеством написанных на нем
произведений, т. е. его обработкой в руках поэтов, см. I.X.3)36. Прежде
36 Ср. гармонию как критерий красоты (Пир. I.V.13, в русском переводе это
предложение выпущено) и «сладость и гармонию» как признак стихотворного
Цасть I. Лингвистические взгляды Данте
31
чем заявить о красоте народного языка, Данте делает важную
оговорку: указанные выше достоинства народного языка не могли
«должным образом проявиться в произведениях рифмованных»,
так как их затемняют «случайные (т. е. формальные) украшения
(accidenali adornezze), как-то: рифма, ритм и упорядоченный
размер» (Пир. I.X.12; последний термин переведен достаточно
условно, numero regulato, т. е. букв, 'упорядоченное число, количество'
относится, конечно, к заданному числу слогов в силлабическом
стихе). Как о красоте женщины нужно судить, глядя на нее без
«случайных украшений», так и красоту языка нужно оценивать
по прозаическим текстам, — именно здесь наиболее ясно
формулируется функция комментария как образца прозы на volgare,
хотя слова «проза» в тексте нет, но после сравнения с женщиной
без украшений «наедине со своей природной красотой» говорится:
«Таков будет и настоящий комментарий, в котором обнаружится
плавность слога (agevolezza de le sue sillabe), свойства построений
(le proprietadi de le sue costruzioni)» и приятные речи (soavi
orazioni),37 из которых он состоит, «все это будет для
внимательного наблюдателя исполнено сладчайшей (dolcissima) и самой
неотразимой (amabilissima, букв, самой достойной любви) красотой
(bellezza)» (Пир. I.X.13)38.
Итак, Данте строит свое доказательство достоинств народного
языка как бы «от противного», сформулировав сначала
преимущества латинского языка перед народным, а затем исподволь
опровергая их39.
Это опровержение охватывает не только признаки,
сформулированные в V главе трактата, но и некоторые другие свойства
языка. Так, с констатацией того, что латынь не понимает народного
языка (Пир. I.VI.6-8), явно перекликаются слова из
заключительной главы: «...этот мой родной язык (mio volgare) вывел меня на
путь познания (la via di scienza) ... поскольку я с помощью этого
языка приобщился латыни» (Пир. I.XIII.5), — т. е. латынь не
текста, утрачиваемый в переводе (Пир. I.VII.14), при этом эпитет dolcissimo
фигурирует и в разбираемом месте X главы (Пир. I.X.9), а соответствующее
латинское слово (dulcior loquela) выступает как оценка языка (как раз «языка ос*) в
связи с написанными на нем текстами (VE, I.X.2). Сюда же примыкает и само
название dolce stile nuovo.
37 В переводе А. Габричевского «сладостные речи», что нарушает терминоло-
гичность слова «сладостный» у Данте.
38 Очень интересно, что в применении к языку красота — это одно из добрых
качеств языка, его bontade, тогда как по отношению к текстам канцон их belleza
как внешнее свойство противопоставлено bontade как свойству внутреннему и
сущностному (см. выше).
39 Технику «раскрытия заблуждения» путем «опровержения довода» Данте
подробно разбирает в «Монархии» (III. IV).
32 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
«понимает» народного языка, а народный язык в каком-то
смысле «понимает» латынь, во всяком случае, может служить
средством для овладения латынью.
Из указанных трех преимуществ латыни: достоинства,
красоты и благородства, Данте в конце трактата опровергает только
два, третий признак — «благородство» — остается неопровергну-
тым. Благородство языка Данте понимает как его устойчивость,
сопротивление изменениям, т. е. «порче». «Поэтому мы и видим в
комедиях и трагедиях, написанных в древности и неизменных,
тот же латинский язык, каким владеем и ныне» (Пир. I.V.8).
Устойчивость здесь проверяется благодаря наличию древних текстов,
но при этом признак «устойчивость» применяется не только к
языку, но и к самим этим текстам (возможно, в противоположность
текстам фольклорным). Народный же язык изменчив, что видно
на примере эволюции его лексического состава: «...не так с
языком народным, который, следуя прихоти, а также искусству им
пользующихся, изменяется» (Пир. I.V.8). Русский перевод здесь
воспроизводит не столько текст Данте, сколько традиционный
комментарий, у Данте сказано просто, что язык изменяется «а
piacimento artificiato». Это, видимо, калька лат. ad placitum40 «no
усмотрению», т. е. по «усмотрению [и] искусству [пользующихся
им]» или же буквально «по усмотрению искусства»41, во всяком
случае речь идет здесь о влиянии воли носителей на язык. «Если
хорошо присмотреться, мы придем к заключению, что в городах
Италии за последние пятьдесят лет многие слова исчезли,
возникли и изменились; поэтому если короткий срок вызывает такие
превращения, то более долгий порождает их в еще большем
количестве» (Пир. I.V.9). Неоднократно отмечалось, что здесь, пусть в
оценочном, негативном контексте, впервые в истории
лингвистической мысли поставлен вопрос об эволюции языка и далее о ее
«скорости». Данте иллюстрирует это любопытным примером:
«Таким образом, я утверждаю, что если бы те, кто покинул эту жизнь
тысячу лет тому назад, вернулись в свои города, они бы
подумали, из-за различия в языке, что город их занят чужеземцами»
(Пир. I.V.9). Эту попытку «глоттохронологии» иногда
интерпретируют в том смысле, что здесь имплицитно указано и на
изменчивость латыни, т. к. жители италийских городов за тысячу лет
40 Термин ad placitum в свою очередь является эквивалентом аристотелевского
обозначения условной связи («в соответствии с соглашением») между звуком и
значением слова и был введен в латинский язык Боэцием (Северином) — vox
significative secundum placitum — в его переводе трактата Аристотеля «Об
истолковании». О значении и истории этого термина см. [Engels 1963].
41 Отметим основу art-, которая далее в трактате будет использована в
противопоставлении латинского и народного языка: arte — uso.
Цасть I. Лингвистические взгляды Данте
33
до трактата (т. е. в начале IV в. н. э.) говорили как раз на латыни.
На наш взгляд, дантовский текст не дает оснований для такого
вывода, а приписывать ему подобную мысль только на основании
того, что мы знаем об эволюции романских языков,
неправомочно. Тем более что, как будет видно из дальнейшего, для Данте
латинский язык — это литературный язык, т. е. язык
письменных текстов, и в его построениях вообще нет места для устного
существования латыни в древности42.
В самом конце трактата Данте снова касается вопроса об
устойчивости, но в отличие от других признаков не «опровергает»
первого своего утверждения о большем благородстве латыни.
Доказывая свою «совершенную любовь» к языку, он говорит: «...у меня
было с ним общее устремление. Каждая вещь от природы
стремится к самосохранению: и если бы народный язык был сам по
себе способен к чему-либо стремиться, он и стремился бы к
самосохранению, каковое бы заключалось в достижении большей [для
себя] устойчивости, а большей устойчивости он мог бы достигнуть
только связав себя размером и рифмами (con numero e con rime).
А это было и моим устремлением...» (Пир. I.XIII.6-7)
Устойчивость, в отличие от других свойств языка, это не «скрытое
достоинство», которое можно выявить в прозе, — это свойство
литературного языка, которое (и который) еще предстоит создать. При
этом стихотворные ограничения как фактор, способствующий
устойчивости, опять-таки говорят о том, что Данте связывал
понятия устойчивости языка и устойчивости текстов, как это
отмечалось выше. Для рукописной эпохи рифма и размер были
факторами, способствующими устойчивости текста, а наличие эталонных
текстов, сохраняющихся неизменными во времени, обеспечивает
единство языка во времени, его устойчивость. Речь идет не просто о
том, что устойчивостью может обладать только литературный язык,
но и о механизме этой устойчивости; ее обеспечивает наличие
эталонных текстов, служащих «эталонами» в самом буквальном смысле:
по ним «сверяют» язык (что невозможно в бессознательной
эволюции устной формы существования языка) и таким образом
предохраняют его от порчи, каковой является изменение во времени.
Итак, утверждение о благородстве латыни остается неопровер-
гнутым; стать вровень с латынью или превзойти ее народному
языку еще только предстоит, но это не значит, что Данте готов усту-
42 Ср. еще в «Новой жизни»: «...в старину не было воспевателей любви на
языке народном, но воспевали любовь некоторые поэты на языке латинском... у
нас, как, может быть, и у других народов случалось и еще случается, произошло
то же самое, что было и в Греции: не народные, но ученые поэты занимались
этими вещами» (XXV, пер. А. Эфроса). О взглядах Данте на латинский язык и
его «историю» см. ниже.
2'*«1к 3101
34
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
пить здесь первенство латыни, он просто выносит доказательство
этого пункта в другой трактат, специально посвященный
проблеме изменчивости языка. Закончив свой пример с воскресением
древних жителей италийских городов (который, кстати, косвенно
намекает и на будущую «Комедию»)43, он прямо отсылает к
другому тексту: «Об этом будет сказано в другом месте более
подробно, а именно в небольшой книге, которую я, если позволит Бог,
намереваюсь сочинить о народном красноречии» (Пир. I.V.10).
Таким образом, получается, что весь труд «О народном
красноречии» — основное лингвистическое сочинение Данте — составляет
лишь одно звено в системе аргументации «Пира». Можно даже
заранее предсказать, что он должен доказать превосходство
народного языка над латынью по признаку «благородства» (хотя бы
и переосмысленному, т. к. доказать большую устойчивость
народного языка едва ли возможно). Не было, кажется, ни одного
исследователя, рассматривавшего трактаты Данте, который не
коснулся бы заметного противоречия между «Пиром» и VE: в первом
утверждается, что латынь «благороднее» народного языка, а во
втором прямо сказано, что «nobilior est vulgaris» (народный язык
благороднее [латинского] — I.I.4). Многочисленны были и
попытки разрешить или объяснить это «противоречие» ([Nardi 1949a,
р. 160], [Эстулина 1967, с. 129-130], [Шишмарев 1972, с. 89-90],
критический обзор см. [Pagani 1982, р. 142-154), которые, если
пренебречь частностями, сводятся к двум решениям: к эволюции
взглядов автора (отказ от прежних «заблуждений») или к оценке
явления с разных точек зрения (латынь как средство выражения,
vulgare как средство общения). При всей обоснованности
функционального подхода предлагаемые объяснения, как нам
представляется, не могут считаться исчерпывающими и главное — плохо
вяжутся с самой темой трактата о красноречии на народном
языке. Отмеченное «противоречие» слишком очевидно, чтобы быть
случайным, и обращает внимание на вполне «сознательную»
антитезу, вытекающую из всей системы аргументации «Пира» и
места, отведенного в этой системе второму сочинению о языке44.
43 Пример, к которому обращается Данте, представляет собой в сущности
хорошо известный фольклорный сюжет о возвращении человека через много
поколений, когда его не узнают и т. п. Но такое возвращение, как правило, связано не
с воскресением, а с пребыванием в какой-то чудесной стране и, в частности, — в
загробном мире. Этот последний мотив составлял основу особого жанра
♦видений», посещений того света (в русской традиции этот жанр назывался
♦обмираниями»), который и послужил непосредственным прямым источником сюжета
♦ Божественной комедии» (о самом жанре загробных видений, в том числе и в
связи с «Комедией», см., например, [Гуревич 1981, с. 176-239, гл.:
♦Божественная комедия» до Данте].
44 Сходной точки зрения придерживается английский ученый Сесил Грейсон
[Grayson 1965, р. 110].
Цастпь 1. Лингвистические взгляды Данте
35
2. ТРАКТАТ «О НАРОДНОМ КРАСНОРЕЧИИ»:
ЯЗЫК И ЯЗЫКИ
Именно в VE Данте переходит к проблемам эволюции языка,
создания литературного языка (на основе народного) и
рассматривает в этой связи целый ряд собственно лингвистических проблем45.
Трактат этот должен был по замыслу Данте состоять по крайней
мере из четырех книг, но известный нам текст обрывается на XIV
главе второй книги. Поскольку, как утверждает Данте, ему не
известно, чтобы кто-нибудь до него излагал учение о народном
красноречии (de vulgari eloquentia doctrina), а такая
необходимость назрела, и желающие овладеть этим красноречием бродят
«точно слепцы по улицам, постоянно принимая то, что спереди,
за то, что сзади» (I.I.1), он предполагал дать всестороннее и
исчерпывающее изложение предмета. В намерения автора, пользуясь
современной терминологией, входило, во-первых, описание
парадигмы форм существования языка в данном лингвистическом
социуме, от высшей формы общенародного языка, которую мы
называем литературным языком, до идиолекта. Начав с высшей
формы речи (vulgare illustre), как говорит Данте, «мы
постараемся осветить и низшие народные речи, постепенно нисходя к той,
какая присуща только одной семье» (I.XIX.4). Второй круг
вопросов был связан с теорией стиля и с проблемами адаптации
античной триады высокого, среднего и низкого стилей и их
соотнесенности с трагическим, комическим и элегическим слогом. И
в-третьих, Данте предполагал описать репертуар поэтических форм
тоже как иерархическую упорядоченность, как постепенное
нисхождение от высшей формы (канцоны) к формам более низким
(балладе, сонету, элегии) и осветить вопросы поэтической
техники. Предполагалось также установить соответствие между
членами трех парадигматических рядов (языка, стиля, стихотворной
формы), преобразовав их в линейную зависимость: высшая форма
речи — трагический слог — канцона. Вероятный план трактата,
реконструируемый на основании имеющегося текста46,
свидетельствует о том, что Данте опирался на разнообразный материал, в
котором он прекрасно ориентировался: на знание фактического
40 Сведения об основных изданиях трактата De vulgari eloquentia, переводах и
Рукописной традиции см. в Приложении I. Основные работы по-русски: [Евлахов
!910], [ Будагов 1960; 1967; 1984, с. 164-179], [Эстулина 1967; 1967а], [Шишма-
Рев 1972, с. 79-90], см. также библиографический указатель «Данте Алигьери»
^762-1972) [Данченко 1973].
П. Райна предполагает, что могла быть задумана и пятая книга. См. [Rajna
1906, р. 214-215].
36 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
состояния итальянского языка, на античную риторику и
средневековую поэтику, на литературу на новых романских языках.
Главной темой первой книги трактата является проблема
многообразия языков, которая рассматривается в диахронном и
синхронном плане и завершается теорией vulgare illustre как способом
преодоления этого многообразия (на уровне, разумеется,
диалектов, а не языков). Во второй книге речь идет о том, кого считать
достойным пользоваться высшей формой «вульгарной» речи
(почему, каким образом, где, когда и к кому обращаясь).
Композиционная структура первой книги VE такова: введение ко всему
трактату (I.I), природа, происхождение и история человеческого языка
(I.II.-I.X.2), теория vulgare illustre (гл. XI-XV —
лингвистическая ситуация Италии к началу Треченто; гл. XVI-XVIII —
определение искомого языка), заключение (I.XIX) [Liver 1992].
2.1. Данте начинает свое рассуждение с определения понятий.
Исходя из лингвистического опыта индивида в условиях
средневекового двуязычия, он устанавливает существование двух
лингвистических систем по способу их усвоения. Народной речью
(vulgaris locutio) Данте называет ту, которой научаются
«подражая кормилице», без каких-либо правил (sine omne regula — 1.1.2).
Эта лингвистическая система выступает как естественная и
первичная по отношению к другой, которую, следуя римской
традиции, Данте называет «грамотной» (grammatica locutio),
подразумевая под этим не обязательно латинский язык, но всякую речь,
овладение которой достигается в процессе специального обучения,
т. е. предполагает наличие эксплицитно сформулированных
правил. Грамотную речь или грамматику Данте квалифицирует как
вторичную лингвистическую систему (secundaria), отмечая при
этом, что она имеется не у всех народов и что навыка в ней
достигают немногие, потому что «мы ее выравниваем и научаемся ей
(regulamur et doctrinamur in ilia) со временем и при усидчивости»
(I.I.3)47.
Существенно важно подчеркнуть, что намеченная оппозиция
vulgaris locutio/grammatica locutio интересует Данте не с точки
47 В современной науке такое сосуществование двух лингвистических систем в
социуме определяется как диглоссия. Ср. характеристику диглоссийной
ситуации у Б. А. Успенского: «Необходимо подчеркнуть, что книжная и некнижная
языковая система противопоставляются по способу усвоения, приобретения: если
некнижная система усваивается естественным путем, так сказать, с молоком
матери, то книжная система усваивается искусственным, книжным путем — в
процессе формального обучения, что само по себе предполагает определенную
кодификацию, т. е. наличие эксплицитно сформулированных правил. Таким образом,
книжная языковая система накладывается на некнижную как вторичная, она
приобретается в зрелом возрасте» [Успенский 1994, с. 5].
Цасть I. Лингвистические взгляды Данте
37
зрения ее возможных импликаций (типа «письменная/устная
речь», «книжная/некнижная» и т.п.), конкретизирующих
соотношение латыни и народного языка в данный период, а
используется для того, чтобы установить временную последовательность и
иерархическую зависимость между двумя типами языков
(идиом) — кодифицированным, регулярным и некодифицированным,
узуальным. Согласно средневековой модели упорядочения мира,
порядок следования вещей во времени однозначно
предопределяет и их иерархическую субординацию: явление «более древнее»,
предшествующее в последовательности событий, занимает более
высокое место и на шкале ценностей. Именно этим, первичностью
народного языка (не конкретного итальянского, а народных
языков вообще) Данте и обосновывает тот «ожидаемый» вывод, о
котором уже говорилось выше. Поскольку народная речь «первая
входит в употребление у рода человеческого», используется во всем
мире и является для нас естественной, «тогда как вторичная речь
скорее искусственная» (potius artificialis existat), то «из этих двух
речей более благородной является народная» (harum quoque duarum
nobilior est vulgaris — 1.1.4). Только здесь получает подлинное
истолкование, как свидетельство «благородства» народного языка,
упоминавшийся выше аргумент в «Пире», а именно тот, что
Данте усвоил латынь благодаря народному языку.
Данте утверждает, что vulgaris locutio, естественный язык,
являющийся универсальным средством человеческого общения, в
своей сущности есть один и тот же язык (totius orbis ipsa perfrui-
tur — весь мир использует один и тот же [язык]), несмотря на
произносительные и словарные различия между конкретными
языками (licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa — 1.1.4).
Предположение, что за очевидными различиями между
языками скрывается некоторая общая структура, возникло уже в ходе
самых первых попыток осмысления феномена языка. Эта
догадка, высказанная еще в патристике [Эделыптейн 1985, с. 178-179],
стимулировала поиски универсальной грамматики,
продолжающиеся на протяжении более чем двадцати столетий, которые
достигли некоей вершины в трудах модистов XIH-XIV вв. [Тодоров
1978, с. 450]. Говоря о сущностном единстве живых языков,
Данте воспроизводит основной постулат модистов, который в
формулировке Боэция Датского гласит: «Una est grammatica apud omnes
sed diversificata sit accidentaliter» (грамматика едина во всех
[языках], хотя [языки] и различаются акцидентально) [Modi Sign. 4.49-
50]. Подчеркнем, что Данте прилагает этот тезис к живым, народ-
ньщ языкам, поэтому здесь, на наш взгляд, нет противоречия с
теми положениями, которые мы усматриваем в «Пире». Там,
согласно нашей гипотезе, речь шла о субстанциональном различии
38 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
между латынью и народным языком, причем народным языком
вообще — в единственном числе, понимаемом как «инвариант»
конкретных народных языков. Именно об этом инварианте и идет
здесь речь, в анализируемой формулировке VE, т. е. о
субстанциональном единстве народных языков, и ничто не указывает на то,
что тезис о субстанциональном тождестве языков Данте
распространял и на языки «вторичные», включая и латынь. Это
положение дантовской теории подробно рассматривается в работе
«Спекулятивная грамматика и Данте» [Alessio 1984, р. 81-88]. Как
отмечает Дж. К. Алессио, проблема сосуществования «двух
языков» (или двух уровней в одном языке) — регулярного и
узуального — становится во второй половине XIII в. предметом
рефлексии, и этот факт рассматривается в научной литературе самых
разных жанров: от «Греческой грамматики» Роджера Бэкона (ум.
1294, см. изд. [Nolan, Hirsch 1902]) до популярной энциклопедии
Брунетто Латини (ок. 1220-1284; отрывок из стихотворного
переложения «Сокровища» цит. в комм. Mengaldo, p. 80, [Alessio 1984,
р. 84]). Среди регулярных и неизменных языков («грамматика»)
в трактатах этого времени называются латинский, греческий,
еврейский, арабский. В лингвистической теории Роджера Бэкона
сущность языка выводится из противопоставления общего и
неизменного территориальным особенностям латинского и греческого
языков: «...на самом деле в латинском языке (lingua Latina),
который един, имеется много [различных] "языков" (multa idiomata).
Что касается субстанции самого языка, то она соотносится с тем,
как выражаются на нем все ученые люди и клирики, множество
же "языков" безусловно зависит от множества народов (secundum
multitudinem nacionum), которые этим языком пользуются. Так,
во многом произносят и пишут на латыни италийцы (Ytalici),
иначе — галлы (Gallici), иначе тевтонцы (Teutonici), иначе англы
(Anglici) и другие... Точно так же было и у греков: один язык в
соответствии с субстанцией (secundum substanciam), но
особенных — много»48. В других трактатах того же времени под
языками италийцев, галлов и германцев подразумеваются совершенно
другие объекты, а именно природные, неупорядоченные языки
народов средневековой Европы (итальянский, французский,
немецкий и др.)> которым дети научаются от своих матерей и
родителей (a matribus et a parentibus), в отличие от всеобщей латыни
48 ♦...in lingua enim Latina que una est, sunt multa idiomata. Substancia enim
ipsius lingue consistit in hiis in quibus communicant clerici et literati omnes. Idiomata
vero sunt multa secundum multitudinem nacionum utencium hac lingua. Quia aliter
in multis pronunciant et scribunt Ytalici, et aliter Gallici, et aliter Teutonici, et
aliter Anglici et ceteri... Sic etiam fuit apud Grecos una lingua secundum substanciam
sed multe proprietates» (цит. по: [Alessio 1984, p. 84]).
Цасть I. Лингвистические взгляды Данте
39
(idioma idem apud omnes), которой учат детей в грамматических
школах [Thurot 1869, р. 131]49.
Поскольку для Данте понятие «природного» соотносится
только с живыми народными языками, он выдвигает свой тезис о
принципиальном единстве естественных языков, которые
различаются, по его мнению, только фонетикой и лексикой. В этом можно
увидеть существенное расхождение между теорией Данте и
учением модистов50. Применительно же к явлениям одного порядка,
к народным языкам, выделяемым по прагматическому критерию,
Данте следует модистам в их диалектике внутреннего
(«глубинного») единства и внешнего («поверхностного») различия, тем более
что именно эти взгляды модистов не только продолжали
лингвистическую традицию предшествующих исторических периодов, но
более чем когда-либо соответствовали общим культурным
установкам эпохи (руководящей тенденции средневековья к поискам
универсальности во всех областях) — стремлению «охватить мир
в целом, понять его как некое законченное всеединство и в
поэтических образах, в линиях и в красках, в научных понятиях —
выразить это понимание» [Бицилли 1916, с. 2].
Данте различает первичный и вторичный язык по способу
овладения им. В случае природного языка в качестве «обучающего
устройства» выступает весь язык, сама звучащая речь, узус,
говорение на языке (locutio), тогда как обучение вторичным языкам
невозможно без «правил», которые извлекаются из языка и
оформляются в виде его грамматической модели51 (отсюда и
многозначность самого термина «грамматика», означающего и
грамматику в современном смысле слова, и шире — вообще науку о языке,
и грамматически правильный язык, каким является латынь; см.
об этом подробно в [Coppini 1987, р. 179-190]). Модисты,
отправляясь от вторичного языка, ищут в качестве универсальной
субстанции грамматику, Данте же предстоит найти объединяющий
принцип «неграмматических языков». Основатели общей теории
грамматики (inventores grammaticae), в соответствии с общим
принципом средневековой философии («средневековье не мыслит аб-
49 О концепции всеобщей грамматики и различных (в связи с этим) трактовках
соотношения «грамматика — латынь — народный язык» см. [Fredborg 1980],
[Maieru 1983, p. 742-744].
О расхождении взглядов Данте с некоторыми другими положениями теории
модистов см. [Lo Piparo 1983; 1986].
Эти два подхода четко различаются в современной теории и практике
преподавания языка. Ср. «если основными единицами обучения с позиций
грамматического подхода оказываются единицы языка (инвентарь), формы и конструкции
Система и структура языка), то основной единицей обучения с позиций комму-
Никативного подхода неизбежно оказывается текст (продукт функционирования
Язьгка)» [Кудрявцева 1988, с. 64].
40 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
стракции без ее конкретного воплощения») [Бицилли 1919, с. 89],
воплощением этой грамматики считали латынь. Для Данте
воплощением субстанционального единства народных языков в
континууме италийской речи был vulgare illustre, который предстояло
не только «найти», но и сделать.
Установив первичность народной речи, в которой язык
обретает свое подлинное бытие (nostra vera prima locutio — I.II.l), Данте
переходит к традиционной для средневековых мыслителей теме,
связанной с определением места человека в космической
структуре и положением языка среди других возможных видов
коммуникации. Для доказательства того, что язык является уникальной
коммуникативной системой, свойственной только человеку и
составляющей его видовую особенность, Данте пользуется понятием
знака (signum), общая теория которого была разработана еще
Августином и стала основополагающей для всего средневековья
[Бычков 1984, с. 197-219]32. Следуя христианской антропологии,
Данте определяет человека как существо разумное, чей дух объят
грубой и темной оболочкой (букв, «толщиною и непрозрачностью»)
смертного тела (I.III.2). Двусоставная природа человека (единство
разумного и телесного, идеального и материального) с
необходимостью определяет и структуру того инструмента, при помощи
которого человеку дано обмениваться мыслями с себе подобными:
«Роду человеческому для взаимной передачи мыслей надобно
обладать каким-либо разумным и чувственным знаком (rationale
signum et sensuale — I.III.2). Словесный знак, или, как мы бы
сказали, основная коммуникативная единица речи,
удовлетворяет этому условию: «он чувственный, поскольку он звук, но и
разумный, поскольку обозначает нечто по установлению» (ad
placitum — I.III.3)53. Поэта Данте язык интересует прежде всего в
связи с субъектом, выражающим себя в речи, а не в отношении с
предметным миром (вне связи со значением имени), поэтому он
ограничивается одним этим замечанием о взаимоотношении двух
сторон знака, но все же недвусмысленно выбирает в платоновской
52 О роли Августина как предшественника семиотики неоднократно писал Р. 0-
. Якобсон [Jakobson 1971, р. 267, 278, 345, 371-372, 565]; [Jakobson 1975]; [1979,
р. 574-577]; [Якобсон 1983, с. 102]; [Якобсон 1985, с. 245-247, 313]. В 60-80-ые
годы XIII в. теория языкового знака особенно интенсивно разрабатывалась моди-
стами (см. [Lambertini 1989]). Об основных положениях этой теории (в трудах
Боэция и Мартина Датских) и ее влиянии на Данте см. [Corti 1981], понятие
знака у Данте рассматривается также в [Lo Piparo 1983; 1986] (в основном в
полемике с М. Корти и ее интерпретацией лингвистических воззрений Данте в
целом).
53 Ср. «a piacimento» в «Пире» I.V.7, рассматривающееся выше. О термине (ad)
placitum, введенном в латинский язык Северином Боэцием в переводе трактата
Аристотеля «Об истолковании»: vox significativa secundum placitum см. [Engels
1963].
Цасгпь I. Лингвистические взгляды Данте
41
дилемме срйсш—GeaEi («по природе» и «по установлению») второй
полюс — произвольность знака.
Общение Данте понимает в духе мистического богословия как
открытие себя другому и познание себя через другого. Ни ангелы,
ни животные в силу особенностей их природы не нуждаются в
специальном знаке речи для взаимного общения. Ангелы, будучи
бестелесными и почти прозрачными субстанциями, благодаря
чистоте их форм (Пир. III.VII.5), обладают способностью познавать
друг друга либо непосредственно, либо посредством того светозар-
нейшего зеркала (fulgentissimum Speculum), в котором все они
отражаются и которое «они ненасытно созерцают» (I.II.3)54. Этот
вид коммуникации Данте называет spiritualis locutio. Животные
не нуждаются в языке, ввиду одинаковости их поведения;
движимые исключительно природными инстинктами, они могут
познавать чужие действия и страсти по своим собственным (I.II.3-5).
В дантовской концепции знака, состоящего из двух частей —
чувственной (звучания) и рациональной (значения) (ср. две
стороны знака — signans и signatum — у Августина), собственно
«лингвистические» основания этой концепции55 сочетаются с
общефилософскими: двусторонность знака связана с двусторонностью
человека как одним из проявлений трехчастной структуры мира —
представления общего для христианства и множества самых
архаичных мифологических систем. Место предмета является его
сущностной характеристикой, — причем не только место в системе
или иерархии, но и прямая пространственная локализация
предмета — она необходима для определения сущности предмета, так
как его качества непосредственно вытекают из пространственных
характеристик. Характеристика человеческого языка,
занимающего срединное положение и оказывающегося местом «встречи»
и снятия оппозиций, прямо соотносится с организующей ролью
Центра в мифологических моделях мира и конкретнее — с
античной категорией середины и ее объединяющих функций, в
частности в системе Аристотеля [Рабинович 1976].
Не менее традиционны и сюжеты «языка» ангелов и «языка»
Животных56, свойственные не только христианской мысли, но и
04 О трансцендентных формах познания у Августина, Бонавентуры и Данте см.
[Shapiro 1986, р. 54-55].
55 Характерно замечание (устное) В. Н. Топорова, который считает, что в
формулировке Данте (rationale signum et sensuale) в сущности сжато изложена вся
знаковая концепция Соссюра; о понятии лингвистического знака в теории
Августина и Ф. де Соссюра см. [Kelly 1975], [Ruef 1981].
В истории языкознания к подобным вопросам обычно относятся как к
«фантастическим теориям» средневековой науки, однако они представляют большой
Интерес для истории семиотики, см. специальный сборник, посвященный этой
пРоблематике «О средневековой теории знаков» [Eco, Marmo 1989].
42 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
многим фольклорным и мифологическим традициям, но здесь они
существенно отличаются от фольклорных прототипов, т. к.
демонстрируют не «языки» ангелов или животных в обычном смысле
этого слова, а как раз «отсутствие» таковых, т. е. в соответствии
уже с собственно христианской традицией иллюстрируют
раздельное, самостоятельное существование чистой субстанции
означаемого и сугубо телесной субстанции означающего,
объединяющихся только в «средней» сфере человеческого языка. То, что с
животными ассоциируется чистое звучание, не наделенное
смыслом, видно из подробной аргументации в VE I.II.6-7, где
последовательно отводятся примеры, которые можно было бы (ошибочно,
по мнению Данте) истолковать как случаи, когда животные
говорят осмысленно. Сначала он отводит библейские примеры чудес
(змий, заговоривший с Евой, и Валаамова ослица), затем
оспаривает пример говорящих птиц: «так как подобное действие не речь
(locutio non est), а некое подражание звуку нашего голоса (imitatio
soni nostre vocis); они, разумеется, пытаются подражать нам,
поскольку мы издаем звуки (sonamus), но не поскольку мы говорим
(loquimur)». Что же касается отдельного существования
субстанции смысла, то мотив ангелов проясняется автокомментарием в
«Пире», где вообще, как правило, раскрыт смысл тех
общефилософских категорий, которыми Данте пользуется в своих
рассуждениях о языке в VE уже без пояснения [Mengaldo 1978, р. 12]. В
итальянском трактате Данте так поясняет, что представляют
собой ангелы: «двигатели этих небес не что иное, как субстанции,
отделенные от материи, т. е. интеллекты» ( точнее было бы
перевести intelligenze как «интеллигенции»), далее он добавляет: «в
народе (la volgare gente) их называют Ангелами» (Пир. II.IV.2).
Само это отождествление не ново, но любопытно, что Фома Ак-
винский, у которого находим то же соотнесение понятий, отнюдь
не считает, что термин «ангелы» уступает другому в научности
или изысканности, для него это просто термины разных
традиций: «в некоторых книгах, переведенных с арабского, отделенные
субстанции (substantiae separatae), которые мы называем
ангелами, именуются «интеллигенциями» (intelligentiae vocantur —
Summa theol. 1.79.10). В латинском трактате Данте не счел
нужным оговаривать это слово, не исключено, что необходимость
пояснения в «Пире» вызвана как раз нетрадиционным для научного
сочинения итальянским языковым контекстом. «Другие, и среди
них ... Платон, полагали, что число Интеллектов [интеллигенции]
соответствует ... количеству видов вещей (то есть свойств вещей)...
Интеллекты эти порождают ... вещи и прототипы, каждый из них
творя свой вид. Платон называет их "идеями", иначе говоря,
всеобщими формами или универсальными началами. Язычники име-
Цастпь I. Лингвистические взгляды Данте
43
повали их богами и богинями, хотя и понимали их не столь
философично, как Платон» (Пир. П.IV.5-6).
Многие комментаторы любят подчеркивать традиционность (для
средневековой мысли) этого антропологического обоснования
структуры знака57, говоря, что Данте просто воспроизводит общее
место теологической и философской литературы. Но каждое полное и
последовательное «введение» в предмет не может обойтись без
«общих мест». В современной нам традиции сравнение языка с
другими системами коммуникации столь же клишированно
переносит из «Введения» во «Введение» сопоставление с дорожными
знаками или языком пчел (возможно тоже не без
подсознательного влияния платоновских метафор). Тогда как «трансцендентные»
области сравнения ушли из науки в поэзию:
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык,
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык...58
2.2. Определив «место» языка в системе мироздания, Данте
переходит к его существованию во времени и к началу этого
существования — происхождению языка, поскольку для
средневековой мысли (разделяющей это свойство с более архаичными
ментальными структурами) познание вещи невозможно без знания ее
генезиса, ее сотворения. В подавляющем большинстве работ,
затрагивающих эту тематику, все средневековые учения о
происхождении языка выводятся из одного источника, а именно
библейского текста о наречении имен Адамом (Быт 2: 19-20)59. Однако это
несомненное упрощение реальной картины, основанное не столько
на специфике материала, сколько на инерции исторических
взглядов нового времени, с их снисходительной оценкой научного
уровня предшествующих эпох, и, вероятно, скепсисе по отношению к
самой проблеме глоттогенеза. Прежде всего, религиозная концеп-
5< Ср.: «Слово антропокосмично или, скажем точнее, антропологично. И эта
антропологическая сила слова и есть реальная основа языка и языков» [Булгаков
1953, с. 24].
58 [Ходасевич 1983, т.1, с. 141-142], стихотворение «Жив Бог, умен, а не зау-
Мен» 1923 («Европейская ночь»).
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как
Наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей».
44 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ция языка, разумеется, обусловлена не тем или иным уровнем
лингвистической мысли, а мировоззренческими установками
исследователя (чисто религиозные труды по философии языка
появлялись и в XX веке, причем в них, например в «Философии
имени» С. Булгакова, были учтены основные достижения лингвистики
начала века). При этом даже в рамках построений, принимающих
божественное сотворение языка, проблематика происхождения
языка отнюдь не во всех случаях сводилась к вопросу о
номинации (nominatio rerum), как и сам язык не сводился к
номенклатуре и каталогизации вещественного мира. Однако инерция
историографической мысли столь сильна, что комментаторы Данте в тех
редких случаях, когда они вообще касаются этой темы60, вопреки
очевидности сводят дантовскую трактовку глоттогенеза к
библейскому сюжету об Адаме-ономатете (Marigo, p. 35).
Между тем Данте, который, конечно, не оспаривает
библейский текст, говорит в трактате, что «определенная форма речи
(certain formam locutionis)61 была создана Богом вместе с первой
душой» (I.VI.4), т. е. Адамом (в XXVI песне «Рая» Адам назван
так же), и тут же поясняет, что значит «определенная форма»:
«...я говорю "форма" и в отношении наименования вещей словами
(rerum vocabula), и в отношении строения слов (vocabulorum
constructionem), и в отношении их [=конструкций] выговора»
(constructionis prolationem — I.VI.4). Таким образом, здесь
ставится вопрос не о происхождении слов (имен), — на который
отвечает библейский текст, — а о сотворении языка в целом, и в
языке Данте различает три уровня: лексический, синтаксический
(constructio vocabulorum можно трактовать и как «строение
слова», т. е. его морфологическую или словообразовательную
структуру, и как «построение слов», т.е. модели соединения слов в
синтаксические конструкции) и, наконец, фонетический62.
Первый термин был предметом специального анализа М. Кор-
ти63, которая возводит его к терминологии представителей новой
грамматической науки, называемых обычно «премодистами».
60 До недавнего времени вопрос о происхождении языка у Данте, как правило,
просто обходили, отделываясь ничего, в сущности, не значащими
формулировками, варьирующими (или дословно повторяющими) старый тезис Ф. Д'Овидио о
средневековой манере начинать все ab ovo. [D'Ovidio 1873].
61 В современном итальянском переводе А. Мариго determinate forma (Marigo,
p. 35).
62 Некоторые исследователи интерпретируют эти три уровня иначе:
лексический (rerum vocabula), морфологический (vocabulorum constructio) и
синтаксический (constructionis prolatio) [Shapiro 1990, p. 163].
63 См. [Corti 1981a, p. 33 sq; 1982, p. 47-49]. Т. Б. Алисова рассматривает
термин forma в более широком контексте средневековой философии [Алисова 1985,
с. 31-34].
цаспгь I. Лингвистические взгляды Данте
45
porma locutionis (или dictionis) противопоставлялась ими «акци-
дентальным формам» (formae accidentales), присущим отдельным
языкам, и выступала как обозначение универсальных категорий
языка вообще. Таким образом, в их системе эти термины никак
не были связаны с проблемой происхождения языка, модисты
вообще не занимались этой проблемой и исходили из того, что
универсалии являются врожденными и предшествуют тем или иным
конкретным их реализациям. Понятие «формы речи» у Данте, с
одной стороны, шире того специализированного значения,
которое в грамматических теориях противопоставлено акциденциям,
т. е. грамматическим категориям конкретных языков, а с другой
стороны, «лингвистичнее» этого значения, поскольку относится
не к универсальной ментальной структуре, лежащей, согласно
учению модистов, в основе языка, а к внутреннему принципу
организации самого языка, строению всех его уровней, включая и
телесное звуковое оформление. Последнее особенно важно.
Звуковая сторона языка, как отмечают исследователи, мало интересовала
модистов, и свое понятие формы они не распространяли на
уровень означающего [Stefanini 1973, р. 273]. Для Данте, напротив,
именно эта сторона языка, по вполне понятным причинам, не могла
не стать предметом пристального внимания и не должна была
представляться чем-то аморфным, только звучащей физической
материей. Как бы мы не интерпретировали дантовскую «форму» в
отношении выговора — ad constructionis prolationem, она все-таки
относится к плану выражения, и в этом смысле дантовская версия
происхождения языка (а значит, и сама концепция языка) лучше
описывается в терминах глоссематики (как сотворение формы и
для плана содержания, и для плана выражения), нежели
выводится из учения премодистов. В акте творения у Данте роли
распределяются таким образом, что Бог выступает как «формальная
причина» языка (causa formalis, по Аристотелю) [Corti 1981, р. 77],
а Его творение — Адам как «действенная причина» (causa efficiens),
ибо он претворяет форму (т. е. сущность, идеальный план всей
системы языка), которую сотворил (concreata) Бог, в конкретный
звучащий язык (который по традиции отождествлялся с
древнееврейским). Этот осуществленный язык «произвели уста
(собственно, даже губы) первого говорящего»: primi loquentis labia
fabricarunt (I.VI.7). Термин fabbricare64 по отношению к языку
Уже встречался нам в «Пире», где относился к действиям поэта, с
Об этом термине см. [Sermoneta 1969, р. 146]: fabricacio seu figura dicitur de
aPparatu rei corporalis, т. е. термины эти обозначают изготовление материальных
ВеЩей. Важно отметить, что представление о «форме» (и ее божественном
прохождении) как образце, по которому мастер должен изготовить вещь, осознава-
46
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
этим в общем согласуется и эпизод с Адамом в XXVI песне «Рая»,
где Адам говорит о языке, которым он «пользовался и который он
сделал» (ПсПота ch' usai e ch' io fei — Paradiso. XXVI. 114)65.
Первый язык человечества был богодухновенным языком,
языком благодати (lingua gratiae — I.VI.6), и «эта форма
применялась бы во всем языке говорящих» (omnis lingua loquentium —
I.VI.4)66, если бы не была рассеяна (dissipata) по вине
человеческой самоуверенности, проявившейся в возведении «башни
Вавилона, что означает башню смешения» (turris confusionis — I.VI.5).
2.3. Вавилонское столпотворение — это «лингвистическое
грехопадение» человека, которое Данте прямо сопоставляет с
грехопадением Адама (сопоставление, впрочем, тут же дополняется
третьим компонентом — всемирным потопом). Эволюция языков (уже
во множественном числе), как и история рода человеческого,
начинается с отпадения от изначального состояния совершенства.
Если эволюция и разнообразие языков начинается с Вавилона,
вполне естественным становится негативная оценка эволюции как
порчи языка (о чем уже кратко говорилось в «Пире»),
Впоследствии в «Божественной комедии» Данте выдвинул несколько иную
схему истории языка, приблизив его первоначальную порчу к
первому и главному грехопадению. В латинском же ученом трактате
первичный язык, на котором говорил Адам, традиционно
отождествлялся с древнееврейским, и, таким образом, исходная «форма
речи» сохранилась и после Вавилона, причем это находит свое
объяснение: «эту форму речи унаследовали сыны Евера,
называемые поэтому Евреями. После смешения она сохранилась только у
них, дабы Искупитель наш, вознамерившийся из человеколюбия
родиться у них, пользовался не языком смешения, но благодати»
лось и средневековыми ремесленниками [Харитонович 1982, с. 29]. Значимое
терминологическое противопоставление в названии действий Бога (concreata) и
Адама (fabricarunt) в этом совместном акте сотворения языка, ускользающее от
внимания некоторых исследователей, обнаруживает неправомерность самой
постановки вопроса у Б. Панвини: так как же представлял себе Дантё этот первый
язык, созданным Богом (creata da Dio) или сделанным первым человеком
(fabbricata dal primo uomo)? и несостоятельность легкого ответа: противоречие
формулировок вызвано небрежностью, недодуманностью, извинительной для
незаконченных произведений [Panvini 1966, р. 176-177].
65 На точное техническое значение термина fabricare в этом месте VE обращает
внимание М. Корти [Corti 1981, р. 77].
66 Важно отметить единственное число слова «язык»: для периода,
предшествующего смешению языков, главного вопроса универсальной грамматики — о
соотношении Языка и языков — просто еще не существовало, т. е. исходное
единство языка у Данте носит не «типологический», а «исторический» характер, что
подтверждается его последующими соображениями о родстве новых языков.
аасть I. Лингвистические взгляды Данте
47
(1.VI.7)67. В «Рае» Данте отказывается от этого отождествления:
язык изменяется, потому что изменяется все, что зависит от склон-
ностей человека. Природа предопределяет лишь способность к речи,
а характер речи определяет сам человек. Поэтому язык Адама
«угас/ (fu tutta spenta) задолго до немыслимого дела/ Тех, кто
Немвродов исполнял приказ» (Рай. XXVI.124-126), но видимо,
не сразу после грехопадения Адама, а уже после его смерти: «Пока
я не сошел к томленью Ада/ «И» в дольнем мире звался
Всеблагой.../ Потом он звался «Эль»; и так любой/ Обычай смертных сам
себя сменяет...» (Рай. XXVI. 133-137). Язык не только
эволюционировал до столпотворения, но уже древнееврейский язык был не
первичной «формой речи», а ее искажением, т.е. др.-евр. эль,
служившее табуистическим именованием Бога (в трактате Данте
считает это слово не только принадлежащим первому языку, но и
вообще первым произнесенным словом — I.IV.4), оказывается уже
не первым его именованием, а вторичным, возникшим вместо
первичного «И»68.
67 Эта тема доводится до конца в следующей главе (I.VII): «священный язык»
сохранился у тех немногих, которые «не участвовали и не одобряли затеянного»
(т. е. строительства башни). Эта малая часть происходила, как заключает Данте,
«от семени Сима ... из нее-то и произошел народ Израиля, говоривший на
древнейшем языке (antiquissima locutione sunt usi) вплоть до своего рассеяния» (I.VII.8).
Иными словами, и сам народ — евреев — постигает та же участь рассеяния (уже
после пришествия Христа), какой до этого подверглись языки, за их новое
прегрешение (Рай. VI.92-93).
68 В комментариях к этим текстам обычно отмечаются расхождения между
именами Бога в VE I.IV.4 и Paradiso XXVI.133-136. В трактате, поскольку
Адамов язык отождествляется с древнееврейским, Данте в соответствии с традицией
(от св. Иеронима, Исидора до более поздних средневековых учебников и
лексиконов, см. Mengaldo com. ad loc), использует El как первое имя Бога (ср. «primum
apud Hebraeos Dei nomen». Isid. Etym. VII.1.3). В «Комедии» имена Бога
включены в другую перспективу — в картину изменчивости людского узуса («и так
любой /Обычай смертных сам себя сменяет, /Как и листва сменяется листвой»
(Рай XXVI. 136-138). Ср.' [Schiaffini 1959, р. 82-89]. О возможных источниках
имени / в связи с символическими интерпретациями гласных, над которыми
«средневековая мысль трудилась на протяжении веков», см. [Guerri 1909], [D'Ovidio
^26], [Nardi 1949a, p. 241-257], [Terracini 1957]. По-видимому, El и в самом
Деле является «вторым» в хронологическом отношении еврейским именем Бога;
Из Двух частей Библии: «Яхвист» и «Элохист», в которых Бог соответственно
именуется Яхве (tetragrammon YHVH) и Элохим — современная текстология
считает «Элохист» более поздней. См. [Гранде 1972, с. 25-26]. Вопрос о том, мог ли
Данте знать об этих двух именах в Библии, не так уж непохожих на названные
нм, кажется, никогда не обсуждался комментаторами «Комедии» (новейший
комментарий см. [Chiavacci Leonardi 1997, p. 731]. То же утверждает в своей новей-
^й работе «Поиски совершенного языка» Умберто Эко. Для имени / он также
пРедполагает еврейский источник, который находит в каббалистической
традиции (в частности, у Авраама Абулафии), приписывавшей самостоятельное значе-
48 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Самому столпотворению Данте посвящает целую главу
трактата (I.VII), превращая краткий рассказ книги Бытия69 в разверну,
тую картину грандиозного строительства с подробным перечнем
строительных профессий: «Итак, в упорстве сердца своего
возомнил нераскаянный человек, по наущению великана Немврода,
превзойти не только природу, но и самого зиждителя — Бога — и
начал воздвигать в земле Сеннаар, названную впоследствии
Вавилон, то есть смешение, башню в надежде достигнуть неба и,
вознамерившись, невежда, не сравняться, но превзойти своего Творца...
И вот весь почти род человеческий сошелся на нечестивое дело: те
отдавали приказания, те делали чертежи, те возводили стены, те
выравнивали их по линейкам, те выглаживали штукатурку, те
ломали камни, те по морю, те по земле с трудом их волочили, а те
занимались всяческими другими работами, когда были
приведены ударом с небом в такое смешение, что все говорившие при
работе на одном и том же языке заговорили на множестве
разнородных языков...» (omnes una eademque loquela deserviebant ad
opus, ab opere multis diversificatis loquelis desinerent — I.VII.4-6).
Описание строительных работ70 завершается у Данте гипотезой о
ние каждой букве. Таким образом, каждый знак в имени YHVH уже есть имя
Бога, тем самым и Y, которое Данте мог бы воспринять как I (см. [Есо 1993, р.
55], далее — р 56 sq. — обсуждаются возможные пути знакомства Данте с этими
текстами). Об обсуждении противоречия между VE I.IV.4 и Рай (XXVI. 133-136 в
XVI в. см. во II ч. с. 327-328; 331-332). Попытка примирить противоречие в
трактовке «эволюции» языка (после Вавилонского смешения в трактате и до него
в поэме), предпринятая [Palmier! 1964] при помощи понятия постепенного,
«поэтапного» осуществления языка Адамом, по сути дела не снимает этого
противоречия, и, таким образом, вопрос остается открытым, ср. также трактовку «языка
Адама» у Данте в [Mazzocco 1993, р. 159-179].
69 Быт 11: 1-8: «На всей земле был один язык и одно наречие (Erat autem terra
labii unius et sermonum eorundem). Двинувшись с востока, они нашли в земле
Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола (bitumen)
вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес;
и сделаем себе имя (celebremus nomen nostram), прежде нежели рассеемся
(dividamus) по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню,
которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у
всех язык (unus est populus et unum labium omnibus); и вот что начали они
делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там
язык их, так чтобы один не понимал речи другого (conf undamus ibi linguam eorum
ut non audiat unusquisque vocem proximi sui). И рассеял их (divisit eos) Господь
оттуда по всей земле; и они перестали строить город (и башню). Посему дано ему
имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли (confusum est labium
universae terrae), и оттуда рассеял их (dispersit eos) Господь по всей земле».
70 Ю. М. Эделыптейн отмечает, что патристика очень мало затронула тему
Столпотворения, практически почти не выходя за рамки библейского текста
[Эделыптейн 1985, с. 194]. Современное дантоведение, помимо церковных авторов,
трактующих этот эпизод, отмечает также влияние литературных источников (что
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
49
происхождении разных языков из специализированных
профессиональных «диалектов». «Ведь только у занятых одним каким-
нибудь делом удержался один и тот же язык, например, один у
всех зодчих, один у всех перевозчиков камня, один у всех
камнетесов, и так случилось со всеми по отдельности работниками. И
сколько было различных обособленных занятий для
замышленного дела, на столько вот и языков разделяется с тех пор род
человеческий» (Quot quot autem exercitii varietates tendebant ad
opus, tot tot ydiomatibus tunc genus humanum disiungitur —
I.VII.7)71.
Поскольку Данте — без преувеличения — можно назвать
первым диалектологом (о чем еще пойдет речь дальше), то, вероятно,
не будет непростительной модернизацией, если мы усмотрим в
цитированном рассуждении зачатки «социальной диалектологии»,
тем более что далее в трактате Данте говорит о языковых
различиях внутри одного города (I.X.7). На то же самое обстоятельство,
как кажется, указывает и заключительный довод
рассматриваемого отрывка, связывающий «социальные диалекты»
(пропорционально участию в греховном строительстве) с категориями
стилистической иерархии: «...и насколько какие превосходнее
работали, настолько неотесаннее и грубее их речь» (et quanto
excellentius exercebant, tanto rudius nunc barbariusque locuntur —
I.VII.7).
Что же именно произошло в Вавилоне, какой механизм языка
был поврежден в акте смешения?72 Наиболее лаконичные
комментаторы ограничиваются констатацией результатов этого
действия: вместо одного — вечного и вселенского языка возникло
множество других, обреченных на постоянную эволюцию, наре-
особенно важно для наших дальнейших рассуждений) — описание строительства
города в «Энеиде» Вергилия (Aen. I 423-425).
1 Это отмечено в комментарии [Голенищев-Кутузов 1968, с. 570], со ссылкой
на А. Скьяффини: «флорентийца мысль о том, что следует приписать цехам
смешение языков, могла поразить молниеносно и показаться вполне естественной и
Удачной». На самом деле это высказывание принадлежит не А. Скьяффини, а
Другому итальянскому ученому — Ф. Д'Овидио [D'Ovidio 1931, р. 304], работу
которого цитирует Скьяффини в своем курсе лекций о VE [Schiaffini 1959, р. 81-
82]. Укажем также одну более раннюю статью Д'Овидио о VE, которая знаменует
начало научного освоения трактата [D'Ovidio 1873]. О других дантоведческих
Работах Франческо Д'Овидио (1849-1925), крупного итальянского филолога-ро-
Маниста, см. [Russo V. 1966].
12 Лингвистические аспекты вавилонского смешения рассматриваются в
фундаментальном труде: [Borst 1957-63, о Данте: vol. 2, t.2, S.871]. См. также
[Донских 1984, с. 35]. Философский подход к проблеме множественности языков и
кУльтур рассматривается в статье Н. С. Трубецкого «Вавилонская башня и
смешение языков» [Трубецкой 1923].
50 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
чий. Эта версия возводится к бл. Августину (De civitate Dei. XV.
11), и некоторые современные комментаторы склонны
рассматривать дантовскую концепцию «смешения» как факт создания
Богом новых языков в зависимости от ремесел занятых в
строительстве работников (Marigo, comm. ad loc), [Panvini 1966, p. 182].
Другое толкование сводится к тому, что Бог не создавал никаких
новых языков, но разбил единое целое языка (тезаурус?) на части,
и из осколков этого целого каждая группа рассеянного народа уже
по своему усмотрению создавала свой язык [Vinay 1959, р. 367-
388]. В традиции, на которую несомненно опирался Данте,
встречаются и более детальные указания на суть «повреждения».
Так, Исидор Севильский связывает разнообразие языков с
распадом звуковой материи знака (in diversos signorum sonos — Etym.
IX.1.1). Петр Коместор, «классик» христианской истории XII в.,
автор «Схоластической истории», судя по всему, считает, что
«смешение» произошло на уровне «формы», ибо внешне слова
остались те же самые, а «способы говорения» стали разными (quia
voces eadem sunt apud omnes gentes, sed dicendi modos et formas
diversis generibus divisit)73, что можно понимать как
повреждение знакового механизма, способа означивания — modus signifi-
candi.
Похоже, что Данте придерживался той же точки зрения,
поскольку он говорит, что при вавилонском столпотворении была
рассеяна (dissipata) forma (I.VI.4), и, стало быть речь идет о
повреждении самого устройства языка, той «forma locutionis»,
которая была создана Богом вместе с первой душой и отнята Им у
непокорных потомков Адама. На этом вопросе следует остановиться
подробнее, так как он принципиально важен для понимания Дан-
товой концепции механизмов дивергенции, которые продолжают
действовать в языке, предоставленном — после столпотворения —
естественной эволюции. Данте утверждает, что «весь наш язык,
кроме созданного Богом вместе с созданием первого человека, был
переделан по нашему вкусу (a nostro beneplacito reparata) после
того смешения, которое было не чем иным, как забвением (oblivio)
первоначального языка» (I.IX.6). «Забвение первоначального
языка», изглаживание его из памяти людей (а память считалась
способностью «чувствующей души» — anima sensitiva) не затрагива-
73 Цит. по: [Corti 1978, р. 253], там же приводится и другая версия,
подтверждающая такое толкование. Во «Всеобщей истории» Альфонса Мудрого (1221-1284)
говорится о том, что строители прекратили работу, потому что перестали
понимать друг друга и если один просил кирпичи, другой подавал ему смолу и т. д.,
иначе говоря, слова (звуковые оболочки слов) утратили вдруг свои исконные
значения. На такое же понимание акта «смешения языков» указывают и более
ранние комментарии еврейских экзегетов, см. небольшую заметку [Sarfatti 1986].
цасгпь I. Лингвистические взгляды Данте
51
ет онтологического статуса предмета, не отменяет его
объективного (хотя бы и «забытого») существования74, подобно тому как
изгнание из Рая не отменяет самого рая и земных чаяний о нем. В
этой связи очень важно отметить, что когда Данте после
рассмотрения дробящейся на бесконечные говоры италийской речи
переходит к описанию vulgare illustre, он, по существу, говорит о
прояснении формы языка в отношении слов, конструкций и звуков,
выделяя те же три уровня, которые были отмечены им в
рассуждении об «определенной форме речи», сотворенной вместе с
душой первого человека: «Наставлением возвышена она несомненно
потому, что из стольких грубых италийских слов (de tot rudibus
Latinorum vocabulis), из стольких запутанных оборотов речи (de
tot perplexis constructionibus), из стольких уродливых говоров (de
tot defectivis prolationibus — выговоров), из стольких
мужиковатых ударений (de tot rusticanis accentibus) вышла, мы видим,
такой отличной (egregium), такой распутанной (extricatum), такой
совершенной (perfectum) и такой изысканно светской (urbanum),
какой являют ее Чино да Пистойя и его друг (т. е. сам Данте. —
Л. С.) в своих канцонах» (I.XVII.3).
Один из крупнейших религиозных философов XX в. С.
Булгаков трактует вавилонское столпотворение «как
феноменологическое умножение одной и той же реальности, подобное разложению
белого луча на спектр, как лингвистическое умножение и
усложнение одного внутреннего языка, который первоначально не
различался и по своему звуковому телу» [Булгаков 1953, с. 24]
(разрядка авт.). Эта мысль представляется нам вполне адекватным
комментарием к Дантовой трактовке вопроса.
Человеческая речь утратила свое первозданное совершенство75,
и так как «человек существо крайне неустойчивое и
переменчивое» (instabilissimus atque variabilissimus), то язык не может быть
ни долговечным, ни постоянным, подобно остальному, что у нас
имеется, например обычаям и нравам76, должен изменяться в
связи с расстоянием между местностями и течением времени» (I.IX.6).
Однако необратимость этого процесса, невозможность вернуть
человека и его язык к изначальному совершенству не отменяет
возможности индивидуального достижения совершенства для
отдельной личности или отдельного языка. Описывая
«феноменологическое умножение» языка в Италии, Данте говорит: «...если бы
Ср.: «Грех и зло мыслимы лишь как извращение нормы, извращение
прообраза, но во всяком извращении присутствует искаженный прообраз» [Вышеслав-
^в 1929, с. 57].
Совершенство в эстетике Фомы Аквинского означает полное, абсолютное воп-
л°Щение формы. См.: [Есо 1988, р. 66-71].
Об исправлении в переводе «нравов и одежды» см. выше прим. 2.
52
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
мы захотели подсчитать основные, второстепенные и
третьестепенные различия между наречиями Италии (vulgaris Ytalie
variationes), то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы
дойти не то что до тысячи, но и до еще большего множества
различий» (I.X.7, перев. I.X.9). Данте использует ту же аналогию с
белым цветом, утверждая, что наречия Италии представляют
собой вариации одного и того же языка, по которому все они
должны измеряться, оцениваться и равняться (I.XVI.6), подобно тому
«как все цвета измеряются по белому и называются более или
менее видными в зависимости от того, ближе или дальше отстоят
от белого» (I.XVI.2).
Если грехопадение Ветхого Адама искупается жертвой
Христа — Нового Адама, то лингвистическая катастрофа (confusio
linguarum), утрата первоначального языка, как известно,
«уравновешивается» в Новом Завете обретением дара понимания
языков, когда в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух:
«И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2: 4) — «et repleti
sunt omnes Spiritu Sancto et coeperunt loqui aliis Unguis prout
Spiritus Sanctus dabat eloqui illis» (Act 2: 4, разрядка наша).
Данте не касается этого новозаветного эпизода и обращается
непосредственно к фактам своего времени77. В его трактовке даром
постижения или различения (discretio) народных языков были
наделены лучшие из поэтов Италии. Он называет представителей
одной (болонской) школы: Гвидо Гвиницелли, Гвидо Гизильери,
Фабруццо, Онесто, qui doctores fuerunt illustres et vulgarium
discretione repleti (I.XV.6) — (которые были
сиятельными учеными и исполненными [даром] различения народных
языков). Но прежде чем перейти к главной теме всего трактата —
проекции смешения языков на современное состояние — Данте
очень сжато, отдавая себе отчет в недостаточности имеющихся в
его распоряжении сведений, обрисовывает движение возникших
в Вавилоне языков во времени и пространстве (I.VIII).
2.4. Данте не берется решать, когда была заселена Европа и
впервые ли появились здесь пришельцы с Востока после
столпотворения, или же «вернулись в Европу туземцы» (I.VIII.2), т. е. те,
кто заселил Европу до построения башни, но ушел в Вавилон,
чтобы участвовать в этом строительстве. Во всяком случае, насе-
77 Отыскивание параллелей между событиями ветхозаветной истории и
явлениями нового времени характеризует метод постижения действительности,
разработанный Иоахимом Флорским (doctrina abbatis Joachimi). О влиянии иоахи-
митского учения и символики на Данте см. [Russo F. 1966]. Там же приводится и
основная литература по этому вопросу.
qacmb /. Лингвистические взгляды Данте
53
ление, пришедшее после Вавилона, принесло с собой «троякий
язык» (ydioma tripharium), распределившийся по трем крупным
ареалам. Один язык, чьим «признаком общего изначального
единства» осталась утвердительная частица «уо»78, распространился
«от устьев Дуная или от Меотийских болот до западных пределов
Англии» и Океана (I.VIII.3, перев.: I.VIII.4), т. е. занял всю
северную часть Европы, и «впоследствии через славян, венгров,
тевтонов, саксонцев, англичан и множества других племен (nationes)
он разветвился на различные наречия» (per diversa vulgaria
derivatum — там же). Не вполне понятно, разделился ли язык на
эти наречия или же перечисленные «племена» образовали нечто
вроде «суперстратов», видимо, следует предпочесть первое
прочтение, как более простое. Область второго языка (тех, «которых
мы теперь называем греками» — I.VIII.3, здесь Данте обходится
без утвердительной частицы) простирается «от пределов венгров
на восток» (I.V.4, перев. I.VIII.5) и далее за восточные границы
Европы (т. е. в Малую Азию). Третий язык не имеет общего
определения и занимает «всю остальную часть Европы» (I.VIII.5,
перев. I.VIII.6), т. е. юго-западную часть. Выделенные Данте
ареалы, по мнению Г. Винэ, образуют почти что геометрические
фигуры, сориентированные по странам света: «германский» ареал
на севере, и два ареала на юге — «греческий» на востоке и
«романский» на западе [Vinay 1959]79.
Говоря о третьем языке (tertium ydioma), т. е. языке
романской Европы, Данте делает оговорку, что «теперь и он
представляется трояким» (nunc tripharium videatur — I.VIII.5, перев.
I.VIII.6), и выделяет три группы или три «наречия» опять-таки
по тому признаку, что одни при утвердительном ответе говорят
«ос», другие «oil», третьи «si», т. е. соответственно «Yspani, Franci
et Latini» (там же). Произносящие «ос» занимают «западную часть
Данте различает языки (вернее называет их) по тому, как звучит в них
Утвердительная частица. Более последовательно это развито им применительно к
Романским языкам, вероятно, в этом он следовал — хотя бы отчасти —
существовавшей традиции. Название «язык ос* появилось уже в «Новой жизни» (XXV.4),
производные от «ос» названия для провансальского языка засвидетельствованы
У*е в XIII в., см. [Мейлах 1975, с. 13-17].
Такие трехчастные, схематичные изображения известного мира принято воз-
в°Дить к одной из техник средневековой картографии — к картам типа Т-О, пред-
Ставляющим собой букву «Т», вписанную в круг. Огромное количество карт этого
Типа, служащих иллюстрацией к сочинениям Исидора, Рабана Мавра, Беды и др.
авторов, встречается в рукописной традиции начиная с VIII в. см. [Райт 1988,
с- 68]. Там же указана и литература, относящаяся к географическим и лингвоге-
°гРафическим представлениям Данте: [Moore 1903], [Mori 1922], [Andriani 1923],
Де кратко рассматриваются разные региональные деления Италии (от Августина
До Данте и Флавио Бьондо в XVb.).
54 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
южной Европы, начиная от границ Генуэзцев»80, те, кто говорят
«si», — «восточную от этих же границ», а говорящие «oil»
«оказываются по отношению к ним северянами» (I.VIII.6, перев.
I.VIII.7-9). Тем не менее это несомненно родственные языки: «Й
явным признаком того, что наречия (vulgaria) этих трех народов
(Gentium) происходят от одного и того же языка (ab uno eodemque
ydiomate ... progrediantur) служит то, что многое в них
обозначается одинаковыми словами (per eadem vocabula nominarum
videntur — I.VIII.5, перев. I.VIII.6). Далее с безупречной
компаративистской интуицией Данте приводит список таких слов,
вернее, понятий, «одинаково» выражаемых в сопоставляемых
языках. Список этот безукоризнен в «диагностическом» отношении
и составлен по иерархическому принципу, характерному для
«идеографических» словарей: «Бог», «небо», «любовь», «море»,
«земля», «есть», «живет», «умирает», «любит» и, добавляет Данте,
«чуть ли не все остальное» (I.VIII.5, перев. I.VIII.6). Этот список
слов, доказывающий единосущность трех романских языков (и
сходство латыни с ними)81, состоит из имен существительных
(их формы даны в аккузативе) Deumy celum [coelum], amorem,
mare, terram и глаголов (в форме 3-го лица ед. числа настоящего
времени) est, vivit, moritur (отложительный глагол), amat. Данте
не приводит провансальских, французских и итальянских
соответствий ко всем приведенным латинским словам (столбцы с
примерами из различных языков появятся гораздо позже, в
трактатах XVI в. Гильома Постеля, Конрада Гесснера и др.), но только
показывает метод, проиллюстрировав его одним весьма
убедительным примером в следующей главе VE: «Итак, — пишет
Данте, — знатоки трех языков (trilingues doctores — трехъязычные
80 Показательно, как Данте соблюдает иерархичность в своей таксономии: там,
где он пользуется не географическими, а этническими определениями, он, говоря
о больших группах («языках», т. е. языковых семьях), обозначает их границы,
ссылаясь на целые народы (итальянцы, французы, венгры), определяя же
границы отдельных языков, он переходит на уровень «диалектов» или говоров.
Тенденция к дифференцированному подходу наблюдается и в обозначении понятия
«язык»: lingua — язык до Вавилонского смешени, ydioma (ydiomata) —
отдельные языки (или языковые группы), vulgaria — современные народные языки
(наречия, говоры) [Tavoni 1990, р. 235]. Несмотря на то что выделенная М. Таво-
ни иерархия обозначений не соблюдается в VE с абсолютной
последовательностью (ср. I.X: lingua oil, lingua Siculorum и др.), скрупулезный анализ этих и
других терминов со значением «речь—язык» в [Tavoni 1987] опровергает мнение
Юэрта (см. его работу о терминологии VE [Ewert 1940, р. 361-362]) и др. (Мари-
го, Менгальдо) о полной бессистемности у Данте употребления терминов sermo,
locutio, loquela, lingua, ydioma, vulgare.
81 О проблеме генетического родства языков у Данте см. [Paustian 1979].
qacnib I. Лингвистические взгляды Данте
55
мастера) сходятся (conveniunt) во многих словах и первым делом
в слове amor (любовь)» (I.IX.3). Далее приводятся строчки из
стихов лимузинца, главы провансальских трубадуров Гираута де
рорнеиля (род. ок. 1162/69), французского трувера и Наваррско-
го короля Тибо IV Шампанского (1201-1253) и болонца Гвидо
Гвиницелли (ок. 1230/40-1276), основателя итальянской
шкоды «сладостного нового стиля». Иными словами, приводится
провансальское, французское и итальянское соответствие к
латинскому этимону AMOR. Изысканность выбора этих примеров
заключается в том, что форма amor у всех трех поэтов
оказывается идентичной, для чего специально подобраны
провансальский и французский примеры, где это слово стоит в косвенном
падеже, тогда как номинатив в провансальском — amors)
(отмечено А. Мариго в com. ad loc). Вне этого контекста, в
многочисленных цитатах из итальянских поэтов, которые приводятся в
VE, наряду с формой amor (любовь, Амор), встречается и
общеупотребительное итальянское слово атоге, в том числе у того же
Величайшего Гвидо (Maximus Guido) в I.XV.6, II.V.4, у болонца
«поменьше» Онесто дельи Онести (I.XV.6), сицилийца Ринальдо
д'Аквино (I.XII.8, II.V.5) и у самого Данте, где он цитирует
«Новую жизнь» (И.VIII.8). Интересно отметить, что во II книге
трактата (практическая поэтика), там, где рассматриваются вопросы
выбора слов, т. е. словарь итальянского поэтического языка, Данте
рекомендует вариант атоге, относя его к разряду «расчесанных»
(перевод Ф.Петровского) слов— vocabula pexa (II.VII.5)82.
Остальные соответствия не приводятся, но опять-таки в цитатах
82 Как выстроен отдел «расчесанных» слов (или, точнее, хорошо вычесанных:
термины pexus, рехаге относятся к области ткацкого и прядильного ремесла, к
технике обращения с ворсистыми тканями), тоже весьма показательно. Сначала
Дается определение: к этой категории слов относятся трехсложные или почти
трехсложные слова (такие как disio 'желанье', которое можно произнести и в три
и в два слога, или donna, в котором еще слышится лат. domina), в которых нет
пРидыхания, нет «сдвоенных» согласных z или х (т. е. африкат [ts, dz] и скопле-
ния двух согласных ks), и соблюдается ряд других фонетических запретов (все
°ни перечислены), и ударение падает на второй слог с конца, т. е. ударный слог
приходится ровно на середину слова (II.V.5), таким образом, слово a-mor в этот
Разряд лексики уже не попадает. Семантика и символика этого ряда из девяти
слов, соотнесенных с тремя главными темами поэтического искусства (см. ниже
с- 82), проанализирована П. В. Менгальдо (см. com. ad loc); представим
приведенную Данте последовательность в виде трех триад, выделив в каждой из них
^главное слово:
апгоге 'любовь' virtute 'добродетель' salute 'здравие'
donna'донна' donare'дарить' securtate'безопасность'
disio'желанье' letitia 'радость' defesa'защита'.
56
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
встречаются итальянские соответствия к лат. Deus и coelum: Dio9
cielo*3.
Таким образом, наличие общих слов для этих трех языков до-
казывает единство языка в начале смешения (т. е. в первое
время), а с другой стороны, подтверждает сам факт дивергенции,
который тоже нуждается в доказательствах, т. к. не относится к
числу самоочевидных и заметных любому наблюдателю. Этот
процесс обусловлен непостоянством человеческой природы (эта
формулировка уже цитировалась выше — I.IX.6) и «течением
времени». Нужно учесть, что самый факт изменения языка во времени
нуждался в доказательстве: «И не следует, я думаю, не только
сомневаться в указанном нами течении времени, но лучше, мы
полагаем, иметь его в виду, ибо ... мы гораздо больше отличаемся
от древнейших наших сограждан, чем от отдаленнейших
современников» (I.IX.7). Изменения во времени незаметны
наблюдателю, потому что они постепенны, «а постепенного движения мы не
замечаем; и чем больше времени требуется, чтобы заметить
изменение предмета, тем более постоянным он нам представляется»
(stabiliorem putamus — I.IX.8). Поэтому не следует удивляться,
что «люди, по своим суждениям мало отличающиеся от
бессловесных животных», уверены, что жители одного города пользуются
«одной и той же неизменной речью» (invariabili semper sermone
— I.IX.9), тогда как сам Данте «смело свидетельствует», что «если
бы теперь воскресли древнейшие жители Павии, они говорили бы
с ее нынешними жителями на языке особом и отличном» (vario
vel diverso — I.IX.7). Если сам факт изменения языка отмечался
и ранее84, то у Данте он впервые становится предметом
специального рассмотрения. Не исключено, что внимание к временному
фактору могло возникнуть у Данте под влиянием теоретических
дискуссий вокруг понятий «время» и «течение времени» (temporis
83 Проделаем эту работу, приведя все недостающие соответствия в три столбца
(отметим, что и этот список состоит из девяти слов, ср. выше прим. 82):
лат.
Deum
celum
amorem
mare
terram
est
vivit
moritur
amat
прованс.
Deu/Dieu
eel
amor
mar
terra
es/ez
viu
muors
ama/am
ст.-фр.
Dieu
ciel
amour
mer
terre
est
vit
meurt
aime
um.
Dio
cielo
amor(e)
mar(e)
terra
ё
vive
muore/more
ama
84 Ср. известное высказывание св. Иеронима: «ipsa latinitas et regionibus quotidie
mutetur et tempore» (латынь беспрестанно меняется и по отдельным областям и
во времени), а также дантовскую ссылку на Горация (Пир II.XIII. 10).
qacrrib I. Лингвистические взгляды Данте
57
(jecursus), развернувшихся в XIII в. среди болонских юристов85 в
свЯзи с изменениями форм общественной жизни86 и привычек и
возникшей необходимостью определения соответствующих
понятий — habitus и consuetudo. В этих дискуссиях пересматривались
традиционные взгляды на эти явления как неизменные и
устойчивые87, видимо, это и имел в виду Данте, аргументируя
изменчивость языка неустойчивостью нравов и привычек. В
комментариях этого времени к юридическим questiones содержатся
точные указания на разную длительность процессов, а также
определения отрезков времени разной протяженности: 10-20 лет —
consuetudo longa, 30-40 лет — longissima, 50 лет — longeva и,
наконец, наибольшая мера vetusta — это то, что не сохраняется в
памяти («древнейшие жители Павии» у Данте — это «vetustissimi
Papienses»).
Второй фактор дивергенции — территориальный. Данте,
исходивший в изгнании «все пределы, куда только проникает родная
речь» (Пир. I.III.4), мог на собственном опыте судить о языковых
различиях «в связи с расстоянием между местностями» (I.IX.6).
Мы остановимся сейчас только на теоретической стороне этого
подробного описания с тем, чтобы ниже вернуться к нему как к
«диалектологическому» очерку и рассмотреть конкретные
наблюдения и практические решения Данте. Общий теоретический вывод
из этой описательной части, в сущности, неоспорим и по сей день:
если «у одного и того же народа происходят с течением времени
последовательные изменения речи (sermo varietur ... sucessive per
tempora) и она не может оставаться постоянной, то у обитающих
раздельно и отдаленно друг от друга она непременно должна
изменяться по-разному» (varie varietur), подобно тому как
по-разному изменяются нравы и обычаи (mores et habitus),
«устанавливаемые не природой и не гражданской общиной (consortio), но
порожденные людскими вкусами (humanis beneplacitis) и местным
соглашением (localique congruitate — I.IX.10).
Помимо территориальных диалектных различий Данте
указывает как на явление, которое «еще удивительнее», чем
расхождения в речи близких соседей, — на дифференциацию речи в преде-
Впервые на это указала М. Корти [Corti 1982, р. 55-59], и мы пользуемся ее
пРимерами.
Динамика социальных и политических переворотов отличает Италию XIII в.
т медленного и монотонного средневекового уклада жизни остальной Европы,
*°священного прецедентами, закрепленного хартиями и дипломами незапамят-
Ых времен», что, по мнению П. Бицилли, и должно было служить толчком к
пРобуждению исторической мысли именно в Италии [Бицилли 1916, с. 51].
Ср. определение понятия habitus в формулировке Петра Испанского: «habitus
st qualitas difficile mobilis» (обычай — это качество, с трудом изменяемое —
Utnmulae logicales, цит. по: [Sermoneta 1969, р. 169]).
58
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
лах одного и того же города, т. е. дифференциацию социальную,
как доказывает его пример: болонцы с Большой улицы (т. е. из
центральных кварталов города) говорят иначе, чем жители
предместья Св.Феликса (находящегося за городскими стенами) (I.IX.4).
Таким образом, объективными факторами языковых
изменений (или различий) являются время, пространство и социальная
структура (последняя эксплицитно не вводится в число факторов
изменения языка), но все эти причины подчинены основной —
непостоянству самого субъекта речи. Этим непостоянством — и
языка, и его носителя — «были обеспокоены изобретатели
грамматической науки» (inventores grammatice facultatis — I.IX.11), т. е.
это беспокойство и стало причиной «изобретения» грамматики,
«поскольку грамматика есть не что иное, как учение о
неизменном тождестве, не зависимом от разного времени и местности. С тех
пор как с общего согласия многих народов (de communi consensu
multarum gentium) выработаны ее правила, она очевидно не
подчинена никакому произволу отдельных лиц и вследствие этого не
может быть изменяемой. А придумали-то ее для того, чтобы из-за
изменчивости речи, колеблющейся по произволу отдельных лиц,
мы никоим образом ... не искажали установлений и деяний
древних или тех, которые рознятся с нами разностью
местожительства» (I.IX.11).
«Изобретение грамматики» трактуется обычно чуть ли не в духе
теории «договорного происхождения языка» ([Шишмарев 1972,
с. 81]; [Гуковская 1940, с. 9-10])88. Момент сознательного и
целенаправленного регулирования языка, безусловно, присутствует в
дантовской концепции грамматики, но само определение
грамматики как учения о неизменном тождестве, не зависящем от
разного времени и местности (grammatica nihil aliud est quedam
inalterabilis locutionis ydemptitas diversibus temporibus atque locis —
I.IX.11), — согласуется с основными научными положениями того
времени, не имеющими ничего общего с «коллективным
договором» и тем более с «изобретением» в современном смысле этого
слова89.
Трактат Данте о языке нельзя рассматривать вне общего
культурного фона и вырывать из научного контекста его времени, тем
88 Видимо, на этом же терминологическом недоразумении основывается и
замечание Ш. Тюро о «полном бессилии ума» при попытках средневековой науки
дать себе отчет о грамматических фактах языка: *В общем исходили из того
принципа, что язык был изобретен грамматиками путем размышления* (цит.
по: [Грошева 1985, с. 214], курсив наш. — Л. С).
89 Напомним, что помимо того терминологического значения, которое
приобрело слово «inventio» в лексиконе схоластов, оно продолжало оставаться одним
из главных терминов традиционной риторики — «нахождение». Ср. Дантовы
«поиски» языка в лесу диалектов, о которых пойдет речь впереди.
/. Лингвистические взгляды Данте
59
более что наука на исходе средневековья не знала узкой
специализации и не стремилась к ней.
«Изобретение грамматики», по мысли Данте, положило конец
естественному развитию латинского языка, придав ему стабиль-
ность и неизменность. Это язык, остановленный в своем
движении, искусственный в том смысле, что он следует (т. е.
подчиняется) искусству — ars grammaticae, — а не в смысле искусственно
изобретенный язык. Латинский «грамотный» язык и «наш» язык
(простонародный), который теперь существует как троякий
(triphario nunc existente nostro ydiomate) или троезвучный
(trisonum) представляют собой разные формы существования
языка, его разные временные срезы (в том смысле, что «грамматика»
появляется позже народной речи, а не в том кажущемся нам
очевидным смысле, что романские языки — наследники латыни).
Именно этот подход, по-видимому, и позволил Данте избежать
распространенного (в XV в., см. ниже след. часть) представления
о народном языке как об испорченной латыни. Народный язык, в
силу его неустойчивости подвержен порче (coruttibile), чем в
первую очередь и отличается от кодифицированной латыни, но из
этого никак не следует (хотя некоторые исследователи и пытались
приписать Данте такой взгляд), что народный итальянский язык
является результатом порчи латинского языка.
Более того, подобный вывод решительно противоречил бы
самому определению «грамматики» как языка неизменного: если
«грамматика» не подвержена порче, то как могут путем «порчи»
получиться из нее новые языки? И здесь необходимо коснуться
одного важного заблуждения: отождествляя «грамматику» с
латинским языком (что совершенно справедливо), последующие
поколения стали читать соответствующие формулировки Данте как
высказывания об известной нам исторической латыни, т. е.
реально существовавшем языке, бытовавшем в античной Италии,
Римской империи и раннем средневековье (см. например, [Paratore
1968, р. 136-253]. Данте, однако, ничего подобного не имел в виду;
его латынь, «грамматика», была, в его представлении, во все
времена своего существования языком «искусственным» (взгляд на
латынь как на язык искусственный начал формироваться в IX в.,
в период так называемого Каролингского возрождения [Vineis,
Maieru 1990]). Ситуация «диглоссии» была для него естествен-
н°й, и он, конечно же, проецировал ее и на античную древность90,
Не видя никакой разницы между обучением латинскому языку в
аНтичной школе и в его время (заметим, кстати, что современников
О дискуссиях в ренессансной Италии по поводу языковой ситуации Древне-
рима см. Приложение II.
60 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Данте учили не только грамоте, но и сочинению латинских
стихов) [Гаспаров 1986, с. 96; 1989, с. 88-89]. «Грамматика» для Данте
не могла быть тем же языком, на котором некогда говорили
римляне91 . Это язык классических текстов и в первую очередь — язык
поэтов. Данте не сомневается в том, что во времена Вергилия
разговорным языком был некий свой vulgare92, решительно
отличный от языка «Энеиды», иначе воскресшие «древнейшие жители
Павии» (упоминавшиеся выше) «как и те, кто покинул эту жизнь
тысячу лет тому назад» (Пир. I.V.9, см. выше с. 56), как раз
должны были бы найти свой язык нисколько не изменившимся.
Указанные два места из VE и «Пира» с разной степенью
убедительности, но все же несомненно указывают на такое понимание латыни93.
Представление о латыни как о внеисторическом языке у Данте
сочетается с идеей, которую он тщательно доказывает,
обосновывает, подтверждает примерами, — идеей непрерывной
изменчивости естественных людских языков. Нужно заметить, что такая
трактовка происхождения романских языков, оставляющая
письменную классическую латынь вне этого процесса, в сущности,
хорошо согласуется со многими представлениями лингвистики
новейшего времени. Термин «вульгарная латынь» был введен для
объяснения романских языков, по сути дела, в хронологическом
смысле (как «испорченная» поздняя латынь), однако если
понимать его чисто «социолингвистически», то он был в каком-то
отношении предвосхищен концепцией Данте. Столь же
нетривиальными являются и мысли, высказанные о непрерывной эволюции
языка, и точка зрения на итальянские диалекты как на результат
91 Вопрос о концепции латыни и ее разговорного статуса неоднократно
обсуждался в дантоведении в связи с диалогом между поэтом и его предком Каччагви-
дой (род. в 1091 г.): «Так он еще нежней заговорил / Но не наречьем нашим
повсечасным» (поп con questa moderna favella — Paradiso XVI.33).
Несовременное наречье, на котором Каччагвида ведет свой рассказ о славном прошлом,
характеризует былую флорентийскую речь, отличную от современной
(испорченной), а не латинскую, как полагали старые комментаторы. См. об этом [Viscardi
1942].
92 Ср. ломбардскую реплику Вергилия (как следует из повтора его
собеседника) в «Комедии» (Ад. XXII.33). См. [Pagliaro 1965].
93 Только как плод недоразумения можно рассматривать встретившееся в
одной из недавних работ утверждение о том, что в средние века «латынь всегда (!)
рассматривалась как высший вневременной и неизменяемый язык, Богом
данный всему человечеству* [Челышева 1994, с. 145] (курсив наш. — Л. С). В
средние века отлично знали, что язык, который Бог дал всему человечеству, не
был латынью, и на такой статус (в ущерб даже греческому и древнееврейскому?)
латынь никогда не претендовала (если автору удалось где-то найти подобную мысль,
было бы уместно назвать этот редкий источник). Сакральный статус латыни и ее
универсальное использование в европейских культурах все же не дают основания
для такой гиперболы.
qacrnb L Лингвистические взгляды Данте
61
дивергенции vulgare latium. Можно было бы даже сказать, что
т0т вывод, которым В. Пизани завершает свой очерк
«Итальянские диалекты в историческом аспекте», напрашивается в
качестве заключения к первой книге Дантова трактата VE:
«Итальянские диалекты, как и всякая другая языковая форма, отражают
историческую деятельность нации от самого отдаленного
времени, когда она возникла под главенством Рима, до наших дней.
Количество и разнообразие итальянских диалектов поистине
грандиозно и превосходит все то, что имело место в других странах»
[Пизани 1973, с. 8].
В контексте этих представлений о «вульгарном языке» и
«грамматике» возникает вопрос, как нужно понимать слова Данте (при
сравнении достоинств трех романских языков) о том, что «язык
италийский» (vulgare Latinorum)94 «является более основанным
на всеобщей грамматике» (I.X.2, перев. I.X.4), точнее, на
грамматике, которая является общей (quia magis vide(n)tur initi gramatice
que comunis est).
Оставляя в стороне вопрос (сам по себе весьма важный), что
значит «comunis est» применительно к «грамматике» (идет ли речь
о «всеобщем языке»95 или об «универсальной структуре»), нам
нужно выяснить, какая же здесь предлагается трактовка
отношений итальянского и латинского языков. Традиционное понимание
компактно (и полемически) формулирует М. Корти: «...обычно
говорится, что для Данте народный язык в большей степени
опирается и более похож на тот регулярный язык, каковым является
латинский, — общая основа трехчастного языка» [Corti 1982, р. 62].
Подтверждением этого взгляда как будто служит пассаж в начале
той же главы, где Данте «не осмеливается отдать предпочтение»
ни одной из «ветвей» «нашего языка», но тут же делает оговорку:
«если только не принять во внимание, что основатели
грамматики (positores gramatice)96 определили наречием утвердительным
слово sic, что, видимо, дает известное преимущество итальянцам
(Ytalis), говорящим "си"» (I.X.1). Однако, как мы пытались
показать, нет основания утверждать, что Данте видел в латыни «осно-
Относительно употребления слова «латинский» в значении 'итальянский' (и
соответственно «латины» вместо «итальянцы», как в данном примере, где Данте
называет итальянский «народным [языком] латинов») один из лучших
филологов XVI в., прекрасный знаток староитальянского языка В. Боргини отмечает:
♦Заметь, что Latino (латинский) у наших старых авторов значит Italiano
(итальянский), и в этом смысле его неоднократно употребляет Данте в своей Комедии, а
т^кже Боккаччо в новелле о мессере Торелло» (Декамерон X, IX, 16) [Woodhous
19,Р'Р- 307].
9* О концепции «общего языка» см. [Pagliaro 1966].
В терминологии этого времени positores grammaticae, т. е. собственно грам-
атисты, противопоставлялись теоретикам языка — inventores grammaticae. Данте
°льзуется обоими терминами. Ср. I.IX.ll inventores gramatice facultatis.
62
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ву» романских языков; близость современного языка к
латинскому97 может, конечно, льстить самолюбию итальянца, но никак не
является бесспорным положительным признаком для Данте, столь
ясно понимавшего самоценность языков (как об этом
свидетельствует «Пир»). Так, среди италийских диалектов особому его
осуждению подвергается наречие сардинцев (т. е. сардинский язык),
ибо, кажется, только у них нет собственной народной речи (soli
sine proprio vulgare esse videntur) и они подражают «грамматике»
(т. е. латыни), как обезьяны людям (gramaticam tanquam simie
homines imitantes), «ведь они говорят domus nova и dominus meus»
(I.XI.7). Более правдоподобной в этом отношении представляется
другая традиционная трактовка, согласно которой не
итальянский близок к латыни, а латынь к итальянскому, т. е.
кодификация «грамматики» опиралась на диалекты Италии в большей мере,
чем на другие романские языки. Такая концепция, которой
позже придерживались гуманисты (латинский язык как
кодифицированная форма римской речи), скорее согласуется с описанным
выше представлением о «грамматике», но никак не вытекает из
самого дантовского текста, где все-таки говорится об опоре
итальянского на «грамматику», а не наоборот.
Важные уточнения внесла в трактовку этого места М. Корти:
она, во-первых, отвергает тождество «грамматика=латынь»,
традиционно привносимое и в это употребление слова «грамматика»,
и утверждает, что это слово выступает здесь как чисто
технический термин, во-вторых, она, на наш взгляд, справедливо считает,
что речь идет не об итальянском языке вообще (как в
рассуждении о si и sic), а специально о поэтическом языке. Действительно,
сопоставление достоинств трех романских языков основывается,
за вычетом рассматриваемого аргумента, на сопоставлении
текстов, созданных на этих языках; из них итальянский «отстаивает
свое первенство двумя преимуществами: во-первых, тем, что
сочинители наиболее сладостных и утонченных стихов народной
речью (dulcius subtiliusque poetati vulgariter) — его семейные и
домашние (familiares et domestici sui)98, как Чино да Пистойя и его
друг» [т. е. сам Данте], во-вторых, тем, что он, видимо, в большей
степени опирается на грамматику (magis videtur initi gramatice —
Marigo, I.X.4)99. Последнюю часть можно счесть неким дополне-
97 Таким образом (т. е. как указание на архаичность итальянского языка)
трактует это место, например, [Шишмарев 1972, с. 81-82].
98 Ср. тему «дружбы с языком» в «Пире».
99 Известный итальянский лингвист Б. Террачини использует эту
формулировку Данте в качестве заглавия своей статьи «Quia magis videtur inniti grammatice»,
в которой обсуждается «консервативный» характер итальянского языка, т. е. его
большая близость к латинскому по сравнению с другими романскими языками
[Terracini 1952].
tfncmb I- Лингвистические взгляды Данте
63
яием, выходящим за рамки равноправного сопоставления языков
йа основе их поэзии, или же, в согласии с трактовкой М. Корти,
продолжением того же довода. Дополнительным аргументом
могут служить текстологические соображения. Русский перевод, как
й большинство других, сделан в соответствии с традиционным
чтением, которому следует также и Мариго, однако Менгальдо
дает другое чтение: quia magis videntur (Mengaldo, I.X.2) вместо
videtur, т. е. с множественным числом сказуемого вместо
единственного100 . В этом случае глагол может относится только к poetati
vulgariter, т. е. к поэтам, которые сочиняют на итальянском, и
это именно они «опираются на грамматику»101.
При таком понимании «грамматика», действительно, не может
быть просто синонимом «латыни», а является прежде всего
системой правил, установлений, которые всеобщи и которым нужно
следовать и обучаться. Итальянские поэты — лучшие их
представители — осваивают правила искусства (ars), а не только следуют
обычаю, как другие стихотворцы на vulgare (или просто носители
народных языков)102.
Именно такая ориентация представляется Данте не только
достойнейшей, но и необходимой для поэта, даже в том смысле, что
самое право именоваться «поэтом» отнюдь не бесспорно для
стихотворца, пишущего на vulgare, и Данте во второй книге трактата
специально обосновывает возможность применения к ним слова
«поэт» и тем самым сопоставления с латинскими и греческими
писателями103. Эта аргументация начата еще в «Новой жизни» в
ходе оправдания некоторых licentiae poeticae. Употребив слова poeti
volgari, Данте тут же поясняет: ибо «говорить рифмами на языке
народном (dire per rima in volgare) — это почти то же, что
сочинять стихи (dire per versi) по-латыни», если принять во внимание
соотношение между латынью и народным языком (букв, в со-
Чтение videtur восходит к редакции Пио Райна 1896г. (а в конечном счете к
editio princeps 1577г. Я. Корбинелли [Mengaldo 1978, р. 131-132 е п.21]). В
берлинском списке В (предположительно ближайшем к протографу) это слово
вообще отсутствует, в двух других списках G и Т стоит videntur (мн. число) [Grayson
*"б5, р. 61-65]. М. Корти ссылается на новое издание Менгальдо (1979), но в ее
Цитате — ед. число: videtur, что, по-видимому, является просто опечаткой.
Старый перевод Вл.Шкловского отражает именно это согласование:
«Накопи, третий язык — итальянский, утверждает, что он выше других по двум
преимуществам: первое то, что те, кто писали наиболее изящно и утонченно, явля-
тся его сынами и близкими ему; таковы Чино да Пистойя и его друг, во-вторых,
тальянцы более знакомы с грамматикой, знание которой у них всеобщее» [Дан-
^ Алигьери 1922, с. 23].
Ср., например, «размер канцон (modum cantionum), который многие приме-
^т скорее случайно (casu), чем по правилам искусства» (arte — II.IV.1).
О терминах «поэзия» и «поэт» у Данте см. [Schiaffini 1958].
64 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ответствии с некоторыми пропорциями, соотношениями — secondo
alcuna proporzione — Vita nuova. XXV.[4], пер. А. Эфроса). Далее
параллелизм poeti — poeti volgari или poeti — rimatori проходит
по всей 25 главе «Новой жизни»: «И вот, так как поэтам
дозволена большая вольность речи (maggior licenza di parlare), нежели
сочинителям прозаическим, а слагатели рифм суть не иное что,
как поэты, говорящие на языке народном (poeti volgari), то
достойно и разумно (degno e raggionevole), чтобы им была дозволена
большая вольность речи, чем другим сочинителям на народном
языке: поэтому ежели какая-либо риторическая фигура или
украшение дозволены поэтам (poeti), то они дозволены и слагателям
рифм» (Vita nuova XXV.[7]).
В позднейшем трактате, как уже говорилось, Данте
возвращается к этой проблеме и, в частности, предлагает
«этимологическое» толкование термина poeta (от poita 'сделанный,
обработанный')104: «И вот, обдумывая сказанное, мы напоминаем, что
неоднократно называли слагателей стихов на народной речи (qui
vulgariter versificantur) поэтами (poetas); мы дерзнули на это, без
сомнения, разумно (rationabiliter), потому что они, конечно,
поэты, если рассудить, что такое поэзия (si poesim recte considere-
mus — II.IV.2), — она не что иное, как замысел, облеченный в
риторику и музыку (fictio rethorica musicaque poita — точнее,
вымысел, обработанный риторикой и музыкой. — Л. С). Однако
отличие их от великих и правильных поэтов (a magnis poetis, hoc est
regularibus) в том, что великие творят по правилам речи и
искусства (sermone et arte regulari poetati sunt), они же — как придется
(casu)... Потому-то, чем ближе мы следуем великим поэтам, тем
правильнее сочиняем стихи (quantum illos proximius imitemur
tantum rectius poetemur). Ради этого, принимаясь за ученый труд,
нам следует равняться по законам их ученой поэтики» (doctrinata
eorum poetria — И. IV. 3). Чтобы быть поэтом, необходим не
только и не столько талант (Данте специально обличает невежд,
полагающихся на «одно лишь дарование», т. е. пишущих «как
придется», «случайно», на слух, а не по правилам), — для этого
необходимо изучение правил (ars) и образцов, — однако и система
правил, и язык авторитетных поэтических образцов в равной мере
могут быть названы «grammatica».
Именно в этой теме следования правилам (а не «обычаю»,
узусу, как свойственно дурным поэтам и самим народным языкам в
101 По существу, этимология вполне достоверная; как отмечает А. Скьяффини
[Schiaffini 1958, р. 383], poita от poire представляет собой латинизированную
форму греч. noieiv 'делать, производить, изготовлять', от которого и произошло
ло1Т|ок; и кощхцс;.
Цасть I. Лингвистические взгляды Данте
65
йх «необработанном» состоянии) и намечается возможность той
«стабильности», которой, согласно «Пиру», лишена народная речь
(Т. е. начинается то «опровержение» преимуществ латыни, о
котором мы говорили, анализируя «Пир»). Поэтому последний
аргумент в I.X.2 Данте считает «самым веским» (gravissimum argu-
nientum) для «рационально мыслящих» (rationabiliter inspicien-
tibus — I.X.2, — а не просто «рассудительных», как мы читаем в
русском переводе — I.X.4)105, определяя тем самым адресатов
своего трактата.
Из всего сказанного следует весьма важный вывод: десятая
глава, занимающая срединное положение в первой книге трактата,
представляет собой некий поворотный пункт, здесь начинает
меняться сам предмет трактата. Вместе с переходом от самых общих
вопросов происхождения языка, истории и географии
европейских языков к ближайшему романскому и (в той же главе)
итальянскому материалу происходит и сопряжение лингвистической
проблематики с поэтической — которая станет основой во второй книге
трактата. Вопрос о соотношении языка и поэзии, лингвистики и
поэтики (риторики) у Данте нам еще придется рассматривать, здесь
же нужно констатировать, что, дойдя до романских языков,
Данте вводит тему поэзии на этих языках, так что проблемы языка и
поэзии все время переплетаются. В особенности существенна роль
поэтических текстов в тех случаях, когда речь идет об оценке
языков.
В отличие от чисто оценочной постановки вопроса в первом
трактате «Пира», в своих общих рассуждениях о языке и языках
Данте полностью избегает каких бы то ни было оценок (кроме
таких очевидных, как противопоставление первичного языка
испорченным языкам после Столпотворения). Однако в X главе он,
хотя и «с робостью и нерешительностью», начинает именно со
сравнительной оценки языков, и «доказательствами» для
достоинств каждой «ветви» этого «троякого языка» служат именно
тексты на этом языке: старофранцузские эпические
произведения (известные Данте в прозаических вариантах) — для lingua
°U и первые поэты на vulgare, т. е. трубадуры, для lingua ос
(1-Х.2, перев. I.X.2-3). Аргументы в пользу итальянского уже
Разбирались выше.
Такой критерий оценки языка связан, по-видимому, не только
с задачами самого трактата, но и с общими аксиологическими
представлениями Данте. В «Пире» (как раз в связи с определением
Этой апелляции придает большое значение М. Корти (в контексте своей ар-
гУментации «технического» значения термина «грамматика») см. [Corti 1982,
Р- 62].
3 Чан. 3101
66 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
понятия «благородства», столь существенного для
лингвистической терминологии «Пира») он пишет: «...поскольку во всех
вещах, принадлежащих одному роду (d'una spezie) ... невозможно
определить их высшее совершенство (ottima perfezione) на
основании существенных признаков (principi essenziali), постольку
совершенство это надлежит определять и познавать на основании
проявлений этих признаков (per li loro effetti). И потому, когда в
Евангелии от св. Матфея Христос говорит: "Берегитесь
лжепророков", там написано: "по плодам их узнаете их"106. И, следуя
правильному пути, надо найти искомое определение по его плодам»
(Пир. IV.XVI.9). «Проявления» или скорее даже «результаты»
(effetti), «плоды» языка — есть поэзия на этом языке.
Проблема оценки становится основной в следующих главах,
посвященных диалектам Италии.
Эти заключительные главы первой книги трактата (I.X-XIX),
где дается синхронный обзор «лингвистической ситуации» в
Италии и складывается понятие vulgare illustre (более известное в
итальянском варианте — volgare illustre), представляют собой
наиболее известную часть Дантова учения о языке. Начиная с XVI в.,
когда трактат был переведен на итальянский язык (1529) и стал
достоянием итальянской культуры (что было особенно
существенно в той ситуации, когда господствующее направление мысли —
гуманизм первой половины века отличался как раз установкой на
латинизацию культуры), а имя автора «Божественной комедии»
встало в один ряд с именами Гомера и Вергилия, именно эти
главы привлекали наибольшее внимание, широко обсуждались и
комментировались — вплоть до нашего времени — и даже выходили
отдельными изданиями107. «Доктрина» Данте была, таким
образом, искусственно замкнута на узкую проблематику итальянского
литературного языка. Трактату, как справедливо заметил А. Па-
льяро [Pagliaro 1956, р. 218], не повезло из-за того, что он
оказался втянутым в полемику о языке. А. Мандзони, подводя итоги
этой полемики в середине XIX в., впал в противоположную
крайность, объявив концепцию Данте чистой абстракцией, не
имеющей никакого отношения ни к итальянскому, ни к какому-либо
другому языку [Manzoni 1868, р. 30].
Между тем обе крайности явно искажают картину. Трактат
Данте не дает прямых рекомендаций по выбору литературного языка,
в том смысле как это понимали участники полемики о questione
106 Лат.: a fructibus eorum cognoscetis eos (Mt 7: 15-16), в совр. ит. переводе:
Voi li riconoscerete dai loro frutti.
107 См., например, такое издание С. Пеллегрини: Dante e il volgare illustre itallano
(Testo del *De vulgari eloquentia», libro I, capp. 10-19) / A cura di S.Pellegrini.
Pisa, 1946.
цасгпь I. Лингвистические взгляды Данте
67
della lingua. В то же время никак нельзя согласиться и с
утверждением о чисто абстрактном характере этого трактата: он — во
всяком случае заключительные главы первой книги — целиком
погружен в реальную языковую ситуацию Италии XIV в. и его
практические выводы адресованы итальянским
поэтам-современникам. Именно эта описательная часть трактата, основанная, как
уясе отмечалось, на собственных наблюдениях, принципиально
отличает его от всей средневековой лингвистики, обращенной, как
правило, к глобальным проблемам. То, что Данте дал первый в
истории языкознания образец диалектологического описания
(включая и территориальные, и социальные диалекты),
повторяется едва ли не во всех работах по истории лингвистики и
специально о трактате Данте. Однако, говоря об этом трактате,
действительно невозможно не повторить еще раз эту традиционную
формулировку, потому что, читая Данте, невольно вновь и вновь
поражаешься этой последовательной дескриптивной картине (хотя
бы и отягченной оценочными комментариями), ее полноте и
наглядности, лингвистической интуиции, на много веков
предвосхитившей соответствующие научные установки108.
2.5. Описанию и оценке разновидностей италийской народной
речи (vulgare Latium) посвящены X-XV главы первой книги
трактата. В качестве основы географического разделения диалектов
Данте выбирает естественный рубеж — Апеннинский хребет,
тянущийся вдоль всего полуострова с севера на юг и разделяющий
всю Италию на две части, западную и восточную. Данте называет
диалекты этих областей языками правой и левой Италии, причем,
следуя традиции старых географических описаний, под «правой»
частью он имеет в виду западную, а под «левой» — восточную: «И
на той и на другой стороне, и в областях, к ним прилегающих,
языки людские отличны» (lingue hominum variantur — I.X.6, пе-
Рев. I.X.8).
То обстоятельство, что Данте связывает языковые (диалектные)
Различия с природными границами, было оценено уже
основателем итальянской диалектологии (через пять веков после Данте)
* • И. Асколи в его классической работе «Диалектная Италия». Эту
особенность Дантова трактата Асколи приводил как несомненное
Достоинство первого опыта диалектологического описания Италии
[Ascoli 1882-1885, р. 117]. К западной, т. е. «правой» части, Дан-
£е относит часть Апулии, Рим, Сполетское герцогство, Тоскану,
Аенуэзскую марку, а также острова Тирренского моря — Сици-
Лию и Сардинию. Равное количество областей — числом семь —
и ^0вРеменные данные, позволяющие реконструировать диалектные различия
Италии XIII в., подтверждают это. См. [Vidossi 1977].
68 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
он выделяет и по левую сторону Апеннин: другая часть Апулии,
Анконская марка, Романья, Тревизская марка, Венеция, Фриули
и Истрия. «Таким образом, одна только Италия разнится, очевид.
но, по крайней мере четырнадцатью наречиями» (I.X.7, перев.
I.X.9), ибо языки жителей этих областей отличаются друг от дру.
га: «...так язык сицилийский (lingua Siculorum) отличается от
апулийского, апулийский от римского, римский от сполетского, а
этот от тосканского, тосканский от генуэзского, генуэзский от cap-
динского, равно как калабрийский от анконского, этот от романь-
ольского, романьольский от ломбардского, ломбардский от тре-
визского и венецианского, а этот от аквилейского и тот от
истрийского» (I.X.6, перев. I.X.8). По этой классификации левая
и правая стороны Италии оказываются симметричными друг другу,
включая — каждая — по семь диалектов. Западную группу, как
следует из цитированной формулировки, составляют
сицилийский, апулийский, римский, сполетский, тосканский, генуэзский
и сардинский диалекты, восточную — калабрийский, анконский,
романьольский, ломбардский, тревизский вкупе с венецианским,
аквилейский (диалект Фриули) и истрийский.
Внутри этих провинциальных, т. е. принадлежащих целым
провинциям языков также наблюдаются различия, как,
«например, в Тоскане между сиенским и аретинским, в Ломбардии
между феррарским и пьяченским; да и в одном и том же городе мы
обнаруживаем некоторые различия» (I.X.7, перев. I.X.9). Эти
последние слова, как уже отмечалось, вводят тему тех языковых
различий, которые через несколько веков получат название
социальных диалектов (примеры, приводимые Данте, уже цитировались
выше). При этом Данте отчетливо осознает соотносительную
значимость признаков, их иерархию, как это можно видеть из уже
цитировавшейся формулировки: «Поэтому, если бы мы захотели
подсчитать основные (primas), второстепенные (secundarias) и
третьестепенные (subsecundarias) различия между наречиями
Италии, то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы дойти не
то что до тысячи, но до еще большего множества различий»
(точнее, «разновидностей» — variationes — I.X.7, перев. I.X.9). По
всей видимости, под первичными различиями понимаются
особенности языков целых провинций (перечисленные выше
четырнадцать наречий), под «вторичными» или «второстепенными»
лингвистические различия внутри провинций, а «третьестепенные»
охватывают локальные вариации внутри городов (язык центра и
предместья и т. п., т. е., по сути дела, «социальные диалекты»)109.
109 В этой связи надо упомянуть и противопоставление городских и сельских
диалектов: «отбрасываем мы и горные и деревенские говоры, как, например, ка-
зентинские и фраттские» (Casentinenses et Fractenses), т. е. сельские говоры близ
аасть I. Лингвистические взгляды Данте
69
Следующие пять глав (XI-XV) посвящены конкретному
описанию и оценке итальянских диалектов. Краткие и часто
язвительные характеристики отдельных диалектов оказываются при этом
очень емкими и точными. Данте обобщает собственные
наблюдения, в основном над фонетическими особенностями известных ему
диалектов, и часто дополняет или даже заменяет такую
характеристику примерами диалектной речи или же пародиями на нее —
фольклорными дразнилками или литературными пародиями,
имитирующими особенности произношения данной провинции. Эти
пародийные тексты в контексте анализа лингвистической
ситуации Италии противопоставлены другим поэтическим текстам,
которые Данте цитирует для характеристики диалектов, имеющих
свою поэтическую традицию.
Для целей настоящего раздела было бы избыточно
пересказывать конкретные наблюдения Данте над диалектами Италии110,
упомянем только два наиболее интересных примера,
демонстрирующих замечательную интуицию и тонкое внимание к
эмпирическому материалу. Первое такое наблюдение — это уже
цитировавшееся обособление сардинского языка: «...отбросим также
сардинцев как не италийцев (поп Latii), но которых, видимо,
приходится причислять к италийцам», поскольку у них нет своего
vulgare, а вместо этого они «подражают грамматике», т. е.
латыни. Здесь уловлено не только особое положение сардинского
языка (отнюдь не диалекта итальянского), но и его особый архаизм
(хотя сам Данте, как уже говорилось, не воспринимал это в
терминах «архаичности»), который в приводимых примерах («ведь
они говорят domus nova и dominus meus») выражается в
сохранении конечного -s и тем самым — облика латинских падежных
окончаний.
Второй пример — это вполне осознанное выделение
маргинальных зон и даже смешанных диалектов: «...ни у кого, мы полагаем,
нет сомнений относительно прочих окраинных городов Италии
(in extremis Ytalie civitatibus)... Города Тренто и Турин и Алек-
флоренции и недалеко от Перуджи, которые своим сильным акцентом (или «зву-
анием», а может быть, «неверными ударениями» — accentus enormitate) резко
обличаются от речи «горожан», точнее, «срединных городов» (mediastinis civibus
""" J-XI.6) — центров соответствующих провинций. Это противопоставление отме-
алось еще римскими авторами. Для того периода, когда литература на латинс-
°м языке создавалась только в Риме и не имела других центров, понятие urbanitas,
!Двинутое в качестве языковой нормы, подразумевало соответствие речи корен-
г° населения Рима в противопоставлении к rusticitas — особенностям сельских
воров Лациума, и к peregrinitas — диалектным особенностям других латинян
ГлугР°Нскии 1953, с. 184]; об истории понятия urbanitas в латинской культуре см.
17**Уга 1986].
Они подробно изложены в [Шишмарев 1972, с. 82-86].
70 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
сандрия расположены настолько близко к окраинам Италии (metis
Ytalie), что у них не может быть чистых наречий» (puras loquelas —
I.XV.7, перев. I.XV.7-8), если бы даже у них была
«прекраснейшая речь» (pulcherrimum), «то из-за смешения с чужими
наречиями (aliorum commixtionem) ее нельзя было бы признать
подлинно италийской» (vere Latium — I.XV.7). Любопытно, что в другом
месте Данте даже дает конкретный пример такого смешения,
утверждая, что «гортанность, свойственная ломбардцам ... осталась
у тамошних уроженцев от смешения с пришлыми лангобардами»
(I.XV.3). Выделение этих маргинальных зон сближает описание
Данте с «концентрической классификацией» итальянских
диалектов111 — первой их научной классификацией, предложенной Ас-
коли [Ascoli 1882-1885].
При оценке действительно поражающего новаторства
диалектологической части трактата Данте следует все же помнить, что
сам поэт отнюдь не ставил себе цели научной классификации или
даже описания, его цели были прямо противоположны
позднейшим научным установкам романистики и диалектологии. При всей
очевидности этого хотелось бы лишний раз подчеркнуть
адекватность метода описания тем эксплицитно сформулированным
целям, которые и заставили Данте обратиться к лингвистическим
проблемам. В отличие от «позитивной» установки диалектологов,
для которых диалект представляет самоценный интерес, Данте
описывает диалекты, чтобы их «отвергнуть». Его задача — не
описательная, а оценочная, и состоит она как раз в преодолении
диалектной дробности, в искоренении диалектов из области
народного красноречия, т. е. словесности на итальянском vulgare. Цель
трактата найти один язык, который представлял бы не сумму
диалектов и не компромисс, а органическое целое, внятное для всех
носителей итальянских диалектов, но, как показывает ход
рассуждений Данте, отнюдь не тождественное какому-нибудь из них.
Более того, этой цели подчинен и «метаязык» трактата и, в
частности, проходящая через все «диалектологические главы»
метафора поисков зверя (пантеры — ср. начальную сцену
«Божественной комедии») в лесу итальянских наречий (и вытекающая из нее
метафора «расчистки» тропы в этом лесу). Дело в том, что,
завершив эмпирический обзор диалектов, Данте констатирует, что
среди них, т. е. на эмпирическом уровне невозможно найти искомый
язык, и предлагает искать его «более рациональным путем»
(rationabilius, а не «более разумно», как сказано в русском
переводе — I.XVI.1), т.е., говоря современным языком, он признает,
111 Концентричность присуща и описанию Данте: он начинает с Рима (I.XI.2) и
заканчивает уже отмеченными маргинальными зонами (I.XV.7, перев.: I.XV.7-8).
аасть I- Лингвистические взгляды Данте
71
чТо искомый язык представляет собой не эмпирический факт, а
«инвариант», «конструкт»112. Можно предполагать, что для
Данте, воспитанного на традиции «типологии», метафорический план
изложения как бы замещает собой уровень конструктов,
абстракции или — формулируя то же самое применительно к
организации трактата — сквозная метафора, организующая эмпирическое
рассмотрение наличного материала диалектов, подготавливает
переход на следующий, более абстрактный, т. е. теоретический,
уровень в главах, идущих после этой эмпирической части113.
Однако этот более высокий уровень появится позже, в
«эмпирических» главах он только предвосхищается метафорой, а
эксплицитные критерии оценки здесь ограничиваются категориями
эстетики и этики, которые вводятся с самого начала. «Расчищая
лес» диалектов от «спутанных кустов и терновника» (I.XI.1), он
не случайно начинает с Рима, ссылаясь на причины внелингвис-
тические: «...раз римляне полагают, что их надо ставить впереди
всех, мы ... поставим их в этом искоренении на первое место»
(I.XI.2). Речь римлян вообще не vulgare, a tristiloquium (гнусноя-
зычие), самая безобразная из всех (ytalorum vulgarium omnium
esse turpissimum)114, и тут Данте вновь переходит к
«экстралингвистическим» соображениям, говоря, что «это неудивительно», ибо
уродством своих нравов и обычаев (morum habitumque deformita-
te)115«0HH явно отвратительнее всех остальных». Несомненно,
именно этическое неприятие римлян диктует особо
отрицательную оценку их языка, но подтверждается это языковым
примером — грубым (с точки зрения языкового этикета) обращением на
12 На эту важную особенность дантовской классификации обратил внимание
профессор социологии Гейдельбергского университета А. Рюстов, которого
поразило сходство метода с некоторыми современными типологическими теориями
гУманитарных наук, в частности с понятием «идеального типа» у Макса Вебера,
см. [Spitzer 1976]. О категории «идеального типа» у М. Вебера см., например,
иайденко 1990, с. 9].
Это тем более вероятно, что «охотничья метафора», видимо, отсылает к «Ни-
комаховой этике» Аристотеля (сочинению неоднократно упоминаемому и
обсуждаемому в дантовском «Пире»): «Нужно стараться "преследовать" каждое начало
п° тому пути, который отвечает его природе, и позаботиться о правильном
выдерни [начал]: ведь начала имеют огромное влияние на все последующее» [Арис-
°тель 1983, т.IV, с. 65]. Глагол «преследовать» восходит к «охотничьей метафо-
Ре» в «Теэтете» (187е) и в «Политике» (290) Платона. См. там же, с. 698. О функции
етаФ°ры в VE и «пантеры», в частности, см. [Liver 1992].
Слово turpis также имеет свой этический аспект — значение 'постыдный,
30Рный, гнусный', например, у Цицерона и Сенеки. Это значение в истории
р ЛОс°фии было подчеркнуто Гоббсом, понимавшим turpe как «зло в обещании».
м- [Арутюнова 1988, с. 64].
us n_ J
uo этом сочетании см. выше, с. 10 прим. 2.
72 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
«ты» к господину: «Messure, quinto dici?» (I.XI.2)116. Речь «акви-
лейцев и истрийцев, резким голосом изрыгающих Ces fas-tu?»
(I.XI.6, перев. I. XL 5), отвергается, как мы видим, совсем по
другой причине. Выговор жителей окраинных областей Италии
воспринимается (на слух итальянца) как неблагозвучный (ср. ит.:
che fai? — что [ты] делаешь?), не соответствующий привычному
фонетическому облику слова, в котором не бывает других
окончаний, кроме гласных (и сонантов).
Эстетические критерии, однако, не сводятся к оценке
благозвучия подобных примеров. Как и в случае с романскими
языками, Данте оценивает диалекты — когда есть такая возможность —
по поэтическим текстам; но если языки оцениваются по их
высшим поэтическим достижениям, которые «свидетельствуют в
пользу» своих языков, то для диалектов сравнение носит иной
характер»117. Не случайно Данте начинает иллюстрировать свои
оценки поэтическими примерами именно пародий и «дразнилок»,
подчеркнув, что «в насмешку над этими тремя племенами» (т. е.
римлянами, сполетанцами и жителями анконской марки)
придумано множество канцон. Он цитирует начало одной из них
«правильно и отлично сложенной» неким Кастрой, флорентийцем
(I.XI.3)118. После этого другая, анонимная, пародия служит
единственным аргументом для отбрасывания миланцев и бергамасцев
(I.XI.4). Сложнее обстоит дело с теми наречиями, на которых уже
существовала поэтическая традиция. Но и в этих случаях
поэтические тексты не служат «оправданию» своих наречий. Так,
строка из знаменитого «контраста» Чело д'Алькамо Tragemi d'este
focora, действительно написанного в духе сицилийской народной
песни, выступает, в сущности, не на правах поэтического
примера, а как образец диалектной речи, подтверждающий ее низкую
оценку: «...если нам принять сицилийскую народную речь, следуя
речи тамошних рядовых уроженцев, по которой, очевидно, и надо
о ней судить, она ни в коей мере не достойна чести предпочтения,
потому что течет довольно-таки вяло, как, например, тут», —
далее следует пример из Чело (I.XII.6). Точно так же, утверждая,
что тосканцы «в своем несносном безрассудстве явно притязают
116 О борьбе итальянских гуманистов за восстановление древнеримской формы
обращения на «ты» см. с. 180 прим. 75.
1.7 На анализе диалектных примеров (I.XI-XIV) и их источников специально
останавливается П. Менгальдо в работе «О новом комментарии к De vulgari
eloquential [Mengaldo 1978, p. 150-156].
1.8 Текст канцоны, комментарий и перевод см. [Camilli 1944]. Литературные
пародии на диалект, появившиеся в XIII в., свидетельствуют о том, что
диалектные расхождения в Италии сравнительно рано (во Франции такие пародии
появляются в конце XV в.) стали фактом самосознания [Челышева 1990, с. 57].
tfacrnb I. Лингвистические взгляды Данте
73
на честь блистательной народной речи» (titulum vulgaris illustris —
т ХШ-1) и «больше других безумствуют в этом опьянении» (I.XIII.2,
перев. I.XIIL1), причем не только простой народ, но и многие
«именитые мужи», он опровергает их притязания многочисленными
примерами местных оборотов речи сиенцев, пизанцев, аретинцев
и др. (в изд. Marigo они еще не были достаточным образом
прокомментированы). Особенно важно, что, перечислив тех
«именитых мужей», которые отстаивают первенство тосканской речи,
Данте утверждает, что при тщательном разборе «их стихи ...
окажутся не правильными (поп curialia), но написанными
исключительно на городском наречии» (municipalia — I.XIII.1).
На современный взгляд, в этой аргументации присутствует
порочный круг: чтоб доказать, что тосканское наречие плохо,
утверждается, что стихи тосканцев плохи, потому что они написаны на
тосканском наречии. Но Данте для всех трех поэтических школ
(сицилийской, тосканской и болонской) показывает, что высокая
поэзия непременно отрывается от местной речи, потому-то
лучшие образцы вовсе не доказывают совершенство своего наречия, а
как раз наоборот его опровергают. «Многие тамошние
[сицилийские] мастера пели возвышенно» (I.XII.2), но это не связано с
особенностями сицилийского наречия: в силу исторических условий
(положения двора Фридриха и Манфреда) «все обнародованное
нашими предшественниками на народной речи стало называться
сицилийским», творения же самих сицилийцев могут быть и
дурными (т. е. слишком связанными с диалектом), как показывает
пример Чело. Если же нам принять сицилийскую речь по тому,
как она «истекает из уст виднейших сицилийцев, как можно
судить по вышеприведенным канцонам, то она ничем не отличается
от наиболее похвальной» (I.XII.6), и «хотя уроженцы Апулии
говорят вообще непристойно, некоторые выдающиеся среди них люди
выражались изящно, применяя в своих канцонах благородно
отделанные слова» (I.XII.8). Из этого и делается основной вывод:
«ни сицилийская, ни апулийская народная речь (пес siculum пес
aPulum [vulgare]) не оказываются прекраснейшей в Италии, так
к&к мы показали, что тамошние мастера слова отступали от
собственной своей речи» (eloquentes indigenas ... a proprio divertisse —
!-XlI.9). Точно так же, «хотя все почти тосканцы коснеют в своем
ГнУсноязычии (turpiloquio) ... некоторые из них постигли высоту
НаРодной речи, (vulgaris excellentiam — I.XIII.4, перев. I.XIII.3) —
То Гвидо Кавальканти, Лапо Джанни и еще один» (т. е. Данте),
Флорентийцы, а также Чино да Пистойя. Вывод делается тот же:
*1так, если мы исследуем тосканские говоры и взвесим, в какой
епени высокочтимые люди отклонялись от своего собственного,
е останется сомнений, что искомая нами народная речь (vulgare
74 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
quod querimus) не та, какой держится тосканский народ» (populus
Tuscanorum — I.XIII.5, перев. I.XIII.4)119.
Особенно показательна для позиции Данте характеристика бо-
лонского наречия, которое он оценивает наиболее
благожелательно: «пожалуй, не очень заблуждаются считающие болонцев
говорящими красивейшей речью» (pulcriori locutione loquentes --
I.XV.2)120. Достоинства речи болонцев объясняются влиянием
соседних диалектов121, так что речь их «путем смешения
противоположностей (per commixtionem oppositorum) ... остается
уравновешенной до похвальной приятности» (ad laudabilem suavitatem ...
temperata — I.XV.3)122. Эти соображения, как нетрудно видеть,
являются не основанием оценки, а, скорее, объяснением того,
откуда берутся достоинства (отсутствующие у других наречий),
признаваемые на совершенно других основаниях, — положительные
119 Те, кто пытался найти в трактате Данте указание на диалектную основу
литературного языка, начиная с Возрождения критиковали его за отрицание
тосканской, а точнее, даже флорентийской основы итальянского. Так, Н.
Макьявелли в своем полемическом сочинении Discorso о dialogo intorno alia nostra lingua
(между 1512-1523) недоумевает, почему Данте старается доказать, что язык, на
котором он писал, не был флорентийским, и находит объяснение этому в личной
обиде изгнанника [Machiavelli 1976, 773а. 25-30].
120 Нужно отметить, что Данте, начиная с перечня в X гл., предпочитает
пользоваться не названиями наречий (ломбардское, болонское), а именами местностей и
— даже чаще — их обитателей. Поскольку одним из первых проявлений этой
тенденции является цитированный отзыв о римлянах и их языке, можно
полагать, что в этом словоупотреблении также отражается связь лингвистических и
этических критериев. Кроме того, как видно из только что цитировавшихся
определений, для языка отнюдь не безразлично, кто именно им пользуется даже из
числа его урожденных носителей. Впрочем, есть и обратная закономерность: «Среди
феррарцев, моденцев и реджийцев мы не находим ни одного стихотворца, ибо по
привычке к своей гортанности они никак не могут усвоить придворную (aulicum)
народную речь, не придавая ей некоторой жесткости» (I.XV.4).
121 Данте подробно объясняет, какие именно качества болонцы «перенимают»
из окружающих диалектов — мягкость (lenitas atque mollities) от имолийцев и
некоторую гортанность (garrulitas) у феррарцев и моденцев. Таким образом,
«смешение» (commixtio) не является абсолютно отрицательной чертой (напомним, что
это «смешение» только по-русски омонимично библейскому «смешению языков»
— confusio). Данте четко различает влияние (commixtio aliorum), испытываемое
маргинальными диалектами, и смешение противоположностей (commixtio
oppositorum) внутри италийского континуума (обе эти формулировки находятся
в одной и той же главе — I.XV.3; I.XV.9, перев. I.XV.8).
122 Идея «уравновешенности» путем «смешения противоположностей»
восходит к тому же кругу аристотелевских (и более древних) представлений о
середине, которые мы обсуждали выше в связи с ролью «центра» в истории языка-
Отметим также, что в религиозной философской литературе главная
христианская добродетель Любовь (противостоящая главному смертному греху — гордыне)
часто определяется как гармоническое единение противоположностей (coincidentia
oppositorum) [Вышеславцев 1922, с. 22].
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
75
0ценки Данте дает именно тем диалектам, которые обладают
сложившимися и признанными поэтическими школами. Однако
высокая оценка болонского наречия побуждает его в этом случае не
ограничиться уже неоднократно повторявшейся ссылкой на
практику лучших поэтов-болонцев123, но предварить такую ссылку
специальным пояснением: «если ставящие их (болонцев) выше по
народной речи (in vulgare sermone) имеют в виду при таком
сравнении только городские говоры Италии (sola municipalia Latinorum
vulgaria), мы охотно с ними соглашаемся; если же они считают
болонскую народную речь предпочтительной безусловно, мы с ними
расходимся и не согласны. Ведь она не та, что мы называем
придворной и блистательной (aulicum et illustre); потому что, если
она была бы таковой, ни великий Гвидо Гвиницелли, ни Гвидо
Гизильери, ни Фабруццо, ни Онесто, ни другие стихотворцы
Болоньи не отклонялись бы от собственного наречия (a proprio); a
они были блестящими мастерами...» (doctores illustres — I.XV.6).
Это пояснение очень важно: даже самое лучшее из имеющихся,
«эмпирически данных» наречий, чье преимущество перед
другими неоспоримо, все же не является тем искомым языком,
который на более абстрактном уровне будет определен в следующих
главах. Здесь, в конце обзора существующих диалектов,
показано, что этот язык вообще не может быть найден эмпирически, и
тем самым подготавливается формулировка метода, которой
открывается новая часть трактата. С другой стороны, сочетание
этого нового аргумента со ссылкой на поэтическую практику лучших
мастеров, ссылку, уже неоднократно встречавшуюся в оценке
диалектов, демонстрирует особое значение этой ссылки. Важно
подчеркнуть, что говоря о лучших поэтах, пишущих на vulgare,
Данте, по сути дела, пользуется их произведениями как реальными
примерами этого искомого языка: именно в их творчестве
существует в действительности, а не в абстракции vulgare illustre. Эти
примеры, таким образом, предвосхищают вывод, который в
следующих главах будет обоснован теоретически.
Реальная ситуация заставляет Данте отказать в этой роли
географическому центру Италии — Риму и Тоскане, но он находит
вЫход из этого в «типологическом» (в современном
лингвистическом смысле этого слова) понятии «середины», примиряющей
противоположности. Третий вариант — политический центр, т. е. сто-
ЛиЦа, престол, двор, — вводится Данте в связи с оценкой
СиЦилийской поэтической школы: во времена Фридриха II и Ман-
Суждение Данте о болонском диалекте рассматривается в сопоставлении с
алектологическими данными в ряде специальных работ. См. [Trauzzi 1921],
0laanich 1926], [Toja 1950], [Hellman 1967].
76
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
фреда «все, чего добивались выдающиеся италийские умы
(excellentes animi Latinorum), прежде всего появлялось при дворе
(aula) этих великих венценосцев; а так как царственным престо-
лом (regale solium) была Сицилия, то и получалось, что все
обнародованное нашими предшественниками на народной речи стало
называться сицилийским» (I.XII.4). Все эти формулировки на
частных, не достигающих «идеала» примерах подготавливают
последующие определения искомого языка.
К этому приводит весь обзор диалектов: показав, что искомый
язык (основные определения которого уже были исподволь
введены в этот обзор, начиная с первых строк главы XI) не может быть
найден среди существующих диалектов, Данте предлагает
подойти к этой задаче более рациональным путем. При этом
(подтверждая высказанное выше предположение о роли метафоры) первые
слова XVI главы содержат последнее упоминание метафоры
охоты и поисков зверя в лесу; именно здесь она получает
эксплицитное выражение, т. к. в I.XVI.1-2 впервые назван зверь — пантера
и охотничьи орудия (venabula)124. Здесь же эксплицировано и
превращение метафоры в философские построения за счет указания
на сам метод исследования: проследим ее более рациональным
путем, rationabilius investigemus (с сохранением метафорики — от
vestigium 'след') и за счет и чисто философского определения этой
«пантеры» — «которую мы чуем всюду (точнее, "которая пахнет
повсюду"), но которая нигде не показывается» (et пес ubi
apparentem — I.XVI.1)125. «Рациональное исследование» в
средневековой теории познания связано с определенным видением мира,
с христианской идеей узрения Бога через Его следы в
мироздании. В сочинении итальянского философа Бонавентуры из Баньо-
реджо (ок. 1217-1274), который был впоследствии причислен к
лику святых и к числу пяти величайших учителей церкви, «раци-
124 В переводе единство этой метафоры существенно ослаблено, т. е. из русского
текста непонятно, что в начале и в конце развития метафоры употреблен один и
тот же глагол venor Охотиться': venemur loquelam «поищем... речь» (I.XI.1) и
postquam venati... sumus... пес pantheram... adinvenimus «после охоты в лесных
нагорьях и пастбищах Италии и не отыскав пантеры» (I.XVI.1).
125 Комментаторы отмечают, что описание пантеры и исходящего от нее
благоуханного дыхания встречается у Аристотеля, Плиния, Исидора и тиражируется
средневековыми бестиариями и энциклопедиями. Возможно, не без влияния
ложной этимологии Плиния (panthera из nav Bffp 'весь зверь') [Spitzer 1976, р. 212]
ненасытная пантера (пожирающая всех зверей) превратилась в милое и
общительное животное, став даже одним из символов Христа в бестиариях. В
комментарии к французскому переводу VE как раз отмечено, что пантера «дружит» со
всеми животными (кроме дракона) [Pezard 1965, р. 585]. Добавим к этому, что в
одном из несомненных источников Данте — «Сокровище» Брунетто — о дыхании
пантеры говорится «si dous et si suef» (Tresor. I, 193).
цасть I. Лингвистические взгляды Данте
11
Ональное исследование» (rationabiliter investigans) означает
низшую ступень познания путем наблюдения внешнего мира. Этот
способ, — пишет он в своем «Путеводителе души к Богу»
ntinerarium mentis in Deum), — «представляет собой взгляд с
точки зрения рационального исследования, которое различает нечто,
наделенное лишь существованием; нечто, наделенное
существованием и жизнью; и нечто, наделенное существованием, жизнью и
разумом» [Бонавентура 1993, с. 60-61]. Высший способ познания,
согласно Бонавентуре, «представляет собой взгляд с точки зрения
созерцания, заключающийся в рассмотрении вещи в самой себе
(res in se ipsis considerans), и различает в ней вес, число и меру
(pondus, numerum et mensuram)» (там же, с. 60-61). В
соответствии с этой основополагающей доктриной познания дантовскую
формулировку rationabilius следует понимать как прямое
указание на переход к теоретическому осмыслению предмета, к
познанию языка как «вещи в себе».
Искомый язык VE определяется, таким образом, как высшая
сущность, которая присутствует во всех проявлениях этого языка
(в жизни) только в виде следов и ни в одном из существующих
наречий не может быть обнаружена в чистом виде126.
Рациональным, т. е. дедуктивным поискам сущности этого
языка посвящена остальная часть трактата и прежде всего XVI глава.
В качестве «охотничьих снарядов» Данте использует
аристотелевские категории и его учение о мере. «Во всяком роде вещей
должна быть единица (unum)», по которой сравнивались бы и
взвешивались (comparentur et ponderentur) все вещи, относящиеся к этому
РОДУ, единица, от которой мы для всего остального полагаем меру
126 Поэтому трудно согласиться с такой трактовкой: «Данте остается верен
своему принципу: целое составляют все части (диалекты); из каждой берется
лучшее, лучшего больше всего в придворном сицилийском и в стихах некоторых
поэтов Болоньи и Флоренции. Принцип этот в основе своей аристотелевский,
однако применение его к лингвистике является изобретением автора "О народном
красноречии"» [Голенищев-Кутузов 1968, с. 574]. У Данте искомый язык не
изрекается из эмпирической действительности, а конструируется как
теоретическая схема, задающая масштаб для соотношения с ней самой этой
действительности, что и дало основание некоторым исследователям увидеть здесь аналогию с
*иДеальным типом» Вебера (см. прим. 112). Другое дело, что, в отличие от
немецкого философа, у Данте его «конструкт» служит не только средством познания,
Но и целью создания, образом, к которому следует стремиться. В этой связи уме-
Стн° будет вспомнить замечание Гете: «Теория и опыт (феномены) противостоят
ДРУг другу в постоянном конфликте. Всякое соединение в рефлексии является
ллюзией, соединить их может только деятельность» [Гете 1964, с. 383], ср. так-
е: «Все эмпирики стремятся к идее и не могут открыть ее в многообразии/Фее
е°ретики ищут ее в многообразии и не могут найти ее в нем. Однако обе стороны
°Дятся в жизни, в деле, в искусстве. Об этом так много говорилось, но мало кто
Меет это использовать» (там же, с. 367).
78
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
(a quo... mensuram accipiamus — I.XVI.2). Так, среди чисел (in
numero) все измеряется по единице (uno) «и называется большим
или меньшим в зависимости от того, насколько отстоит (distant)
от единицы» или близко к ней. Еще более показателен второй
пример (хотя оба они встречаются у Аристотеля)127: среди цветов
(in coloribus) все цвета измеряются по белому и называются более
или менее видимыми (visibiles magis et minus) в зависимости от
того, приближаются они к белому или удаляются от него. При
внешней параллельности первому примеру здесь скрыта и мысль
о «мере» как инварианте, поскольку в «Комедии» Данте говорит о
радуге как разложении света, луча (Чист. XXV. 91-93). Кроме
того, важно само обращение к понятию цвета. Проблемы
«оптики», теории света, Данте подробно рассматривает в III книге
«Пира»128, и с положениями этой теории тесно связано само
определение vulgare illustre.
Сделав заключение, что все принадлежащее к роду (в том
числе субстанции и предикаты) измеряется тем, что является
простейшим (simplicissimum) в данном роде (in ipso genere — I.XVI.2),
Данте распространяет его на поступок, или действие (actio) в
человеческой сфере. Следующее предложение как бы повторяет
названный вывод, но с важной заменой. «Простейшая единица» здесь
заменяется «знаком» (signum). Этот переход к «семиотическому»
критерию, естественному в сфере человеческой деятельности,
совершенно утрачен в русском переводе129, поэтому приведем здесь
оригинал: «Quapropter in actionibus nostris, quantumcunque
dividantur in species, hoc signum inveniri oportet quo et ipse
mensurentur.» (В силу этого и в наших поступках [или видах
деятельности], на сколько бы видов они не делились, нужно
отыскивать тот знак, каковым и сами они измерялись бы) (I.XVI.3). Ни в
127 Arist.Met. X.II. 1053 в. Прямой ссылкой на X книгу «Первой философии»
сопровождается аналогичное рассуждение Данте в «Монархии» III.XII.1.
128 Ср. также: «Белизна — цвет, исполненный телесного света более, чем
всякий другой» (Пир. IV.XXII.17), т. е. упомянутое выше сравнение из «Комедии» —
разложение солнечного луча — можно понять и как разложение белого цвета.
Тогда примеры «in numero» и «in coloribus» оказываются неравноправными:
единица содержится во всех целых числах, а белый цвет, видимо, по мысли Данте,
содержится во всех цветах, но одновременно и содержит их в себе.
129 Этому не приходится удивляться, т. к. даже автор статьи, посвященной
анализу этого концепта [Pagliaro 1956], не уловил перехода от «единицы» к «знаку»
и отождествляет дантовскую «меру» языка — simplicissimum signum с
аристотелевским unum simplicissimum, в то время как «единицы» измерения у Данте
идут по возрастающей — от меры счета до меры всех вещей, которая названа
«простейшей из субстанций» — «simplicissima substantiarum, que Deus est»
(I.XVI.5).
qacnib /. Лингвистические взгляды Данте
79
коем случае нельзя понимать «signum» просто как «признак», то
#е самое относится и к «простейшим знакам (simplicissima signa)
нравов, и обычаев, и речи» (I.XVI.3). Signum — это, конечно,
«знак» — понятие, весьма разработанное в схоластике и
определяемое самим Данте в уже цитировавшейся начальной части
трактата (I.III.2-3): «Вот этот-то знак и есть тот благородный предмет
(subiectum nobile), о котором у нас и идет речь», т. е. о котором и
написан трактат. На это указывают не только соображения
контекста, но и методологическое замечание Данте: «мерой» чисел
служит число, мерой цветов — цвет, следовательно, и мерой
языков служит язык, а знак и есть язык (как следует из 1.111.3).
В поступках имеются три вида или уровня, с соответствующей
«мерой» оценки для каждого: «поскольку мы поступаем просто как
люди», мы имеем (в качестве меры, оценки) добродетель (virtutem
habemus), поскольку мы поступаем как граждане (homines cives), у
нас имеется закон (habemus legem), по которому определяют
хорошего и дурного гражданина, поскольку мы поступаем как
италийцы (homines latini), у нас имеются простейшие знаки (simplicissima
signa) и обычаев, и нравов, и речи (et morum et habitum et locutionis),
по которым измеряются и оцениваются (ponderantur et mensurantur)
поступки италийцев (latine actiones — I.XVI.3).
Проблема оценки речи вводится в общий этический, а с другой
стороны — семиотический контекст оценки видов человеческой
деятельности. И следующий аргумент соединяет политические
ценности, отстаиваемые Данте, с тем философским значением
благородства, которое мы видели в «Пире» и в определении «знака» в
VE I.III.2. А из них (т. е. из всех видов действий) наиболее
благородные — это поступки италийцев, которые не принадлежат
никакому отдельному городу Италии, но являются для всех общими
(I.XVI.4). И далее он прямо переходит к определению
«инварианта» италийской речи, соединяя сугубо дедуктивное построение
(подчеркнутое глаголом discerno «различать», однокоренным с
discretio, итал. discrezione «различение», которое в «Пире»
обозначает способность к умопостижению, в отличие от восприятия
эмпирического и чувственного) с последним отголоском уже
завершившейся охотничьей метафоры: «...вот тут и можно теперь
Различить (discerni) ту народную речь (vulgare), за какой мы
начали охотиться и которая ощутима (redolet) в любом городе и ни в
°Дном из них не залегает» (I.XVI.4)130. Важно подчеркнуть, что
Замечательно, что дальше Данте делает большую оговорку чисто философе-
0го характера, чтобы снять противоречие между абстрактным характером
расхождения и эмпирическим неравенством диалектов: она (т. е. народная речь) мо-
ет быть, однако, «ощутимее в одном больше, чем в другом, подобно
ипростейшей субстанции — Богу, ощутимой в человеке более, чем в животном,
80 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
все это приведенное рассуждение представляет собой не только
описание метода, которым «искомая речь» должна быть найдена,
но и прямое его «применение», т. е. посредством этого построения
речь уже найдена: «Итак, найдя то, что мы отыскивали, мы
утверждаем, что в Италии есть блистательная, осевая, придворная и
правильная народная речь (illustre, cardinale, aulicum et curiale),
составляющая собственность каждого и ни одного в отдельности
италийского города, по которой все городские речи италийцев
(municipalia vulgaria omnia Latinorum) измеряются, оцениваются
и равняются» (I.XVI.6).
Доказав «инвариантный» характер речи («собственность
каждого и ни одного в отдельности» города — что, как следует из
предыдущего рассуждения, дает ей право считаться
«благороднейшей» — nobilissimum), Данте в то же время считает
нужным еще раз доказать ее «италийский» характер, как бы заново
пройдя путь восхождения от эмпирических диалектов к
«конструкту». «И эта народная речь ... есть, мы утверждаем, та самая,
которая зовется народной италийской речью (vulgare latium). Ибо
подобно тому как найдется некая народная речь, присущая
Кремоне, так найдется и некая, присущая Ломбардии; и как
найдется речь, присущая Ломбардии, так и найдется и такая, которая
присуща всей левой Италии; и как найдутся все эти народные
речи, так найдется и та, какая принадлежит всей Италии в
целом. И подобно тому как одна зовется кремонской, другая —
ломбардской, а третья — речью половины Италии (semilatium), так и
эта, принадлежащая всей Италии, называется народной
италийской речью» (latium vulgare — I.XIX.1-2). Здесь, опираясь на
сделанные выше наблюдения, доказывающие дробность каждого
диалекта, Данте проделывает «обратный путь», показывая, что и
диалект есть в сущности инвариант, конструкт и, восходя
(логически, а не эмпирически!) к конструктам все более абстрактным,
мы приходим к общеиталийской речи. И здесь сразу же следует
уже знакомая нам ссылка на практику поэтов, но опять-таки с
обратным знаком — не для доказательства несовершенства
отдельных диалектов, а для обоснования общности языка поэтов из
разных мест Италии: «Ведь ею [народной речью] пользуются в
Италии блистательные мастера (doctores illustres) поэтических
творений на народном языке (qui lingua vulgari poetati sunt) —
сицилийцы, апулийцы, тосканцы, романьольцы, ломбардцы и
мужи обеих Марок» (I.XIX.1, перев. I.XIX.2).
в животном более, чем в растении» и т. д., «и простейшее количество — единица
более ощутима в числе нечетном, чем в четном; и простейший цвет — белый
более ощутим в светло-желтом, чем в зеленом» (I.XVI.5).
иасть I- Лингвистические взгляды Данте
81
3. ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДАНТЕ:
ЧЕТЫРЕ АТРИБУТА ИСКОМОГО ЯЗЫКА
Итак, Данте сформулировал свое понимание
общеитальянского языка, и этот vulgare latium он определяет четырьмя
эпитетами: illustre, cardinale, aulicum, curiale (I.XIX.l). Предложить
однозначные переводы для каждого из них чрезвычайно трудно, в
то же время в истории интерпретации трактата этим эпитетам
уделялось на удивление мало внимания; они трактуются более
или менее произвольно131, часто с некоторым осовремениванием,
в духе позднейшего понимания «литературного языка»
(например, aulicum как «богатый, роскошный», curiale как «деловой,
официальный» — Marigo, p. LXXIX), или же просто дается
пересказ пояснений самого Данте, занимающих XVH-XVIH главы. Вот
пример такого сокращенного пересказа: «Атрибутами этого
народного языка являются: illustre, потому что освещает и сам
освещен, cardinale, поскольку является основой, стержнем для всех
остальных, aulicum и curiale, поскольку достоин престола и
курии» [Baldelli 1965, р. 706].
Подобные толкования, видящие здесь лишь случайный набор
эпитетов, объединенных только общим значением положительной
оценки, противоречат самой системе дантовской аргументации.
Данте, как мы пытались показать, открывает новую реальность и
новую' лингвистическую категорию — родной, природный язык, —
место которой до него никто не пытался определить с подобающей
полнотой и строгостью (см. [Apel 1975]). Именно для этого он
пользуется достижениями средневековой науки о языке, выбирая
из нее только то главное и существенное, что «работает» на его
теорию. За внешним педантизмом и скрупулезной — more scolasti-
со — аргументацией всякий раз проступает продуманная
логическая схема, четкий отбор тезисов, необходимых и достаточных для
Доказательства того или иного положения132. Даже такую аморф-
В работах Н. И. Голенищева-Кутузова варьируется даже сам набор
определений: vulgare, illustre, cardinale, aulicum, altissimum [Голенищев-Кутузов 1967,
c- 82]. Или: «Он искал "volgare illustre" достославное народное наречие, которое
0н назвал также "egregium, perfectum, urbanum" (блистательным, совершенным,
столичным)» [Голенищев-Кутузов 1971, с. 156-157]. Вряд ли нужно пояснять,
Т°>ЭТИ эпитеты взяты совершенно из других контекстов.
Не совсем понятно, какой текст имел в виду Р. А. Будагов, характеризуя
втора VE как одного из «основоположников своеобразного многотемного научно-
изложения, столь характерного не только для античности, но и для средних
ков, для эпохи Возрождения». Круг тем, сквозь которые «с некоторым трудом»
* ° мнению Будагова. — Л. С.) пробивают себе дорогу «филологические
суждения» Данте, составляют мысли Данте «о призвании писателя, политической борьбе
освобождение Италии, об итальянских городах, о хорошем и дурном вкусе, о
82 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ную тему, как сравнительное достоинство языков (которая, как
известно, порождает огромное количество литературы в периоды
«защиты и прославления» национальных языков, ср. ниже с. 224
ел.), Данте удается свести (в «Пире») к трем пунктам, которые в
конечном счете соотносятся с триадой высших ценностей — исти-
ной, добром и красотой. Тема дивергенции языков включает три
параметра — время, пространство и социум, и, наконец, всё
многообразие языков сводится к дихотомии — к наличию двух
принципиально различных лингвистических систем, которые в свою
очередь представляют фундаментальную антиномию динамики и
статики по отношению к фактору времени (vulgare vs grammatica).
Иногда (но далеко не во всех случаях) Данте раскрывает свои
«основания» точной ссылкой на источник. Так, например, три
главных темы высокой поэзии устанавливаются в соответствии с
учением Аристотеля о трех составах человеческой души
(растительной, животной и разумной) (П.II.6-8): «поскольку человек
одушевлен трояко (tripliciter spirituatus) ... он и идет тройным
путем» (triplex iter perambulat). Каждый из этих путей
предполагает свою конечную цель: с растениями человека объединяет то,
что он ищет «полезное» (utile), с животными — стремление к
«приятному» (delectabile), а поскольку он существо разумное (rationale),
он ищет «правильного» (honestum), «в чем он одинок или же
объединяется с естеством ангельским» (angelice sociatur [naturae] —
II.II.6). Из этих трех главных устремлений души и выводятся три
главных предмета поэзии: salus (здоровье, самосохранение), venus
(чувственная любовь) и virtus (добродетель) и, соответственно,
поэтические темы: воинская доблесть (arma), любовь (amor) и
третья, которую трудно свести к одному термину, ибо она
определяется как directio voluntatis (управление волей) и rectitudo
(прямизна, прямодушие, правильность) и, по всей вероятности,
подразумевает поэзию морально-дидактическую.
С другой стороны, мы имели также случаи убедиться, что
семантика ключевых терминов рассматриваемых трактатов носит
скорее поэтический характер (см. [Степанова 1990; 1990а; 1991;
1991а], [Stepanova 1993; 1996]), т. е. в ней актуализуются
многочисленные контекстные связи слов, их повторения в разных
текстах Данте или в разных частях одного текста, наконец, их
история в предшествующей традиции, то, что в поэтике иногда
называют «памятью» слова.
философии, об инстинктах животных и о многом другом» [Будагов 1984, с. 166]-
За исключением этого пассажа, в котором мимоходом осуждаются «чисто
текстологические разыскания ... обычно не содержащие попытки связать то или иное
"прочтение Данте" с его же общей филологической доктриной» (там же, с. 167),
статья опубликована в почти неизмененном виде, ср. [Будагов 1960; 1967].
алеть I- Лингвистические взгляды Данте 83
3.1. Список четырех свойств «искомого языка» вводится как
0 «дедуктивное определение» и предваряется параллелями (в
гл. XVI) из области этики: язык рассматривается как действие и
лаже поступок — actio и потому мерой этого действия служит
добродетель (virtus). Это последнее слово употребляется в
широком смысле в значении 'свойство', 'качество' (в котором только
имплицитно, на уровне правил сочетания, сохраняется признак
положительного свойства), но в рамках этических доктрин оно
носило вполне терминологический характер, и учение о
добродетелях было весьма разработано в античной, а затем христианской
философии (так античная этика различала добродетели
интеллектуальные и моральные, а христианская добавила к основным —
кардинальным моральным добродетелям еще три теологических).
Этот этический контекст и шире — весь концептуальный
контекст, соотносящий лингвистическую проблематику с этической133,
и композиция (рассмотрение сначала пороков местных наречий, а
затем достоинств искомого языка), и, наконец, лексическая
перекличка (с термином cardinale) — все убеждает в том, что дан-
товский перечень из четырех эпитетов не просто основан на
сакральном числе «4»134 и символической значимости четырехзначных
композиций135, но непосредственно смоделирован по образцу
конкретной тетрады — virtutes cardinales136, четырех кардинальных
добродетелей.
133 В конце концов, вся языковая ситуация и в Италии и в Европе,
описываемая в VE, является результатом второго грехопадения человечества —
Вавилонского столпотворения.
134 О нем см. [Сыркин, Топоров 1968], [Топоров 1980].
К числу таких тетрад относится и знаменитое учение о четырех смыслах,
восходящее у Данте (Пир.II.I, Письмо к Кан Граде делла Скала, рус. перевод в
[Голенищев-Кутузов 1968, с. 384-394]) к библейской экзегетике (см. [Chydenius
1958]); ср. также аристотелевское учение о четырех причинах, постоянно
упоминаемое Данте (см. особенно: Пир. IV.XX.10, где «благородство» рассматривается
Как семя добродетелей и определяется через материальную, формальную, дей-
СТвенную и целевую причины).
Четыре кардинальные добродетели — prudenza (мудрость), temperanza
(умеренность), fortezza (мужество) и giustizia (справедливость) — перечислены в этом
ПоРядке в «Пире» (Пир IV.XXII.il), Данте также дважды ссылается на «Книгу о
етЬ1рех главных добродетелях» (Пир. ШЛИ. 12, Монархия. II.V.3 — см. об этом
иЖе с. 89 прим.151). Нужно заметить, что список четырех кардинальных добро-
4 телей, столь значимый для античной и средневековой культуры, в русской тра-
Ции совершенно не привился и известен только специалистам, и то не всегда.
ак' в Русском переводе упомянутого места в «Пире» (Пир. IV.XXII. 11) этот
печень добродетелей опознать невозможно, для гладкости существительные были
Dv Ра?ены в эпитеты и перестали отличаться от других определений, так что
ский читатель видит только список из пяти (!) прилагательных: «наше добро-
ельное действие, то есть действие пристойное, осмотрительное, умеренное, твер-
и справедливое», тогда как в действительности четыре существительных («с
84 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
В античной философии (вслед за Платоном, выделившим четьь
ре кардинальных добродетели, по отношению к которым прочие
выступают как производные) и позже — в христианской тради-
ции — добродетели рассматривались как силы души, действую,
щие сообща и стремящиеся к совершенствованию человека. Тема
добродетелей занимает важное место и в средневековой мысли и в
искусстве. Так в каролингскую эпоху Алкуин и другие авторы
восхваляют эти могущественные духовные силы и молят Бога о
наделении ими (т. е. добродетелями) своих сюзеренов. Соответствен-
но, в изобразительном искусстве этого периода портреты
выдающихся персонажей, и особенно правителей, окружаются
аллегориями четырех добродетелей (в виде женских фигур) обычно в
медальонах, клеймах137. В дидактической поэзии Дудженто
кардинальные добродетели сами превращаются в правителей, точнее
правительниц, они живут во дворцах и управляют страной, ее
обычаями и нравами. Брунетто Латини, именно так изобразивший
Добродетель в «Малом сокровище» [Tesoretto, v.1237 sq.] —
наверху иерархической пирамиды, над подлинными
неаллегорическими правителями, вельможами и учеными, затрудняется
сказать, видит ли он одну правительницу (una imperadrice) или
четырех ее дочерей (quattro regine figlie), ибо они являются то в
одном лице, то в четырех. В другой аллегорической поэме того же
времени, в «Битве пороков с добродетелями» (La giostra delle virtu
e del vizi [Contini 1979, p. 156-183]), добродетели защищают
стены небесного Иерусалима — «квадратные» во всех измерениях
[Contini 1979, р. 157] (ср. и другие случаи положительного
значения признака «квадратный»: итал. testa quadrata букв,
'квадратная голова', т. е. «большой ум», uomo quadrato 'квадратный
человек', т. е. «безупречный человек» (параллели есть и в других
языках)138.
Тема добродетелей была очень распространена и в литературе
(в том числе проповеднической, патристической и т. п., см.
специальную работу об этом Quadriga virtutum [Mahl 1969]), и в
мудростью» или «осмотрительностью», «с умеренностью» и т. д. ) раскрывают и
обосновывают смысл слов «добродетельное, т. е. честное [или пристойное]
действие». На это переводчику должен был бы указать контекст, поскольку IV глава
«Пира» целиком посвящена этическому учению Аристотеля.
137 Об аллегориях пороков и добродетелей см. [Katzenellenbogen 1939]. Далее
примеры из области изобразительного искусства мы заимствуем из этой работы»
138 Ср. новейший русский перевод Аристотеля: «он будет сообразовываться с
добродетелью ... как человек истинно добродетельный и безупречно квадратный»
(Никомахова этика, 1100. 20, пер. Н. В. Брагинской — [Аристотель 1983], т.IV,
с. 71 и прим., с. 700, прим. 64 — здесь цитируются стихи Симонида, приводимые
Платоном, т. е. речь идет о факте общеязыковом).
цпсгпь I- Лингвистические взгляды Данте 85
изобразительном и прикладном искусстве средних веков139.
Число добродетелей менялось, но все-таки заметно, что исходной
схемой остается традиционная четверка, которая вступает в разные
соотношения с другими знаменитыми тетрадами: четырьмя
стихиями, четырьмя главными пророками, четырьмя евангелистами
и их символами, четырьмя странами света и соответственно
четырьмя ветрами, четырьмя реками рая, временами года и т. п.
Они то соседствуют друг с другом в более сложных композициях
(например, на книжных переплетах часто перемежались
медальоны с четырьмя добродетелями и четырьмя евангелистами), то
соотносятся символически, обозначая, перекодируя друг друга. Ка-
ценелленбоген в цитируемой работе отмечает, что традиционная
для античной мозаики композиция четырех времен года в
медальонах была почти что специально предназначена для изображения
как четырех пророков, стихий и т. д., так и четырех
добродетелей, чему способствовала склонность писателей-теологов
соотносить времена года, четырех евангелистов, кардинальные
добродетели и другие тетрады. Аллегории добродетелей изображались не
только в миниатюрах и буквицах, но и на переносных алтарях140,
купелях141, кадилах142, основаниях крестов143 — в этих случаях,
как и во многих других, подчеркивается именно четырехэлемент-
ная композиция.
Однако четыре эпитета языка у Данте соотносятся с
кардинальными добродетелями не просто как еще одна «четверка», которая
неизбежно соотносится с одной из классических тетрад или со
всеми ими; дело не исчерпывается и тем контекстом этической
терминологии, на которую мы уже указывали выше. Связь здесь
гораздо глубже. Как покажет анализ каждого из определений,
которые Данте дает своим эпитетам, он действительно понимает их
как добродетели в точном, аристотелевском смысле этого терми-
Любопытны и взаимосвязи между ними: проповедник XII в. Теофрид Эхтер-
нахский доказывал, что необходимо изображать добродетели на гробницах
святых, ибо без внешних знаков эти останки не могли бы вызвать стремление к
Д(%одетели в черствых сердцах [Migne. PL, 157, 406].
Источником этого было отождествление четырех рогов ветхозаветного жерт-
*енника, как он описан в Исх 38: 2, с четырьмя добродетелями (например, у
ЪеДы Достопочтенного — [Migne. PL, 91, 450]).
Каценелленбоген рассматривает орнамент Гильдесгеймской купели с рядом
е^РаД (4 реки рая, 4 пророка, 4 евангелиста, 4 добродетели).
Теофил Пресвитер в наставлении гравировщикам велит изображать на кади-
ах аллегории добродетелей. Каценелленбоген сопоставляет это с трактовкой Го-
ория Августодунского [Migne. PL, 172, 548], согласно которой кадило потому
rrJJHT Ha четырех цепях, что Христос во плоти был исполнен кардинальными
Добродетелями.
ть Даже композиции, соотносящие четыре добродетели с концами распя-
я (вслед символическому соотнесению добродетелей с ними у Бернара Клерво-
0го), все эти примеры: [Katzenellenbogen 1939, р. 46-52].
86 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
на, т. е. как середину между двумя крайностями. Соответственно
каждый из четырех эпитетов и выступает как такая «середина», в
которой снимается одна из оппозиций, присущих языку или
языковой ситуации (естественно, для каждого эпитета — своя), т. е.
эпитеты представляют собой действительно добродетели языка, в
самом точном аристотелевском смысле слова. Данте понимает тер.
мин не «комплиментарно», а «операционально», т. е. как способ
правильного определения искомого языка. Именно через
пристальный анализ этих четырех эпитетов и их толкований мы и сможем
понять, какие черты видел Данте в своем «искомом» языке. Именно
недостаточное внимание к концептуальной стороне определения
искомого языка вело и ко многим недоразумениям в
определениях его денотата, к попыткам выяснить не «какой смысл
вкладывал Данте» в vulgare illustre, а «какой именно язык» он под этим
подразумевал.
Исторически вполне понятно, что именно этот последний
вопрос занимал исследователей, но и в этом случае трудно не
удивляться некоторым толкованиям, в которых не остается уже
никаких критериев, кроме персональных симпатий или чистого
произвола исследователя. Например, в статье, которая так и
называется «Что понимал Данте под языком illustre, cardinale, aulico,
curiale», автор уверен, что речь идет о тосканском языке, ибо
«наследники изысканного вкуса и греческой и латинской мудрости
(т. е. тосканцы. — Л.С.) сумели передать в своем родном наречии
безмятежную ясность нашего неба и благоуханную красоту
наших цветов» [Lambruschini 1865, p. 668]144.
Едва ли требует специальных пояснений, что три из
названных терминов: illustre, aulicum, curiale — объединяются не
только «общеположительным» значением, но и признаком
иерархической или социальной отмеченности. Данте в толковании слова
illustre ссылается на именование славных, знаменитых мужей
(viros illustres — I.XVII.2), подразумевая, видимо, и то значение,
которое калькировано в рус. сиятельный (ср. нем. перевод,
сохраняющий это значение: erlauchte). Однако эта ссылка выступает
только как аналогия, но не как толкование термина145. Автоком-
144 Примечательно, что в этом же юбилейном томе помещена статья,
обосновывающая (уже в 1865 г.!) метод толкования Данте при помощи самого Данте [Giuliani
1865].
145 По наблюдению Б. Террачини, ссылка на известное, общепринятое значение
слова (случай довольно редкий в обычной речи, в простом акте коммуникации)
является характерной особенностью научных дефиниций. Он показывает этот
механизм на примере галилеевского определения «теплоты» (calore) через
хорошо знакомые всем понятия «теплого», «горячего» и т. п. [Terracini 1963, р. 102~
103]. О технике Галилея, который избегал сложных новообразований и умел
«перечеканить» оригинальное понятие из наличного запаса языка в специальный
термин, см. [Ольшки 1933 — 1934, II, с. 50].
ь I. Лингвистические взгляды Данте
87
ментарий Данте (цитируемый несколько ниже) прежде всего
подчеркивает внутреннюю форму слова, ее связь с корнем lux,
пониже «свет» относится к сфере смысла146, истины и соотносится в
конечном счете с их первоисточником — Богом, ибо, как сказано
в псалме (Пс 118: 27), «Бог — Господь, и осиял нас» (Deus dominus
et inluxit nobis — Ps 117: 27).
Нужно отметить, что весьма неудачным представляется
принятый русский перевод эпитета illustre «блистательный», так как
это слово в русском языке уже «занято» другим смыслом и точно
соответствует риторическому термину splendidus. О
терминологической разнице соответствующих итальянских слов Данте
специально говорит в «Пире», ссылаясь на философов (в частности, на
Авиценну, писавшего о различных проявлениях света во
вселенной), у которых словом luce принято обозначать свет (lume) в
отношении его источника (nel suo fontale principio), а словом splendo-
re — отраженный, преломленный свет (ripercosso — Пир.III.XIV.5).
Физическая теория света весьма занимала средневековую мысль,
и Данте в «Пире» неоднократно обращается к этой теме, отмечая
различную восприимчивость предметов к свету, истекающему на
землю единым потоком, и разные способы распространения и
передачи света147. Восприимчивость предметов к свету обусловлена
их сущностью (essere), модусом их свойств (lo modo de la sua virtu),
их предрасположением (disposizione). Каждый вид предметов
характеризуется общей для него степенью восприимчивости (gradi
generali), но внутри одного вида можно выделить уже различные
индивидуальные степени (gradi singulari) этого восприятия (Пир.
III.VII.2 и III.XIV.3). Перенося эти критерии в лингвистическую
сферу, можно предположить, что определение illustre относится
не ко всякой речи, передающей мысль (в этом вообще состоит
назначение человеческой речи, дар языка), но к той единственной,
которая отличается наибольшей «светочувствительностью»,
предрасположенностью к насыщению светосмыслом (ср. «Каждая вещь
Добродетельна (virtuosa) по своей природе, когда она делает то,
для чего она предназначена; и чем лучше она это делает, тем
более она достойна» (ё piu virtuosa — Пир. I.V.11).
Концепты света и смысла определяют главное значение первой — в ряду
КаРДИнальных добродетелей — prudenza, ср. у Брунетто: «Qui demora Prodenza,/
cui la gente in volgare / suole Senno chiamare» [Tesoretto. v.1272-4] (Здесь живет
лагоразумие, которое народ на простом языке обычно называет Смыслом), он
е в «Книге сокровищ», ссылаясь на Цицерона, дает следующее определение:
eie [pruderuja] vait par devant les autres vertus est porte la lumiere et moustre as
tres la voie» [Tresor. II.57.1] (она [благоразумие, мудрость] идет впереди других
родетелей, несет свет и указывает им путь). Ср. в «Пире»: «Добродетели, без
их человек не может существовать, как солнце без света и огонь без тепла»
"ftP-IV.XXIX.1).
О метафорике света в «Комедии» см. [Андрушко 1989].
88 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
То, что представления о природе света могут быть перенесены
на язык, следует не только из внутренней формы определения
illustre. В знаменитой формуле «Пира» язык непосредственно со-
поставляется со светом и солнцем: «Questo sara luce nuova, sole
nuovo lo quale surgera la dove l'usato tramontera (Пир. I.XIII. 12).
«Он (народный язык. — Л. С.) будет новым светом, новым
солнцем, которое взойдет там, где зайдет привычное» (или
«отслужившее», т. е. латынь. — Л. С)ш. При этом в «Пире» есть
специальное рассуждение о солнце, показательное не только своим
контекстом, но и аналогией с определением языка. Если в
объяснении природы человеческого языка Данте опирается на августи-
новскую концепцию знака (signum) (см. выше с. 40-41),
понимаемого как нераздельное единство чувственно воспринимаемого и
разумно познаваемого (sensuale et rationale — I.III.2), то в «Пире»
среди «предметов», освещающих сначала себя, а потом все
остальное, Данте называет солнце телесное и чувственно
воспринимаемое (corporate et sensibile) и солнце духовное и умопостигаемое
(spirituale et intelligibile). Последнее «и есть Бог»: как солнце
ощущаемым светом (sensibile luce) освещает (allumina) сначала себя,
а затем все тела небесные (corpora celestiali) и состоящие из
элементов (le elementali), так и Бог умственным светом (luce
intellettuale) освещает сначала Себя, а затем небесные и прочие
умопостигаемые создания (Пир. III.XII.7)149.
148 О значимом троекратном повторе слова luce (это два сущ. «свет» и один
глагол «светит» — luce) в заключительной фразе первой книги «Пира* см. в
специальной работе о текстологии трактата [Simonelli 1970, р. 88]; автор
отвергает те редакции, где одно из существительных заменено словом lume.
149 Отношение подобия между физическим светом (солнцем) и
интеллектуальным светом (Богом) входят в сложный круг вопросов, обсуждаемых в
средневековой науке в связи с теорией познания. Не имея возможности подробно
останавливаться на этой теме, отметим только, что в рамках этой теории речь идет не о
метафорическом словоупотреблении, а о прямом значении слов. Предельно
упрощая проблему, можно сказать, что аналогия сводится к следующему: у человека
есть зрение, орган восприятия (пассивный) внешнего мира, но без содействия
внешней силы (активной, излучающей свет) мы не видим окружающих
предметов, точно так же и в сфере познания: орган познания (пассивный интеллект) не
в состоянии постигать вещи (их внутренние, невидимые глазом свойства), если
нет внешнего источника, излучающего интеллектуальный свет; причем
интеллектуальный свет (активный интеллект) не только делает возможным
постижение вещей, но и совершенствует инструмент человеческого познания —
пассивный или возможный интеллект, приводя его в действие и тем самым уподобляя
себе [Guillet 1927]. Эти термины входят в тезаурус философского языка,
осваиваются народным языком (см. «Еврейско-итальянский философский словарь XIII в.»
[Sermoneta 1969]), в том числе и поэтическим (см. комментарий к канцоне Гвидо
Кавальканти Donna me prega [Corti 1983, p. 3-37], особ. с. 20-21 в связи с
такими понятиями учения о цвете, как medium illuminatum — то, что позволяет
различать цвета, и medium obscurum — то, что скрывает цветовые различия). Об
«образе света» в философском языке (в частности, в «Философии имени» А. Ф.
Лосева) см. [Степанов 1985, с. 60 ел.].
ь I. Лингвистические взгляды Данте
89
Важно подчеркнуть не только сходство, но и существенное
отличие: свойства «телесности» и «умопостигаемости» у солнца
несовместимы (одно присуще реальному солнцу, другое — Богу,
духовному Солнцу), язык же обладает обоими свойствами
одновременно. То же самое мы видим и на примере другого
противопоставления. Источник света и освещенный предмет, «агенс» и «па-
циенс», в природе существуют раздельно: «надо иметь в виду, что
нисхождение свойства одной вещи в другую есть не что иное, как
превращение (ridurre) второй в подобие первой, что мы с
очевидностью наблюдаем у природных агентов (agenti naturali),
которые, сообщая свои свойства другим вещам (discendendo la loro virtu
nelle pazienti cose), превращают последние, в меру их
восприимчивости, в свое подобие. Вот почему мы видим, как солнце,
посылая лучи на землю, превращает вещи в свое светоносное подобие
(a sua similitudine di lume) в той мере, в какой они, в силу
собственного предрасположения (disposizione), способны воспринять
его свет» (Пир. III.XIV.2-3). Точно так же и в духовной сфере
«агенс» и «пациенс» существуют раздельно. В объяснении к 26
псалму Dominus illuminatio mea (Ps 26) — «Господь свет мой и
спасение мое» (Пс 27) Августин говорит: «Dominus illuminans, nos
illuminati, et ille salvans, nos salvati»150. Между тем
прилагательное illustre Данте поясняет с помощью двух причастий того же
значения и, в конечном счете, того же корня (illuminans
«сияющий, просвещающий» и illuminatum «осиянный, просвещенный»:
«Per hoc quoque quod illustre dicimus, intelligimus quod illuminans
et illuminatum prefulgens»), и далее на этом отношении актива и
пассива строит все аналогии: «так именуем мы блистательных
мужей (viros apellamus illustres) либо потому, что они, блистая
мощью (potestate illuminati), придают блеск другим (alios
illuminant — или «просвещают других». — Л. С.)
справедливостью и милосердием, либо потому, что они, будучи превосходно
наставлены, превосходно наставляют (excellenter magistrate
excellenter magistrant), как, например, Сенека и Нума Помпилий151.
150 г-, „ _
*1осподь освещающий, а мы освещенные, и Он спасающий, а мы
спасенные» [Migne. PL, 36-37, 200]. Ср. также обычное в богословском языке
обозначена ^ога_Творца как Natura naturans, а его творения — natura naturata [Schiaffini
уэ9, p. 75]. Ср. у Данте: «Итак в упорстве сердца своего возомнил нераскаянный
еловек (incurabilis homo) по наущению великана Немврода превзойти не только
Рироду (natura), но и самого Зиждителя-Бога (ipsum naturantem, qui Deus est —
1,\П.4).
Выбор этих персонажей показателен. Сенеку в средние века считали авто-
ом «Книги о четырех добродетелях». Это сочинение (De quattuor virtutibus)
^анте упоминает в «Монархии», II.V.4 и в «Пире», III.VIH.12 (Libro de le quattro
ctr" €ardinali). На самом деле, как это теперь установлено, автором руковод-
а Formula uitae honestae: de quattuor virtutibus был Мартин, apxt
сиепископ
90 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
А народная речь (vulgare), о которой мы говорим, и возвышена
наставлением и мощью (sublimatum et magistratum et potestate) ц
возвышает (sublimat) своих приверженцев честью и славой»
(I.XVII.2). Следует подчеркнуть игру на варьировании форм и зна-
чений очень ограниченного числа основ: illustr-, illumin-, magistr-,
причем вторая основа связывает по смыслу первую и третью: «све-
тить» и «просвещать».
Таким образом, язык выступает одновременно как субъект и
объект (свойство, присущее абсолюту)152. Он направлен не только
вовне, но и сам на себя, как в цитированном выше рассуждении
(Пир. III.XII.7), где солнце (и Бог) освещает «сначала себя», а
затем прочие тела153. В этой связи особенно важно подчеркнуть,
что Дантова теория языка-солнца фактически преодолевает
традиционный дуализм физического и духовного, материального и
идеального, вводя — на правах третьего источника света,
равновеликого Солнцу и Богу, — язык, соприродный только человеку154.
С отношением света и его восприятия связан еще один важный
аспект — мотив зрения (ср. рус. свет очей — «видение, зрение ...
способность различать глазами, видеть», В. И. Даль; ambo le luci —
оба глаза Рай. XIII.91). У схоластов различаются внешнее и
внутреннее зрение (что соответствует дантовскому
противопоставлению «ощущаемого» и «умственного» света). Глаз, как следует из
определений Альберта Великого и Фомы Аквинского, является
Брагский (Martinus Episcopus Bracurensis). 0 влиянии этического учения Сенеки
на Данте см. [Marzot 1965]. Нума Помпилий, легендарный царь Рима, как
сообщает Ливии (на которого Данте ссылается в «Монархии» II.IV.5), «славился
справедливостью и благочестием» и решил «город, основанный силой оружия,
основать заново на праве, законах, обычаях» [Ливии 1989, с. 26]. Таким образом,
Сенека и Нума — это два образцовых примера, один из жизни созерцательной, а
другой из жизни деятельной.
152 Ср. замечание В. Н. Топорова об этих свойствах языка в связи с
определением герменевтического акта, где язык выступает и как инструмент, «так как,
обращаясь на себя самого с целью "самопознания", язык по необходимости
становится орудием, средством этой "самоидентификации". Но и, сверх всего этого, в
герменевтическом акте язык выступает и как субъект этого действия, потому
что не столько герменевт "ведет" язык, трактуя его то как объект, то как
инструмент, сколько сам ведом им» (разрядка автора) [Топоров 1992, с. 14].
153 Ср. поразительно близкую формулировку П. А. Флоренского: «Слово с
усиленною властью действует на душевную жизнь, сперва того, кто это слово
высказывает, а затем возбужденною в говорящем от соприкосновения со словом и в
слове — от прикосновения к душе энергией — и на тот объект, куда
произносимое слово направлено» (цит. по: [Бонецкая 1986, с. 122]. Сходство это, конечно,
обусловлено принадлежностью к одной и той же традиции: «Благодаря своей
установке на абсолютное, философия Флоренского вливается в многовековую
традицию платонизма» (там же, с. 118).
154 Об «изолированности» метафоры языка-солнца в европейской традиции см»
ниже с. 278 и сн. 215.
иастпъ I- Лингвистические взгляды Данте 91
гаНом чувственного восприятия, внешнего зрения (visus exterior)
й воспринимает внешние различия вещей (differentiae rerum), внут-
оеннее око — орган интеллекта — постигает внутреннее
различив, которое в противоположность differentia обозначается
термином discretio155. Соответствующий итальянский термин discrezione
Данте трактует в «Пире»: «Подобно тому как ощущающая часть
души (la parte sensitiva) обладает собственным зрением, при
помощи которого она воспринимает различия между предметами (1а
differenza delle cose) в зависимости от их внешней окраски (di
fuori colorate), так и разумная ее часть (la parte razionale)
обладает собственным взором, который воспринимает различия
(differenza) между предметами в зависимости от их предназначения для
той или иной цели, а это и есть различающая способность» (1а
discrezione — Пир. I.XI.3). Людей, лишенных этого внутреннего
света (lume de la discrezione), поэт называет слепцами (ciechi),
относя к их числу прежде всего тех, кто хулит «наш народный язык»
(nostro volgare — Пир. I.XI.4-5), не понимая его высокого
предназначения. Это рассуждение, во-первых, показывает связь discretio
с понятием цели или, как мы вправе понять это, применительно к
проблематике VE — с функциями языка, во-вторых, оно может
служить автокомментарием к началу трактата, где Данте
объясняет causa finalis своего труда: он пытается «помочь речи простых
людей» (locutioni vulgarium gentium) и для этого хоть как-то
просветить (lucidare) различающее зрение (discretionem) тех, кто,
«точно слепцы (caeci), бродят по улицам, постоянно принимая то, что
спереди, за то, что сзади» (I.I.1)156.
Однако тема внутреннего зрения (различающей способности)
имеет еще одну сторону, весьма существенную для понимания
vulgare illustre. «Различающего зрения (букв, "света", luce discre-
tiva) чаще всего (massimamente) бывают лишены простолюдины
(populari persone), потому что, будучи с малых лет заняты каким-
нибудь одним ремеслом (mestiere), они в силу необходимости
настолько вкладывают душу в ремесло, что ничем другим не зани-
Соответствующие тексты схоластов приводятся в комментариях к этому ме-
СтУ «Пира», а также к IV.VIII.1, где Данте прямо ссылается на комментарии
в- Фомы к «Этике» Аристотеля. Об этом понятии (la teoria della discretio) см. [Di
i5P6Ua 1945' P- 52-80].
В латинской церковной традиции глагол illuminare может применяться к
^слепьщ». Для рассматриваемых здесь терминов весьма показательно, что стих
Росвети очи мои» в Вульгате звучит: inlumina [=illumina] oculos meos, а в ста-
м латинском переводе, в Итале (Itala) (см. [Lampe 1969, р. 25]), передается:
(taflStra ocul°s meos (Ps 12:4). Если в начальном абзаце VE стоит lucidare, то в
нале первой книги в том же смысле употреблено illuminare: «Осветив это, мы
v ^ТаРаемся осветить и низшие народные речи» (Quibus illuminatis, inferiora
UIearia illuminare curabimus — I.XIX.3).
92 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
маются» (Пир. I.XI.6). Это пояснение возвращает нас к «иерархи,
ческим» определениям языка. Как показывают конкретные при.
меры, разбираемые Данте, vulgare illustre не является речью про.
стонародья, однако образцы ее нужно искать не у аристократии, а
у поэтов, тех самых «приверженцев» (у Данте просто suos) народ,
ной речи (vulgare), которых она возвышает честью и славой
(I.XVII.2) (причины, по которым Данте отвергает местные наре.
чия — речь «тамошних» рядовых уроженцев — terrigenies
mediocres — рассматривались выше, см. 2.5). Два основных
термина, разбиравшихся выше, применимы только к поэтам: «а они
были блестящими мастерами (doctores illustres) и отлично
разбирались в народной речи» (vulgarium discretione repleti — I.XV.6).
Итак, совершенно ясно, что vulgare illustre, как бы ни
определять прочие ее качества, — это прежде всего речь поэтическая.
Это ее свойство объясняет те критерии «искомого языка»,
которые были определены выше: речь, особо предрасположенная к
воплощению смысла, речь, оцениваемая с точки зрения ее функции —
«цели», наконец, речь, направленная сама на себя157. Очень
важно иметь в виду, что Данте мыслит мир природного языка как
универсум с собственным источником света и энергии. Этим его
концепция vulgare illustre принципиально отличается от
технических задач «иллюстрации»158 языка, поставленных Дю Белле и
Плеядой, которые формулировались как подражание античным
образцам. Это главное свойство, характеризующее поэтическую
речь, передается в трактате через разнообразную и разветвленную
метафорику света и поддерживается прямым значением слова
illustris, отмеченным в поэтической традиции. У Овидия это
эпитет бога солнца Феба159. В этой связи особое значение приобретает
одна из перекличек VE с «Божественной комедией». Говоря о
поисках этого языка среди итальянских диалектов, Данте
постоянно возвращается к метафоре «леса» (silva) и охоты на зверя —
пантеру, которую нужно отыскать в лесу (I.XI.l; I.XV.l; I.XIV.1;
157 Это свойство поэтической речи стало одним из определяющих в
концепциях, возникших в XX в. (ОПОЯЗ, теория Р. О. Якобсона и др.).
158 Ср.: «Без подражания грекам и римлянам мы не можем придать нашему
языку совершенства и света (excellence et lumiere) других более знаменитых
языков» [Du Belley 1967, p. 231]. В русской традиции термином «иллюстрация
языка» (как заимствованным из французского) пользовался В. Ф. Шишмарев
применительно к становлению ранней итальянской поэзии додантовского периода.
159 Слово появляется в следующем контексте: Феб в разговоре со свои сыном
Фаэтоном, чтобы не опалить его, «отложил лучи, что сияли / Вокруг головы У
него, велел пододвинуться ближе» — ... at genitor circum caput omne micantes /
deposuit radios propiusque accedere iussit; и дальше: «качнул головой
лучезарной» — concutiens illustre caput (Ovid. Met. II.40-41,50).
£/пь /• Лингвистические взгляды Данте 93
т XVI-1)' Мотив леса и пантеры, конечно, отсылает к началу
«Комедии»» но сама метафора находит еще более точную параллель в
последней части поэмы: «Io veggio ben che giammai non si sazia /
Mostro intelletto se il Ver non lo illustra / Di fuor dal qual nessun
vero si spazia./ Posasi in esso come fera in lustra» (Я отчетливо
вижу» чт0 наш интеллект никак не может утолить себя, пока его
не просветит та Истина, вне которой уже не бродит никакая
другая. И он укладывается в ней, как зверь в своем логове — Рай. IV.
124-127). В этих стихах глагол (в 3-м л. ед. ч.) illustra
«просвещает» оказывается в рифме с in lustra «в логове, в норе», причем эта
рифма носит каламбурный и, в сущности, даже этимологический
характер (illustris из inlustris)160.
3.2. Термин cardinale занимает особое положение по
отношению к четырем добродетелям прежде всего из-за своей
«срединной», «осевой» семантики (cardo 'ось'). В отличие от других
эпитетов он фигурирует только в списке свойств языка и в
метафорической дефиниции самого термина, и более в трактате ни он,
ни однокоренные ему слова не употребляются. Таким образом, его
определение является самодостаточным и самоценным, оно, как
мы увидим, более других ориентировано на перекличку с
языковыми главами «Пира», где как раз устойчивость языка
приравнивается к его благородству (Пир. I.IV.7). «Благородство» остается
единственным из «преимуществ» латыни перед volgare, которое
не получает опровержения в самом тексте «Пира», и именно за
этим опровержением Данте отсылает к VE, т.е., видимо, как раз к
определению термина cardinale (ср. также эпитет nobilissimum в
упомянутой XVI главе, I.XVI.4). Наконец, родственное
итальянское слово cardini 'дверные петли' также единственный раз
появляется в «Божественной комедии» в описании врат чистилища,
гДе фигурирует «антоним» главных добродетелей — семь
смертных грехов (Чистилище.IX. 133).
Дефиниция или, точнее говоря, мотивация термина cardo
выглядит так: «Nam sicut totum hostium cardinem sequitur ut, quo
cardo vertitur, versetur et ipsum, seu introrsum, seu extrorsum
Uectatur, sic et universus municipalium grex vulgarium vertitur et
revertitur, movetur et pausat secundum quod istud, quod quidem
160 n
<-p. итал. lustro «свет» (Чист. XXIX. 16). Другие примеры этимологизации
альянского слова путем разложения его на морфологические компоненты
(итальянские или латинские) см. специально [Terracini 1963, р. 30, 98, 101, 120],
ДИн из этих примеров — Пир. I.II.16: «но бесчестие (infamia) это полностью
Раздняется настоящим моим разговором о самом себе», где infamia осмысляет-
л Как отрицание in- и корень fama «молва, разговор», т. е. «бесславие» — ка-
мбУрно этимологизируется как «бессловие», умолчание о человеке.
94 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
vere paterfamilias esse videtur. Nonne cotidie extirpat sentoso$
frutices de ytalia silva? Nonne cotidie vel plantas inserit vel plantar^
plantat? Quid aliud agricole sui satagunt nisi ut amoveant et
admoveant, ut dictum est?» (I.XVIII. 1) (Ибо, подобно тому как дверь
всецело зависит от оси и, следуя повороту оси, отворяется или
внутрь, или наружу, так и все скопище городских говоров повора-
чивается туда и сюда, следуя в движении и остановке той,
которая поистине является главой семьи. Разве не искореняет она день
за днем тернистых зарослей из италийского леса? Разве не
прививает она день за днем черенков и не пересаживает саженцев? Чем
другим занимаются ее ревностные земледельцы, как не
упомянутой выполкой и пересадкой?).
Комментаторы обычно161 выводят из этого идею движения,
развития диалектов в их связи с литературным языком,
упорядочивающую, регулирующую роль последнего по отношению к
диалектам («культивация» леса, «выпалывание и подсаживание») и
главенство «искомого языка», его «власть» над диалектами. Эти
выводы, не лишенные, конечно, значительной доли
модернизации (т. е. влияния современных знаний об отношениях диалектов
и литературных языков), в общем верны, но здесь упускается ряд
важных нюансов и акцентов.
Прежде всего бросается в глаза особое построение всей
дефиниции и ее отличие от остальных. Если первое предложение, как
справедливо отмечалось, не только тематически, но и структурно
восходит к этимологической статье о cardo в словаре Исидора Се-
вильского162, то весь пассаж очевидным образом ориентирован на
синтаксис евангельской притчи или скорее ее толкования (Nam
sicut ... sic et ... Nonne ...? Nonne ...? Quid aliud ... nisi ut, ut dictum
est?)163. Оба эти источника, в разной, конечно, степени,
необходимо учитывать для понимания текста.
161 Итоги традиционного комментария удачно обобщены в (Marigo p. LXXVIII;
com. ad loc), [Dragonetti 1961, p. 49-50].
162 «Cardo est locus in quo ostium vertitur et semper movetur dictus ало tffq кар-
8ia<;, quod quasi cor hominem totum, ita ille cuneus ianuam regat ac moveat, unde et
proverbiale est: "in cardine rem esse"» (Isid. Etym. XV.VII.7). {Cardo — пята, ось
дверной петли — есть устройство, на котором дверь вращается и постоянно
движется; названа так от ♦сердце», потому что как сердце управляет всем
человеком, так и эта ось направляет и обеспечивает движение двери. Отсюда и
поговорка: «Дело в пяте».)
163 Слова ut dictum est (которые обычно толкуют как 'вышеупомянутое', 'выше*
сказанное', т. е. как отсылку к перечисленным ранее видам земледельческих р£"
бот, ср. рус. перевод) указывают на сознательный цитатный характер этого сив**1
таксического построения, т. е. содержат отсылку к другому тексту. СР*
интерпретацию аналогичной формулы «как написано»: «Мы полагаем, что фор*
мула come ё scritto свидетельствует о желании Данте возвысить цитату, будь он*
прямой или косвенной» [Corti 1982, р. 71. п. 47].
гпь I. Лингвистические взгляды Данте 95
Данте несомненно доверял этимологии Исидора, возводившего
ardo 'ось, петля' к греч. кар5(а 'сердце',164 и это тесно связано с
ггой «серединной», «центральной» семантикой «оси» (сердце —
редина), которая актуализируется в разбираемой дефиниции и
вовлекает в этот «высокий» (decus) эпитет весь круг его
космологических ассоциаций, мифологическую символику центра165 и т. п.
Однако ассоциация с «сердцем» имеет и более конкретный смысл,
вводя скрытую перекличку с дефиницией предыдущего эпитета
_- illustre, ибо vulgare illustre — это та речь, которая может
«обращать сердца» (corda versare — (I.XVII.4), и последняя формула
непосредственно (для Данте — этимологически) соотносится с
основной функцией «оси» — cardo vertitur166. Этимологическая игра
этим не исчерпывается: если «дверная петля» квазиэтимологиче-
ски связана с «сердцем», то сама «дверь» (ostium167 уже
несомненно связана с os «рот», ср. и метафорику «уст» как «дверей»,
«врат», в частности, в Писании и повсеместную этимологическую
связь «уст», «устья», «дверей» и т. п.), и эта параллель отражает
постоянную связь «сердца» и «уст» (т. е. устами «говорит» сердце).
164 Как ни парадоксально, но не исключено, что в очень отдаленной
перспективе это сопоставление не столь уж фантастично. Cardo, конечно, не восходит к
греч. кар5(а, но некоторые этимологи (Шантрен, Покорный) связывают его с кра5г|
'кончик ветки' (откуда 'колышек' 'ось') 'ветвь смоковницы', видимо,
родственным глаголу крабао), крабсиуа) 'сотрясать, трясти' (т. е. либо 'ветвь, которой
размахивают', либо 'дрожащее, трепещущее дерево'). Именно к этому глаголу
неоднократно возводилось индоевропейское название 'сердца', в том числе и греч.
K*ap5ia, и лат. сог. Обзор см. [Szemerenyi 1970, р. 515-533]. Сам Семереньи
отвергает это сближение, но предлагает семантически довольно близкое решение
(*(s)ker(d) — 'прыгать, скакать').
Еще один мифологический аспект, видимо, релевантный для Данте, — это
особая мифологизация дверей в римской традиции (из безусловно известных
Данте примеров ср. хотя бы у Вергилия: Aen. II.490, ср. рядом (493) слово cardo).
Помимо роли Януса, важно отметить особую богиню дверных петель Карду, по
Другим версиям Карну. Согласно Овидию (Fast. VI. 106), Янус даровал ей власть
НаД дверными петлями, она же считалась хранительницей внутренностей
человека» что несомненно обусловлено тем же квазиэтимологическим отождествлением
1п«ердцем* и «сердцевиной» (о взаимосвязи «сердца» и «потрохов» см. [Szemerenyi
^70 р. 519).
Упускаем здесь прочие переклички с другими членами ряда, как, например,
есомненную метонимическую связь дверной оси с двором и залом (aula — см. об
ом ниже) и, может быть, почти каламбурное соотнесение омонимичного суще-
вительного cardinalis 'кардинал' (оно, в отличие от прилагательного, трижды
является в «Комедии») с реальной римской курией. Ср. показательную в этом
°Шении ошибку в испанском переводе «Истории лингвистики» Ж. Мунэна,
1а71ермин «кардинальный» переведен как «кардинальский» (cardenalicio) [Mounin
Т.,3*Р- 121].
щес ринятое в VE написание hostium создает хотя бы и невольную, но, по су-
*Хл кУ' -Два ли слУчаинУю паронимию с гостией, приобретающую смысл на фоне
ебн°й» метафоры «Пира».
96 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
Надо заметить, что «дверь» обычно подробно комментируется
как реалия (в связи с анализом cardo, а в средневековой литерату.
ре в связи с кардинальными добродетелями), но в отличие от друж
гих ключевых слов нашей дефиниции не комментируется как ело.
во. В этом первом аспекте справедливо отмечают, что речь идет не
о легкой двери на петлях, а о двери, открывающейся в обе сторо.
ны (seu introrsum seu extrorsum), т. е. вращающейся на «осях».
Основываясь на этой реалии, А. Мариго придает, на наш взгляд
слишком большое значение единственному числу слова cardo, свя-
зывая его с темой одного языка на фоне многих диалектов (темой,
конечно, важной для трактата).
В осознанном выборе числа трудно сомневаться (в указанном
выше стихе «Чистилища» Данте употребляет соответствующее
слово во мн. числе), но обусловлен он той текстовой традицией, по
которой Данте и учил латынь, и прежде всего ветхозаветным
источником: Sicut ostium vertitur in cardine suo (Prov 26:14, в церк.-
слав. переводе: «Якоже дверь обращается на пяте своей»)168,
сходство здесь тем более убедительно, что и в Библии и в VE
соответствующая синтагма выступает синтаксически — как
начальная, а логически — как «правая», вторая часть сравнения.
Однако полностью значение 'двери' проявляется лишь в
контексте всего сравнения: его вторая (а логически — «левая») часть
представляет собой, в свою очередь, метафору: с отношением
двери и оси сравниваются отношения между «стадом говоров»
(municipalium grex vulgarium) и «главой семьи» (pater familias).
Последнее слово Мариго трактует как термин юридический, как
метафору власти vulgare illustre над диалектами. Однако мотив
стада, следующего за хозяином, не может не ассоциироваться с
евангельской притчей о пастыре: «И овцы слушаются голоса его,
и он зовет своих овец (proprias oves) по имени и выводит их. И
когда выведет своих овец, идет перед ними (ante eas); а овцы за
ним идут (ilium sequuntur), потому что знают голос его. За чужим
же не идут (alienum non sequuntur), но бегут от него, потому, что
не знают чужого голоса» (Ин 10: 3-5)169. Актуальность этого
подтекста для VE очевидна, т. к. «примененная» к анализируемому
сравнению притча вносит в него мотив «своего» пастыря,
«знакомого» стаду, — именно об этом говорил Данте в «Пире» (Пир-
I.VI.6-11), утверждая, что в отличие от итальянского языка
(«искомого языка» VE) латынь «не понимает» народных наречий (tutti
li volgari). Но значение притчи этим не исчерпывается. Весь ее
108 Примечательно, что в «младших» переводах здесь, как правило, стоит мн.чис*
ло: итал. sui cardini, рус. на крючьях своих и т. д.
169 Ср. ниже: «Я есмь пастырь добрый», а не «наемник, не пастырь, которое
овцы не свои (поп propriae)» (Ин 10:11-12), ср. у Данте тему «хозяина».
ь I. Лингвистические взгляды Данте
97
контекст объединяет обе части анализируемого сравнения, ее
начало (непосредственно перед цитированным текстом) вводит тему
двери: «Кто не дверью входит во двор овчий (qui non intrat per
ostium)... тот вор и разбойник. А входящий дверью (qui ... intrat
per ostium) есть пастырь овцам. Ему придверник (ostiarius)
отворяет...» (Ин 10: 1-3). Толкование же притчи отождествляет
пастыря и дверь: «Я дверь овцам (ego sum ostium ovium)... Я есмь
дверь: кто войдет Мною, тот спасется ... (per me si quis introierit —
Ин 10:7-9)»170. При этом отождествляются «противоположные»
члены дантовского сравнения: «ведущий» из второй его части и
«ведомый» (дверь) из первой171.
Эта тема «Кто войдет мною, тот спасется» проясняет еще один
аспект отношения «искомого языка» со всем множеством
итальянских диалектов, он оказывается не только их «осью»,
средоточием, но и дверью для стада этих наречий — той дверью, которой
они могут войти в новое состояние, которое, как ясно из всего
предыдущего, мы понимаем как поэтический язык. Если такое
понимание допустимо, оно может разрешить кажущееся
противоречие, на которое обычно ссылаются как на пример резкого
расхождения между лингвистической теорией Данте и его языковой
практикой, а именно то обстоятельство, что в трактате (I.XIII.2)
Данте осуждает флорентийские формы manichiamo (= итал.
mangiamo 'мы едим') и introque (= итал. intanto 'между тем', 'тем
временем'), но использует их же в «Комедии» (соответственно
Ад. XXIII. 60; Ад. XX. 130, см. [РарагеШ 1975, р. 45, п.37])172.
Весь контекст анализа ключевых терминов должен был показать,
1,0 Важно подчеркнуть дословное совпадение в итальянском тексте «Комедии»
в надписи на вратах Ада: Per me si va ne la citta dolente (Inferno. III. 1), букв,
мною', 'через меня' входят в скорбный град (у Лозинского: «Я увожу к
отверженным селеньям»).
Ассоциация «двери» с «языком» существовала в традиции, хотя и для
другого, синонимичного названия двери — лат. ianua. Так называлась популярная в
средние века грамматика, по первому слову стиха, которым открывался
учебник: «Ianua sum rudibus primam cupientibus artem» (Я есть дверь для
несведущих, алчущих первого руководства). Много позже сочетание Ianua linguarum
(♦дверь языков») становится нередким названием многоязычных учебников,
распространенных в XVII в. Видимо, первый такой учебник был издан в 1615 г.
Уильямом Батом (см. обзор: [Emery 1947, р. 38-39]), а самый знаменитый —
**• А. Коменским, его название обычно цитируется сокращенно: Ianua linguarum
cserata («Отверстая дверь языков», как переводит словарь Брокгауза; полное
азвание начинается: LA. Comenii Ianua Aurea quinque linguarum reserata...), no
ему названа и известная лингвистическая серия издательства Mouton. Заметим,
то другой учебник Коменского назывался Vestibulum («Преддверье»). Еще неко-
орые примеры со словом ianua см. ниже.
ы Этот автор особенно настойчиво приписывает Данте мысль о
грамматически упорядоченности искомого языка, но в терминологии трактата grammatica
к Раз решительно противопоставляется vulgare illustre.
■» Ча:
к. 3101
98
Часть I. Лингвистические взгляды Дангпе
что слово, вошедшее в «Комедию», в поэтический текст, уже не
тождественно этому слову в каждодневном диалектном бытова-
нии. Именно эта трансформирующая роль поэтического языка
(«двери» к «спасению») по отношению к бытовой речи уловлена в
определении Мандельштама: «Творенье Данта есть прежде всего
выход на мировую арену современной ему итальянской речи ^
как целого, как системы» [Мандельштам 1987, с. 112] (ср. и
цитировавшиеся выше его слова о «Комедии» и языке)173.
Отмеченное чуть выше отождествление «ведущего» и
«ведомого» (по существу — снятие оппозиции по уже знакомому нам
образцу) находит некоторое соответствие в весьма заметном
формальном свойстве анализируемой дефиниции — нагнетании слов
(главным образом глаголов), противопоставленных по тем или иным
признакам, и грамматическим, и семантическим (прежде всего по
признаку направления движения или действия): так, после
нейтрального sequitur следует пара vertitur и versetur (медио-пассив)
и наречия introrsum и extrorsum. Важно отметить, что и эти
наречные формы этимологически содержат тот же корень vert-,
таким образом, вторая часть сравнения, подхватывая этот корень:
vertitur et revertitur, дополняет его новой парой: movet et pausat
(за ними следует secundum, перекликающееся, как уже
говорилось, с начальным sequitur) и предвосхищает основу
заключительной пары глаголов amoveant et admoveant (другое «кольцо»
образуется на уровне «метатекстового» обрамления: decusamus в первом
предложении абзаца и decusari в последнем). Эта последняя пара
глаголов как бы «снимает» те конкретные глагольные значения,
относящиеся к сельскохозяйственному труду, которые
противопоставлены в двух предыдущих предложениях extirpat vs (plantas)
inserit, (plantaria) plantat. Какое бы конкретное
сельскохозяйственное (или иное) значение мы ни приписали заключительной паре
глаголов amoveant et admoveant174, несомненным остается лишь
то, что эти значения можно было бы выразить более точным,
специальным термином, следовательно, мы имеем основания
полагать, что смысл этого построения именно в обобщении, в переходе
на другой уровень абстракции, от конкретных сельскохозяйствен-
173 О соотношении превращений (метаморфоз) и преображения (transfiguratio)
в «Комедии», особенно в связи с темой Овидия, см. [Schnapp 1988]. Ср. четкое
различие у Овидия «истинных превращений», т. е. собственно метаморфоз (свер-
шивщихся в силу тяготения всех вещей к равновесию, «норме»), и «ложны*
превращений» (временных, по собственной воле и т. д.). См. [Щеглов 1962, с
165-166].
174 Напомним, что гл. movere 'подвигать' является одним из традиционных
терминов риторики как техники убеждения. Барбери Скуаротти интерпретирУеТ
amovere ( отодвигать) и admovere (придвигать) как описание личных усилий Да11'
те в создании поэтического языка [Barberi Squarotti 1959, p. 285].
иастпъ /. Лингвистические взгляды Данте
99
1Х операций к чистому движению «от себя и к себе» и тем са-
м — в возврате к способу описания, принятому в исходном
сравнении (т. е. в первом предложении). Этот переход к
«обобщенному движению» собственно и позволяет ввести в семантику
эпитета cardinale все то, что связано с «культивированием» леса
говоров, — эти глаголы мотивированы лишь формальным
признаком противоположных действий (хотя их «содержательное»
наполнение непосредственно связано с другими частями трактата).
В то же время переход от «многообразной» деятельности к
«единому» движению, может быть, соотносится и с евангельским
подтекстом: третий глагол последнего предложения satagunt может
быть понят как «заняты» или как «хлопочут, заботятся». Это
последнее значение представлено в Вульгате, и наиболее
характерный контекст здесь — эпизод с Марфой и Марией, который весь
построен на противопоставлении «одного» и «многого»,
разнообразных действий и «единого ... на потребу» (Лк 10: 40-42). Это
обилие противопоставленных движений согласуется и с
отмеченной ролью корня vert-, который, кроме названных примеров, скрыт
еще и в слове uni-uersum, как бы каламбурно обыгрывающем
«вращение (вокруг) одного». Однако весьма вероятно, что в
повторении корня vert- скрыта и другая отсылка — к существительному
versus 'стих', ибо «искомый язык» есть язык поэтический, и из
тех трех случаев, когда Данте говорит об уже имеющихся
опытах поэтического языка в их отношении к местным говорам, он
дважды (I.XIII.5; I.XV.6) определяет эти отношения глаголом
divertere: поэтический язык «отклоняется» от местного (букв,
«отвращается»).
Такая роль темы «движения» и, в частности, «вращения» и
указывает на основную функцию метафоры «оси» и
соответственно эпитета cardinale: ось не препятствует движению двери,
одновременно сохраняя ее устойчивость, по существу «неподвижность».
В метафоре (и даже символе) «оси» и в мотивированном им
признаке «искомого языка» и происходит медиация
противоположных свойств языка: движения (изменчивости) и неподвижности
(стабильности)175. В контексте VE и «Пира» изменчивость
присуща только диалектной речи (volgare), а стабильность (полная
неизменность) только латыни (grammatica), и «искомый язык» дол-
175 п
но существу, эта же тема присутствует и в указанном выше ветхозаветном
Сточнике сравнения с дверной осью. «Яко же дверь обращается на пяте, тако
с НИвьгй на ложе своем» (Притчи 26:14), т. е. речь идет о движении, которое по
УЩеству является неподвижностью. Этот пример хорошо иллюстрирует меха-
ам некоторых библейских аллюзий Данте: здесь никак не следует искать точ-
параллели к ситуации, цитаты выступают не как «ключ», а как отсылка к
атически релевантному пассажу, как и в случае с евангельской Марфой.
100 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
жен, в противоположность диалектам, обрести эту стабильность176.
Однако вся логика анализируемой метафоры, на наш взгляд,
ведет к тому неизбежному выводу, что здесь и «текучесть»
диалектов, и «неподвижность» grammatica выступают именно как
крайности, которые должны быть преодолены в «искомом языке»,
обретающем стабильность в самом движении, т. е. выступающем
как подлинный «медиатор» и как «добродетель» — «середина»
между двумя крайностями.
3.3. Свойства языка, определяемые терминами aulicum и curiale,
часто рассматриваются вместе и из-за близости их значений
(aulicum от aula — 'двор', 'дворец', curiale от curia 'курия', 'суд',
'двор')177, и из-за связи с «социолингвистическим» аспектом
общеитальянской речи. Их дефиниции действительно отличаются
от предыдущих, более общих формулировок приуроченностью к
конкретной итальянской ситуации. Именно поэтому им больше
«повезло» в традиции — на них чаще обращают внимание.
Так, например, Г. Винэ, посвятивший целый ряд работ
лингвистической проблематике трактата [Vinay 1956; 1959; 1960; 1962],
не рассматривает термины illustre («чисто риторический», на его
взгляд) и cardinale (мало что добавляющий к лингвистической
концепции, кроме регулирующей роли литературного языка), но
специально останавливается на более значимых, с его точки
зрения, терминах — aulicum и curiale. Подход Винэ прямо
противоположен нашему; он предостерегает исследователей от
«искушения» придать дантовской теории законченный вид, ибо считает,
что трактат VE остался незавершенным именно потому, что сама
теория vulgare illustre зашла в тупик; он также полагает, что в
анализе нужно следовать хронологии и не привлекать более
поздние тексты, в частности «Комедию», для объяснения трактата.
Винэ рассматривает описываемую в трактатах ситуацию в
терминах становления национального итальянского языка, который
формировался естественным путем, а не книжным (снизу, а не
сверху) по мере преодоления узкорегионального сознания во всем —
176 «Стабильность» как главное значение термина cardinale отмечал [Di Capua
1945, p. 49].
177 Комментируя их итальянские соответствия — aulico, curiale, — П. Райна
[Rajna 1901] отмечает, что и значение 'царского дома' (все средневековые
глоссарии повторяют определение Исидора «aula domus est regia») и 'лиц, окружающих
правителя' (curia) выражаются по-итальянски одним словом — corte, и в XVI в-
распространенным обозначением 'придворного' языка становится термин lingua
cortigiana (см. [Stepanova 1996, p. 211-212], о полемике по поводу «придворного
языка» см. с. 268-270 наст, книги). Ср. тавтологический нем. перевод: «bei Но*
gesprochene und hoflische Sprache» [Arens 1955, S.40].
ь I. Лингвистические взгляды Данте
101
одежде, в образе мысли (mentalita), в говоре (dialetto) [Vinay
1962, Р- 37-38], и этот процесс касался всех слоев итальянского
общества, а не только литературной «элиты». «Поэты Италии не
создавали итальянского языка, а использовали его, и это им
удавалось не потому, что они были поэтами, но исключительно за
счет того, что они отказались быть тосканцами, романьольцами
или ломбардцами. Они ничего не сублимировали, но покинув, по
крайней мере в духовном смысле, тесные стены своих коммун,
переправившись через реки или горные перевалы своих
областных границ, они стали и мыслить и рассуждать как итальянцы, и
потому естественно и непроизвольно они говорили и писали по-
итальянски, как это и случилось — или, по крайней мере, так
считает он сам, — с флорентийцем Данте еще до того, как он был
изгнан из своей дорогой овчарни» [Vinay 1959, р. 265-266].
К положительным сторонам дантовской доктрины Винэ
относит идею культурного единства Италии (понятие «курии» как
духовного сообщества)178 и роль двора (aula) в процессе языковой
унификации. В трактовке этой последней темы автор
отталкивается от заключительной фразы дантовского комментария к aulicum:
«И потому-то пребывающие во всех королевских дворцах (in regiis
omnibus) всегда пользуются блистательной народной речью»
(semper vulgari illustri loquntur — I.XVIII.3). Винэ подчеркивает,
таким образом, аспект практического использования
общеитальянского языка в его устной, разговорной форме и видит в этом
проявление противоречивости теории Данте: понятие
«придворного языка» не укладывается в узкие рамки теории vulgare illustre,
сферу применения которого Данте ограничивал поэзией высокого
стиля179. При таком подходе (почему он и оказывается для нас
неприемлемым) анализ дантовских понятий подменяется
изложением собственного взгляда на историю формирования
итальянского языка и критикой Данте с точки зрения своего видения этого
процесса, которое невозможно даже назвать теорией, поскольку
ни одно из понятий, которыми пользуется Г. Винэ, не определе-
Но — в отличие от VE — и не раскрыто.
Однако как мы уже могли убедиться на примере толкования
термина illustre (а именно — аналогии со «славными мужами»),
ПоДобные примеры «из жизни» могут только подтверждать
главке п
/t у, но подробно разбирается в статье, где цитата из дефиниции термина curiale
•*VIli.5) вынесена в заглавие — Gratiosum lumen rationis [Vinay 1956], автор
емизирует с интерпретацией «курии» как законодательного и нормативного
эти™Тута в статье П. д'Антрева под тем же названием [D'Entreves 1955]. Анализ
,?* точек зрения см. [Pagani 1982, р. 87-127].
на Аналогичная точка зрения на теорию vulgare illustre господствует в русской
102 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ную мысль комментария, содержание которой отнюдь не сводится
к таким побочным пояснениям. Впрочем, это наблюдение приме,
нимо не только к тексту трактата, но и в целом к дантовскому
времени, которое предпочитает эмпирические факты подчинять
понятиям более высокого порядка — логическим, философским,
теологическим, так что все дефиниции строятся именно в
соответствии с этой перспективой (по аналогии с живописью ее можно
было бы назвать «обратной», поскольку более «далекие» объекты
выглядят в ней «больше», нежели близкие). В своем комментарии
к слову aulicum Данте объясняет: мы именуем (nominamus) этот
язык так, а не иначе, следовательно, речь идет о названии,
именовании языка, если угодно, об установлении имени — проблема,
как известно, далеко не безразличная для его носителей, ср.
бурные дебаты в Италии XVI в. по поводу названий «итальянский,
тосканский, флорентийский, народный, придворный» (lingua
cortigiana). Напомним, что в других контекстах для обозначения
понятия «итальянский язык» Данте пользовался терминами «язык
si» (в одном ряду с названиями других языков: «язык oil», «язык
ос») и «народный латинский» (vulgare latium180 — в оппозиции к
«грамотному латинскому» или к конкретной разновидности
местной речи), т. е., по существу, различал те же два уровня: язык
всей Италии и язык как совокупность всех ее диалектов, —
которые выделяют современные лингвисты, когда им надо уточнить
объем понятия «французский», «немецкий» и т. д. язык. Наряду
с этим он ссылается на сложившуюся традицию называть поэзию
итальянцев сицилийской (quicquid poetantur Ytali sicilianum
vocatur — I.XII.2). Однако главное отличие современной Данте
ситуации от прежней заключается в том, что во времена
Фридриха II и Манфреда «все, чего добивались выдающиеся италийские
умы (excellentes animi Latinorum), прежде всего появлялось при
дворе (aula) этих великих венценосцев; а так как царственным
престолом (regale solium) была Сицилия, то и получалось, что все
180 Сведения о том, что у Данте название «latinus, italycus» (sic!) появляется
для обозначения «предполагаемого общеитальянского литературного языка» [Че-
лышева 1990, с. 94], неверны и фактически и по существу. Для обозначения
языка (ydioma) Данте использует либо сочетание с прилагательным — vulgare latium»
либо генетивную конструкцию — [ydioma] Latinorum (I.X.I5), что же касается
производного от Ytalia прилагательного ytalus, то оно (в качестве определения к
языку) встречается в трактате один раз, и притом во мн. числе (I.XII.1), и
поэтому никак не может обозначать это «предполагаемое» понятие. Таким образом»
latinus, italycus — это не дантовские термины, а формы, контаминированные из
дантовских обозначений языка, народа (ср. Latinus, Ytalus — 'итальянец') и страны
(Latium, Ytalia) в сочетании с ошибочной «реконструкцией» латинского термин»
(если написание italycus не является просто опечаткой) из итальянского
названия volgare italico, которое Данте употребляет в «Пире».
ь I. Лингвистические взгляды Данте
103
обнародованное предшественниками на народной речи (vulgariter)
стало называться сицилийским (sicilianum vocetur); того же
[названия] держимся и мы, и наши потомки не в силах будут это
изменить» (I.XII.4). Данте признает правомочность этого
исторического названия для староитальянского языка, но за
отсутствием современного престола не может дать теперешнему языку
имени, производного от названия страны: «si aulam nos Ytali
haberemus, palatinum foret» (если бы у нас, италийцев, был
престол, она [эта народная речь] была бы палатинской, — I.XVIII.2). В
новейшей итальянской версии [Mengaldo 1979], кажется, впервые
за многовековую историю перевода VE этот термин передается не
итальянским «aulico», а эпитетом «regale» (от лат. rex, regis —
'царь', 'король'). П. В. Менгальдо в своем комментарии
справедливо отмечает, что итал. aulico181 'придворный' плохо передает
предметное значение латинского термина, производного от aula и
эквивалентного, по его мнению, значению palatinum (от лат.
palatium 'дворец'). Но если оба слова являются эквивалентами и
притом производными от нарицательных имен, то текст
оказывается тавтологичным. Итальянский перевод передает следующий
смысл: «если бы у нас, италийцев, был престол, то и он (=этот
язык) занял бы свое место во дворце». Однако из дантовских
рассуждений о названии «сицилийский» следует, что в правильно
организованном социуме, т. е. там, где есть государь (монарх),
название языка является производным от топонима, обозначающего
местопребывание этого престола. На основании этой параллели
логично было бы и определение palatinum читать как производное
от топонима Palatium, Палатин), т. е. названия Палатинского
холма, на котором был основан Рим и на вершине которого
находился императорский дворец Августа182. Но поскольку история Рима
отклонилась от правильного пути и у современного «латинского
народа» не оказалось организованного центра единой власти, то и
язык не может называться соответствующим собственным име-
Итальянские словари датируют итал. aulico XVI веком. То, что это слово
1*ак и другие дантовские определения — итал. cardinale, curiale) вошло в италь-
нский язык с переводом трактата, подтверждают данные Тезауруса итальянско-
языка (TLIO — Tesoro della Lingua Italiana delle Origini), составленного на
снове ранних итальянских памятников (в TLIO всех этих слов нет). За предос-
вление этих сведений мы особо признательны профессору Д'Арко Сильвио Авалле
кадемиа делла Круска). За последующие века слово aulico (как и другие
подобен6 об°значения, связанные тем или иным образом с «локусом» и его статусом в
обпаЛЬНО" иеРаРхии: деревенский, городской, столичный, уличный, салонный)
тел СЛ- множеством значений, связанных с определенным стилем и его положи-
•в н°й или отрицательной оценкой: 'изысканный', 'светский', 'торжественный',
182В^ШеннЬ1и\ 'выспренный', 'напыщенный' и т. п.
(см г^ Поэтов «золотого века» Palatium употребляется только в этом значении
* turnout, Meillet 1960] п. ел. Palatium).
104 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
нем183, а называется именем нарицательным — aulicum (дворцо.
вый).
Далее Данте рассуждает следующим образом: «Nam si aula totius
regni comunis est domus et omnium regni partium gubernatrix
augusta (Если дворец является общим домом всего царства и
августейшим правителем всех его частей), quicquid tale est (то что бы
ни было таковым) ut omnibus sit comune nee proprium ulli (т. е.
принадлежало бы всем и не было бы собственностью кого-либо),
conveniens est ut in ea converseretur et habitet» (подобает, чтобы
таковое находилось и обитало в нем [=во дворце] — I.XVIII.2).
Иными словами, Данте формулирует (безотносительно к языку)
общее правило, по которому определенное место соответствует
определенному предмету, и затем формулирует главные свойства
этого места — omnibus comune пес proprium ulli. To, что искомый
язык должен обладать этими же свойствами в данной дефиниции
не рассматривается, т. к. это уже было доказано в I.XVI, причем
многократно — и через метафору пантеры, которая чуется
повсюду, но нигде не показывается184, и в рассуждениях о лучших
поступках италийцев185, каковые (поступки) не принадлежат ни
одному городу но всем вместе (nullius civitatis Ytalie propria sunt, et
in omnibus comunia sunt), и специально в отношении языка.
Только после этого Данте утверждает, что это место (aula) достойно
этого языка, а не наоборот (как это представлено во всех
известных нам комментариях): пес aliquod aliud habitaculum tanto dignum
est habitante («и никакая иная обитель не достойна такой
обитательницы», [т. е. речи. — Л. С.]), после чего переходит к тому
конкретному примеру, который рассматривался выше (с. 110-111) в
связи с интерпретацией Винэ.
В изложенном подходе нетрудно усмотреть влияние
космологии Аристотеля, хорошо известной и усвоенной в средние века
(см. [Гайденко, Смирнов 1989, с. 222 ел.], [Зубов I960]), согласно
183 Ср. цитируемую в «Новой жизни» известную юридическую формулу «nomina
sunt consequentia rerum» (имена суть производные вещей — Vita Nuova XIII.4). О
ее переосмыслении у Данте в связи с именами собственными см. [Pagliaro 1956a].
184 В зоологическом «коде» место обитания пантеры обнаруживается в
каламбуре illustra — in lustra (см. выше с. 93).
185 Отметим, что в дантовской концепции с точки зрения добра и зла можно
оценивать только человека (просто человека) и гражданина, что же касается
этнического субъекта, то только его благие действия рассматриваются как
проявления этнического и тем самым приобретают общественное значение (принадлежат
всем). Зло не может быть универсальным, поэтому «плохое» (плохой язык, ДУР*
ные нравы и обычаи) нельзя оценивать как национальное. О средневековой
литературной традиции, приписывающей «каждой нации свой особый порок и свою
добродетель», которая после XI в. сосредоточилась на перечне пороков как
главных «национальных атрибутов» см. [Ле Гофф 1992, с. 259 и ел.].
ь I. Лингвистические взгляды Данте
105
которой все предметы в космосе имеют собственное,
предназначенное для них место, которое выступает по отношению к
предмету как его признак. В «Монархии» Данте прямо ссылается на II
кН. «Физики» Аристотеля и говорит «о силах (virtutes) и
свойствах (proprietates) мест», предназначенных природой для
достижения определенных целей, проецируя физические отношения на
социальную сферу и рассматривая в качестве такого места,
предуготовленного для владычества над миром, Рим и его граждан
(Монархия. II.VI.5-8).
В аристотелевской системе тела могут находиться и в
несвойственных им местах, ср.: «а наша блистательная речь кочует как
чужестранка [acola — букв. 'поденщица, не имеющая собственной
земли'] и находит приют в ничтожных убежищах» (I.XVII.3). В
этом случае предуготовленное для них место, рассматриваемое как
отделенный от предмета его собственный признак, становится
целью. Таким образом, экстраполируя физические законы,
служащие Аристотелю для объяснения природы движения, на сферу
языковых отношений, Данте устанавливает, что, во-первых,
данный предмет (язык) не находится в надлежащем месте за
неимением такового (aula) в данном социуме186 (это подчеркивается и в
начале и в конце дефиниции — та же «рамочная» конструкция,
что и в определении термина cardinale) и, во-вторых, главная
топологическая характеристика локуса «быть всеобщим» (т. е.
принадлежать всем, а не кому-либо) является целью этого языка,
направляющей его движение к достижению этой цели. В этом и
состоит главное отличие понятия vulgare aulicum от vulgare latium,
ибо природная речь (=язык бытового общения) не преследует этой
Цели, что с очевидностью вытекает из всего предыдущего
описания диалектного многообразия. Однако, нарекая народный язык
именем, образованным от топоса aula (называя его «аулическим
языком»), Данте тем самым утверждает, что искомое качество
«всеобщности» присуще этому языку в действительности. Ранее
это было продемонстрировано на примере конкретных
произведений, теперь же иллюстративный материал получает теоретическое
°боснование. Чтобы понять смысл дантовского толкования «аулы»,
MbI должны все время иметь в виду, что речь здесь идет о месте
°"Итания языка — о локусе, который включает в себя все про-
тРанство италийской речи и в то же самое время не имеет ника-
°и территориальной привязанности (везде и нигде). Мы — для
Ь1Ражения этой идеи — пользуемся понятиями «наддиалектнос-
186 й
д , D этои связи Винэ совершенно справедливо отметил, что 'отсутствие престо-
rv; ^аи*а vacemus) передается глаголом vacare как 'лишенность', 'вакантность'
lVlnay 1956, р. 153].
106 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ти» (выше всех диалектов) и «экстерриториальности» {вне терри.
ториальных разновидностей речи), видимо, употребляя их как
синонимы. В средневековой науке (в натуральной философии, ас.
трономии, теологии) природа «места», пребывающего над всеми
другими «местами», вне каждого из них и связанного со всеми
ими, подробно обсуждалась (см. «Космология XIII века и Данте»
[Ghisalberti 1984]).
В космологии Аристотеля (и во всей греко-арабской традиции)
высшая сфера — она же небо Перводвигателя — определялась
как «небо ... которое нигде не представлено целиком (поп est alicubi
to turn) и не находится ни в каком другом месте» (neque in aliquo
loco est — так сказано в старом переводе «Физики», цит. по: [Vasoli,
р. 133]; ср. охоту на пантеру, которая чуется везде — ubique и не
показывается нигде — necubi). Средневековые теологи
«достроили» античный космос, поместив над ним «свою» высшую сферу —
Эмпирей. По этому поводу Данте пишет в «Пире»: «За пределами
всех этих небес католики помещают еще одно небо — Эмпирей,
иначе говоря, небо пламенеющее или светоносное (luminoso), и
полагают, что оно неподвижно, имея в себе, в каждой своей части
то, что необходимо его составу (букв, «то, что хочет его материя» —
cio che la sua materia vuole)... Место (loco), где пребывает это
высшее божественное начало (somma Deitade), созерцающее только
собственное совершенство (букв, «единственное, которое видит
[себя] полностью» — che sola [se] compiutamente vede), спокойно и
безмятежно. ... Это и есть постройка, венчающая Вселенную (1о
soprano edificio del Mondo), в которую она [Вселенная] вся и
включена и за пределами которой нет ничего; и она не имеет никакого
места (luogo), но была создана (formata) только в Первом Уме,
именуемом греками "Протоноэ"» (Пир. П.III. 8-11). В этом же
верховном здании, или неподвижном небе, согласно дантовскому
пересказу, находится (аристотелевский) Перводвигатель (Primo
Mobile), который, обладая быстрейшим движением (velocissimo
movimento), сообщает его всем остальным частям универсума.
Средневековый философский язык постоянно «обживает»
недосягаемое пространство Эмпирея, не обытовляя его при этом.
Высшая небесная сфера — это «обитаемое место», «жилье» (habitacu-
lum), «здание» (или необходимый элемент постройки) (domus, aula).
В одном из трактатов «О Вселенной» (Гильом Овернский, ум. 1249)
это теологическое небо (coelum empyreum) названо «кровлей пре-
светлой палаты Господа (tectum praeclaris palatii Dei), повелителя
всего секулярного [мира]», и тут же названо оно и «всем миром*
(quod utique totus mundus est) (Vasoli, p. 135).
Исследователи, которые занимались анализом концепции
«эмпирея» у Данте («Рай», латинский автокомментарий к этой каН-
аастпъ I. Лингвистические взгляды Данте
107
йКе в «Письме к Кан Гранде делла Скала», «Пир»), отмечают,
ч?о он представляет высшую сферу небес как абсолютную и «вне-
субъектную» (extrasoggettiva, по определению Б. Нарди)
действительность, которая отождествляется с действительностью всего
универсума. «При внимательном рассмотрении, эмпирей в
мировоззрении Данте оказывается связующим звеном, которое служит
для преодоления богословского дуализма — разрыва между
миром духовным и миром чувственным (sensibile), представленных у
него в виде совершенного и непрерывного единства» [Nardi 1967,
р. 209]. Точно так же и в лингвистическом трактате (в дефиниции
термина aulicum) речь идет о высшей сфере языка, о «царских
покоях» (aula), где помещается все «тело» языка, его неделимое
целое (ср. такие определения искомого языка, как simplicissimum
signum, simplicissima substantiarum). Это особое пространство
языка, где обитает «сиятельный народный язык» (illustre), он же
двигатель, постоянно вращающийся на своей оси (cardinale); здесь
царствует сам язык, а не прихоть его носителя — существа
изменчивого и непостоянного (ср. формулировку этой зависимости в VE
I.IX.ll: variatio sermonis arbitrio singularium — изменение речи
по выбору (произволу) отдельных лиц). Традиционный
комментарий улавливает в этой дефиниции только «высокость»
(возвышенный стиль) и «исключительность» (элитарность), игнорируя при
этом исключительность самого топоса, при помощи которого
Данте выделяет пространство поэтического языка в особую сферу. Эта
«верхняя палата» языка, по мысли Данте, и правит всеми секу-
лярными языками подвластных ей территорий.
Однако значение термина не сводится к мотивации имени, в
самом противопоставлении aulicum/palatinum в скрытой форме
содержится центральная для данной дефиниции антиномия общего
(в виде имени нарицательного — aula) и индивидуального,
специфического (в виде имени собственного Palatium, образованного от
Pales)187. И эта антиномия в следующем же предложении
выводится на поверхность в виде оппозиции comune/proprium, т. е.
«общее» (но и «нарицательное») vs «собственное». До сих пор
примак «общего», «никому в отдельности не принадлежащего» был
пРотивопоставлен региональным, муниципальным, городским (ком-
мУнальным) языкам; язык всей Италии противопоставлялся лин-
Гвистическим претензиям отдельных городов («собственность
каждого и ни одного в отдельности италийского города» — I.XVI.6). В
т°м смысле противопоставление сохраняется, но существует и
Дат ^алес ~ женское пастушеское божество в римской мифологии. Предание
бы И^ет основание Рима днем празднества в ее честь. По разным версиям, она
Тьа покровительницей Рима или была в числе его пенатов (см., например, ста-
Е. Штаерман [Мифы, т.2] п. ел.).
108 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
иное, более тонкое противопоставление общего и
индивидуального. Характерно, что эта тема прямо соотносится с одним из найме-
нований «двора», «дворца», поскольку традиционной проблемой,
с которой связывалась диалектика единства и множества, являет-
ся функция Монарха, представляющего и осуществляющего волю
всего общества188. Трудно удержаться от предположения, что
именно в таком отмеченном локусе, как королевский — точнее,
императорский двор, и происходит превращение собственного в
нарицательное — общее, поскольку топонимическому эпитету palatinum
(не применимому к италийской речи) тут же вторит другой
римский эпитет — gubernatrix augusta «августейшая правительница»,
образованный от личного имени (ср. к этому и прочие термины
верховной власти от личных имен)189.
Если противопоставление единства и множества решалось в
форме принадлежности «всем и никому», «каждому и ни одному
в отдельности (городу)», то диалектика единства и единичности^
видимо, понимается несколько иначе, ибо закончив перечень и
анализ своих четырех эпитетов, т. е. подведя итог первой книге
трактата, Данте посвящает весь первый раздел второй книги
доказательству — неожиданному на фоне всего предыдущего — того,
что «не всем слагающим стихи ... будет присущ наилучший язык
(optima loquela), а следовательно, и наилучшая народная речь»
(optimum vulgare — П.1.8), или, как формулирует он в начале
следующей главы: «Мы показали, что не все, но только самые
выдающиеся стихотворцы должны применять сиятельную
италийскую народную речь» (latium vulgare illustre — II.I.1). Здесь
важны два аспекта: во-первых, мы снова возвращаемся к проблеме
«народной речи» как речи поэтической, во-вторых — видим новое
решение упоминавшейся антиномии всеобщего и
индивидуального190 . Как можно заключить, поэт способен выступать как единич-
188 «...Единство, видимо, есть корень того, что есть благо, а множество —
корень того, что есть зло» (Монархия. I.XV.2 и далее описывается «единая воля,
владычествующая и согласующая в одно все прочие», там же I.XV.9). Вообще
диалектика «целого и части» в самых разнообразных вариациях, в том числе и
применительно к сфере религиозного и социального опыта, где такими
полярными величинами выступали все (весь человеческий род) и один (individuum),
постоянно занимала средневековую мысль.
189 Именно «божественному монарху» Августу Данте приписал «совершенную
империю» (Монархия. I.XVI.1). Что касается связи между именем лица (уже
безотносительно к проблеме собственных имен) и именем вещи, то соотношение
между первичными родовыми противопоставлениями (в именах лиц) и
вторичными родовыми противопоставлениями (в именах вещей) рассматривается как
стержневая линия развития романской лексики [Степанов 1972].
190 Тема индивида и человечества, я и мы — одна из ключевых для Данте; °
соотношении этих значений, в частности на примере начальных стихов
«Комедии»: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura», cM-
qacrrib I. Лингвистические взгляды Данте
109
ный носитель народной речи, которому она обязана (или будет
обязана) своим совершенством. Об этом говорит и знаменитая
строка о трубадуре Арнауте Даниэле: «ковач родного слова» (Чист.
XXVI. 117) и, с другой стороны, рассуждение Данте о
благородстве (напомним, что это понятие в другом контексте уже
оказывалось звеном, сцепляющим «Пир» и VE), согласно которому
«божественное семя упадает не в род, то есть не в семейство, а в
отдельные личности, и ... не род делает благородными отдельные
личности, а отдельные личности делают род благородным» (Пир.
IV.XX.5). По существу, это очень похоже на соотношение между
достоинствами диалектов и достоинствами писавших на них
поэтов, как они рассмотрены в VE191.
Утверждая, что один поэт или «немногие» «самые
выдающиеся» поэты могут «выковать» родную речь, — задача, которая и
осуществится в «Комедии», — Данте отчетливо сознает связь
своего личного вклада со вторым полюсом антиномии, со
всеобщностью языка (хотя бы на уровне его понятности всем). Это с
очевидностью следует из описания индивидуального языка, доведенного
до «предела», уже никому не понятного. Главный виновник
Вавилонского столпотворения — Немврод («возомнил нераскаянный
человек, по наущению великана Немврода» — VE.I.VII.4)
наказан именно таким образом (в отличие от простых исполнителей:
«сколько было обособленных занятий ... на столько языков и
разделяется с тех пор род человеческий» — VE.I.VII.7):
специально [Contini 1979, р. 412-413], а также введение к новейшему изданию
♦Ада» [Leonardi 1991, р. 4] и комментарий ad loc. Один из наиболее явных и
парадоксальных примеров открытой игры на отношениях я и мы — это видение
Райского Орла (Aquila), составленного из множества душ, но говорящего как одно
лицо (парадокс, также подробно разбираемый комментаторами): «Я видел и
внимал, как говорил / Орлиный клюв, и "я" и "мой" звучало, / Где смысл реченья
мы" и "наш" сулил» (Рай. XIX.10-12, пер. М. Лозинского). Связь этого образа с
монархической темой вполне очевидна, на более отдаленном уровне можно
заподозрить и паронимическую перекличку aquila — aulica.
К проблеме со-противопоставления языка и поэта как общего и частного ср.:
♦Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую голову), то именно
!?астности человеческого существования. Будучи наиболее древней — и наиболее
Уквальной — формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно
По°Щряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности,
тДельности, превращая его из общественного животного в личность... Будучи
Сегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной центробежной энер-
Иеи» сообщаемой ему его временном потенциалом, — то есть всем лежащим
еРеди временем. И потенциал этот определяется не столько количественным
Ставом нации, на нем говорящей, хотя и этим тоже, сколько качеством стихот-
Clf -Ния' на нем сочиняемого. Достаточно вспомнить авторов греческой или рим-
ои античности, достаточно вспомнить Данте. <...> Поэт, повторяю, есть сред-
о существования языка. Или — как сказал великий Оден, он — тот, кем язык
^Ив» [Бродский 1987, с. 10-11].
110 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
То царь Немврод, чей замысел ужасный
Виной, что в мире не один язык.
Как он ничьих не понял бы речей,
Так никому его слова неясны.
(Ад. XXXI.77-78, 80-81. Пер. М. Лозинского)}^
Таким образом, Данте, охотясь за языком в зарослях
италийского леса, противопоставляет себя (Поэта) другому «охотнику» —
Немвроду (в Писании это царь Нимрод, ср.: «Он был сильный
зверолов (robustus venator) пред Господом», Быт 10:9).
Здесь уместно уточнить и исторический контекст, и
историческую перспективу («в будущее») названной проблематики. В обоих
вариантах: язык народа/язык личности и язык народа/язык
поэта — этой тематике предстояло активное развитие в позднейшие
века. Тема «общего» языка и идиолекта, «идиостиля» и т. п.
постоянно разрабатывалась в лингвистике и лингвистической
поэтике разных направлений, с эмфазой и на индивидуальном (вплоть
до признания идиолекта единственной языковой реальностью)193,
и на социальном полюсе. Именно благодаря разработанности сама
антиномия стала для лингвистов слишком стертой и знакомой,
поэтому нелишне напомнить об ее остроте, приведя слова не
лингвиста, а богослова: «Слово — человеческая энергия, и рода
человеческого и отдельного лица — открывающаяся чрез лицо
энергия человечества»194.
С другой стороны, вопрос об индивидуальности языка поэта,
его схожести с общенародным языком у Данте представлен скорее
всего лишь в оценочном его аспекте: «Пусть же уймутся
приспешники невежества (ignorantie), превозносящие Гвиттоне д'Ареццо
и некоторых других, никак не отвыкающие в словах и строе речи
подражать толпе» (plebescere — II.VI.8). Как теоретическая про-
192 Вожатый Данте Вергилий называет его «смутный дух» (anima confusa)
(Ад. XXXI.73), т. е. определяет его душу тем же словом, что и смешение
языков — confusio linguarum.
193 Любопытно, что как раз итальянская лингвистика (в лице неолингвистики)
с особой силой подчеркивала индивидуальный и творческий характер языка.
194 [Флоренский 1990, т. 2, с. 281], ср. подробнее: «...семема, раз созданная
участием многих поколений целого народа, пребывает словно мертвой, пока слово не
употребляется, но лишь оно попадает в поток живой речи, так семема его
ожила... Тут-то и сказывается антиномический склад слова: извне мною полученное,
взятое мною из сокровищницы народного языка, чужое творчество, в моем
пользовании оно заново творится мною... В слове я выхожу из пределов своей
ограниченности и соединяюсь с безмерно превосходящей мою собственную волею целого
народа, и притом не в данный только исторический момент, но неизмеримо
глубже и синтетичнее, — соединяюсь с исторически проявленною волею народа-
Собранную в один фокус историческую волю целого народа — в слове я имею в
своем распоряжении» (там же, с. 262-263).
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
111
блема, язык писателя станет предметом обсуждения только в
лингвистике XVI в., когда несовпадение его с общенародным языком
будет подчеркнуто и эксплицировано.
Опять-таки в перспективе позднейших представлений о языке
й его носителях, романтическая, в частности, теория о народе как
«творце» языка (представления, самому Данте вполне чуждые) и
0 поэте, который обращается к народу на языке, этим народом
«созданном», разительно напоминает ту модель
функционирования языка, которую мы находим в VE.I.V. Точно так же как
концепция «формы» языка не может быть понята в отрыве от ее
первоосновы, от представления Данте о первом и совершенном языке,
на котором говорил Адам, так же и функционирование языка
(говорящий — слушающий), видимо, должно быть задано таким же
прецедентом — первым употреблением речи: «Первый человек
прежде всего обратил речь к самому Богу ... сначала заговорив
сам, затем незамедлительно продолжал говорить, будучи
вдохновлен одухотворяющей Добродетелью (ab Animante Vertute). Ибо мы
полагаем, что человеку более человечно быть услышанным (в
оригинале смысл более широкий — sentiri, т. е. «быть воспринятым»),
чем слушать» ( I.V.1). И далее он подчеркивает парадокс этой
беседы, в которой Адам пользуется языком, дарованным и
созданным Тем, к Кому он обращается, в то время как сам создатель
этого языка в нем не нуждается, поскольку, как уже отмечалось,
высшие существа понимают друг друга без слов (см. I.III.1). «Если
же кто-нибудь, возражая нам, укажет, что нецелесообразно было
ему [Адаму] говорить, так как он был пока единственным
человеком, а Бог без слов постигает все наши тайны даже раньше нас, то
мы с должным при суждении о вечной Воле благоговением
говорим, что пусть даже Бог ведал (sciret) или, вернее, предведал
(presciret) ... помыслы говорящего вне его речи, Он позволил,
однако, и ему говорить, дабы в изъяснении столь великого дарования
прославился и Сам благостно одаривший» (I.V.2, перев.: I.V.2-3)195.
Если верно, что логика дантовской экспликации эпитета
возвращает нас к теме поэтического языка, то не случайным оказы-
вается и характер самого слова (aula), греческого заимствования,
имевшего преимущественно поэтическую сферу употребления.
Поэтический его характер отмечен уже в «Браке Филологии и Мер-
кУрия» Марциана Капеллы (между 410 и 439 г.): «поэтическое
k Как отмечают исследователи, источником этой сцены — диалога Адама с
^0гом — является французская мистериальная драма Jeu (ГAdam и Mystere du
Leu Testament, см. [Mengaldo 1978, p. 139]. Отметим в свою очередь, что первы-
. словами Адама в одной из таких мистерий было обращение к Богу: «О divine
.. Ustration» — пример весьма показательный для нашей интерпретации термина
Ulustre (см. выше).
112 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
слово в торжественной речи» (vox poetarum in sermone solemni ^
Martianus Capella. De nuptiis Philologiae et Mercurii, 3.266, цит.
no: TLL, s.v. aula). В значительно более позднем словаре Н. Пе-
ротти (1429-1480) его комментирует: «поэты узурпировали гре.
ческое слово aula для обозначения атрия (atrium)» [Perotti 1510,
f .XXII]. Латинские грамматики часто упоминали это слово в
связи с тем, что старшие латинские авторы склоняли его по
греческой, а не по латинской парадигме. Словари подчеркивают не
только его греческое происхождение, но и расхождение значения между
самим латинским словом, значащим 'дворец' (domus regia), и его
греческим этимоном со значением 'двор' (atrium — само
латинское слово обозначает внутренний двор римского дома, куда
выходят все его помещения, атрий)196, хотя значение 'двор'
встречается и в латыни (даже 'скотный двор' — у Проперция и в Евангелии
— см. ниже). Подчеркивает это различие Сервий, комментируя
употребление Вергилия (Аеп. III. 354 в значении 'чертог'). Ср. у
Беды: «aula по латыни значит "царский дом", «аулой» (aule) по-
гречески называют атрий, потому следует отметить, что в Псалме
(28.2), где мы читаем "adorate dominum in aula sancta eius", под
словом aula нужно понимать не "дворец", но "атрий"
по-гречески»197.
От идеи внутреннего двора идет тема внутреннего, главного,
самого скрытого помещения во дворце. Так, другой, более поздний
источник (стихотворное переложение «Элеганций» Л. Баллы —
[Ioannis Roboamus 1549]) отмечает, что кроме «атрия»,
внутреннего двора, aula значит по латыни также conclave
('запирающаяся' комната), т. е. наиболее удаленное, тайное помещение, в
котором, как правило, совещаются или обсуждают нечто (ср. отсюда
конклав — совет кардиналов, выбирающий Папу, — с 1274 г.). В
средние века aula приобретает еще и значение 'неф церкви'. Это
соотношение значений лучше всего передавалось бы русск.
палаты, палата (которое, в свою очередь, лингвисты почти
единодушно возводят к лат. Palatium, вероятно, через греческое
посредство). Данте один раз употребляет его в «Комедии» в сочетании
aula piu secreta, обозначая этим выражением местонахождение как
19(5 Такое же развитие «двор» — «дворец» или «королевский двор» встречаем в
русском и других языках.
197 «Aula latine domus regia est, aule graece atrium dicitur unde notandum, quod
in psalmo (28:2) ubi legimus "adorate dominum in aula sancta eius" non 'palatium
aulae nomine, sed 'atrium* graeco vocabulo debet intellegi» (цит. по TLL, s. v. aula)*
В Вульгате здесь стоит atrium: in atrio sancto. Ср. также ст.-слав, перевод: «По-
клонитеся Господеви во дворе святемъ Его» (в рус. пер. Пс 29:2 — «в
благолепном святилище Его»), и переложение этих слов у Ахматовой: «Господеви покло-
нитеся во святем дворе Его».
u crnb I. Лингвистические взгляды Данте 113
аз того, кого недостает Италии, — императора со своими
князьями т. е. в ситуации рая — Иисуса с апостолами:
Poi che per grazia vuol che tu t'affronti
Lo nostro imperadore, anzi la morte,
Nell'aula piu secreta со' suoi conti.
раз наш властитель (imperadore) изволяет сам, / Чтоб ты среди
чертога потайного, / Еще живой, предстал его князьям. / (Рай.
XXV.40-42. Пер. М. Лозинского).
Этот последний пример, с одной стороны, косвенно
подтверждает наше предположение о монархической теме в дихотомии
множества/единства, а с другой — отражает еще одну линию
семантического развития латинского слова aula: от земного царства к
Небесному (значение 'храм', 'церковь', 'царствие небесное'). Эта
параллель, с нашей точки зрения, служит еще одним
доказательством того, что структуры людских союзов (при том что
складываются они на разных основаних: верующие в единого Бога,
граждане одного государства и люди одного языка) в сознании Данте (и
его времени, как это блестяще показано в «Элементах
средневековой культуры» [Бицилли 1919]) мыслятся как изоморфные. В дан-
товском языке aula означает и 'дворец Иисуса Христа', и 'дворец
монарха', и 'дворец языка'.
Еще в одном контексте, весьма специальном, но при этом с
большой вероятностью известном Данте, aula связывалась с темой
«слова», «речи». В средневековом латинском словоупотреблении
Сорбонны aula и aulica (ст.-фр. aulique) называлась публичная речь,
произносимая кем-нибудь из молодых теологов при присуждении
кому-либо почетной докторской степени (Laurea doctoris).
Название производно от дворца архиепископа (aula Archiepiscopi), где
происходил диспут под председательством нового доктора [Du Cange
т-1- р. 481 со ссылкой на: Statuta Universit. Paris]198.
Обратимся к собственно поэтическим ассоциациям и связям это-
го слова, к уровню подтекста. В отличие от предыдущего случая,
подтекстом здесь служит не Писание, а языческая римская
сложность, а именно непосредственный «наставник» Данте, dolce
Padre — Вергилий.
Дантовский текст соотнесен со своим источником с помощью
акой же инверсии, какая связывает и сами элементы его текста,
акова отмеченная в предыдущем разделе перекличка
«инвертированных» cardo vertitur («вращается на оси») в определении эпи-
198 у.
сам связь VE именно с университетской средневековой ораторикой указывает
lQ/ic Каноническая структура VE I., детально проанализированная в [Di Capua
*45» Р. 22-26].
114 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысдь
тета cardinale и corda versare («обращает сердца») в определении
illustre. Так же и слова aula vacemus («мы свободны, букв, пусты,
от аулы» (I.XVIII.3), т. е. у нас ее нет) в VE соотносятся с vacua
aula («свободный, пустующий дворец») в строке Вергилия (Georg.
IV.90)199. Однако здесь важен весь контекст: melior vacua sine regnet
in aula200 («в свободном дворце пусть царствует лучший»)201
относится к соперничеству пчелиных «царей». Глава IV «Георгик»
посвящена пчеловодству, и здесь aula получает окказиональное
значение 'улей'202. Близкое значение 'соты' находим в другом при-
мере из той же главы: Aulasque et cerea regna refingunt («Строят
сызнова двор и все царство свое восковое — Georg. IV.202), —
здесь речь идет о «бессмертии рода» пчел, из поколения в
поколение, о постройке новых сот и в целом — о благоденствии, которое
нарушается в случае утраты царя, — тема прямо относящаяся к
проблематике дефиниции aulicum203.
Однако более важной, хотя и менее очевидной, является
другая ассоциация: пчелиная тема вводит всю обширнейшую
мифологию пчел и меда поэзии, уподобляющую поэтов пчелам
(эксплицитно — у Платона, Ион. 534Ь), а поэзию — меду204, причем
особенно любопытно то обстоятельство, что речь идет не только о
давней античной традиции, о ее параллелях в других более или
менее отдаленных традициях205 или же об архетипических
связях, но и о более актуальных для Данте явлениях. Как показал
М. Б. Мейлах [1973; 1975], слово, производное от bresca (соты),
употреблялось в провансальском поэтическом метаязыке как один
из основных технических терминов стихотворства: entrebrescar los
mots. Есть все основания думать, что и этот факт (и игра на этих
199 Ср. несколько иную, но в некотором смысле сходную перекличку: названия
сицилийского престола regale solium (I.XII.4) «царственным престолом была
Сицилия» с названием дворца Солнца (Regia solis) у Овидия (Ovid. Met.II. 1) в том же
контексте, что и «лучезарная голова» (caput illustre) Феба, упоминавшаяся в
анализе слова illustre. Характерные для поэтики Данте приемы инверсии
(зеркального повторения) известных мифологических сюжетов и культурных текстов
(«переворачивание» не только слов, но и событий) рассматриваются в [Schnapp
1988].
200 В обоих примерах со словом aula соседствует корень reg-.
201 Здесь и далее пер. С. Шервинского [Вергилий 1979].
202 При этом никак нельзя исключить исконного родства aula и его греческого
этимона с этим славянским словом (каковы бы ни были детали отношений междУ
греч. avki\ «двор» и са>А.6<; «трубка, флейта»),
203 Ср. то же, но в «перевернутой» перспективе: «И если бывает на свете пчела
без улья / с лишней пыльцой на лапках, то это ты» [Бродский 1995, с. 42].
204 См. [Мифы 1982, II] п.ел. Пчела, Мед поэзии. О мифологии пчел см.:
[Иванов, Топоров 1965; 1974], [Топоров 1975], [Успенский 1982]. Античный материал
с некоторой степенью полноты рассмотрен в [Левинтон 1977].
205 Трудно сказать, насколько вероятно знакомство Данте с мифами германцев»
возможно еще актуальными в его время.
b I. Лингвистические взгляды Данте
115
мотивах у трубадуров) и многие античные тексты были Данте из-
естны. М. Б. Мейлах [1975, с. 66-67] уже упомянул в этой связи
известную формулировку Мандельштама, относящуюся к
«Божественной комедии»: «Надо себе представить таким образом, как если
бы над созданием тринадцатитысячегранника работали пчелы,
одаренные гениальным стереометрическим чутьем, привлекая по
мере надобности все новых и новых пчел... Сотрудничество их
ширится и осложняется по мере сотообразования» [Мандельштам
1987, с. 121]. Однако важно и то, что Мандельштам непосредственно
за этим пассажем делает ссылку: «Пчелиная аналогия
подсказана, между прочим, самим Дантом. Вот эти три стиха — начало
шестнадцатой песни "Inferno"» — далее цитируются строки
Ад. XVI.1-3, завершающиеся «пчелиным» сравнением: «simile a
quel che l'arnie fanno rombo» («Как если бы гудели в улье
пчелы»).
Здесь тема пчел — явно второстепенная, однако в прозе Данте
мотив пчел и меда появляется в более интересных контекстах.
Так, в «Пире» глава о превосходстве нравственных добродетелей
над интеллектуальными206 заканчивается еще одним «пчелиным
сравнением»: «...понять пчелу как производительницу меда было
бы легче, чем понять ее как производительницу воска, хотя и то и
другое создается ею» (букв, происходит от них — da loro procede —
Пир. IV.XVII.12). Но не только добродетели уподобляются меду,
но и сам трактат «О народном красноречии»: в самом первом
предложении текста (I.I.1) Данте говорит о намерении «напоить
жаждущих сладчайшим медвяным питьем», т. е. ydromellum
(отметим сочетание двух греческих корней) 'смесь меда и воды'. В этом
напитке «водой нашего ума» (aquam nostri ingenii) разведено
«лучшее из полученного им (=умом) или заимствованного у других»
(там же, курсив наш. — Л. С). Таким образом, мед прямо
приравнивается к заимствованию, к цитате, и появление в том же
трактате, в конце его первой части «цитаты о меде» (т. е. цитаты из
«пчеловодческой» главы поэмы Вергилия — ср. его именование
voice padre!) вполне естественно и ожидаемо, оно как бы и описа-
Но в этой метафоре разведенного меда.
В заключение заметим, что среди античных употреблений сло-
Ва aula есть и такие переклички с дантовскими контекстами, ко-
°Рые как бы связывают разные члены четырехчастного ряда, в
Частности aulicum и cardinale, а именно случаи, когда с aula co-
еДствует слово ianua, т. е. точный синоним одного из главных
Контекст примечателен не только темой добродетели, центральной для на-
тем°"аНализа четыРех эпитетов, но и тем, что непосредственно перед пчелиной
и °И здесь цитируется рассказ о Марфе и Марии, привлекавшийся нами при
еРпретации термина cardinale.
116 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
слов в дефиниции cardinale — hostium 'дверь', 'врата'. Так, у Ови.
дия (Fast. 1.139) сам Янус, божество врат, о котором специально
говорилось выше, назван caelestis ianitor aulae («привратником
небесной аулы», т. е. залы, дворца или двора). Более того, один из
ключевых текстов, привлекавшихся к толкованию термина
cardinale, — пассаж о двери, пастыре и овцах в Итале читается:
«intrat per ianua in aula ovium» «входит дверью во двор овчий» (в
Вульгате, чтение которой цитировалось выше, ovile ovium)207.
Наконец, в исторической перспективе существенна позднейшая
судьба слова aulicum, которая нуждается в некотором
комментарии, особенно для русского читателя. В отличие от многих
аналогичных терминов это слово не было воспринято или хоть как-то
отражено русским языком и не обрело в нем никакого смыслового
ореола. Если сходный провансальский термин (во французском
фонетическом оформлении) был усвоен русским языком, конечно,
не во всей полноте значений, но все-таки настолько, что русское
слово куртуазный передает целый комплекс культурных
ассоциаций, отнюдь не сводимый к значению 'придворный', то
итальянское слово aulico осталось русскому языку и русскому читателю
совершенно чужим и может быть передано либо обедняющим его
переводом (то же «придворный», как и в итальянских переводах
Данте), либо — через обстоятельный комментарий. Это
необходимо пояснить именно потому, что в итальянском языке aulico стало
термином самостоятельным, — хотя и с некоторой оглядкой на
Данте. Так, volgare illustre филологи нашего времени
употребляют только говоря о трактате Данте (или имея в виду изложенную
в нем теорию), тогда как lingua aulica служит у них почти
синонимом староитальянского языка, — именно в аспекте «истории
литературного языка», т. е. прагматическом, а не в смысле истории
форм. С другой стороны, это слово может употребляться как
обозначение «литературного», «поэтического» языка208 вообще — в
том числе и в негативном смысле этого слова; так, для
авангардной поэзии слова «литературный» и «поэтический» могут значить
207 Это значение 'скотный двор', 'хлев' (и может быть, конкретное 'овечий двор')
мы находим в примере из Проперцня (III. 13.39): vacuam pastoris in aulam dux
aries saturas ipse reduxit oves (*И к пастуху своему баран в пустые овины, сам»
рогоносный вожак, сытых овец приводил», пер. Л. Остроумова) [Проперций 1963,
с. 391].
208 Замечательно, что в истории слова отразились обе черты «искомого языка»»
которые, несомненно, имел в виду Данте: и противопоставление диалектам (так
что генетическая связь с диалектами перестает быть релевантной), и
противопоставление бытовой, ♦прозаической», в смысле ОПОЯЗа, речи — как раз тем праг"
матическим сферам и ситуациям, которые обслуживаются (при Данте, да и много
позже в Италии) речью диалектной. В этом смысле к «искомому языку» трактата
вполне приложимо определение ♦наддиалектный».
b I. Лингвистические взгляды Данте
117
«устарелый', 'манерный', 'канонический' (т. е. «поэтический» —
это язык уже бывшей поэзии, на смену которому нужно ввести
нечто новое)209. Вот показательная фраза Эудженио Монтале
(цитируем ее в переводе Н. В. Котрелева)210: «Красноречию нашего
придворного языка (lingua aulica) я хотел свернуть шею, пусть с
риском впасть в контркрасноречие». Выделенные нами слова Котрелев
поясняет: «как называли язык литературы еще со времен Данте»211.
Итак, каждый из трех рассмотренных до сих пор
эпитетов-терминов, вернее, каждая из их дефиниций, намечает то или иное
противопоставление и «снимает» его, выступая как «медиатор»
одной из оппозиций, релевантных для языка. Illustre
нейтрализует противопоставление субъекта и объекта, агенса и пациенса.
Cardinale — противопоставление между движением и
неподвижностью, и соответственно — эволюцией и стабильностью (тема
ключевая для отношений латыни и живых языков). Aulicum
актуализует и нейтрализует противопоставление общего,
коллективного и личного, единичного, которое проявляется в виде
нарицательного (имени) и индивидуального (творчества)212. Важно
подчеркнуть соотношение между эпитетами-терминами, с одной
стороны, и нейтрализуемыми оппозициями, с другой. Во-первых,
эти нейтрализуемые признаки специфичны для каждого термина
и его дефиниции, каждый термин «снимает» одно противопостав-
209 Этому способствует специальное, филологическое употребление этого слова
в узком значении «высокого стиля» (lingua aulica, poesia aulica).
210 В его послесловии к [Монтале 1979, с. 219], итальянский оригинал [Montale
1976, р. 88].
211 Примечательно, что в статье о Монтале (названной «В тени Данте»!) И.
Бродский как бы возвращает этот термин в дантовский контекст: «Montale managed to
create his own poetic idiom through the juxtaposition of what he called the «aulic» —
the courtly — and the «prosaic»; an idiom which as well could be defined as aamaro
Mil nuovo* (in contrast to Dante's formula, which reigned in Italian poetry for more
than six centuries)» [Brodsky 1987, p. 97-98]. — «Монтале сумел создать
собственный поэтический язык [idiom — т. е. даже, если угодно, «идиолект». — Л. С. ],
совмещая то, что он называл aulic [англизированная форма слова aulico] —
"придворный" [the courtly] — с "прозаическим" языком; язык, который можно было
бы определить как amaro stil nuovo ("горький новый стиль") (в противополож-
ность дантовской формуле, царствовавшей в итальянской поэзии более шести
веков)». «Дантовская формула» — это dolce stil nuovo («новый сладостный стиль»),
Далее Бродский говорит об отталкивании Монтале от традиции и одновремен-
о — тесной связи с ней, особенно с Данте, вновь упоминая, уже открыто, dolce
И nuovo. Таким образом, aulico как знак традиции оказывается соотнесенным с
мой сладкого, сладостного, как это видели и мы в контексте «пчелиных» ассо-
1 орЦи" этого слова. О терминологическом значении слова dolce у Данте см. [Bosco
^626. Р. 32-44], [Colombo 1984].
Поэтому неудачны те интерпретации трактата, которые пытаются свести все
о содержание (или свойства определяемого в нем языка) к какой-то одной анти-
Мии, например действительного/возможного (Marigo), частного/универсаль
0го [Favati 1961-1965] и т. п.
118 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ление. Во-вторых, и в непосредственной связи с предыдущие
медиация, нейтрализация происходит как бы внутри одного ело!
ва, в семантическом пространстве самого термина. Подобные фак.
ты в дантоведении уже отмечались. Дж. Контини описывает осо-
бую дантовскую полисемию, которая не просто предполагает
наличие у данного слова других значений (в парадигматике), но
совмещает эти разные значения в одном, единичном
словоупотреблении. Полисемия разворачивается не только внутри слова
(interamente entro la lettera) как факта языка, но и как факта
текста, и осуществляется она через множество внутренних
перекличек и культурных аллюзий. При этом Данте, по словам
исследователя, отличается беспрецедентной в анналах поэтической речи
интенсивностью использования этого приема [Contini 1979a, р. 412-
413]213.
Как уже говорилось выше, это снятие оппозиций в терминах и
их дефинициях ориентировано не столько на мифологические
модели медиации, сколько на аристотелевское учение о добродетели
как середине между двумя крайностями (конечно, в свою очередь
не лишенное мифологической подоплеки). Эта концепция
выражается у Данте не декларативно, вернее, не только декларативно,
как в «Пире», но и «операционально», на уровне применения этой
концепции как основы, модели, по которой построены дефиниции
ключевых терминов. Таким образом, подтверждается
высказанное выше предположение о том, что аналогия четырех терминов и
четырех кардинальных добродетелей носит не внешний и
случайный, а существенный и глубинный («структурный») характер.
Сходство распространяется и на саму структуру тетрад,
организованных по схеме «3+1», т. е. три равноправных элемента и
один «обобщающий». К этой аналогии мы вернемся ниже, но
именно этим объясняется обособление термина curiale от первых трех
терминов214, чему не противоречит особая близость этого
четвертого эпитета к aulicum, так что наряду с только что высказанной
гипотезой об обособленности четвертого эпитета можно, с другой
стороны, читать последнюю пару эпитетов как нечто целое: aulicum
et curiale, — только здесь вводится союз (что, впрочем,
естественно для перечня из четырех элементов).
213 Невозможно не отметить сходство этих формулировок с теорией
поэтического слова у акмеистов и с их поэтической практикой (и ее анализом в работах
последних десятилетий). Однако столь же невозможно останавливаться здесь
подробнее на этой аналогии.
214 С точки зрения сегментации трактата приходится говорить, наоборот, о
членении «1+3»: определению первого термина illustre посвящена отдельная глава
I.XVII, а три других рассматриваются в гл. XVIII.
аастпь I- Лингвистические взгляды Данте 119
3.4. Соответственно, дефиниция curiale построена параллельно
фИниции aulicum. Там Италия характеризовалась как
пустующее пространство (aula vacemus — «мы свободны от аулы», т. е.
«лишены аулы»), здесь говорится, что Италии недостает такого
института, как curia (с паронимической игрой: curia careamus —
jXVIII.5 — «мы испытываем нехватку курии») в том виде, как
она существует у германского короля (curia unita). Однако, по
сравнению с предыдущей дефиницей, вывод делается
противоположный: утверждать, что италийцы «лишены курии» (curia carere),
было бы неверно, ибо «хотя нам недостает правителя (Principe
careamus — тот же глагол, что при слове curia), тем не менее у нас
есть курия (curiam habemus), пусть телесно она и рассеяна»
(corporaliter ... dispersa).
«Рассеяние» курии объяснено в предыдущем предложении: если
у Италии и нет единой курии, как в Германии, то «нет недостатка
в ее членах»; и как члены той (=германской курии) объединены
единым правителем, так членов нашей объединяет «благодатный
светоч разума» (I.XVIII.5). Иными словами, если aula — с ее
первоначальным значением * двора', 'дворца' — непременно требует
вещественного воплощения (престола), потому-то можно
утверждать, что ее в Италии нет, то curia, этимологически означающая
'собрание мужей'215, видимо, такого воплощения не требует, и
подобный «совет» может объединяться какими-то
нематериальными связями. С этим согласуется и предельная размытость самого
лексического значения curia в этом контексте, отмечавшаяся
всеми комментаторами и переводчиками; оно может значить (и,
видимо, значит) и 'двор', и 'верховное правительство', и 'совет', и
'суд'. Характерно, что в переводе Ф. А. Петровского употреблено
несколько различных эквивалентов и один раз само это слово
«курия»: «высочайшее правительство», «двор и судилище», «двор»,
«всеобщее правительство», «высшее управление» (почему мы и не
могли здесь воспользоваться его переводом и потому же всюду
Curia из *co-viri-om, лат. curia значило уже объединение нескольких родов,
°Дно из подразделений латинской общины, родственно Quiris, quirites (квириты)
^~ полноправный гражданин Рима'. Весь контекст политических симпатий Дан-
е исключает возможность трактовать это слово в связи с актуальной римской
^папской) курией; характерно, что пример реально существующей «курии» Дан-
оерет из монархической Германии, а не из более близкого Рима. А. Мариго в
лковании curiale ссылается на «Поэтику» Иоанна Гарландского, где
выделяются три стиля в соответствии с делением общества на три главных класса (curiales,
ft/ •' rura^es) и ♦ куриальный» стиль (curiale) определяется как прозаический
^Prosaicum dictamen), отождествляя на этом основании дантовский vulgare curiale
с о кЫК0М °ФиЦиальн°й, деловой прозы (Marigo, p. LXXIX-LXXX), иначе говоря,
Фициальным языком папской курии, но им, разумеется, был латинский язык!
120 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
оставляем без перевода слово «курия»), тогда как Данте всюду
употребляет curia с почти заклинательным упорством (восемь раз
не считая производных), как будто повторение слова должно у^[
вердить и доказать существование самой курии.
Однако все эти рассуждения о «курии» являются финальным
итогом или последним аргументом дантовской дефиниции, а
эпитет curiale он непосредственно производит не столько от самой
«курии», сколько от более абстрактного curialitas, так сказать
«куриал ьности»: «Заслуживает она (=народная речь) и названия
куриальная, ибо куриальность есть не что иное, как взвешенное
правило, по отношению к совершаемым действиям» (отметим здесь
и чуть ниже возврат к терминологии XVI главы, предваряющей
определение четырех эпитетов, с ее обращением к этической
сфере). «А так как весы (statera), предназначенные для такого
взвешивания, находятся только в высочайших куриях (in excellentis-
simis curiis), то и все, что в наших поступках (in actibus nostris)
является хорошо взвешенным (bene libratum), называется
куриальным. Следовательно, когда она взвешена (cum ... libratum sit)
в высочайшей курии италийцев (excellentissima Ytalorum curia),
она (=народная речь) заслуживает наименования куриальной»
(I.XVIII.4, перевод наш. — Л. С).
Как раз тема «взвешивания» (librata regula, libratio, bene
libratum) и «весов» (statera) прямо соотносит четвертый эпитет
curiale с последней из четверки кардинальных добродетелей, а
именно со справедливостью (iustitia), чьим главным атрибутом
служат весы (как и у ее античной персонификации — Фемиды; к
теме справедливости-правосудия ср. одно из значений curia 'суд', —
ср. цитированный выше перевод Ф. А. Петровского).
Справедливость стоит особняком среди кардинальных добродетелей, она
представляет собой не середину между двумя крайностями, но
разрешение конфликта между правыми и неправыми, т. е. между
субъектами, а не сущностями. Справедливость противопоставлял
трем другим добродетелям уже Платон (см. [Радлов 1908, с. XLII]).
Об особом статусе этой добродетели говорит и Аристотель (ей
посвящена пятая книга «Никомаховой этики»), приводя пословицу,
которая в новом переводе (Н. В. Брагинской) звучит: «Всю
добродетель в себе правосудие соединяет», а в переводе Э. Радлова «В
справедливости заключаются все добродетели». Во всяком случае,
механизм действия справедливости, символизируемый весами, как
раз и воплощает тот принцип, на котором основаны все прочие
добродетели, принцип «золотой середины». В этом смысле она
может быть понята как «метадобродетель», делающая выбор
между добром и злом, между правым и неправым действием
(поступком). Видимо, так можно интерпретировать и определение самого
/. Лингвистические взгляды Данте
121
Яанте в «Пире»: «Справедливость (Giustizia), заставляющая нас
любить и действовать правильно во всех случаях» (operare dirittura
in tutte cose — Пир. IV.XVII.6 — курсив наш). Здесь речь идет о
оМ этическом содержании поступка, которое меряется
добродетелью и о котором шла речь в XVI главе VE.
Цитированное определение справедливости дано в главе IV.XVII
«Пира», где комментируются строки из канцоны (ст.84-88), в
которых, по словам Данте, «приводится полное определение
нравственной добродетели согласно тому, как она определяется
Философом во второй книге «Этики»: это сознательно избираемый склад
(abito eligente), состоящий в обладании только серединой (lo qual
dimora in mezzo solamente)216, далее рассматриваются все
добродетели, как они перечислены у Аристотеля (где их не четыре, а
одиннадцать)217, но и в этом случае справедливость выступает как
завершающий элемент перечня.
Заметим еще одну перекличку эпитета curiale с этической
тематикой. В современной Данте латинской литературе, например в
хрониках, это слово само выступало как название добродетели, но
не моральной, а светской, синонимичное провансальскому
термину cortes (по-русски этому соответствовало бы, например, «веже-
ство», «вежественный»). П. М. Бицилли отмечает в «Хронике»
Салимбене трафаретные и частотные эпитеты, которыми
характеризуется каждое действующее лицо. Их обычно три: curialis,
liberalis и largus, из которых curialis наиболее устойчив [Бицилли
1916, с. 83-85]. С этим употреблением перекликается дантовский
комментарий к трем (светским) добродетелям, «которые,
поскольку мы можем их обрести, делают человека особенно приятным»
(Пир.II.X.7): мудрость, величие и куртуазность. Как раз на кур-
Щазности он останавливается подробно и замечает: «И пусть по
поводу этого слова не заблуждаются бедные простаки (li miseri
volgari)218, воображающие, что куртуазность (cortesia) не что иное,
Ср. в лат. пер. «Этики»: «Est ... habitus electivus in medietate existens».
Данте точно следует этому определению в прозаическом комментарии: abito elettivo
consistente nel mezzo (Пир. IV. XVII.7). Русский стихотворный перевод Третьей
канцоны «Пира» (ст. 85-88) совершенно не передает этого смысла «И Этика,
ремудрость отражая, / Как истину — зерцало, / Нам только в середине указала/
ГРУ свободных сил». В прозаическом комментарии abito elettivo переводится
ак «способность к выбору», что также неверно, ибо у Аристотеля специально
г°варивается, что способность и добродетель это разные вещи. Ср. дантовское
ассуждение о «середине» по отношению к физическим величинам: « ...по мне-
"ю Пифагора, середина (lo mezzo) — самое благородное (nobilissimo) из мест,
2^имаемых четырьмя простыми телами (corpi simplici)» (Пир. III.V.5.).
При этом сделана оговорка: «Эти добродетели разными философами
разлились и перечислялись по-разному» (nnp.IV.XVII.3).
Пол ксическая перекличка с первой главой «Пира» и с VE, хотя и с противо-
0>кным оценочным значением.
122
Часть I. Лингвистические взгляды Данщ
как щедрость (larghezza); щедрость лишь особая разновидность
куртуазии, а не куртуазия вообще! (поп generale cortesia)». И да%
лее переход к прямым этическим оценкам: «Куртуазность и поря*
дочность (onestade) — одно; а так как в старые времена добродете*
ли (le vertudi) и добрые нравы (И belli costumi) были приняты црй
дворе, а в настоящее время там царят противоположные обычаи
слово это было заимствовано от придворных и сказать "куртуаз-
ность" (cortesia) было все равно, что сказать "придворный
обычай" (uso di corte — Пир.И.Х.7-8)»219. Это построение в
некоторых отношениях (в том числе своей этимологизацией слова
куртуазный) напоминает дефиниции эпитетов aulicum и curiale;
и видимо, существенной для этих определений, ориентированных
на идеальный «двор», а не на реальные дворы, является
финальная оговорка Данте, предваряющая пространную политическую и
этическую инвективу: «Если бы это слово позаимствовали от
дворов [правителей] (dalle corti) сегодня (oggi), в особенности в
Италии, оно ничего другого не означало бы, как гнусность» (turpezza —
Пир.И.Х.8)220.
Анализ средневековых латинских источников [Schmidt 1990]
свидетельствует о многозначности и амбивалентности слова curia;
как синоним слова aula оно обнаруживает тот же диапазон
значений: от 'скотного двора* (и даже 'скотобойни' — curia factorialis)
до 'царствия небесного' (curia celestis). Характерно, что
противоречивость и размытость основного значения слова curia ('двор как
окружение правителя, властелина') осознается и самими
авторами. Так, в одном весьма показательном тексте XII в. De nugis
curialium («О придворных безделках») curia характеризуется как
социальное образование, изменчивое и разнообразное (mutabilis et
varia), локально приуроченное и кочующее (localis et erratica),
никогда не идентичное самому себе (sibi sepe dissimilis) [Schmidt
1990, S. 18]. В конечном итоге автор этого сочинения Вальтер Ман
дает следующее определение «курии», перефразируя известное
высказывание Августина о категории времени: «In curia sum, de
curia loquor, sed quid ipsa sit non intelligo» (Я пребываю в курии,
рассуждаю о курии, но что же такое она есть, не ведаю — там же,
219 О переосмысливании понятия cortesia (curialitas) у Данте в сравнении с
чисто внешними, этикетными формулами провансальской куртуазности см. [Vallone
1950].
220 Характерно, что это слово употребляется в качестве лингвистического оде*
ночного термина в VE, где речь римлян названа безобразнейшей из всех наречии
италийцев: ytalorum vulgarium omnium (!) esse turpissimum (I.XI.2), причем
мотивируется это уродством «нравов и обычаев» римлян (morum habitumque
deformitate — там же, ср. costumi в цитированном месте из «Пира»). Об
этическом аспекте этого слова см. выше, с. 71 прим. 114.
mb /. Лингвистические взгляды Данте 123
IS). Из этого определения следует, что в социальном
мироустройстве curia оказывается столь же необходимой формой жизни,
каковой является время в мире физическом, и потому определить
такое отвлеченное понятие, как «общество», столь же трудно, как
постичь философский смысл категории времени. Для
семантического развития слова curia (и производных от него curialis,
curialitas), по данным средневековых источников, характерно то,
что поляризация положительных и отрицательных смыслов
происходит внутри этих лексем и всецело зависит от позиции
наблюдателя и от конкретного объекта. Как показывает анализ
соответствующих терминов на романском средневековом материале (см.
специальную работу об этом [Molk 1990]), за фр. cortois(ie) и пров.
cortes(ia) (из ср.-лат. curtensis < cohors) закрепляются
положительные значения образцовых форм социального поведения и
обобщенное, собирательное значение нормы как таковой. Интересно
отметить, что в латинском перечне обязательных рыцарских
«добродетелей», который включает семь дисциплин или умений
(curialites) по аналогии с семью свободными искусствами (ср. и
др. семичастные реестры: семь добродетелей, семь смертных
грехов и т. д.), умение слагать стихи (versificari) стоит на последнем
месте, после умения ездить верхом (equitare), плавать (natare),
стрелять из лука (sagittare), состязаться в поединке (cestibus
certare), охотиться и играть в шахматы (schaccis ludere). В то же
самое время романские литературные источники (рыцарский
роман и эпос) показывают, что определение cortois, cortes раньше
всего появляются в тех контекстах, где характеризуются речи и
высказывания персонажей. Любезные речи, вежливое и
обходительное обращение составляют главную характеристику
куртуазного героя и — что особенно важно — не являются признаками
его сословной принадлежности, а достигаются через Любовь,
которая способна возвысить до этого состояния любого человека,
независимо от его социального происхождения. Оппозиция
высокого и низкого, достойного и недостойного в новых языках
закрепляется парой противопоставленных терминов: cortois, cortes —
Vllain, vilan (ср. симметричную антиномию античной культуры
Urbanitas — rusticitas). На возможность преодоления этой куль-
тУрной дихотомии указывают такие распространенные в неола-
тинских языках оксюморонные словосочетания, как, например,
пРов. cortesa vilana ('куртуазная простолюдинка') или глагол
er*cortesir ('становиться куртуазным'). Эти языковые факты и их
Равнение с латинскими примерами убеждают нас в том, что дан-
°вское определение curiale применительно к языку и в особенно-
и применительно к языку простонародному (vulgare) калькиру-
итальянское словоупотребление volgare cortese, отражая тем
124 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
самым значимый для новых культур на народных языках переход
от низкого (докультурного) состояния к высшему221.
Возвращаясь к аналогии или «пропорции» между словом curiale
среди определений языка и справедливостью среди кардинальных
добродетелей, необходимо подчеркнуть, что мы ни в коей мере не
имеем в виду утверждать однозначное соответствие между дантов-
скими эпитетами и всеми четырьмя добродетелями классической
и средневековой традиции. Пытаться соотнести каждый из
эпитетов с одной из добродетелей было бы, вероятно, наивно; во всяком
случае, на наш взгляд, ничто не указывает на возможность такого
«отождествления». Речь идет только о соответствии тетрад в
целом и их структур, т. е. о построении тетрады как
противопоставления трех равноправных элементов одному обособленному от них.
В этой роли обособленного элемента, противостоящего остальным,
в тетраде добродетелей выступает справедливость, а в тетраде
эпитетов языка — curiale, который, как будет показано ниже, может
в какой-то мере претендовать на «обобщающую функцию».
Только у этих двух элементов, которые соотносятся друг с другом на
чисто структурных основаниях, обнаруживается и «материальная»
семантическая связь, воплощаемая в символе весов.
Сам этот мотив — взвешивание как образ «итоговой оценки»222
и весы, хранящиеся «только в высочайших куриях» (наподобие
современных палат мер и весов), — возвращает нас к тому
основному понятию, с которого собственно и начались «рациональные»
поиски италийской речи, — к понятию меры и, соответственно,
того простейшего знака (а не просто признака, как мы уже
отмечали выше), которым измеряются «наши поступки как
италийцев». Последний элемент в ряду эпитетов не только возвращает
нас к отправной точке анализа (к понятиям меры и знака), но и
221 Ср. невозможность обратного процесса, перехода от куртуазного уровня к
«подлому» состоянию. На это указывают такие отмеченные У. Мельком
языковые факты, как непродуктивность словообразовательной модели с приставкой des-
в ст.-фр., ср. пров. descortes, получившее специализированное значение; дескорт —
это жанр, основанный на сознательных перебоях строфики, метра и музыки и
призванный отражать беспокойное состояние влюбленного [Mblk 1990, р. 38].
Заметим, кстати, что состояние душевного разлада передавалось также при помощи
«говорения на разных языках» в пределах одного поэтического произведения.
222 Весы, считавшиеся символом правосудия, являются атрибутом как богини
Фемиды, так и архангела Михаила, предполагаемого вершителя
эсхатологического суда. Ср. «"Весовое" представление о процедуре получения общей оценки
соотносится с рядом черт аксиологического текста и его компонентов.
Асемантический образ взвешивания как бы развертывается в семантико-синтаксическу*0
структуру текста. "Весы" являются своего рода ключевым образом, через
который могут быть осмыслены и приведены в систему характеристики
аксиологического аспекта языка и речи» [Арутюнова 1988, с. 73].
гпъ I. Лингвистические взгляды Данте 125
мим этим знаком (in hoc signo) утверждает реальность суще-
с ования «нас» как италийцев, сопрягая эти первоначальные по-
ылки анализа с утверждением о существовании общеиталийской
«курии»223-
Это место, уже цитированное выше, где утверждается, что «чле-
Н0В» италийской «курии» объединяет не правитель (как в
централизованных монархиях), а «благодатный светоч разума». На
самом поверхностном уровне эти слова в общем понятны: как
представители разных земель в «парламенте» принимают
взвешенные решения, так и лучшие поэты Италии (о которых идет
речь в начале II книги трактата и которые, как уже отмечалось,
достойны пользоваться «искомым языком») способны «взвешивать»
язык. Они, как явствует из высказанных ранее оценок поэтов, не
привязаны к порокам своих диалектов и в этом смысле
составляют общеиталийское сообщество. Это значение «курии» в общем
очевидно и в той или иной мере отмечалось разными
комментаторами, однако многие из них не ограничиваются этим и пытаются
выявить более глубокий смысл такого «общего знаменателя»
италийского общества. Прежде чем коснуться конкретных
трактовок, отметим один общий для них недостаток: как правило,
комментаторы этого пассажа исходят из идеи национального
единства Италии как некоторой данности, более или менее
очевидной224, и соответственно пользуются понятиями «национальный
язык», «литературный язык» чуть ли не в современном нам
значении (и понимании) этих слов. Между тем, как отмечалось выше,
проблема национального в эпоху Данте еще только осознавалась
впервые, тем большим анахронизмом являются и
соответствующие лингвистические термины.
Тем не менее вполне правомочна постановка вопроса: каким
конкретным лингвистическим содержанием наполнено понятие
«благодатный светоч разума» (gratiosum lumen rationis)? Как
справедливо отмечалось некоторыми из комментаторов, если бы речь
^ла о самом божественном даре разума вообще, то он был бы
единым для всего человечества, значит, речь идет о каком-то другом
ratio, объединяющем только италийцев (т. е., забегая вперед —
223 V
л взаимосвязи «первичного», «минимального» и, с другой стороны, всеоб-
*^его, ср.: «Речи, чтобы быть общезначимой, необходимо опираться на некото-
1е первичные элементы, себе тождественные при всех взаимоотношениях и
тому представляющиеся атомами речи» [Флоренский 1990, т.2, с. 232] (курсив
то по [^*паУ 1956, р. 153], если Данте говорит о языке всего полуострова,
Ст ПреДполагается, что у него до того было представление об италийском един-
(nat' ^оторое можно было бы передать словами «королевство» (regnum), «нация»
126 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
даре разума, явленном в языке). Что касается божественного и
человеке) дара разума и дара слова и их соотношении, то Данте
утверждает следующее: «Нашему дарованию (ingegno) в каждое
его проявлении (operazione) положен предел не нами самими, а
природой (universale natura); и нужно помнить, что границы
(termini) нашего дарования более широки в области [мышления]
[a pensare], чем в области слова (a parlare), а в области слова шире,
чем в области жестов (ad accennare). Вот почему, если наша мысль
(pensiero), причем не только та, которая не достигает совершенно-
го познания (perfetto intelletto), но также и та, которая его
достигает, [оказывается] сильнее слова (ё vincente del parlare), мы тут
не при чем (букв, «не мы тому создатели» — fattori), и осуждать
за это следует не нас» (Пир. III.IV.11-12).
Этот конкретный «признак» (ratio), объединяющий всю
Италию, комментаторы пытаются определить, анализируя, вполне
справедливо, контекст и формулу gratiosum lumen rationis.
Однако ответы их лежат в основном в области политико-юридической.
Так, Г. Винэ (справедливо связав образ весов с категорией
справедливости) пытается увидеть в исследуемой формуле описание
некоей идеальной абстракции единого правительства — «курии»,
высшей ступени «разумности» (razionalita) государственного
устройства и духовного единства нации [Vinay 1956], А. Мариго
видит в ratio отголосок формулы ratio iuris, т. е. «римское право», и
полагает, что оно как раз и выполняет функцию объединяющего
начала для Италии при отсутствии единого государства225.
Такие трактовки, вероятно, были бы вполне правомочны в
контексте исследования политических, юридических или
общефилософских взглядов Данте. Весьма вероятно, что в таком контексте
и соответствующие места из VE могли бы получить убедительное
толкование, но, с точки зрения нашей проблематики, здесь
упускается как раз лингвистическая сущность трактата. Кроме того,
определять языковое единство Италии и вообще италийское
единство через государственное устройство, и тем более через закон,
неверно с точки зрения «уровней» анализа, выделяемых самим
Данте. Как мы видели, в той самой XVI главе трактата, где
вводится понятие меры языка, утверждается, что общечеловеческие
поступки меряются добродетелью, поступки нас как граждан
меряются законом, а нас как италийцев — языком, нравами и обыча-
225 На него опирается в комментарии ad loc. Голенищев-Кутузов:
<■Благодатный светоч разума (gratiosum lumen rationis) — проистекает, по мнению Данте»
из римского права, единого в разобщенных провинциях и городах Италии...» (Го*
ленищев-Кутузов, с. 578), хотя комментарий Мариго был многократно оспорен.
mb I. Лингвистические взгляды Данте 127
мИ таким образом, закон не может определять италийской спе-
цифики226.
Не претендуя на полный анализ этой категории, которая, без
сомнения, может обладать еще невыявленными связями с чисто
богословскими идеями, ограничимся только одним кругом
контекстов, а именно употреблением слова ratio в самом трактате.
Ближайшее употребление этого слова, вернее его деривата, мы
находим опять-таки в той же XVI главе VE, которой открывается
анализ четырех эпитетов, а именно в том уже
комментировавшемся предложении, которое декларирует переход от эмпирических
поисков языка к дедуктивным (rationabilius investigemus —
I.XVI.1). Таким образом, главы XVI-XVIII замыкаются
лексическим кольцом227, имеющим, по-видимому, методологический смысл:
«рациональным», рассудочным путем анализа мы приходим к
«рассудку», «разуму» (ratio) как финальной, если не итоговой точке
этого анализа. Или же наоборот — тот путь, который в итоге
приводит к термину ratio, тем самым заслуживает определения
rationabilius.
Первое в трактате употребление ratio мы встречаем в главе III,
в которой формулируется специфика человеческого разума и
языка. Как говорилось выше, вторая глава анализирует отличия
коммуникации у человека от коммуникации у ангелов и животных и
завершается выводом, «что речью был одарен только человек».
Этот же тезис повторен в начале IV главы. Третья глава объясняет
причину этого, которая заключается в человеческом разуме; в
отличие от животных, «человек движим не природным инстинктом
(поп nature instinctu), но разумом» (sed ratione), а в отличие от
ангелов, обременен «оболочкой смертного тела». При этом сам
разум (ratio) у разных людей различается либо самой
способностью к различению вещей (circa discretionem), либо суждением о
них (circa iudicium), либо способностью к выбору (circa electionem).
Заметим, что все эти три слова в других контекстах применялись
к языку: о discretio228 см. специально выше с. 79-80, пассаж об
Тем не менее соседство критериев добродетели, закона и языка (два крайних
Уровня, как мы видели, актуальны для трактата именно в их соотнесении) и сама
°социация с rati0 iuris, какой бы отдаленной она ни была для данного
словоупотребления, на фоне других «юридических» ассоциаций curiale («суд» и др.)
ворит о том, что юридический аспект может оказаться здесь плодотворным
20тя он выходит за пределы нашей компетенции).
И это кольцо как бы повторяется в меньшем кольце, связывающем начало и
g "ец самой главы XVIII: Neque sine ratione (Не без оснований — 1.XVIII.1)...
228 ^^ lumine rationis (благодатным светом разума — I.XVIII.5).
и, м к В ^ И.VII.2: rationis discretio vocabulorum — разумный (обоснованный
CjL ' •» даже расчетливый, по-ит. ragioniere значит 'счетовод,' 'бухгалтер') отбор
128 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
«осознанном выборе» (abito eligente) из III канцоны «Пира» и ком-
ментирующей ее главы (ПирЛУ.ХУП) цитировался в связи с ари-
стотелевской серединой и в перекличке с анализом curiale; нако-
нец, «суждение» (iudicium) прямо отсылает к теме суда и
справедливости, связанной с тем же словом.
Начиная с цитированного употребления: I.III.1 (2 раза в одном
предложении), слово ratio и его производные повторяются в трак-
тате многократно, но нигде не достигают такой частотности, как в
этой главе (I.XVII): на 20 строк 11 употреблений, причем, в
отличие от последующих употреблений, здесь решительно преобладают
субстантивные формы (7 существительных на 4 прилагательных).
В последующих главах это слово (с производными) встречается 28
раз, из них 15 существительных и 13 прилагательных, но за
немногими исключениями это слово употребляется как вводное,
оценочное229, в контекстах типа «разумно предположить», «разумнее
верить», «противно разуму» (таким образом, в этой «вводной»
оценочной функции употребляются не только адъективные, но и
субстантивные формы) или же в значениях «рассуждение»,
«обсуждение», «суждение» (см. I.IX.l, I.IX.5, I.XI.2), также
носящих «метаязыковой» характер, т. е. относящихся к самому
тексту, в котором они встречаются, или к обсуждаемым в нем
построениям230. Своеобразным пиком этой функции становится
упоминавшийся пример I.XVI.1, где слово rationabilius выполняет
действительно «методологически» значимую и осознанную мета-
языковую функцию (отметим, что производные от ratio: rationabilis,
rationabiliter, rationabilius, rationalis, за исключением двух
примеров, встречаются только в VE, см. «Конкорданс к латинским
произведениям Данте» [Operum Latinorum Concordantiae]).
Примечательно, что единственное исключение в первой книге
трактата также относится к речи (по существу — к артикуляций,
членораздельности), говоря о приходе людей после Вавилонского
рассеяния в Европу, Данте определяет: «...тогда, быть может,
впервые из рек ... Европы напились разумные уста» (rationalia guctu-
ra) — т. е., видимо, членораздельные, говорящие уста (I.VIII.1)231 •
229 В одном случае во второй книге VE (II.VII.2) ratio относится не к оценке
своего собственного текста, а к обсуждаемому отбору слов, который должен
совершить поэт.
230 Более пространная форма такой оценки в I.VI.2: «У всякого разум
настолько извращен (tam obscene rationis est), что он уверен...».
231 Два особых примера во второй книге, подобно гл. I.III, относятся к
соотношению разных начал; в II.II.6 упоминается учение о трех душах человека: расти'
тельной, животной и разумной (vegetabilis, animalis et rationalis), а глава II.X.*
открывается утверждением, что «человек животное разумное» (rationale anim*'
homo est).
цастпь I. Лингвистические взгляды Данте
129
Итак, глава III остается основным местом в трактате, где речь
идет о ratio. Именно здесь следует искать смысл того
употребления, которое нас интересует (т. е. I.XVIII.5). В этой главе, как
уже говорилось, речь идет о разумной природе человека, о
соотношении в нем духовного и телесного (т. е. о промежуточном
положении между животными и ангелами), и из этой разумной
природы выводится язык, специфический для человека. Это место уже
подробно комментировалось выше, отметим только очень близкое
рассуждение в «Пире», интересное в двух отношениях: это, во-
первых, тема света (ср. «свет разума» в I.XVIII.5), во-вторых,
объединение вместе с речью и других видов семиотической
деятельности: «...среди животных только человек говорит (parla) и совершает
действия и поступки (reggimenti e atti), называемые разумными
(razionali)». Эта формулировка развивает определение действий
(operazioni), свойственных разумной душе (anima razionale)», в
которых божественный свет сияет всего ярче (dove la divina luce
piu espeditamente raggia), в речи (parlare) и действиях (atti),
которые обычно называют поступками и поведением (reggimenti e
portamenti) (Пир.III.VIII.8). Это объединение речи и поведения
близко к постановке вопроса в гл. XVI VE.
Далее в третьей главе VE из двойственной природы человека и
из его разумности выводится то определение знака, которое уже
подробно обсуждалось выше, — знака как двусторонней
сущности, обладающей чувственной и рациональной сторонами. Заметим,
что именно в этом определении и содержится основное скопление
употреблений слова ratio и производных (8 из 11). То есть
кульминацией рассуждения о разуме (ratio) становится определение
знака, но задача поисков «общего знаменателя» италийцев в I.XVI.3
формулируется, повторяем, как задача поисков «простейшего
знака». Иными словами, ratio как принцип, объединяющий
разрозненных членов италийской «курии», и curiale как признак,
связанный с «мерой», возвращают нас к одной и той же проблеме и к
одному и тому же способу ее решения. Мерой и объединяющим
принципом «италийского» оказывается языковой знак, т. е. сам
искомый язык.
В пользу этого говорит и окружение слова ratio: о «световой»
природе языка говорилось уже много, а эпитет «благодатный»
указывает, по всей видимости, на божественный дар речи;
первоначальный язык, до смешения, Данте называет «языком благодати»
№ngua gratie — I.VI.6).
Иными словами, потенциальное единство италийцев Данте ви-
^ит как раз в самом языке, находящемся in statu nascendi, и это
^еШение вполне согласуется с тем простым предварительным
решением («курия» как сообщество сведущих в языке), которое
упоминалось выше.
S'*;,k 3I0I
130 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Можно пойти несколько дальше в этой интерпретации: в «эм-
лирических» главах трактата Данте не раз называет италийскую
речь «разноголосой» (dissonans), а «сенсуальную» (sensuale) сто-
рону знака определяет как звук (sonus est — I.III.3). Если пред.
ставить дантовское понятие знака в виде двухъярусной структу.
ры, то в верхней части этой «дроби» (иначе говоря, в числителе)
должна находиться «разумная» (rationale) сторона языка-знака:
то, что и в человеке, и в человеческом языке «повернуто» к Богу
(означаемое), в то время как «означающее» обращено к
физической природе живого звука и, таким образом, должно оказаться
внизу, т. е. в знаменателе нашей «дроби». Не исключено поэтому,
что дробление италийской речи рассматривается Данте как
нарастание звуковой оболочки языка, увеличение «знаменателя». Этот
процесс может мыслиться как убывание «целого» (всего языка, и
соответственно восприниматься как угрожающее — для данного
языка — состояние) только при условии, что «разумная» сторона
знака (его «числитель») принимается за величину постоянную.
Мы склонны считать, что к «разумному» — в данной теории —
относится то, что генетически связано с «божественным» в
естественном человеческом языке, а этим божественным началом, как
мы уже разбирали, является forma locutionis. Она и служит тем
благодатным светом, «разумной» первоосновой италийского
общества, которая восполняет недостаток других социальных
институтов. При том что Данте признает внутреннее единство
итальянского языка, он также четко представляет себе, что заботиться о
сохранении своего языка должен сам человек, постоянно
извлекая эту форму из толщи языка.
Любопытно, что очень сходную трактовку отношения языков и
Языка предлагал С. Булгаков: «Единство языка изначально, оно
лежит в природе языка, в его основе. Множественность же есть
состояние языка, его модальность, и притом болезненная», и
далее: «Здесь (в нашем рассказе о столпотворении. — Л, С.) не
говорится о создании новых языков, но о понимании речи языка
одного, так и остающегося в сущности единым... А затем внезапно
словно упало покрывало многоязычности и они перестали
понимать друг друга». Пятидесятницу же он комментирует так:
«...исцелялась его (языка) болезнь, состоящая в затуманенности
смысла, и возвращалась естественная, первозданная его прозрачность
и единство... Вследствие этого снималась пелена многоязычия»
[Булгаков 1953, с. 35-37]. Отношение религиозных философов к
множественности языка как к болезни (ср. более сложную точку
зрения Н. С. Трубецкого на многообразие языков vs дробление
языка [Трубецкой 1923]) неожиданно проливает свет на неявный смысл
слова curia в разбираемой дефиниции и на значение (почти заклй-
ь I. Лингвистические взгляды Данте
131
нательное) двенадцатикратного повтора этого корня на небольшом
участке текста. Этот, казалось бы, чисто количественный
показатель «перевешивает» чашу весов на сторону языка куриального
(«праведного») в оппозиции к вавилонскому смешению,
делателей которого Данте называет incurabilis homo (неисцелимый
человек — I.VII.4) — паронимическое (почти каламбурное)
противопоставление к curiale. Таким образом, «итоговый» термин curiale
указывает не на середину, а на правильный выбор альтернативы,
где «целительное» состояние «собирательности» — curia,
противопоставляется греховному состоянию рассеяния (ср. лат. incuria
'нерадивость'). В этом религиозно-философском контексте термин
куриальный следовало бы перевести словом 'праведный' (в рус.
пер. «правильная речь»)232. Что касается лингвистического
содержания этого термина, то оно может быть определено по аналогии
с нашей интерпретацией «аулы». Там свойство искомого языка
соотносилось со свойством локуса «быть всеобщим», здесь же оно
соотносится с исполнительной функцией курии. Иными словами,
«эпитет» куриальный означает осуществление главной
обязанности этого языка — «быть мерой».
Анализ заключительного фрагмента первой книги трактата, т. е.
четырех эпитетов-терминов233, показывает высокую
семантическую насыщенность этих определений и в то же время позволяет,
хотя и с определенной степенью гипотетичности, понять, какими
чертами обладал «искомый язык» в глазах Данте. Это язык,
имеющий своим источником божественный свет (ср. божественный
свет разума), сохраняющий баланс изменчивости и стабильности,
принадлежащий всему итальянскому сообществу (и в частности —
обществу лучших поэтов) и одновременно являющийся
достоянием одного поэта, наконец, язык, направленный «сам на себя», —
язык поэтический; поэтический язык является единственной
сферой языковой деятельности, где осуществляется его функция
«меры». Технике исполнения— как делать стихи на
итальянском языке — посвящена вторая книга VE, но именно она
(руководство по поэтике) осталась недописанной, обрываясь на середи-
Не Фразы первого абзаца XIV главы (анализ этой технической части
тРактата см. [D'Ovidio 1932, р. 147-167], [Pazzaglia 1967]).
Ст Отметим, что в этическом учении бл. Августина справедливость противо-
2з"т гоРдьше [Bourke 1975], которая и привела к столпотворению.
Че Важно предостеречь от абсолютизации этого терминологического характера
Х1ХлРбХ эпитетов. За пределами их формальных определений (т. е. глав I.XVI-
Кн ' 0ни могут употребляться и в несколько иных значениях (так, во второй
Ге трактата illustris употребляется в значении «возвышенный» и т. п.).
132 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этот вывод в свою очередь вызывает ряд вопросов, в том числе
весьма традиционных — от самых общих (о чем этот трактат, о
языке или о стиле и, соответственно, следует ли относить его к
лингвистике или к риторике)234 до более конкретных (о
диалектной и социальной базе литературного языка) и даже совсем
специфических (остался ли VE неоконченным из-за незавершенности
самой излагаемой в нем лингвистической концепции)235.
Подобные вопросы и поиски их разрешения продолжают привлекать
внимание современных исследователей. Так, в недавно вышедшей
книге американского ученого А. Мадзокко «Лингвистические
теории: Данте и гуманисты» [Mazzocco 1993] шесть вопросов,
вынесенных в заглавие соответствующих параграфов, определяют
структуру главы, посвященной анализу дантовской концепции vulgare
illustre. Вопросы формулируются следующим образом: является
ли vulgare illustre (1) синтезом лучших языковых элементов всех
народных языков Италии или усовершенствованием
флорентийского; (2) конкретным обработанным языком или абстрактным
метафизическим феноменом; (3) результатом эмпирического метода
исследования или априорного рассуждения; (4) достоянием
интеллектуальной элиты или всего народа? (5) Стал ли на самом деле
vulgare illustre маяком для итальянской нации в процессе ее
формирования? (6) Действительно ли концептуализация vulgare illustre
полна противоречий, которые, в конечном счете, стали
препятствием к завершению трактата?
По каждому из этих вопросов автор высказывает свою точку
зрения, объясняя, почему одно из предлагаемых на выбор
решений оказывается для него более приемлемым, чем другое.
Показательно, что трактовка vulgare illustre как языка поэтического (см.
[Dragonetti 1961], [Corti 1981a], [Corti 1982] и др.) в данной
работе вообще не учитывается как заведомо неправильная, якобы
исключающая из рассмотрения язык прозы (с.251, сн. 116), что, ра-
2234 Ср.: «Нечеткость определения "Volgare illustre" у Данте вызвала полемику
между учеными по поводу того, имел ли Данте в виду язык или стиль, между тем
как, по-видимому, для Данте понятие языка и стиля не различались» [ГуковскаЯ
1940, с. 46]. Или: «Как это часто бывало в средневековых поэтиках, Данте не
различал проблемы, связанные с языком в целом, и проблемы художественного
употребления и литературной обработки языка» [Челышева 1990, с. 94].
Ретроспективный обзор разных точек зрения, отразившихся, в частности, в разных
заглавиях трактата (De vulgari eloquio/eloquentia) см. [Peirone 1975].
235 Мысль о том, что Данте не сумел довести до конца VE из-за
противоречивости его лингвистической теории, которая зашла в тупик, неоднократно
подчеркивалась в работах Г. Винэ.
Часть I. Лингвистические взгляды Данте
133
зумеется, неверно (поэтический язык никак не сводится к языку
стихотворному). Создается впечатление, что А. Мадзокко обратился
к Стилизации под старинную форму questiones, представив
лингвистическое учение Данте в виде некоей суммы questiones super
pantem с целью обойти те вопросы, которые по каким-то
причинам оказались далекими от его собственных интересов.
С нашей точки зрения, теория поэтического языка составляет
ядро дантовскои доктрины, и это прочтение позволяет выйти за
пределы порочного круга неразрешимых вопросов и
приблизиться к пониманию лингвистических взглядов Данте как целостной
теории236.
Итак, подведем некоторые основные итоги, не претендуя при
этом на окончательность выводов, ни — тем более — на
исчерпанность темы. Первая книга VE выполняет функцию общего
введения к трактату о красноречии на народном языке и обладает
всеми чертами законченного сочинения, в котором выстраивается
единая концепция языка, от проблем его природы и
происхождения до конкретной судьбы италийского вольгаре в настоящий
момент (т. е. к началу XIV в.). Это именно лингвистическое введение
к руководству по поэтике (которая, напомним, в своей основе
является частью лингвистики, ср. [Zumthor 1973, р. 10]),
завершающееся определением искомого всеиталийского языка.
Данте определяет искомый язык как меру для всех остальных
языков Италии и способ преодоления огромного
территориального разнообразия всех видов языковых единиц (слов, конструкций
и выговоров). Следует признать, что такое определение является
и лингвистически точным, и исторически достоверным. Несмотря
на то что современное представление о литературном языке
ассоциируется с целым рядом признаков (в некоторых исследованиях
число параметров доходит до 15-ти, см. по этому поводу [Толстой
1988]), все же для литературного языка как особой языковой
системы «единственно важной конституирующей чертой»
признается преодоление нефункционального разнообразия языковых
единиц всех уровней: «...если в одной из синхронных разновидностей
языка данного народа преодолевается нефункциональное
разнообразие единиц (оно меньше, чем в других разновидностях), то эта
П ъ ^астоятельная необходимость такого подхода была сформулирована
• В. Менгальдо, подготовившим новое комментированное издание VE; за год до
г° выхода он писал: «С первых лет, как я стал заниматься этой темой, и до
г°Дняшнего дня на книжном рынке не появилось ни одной цельной интерпре-
Ции этого маленького трактата Данте, интерпретации, с которой по-настояще-
л'v?ЛеДовало бы считаться. Конечно, это наблюдение может льстить твоему само-
оию, но недолго, на самом деле оно заставляет задуматься над состоянием
аших знаний» [Mengaldo 1978, р. 7].
134 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
разновидность служит литературным языком по отношению к дру.
гим» [Панов 1966, с. 56]. Автор этого определения М. В. Панов
подчеркивает, что другие свойства, такие как нормированность,
стилистическая дифференциация и обязательность для всех
членов данного коллектива, присущи любой языковой системе
(говору, диалекту), а «поливалентность» (способность служить разным
целям общения) не свойственна литературному языку
изначально , но возникает лишь в процессе его развития (там же, с. 56,
сн.1) (разрядка наша. — Л. С). Поскольку в гуманитарных
областях терминологическая строгость соблюдается лишь в очень
ограниченном числе случаев и контекстов, мы предпочли в нашем
изложении по мере возможности избегать термина «литературный
язык». Это представлялось целесообразным еще и потому, что
первоначальное становление литературных языков, как правило,
происходит в сфере поэзии (для романских языков исключение
составляет каталанский). Данте устанавливает эту закономерность
для итальянского языка, подчеркивая эталонную функцию
поэтических текстов, что, по его мнению, «дает некоторое
преимущество стихотворцам» (que quendam videntur prebere primatит). Он
утверждает, что vulgare illustre «приличествует столько же
прозаическим, сколько и стихотворным произведениям (tarn prosayce
quam metrice). Но ... применяющие ее (эту речь. — Л. С.) к прозе
берут ее больше у слагателей стихов, и ... сложенному стихами
приходится, видимо, оставаться образцом для прозаиков, а не
наоборот...» (II.1.1).
Вопрос о диалектной основе итальянского литературного
языка рассматривается в VE только как гипотетическое допущение,
которое затем сразу же отвергается. «Сиятельный народный»
(vulgare illustre) язык служит для всей территории италийской
речи (vulgare latium) и в этом смысле является всеобщим языком
итальянцев, но владеют им лишь единицы. Данте особо
оговаривает, что эта речь не присуща нам ни по роду (gratia generis), ни
по виду (gratia speciei), а только по особи (ergo individui gratia —
II.1.6.). Хотя процедура установления «носителей» искомого
языка — отграничение поэтов от рифмачей — внешним образом
напоминает характеристику литературного языка с точки зрения coj
циологической, т. е. путем выделения совокупности его носителей
из общего состава людей, говорящих на этом языке, тем не менее
никаких социолингвистических выводов из этого ни в коем
случае не следует. В дантовских построениях vulgare illustre не
имеет ни территориальной, ни социальной приуроченности. При этом
необходимо особо подчеркнуть, что в VE содержатся первые
прямые свидетельства об итальянских диалектах XIII в.
Uactnb 1- Лингвистические взгляды Данте
135
Для теории литературного языка начального периода его фор-
мирования важно было подчеркнуть отрыв (или «отклонение», как
сказано в VE) итальянского языка от местных диалектов, и
заслуга флорентийца Данте как раз и заключается в том, что он
осознал необходимость установления дистанции, отделяющей язык
«Комедии» (и поэтический язык в целом) от его родной
флорентийской речи (при тождестве их материального субстрата). Этого
основополагающего тезиса дантовской теории не могли признать
филологи XVI в., которые мыслили иначе и пытались найти
опору для формирующейся языковой нормы именно в материальном
субстрате (см. наш раздел о языкознании XVI в.). Как ни странно,
но этот тезис не в состоянии оценить и многие современные
исследователи, хотя работ по общей теории литературных языков
накопилось к настоящему времени немало237.
237 В этом отношении весьма показательна новейшая русская книга,
специально посвященная начальному периоду формирования итальянского
литературного языка [Челышева 1990]. С одной стороны, лингвистические выводы
Данте, основанные на его наблюдениях над процессом становления
литературного языка Дудженто (XIII в.), в частности, о роли и соотношении поэзии и
прозы в этом процессе (цитированные чуть выше), в не вполне адекватном
изложении И.И. Челышевой приобретают несколько иной характер: «Данте
рассмотрел лишь одну линию литературы на вольгаре — развитие языка
куртуазной поэзии. <...> Данте, для которого язык прозы был недостаточно утончен,
чтобы служить прообразом volgare illustre, не рассматривал никаких других
литературных традиций, связывавших различные ареалы Италии в XIII в.»
[Челышева 1990, с. 57]. «Между тем, — пишет далее автор, формулируя свой
подход к исследованию путей формирования итальянского литературного
языка, — такие традиции существовали, и их роль в подготовке единого
литературного языка Италии нельзя игнорировать. Для того чтобы определить, какие
литературные традиции влияли на становление вольгаре в XIII в., надо в общих
чертах выяснить, каким образом в памятниках XIII в. выражалось диалектное
многообразие Италии» (там же, с. 57). С другой стороны, языковая практика
Данте (1265-1321), как и всех поэтов его круга, вообще исключается из
рассмотрения, и они, таким образом, никак не участвуют в создании литературно-
го языка. Нетривиальное решение этого вопроса заслуживает того, чтобы быть
процитированным полностью: «Ограничивая исследование XIII в., мы не
включаем в него Данте, хотя частично его поэзия относится к Дуэченто. Но все-таки
м^сто Данте — это место первого из "трех корон" Треченто. Кроме того, тема
язык Данте" практически неисчерпаема и требует иной методики исследова-
Ия> чем творчество его предшественников. И наконец, творчество Данте — это
УЖе развитие литературного языка на основе заложенного на предыдущем эта-
• Это своего рода классицизм, имея в виду образцовый характер его языка и
иля. Данте представлен в работе прежде всего как теоретик (!)» (там же, с. 16).
Рисоединив таким образом Данте к двум другим — значительно более по-
Дним — «венцам» (ит. corona зд. 'венец') итальянской словесности — к Пет-
РьРу6 ^04-1375) и Боккаччо (1313-1375), автор заодно изгоняет из литерату-
jj » Щ в- и стильновистов, обойдя молчанием то обстоятельство, что основатель
Чен StU nuovo ГвиДО Гвиницелли (1230/40-1276) вообще не жил в XIV в. (Тре-
То)- «Но поскольку поэзию "сладостного нового стиля" нельзя отделить от
136 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Причины эволюции естественного языка формулируются Дан-
те как естественнонаучный закон: наш язык (nostra loquela) не
может быть ни долговечным (durabilis), ни постоянным (continua),
а «должен изменяться в связи с расстоянием между местностями
фигуры Данте, — убеждает себя автор, — правомерно отнести ее к следующему
этапу развития литературного языка Италии» (там же, с. 16). Более того: «Не
рассматривается и творчество комических поэтов начала XIV в., классические
образцы которого принадлежат Чекко Анджольери», ибо эта поэзия
«представляет собой по существу комическое отражение стильновизма, где их методы и
принципы оказались "перевернутыми"» (там же, с. 16). Напомним даты жизни
итальянского предшественника Франсуа Винона, Чекко Анджольери: 1260-1310!
Похоже, что исследователь сознательно ставит себе задачу, противоположную
задаче Данте: на исходе XX столетия историк итальянского языка, определяя
свой материал, старательно искореняет все саженцы италийского сада XIII в. с
такой же последовательностью, с какой Данте на заре XIV в. расчищал заросли
в лесу итальянских диалектов. Из исследования о становлении литературного
языка исключается все то, что ведет к этому литературному языку, все
памятники литературы рассматриваемого периода, язык которых не отражает всего
диалектного многообразия италийской народной речи. Невольно возникает
вопрос: почему? Что заставляет автора так сужать свой материал, полностью
исключить тексты того же периода, но с более обработанным языком,
сосредоточиться на отражении диалектных черт в литературных памятниках и даже свести
к этому задачу исследования (ср. уже цитированное: «выяснить, каким образом
в памятниках XIII в. выражалось диалектное многообразие Италии»). Это
станет понятным, если знать, что для «выяснения» поставленного И. И. Челыше-
вой вопроса современному ученому не нужно проводить никаких специальных
разысканий — все диалектные формы в памятниках этого периода выявлены и
тщательно прокомментированы крупнейшими итальянскими учеными в
критических изданиях этих текстов, в подстрочных примечаниях. В своей работе
И. И. Челышева обходится без обращения к каким-либо словарям (во всяком
случае, в библиографии нет ни одного из диалектных, этимологических и др.
словарей итальянского языка, нет работ М. Мейер-Любке и Ф. Ренуара), так
что естественно заключить, что весь диалектный материал, описанный в ее
книге, взят в готовом виде из итальянских критических изданий памятников.
Список этих источников достаточно представителен (см. с. 202). Между тем
отвергаемые исследователем тексты (и поэты-стильновисты, и комические поэты) не
имеют столь подробных в лингвистическом — и специально диалектном —
отношении комментариев, этим обстоятельством, видимо, и определена их
судьба. Нужно заметить, кроме того, что при такой опоре на грандиозную
издательскую деятельность крупнейших итальянских ученых, таких как А. Скьяффини,
А. Кастеллани, Дж. Контини, Ч. Сегре и др. можно было бы ждать от
исследователя некоторой благодарности или лояльности. Однако отзыв И. И. Челыше-
вой об этих ученых довольно суров: «Богатый материал для лингвистического
анализа содержат комментированные издания текстов, как, например, ставшее
классическим издание поэзии XIII в. под редакцией Дж. Контини (PD) или ясе
издание первых памятников итальянского языка, подготовленное А.
Кастеллани (ATI). Однако при исключительном внимании к деталям, языковые
наблюдения в подобных работах как бы замкнуты в рамках одного текста, в лучшем
случае — жанра, и не проецируются на общую ситуацию состояния языка в
определенный период. Так, например, воздвигается стена между исследованием
прозаического и поэтического языка одной и той же эпохи» (с. 4), — чего, как
tfacrnb I. Лингвистические взгляды Данте
137
й течением времени» (I. IX.6.). Поэтический же язык
противопоставляет бесконечному разнообразию природной речи единство.
Это положение имеет для Данте принципиальное значение,
тщательно доказывается и иллюстрируется примерами.
Многие исследователи представляют дантовскую концепцию
единого языка как логическую операцию «сведения многого к
единому», усматривая в этом изобретательное применение
аристотелевского принципа reductio ad unum к лингвистическому материалу
(эта весьма распространенная точка зрения отразилась и в
комментарии Голенищева-Кутузова, см. с. 574, 575). С этим трудно
согласиться. Единство языка для Данте это прежде всего
утраченная ценность, обрести которую можно не иначе, как поставив
своей целью достижение этого единства. Обычная речь не преследует
никаких целей, связанных с организацией языка в целом, и
потому пребывает в том состоянии бесконечного варьирования,
которое описывается в VE: «...если бы мы захотели подсчитать
основные, второстепенные и третьестепенные различия между наречиями
Италии, то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы
дойти не то чтобы до тысячи, но до еще и большего количества
различий» (I.X.7., перев.: I.X.9.). Если в природе каждая вещь
стремится к самосохранению (a la sua conservazione), то в сфере языка
естественным путем этого не происходит. Народный язык сам по
себе не способен к чему-либо стремиться (Пир.I.XIII.6), а потому
не может сохранить себя без чьего-либо сознательного
целенаправленного вмешательства в процесс его естественного развития.
В дантовской модели всеобщей истории языка логическим путем,
путем размышления и «нахождения» (inventio) правил,
создаются вторичные или грамотные языки. Обязательность
установленных раз и навсегда правил сберегает естественный язык от
распада, ибо «грамматика есть не что иное, как учение о неизменном
тождестве (inalterabilis locutionis ydemptitas), не зависимом от
Разного времени и местности» (I.IX.11.). Таков латинский язык.
В трактате «Пир» латинский язык и народный итальянский
Рассматриваются как два языка и сравниваются их преимущества
и НеДостатки, однако языковая ситуация в целом осмысляется как
ь* видели, ни в коем случае не происходит в русском исследовании. Каковы бы
сок Ли м°тивы такой неблагодарности, подобные отзывы, может быть, и спо-
ны убедить «широкого читателя» в наследственной узости итальянской на-
и (от Данте и до наших дней), но есть ведь и специалисты, и просто начитан-
е Филологи, которым известно, что научное наследие, к примеру, Дж. Контини
МойСЧерпыва
ется одной журнальной статьей 1935 г., единственной используе-
де в м°нографии, кроме его издания поэтов Дудженто. В пору не только оби-
зат Ся за итальянскую науку, но и вступиться за нее, хотя бы в виде такого
нУвшегося примечания.
138 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
диглоссия, «раздвоение» одного языка, пребывающего теперь в
виде двух крайностей — искусственного латинского и народного
латинского (vulgare latium, или vulgare Latinorum). «Сиятельный
народный» язык выступает в качестве медиатора этой оппозиции:
он преодолевает диалектную разобщенность и одновременно
предполагает выход из состояния диглоссии. Чтобы подвести к этой
мысли, Данте рассматривает три «начала» языка, имевших место
в человеческой истории: акт творения (язык благодати),
вавилонское смешение языков (все исторические языки) и создание
грамматики (искусственные языки). Грамматика является целиком и
полностью человеческим изобретением. Латинский язык, будучи
языком искусственным (а именно так стали относиться к латыни
начиная с IX в.), приобретает искомые качества единства и
постоянства ценою потери главного свойства речи — быть понятной для
всех носителей. Латинский язык не имеет природных носителей,
и в дантовской иерархии язык, усовершенствованный таким
способом (без участия Бога), является менее благородным, чем любой
из природных языков, лишенных изначального совершенства по
изволению Бога. Поэтому Данте предлагает другой путь. Он видит
единственную возможность возвращения к изначально
правильному состоянию (ср. «вот, один народ, и один у всех язык» Быт
11:6) через создание эталонных текстов (стихотворных и
прозаических) на родном языке. Этот процесс формирования новых
романских языков в книге П. Цумтора был назван «поэтической
структурализацией» языка [Zumthor 1973, р. 57-78] (это
определение было удачно использовано М. Б. Мейлахом в анализе языка
трубадуров [Мейлах 1970; 1975]).
Создание vulgare illustre (теоретическое обоснование
необходимости языка-эталона и его «иллюстрирование» во всем творчестве
Данте) в контексте первой книги VE выступает как своего рода
«искупление» вавилонского проклятия, подобно тому как
распятие было искуплением первого грехопадения. Это в значительной
мере объясняет то, почему Данте придает особое значение
деятельности поэта, и то, как один поэт может говорить за весь
народ.
Именно эта задача и была разрешена «Божественной комедией»»
причем результат оказался уникальным в европейской культуре»
Своеобразие положения «Комедии» в истории европейских
языков хорошо видно из сопоставления двух вполне авторитетных
отзывов о языке поэмы. Один принадлежит итальянцу, филологу
и медиевисту, другой — иностранцу и поэту. Дж. Контини
говорит, что «Комедия» — это единственный из шедевров
европейского средневековья, написанный на языке еще живом, еще
понятном в наше время. Объяснение этому он видит в структурной
ifacrtib I- Лингвистические взгляды Данте
139
неподвижности и консервативности итальянского языка, в печати
аристократизма, лежащей на всей итальянской культуре [Contini
1979а, р. 363], для него язык Данте жив потому, что века,
прошедшие между Данте и нами, мало что изменили в итальянском
языке и культуре, иными словами — тенденция Контини в том,
чтобы «приблизить» Данте к нашему времени. Т. С. Элиот, также
удивляясь понятности стихов Данте («в определенном смысле их
очень легко читать», «истинная поэзия говорит с нами прежде,
чем мы ее поймем»), объяснял это как раз тем, что
староитальянский сохранял гораздо большую близость «к языку всеобщему, к
латыни», чем прочие новые европейские языки. «Мне кажется, в
флорентийской речи Данте немало этой (т. е. латинской. — Л. С.)
всеобщности, и само уточнение («флорентийская речь») только
подчеркивает ее, ибо снимает современное деление на разные
народы. Чтобы любить французские или немецкие стихи, надо,
наверное, иметь хоть какую-то склонность к французскому или
немецкому складу ума. Данте — итальянец и патриот, но прежде
всего он европеец» [Элиот 1981, с. 295-296]. Для Элиота
понятность и близость Данте объясняются как раз сдвигом времени в
сторону латыни. Эта парадоксальная ситуация говорит о том, что
место и природа языка Данте еще во многом остаются
непонятными, а значит не до конца понятно и становление итальянского
языка в целом.
Трактат Данте является сознательной программой создания
нового языка, столь же грандиозным замыслом, каким была и сама
«Комедия» во многих других отношениях. Вобрав в себя многое —
если не все главное — из предшествующей традиции языковой
рефлексии и собственно лингвистической теории, трактат явился
и совершенно своеобразным произведением лингвистической
мысли, открывающим новую ее эпоху и во многих отношениях
опережающим ее же на много веков, и памятником великого (и
успешного!) эксперимента в области создания языка.
ickif *&*A- **•&
Историки языка любят напоминать о том, что реальное разви-
и^ итальянского литературного языка не подтвердило предсказа-
Ии Данте. На наш взгляд, это утверждение легко оспорить. Зна-
ительная роль тосканского диалекта в создании литературного
Языка Италии является, в конечном счете, исторической случаи-
°стью, а по существу, этот процесс пошел именно по пути, пред-
азанному Данте, — по пути ориентации на эталонные поэтичес-
е тексты (сначала стихотворные и прежде всего — саму
140 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
«Комедию», а затем и прозаические), имевшие общеитальянское
значение, а не за счет утверждения одного из диалектов. Таким
образом, в двух трактатах Данте (вернее, в первых книгах обоих
трактатов) построена не только поразительно стройная
лингвистическая система, впитавшая лучшие достижения античной и
средневековой мысли и предвосхитившая многие идеи, освоенные
европейской лингвистикой лишь через сотни лет, но и дана
удивительно проницательная оценка современного состояния и
будущего развития языковой ситуации в Италии.
Часть 2
ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ИТАЛИИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Назвав вторую часть книги «Языкознание эпохи Возрождения»,
мы тем самым определили свое отношение к данному периоду,
рассматриваемому нами не просто как хронологический отрезок,
но как определенный содержательный этап в развитии
европейской лингвистической мысли. Полемика по поводу самого
историографического понятия «Возрождение» (итал. Rinascimento, фр.
Renaissance) началась сразу же после выхода основополагающего
труда швейцарского историка Я. Буркхардта [Burchardt I860]
«Культура Италии в эпоху Возрождения» [Буркхардт 1904-1906].
Главным предметом этой полемики до сих пор остаются проблемы
периодизации и типологической характеристики эпохи, что в свою
очередь связано с противопоставлением Возрождения средним
векам1 . Успехи медиевистики, ставшие возможными благодаря
отказу исторической науки от пренебрежительной оценки
средневековья как «темных веков», навязанной в свое время историками
Ренессанса, заставляют ученых постоянно пересматривать соотно-
шение «старого» и «нового» (за которыми нередко скрываются
оценочные категории «плохого» и «хорошего») применительно к
этим двум эпохам.
Среди различных критериев периодизации эпохи Возрождения,
пРедлагаемых представителями разных школ, течений и
ориентации [Vasoli 1982], выделяются два подхода, имеющие непосред-
ТВенное отношение к нашей теме, — известного английского
истина А. Тойнби и другого английского ученого, Дэниса Хэя (Denis
см ri?^ Осуждении этого вопроса в современной отечественной историографии
*• Шетров 1989].
142 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Hay). Тойнби относит к эпохе Возрождения четыре столетия
европейской истории (1475-1875), считая главной особенностью этого
периода то, что он отмечен исключительным влиянием
итальянской культуры и искусства на остальной западный мир, и
называет это время «italistic age» (итальянизированная эпоха). Д. Хэй
также выделяет четыре века (1300-1700), считая, что их
особенность составляет неповторимое сочетание культуры сугубо
светского характера с христианским мировоззрением, соперничество
латыни и народных языков; именно эти особенности
интеллектуальной и литературной жизни Европы отличают культуру
Ренессанса и от средневековой — с ее латинской литературой и
церковным обществом, и от сугубо национальных и светских культур
XVIII-XX вв.
Обобщая опыт историографии Возрождения, накопленный в
течение века со дня введения этого понятия в научный обиход,
итальянский историк Делио Кантимори предлагает учитывать
разную «скорость» процессов в разных сферах духовной и
практической деятельности. Он относит к Возрождению время, которое
длится «в литературе от Петрарки до Гете, в истории церкви — от
раскола Западной церкви до секуляризации церквей, в истории
экономических отношений — от возникновения городских
коммун, зарождения капитализма и появления рынка до
промышленных революций, а в политической истории — от Карла IV до
Французской революции» [Cantimori 1971, р. 574].
Примечательно, что в данной хронологии, претендующей на охват всей
истории Возрождения, не учитывается развитие науки — ни
естественных, ни точных наук, ни тех, которые связаны с главными
проявлениями человеческого духа — мыслью и языком. При этом
хорошо известно и никем не оспаривается, что возрождение
гуманитарных знаний (studia humanitatis) и составляет суть эпохи, и
гуманизм — как бы по-разному его ни определяли историки (как
философию, мировоззрение, метод, интеллектуальное движение
или даже стиль) — является таким же содержательным коннота-
том Ренессанса, каким признается схоластика по отношению к
средневековому знанию. Это упущение Д. Кантимори (статья была
написана в 1955 г.) едва ли случайно: если первое поколение
историков, занимавшихся изучением этого периода, отмечало вклад
гуманистов в сокровищницу мировой науки2, то отношение совре-
2 Ср., например, высказывание Н. И. Кареева: «...оценивать гуманизм мы
должны, главным образом, как явление в умственной истории, как движение,
положившее начало светской цивилизации нового времени, создавшее в Западной
Европе науку, которою она так справедливо гордится, и выдвинувшее класс
светской интеллигенции, к которой в новое время перешло духовное
водительство общества» [Кареев 1914, с. 323] (разрядка наша. — Л. С.)
ь //• Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 143
менных историков к развитию отдельных областей знания в
эпоху Возрождения оказывается противоречивым и зачастую не
совпадает с восторженными оценками гуманизма в целом.
На «межеумочное» (т. е. лишенное какого-либо
самостоятельного значения) положение философии Возрождения указывал
крупнейший из отечественных специалистов по этому периоду А. X.
Горфункель. Философы-гуманисты, как отмечает Горфункель, либо
замыкают раздел «Средневековой философии» (например, у
Гегеля), либо помещаются в начале нового времени и
рассматриваются в качестве представителей начальной (всегда недоразвитой)
стадии новой европейской философии [Горфункель 1980, с. 4-5]3.
Сходное положение вещей наблюдается и в истории
лингвистических учений, но здесь, в довершение всего, разрушается даже
сам принцип «единства времени», поскольку латинские
грамматики гуманистов рассматриваются как post scriptum к
средневековой грамматической традиции [Thurot 1869, р. 485-506],
[Percival 1982, р. 808-817], а изучение новых языков (XVI в.)
оказывается вообще никак не связанным с гуманистической
культурой Возрождения, т. к. типологически его соотносят с начальным
этапом формирования литературной нормы национальных
языков и с решением задач чисто практического свойства [Амирова и
др. 1975, с. 181-196].
В трудах, посвященных истории лингвистических учений от
античности до наших дней, очерк о языкознании эпохи
Возрождения обычно выполняет функцию введения, «прелюдии» к
сравнительно-историческому языкознанию XIX в. ([Arens 1955, s. 47-
65], [Mounin 1967, p. 116-124]), либо сводится к описанию
общественно-языковой практики, связанной с кодификацией
национальных языков [Амирова и др. 1975]. Дело, разумеется, не в
том, какое место в композиции «больших» историй занимает
языкознание эпохи Возрождения, или в каком объеме освещается этот
период тем или иным автором, а прежде всего в том, в какую
перспективу развития лингвистической мысли он включается.
Например, в коротком «Послесловии» В. Томсена («Краткий очерк
истории лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца
-КаХв.») основные направления ренессансного языкознания и их
значение для современной лингвистики обозначены предельно
Четко: это, во-первых, становление классической и семитской
филологии, «влекущее за собой существенную перестройку методи-
. С традиционной трактовкой гуманизма как идеологического и тем более
лософского течения полемизирует П. Кристеллер [Kristeller 1944-1945], ут-
Р^дающий, что гуманисты вообще не были философами и не внесли в филосо-
д ю ничего нового, кроме таких ее разделов, как моральная философия (этика) и
алектика, т. е. логика (о логике см. [Jardine 1988]).
144 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ки лингвистического исследования», и, во-вторых, подготовка так
называемой неофилологии — «филологии живых
европейских языков» (разрядка автора) [Томсен 1938, с. 111].
Вывод Томсена, может быть, неполон, но, в принципе,
справедлив. Между тем два основных направления гуманистических
штудий, выделенные им, в силу того что они соотносятся с разными
предметами исследования, в историографии лингвистики почти
никогда не рассматривались вместе4.
В обстоятельных трудах, целиком посвященных истории ре-
нессансной науки о языке, грамматики классических языков
(греческого, латинского, древнееврейского [Kukenheim 1951],
латинского [Padley 1976]) и грамматики новых языков (романских
[Kukenheim 1932] и других [Padley 1985-1988]) рассматриваются
раздельно. Тот факт, что сами понятия «живых» и «мертвых»
языков, структуры и функции, проблемы синхронного описания
и истории языка и некоторые другие общие положения, ставшие
азами современной науки, были введены и осмыслены
гуманистами, выпадает из поля зрения историков. В истории грамматических
учений подчеркивается зависимость новых грамматик
национальных языков от предшествующей — и прежде всего
латинской — традиции грамматического описания (так называемая
«несамостоятельность» этих грамматик). С другой стороны, программа
возрождения классической древности, декларированная
гуманистами и давшая затем наименование всей эпохе, мало интересует
современных лингвистов, поскольку считается, что задачи чисто
практического свойства, как, например, освоение (т. е. на самом
деле воскрешение или реконструкция) цицероновской латыни,
составляли главную заботу итальянских гуманистов XV в. «Культ
формы», языковой пуризм, подражание классикам (сначала
латинским, а затем итальянским в лице Данте, Петрарки и Боккач-
чо) — подобные клише составляют едва ли не главную
характеристику итальянского Возрождения. О том, какое значение имела
так называемая «борьба за чистоту классической латыни» для
развития философской мысли, прекрасно сказано у Горфункеля:
«Полемика вокруг языка означала нечто большее, чем борьбу за
восстановление чистоты классической латинской речи:
происходила смена языка культуры. Отказ гуманистов от языка
схоластики свидетельствовал о принципиально новом подходе к
содержанию и методу философствования: отвергая технический,
4 Из известных нам работ, где лингвистика Ренессанса (причем, не только
грамматика) рассматривается как цельный и самостоятельный период, назовем
«Историю лингвистики» под редакцией Дж. Лепски [SL, р. 169-312] и [AurouX
1992]. Грамматики древних и новых языков рассматриваются в [Percival 1975;
1988].
ь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 145
цеховой язык университетской науки, гуманисты возвращали
философии язык общей литературной культуры, а саму
философию — и этому содействовало жанровое разнообразие
философских сочинений с их свободным построением, в отличие от строго
формализованной структуры схоластических трактатов —
включали в общий поток латинской словесности (а потом и
национальной литературы), восстанавливая ее связи с поэзией,
историографией, ораторским красноречием» [Горфункель 1978, с. 5б]5
(разрядка наша. — Л. С.)
Какое значение культ классической латыни имел для развития
лингвистической мысли, нам и предстоит выяснить.
Недооценка языкознания эпохи Возрождения имеет более
давнюю традицию, нежели научная историография лингвистики
этого периода. Еще в начале нашего века крупнейший специалист по
истории итальянской гуманистической культуры Р. Саббадини (см.
библиографию его работ о гуманистах в [Sabbadini 1920, р. 89-
96]) выражал недоумение по поводу скороспелых высказываний
своих современников о «неоригинальности» ренессансных
грамматических учений. Заявления подобного рода, по мнению
итальянского ученого, были лишены какого-либо смысла по причине
слабой изученности (на тот период) самой средневековой
грамматической традиции [Sabbadini 1902]. Хотя с течением времени
разработка этого вопроса не могла оставаться на том же уровне
(для современников Саббадини основным доступным источником
сведений о грамматических трактатах средневековья было
издание Шарля Тюро 1868 г. [Thurot 1869]) и «картина знаний»
постоянно менялась, тенденция игнорировать определенные
периоды истории науки, определенный круг текстов или авторов под
тем предлогом, что в них не было ничего оригинального и
достойного внимания современного лингвиста6, оказалась необыкновен-
Разумеется, с точки зрения историка философии, это означало понижение
ее статуса, утрату ее исключительного положения в иерархии наук.
Безусловно, каждый исследователь имеет право на критическую оценку
анализируемого материала, однако, по нашему глубокому убеждению, каким
ы ни было отношение историка к изучаемому предмету, оно не должно идти в
УЩерб его фактическому описанию. К сожалению, таким недостатком
отличается недавняя статья на тему, весьма существенную для нашей работы; речь идет
статье А. В. Грошевой «Грамматические учения западноевропейского средне-
ековья» [Грошева 1985]. В этой работе слишком большое внимание, на наш
гляд, уделяется критике средневековых грамматик в сравнении с античными
^начиная с IV в. латинская грамматическая наука утратила свою оригиналь-
сть», с. 213), между тем элементарные фактические сведения не всегда изло-
ны с безупречной точностью, а они особенно важны для нас, т. к. в составе
д Ного тома («История лингвистических учений: Средневековая Европа») нет
отрИХ Ра^от обзорного характера, к тому же (судя по отсутствию ссылок на
чественных авторов) работа А. В. Грошевой является первым очерком по ис-
146 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
но стойкой, а по отношению к эпохе Возрождения — почти
неизменной. Представление об этом периоде как о досадном перерыве
в развитии лингвистики (после античности и средних веков) в
ожидании нового подъема науки в XVII в. [Waterman 1970, р. 10]
тории грамматики средневекового периода по-русски. Ограничимся одним при-
мером, на с. 218 читаем: «Помимо Doctrinale Александра Вилладейского, попу,
лярными были в свое время еще несколько дидактических текстов, в частности
Graecismus Эберхарда Бетюнского (Bethuniensis), Lexicon, или Derivationes
Magnae Хугутио Пизанского, Elementarium Папия (Papias), Catholicon Жана
Генуэзского (Jean de Janua)» (sic!). Что это были за тексты и в чем состояло их
дидактическое назначение, в работе не раскрывается (о «Доктринале» с. 218).
Между тем учебником по грамматике, соперничающим в популярности с «Доктри-
налом» (Doctrinale puerorum изд. Berlin. 1882 / Monumenta Germaniae paedago-
gica, 12), в приведенном перечне является только «Грецизм» Эберхарда (ок.
1212, изд. [Wrobel 1887]) — такой же рифмованный учебник латинского языка,
названный так по одной из глав, где объясняется «этимология» большого
количества греческих слов. Все остальные тексты относятся к области
лексикографии. «Католикон» (1286), Иоанна Генуэзского (он же Giovanni Balbi),
задуманный ученым доминиканцем как руководство по всем дисциплинам тривия (в
нем есть грамматическая часть), обязан своей популярностью обширному
глоссарию, включенному в раздел «О просодии», и его автор — Джованни Бальби
вошел в историю языкознания как крупнейший лексикограф (а не грамматик)
средневековья. «Католикон» (или «Всеобщий словарь», как его называли в XVI в.:
Catholicon seu universale vocabolarium ac grammatices, Parisiis, 1506) был в
числе первых печатных книг (Mainz 1460, фототип. изд. 1971: Joannes Balbus.
Catholicon) и, по всей вероятности, его печатали в типографии Гутенберга
[Manacorda 1916-1917, р. 249]; до конца XV в. он переиздавался 12 раз (под
разными названиями: Catholicon seu Summa prosodiae, Summa quae vocatur
Catholicon) [Pratesi 1960]. Elementarium doctrinae rudimentum Папия (или:
Alphabetum Papiae; Papias vocabulista) — это тоже словарь, но более ранний
(первая половина XI в.), имя составителя неизвестно, его автором считают
монаха, учителя грамматики из Павии (название «Papias» или «Papia», т. е. «Па-
виец», стало почти таким же нарицательным для словаря, как имя Доната для
названия грамматики). «Папий» пользовался огромным спросом до появления
в конце XIII в. «Католикона» и служил главным лексикографическим
справочником для средневекового Запада (об античной лексикографии см. [Чекалова
1966]), его многократно издавали (Милан 1476, фототип. изд. Турин 1966), текст
предисловия см. [Lloyd 1964], есть современное изд. в 3-х т. буквы «A»: [Papiae
Elementarium]. «Деривации» («Большой словарь образования слов») Хугутио
Пизанского (Uguccione da Pisa, ум. 1210) представляет собой компиляцию
«Папия», расширенную и в значительной степени переработанную. Лексикон Угуч-
чоне да Пиза существует пока только в списках (см. [Marigo 1936]), хотя
критическое издание давно объявлено; выдержки см. [Riessner 1965, S. 193-233].
Словарь был особенно популярен в Италии. Известно, что им пользовался
Данте, в то время как «Папий» и «Католикон» были в числе самых любимых книг
Петрарки. В работе, посвященной истории языкознания средних веков, эти
основные словари (как, впрочем, и основные грамматические сочинения, о
которых тоже ничего серьезного не сказано) должны быть если не
проанализированы, то хотя бы описаны. Иначе читатель обречен сталкиваться с бессмысленными
для него и, по существу, заумными списками ничего не значащих имен и
названий, а серия истории лингвистики просто не достигает своей основной цели.
и сгтгь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 147
тоанным образом сочетается с огромным количеством работ, по-
ященных различным аспектам языкознания эпохи Ренессанса,
как общим, так и частным, отдельным авторам, грамматикам,
трактатам и т. п.7.
Как правило, новые имена, материалы и факты,
исследованные в этих работах, если и учитываются в работах общего
характера по истории лингвистики, то либо с большим опозданием, либо
вообще не оказывают никакого воздействия на стереотипы,
сложившиеся на основе оценок этого «донаучного» языкознания,
данных еще учеными XIX в. Сошлемся на один, но очень типичный
случай. В статье «Лингвистическая теория в Италии в эпоху
Ренессанса», опубликованной в широко известном научном журнале
еще в 1936 г., Р. Холл писал: «Итак, несмотря на то что
традиционный взгляд на грамматику преобладал у большинства авторов
грамматик и второстепенных ученых этого столетия, в XVI в.
наука о языке сделала значительный шаг вперед в трех
отношениях: в понимании языка как социального явления; в признании
(начиная уже с Данте) необходимости и неизбежности изменений,
непрерывно происходящих в языке, и в появлении более
тщательного и строгого метода исследования. Поэтому «зарю»
современной лингвистики нужно датировать не XIX, а XVI столетием» [Hall
1936, р. 106-107]. Под «строгим научным методом» Р. Холл имел
в виду гипотезу о регулярных звуковых соответствиях,
выдвинутую итальянскими учеными XVI в. К. Толомеи, Л. Кастельветро
(и, отчасти, Скалигером)8. Автор подчеркивает, что идея
регулярных звуковых соответствий в трудах Толомеи представлена «не в
эмбриональном, а во вполне развернутом виде» и, в частности,
была применена им для разграничения «народных» и «ученых»
Библиография (далеко не полная) научных трудов по лингвистике
Ренессанса (то, что по-английски называется удобным термином secondary sources
вторичные источники') насчитывает 3 тыс. названий [Renaissance Linguistics
Archive] (см. об этом издании [Tavoni 1986a], [Tavoni 1989], библиография
«перечных» источников находится в настоящий момент в стадии подготовки. См.
такл^ обзор и библиографию работ за 1979-1989 об итальянском языкознании
v-XVI вв. [Tavoni 1986b]). К сожалению, имеющееся на сегодняшний день
лиографическое исследование первичных источников «Литература по линг-
истике и грамматике XV-XVI вв.» [Vitali 1980] вряд ли может быть рекомен-
? Вано как серьезный справочник в силу неясности критериев и бессистемности
апРимер, непонятно, почему указаны издания латинского Квинтилиана, но
отмечен итальянский перевод 1567 г., учтены ли при этом все издания Квин-
^лиана и т. п.), наивности аннотаций (напр., к Данте № 5, Лукрецию Кару
~ ') и ошибок в атрибуции (например, комментарий Л. Кастельветро к П. Бембо
*Ca** как сочинение Бембо).
ни Юлий Цезарь Скалигер (наст, имя Джулио Бордони), итальянец по
рождение ' В^аЧ П0 пР°Фессии» сформировался как ученый в среде французских гума-
Тов- О лингвистических взглядах Скалигера см. [Jensen 1990].
148 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
слов. «К сожалению, — отмечает Р. Холл, — за исключением Чель-
со Читтадини (который перенял идеи Толомеи, но обошелся с ними
не лучшим образом), у Толомеи не было последователей, и поэтому
его нельзя назвать «отцом» современной лингвистики, а только ее
предшественником, вырвавшимся далеко вперед» (там же, с. 106).
Похоже, что идеи Р. Холла (изложенные достаточно
эксплицитно) оказались также слишком опережающими свое время, чтобы
быть воспринятыми современными языковедами. Так, например,
во «Введении в романское языкознание» проф. М. В.
Сергиевского, книге, по которой училось не одно поколение отечественных
филологов-романистов, мы читаем, что для всех трудов XVI в.
общим «был нормативный подход к языковым явлениям и
стремление зафиксировать литературный язык таким, каким он был.
Полностью отсутствовало представление о том, что язык как
историческая категория так же подвержен изменениям, как и прочие
области человеческой культуры. Это представление не могло
возникнуть, так как еще не существовало исторического изучения
языка по сохранившимся памятникам. Что же касается
генетических проблем, то и здесь признание связей латинского языка с
романским не ставило еще задачи проследить постепенное развитие
самого латинского языка в его динамическом аспекте, поскольку
сам латинский язык рассматривался в его застывшей
литературной форме так называемого классического языка,
представленного в лучших произведениях золотого века римской литературы»
[Сергиевский 1952, с. 247-248]. Идея различения «ученых» и
«обыкновенных» слов в итальянском языке упоминается
Сергиевским в связи с трактатами Ч. Читтадини (в то время как еще в
XIX в. его обвиняли в плагиате у Толомеи, и Р. Холл указывает
соответствующие источники), но — самое главное — это то, что
обобщения М. В. Сергиевского прямо противоположны
действительному положению дел. Такие «выжимки» из общих курсов
запоминаются лучше, чем что бы то ни было, они образуют наш
общий фон знаний, который уже никто не удосуживается проверять.
Такие разительные расхождения между конкретными
исследованиями и работами общего характера в оценках языкознания
эпохи Возрождения, с которыми приходится сталкиваться на
каждом шагу, практически исключают возможность использовать
данные, содержащиеся в общих историографических очерках, что, в
свою очередь, не позволяет нам обращаться к таким очеркам в
поисках сравнительного материала9, т. е. характеризующего иные
9 Ср., например, ошибочные выводы, к которым пришел В. М. Алпатов
(востоковед) относительно позднего появления фонетических исследований в евро*
пейской традиции, опираясь на сведения, почерпнутые им из современных Ра"
бот по истории языкознания [Алпатов 1990], см. об этом более подробно ниЖе
с. 346, 349.
а сгггъ И- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 149
ациональные традиции в европейском языкознании той же эпо-
Поэтому, не будучи специалистом по этим другим традициям,
втор в дальнейшем, как правило, воздерживается от параллелей
сопоставлений, которые были бы весьма полезны (работа в этом
направлении составляет одну из насущных задач современной
историографии лингвистики).
При всей диспропорции, которая все еще существует между
конкретными исследованиями и общими суждениями, нельзя не
отметить, что в последние десятилетия наблюдаются кардинальные
изменения во взглядах ученых именно на ренессансное
языкознание и его место в истории науки. Подтверждением тому является
ряд международных конгрессов, симпозиумов и коллоквиумов,
посвященных видным итальянским, французским и испанским
гуманистам: Анджело Колоччи [Colocci 1972], Леону Баттиста Аль-
берти [Alberti 1974], Дж. Триссино [Trissino 1980], Поджо Брач-
чолини [Bracciolini 1982], Антонио Небрихе [Nebrija 1983], Гиль-
ому Постелю [Postel 1985], Лоренцо Балле [Valla 1986], Скалигеру
[Acta scaligeriana], Франческо Филельфо [Filelfo 1986] и др.
Специальным вопросам историографии лингвистики были
посвящены: международная конференция 1983 г. в Лос-Анжелесе
(«Возникновение национального языкового самосознания в ренессансной
Европе» [The Fairest Flower]) и международный конгресс 1991 г. в
Ферраре «Италия и Европа в истории языкознания эпохи
Возрождения: сопоставления и связи» [Italia ed Europa], свидетельством
все возрастающего интереса к языкознанию эпохи Возрождения
могут служить также материалы международных конференций
— в Принстоне («История лингвистики») [Aarsleff et al. 1987] и в
Трире («История и историография лингвистики») [Speculum
historiographiae linguisticae], [Niederehe, Koerner 1990].
Наконец, в новых фундаментальных трудах по истории
языкознания, которые стали выходить в конце 80-х — начале 90-х гг.,
лингвистическая наука эпохи Возрождения получает уже
совершенно иное освещение по сравнению с прежними учебниками (см.
«Историю лингвистики» под ред. Дж. Лепски [SL] и ее английский
перевод [Lepschy 1994], «Историю лингвистических идей» под ред.
L-Opy [Auroux 1992]).
В настоящей работе мы исходим из традиционной
периодизации итальянского Возрождения: середина XIV-XVI в.10 и исполь-
«Эти хронологические рамки совпадают с первым периодом истории филоло-
(вт ' Названным немецким ученым В. Фройндом «итальянским»; второй период
XVm9H половина XVI-XVII в), он называет «французским», третий (конец XVII-
1й7^ ?•) ~~ «англо-нидерландским» и четвертый (XIX в.) — «немецким». [Freund
ift^; > ~~ *а"Г
18Ч S. 24-25].
150 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысдь
зуем термин «гуманизм» в узком (историческом) значении слова
имея в виду занятия словесностью, сначала латинской (XV в.), а
затем итальянской (XVI в.)11.
2.1 КВАТРОЧЕНТО (XV В.):
ЛАТИНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА
Филологическая культура Кватроченто
Итальянское Возрождение, как часть общеевропейского
культурного процесса «обновления», историки (начиная с XIX в.) часто
называют классическим Ренессансом, подчеркивая тем самым его
отличие от Возрождения других стран Европы, которое началось
позже (вслед за Италией) и вдохновлялось идеями Реформации.
Если говорить об истории гуманитарных наук, то определение
«классический» уместно применительно к периоду,
охватывающему вторую половину XIV в. и XV в. (собственно к тому
периоду, который историки XIX в. назвали словом гуманизму итал.
umanesimo без уточняющего определения). В это время Италия
занимается изучением античной литературы, реабилитацией
древних писателей (auctores) и восстановлением подлинной латинской
речи.
Европа XIV-XV вв. как культурное целое продолжала
оставаться латиноязычной, поэтому знание латинского языка как
такового, владение латынью было такой же нормой для
образованных итальянцев, как и для французов, немцев и т. д. На таком
знании нельзя было построить никакой новой программы
культурного возрождения.
Итальянский гуманизм второй половины XIV в. и особенно XV в.
(Кватроченто) — периода его расцвета — не принято описывать в
терминах становления национального (этнического) самосознания,
11 Работы А. Кампаны [Сатрапа 1947] и П. Кристеллера [Kristeller 1945-1946;
1966; 1988], [Avesani 1970] показали, что слово гуманист — ит. (h)umanista
(возникшее в конце XV в.) первоначально имело вполне конкретное значение,
связанное со школьным обиходом 'преподаватель (учитель, профессор)
гуманитарных знаний', прежде всего классической латинской литературы или поэтики
и риторики, но и шире — всего того, что обозначалось выражением Цицерона
studia humanitatis, — а затем также 'ученый, работающий в этой области'. В
круг гуманитарных знаний входили: грамматика, риторика, поэтика, история и
моральная философия [Kristeller 1988, р. 113]. Слова «гуманизм» вообще не было
в языке Возрождения, оно было создано в своем современном, идеологическом
значении только в историографии XIX в. (хотя humanist как
историографический термин, означающий ученых-гуманитариев итальянского Возрождения,
появляется в английском языке уже в XVII в.). О ренессансном истолковании
понятия humanitas см. [Черняк 1986].
II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 151
сама эта идея должна показаться странной. В самом деле,
Италия рассматриваемого периода не представляла собой единого
государства — ни на деле, ни даже в помыслах ее лучших
представителей12 (именно за это итальянские историки так не любят
гуманистов, корпевших над эмендацией рукописей и
реконструкцией латинских дифтонгов, считая их повинными во всех бедах и
несчастиях разобщенной, политически слабой и порабощенной
страны), а итальянский язык — другой необходимый фактор
национального самосознания — не стал центром внимания в
культурной и общественной жизни Кватроченто13 (хотя изучение
новой итальянской поэзии никогда не прерывалось и лекции о Данте
и Петрарке читались в итальянских университетах XV в.)14.
И тем не менее, несмотря на видимое отсутствие двух главных
признаков активизации национального самосознания
(строительства государства и языка), в движении гуманистов
присутствовала идея именно национального возрождения Италии (с заметной,
особенно у Лоренцо Баллы, патриотической подоплекой) и своя
концепция языкового единства. Однако итальянская национальная
идея XVb. оказывается скрытой от нас завесой неродного языка, а
сверх того, удачно вуалируется универсальным термином
«гуманный», который — в культурном контексте XVb. — означает, что
12 В Италии к началу XVb., помимо церковного государства, существовали
три формы правления: монархия (в Неаполе и Сицилии), республика (в Венеции,
Флоренции, Генуе и некоторых других, менее крупных городах) и
многочисленные тирании (герцогства, маркизаты и т. п.) [Корелин 1892, с. 1084]. Все эти
государства соперничали между собой и часто враждовали, и, например, потеря
независимости Сиены (отстоящей от Флоренции примерно на столько же, на
сколько Сиверская от Петербурга) остро переживалась ее гражданами. Очень многих
итальянских гуманистов (даже тех, кто никогда не покидал полуострова)
коснулась судьба изгнанников, вкусивших горький хлеб чужбины, что нашло свое
отражение в литературе Кватроченто. См., например, сочинения Франческо Фи-
лельфо (1398-1481) «Флорентийские беседы об изгнании» (Commentationes
florentinae de exilio) и «О тяготах изгнания» (De incommodis exilii).
Здесь мы имеем в виду идеологическую сторону дела, а не фактическую
историю соотношения латыни и народного языка в XIV-XV вв. (см. об этом
IDionisotti 1968], [Kristeller 1984]). Необходимость освоения античного наследия
и первостепенность этой задачи ни у кого не вызывала сомнений, в то время как
отношение к итальянскому языку не отличалось подобным единодушием и меня-
ЛОсь на протяжении XV в. Ср. Речь Кристофоро Ландино (1424-1498),
, Р^Дваряющую чтения сонетов Петрарки (см. русский перевод [Соч. ит. гум., с.
0-194]), в которой он говорит о том, что «наш язык (т. е. тосканский. — Л. С.)
происхождению ничуть не хуже других, ему недостает только образованных
сателей», и советует «разумно подражать нашим отцам-римлянам, и как они
Щупали с греческим, так нам нужно поступать с латынью» (с. 191, 193).
к п ^а же следует отнести комментаторскую работу (о ранних комментариях
те п6 СМ* [Sandkuhler 1967]) и биографическую литературу, о биографиях Дан-
и Петрарки, написанных в XV в., см. [Madrignani 1963]).
152 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
предмет профессиональных занятий латиниста15 определяется
(и осмысляется) как человеческий язык и человеческая словесность
(ср. ниже с. 228) с дальнейшим расширением значения этих опре.
делений в сторону общечеловеческого, всечеловеческого и т. п.16
В действительности, Италия была занята в это время
восстановлением культуры совершенно определенного типа — римской обра,
зованности, которая, разумеется, включала греческую ученость17.
Универсальное значение латыни не нуждалось ни в каких
специальных обоснованиях, т. к. она продолжала служить
общеевропейским культурным языком, и в этом смысле ее статус не
изменился по сравнению со средними веками. Стремление к языковой
правильности (грамматической и стилистической), ставшее
дежурной характеристикой итальянских гуманистов, на самом деле
ничего не объясняет. Без стремления к активному владению
«грамматическим искусством» латинский язык, давно вышедший из
живого употребления у романских народов Европы, просто не
дожил бы до XV века. Значит, дело здесь в чем-то другом. И суть,
как нам кажется, заключается в том, что образованные
итальянцы (т. е. читающие и пишущие по-латински) стали относиться к
латинскому языку иначе, чем все остальные. Они считали
латинский язык высокоразвитым языком своего народа («наших отцов-
римлян») и пытались вернуть его к жизни, приведя к
соответствующим нормам. В результате этого языковая норма была впервые
(после античности) осмыслена как исторически изменчивая, как
процесс — на примере изучения памятников латинской
словесности разных периодов, от Плавта до Квинтилиана, — а не как
готовый свод правил, и были определены факторы, влияющие на
формирование языкового единства (ср., например, замечание Баллы
15 Ср. любопытую характеристику, данную Альду Мануцию в одной
дневниковой записи начала XVI в.: optimo humanista et greco — «прекрасный гуманист
(т. е. латинист) и грецист» [Сатрапа 1946, р. 63].
16 Как было показано Н. С. Трубецким в книге «Европа и человечество», за
этой терминологией, воспринимаемой другими народами буквально, всегда
стоит реальное этнографическое содержание и скрываются вполне определенные
этнографические понятия [Трубецкой 1920, с. 13-14]. В современной
отечественной историографии преобладает идеологическая трактовка гуманизма»
что, с нашей точки зрения, лишает это понятие всякой исторической
определенности, ср.: «...есть вполне устоявшееся и общепризнанное определение
культуры Возрождения в Италии как культуры гуманистической, и уже этим
(и прежде всего этим) отграниченной от культуры средневековой» [Брагина 1970,
с. 392-393].
17 Для других стран Европы эти отношения, видимо, представлялись в ином
свете. Ср. напр., замечание Л. Кукенхайма: когда говорят о Возрождении, т0
прежде всего и «с полным правом» думают о возрождении античной Греции
[Kukenheim 1951, р. 15].
ь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 153
каждодневном чтении «Дигест», которое способствовало
сохранению единства латыни)18.
Если для стран Реформации мощным фактором национального
единения стали переводы Библии на народные языки, то в
Италии два первых перевода Св. Писания на итальянский, вышедшие
одновременно в Венеции в 1471 г. [Migliorini 1975, р. 21], не имели
никакого общественного резонанса. В Италии роль
объединяющего начала на первом этапе Возрождения (классический Ренессанс)
выполняли светские тексты — памятники римской литературы.
К подлинности текста этих памятников — источников своего
духовного Возрождения — гуманисты Италии относились так же
серьезно, как другие к установлению канонического текста Св.
Писания (см. ниже).
В сложных вопросах сходств и различий между средними
веками и Ренессансом (на которых мы не можем останавливаться
подробно) многое встает на свои места, если обратиться к краткому и
внятному определению сущности этих двух эпох у Н. И. Кареева.
Согласно Карееву, западноевропейская средневековая
цивилизация имеет три источника: 1. в гражданственности и
образованности античного мира (в Римской империи), 2. в идеях и
учреждениях церкви (в христианстве), 3. в том, что принесли с собою новые
народы (в основном германские). «Из взаимодействия этих трех
начал и произошла вся средневековая цивилизация,
переработавшая в своих социальных и культурных формах и сведшая воедино
самые разнородные элементы» [Кареев 1914, с. 247]. Кризис этой
цивилизации проявился в крайне отрицательном отношении к
тому, что было выработано самою Западною Европой в средние
века. В недрах этого кризиса и родилось движение за
восстановление (возрождение) «изначальных традиций западноевропейской
Цивилизации» и определились два его крыла: классический
Ренессанс (возвращение от схоластической образованности к
римской) и христианская Реформация (возвращение от
схоластической теологии к Св. Писанию и его первым комментаторам, т. е. к
святоотеческой литературе).
Идея языкового единства в определенном смысле была реализована гумани-
д ?м" (СР- понятие «гуманистическая латынь», существующее в научном обихо-
'• Как отмечает М. С. Корелин (а его наблюдениям можно доверять, поскольку
За ДОск°нально изучил ранний итальянский гуманизм по источникам), он не
Се етил никаких следов местной, диалектной окраски в деловой латыни папских
РыеРетареи [Корелин 1892, с. 715-716], что очень важно, т. к. гуманисты, кото-
ноп занимали эти и другие должности в государственном аппарате, отступали от
и я сРеДневекового официального языка. Таким же единством характеризуется
Ык латинской литературы этой эпохи [Kristeller 1988, р. 122].
154 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Обратившись к античному наследию, итальянцы погрузились
в изучение прошлого, наследниками которого (едва ли не един,
ственными в Европе, если не считать византийцев) они себя осоз*
навали, и занялись восстановлением своего исконного языка19, без
изучения и пропаганды которого не мыслили восстановления сво*
его культурного (и национального) престижа (Италию не
удовлетворяло ее место в европейском культурном мире, ср. определение
XIII в. как «века без Рима»)20.
«Мне представляется, — пишет Л. Валла, римлянин по
рождению и по духу, — что наши соотечественники превзошли всех
остальных мощью не только своей державы, но и своего языка».
Многим народам древности, персам, мидянам, ассирийцам,
грекам и другим удавалось завоевать огромные территории, и их
государства просуществовали дольше, чем римское. «Но никто, —
продолжает свою мысль Валла, — не обогатил и не развил свой
язык так, как сделали это мы, которые, не говоря уже о той части
Италии, что называлась некогда Великой Грецией, не говоря о
Сицилии, которая тоже была греческой, не говоря обо всей
Италии, чуть ли не на всем Западе и в немалой части Севера и
Африки, превратили язык Рима, называемый также латинским (от
Лация, где находился Рим), за короткое время в знаменитый
(celebrem), я бы сказал почти в царя (quasi regina) над всеми
остальными» [Соч. ит. гум. с, 121].
«Классиков» античной литературы «проходили» и в
средневековой школе (см. [Curtius 1956, I, p. 101-110], в перечнях
школьных авторов, приводимых Курциусом (с. 102-105), «языческие»
авторы составляют около половины)21, но их никогда раньше (до
19 Ср. размышления Баллы и его надежды на успешное разрешение этой
задачи: «Ведь уже много веков никто не говорит по-латыни, даже не может понять
написанного на ней; ни изучающие философию не читали и не знают философов,
ни стряпчие — ораторов, ни судьи — юристов, ни прочие читатели — книг
древних авторов, как будто бы если уже не существует Римской империи, то и не
должно ни говорить, ни мыслить по-латыни*, и далее: «...я убежден в том, что
если приложить еще немного усилий, латинский язык еще раньше, чем город, а
вместе с ним и все науки, будет в самом ближайшем будущем восстановлен во
всем своем могуществе* [Соч. ит. гум. с. 123] (курсив наш. — Л. С).
20 П. О. Кристеллер, выдающийся специалист по итальянскому Возрождению
(см., напр., его многотомный труд — описание рукописей итальянских гуманистов
в библиотеках Италии, Франции, Германии [Kristeller 1965-1990]), склонен
считать периферийное положение средневековой Италии одной из причин
возникновения гуманизма [Kristeller 1944-1945, р. 349].
21 В этой связи следует отметить (т. к. это часто упускают из виду), что в крУг
чтения, рекомендованный гуманистами, помимо античных авторов, входили
также и христианские писатели. Так, Леонардо Бруни, один из самых знамениты*
наставников новой образованности, автор трактата «О научных и литературно*
занятиях» (20-е гг. XV в., см. русск. перевод [Эстетика Ренессанса I, с. 53-63])»
ть jJ. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 155
Петрарки)22 не изучали как произведения изящной словесности и
к памятники языка. Ими пользовались как источниками муд-
0сти или в формальных целях — как образцами риторического
искусства и примерами умелого изложения. Такое образование
получил Данте. У гуманистов отношение к тексту как таковому
(не только литературному) совсем другое, и Петрарка (который в
истории итальянского языка всегда стоит рядом с Данте)
принадлежит уже совершенно иной культуре и — в этом смысле —
другой эпохе. Он, например, считает для себя неприличным знать
сочинение Варрона «О латинском языке» (новинку культурной
жизни его круга, см. об этом ниже) из вторых рук, в отрывках и
пересказах, и тщательно скрывает, что еще не держал рукописи в
руках [Bosco 1979, р. 179]. Что касается литературных текстов, то
горячность, с которой гуманисты спорили о комедиях Плавта и
Теренция (а ведь дело доходило до абсурда: одни клялись, что
никогда больше не раскроют сочинений Плавта и не осквернят
ими свои библиотеки, а другие обещали поступить точно так же с
Теренцием), говорит о том, что влияние писателя на язык (дурное
или хорошее) воспринималось как реальный факт и — более того —
факт, имеющий прямое отношение к современной
действительности (к употреблению грамматических и лексических форм, к
пониманию значения слов и изменений лексических значений, ср.
соотношение конкретной и абстрактной лексики, которое
освещается в истории латинского языка на примере сравнения Плавта с
Теренцием).
В истории национальных языков подобные споры (с такими же
проявлениями нетерпимости) бывают связаны с формированием
литературной нормы и с обсуждением процессов, происходящих в
родном языке, который становится главным объектом
ценностного переживания. Эмоции итальянцев XV в. по отношению к латы-
рекомендует тем, кто хочет сохранить «неиспорченный язык» (особенно женщи-
ам). читать сочинения отцов Западной и Восточной церкви (выбирая хорошие
оо7еводы с греческого): Августина, Иеронима, Амвросия Медиоланского (340-
7)» Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста, особо выделяя
Реди религиозных писателей Лактанция (ок. 250-325). Ни одного из этих авто-
в2 нет в программах средневековой школы ХН-ХШ вв. у Э. Курциуса.
одесь следует оговорить, что роль Петрарки как «начинателя» гуманизма
э ?Сится к разряду условностей современной науки (о символическом характере
в и Функции см. [Рабинович 1992]). В работах конца прошлого века началом
м р0жДения классической древности в Италии считали более ранний период (са-
сто Начало XIII в.), и это положение вещей представлялось ученым того времени
Уже Ь 0чевиДным и само собой разумеющимся, что напоминание о дате казалось
сЛу Избыточным, и если появлялось, то сопровождалось подобающими в таких
аях оговорками и извинениями (ср. [Bertoni, Vicini 1905, p. 23]).
156 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслк
ни оказываются малоинтересными для исследователей, посколь.
ку не вписываются ни в традиционную историю латинского язьд.
ка23, ни в историю итальянского (если не считать некоторых оце.
нок вульгарно-социологического толка)24.
Отношение гуманистов XV в. к своему «отеческому» языку (ко.
торое имело затем продолжение в спорах XVI в. о «материнском»
языке) странным образом повлияло на формирование нашего язьь
ка описания. Именно для характеристики этого периода у
историков культуры и науки сложился своеобразный
иносказательный слог, который передает все мыслимые оттенки любви
гуманистов к латинскому слову и жажду обладания им
(по-латински это называется studium): культ латыни, поклонение,
адорация, пиетет к литературным памятникам античности,
стремление овладеть классической латынью, — но при этом никогда
не используется термин «филология». Причем говорится всегда
об этом так, будто сведения о языковых различиях между древней
и средневековой латынью и о том, что в истории латинского
литературного языка был период наивысшего расцвета, который
пришелся на «век Цицерона», и что именно тогда сложилась та
языковая норма, которую мы называем теперь классической, — будто
бы все это гуманисты могли узнать из университетских лекций по
истории античной литературы и из курсов классической
филологии, и им не оставалось ничего другого, как только применить все
эти знания на практике и причесать слог своих собственных
сочинений под Цицерона. На самом деле все эти сведения впервые
добывали и распространяли сами гуманисты, и именно за этими
23 Современное научное освещение истории латинского языка заканчивается
ранней империей, т. е. периодом даже более ранним, чем тот, до которого
простирали свои интересы сами гуманисты, ср. заключительную главу «Очерков по
истории латинского языка» [Тройский 1953].
24 Ср.: «Латинская ученость, уединившаяся в "башне из слоновой кости"»
презиравшая не только живой язык простых смертных, но и будничную латынь
цеховых статутов, могла быть лишь временным явлением в истории
итальянской культуры», и далее: «Антидемократические тенденции в общественном ря3"
витии Италии, гуманистическое поклонение латыни, наступление феодально-
католической реакции ... децентрализация всей общественной жизни страны -*
таковы были факторы, которые хотя и не отменили высоких достижений
прошлого, но серьезно осложнили становление общей литературной нормы, про*
цесс дальнейшей унификации языка» [Касаткин 1976, с. 11, 14; 1986, с. 39]«
А. А. Касаткин, долгое время заведовавший кафедрой романской филологии в
Петербургском (тогда Ленинградском) университете, был высокообразованны**
человеком и педантичным (в лучшем смысле этого слова) филологом и вряд ^
в самом деле считал итальянский гуманизм временным (т. е. преходящим) Дл*
итальянской культуры явлением. Именно высокий авторитет А. А. Касаткина *
отечественной романистике заставляет нас привлекать внимание к подобны*1
издержкам в его работах.
тпь ii. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 157
овыми знаниями, дотоле никому не нужными, стали съезжаться
Италию со всех концов Европы студенты и ученые слушать
лекции «затворников» латыни.
Подводя итоги деятельности итальянских гуманистов XV в. в
области языка, П. О. Кристеллер пишет: «Они поставили открыто
сформулированную цель — подражать в своих собственных
произведениях языку классических авторов и избегать всех тех
"варварских" черт, которые отличали средневековую латынь от
классической, они предприняли попытку, и небезуспешную, подражая
классической латыни, реставрировать ее как живой язык и
произвести своего рода языковую и литературную революцию,
которая дискредитировала и постепенно упразднила многие, если не
все, признаки средневековой латыни. Эта реформа затронула
правописание, просодию и пунктуацию, лексику и фразеологию,
словоизменение и синтаксис и всю структуру и ритм предложений»
[Kristeller 1988, р. 121-122]. Таким образом, гуманисты
осмыслили, сформулировали и осуществили реформу, затронувшую все
ярусы языка (и даже устную форму речи), убедительно доказав
то, в чем были уверены сами: языковую норму нельзя извлечь из
учебников по грамматике и тем более ее нельзя извлечь из
спекулятивных грамматик, которые занимаются отвлеченными
теориями и собственными логическими конструкциями, не имеющими
никакого отношения к реальному языку и к реальному
употреблению. Что такое язык римской культуры на самом деле и какова
естественная латинская речь в повседневном общении образованных
людей одного круга, итальянцы XV в. смогли по-настоящему
почувствовать, понять и осмыслить, когда они познакомились с
письмами Цицерона. Именно эпистолярный жанр — жанр бытовой
прозы — и должен был оказать то решающее воздействие на
формирование совершенно нового взгляда на латинский язык,
который и привел в конечном счете к открытию исторической
латыни. Осуществленная гуманистами реформа, этот эксперимент,
проведенный в условиях, приближающихся к лабораторным (ре-
Форма языка, не имеющего природных носителей), и стала
прообразом тех лингвистических дискуссий, которые начались в
Италии в XVI в. по «вопросу об итальянском языке» (questione della
ungua).
Влияние Италии на аналогичные процессы, связанные с
формированием литературной нормы национальных языков,
отменятся в истории языкознания (в том числе и опосредованное, на-
Рймер, через Францию на Россию XVIII в.), в то время как
евидная преемственная связь между итальянскими гуманиста-
и XV в. и XVI в., насколько нам известно, почти никогда не
итывается. Эту близорукость можно объяснить только тем, что
158 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
историки науки о языке чаще руководствуются собственными, у^е
готовыми представлениями о культурных и научных ценностях
нежели занимаются их историей.
Говоря об отношении гуманистов XV в. к латыни как к живо,
му языку, следует прежде всего обратить внимание на то, что учи.
лись они тому, как надо обращаться с живым словом и исправ.
лять «употребление», у римских грамматиков25, которые (как
опять-таки хорошо известно) были филологами в широком смыс.
ле, преподавали язык и литературу, хорошо знали историю, фи.
лософию, право и занимались литературной критикой.
Римские авторы, со своей стороны, всегда занимались
вопросами языка, не будучи при этом филологами-классиками в
современном смысле слова (т. к. для них латинский язык был живой и
родной стихией), а итальянские гуманисты XV в. таковыми стали
уже в нашем понимании этой профессиональной специализации.
Таким образом, когда в Италии XVI в. начались дискуссии о
языке, они уже имели позади себя долгую предысторию, а под
собой — прочную филологическую базу. Многое из того, что уже
было освоено, продумано и сформулировано предыдущим
поколением (как, например, латинская языковая реформа XV в.),
становясь общим достоянием, обычно не оговаривается в работах
следующего поколения («об этом все знают»). Так, в диалогах о языке
XVI в. не встретишь, например, ссылок на их условный характер,
в то время как в диалогах XV в. такие вещи оговариваются26.
Неприятие гуманистами средневековой латыни также
относится к разряду вещей широко известных, но как бы не имеющих
отношения к истории лингвистики, поскольку принято считать,
что это касается особенностей языковой практики гуманистов, а
не вопросов изучения языка. Конечно, в так называемой «борьбе
за чистоту классической латыни» дело не обходилось без
крайностей (примером тому может служить введение в обиход целого
ряда языческих обозначений взамен христианских литургических
25 В частности, у Варрона, который становится в XV в. одним из самых
читаемых «авторов» (см. ниже с. 170, 215). Ср. рекомендации Варрона по
осуществлению языковой реформы: «Из бытующих в обиходе слов ... одни могут быть легко
устранены, другие же укоренились в речи; те слова, которые легко поколебать И
ввести в них изменения ... следует сразу же исправлять ... тех же слов, что
укрепились в языке, а потому не представляется возможным немедленно их испрв'
вить, следует по мере возможности избегать: благодаря этому они выйдут из
употребления...» (цит. по: [Шубик 1980, с. 242]).
26 Так, Валла отмечает, что участники его «Диалога» (известные гуманисты
Гварино Веронезе и Панормита) в «то время, которое описывается в речи» (Qu°
sermo fingit), находились в разных концах Италии [Sabbadini 1892, р. 256]; °
жанре диалога в XV в. см. [Marsh 1980], в эпоху Возрождения вообще [Jones-
Davies 1984], [Баткин 1995, с. 151-208].
тЬ ц. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 159
минов, которыми грешил, в частности, кардинал Пьетро Бем-
10 — главный авторитет в итальянском языке XVI в.), но над
пуризмом27 реформистов потешались и сами современники [Оль-
шки 1933-1934, II, с. 46 и сн. 2]. Споры о средневековых
«неологизмах» возникали постоянно, и, например, Валла вынужден был
отбиваться от критиков, нападавших на язык и стиль его
«Истории короля Фердинанда Арагонского», объясняя, что в
сочинениях подобного рода нельзя оставаться в пределах терминологии
времен Нумы Помпилия и называть христианских пророков
«прорицателями, гаруспиками или авгурами»28. Однако даже если не
вникать в суть тех языковых явлений, которые обсуждали
гуманисты, не обращаться к источникам (письмам, трактатам,
предисловиям, «апологиям» и «инвективам», которыми они постоянно
обменивались) и продолжать считать, что споры о «хорошей» и
«плохой» латыни велись на почве литературных вкусов и
подражания классикам, то все равно, сам факт этих споров должен был
бы обратить на себя внимание, как очевидное свидетельство того,
что в эпоху Возрождения стали обсуждать латынь разных
временных и стилистических срезов. А это, в свою очередь, говорит о
коренном изменении взглядов на язык и коренном изменении
концепции латинского языка.
Средневековая наука исходила из представлений своего
времени о латыни как о языке неизменном и искусственном (как и у
Данте, см. ч. 1 наст, книги) и выработала методы научного
анализа, соответствующие этой концепции, т. е. представлению о
неизменной грамматической структуре, общей для всех языков.
Упрочению представления о латыни как о языке искусственном
способствовала методика школьного преподавания — заучивание
лексики по словообразовательным моделям; такие упражнения
назывались disciplina derivationis (от принятого в латинских
грамматиках деления слов на два «вида»: первоначальные и
производные, соотв. species primitiva и derivativa)29. Когда привычка к
Отметим, кстати, что слово «пурист» впервые засвидетельствовано во
Франции сначала в религиозной сфере (борьба за чистоту веры), затем перешло в
нгвистические дискуссии XVII в., откуда распространилось и в другие евро-
иские языки. Об истории термина и понятия «пуризм» см. [Vitale 1986, р. 3-
28 R
о предисловии к одному из своих сочинений (утраченному) Л. Валла, пред-
Дя возможные нападки за употребление новых слов, разъяснял: «В конце кон-
зал' Я ПИсал книгу о вещах новых и древности совершенно неизвестных... и
показу' Что писатели должны пользоваться теми именами, которыми называются
29Вещи теперь> в общепринятом употреблении» [Giannantonio 1972, р. 49].
пРои рИмеР» в своем Комментарии к «Энеиде» Присциан дает целые списки
от ПЛВ?^"ЫХ слов, отмечая «деривацию» поясняемого слова (nutrix 'кормилица'
Г1о 'кормить') и предлагая продолжить ряд: Fac ab eo derivativum (Образуй
160 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
чтению литературы перестает быть обычаем (или еще не стала им
например у детей), то опасность чисто механического
использования словообразовательных моделей для порождения новых слов
по априорным правилам (интуитивно известным природному
носителю, как в детском словотворчестве, или же выученным, как в
случае ошибок иностранцев) естественно возрастает. Это
беспокоило уже античных грамматиков [Marinoni 1944, I. p. 272]; в
учебниках же, написанных средневековыми учителями, такие
искусственные и нигде не зафиксированные словообразования, как,
например, глагол adamasco (amo—> amasco -» ad + amasco),
постоянно тиражировались и их количество возрастало (см. примеры в
[Jensen 1990, р. 69-71], [Rizzo 1996, р. 12-15; 19-24]).
В тесном родстве с дидактическим методом «дериваций»
находятся и принципы толкования слова в средневековой
лексикографии, когда значение производных слов часто выводилось из
значения грамматической формы. Так построен словарь Угуччоне
Пизанского Deriuationes Magnae («Большой словарь образования
слов», см. выше с. 145-146 сн. 6). Гуманисты имели основания не
доверять таким лексиконам и за неимением других справочников
полагались на свою память (у некоторых поистине
феноменальную), на собственные выписки (excerpta, codicilli, collecta),
«расписывали» отдельные произведения классиков (составляя затем
словари «авторов»), собирали списки синонимов и антонимов, а
практикующие учителя приучали к этой работе учеников.
Первым надежным лексикографическим справочником для
гуманистов стал словарь епископа Никколо Перотти (1429-1480) «Корну-
копия» (Cornucopia 'рог изобилия' изд. 1489)30.
Этот словарь «получился» из обширного комментария к Мар-
циалу, к которому — в качестве отсылочного аппарата — автор
сделал индекс слов, о чем уведомляет читателя титул книги
(Cornucopiae commentarium linguae Latinae subtilitatis... ab ornni
menda purgatum cum textu Martialis cum pulcherrima et utilissima
tabula dictionis... Parisiis, 1510).
от него производное), уменьшительное будет nutricula и т. д. [Keil III, p. 450-515
passim], при этом он приводит примеры употребления этих слов из других
контекстов, а не только из Вергилия. Комментирование поэтов входило в круг
занятий римского грамматика (ср., например, Комментарий Доната к Теренцию),
средневековые ученые отошли от этой традиции и комментировали уже не поэтов, а
только грамматиков. Интересно отметить, что следы римской грамматической
школы П. Кристеллер обнаружил не в Италии, а в средневековой Франции
(комментарий Арнульфа Орлеанского к Лукану, XII в.) [Kristeller 1988, р. 128 п. 42]-
30 О популярности этого словаря и его влиянии на лексикографическую траДи"
цию европейского Возрождения см. [Margolin 1981].
Часть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 161
В средневековой концепции, как это было многократно
отмечено и всегда подчеркивается, понятие язык (= латинский язык) и
грамматика (= латинская грамматика) являются
тождественными. Из этого следует, что история средневекового языкознания в
целом совпадает с историей латинской грамматики. Разумеется,
если сравнивать спекулятивные теории грамматики позднего
средневековья с ближайшими к ним по времени грамматиками XV в.,
которые писались учителями-гуманистами и содержали правила
латинской грамматики, предназначенные для начального
обучения (они так и назывались «Грамматические правила»), то вывод
будет одним. Если же принять во внимание коренные изменения
во взглядах на язык, происшедшие в эпоху Возрождения, и
проследить, в каком направлении стала развиваться научная мысль и
какие методы она признавала адекватными для изучения своего
предмета, т. е. исторической латыни, то вывод будет совершенно
другим. По большей части, общие характеристики лингвистики
Возрождения являются результатом первого подхода31. Нам
представляется более продуктивным иной подход.
В восприятии гуманистов латынь перестала быть вечной и
неизменной. Они обратили внимание на то, что язык может
улучшаться или ухудшаться во времени32, и связывали эти процессы с
уровнем культуры и образования в обществе. Поэтому их программа
реставрации живой латыни предполагала широкий круг
деятельности, направленной на развитие культуры и образования в
Италии. Активное владение латынью (не только письменной, но и
устной) было частью этой программы, а кроме того и средством
заработка, т. е. профессией (о профессиональных занятиях
гуманистов см. [Kristeller 1988, р. 114-118]). Освоение античного
наследия действительно выдвинуло такие задачи и поставило такие
вопросы, которые не были актуальными для средневековой культуры33.
Ср. «Величайший пиетет к литературным памятникам античности,
стремление к активному овладению классическим латинским языком — языком
корифеев римской литературы — все это выдвинуло новые задачи в сфере исследования
языка, отнюдь не сходные с теми задачами, которые ставили перед собою модис-
ты. Не выявление причин тех или иных языковых явлений, а установление
правил безупречного в грамматическом и стилистическом отношении латинского языка
— такова цель грамматиков гуманистического направления» [Перельмутер 1991,
с- 61-62].
Правильнее было бы сказать, что они это знали уже от римских
грамматиков. Ср., например, у Варрона: «Речевой обиход находится в постоянном
движении, а поэтому хорошее может ухудшаться, а дурное улучшаться» (цит. по:
[Шубин 1980, с. 242]).
Например, особенно остро встал вопрос о границах между своим и чужим в
итературном и научном труде, проблема авторства и плагиата и целый ряд дру-
их. К этой теме постоянно обращается Петрарка в своих «Письмах», изучая
ику античного отношения к чужому слову по Сенеке. Такого обостренного от-
6 3«к 3101
162 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Здесь прежде всего следует отметить огромную работу по
собиранию этого наследия. Фундаментальным исследованием о
латинских и греческих рукописях, найденных гуманистами в XIV-XV
вв., остается двухтомный труд Р. Саббадини [Sabbadini 1905-1914].
Говоря об «открытиях» в этой области, имеют в виду
обнаружение старых кодексов (сделанных в каролингскую эпоху, многие
из которых сохранились лишь в 1-2-х копиях и практически были
никому не известны), более полных списков тех сочинений,
которые были известны только во фрагментах, а также сочинений тех
античных авторов, которые оказались совершенно забыты в
средние века. Наиболее известными собирателями рукописей были
Петрарка, Боккаччо, Колюччо Салютати, Поджо Браччолини,
Джованни Ауриспа. Среди самых громких находок Ауриспы (1376-
1459) были рукописи «Илиады», Эсхила и Софокла (до середины
XIV в. в Италии вообще было мало греческих рукописей, а
интерес к ним возрастал по мере возрождения греческой учености, об
открытии греческих рукописей в XV в. см. [Bolgar 1954, р. 455-
505]).
Первым из литераторов Запада, кто после многовекового
перерыва обратился к изучению греческого языка и литературы, был
Джованни Боккаччо34. В 1360 г. Боккаччо пригласил во
Флоренцию грека из Калабрии Леонтия Пилата и гордился, что первым
из латинян (ex Latinis) услышал в своем доме «Илиаду».
Боккаччо был инициатором собирания греческих рукописей35 и сетовал
по поводу полного забвения языка великой литературы древности
своими современниками: «Я потому сострадаю латинянам, что они
совершенно презрели занятия греческим языком (greca studia),
из-за чего мы сегодня уже не помним даже его букв. Хотя
латинской словесности и достаточно своей литературы (etsi sibi suis
sufficiat licteris), которую изучает весь западный мир, она бы,
ношения к индивидуальности собственного слова не знала ни старая, ни новая
литература вплоть до романтизма [Kristeller 1988, р. 126]. Ср. полемику А. По-
лициано с римским гуманистом П. Кортезе, в письме к которому Полициано
отмечает: «...как утверждал Сенека, лучшие, по общему мнению, представители
красноречия не похожи друг на друга. Квинтилиан осмеивает тех, кои считали
себя кровными братьями Цицерона на том основании, что они заканчивали
период словами esse videatur» [Соч. ит. гум., с. 249]. О типах авторского самосознания
в итальянском гуманизме см. [Ревякина 1993а].
34 Мы не касаемся здесь византийского влияния, которое Италия (в отличие от
других стран Европы) постоянно испытывала на протяжении всего
средневековья, и островков греческой учености в монастырях юга Италии [Mazzotta 1989].
имея в виду, как и Боккаччо, мирскую образованность.
35 В «Генеалогии языческих богов» он пишет: «Я ... первым на свои средства
вернул книги Гомера и других греческих авторов в Этрурию (т. е. в Тоскану. — ***'
С.), откуда они ушли много столетий назад и куда более не вернулись» [Бранк
1983, с. 316].
tr сгпь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 163
есомненно, еще больше воссияла, если бы ее изучали вместе с
оеческой. Тем более что древние латиняне позаимствовали у
греков далеко не все» [Бранка 1983, с. 315-316].
Пригласив из Калабрии полудикого грека (moribus incultus пес
satis urbanus homo) и поселив его в своем доме, Боккаччо добился
публичного чтения гомеровских поэм (ut legerentur publice Homeri
libri) и выхлопотал для Леонтия Пилата стипендию
Флорентийского университета для работы над переводами «Илиады»,
«Одиссеи», Платона и других авторов. Так возникла первая в Европе
кафедра греческой словесности [Ricci 1952], и в конце века на ней
появился уже настоящий византиец и превосходный учитель Ма-
нуил Хрисолор [Корелин 1892, с. 1000 ел.]36.
Отношение к греческому языку, по понятным причинам, не
могло быть таким же, как к латинскому, и не предполагало
языковой реформы («исправления употребления», выражаясь языком
римских риторов и грамматиков). Как мы видим, с самого начала
задачи возрождения греческой учености формулировались как
образовательные и научные. Если говорить о стремлении овладеть
языком и о пиетете к «авторам» (необходимом условии
образования), то как раз по отношению к греческому это применимо в
первую очередь. Римская культура многому научилась у греков,
всегда это осознавала и не стеснялась ходить в учениках. На
рубеже XIV-XV вв. итальянцы устремились в Константинополь за
знаниями (см. ниже о Гварино Веронезе), а в силу внешних
обстоятельств (завоевание Константинополя турками в 1453 г.) имели
лучших учителей и филологов из Византии у себя дома.
Соединение двух древних языков (латинского и греческого) в сознании
одного ученого (и в его профессиональной деятельности), а также
совмещение функций учителя и ученика в одном лице заложило
основы классической филологии как специализированной
области знания (со своими целями, задачами и методами, ср. выше
с- 143 о перестройке методики лингвистического исследования в
эпоху Возрождения) и способствовало успеху в проведении
школьной реформы. Система среднего образования и гуманистического
испытания, сложившаяся в итальянских школах в эпоху Ренес-
санса (см. [Garin 1966], [Grendler 1989], [Ревякина 1993]) и рас-
36 п
l9Qm начальном периоде греческих штудий в Италии см. [Pertusi 1964]; [Niutta
Пе Ценные сведения по истории изучения греческого языка в Западной Евро-
ре в сРеДние века и в эпоху Возрождения в [Pontani 1996], где автор публикует
(и рЬ ВИзаоНТИИСК0Г0 изгнанника Михаила Апостола, призывающего итальянцев
Ск р0ПеиЦев) изучать греческий (с. 152-165). Напомним, что постановление Вен-
гРеч° Собора (1312) об учреждении в университетах кафедр древнееврейского и
р- 19^?1КИХ языков осталось мертвой буквой [Weiss 1977, р. 68-79], [Lardet 1992,
164 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
пространившаяся затем по всей Европе, просуществовала, почти
без перерыва, вплоть до нашего века, пока не была заменена
«менее обременительной» [Kristeller 1988, р. 114].
Мы не будем останавливаться специально на греческих
штудиях гуманистов, т. к. эта тема должна была бы стать предметом
совсем другого исследования, поскольку связана в первую очередь
с освоением греческого философского наследия (и должна
рассматриваться в сопоставлении с деятельностью средневековых
теологов) и с техникой перевода (которую также следует рассматривать
в определенной исторической перспективе)37.
Поэтому ограничимся лишь самыми общими сведениями. В
области перевода (а основная работа XV в. заключалась в
переводах с греческого на латинский38, хотя гуманисты не гнушались и
переводами с латинского на итальянский, удовлетворяя спрос
менее образованных горожан — illiterati) следует отметить, что в
эпоху Возрождения практически впервые стали доступными (имея
в виду широкую распространенность латыни) греческая поэзия,
ораторская проза, историография, сочинения по математике и
географии, медицине и ботанике, а также труды отцов Восточной
церкви (ср. выше совет Л. Бруни выбирать хорошие, т. е. новые
переводы греческой патристики, с. 154 сн. 21). В философском
наследии впервые сделанные переводы включают многие сочинения
Платона, Плотина и других неоплатоников. Если говорить
суммарно, то большинство источников главных философских школ
(платоники, стоики, эпикурейцы, скептики) было переведено
впервые. Это особенно важно, если иметь в виду, что curriculum
средневековых университетов ограничивался одним Аристотелем. В
XV в. Аристотеля начали изучать не по средневековым
латинским переводам с арабского и комментариям, а в оригинале и в
новых переводах с греческого39 и по греческим комментариям
[Kristeller 1988, р. 20] (там же отсылка к многотомному [Catalogue
translationum] под ред. П. О. Кристеллера).
Наиболее известными переводчиками-грецистами этого
времени были Марсилио Фичино (издал всего Платона, 1484), Леонардо
Бруни, Амброджо Траверсари (переводил Диогена Лаэртского и
37 Об истории и теории перевода и становлении соответствующей
терминологии (период XIII в. — сер. XVI в.) см. [Folena 1973]. Анализ источников XV в.
приводит автора к выводу, «что невозможно говорить об истории перевода, не
учитывая того оригинального и зачастую решающего влияния, которое оказал
итальянский гуманизм на формирование концепции перевода во всей
современной европейской культуре» (там же, с. 101). О концепции перевода в средние
века см. [Kelly 1990].
38 О переводах итальянских гуманистов XV в. см. [Copenhaver 1988, p. 75-82J»
в странах Реформации [Brulard 1990].
39 О новых переводах Аристотеля в XV в. см. [Garin 1951].
//. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 165
кептиков), д. Полициано и др. [Copenhaver 1988, р. 79 sq]. Лео-
ард0 Бруни писал по-гречески (прозу), а Анджело Полициано
с0чинял элегии.
Первым со времен бл. Иеронима значительным теоретическим
рассуждением о переводе стал трактат Л. Бруни De interpretatione
recta («О правильном переводе», ок. 1424-1426)40. В нем
обобщены взгляды гуманистов, отвергающих старый принцип перевода
«слово в слово», сложившийся в библеистике и
распространившийся затем на всю средневековую практику перевода, а также
личный опыт автора, который иллюстрируется примерами.
Бруни включает в понятие содержания переводимого текста, помимо
смысла, литературные особенности оригинала (его жанровую
специфику и индивидуальный стиль; например, перевод ораторской
прозы должен быть благозвучным). Переводчик, помимо
дарования, должен хорошо владеть обоими языками, быть начитанным,
знать историю и философию, — несоблюдение этих требований
Бруни называет «неискупимым преступлением» (scelus inexpiabile)
[Корелин 1892, II, с. 660-661 ел]. В другой работе он затронул
более частную, но не менее вечную тему — вопрос о переводе
гомеровских эпитетов [Folena 1973, р. 99-100]. Интересно, что Л.
Бруни (и другие авторы) связывают трудности, возникающие при
переводе с греческого (языка старшей литературной традиции), с
«бедностью» (inopia) и «скудностью отеческого языка» (patrii
sermonis egestas), т. е. языка младшей литературной традиции,
как воспринимали свой родной язык римские писатели, и
гуманисты унаследовали это отношение41.
На примере развития новых литературных языков (для нас
прежде всего русского) мы знаем, как обогащают язык переводы с
Текст трактата см. [Bruni 1928, р. 81-96], ср. также письмо Бруни о его
переводе «Политики» Аристотеля [Gualdo Rosa 1983]. На становление концепции
Филологического перевода, как отмечают исследователи, оказал стимулирующее
влияние трактат Цицерона «Оратор», ранее неизвестный и обнаруженный в
Северной Италии в 1421 г. [Baron 1970, р. 444], см. также [Эльфонд 1984, с. 59-60].
В этих же терминах будет обсуждаться в XVI в. соотношение между
латинским языком и народным итальянским (см. с. 229 сн. 162, 274 сн. 212), ср. то же
У Данте (но в других терминах, см. ч. I. 1). Таким образом, обсуждение неравен-
Ва языков, может быть, представляет собой общую типологическую черту, ха-
ктеризующую подобные ситуации культурного двуязычия. Отметим, что дея-
ьность итальянских гуманистов по освоению всего многообразия философского
следия греков носила целенаправленный характер и служила в том числе и
н Лям * расширения» и обогащения латинского языка. Ср. оценку этой деятель-
и ™ в [Tortelli 1501, f. 2]. Совершенно иным было отношение к византийским
сок°РИКам: *-гУманисты сохраняли средневековое пристрастие к анонимным
ОСоРац*ениям и переделкам, дававшим возможность ознакомиться быстро и без
0го утомления с летописями» [Забугин 1914 а].
166 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
других языков. И гуманисты тоже прекрасно это понимали. В
предисловии к своему переводу Фукидида Валла отмечает
необходимость переводить с греческого, еврейского, халдейского,
пунического (т. е. с арабского) сочинения историков, ораторов, поэтов,
философов, врачей и теологов и сравнивает эту деятельность с
расширением границ Римской империи путем присоединения Азии,
Македонии и Греции [Giannantonio 1972, р. 53]. Гигантская
работа XV в. по освоению греческого философского наследия не могла
не оказать такого же по своим масштабам воздействия на
латинский язык, на становление латинской научной терминологии,
воспринятой затем (через латинское посредство) новыми языками
(например, космология, онтология, психология и др., см. [Copenha-
ver 1988, p. 109]).
Помимо постоянного наблюдения над семантическим
«неравенством» двух языков (для преодоления которого вырабатывались
определенные переводческие приемы; например, для передачи греч.
Хоуос, использовались лат. verbum 'слово', sententia
'высказывание', dispositio 'расположение', 'порядок следования', ratio 'разум'
[Copenhaver 1988, р. 88], ср. рассуждения Л. Баллы о значении
греч. Хоуос, в его логико-грамматическом трактате
«Перекапывание диалектики» (III.1.2.) [Валла 1989, с. 361-362], переводы с
греческого не могли не стимулировать сопоставление
грамматической структуры двух языков (трудности передачи конструкции
одного языка средствами другого), что опрокидывало исходный
тезис модистов о едином принципе организации всех языков
(универсальная грамматика). Отказ от старого метода перевода «слово
в слово» (или «пересказа», который мы наблюдаем в ранних «вуль-
гаризациях», т. е. переводах с латинского на итальянский) и
освоение филологического метода передачи одного языка лексическими
и грамматическими средствами другого (ср. термин
«интерпретация» у Бруни)42 способствовали также пересмотру традиционного
представления о языке как о собрании слов.
Начиная со второй половины XV в. «греческий опыт»
(литературный язык и языковая ситуация в Древней Греции) включается
в рефлексию об итальянском языке43.
42 Ср. «Interpretatio autem omnis recta, si Graeco respondet, vitiosa si non
respondet. Itaque omnis interpretationis contentio unius linguae ad alteram est»
[Bruni 1928, p. 83] («Всякий перевод является правильным, если он
соответствует греческому языку, и порочным, если не соответствует. Поэтому цель всякого
перевода есть состязание одного языка с другим»).
43 Ср. высказывание К. Ландино в биографии Данте {Vita e costumi di Dante)'*
«[Он] был первым, кто облагородил наш отечественный язык (la lingua nostra
patria) ... и сделал его образованным и украшенным (culta e ornata). Ведь Гомер
нашел греческий язык более обильным и уже «культивированным» (abondante e
ь II - Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 167
Занятия древнееврейским языком не стали в Италии XV в.
обязательным компонентом классического образования, как это
произойдет в странах Европы в XVI в. (см. [Italia ed Europa, 2]).
Среди итальянских гуманистов XV в., изучавших древнееврейский,
обычно называются два имени — библеиста Джаноццо Манетти
(1396-1459), занимавшегося переводами псалмов (см. о нем в
связи с теорией перевода [De Petris 1975]) и известного
натурфилософа и «оккультиста» Пико делла Мирандолы (1463-1494).
Возвращаясь к сфере основных занятий гуманистов XV в.,
следует сказать, что количество новых текстов и вариантов одного
текста, обнаруженных за это время, было столь велико44, что
расширение знаний о латинском языке (накопление языковых
фактов) потребовало разработки новых инструментов анализа и
новых методов обращения с текстом [Tavoni 1990, р. 172], а это, в
свою очередь, привело к созданию нового типа грамматики (тоже
интерпретативной, но совершенно непохожей на спекулятивную,
см. гл. о Л. Балле) и новой дисциплины — филологической
критики текста.
Прежде чем делать списки с найденных рукописей (как
латинских, так и греческих), гуманисты занимались их исправлением,
фиксировали все разночтения и отмечали собственные
конъектуры. Сохранилось большое количество рукописей с правкой,
маргиналиями и глоссами, сделанными рукой Петрарки, Колюччо
exculta) Орфеем и Мусеем [V в. до н.э.] и другими более древними, чем он,
поэтами. Вергилий нашел латинский уже отполированным и изукрашенным (elimata
et exornata) и Эннием, и Лукрецием, а также расширенным (amplificata) и Плав-
том, и Теренцием, и другими древними поэтами. Но в тосканском языке (in lingua
toscana) до Данте никто еще не сумел найти какого-либо изящества... (nessuno
ovea trouato alcuna leggiadria)» [Baron 1970, p. 381, n. 37]. Ср. метафорическое
описание поисков языка в трактате «О народном красноречии» у самого Данте
(прямых переводов с греческого на итальянский в XV в. еще не было). В
лингвистических дискуссиях XVI в. мы увидим, что языковая ситуация Италии будет
моделироваться по двум классическим образцам (римская языковая экспансия и
гРеческое «собирание» общего языка из разных диалектов) и встретим две
противоположные концепции языка (словарь vs структура).
Если говорить о работе по «тиражированию» текстов, то ее итог выражается
в том, что в эпоху Возрождения было произведено рукописей больше, чем за весь
предшествующий период [Kristeller 1988 р. 122]. Разумеется, при такой массово-
Ти качество списков не могло быть одинаковым, но в целом уровень грамотности
реписчиков заметно повысился (многие гуманисты до того, как они сделали
спешную карьеру, как, например, Поджо, начинали ее с того, что зарабатывали
хлеб перепиской рукописей, а те, кто по своему положению и благосостоянию
гли, как Петрарка, себе позволить держать секретарей, тщательно следили за
ев pa^°J0H)- В результате был создан корпус текстов, т. е. заложен фундамент
(К ТСКо" кУльтуры, без которого ни о каком переходе «духовного водительства»
Го реев) от церковников к светской интеллигенции вообще нельзя было бы и
168 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Салютати, Леонардо Бруни, Баллы и других известных
гуманистов [Kristeller 1988, р. 119]. В процессе этой работы
складывались основные принципы филологической науки и научные
методы критики текста. Гуманисты не оставили специальных трактатов,
где были бы изложены эти принципы, но их вклад в
классическую филологию, как отмечают современные ученые-классики,
трудно переоценить, т. к. «редко, кто из издателей греческих и
латинских текстов может обойтись без того, чтобы не
использовать данные гуманистов по истории рукописей, будь то
сохранившиеся списки, утраченные или до сих пор не
идентифицированные» [Rizzo 1973, р. [I]]45.
Значение классической филологии и ее методов для
дальнейшей истории языкознания едва ли требует специального
комментария. Из «новых» (т. е. вновь открытых) текстов, оказавших
особенное влияние на ренессансную лингвистическую мысль, следует
назвать диалог Платона «Кратил» и «Воспитание оратора» Квин-
тилиана. Рукопись Квинтилиана обнаружил Поджо (1416 г.) и сразу
оценил значение этого автора для культуры своего времени. «Если
Марк Туллий [Цицерон], — сообщает он в письме к Гварино Веро-
незе, — проявляет великую радость по случаю возвращения из
изгнания Марка Марцелла, и притом в его время, когда в Риме
было много подобных Марцеллов ... то что должны делать ученые
люди, и в особенности занимающиеся красноречием, когда мы
спасли не только от изгнания, но и почти от самой гибели
исключительный и единственный цвет Рима, по уничтожении которого
ничего не осталось бы, кроме Цицерона» [Корелин 1899, с. 136].
Квинтилиана (кроме специалистов) у нас плохо знают (его
полный комментированный перевод давно объявлен, но пока еще не
вышел). Для гуманистов же открытие Квинтилиана потеснило на
второй план даже Цицерона. «Воспитание оратора» стало для них
основным источником по истории римской образованности (и
руководством к возрождению античной системы образования) и по
теории античной риторики. Это сочинение («самая пространная
из систематических риторик, оставшихся от античности» [Гаспа-
ров 1991, с. 28]) наряду с греческими риториками (прежде всего
45 Трудности в пользовании этими данными заключаются в том, что
гуманисты создали целый словарь технических терминов, не вполне освоенный
лексикографией, а сама традиция этой специальной терминологии в то время еще не
устоялась, и значение многих терминов отличается от современных. Анализу
этих филологических терминов посвящена монография [Rizzo 1973]. По
истории гуманистической критики текста см. [Sabbadini 1914]. Ср. убежденность
современного ученого (цитированного выше с. 148) в том, что даже и в XVI в-
«еще не существовало исторического изучения языка по сохранившимся
памятникам».
77. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 169
Аристотеля) оказало также влияние на перестройку всей системы
знания в эпоху Возрождения46.
Для современного сознания, привыкшего понимать под
риторикой фигуры украшенной речи и унаследовавшего от романтиков
отвращение к догматическим правилам и затасканным «общим
местам», понять, чем была риторика для древних, и воспринять
ее связь с философией, логикой, теорией литературы (которая
также является формой познания действительности) и общей
теорией высказывания не так-то просто (см. [Аверинцев 1991,
с. 18]). Если ограничиться самым общим определением, то
можно сказать, что для гуманистов риторика была наукой о методе
достижения поставленной цели средствами языка47, т. е.
дисциплиной вполне определенной, систематической и рациональной
(впрочем, как и вся греко-римская наука) и с очень широкой
сферой применения48, а по «Воспитанию оратора» можно было
научиться двум главным вещам: методу обучения и правилам
языкового общения.
В состязании гуманистов с другой, и чуждой для них системой
правил, разработанных средневековой наукой, вопросы метода
приобрели первостепенное значение. Не случайно такие слова, как
via ('путь'), ratio ('метод, прием'), ordo ('план, порядок,
программа1), modus ('способ* ср. modus docendi) стали в сочинениях
гуманистов едва ли не главными «опознавательными» терминами [Vasoli
46 О значении античной риторики для переосмысления соотношений между
логикой, философией и красноречием и о ее влиянии на отдельные теории (в
частности, на Скалигера) см. [Lardet 1986].
Благородство и достоинство цели определяла этика, отсюда такое
количество трактатов о морали, написанных гуманистами (и в русских переводах эта
часть их наследия представлена лучше всего). Обсуждение «достоинства» языков
в ситуации двуязычия является серьезной проблемой, важным этическим
выбором, т. к. обществу предстоит решить, какая цель (= язык) достойна приложения
его интеллектуальной энергии. Так что дело здесь не в слабости лингвистической
мЬ1сли, якобы не способной на раннем этапе формирования нормы к анализу
языковых явлений, а в том, что такие задачи не решаются методом анализа, а
Достигаются путем убеждения, взвешивания всех pro и contra.
Разумеется, эта суммарная характеристика далека от охвата всего значения
Риторики для гуманистической культуры. Ср.: «Что толку, что ты весь погру-
ищься в Цицероновы источники, что ни одно сочинение ни греков, ни наших
имо тебя не пройдет? Конечно, ты сможешь говорить красиво, изысканно, мило,
онченно, весомо, строго, мудро, но, что выше всего, просто — ни в коем случае
н Сумеешь; ведь, если сперва не придут в согласие наши порывы, чего никому
or °Г^а Не Достичь, кроме мудреца, от разлада стремлений с необходимостью
Ум >Кутся в Разладе и нравы и слова... Если даже искусство речи нам не нужно и
без' Полагаясь на свои силы и в тишине развертывая свои сокровища, обходится
Дей ПоддеРЖКИ слов, надо все равно потрудиться по крайней мере на пользу лю-
198?С КотоРЬ1МИ живем...» (Книга писем о делах повседневных 1.9. [Петрарка
♦ с- 8].) Об этой проблематике см. более подробно [Бибихин 1993].
170 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
1968, p. 34]49. Для истории языкознания (не только
рассматриваемого периода) особенно важными оказались мысли Квинтилиана
о разграничении грамматики и языка (противопоставление
«грамотной речи» и «латинской речи») и весь круг проблем,
связанных с употреблением языка и речевым обиходом (лат. consuetudo,
ит. uso, фр. usage и т. д.).
Говоря о влиянии корпуса новых текстов, введенных в
научный обиход в XV в., которые стимулировали филологическую
мысль, нельзя не упомянуть о целенаправленной деятельности
римского гуманиста Помпония Лета (Pomponius Letus или
Pomponio Leto, 1428-1497) по собиранию сочинений римских
грамматиков. Он составил рукописный сборник, куда вошли
произведения Реммия Палемона, Доната, Сервия, Секста Помпея,
Максима Викторина, Фоки, Диомеда, Скавра и др. П. Лет, судя по всему,
был первым из гуманистов, кто занялся серьезным изучением
сочинения Варрона о латинском языке50 (рукопись Варрона была
найдена Боккаччо) и написал Комментарий к De lingua Latina («0
латинском языке») [Percival 1976, р. 85], (точные ссылки на ркп.
там же, сн. 31, 32), им же в начале 70-х гг. XV в. был издан текст
уцелевших частей этого сочинения Варрона51.
Помпоний Лет был заметной фигурой своего времени (он
основал знаменитую Римскую академию)52 и написал несколько
учебников по латинской грамматике (см. о них [Ruysschaert 1954;
1961)], пытаясь ввести в обиход некоторые термины своего дале-
49 Монография Ч. Вазоли (автора ряда известных работ по истории
средневековой философии) посвящена ренессансным дискуссиям XV-XVI в. о соотношении
риторики и диалектики, о связи «нахождения» и «метода», которые были
инспирированы текстами Цицерона и Квинтилиана о технике аргументации и
представляют интерес для современных историков логики и философии в свете
дальнейших разработок логики «возможного» и «вероятного» и современных дискуссий
о логике научного знания. О методе гуманистов (в преподавании латинского и
греческого, в лексикографии и историографии, в филологической и литературной
критике) см. [Sabbadini 1920]. О ренессансной концепции метода см. [Gilbert 1960].
50 Некоторые современные ученые выделяют Варрона среди всех римских
грамматиков, считая его единственным лингвистом (в современном смысле слова) в
античном языкознании [Romeo 1976, р. 161].
51 Издание П. Лета, где Варрон представлен вместе с текстами других римских
грамматиков — Нония и Феста (Венеция 1498), имеется в собрании инкунабул
БАН. В этой же коллекции (собрание Ф. А. Толстого, которое является самым
крупным из всех поступлений Отдела редкой книги БАН) неплохо представлены
и другие римские грамматики, изданные гуманистами, с комментариями Кристо-
фора Ландино и Антонио Манчинелли.
52 Римская академия располагалась в замке Св. Ангела в Риме, крепости»
которая стала своего рода символом начала полемики о языке (questione della
lingua). Ср. трактат Дж. Триссино «Хранитель замка» (см. ниже, с. 250 и сН«
с. 185).
77. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 171
кого предшественника (например, dandi casus для обозначения
дательного падежа вм. dativus, casus latinus вм. ablativus).
Комментарий к Варрону П. Лета никогда не издавался, но
специалисты обнаруживают следы влияния этого сочинения в более поздних
й более известных грамматиках (например, у англичанина Томаса
Линакра, XVI в.). В истории языкознания Помпоний Лет —
фигура почти неизвестная53.
Тем более важно отметить, что в одном из его рукописных
учебников содержится краткий очерк по истории латинской
грамматики [Ruysschaert 1954, р. 102]. Новая редакция этого учебника
включает в качестве введения пространный исторический очерк,
за которым следуют главы по фонетике, лексикографии,
синтаксису и стилистике латинского языка [Ruysschaert 1954, р. 103].
Известно, что Помпоний Лет читал в Риме публичные лекции о
Варроне (фрагменты опубликованы в Приложении в кн. [Забугин
1914, с. 202-204]). Таким образом, история языкознания,
возможно, имеет более давнюю традицию, чем мы думаем. Ко второй
половине XV в. большая часть корпуса римских грамматик,
известных современной науке, была открыта.
Из практических нововведений итальянских гуманистов
упомянем усовершенствование латинского письма. Гуманисты
отвергли средневековое готическое письмо54 и в создаваемых ими
новых скрипториях (сначала во Флоренции, а затем и повсеместно)
стали использовать круглое письмо — каролингский минускул
53 Это положение меняется начиная с 80-х гг. (см. [Percival 1982] и др. его
работы). Тем более примечательно, что первая из известных нам статей,
специально посвященных грамматическим трудам Помпония Лета [Ruysschaert 1954]
(другая работа того же автора [Ruysschaert 1961] является ее продолжением и
опубликована в том же журнале), открывается ссылкой на двухтомный труд
отечественного филолога Владимира Забугина (1880-1923) о П. Лете по-итальянски
IZabughin 1909-1912]. Сокращенный вариант этого обширного исследования,
основанного на изучении рукописных архивов Италии, был издан по-русски по
инициативе Кареева [Забугин 1914]. Изучение этих и других работ В. Забугина
°гло бы стать полезным и для истории языкознания и для истории отечествен-
0и Филологии. Добавим к этому, что папский секретарь Помпониус Летус оста-
Ил также след в русской истории, посетив Московию при Иване III и оставив
м св°и путевые заметки (в том числе и некоторые лингвистические наблюде-
И*1' Об этом путешествии и содержании «Скифских заметок» см. [Забугин 1914,
• У ел.].
п И>- у Баллы: «А разве эти готы не те же вандалы? После того, как эти
и емена не раз вторгались в Италию, захватили Рим, мы подчинились их власти
• ак полагают некоторые, усвоили их язык, а многие из нас, быть может, явля-
ч я Их потомками. Доказательством могут служить кодексы, написанные готи-
Ла Им шрифтом, а их великое множество. Если этот народ сумел изуродовать
ви ИНск°е письмо, то что же мы должны думать о языке, особенно, если он оста-
л потомство?» [Соч. ит. гум., с. 128].
172 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
X—XII вв., который ошибочно был принят за классическое
римское письмо (scriptura antiqua). Этот тип письма получил название
круглого гуманистического (или каллиграфического) книжного
письма. Так называемый «гуманистический курсив»
предположительно изобрел Николло Николи (1364-1437), известный
собиратель и переписчик древних кодексов, которого считают также
основателем Медицейско-Лоренцианской библиотеки во Флоренции
[Добиаш-Рождественская 1987, с. 211]. Оба типа письма,
каллиграфическое и курсивное (более подробно см. [Batteli 1953]),
получив к концу XV в. широкое распространение в ренессансной
Европе, легли в основу двух печатных шрифтов — антиквы и курсива
(англ. italics, фр. italique).
Сочинения античных авторов и самих гуманистов набирались
новыми шрифтами, а для популярных и религиозных книг
продолжали использовать готический шрифт [Kristeller 1988, р. 117].
Итак, Италия XV в. стала центром гуманистического
образования и классической филологии, но в XVI в. в области
классических штудий наблюдается спад, и таких крупных ученых, как Эразм
Роттердамский, Гийом Бюде, Скалигер и др., в самой Италии уже
нет, поскольку научная мысль здесь обращается к изучению
итальянского языка, но в области так называемой «неофилологии»
сохраняет свое лидирующее положение, завоеванное предыдущим
столетием.
Латинская грамматика в Италии
На протяжении всего средневековья вплоть до появления «Ка-
толикона» Джованни Бальби в конце XIII в. (см. с. 145, прим. 6)
на территории Италии не было создано ни одного учебника
латинского языка, который принес бы его автору какую-то известность
по ту сторону Альп. В течение многих веков Италия обходилась
существующей грамматической литературой: позднеантичными
грамматиками Доната (IV в.) и Присциана (VI в.)55 и трактатами
других — менее популярных — авторов периода «упадка» (Мария
Викторина, Проба, Максима Викторина, Фоки), к которым
постепенно присоединялись всевозможные адаптации (многочисленные
55 Относительно двух главных источников средневековой ars grammatica, Д°*
ната и Присциана, которых всегда называют вместе, следует иметь в виду, чт0
почти безраздельное господство Доната продолжалось до середины IX в. [НоН&
1981], а изучение Присциана началось только после обнаружения «Курса
грамматики» (Institutiones grammaticae) в каролингскую эпоху, т. е. практически с
комментария Алкуина [Vineis, Maieru 1990, p. 32-33]. Обзор средневековых
комментариев к Донату см. [Bursill-Hall 1980] к Присциану [Bursill-Hall 1989].
а петь Л- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 173
«донаты»)56 и более поздние (собственно средневековые)
грамматики. Из англо-саксонских дидактов наиболее распространенны-
мй в Италии были Беда (672-735) и Алкуин (735-804) (о них см.
п0.русски [Клейнер 1985]), а из рифмованных учебников периода
расцвета французских епископских школ — «Доктринал»
Александра Вилладейского (1199) [Thurot I860]57, которого
переписчики иногда называли тевтонцем, путая «Доктринал»
францисканца с «Грецизмом» Эберхарда. Скромный вклад, по определению
56 О «донатах» в собрании Библиотеки Академии наук (БАН) см. [Малейн 1926].
Этот популярный учебник был одной из первых книг, которые стали
размножаться механически сразу в нескольких экземплярах как ксилографическим
способом, так и подвижными печатными буквами. Однако именно в силу массовости
спроса эти «первенцы печатного искусства» почти нигде не сохранились
полностью, и во всех больших библиотеках Запада они представлены в виде отдельных
листков, снятых с форзацев и переплетов старых изданий. Такого же
происхождения и фрагменты из «донатов» в БАН, принадлежавшие некогда графу
А. К. Разумовскому (по некоторым описаниям зарубежных библиографов
значатся утраченными) [Малейн 1926, с. 9].
57 Следует иметь в виду, что помимо периодизации Ш. Тюро [Thurot 1869],
который делит историю средневековой грамматики на два периода — «до XII в. и
после», выделяя, таким образом, область своих интересов — позднее
средневековье (на что он имел полное право, будучи первооткрывателем большого корпуса
текстов, дотоле неизвестных); этой же периодизации придерживается [Грошева
1985]), существуют и другие подходы к истории латинской грамматической
традиции. С точки зрения «жанров» учебников по грамматике (приблизительно
соотносящихся с юридическим статусом школы и определенными
хронологическими рамками), в послеантичной Европе различают следующие этапы [Manacorda
1914, р. 214-215]: 1) «объяснительная» грамматика (expositive); переходный
период от римской муниципальной школы к церковной. Авторы: от Доната и При-
сциана до бл. Августина, Марциана Капеллы, Боэция и Кассиодора, который
приспособил «языческую» грамматику к нуждам христианского образования; 2)
вопросо-ответная грамматика (эротематическая); саксонский и каролингский
период, отмеченный возникновением больших монастырских и палатинских
(государственных) школ Карла Великого. Авторы: Беда Достопочтенный, св. Альд-
хельм, Алкуин, Павел Диакон и множество анонимных авторов; 3) рифмованные
Учебники; епископские и др. школы, находящиеся в подчинении церкви.
Авторы: Александр Вилладейский, Эберхард Бетюнский, Иоанн Гарландский, Гальф-
РеД Винсальвский; 4) грамматические трактаты самых разнообразных форм и
извращение к первому периоду объяснительных грамматик; гуманистическая
школа. Авторы: Гварино Веронезе, Лоренцо Валла, Никколо Перотти и др. Пре-
Расньщ примером описания эволюции латинских грамматик как процесса (от
Рецепции античной традиции до учений модистов) может служить глава «Средне-
ековая лингвистика» [Vineis, Maieru 1990] во втором томе «Истории лингвисти-
и* под ред. Дж. Лепски [SL] с обширной библиографией, которая делится на
^3Дания текстов (с. 137-142) и научную литературу (с. 142-163). Библиография
Философии языка позднего средневековья (куда включены и трактаты о «мо-
Усах обозначения») приводится отдельно (с. 163-168, где изданных текстов
Риводится свыше 40 наименований). Так что о неизученности средневековой
Хо внеевропейской грамматической традиции в целом говорить теперь не при-
174 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
историков, в школьную науку «каролингского возрождения» (про-
пагандируемого в Италии папой Евгением II, 824-827) внесли
выходцы из Италии, учителя латинского языка при дворе Карла
Великого, Петр Пизанский (Petrus Pisanus) и известный историк
Павел Диакон, а несколько позднее Урсус из Беневента [Manacorda
1914, р. 219-224]. О других итальянских учителях этого времени
сохранились лишь обрывочные сведения. Так, например,
известно, что был грамматик по имени Гунцоне (grammaticus italus),
который признавал только Присциана, славился своей
образованностью и вывез из Италии за Альпы целую библиотеку (свыше
100 рукописей) [Manacorda 1912]58.
В средневековую эпоху, как хорошо известно, не было границ
между национальными государствами, которые бы
препятствовали распространению грамматик, создаваемых в той или иной
стране, по всей Европе. Однако следует иметь в виду, что
соперничество монашеских орденов, воздвигало в христианской Европе
труднопреодолимые культурные барьеры. Поэтому, например,
вполне закономерно, что итальянский грамматик и известный
комментатор Данте — Франческо да Бути (1324? — 1406) пишет
комментарий к «Доктриналу» тоже францисканца, Александра Вил-
ладейского, но никогда не станет популяризировать «Католикон»
доминиканца Иоанна Генуэзского59.
58 Отличия местной («итальянской») традиции ars grammatica этого периода
касаются в основном языковых примеров. Так, например, Урсус (епископ
Беневента, 833 г.) в отличие от Беды, на сочинение которого «О тропах» он
опирается, во второй части своего сокращенного руководства (Adbreviatio artis
grammaticae) приводит не только библейские примеры, но и латинские
пословицы и цитаты из латинских авторов, причем последние он берет
непосредственно из классиков, а не из других грамматик, как это было свойственно
большинству. Об образованности Урсуса свидетельствует знание греческого языка
(он сравнивает латинское склонение с греческим) [Manacorda 1914, р. 221-222].
«Комментарий Павла Диакона к Донату» издан [Amelli 1899], эксцерпты
«Науки» (Ars) Петра Пизанского см. [Anecdota Helvetica, p. 161-171], Урсуса из
Беневента [МогеШ 1910].
59 Ревнивое отношение монахов к научному наследию своих собратьев (и
соперничество со светской ученостью) давало и положительные результаты. Так,
по настоянию монахов в 1520 г. было предпринято новое издание латинского
словаря А. Калепино, которое положило тем самым конец тиражированию 1-го
издания (1502), набранного крайне небрежно и вышедшего с большим
количеством опечаток, так что автор до конца своей жизни (ум. 1509) вынужден был
заниматься исправлениями (и дополнениями). Новое издание с автографа
Калепино послужило основой для составления многоязычных словарей, которые
получили название «калепины» (calepini). Например, Calepinus septem linguarum
(отредактированный в XVIII в.) это семиязычный словарь (лат., греч., евр., ит.»
фр., нем., исп.). В изданиях Калепино XVI в. под ред. Конрада Гесснера
количество языков доведено до 12-ти (см. рукописный каталог Отдела редкой книги
БАН).
//. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 175
Первые грамматические трактаты на народных и о народных
языках появляются на окраине средневековой Европы (так
называемая островная грамматическая традиция, см. [Кузьменко 1985],
[Albano Leoni 1975], [Lambert 1987], [Vineis. Maieru 1990, p. 85-
91]» [Alquist 1992]), а в романском мире — во Франции XIII в. (о
первых окситанских и французских грамматиках см. [Черняк
1991], [Черняк 1991а]). В Италии к этому же времени относятся
(дошедшие до нас иногда только в отрывках) анонимные
двуязычные грамматики: латинско-бергамасская, изд. [Sabbadini 1904],
латинско-итальянская (определяемая публикатором как латинс-
ко-веронская [Stefano 1905, р. 503]), латинско-венецианская
[Manacorda 1913-1914], латинско-фриульская XIV в. [Schiaffini
1921] и некоторые другие60. Ни эти элементарные учебники, ни
грамматики модистов61 (известно, что три трактата, написанные в
конце XIII — нач. XIV в. Мартином Датским, Томасом Эрфуртс-
ким и Мишелем Марбэ, использовались как учебники)62 [Vineis,
60 Как отмечает Р. Саббадини, в XIII и XIV вв. в Италии повсеместно (т. е. не
только на севере, как это может показаться по библиографии известных нам
изданий) возникает «богатая и разнообразная традиция» включать в латинские
грамматики переводы примеров на итальянский [Sabbadini 1904, р. 284].
61 О грамматических учениях модистов по-русски очень мало работ, см. о них
в энциклопедической статье Н. Д. Арутюновой «Логическое направление в
языкознании» [Арутюнова 1990] и [Перельмутер 1991]. К кругу авторов,
рассматриваемых в этой работе, добавим видного представителя болонской школы аристо-
теликов — логика, грамматиста и философа Джентиле да Чинголи, написавшего
«Комментарий к малому Присциану» (Questiones supra Prisciano minori (sic), изд.
[Miccoli 1983], затем [Martorelli 1985]) и «Комментарий к Мартину Датскому»;
оба пролога к этим сочинениям опубликованы [Marchegiani 1970, р. 137-147;
р. 148-150]. О нем есть старая работа М. Грабманна, перепеч. [Grabmann 1979].
Интересно, что современник Данте, Джентиле да Чинголи, включает в свою
классификацию грамматику родного языка (grammatica lingue materne), которую он
называет «естественной или узуальной» (naturalis sive usualis), затем он
выделяет «положительную» (positive), т. е. нормативную грамматику, «которая учит
правилам, но не раскрывает их оснований или причин» (quae docet regulas et non
°stendit rationes sive causas earundem) и, наконец, спекулятивную грамматику
1или «излагающую» — demonstrans), которая и учит правилам, и раскрывает их
причины [Corti 1982, р. 39].
Ср. пародию Рабле на обучение Гаргантюа латыни, где наряду с «Донатом»
Угуцием, «Грецизмом» Эберхарда (в переводе Н. Любимова — «Греческий язык»
ВеРарда) и «Доктриналом» отмечается штудирование De modis significandi (с
°мментариями, как пишет Рабле, Пустомелиуса, Оболтуса и др.), «для чего по-
Ребовалось восемнадцать лет и одиннадцать с лишним месяцев» (Гаргантюа и
^нтагрюэль, кн. I, гл. XIV). Заметим, что «греческому языку» Гаргантюа учить,
г Нечно» не могли, речь здесь идет о латинском схоластическом образовании, а
Свеческий был забыт не только во Франции, но даже в Италии, сохранявшей
зи с Византией. «Грецизмом» же этот учебник латинской грамматики назы-
и по одной из его глав, посвященной грамматическим аномалиям в греческих
"■Основаниях.
176 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Maieru 1990, р. 120] не были приспособлены для ведения такого
предмета, составлявшего часть школьной грамматической
программы, как «истолкование поэтов». Еще в меньшей степени они были
рассчитаны на развитие у учеников навыков — ставшей для них
чужой — латинской речи63.
Недостаток школьного преподавания в развитии практики речи
призваны были восполнить руководства по письму (ars dictaminis).
Как раз на этом поприще Италия сыграла заметную роль.
История средневекового письма (диктамена), занимавшего в
общественной жизни такое же место, как ораторская речь в античной,
начинается и заканчивается в Италии, «самой развитой и деловитой
области Европы под сенью занятий римским и каноническим
правом» [Гаспаров 1986, с. 104]64. Первое краткое руководство по
письмам было составлено Альбериком Монтекассинским (ок.
1087 г.)65, затем с оживлением изучения римского и церковного
права в одном из старейших университетов Европы, в Болонье,
начинается разработка юридического языка (XII в.), получившая
особое название ars notaria. Наряду с образцами деловой
переписки, исходящими из знаменитой болонской школы права (или
близких к ней кругов), из Павии распространяются руководства по
составлению частных писем («семейный» диктамен). Период
расцвета ars dictandi приходится на Болонью XIII в. (Бонкомпаньо,
Гвидо Фаба или Фава66 и др.). Бонкомпаньо пишет руководства и
по составлению документов (например, «Мирра» учит, как писать
завещания, «Кедр» — уставы), и по составлению писем —
дружеских, любовных («Колесо Венеры») и т. п. (в названиях
подобных сборников преобладает ботаническая топика: «Олива»,
«Пальма», «Кедр», «Почка» и т. д. ). Этого бойкого и практичного ритора
даже обвиняли в намерении добавить новый — восьмой —
предмет к традиционным «семи свободным искусствам» тривиума и
63 По определению Джентиле да Чинголи, спекулятивная грамматика
является частью «рациональной философии» (=логики), а грамматикой, имеющей
отношение к «модусу речи» (per modum fabularum), является нормативная и
узуальная [Vineis, Maieru 1990, p. 121, п. 132].
64 В этой работе рассматриваются первые европейские сочинения по
нормативной поэтике, которой — в отличие от риторики — не учили в античной школе.
Античная риторика как система изложена в другой работе того же автора
[Гаспаров 1991]. К сожалению, подобных работ по-русски по истории латинской
грамматики, где бы теория, история и практика так четко разграничивались и вместе
с тем подробно освещались, мы пока указать не можем.
65 Образцы составления писем встречаются и в более ранней традиции,
например, в «Комментариях к Уставу бенедиктинцев» Павла Диакона. Об истории ра3'
работки этого прозаического жанра в Италии см. [Rockinger 1861], [Haskins 1929]*
66 Гвидо Фаба является одновременно и первым учителем риторики на народ*
ном языке. См. ч. 1 с. 11.
П. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 177
вадривиума. Сам Бонкомпаньо (уроженец Флоренции) не
сомневался в том, что является основателем новой риторики, поскольку
великие ораторы древности, Аристотель и Цицерон, учили только
теории, а не практике (arbitror ilium [Aristotelem] scripsisse
rhetoricam in habitu, non in actu) [Manacorda 1914, p. 261].
Центром европейского «средневекового гуманизма» в XII в. была
франция — орлеанская и шартская школы, где
культивировалось изучение античных образцов. В русле этих занятий и возник
спор о том, на чем следует учиться владению латинским языком
— на изучении грамматических правил и установлении их
«причин» (парижская школа) или на изучении текстов и подражании
классическим авторам. В средневековой Франции спор artes и
auctores решился, как известно, в пользу грамматики, ставшей
целью изучения языка [Гаспаров 1986, с. 108]. Итальянские
гуманисты Возрождения, напротив, объявив войну отвлеченным
грамматическим теориям схоластов, взяли на себя реабилитацию
«авторов» и стали рассматривать грамматику как средство
изучения латинского языка, считая целью образования изучение языка
по памятникам литературы.
Помимо корпуса грамматической литературы и исторического
фона, сложившегося на пороге Возрождения (контуры которого
нам необходимо было наметить здесь хотя бы пунктиром), следует
остановиться еще на одном моменте, прежде чем перейти к
рассмотрению латинских грамматик итальянских гуманистов, а
именно на тех инновациях, которые отличают средневековую
грамматику (как систему) от античной67. Эти инновации касаются,
главным образом, трактовки падежей и перемещения центра
грамматического анализа с имени на глагол68. Падежи, которые в ан-
Общим вопросам преемственности в истории латинской грамматики от
античности до Просвещения был посвящен специальный коллоквиум 1987 г. [Rosier
1988а].
Любопытным отражением этой тенденции является занимательный трактат
Андреа Гварны (Andrea Guarna, ок. 1470-1520) «Грамматическая война» (Bellum
Srammaticale) [Guarna 1577], в котором изображается война между глагольным
Царем Амо (ато *я люблю' — пример глаголов I спряжения в подавляющем боль-
шинстве школьных грамматик) и царем имен Поэтом (с вопроса: «"поэт" какая
Та Часть [речи]?» и ответа: «Имя существительное» начинался популярный учеб-
ик о восьми частях речи Janua). Фабула такова: прослышав о начале войны в
Рамматической Империи, первой на призыв своего царя Амо откликнулась про-
нДия Адверб, откуда прибыл вождь наречий Кванд ('когда') с шестью центури-
Ми П0Д командованием Где, Куда, Откуда и др. На стороне Глагола сражались
°гие глагольные племена (инхоативов, медитативов и др.) и свирепый сатрап
омалий (т. е. неправильный глагол). Под натиском этих сил войско Поэта вы-
Чтк*еН0 все время отступать, спасаясь от полного истребления. В конце концов,
Им Ы Положить конец кровопролитию, собираются триумвиры Грамматической
ерии — Присциан, Сервий и Донат. Заключается мир, согласно которому
178 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
тичных грамматиках трактовались как пространственные, стали
рассматриваться в зависимости от управления глагола,
являющегося как бы ядром синтагмы, и тем самым концепция падежа
приближалась к современному понятию синтаксических падежей.
Американский ученый Кит Персиваль выделяет десять
пунктов, составляющих элементы грамматического описания, которые
не были унаследованы от античности [Percival 1976, р. 74-75].
В их числе такие терминологические инновации, как
схоластические термины supposition (букв. — 'подставленное') и appositum
(букв. — 'приставленное, присоединяемое'), вытеснившие
латинские кальки логических терминов Аристотеля «субъект» (subiec-
tum) и «предикат» (praedicatum), введенные ранее Боэцием (в
Комментарии на книгу Аристотеля «Об истолковании» [Sabbadini 1902,
р. 306, п. 2])69, термин antecedens ('предыдущий' ср. "антецедент")
для обозначения слова, предшествующего относительному или
анафорическому местоимению, regere и concordare, относящиеся
соответственно к понятиям «управления» и «согласования», res
agens и res patiens (дословно 'действующий предмет' и
'страдающий предмет', ср. «агенс» и «пациенс»), а также эпизодическое
использование специальных терминов модистов70.
Помимо терминологических инноваций, К. Персиваль
отмечает следующие особенности грамматического описания, характе-
всем «союзникам» предписывается в обычной повседневной речи (quotidiana ... ас
familiari oratione) оставаться на своих местах и поддерживать двух главных
царей. Взаимоотношения между самими царями оговариваются отдельно: в
предложении (in oratione), согласно воле триумвиров, Имя должно быть подвластно
Глаголу (volemus Nomen Verbo supponi) и управляться им (a Verbo Nomen regi,
ср. rex 'царь' и regere 'управлять'). Иными словами, в парадигме частей речи
(partes orationis) имя и глагол остаются главными, а в предложении (oratio), т. е.
в синтаксисе, бразды правления переходят к глаголу. Трагикомедия А. Гварны
пользовалась огромным успехом, многократно издавалась (самое раннее из
известных нам изданий и, наверное, первое относится к 1512 г.) и переводилась на
другие языки. Ср. «военные метафоры» в концепции грамматического и
фонетического строя у современников Гварны — Макьявелли и Кл. Толомеи (см. ниже,
с. 289 сн. 225 и с. 368). Сравнение глагола, который управляет частями речи в
предложении, расставляя их по своим местам, с действиями полководца на поле
брани принадлежит комментатору Присциана Петру Гелийскому (XII в.) [Chevalier
1968, р. 54].
69 До Боэция термин subiectum (логический «субъект») встречается у Марци-
ана Капеллы {Pfister 1976, S. 105], о значении терминов suppositum (SP) и
appositum (VP) в средневековых синтаксических теориях см. [Pfister 1976, S.
109], [Percival 1986 p. 61-62], [Арутюнова 1990, с. 274], несколько упрощенно, в
привычных терминах «подлежащего» и «сказуемого» они трактуются в [Перельму-
тер 1991, с. 58-59], см. также [Степанов 1985, с. 41-50].
70 О средневековой грамматической терминологии см. [Heinimann 1963], об
управлении [Benedini 1984], об инновациях в нормативной грамматике [Law 1986].
//. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 179
й3ующие средневековые грамматики. Примеры предложений,
иллюстрирующих правило, придумываются самим автором, а
редкие цитаты из римских авторов оказываются заимствованными
из Присциана. Базовая синтаксическая конструкция
воспроизводит обычный порядок слов простого романского предложения
/gVO), так называемый ordo naturalis. Отступления от
«естественного порядка» (т. е. более привычный порядок слов латинской
фразы SOV, свойственный языкам с развитой именной флексией)
рассматривается как ordo artificialis (искусственный порядок)
[Vineis, Maieru 1990, p. 77], ср. [Thurot 1869, p. 342-343 sq].
Такая конструкция называется синтаксической «фигурой» (figura).
Правила употребления падежей формулируются в терминах
элементов базовой конструкции, которые глагол расставляет «перед
собой» (ante se или a parte se) или «после себя» (post se, parte
post). Согласно этой модели, конструкция может расширяться
только «вправо» от глагола. Место «слева» от глагола занимает
номинатив агенса или пациенса. Способность гдагола управлять
объектами, располагающимися «справа» от него, рассматривается как
«природа» (или природная сила) глагола. «Природа» глагола
соотносится с четырьмя аристотелевскими причинами (ср. четыре
падежа, которые могут занимать позицию «справа» от глагола:
генетив, датив, аккузатив и аблатив) или с его же понятиями
«переходности» (transitio) и «непереходности» (intransitio). Так,
например, говорится, что «глагол управляет винительным падежом
по природе переходности» (ex natura transitions) [Percival 1976,
p. 74], см. также другие примеры подобного объяснения [Percival
1976а, р. 251, п. 52].
Поскольку латинские грамматики XV в., насколько нам
известно, еще не были описаны по-русски, мы считаем целесообразным
(в качестве первого и во многом предварительного очерка)
рассматривать их, с одной стороны, в контексте уже сложившейся
средневековой традиции (в терминах преемственности и
инноваций, считая критерии «новизны» и «оригинальности» в данном
случае неуместными) и, с другой стороны, в контексте реформы
Школьного преподавания, необходимость которой была осознана,
провозглашена и осуществлена итальянскими гуманистами
Кватроченто (порывание со средневековой традицией)71.
Характерно полемическое название статьи К. Персиваля «Ренессансная грам-
**тика: бунт или эволюция?» {Rebellion or Evolution?) [Percival 1976], которое
ит цитатный характер, ср. характеристику, данную грамматике Гварино Вероне-
rg ? Работе Р. Саббадини: Non ribellione ma evoluzione («He бунт, а эволюция»)
badini 1896, p. 45). О ренессансной реформе грамматики см. [Viljamaa 1976].
180 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Гварино Веронезе (1374-1460) и
новые учебники латинского языка
Гварино Гварини, родом из Вероны (Guarino Veronese),
является одним из самых ярких представителей классического
Ренессанса, проявивших себя на педагогическом поприще72. Гварино
первым из итальянцев отправился в Константинополь
приобщаться к первоосновам античной древности, учился в доме Хрисолора.
Вернувшись в Италию (он отказался от предложения остаться на
постоянное жительство в Константинополе) с сундуком греческих
рукописей (впоследствии он перевел на латинский всего Страбо-
на, большинство биографий Плутарха и ряд его мелких
сочинений, две речи Исократа, две гомилии Василия Великого и др.)73,
преподавал сначала во Флоренции, затем в Венеции и Вероне, пока
не осел окончательно в Ферраре, где основал собственную школу-
пансион74 и учительствовал там более 30 лет кряду (1429-1460),
если не считать перерывов из-за эпидемий чумы, когда замирала
всякая жизнь, закрывались все школы и университеты и
Гварино, спасая себя и свою многодетную семью, укрывался в своем
имении. За свою долгую жизнь Гварино общался чуть ли не со
всеми деятелями Ренессанса (дружба входила в этикет
гуманистической культуры), многие из которых были его учениками.
Переписка Гварино (более 800 писем изд. Саббадини [Epistolario])
является ценным источником по истории гуманизма более чем за
полувековой период, а также основным источником
биографических сведений о нем самом (см. предварительную публикацию [Sab-
badini 1885]) и о его воззрениях (в том числе и лингвистических,
например письмо к Леонелло д'Эсте, см. наше Приложение II75).
72 О педагогических воззрениях гуманистов существует большая литература. В
отечественной историографии этот вопрос был хорошо освещен М. С. Корелиным
[Корелин 1892] с обильными цитатами из оригинальных трактатов Л. Бруни и
П. Верджерио. О Гварино см. с. 921-933 с исчерпывающей (на тот период)
библиографией сочинений Гварино и изданных текстов в подстрочных примечаниях.
73 Перечень переводов Гварино, их рукописей и изданий см. [Rosmini 1805. И»
р. 129-137]. Часть этих переводов представлена в собрании БАН, в печатных
изданиях XVI в.
74 О школе Гварино есть специальная монография [Sabbadini 1896] (с
публикацией 44 документов в Приложении), материалами которой мы пользуемся в
изложении этой темы. Как выясняется только теперь, была монография по-русски
♦ Гуманистическая школа в Италии эпохи Возрождения», написанная А. И. ХомеЯ-
товской (1881-1942). Судьба этого замечательного ученого-западника в
Советской России сложилась трагически; местонахождение рукописи неизвестно [Хо-
ментовская 1995, с. 263]. Из недавних работ см. [Ревякина 1993].
75 В письмах Гварино поправлял ошибки своих учеников в латинском языке,
предостерегая их от дурного слога и вкуса. Все гуманисты, начиная с Петрарки и
включая Кл. Толомеи (XVI в.), боролись против «новой» вежливой формы обра*
ь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 181
Веронец занимался со своими учениками по вечерам, а в ут-
нние часы преподавал греческий язык в Феррарском
университете (открытию которого в 1442 г. он способствовал при
содействии своего воспитанника — сначала наследника, а затем
правителя Феррары Леонелло д'Эсте); помимо этого известно, что
0н читал в университете по две лекции в день, одну о латинском
поэте, другую — о греческом. Гварино снабдил своими
дополнениями и комментариями (по-латински) греческую грамматику Ма-
нуила Хрисолора76 (Erotemata Guarini cum multis additamentis et
cum commentariis latinis, изд. 1501), которая стала, таким
образом, первой двуязычной греко-латинской грамматикой эпохи
Возрождения. Хрисолора он необыкновенно чтил (что входило в
этикет гуманистического поведения) и после смерти любимого учителя
составил сборник речей и писем («к нему и о нем»), названный
Chrisolorina (прототип современных сборников in memoriam).
В школе Гварино было три курса: начальный,
грамматический (который состоял из двух ступеней — методической и
исторической) и риторический (так было в «Воспитании оратора» Квин-
тилиана, см. Inst. orat. I, 4.1; 9,1). На начальном курсе учили
чтению (причем особое внимание уделялось произношению),
склонению и спряжению. Флексии обычно заучивались по «Малому
руководству» Доната (Donatus minor) или по его средневековой
версии (Janua, «Двери», см. ч. I, с. 97 сн. 171)77.
На грамматическом курсе сначала изучали общие правила:
склонение, спряжение, определение частей речи и т. п., основы
метрики и просодии (заучивая наизусть Вергилия) и обучали начаткам
греческого (по учебнику М. Хрисолора), после чего брались за При-
сциана. Неправильные глаголы и склонение учили по «Доктрина-
лу». На второй ступени грамматического курса, где уже не было
Учебников, приступали к чтению текстов с целью изучения
сведений по истории и мифологии, «проходили» знаменитых
античных историографов (откуда и название дисциплины grammatica
Щения «на Вы». Гварино тоже наставляет своего корреспондента [Sabbadini 1896,
Р- 209-211], что к одному человеку нужно обращаться в единственном числе, ибо
*Так поступали древние». Ср. пространные рассуждения по этому поводу в
средневековых трактатах [Thurot 1869, р. 264 sq].
О деятельности Мануила Хрисолора и других ученых византийцев (напри-
еР» Теодора Газа, который написал в Ферраре свою знаменитую грамматику
Реческого языка), нашедших приют в Италии после падения Константинополя,
см7-.[Куторга 1891], [Niutta 1990], [Pontani 1996].
Новый учебник, так называемый «Итальянский донат» был написан гораздо
£0з*е, в 1487 г. Антонио Манчинелли (1452-1500) см. [Corti 1955, р. 200, п. 10].
кя\ Так наз* «Французский донат» (учебник французского, а не латинского язы-
**> конца XV в. [Swiggers 1985].
182 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
historica), «Энеиду» Вергилия и «Метаморфозы» и «Фасты» Ови-
дия . Кроме того, читали трагедии Сенеки, сатиры Ювенала,
«мастера элегантного слога» — Теренция, из других поэтов
рекомендовали Плавта, Горация и Персия. На риторическом курсе главным
образом занимались интерпретацией Цицерона и Квинтилиана.
Учебником здесь служила «Риторика к Гереннию», с нее и
начинали, приступая затем к риторическим сочинениям Цицерона и
изучению стиля его речей. Здесь же учили и началам философии,
читали Платона и Аристотеля, а из римских авторов —
Цицерона, особенно трактаты «Об обязанностях» и «Тускуланские
беседы». Таким образом, на риторическом курсе ученики получали
литературно-философское образование78.
Гварино Веронезе не был таким страстным и одержимым
охотником за рукописями, как Поджо и Ауриспа, прославившиеся в
этом деле (иногда в ущерб своей репутации честных граждан), но
и у него было несколько удачных приобретений79. Так, например,
ему посчастливилось купить рукопись писем Цицерона, по
которой он составил антологию из 50-ти писем, и она была самой
популярной книгой для чтения на третьем курсе. Если по части
добывания рукописей Гварино не мог состязаться с Поджо и
Ауриспой, то в исправлении кодексов он оставил их обоих далеко
позади себя [Sabbadini 1896, р. 107]. В своей филологической
работе он исходил из устранения ошибок и искажений,
свойственных переписчикам, самыми типичными из которых считал
следующие: отсутствие греческих цитат в латинских рукописях из-за
незнания греческого языка, небрежность в орфографии,
упразднение дифтонгов, путаницу в написании похожих слов (типа
mortem вм. martem) из-за безграмотности писцов и включение
маргиналий в основной текст.
Таким образом, Гварино стоял у истоков итальянской
филологической школы [благодаря которой стали возможными
знаменитые первые издания (editio princeps) классиков, осуществленные
78 В школе Гварино учили не только классическим языкам и словесности.
Точный перечень предметов не известен, но представление о дисциплинах, которым
учили в гуманистической школе, можно составить по описанию, оставленному
другим известным учителем этого времени П. Верджерио. Это синтаксис (congruus
sermo), диалектика, риторика, поэзия, музыка, математика, астрономия,
естественная история, рисунок, медицина, юриспруденция, этика, теология (это не
учебный план, а перечень дисциплин в свободном порядке) [Sabbadini 1896, р. 33]«
Известно также, что в школе Гварино учили танцам (опять-таки по Квинтилиа-
ну), в то время как Верджерио этого занятия не поощрял (об эстетическом
воспитании в школе Гварино см. [Ревякина 1994]). О преподавании дисциплин квадри-
виума в эпоху Ренессанса см. [Pellizzari 1924].
79 О латинских рукописях, найденных Гварино, и их исправлении см. [Sabbadini
1887].
а ешь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 183
о второй половине XV в.], и можно быть уверенным, что в его
в коле учили «правильной» латыни, по исправленным текстам.
Гварино был первым из учителей-гуманистов, кто разработал чет-
ю и последовательную программу обучения, отвечающую
новым культурным запросам общества. Он не оставил никакого
трактата на эту тему (наметки плана содержатся в письме 1425 г. к его
бывшему ученику, см. [Sabbadini 1896, doc. 15, p. 191]), но это
сделал за него его сын Баттиста, написавший книгу о методе
преподавания отца (одобренную родителем) [Guarinus Baptista 1514]80.
Из этого описания следует, что синтаксису (т. е. построению
латинской фразы) учили «со слуха», путем упражнений в переводе
фраз с итальянского на латинский. Гварино называл такие
упражнения старинным средневековым термином themata, а
Баттиста называет их на античный лад «декламацией» (declamatio).
Как строился урок «по темам», можно понять из следующего
контекста. «Themata: Si detur thema per participium quod non
inveniatur vel si non habet vulgare sui verbi, fit latinum per relativum
et verbum: Hermolao, bandezante Paolo, scrive — Hermolaus a quo
exulatur Paulus, scribit». «Темы: Если дается упражнение на
причастие, которое не встречается либо не может быть образовано
обычным способом от соответствующего глагола, то переводить
его на латинский надо при помощи относительного местоимения
и глагола: "Ермолай, изгоняющий Павла, пишет", [итал.]. — "Ер-
молай, каковым изгоняется Павел, пишет" [лат.]», пример
приводится Саббадини [Sabbadini 1896]). Интересно, что в печатном
издании «Правил» (которым мы пользовались, см. ниже) пример с
венецианизмом bandezare 'изгонять, добивать' заменен другим, с
итал. battere: "Hermolao, battendo i cattivi scolari, fa Г officio del
buon praecettore". — «Ермолай, наказывая (=лат. vapulor 'бить',
но учителя-гуманисты, насколько это известно, не занимались
рукоприкладством [Ревякина 1984 с. 73]) плохих учеников,
выполняет обязанность хорошего наставника» [Guarino Veronese 1591,
*• 12г]). Ш. Тюро считал и метод (перевод с родного языка на
латинский), и термин themata спецификой итальянского
преподавания [Thurot 1869, p. 92]81.
Как мы видим, Гварино использовал в своей школе
провереннее многовековой практикой учебники по латинской граммати-
Отец назвал обобщающий труд своего сына viaticum 'напутствие, путеводи-
Ль ; ср. предметное значение этого слова: 'средства на путевые расходы, солдат-
/ J?e Переженил (накопленные во время походов)'. Об изданиях De Ordine docendi
к ^методе обучения») см. [Vasoli 1968, р. 13 п. 6].
с Заметим, что в современной высшей школе Франции занятия по переводу
Ни °^Ного языка на иностранный называются Theme (так значится в расписа-
184 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ке, применяя метод опоры на родной язык, родоначальником ко.
торого считают Александра Вилладейского, и пользовался испьь
тайным средством школьной педагогики — мнемоническими сти.
хами для заучивания правил (о чем пойдет речь дальше). И при
всем при этом он учил своих воспитанников латинскому литера,
турному языку, которому (как и любому другому иностранному
языку) нельзя научиться по одним только учебникам
грамматики. Здесь многое зависело от личности самого учителя. Гварино,
безусловно, был самым знаменитым учителем Италии XV в. Его
высоко ценили гуманисты: Поджо доверил ему воспитание своих
сыновей, а саркастичный Лоренцо Валла считал равным ему по
уровню знаний только Леонардо Бруни [Корелин 1892, с. 928].
Гварино выучил два поколения итальянских гуманистов хорошей
латыни, внедрив в их сознание идею единства языка (и
необходимости для общества существования такого обработанного и
упорядоченного языка) и одновременно мысль о том, что это не только
система правил, по которым можно механически конструировать
любой текст, а изменчивый и живой организм, который
постоянно напоминает человеку о его главном человеческом качестве —
свободе выбора. Само собой разумеется, что подобные идеи нельзя
почерпнуть из учебников по грамматике (независимо от того,
написаны ли они монахом XIII в. или современными авторами уже в
XX в.), а их формированию способствует (или не способствует) вся
образовательная система в целом82 (не потому ли возникновение
исторического подхода к языку и становление метода, столь
распространенного в современной науке, выпадает из курсов по
истории лингвистики, что грамматики не отражают этого процесса).
Гварино Веронезе написал несколько собственных сочинений
по латинской грамматике, из которых главным является Regulae
grammaticales («Грамматические правила», 1414—1418 г.83, изд. в
Венеции в 1470). «Правила» Гварино пользовались большим
спросом в Италии, по ним учились в школах вплоть до XVII в.84.
82 Ср. такое определение грамматики, открывающее его учебник:
«Грамматика — это искусство правильно говорить и писать, которое учитывает прочтен^
встречающиеся у писателей и поэтов» (Grammatica est ars recte loquendi, recteque
scribendi, scriptorum ac poetarum lectionibus observata) [Guarino Veronese 1591]«
83 В итальянских примерах Гварино часто встречаются венецианские формы
(ср. выше с. 183 bandezante), что заставляет ученых предполагать, что
грамматика была написана, когда он преподавал в Венеции (1414-1420).
84 Р. Саббадини называет 26 изданий XV в., К. Персиваль отмечает (по
лондонскому каталогу Conspectus Incunabularum) 50 инкунабульных изданий и, кроме
того, указывает около десятка рукописей (часть из которых — фрагменты),
обнаруженных им в библиотеках Италии (примечательно, что из городов, где
учительствовал Гварино, не упомянута именно Феррара), Нью-Йорка и Лондона
[Percival 1976, р. 77, п. 15]. Издания XVI в., видимо, не являются редкостьк^ Я
ть П. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 185
Отличительной особенностью «Грамматики» Гварино является
осТОта формулировок и сжатость изложения. Его учебник
полностью очищен от логических и метафизических объяснений, что
согласуется с общей установкой гуманистов: тратить как можно
меньше времени на теорию и изучать не лингвистические трактаты,
оригинальные тексты латинских авторов, хотя в самой
«Грамматике» это не выражено в эксплицитной форме и она не
содержит никакой критики предшествующей традиции (резкое
критическое отношение начнется двумя десятилетиями позже с ревизии
всей средневековой грамматики, предпринятой Лоренцо Валлой).
В целом «Правила» Гварино находятся в русле традиционной
грамматики. Исследователи указывают на четыре источника этого
учебника, два из которых («Януа»85 и «Доктринал») относятся к
общеевропейской традиции XIII в., а два других — к ближайшей
(итальянской) [Tavoni 1990, р. 172]. Это два итальянских
грамматика XIV в.: уже упоминавшийся нами (в связи с комментариями
к Данте и к учебнику Александра Вилладейского) тосканец Фран-
ческо да Бути и кремонец Фолькино деи Борфони86.
Судя по всему, о каких-либо существенных инновациях
Гварино говорить не приходится, поскольку все они касаются
упрощения терминологического аппарата [Percival 1976, р. 77], но отказ
от некоторых схоластических терминов симптоматичен87.
поэтому ссылок на них в научной литературе нам не попадалось. Тем не менее
отметим как библиографическую редкость в наших собраниях феррарское
издание конца XVI в.: БАН шифр 932.0/4408-10 [Guarino Veronese 1591]. Кроме
этого издания, нам удалось посмотреть 2 рукописи (обе в Bodleian Library, Oxford):
MS Canon, misc. 102 и MS. Lat. misc. e 123 [30 л.] (вторая из них не отмечена в
указанном перечне Персиваля). Incipit: Artes (sic) grammatice sunt quattuor, littera,
sillaba, dictio e oratio.
Есть современное издание этого учебника [Schmitt 1969], которого мы не
виДели (см. [Scaglione 1970, р. 43, п. 106]).
Regulae Гварино описаны в [Sabbadini 1896, р. 38-47]. Вопрос об
источниках рассматривается в [Sabbadini 1902], в более широком контексте (связь
итальянской грамматической традиции с римской): [Sabbadini 1906], специально об
источниках Гварино [Percival 1972].
Хотя ссылки на «неизученность вопроса» приобрели в научной литературе
Ритуальный характер и на них мало кто обращает внимание, тем не менее отме-
м» что отсутствие критических изданий грамматических трактатов XV в. силь-
0 затрудняет их изучение. На это положение дел А. Скальоне обращал внимание
к на одну из главных причин недостаточного освещения этого периода в исто-
и языкознания [Scaglione 1970, р. 13]. В отличие от античных грамматик и
рдДневековых лингвистических трактатов, издание которых постоянно расши-
н ®т к°Рпус текстов, имеющихся в распоряжении ученых (см. обзор этих изда-
таю g^one 1970, р. 12-20]), сочинения гуманистов Возрождения все еще ос-
Те ТСя в рукописях, мало доступных инкунабулах и редких изданиях XVI в. С
l9yt.Hl!eM вРемени сложившаяся ситуация почти не изменяется (см. рец. [Percival
aJ с дополнениями к библ. Скальоне, с. 450-456), а в отношении XV в. цели-
186 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Большая часть феррарского издания «Грамматики» Гварино
(Regulae Grammatices 1591 далее RGF) посвящена глаголу88.
Определив, что такое грамматика, и объяснив этимологию это.
го слова (от grammata 'буквы'), Гварино приводит буквенный (он
же звуковой) инвентарь латинского языка. Вслед за этим он
называет восемь частей речи (nomen, verbum, participium, prenomen,
prepositio, adverbium, interiectio, coniunctio), отмечая, что четыре
из них (имя, глагол, причастие и местоимение) являются
изменяемыми (declinabiles), а четыре остальные (предлог, наречие,
междометие и союз) — неизменяемыми (indeclinabiles) частями речи89.
После определения частей речи и перечня их «изменений»
(акциденций) даются правила согласования (их три и все
описание занимает 6,5 строк): 1. номинатив согласуется (tenetur
concordare) с глаголом в двух вещах: в лице и в числе (praeceptor
docet 'учитель учит'); 2. относительное местоимение (relativum)
согласуется с предшествующим ему именем (antecedens) тоже в
двух вещах, в роде и в числе (Video Petrum, qui legit 'Я вижу
Петра, который читает'); 3. прилагательное (adiectivum) с
существительным — в трех: в роде, числе и падеже (Vir bonus 'добрый
муж'). Затем Гварино переходит к глаголу, который определяет
так: «Что такое глагол? Глагол это изменяемая часть речи, с
наклонениями и временами, без падежей, для обозначения
совершаемого или претерпеваемого действия» (Quid est Verbum? Verbum
est pars orationis declinabilis; quern cum modis ac temporibus, sine
casu, agendi vel patiendi est significativum) (f. A3). Затем
перечисляются акциденции глагола, их восемь: «род» (genus), т. е. залог,
время (tempus), наклонение (modus), «вид» (species)90, фигура (figu-
ком остается прежней. Вопросы текстологии в связи с расхождениями между
рукописными изданиями «Грамматики» Гварино подробно рассмотрены в [Percival
1978]. Отсутствием критических изданий латинских грамматик итальянских
гуманистов XV в. объясняется краткость соответствующего раздела в [Tavoni 1990,
р. 170-175].
88 RGF отличается от издания, описанного Саббадини (в том числе и
названием) и от просмотренной нами рукописи Бодлеанской библиотеки (MS. Lat. misc. e
123), далее сокр. MS 123, но в своей основной части (синтаксисе падежей и
глагольного управления) расхождения представляются незначительными и в данной
работе ими можно пренебречь. Оригинальная орфография в цитатах не
соблюдается. Кроме RGF (инв. N 4408) в конволюте под указанным шифром имеются еще
два аллегата: «Образование времен в латинском языке» (по-итал.), Флоренция,
1607 и «Греческий алфавит» (по-лат.) Венеция, 1584; в RGF греческий алфавит
занимает одну последнюю страницу.
89 О системе частей речи (octo partes orationis), сложившейся в средневековых
грамматиках, см. [Rosier 1988], то же в сравнении с XVI в. [Colombat 1988].
90 «Видовые» различия глагола определяются в терминах словопроизводства
(как и «вид» у имени): ато 'люблю' (species primitiva 'первичный вид'), amasco
(species derivativa 'производный вид'), что в конечном счете (а у Гварино,
возможно, и прямо) восходит к александрийской грамматике, см. [Оленин 1980»
с. 220].
и стпь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 187
а^, спряжение (coniugatio), лицо (persona) и число (numerus),
Гатем перечисляются «роды» глагола (их пять, состав и
терминология традиционные): глаголы бывают активные, как ато ('я
люблю'), пассивные (amor 'я любим'), средние («нейтральные»,
как servo 'я служу'), общие (largior 'я дарю' и 'я дарим') и
отложительные (persequor 'я преследую')92. Таким образом,
описание инвентаря латинской грамматики умещается на 4-х с
половиной страничках in octavo. Достаточно сравнить это с любым из
описаний, приводимых Тюро (которые занимают по несколько
страниц, ср., например, трактовку акциденций глагола у
Мишеля Марбэ [Thurot 1869, р. 183 sq.]), чтобы понять, насколько
лаконичен Гварино.
Большую часть нашей «Грамматики» занимает описание
«родов» глагола, в конце небольшая главка «Об орфографии»93 и в
заключение — поэма в стихах на запоминание омонимов Carmina
Differentialia94.
91 Под акциденцией фигуры, или строения, в грамматиках обычно понимают
деление имен, глаголов и т. д. (по словопроизводству) на простые и составные
(см. об этом у Доната [Шубик 1980, с. 251]), в «Провансальском Донате» [Черняк
1991, с. 82] Гварино различает три «фигуры»: простую (ато), составную (peramo)
и образованную от составной (peramasco), что также указывает на
александрийский прототип (ср. [Оленич 1980, с. 219]). В других контекстах figura может
означать figura constructions. «Фигуры речи» рассматривались обычно как в
грамматиках, так и в риториках. Гварино, как и его предшественник Франческо да
Бути, рассматривает фигуры речи только в синтаксическом аспекте. В RGF этого
раздела нет, он изложен у [Sabbadini 1896, р. 41].
92 В греческой традиции (у стоиков) различались сказуемые четырех родов; в
переводе И. М. Тройского это: прямые, навзничные («опрокинутые,
перевернутые, лежащие на спине»), средние, возвратные (эту же терминологию использует
И. А. Перельмутер [Перельмутер 1995, с. 53]). Нам представляется более
удачным новый перевод М. Л. Гаспарова: «...среди сказуемых иные — прямые, иные —
обратные, иные — средние... Противострадательные сказуемые — это те, которые
числятся в обратных, однако не обозначают действия...» [Диоген Лаэртский, VII,
64].
С раздела орфографии обычно начинались латинские грамматики;
гуманисты» как правило, не включали этот раздел в свои грамматики и писали о разных
Допросах орфографии (и орфоэпии) отдельные трактаты, т. к. придавали этому
большое значение. У Гварино тоже есть отдельный трактат о дифтонгах (Ars
-tphtongandi), где, в частности, сопоставляются латинские дифтонги и греческие
(Два издания этого трактата значатся в [Каталог инкунабул] БАН под NN 671,
'4). Подобного рода трактаты в основном состояли из списков слов, в которых
по правилам «классического» узуса произносились дифтонги, и на письме их
аДо было отражать соответствующими диграфами.
Carmina Differentialia, как отмечают исследователи, обычно издавалась вме-
гг>е ° *^Равилами» (так и в MS 128, excipit: Finis differentiae Guarini). Разделы
Рамматик или отдельные сочинения под этим названием «Дифференции» (=раз-
"Чия) обычно включали 3 разряда лексики: два типа синонимов — равнознач-
lJ (ого, ргесог *я прошу') и имеющие семантические различия (Итог 'боязнь' и
«К 'стРах'), а также омонимы (nepos 'племянник, внук' и 'бездельник, мот').
к гУ>Мина» Гварино (ок. 300 гексаметров) включает только омонимы и восходит
d6epxapAy Бетюнскому [Sabbadini 1896, р. 55-57].
188 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Итак, в своей основной части Гварино исходит из классифика-
ции глагола по залогам (активные, пассивные и т. д. ) и для каж.
дого залога формулирует правила сочетания глаголов с объектны-
ми падежами (правила управления «вправо»). Все правила вводятся
оборотом nota quod (заметь, что). Рассмотрим, как формулируют-
ся эти правила (и соответственно классифицируются глаголы) на
примере активного залога (т. к. схема одинакова и для других
«родов»). [Правило 1]: «Заметь, что простым активным глаголом
(verbum activum simplex) называется тот, который оканчивается
на -о и образует от себя пассив на -or и требует перед собой (vult
ante se) номинатив агенса (nominativum agentem), а после себя
аккузатив пациенса, как Ego amo Deum *Я люблю Бога'». В
разделе пассивных глаголов название «простого пассивного глагола»
получает тот, «который требует перед собой номинатив пациенса
(nominativum patientem), а после себя аблатив агенса с предлогом
а или аЬу как Deus amatur a me 'Бог любим мною'». Далее
последовательно рассматриваются конструкции с «простым активным»
глаголом, которые могут расширяться вправо за счет других
падежей: родительного, дательного (и т. д., как в парадигме имени).
Глагол в каждой из этих «расширенных» конструкций
получает свое терминологическое обозначение. Правило формулируется
так: «Заметь, что активным посессивным глаголом (activum
possessivum) называется тот, который требует перед собой
именительный падеж агенса, а после себя аккузатив пациенса, а далее
(ultra) генетив или аблатив без предлога, как Ego emo librum duobus
ducatis 'Я покупаю книгу за два дуката'» [RGF f. 4]. Глагол в
конструкциях с дательным называется acquisitivum — приобре-
тательным (Ego do panem pauperibus 'Я даю хлеб бедным'), с
винительным (так наз. «двойной аккузатив») — transitivum —-
переходным (Ego doceo te grammaticam *Я учу тебя грамматике').
Заметим, что в базовой конструкции SVO глагол amo не
называется переходным у а определяется как простой (activum simplex). В
конструкциях с аблативом различаются два типа управления —
беспредложное (Ego spolio te veste 'Я срываю с тебя одежды') и с
предлогом а или ab (Audio lectionem a magistro 'Я слушаю
лекцию учителя') и соответственно выделяются два класса глаголов:
effectivum — эффективный (управляющий аблативом без
предлога) и separativum — отделительный (управляющий аблативом с
предлогом). Таким образом, классификация активных глаголов У
Гварино приобретает следующий вид:
1. простой активный глагол — Ego amo Deum (асе.)
2. посессивный — Ego emo librum+duobus ducatis (gen./abl.)
3. приобретательный — Ego do panem+pauperibus (dat.)
4. переходный — Ego doceo te+grammaticam (ace.)
5.1. эффективный — Ego spolio te+veste (abl.)
5.2. отделительный — Ego audio lectionem+a magistro (abl.)
гпь Ц. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 189
Эта номенклатура в (полном объеме), как установил Р. Сабба-
ини, восходит к грамматике XIV в. Фолькино деи Борфони (один
^ иСточников Гварино). Однако определения Фолькино (они
приводятся в [Sabbadini 1902, р. 310-311], [Sabbadini 1903, р. 115])
осложнены элементами модистской терминологии (например,
ссылками на 4 причины, которые у Аристотеля «каузируют»
движение простых тел во вселенной, а в спекулятивных грамматиках —
глагольное действие)95, которые вне контекста учения о трех
«модусах» (модус «существования», модус «понятия» и модус
«обозначения») и об их взаимоотражениях (ср. speculum 'зеркало') и
вне контекста теории глагольного действия (которая, видимо, была
разработана у модистов весьма детально)96 теряют всякий смысл
и выглядят инородными «вкраплениями», лишь усложняющими
«правило» глагольного управления.
Гварино не интересует, как мы видим, ни характер
глагольного действия, ни природа объектов, «каузирующих» движение
одного предмета к другому, т. к. его задача состоит в том, чтобы
научить своих подопечных сочетаниям определенных глаголов с
определенными падежами (правилам управления) и типовым
синтаксическим конструкциям с порядком SV097, поэтому он убира-
95 Ср.: «Activum effectivum est illud quod alicuius cause effectum significat et
illud vult ante [se] nominativum persone agentis et post [se] accusativum persone
patientis et ablativum sine prepositione ex natura cause materialis vel efficients vel
formalis...» (Активный эффективный есть тот [глагол], который обозначает
следствие (effectum) какой-либо причины и требует перед собой номинатив
действующего лица, а после себя аккузатив страдающего лица и аблатив без предлога по
природе причины материальной, либо действенной, либо формальной... [Sabbadini
1903, р. И].
Мы не занимались специально спекулятивными грамматиками и можем
только предполагать, что способы глагольного действия рассматривались в этих
грамматиках по остаткам этой терминологии в том редуцированном виде, в каком она
представлена в «обычных» грамматиках XV в. Показательно, что Фолькино
выделяет «простой активный глагол» и указывает, что к нему есть пять способов
действия (manieres) (как бы пять модификаций): «И у этого активного глагола
есть пять способов (manieres), а именно активный посессивный, приобретатель-
ныи (и т. д. )» (Et huius verbi activi quinque sunt manieres, scilicet activum
Possessivum, activum acquisitivum и т. д. [Sabbadini 1903, p. 115]). Слово manieres
МанеРы' для обозначения способа глагольного действия (Aktionsart) явный
неологизм (ср. фр. maniere). Итальянский термин maniera (в значении 'наклоне-
ие —. modo) встречается в трактатах XVI в. по грамматике (например, у Кас-
^льветро). Все эти вопросы, разумеется, нуждаются в самом тщательном изучении.
аиболее полным и систематическим изложением теории «модусов обозначения»
итается в современных историях средневековой лингвистики труд Иоанна Кор-
Уэльского (Johannes Brian de Cornubia) Speculum grammaticale («Зерцало грам-
Ма9т7и*и», ок. 1346 г.).
Мь ° ^орядок SVO, воспринимаемый как обычный (естественный) и
определяема*1 Как огс*° naturalis, окончательно утвердился в латинских грамматиках XIII в.
стп °Му П0РЯДКУ учит Александр Вилладейский, гл. IX, ст. 1390-1396), но пере-
ика латинского синтаксиса по модели простого романского предложения (где
190 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ет все лишнее из определений и оставляет только схему «классов»
глагола. Эта схема в конечном счете восходит к Присциану (ср%
термин verba acquisitiva и verba separativa sive discretiva), она
была доработана в средние века и окончательно утвердилась в
XIV в.98 [Sabbadini 1903, р. 118]. После формулировки правил
глагольного управления Гварино приводит список глаголов каждого
класса (deligo, -as, -avi,- atum) и короткий стишок (вроде нашего
«гнать, дышать, держать и видеть...») на запоминание.
В RGF вся морфологическая часть сведена, по сути дела, к
словарю терминов латинской грамматики — это словарь-минимум
метаязыка, необходимый и достаточный для того, чтобы учитель
мог объясниться с учениками, обучая их грамматике
иностранного языка.
Из инноваций в области номенклатуры следует отметить
включение артикля или члена (articulum) в акциденции имени: hie,
hac, hoc 'этот, эта, это', которое связано с практикой школьного
преподавания. Двуязычные грамматики XIII в. показывают, что
указательные местоимения включаются в парадигму склонения
имени, как соответствия итальянским беспадежным формам
«предлог + артикль». Ср., например, в латинско-бергамасской
грамматике: «склонение hie lector (этот учитель) — ol lector. Род. п. huius
lectoris — del lector и так далее (et sic inde)» [Sabbadini 1904,
p. 285]". Выделение трех «фигур» в акциденции имени и глагола
(см. выше с. 187 сн. 91) мы склонны интерпретировать как
непосредственное влияние греческой грамматики (ср. комментарии
Гварино к «Эротемате» Мануила Хрисолора). Во всяком случае,
«Провансальский Донат» XIII в. выделяет две «фигуры» (первичная и
производная) [Черняк 1991, с. 82], а «Французский Донат», учеб-
в конструкциях с «простым активным» глаголом он является единственно
возможным) началась задолго до этого (в латинских грамматиках XI в.) [Vineis, Maieru
1990, p. 77-78, п. 254]. Некоторые исследователи указывают в качестве прямого
источника этой инновации «Грецизм» Эберхарда Бетюнского (1212) [Percival 1975,
р. 234, п. 3].
98 Происхождение названий глагольных «субклассов» нуждается в
специальном исследовании. Так, например, Персиваль, заинтересовавшись значением
слова «натура» в правилах глагольного управления, формулируемых грамматиками
XIV в. (ср. выше с. 179), обнаружил толкование этого термина в комментариях
XII в. к Присциану, а «по пути» увидел и сам метод анализа падежей, который
он сопоставляет со знаменитой работой Ч. Филмора The Case for Case [Percival
1976, p. 251 и п. 53, 54]. He исключено, что история терминов «посессивный»»
«эффективный» и др. (которые так же, как и natura уже не определяются в
грамматиках XIV-XV вв.) поможет уяснить способ анализа «модуса» глагольного
действия у схоластов и модистов.
99 Впрочем, и в латинских грамматиках начиная с Доната имя в парадигме
склонения давалось вместе с указательным местоимением: hie magister, huius
magistri и т. д. Ср. [Черняк 1991, с. 84; 1991а, с. 106].
и стпь 11' Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 191
к французкого языка XV в., — три [Swiggers 1985, р. 242] (как
f варино), видимо, следуя ближайшим (по времени) латинским
грамматикам, а не средневековым «донатам».
Глагольное управление изложено в RGF на уровне
грамматической науки того времени (т. е. современным научным языком) и
очищено от всякой теории и всякой метафизики. То, что
современному лингвисту может показаться регрессом в области
теоретической мысли, носителями латиноязычной культуры
воспринималось как новаторство и своего рода революция в латинской
грамматике100.
Дело в том, что проникновение элементов спекулятивной
грамматики в учебники сбивало учеников с толку, и они терялись в
ответе на элементарный вопрос, какого рода данное слово, т. к. не
знали, спрашивают их о вещи или об имени [Rosier 1988, р. 42].
Чтобы оценить, какое значение имело упрощение учебника по
латинской грамматике — краткость изложения и наглядность
схемы склонений и спряжений, достаточно подержать в руках
старый учебник и попробовать запомнить все слова с окончанием
родительного падежа всех склонений со всеми исключениями,
затем дательного и т. д., которые давались в строчку. С изобретением
книгопечатания и совершенствованием полиграфической техники
(выравнивание столбца) привычные нам парадигмы склонений и
спряжений (которых у Гварино еще нет) вошли в практику и стали
обычным оформлением страницы в учебнике по грамматике101.
Из грамматик XV в. широкой известностью за пределами
Италии пользовался учебник епископа сипонтийского Николая
Перотти (автора первого лексикона, ориентированного
исключительно на латинское словоупотребление классической поры, «Кор-
нукопии», см. выше с. 160) Rudimenta grammatices («Начала
грамматики», написана в Витербо в 1468 г.)102.
Примером исторического подхода к проблеме «упрощения» (фр. simplification)
латинской и греческой'грамматики, которого добивались гуманисты (не забудем,
Что сами они учили латынь по «Доктриналу» и «Грецизму»), может служить
вывод, к которому приходит автор широко известной монографии по истории
латинской, греческой и еврейской грамматики в эпоху Возрождения:
«...упростить — это значит учесть главные требования настоящего момента, требования
нтеллектуальных, духовных, политических, экономических и технических
запросов своего времени. Новое — это к тому же еще и необходимость, которая
провоцирует это новое» [Kukenheim 1951, р. 85].
Ср. в этой связи определение склонения и спряжения как списка (la liste)
ончаний имени и глагола у французских энциклопедистов XVIII в.
Lvandermarliere 1990, р. 41].
197 О гРамматике Н. Перотти см. [Percival 1981], а также [Scaglione 1970], [Padley
tell 1985-1988] — по именному указ.; специально о нем [Mercati 1925], [Kris-
р0 er 1981]. По случаю 500-летия со дня смерти Перотти (1429-1480) на его
Не в итальянском городе Сассоферрато был проведен международный
192 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Принцип описания в Rudimenta (далее в пределах этой главы
Rg) тот же, что у Гварино и в других грамматиках гуманистичен
кого направления (правила формулируются кратко, идут под
номерами), список глаголов каждого «класса» (ок. 8-10 примеров)
дается в столбик, некоторые из них поясняются итальянскими
синонимами, например, к лат. trucido (убивать) дается итал,
amazzare 'убивать' ('добивать до смерти при помощи
определенного орудия' от mazza 'палица, кувалда') и tagliare a peze (букв,
'резать на куски'); satago (в библейском значении 'хлопотать,
усердствовать") переводится как essere diligente 'быть усердным'103.
Rg значительно больше по объему (109 л. in 4°), чем RGF, там есть
традиционные разделы (отсутствующие в RGF), как, например,
«О тропах» (л. 74об.-75). Это полный начальный курс
грамматики латинского языка, и его состав несколько отличается от
«Правил», написанных знаменитыми учителями, которые держали свои
школы или постоянно преподавали (Гварино Веронезе, Гаспаро
Веронезе, Гаспарино Барцицца, Витторино да Фельтре и др.). Он
начинается с алфавита и молитвы104; кроме морфологии, в нем
есть раздел о пунктуации, и главная инновация — включение в
грамматику большого раздела о составлении писем (De Componendis
Epistolis, f. 75-109)105.
конгресс, материалы опубликованы в американском журнале (Канзас) Res Publica
Litterarum (4, 1981) и в итальянском издании, оставшемся для нас недоступным
(Studi umanlstici piceni I: Atti del Convegno internazionale di studi umanistici in
occasione del quinto centenario della morte di Niccolo Perotti. Sassoferrato, 1981).
Мы пользовались одним из первых изданий Rudimenta [Perotti 1474] из собрания
инкунабул Ф. А. Толстого (БАН, шифр 416), редким и мало известным
зарубежным ученым, во всяком случае, в перечне первых печатных изданий у А. Скаль-
оне (1473, 1476, 1478, 1480 гг.) оно не отмечено, см. [Scaglione 1970, р. 88, п. 59].
В специальной работе о ранних изданиях Rudimenta [Percival 1986a] указаны
три издания 1474 г. (все они вышли в Риме) и три венецианских издания (1475,
1476, 1478). Таким образом, наше издание (Venezia, Jacobis Britannicus, 1474
[Каталог Инкунабул, N 581], судя по всему, еще никем не исследовалось, и
поэтому, как оно соотносится с автографом Перотти и с первым изданием 1473г.,
сказать пока трудно.
103 Списки глаголов, управляющих определенным падежом, в «Началах»
Перотти гораздо обширнее, чем в «Правилах» Гварино. Так, например, активные
глаголы «третьего порядка» (verba activi tertii ordinis), т. е. требующие после
прямого дополнения дательного падежа (как trado te studiis philosophiae *я
излагаю тебе философские учения') представлены списком в 56 слов [Perotti 1474,
f. 38r-39].
101 Многие новые учебники латинского языка начинаются с молитв, т. е. с
текста, который все знают со слуха (Отче наш, Аве Мария и др.) [Kukenheim 1951»
р. 73]. О разделах латинской грамматики см. более подробно [Kukenheim 1951»
р. 71-78], о правилах пунктуации там же с. 73-74.
105 Этот новый раздел грамматики Перотти рассматривается в [Alessio 1988]
сравнении с итальянскими руководствами по «искусству диктамена» ХП-ХШ вВ*
и в контексте развития эпистолярного жанра в XVb.
qacmb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 193
Rg учит, как надо начинать письмо и как заканчивать, где
ставить дату, как писать адрес106 и т. д. Таким образом, «дикта-
^ен», составлявший в средние века предмет отдельных трактатов,
здесь включается в «Начала грамматики». Наоборот, орфография
^ непременный раздел средневековых грамматик, как правило,
исключается гуманистами из своих учебников. Грамматика
Перотти была издана профессором Венского университета Бернхар-
дом Пергером (Bernhard Perger, ок. 1440 — ок. 1501) с
добавлением синтаксических правил под названием Grammatica Nova
[Simoniti 1975]. О популярности этого учебника, которым широко
пользовались и в Италии, и в Северной Европе вплоть до XVII в.107
(см. [Percival 1982, р. 811]), свидетельствуют многочисленные
издания (о французских изданиях см. [Rosen 1981]), в том числе и
готическим шрифтом).
Вопросы орфографии, как мы уже отмечали, составляли
особый предмет занятий гуманистов. Они рано заинтересовались
правилами письма и произношения у древних и придавали этому
(начиная с К. Салютати, 1331-1406) большое значение. Сначала они
вернулись к античному спору о том, как надо писать союз
'когда' — quum или quom, продолжили средневековый спор о mihi и
michi ('мне'), а потом обратились к изучению подлинных
документов — надписей, которыми был так богат Рим, древних
монет и греческих кодексов. Гварино Веронезе написал о латинской
орфографии два произведения — мнемонический стишок (25
гекзаметров), объясняющий ассимиляцию согласных в словах с
приставками (впоследствии его часто издавали вместе с
«Правилами»), и трактат о дифтонгах, где он сравнивает латинскую систему
Дифтонгов с греческой (см. выше с. 187 сн. 93). Этой работой
широко пользовались учителя других латинских школ. Один из
таких учителей Гаспарино Барцицца (Barzizza, 1359-1431),
написавший большую работу об орфографии (во время своего
преподавания в Падуе, ок. 1418), почти не касается в ней вопроса о
дифтонгах, ссылаясь на то, что один «из наших людей» (ex nostris
hominibus, т. е. из гуманистов) уже изложил это самым тщатель-
Все гуманисты боролись против канцелярской привычки ставить свое имя
"осле имени адресата. Перотти поддерживает это правило и говорит, что, к кому
ы ты ни обращался, к императору или к римскому папе, свое имя всегда надо
тавить впереди адресата, независимо от субординации. Так что в русской прак-
ИКе оформления конверта мы следуем бюрократической, а не гуманистической
тРадициИ.
й одном из экземпляров (Roma 1476), описанных в журнале «Библиофн-
Гл/**' Имеются многочисленные владельческие пометы, датируемые XV-XVIII в.
llvlanacorda 1916, р. 412].
7'*«к 3101
194 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ным образом (accuratissime), и ему нет нужды повторяться
[Sabbadini 1896, р. 48, п. б]108.
В теоретической части этого трактата рассматривается
ассимиляция согласных в производных словах с приставками109,
согласные в конце слова, уменьшительные суффиксы и вставное р (типа
sumo 'беру' и причастие от него sum/?tus), сдвоенные гласные и
двойные согласные, написание t вм. с: otium 'досуг', а не ociurn
(то и другое произносилось 'оциум') и орфография греческих
заимствований. В «практической» части даны правила пунктуации,
правописание дифтонгов и обширный список трудных для
правописания слов в алфавитном порядке, своего рода
орфографический словарь. «Орфография» Барциццы стала основой
гуманистической реформы латинского правописания и произношения. Другие
работы в этом же направлении продолжают основные линии этого
трактата, расширяя материал и углубляя анализ.
«Орфография» Кристофоро Скарпы (Scarpa, или Кристофор из
Пармы), была написана не позже 1431 и издана в XVb. (cm.
упоминание в [Affo 1789-1797, р. 143]), автор ее был другом Г.
Барциццы, и его очень высоко ценил Гварино (называя его «Присци-
аном нашего времени» — alter aetatis nostrae Priscianus [Segarizzi
1915, p. 210 n. 3]). «Орфография» состоит из четырех частей:
1. О буквах и их значении (De litteris et ipsarum potestate> т. е. о
буквах и их «звучании» = potestas), 2. Об удвоении согласных,
3. О придыхании, 4. О дифтонгах. Скарпа использует в этой
работе данные римских грамматиков о правописании (и
произношении) и богатый опыт своего времени (сличение разных списков
одного текста и восстановление правильного написания)110.
Всех своих предшественников превзошел Джованни Тортелли
(ок. 1400-1466). Он работал над своей De ortographia около 10
лет, в его распоряжении было больше материала (эпиграфические
памятники) и лучшего качества (рукописи). Преимуществом
Тортелли было также хорошее знание греческого языка (он
критикует своего предшественника Г. Барциццу за то, что тот взялся за
правописание грецизмов, не обладая для этого достаточными зна-
108 О ранних исследованиях гуманистов конца XIV — нач. XV в. в области
латинской орфографии и орфоэпии см. [Sabbadini 1928], о Г. Барцицце [Sabbadini
1903].
109 Если ассимиляцию согласных и Гварино и Барцицца освещают в объеме
средневековых учебников, то в трактате о дифтонгах (см. Ars diphtongandi tio
[Каталог инкунабул] и отрывок De ratione diphtongandi, ОРК (БАН) шифр 1990q/
50-54 л. CXXXV-CXXXVI) Гварино использует материалы собственных
наблюдений, накопившихся у него за время ежедневных публичных лекций в Ферраре
о латинских и греческих поэтах.
110 См. [Sabbadini 1896, р. 48-52], об использовании римских грамматиков
(особенно трактатов Фоки) см. [Sabbadini 1900].
гпь П. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 195
иями). «Орфографическая энциклопедия» Тортелли, как отме-
аеТ Р. Саббадини, остается непревзойденным и уникальным ис-
ледованием в этой области [Sabbadini 1896, р. 51]. Оценкам
Саббадини мы доверяем, т. к. он не делает никаких заключений до
изучения источников (и предостерегает других от подобной
практики, ср. выше с. 145). С этой оценкой следует считаться даже
если в рамках той же гуманистической культуры найдутся другие
работы, более полные и более совершенные — это в принципе не
изменит сути дела, а только продолжит ряд. Впрочем, такая
находка маловероятна в силу логики развития научного знания
рассматриваемого периода (как и нашего времени): ученые не
считают необходимым повторять работы предшественников в тех
областях, которые они считают хорошо разработанными. Так, Бар-
цицца не видит необходимости возвращаться к вопросам о
дифтонгах после труда Гварино, а европейские гуманисты в XVI в.
уже не пишут систематических работ по орфографии.
«Орфографическая энциклопедия» Тортелли была широко
известна в гуманистических кругах (см. специальную работу о «судьбе
и распространении» этого сочинения [Rinaldi 1973])111. Она
состоит из предисловия, небольшого введения (краткие сведения о
латинском и греческом алфавите и об «изобретении» письма) и
основной части — словарных статей (алфавитная последовательность
соблюдается только в отношении начальной буквы слова). Статья
к букве А имеет заглавие De ui ас potestate A litterae: & commuta-
tione in alias vocales («О силе и значении буквы А и ее изменениях
в другие гласные»). Структура словарных статей (при всем
разнообразии их содержания) сводится к формулировке
орфографического правила и толкованию значения слова. Проиллюстрируем это
одним примером. В статье под словом ABACUS ('счетная или
игорная доска', 'столик', 'поставец', 'абак') указывается: пишется с
одним В и одним С, слово греческого происхождения, греки
говорили йра^, и у наших более старых писателей это часто сохраня-
Мы имели возможность ознакомиться с одним из первых изданий
«Орфографии» Тортелли, находящимся в библиотеке Huntington Library (Лос-Анджелес),
Редставляющим исключительную ценность (напомним, что начало типографе-
ОГо дела в Италии датируется 1467г.). Книга печаталась в Венеции в типогра-
и Н. Женсона; 298 ненумерованных страниц (без сигнатуры) in folio (no 47
Рочек). Это одно из первых (если не первое) издание Женсона с использованием
^ _ческого шпиг^тя Ия якярмпляпр ргтк плялрпкиргкяя ттпмртя мпняртмпя f!n, Петра
в ~ческого шрифта. На экземпляре есть владельческая помета монастыря Св. П
de альц^УРГР- Incipit: Iohannis Tortelii Aretini Commentariorum Grammaticorum
Pat°r £гаРп*а dictionum e graecis tractarum proemium incipit ad sanctissimum
pa, em Nicolaum quintum. Есть специальная работа о римском издании «Орфог-
бол И*' К0Т0РУЮ мы знаем только по названию [Capodurro 1983]. В БАН имеется
Ня г^ ПозДнее и менее изысканное издание, чем в богатой коллекции Хантингто-
а tortelii 1501].
196 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
лось — hie abax, huius abacis, однако более распространенным у
авторов становится abacus, abaci. Далее дается толкование слова с
примерами из Варрона, Присциана, Плиния, Персия, Вергилия,
Горация и др. Формулируя правило правописания для каждого
слова, Тортелли фиксирует таким образом колебания
произносительной нормы (в нашем примере это [b/b:],[k/k:]) не в единичных
словах, а в значительном корпусе латинской лексики. Кроме того,
«Орфография» Джованни Тортелли Аретинца является
уникальным собранием слов греческого происхождения в латинском
языке (см. анализ в [Cortesi 1979]).
Однако историкам языкознания середины XX в. «пионерские»
работы итальянских гуманистов XV в. по орфографии, как и
работы итальянских филологов рубежа прошлого века о них, уже не
были известны. В основательной монографии по истории
грамматики трех классических языков (греч., лат., евр.) в эпоху
Возрождения [Kukenheim 1951] есть параграф о латинской орфографии и
произношении (с. 57-61), в котором автор указывает на одну
малозначительную, на его взгляд, работу некоего Джорджо Баллы
(Opusculum consummatissimum de Orthographia, 1514)112, на
которую он натолкнулся, по всей вероятности, случайно. В латинских
грамматиках XV в.113 (по указанным выше причинам) ничего
существенного по вопросам орфографии (и орфоэпии) быть не
могло, а в работах Небрихи, Эразма, Шарля Этьена (Стефануса), Ска-
лигера и др. уже отмечалось правописание (и произношение) лишь
отдельных букв (напр. у в греческих заимствованиях), их
сочетаний (ti + гласи., а не ci + гласи., и некоторых других) и
отдельных слов. На основании этих фрагментарных данных Л. Кукен-
хайму ничего не оставалось делать, как констатировать интуицию
Эразма (о древнегреческом произношении), а в области реформы
латинского правописания подтвердить разумность ее оснований
собственными примерами из Квинтилиана и других античных
источников (т. е. применить тот же метод, который впервые
использовали гуманисты, но потратить на эту работу не десять лет, как
неизвестный ему Дж. Тортелли, а воспользоваться уже общеизве-
112 Автор популярной брошюры для широкого пользования (opusculuin
consummatissimum) — это тот же самый Георгий Валла, который редактировал
посмертное издание «Орфографии» Тортелли, на титуле которого указано: Lima
quedam (просмотрено) per Georgium Vallam.
113 В хронологическом своде латинских грамматик (от Варрона до Скалигера)
из итальянских грамматистов XV в. указаны (в следующем порядке): Лоренцо
Валла, Никколб Перотти, Гварино Веронезе, Сульпиций, т. е. Джованни Сульпи-
цио Верулано, Антонио Манчинелли и Альдо Мануцио (Institutionum gramrnO'
ticarum libri IV) [Kukenheim 1951, p. 136-139]. О Сульпиций как ближайшем
последователе Баллы см. [Percival 1976, р. 82-84], там же публикация
предисловия к трактату Сульпиция о грамматическом роде имени (с. 87-89).
гпь //. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 197
тными сведениями). Это заставляет автора быть сдержанным в
войх выводах, и хотя он считает, что гуманисты привлекли
внимание к историческому изучению языка (и за это мы должны быть
им признательны, с. 45) и видит в их работах начало
исторической грамматики (с. 73), говорить о начале исторической фонетики
и сравнительного языкознания в эпоху Ренессанса он не
решается. «Тем не менее, — заключает Кукенхайм, — никто не станет
отрицать, что наши дисциплины не могли бы возникнуть без
подготовительной работы, проделанной гуманистами» [Kukenheim
1951, Р. 87].
Через четверть века, когда «подготовительная работа»
гуманистов будет все меньше и меньше интересовать историков
языкознания и они укрепятся в мысли, что ничего значительного в
латинской грамматике до 1500 г. быть не могло (ср. [Padley 1976,
р. 29]), суждения станут более уверенными, а выводы
окончательными. Так, например, цитируя грамматику фламандца Иогана Дес-
паутерия (изд. 1527), автор книги по истории латинской
грамматической традиции Запада в эпоху Возрождения делает следующее
заключение: «Из гуманистов только один Деспаутерий пытался
создать подобие фонетической теории, выделив в качестве
звуковой единицы "элемент": Litera scribitur: elementum proferitur
(Буква пишется: элемент произносится)» [Padley 1976, р. 31]. В этом
утверждении достоверно только то, что приведенная цитата взята
из грамматики Деспаутерия (есть ссылка на текст), но цитатный
характер данного высказывания современным исследователем уже
не опознается. Поэтому весьма важный для истории языкознания
вопрос: пользовался ли фламандский грамматист начала XVI в.
Присцианом как своим прямым источником114, или же термин
«элемент» как единица звучания уже вошел в научный обиход
того времени и Деспаутерий лишь напоминал (как и Присциан) о
необходимости терминологического разграничения графемы и
фонемы, — этот вопрос в указанной работе даже не возникает.
Вместо этого — широкое обобщение, весьма и весьма далекое от
Реального положения дел в науке того времени115.
Итак, попытаемся посмотреть, какие выводы мы можем сде-
Лать, исходя из рассмотренного нами материала, который был ог-
^ Ср. sed abusive elementa pro litteris et litterae pro elementis vocantur (Prise.
T Accentibus 1.3) («но ошибочно называть элементом букву, а буквой элемент»)
* к- элемент, поясняет Присциан, это то, что произносится, а буква — то, что
*£ят глазом [Keili, III p. 519].
ан . Об использовании термина «элемент» у А. Небрихи (со ссылкой на Присци-
Ть ' и ^следовании латинской фонетики в трудах испанского гуманиста см. ста-
«Антонио Небриха и заря современной фонетики» [Percival 1982a], см. так-
Раздел «Звуковой строй языка» в наст, книге.
198 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
раничен рамками одной традиции (латинская грамматика в
Италии XV века) и, по сути дела, свелся к подробному описанию од.
ной из грамматик начала XV в. (предположительно, это первая
латинская грамматикка эпохи Возрождения).
«Грамматические правила» Гварино Веронезе являются самым
типичным и самым популярным в Италии школьным учебником.
Это вполне традиционный учебник грамматики, предназначенный
для начального курса обучения языку в латинской школе,
сопоставимый с «Малым руководством» Доната. Вместе с тем (как
заметил К. Персиваль) это — последний пример в истории
латинской грамматики такого свободного обращения с авторским текстом
учебника: многочисленные рукописные версии и печатные
издания «Правил» Гварино так же относятся к своему прототипу, как
многочисленные средневековые «донаты» к исходному тексту (что,
разумеется, осложняет проблему переиздания этой грамматики,
исключает возможность факсимильного воспроизведения и т. д.).
В грамматике Гварино Веронезе нет никакой теории, никакой
философии, в ней не обсуждаются вопросы языковой реформы и
даже близко не затрагивается проблема грамматической и
стилистической правильности, что, как мы пытались показать, не
означает, что все это, как и многое другое, не интересовало филологов
Возрождения. Для освещения подобных вопросов следует
обращаться к другим источникам и искать документальные
подтверждения тех тенденций, которые обычно декларируются как некая
научная данность, не требующая никаких объяснений. Упрекать
же гуманистов в том, что они не создали «своей» грамматики, как
остроумно говорил в таких случаях П. Кристеллер, все равно, что
упрекать Джотто в том, что не он первым изобрел живопись. Если
рассматривать историю латинской грамматики Возрождения как
процесс, то сразу же возникает вопрос о содержании этого
процесса и о его внутренней периодизации.
Л. Кукенхайм расценивает Возрождение как период
систематизации элементов грамматики, который закончился к 1540 г. (со
Скалигером), и считает, что за эту работу потомки должны быть
признательны гуманистам [Kukenheim 1951, р. 45]. С этой точки
зрения, появление новых латинских грамматик в начале XVb.
знаменует начальную фазу этого общего процесса, главной
тенденцией которой стало предельное упрощение грамматического
описания. Элементарные учебники, написанные образованными
итальянскими профессорами для новой, ими же основанной гумв'
нистической школы, не оставили от латинской грамматики
ничего, кроме ее голого каркаса — элементарной морфологии, базовой
синтаксической модели (SVO) и терминологического
словаря-минимума. На этой основе следующее поколение европейских гума-
иасть II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 199
аистов стало возводить новое здание латинской грамматики,
выстраивая свою теорию и привлекая необходимый для этих целей
материал.
Латинские грамматики ранних итальянских гуманистов
представляют нам начальный и очень важный период этого процесса.
Исключая это звено из своего рассмотрения, мы теряем связь с
предшествующей традицией (и с ближайшей средневековой, и с
античной, т. к. именно итальянцы способствовали введению
классиков античной лингвистической мысли в современный им
научный обиход) и ключ к последующей. Кукенхайм не рассматривает
в своей книге ранние итальянские источники и потому
характеризует некоторые отмеченные им инновации (например,
трактовку падежей вместе с глаголом) как неожиданные и оригинальные
решения отдельных грамматиков [Kukenheim 1951, р. 39 п. 1]), а
не традицию.
И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. В
грамматике Гварино Веронезе нет критики средневековых учебников.
К. Персиваль относит это к характерным особенностям
начального периода, противопоставляя его следующему — критическому
этапу (Л. Валла, Сульпицио Верулано и др.) [Percival 1976, р. 89].
Отметим, что у современников Гварино все же есть элементы
критики. Например, Гаспаро Веронезе, преподававший в Риме,
исправляет ошибки старых учебников, в которых пассивные
конструкции типа a me amatur Socrates (Сократ любим мною)
оформляются как безличные конструкции с аккузативом: a me amatur
Socratum [Sabbadini 1986, p. 45, п. 3] (см. многочисленные
примеры из других грамматик [Rizzo 1996, р. 10-11, 19-20]). Однако,
хотя в своем комментарии к Ювеналу, Гаспаро говорит, что
насчитал 200 ошибок у Эберхарда и столько же в «Доктринале»
Александра Вилладейского (число 200, видимо, символическая
мера большого количества, т. к., когда речь заходит об ошибках,
всегда называется именно эта цифра), отношение к старым
авторам у него почтительное («этот добрый муж Эберхард»), без того
пафоса отрицания всего средневекового, который мы найдем у
Лоренцо Баллы.
Книга «Тонкословие латинского языка» Лоренцо Баллы
Лоренцо Валла (1407-1457) и как мыслитель, и как филолог
Достаточно хорошо известен в русской культуре, поэтому нет не-
ходимости его представлять116.
не р
Изл монографию о нем [Хоментовская 1964]. Curriculum vitae Л. Баллы удачно
Эт ?Жен в предисловии к изданию философских трудов Баллы [Валла 1989], в
научной биографии [Ревякина 1989] указаны основные сочинения Баллы
200 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
На русский язык (в «Памятниках философской мысли») пере-
ведены два этических диалога Баллы «Об истинном и ложном
благе», «О свободе воли» и (в Приложении) фрагменты из большого
логико-лингвистического трактата «Перекапывание [пересмотр]
всей диалектики вместе с основаниями всеобщей философии»
(Repastinatio dialectice et philosophie) [Валла 1989, с. 291-368, комм,
с. 435-449], две редакции предисловия к «Сопоставлению Нового
Завета» (Collatio Novi Testamenti, 1443), «Похвальное слово
святому Фоме Аквинскому» и др. Классическим примером
демонстрации строгого научного метода исторической и филологической
критики текста является «Рассуждение о подложности так
называемой "Дарственной грамоты Константина"» (De falso credita et
ementita Constantini Donatione Declamation 1440)117.
Грамота, якобы подписанная самим императором
Константином в начале IV в., на протяжении многих веков хранилась в Риме
как юридический документ, подтверждающий притязания
папства на светскую власть. Вопрос о правомочности такого
документа неоднократно поднимался и в средние века118, но при этом
никто не сомневался в его подлинности и подделка середины IX в.
столетиями считалась бесспорной дарственной Константина.
Валла подвергает этот документ тщательному
лингвистическому анализу и доказывает, что в «просвещенном веке» (IV в.) еще
не могло быть таких «варварских оборотов речи», как «пусть
будет главою всем священникам» вм. «всех священников» или
бессоюзного сочетания двух эпитетов, что автор фальшивки не знает
политических институтов Рима и потому неверно употребляет
термины, что римские постановления никогда так не составлялись и
Константин не мог подражать языку Священного Писания,
«которого он никогда не читал». Валла утверждает, что латинянин
никогда не назвал бы «славой» пышность и блеск великолепия и что
это значение более позднее, возникшее под влиянием еврейского
языка. «Говорить militia (военная служба) вместо milites (воины) —
мы также заимствовали у евреев» [Ит. гум., с. 183].
Особенно виртуозен Валла в критике регалий императорской
власти, якобы передаваемых первосвященнику Константином.
Приведем небольшой отрывок из этого комментария, который на-
(включая новейшие открытия), критические издания (наследие Баллы
интенсивно осваивается начиная с 70-х гг. нашего века), работы зарубежных и
отечественных ученых о нем, материалы международного конгресса [Valla 1986].
117 Текст «Рассуждения» и документа («Дарственная грамота Константина») в
переводе И. А. Перельмутера опубликован в сборнике «Итальянские гуманисты
XV в. о церкви и религии» [Ит. гум., с. 139-216; с. 334-337].
118 Об отношении Данте к дарственной Константина см. [Nardi 1942], [Хом.еН-
товская 1963]; об исторической и филологической критике грамоты в эпоху гуМа"
низма см. [Шаскольский 1914].
tr сгпъ И- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 201
инается с цитаты из документа: «"И вместе с ней тиару (phrygium),
также омофор, то есть ленту (lorum), которая обычно надевается
круг шеи императора". Кто слышал когда-либо, — восклицает
Валла, — чтобы в латинском языке употреблялось слово phrygium?
Говоришь ты как варвар, а хочешь, чтобы речь эта казалась мне
речью Константина или Лактанция. Плавт в "Менехмах"
употребляет слово phrygio по отношению к вышивальщику. Плиний
называет phrygio платье с вышивкой, потому что изобрели его
фригийцы. Но что же такое phrygium? Ты не объясняешь того, что
непонятно; ты объясняешь то, что и так ясно. Наплечную повязку
ты называешь lorum, но ты не знаешь, что такое lorum. Ведь не
думаешь же ты, что кожаный ремень, который называется lorum,
надевается, как украшение, вокруг шеи Цезаря. Поскольку lorum
обозначает кожаный ремень, то мы употребляем это слово по
отношению к упряжке и кнуту. А если иногда говорят lora aurea
(золотые ремни), то имеют в виду позолоченную упряжь, которая
надевается на шею коня или другого животного ... и когда ты
говоришь, что lorum надевается вокруг шеи Цезаря или
Сильвестра, то из человека, из императора, из верховного
первосвященника ты делаешь лошадь или осла» [Ит. гум., с. 180-181].
Помимо скрупулезного, поэлементного анализа текста,
убедительно доказывающего, что этот текст не относится к языку IV в.
(для гуманистов это последний предзакатный век латыни), Валла
обращает внимание на то, что по названию частей света и стран
«дарителем» невозможно определить место самого пишущего,
иными словами, этот текст вообще не является текстом, т. к. в нем
отсутствует точка зрения человека на описываемый им мир. А это
Для Баллы было принципиальным свойством языка. Если у
человека нет другого способа фиксации своего человеческого опыта,
кРоме языка, значит у нас нет никаких других свидетельств для
изучения человеческого опыта — истории и мысли, — кроме языка.
Как мы уже отмечали, в историографии лингвистики не
принято говорить о гуманистах как о настоящих филологах (они
всего лишь любители латыни и почитатели Цицерона) и не принято
Актировать становление исторической концепции языка середи-
Нои XV в. Историки философии, не обремененные этим обычаем,
менно с Валлой связывают возникновение филологии как науки
т°чном смысле этого слова119.
119 г,
Hai - этом словоупотреблении (наука) мы следуем традиции русского языка: в
Hav еИ КлассиФикаДии знаний этика, история, философия, филология являются
Граьами» то же в итальянском, ср. рубрикацию «серии» (или «класса») в библио-
3 ^Ических описаниях: serie (classe) di scienze storiche, filosofiche e morali.
к Глийском языке термин «наука» (science) не употребляется по отношению
анитарным знаниям. Для современного датского ученого греко-латинско-
202 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Еще в конце 40-х гг. итальянский историк Дж. Саитта в своем
двухтомном труде об итальянской философии в эпоху Возрожде-
ния писал, что в это время филология перестает быть одним толь-
ко наблюдением эмпирических фактов, но становится
«подлинной и настоящей историей языка, вооруженной научным методом
(una vera e propria storia della lingua condotta scientificamente)»
[Saitta 1949, p. 195]120.
Эта характеристика точнее передает суть дела, чем все, что нам
доводилось читать про итальянских гуманистов (и Л. Баллу в том
числе) в популярных книгах по истории языкознания. Она
лаконична, но обладает большей объяснительной силой, чем все
«общие места», гораздо более многословные, но менее
содержательные. Если правда, что Возрождение было периодом борьбы за
светское «духовное водительство» (по уже цитировавшемуся
выражению Н. И. Кареева), за место человека в истории и культуре,
периодом столкновения двух мировоззрений, гуманисты никогда
бы не выиграли этого сражения (а они его выиграли, отняв у
схоластов и теологов монополию на научную мысль и отвоевав
свободу и право на множественность точек зрения), если бы не смогли
противопоставить строгой теории схоластов ничего другого,
кроме парадигмы склонений и спряжений и цицероновского периода
романская традиция вообще не вписывается в историю науки. Ср.: «В
итальянском грамматическом описании (grammaticografia italiana), как и вообще в
романской традиции, преобладала, в отличие от англосаксонской и германской
традиции, ориентированной на спекулятивный и лингвистический подход,
филологическая ориентация» (orientamento filologico vs orientamento speculativo,
linguistico). Далее, делая все необходимые оговорки, подобающие в таких
случаях, датчанин пишет (по-итальянски): «...любопытно отметить, что многое из того,
что было прогрессом в теории лингвистики, сделано в англосаксонско-германс-
ком мире (достаточно вспомнить модистов средневековья, младограмматиков,
структуралистов и трансформационалистов)» [Skytte 1990, р. 269]. Эта
действительно любопытная типология (впрочем, структурализм в большей степени
связан с романской — Соссюр — и славянской традициями) требует все же ответа на
вопрос, какую ценность для истории языкознания представляют «промежутки»
между взлетами теоретической мысли. Теорию, как известно, можно оценивать и
без обращения к культурно-историческому контексту — в терминах
непротиворечивости, последовательности, объяснительной силы и т. п., т. е. средствами
логического анализа. А в каких сферах знания вырабатываются другие подходы к
анализу языка, какие культурные ареалы в этом участвуют и, вообще,
располагает ли историческая наука (в данном случае история языкознания) надежным
методом для описания развития науки, кроме критической оценки законченны*
теорий и отдельных школ? Взгляд датского ученого на историю науки любопытен
для нас еще и тем, что свидетельствует о непрекращающейся борьбе за культур'
ную гегемонию, только теперь она происходит в рамках целиком светской наук11
(в отличие от Возрождения), но тоже в форме соперничества между романским Я
германским миром.
120 О происхождении истории как науки из филологии см. [Kelley 1970, р. 2*>
36].
77. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 203
глаголом в конце. О том, что не устраивало гуманистов в
аристотелевской схоластике, достаточно эксплицитно сказано у Баллы
/говорить обо всем «открытым текстом» и даже прямой речью было
установкой гуманистов)121.
«Стыдно сказать, некоторые возвели в обычай посвящение и
приведение к присяге своих учеников, с тем чтобы они никогда не
прекословили Аристотелю... Поэтому их, жалких и презираемых,
пусть даже есть нечто такое, что они вправе назвать лучшим у
Аристотеля, я поражу тем, что сам, единолично, выступлю в свою
защиту, не для того, чтобы возложить вину на человека, которого
уже нет, но из уважения к истине, которая (как говорил Платон)
скорее должна быть удостоена уважения, чем муж. И если дело
обстоит иначе, то не нынешние теологи, умудренные
аристотелевскими наставлениями, порочащие и высмеивающие древних,
оснащенные аристотелевским учением, словно сильные против
слабых, словно вооруженные против безоружных и богатые против
неимущих, знанием метафизики, логики, модусов значения (modi
significandi), а сами они скорее должны быть опорочены и
высмеяны, потому что учителя, Аристотеля, почитают больше Бога и
еще потому, что аристотелики не могут ни достаточно знать, ни
(не зная греческой литературы) ясно воспринимать никакого
учения, будучи малосведущими и в латинском-то языке» [Валла 1989,
с. 295].
Схоластическая философия, аристотелевская логика и теория
языка модистов — вот главные объекты полемических выпадов
Валлы, и думать, что в этой полемике можно было обойтись
хорошо подвешенным языком и надо было только поднатореть в
чтении классиков и вовремя блеснуть удачно вставленной цитатой,
значит принижать достоинство обеих культур — и средневековой,
и ренессансной, как если бы речь шла о словопрениях между
казуистом и эрудитом. Средневековье, как справедливо заметил
W- Кристеллер, понимало античную культуру гораздо лучше, чем
мы ее знаем теперь [Kristeller 1988], ибо она была его составной
частью (ср. Кареев, см. выше с. 153).
Лоренцо Валла (из семьи римского юриста) получил
образование во Флоренции, где учился у Ауриспы (ок. 1419-1420 гг.),
121 у
Но" аРактеРН0> что в «Рассуждении о подложности так называемой "Дарствен-
грамоты Константина"» при всей строгости критического метода (психо-
За Ическии> исторический, юридический и филологический анализ документа)
ре Ла Все время сбивается на прямую речь, перемежая «рассуждение» такими
бударКами* «я буду нападать на него (т. е. автора грамоты. — Л. С.) так, как
б0о ° он стоит передо мною», «ты сам вынуждаешь нас говорить резко, ведь мы
лел Мся за свои права», «мы не собираемся скрывать от тебя наш образ мыс-
* и т. п.
204 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
общался с известным собирателем рукописей (предположительно
изобретателем «гуманистического курсива», см. выше с. 172) Ник-
коло Николо и с Леонардо Бруни в период наибольшего подъема
гуманистической культуры во Флоренции. Это было хорошей фи.
лологической школой, в которой он смог овладеть методом
исследования и правильного чтения как всего текста, так и каждого
отдельного слова. Формирование Баллы как ученого завершилось
на севере Италии. В Павии он прошел другую — юридическую
школу и освоил метод лингвистического анализа точного
значения слова [Vasoli 1968, p. 37]122.
Позицию Баллы не всегда понимали и его современники (а не
только потомки), и ему постоянно приходилось объяснять123, что
он не против философии вообще и не против логики, а против
совершенно конкретных методов, подходов и концепций, которые
схоласты представляют как единственно возможные и
универсальные. Главным философским сочинением Баллы, где изложены
основные положения его концепции языка и познания, является
Repastinatio dialecticae, которую часто называют просто
«Диалектикой». Лингвистическое кредо Баллы (его отношение к языку) и
суть полемики против модистов можно проиллюстрировать
высказыванием из этого логико-лингвистического трактата: «Был ли
кто-нибудь из числа живших после Боэция124, кто заслуживал
носить имя латинянина и не был бы варвар? Ведь Авиценна и
Аверроэс, безусловно, были варварами, совершенно не знавшими
нашего языка, и, скорее всего, едва ли имели представление о
греческом. Каков же, впрочем, должен быть тогда их авторитет,
даже если они были мужи выдающиеся, когда речь идет о
значении слов, как это часто случается при исследовании вопросов в
философии? Должно быть, почти никакой: подобны они тем
людям, которые выросли вдали от моря, никогда не видели моря и
никогда не вступали на судно и рассуждают о правилах корабле-
122 Биографию Баллы см. [Mancini 1891], (о павийском периоде 1431-1433 гг.
с. 22-82), о филологии, критике и логике [Vasoli 1968, р. 28-77].
123 Главным оппонентом Баллы среди современников был Поджо Браччолини.
Эта полемика отражена в ответах Баллы на инвективы Поджо: «Первое
противоядие против Поджо» (Antidotum primum. Ed. A. Wesseling 1978), «Второе
противоядие» и два диалога под общим названием Apologus [Valla 1962. I, p. 325-389]*
Пять инвектив Поджо против Баллы см. в [Bracciolini 1964-1969. I, p. 188-251»
II р. 869-885]. См. об этой полемике [Martinelli 1980]. «Инвектива Бартоломе0
Фацио» издана (Е. I. Rao, 1978), «Противоядие против Фацио» — (М. Regoliosi»
1981). Об инвективе как форме выражения личных разногласий и главном орУ"
жии литературной полемики, политической и религиозной борьбы (вплоть до Д°*
носов, облеченных в литературную форму античной инвективы) см. [Vismara 1900J*
124 Здесь, разумеется, имеется в виду Северин Боэций (ок. 480-524/526?), *п°с'
ледний из эрудитов», по словам Баллы, а не модист Боэций Датский.
ь //• Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 205
оЖДеНИЯ* Следовательно, этих людей я буду чтить, их запреты
6vAY выслушивать, дабы не сказать что-нибудь против
Аристотеля? Буду ли я вынужден так ухватиться за них, что не
соглашаться с самими Афинами, со всеми философами, со всеми веками?»
[Валла 1989, с. 293].
Концепции универсальной латыни и методам теоретического
анализа языка в отвлечении от реальных языковых фактов и
явлений («правилам кораблевождения») Валла противопоставил
концепцию латыни как естественного и исторически изменявшегося
языка, а также универсальный метод, владея которым (и
совершенствуя его), можно было бы выйти в открытое море языковых
фактов. Метод филологической критики стал для Баллы своего
рода точным измерительным прибором, одинаково пригодным для
анализа любого текста, будь то юридический документ (ср.
«Дарственную Константина»), Священное Писание или вся античная
литература.
Согласно Балле (и ренессансному мировоззрению), «нет
ничего, что до такой степени сохраняло бы и сберегало благие вещи,
как разнообразие» [Валла 1989, с. 373]125. Исходя из этого, он
обосновывает необходимость текстологического анализа
латинского перевода Нового Завета, не с целью поставить под сомнение
авторитет Иеронима (ок. 342-420), которого он называет
наисвятейшим и наиученейшим мужем, а с целью установления более
точного смысла основного памятника христианского вероучения.
Для установления же точного смысла недостаточно опоры на один
перевод, на один авторитет и на одну традицию, которая к тому
же за тысячу лет («ведь столько прошло от Иеронима до нашего
века») была осквернена и переписчиками (неучеными или
небрежными или сонными), и дурными толкователями, которые, не зная
греческого языка, привносили много ложного, «несвойственного
и далеко отстоящего от жизни». Поэтому Валла привлекает в
свидетели того, так ли это было сказано в греческом оригинале, как
передано в переводе Иеронима, других светочей христианской
религии — св. Илария (ок. 315-366), св. Амвросия (340 — ок. 397),
6л. Августина (354-430) и епископа Карфагена св. Киприана (201-
^58). Цель «Сопоставления» показать, действительно ли «наши
книги полностью согласуются с греческим источником, то есть с
гРеческим оригиналом, — ведь мы полностью заимствовали Но-
*ый Завет из греческого, — или они, может быть, так или иначе
УДУт противоречить [ему] и тем самым покажут ложное понима-
»25 р
^Р- устрашающий символ разнообразия — Вавилонскую башню — в дантов-
м е вРемя, когда доминировал страх затеряться в лесу безвестных и «беспись-
ных» средневековых языков.
206 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ние, либо потому, что они недостаточно ясно передают то, что
переводят, либо потому, что менее удачно соответствуют местам,
откуда взяты, либо, напоследок, не совсем изящно высказаны по-
латински» [Валла 1989, с. 374].
Уметь проделывать такую работу с любым текстом любого
времени и любого жанра и означало для гуманистов знать язык
(заметим, что совершенство стиля в перечне исправлений стоит здесь
на последнем месте). Метод познания языка (в идеале — знание
всех употреблений слова в разных исторических контекстах,
исключая, конечно, тот период, когда с латинским словом стали
обращаться как с чужим и мало понятным, что гуманисты
называли варварством) Валла считал сильным и действенным
оружием в борьбе со схоластической логикой и метафизикой. «Ведь мы, —
пишет Валла в своем логико-лингвистическом трактате, — когда
мы спорим между собой, не являемся врагами друг другу, как те,
когда они дерутся; и те и другие, мы боремся под началом одного
полководца, который есть истина». И далее: «Отныне поэтому эти
диалектики и философствующие (dialectici... atque philosophantes)
не захотят упорствовать в своем незнании ради вымышленных
ими слов, а обратятся к языку естественному и
используемому людьми образованными (ad naturalem et a doctis tritum ser-
monem)» [Валла 1989, с. 360-361] (разрядка наша. — Л. С).
Если модисты, которые разрабатывали теорию языка в
отвлечении от языковых фактов и явлений, больше всего привлекают
внимание современных лингвистов в связи с теорией трансформа-
ционно-генеративной грамматики в духе Хомского (см., напр.,
[Godfrey 1965], [Kelly 1972]), то Баллу открывают для нас
философы. В критике логического и философского языка (метаязыка
логики и философии), развернутой Валлой с позиции анализа
значения терминов и категорий обыденного языка (ordinary language),
современные ученые усматривают связь с идеями позднего
Витгенштейна. Не претендуя на тот уровень компетентности,
который необходим для того, чтобы развить здесь эту точку зрения,
ограничимся лишь констатацией обсуждения этого вопроса в
современной зарубежной науке126.
«Именно Валла, — как отмечал у нас А. Ф. Лосев, — глубоко
чувствует разницу между тем, что мы сейчас назвали бы
языковым мышлением, и тем, что обычно зовется формальной логикой.
126 См. специальную работу «"Философия обыденного языка" Лоренцо ВаллЫ»
[Waswo 1979], кроме того, эта проблематика рассматривается в [Camporeale 1972;
1976; 1981], в [Camporeale 1986] с эпиграфом из Витгенштейна, [Gerl 1974], [Waswo
1980], [Giard 1982] и в полемической статье Джона Монфазани «Был ли Лоренцо
Валла представителем "философии обыденного языка"?» [Monfasani 1989], ср»
там же [Gravelle 1989], [Waswo 1989].
77. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 207
Он отдает предпочтение языковому мышлению ввиду того, что
язык гораздо конкретнее и жизненнее, и эта зафиксированная в
нем реальность не является ни абстрактным обобщением, ни
областью изолированных единичностей» [Лосев 1982, с. 356] (курсив
авт.). Как из любви к языку рождается филология, так из любви
к человеческой мудрости возникает новое представление о
риторике. Для Баллы предметом риторики становится все то, что в
исторической реальности может быть выражено человеческим
языком [Camporeale 1972, p. 161]127.
Как назвать этот процесс — «превращением философии в
риторику» или «риторики в философию» — далеко не безразлично для
истории науки. О тонкостях семантических различий в языке, где
все не так строго регламентировано, как в «правилах
кораблевождения», и где от перемены мест слагаемых порой получаются
совершенные разные «суммы», Валла написал большое сочинение,
состоящее из шести книг (и 475 главок), Elegantiae linguae Latinae
(«Тонкословие латинского языка», опубл. 1449, I печ. изд. 1471,
далее в нашем тексте «Тонкословие»)128.
В работах по истории философии и логики сочинение Баллы о
латинском языке всегда рассматривается (или хотя бы
упоминается) вместе с другими трактатами автора как составная часть его
лингво-философской концепции. Во всех этих трактатах
используется единый историко-филологический метод, предметом
анализа является латинский язык (часто в сравнении с греческим) и
обозначено отношение автора к предшествующей традиции.
Таким образом, значение лингвистического трактата Баллы «Тонко-
Мысль о том, что «все, что философия присваивает себе, — наше» (т. е.
принадлежит языку и является компетенцией риторики), постоянно
подчеркивается Валлой. Ср. в диалоге «Об истинном и ложном благе»: «Насколько же яснее,
серьезнее, благороднее эти вещи обсуждаются ораторами, чем исследуются
философами — непонятными, грубыми, безжизненными... Действительно, если
тщательно выспросить [прошлые] времена: о наиболее значительных и великих
делах говорили ораторы на площади города, прежде чем начинали болтать в
закоулках философы; также и в наши времена...» [Валла 1989, с. 84-85]. О
критике философского языка (греческих терминов античной философии, усвоенных
латинским языком, и «псевдолатинских» слов — так называемых трансцендента-
20Я ~~~ У схоластов) см- подробно [Camporeale 1972, р. 149-172] (прим. с. 193-
°). о критике трансценденталий [Лосев 1982, с. 357], о концепции риторики у
иаллы [Gerl 1974].
i4 Более точную хронологию работы Баллы над этой книгой, начатой в начале
Зн гг-» см- [Besomi, Regoliosi 1984]. О программном характере заглавия и
[Со<Г"ИИ термина elegantia [Marsh 1979, p. 99-103], [Giannini, 1996, p. 84],
p oner 1996, p. 90-92]. «Тонкословие» издано фототипическим способом под
ггл?а^ией и с коротким предисловием Э.Гарэна в I т. Собрания сочинений Баллы
Ппи OPera omnia I, p. 1-235] с Базельского издания 1540 г., которое было
Чи ЗНано лучшим из 180 печатных изданий (из них ок. 30 инкунабул) и много-
Ленных рукописей, просмотренных издателями для этой цели).
208 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
словие латинского языка» в истории научной мысли является об-
щепризнанным. Однако, «интеграция» Баллы в
западно-европейскую грамматическую традицию, можно сказать, только начина-
ется, и значение этой работы в истории науки о языке до сих пор
не определено129.
Поэтому мы решили использовать в настоящей работе
«обратную композицию», начав с общей характеристики метода и
философии Баллы, чтобы — на этом фоне — перейти к его
лингвистическому трактату. При том что в сфере грамматической литературы
не существует общепринятой «жанровой» классификации,
подобной строгому делению на «роды» в художественной литературе, и
при том что таких трудов, как «Тонкословие» Баллы, не было в
предшествующей традиции, коротко и точно определить жанр этого
сочинения оказывется отнюдь не простой задачей.
В английской научной литературе «Тонкословие» определяют
как «учебник по стилистике» (stylistic manual). Если о трактате
Баллы и можно говорить как об учебнике, то лишь с
определенными оговорками. Это сочинение (как, впрочем, и любое другое)
написано для своих современников, рассчитано на их уровень
языковой компетенции (довольно высокий) и в этом смысле
действительно может рассматриваться как учебник латинского языка, ибо
преследует цель углубления этой компетенции. Эта книга
выросла на основе лекций о латинском языке, читанных Валлой в Па-
вийском университете, когда он преподавал там риторику130.
Огромное количество рассмотренного материала (это 234 стр. in folio)
и отсутствие привычного для современных грамматик деления на
морфологию, синтаксис, лексику и т. п. не позволяют увидеть в
этом сочинении прототип современных теоретических грамматик
итальянского, французского, английского и т. д. языков, по
которым учатся у нас студенты филологических факультетов. Но
функциональное назначение «учебника» Баллы, а также метод
отбора и интерпретации материала (примеров из «авторов»), если
присмотреться повнимательнее, имеют много схожего именно с
такими учебниками, предназначенными для высшей школы.
В шести книгах «Тонкословия» анализируется огромный
материал по «употреблению» латинского языка, привлекаемый из
разных источников, и именно этот материал и его интерпретация пред-
129 Первым исследованием, в котором «Тонкословие» Баллы рассматривается в
широком контексте западноевропейской грамматической традиции, является
[Marsh 1979].
ьзо учителя Баллы — Ауриспа и Л. Бруни торопили его с изданием книги, и
Валла решился, наконец, опубликовать свой труд, видя, как материалы его
публичных лекций «растаскиваются» студентами. Так, Валла обвинил в плагиате
Антонио да Ро, который написал учебник по риторике, использовав материалы
прослушанных им лекций [Regogliosi 1983; 1984].
b Ц. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 209
являли главную ценность для читателя XV в. «Мы определили
с каждой из наших книг ее собственную материю, — писал Вал-
я _- для того, чтобы по крайней мере разнообразием материала
лелать наш труд приятным для чтения...» [Соч. ит. гум., с. 137]131.
Языковый материал, использованный Валлой, обобщен в работе
л Казаччи [Casacci 1926]. Валла не формулирует никаких правил
и не дает никаких стилистических рекомендаций. Он
анализирует примеры, отмечая наиболее употребительные и свойственные
римским писателям языковые формы132.
При этом он фиксирует языковые различия между «временем
Цицерона» (Ciceronis aetas, Eleg. Ill, 33)133 и «веком Квинтилиа-
на» (Quintiliani seculum, Eleg. II, 59; VI, 49). Из «цицероновского
времени» исключаются Энний и Плавт и включаются в этот
период Варрон, Саллюстий, Цезарь. Ко второму периоду Валла
относит Вергилия, Горация и Тита Ливия. Предвосхищая в общих
чертах современную филологию, Валла отмечает, что латинский язык
претерпел сильные изменения в I в. до н. э. под влиянием
греческого языка — сначала через поэтов, а потом через историографов
(особенно Тита Ливия)134. Кроме того, отмечается влияние на ла-
131 М. А. Гуковский, характеризуя этот труд Баллы, честно признается, что не
способен оценить его прелести: «Его латинский язык своим утонченным
изяществом не уступает наиболее сложным текстам римского языка I в. н. э., а его
неоднократно переделывавшийся и отшлифовывающийся трактат "О красотах
латинской речи", несмотря на свой сугубо специальный характер, делающий его
весьма трудным и скучным для читателя нашего времени, пользовался прямо-
таки непонятной популярностью, читался, переписывался, а затем и перепечаты-
вался многократно» [Ит. гум., с. 30].
Некоторых современников Баллы, которые ждали от него практического
руководства по употреблению «хорошей латыни», книга разочаровала. Метод
Баллы (который мы называем теперь историческим анализом) представлялся им
чересчур «рациональным», т. е. основанным на категории ratio в ущерб другим не
менее важным аспектам языка. Свои основные претензии к новой грамматике
^оджо Браччолини сформулировал в первой инвективе против Баллы,
подчеркнув, что на самом деле свойство, «сила», значение и строй латинских слов
Uatinorum verborum proprietas, vis, significatio, constructio) согласуются не столько
c логикой (поп tantum ratione constat), сколько с авторитетом древних писателей
J^eterum scriptorum autoritate) и с употреблением, которое всегда было наставни-
0М Латинской речи (latine loquendi usus semper fuit magister) [Martinelli 1980,
• 4Ч- О полемике по поводу понятий «употребление, авторитет, логика» (в тер-
гмНаХ ^вннтилиана: usus, auctoritas, ratio) в связи с выходом «Тонкословие» см.
IMartinelli 1980], [Marsh 1979].
Ссылки на издание [Valla. Opera omnia. I] здесь даются сокращенно: Eleg.,
i мекая цифра означает книгу, арабская — главу,
лат КОнъектурах Баллы к Титу Ливию см. [Regogliosi 1986], о его переводе на
гре °КИЙ язык Фукидида [Alberti 1957; 1985], [Ferlauto 1979], о др. переводах с
Бал еского [Marsh 1984], [Lo Monaco 1986]; историографические работы самого
°гп а^ ' как и многие другие гуманисты, занимал место придворного истори-
раФа) рассматриваются в [Ferrau 1986].
210 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслъ
тинский узус языка Библии, сочинений отцов церкви, переводов
Аристотеля и «вкраплений» из народного языка.
Внимательное чтение «Тонкословия», как отмечает Казаччи,
убеждает, что все это не случайные наблюдения, а важные откры.
тия, которым Валла придает большое значение [Casacci 1926,
р. 200]. Ориентироваться в материале помогают «Предисловия»
Баллы — общее ко всему трактату и затем к каждой из пяти книг135
(кроме того, в базельском издании 1540 г. есть алфавитный
указатель слов).
Внимательное изучение источника убеждает также, что в ком-
позиции книги есть определенная логика и система ([Mancini 1891,
р. 263], [Casacci 1926, р. 195], [Tavoni 1990, р. 173]), а не
беспорядочное нагромождение примеров, как это представляется
некоторым историкам грамматических теорий Возрождения [Padley 1976,
р. 17].
В I книге рассматривается именная и глагольная флексия, во
II книге, как сообщает автор, мы поговорим о других частях речи
и особенностях каждой из них, а затем мы рассмотрим их во
взаимодействии, в III книге речь идет о «значении слов и при этом не
всех, а как бы выбранных по нашему вкусу, и прежде всего тех,
которые не рассматривались другими учеными». Здесь
рассматриваются семантические различия в зависимости от
грамматического оформления и синтаксического окружения, в IV и V
книгах — мнимые синонимы (соответственно имена и глаголы). В VI
книге собраны ошибочные употребления у «авторов». Валла
считает, что «излагать какое-нибудь учение доступно любому мало-
мальски образованному человеку, обнаружить же ошибки
великих людей под силу лишь выдающемуся ученому, и польза этого
столь велика, что невозможно назвать что-нибудь более полезное.
Ибо кто же сомневается, что промывающий золото, серебро и
другие металлы приносит не меньше пользы, чем тот, кто извлекает
их из земли» [Соч. ит. гум., с. 136].
В «Предисловии» к первой книге, выполняющем функцию
общего введения, утверждается лингвистическая основа всех знаний.
По своему пафосу оно представляет собой апологию латинского
языка136. В «Предисловии» ко второй книге содержится краткий
135 Предисловия к «Тонкословию» были изданы Э. Гарэном в антологии [Prosaton
latini, p. 593-631], переводы на русский язык см. [Соч. ит. гум., с. 121-137], об
этих и других предисловиях Баллы, раскрывающих его филологический метод
см. [Adorno 1954].
136 Ср. «Если Цереру причислили к богам за то, что она открыла людям злак**
(frumenti), Либера — за то, что он открыл вино, Минерву — за то, что она создав
оливковое дерево, множество других — за какие-нибудь иные благодеяния
такого же рода, неужто же меньшей заслугой должно почитаться дарование народе
гПЬ Ц. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 211
бзор латинской грамматики до Макробия (конец IV — нач. V в.).
Ято, по мнению Баллы, последний из образованных грамматиков,
который изучил, кажется, «все книги для того, чтобы как можно
лучше показать в латинском языке все достойное внимания».
Древние считали грамматику достойным занятием. Валла упоминает
Цезаря, написавшего трактат «Об аналогии», Мессалу (Марка
Валерия), который писал «целые тома об отдельных звуках», Варро-
на, «создавшего тончайшее исследование об этимологии», и,
разумеется, трех светочей латинской ars grammatica — Доната,
Присциана и Сервия, которых, пишет Валла, «я ставлю так
высоко, что все написанное после них о латинском языке
представляется мне детским лепетом» [Соч. ит. гум., с. 125].
Смысл этого краткого исторического обзора заключается в том,
чтобы показать, что римская грамматическая традиция дошла до
нас не полностью и потому многие важные вопросы грамматики
остаются нераскрытыми. «Книги Гая Цезаря и Мессалы, —
пишет Валла, — погибли в пучине времени, сочинения Варрона о
латинском языке сохранились лишь наполовину, а в них, быть
может, говорилось о том же, о чем я пишу теперь. Другие же,
возможно, полагали, что им не следует касаться тех вопросов,
которые, как им было известно, рассматривались их
предшественниками» [Соч. ит. гум., с. 125].
Как мы видим, Валла представляет науку о языке как процесс
(историю), а не как законченную теорию или застывшую систему
правил и ощущает себя продолжателем этой традиции (общего
дела). Важно обратить внимание на то, что гуманисты знали о
существовании «целых томов об отдельных звуках» латинского
языка. Таким образом, забота о восстановлении правильного
латинского произношения была связана не только с проведением
языковой реформы, но включала и исторический аспект —
реконструкцию утраченного звена знаний о латинском языке.
Первым в ряду тех, кого решительно отвергает Валла, стоит
Исидор Севильский (ок. 560-636). Здесь тональность резко
меняется, и Валла переходит к инвективе против средневековых
лексикографов и грамматиков. Среди «еще больших невежд», чем
Исидор, Валла называет лексиконы Папия, Угуччоне из Пизы и
финского языка — этого замечательного и поистине божественного злака, даю-
ODt/° ПИЩу не телУ» а ДУше (linguam latinam nationibus distribuisse minus erit
Ra^Tlam frugem, et vere divinam, nee corporis sed animi cibum). Ведь именно он
На\д!ИЛ ВСе племена и народы тем искусствам, которые зовутся свободными, он
Дал ИЛ наилУчшим законам, открыл людям путь ко всей мудрости, он, наконец,
Нам возможность не зваться варварами» [Соч. ит. гум., с. 121].
212 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысдь
Джованни Бальби (своих соотечественников из Северной Италии
ХЬХШв.в.)137.
Об одном аспекте критики средневековых глоссаторов со сторо.
ны гуманистов речь шла выше (см. с. 160). Другой важный аспект
этой критики раскрывается в работе Баллы. Для Баллы как глав-
ного идеолога (и теоретика) «деонтологизации» языка [Camporeale
1986] слово было носителем исторического и культурного опыта
человечества, и потому проблемы «правильности» имен для него
не существовало, а метод изощренных этимологии (восходящий к
стоикам) как способ доказательства истинного значения слова —.
был неприемлем [Stevens 1975]138.
Валла пользуется материалами средневековых лексикографов,
но полностью очищает их от сомнительных этимологии и, с
другой стороны, включает в свой анализ значений «новые»
латинские слова (неологизмы). Объснение разницы между такими
словами, как bellum 'война', pugna 'битва' и praelium 'сражение' (Eleg.
IV, 64), мало чем отличается от толкования Исидора [Stevens 1975,
р. 348] (у Исидора другое правописание: proelium), однако Валла
отмечает, что малограмотные люди называют теперь «войну»
guerra, иначе говоря, вводят новую словарную единицу,
абсолютно бесполезную для латинского языка, ибо никакого
дополнительного оттенка значения в слове guerra нет. Совершенно иначе
относится Валла к новым терминам, которых не могло быть в античной
латыни, поскольку в древности не было самих этих понятий или
предметов (ср. цит. выше с. 159 и прим. 28 ответ Баллы своим
оппонентам).
Таким образом, композиция «Тонкословия», которая не
соответствует традиционным разделам грамматики, отвечает замыслу
автора — это тоже «перекапывание» (repastinatio), но не
диалектики, а грамматики и лексики латинского языка. Феноменальная
память и эрудиция Баллы позволяют ему делать совершенно
поразительные открытия. Так, например, он пришел к выводу, что
все грамматики противоречат авторам в отношении конструкций
«oportet ('следует, подобает') -I- инфинитив»: все грамматики
предписывают пассивный инфинитив после oportet, а все авторы упот-
137 К сожалению, в двух томах серии «История лингвистических учений»,
посвященных европейскому средневековью, вопросы латинской лексикографии не
были затронуты. Только это обстоятельство заставляет нас упомянуть тот
самоочевидный факт, что резкая критика средневековых лексикографов отражает лишь
смену парадигмы, а не действительное невежество этих замечательных — ДлЯ
своего времени — ученых.
138 Статья доктора Стивенса невелика по объему и состоит в основном из
примеров толкования слов в «Этимологиях» Исидора в сравнении с Валлой, но пр1*
этом она очень емкая по содержанию (его докторская диссертация была об ИсиД0"
ре Севильском).
и сть II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 213
рбляют в этой конструкции только активный инфинитив [Casacci
?926, Р. 194].
Приведем несколько примеров интерпретации именной и
глагольной флексии из грамматики Баллы. Отмечая наличие в
латинском языке таких форм от сущ. domus, как domi (род. п. по II
скл.)> domus (род. п. по IV скл.) и целый ряд других подобных
примеров, Валла заключает, что именно различение таких форм,
умение выбрать нужное выражение из ряда грамматически
равноправных форм и определяет подлинный характер латинской
речи: одно принадлежит грамматике, а другое — самому языку и
его элегантности (hoc grammaticae est, illud vero latinitatis & elegan-
tiae-Eleg. Ill, 15).
В параграфе об именах прилагательных на -osus Валла
указывает на то, что эти прилагательные образуются как от имен
(существительных), так и от глаголов. В отыменных
образованиях прилагательные могут означать: обладание [чем-то] (habitio),
избыток (vehementia), обилие (copia), пристрастие, привязанность
(affectio), как animosus 'душевный', nervosus 'жилистый,
мускулистый, saxosus 'каменистый', vinosus 'любящий вино,
пристрастный к вину\ Прилагательные, образующиеся от глагола,
означают либо действие, либо страдание, либо и то и другое. Такие
прилагательные, как studiosus, fastidiosus, iniuriosus всегда у
авторов, как отмечает Валла, имеют активное значение
('изучающий', 'докучающий', 'совершающий несправедливость'). К
прилагательным со «страдательным» значением Валла относит такие
как odiosus (=qui odio habetur, т. е. 'тот, кто исполнен
ненависти'), invidiosus 'исполненный зависти'. Laboriosus имеет два
значения (пассивное и активное в терминологии Баллы): 'трудный'
(^трудоемкий) и 'трудолюбивый' (исполненный трудолюбия).
Книга Баллы «Тонкословие латинского языка» — сочинение
концептуальное и насквозь полемическое. Точка зрения и
характер автора проявляется во всем — вплоть до вызывающего
подбора примеров. Рассмотрим один такой пример (глагольная
флексия Eleg. I, 22-24). Все грамматики, как отмечает Валла, в один
г°лос (uno ore) говорят, что глаголы на -sco, как calesco
'нагребаться' (от caleo 'быть теплым, горячим') frigesco 'остывать' (от
*rigeo 'остывать, быть холодным') означают начало действия
Unchoatio) и называются «начинательными» ([verba] inchoativa);
лаголы на -urio, означающие намерение или замысел (meditatio),
как parturio 'рождать' (от pario 'рожать'), называются в грамма-
иках «замыслительными» (verba meditativa) (ср. перевод И. М. -
Ронского из Доната [Античные теории, с. 128]). На ряде приме-
*?0в (из Вергилия, Цицерона, Квинтилиана и др., а также
иблейских речений) Валла показывает, что такого однозначного
214 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслъ
соответствия между формальным показателем глагола и его
значением в реальном языке нет.
Одним из самых красивых примеров, доказывающих это поло*
жение, является разбор значений глагола sordeo — sordesco 'быть
становиться грязным' в библейской цитате: «Qui sordet, sordescat
adhuc» (Кто погряз в грязи, пусть еще более погрязнет139), где
sordescat, как объясняет Валла, не может означать начала
действия, но означает «пусть будет еще более грязным» (sordidior
fiat), т. е. возрастание исходного состояния (пребывания в
грязи — sordet). To же значение (с оттенком завершенности)
передают и причастия от глаголов на -sco, как liquescens в псалме 21.15:
«сердце мое сделалось как воск, растаяло (liquescens) посреди
внутренности моей». Валла сравнивает латинские глаголы на -sco с
греческими, где суффикс -sk- широко представлен, а также
приводит один любопытный итальянский пример: ogni di magrisco
(лат. omni die macresco 'я худею с каждым днем'), где глагол
«худеть» означает возрастание (incrementum) качества (ср. итал. dima-
grire 'худеть')140. Таким образом, Валла делает вывод, что
глаголы на -sco не имеют общего значения начинательности, но
«содержат в себе значение претерпевания (passionem in se habent)».
To, что глаголы на -urio не следует называть «замыслительными»,
иллюстрируется примером из Марциала: «Когда сидит во всех
Вакера нужниках / И целый день проводит там безвыходно / Не
облегчаться (cacaturit), но обедать (coenaturit) хочет он»
(Эпиграммы. Кн. XI. 77), что означает, как поясняет Валла, сильное
желание пообедать (соепаге) и отсутствие у Вакеры желания сасаге.
Это гротескное столкновение в одном ряду библейских примеров с
фривольным Марциалом является демонстрацией (намеренной,
поэтому неудивительно, что у Баллы было столько
недоброжелателей) отношения ученого к тексту как к чисто языковому
памятнику и лингвистическому документу. Если речь идет о таком
специальном вопросе, как семантика глагольного действия, то все
остальное — какой это текст, сакральный или профанный —
грамматиста не интересует. Зато, если Валла не уверен в правильности
списка, из которого он приводит грамматический пример, он
обязательно это оговаривает (si codex est fidelis, si modo codex non est
emendosus и т. п.).
139 Цитата из Апокалипсиса, в каноническом тексте Вульгаты сказано иначе:
♦qui in sordibus est sordescat adhuc» (Ape 22:11) — «нечистый пусть еще
сквернится» (Откр 22:11).
140 С точки зрения современного итальянского языка di- в dimagrire не
вычленяется и, тем самым, его сопоставление с die кажется неоправданным (народная
этимология), однако приставка могла присоединиться к глаголу в результате *
переразложения» какой-то подобной конструкции, и тогда этимология Баллы
вполне корректна.
rrrib II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 215
Каждое сопоставление грамматического описания с языковым
потреблением служит для Баллы проверкой и доказательством
сяовных положений Квинтилиана о примате речевого обихода
fconsuetudo) над грамматическим правилом и подтверждает
необходимость разграничения двух понятий (тоже квинтилианов-
ских) — говорить грамотно (grammatice loqui) и говорить
по-латински (latine loqui) [Inst. orat. I. 6. 27].
Наука Возрождения создавала новые авторитеты не путем
подражания античным риторам, а путем строгой проверки
достоверности воспринятых от античности идей. Цицерон, которого чаще
всего не к месту поминают в связи с научными занятиями
гуманистов, стал главной фигурой в истории языкознания по
аналогии с историей литературы. В латинской литературе
Возрождения, действительно, было немало эпигонов Цицерона (кстати, и
средневековье величало Цицерона эпитетом nobilissimus auctor),
и подражание Цицерону (учеба у него) получило в истории
литературы общее обозначение «цицеронианство»141.
В филологии дело обстояло иначе, и Поджо обвинял Баллу в
«квинтилианстве» [Camporeale 1972, р. 33-35]. Без пересмотра
«общих мест» и старых доктрин, предпринятого гуманистами, и
без выдвижения новых авторитетов вряд ли можно было бы
говорить о Возрождении в Италии как об определенной исторической
эпохе и о возрождении — в широком смысле — как о выходе из
кризиса (нации, культуры, языка и науки). «Воспитание
оратора» Квинтилиана и сочинение Варрона «О латинском языке» были
главными произведениями, которые питали итальянскую
лингвистическую мысль XV в.142.
Гуманисты открыли этих авторов, читали и обсуждали их (за
«новинками» вообще полагалось следить), изучали и
пропагандировали. Ученики Баллы — Помпоний Лет, Никколо Перотти и др.
основали Римскую академию (правда, первая академия была
разгромлена, т. к. ее учредителей обвинили в антипапском заговоре),
в которой Лет читал публичные лекции о римском грамматике
Барроне.
Упадок латинской словесности Валла связывал с нашествием
На Италию вестготов (410 г.) и остготов (завершившимся образо-
Об истории цицеронианства и вопросах литературы в эпоху Возрождения
CiySabbadini 1885a], [Zielinski 1912, S.170-209], [Ruegg 1946].
Об «открытии» Квинтилиана в XV в. и влиянии его идей на лингвистичес-
ие взгляды Баллы см. [Camporeale 1972, р. 89-100, passim], [Camporeale 1986,
jg^8-233], о рукописных заметках Баллы к «Воспитанию оратора» [Martinelli
об], о рецепции дихотомии Квинтилиана «грамотная речь vs латинская речь»
• е- грамматика vs язык) см. подробно в монографии «Латинский язык, грамма-
а» народный язык» [Tavoni 1984], особенно с. XI — таблица терминов, выра-
юЩих эти понятия у Бруни, Бьондо, Гварино, Баллы, Поджо и Филельфо.
216 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ванием королевства остготов, 493-555). Начиная с этого времени
по мнению Баллы, «все писатели не отличаются красноречием, а
потому и значительно ниже своих предшественников». Вот как
низко пала римская литература: «древние роднили свой язык с
греческим, эти же готовы были породниться с готским» [Соч. ит.
гум., с. 128]. Валла совершенно определенно соотносит уровень
развития языка с уровнем культуры и поэтому рассматривает
влияние греческого языка на латинский и распространение
латинского языка на огромных территориях империи (среди других
народов) как благо, а «языковые контакты» с народами, стоящими
на более низкой ступени развития, как пагубные и
разрушительные для языка, а следовательно, и для всех областей знания и
словесного творчества.
Античное понятие latinitas является синкретическим
выражением двух идей: хорошего латинского языка и латинской
«самости» (латинского характера речи)143. В концепции Баллы
наблюдается скорее типологический уклон [Tavoni 1984, р. 141],
стремление раскрыть латинский характер языка в сравнении с
греческим (об этом см. подробно [Camporeale 1972, р. 173-192],
[Gravelle 1982]), противопоставить — богатству и обилию слов в
греческом языке144 — латинскую утонченность, элегантность,
способность в скупых выражениях передать самые разнообразные
оттенки смысла, создавая особую семантическую емкость языка.
Таким образом, «Тонкословие» — это книга не о стилистике
художественной речи, как нередко утверждают, а скорее
исследование поэтики языка, попытка выявить языковую форму выражения
одного языка (латинского) и ее отличие от другого (греческого). В
сфере стилистики Валла отмечал различия в словоупотреблении
поэтов, ораторов и историков, иначе говоря, расхождения между
поэтической, прозаической и устной (ораторской) речью: поэты
всегда говорят муж (vir), ораторы человек (homo), историки — и
то и другое (vir, homo); поэты и историки, говоря о ком-то,
называют его тот (Ше), а ораторы этот (is) [Casacci 1926, p. 201] .
Книга Баллы об изысканности латинского языка (т. е.
латинского способа выражения мысли) была встречена с энтузиазмом и
стала поистине событием в области латинской изящной словесно-
143 Как отмечает Валла, «римским» называли латинский язык греки.
144 Именно в этом значении ('великолепный, роскошный') употребляют термин
elegans Плавт, Теренций и Авл Геллий (ср. «Аттические ночи» 11,9.5), в то время
как у Цицерона это слово означает 'изысканный, утонченный' [Marsh 1979, р. 99]«
Ср. характеристику, которую дает Цицерон своему знаменитому зятю Гаю Пизо-
ну: «Поэтому он достиг таких великих успехов, что, казалось, он, не бежит, а
летит; выбор слов — изящнейший (elegantissimus), построение — слаженное.-*
[Брут 35, 272].
а сгпь И- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 217
ти, открытием латинского языка (в дебрях времени, а не «в лесу
сиалектов», как у Данте), недаром Гварино Веронезе в своем от-
ыве о «Тонкословии» использовал то же сравнение
(«изобретете» оливкового дерева Палладой), которое Валла применил по
отношению к самому латинскому языку. Лингвистическое
наследие Баллы (как и других филологов XV в.), в частности, помогает
понять, почему научная мысль в Италии XV в. переключилась
(после Данте) на изучение древних языков: слишком мал был
исторический диапазон средневековых литературных языков, не
хватало диахронической глубины145.
В заключение укажем две небольшие грамматические работы
Баллы. Одна из них, Ars grammatica, — это незаконченная поэма
(362 латинских гексаметра), начатая около 1443, о роде и
склонении имен существительных. Она впервые упомянута [Sabbadini
1899], но авторство Баллы не считается бесспорным146.
Авторство другого — тоже стихотворного сочинения —
«Исправления некоторых мест Александра-грамматика» (Emendationes
quorundum in Alexandrum grammaticum) считается более
правдоподобным (хотя не исключена возможность, что кто-то из
учеников Баллы, зарифмовал конспекты его лекций, см. [Martinelli 1982,
р. 54-57]). Кто бы ни был автором стихотворного текста
«Исправлений», зарифмованные в нем мысли, несомненно, принадлежат
Балле (содержание поэмы изложено в [Chomarat 1982] с
обширными цитатами, отрывок дан в прозаическом переводе на
французский язык с. 37-38). Почерк автора «Тонкословия»
чувствуется во всем — в ссылках на римских грамматиков (Палемона,
Варрона), в трактовке примеров и грецизмов. Так, например,
автор объясняет, что в классической латыни слова animus и anima
не различались по смыслу (а только по грамматическому роду),
Дифференциация значений: anima (жен. р.) 'душа' и animus (муж.
Р-) 'дух' относится к христианской эпохе. И наоборот, не различа-
0 филологическом интересе к народной речи свидетельствуют многочислен-
НЬ1е записи гуманистов, списки слов и идиоматических выражений, хранящиеся
в их личных архивах (специально об интересе Баллы к volgare см. [Tavoni 1986]),
е говоря уже о тех гуманистах XV в., которые пропагандировали итальянский
язык: К. Ландино [Santoro 1954], Л. Бруни [Santini 1912], Л. Б. Альберти (см. о
^м гл. «Первые итальянские грамматики» с. 392-397).
Р. Саббадини (опубликовавший отрывок, ст. 1-45) не сомневался в автор-
Ве Баллы, в [Adorno 1954, р. 216-217] Ars grammatica упоминается среди тру-
Л \/*" ^аллы» эта точка зрения принимается [Casciano 1981], [Chomarat 1982].
• Мартинелли считает «поэму» фальсификацией недругов Баллы (отрывок ци-
i РУеТСЯ в IV инвективе Поджо), которые хотели показать, как недалеко продви-
Улся заносчивый Валла в вопросах грамматики и в искусстве поэзии по сравне-
Р 4R° НиспР°веРгаемьши им средневековыми авторитетами [Martinelli 1982,
Ши ^1- Об издании текста см. [Lo Monaco 1984], полное издание текста с об-
Рньгм научным аппаратом [Casciano 1990].
218 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ющиеся теперь по смыслу delirium и deliciae в старину имели се.
мантические различия: delirium 'утеха, услада' и deliciae 'отра.
да\ В следующей главе объясняется, что scholaris 'школьный*
является прилагательным, а не существительным (школьник)
слово doctrinalis,-e тоже имя прилагательное, так что учитель
Александр допустил ошибку, назвав свой учебник «Doctrinale»
что по-латински значит 'учебное, доктринальное' [Chomarat 1982
р. 27].
Возрождение положило конец средневековому тождеству
грамматика = латинский язык, открыв историческую природу
языка. «Тонкословие» Баллы убедительно показывает (хотя сам
автор, скорее всего, не ставил это своей задачей), что типологическое
сравнение языков возникает на почве исторической концепции
языка, из осознания «самости» отдельного языка (latinitas),
отличающей его от любого другого языка147.
Автор сочинения «Тонкословие латинского языка» стал
главным авторитетом для европейских гуманистов и в области
латинского языка, и в области науки о языке. Так, например, швабский
гуманист Генрих Бебель в длинном перечне итальянских ученых
XV в. (среди которых названы Тортелли, Перотти, Сульпиций,
Георгий Валла и др.) ставит Лоренцо Баллу на первое место,
называя его самым выдающимся из всех неотериков (inter omnes
neotericos)148 в области латинского языка [Sottili 1986, р. 332].
Интересно отметить, что поэт и преподаватель Тюбингенского
университета Бебель воспринимает труд римского гуманиста Лоренцо
Баллы как исследование (и исправление) латинского языка «у
итальянцев» (apud Italos) и по образцу этого сочинения пишет
свои комментарии к латинскому языку «у германцев» (Commentaria
de abusione linguae latinae apud Germanos)149.
147 К сожалению, и в новейших работах по истории языкознания мы постоянно
сталкиваемся с примерами обобщений, конструируемых в отрыве от самой
истории языкознания. Ср. «Грамматика в романском мире означала попросту
латинский язык (latino), в то время как для модистов (<...> среди которых были и
датчане, разработавшие к концу XIII в. теорию языка на логико-философских
основаниях) грамматика имела универсальное значение» [Skytte 1990, р. 270]
(курсив автора). В узости «романского» языкового кругозора современный
датский ученый видит главную причину слабости лингвистической мысли у
романских народов (на фоне универсального значения для науки модистов — младог*
рамматиков — структуралистов — трансформационалистов, см. выше с. 201 ей-
119).
148 Здесь Бебель называет Баллу и итальянских гуманистов его круга тем #е
словом, которое Цицерон применил к «новым поэтам» школы Катулла: «неотер*1'
ки».
149 Об изучении трудов Баллы в Германии XV-XVI в. см. [Cortesi 1986], [SottU1
1986], от Франции до Фландрии [Vecce 1986], об Эразме как читателе «Тонкосло-
вия» [Chomarat 1979; 1981], о влиянии на Луиса Вивеса [Waswo 1980]. Свиде*
гпь и. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 219
Современные ученые называют филологию Баллы «истори-
еской революцией» [Kelley 1970, р. 43-46]. Итальянские фило-
оги XVI в., тоже совершившие своего рода революцию, когда
перешли к изучению действительно живого языка
(итальянского), к предмету занятий своих непосредственных
предшественников относились весьма критически. Впервые применяя
разработанные гуманистами методы филологической науки (во всем
объеме — от издания классиков до истории отдельного слова) и их
исторический подход — но уже к изучению родного языка, они
осознают себя прямыми продолжателями античной филологии (ср.
с. 259, 298). В дискуссиях XVI в. об итальянском языке мы
обнаружим, что при обсуждении вопросов, связанных с определением
литературной нормы, употребления и обихода, будут часто
цитировать Квинтилиана, обращаясь к «Воспитанию оратора» как к
первоисточнику. Но то, как трактовались эти же самые вопросы
на материале латинского языка и что говорили по этому поводу
Гварино Веронезе, Леонардо Бруни, Лоренцо Валла, Поджо, Фи-
лельфо и др., филологов-итальянистов XVI в. совершенно не
будет интересовать, и никаких ссылок на гуманистов (в связи с
данной проблематикой) в их трактатах мы не встретим. Преемственная
связь между XV и XVI в. оказывается для нас более заметной в
той сфере, которая является для истории языкознания абсолютно
новой, еще никем ранее не освоенной. Таковой нам
представляется проблема угасания древних языков и происхождения новых (и
весь комплекс связанных с этим вопросов). Здесь интересы
итальянских филологов XV и XVI в. пересекаются, сосредотачиваясь
на одном периоде — периоде варварских нашествий на Италию.
Новые мысли и идеи, методы и подходы, открытия и веяния —
как бы мы не называли эти движущие силы научного знания —
имеют свойство (особенно в новое время) быстро
распространяться, становясь достоянием всех. Для развития науки — это
нормальный процесс, и именно так представлял себе историю науч-
ных знаний Валла: нечто, став всеобщим достоянием, уже не
повторяется, а развивается дальше или, наоборот, забывается, те-
Ряясь в «пучине времени». Так происходит в научной жизни, но
**алла, как убеждают нас его труды, видел задачу историка и
филолога в том, чтобы восстанавливать «поврежденные» участки
Сшедшей до нас (или вовсе не дошедшей) традиции. В историо-
ьством ученического спроса на новую грамматику Баллы является ее стихот-
154о°е пеРеложение- Мы знакомы с одним таким изданием [Ioannis Roboamus
Uip Автор «Кармины» точно следует композиции оригинала: поэма состоит из
к СТи частей, глав оказалось несколько больше (480, а не 475), но даны отсылки
об °0тветствующим главкам «Тонкословия», так что материал изложен в полном
220 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслъ
графии лингвистики, к сожалению, чаще наблюдается
противоположная тенденция, и поскольку Возрождение вообще, а
итальянское в особенности, обычно пропускается (или — что еще хуже -^
сводится к повторению действительно никому не интересных
«общих мест»), то связи языкознания отдельных национальных школ
с итальянской ренессансной наукой, а через нее и с античной,
остаются нераскрытыми150, а освоение новых европейских языков
начинается как бы с нуля (если не считать опоры на
традиционную латинскую грамматику).
Подводя итоги первой половины рассматриваемого периода
истории лингвистики в Италии, мы можем заключить, что у
истоков современной филологической науки стоят два итальянских
мыслителя: великий провидец языка Данте, который открыл
новую языковую реальность — природный язык, определил его как
высшую духовную ценность этноса (объект любви) и наметил путь
формирования литературного языка через создание эталонных
текстов на этом языке, и выдающийся историк Лоренцо Валла,
который открыл язык как историческую реальность и
единственный надежный документ собственно человеческой истории.
В истории грамматики «Тонкословие» Баллы, как отмечают
современные исследователи, «знаменует порывание со
средневековыми представлениями о языке и открытие научного метода
(methode scientifique), основанного на изучении древних авторов
и выявлении реального языкового употребления» (usage reel)
150 Показательный пример находим в работе [Бокадорова 1987], не свободной
от недостатков этого рода. В ней рассматривается разграничение понятий
грамматически правильной и литературной речи, основополагающее, как
показывает автор, для французских лингвистических теорий XVIII - начала XIX вв.
Однако контекст этого рассмотрения оказывается недостаточно широким,
историография названной проблемы, по существу, не выходит за пределы
французской традиции, а попытки более широкой исторической перспективы (см.
главу «Понятия грамматика и литература в истории европейской культуры»»
с. 132 и ел.), к сожалению, лишены необходимой конкретности. Так и
получается, что новым словом в европейском языкознании оказывается формулировка
К. Вожла (середина XVII в.): «Одно дело говорить грамматически
правильно, другое — говорить по-французски» [Бокадорова 1987, с. 28]
(разрядка авт.). Дело не только в том, что это противопоставление и другие понятия,
ставшие ключевыми у французских теоретиков (такие как употребление,
обиход, язык двора и др. ) двумя веками раньше подробно обсуждалось в Италии на
материале разных языков, в первую очередь латинского. Сами слова Вожла
просто повторяют еще более старый источник, прекрасно известный и
итальянским гуманистам XV в., занимавшимся обсуждением «хорошей» и «плохой»
латыни, и их французским преемникам, а именно изречение Квинтилиана *°ДН?
дело говорить по-латински, другое — говорить грамматически правильно» (alill<J
esse latine aliud grammatice loqui [Inst. orat. I. 6. 27]). О Квинтилиане как
основном источнике теории bel usage и понятия «обихода» в грамматике «Пор*
Рояля» см. [Percival 1976b].
nlb ll. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 221
rChomarat 1982, р. 21]. В истории латинского языка грамматика
Яаллы остается уникальной работой, не имеющей аналога ни в
редшествующей, ни в последующей традиции151.
В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то,
чТ0 в отечественной историографии до сих пор бытует некий
«синкретический» взгляд на грамматику гуманистов XV века без дол-
ясного разграничения между школьными учебниками латыни и
новыми теоретическими подходами к изучению латинского языка,
при этом самые общие черты, определяющие всю
филологическую культуру Возрождения, отношение гуманистов к латинскому
языку и античному наследию в целом выдаются за
характеристику грамматик нового типа: «...установление правил безупречного
в грамматическом и стилистическом отношении латинского
языка — такова цель грамматиков гуманистического направления. В
отличие от представителей схоластической грамматики — модис-
тов, гуманисты широко привлекают для доказательства своих
положений языковой материал всей римской литературы (прозы и
поэзии), в противоположность модистам, гуманисты
обнаруживают хорошее знание всей римской грамматической традиции, но о
каких-либо оригинальных теоретических воззрениях гуманистов
в сфере изучения грамматики латинского языка говорить не
приходится, в целом грамматика гуманистов не возвышается над
уровнем римской грамматики» [Перельмутер 1998, с. 97-98]. Ни одна
из рассмотренных нами здесь грамматик гуманистов не
соответствует этому определению. Авторы школьных учебников вообще
не «доказывают» никаких положений, а формулируют
практические грамматические правила, иллюстрируя их не «материалом
всей римской литературы», а собственными, специально
сочиненными примерами, и опираются при этом на вполне определенные
источники, в том числе и на средневековые латинские
грамматики. Что же касается использования памятников римской литера-
ТУРЬ1 для лингвистического анализа, то оно никак не было
связано с «установлением правил безупречного латинского языка»;
гРандиозный труд, предпринятый Л. Валлой, не ставил каких-либо
практических целей, и его книга «Тонкословие латинского язы-
Ка« не содержит никаких рекомендаций и тем более правил бе-
3Упречного стиля. Таким образом, если говорить в самом общем
Иде о грамматиках нового типа, появившихся в Италии в XV в.,
0 следует отметить предельное упрощение грамматического опи-
J^*hh, с одной стороны (в школьных учебниках), и усложнение
Реп « двУстишие в эпитафии на могиле Лоренцо Баллы: «Здесь покоится Лав-
(Lai ИИ ^алла» слава латинского языка,/Ибо он первый научил искусству речи»
10q .rens Valla iacet, Romanae gloria linguae, /Primus enim docuit qua decet arte
4Ul) [Хоментовская 1994, с. 90].
222 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
анализируемого материала, с другой (в теоретических трактатах)
В обоих случаях речь идет о новациях в области метода: в практи!
ческой, школьной сфере — это методика обучения латинскому
языку, в теоретической, научной — метод исторического изуче.
ния латыни.
2.2 ЧИНКВЕЧЕНТО (XVI В.) И
НАЧАЛО ИТАЛЬЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Спор о языке в Италии, получивший впоследствии
терминологическое обозначение questione della lingua (вопрос о языке), стал
одной из самых заметных страниц в истории итальянской
словесности. Многие литераторы XVI в. приобрели известность за
пределами Италии только благодаря своему участию в полемике о
литературном языке, и даже такой корифей итальянского классицизма,
как Пьетро Бембо (1470-1547), известен нам прежде всего как
автор «Бесед о народном языке» (Prose della volgar lingua, 1525,
фрагменты этого сочинения переведены на русский язык под
названием «Рассуждения в прозе о народном языке»152
[Литературные манифесты, с. 33-49]). Библиография по этой проблематике
столь обширна, что оказывается практически необозримой
([Касаткин 1976, с. 13, прим. 16], там же указаны основные работы
общего характера). Обилие научной литературы объясняется не
только затяжным характером самого спора (и соответственно
огромным количеством его участников), начало которого обычно
связывают с трактатом Данте «О народном красноречии», а
завершение — с научной деятельностью Г. И. Асколи (1829-1907) (см.
его работы по этому вопросу в [Ascoli 1968]). Впечатление о
неисчерпаемости данной темы усиливается еще и тем обстоятельством,
что сами исходные тексты оказываются объектом внимания раз-
152 Сохранение термина «проза» в русском переводе названия трактата,
написанного в форме диалога, представляется неудачным, т. к. современный читатель
воспринимает это в первую очередь как противопоставление сочинения в прозе
другим — стихотворным сочинениям о языке (например, средневековым
рифмованным грамматикам). На самом деле в «прозах» Бембо такого
противопоставления нет. В одном из трактатов XVI в. мы находим следующее толкование
термина: «Prosare, откуда prosatore. Хотя у этого слова, как известно, есть свое
собственное значение (proprio significato), а именно 'писать прозой' или, как
говорили латиняне, у которых не было своего специального глагола, 'писать
свободной или обычной речью' (scrivere in orazione sciolta o vero pedestre), тем **e
менее во Флоренции, когда кому-то хотят поставить на вид, что он говорит слиШ*
ком плавно, прислушиваясь к самому себе, или — что называется — изображает
свою речь в лицах (con prosopopeia), то про речь такого человека говорят, что 4 °п
ее обставляет" ("изображает" — egli la prosa)* [DL, p. 447]. Таким образом, бу*'
вально название трактата можно было перевести как «Разговоры в лицах о на*
родном языке».
тпъ ц. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 223
bix дисциплин: они изучаются как факт истории литературы
(сомнения итальянских писателей) и литературной теории
(манифесты итальянских писателей), как факт истории языка (вопросы
формирования нормы национального языка) и истории
языкознания, а именно теории литературного языка. Таким образом, в сферу
fluestione della lingua попадают самые разнообразные материалы,
относящиеся к истории и теории итальянского языка, в
результате чего эта сфера становится, по существу, безграничной,
заслоняя и вытесняя все остальные факты лингвистической рефлексии
этого периода. В историографии лингвистики «спор о языке»
становится главным, если не единственным «событием» итальянской
лингвистики XVI в. Такой подход существенно обедняет наши
представления об уровне языковедческой науки
рассматриваемого периода, искусственно ограничивая круг исследований
итальянских ученых XVI в. только теми идеями, которые больше всего
будоражили общественное сознание пишущей Италии153.
Мы начинаем наш очерк истории языкознания Италии XVI в.
с описания «полемики», руководствуясь не столько оценкой ее
научной значимости, сколько соображениями композиционного
характера, пытаясь на примере этого спора дать общую
характеристику лингвистической ситуации и культурно-исторической
обстановки Чинквеченто, ввести основных «действующих лиц» и
определить жанровое своеобразие лингвистической литературы на
фоне формирующейся традиции научной прозы на новых языках.
Иными словами, мы используем тему questione della lingua в
качестве введения в историю итальянской лингвистической мысли
данного периода, пересматривая то значение, которое отводится
этому — «чисто итальянскому» — явлению в историографии
лингвистики. Следует к тому же иметь в виду, что за более чем
вековую историю научного освещения questione della lingua (самые
Ранние историографические работы относятся еще к XIX в.: [Caix
!876; Vivaldi 1891; Luzzato 1893; Vivaldi 1894-1898]) контуры
этой проблемы заметно изменились. Во-первых, она перестала
восприниматься как проблема сугубо национальная, связанная с
особенностями становления литературного языка в «многоязычной»
Италии, так как обнаружились генетические и типологические
Связи итальянского «спора» с дискуссиями, имевшими место и в
ДРУгих культурных ареалах154.
153 т^ «
о этой связи становится понятной реакция некоторых итальянских ученых,
°Рые в своих обзорах историографического характера либо вообще не упоми-
л т ° Questione della lingua [Tagliavini 1963], либо высказываются об этой «по-
154Ире* крайне отрицательно [Nencioni 1950, р. 9].
blatt i ' напРимеР» сходные дискуссии в славянском мире [Picchio 1972], [Gold-
K0fi 1984], [Goldblatt, Picchio 1984], о влиянии итальянского Ренессанса на язы-
уъ концепцию Карамзина см. [Успенский 1985, с. 65-70].
224 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
Во-вторых, изменилось представление о самом содержании
полемики, более четко обозначился собственный предмет дискуссий -^
обсуждение различных языковых программ. Таким образом,
географические границы questione della lingua расширились, а
тематические рамки, напротив, обрели большую определенность. В
связи с этим мы считаем целесообразным вопросы, связанные с
изучением фонетики и грамматики итальянского языка (которые
также были предметом спора в ходе полемики XVI в.), выделить в
самостоятельные разделы: «Звуковой строй языка» и «Первые
грамматики итальянского языка». История итальянской
лексикографии как самостоятельная тема в настоящей работе не
рассматривается155 .
Наиболее компактно суть итальянского «вопроса о языке»
изложена Бруно Мильорини [Migliorini 1949], [Алисова 1960], а
наиболее подробно — в монографии Маурицио Витале [Vitale 1978,
804 pp.]. Мильорини выделяет два круга вопросов, которые
особенно интенсивно обсуждались в XVI веке. Первый связан с
противопоставлением традиционного языка письменной культуры,
латинского, новому народному языку и с задачей правильного
выбора языка: надо ли писать по-итальянски или же сохранять
(реставрировать) латинский язык в качестве основного культурного
языка итальянцев (ср. проблематику дантовского трактата «Пир»).
Второй круг вопросов обсуждается в среде литераторов, отдавших
предпочтение новому языку и столкнувшихся в связи с этим с
новой проблемой — проблемой выбора правильного языка: на
какие образцы речи следует ориентироваться (на язык писателей
XIV в., живой флорентийский узус, язык придворных и т. д.) и
как следует называть этот новый язык — народным,
итальянским, тосканским, флорентийским или придворным.
Начнем с первого круга вопросов.
Спор «латинистов» и «итальянистов»
В защиту латинского языка в XVI в. выступают филологи,
продолжающие линию ученого гуманизма XV в.156
Ромоло Амасео (1489-1552), гуманист из Фриули, посвятил
этому две речи под общим названием De Latinae linguae usu
retinendo («О необходимости сохранить употребление латинского
языка»), которые он произнес в Болонье перед началом 1529 учеб-
15:> По истории ранней итальянской лексикографии (XV-XVI вв.) недавно был
защищена докторская диссертация [Лободанов 1995] и объявлено издание книг
(там же, с. 54). д1
156 О позиции «латинистов» в XVI в. см. [Cian 1911], [Tavoni 1985], [Rizzo l98oJ-
tfacmb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 225
н0го года, (изд. в 1564) [Avesani 1960]. Сходную позицию занял
йзвестный историк Карло Сигонио (1520-1584), предваривший курс
лекций о красноречии, читанный им в Венеции, вступительной
лекцией с таким же, как у Р. Амасео, названием (De Latinae linguae
usu retinendOy 1566). Особенно резко высказывались против
народного языка и усилий, напрасно затрачиваемых на его
изучение, уроженец Бергамо Франческо Беллафини (ум. 1543) и Челио
Кальканини (1479-1541), называвший народный язык
«мерзейшим варварством» (foedissima barbaries).
Выпады Амасео, К. Сигонио, Франческо Флоридо и других
гуманистов против народного языка (вольгаре) вызвали активную
реакцию со стороны приверженцев родной речи, в защиту
которой выступили уже упоминавшийся Пьетро Бембо, Джироламо
Муцио (1496-1576), написавший сочинение в трех книгах «В
защиту народного языка» (Per la difesa della volgar lingua, ок. 1533,
опубликована посмертно вместе с др. сочинениями автора в 1582 г.),
и писатель из Тревизо Алессандро Читолини (1500-1583),
откликнувшийся на полемику «Письмом в защиту народного языка»
(Lettera in difesa de la lingua volgare, 1540, см. [Presa 1973]).
Публичные выступления и трактаты, написанные в жанре
апологии или инвективы, о которых здесь идет речь, продолжают
полемический дух и тон гуманистической культуры Кватроченто
с той только разницей, что противоборствующие стороны ведут
диалог на разных языках и каждый отстаивает свою точку зрения
на том языке, который он защищает. Наряду с этим начиная с
30-х гг. XVI в. появляются сочинения на вольгаре, в которых
предметом «изображения» становятся лингвистические споры
ученых — диалоги о языке. Одним из первых трактатов,
продолжающих многовековую традицию философского диалога, стал «Диалог
о языках» (Dialogo delle lingue, изд. 1542) падуанского ученого
Спероне Сперони (1500-1588), которому суждено было сыграть
значительную роль в развитии этого жанра научной прозы не
только в Италии, но и за рубежом157 [DL, р. 281]. «Итак (какова бы ни
была причина), — писал Спероне в одном из своих философских
Диалогов, — мы есть на этой земле, мужчины и женщины, словно
в центре некоего театра, а вокруг, по всем рядам неба расселись
боги, собравшиеся посмотреть трагедию нашего бытия. И вот нам,
коль скоро у нас нет иной цели, как доставлять удовольствие
нашим зрителям, надлежит появляться на этой сцене в такой фор-
Jje, чтобы, уходя с нее, заслужить аплодисменты» [Trattatisti del
^inquecento, p. IX].
i рактат был переведен на французский язык. О влиянии С. Сперони на
французскую лингвистическую мысль см. [Villey 1908], [Гуковская 1940, с. 18, 23
3i«K. 3I0I
226 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
«Диалоги» Сперони, а он написал их несколько (о любви,
языках, об истории, о риторике и «Апологию диалога»), имеют
свою драматургию. В «Диалоге о языках» защитником латынц
выступает известный учитель латинского и греческого языков
Лаццаро Бонамико (1477-1552). Л. Бонамико, бывший одно вре.
мя домашним учителем при дворе Изабеллы д'Эсте Гонзага,
отстаивает преимущества латыни в споре (якобы имевшем место в
Болонье в 1530 г.) с Придворным и с Пьетро Бембо. Последний
выступает как образцовый литератор, поскольку уже с начала века
Бембо прославился и изданием итальянских классиков
(напечатав в типографии своего соотечественника, венецианца Альдо
Мануцио, подготовленные им рукописи Петрарки и Данте —
знаменитые «альдины» 1501 и 1502 гг.), и собственной высокой
прозой («Азоланские беседы» изд. там же 1505)158, появление
которой сыграло важную роль в переориентации языковых вкусов
Чинквеченто, выдвинув народный язык на роль достойного
соперника латыни.
Во вставном эпизоде этого диалога выступает «некий» Перетто
(уменьшительное от Пьетро; так называли современники
известного философа Пьетро Помпонацци (1462-1525) за его малый рост),
излагающий компромиссную точку зрения, а также защитник
классических языков — выходец из Константинополя Иоан Лас-
карис (1445-1534), учивший итальянцев греческому. Разговор
между философом и эллинистом воспроизводится (с сохранением
диалогической структуры) по просьбе участников «основного»
диалога. Отношение Помпонацци к проблеме выбора языка
философских сочинений особенно интересует участника «основного»
диалога Л. Бонамико, который слушал лекции этого философа, не
знавшего, по словам Бонамико, ни одного языка, кроме своего
мантуанского (в действительности Помпонацци не знал
греческого и обращался к Бонамико за разъяснением темных мест в
латинских переводах Аристотеля) [DL, р. 319, п. 84]. Перетто
утверждает в этом диалоге, что главное для ученого — это глубина
мысли и умение рассуждать логически, а излагать свои мысли
можно на любом языке.
Во второй половине XVI в. интерес к полемике о выборе меЖДУ
латинским и народным языком заметно ослабевает, ее тон стано-
158 Первая печатная книга на итальянском языке была издана в 1471 г.
французским издателем Николо Женсоном (Nicolo Jenson) в Венеции Decor puellaruM
zoe honore de le donzelle («Decor puellarum, или Девичья честь»). В журнале
«Библиофилия» за 1905 г. в качестве курьеза была опубликована заметка, в
которой некий энтузиаст-любитель, увидевший на обложке книги дату МСССЬХЬ
спешил сообщить журналу о существовании более раннего издания, в то врем*
как специалистам было хорошо известно о допущенной опечатке — пропуск
одного знака X (Bibliofilia 1905, 7. Р. 62 — 63).
ть Ц. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 227
тсЯ более спокойным, и диалог в трех книгах генуэзца Уберто
фольетты (1518-1581) De linguae Latinae usu et praestantia («Об
п0Треблении и превосходстве латинского языка», 1574) является
одним из заключительных эпизодов дискуссии и может служить
примером уравновешенной защиты латыни — апологии, которая
уже обходится без умаления достоинств народного итальянского
языка (см. [Gara 1996]).
Доводы, выдвигаемые спорящими сторонами в поддержку своей
точки зрения, сводятся, как отмечает Б. Мильорини, к
нескольким пунктам — критериям сравнения соперничающих языков:
1. область распространения (география) и сфера применения
латинского и итальянского; 2. качественные характеристики и
имманентные свойства обоих языков; 3. природа народного языка
(испорченная латынь или новый язык); 4. упорядоченный
характер языка [Migliorini 1949, р. 6-9].
Воспользуемся и мы для описания «спора» между латынью и
вольгаре этими параметрами, стараясь включить проблематику
этого спора — по мере возможности — в более широкую
историческую перспективу.
1. Гуманисты, отстаивающие позиции латыни, всегда
ссылаются на международный характер этого языка, имеющего
хождение среди образованных людей всего европейского мира, и не
видят другого конкурента, который был бы в состоянии сравниться
с функцией всеобщего культурного языка. На это Дж. Муцио
возражает, что в большинстве стран — во Франции, Испании,
Греции, Турции и некоторых других, за исключением Германии и
Англии159, — население гораздо лучше понимает итальянский
язык, чем латинский. «Вот и прикиньте теперь, если вы
разбираетесь в географии, какой язык на самом деле служит большему
количеству стран», — заключает он. Оборотной стороной
универсальной латыни было ограниченное распространение этого языка
внутри Италии, поскольку доступ к латинской образованности
был открыт далеко не всем. Чтобы сгладить эту социальную
ограниченность применения латыни, ее пропагандисты обращали
внимание своих оппонентов на то, что родиной латинского языка
оьцщ Италия и поэтому латинский язык не может для итальянцев
°Ыть совсем чужим. Другие пытались принизить социальный пре-
Стиж народного языка, обыгрывая этимологию названия «вуль-
аРный» и низводя роль «простонародной» речи до функции язы-
*а бытового общения. «Добронравный» человек, как полагает
0намико, вынужден опускаться до этого языка, оказываясь в опре-
1 qt и(э интересе к изучению итальянского языка в Англии в XVI в. см. [Pellegrini
1973 [Griffith 19611» tRossi 19661» в XVI и XVH вв* [Gamberini 1970], рец. [Gendre
228 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
деленных жизненных ситуациях: «на городской площади, обра.
щаясь к толпе (vulgus), в разговоре с крестьянами в своем поместье
или с прислугой в собственном доме». Во всех остальных
случаях, считает он, в школьной аудитории и в кругу людей
образованных «мы можем себе позволить и даже обязаны оставаться
людьми, а стало быть, и рассуждать должны по-людски, то есть
на языке латинском (sia umano, cioe latino, il ragionamento)»
[DL, p. 298] (ср. выше с. 152 и сн. 16). В своих рассуждениях
латинист Бонамико так же, как и Данте, прибегает к «хлебной»
метафоре (ср. выше с. 23 ел.), но в отличие от поэта считает
«простой» язык грубой пищей из ячменя и проса, пригодной
только на корм скоту.
Традиционным сюжетом соперничества языков является
обсуждение сфер их применения в литературе. Вопрос о распределении
функций между латинским и итальянским языком на этом
поприще настолько хорошо изучен и столь многократно описан и в
трудах по истории итальянской литературы (начиная с
многотомной «Истории» Джироламо Тирабоски 1772-1782 гг.), и в работах
по истории итальянского языка (главной из которых остается
[Migliorini I960]), и в специальных монографиях (например, [Klein
1957]), что нет нужды останавливаться на нем подробно.
Достаточно сказать, что к XVI в. литературная продукция на вольгаре
была столь велика и разнообразна, что уже не укладывалась в
старые рамки античной теории литературы. Разработка теории
литературных жанров, определение их границ и установление
«правил» (особенно для неизвестных или непопулярных в
античности жанров) началась в Италии и послужила импульсом для
создания новых нормативных поэтик во Франции, Испании,
Англии и Германии [Сгосе 1946, р. 493]. На этом фоне — на фоне
возникновения новых жанров и освоения старых (так в 1515 г.
Джанджорджо Триссино создает свою «Софонисбу» — первую
«правильную» трагедию по греческому образцу, написанную
по-итальянски)160 перечень сфер, недоступных народному языку»
оказывается столь невелик, что Франческо Флоридо вынужден
был ограничиться упоминанием двух областей, где
превосходство латыни казалось ему неоспоримым: исторических
сочинений и торжественных речей, то есть именно тех прозаических
160 «Софонисба» была опубликована в 1524 г. с посвящением (его русский
перевод см. в [Литературные манифесты, с. 31-32]), в котором автор объясняет, что
он следовал канонам греческой трагедии, состоящей, по Аристотелю, из шести
частей («Поэтика» Аристотеля была переведена на латинский язык в 1498 г., а в
1508 г. уже упоминавшийся знаменитый венецианский издатель Альдо МануДи°
опубликовал греческий оригинал), а также объясняет, почему он предпочел ита"
льянский язык латинскому.
иасгпь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 229
яНров, которые особенно культивировались учеными гуманис-
YVT r 161
тами XVI в. .
2. ДРУгая тема, тема сравнительного достоинства языков,
относится к числу наиболее запутанных, поскольку понятие
«достоинства» предполагает оценку самых разнообразных
(положительных) качеств языка, и шкала ценностей, с которыми эти качества
соотносятся, включает самые разные категории логического,
этического, эстетического и собственно лингвистического характера.
Все эти качества рассматриваются в одном ряду и, как правило,
отождествляются с имманентными свойствами, присущими
данному языку. Это вечная тема, всплывающая — в той или иной
форме — всякий раз, когда языковое сознание сталкивается с
фактом существования другой лингвистической системы, будь то
другой язык или другой вариант того же языка (локальный,
социальный, стилистический и т. п.). Как мы помним, у Данте в основе
сравнения достоинств латинского и народного итальянского
языка лежала триада главных человеческих ценностей — истины,
добра и красоты. В спорах XVI в. преобладают риторические
критерии оценок и на одно из первых мест выдвигается понятие
«богатства» языка (лат. copia, итал. richezza)162.
Под «богатством» обычно понимают объем словаря данного
языка, его понятийный состав и разнообразие лексических средств
161 Напомним, что к этому времени уже была издана «История Флоренции»
(1532) Макьявелли, занявшая свое место среди памятников итальянской
художественной прозы (в 1564 г. вышел ее латинский перевод). Об использовании обоих
языков в ораторском красноречии см. [Rossi s.a, p. 96 sqq].
162 Отметим кстати, что Данте никогда не пользуется понятиями богатства-
бедности по отношению к сравниваемым языкам. Показательно также, что св.
Иероним, отмечая бедность (paupertas) латинского языка в сравнении с
греческим, говорит при этом не о богатстве греческого, а о его «выразительности»
(facundia). Этих примеров безусловно недостаточно, чтобы делать какие-то
обобщения, но они наводят на мысль о том, что оценочные характеристики языка
опираются на определенную систему этических ценностей, которая складывается
Из Универсальных категорий (общечеловеческих ценностей), а кроме того,
включает в себя ценности, признаваемые таковыми только в данной культуре.
Отсутствие слова «богатство» в ряду положительных качеств языка у св. Иеронима и
Данте, скорее всего, объясняется тем, что ни в христианской этике, ни в
рыцарской культуре дантовского времени богатство не рассматривалось как
достоинство человека. Этой проблематики мимоходом касается Э. Ауэрбах в связи с ана-
лизом «смиренного» (umile) стиля св. Франциска [Ауэрбах 1976, с. 171]. Интересно,
т° Спероне Сперони, отдавая предпочтение среднему стилю, называет его в «Ди-
логе о риторике» самым совершенным и достойным (virtuoso) и определяет — в
°чном соответствии с аристотелевской дефиницией добродетели — как середину
ежду избытком и недостатком [Speroni 1912, р. 105]. На необходимость изуче-
Ия генезиса стилистических категорий языка в их отношении к нравственно-
1 ооИгиозньш нормам обращает внимание современный итальянский ученый [Marti
1У80. р. 26].
230 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
выражения. Возражая своим потенциальным оппонентам,
убежденный противник «бесплодной латинской учености» Леонардо да
Винчи замечает в этой связи: «В моем родном языке столько
разных слов, что в пору горевать о том, скольких вещей ты еще не
знаешь, а не сокрушаться о нехватке слов для выражения всего
того, о чем ты думаешь» [Orlando 1973, р. 610]. «Латинисты» же,
напротив, не упускают случая упрекнуть народный язык не
только в бедности словаря, но и в бедности флексий, стихотворных
размеров и даже в «отсутствии спряжения» (!). «Что же это за
язык, — восклицает Ф. Флоридо, — в котором у имени
существительного всего два окончания — окончание единственного числа и
множественного, как будто мы в Африке или Скифии»163 [Sabbadini
1886, р. 356]. Единственное, чем может, по его мнению,
похвастаться итальянский язык, это наличием артикля, которого нет в
латинском.
Возражая всем хулителям народного языка, Клавдио Толомеи
(о лингвистических трудах этого ученого пойдет речь дальше)
перечисляет те особенности грамматики итальянского языка, для
которых нет соответствия в латинском. Среди них он называет
артикль (articulo), определяя его значение: артикль служит не
только для дифференциации грамматического рода и числа имени
существительного, но и придает слову, перед которым он
ставится, значение более определенной вещи; затем называет энклитики
(particelle affisse), которых также не было в латинском; отмечает
особое, отличное от латыни, строение тосканских слов (testura de
le parole toscane) и построение фразы. По поводу отсутствия
падежной флексии в итальянском, иногда, действительно,
затрудняющего понимание смысла, т. к. не всегда ясно, какое
существительное означает субъект действия, а какое объект («кто делает, а
кто страдает»), он замечает, что те отношения, которые в
латинском языке выражаются посредством изменения окончаний
имени, в тосканском передаются при помощи разнообразных
«частиц» (particole), которые ставятся перед именем (напр., la porta,
de la porta, a la porta, da la porta, т. е. 'дверь', 'двери', 'у двери',
'от двери' и т. д. )164. Кроме того, в категории местоимения
прямой (dritto) и косвенный падеж (piegato) различаются: io 'я', di
163 «Скифией» в эпоху Возрождения называли Россию. Ср. у Помпония Лета в
путевых заметках о его путешествии на восток: «В пределах Сарматии говорят на
семи разных языках, из которых наиболее распространен скифский, именуемый
русским, а наименее — леттонский; язык скифов — славянский» [Забугин 1914,
с. 78].
164 Ср. сходную трактовку падежа в сопоставлении с латинской флексией в «Ла-
тинско-французской грамматике» Жака Дюбуа (он же Сильвиус, ок. 1478-1555)
[Chevalier 1968, р. 101-102].
b II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 231
те 'меня'; tu 'ты', di te 'тебя' и т. д. Подчеркивая
грамматические особенности, отличающие новый язык от латинского, Толо-
мей находит этим особенностям соответствия в других языках,
сопоставляя итальянский артикль с греческим, а способ
выражения падежных отношений при помощи предлогов в итальянском —
с аналогичным явлением в древнееврейском языке [Cesano, p. 231 —
247]. Здесь следует обратить внимание на то, что речь идет только
о типологическом сходстве, а не о генетическом родстве языков.
Далеко не все авторы — участники полемики о языке — так
подробно останавливаются на анализе лингвистических фактов,
как это делает Толомеи, а оценивают в основном литературные
достоинства латинского и народного языка (благородство,
изысканность, элегантность, изящество и т. п.) и на восхваление этих
качеств употребляют все свое красноречие.
Наряду с представлениями о превосходстве одних языков над
другими в полемике о языке XVI в. высказывается также мысль о
принципиальном равенстве всех языков; эту точку зрения чаще
всего отстаивают философы, продолжающие тем самым линию
ранних христианских богословов, которые и сформулировали эту
идею впервые. Кроме того, эта точка зрения пользовалась
популярностью среди математиков и представителей естественных наук,
которые — имея дело с абстрактными величинами и
эмпирическими фактами — могли успешно заниматься своим делом вне
традиционной науки и без классического образования. Враждебное
отношение к официальной науке и ее корпоративному языку со
стороны художников и практиков наметилось уже в XV в. — в
период наивысшего подъема и наибольшего влияния гуманистов —
поборников латинской образованности. Людям другого сословия
и другого склада мышления, среди которых было немало
талантливых самоучек, претила сама постановка вопроса о
самодовлеющей ценности языка, поскольку язык не был для них ни целью
познания, ни средством самовыражения, а в первую очередь
служил инструментом для изложения мысли.
Выдающийся итальянский математик Никколо Тарталья
(ок. 1499-1557), который не знал древних языков и не умел
выражаться «по-тоскански», поскольку был родом из ломбардского
города Бреша, старался объяснить ученым, что «в диспутах по
Математике и отдельным ее дисциплинам латынь имеет так же
мало значения, как и арабский и халдейский языки, а что дело
иДет в этом случае о собственном языке математики
(«математическом» языке. — Л. С.)у который не является ни предметом ри-
ТоРики, ни грамматики» [Олыыки 1933-1934, III, с. 69].
В среде гуманитариев старой классической выучки, напротив,
Доминировала идея неравенства языков, которое они связывали
232 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
не с уровнем развития того или иного литературного языка и
объясняли не историческими причинами, а рассматривали как
внутренние, предопределенные самой природой качества языков. Раз-
личия между языками они ставили на один уровень с различиями
между благородными и неблагородными металлами, полезными
растениями и сорняками, разными сортами злаков и т. п. В
«Диалоге о языках» Спероне Сперони против этого распространенного
убеждения выступает Перетто-Помпонацци. Возражая своему
оппоненту Иоану Ласкарису, мантуанский философ говорит: «Я
твердо убежден, что язык каждой страны — будь то арабский или
индийский, язык Рима или Афин — обладает одинаковой
ценностью (valore), поскольку все они образованы смертными по их
разумению и призваны служить одной цели; поэтому я бы
поостерегся на вашем месте рассуждать о языке как о предмете, созданном
природой, ведь создаются и регулируются языки людьми, их
искусством (artificio) и взаимным соглашением (a bene placito);
никто языков не сеет и не высаживает, но мы все пользуемся ими как
свидетельствами нашего духа, передавая друг другу то, что
схватываем мыслью (significando tra noi i concetti deirintelletto)» [DL,
p. 323-324]. Подобно тому как христианские философы были
убеждены в том, что Слово Божие несет в себе истину, на каком
бы языке оно ни проповедовалось, П. Помпонацци убежден, что
природа вещей едина во всех четырех частях света, а потому и
наука о природе по сути своей остается единой, на каком бы
языке она ни излагалась.Что же касается многообразия языков,
то причины языковых различий предопределены не природой
самой по себе, а обусловлены тем, что разными людьми движут
разные желания. Это смешение различных волеизъявлений
(voglie) смертных, названное в Писании Вавилонским
столпотворением, и есть, по мнению Помпонацци, причина разнообразия
языков165.
3. Наряду с количественным критерием богатства/бедности
в спорах XVI в. широко обсуждается и приобретает неожиданный
поворот вопрос о такой категории, как «чистота языка».
Античные риторики рассматривали это качество как главное
достоинство речи. По мнению Дионисия Галикарнасского (I в. до н. э.)>
например, все прочие достоинства — ясность, краткость,
уместность, красота — лишались всякого смысла, если не соблюдалось
основное условие — «чистота словарного состава и эллинский ха-
165 Тема разнообразия языков в связи с переосмыслением мифа о Вавилонской
башне в языкознании XVI в. рассматривается в [Ceard 1980], автор анализирует
главным образом взгляды французских ученых — Шарля де Бовеля (1479-1567)»
Клода Фуше (1530-1601), Клода Дюре (1565-1611) и др. См. также [Mathieu-
Castellani 1982].
апсть II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 233
оактер речи» [Античные теории, с. 191]. Цицерон распространял
это требование (следование «латинскому характеру» речи) на все
уровни языка, не ограничиваясь только словоупотреблением. По
этому поводу в трактате «Об ораторе» он пишет: «...для чистоты
латинской речи следует позаботиться не только о том, чтобы
подбор слов был безупречен, и не только о том, чтобы соблюдение
падежей, времен, рода и числа предохраняло речь от сбивчивости,
бессвязности и беспорядка, но необходимо управлять и дыханием,
органами речи и самым звуком голоса» [Об ораторе III, 11.40]
(пер. Ф. А. Петровского).
Сохранение характера языка, присущего данному этносу,
провозглашалось, таким образом, главным эталоном речевой
деятельности, и для обозначения этого понятия и греки, и римляне
пользовались соответствующими терминами — греч. ёААт^юцбд, лат.
latinitas. В этом контексте понятие «чистоты языка» (sermo purus)
выступает как категория нормы, действующая в сфере
литературной речи и оберегающая систему (весь язык) от иноязычных
влияний и авторского произвола, т. е. от всевозможных пороков (vitia),
называемых общим термином «варваризм»166.
В спорах XVI в. чистота языка становится главным
критерием сравнения достоинств двух языков — латинского и народного.
В борьбе мнений центр тяжести переносится с оценки
конкретного речевого высказывания на лингвистическую систему в целом.
В этой связи необходимо иметь в виду, что в эпоху Возрождения
была выработана общая точка зрения (разделявшаяся всеми
филологами, независимо от их позиции) на происхождение
итальянского языка, согласно которой решающую роль в процессе его
образования сыграли языковые контакты — смешение латыни с
варварскими языками германских завоевателей, многократно
вторгавшихся на территорию Италии начиная с V в.167.
Идея порчи языка в результате непосредственных контактов,
общения с «другими» стала предметом широкого обсуждения еще
в XV в. в связи с обнаружением цицероновского трактата «Брут»,
Рукопись которого была найдена в 1421 г. и начала быстро
распространяться в многочисленных списках [Sabbadini 1905, р. 100
S(M]. В этом трактате (46 г. до н. э.), представляющем собой
исторический очерк римского красноречия, Цицерон относит владе-
и термине latinitas и эволюции понятия «латинский характер речи» см.
i^1 18891' tDl'az У Diaz 19511-
О социоэтнической истории Италии в период остготских и лангобардских
авоеваний и разных точках зрения, существующих в науке по поводу влияния
ГТ1?Манского элемента на общественные отношения итало-римлян, см., например,
Ш ервуд 1989]; о взаимодействии с латинским языком в теориях XV-XVI вв. см.
IMarazzini 1987].
234 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ние правильной латинской речью (locutio emendata et latina) к
тем далеким и благословенным временам, когда «язык был так
же чист, как и нравы». «Тогда, — говорит Цицерон устами
Аттика, — почти все, кто не жил вдали от Рима и чью речь не испорти-
ло какое-нибудь местное варварское наречие, говорили
правильно. Но, конечно, с течением времени речь становилась хуже как в
Риме, так и в Греции. Ибо как в Афины, так и в наш город
стекались из разных мест люди, говорящие неправильно. Оттого и
почувствовалась необходимость очистить язык и пережечь его на
огне неизменных правил, а не следовать искаженным обычаям
общего употребления» [Брут, 258] (пер. М. Л. Гаспарова).
Мысль об изначальной чистоте языка и, следовательно, о
природном совершенстве языка, которое достигается не путем
целенаправленного изучения, а передается по наследству как
драгоценный дар, которым владеет данный народ от природы (ср.
типологическую параллель с концепцией «языка благодати» в
теориях божественного происхождения языка), прочно вошла в
обиход научных споров и, как мы увидим дальше — на примере
дискуссии по вопросу об итальянском языке, — выдвигалась в качестве
основного преимущества «своего» языка сторонниками
тосканской нормы. Что же касается вопроса об итальянском народном
языке в его отношении к латинскому, то в этой перспективе
итальянский оказывался языком «смешанным» и «нечистым» по
определению. «Латинисты» на этом основании отказывали
итальянскому в статусе самостоятельного языка, считая его просто
испорченной латынью — смесью из латинской и разноязычной
лексики в сочетании с примитивной грамматикой. Иными
словами (если перевести эти рассуждения в область более привычной
для нас терминологии), новый язык представлялся гуманистам
чем-то вроде креольского языка, сложившегося в определенной
ситуации двуязычия (латино-германского) и явившегося крайним
проявлением конвергенции, в ходе которой образовался сильно
упрощенный вариант латыни, ставший теперь
общеупотребительным языком Италии. Все доводы «латинистов» против
итальянского и их активное сопротивление распространению и изучению
этого языка являются производными от этой концепции, в основе
которой лежит противопоставление, сопоставимое с позднейшими
представлениями об органическом и неорганическом развитии
языка168, и — соответственно — сопоставление двух
лингвистических систем как результатов разных путей развития.
168 Ср. шухардовский термин «смешение языков» (и его полемическую
направленность в связи с представлениями об органической сущности языка, обсуждав"
шимися в конце XIX в.) и сменивший его термин «языковые контакты» (А.
Мартине, У. Вайнрайх и др.).
ъ II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 235
убежденным сторонником этого укоренившегося в ученой
гуманистической среде отношения к народному языку как к
неполноценной лингвистической системе выступал Франческо Флоридо
(1511-1548) — последний яркий представитель ученого
гуманизма «старого», классического толка и первый серьезный
историограф итальянского гуманизма [Sabbadini 1886, р. 356]. Чтобы
лучше понять, насколько сильным было противостояние итальянскому
языку еще в первой половине XVI в., и, с другой стороны,
почувствовать полемический характер всей культуры Возрождения, в
контексте которой questione della lingua является одним из
постоянных эпизодов в борьбе индивидуальных мнений, позволим себе —
нарушив порядок изложения вопроса — остановиться несколько
подробнее на деятельности этого ученого.
Ф. Флоридо, называвший себя Сабинцем (по месту своего
рождения), начинал образование в Риме, затем в течение семи лет
изучал право в Болонье, переводил с греческого Гомера169,
Плутарха и Лукиана, а заинтересовавшись теологией, принялся за
изучение древнееврейского. Примечательной чертой биографии
этого ученого является то, что за свою недолгую и полную
драматических событий жизнь он успел высказаться по всем главным
вопросам, которые были предметом споров среди гуманистов
Возрождения, и названия его трудов могли бы служить своего рода
исторической справкой, отражающей и содержание и даже
хронологию этих споров. В давнем, начатом еще Петраркой споре (Rerum
familiarurriy V), кого из латинских комедиографов следует ставить
выше, Плавта (ок. 250-184 г. до н.э.) или Теренция (185/195-
159 г. до н.э.), Флоридо отдает предпочтение архаичному Плавту
и пишет «Апологию против хулителей Плавта». По поводу не
менее традиционного для культуры Возрождения вопроса о
юридической латыни (с критикой которой выступали Петрарка, Бок-
каччо, Леонардо Бруни, Поджо Браччолини, Лоренцо Валла и др.)
°н высказывается в «Книге о толкователях гражданского права»
We iuris civilis interpretibus liber) и, возражая против многочис-
Ленных нападок на варварский язык законов, замечает, что
варварскую латынь можно услышать сегодня не только в школе
права. «Загляните к нашим философам, — пишет Флоридо, — и вы
Ужаснетесь, услышав жаргон, на котором они там изъясняются,
Огляните в школы теологии, и вы услышите, что там читают не
Пятого Иеоронима и не блаженного Августина, а Оккама и Кап-
5^£ло^загляните, наконец, в любую латинскую школу — там тоже
Флоридо перевел на латынь латинским гексаметром первые восемь книг
, ДИссеи»» которые считаются одним из лучших переводов (изданы в Париже в
44 г. с посвящением королю Франциску I) [Sabbadini 1886, р. 339].
236 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
будут проходить не Цицерона с Вергилием, а грамматику
Антония Небрихи или какого-нибудь Деспаутерия»170 [Sabbadini 1886
р. 342].
Флоридо решительно отвергал языковую программу «цице-
ронианцев», провозгласивших «вождя латинской прозы» Цицеро-
на единственным образцом, достойным подражания. Приняв
сторону Эразма и выступив в его защиту в полемике со своим
соотечественником Стефано Долето (Liber adversus calumnias Dole-
ti— «Книга против клеветнических выпадов Долето»), он — в
отличие от практичных «цицеронианцев»171 — относит к
понятию «хорошей» латыни три периода ее развития: архаический
(Плавт), классический (Цицерон) и серебряный век (Плиний
Старший), считая, что язык начал портиться только в послеквинтили-
ановскую эпоху. В своем главном труде, «Защитительная речь
против хулителей латинского языка» (Apologia adversus linguae
Latinae calumniatores)y одна из частей которого посвящена
истории гуманизма «от Петрарки до Флоридо», автор изложил свою
точку зрения на языковую ситуацию Древнего Рима (о споре по
этому поводу см. Приложение II наст, работы). Флоридо
совершенно справедливо полагает, что римский народ и римские
писатели пользовались одним языком, ведь и сейчас народ прекрасно
понимает язык Боккаччо и Ариосто, хотя изъясняется иначе, чем
они. Несомненно, продолжает Флоридо, различия такого же
характера существовали и в древности между литературным
языком и разговорной латынью, и еще большие расхождения должны
были наблюдаться между речью горожан и селян. Однако эти
расхождения, примеры которых могли быть многочисленными, —
170 Рядом с именами известного схоласта XIV в. английского философа
Уильяма Оккама и испанского гуманиста Антонио Небрихи (ок. 1444-1532) Флоридо
называет двух своих современников — менее знаменитого доктора теологии из
Бреши Анджело Капреоло (ум. 1512) и менее значительного (для итальянцев)
фламандского грамматика Иогана Деспаутерия (Johannes Despauterius или Jan
van Pautern, 1460-1520) (о нем см. выше: с. 197).
171 Следует иметь в виду, что подражание (imitatio), которое в античных
риторических школах было одной из составных частей обучения оратора, в эпоху
Возрождения стало единственным способом овладения «живым» латинским
языком, поэтому культ Цицерона свидетельствует не столько о литературных вкусах
его многочисленных поклонников, сколько о стремлении облегчить задачу,
сверяя свое словоупотребление со словарем одного писателя. Сходные причины
лежат и в основе «петраркизма», экспансия которого в XVI в. знаменует не
становление определенного поэтического направления, а использование Петрарки в
качестве основного ♦школьного» автора в ситуации, когда обучение родному
языку еще не стало предметом формального образования. Этим обстоятельством, с
нашей точки зрения, и объясняется небывалый спрос на Петрарку в первой
половине XVI в. (с 1517 по 1538 г. выходило по два издания Петрарки в год [De Bias1'
p. 394]).
пасть II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 237
апример, в городе пиявку называли hirudo, а в деревне sanguisuga
^sanguis + sugo 'кровосос'), горожане говорили fimus ('навоз,
нечистоты'), а крестьяне laetamen ('навоз, удобрение'), — касались,
по мнению Флоридо, разницы в словоупотреблении, а не
свидетельствовали о разных языках, на которых говорили в городе и в
деревне.
Возвращаясь к понятию «чистоты» языка и проблеме «смешения
языков», которые постоянно обсуждались в спорах XVI века,
следует обратить внимание на тонкие наблюдения Ф. Флоридо,
содержащиеся в его замечаниях по поводу условий,
благоприятствующих сохранению чистоты языка. Латинский язык, как отмечает
ученый, смог избежать германского влияния только в самых
глухих уголках Лация и в маленьких деревнях в окрестностях Рима,
где и по сей день говорят на языке, почти не отличающемся от
латинского, несмотря на грубость этих местных наречий (ср.
концепцию крестьянского языка у В. Боргини, см. ниже с. 342-343).
Таким образом, как мы могли убедиться, лингвистический
анализ Флоридо учитывает основные факторы, влияющие на
эволюцию языка: и изменения во времени (архаическая, классическая,
серебряная латынь), и функционально-стилистическую
дифференциацию (язык писателя/обиходно-разговорный язык), и
территориальные и социальные различия (городская/деревенская речь),
но рассматривает их с определенными ограничениями — только
по отношению к «настоящему» языку, каковым, с его точки
зрения, является латынь от Плавта до Квинтилиана.
Оппоненты Флоридо и его единомышленников видят свою
главную задачу в том, чтобы опровергнуть идею порчи и пересмотреть
понятие чистоты языка. В связи с этим высказывается мысль о
том, что все языки по своей природе не могут быть абсолютно
чистыми, беспримесными образованиями и возникают в
результате смешения разных языков. Возражая против утверждения Ама-
сео о «простом и чистом составе языка, возникшего в древнем
Лации», Джироламо Муцио в трактате «В защиту народного
языка» говорит, что язык древнего Лация также возник в результате
смешения многих [племенных] языков: языка аборигенов,
пеласгов, выходцев из Фессалии, Трои и различных греческих городов
l^L, p. 292, п. 39]. Что касается порчи языка, то другой ученый,
сиенский филолог Клавдио Толомеи (1492-1556), подходит к это-
МУ вопросу с философских позиций. В трактате «Чезано» (II Cesanoy
Итальянские гуманисты XVI в. (следуя традиции, восходящей к Платону)
/ СТо называли свои ученые сочинения по имени главного участника диалога
ак правило, выражающего точку зрения автора) или по социальному положе-
10 одного из собеседников. Таковы трактаты Толомеи «Полито», «Чезано» (бо-
е полное название ♦Чезано о тосканском языке»), «Эрколано» Б. Варки или
238 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
изд. 1555)172 он рассуждает о том, что явление, обозначаемое
итальянским словом corruzione (лат. corruptio), должно воспринимать-
ся как негативное ('распад', 'порча') только в тех случаях, когда
речь идет о нежелательных изменениях, происходящих в одном и
том же объекте. Так, можно говорить об испорченном языке ц0
отношению к той латыни, которой пользуются многие его
современники, т. к., по его мнению, в их устах она утратила и чистоту
(candore, purita), и былое величие языка древнего Рима (ср. выще
суждение Ф. Флоридо о варварском характере «ученой» латыни).
Но если в результате распада одного объекта (латинский язык)
возникает совершенно другой, новый объект (итальянский язык),
то о нем уже нельзя говорить как о чем-то испорченном. К новому
предмету и, в частности, к новому языку надо подходить как к
совершенно самостоятельному и автономному объекту.
Возникновение новых языков в процессе распада других языков
представляется Толомеи вполне естественным и закономерным явлением.
Источник этих рассуждений очевиден, и само соседство двух
терминов corruzione и generazione, конечно же, служило для
образованных читателей диалога прямой отсылкой к латинскому
переводу аристотелевского трактата De generatione et corruptione («О
возникновении и уничтожении»), в котором в терминах generatio
описывалось возникновение субстанциональных различий между
природными объектами (в отличие от «акцидентальных»
изменений, обозначаемых термином alteratio) [Tavoni 1984, p. 160-168].
Сходные рассуждения, но уже с прямой ссылкой на
Аристотеля, содержатся в трактате флорентийца Бенедетто Варки (1503-
1565) «Эрколано» (L'Ercolano, изд. 1570)173, где один из
обсуждаемых вопросов (quesito VI) так и формулируется: «Является ли
же —«Хранитель замка» Дж.Триссино и необыкновенно популярный в ренессан-
сной Европе «Придворный» Б. Кастильоне. Об интересе современных ученых к
трактату «Чезано» свидетельствуют два критических издания текста, вышедших
почти одновременно [Tolomei 1974, Tolomei 1975]. В настоящей работе мы
пользовались текстом, включенным в хрестоматию «Лингвистические дискуссии XVI
века» [DL, р. 185-275], составитель которой Марио Поцци учел оба современных
издания трактата. В ссылках мы сохраняем название трактата в квадратных
скобках, указывая стр. по этому изданию.
173 Диалог Варки, (его полное название: L'Hercolano, dialogo nel qual si ragiond
generalmente delle lingue e in particolare della Toscana e della Fiorentina, composto
da lui sulla occasione della disputa occorsa tra 7 Commendator Саго е М. Lodovico
Castelvetro) был написан в 1563 г. и регулярно переиздавался, выдержав
наибольшее количество изданий (три в XVII-XVIII вв. и пять в XIX в.) по сравнению
с другими трактатами XVI в. о языке. Миланское издание 1804 г. в серии «Classic!
italiani» воспроизведено фототипическим способом (Милан 1979) с предисловием
Маурицио Витале, фрагменты трактата опубликованы в [DL, р. 443-596]. См. оо
этом трактате ниже с. 258-264 и рис. 2, 3.
DIALOGO DI MESSER
Benedetto Varolii,
'Rclqtuiljiragiond generalrnente delle lingue& in
parttcclare delta Tojcana/ Jella^
PIORENTINA
Compofto da lui (ulla occafionc delia diipuca occorfa tra'l Com
mcndator Caro,cM. LodouicoCaftcluctro
NVOVAMENTE STAMPATO,
Con vna TiuoIj. picnifsimi nel fine di tutce lc cofc notabili*
che псП'орсгл. й coaccngono.
Nella ftampcria di Filippo Giunri,
eFratelli, mdlx x.
Рис. 2. Первое (посмертное) издание трактата Бенедетто Варки
«Эрколано». Флоренция, 1570.
240 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысЛь
ним латинским, но испорченным и разложившимся (guasta e
corrotta)» [Ercolano, p. 77-82]. Варки отвечает на него следую,
щим образом: «Говорят, что новый народный язык — это тот щ
древний латинский, но только испорченный и разложившийся
но вы, — обращается он к своему собеседнику, — должны знать
что разложение (corruzione) одной вещи, как учит нас
Аристотель, есть не что иное, как возникновение (generazione) другой. Д
поскольку возникновение есть не что иное, как переход из
небытия в бытие, то точно так же и разложение, будучи
противоположностью возникновения, представляет собой не что иное, как
преобразование или, вернее, переход из бытия в небытие». Итак,
если латинский язык разложился, значит он перестал
существовать, а поскольку всякое разложение сопровождается
возникновением, то народный язык, напротив, обрел свое бытие. Из этого с
необходимостью следует, что народный язык, будучи языком
живым (viva), не может составлять одно целое с исчезнувшим (spen-
ta)174 латинским, а существует сам по себе [Ercolano, p. 77].
Стремление доказать, что народный язык является новым
самостоятельным языком, становится одной из главных причин,
побуждающих итальянских ученых внимательно изучать и
описывать свой родной язык — совершенно новый объект для
филологической науки. И если Бенедетто Варки, который много
времени уделял изучению философии (занимаясь ею сначала в кругу
неоплатоников в своей родной Флоренции, а затем отправившись
на север Италии, чтобы послушать философов-аристотеликов)
ограничивается общими рассуждениями в духе прежней
схоластики, то для Клавдио Толомеи уточнение значения терминов
corruzione и generazione служило лишь отправной точкой, т. к.
без обращения к конкретным языковым фактам рассуждения о
«возникновении и уничтожении» еще ничего не доказывали. «Все
языки, рожденные при распаде других языков (che di corruzione
nate sono), — рассуждает мессер Чезано в одноименном
диалоге, — сохраняют в своем новом рождении образ и печать
распавшегося языка, и заметнее всего это сказывается в словаре (пе
vocaboli). Если бы Дело обстояло иначе и прежний язык не
накладывал бы никакого отпечатка и не оставлял ни малейшего следа»
то и нам не оставалось бы ничего другого, как признать, что один
язык исчез, а другой был создан не иначе как чудом, ибо мы
ничего не знали бы о том, из какого материала он возник и во что этот
174 О противопоставлении живых и мертвых языков, которое было осмыслено И
впервые сформулировано в лингвистике Возрождения см. [Faithfull 1953]. В ка"
честве одного из наиболее ранних примеров терминологического употребление
lingua viva vs lingua morta Г. Фэйсфул приводит «Письмо в защиту народног
языка» А. Читолини, опубликованное в Венеции в 1540 г. (с. 281).
77. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 241
р0дный язык новым и самостоятельным языком или же древ-
материал преобразовался (la materia di quella convertita e
trasformata in quest'altra)» [Cesano, p. 234-235]. Тем не менее
Толомеи считает, что между латинским и новым народным
языком гораздо больше различий, нежели общих черт, и видит свою
задачу в том, чтобы выявить эти различия, ибо сходство языков в
данном случае не нуждается в специальных доказательствах и —
будучи очевидным — никем не оспаривается175.
Главное, что отличает один язык от другого и делает его
непохожим на все остальные, — это звуки и элементы (о значении
термина «элемент» см. ниже с. 372—374, 388), поскольку именно
они «оформляют нашу речь и как бы образуют ее ткань» (formano
е quasi tessono il parlar nostro). Как проницательно замечает
ученый, дело здесь не в том, что языки различаются по звукам и по
количеству элементов (хотя и это важно), а в том, что они
различаются самими принципами организации звуковой материи
языка. Толомеи, разумеется, не называет это особое, присущее только
данному языку устройство, фонетической системой, используя для
передачи этого значения такие слова, как здание (edifizio),
строение (fabbrica), архитектура, и сравнивает тосканскую фонетику
с коринфским ордером, а латинскую — с дорическим176 (там же,
с. 236). Свою мысль о различии фонетических систем
латинского и нового народного языка он поясняет следующим примером.
Если в латинском языке сочетание «1» с предшествующим
согласным и последующим гласным является обычным и
встречается очень часто (напр. plenus 'полный', clavis 'ключ' и т. п.), то
в тосканском оно используется крайне редко, и на месте
латинского «1» там почти всегда оказывается «плавный i»: pieno, chiave
и т. д. «Возьму на себя смелость утверждать, — рассуждает да-
Напротив, ♦независимость» итальянского языка нуждается в постоянной
защите, и чтобы отмежеваться от ♦латинского фундамента» и утвердить
самоценность национального языка, итальянцам, по всей вероятности, потребовалось
приложить гораздо больше усилий, чем их романским собратьям, используя весь
аРсенал испытанных приемов риторического убеждения. В трактате ♦Чезано» мы
находим реминисценции многих дантовских мотивов, например, вновь
появляется метафора слуги/хозяина применительно к латинскому и народному языку.
*Ьсли мы вглядимся в природу тосканского языка (toscano idioma), — пишет
Толомеи, — то обнаружим в нем столько собственных сокровищ, что их будет
нолне достаточно, чтобы этот язык стал сам себе полновластным хозяином, а не
сполнителем приказаний языка латинского, как продолжают считать некото-
Р иГ [Cesa™>, p. 235].
Интересно отметить, что Джорджо Вазари (1511-1574) в своих знаменитых
*Лхизнеописаниях» неоднократно подчеркивает, что строгое различение ордеров
l rdini) и осознание той разницы, ♦которая между ними существует»,
обнаружился лишь в новой архитектуре (т. е. начиная с XV в.), в чем он усматривает
Помненный прогресс современного искусства [Вазари 1963, II, с. 9, 13].
242 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслъ
лее Толомеи, — что в первоначальный период, когда жители Тос-
каны еще говорили на своем чистом языке, это было универсалу
ным и непреложным правилом (universale e verissima regola), a
все другие случаи употребления или написания, такие как plora
'(он) плачет', implora 'умоляет'> splende 'сверкает', plebe 'плебс' и
тому подобные, являются примерами слов, услышанных не на
площадях тосканских городов, но введенных в обиход писателями
или каким-нибудь другим талантом, который захотел обогатить
язык и взял нужное ему слово в том виде, в каком он нашел его в
латинском, не сообразуя его с формой тосканской речи... А если
бы эти слова были унаследованы нашим языком в те стародавние
времена, то следуя общему употреблению, их несомненно
произносили бы piora, impiora, spiende и pieve; это последнее слово pieve
действительно существует в народном языке, так называют
сельскую приходскую церковь, предназначенную для отправления
религиозного культа простым народом (plebe)» [Cesano, p. 237-238].
В полемическом трактате «Чезано», рассчитанном на широкую
аудиторию, автор тщательно отбирает самые яркие и эффектные
примеры, доказывающие самобытный характер нового языка,
типа только что рассмотренных нами этимологических дублетов
(тосканская форма pieve / книжная plebe < лат. plebe(m)), в
других же работах (большая часть которых до недавнего времени
оставалась неизвестной) он стремится к более полному охвату
материала (см. ниже с. 363-364), чтобы доказать регулярный
характер отмеченных фонетических явлений на большом
количестве примеров.
4. Утверждение «независимости» итальянского языка от
латинского языка-фундамента177 и провозглашение самоценности и
самобытности нового языка неизбежно ставит вопрос о выявлении
законов, управляющих этим языком, и требует разработки
соответствующих правил. При сравнении двух языков с точки зрения
наличия/отсутствия таких правил язык старшей культурной
традиции всегда оказывается в более выигрышном положении, и
«латинисты» XVI в. часто используют этот бесспорный аргумент,
противопоставляя твердую латинскую норму неупорядоченному узусу
современного языка. Показателен в этом отношении упрек, бро-
177 Ср.: «ведь когда на месте одного дома, разрушившегося до самого
основания, строится другой, который отличается от прежнего и высотой потолков, я
расположением комнат, и кладкой стен, мы воспринимаем его как новое жилье,
несмотря на то что это здание возведено на старом фундаменте, точно так же над0
относиться и к этому языку, он — новый, хотя и выстроен на латинской основе
(in su' fondamenti ... de la latina)» [Cesano, p. 235]. Ср. толкование терминов «*Р*
хитектура» языка и «структура», которыми пользуется Э.Косериу в своих
«Лекциях по общему языкознанию» [Coseriu 1973, р. 147].
а сТПь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 243
нНый Франческо Флоридо «новым» гуманистам, которые, по
го словам, даже между собой не могут договориться, где же
находится столица новоявленного языка — то ли в Тоскане, то ли при
римской курии.
Подобно тому как Данте в начале XIV в. не мог показать все
преимущества нового языка перед «потухшим солнцем» латыни в
рамках одного трактата «Пир» и для ответа на главный вопрос —
вопрос об устойчивости языка и его неизменном характере — ему
потребовалось обратиться к теоретическому осмыслению живой
стихии естественного языка, посвятив этому специальный
трактат («О народном красноречии» I), так и в XVI в. обсуждение
вопроса об упорядоченном характере языка не укладывается в рамки
полемики со сторонниками упорядоченной латыни и становится
предметом отдельной дискуссии. Именно этот спор о том, каким
должен быть итальянский литературный язык, и имеется в виду
прежде всего, когда говорят о questione della lingua в Италии.
Суть культурного переворота, произошедшего в XVI в.,
который называется в истории искусств Высоким Возрождением,
хорошо уловил Я. Буркхардт в своих рассуждениях о
замечательных флорентийских историках, начавших писать по-итальянски:
«Они остаются проникнутыми в сильнейшей степени влиянием
классической древности и немыслимы вне этого влияния. Они уже
не гуманисты в тесном смысле слова, но на них лежит печать
гуманизма, и, по существу, они ближе стоят к древним
классикам, чем большинство латинских подражателей Ливия, они
граждане, пишущие для граждан, как делали древние» [Буркгардт
1904-1906, I, с. 303].
Неверно было бы видеть в языковой революции XVI века лишь
стихийный, неосознанный процесс постепенного роста числа
произведений на volgare (и по сравнению с предшествующими
веками, и по сравнению с текстами XVI в., написанными по-латыни).
Смена культурного языка происходила параллельно с осознанием
того, что, порывая с традиционным языком письменной культу-
Pbi, общество не отказывается от классического наследия антич-
ности («своего прошлого» с точки зрения итальянцев), а наоборот
восстанавливает нарушенное было равновесие естественных язы-
к°вых отношений, существующих в человеческом общежитии, т. е.
0 Равновесие, заботиться о котором и подобало римскому писателю.
Именно эту мысль развивает молодой миланский издатель Ан-
^Реа Кальво в своем предисловии к роману Боккаччо «Амето»
*ИзД. 1520): «...ведь если древние римляне в те времена, когда они
лавились многими и многими талантами, пользовались одним
сЗЬ1к°м (medesimo iddioma) и в повседневной речи (nel parlare
^niunemente), и в письменной, рассуждая о философии и о граж-
244 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
данском праве или о других делах, как общественных, так и час.
тных, то почему бы нам не последовать их примеру и не использо.
вать один язык и в беседах о делах повседневных, и в речи пись-
менной на какую бы то ни было тему?» [Bongrani 1986, р. 171],
Нужно заметить, что из текста предисловия А. Кальво178 и из дру.
гих материалов XVI в., которые приводит П. Бонграни, явствует
что издатели XVI в. (для обозначения книги, изданной в XVI в. -^
Чинквеченто — существует специальный термин cinquecentina)
относились к своей работе прежде всего как к деятельности по
распространению памятников итальянского языка, рассматривая
их как эталонные тексты, предназначенные для включения в
современный литературный процесс. Поэтому предисловия к
подобным изданиям тематически относятся к лингвистической
литературе179 и должны рассматриваться в одном ряду с другими, более
очевидными источниками по истории языкознания — такими,
например, как предисловия к многочисленным грамматикам XVI
в.180.
В современной итальянской историографии гуманизм XVI века
принято называть «народным гуманизмом» — umanesimo volgare.
В этом определении — народный — содержится указание на то
принципиальное отличие, которое пролегает между гуманистами
«в тесном смысле слова» и писателями XVI в. и которое так четко
и лаконично сформулировал Я. Буркхардт.
На протяжении двух столетий вся деятельность гуманистов была
направлена на возрождение латинского языка и основывалась на
всеобщей уверенности, что этот язык и есть настоящий язык
образованных итальянцев и никакой другой язык не сможет заменить
его в этой функции. Потребовались два столетия интенсивного
изучения латинского языка, прежде чем общество осознало
необходимость вернуться к обсуждению тех языковых проблем,
которые впервые в европейской культуре были сформулированы и
теоретически осмыслены Данте181.
178 Это предисловие А. Кальво (младшего брата более известного издателя и
книготорговца Франческо Кальво) впервые переиздано в книге П. Бонграни «Языки
литература в Милане во времена герцогов Сфорца» [Bongrani 1986, р. 171-
175].
Миланское издание Боккаччо было подготовлено Кальво совместно с другим Фй"
лологом Джироламо Кларичо, снабдившим текст грамматическим комментарием
(Osservationi di volgare grammatica).
179 Предисловия прославленного Альдо Мануцио (1450-1515), изданные Дж. Ор*
ланди [Orlandi 1975], к сожалению, остались для нас недоступными.
180 О необходимости привлечения самых разнообразных источников, в частя0*
сти предисловий к другим изданиям (а не только к памятникам итальянской
литературы), см. [Trovato 1990], там же (с. 60-63) рассматриваются предисловия
к новым переводам Библии на итальянский.
181 В «Очерках по истории лингвистики» авторы называют в качестве предИ1е'
ственников Данте два других имени — Чимабуэ и Гвидо Гвиницелли: «Ho еще Д
тъ //. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 245
Questione della lingua в истории языка и
в историографии лингвистики
В изложении «спора» об итальянском языке (questione della
,-ngUa) мы вынуждены считаться с уже сложившейся традицией
освещения этого вопроса в итальянской науке, учитывать
критическое отношение к этому феномену как внутри Италии, так и за
ее пределами, и главное — стараться не повторять тех ошибок,
которые возникают при попытках выдать основные тенденции
развития итальянского литературного языка, наметившиеся к
концу XVI в., за главные достижения итальянской
лингвистической мысли этого периода. Типичным примером такого qui pro
quo является вывод, к которому приходят авторы «Очерков по
истории лингвистики». Вклад итальянских ученых XVI в. в
науку о языке, по их мнению, заключается в «идее о возможности
законодательного регулирования языка», получившей затем
распространение в европейском и мировом языкознании; своеобразие
итальянской лингвистической мысли проявляется в
«характерной для теории языка» этого периода связи лингвистических и
эстетических проблем; в итоге авторы выражают свое сожаление
по поводу того, что «законодательное регулирование
итальянского языка сопровождалось крайними проявлениями пуризма как
по отношению к латыни (sic!), иноязычным заимствованиям, так
и по отношению к другим итальянским диалектам...» [Амирова и
ДР. 1975, с. 185].
Примером предвзятого подхода к истории языкознания (взгляд
из XX в.) может служить оценка questione della lingua, данная
ученицей Ж. Вандриеса Терезой Лабанд-Жанруа. В предисловии
Данте во Флоренции бурно расцветают искусство и литература. Чимабуэ (Ч. ди
Ueno), Гвидо Гвиницелли и другие выступают за распространение родного языка
в качестве литературного» [Амирова и др. 1975, с. 185]. Эти сведения
сообщаются без всяких ссылок, что создает иллюзию, будто бы речь идет о чем-то общеиз-
Вестном или, во всяком случае, достоверном. Между тем имя болонского поэта и
°сновоположника сладостного нового стиля Гвидо Гвиницелли (♦первый Гвидо»,
а* называл его Данте) никак не может свидетельствовать о ♦ бурном расцвете
Нтературы во Флоренции», хотя его канцоны, как и вся литературная
продукция додантовского периода на вольгаре, безусловно способствовали формирова-
ю нового литературного языка. Что же касается знаменитого художника XIII в.
имабуэ (действительно флорентийца), то о его творчестве на каком бы то ни
Ло языке (кроме живописного) ничего не известно (см., например, статью о
и м в DBI, т. 23 с. 537-544 s.v. Cenni di Pepe (Pepo)). Авторов цитируемого здесь
Део*аНИя (глава написана Б. А. Ольховиковым в соавторстве с Ю. В. Рож-
ютТвенским) по всей вероятности подвело то, что оба этих имени часто упомина-
Xl о ^ядом в связи с комментариями к ♦Божественной комедии» (Чистилище
Сл' ^"""97), где Данте говорит о том, что былую славу Чимабуэ затмил Джотто, а
тичВу Гвидо (т. е. Гвидо Гвиницелли) — ♦другой Гвидо» (т. е. Гвидо Кавалькан-
246 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыс*
к своей монографии «Вопрос о языке в Италии» автор пишет: «
хотела показать, что полемика о языке, с какой бы стороны к ней
не подходить, не заслуживает внимания ни эрудитов, ни литера.
турных критиков, ни лингвистов; дискуссия, поднятая в связи с
«вопросом о языке», была не чем иным, как пререканиями
(querelles) педантов, пререканиями абсолютно бессмысленными
поскольку спорили только о словах — итальянский,
флорентийский, язык, диалект, — а не о сути вещей, — под чем я понимаю
языковые факты» [Labande-Jeanroy 1925, р. 5]. В этом суждении,
помимо категорического тона (оказавшего влияние на последую-
щие работы, посвященные этому вопросу), обращает на себя
внимание типичная методологическая ошибка (свойственная не
только упомянутой монографии) — полная несовместимость собственной
модели специализированного знания с объектом исследования.
Лабанд-Жанруа исходит из понятия языкового факта,
выдвинутого ее временем в качестве основного критерия лингвистического
анализа (ср. трактовку этого понятия у Ж.Вандриеса,
положенного им в основу композиции трех основных частей его книги «Язык»:
Звуки. Грамматика. Словарь), но обращается при этом не к
специальным трактатам по фонетике или к итальянским грамматикам
XVI в., в которых как раз и описываются интересующие ее
«языковые факты», а к ренессансным дискуссиям о языке. Едва ли
следует удивляться тому, что публичный диспут о каком-либо
предмете может показаться взыскательному специалисту пустым
и легковесным, поскольку наблюдатель-специалист владеет иным
категориальным аппаратом, нежели участники полемики, даже в
том случае, когда и тот и другие являются современниками.
Стоит ли ради такого заранее предрешенного вывода обращаться к
изучению столь обширного материала, как лингвистические
дискуссии XVI века?
В итальянской науке контроверза о языке связывается с
периодом становления национальной нормы, в ходе которого
выдвигались и интенсивно обсуждались разнообразные языковые
программы, отражающие различные концепции литературного языка.
В этой связи лингвистические трактаты XVI в. рассматриваются
как выражение определенных позиций, занятых литераторами в
этом споре, и расстановка сил описывается следующим образом:
1. Сторонники тосканской нормы (тосканисты) и их оппоненты
(антитосканисты). 2. Среди тосканистов крайние полюса
составляют сторонники письменной литературной нормы,
ориентированной на памятники «классической» итальянской литературы XIV в.
(язык Треченто), и адепты живого флорентийского узуса (иногДа
их называют представителями крайнего натурализма). 3. СреД1*
антитосканистов, выдвигающих идею «общего языка», разлила-
тъ //. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 247
два крыла — идеологов письменно-литературного койне (lingua
^ типе по образцу общего диалекта Греции) и приверженцев
речевого обихода придворных кругов Италии (lingua cortigiana).
Яанная классификация — при всей ее условности —
представляйся исчерпывающей, поскольку учитывает все три модуса
существования языка и, таким образом, показывает, что спор идет о
правильном выборе места (город, область), времени (прошлого или
настоящего) или социума в качестве источника искомой языковой
нормы. Альтернативные языковые программы рассматриваются
при этом как прямое отражение реальных противоречий,
характеризующих языковую ситуацию и культурно-политическую
обстановку Италии XVI в.: Тоскана, начавшая в XVI в. строить свою
государственность (при Козимо Медичи), противопоставляет себя
всей остальной Италии (или наоборот, в зависимости от позиции
наблюдателя), «классическое» (итальянское) прошлое противостоит
современности, высшее общество — простому народу.
Среди участников полемики репутация главного «законодателя»
языка утвердилась за Пьетро Бембо — знатоком и ценителем
великих тречентистов, ратующим за продолжение
письменно-литературной традиции, представленной лучшими образцами старой
итальянской литературы. Венецианский аристократ, кардинал
Пьетро Бембо в вопросах нормы занял консервативную позицию.
Фактически он не принимал активного участия в дискуссии,
посвятив общей проблематике спора лишь первую книгу «Бесед о
народном языке». Однако литературный авторитет Бембо, автора
«Азоланских бесед», ставших образцом итальянской
художественной прозы Чинквеченто, сопоставимым с «Тускуланскими
беседами» Цицерона (для истории итальянского языка важно, что это
первый прозаический памятник, написанный не тосканцем по
Рождению и образованию), его общественный вес и деятельность
по изданию Данте и Петрарки (издание последнего было
осуществлено по автографам, собственноручно переписанным Бембо)
способствовали его выдвижению на роль главного реформатора
итальянского литературного языка. Языковый идеал, которым
Руководствовался Бембо в своей литературной и филологической
пРактике, воспринимался современниками как цельная и закон-
енная теория литературного языка, и в диалогах первой полови-
Ь1 XVI в. Бембо часто выступает как персонаж, отстаивающий
вою позицию в споре с разными оппонентами (он фигурирует,
апример, в «Диалоге о языках» С. Сперони, в «Хранителе Зам-
ga* Триссино, в «Чезано» К. Толомеи, в «Книге о Придворном»
• Кастильоне). Собственное сочинение Бембо — «Беседы о
народом языке», также написанное в диалогической форме, стало об-
3Дом литературного диалога для писателей XVI в. и предметом
248 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыс
комментирования (см. например, «Поправки к некоторым места*.
"Диалога о языках" Бенедетто Варки и дополнение к первой кил
ге "Бесед" Пьетро Бембо» Лодовико Кастельветро, изд. 1572).
Антиподом Пьетро Бембо (в пределах тосканской ориентации
в традиционных исторических изложениях оказывается Никксш
Макьявелли (1469-1527) — защитник живого флорентийского
узуса. Макьявелли считает «природный флорентийский» едиц.
ственным из всех языков Италии, пригодным для литературного
употребления. В своем «Разговоре или диалоге о нашем языке»
(Discorso о dialogo intorno alia nostra lingua) он, вступая в спор с
Данте, доказывает автору «Божественной комедии», что тот —
будучи уроженцем Флоренции — не мог писать ни на каком дру.
гом языке, кроме своего родного флорентийского. «Антитоскани-
стов» обычно представляет Джанджорджо Триссино, а идеологов
«придворного» языка — Винченцо Колло (или Колли) и Бальдас-
саре Кастильоне.
Что касается Винченцо Колли (ок. 1460-1508),
фигурирующего в литературных баталиях XVI в. под именем Кальметы (так
звали одного из пасторальных персонажей Боккаччо), известного
литератора и придворного, состоявшего на службе при дворах Рима,
Милана, Мантуи и Урбино, то его главное сочинение, трактат в
девяти книгах «О народной поэзии», не сохранилось182.
Концепция «придворного языка» В. Кальметы нам известна
только в пересказах — из «Бесед» Бембо и комментариев к ним
Л. Кастельветро. В изложении Бембо Кальмета считает
придворным языком тот, «на котором при римском дворе изъясняются,
но не испанский, французский, миланский, неаполитанский или
какой другой сам по себе, а из смешения их всех произошедший и
ныне всем при дворе одинаково известный» [Литературные
манифесты, с. 42]. Совсем иначе эта концепция представлена у
Кастельветро183. «Винченцо Кальмета в своей книге о народной
поэзии, — пишет комментатор Бембо, — никогда не рассуждает о
народном языке вообще, то есть о языке, на котором пишут и
прозу и стихи, но говорит только о том особенном языке, на
котором слагаются стихи... Ограничив свои рассуждения, повторяю»
только областью языка поэзии (lingua della poesia), он начинает с
182 В настоящее время некоторые из обнаруженных произведений В.
КальметЫ
опубликованы [Calmeta 1959], о теории «придворного языка» Кальметы с
[Mengaldo 1960]. аЛ
183 Лодовико Кастельветро (1505-1571) — известный филолог, комментиро*
Петрарку и перевел на итальянский «Поэтику» Аристотеля (изд. 1570), й°
критическое издание [Castelvetro 1978-1979]. Отрывки из «"Поэтики" Аристо
ля, изложенной на народном языке и истолкованной Л. Кастельветро» переве^
ны на русский язык [Литературные манифесты, с. 81-103].
ггпь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 249
го, чт0 ставит флорентийский язык превыше всех остальных
т jj^ob Италии, и советует начинающему поэту сначала овладеть
Я совершенстве этим языком и только потом — с величайшим
3сердием и разумением (giudicio) — приниматься за изучение Данте
длигьери и Франческо Петрарки. После всего этого он советует
поэту отправиться к римскому двору, где тот уже без особого
труда будет оттачивать свой язык, которому научился сначала у фло-
оентийцев, а затем у вышеупомянутых авторов, отбрасывая все
порочное, если таковое обнаружится в выученном им языке, и
вбирая все лучшее, что есть в других языках Италии. Вот этот-то
язык по той причине, что он окончательно оттачивается при
дворе, и должен именоваться придворным» [DL, р. 653].
То обстоятельство, что взгляды Кальметы по-разному
интерпретируются в разных произведениях (что в данном случае имеет
простое объяснение: Бембо был знаком с Кальметой, но, как он
признается в «Беседах», книги его не читал, а Кастельветро мог
быть знаком только с книгой, но не с автором), не является
исключением, а скорее нормой в лингвистической литературе XVI в.
Дело в том, что наиболее известные писатели и ученые,
являющиеся авторами лингвистических трактатов, часто выступают в
качестве персонажей — участников непринужденных бесед о языке,
изображенных в этих трактатах184.
Поводом к началу полемики о языке в печати послужила
публикация Триссино «Эпистолы о прибавлении новых букв языку
итальянскому» (1524). Предложение известного эллиниста
Триссино дополнить алфавит двумя греческими буквами,
содержащееся в этом «Послании» (о проблеме орфографической реформы см.
подробнее ниже), а также непривычное название «итальянский
язык», вынесенное в заглавие работы, вызвало бурю негодования
со стороны тосканцев, привыкших считать литературный язык
своим — флорентийским, тосканским. Известный писатель А. Фи-
ренцуола (1493-1543) в этом же году опубликовал свое «Изгнание
новых букв, бесполезно добавленных языку тосканскому», а
•И- Мартелли (1503-1531) — «Ответ на "Эпистолу" Триссино о при-
авлении новых букв народному флорентийскому языку». Эта
бальная фаза полемики — обмен посланиями — в следующем
Рактате Триссино «Хранитель Замка» (Castellano, 1529) изобра-
ена уже в виде диалога. Действие происходит в замке Св. Анге-
д в Риме, хранителем которого был назначен друг Триссино —
^кованни Ручеллаи (1475-1575), написавший итальянскую тра-
^ Дию по греческому образцу. Хранитель Замка пересказывает
*сли Триссино, а его собеседник Филиппо Строцци отвечает ци-
тами из Мартелли.
184 г*.
^м- примеры далее, особ. с. 255-256.
250 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
Эта установка на литературность, характерная в большей или
меньшей степени для всех диалогов о языке, значимые для чата,
телей того времени детали и аллюзии185, интерпретация чужих
точек зрения и пересказ различных мнений по обсуждаемому воц.
росу в виде прямой речи персонажей, участвующих в беседе, со.
здают определенные трудности для читателя, заинтересованного
прежде всего в «языковых фактах», — и не только для читателя
нашего времени. Так, в конце XVI в. сиенский академик Орацио
Ломбарделли (1545-1608) замечает по поводу знаменитых «Бесед
о народном языке» Пьетро Бембо: «Для них нужен читатель
хорошо осведомленный и внимательный, отзывчивый и доблестный
(valoroso), способный извлечь все те сокровища, которые будто
затонули в этом "Диалоге" и скрылись за манерой речи более чем
экстравагантной: ведь вы никогда не найдете там сразу того, что
вам нужно, если у вас не окажется под рукой свода (tavola),
составленного каким-нибудь почтенным флорентийцем для
облегчения этого чтения»186 [DL, р. 23].
Традиционный подход к освещению истории questione della
lingua сформировался в ходе изучения истории итальянского
языка. Четкий критерий классификации авторов, текстов и
концепций по их отношению к литературной норме, выработанный в
рамках этой традиции, приспособлен для совершенно
определенных целей и задач — для описания истории итальянского
литературного языка и только для этого. Ученых, которые занимаются
историей языка XVI в., по вполне понятным причинам не
интересуют вопросы происхождения итальянского языка, этрусские
древности и языковые контакты эпохи варварских завоеваний, распад
латыни и регулярный характер фонетических соответствий, как и
многое другое из того, что действительно обсуждалось в
лингвистических трактатах XVI в., было предметом споров и глубоких
разногласий, но не имело и не имеет отношения к истории
формирования итальянской литературной нормы. Историография
лингвистики до сих пор не выработала своего подхода к анализу
лингвистических дискуссий XVI в.187. Она неизменно следует все той
185 В «Хранителе Замка», например, обыгрывается предыстория самого
архитектурного памятника, задуманного как усыпальница императора Адриана и
ставшего впоследствии крепостью, переходившей из рук в руки, а затем тюрьмой.
186 В одной из недавних работ «Итальянский язык и школьное преподавание»
упоминаются два таких указателя — один предметный, другой указатель слов»
составленные одним анонимным автором к «Беседам» Бембо [De Blasi 1993, p. 395J*
187 Проблема нового подхода к questione della lingua с позиций истории
языкознания рассматривается в [Tavoni 1994, р. 151-154]. О необходимости выработать
общие принципы историографии лингвистики, которые можно было бы приМе^
нять как к отдельным «синхронным состояниям» науки, так и к различным й*
циональным традициям, см. [Бокадорова 1987, с. 15], [Алпатов 1990].
rnb ll. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 251
классификационной схеме, объединяя авторов лингвистиче-
ких трактатов по сходству их позиций в вопросах нормы, и руко-
одствуется все теми же принципами отбора материала вплоть до
Одбора цитат и языковых примеров, не осознавая при этом, что
пользуется материалом уже препарированным, разложенным —
соответствующим образом — «по полочкам» и, по сути дела,
занижается оценкой готовых результатов, добытых в другой отрасли
знания. Поэтому неудивительно, что в работах по истории
языкознания — на стадии обобщений и в отвлечении от фактического
материала, так сказать «на выходе», остается голая идея
законодательного регулирования языка (ср. цитированные выше
«Очерки по истории лингвистики»), рассматриваемая как в
теоретическом плане, так и в практическом осуществлении. Как справедливо
заметил Э. Станкевич, в «больших историях» лингвистики
сведения об итальянском языкознании эпохи Возрождения обычно
ограничиваются беглым упоминанием о Данте и о Бембо [Stankie-
wicz 1990, p. 231]. Расширение круга авторов и текстов (см.,
например, двухтомную историю «Грамматические теории
Западной Европы: 1500-1700» [Padley 1985-1988]) не вносит, к
сожалению, никаких принципиальных изменений во взгляды на
историю итальянского языкознания XVI в. В предисловии к разделу
«Италия» (со значимым подзаголовком: The rhetorical impetus —
"Риторический импульс" [Padley 1985-1988, II p. 5-153]) автор
выражает готовность принять точку зрения ряда современных
ученых и согласиться с ними в том, что отличительной чертой
ренессансного языкознания является изучение живых языков и
устной речи и что в этот период появляются «пионерские работы»
по теории фонетики. Однако в теории грамматики, по его
мнению, ничего интересного не было, и эмпирический материал,
содержащийся в трактатах XVI в. (не только итальянских) о языке,
представляет ценность только для истории отдельных
национальных языков. Добрая половина раздела (с. 5-85) состоит из
небольших статей (словарного типа), посвященных отдельным
аварам, которые группируются по «пристрастиям». Г. Пэдли
строго придерживается классификационной схемы, разработанной
историками итальянского языка (см. с. 19-22, главка Questione della
lngua), и это окончательно убеждает нас в том, что именно эта
етка заранее заданных отношений и является главной причи-
°и крайне односторонних взглядов на итальянское языкозна-
Ие XVI в. («голая идея» или «чистая эмпирия»). Не остается
еста ни для других тем (например, «вопроса о происхождении
тальянского языка»), ни для других теорий, какими бы «пио-
еРскими» они ни были, ни для самих эмпирических фактов
"°нетических, грамматических, лексических). Критерий, по
252 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
которому Г. Пэдли объединяет свои заметки о таких разных авто,
pax, как Макьявелли и Варки, Джелли и Толомеи, Боргини и
Джамбуллари, под рубрикой «Защитники современного тоскац.
ского языка», достаточно условен и к историографии question
отношения не имеет (Макьявелли умер, когда Варки было 14 лет
а Боргини вообще не публиковал своих лингвистических трудов)'
Однако, связав себя — непонятно зачем — темой «современный
тосканский», автор истории «Грамматических теорий» разом от*
решился от всех вопросов, которые, казалось бы, должны интере-
совать его в первую очередь: от изучения других языков, кроме
итальянского, например, «Грамматика провансальского языка»
Б. Варки даже не упоминается (не потому ли, что она никогда не
упоминалась в связи с questione della lingua), и методов сравнения
с ними, от анализа различных концепций «грамматики»,
например, понятия грамматической структуры у Толомеи, который
назван «одним из самых крупных предшественников современной
исторической лингвистики» (с. 36) ведь, наверное, не за то, что
выступал как «защитник» (champion) современного тосканского
узуса, и др. Так, стройная и логичная композиция, придуманная
и продуманная для освещения одного вопроса (выбора литературной
нормы), превращается в косную догму, в бесконечное
пережевывание одного и того же материала в ущерб всем остальным вопросам.
Изучение итальянских трактатов XVI в. о языке показывает,
что тематика лингвистических дискуссий должна определяться
гораздо шире, нежели просто споры о языковой норме (questione
della lingua). С нашей точки зрения, главным предметом
лингвистической рефлексии в ренессансной науке становится жизнь языка
в человеческом обществе, новое осознание языковых изменений и
многообразия языков, размышления о том, что обеспечивает
единство языка, являющегося средством общения людей, и как это
соотносится с бесконечным разнообразием речевых употреблении
языка. В связи с этим будет уместно напомнить мысль Ж. ВанД-
риеса о двусмысленности и неточности метафоры «жизнь языка»»
которую автор тем не менее использует в своей книге и в качестве
гипотезы, «направляющей исследование», и в «методических Де"
лях» более удобного изложения: «Но языковые факты,
использованные нами до сих пор, — пишет он, — были чистыми абстра#'
циями, созданными лингвистами; говорить о жизни языка в связи
со звуками, грамматическими формами и словами, т. е. в связи с
тем, что как раз лишено жизни, — это почти нелепость. Жизнь»
которой мы теперь займемся, это совокупность условий деятель-
ности человечества, это действительность в ее бесконечном Разв1!!
тии. Что язык к ней причастен, слишком очевидно. Но в тако ^
случае перед нами не теоретическая система, состоящая из отвЛ
uacmb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 253
ценных положений. Перед нами самые разнообразные языки, на
которых говорят весьма различно на всем земном шаре» [Вандри-
*с 1937, с. 217].
Итальянское языкознание XVI в. составляет новый этап в
изучении языка. Ученые XVI в. опираются на своих ближайших
предшественников, порвавших со схоластической наукой и
отказавшихся от ее методов дедуктивного анализа и логического подхода
к языку, но их лингвистический горизонт при этом существенно
шире, чем у этих предшественников, и интерес к живым языкам
заставляет их обращаться к ряду проблем, которые ранее не
рассматривались в науке о языке. К тому же следует иметь в виду,
что, описывая свой новый предмет — живой язык, филологи XVI в.
отказались от традиционного языка науки и пользовались не
«готовым» латинским, а еще во многом неупорядоченным народным
языком, вырабатывая одновременно и новый язык технического
описания.
На этих вопросах — расширении горизонта знаний о языках,
спорах о названии итальянского языка и разных определениях
самого понятия «язык» — мы считаем необходимым остановиться
в дальнейшем изложении. В освещении этих вопросов, как общих
(например, мысль о системном характере языка), так и более
частных, связанных с национальной проблематикой (спор о
названиях языка), мы исходим из того, что авторство той или иной идеи,
высказываемой в процессе коллективного обсуждения, не имеет
принципиального значения. Отказываясь от последовательного
изложения отдельных теорий языка «по авторам» — Бембо,
Макьявелли, Триссино и др. и от анализа и сопоставления их
трактатов о языке (что представляет безусловный интерес и в нашем
случае значительно упростило бы композицию работы)188, мы
хотим обратить внимание на ту принципиально новую обстановку
формирования научного мировоззрения, которая отличает науку
Возрождения от предшествующих эпох.
Граница, отделяющая «новое время» от «старого», пролегает
не в XVI в.; разрыв произошел гораздо раньше и датируется
изобретением книгопечатания — серединой XV в., но результаты этой
технической революции — скорость и широту циркуляции идей и
Их общественную значимость — мы можем наблюдать в полной
МеРе на примере разворачивания лингвистических дискуссий пер-
в°и половины XVI в. (ср. их начальные стадии, см. с. 249, 358
л-). Как отмечал выдающийся русский естествоиспытатель и
крупна р
^р. методологические соображения бельгийского ученого П. Свиггерса по
ВоДу тех важных для истории науки аспектов, которые не учитываются при
зей^ИЦИонном изложении *по авторам» и отдельным законченным теориям («му-
Великих людей») в его предисловии к [Moments et mouvements, p. 5-6].
254 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
нейший историк науки В. И. Вернадский, «до открытия книгопе.
чатания мы наблюдаем в течение всех средних веков у отдельных
личностей и в отдельных местах проявления учений и мнений
изобретение приборов и фактов, которые являются предшествец!
никами позднейшего времени... В то же время и в философской, ^
в научной мысли это было время индивидуальных усилий, чрез,
вычайно слабой передачи другим поколениям полученного и
известного, найденного личным трудом и мыслью... Человеческая
личность не имела никакой возможности предохранить, хотя бы
несколько, свою мысль от исчезновения, распространить ее широ-
ко — urbi et orbi — переждать неблагоприятное время и
сохранить ее до лучших времен. Вечно и постоянно все создавалось и
вновь разрушалось тлетворным влиянием всеразрушающего
времени» [Вернадский 1981, с. 78-79].
По всей вероятности, многое из того, что мы отмечаем как
новое слово в науке о языке XVI в., при желании может быть
оспорено, но дело здесь не в приоритете отдельных концепций,
«правильных» мыслей и «верных» наблюдений, а в том, как они
взаимодействуют в конкретном историческом контексте189.
От этого — если так можно выразиться — «панорамного»
взгляда на лингвистику XVI в. мы перейдем к изложению теории
происхождения языка и закончим раздел одним конкретным
примером — анализом лингвистических взглядов В. Боргини, одного из
основателей итальянской филологии.
Прежде всего следует сказать, что мы рассматриваем
итальянские трактаты о языке как составную часть единого процесса —
истории формирования научной литературы на новых языках.
Фундаментальным исследованием в этой области остается
трехтомный труд Леонардо Олынки [Олыыки 1933-1934],
охватывающий историю технической литературы и прикладных наук от
189 Как работает механизм научной ретроспекции, было блестяще показано В. И-
. Вернадским на примере изобретения книгопечатания. «Вскоре после открытия
книгопечатания, — пишет он, — гуманисты обратили внимание на некоторые
места из Цицерона и Квинтилиана, в которых описывается употребление
металлических букв для обучения детей азбуке. После прочтения этих мест казалось
что римлянам оставалось сделать один шаг, одно простое соображение для того,
чтобы открыть книгопечатание. Ими употреблялись для обучения детей азбуке
отдельные формы букв, из которых складывались различные слова. Вырезались
таблицы, как и в типографии — буквы вырезаны в обратном порядке и да101"
отпечатки слов и фраз на мягком веществе, воске или глине. Один шаг был
отсюда до книгопечатания» (цит. по: [Иванов 1991, с. 18-19]). В другой работе Вер*
надский показывает, как давно были известны в Европе отдельные части
типографского искусства, выработаны соответствующие приемы и инструменты*
♦ Недоставало только творческой, синтетической силы ума для того, чтобы соеД*1'
нить их все вместе» [Вернадский 1981, с. 89].
tfncmb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 255
педних веков до эпохи Возрождения. В соответствии с западноев-
оопейской системой классификации наук автор не включает в
понятие «научной литературы» труды, связанные с развитием
гуманитарных знаний. Л. Ольшки рассматривает многочисленные
трактаты XVI в. по механике и математике, физике и анатомии,
живописи и другим видам искусства, за исключением словесного.
Между тем не менее многочисленные трактаты по «технике»
словесного искусства (по поэтике, риторике, диспуты о рыцарской
поэзии, трагедии и др. см. [Trattati di poetica]) и диалоги о языке
обнаруживают черты сходства со специальной технической
литературой и в подходе к предмету, и в способе изложения. Их
характеризует установка на устную форму изложения мысли
средствами общедоступного языка, на личное собеседование (с
характерными для разговора отклонениями от основной темы в
виде случайных отступлений, ретардаций, полемических
преувеличений, повторов и т. д. ), в ходе которого предмет
рассматривается с разных точек зрения, высказываются различные
суждения о нем, сообщаются разнообразные сведения и новые факты. В
форме разговора, беседы и диалога, ставшего главным жанром
научной прозы XVI в. (ср. трактат С. Сперони «Апология
диалогов» [Trattatisti del Cinquecento, p. 683-783], пишут трактаты по
поэтике и сочинения о спортивных играх (например, о
флорентийском футболе — Discorso sopra il giuoco del calcio fiorentino), и
для тех и для других характерно стремление извлечь из практики
уроки мастерства, определить правила, описать технику данного
вида деятельности, сопоставить современное положение дел с
древней античной традицией, что требовало от авторов трактатов на
самые разнообразные темы190 и начитанности, и определенных
филологических навыков обращения с источниками [Pozzi 1980a,
Р. 618].
Научная проза XVI в., независимо от предметной
специализации, отмечена общей печатью времени. В эпоху географических
открытий и колониальной экспансии европейских государств
сведения о жизни на других континентах, о растительном и
животам мире новых земель, о нравах, обычаях и языках других
народов непрерывно расширяли круг привычных знаний, требуя
осмысления новых фактов (в том числе и умения описывать их на
*новых» языках), пересмотра старых правил, канонов и
классификаций. Так, например, знакомство с новыми — для Европы —
п°Родами лошадей оказало влияние на иконографию коня в
живописи высокого Возрождения [Pozzi 1980, р. 164]. Для всего пы-
Корпус итальянской научной и технической литературы, ставшей доступ-
и Для исследований, значительно расширился благодаря изданиям недавнего
Ремени. См. [Trattati d'arte], [Scritti d'arte], [Sport e giuochi].
256 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
тались выработать идеал: идеал коня, идеал придворного, прави.
теля, языка и т. п. в их отношении к реальному объекту в равной
степени интересовали участников беседы, собравшихся обсудить
тот или иной предмет. Интересно отметить, что в диалогах о язьь
ке ссылки на классических авторов вводятся привычным для нас
способом: «как говорил Платон, Аристотель и т. п.», «как учил
нас Цицерон, Квинтилиан и т. п.», а ссылки на новые сведения,
например на недавно обнаруженный трактат Данте или на своих
современников — писателей и ученых, требуют дополнительных
«ухищрений». Так, Дж. Триссино в уже упоминавшемся
«Хранителе Замка», чтобы процитировать дантовский трактат «О
народном красноречии» (напомним, что оба эти произведения — и
перевод трактата, и свой диалог — Триссино опубликовал в том же
1529 г.), просит собеседника зайти в его кабинет, принести книгу,
открыть на нужной странице и прочитать вслух текст. Н.
Макьявелли, желая выразить свое несогласие с некоторыми
положениями трактата Данте, вступает в прямой диалог с поэтом. «А
теперь, — говорит Макьявелли, — поскольку я хочу поговорить
немного о Данте, то дабы избежать "он сказал" и "я ответил", я
представлю перед вами двух собеседников» [Discorso 774а]. Эту
же функцию — прямой или косвенной цитации — выполняют в
диалогах о языке персонажи, говорящие от первого лица — от
лица Бембо, Триссино, Толомеи и т. д.
В предисловии к «Хранителю Замка» автор трактата поясняет
читателю: «там, где на полях имеются маленькие полукружья
(lunette, т. е. кавычки. — Л. С.)у это означает, что в этом месте
речь ведется подлинными словами (proprie parole) тех, кто писал
против эпистолы Автора; слова эти говорятся от лица (sotto la
persona) Филиппо Строцци, а ответы на них даются от лица
Хранителя Замка» [DL, р. 121, п. 6]. Сам автор, так же как и в
диалоге Триссино, обычно перепоручает изложение своей точки зрения
другому персонажу — какому-нибудь реальному лицу. В
«Беседах о народном языке» эту функцию выполняет брат Пьетро
Бембо — Карло, в диалоге К. Толомеи — сиенский академик Габриэле
Чезано (1490-1568). Но есть и другие трактаты, в которых автор»
как, например, в «Эрколано» Бенедетто Варки, выступает под
собственным именем.
Принимая во внимание отмеченную нами цитатную функцию
персонажа в тексте диалогов о языке, следует признать, что БеМ-
бо является самым цитируемым автором, поскольку он чаще, чем
кто-либо другой, появляется в качестве персонажа в трактата*
данного круга.
qacrnb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 257
Многообразие языков. Классификация Б. Варки
Представление о многообразии языков и форм их
существования («жизнь языка» по Вандриесу), открывшихся ученому XVI в.,
можно составить по классификации, предложенной Бенедетто
Варки [Ercolano, p. 66-70]. Разумеется, перечень языков у Варки
далеко не полный (впрочем, он и не претендует на это), и его
можно было бы существенно расширить, обратившись к другим
источникам191 — сочинениям К. Геснера, Г. Постеля, Т. Амброд-
жо (см. с. 324 прим. 280, с. 331 прим. 290) и др.192.
В частности, интересно отметить следующий знаменательный
факт: во многих классических работах по компаративистике и в
Грундрисах конца прошлого столетия упоминается, что первые
сведения о санскрите поступили в Европу в XVI в., они
содержались в письме флорентийского путешественника Филиппо Сассет-
ти(1540-1588)193.
Приведем и мы русский перевод отрывка из этого письма,
отправленного из Гоа во Флоренцию в январе 1586 г.: «А все ученые
сочинения написаны здесь на одном языке, который сами они
называют санскритским (sanscruta), что значит "правильно
выговариваемый" (ben articulata)191, но память о тех временах, когда на
этом языке говорили, не сохранилась, так что я бы сказал,
существует он здесь со времен незапамятных и является очень и очень
древним. Чтобы обучиться этому языку, как нам, к примеру, гре-
191 О расширении лингвистического кругозора и знании «других» языков в
эпоху Возрождения см. [Percival 1992].
19J Количество языков, входивших в лингвистический кругозор итальянцев,
увеличится, если учесть только типографскую деятельность этого времени. Так,
например, в Италии была издана первая грамматика валлийского языка
(по-валлийски, Милан, 1567) [Степанова 1994]. Эта традиция переходит далее в XVII век,
когда в Италии выходят грамматики и словари армянского [Джаукян 1978, с.
284-286] и грузинского языков [Чикобава, Ватейшзили 1983, с. 69-136] и т. п.
Сам Сассети в это время оказался вне круга гуманистов, хотя начинал свою
Деятельность именно в этой области. Он был членом Флорентийской академии,
написал «Комментарии на "Поэтику" Аристотеля» (Sposizione della Poetica
d Aristotele) и трактат «В защиту "Комедии" Данте» (Difesa della Commedia di
Vante) и др. Однако финансовое положение семьи не позволило ему продолжать
занятия науками, он нанялся на службу к португальскому торговцу пряностями
и в этом качестве попал в Индию. Его письма домой, во Флоренцию, стали
публиковаться только в середине XIX в. (1855), когда на них и обратили внимание
представители господствовавшей в это время компаративистики. К ним часто
°оращаются и современные лексикографы как к ценному источнику сведений об
иноязычных заимствованиях в итальянском языке [Sassetti 1970].
Толкование не совсем правильное, но не очень далекое от истины. Ср. «Для
лассической формы древнего языка местные грамматисты употребляли назва-
ие samskrta, обозначающее "обработанный, литературный, правильный
Соответствующий правилам грамматики)"... » [Барроу 1976, с. 7].
{«к 3101
258 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
ческому или латинскому, нужно гораздо больше времени и мень
ше, чем за 6-7 лет, им не овладеешь. В их теперешнем языке есть
много общего с санскритским, в котором встречается много на.
ших слов, особенно числительных: 6, 7, 8 и 9, а также таких слов
как 'бог' (Dio), 'змея' (serpe) и еще много других» [Muller 1986*
p. 15]195.
Классификация Б. Варки [Ercolano, p. 66-70] лежит совсем в
другой плоскости, чем первые опыты сопоставления языков. Она
изложена в трактате «Эрколано» (уже упоминавшемся, см. выше
с. 238 ел.), который не относится к числу наиболее типичных
сочинений XVI в. о языке в жанре диалога196.
По форме изложения (стремлению к систематизации и обилию
дефиниций) он скорее приближается к типу учительной
литературы, где умудренный наставник излагает «суммы» знаний о
предмете своему заинтересованному слушателю (Чезаре Эрколано),
который задает «наводящие» вопросы. Однако несколько
старомодная манера изложения и дань традиционным сюжетам
происхождения языка (сформулированным Чезаре Эрколано в форме
«сомнений» — dubitazioni: «что такое человеческая речь»,
«свойственна ли она только человеку» и т. д. ) сочетается у Варки с
чисто гуманистическим подходом к отбору материала,
отличающим ренессанский энциклопедизм от средневекового, — вкусом к
приведя примеры итало-
195 Проиллюстрируем это
санскритских соответствий:
РУС.
шесть
семь
восемь
девять
бог
змея
наблюдение Ф.
ИТАЛ.
sei
sette
otto
nove
dio
serpe
Сассетти, прш
САНСКР.
sat
sapta
asta
nava
deva
sarpa
Ж.-Кл.Мюллер приводит в качестве более раннего свидетельства об индийском
языке письмо английского иезуита своему брату в Париж из Гоа, датированное
октябрем 1583, однако в цитируемом им отрывке из этого письма, написанного
по-латыни, не содержится упоминаний о санскрите. [Muller 1986, р. 14-15].
196 Формальным поводом к написанию «Диалога» послужила полемика меЖДУ
Аннибале Каро (1507-1566) и Лодовико Кастельветро [Vivaldi 1891] (ср. полное
название трактата, см. выше с. 238 сн. 173), Однако именно эта тема и осталась
нераскрытой (как отмечает в частном письме «подзащитный» А. Каро), и вмест
ответа Лодовику Кастельветро, раскритиковавшему новую канцону Каро (155аЬ
Б. Варки начал писать пространное введение о природе и качествах языков и
тосканском и флорентийском, в частности, которое выросло в самостоятельна»
трактат. Из новейших монографий о Б. Варки укажем [Pirotti 1971], aHaJIIIf3*i
специальных филологических вопросов в трудах Варки посвящены [Debenede
1902], [Sorrento 1921].
пасть И- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 259
зыковым фактам197 и вниманием к историческим источникам
/оарки, как и многие другие гуманисты, хорошо ориентировался
в них и написал большую «Историю Флоренции»).
В рамках национальной полемики о языке Варки выступает
аК адепт живого флорентийского узуса, но в своих
теоретических предпосылках опирается на гуманистическую традицию
Кватроченто, сложившуюся под влиянием идей Квинтилиана. Как и
Лоренцо Валла, Варки исходит из тех же четырех критериев,
которые были положены в основу языковой программы
Квинтилиана: логики (ragione), старины (vetusta о vero antichita),
авторитета (autorita) и обыкновения или употребления (consuetudine о vero
l'uso), отводя узусу первостепенную роль.
Классификация Варки (языки бывают «родными»,
«благородными», «мертвыми» и т. д. ) удивительным образом напоминает
ставший теперь хрестоматийным борхесовский пример
классификации животных в некой китайской энциклопедии (животные
делятся на «бальзамированных», «ручных», «молочных поросят»,
«принадлежащих императору» и т. д. ), но тем не менее в ней можно
уловить общее основание, по которому Варки группирует разные
языки; таким критерием выступает сам автор, его субъективное
знание о том или ином языке, которое включает довольно
широкий спектр информации — от объективных исторических сведе-
19< Несомненный интерес для специалиста представляет лексикографический
этюд Варки о глаголах речи [DL, р. 443-477), семантическое поле которых
определено болонцем Ч. Эрколано следующим образом: «Расскажите мне обо всех
глаголах и производных от них, которые означают 'говорить' (favellare) как в
прямом, так и в переносном смысле, или каким-то образом, пусть даже отдаленным,
соотносятся с «говорением» или противоположным ему значением, в особенности
же о тех, которые встречаются в вашем родном языке и которые скорее
услышишь в речи флорентийского народа и встретишь у комических писателей (scrittori
burlevoli), нежели найдешь в книгах благородных авторов (autori nobili) и в речи
Ученых. И пусть Вас не смущает, если они покажутся Вам самому низкими или
^лебейскими» (р. 443-444). Варки удовлетворяет любопытство «чужестранца» на
полстраницах трактата, демонстрируя богатство и разнообразие живой
флорентийской речи, объясняя идиоматику, оттенки значений слов, и устанавливает
Длинные синонимические ряды, отмечая соответствия (или отсутствие таковых) в
Латинском и приводя некоторые формы, не засвидетельствованные до сих пор ни
каких других источниках. Другим — но также показательным — примером
тношения к эмпирическим фактам и личным свидетельствам может служить
^поминание ° языке Ниццы (lingua nizzarda), который, по впечатлениям
побывшего там Дж. Муцио, не похож ни на итальянский, ни на французский, ни на
3>вансальский (т. е. ни на один из пограничных языков Савойского графства).
, метим, что в конце XVI в. Ницца переживала настоящий расцвет литературы
основном комической) на местном диалекте. Памятники савоярдской литера-
Уры (короткие сатирические и комические монологи) были недавно изданы. См.
Но^ ^rens 1987]. Таким образом, трактаты XVI в. заслуживают самого присталь-
о изучения с точки зрения содержащегося в них фактического материала,
аРеДст;
*HcKl
являющего большую ценность для романской филологии и истории италь-
0го языка.
260 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ний до личного опыта носителя языка. Исходя из этого критерии
(эксплицитно не сформулированного), Варки устанавливает серию
антонимических пар, которые затем представляет в виде схемы
образующей, по его словам, «почти дерево» (quasi un albero)198'
Варки начинает с деления языков на изначальные (originali) и не
изначальные (поп originali). «Оригинальными» называются язьь
ки, начало и происхождение которых связывается с каким-то
городом или областью, но при этом ничего не известно («отсутствует
память») о том, когда, как, откуда или кем эти языки были
принесены. Таковы греческий язык и, по мнению многих,
латинский. Противоположную группу составляют языки, о которых
известно, что они не были изначальными на данных территориях,
но были принесены с других территорий. Это относится не только
к Тоскане и всей Италии, но и к другим [периферийным]
областям по отношению к Лацию, поскольку не только тосканцы и
итальянцы, но и французы и испанцы говорили в своих провинциях
по-латински (favellavano latinamente).
Далее языки делятся на письменные (букв,
«членораздельные» — articolate) и бесписьменные (поп articolate), каковых
бесчисленное множество. Бесписьменными являются не обязательно
языки варварских народов199, но, например, язык бретонцев,
живущих во Франции, которые в отличие от других бретонцев не
приняли языка французского, но сохраняют свой древний язык,
не имея письменности на нем. Любопытно, что к бесписьменным
языкам Италии Варки — с некоторой долей
предположительности — относит только генуэзский.
Следующая оппозиция состоит из противопоставления живых
и мертвых языков. Неживые языки (поп vive) определяются как
языки, которые в настоящее время не являются средством
естественного общения ни у одного народа. Среди вышедших из
употребления языков Варки различает разные степени утраты знания
о них: языки, от которых не осталось ничего, кроме памяти о
факте их существования в прошлом (не было или не сохранилось
никаких лингвистических свидетельств), и языки, памятники
которых сохранились, они есть в наличии, но недоступны
пониманию. Примером такого неподдающегося дешифровке языка яв-
198 Составлением различных схем в виде «таблиц или деревьев» (tavole о alberi)
широко пользовался современник Варки, Орацио Тосканелла, опубликовавший в
60-ые годы XVI в. несколько своих переводов и компиляций Цицерона и других
риторов и образцовых писателей «от древнейших времен до наших дней» [Peirone
1971, р. 86, п. 5].
199 О понятии «варварского» у греков и римлян см. [Ercolano, p. 68], сам ВаркИ
понимает под варварскими бесписьменные или не имеющие своей литератур1»1
(поп articolate о поп nobili) языки, но не отождествляя при этом статус языка с
уровнем цивилизации говорящего на этом языке народа.
1тастпь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 261
ляется «древний тосканский язык» (lingua toscana antica),
который называют этрусским. Эти языки Варки называет полностью
вымершими (morte affatto). К полувымершим (mezze vive)
относятся языки, которые можно выучить при помощи учителей или
по книгам, а затем говорить и писать на них, как, например, на
греческом и латинском или же на провансальском.
Оппозиция благородных (nobili) и неблагородных (поп nobili)
языков, как следует из определений, относится только к
письменно-литературным языкам («языки, имеющие писателей»).
Признак благородства обусловлен наличием высокоразвитой
литературы (как прозы, так и поэзии), которая пользуется всеобщим
спросом («ходит по рукам и на устах у всех») и превращает
языки, на которых она создается, в сияющие и ясные (illustri e chiare);
таковыми были в древности латинский и греческий, а из
современных, главным образом, выделяется итальянский. То, что мы
назвали «высокоразвитой литературой», складывается у Варки из
нескольких компонентов, характеризующих художественные
произведения, среди которых отмечается не только читательский спрос
и одобрительный прием (letti e lodati), но и функция образца —
объекта восхищения и подражания (ammirati e imitati).
Литературные языки, не удовлетворяющие всем этим требованиям, не
называются благородными.
Оппозиция родного (natia) и неродного (поп natia) языка
раскрывается следующим образом. Родным языком, который мы
называем также своим и нашим (propria e nostrale), считается тот
язык, которым мы пользуемся в повседневном общении и
усваиваем его без специального обучения от своих кормилиц, матерей и
отцов и других людей из своей округи (contrada), усваиваем, не
отдавая себе отчета в этом, что называется с молоком матери или
с колыбели. В противоположность этому неродные языки,
которые мы называем чужими (aliene) или же чужеземными, требуют
обучения, им можно научиться, положие на это определенное
время и труд, либо от учителей, либо от носителей, либо по книгам.
До этого пункта «дерево» Варки имеет вид двух столбцов (см.
Рис. 3), один из которых состоит из перечня положительных
признаков: (изначальные, письменные, живые, благородные, родные
языки), а другой — из тех же признаков с отрицательным знаком
и с одним ответвлением (деление «неживых» языков на
вымершие полностью и наполовину). Пространство «чужого языка» опи-
сЬ1вается более детально и членится по степени удаленности от
субъекта «своего языка». Здесь Варки выделяет другие языки
teltre), которые в свою очередь подразделяются на просто другие
Isernplicemente altre — те, о которых мы просто знаем, что тако-
BbIe существуют, но никогда с ними не сообщаемся), каковыми
Didlogodi J\d.
116
bili, 6non nobili, nau'e,6veropropric,enoftrali, n6nna*
tic, 6 vcro aliened forefticre^fe foreftiere,6 altrc,6 diuerfe*
fe altre^o fempliccmente altre,ro non femplicemcnte altre,
fe diuerfc,6 diuerfe eguali^o diuerfe difcguali.
Nonoriginali
Non articolate fmorte af
Nonuiue —<v fatto
Non nobili I mezze
Nonnaoe,oaIiene >■ viuc
о foreftiere.
** ;p
Diuerfe
rOriginali
I Articolate
^ J Viue
no 6 "S Nobili
} Narie,6 proprie,
6noftrali4r.
Lelin
guefo
Semplicemen Non femplice- Diuerfe e- Diuerfe di
tealtre menteahre. guali. feguali* ..
c. Che direftc voi, che egli mediate quefta diuifione mipar
d'hauere in non so che modo molteconofciuto delle fohftc
rie, e fallacie del Cafteluetro ? Ma io no la vi voglio lodare,
fe voi prima alcuni dubbij non mi fciogliete. v. Voi meTha
uete lodata pur troppo,e fe volete, che io da qui innanzi vi
rifponda,dimandatemi liberamente di tutto quello> che vi
occorre,fenza entrare in altre nouelle.Ma quali fono quefti
voftri dubbij? с. И primoe^perche voi nel fare со tale
diuifione non hauete detto: Delle lingue alcune fono barbare,
с alcune no. v. Quefto nome barbaro e voce cquiuoca^cioe
fignifica piu cofe, jpcioche quando fi riferifce aiTanimo^ vn*
huomo barbaro vuol dire, vn'huomo crudele, vn'huoma
beftialc^edi coftumi cfferati: Quado fi referifce alia diuerfi
ta,6 lotananza delle regioni, barbaro fi chiama chiuche no
ё del tuc^paefe,& e quafi quel medcfimo,cheftrano, oftra-
nieroj ma quado fi referifce al faucllare,che fu il fuo primo,,
с proprio'fignificato^barbaro fi dice di tutti coloro > i quali
no fauellano in alcuna delle lingue nobili, 6 fepure fauella-
no in alcuna d'effc^no fauellano correttamete,non oflerua-
do leregole,egrammaeftramenti dc' Gramatici. Edouete
faperc>cheiGreciftimauauo tamosea elafauellaloro, che
tutce
Рис. З. Классификация языков («дерево») в трактате Бенедетто Варки
«Эрколано». Флоренция, 1570.
qacrnb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 263
для нас являются турецкий, английский и множество др., и
непросто другие (поп semplicemente altre). К этим языкам (при том
что мы также не говорим на них и не понимаем их) относятся те,
которые являются для нас большим авторитетом и оказывали
наибольшее влияние на наши родные языки; они, если и не дали
бытие нашим языкам, благоприятствовали их развитию, —
таковым был греческий язык по отношению к латинскому и
латинский по отношению к тосканскому, и в этом смысле можно
говорить, что латинский восходит к греческому, а тосканский — еще
в большей степени — к латинскому. Помимо того что тосканский
является как бы детищем двух матерей сразу, он еще во многом
обязан провансальскому200.
Что касается современного французского и испанского, то
невзирая на то что для нас эти языки являются просто другими,
произошли они (derivate) точно так же, как и тосканский, от
латинского языка и по этой причине их следовало бы называть
сестрами, если и не по отцовской линии, то хотя бы по материнской,
т. е. единоутробными сестрами. Другим языкам
противопоставлены отличающиеся языки (lingue diverse). Это те языки, на
которых мы сами не говорим, но понимаем говорящих на них. Данная
группа, объединенная общим признаком «понятных для нас»
языков, подразделяется на две подгруппы: отличающиеся равные
(diverse eguali) и отличающиеся неравные (diverse diseguali). К
первым относятся языки, достигшие одинаковой или почти
одинаковой степени благородства, т. е. языки, «имеющие
знаменитых писателей» и потому сравнимые по своему достоинству (dignita)
с четырьмя знаменитыми и прославленными языками Греции:
аттическим, дорийским, эолийским и ионийским. Ко вторым
относятся языки, либо не имеющие своих литературных
произведений вообще, либо не пользующиеся репутацией знаменитых, т. е.
Диалекты. Таковыми являются «бергамасский, брешанский, ви-
чентинский, падуанский, венецианский — короче говоря, почти
все другие италийские языки (lingue italiche) по отношению
к флорентийскому» (разрядка наша. — Л. CJ. Таким
образом, классификация Варки заканчивается указанием на позицию
наблюдателя (ср. борхесовскую рубрику — животные,
«включение в данную классификацию»), являющегося центром,
организующим членение языкового континуума (как в синхронии, так и
в Диахронии, как по горизонтали, так и по вертикали — в глубь
вРемен и вверх — к высшим формам литературного языка).
Мы сочли уместным воспроизвести эту своеобразную типоло-
Гию полностью по целому ряду причин. Во-первых, она является
, О занятиях Б. Варки провансалистикой см. [Debendetti 1902], [Debendetti
1У11> Р. 148-149].
264 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
наглядным свидетельством того, насколько интересы гуманистов
в изучении языка отличаются от установок средневековых
ученых — они лежат совершенно в разных плоскостях (ср.,
например, классификации «языков» — различных знаковых систем —
Фомы Аквинского, Петра Испанского, Абеляра, Роджера Бэкона
и др. [Eco et al. 1983]). Во-вторых, таксономия данной типологии
отражает репертуар тех вопросов, которые обсуждались в XVI веке
как дискуссионные. Ведь такие аспекты истории и теории языка,
как происхождение данного конкретного языка, языковые
контакты и культурные влияния, противопоставление живых и
мертвых языков устной и письменной речи, народно-разговорного и
литературного языка, понятие языкового престижа и др.,
вводились в широкий научный обиход впервые. И, наконец,
в-третьих, классификация Варки позволяет понять, в какую
перспективу связей и отношений (как антонимических, так и иерархических)
включалось определение современного языка Италии, который
одни называли итальянским, другие флорентийским,
тосканским, придворным или народным, а лингвистика нашего
времени именует национальным, что всякий раз также требует
соответствующих уточнений, связанных с определением объема этого
понятия.
Как следует называть современный язык Италии:
спор о терминах в трактате К. Толомеи «Чезано»
Вопрос о названии языка в ситуации кардинальных
исторических перемен в жизни народа или в случае еще не установившейся
традиции, как это было в Италии XVI в., никогда не оставляет
безразличными самих носителей языка, и уже хотя бы поэтому
подобные споры о терминах нельзя относить к разряду
беспредметных дискуссий педантов. Для ученых и писателей XVI в.
вопрос о том, как следует называть язык, на котором они писали свои
ученые трактаты и литературные произведения, — volgare, italiano,
cortigiano, fiorentino или toscano, — имел принципиальное
значение и выбор термина отражал определенную позицию автора и его
языковую концепцию. Поэтому все они — писатели и ученые — в
той или иной степени касались этого вопроса в своих трактатах,
стараясь определить объем понятия, стоявшего за каждым из этих
обозначений и аргументировать свой выбор. То, что спор шел не о
словах, а о «вещах», хорошо показано в трактате Клавдио
Толомеи «Чезано о тосканском языке». Этот трактат представляет
собой диалог платоновского типа, в котором каждый из участников
излагает свою точку зрения в форме монолога (а не коротких,
qacmb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 265
перемежающихся реплик, характерных для композиции так
называемого «аристотелевского» диалога). В нем участвуют пять
персонажей: Пьетро Бембо, Джанджорджо Триссино, Бальдассаре
Кастильоне, Алессандро де' Пацци и Габриэле Чезано201.
В кратком вступлении, излагающем суть спора, Г. Чезано
упоминает трактат Данте «О народном красноречии» как
произведете, еще «не получившее широкого распространения» (поп ё troppo
divulgate)202, но — как будет видно из дальнейшего —
внимательно прочитанное участниками беседы. Таким образом, трактат К. То-
ломеи отражает ранний этап полемики о языке через восприятие
дантовского лингвистического трактата. Общим в рассуждениях
всех участников диспута (авторскую точку зрения мы рассмотрим
отдельно) является то, что, обосновывая свой вариант названия
языка, они соотносят его с другими названиями, имея в виду
определенную парадигму отношений. Так, Пьетро Бембо называет
язык «народным» (в данном трактате он употребляет
латинизированную форму слова — vulgare) в отличие от латыни, Триссино —
«итальянским» в отличие от языка Германии, Франции, Англии,
Греции и т. п. Кастильоне называет язык «придворным» в
отличие от простонародного, плебейского, Алессандро де' Пацци —
«флорентийским» в отличие от других тосканских наречий, на
которых говорят в Лукке, Пизе, Ареццо, Сиене и Перудже. Как
мы видим, два из обсуждаемых названий имеют в виду социальную
приуроченность языка (народный, придворный), два других —
географическую (итальянский, флорентийский). Внутри этих пар
один термин является общим, подразумевающим «весь народ, всю
страну», а второй — частным, связанным с одним определенным
«локусом» — социальным (язык двора) или территориальным (язык
Флоренции), поэтому Кастильоне полемизирует главным образом
с Бембо, а единственный флорентиец в этом споре, Алессандро
Де' Пацци — с Триссино. Все четверо излагают свои взгляды на
язык вообще и литературный язык в частности. Бембо и Триссино
Участие Кастильоне в этой беседе указывает на то, что в действительности в
таком составе ее участники могли собраться не позднее сентября 1524 г., т. к. в
начале октября 1524 г. Кастильоне окончательно уехал из Италии. Однако
помимо «Эпистолы о прибавлении новых букв языку итальянскому» (май — июль
524) в трактате упоминаются как уже опубликованные ♦Ответ» Л. Мартелли
^Декабрь 1524) и трактат самого Толомеи «Полито» (1525), что свидетельствует
^условном характере описанного в «Чезано» диалога [DL, р. 178, р. 201, п.
Это замечание может означать, что действие происходит сразу после публи-
аДии трактата De vulgari eloquentia в 1529 г. (известно, что Толомеи начал рабо-
У над своим трактатом в этом же году) или же что текст был известен узкому
РУгу ЛИц еще в рукописи. В любом случае, для нас важно, что дантовский трак-
т стал объектом полемики сразу после знакомства с ним.
266 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
понимают под литературным языком язык писателей, письменно,
литературную форму речи, Кастильоне и Пацци — «правильную*
устную речь. Пьетро Бембо утверждает, что язык следует назьь
вать народным в соответствии с уже сложившейся традицией, так
называли этот язык Данте, Петрарка и другие тречентисты, а как
учил Квинтилиан, «обиход» в вопросах употребительности и не.
употребительности слова является главным «распорядителем*
(governatore) [Cesano, p. 191]. По мнению Бембо, народ является
творцом языка (fabbro203 e maestro de le lingue) и поэтому не слу.
чайно Цицерон советовал оратору ориентироваться на
общеупотребительный «язык городских площадей, а не на темный язык
философских школ»204.
В трактовке Бембо понятие «народ» (vulgo, tutto il popolo —
«весь народ») свободно от каких-либо социальных коннотаций,
народ выступает и как источник языковой нормы, и как адресат
литературного произведения. «Народ — это тот, кто говорит:
значит, и язык — народный; народ является архитектором языка,
значит, и язык является народным» [Cesano, p. 191].
Дж. Триссино обращает внимание прежде всего на
территориальные различия между языками, обусловленные не только
удаленностью одного места от другого, но и наличием естественных
границ — морей, гор, рек, непроходимых болот, отделяющих одну
страну (provincia) от другой. Каждая страна, существующая в
своих границах, отличается от другой своими законами, обычаями,
государственным управлением (imperii), культурой (букв,
науками — discipline) и языком, как это можно видеть на примере
Германии, Франции, Англии, Италии, Греции. Язык, на котором
говорят в этих странах, следует рассматривать как один язык и
называть его по имени страны — французским, испанским,
английским, итальянским и т. п. Если между «языками» Италии (1е
lingue d'ltalia) и существуют некоторые различия в употреблении
слов и в произношении, то в данном случае ими надлежит
пренебречь, так как, если мы станем учитывать все эти особенности,
окажется, что «каждый город, каждый замок, каждая вилла,
каждая семья и даже более того — каждый человек — образуют не-
203 Цитата из Данте (Чист. XXVI. 117) в пер. М.Лозинского: лучший ♦ковач
родного языка» (miglior fabbro del parlar materno).
204 Ср.: ♦...в остальных науках и искусствах познания обыкновенно черпаются
из отвлеченных и трудно доступных источников, в красноречии же общие основы
находятся у всех на виду, доступны всем и не выходят за пределы повседневны*
дел и разговоров; потому-то в других науках более ценится то, что менее доступ*
но пониманию и представлениям непосвященных, в красноречии же, напротив»
нет порока больше, чем уклонение от обыкновенного склада речи и от общепрЯ"
нятых понятий (a vulgari generis orationis atque a consuetudine communis sensus)*
[Об ораторе, 1.3.12].
qacmb //. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 267
кий новый язык (una nuova lingua), отличающийся от других и
словарем и произношением (vocaboli e pronunzie)» [Cesano, p. 196).
Однако на самом деле это не так, и жители разных областей
Италии, при всех различиях, существующих между неаполитанским
и флорентийским, миланским и венецианским, генуэзским и ро-
маньольским, понимают друг друга. Непонимание касается
только отдельных слов, которые, «как зерна при обмолоте, остаются в
колосе, не попадая в общую кучу» (там же). Триссино сравнивает
лингвистическую ситуацию в Италии и в Древней Греции,
отмечая, что, несмотря на языковые (диалектные) различия между
жителями Аттики и эолийцами, дорийцами и ионийцами, их язык
в целом «римляне называли греческим».
Из рассуждений Триссино о языке писателей следует, что он
уподобляет литературный язык Италии общему диалекту (койне)
античной Греции, считая его собранным и составленным из слов
разных наречий (о концепции языка Триссино см. ниже с. 290,
300 ел.). В подтверждение того, что язык писателей не совпадает
ни с одним из местных языков, а перенимает все лучшее из них,
он ссылается на прославленных поэтов — уроженцев разных
областей Италии. Упоминание Болоньи, Феррары, Мантуи и круга
поэтов, «обогативших, украсивших и прославивших (illustrata)»
язык своими творениями, показывает, что в этой части
«монолога» автор подхватывает мысль Данте о смягчении резких
диалектных черт под влиянием контактов с соседями (на связь этого
места с VE I.XV.2 указал М. Поцци [DL, р. 198 п. 48]), в речи Триссино
цитируются разные произведения Данте, в которых говорится о
языке всей страны (Ад XXXIII, 80: «где раздается si»; VE I.VIII.
6-8 о языке «ок», «ойл» и «си»; Пир I.X. 14: «italica loquela»;
Пир I.XI. 14: «parlar italico»).
Бальдассаре Кастильоне излагает свою концепцию придворного
языка (lingua cortigiana), которая в общих чертах воспроизводит
основные положения его «Книги о придворном» (// libro del Cortigia-
по, изд. 1528). Главной мыслью этого сочинения была
центральная — для всей культуры Возрождения — идея о формировании
Универсальной личности, человека знающего, сведущего и
просвещенного, умеющего общаться с другими людьми, сознательно
разевающего свои интеллектуальные и нравственные добродетели,
словом, образованного (formato) в буквальном смысле слова. В трактате
«Чезано» фигурирует этот ключевой для Кастильоне термин —
«образованный», но его речь пронизана дантовскими реминисценция-
ми, которых не было в его собственном диалоге «О придворном»205.
Говоря о народном языке в данной аудитории, Кастильоне (пер-
с°наж) не отрицает существования общенародной формы речи —
О лингвистических взглядах Б. Кастильоне см. [Pozzi 1979].
268 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
«языка, на котором говорит весь народ» (tutto il volgo parla
comunemente), но расценивает этот язык как просторечный, «д
это, — замечает он, почти цитируя Данте, — не тот язык,
который мы ищем, не тот, о котором мы рассуждаем и о котором стоит
спорить за столь высокой трапезой» [Cesano, p. 203]. Своих
собеседников — писателей, гуманистов и ученых — он называет
«придворными» и напоминает им, что придворными не рождаются, а
становятся. Точно так же и хороший язык не дается нам от
природы, а «вырабатывается» и этим отличается от обыденной
народной речи. Таким образом, под «придворным» языком Кастильоне
понимает речь высшего, образованного слоя общества.
Придворные формируют образцовые модели социального поведения
(formatori di bei costumi)206 и они же являются «кузнецами
образцовой речи» (fabbri del bel parlare)207.
В «теории придворного языка» Кастильоне (более подробно
изложенной в его «Книге о придворном», главы 28-39)
отечественные исследователи отмечают «крайнюю социальную
ограниченность» его языкового идеала и «откровенно элитарную сущность»
предлагаемой языковой нормы [Касаткин 1976, с. 16], не замечая
при этом самого главного — того, что речь идет о «хорошем
языке» в ситуации непосредственного общения и об общественной
значимости форм этого общения, иначе говоря, о литературной
норме разговорного языка. Как известно, античная риторика
этими вопросами не занималась. Римский оратор должен был
считаться с языковой компетенцией аудитории, к которой он
обращался с речью, отсюда и все запреты на употребление редких и
иноязычных слов, специальных терминов и неологизмов.
Языковой идеал Кастильоне ориентирован на совершенно иную
ситуацию — на ситуацию диалогической речи в социально однородной
среде208, поэтому его правила «хорошего языка» имеют не запре-
206 Речь идет именно о нормах общественного поведения, а не о придворном
этикете как таковом. По этому поводу Я. Буркхардт отмечал: «В начале XVI века
светские отношения людей отличались особой приятностью и основывались на
молчаливом признании известных правил или же на открыто установленных и
предписанных правилах, в том и другом случае цели и задачи такого обхождения
и хороших манер составляют прямую противоположность с правилами так
называемого этикета вообще» [Буркгард 1904-1906, II, с. 108].
207 Та же дантовская цитата, ср. выше с. 266 сн. 203.
208 Следует отметить, что придворное общество в ренессансной Италии
представляло собою как бы страну в миниатюре: оно состояло из людей разных
сословий и разных областей Италии, они не были ни профессионалами, ни
дилетантами, а людьми одного круга по уровню знаний и образованию. Они
прекрасно знали, что, добившись высокого положения в обществе, не могут
почивать на лаврах. Придворная жизнь была своего рода искусством, требующие
постоянного и деятельного участия, а не только соблюдения установленного
ритуала.
ifacrnb И- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 269
ительный, а разрешительный характер, предоставляя большую
свободу говорящему. Он ясно дает понять, что человек сам
совершенствует свой язык и для выражения своих мыслей
необязательно следить за тем, было ли то или иное слово в языке Боккач-
чо или Петрарки, является ли оно тосканским или происходит из
другой местности. Устная речь изменчива и подвижна по
существу, поэтому можно пользоваться любыми словами и
выражениями, в том числе и иноязычными — французскими или, к
примеру, испанскими, если они уже приобрели определенное значение
в «нашем» языке.
Вполне естественно, что тот круг вопросов, который мы
привыкли по-русски называть «культурой речи», в эпоху
Возрождения, когда образованные люди с умом и талантом (omini letterati
di bono ingegno e giudicio) со всех концов Италии находили
пристанище при дворах Мантуи и Феррары, Урбино и Рима, был
сформулирован в терминах культуры своего времени. В теории
«придворного языка» важно обратить внимание не на элитарную
сущность предлагаемой нормы (в этом как раз нет ничего
необычного, т. к. подлинная образованность всегда элитарна и этим
отличается от всеобщей грамотности и массовой культуры), а на то,
что устная разговорная речь становится объектом
лингвистической рефлексии и образованный носитель языка (индивид, а не
сословие) рассматривается как источник создания национальной
нормы. «Кортиджано, — как проницательно заметил Я. Бурк-
хардт, — в совершенстве передает образ мыслей образованных
людей о достоинстве языка как посредующего звена высокой
общественности» [Буркгард 1904-1906, II, с. 104]. И далее: «Этот
любимый, взлелеянный и украшенный в устной речи язык стал
Фундаментом развития житейских отношений. В то время как на
севере высшее сословие и государи проводили время в
одиночестве или в битвах, пирах и церемониях, а граждане в — играх и
телесных упражнениях, в Италии ко всему этому присоединялась
нейтральная арена, где люди всякого происхождения, если
°ни обладали талантом и образованием, проводили время в беседе
и обменивались серьезными или шутливыми речами в
облагороженной форме» (там же, с. 107; разрядка наша. — Л. С).
В трактате «Чезано» Кастильоне не приводит точных дантовс-
кИх терминов или их итальянских соответствий — (lingua) aulica,
Curiale, а произносит импровизированную речь от имени Данте, в
к°торой поэт заверяет присутствующих, что в книге De la vulgare
**°quentia он своею рукой написал: этот язык не должен назы-
аться просто «народным» или «итальянским», а должен назы-
^ться «просвещенным придворным» языком (cortigiana illustre)
1 esano, p. 204]. Однако риторический образ орла (aquila), высоко
270 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
поднявшегося над грязью «вульгарных проулков» (vulgari strade)
украшающий речь Кастильоне, позволяет усмотреть здесь анаг!
рамматическую связь с дантовским термином aulica (см. наш ком.
ментарий к aulicum на с. 108 прим. 190), на связь с термином
curiale указывают такие слова, как curat curare 'забота, заботить-
ся\ Слово dolce 'сладкий, нежный' в применении к языку
является слишком частотным в языке XIV-XVI вв., чтобы его
употребление могло обратить на себя внимание. Но в данном контексте
«предметное» значение 'сладкого вкуса' актуализируется
антитезой «сладкий — горький». Кастильоне говорит, что горькая (amara)
кожура грубых слов может испортить сладкую (dolce) мякоть (букв,
'сердцевину' midolla лат. medullam)209 очищенных слов (pulite),
если употреблять их вместе210. Приведенные примеры, как нам
кажется, убедительно показывают, как легко при интерпретации
чужого текста переосмысляется его содержание, нарушается
логика мысли и вся ее конструкция и сколь прочными при этом
оказываются логика языка культуры, скрытые семантические
связи и ассоциации, всплывающие на поверхность
интерпретирующего текста помимо авторского сознания. «Чужое творчество, —
как писал Флоренский, — в моем пользовании заново творится
мною». Не исключена возможность, что изображение процесса
пользования чужим творчеством входило в намерения автора
трактата «Чезано», поскольку все участники диалога буквально
клянутся словами учителя (Данте), но говорят при этом о разном — и
каждый о своем.
После выступления знаменитых писателей — Бембо, Триссино
и Кастильоне — слово предоставляется Алессандро де' Пацци.
Алессандро Пацци де' Медичи (1483-1530) не писал сочинений о
языке, он был видным представителем флорентийского
гуманизма, перевел на итальянский «Царя Эдипа» Софокла, «ИфигениЮ
в Тавриде» и «Киклопа» Еврипида, а также «Поэтику»
Аристотеля на латинский. В трактате он выступает как страстный патриот
флорентийской культуры и флорентийского языка. Пацци
начинает свою речь с рассуждения о красоте языка, которую, как И
женскую красоту, следует оценивать, наблюдая предмет в его
естественном виде, без украшений (ср. Пир I.X.12). Он сравнивает
предыдущих ораторов, маститых писателей, с учеником Апелле-
209 Ср. с. 95 о слове 'сердце'.
210 Отметим провербиальный характер этого выражения. Ср. итал. пословице
«росо di fiele guasta molto miele», «poco fiele fa amaro molto miele» (ложка дегт*
(итал. желчи) портит бочку меда). Ср. нашу интерпретацию aulicum от aula *ДВ°'
рец пчел' и мотив меда поэзии (с. 114-115), а также рассуждения И. Бродского <|
♦ горьком новом стиле», в котором итальянские слова dolce и amaro вовлекают0*
в орбиту англ. aulic, courtly (с. 117, прим. 211).
ifacrnb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 271
са, который, не сумев передать красоту Елены, изобразил ее
богатой- Будучи единственным флорентийцем за этим столом, Алес-
санДР0 Де' Пацци выражает общую точку зрения своих сограждан
и намеревается доказать, почему язык должен называться
«флорентийским». Это важная ремарка, поскольку, повторяя дантов-
ские аргументы в защиту народного языка (преимущества
естественного языка над «искусственным», любовь и привязанность к
своему языку и др.), он использует их как средства восхваления
своего родного языка, в то время как Данте использовал эти
доводы, противопоставляя народный язык латинскому (=
искусственному), свой язык — чужому провансальскому, а внутри Италии,
как известно, не отдавал предпочтения ни одному из местных
наречий.
Пацци ограничивается рассмотрением внутриитальянской
ситуации и определяет соотношение «своего» и «чужого», природы
и искусства, оперируя другим масштабом, соизмеряя его с
собственным языковым опытом. Для него понятие «своего» языка
ограничивается пределами Тосканы, а другие языки Италии —
генуэзский, ломбардский, бергамасский, апулийский и т. д.
являются чужими. «Если кому-нибудь доведется услышать разговор
тосканца с ломбардцем, — говорит Пацци, — он сразу заметит
разницу и в словах, и в ударениях (accenti), и в выговоре (proferire),
что выдает в них уроженцев разных мест и представителей
разных языков (di patria e di lingua son disgiunti) ... и в самом деле,
они плохо понимают друг друга, как это часто случается, когда
люди, владеющие разными языками, хотят договориться о чем-
то» [Cesano, p. 210].
Разумеется, флорентийский гуманист отдает себе отчет, что его
природная связь с тосканским не может служить основанием для
Доказательства превосходства этого языка над прочими языками
Италии. Для этой цели, как замечает он сам, следовало бы
сравнить языки разных мест между собой — сравнить объем их
словаря (numero de' vocaboli), способ называния вещей (chiamar le cose),
строение речи (или слова — orditura del dire), идиоматику,
просодию (accenti), глагольные времена (т. е. парадигму глагола) и раз-
Ницу произношения. Однако, как остроумно замечает Пацци, это
тот путь, который легче указать и ступить на него, чем добраться
По нему до выхода, поэтому он избирает другой путь, доказывая,
Чт° литературный язык является в своей основе тосканским:
предает убедиться в этом на опыте. Во-первых, тому, кто родился и
°спитывался вне Тосканы и пожелал бы прославиться на литера-
Урном поприще, потребуется немало усилий и труда, чтобы
овладеть этим языком. Пацци имеет в виду не поэтику (творческий
ьщысел, мудрые речения и другие блестки красноречия), а обыч-
272 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ное владение языком на уровне знания лексики и морфологии
(vocabuli, parole, strutture di parole). Любой же тосканец обладает
этим знанием (владеет языком) от рождения. Во-вторых, если взять
самые простые сочинения Боккаччо, в которых речь идет о самых
«низменных» вещах, доступных для понимания простого
человека, не искушенного в высоких материях (Данте и Петрарка не
годятся для этого эксперимента, т. к. трудны по содержанию), и
пройтись с ними по городским кварталам и окрестным селам
Генуи или любой другой местности, предложив опознать язык, то
выяснится, что никто, кроме тосканцев, не признает в этих
сочинениях своего языка и мало что поймет в них. В Тоскане же для
большинства населения, включая женщин и детей, понимание этих
текстов не составит никакого труда, поскольку они написаны на
родном для них языке.
Доказав таким образом превосходство тосканского языка,
А. де' Пацци переходит к рассмотрению языковых различий внутри
Тосканы, с тем чтобы выбрать наилучший язык, который должен
быть эталоном («нормой, правилом и именем») для всех
остальных (ср. рассуждение Данте о «мере» для всех языков в VE I.
XVI). «В речи иных тосканских городов, — отмечает он, —
имеются недостатки (mancamenti), каковые мешают им стяжать
славу достойного языка (onorata lingua). Жителей Лукки и пизанцев
можно упрекнуть за то, что они не умеют произносить г, аретин-
цы говорят campete e sonete (вм. -ate 2 л. мн. ч), сиенцы — chesto
и chello ([ke] вм. [kwe]), а перуджинцы quisto и quillo ([kwi] вм.
[kwe])». Перечень этих ошибок можно было бы продолжить, но и
этих примеров достаточно, чтобы убедиться, что из всей Тосканы
только Флоренция выделяется своим прекрасным и цветущим
языком211, значит и язык должен называться «флорентийским».
211 Пацци использует здесь диалектные наблюдения, отмеченные Л. Мартелли
в его ♦Ответе на "Эпистолу" Триссино о прибавлении новых букв народному
флорентийскому языку». Процитируем этот отрывок полностью: «Поскольку не все
тосканцы, как мы видим, говорят одинаково и произношение одних отличается
от произношения других, то я выделяю в тосканском языке несколько
произношений, из которых флорентийцами принимаются не все. Пизанцы и жители
Лукки произносят z не так как флорентийцы, а как одно или два s, очень во многих
случаях они употребляют г вместо / и говорят ar fiume, что значит al fiume 'я*
речке*. Аретинцы и другие их соседи очень часто ставят е вместо а, например»
andiemo вместо andiamo 'пойдем*... Если поездить по Тоскане и прислушаться^
ее речи — к ударениям и произношению, то нельзя не заметить, что
флорентийский из этих разных тосканских произношений произвел свой отбор (il fiorentino
delle toscane pronunzie ha fatto una elezzione), а ведь этот язык для Тосканы (я°
части его ценности — pregio) то же, что для Греции афинский» [DL. р. 139, not*
43]. Как отмечают исследователи, трактат Мартелли является самым ранним
свидетельством перехода а>е в итальянском.
IL CESANO,
DIALOGO DI M,
CLAVDIO TOLOMEI,
NEL Q.VALE D-A PIVDOTTI HVOMINI SI
DISPVTA DEL NOME, COL QVALE SI DEE
R AGIO NEVOLMENTE CHIAM.4RP. LA
V О L С A E. LIUSVA.
CON P Ц1 f I L £ G I <f.
*ss^
**»
\IH VIM EGIA APPRESSO GABRIEL ;'
Л GtOLlTO DE FERRARI, ET
PRATELLl. JVC О L V.
Рис. 4. Первое издание трактата Клавдио Толомеи
«Чезано о тосканском языке». Венеция, 1555.
274 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Выступление Пацци представляет для нас интерес в
нескольких отношениях: с точки зрения эмпирического материала,
характеризующего лингвистическую ситуацию Италии XVI в., и его
освоения (диалектные различия и проблема общения, программа
сравнения «языков», фонетические особенности диалектов и т. д.)
и с точки зрения восприятия трактата «О народном
красноречии» — как самое начало традиции его интерпретации. Алессанд-
ро де' Пацци — персонаж «Чезано» — использует образы,
сравнения, формулировки, теоретические положения дантовских
трактатов о языке и, наконец, саму «фабулу» VE — поиски
языка, для достижения цели, диаметрально противоположной цели
самого Данте. Он обнаруживает место пребывания искомого
языка и таким образом определяет ведущую роль столицы Тосканы,
Флоренции, в формировании литературной нормы. Рассуждение
совершенно корректное и для XVI в. нетривиальное. Данте, как
мы помним, (см. VE кн. I) преследовал совсем иную цель, и его
«охота» в лесу итальянских диалектов увенчалась нахождением
языка, «составляющего собственность каждого и ни одного в
отдельности италийского города, по которой все городские речи
италийцев измеряются, оцениваются и равняются» (VE I. XVI. 6). В
контексте дискуссий XVI в. об источниках национальной нормы
простая логика: Данте был флорентийцем, его родным языком
был флорентийский, следовательно, он писал именно на этом
языке, восхваляя его в своих поэтических и прозаических
сочинениях, — предопределила всю последующую традицию восприятия
лингвистических взглядов Данте.
Последним берет слово Габриэле Чезано, близкий друг Клав-
дио Толомеи. Его монолог занимает две трети трактата [Cesano,
р. 215-275] и представляет собой последовательное изложение
лингвистических взглядов Толомеи (см. выше с. 230-231 и далее
с. 237-242), возвращающееся лишь в конце к исходной теме
диспута — вопросу о названии языка. Толомеи считает, что
«правильные названия» (veri nomi) языков должны иметь не
социальную, а географическую приуроченность. Он отвергает термин
«итальянский» как слишком общий, а «флорентийский» как
слишком частный, выбирая в качестве «разумной середины» (ragionevole
mezo) название «тосканский» (именно это обозначение
действительно стало общеупотребительным вплоть до XIX века и нередко
употребляется в современной лингвистике). Указание на середину
между двумя крайностями здесь, конечно, неслучайно212 и слУ'
212 Ср. в рассуждениях о богатстве и бедности литературных языков: «...мЯе
кажется (если, конечно, я прав в своих рассуждениях), что все крайности,
происходящие от избытка или от недостатка, являются пороками как в обычаях, так *
в языке, а добродетель находится посередине (la virtu nel mezo si pone) ... и поев-
qacrnb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 21Ъ
^ит последним аргументом — этическим обоснованием правиль-
ности предлагаемого им названия языка213.
До этого окончательного вывода все рассуждения Толомеи-Че-
зано увязывались с историческими фактами, лингвистической
ситуацией, фонетическим и грамматическим «строением»
тосканского языка. К. Толомеи определяет территорию тосканского языка
в границах исторической Тосканы, опираясь на географические
описания Плиния и Страбона. Говоря о большом разнообразии
«местных акцентов» (grandissima diversita d'accenti), он обращает
внимание на то, что наречия тосканских «земель» отличаются друг
от друга главным образом фонетикой (una certa differenza di
prolazione), что же касается остального — лексики в целом (за
небольшими исключениями), структуры слова (strutture di [voca-
buli]), фигур речи, окончаний и «правил», то они являются
одинаковыми по всей Тоскане. Отмеченные фонетические
особенности местных наречий Толомеи расценивает как незначительные
расхождения (una certa qualita di роса importanza), касающиеся
произношения отдельных гласных и согласных, но не
затрагивающие сущности (sustanzia), т. е. фонетического облика слова и
всего звукового строя тосканской речи. Эти частности, как
проницательно замечает автор, являются территориальными
различиями внутри одного языка и сопоставимы с подобными же
различиями между «языками Греции» (аттическим, дорическим и др.).
Современную ему лингвистическую ситуацию Италии он
сравнивает с романизацией Апеннинского полуострова с той существенной
разницей, что экспансия тосканского языка не связана с
расширением империи, которое всегда сопровождается насильственным
навязыванием своего языка побежденным народам. «Чужие
народы» (le forestieri genti) принимают тосканский язык, «любят, учат
и почитают его» не в силу необходимости, а исключительно
благодаря его красоте и изяществу, и нет никого, кто бы, желая
снискать репутацию человека мыслящего (bel ragionatore), не пользо-
вался бы этим языком в качестве средства общения (nel comune
Parlar) [Cesano, p. 255].
МУ я считаю одинаковым пороком (stimo vizioso), когда слов, предназначенных
Для обнаружения наших мыслей, слишком много или наоборот мало: недостаток
м^щает выразить необходимое и придать украшенность слогу, избыток же
порождает путаницу» [Cesano, p. 252].
Об аристотелевском понятии добродетели в связи с определениями языка у
амого Данте см. выше с. 83, 85 ел. Интересно, что Г. Чезано переводил на италь-
нский «Этику» Аристотеля. Рукописный перевод первых четырех книг и семи
лав V книги Ethica secondo la dottrina d'Aristotele является единственным из
хранившихся трудов Г. Чезано. Оба ученых — Толомеи и Чезано — являются
еРсонажами одного из латинских диалогов XVI в. [Petrucci 1980].
276 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Таким образом, в трактате рассматриваются две точки зрения
на лингвистическую ситуацию Италии XVI в. По мнению одних
(антитосканисты), литературный язык Италии, как и греческое
койне (lingua comune), складывается при участии многих языков
Италии и тосканский является только одной из составляющих этого
процесса. По мнению других (тосканисты), литературным языком
Италии является тосканский, влияние которого распространяется
на все прочие языки. Влияние тосканского (термин «тосканиза-
ция» — toscanizzazione уже употребляется в трактатах XVI в.)
обнаруживается и в сфере письменно-литературной речи, что
объясняется авторитетом писателей Треченто, и в устной речи
образованных людей. В современной итальянистике оба взгляда на
историю итальянского языка — тосканскую или многодиалектную
основу литературного языка — сосуществуют как равноправные.
В трактате К. Толомеи «заглавный» персонаж Габриэле Чезано,
как и предыдущий оратор, обращается к вопросу об «искомом
языке» дантовского трактата. В отличие от своего собеседника, Алес-
сандро де' Пацци, который, как мы видели, исказил дантовское
определение искомого языка («составляющего собственность
каждого и ни одного в отдельности итальянского города»), назвав
местом его пребывания один город — Флоренцию, Чезано старается
понять и объяснить смысл именно этой формулировки. Чезано-
Толомеи прекрасно понимает, что, рассуждая о языке, который
являлся бы «нормой и мерой (norma e misura) всех остальных
вещей в этом же роде» (tutte l'altre di quella spezie), Данте
переходит от рассмотрения реальной языковой ситуации к ее
теоретическому осмыслению (см. ч. I, с. 76 ел.). Уловив этот важный
переход с одного уровня на другой, он предлагает свое толкование
дантовского постулата: «Таким образом, среди наречий Италии
(le favelle d'ltalia) обнаруживается язык латинский (si truova la
lingua latina), который должен быть правилом и наставником
(regola e maestra) для всех других языков (tutte l'altre lingue),
будучи среди них самым выдающимся (eccellentissima). А из того,
что не в одной только Тоскане, но во всех частях Италии слова
этого языка (i vocaboli suoi) можно слышать каждодневно, и
делается неизбежное заключение, что язык этот не пребывает ни в
одном из городов Италии (in nessuna citta d'ltalia si posi), а в
равной мере по всем городам расходится (discorra, ср. discorrere -—
'бегать взад и вперед'; 'разговаривать'), стараясь сделаться
придворным и сиятельным (cortigiana e illustre)» [Cesano, p. 265]214-
214 Ср. у Данте: «Itaque, adepti quod querebamus, dicimus illustre, cardinal»
aulicum et curiale vulgare in Latio quod omnis latie civitatis est et nullius esse
videtur, et quo minicipalia vulgaria omnia Latinorum mensurantur et ponderantur
et comparantur» (Итак, найдя то, что мы отыскивали, мы называем сиятельным»
ь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 277
Эта интерпретация так же далеко отклоняется от дантовской
концепции vulgare illustre, как и отождествление «искомого» языка
флорентийским наречием. Тем не менее само отношение
Толоки к анализу текста убеждает нас в том, что он лучше, чем кто-
либо ДРУг°й из многочисленных толкователей Данте (в том числе
и современных), сумел понять теоретическую направленность
трактата «О народном красноречии», заметив, что его автора
интересовали не местные особенности итальянских наречий как таковые
и не прославление литературных достоинств народного языка, а
проблема языка как целого, поиски инвариантного начала (=forma
locutionis), с которым можно было бы соотнести конкретное
разнообразие изменчивой народной речи, т. е. общелингвистическая
(а не стилистическая, как считают многие) проблематика,
которая интересовала и самого Клавдио Толомеи. Лучше других, по
всей видимости, понимал Толомеи и научный язык Данте, тесную
связь между VE и «Пиром», уловив, в частности, перекличку дан-
товских метафорических определений языка с оптическими
теориями, подробно описанными в «Пире» (см. Пир III.VII.4; III.IX и
наш комментарий в ч. I с. 87 ел.). Примером тому может служить
заключительная часть трактата «Чезано», где зависимость между
интенсивностью света и качеством «проводящей» среды
экстраполируется в сферу языковых отношений: «И подобно тому как
солнце в проз_:чных телах обнаруживает больше силы (virtute) и
блеска (splendore), так и тосканский язык в перечисленных мною
городах (Флоренция, Сиена, Пиза, Лукка, Пистойя, Вольтерра,
Ареццо. — Л. С), в коих речь — наиболее очищенна (pulitissima),
являет нам свою [первозданную] чистоту (nettezza) в полной мере»
[Cesano, p. 274]. Эта прямая цитата из «Пира», где «свет» (luce,
lume) и «блеск» (splendore) фигурируют как физические величи-
нн, имплицирует сохранение за этими терминами (и
производными от них) того же «технического» значения и в тех контекстах,
гДе они используются применительно к языку. Вне этого
параллелизма многие фразы и выражения Толомеи могли бы читаться
иначе, как, например, следующее вполне обычное рассуждение:
«Конечно, ни один язык не мог бы достичь своего наивысшего
"Леска (molto splendore), если бы его не озаряло (illuminata) это
Светлое (chiaro) и как бы вечное солнце (quasi eterno sole) пись-
Менности» (там же, с. 233). Или: «огорчительно, когда у данного
Язь1ка нет писателей, которые бы достойно его освещали (degnata-
mente illustrata — p. 256)». Однако по мере умножения таких
РДинальным, престольным и куриальным народный язык Италии (in Latio),
°рый обнаруживается во всех италийских городах и не принадлежит ни одно-
(Lat-3 НИХ в отДельности и по которому все муниципальные наречия италийцев
tlnorum) измеряются, оцениваются и равняются) (VE.I.XVI.6).
278 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
примеров, где «солнце», «свет», «блеск», «освещать» (illuminare
illustrare) оказываются собранными вместе в тексте, пронизанном
дантовскими реминисценциями, они воспринимаются как продо^
жение дантовской метафоры языка-солнца (Пир I. XIII.12)215 цэ с
другой стороны, показывают наметившееся в XVI в. развитие тер.
мина illustre, illustrare (фр. illustration) в сторону специализации
его значения: «иллюстрировать» язык примерами литературных
произведений на этом языке означает не просто прославлять язык
но предполагает определенную технику сознательной и целенап-
равленной работы по совершенствованию языка (ср. теории языка
у Плеяды, см. ч. I, с. 92 прим. 158).
Теория vulgare illustre и лингвистическая концепция К. Толо-
меи принадлежат разному времени и формировались они, помимо
всего прочего, с ориентацией на принципиально разные
прагматические задачи. Для дантовского времени (которое мы вслед за
Цумтором назвали периодом «поэтической структурализации язьь
ка», см. выше с. 138) главной задачей языкового строительства
было обнаружение языка в разноголосице италийской речи и его
воплощение — явление языка своему народу (отсюда религиозная
и — шире — мифопоэтическая образность дантовского
метаязыка). Вполне понятно, что задача, сформулированная таким
образом, ставилась не перед всем коллективом (носителями языка), а
перед деятелем (демиургом) и справиться с ней — воплотить
Слово в формах живого языка — мог только поэт — fabbro del parlar
materno («кузнец родного языка»). Если для Данте главной
идеей, положенной в основание его доктрины, было представление о
двуединой сущности языка, и все противоречия так или иначе
соотносились с антиномией божественного и человеческого
начала в языке, то для гуманистической культуры, осваивающей мир
в его человеческой ипостаси, на первый план выдвигались
проблемы, связанные в первую очередь с функцией языка как
естественного средства общения людей. Эстетика Ренессанса провозгласила
самоценность «природного и естественного» уже без всяких
религиозных обоснований, и в этом контексте задачи языкового
строительства стали всеобщим делом, а роль активного начала — *д*
лателяь языка отошла к народу, говорящему на своем родноМ
языке. В трактате «Чезано» формула «народ является кузнецом Я
наставником языка» (Ч vulgo ё fabbro e maestro de le lingue e de Iе
215 Любопытно отметить, дантовская метафора языка-солнца считается
«изолированной» — не имеющей продолжения в последующей традиции [Weinrich 195»»
S. 518]. Возможно, что эта метафора восходит к арабской традиции, известной
дантовское время из средневековых источников. См., например, [Khasaf 1992J-
iincmb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 279
аГ01е — p. 191)216 отражает это принципиально иное видение
языка. Главной лингвистической задачей XVI в. (периода
нормализации итальянского языка) становится осмысление и описание
самого устройства языка, его строения, обозначаемого у Толомеи
словом fabbrica (de la lingua)217.
В заключение отметим, что диалог «Чезано о тосканском
языке» является обобщением многочисленных споров о языке — это
уже как бы пример научного изложения «истории вопроса». Из
тех терминов, которые рассматриваются в трактате, бурную
эмоциональную реакцию вызывали названия «итальянский»,
«тосканский», «флорентийский». Вынесенные в заглавия
опубликованных в печати трактатов соответствующих авторов: Триссино
(итальянский), Толомеи, Фиренцуола и др. (тосканский), Мартел-
ли (флорентийский), эти термины претендовали тем самым на
официальное название языка Италии. Однако эмоциональная
сторона вопроса мало занимала К. Толомеи, и по этому поводу он
ограничился ироническим замечанием в начале трактата,
сравнив спор о названиях языка в Италии с пререканиями семи
греческих городов за почетное право зваться отчизной божественней-
шего (divinissimo) Гомера [Cesano, p. 185].
Главное внимание в трактате уделено разграничению понятий,
а уточнение терминов как раз и происходило в начальный период
полемики — в 20-е годы XVI в. Как явствует из посвятительного
письма Триссино к трагедии «Софонисба», где обозначение lingua
italiana впервые появляется в печати (1524), автор не имел в виду
противопоставить итальянский язык тосканскому или
флорентийскому. Посвящая первую итальянскую трагедию папе Льву X (сыну
Лоренцо Медичи) и помня о его «глубоких познаниях в
латинском и греческом языках», Триссино имел в виду утверждение
нового языка в традиционном жанре античной драмы и
мотивировал свой выбор языка тем, что иначе трагедия, поставленная в
Италии, не будет понятна всему народу (tutto il popolo), «и дабы
не погубить зрелище (Rappresentatione), каковое, как говорит
Аристотель, составляет главную часть трагедии, и в силу других
пРичин, которые слишком долго было бы излагать здесь, я ре-
В трактате эта формулировка принадлежит П. Бембо. Правда, как не без
ехидства замечает следующий за ним оратор — Дж. Триссино, вряд ли отыщется
другой человек, который бы так же старался отдалиться от народа, как Пьетро
ембо [Cesano, p. 194]. Этот чисто личный выпад любопытен как свидетельство
ого, что гуманистам не было свойственно то гипостазирование народа как твор-
^кой силы, которое впоследствии отличало филологию периода романтизма.
Ср. название трактата основоположника дескриптивной анатомии А. Веза-
Ия «о строении человеческого тела» (De humani corporis fabrica, 1543).
280 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
шился написать ее на этом языке (questo idioma)» [Castelvecchi
1986, p. XV]. Иными словами, в «Посвящении» речь шла об
итальянской трагедии в противопоставлении античной и, в первую
очередь, греческой трагедии. Так что скорее всего в этом употреб.
лении термин «итальянский» подразумевал противопоставление
классическим языкам — греческому и латинскому [Castelvecchi
1986, р. XVI]. В «Эпистоле о прибавлении новых букв языку
итальянскому», которая, как мы уже говорили, послужила
формальным поводом к началу полемики, Триссино употребляет термины
«тосканский» и «флорентийский» почти как синонимы, во
всяком случае как взаимозаменяемые обозначения, не соотнося их с
разными уровнями языковой общности [Castelvecchi 1986, p. XLIV].
Иерархия «величин»: флорентийский — тосканский —
итальянский начинает вырисовываться позднее (см. ниже с. 300-301), после
того как Л. Мартелли (его точку зрения в трактате Толомеи
излагает А. де' Пацци) в своем «Ответе» объяснил разницу между
столичным (флорентийским) выговором и произношением других
тосканских городов. В трактате «Чезано» обращает на себя внимание
то обстоятельство, что языковые примеры (фонетические и
грамматические) привлекаются для раскрытия понятий
«флорентийский» и «тосканский», в то время как Бембо, защищающий
термин «народный язык», и Кастильоне, излагающий концепцию
придворного языка, обходятся общими рассуждениями, не
обращаясь к конкретным языковым фактам. В изложении Триссино
понятие «итальянский язык» приближается по значению к
современному понятию «национальный язык», содержание которого в
принципе нельзя проиллюстрировать лингвистическим примером.
Однако Триссино готов привести множество лексических
примеров (ограничиваясь для краткости только одним), доказывающих,
что итальянский язык состоит из слов, взятых из разных
областей Италии — Ломбардии, Марки, Умбрии и др. Такое
распределение языкового материала не случайно и, как мы покажем в
следующей главе, отражает принципиально разные
лингвистические концепции, наметившиеся с самого начала дискуссии.
Общетеоретические представления
итальянских гуманистов XVI века о языке
Историки, занимающиеся Возрождением, часто отмечают, ка*
трудно дать общую характеристику не только ренессансной
культуры в целом, но и отдельных ее сфер, будь то научная мысль ил#
художественная практика, философия или эстетика, т. к. их
невозможно свести к какой-нибудь одной доминирующей идее, *
пасть И- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 281
яному единственному принципу. К тому же, как вынуждены кон-
татировать историки, «исследования категорий Возрождения»
/подобного изучению базовых категорий средневековой культуры)
пока еще не существует [Берк 1993, с. 277]. Подчеркивая
сложность «фактического состава» эстетики этого периода,
крупнейший русский ученый А. Ф. Лосев писал: «Можно сказать, что уже
в эпоху Ренессанса были выдвинуты и частично продуманы
решительно все направления буржуазной эстетики (т. е.
западно-европейской эстетики нового времени. — Л. С), которые в
дальнейшем характеризовали собою целые эпохи, но здесь они пока еще
спорадически возникали и погибали в общем хаосе земного жизне-
утверждения» [Лосев 1982, с. 52]. Итальянские лингвистические
трактаты убеждают нас в том, что эта характеристика в
значительной мере применима и к истории языкознания рассматриваемого
периода. Лосев подчеркивает свою мысль неоднократно:
«Эстетика Ренессанса ... успела пройти почти все этапы
последующей истории эстетики, хотя этапы эти были пройдены
слишком стихийно, слишком интенсивно, с большой горячностью
и пафосом и поэтому без необходимого здесь научного анализа и
расчленения» (там же, с. 59, разрядка наша. — Л. С).
Вместе с тем при недостаточном знакомстве русского читателя
с корпусом итальянских трактатов XVI в. о языке подобная
оценка, разумеется, может показаться преувеличенной. Историк
эстетической мысли вправе позволить себе большую свободу
собственных суждений и широких обобщений, он в лучшем положении по
сравнению с нами, поскольку ренессансные эстетические
трактаты общедоступны благодаря переводу на русский язык,
сделанному коллективом ученых (Л. М. Брагиной, А. Х.Горфункелем,
Н. В. Ревякиной и др.), готовивших этот корпус текстов на
протяжении десяти лет [Эстетика Ренессанса]. Тем не менее мы
надеемся, что после изложенного выше материала попытка обрисовать
здесь общие контуры ренессансных концепций языка не
покажется голословной. Сделать это, впрочем, так же трудно, как
определить, что такое язык в понимании современной лингвистики.
Сочетание устойчивого и изменчивого, вечного и сиюминутно-
г°> коллективного и индивидуального, сознательного и
бессознательного, природного и социального, хорошего и плохого, высоко-
0 и низкого, своего и чужого, конечного и бесконечного и т. п. —
Се эти отношения открылись наблюдателю как присущие языку,
все они в самых разнообразных переплетениях и повторениях
осуждались в дискуссиях XVI в. Будет проще указать, чего не
*ло в ренессансной концепции языка, чем дать ей какую-то
поучительную характеристику. «Во всех областях, — говорит
* ^арки, — неизменно должна преобладать и одерживать верх
282 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
логика (ragione), но только не в языке; в языках, где употреблю
ние (uso) противоречит логике, а логика противоречит употребле*
нию, — там следует ожидать, что впереди всего будет употребле*
ние» [DL, р. 478, п. 159]. Здесь язык противопоставляется всем
другим видам человеческой деятельности, и «употребление» еле*
дует понимать широко — как речевую деятельность (langage)218 B
целом в противоположность логике, а не просто как то или иное
употребление грамматических форм, конструкций или слов. Гу%
манистов не интересовали логические отношения в языке и связь
языка с мышлением, которая была одной их главных тем
средневековой лингвистики.
Вторая важная особенность языкознания XVI в. состоит в том,
что оно не проявляет никакого интереса к проблеме именования,
к метафизической связи между именем и вещью. Таким образом,
все внимание филологов XVI в. сосредоточилось собственно на
языке, их интересовал язык как таковой — вне связи с мышлением
как таковым и вне связи с предметным миром. Последнее не
означает обрывания всех связей с внешним миром, но этим внешним
по отношению к языку миром стало человеческое общество и его
жизнь в истории, а не мировой космос.
Открытие всей многообразной действительности языка, его
многоликости, было поистине открытием. Это представление не
могло накапливаться постепенно, шаг за шагом, в процессе
последовательного обнаружения каждой из сторон языка, а произошло
«сразу и вдруг» (это любимое выражение Достоевского здесь как
нельзя более уместно), как только человеческая мысль
освободилась от догматической привязанности к какой-то одной
доминирующей модели мироустройства — будь то античная космогония
или средневековая теология, и доверилась своему слуху,
природному языковому чутью и здравому смыслу и воодушевилась
естественным чувством любви к своему языку.
Открытие языка — всего языка — произошло в эпоху
Возрождения; этой главной своей особенностью ренессансное
языкознание отличается от всей предшествующей традиции и именно этим
может объясняться то обстоятельство, что вся проблематика и
основные контуры современной лингвистики были намечены в эту
эпоху. Остается только удивляться, что такой кардинальный
переворот в подходе к языку оставался — за редким
исключением — незамеченным в историографии лингвистики. Обращая
внимание на важность этого кардинального переворота для послеДУ"
ющего развития науки о языке, мы не пытаемся при этом ДаТЬ
оценку ренессансного языкознания — лучше оно или хуже, ела*
18 Ср. определение языка Б. Варки (см. ниже с. 297).
mb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 283
бее или сильнее античной или средневековой науки, важно, что
но друг°е* При всей сложности фактического состава
итальянского языкознания XVI в. и при всем разнообразии взглядов, не
сводимых к одному знаменателю, крайние полюса этого спектра
соотносятся с одной из фундаментальных для ренессансного
мировоззрения и мироощущения антиномий — с оппозицией
«природа (natura) vs искусство (arte)». В рамках этого отношения нам
важно определить, что относится, по представлению итальянских
филологов, к сфере «природного» в языке, во-первых, и что
понимается под «природой» языка, во-вторых.
К сфере природного относится устная форма речи, язык в
функции инструмента непосредственного общения. Он является
даром природы (dono di natura), предназначенным для этой цели —
для непосредственного обмена информацией. Письменная форма
речи является техническим усовершенствованием, человеческим
изобретением, не предусмотренным природой. Подчеркивая
разницу между двумя способами передачи информации, Толомеи
пишет: «...ведь он [язык] есть звучащий голос (voce), который
воспринимается другим [человеком] со слуха, и я не вижу особых
причин, почему грамоту (l'artifizio de le lettere) — это
изобретение искусства (invenzione de Tarte), которое предоставило нам
возможность открывать свои мысли тем, кто в настоящий момент
находится вдали от нас или придет после нас, и воспринимать
сказанное глазами, — надо обязательно смешивать с тем, что
является даром природы, предоставившей каждому возможность
раскрыть свое воображение (fantasie) перед теми, кто находится
рядом с нами» [Cesano, p. 249]. В противоположность живому
общению письменная речь, которая «к бесчисленному множеству
людей обращается, — как отмечает Бембо, — и пригождается
надолго», есть не что иное, как «обдуманная речь» (parlare pensata-
toente) [Литературные манифесты, с. 34]. «Труд письма, который,
будучи предпринят нами с более дальней и более долговечной
целью, и исполнен должен быть с большим совершенством, ибо тот,
кто пишет, желает быть прочитан не только своим поколением,
но и будущими» (там же, с. 33).
Таким образом, к области «природного» относится «обычный
язык» в функции орудия непосредственного общения. Основной
Формой существования этого обычного языка является устная речь,
главной особенностью — отсутствие сознательной установки на
Обдуманность речи», т. е. отсутствие сознательной отделки язы-
а с°общения, которая бы описывалась в категориях правильнос-
и> совершенства, украшенности и т. д. Главная отличительная осо-
енность естественной речи находит свое отражение и в некоторых
Исьменных текстах, которые по своему коммуникативному зада-
284 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыСл
нию не претендуют на «искусство». На наличие таких «безыскуСч
ственных» текстов («в которых нет искусства, а только прцр^
да» — dove поп sia arte, ma tutta natura) обращает внимание Н. Ц^
кьявелли. При этом он не определяет жанровую принадлежность
текстов, но подчеркивает их территориальную принадлежность и
необходимость сравнивать язык писателей «с чисто флорентийс-
ким, ломбардским или любым другим провинциальным писанием
(scrittura)» [Discorso 772b]. Значение памятников такого рода
(scritti f amiliari — частные документы) для изучения истории
языка будет раскрыто несколько позже, только во второй половине
XVI в. в трудах В. Боргини (см. ниже главу о нем).
К сфере «искусства» относится письменная речь, самим своим
происхождением предназначенная для других целей. Овладева-
ние письмом требует обучения «искусству письма» и «искусству
чтения», поэтому письменной формой речи владеют не все
говорящие на данном языке. Письменная речь, как видно из
приведенных выше слов Бембо, не имеет конкретного адресата, но
обращена к «бесчисленному множеству людей», радиус ее действия и в
пространстве, и во времени несоизмерим с ничтожной малостью
(ispazio brevissimo) естественной устной речи, с сиюминутностью
обычного общения. Письменная речь — это нелегкий труд (fatica),
умение и ремесло (mestiere), требующие постоянного
обдумывания и отбора языковых средств. Если бы люди всегда и везде
говорили совершенно одинаково, то «передать на бумаге» сказанное
не составило бы никакого труда. Однако окружающая языковая
действительность далека от подобного единообразия, и «какова
бы ни была тому причина»219, замечает Бембо, «мы видим ее (эту
речь. — Л. С.)... столь различной, что не только в главных
провинциях (generali provincie) говорят (si favella) особо и отлично от
других главных провинций, но к тому же и в пределах каждой из
этих провинций говорят весьма различно, а вдобавок и эти говоры
(favelle), весьма различные сами по себе, изо дня в день
варьируются и видоизменяются (alterando si vanno e mutando), — так что
диву даешься, сколько вариаций (quanta variazione) представляет
собой один только наш народный язык (volgar lingua) сегодня, -~
язык, на котором говорим (parliamo) мы и другие итальянцы, **
сколь трудно избрать и извлечь из него тот образец (essempi°)>
коему должно бы на письме следовать и писанием распространять
(formar si debbano e fuori mandarne le scritture)» [Prose I. 1, p. 74]«
219 Знаменательно, что Пьетро Бембо, имевший сан кардинала, не связывае
многообразие языков с вавилонским смешением, отступая от догматического
толкования вопроса. На эту деталь обратит потом внимание комментатор «БесеД
Лодовико Кастельветро [Tavoni 1992, р. 1072].
ъ II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 285
Главная отличительная особенность письменной речи —
установка на план выражения (обработка и отбор языковых средств,
функция образца и его общественная значимость) присуща и
некоторым формам устной речи (симметрично тому, как
проявляется естественный язык в некоторых письменных текстах, ср. выше).
Людей, которые следят за своей речью и с которых можно было
бы брать пример, очень мало. «На каждый город, — пишет Карло
Ленцони, — приходится малое число (pochi) людей, сознательно
(ragionevolmente) относящихся к тому, как они говорят и пишут»
[DL, р. 361]. Для выработки хорошего слога в разговорной речи
необходимо стремление к этому (studio), а для овладения им —
долгая практика общения с людьми сведущими и образованными
(per lunga pratica di persone qualiaficate), так что по всем своим
характеристикам разговорная речь людей грамотных (letterati) и
образованных (colti), обозначаемая общим термином «придворный
язык» (см. выше с. 267 ел.), также является достижением
искусства.
Как явление, «запрограммированное» природой,
рассматривают гуманисты разнообразие языков и их изменчивость во
времени. Область распространения каждого языка — огромные
территории или крошечные земли, как отмечает К. Толомеи, зависит
от стечения многих обстоятельств; для человеческого общежития
(al mondo), наверное, было бы тем лучше и тем полезнее, чем
более непомерными становились бы пределы какого-нибудь одного
языка, но подобное единообразие несовместимо с величием
природы (grandezza della natura), она его не допускает и не поощряет
[Cesano, p. 224].
С рассуждением Толомеи о величии природы и разнообразии
природных языков перекликается замечание П. Бембо о
многообразии письменных языков, которое является следствием
свободного человеческого выбора. Если бы люди всегда придерживались
того правила, что писать должно на «наидостойнейшем» языке
(piu degna lingua), говорится в «Беседах», то «ни римляне
никогда бы не писали по латыни, но только по-гречески, ни греки не
отважились бы сочинять на своем столь прекрасном и столь
звучном языке, но восприняли бы язык учителей своих, финикийцев,
а те — египетский или какой-либо иной; и так от наречия к
наречию к тому народу возвратившись, где впервые чернила и бумага
обнаружены были» [Литературные манифесты, с. 37].
Самоценность природного и естественного, утверждаемая фило-
СоФией и эстетикой Возрождения, приводит к переоценке ценно-
Тей и во взглядах на язык. На первый план выдвигается устная
3вУчащая речь, коммуникативная функция языка и многообразие
ЯзЬ1К0В.
286 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслъ
С точки зрения своей основной функции, все языки оказыва.
ются равными по своей значимости, это обычные естественные
языки, на которых говорит народ, населяющий данную террито.
рию, и потому, как подчеркивает Б. Варки, все они являются на-
родными языками (volgari), греческий и латинский в том числе:
«до тех пор пока население говорило по-гречески и по-латински
оба этих языка тоже были народными» [Ercolano, p. 74].
Признание коммуникативной функции главной функцией языка
и уравнивание всех языков на этом основании важно во многих
отношениях. Во-первых, оно помогает снять многие ограничения —
психологические барьеры, связанные с культурными предрассуд.
ками, — на изучение других языков и считавшихся ранее
непрестижными форм речи (ср., например, очерк о «Крестьянском
языке» В. Боргини, см. выше с. 342-343). Во-вторых, проблема
коммуникации, обретающая в столь многоязыком мире
первостепенное и общечеловеческое значение, побуждает к самому
серьезному анализу целого комплекса возникающих в связи с этим
вопросов: что значит понимать язык и знать его (пассивное знание и
активное владение, степень взаимного понимания и общность
языков); в чем языки сходны, а в чем различны (с выходом в чисто
лингвистическую и даже типологическую проблематику
языковых сходств и различий); какова градация языковых различий
(от очень сильных до незначительных, см. выше о языковых
различиях внутри Тосканы с. 272 и прим. 211). И, наконец,
последнее — и, возможно, самое главное для лингвистической теории
положение — это концепция языка как структурного целого,
языковой структуры. Эта мысль формулируется и развивается в среде
тосканских ученых, что дает нам право говорить о тосканской
филологии как о самостоятельном течении, если угодно, о
тосканской школе.
«Кто же поверит в то, что язык блуждает и разгуливает без
всяких правил (che ella sia vagabonda e senza regole discorra)», —
восклицает К. Толомеи. «Ведь если бы не было грамматики — У
каждого языка своей (gramatica sua), — то и говорить на языках
было бы невозможно, как и называть такой язык "языком" (пе
parlare ne lingua dir si potrebbe). He верится мне, что и в нашем
языке кто-нибудь стал бы говорить "я любит" или "ты люблю'•
Другое дело, что правила, которые есть в самом языке, могут быть
еще не найдены или же не описаны (trovate о scritte), как это
обычно и бывало со всеми языками, но следует из этого только
одно: грамматика рождается из языка, а не язык из грамматики*
[Cesano, p. 256].
Таким образом, пересматривается еще одно традиционное пр0'
тивопоставление: «упорядоченные языки vs неупорядоченные язЫ'
tfacmb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 287
к#». Отличие упорядоченных языков (кодифицированных) от не-
п0рядоченных (некодифицированных), которое наблюдается в
действительности и для всех очевидно (ср. споры о преимуществах
латыни), является не изначальным, а исторически обусловленным;
оНо связано с сознательной деятельностью, направленной на
кодифицирование языка, в результате которой обнаруживаются,
осмысляются и систематизируются правила данного языка, иными
словами, создается его грамматика. Различение языков по
принципу наличия или отсутствия грамматики касается только
степени освоенности и изученности того или иного языка (область
искусства и науки, ср. лат. термин ars, объединяющий и то и другое)
и никоим образом не связано с природой языка. Мысль о том, что
природа языка, его «естество» (natura) это и есть его
упорядоченность и организованность, существующие сами по себе, везде и
всегда, без чьих-либо сознательных и целенаправленных действий,
воспринималась в XVI в. далеко не всеми. Этот тезис — как свой
главный аргумент — отстаивают и защищают тосканские
филологи. Раскрыть представление о естественном языке как об
«устойчивой структуре» и «организованной системе» им было так же
непросто, как непросто было бы и нам изложить их концепцию,
оставаясь в пределах языка XVI в.220.
220 На предварительной стадии обсуждения этой работы выяснилось, что
употребление таких слов, как «система», «структура», «синхрония», «диахрония» и
т. п., по отношению к лингвистическим концепциям XVI в. вызывает резкий
протест и недоверие ко всему изложенному. Причина подобной реакции совершенно
непонятна. Использование этих слов, с нашей точки зрения, является ничуть не
большей модернизацией содержания излагаемых концепций, чем применение к
ним целого ряда других терминов, без которых обойтись невозможно и которые
точно так же не встречаются в трактатах XVI в.: «фонетика», «морфология»,
«синтаксис», «лексика» (не говоря уже о «литературном языке», обозначение
lingua litteraria вообще не очень характерно даже и для современного
итальянского языка науки). Мы исходим из того, что использование в нашем языке
описания таких терминов, авторство которых очевидно для читателя (слова «система»
и «структура» почему-то все еще воспринимаются как «модернистские», хотя
Далеко не все современные языковеды являются последователями Соссюра и не
Вся наука состоит из лингвистики), как раз куда менее опасно, поскольку чита-
Тель явно не перепутает язык современной лингвистики и язык трактатов XVI в.,
т- е- не заподозрит, что гуманисты писали об «оппозициях» и «структурах» (хотя
последнее слово — struttura — они употребляют в качестве «предтерминологи-
Ческой» метафоры, см. выше с. 289) и употребляли слова «синхрония» и
«диахрония» (кстати, как предполагают исследователи, первым из лингвистов, кто
употребил термин «синхронистический», был В. А. Богородицкий [Koerner 1989]).
аоборот, как раз общеупотребительные лингвистические термины, такие как
Диалект», «лексика» и др., существующие как бы вне времени и вне националь-
°и традиции — нейтральные и анонимные, обычно не смущают ничей покой и
икому не режут слух, хотя для установления авторства и времени введения в
Умный обиход именно таких «нейтральных» терминов требуется проделать боль-
У*о и кропотливую работу (о термине «диалект» см. ниже), поэтому путаница
ь гораздо более вероятна.
288 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл.
Такие общепринятые в науке того времени термины, как «гра^
матика» и «правила» (regole), слишком тесно ассоциировались с
кодифицированными языками как таковыми и с конкретным (ла.
тинским)221 языком, с употреблением наличных форм и регулиру,
ющими это употребление правилами, с «писаными» правилами ц
нормативными предписаниями, и потому не соответствовали тому
содержанию, которое вкладывалось в понятие природы языка ^
этой тайной скрытой и внеличной силы (forza, forza occulta), ко-
торая управляет каждым языком и пульсирует в нем, как крове-
носные сосуды (vene). Как мы уже отмечали, гуманисты не
проявляли интереса к универсальной структуре и не занимались
поисками общих оснований всех языков (ratio linguarum), их
интересовала как раз самобытность отдельного языка (proprieta).
Однако для описания собственной структуры языка — всего здания
и отдельных его этажей — многих терминов общего значения,
которые не ассоциировались бы с правилом, нормой и
конкретным употреблением (таких терминов как фонетика, морфология,
синтаксис, лексика и др.), в итальянской науке того времени еще
не было222.
В качестве обозначений, восполняющих такие «недостающие»
термины, можно рассматривать употребление форм
множественного числа, например, произношения (pronunzie, prolazioni);
ударения (accenti) в значении совокупность звуков данного языка (=
фонетика, просодика); слова (vocaboli) в значении словарный
состав, корпус слов (= лексика)223; либо развернутый список,
перечень того, что имеет отношение к морфологии (падежи, роды,
времена, окончания) или синтаксису (конструкции, расположение
слов, порядок слов и т. п.).
221 В языке XVI в. используются такие выражения, как «грамотно
производить новые слова», «грамотно произносить» (pronunciar gramaticalmente) в
значении «на латинский манер», т. е. использовать латинские словообразовательные
модели, латинские звуки и сочетания звуков в итальянской речи.
222 Здесь следует также иметь в виду, что многие гуманисты XVI в. (БембО|
Толомеи и др.) старательно избегали латинских и греческих терминов, принятых
в грамматиках и риториках классических языков, изобретая для них свои -^
итальянские — соответствия. Так, например, Толомеи, специально
занимавшийся техникой версификации (и применявший латинское стихосложение к
итальянскому стиху, см. ниже с. 364 сн. 342), не мог, конечно, не знать ученого
термина «хиатус», но для обозначения стечения гласных он использует тосканское
слово sbadeglio — 'отверстие', 'разевание рта'; 'хиатус', русск. «зияние»). СМ-
также с. 356, 362, 396 и прим. 384, с. 412.
223 Ср. такие употребления, как звуки и песни (suoni e canti) в значении «музЫ'
ка и пение» (Сперони), учения (dottrine) = «наука» (passim). Само использованИ
множественного числа могло восходить к греческому образцу именования наУ
во множественном числе, дожившему до нашего времени, например, в англиИс
ком языке.
ifacrnb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 289
Признаками структурной организации в рассматриваемой
концепции обладают только фонетика и морфология (в
противоположность лексике, о чем мы скажем несколько позже). Понятия
фонетической системы и грамматической структуры,
характеризующих — в совокупности — самобытность каждого языка,
раскрываются при помощи разнообразных сравнений и метафор: язык
сравнивают со зданием, выстроенным по особому плану (см. ниже
с. 294), звуковой строй языка — с определенным архитектурным
ордером (см. выше с. 241), грамматический строй — с военным
строем и порядком (ср. ниже рассуждения Макьявелли). Широко
используются технические термины ткаческого ремесла:
«полотно» (tela), «ткань и основа» (tessitura, orditura) и другие, менее
специальные, но тоже «технические» термины, такие как
«текстура» (testura), «структура» (struttura), «строение» (fabbrica) и
др. Следует отметить, что в предшествующей традиции (особенно
это характерно для метаязыка трубадуров) подобная
«производственная» терминология использовалась для описания
поэтического языка и поэтического текста, здесь же она применяется для
описания живого необработанного языка.
В отличие от упорядоченной, автономной и гомогенной
структуры, словарь языка подвержен разнообразным влияниям и
открыт для посторонних, не заданных самим языком элементов. «Не
сыскать такого языка, — говорит Макьявелли, — чтоб все вещи в
нем назывались словами этого и только этого языка, ведь люди из
самых разных краев встречаются, разговаривают, перенимают друг
от друга всякие словечки и выражения (motti). А еще бывает и
так, что новые учения (dottrine) или новые ремесла возникают в
каком-то одном городе и, стало быть, там же появляются и новые
слова (vocaboli) — они складываются на языке той местности,
откуда и пошли эти самые учения и ремесла224. Попадая же к
другим, эти слова — уже в иной речи (nel parlare), — сообразуясь с
падежами, наклонениями, различиями (differenze) и ударениями
того языка (lingua), в котором они оказались, превращаются в
слова этого другого языка, а иначе все языки были бы латаными-
перелатаными и без подобающего им ладу». И далее: «язык
приспосабливает слова, взятые из других языков, к собственному
употреблению, и мощь его столь велика (si potente), что не чужие слова
Расстраивают (disordinano) язык, а, наоборот, — язык расстраива-
ет (disordina) их» [Discorso, 773b; 776a]225.
Здесь уже сформулировано понятие, которое в современной лексикологии и
Зимологии получило название «культурных слов».
Эту же мысль о языке как об изначально (с первого момента
функционирования) отрегулированной системе продолжает следующее сравнение Макьявелли:
*° римском войске сами римляне составляли не более двух легионов, то есть что-
0'*ик 3101
290 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысли
Противоположную точку зрения — взгляд на язык как на со-
брание слов — отстаивают те из писателей и ученых XVI в., кто
старался доказать единство итальянского языка через общность
его словаря. Наиболее эксплицитную формулировку этой
концепции (язык как словарь) мы находим у Дж. Триссино: «каждый
язык, — утверждает он, — это произвольное множество (quantity
discreta), поскольку он представляет собой некое объединение слов
(ё una unione di parole)» [Castellano, p. 63]. «Дискретное
множество», в определении Триссино, — это количество, состоящее из
многих чисел (la quantita discreta consiste di piu numeri) или
предметов, как, например, куча зерна. Это «исчисляемое» количество,
которое может расти до бесконечности (crescere in infinito),
противопоставляется «непрерывному множеству» (la continua),
представленному единицей или одним единственным предметом
(например, обелиск Св. Петра в Риме), которое можно «делить до
бесконечности» (dividere in infinito)226.
С точки зрения Триссино, строение слов или их текстура
(ordimenti о testure) относится к внешней, формальной стороне
языка, это как бы фон или, как сказано в трактате, «то, что
находится вокруг [слов]» (che habbiano d'intorno) (там же, с. 62)227.
Таким образом, противопоставление этой концепции
«структурному» подходу к языку также выражено достаточно эксплицитно.
Сторонники этой теории рассматривают итальянский язык как
общий язык итальянцев на том основании, что его словарный
состав пополняется за счет всех «местных» ресурсов, а не только
одного тосканского.
Типичным примером такого подхода к языку являются
доводы Марио Эквиколы (ок. 1470-1525 гг.), изложенные им в «По-
то около двенадцати тысяч человек, а двадцать тысяч других были инородцами,
но поскольку эти легионы со своими военачальниками и были нервом (nervo)
всего войска, поскольку все подчинялись римскому порядку (ordine) и
дисциплине (disciplina), то и остальные легионеры несли римскую власть и достоинство и
носили римское имя» [Discorso, 776а].
226 Триссино нигде прямо не называет итальянский язык «непрерывным
множеством», но его концепция итальянского языка как единства (una lingua),
состоящего из многих — все более и более дробных — подмножеств, от областных
языков (сицилийский, тосканский, ломбардский и др.) до индивидуальных (т. е.
идиолекта), позволяет говорить о том, что идея непрерывности языкового K0HTF!J
нуума (противоположность атомарности) также учитывалась в лингвистическо
теории Триссино (см. выше с. 266—267).
227 Ср. у Варки: «языки и их силу (le lingue e la forza loro) составляют п
преимуществу не отдельные слова, поскольку они, взятые сами по себе, можн
сказать, не означают ничего (поп significano nulla) — ни истинного, ни ложно
(поп significando ne vero пё falso), а сопровождение слов (vocaboli accompagnatU»
определенные особенности (certe proprieta) и, что называется, извивы Ре
(capestrerie), которыми так изобилует флорентийский язык (ё la fiorentina Ип£
abbondantissima) [DL, р. 153, п. 74].
ь /7. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 291
ящении» к «Книге о природе любви» (текст Dedicatoria
опубликован в [Rocchi 1976, р. 573-578] и цитируется по этому
изданию)- «Здесь, — пишет автор, — ты найдешь не только отборные
слова из всех областей Италии, но и немало других — хотя и
очень редких — из языка испанского и галльского» (т. е.
французского. — Л. С). Обогащение словаря Эквикола
рассматривает как общую закономерность развития языка228 и отмечает, что
точно так же, как современные писатели Италии, поступали и
римские авторы, «расширяя» свой язык (romana lingua) за счет
сабинских, кампанских, латинских и этрусских слов. Помимо
этих местных языков (в числе которых назван и латинский)229,
язык писателей, как отмечает автор, постоянно расширялся
благодаря бесчисленным заимствованиям из греческого и многих
других языков (приводится целый ряд примеров таких
заимствований из галльского, испанского, африканского, т. е.
«пунического» = финикийского, персидского и македонского языков,
взятых Эквиколой из Варрона, Квинтилиана и др. источников [Rocchi
1976, р. 575]). Возражая против этого распространенного
«заблуждения», К. Толомеи подчеркивает, что латинский язык
продолжал оставаться латинским, несмотря на наличие в его
составе многих греческих, оскских и этрусских слов и иногда
встречающихся заимствований из галльского, пунического и
других языков [Cesano, p. 248-249]. Словарь каждого языка, как
отмечает ученый, постоянно обновляется, но даже если
предположить, что прав был Секст Помпеи, когда говорил, что состав
слов латинского языка поменялся полностью, то даже это
полное обновление словаря не может служить достаточным
основанием, чтобы считать данный язык другим, новым языком.
Толомеи сравнивает этот процесс (обновление лексики) с кораблем,
который за свое долгое плавание, устраняя то одну, то другую
О распространенности этого представления о языке как о собрании разно-
Родных элементов может свидетельствовать полемический выпад латиниста Лац-
Чаро Бонамико в «Диалоге» Сперони против тех, кто называл «эту
нечленораздельную варварскую мешанину» (indistinta confusione di tutte le barbarie del mondo)
♦итальянским языком»: «Об одном молю Бога, пусть Он внесет еще больший
Разлад в этот хаос и разъединит все слова этого языка и возвратит каждое его
Р°Дному краю. Может быть, тогда наконец-то эта несчастная Италия вернется к
воему первому языку (primo idioma), к которому она — из всех прочих провин-
гтлтИ ~~~ испытывала почтения не меньше, чем страха перед оружием римлян»
1Ъ Р- 297]-
Любопытно отметить, что в значении Отечественный язык' (lingua patria),
Defi ЯЗЬ1К Римского государства (а не столичного города Рима), М. Эквикола упот-
д Ляет термин lingua romana, в то время как термин «латинский» служит ему
я обозначения одного из местных языков (язык Лациума, язык латинов), наря-
у е сабинским, этрусским и др.
292 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
прогнившую доску, может незаметно и постепенно сменить всю
обшивку и стать почти неузнаваемым, но при этом он все-таки
останется тем же самым кораблем [Cesano, p. 225]230.
Итак, следует отметить прежде всего существование в
итальянской лингвистике XVI в. двух разных концепций языка (язык
как единая структура или язык как конгломерат разнородных
элементов), которые являются предметом обсуждений и споров и в
соответствии с которыми отбираются языковые факты
(«примеры»), работающие в рамках одной или другой концепции.
Разумеется, с точки зрения позднейшего развития науки, наиболее
интересна и продуктивна теория, которая рассматривает язык как
автономную, упорядоченную и гомогенную систему. Согласно этой
теории, язык всегда тождественен самому себе (это тот же самый
корабль), как бы он ни изменялся и ни преобразовывался на
протяжении своей истории.
Понятие структуры, разработанное в XVI в. на почве изучения
тосканского языка (термин «тосканисты» в этом смысле
оказывается неудачным, т. к., например, сторонник тосканской нормы
Бембо не пользовался понятием «структуры»), вооружило
тосканскую филологию надежным критерием отбора, анализа и
сопоставления языковых фактов. Э. Станкевич относит к числу
важнейших открытий лингвистики XVI в. противопоставление
структуры и функции и структурный подход к анализу и
сопоставлению языков, позволивший ему назвать итальянских
гуманистов предшественниками современной лингвистической
типологии: «Лингвисты Возрождения столь же проницательно подмечали
морфологические различия между языками [как и фонетические],
хотя их открытия в этой области были куда менее
систематичными, поскольку они сосредоточивали внимание главным образом
на итальянском и на его отличии от классических языков. Но
даже и в этой области они выдвинули некоторые идеи, которые
получили распространение много позже, как, например, различие
«синтетических» и «аналитических» языков, которое обычно
возводят к трактату Адама Смита или к пионерской монографии
Ф. Шлегеля об индийцах. Так, Варки, в частности, отмечает, что
греки и римляне посредством одного слова выражали те же
значения, которые современные языки вынуждены выражать
несколькими словами, и он, как Адам Смит, так же проводит разграниче-
230 Удивительно совпадение с формулировкой О. Мандельштама: «Иннокентии
Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь
корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать» (Мандельштам 198«»
с. 175]. Уподобление кораблю государства проходит через века античной культУ;
ры (ср. корабль-государство уже у Алкея). Замена государства языком в данно
метафоре, возможно, проходит через ступень lingua/imperium у Л. Баллы.
цасгпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 293
нце между более экономными и менее экономными языками (Эр-
колано IX, 345)» [Stankiewicz 1990, р. 237]. Идея «тождества» в
применении к живому языку, к конкретной истории языка и
языковой ситуации оказалась необыкновенно плодотворной и
успешно применялась учеными XVI в. для постановки и решения
целого ряда вопросов, выходящих далеко за пределы узко национальной
проблематики. Укажем три главных линии этих исследований.
1. В области сопоставления латыни и «народного языка»
критерий «тождества» привел к разграничению постепенного
изменения внутри одного языка и «скачка» — образования новых
языков (членение языкового континуума в диахронии). Сопоставление
фонетических систем двух языков привело к открытию
регулярных звуковых соответствий (фонетических законов) между
латинским и тосканским (Толомеи, см. ниже с. 366-368, 389).
2. Членение языкового континуума в синхронии на основании
сходств и различий между «языками» (диалектами) Италии.
3. Выделение тосканского языка в качестве языка-основы
итальянского литературного языка.
Поскольку вопросы происхождения итальянского языка будут
рассмотрены в следующей главе (см. ниже с. 310-334), а
фонетические законы — в «Звуковом строе языка», то здесь (чтобы не
быть голословными) проиллюстрируем конкретными примерами
пункты 2 и 3.
В работах по истории языкознания довольно часто приходится
читать, что итальянцы настолько были заняты изучением
классических языков и комментированием своих классиков — Данте,
Петрарки и Боккаччо, что у них не оставалось времени на
изучение других языков (в частности, даже языков своих ближайших
соседей) [Kukenheim 1932, р. 146]. Подобные утверждения,
основанные на выделении только одной стороны филологических
занятий гуманистов, разумеется, не отражают всей картины, — так,
преимущественный интерес итальянцев к своему языку можно было
бы объяснить и другими причинами, например, связать это с
многообразием «языков» в самой Италии231 и попыткой
систематизировать эти сложные отношения на основании объективных, т. е.
сУгубо лингвистических параметров.
, Так, например, выдающийся тосканский филолог Леонардо Сальвиати (1539-
598) включает в свои комментарии к языку «Декамерона» (Degli avvertlmenti
j a lingua sopra 7 Decamerone «О наставлениях в языке по "Декамерону"», том
^ 1584, II - 1584) переводы одной из новелл Боккаччо на двенадцать «язы-
0в»: бергамасский, венецианский, фриульский, истрийский (диалект Истрии),
ДУанский, генуэзский, мантуанский, миланский, болонский, неаполитанский,
КаРУДЖинскии и пР0СТ0Речный флорентийский («флорентийский Старого рын-
Мо ^РеДставление ° том, чтб такое «комментирование классиков» в XVI в.,
Av^H° составить по вспомогательному аппарату Сальвиати к его обширному тру-
' dTo указатель (tavola) тосканских авторов XVI в. (miglior secolo), упомянутых
294 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Ученые XVI в. сумели подойти к решению этой задачи и
довольно точно выделили конец слова как главный показатель фоно-
морфологической системы данного языка. В самом общем виде
отличительная черта тосканской речи формулируется так: в
тосканском все слова оканчиваются на гласную. Эту особенность
подчеркивают чуть ли не все тосканцы, но интерпретируют ее по-
разному. Говоря о разной структуре (diversa struttura) кладки стен
и оснований (muri e fondamenti) в римском (romana) и тосканском
языках, Клавдио Толомеи подчеркивает, что наиболее заметным
показателем «строевых» (структурных) различий является
«оконечность» (finimento) или как бы крыша слов, если
позволительно будет так сказать (quasi tetto, se cosi dir si pu6, de le parole); в
латинском слова оканчиваются по преимуществу на согласные,
тосканский же «всегда завершает здание своих слов (cuopre
Tedifizio suo) гласной», исключение составляют лишь некоторые
односложные слова (поп, in, con, per, il) и эпентеза -d при
стечении гласных [Cesano, p. 238-239]. Макьявелли рассматривает эту
же особенность в сравнении с другими «языками» современной
Италии, т. е. вычленяет по этому признаку тосканский язык из
всего диалектного континуума. «А еще, — говорит Макьявелли, —
языки (le lingue) различаются произношением и выговором (1а
pronunzia e gli accenti), хотя и не настолько, чтобы языки эти
нельзя было понять. Тосканцы оканчивают все свои слова на
гласные, а ломбардцы и романьольцы почти все свои слова обрывают
(sospendono) на согласном и говорят не «рапе» (хлеб), a «pan»
[Discorso 772a]232.
в комментарии, перечень их произведений, датировка сочинений и списков с
них, перечень владельцев рукописей, справка о владельцах этих списков,
указатель «лиц и академий», указатель других (т. е. нетосканских) авторов и
писателей, географических названий и др., не считая обстоятельных предисловий к
обоим томам (ок. 150 страниц) [DL, р. 799]. О соссюровской идее «langue complete»
у Сальвиати см. [Engler 1975].
232 Для того чтобы выявить все языковые различия Италии, как отмечает
Макьявелли, «следовало бы хорошо расчленить всю Италию (bene distinguere tutta
Italia) и учесть не только каждый город, но и все замки (castella), какие в ней
только есть. Однако во избежание подобного сумбура (questa confusione) мы
разделяем Италию только на ее [основные] провинции (sue province), такие как
Ломбардия, Романья, Тоскана, Папская область (Terra di Roma) и Неаполитанское
Королевство (Regno di Napoli)» [Discorso 771в]. При таком членении провинций
Ломбардия и Романья покрывают всю диалектную область, лежащую к северу от
Тосканы. Отметим в связи с этим, что почти все примеры, которые приводит
Г. Рольфе в своей «Исторической грамматике итальянского языка и итальянских
диалектов» в параграфе «Согласные в конечной позиции» [Rohlfs 1966, р. 422^
435], взяты им из северных диалектов. Современная диалектология обрашаеТ
внимание на рефлексы латинских согласных в конце слова (качество отдельны*
звуков) в сравнении с итальянской литературной нормой (ср. примеры Рольфс*:
of 4uovo' яйцо, nif 'neve' снег и т. п.), в то время как в общероманской перспектй-
цастпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 295
В целом ряде трактатов эта типологическая особенность
тосканского языка оценивается как одно из его главных достоинств
наряду с другими качествами, которые придают ему особую
красоту и грацию, особую нежность его словам (piu dolce di parole).
Карло Ленцони отмечает, что благодаря цельности тосканских
словоформ (integrity delle voci) и «хорошему порядку их
конструкции» (buoni ordini delle costruzzioni) этот язык понимают
лучше, чем какой-либо другой (piu intesa che nessuna altra), он легче
запоминается и его проще выучить, если и не в точности, то хотя
бы в общих чертах (piu atta ad essere imparata, se non esattamente
almeno universalmente) [DL, p. 361].
To обстоятельство, что конструктивные элементы языка
становятся предметом эстетической оценки и используются для
восхваления качеств данного языка и его преимуществ перед другими
языками, разумеется, представляется странным современному —
дескриптивному — лингвистическому сознанию. Но этот эстети-
ко-патриотический антураж не должен заслонять главного — того,
что именно типологически значимые конструктивные элементы
языка становятся объектом эстетических оценок233.
ве в качестве главного типологического различия языков рассматривается
отпадание или сохранение конечного -s. Иными словами, в современной науке
оппозиция «гласный vs согласный в конце слова» не формулируется в таком виде, как
это было в языкознании XVI в.; она отходит на задний план, будучи вытесненной
историей развития отдельных согласных звуков.
233 Об эстетическом отношении к конструктивным элементам «вещи» как об
универсальном свойстве человеческого восприятия хорошо сказано у Цицерона:
«Вот корабль; что более необходимо для него, чем борта, чем днище, чем нос, чем
корма, чем реи, чем паруса, чем мачты? И, однако, у них такой изящный вид,
что кажется, будто они изобретены не только ради безопасности пловцов, но и
Ради нашего удовольствия. Вот колонны, они поддерживают храмы и портики;
однако и в них достоинство ничем не уступает пользе. Вот кровля Капитолия или
любого другого храма; не потребность в изяществе, а необходимость заставила
придать ей такой вид; но когда была придумана двускатная крыша с фронтоном,
чтобы вода стекала с нее, то оказалось, что такой фронтон не только удобен, но и
величав, настолько величав, что если бы построить Капитолий на небесах, где не
бывает дождя, то без фронтона он лишился бы там всякого величия» [Об Ораторе.
Ш. 46.180], перевод М. Л. Гаспарова). Ср. рассуждения об итальянском языке в
* Диалоге» Сперони, где речь идет не о конструктивных элементах, а о языке в
Целом, но подчеркивается та же закономерность перехода от «необходимости» к
«искусству»: «Говорить по-народному (il parlar volgarmente) было некогда вы-
УЖденной необходимостью (forza) для Италии, но, как гласит мудрость, с тече-
Ием времени человек превращает вынужденное и необходимое (forza e necessita)
искусство и промышленность (Parte e Tindustria), — то же и с нашим языком...
началу мы пользовались народной речью с одной единственной целью — чтобы
с поняли те, кто тогда нами правил (т. е. «варвары». — Л. С), теперь же мы
в°рим и пишем на языке народном ради услады (diletto) и увековечения своего
аР°Да (a memoria del nostro nome)» [DL, p. 300].
296 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
То же самое следует сказать и по поводу «восхваления»
тосканского языка. Историография лингвистики, как правило, обо-
значает эту тему, не вникая в ее содержание. Однако, отстаивая
преимущества своего языка, тосканцы, по сути дела, решали
чисто лингвистические задачи, пытаясь доказать, что язык,
лежащий в основе современного литературного употребления (как
письменного, так и устного), — тосканский. Для доказательства
формальной близости (conformita) итальянского литературного
языка к тосканскому предлагались разные способы
аргументации: эксперимент (пройтись с произведениями Боккаччо по всей
Италии и предложить жителям разных областей «опознать» этот
язык см. выше с. 272), сравнение (сравнить памятники
итальянской литературы с «безыскусными» флорентийскими,
ломбардскими и другими текстами) и др. В качестве убедительных
свидетельств того, что авторы, выросшие вне Тосканы, используют
в литературных целях чужой язык, которым они не владеют в
полной мере, приводятся примеры неправильного
словообразования (типа побеждать — побеждение по аналогии с
убеждать — убеждение)234, отмечается бедность языка (отсутствие
экспрессивной лексики и т. д.), бедность стиля (неумение
пользоваться другими стилями, кроме торжественного и величавого —
grave). Комедии Лодовико Ариосто, как отмечает Макьявелли,
отличаются благородством композиции, украшенным и
прибранным стилем (una gentile composizione e uno stilo ornato e ordinato),
но они лишены смака (sali), поскольку свои феррарские
словечки (motti ferraresi) ему не нравятся, а флорентийских он не
знает. В рассуждениях Макьявелли о строе языка и о свободе
владения языком, присущей только его природному носителю,
обе стороны отмеченной выше оппозиции «структура vs
функция» тесно переплетаются, но не смешиваются, и
художественная речь (язык писателя) находится в зависимом положении по
отношению к естественному языку: «никакое искусство не
может не подчиниться природе» (l'arte non puo mai in tutto repugnare
a la natura) [Discorso 775b]235 .
К. Толомеи формулирует эту зависимость следующим образом'
те, «кто выражались благородно на нашем языке и в устной и в
234 К. Ленцони осуждает, например, серию новообразований чисто
литературного происхождения по модели piacevole 'приятный' — piacevolezza 'приятность »
такие как ginestrevole (от ginestra 'дрок') 'заросший дроком' и ginestrevolezza
'заросли дрока*. Выражение ginestrevole monticiuolo 'поросший дроком
пригорок' Бембо изъял из второй редакции своих «Азоланских бесед» [DL, р. 349, п*
6].
235 Это изречение Макьявелли цитируется другими тосканцами (например»
К. Ленцони [DL, р. 371]).
qacrtib //. Языкознание, в Италии в эпоху Возрождения 297
письменной речи, не создали нового языка (поп hanno lingua nuova
formata), а только облагородили тосканскую речь и сделали ее
более красивой» [Cesano, p. 263]. Толомеи четко разграничивает
два разных подхода к языку и рассматривает раздельно сначала
свойства языковой структуры (proprieta e forma de la lingua nostra),
грамматический и фонетический строй (dolce fabbrica)
тосканского языка и процессы естественных изменений в языке, которые не
зависят «от искусства и человеческой промышленности» (la dove
nissuna arte о industria umana vi s'adopera) [Cesano p. 234-250]), a
затем — литературные достоинства тосканского языка (nobilta e
eccellenza — p. 250-258).
Мы сосредоточились главным образом на одной стороне тех
общих взглядов на язык, которые обсуждались в среде
итальянских гуманистов XVI в. (а именно на той, которая представляется
нам наиболее интересным и перспективным вкладом в развитие
лингвистической мысли), но важно иметь в виду, что эти
«структурные» концепции существовали в контексте, определяемом
всеми основными дихотомиями «природа vs искусство», «структура
vs функция (в частности, узус)», «грамматика vs словарь», — ив
целом в ренессансной лингвистике представлены оба полюса
каждой оппозиции. Именно на этом фоне можно оценить «итоговое»
определение языка, данное Б. Варки: «Язык, или говорение (lingua,
о vero linguaggio) есть не что иное, как речь (un favellare) одного
или многих народов, который или которые пользуются для
выражения понятий (concetti) одними и теми же словами (vocaboli) в
одинаковых значениях и с одинаковыми грамматическими
акциденциями (accidenti)» [Ercolano, p. 63].
Наши представления об итальянском языкознании будут
неполными, если мы не остановимся на тех аспектах
лингвистической теории, которые связаны с функционированием языка.
Здесь речь пойдет уже не о разнице взглядов и не о различных
концепциях языка, а о разных понятиях,
вырабатываемых на почве обсуждения вопроса о том, что такое
«употребление» языка.
Термин «узус» (uso 'употребление') оказывается столь же мно-
гозначным, сколь многоликим является сам язык. Употребление —
это то, что поддерживает жизнь языка, утвердившегося на данной
*еРритории (spazio) в качестве общего инструмента общения (con
Uso la mantengono). Употребление является основанием языка,
ег° Роста, умаления или разрушения (l'uso la fonda, la cresce, la
ftunuisce, la distrugge), оно выступает «судьей и наставником речи»
j^esano, P. 224]. «Общими местами» в рассуждениях об изменчи-
°сти языка и о главенстве узуса в формировании норм речи яв-
298 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ляются ссылки (прямые или косвенные) на Горация (Ars poetica
70-72)236 и Квинтилиана (Inst. orat. I. 6, 1-3)237.
Хотя «обычай», как отмечает Варки, у Квинтилиана назван
последним в ряду вещей, с которыми согласуется речь (после
«логики, старины и авторитета»)238, по своей значимости (in valore)
он является первым. Варки выделяет два вида употребления: уст-
ное (del parlare) и письменное (dello scrivere), иными словами, он
рассматривает узус (uso) как форму существования языка.
«Разговорный узус каждого языка, к примеру флорентийского, —
рассуждает он, — в свою очередь подразделяется на два: всеобщий
(universale) и особенный (particulare)». Под всеобщим узусом он
понимает «все слова и все обороты речи (modi di favellare),
которые употребляются всеми, кто одной стеной и рвом окружены 239,
то есть теми, кто родился и вырос внутри города Флоренции или
же был привезен туда еще ребенком (infante) — дабы ввести в
обиход, вернее, вернуть в употребление это слово — или, иначе
говоря, совсем малышом, до того как научился говорить» [DL,
р. 478]. Таким образом, «всеобщий узус», понимаемый как
совокупность всех наличных форм языка, имеющих хождение в
границах данного языка, является эквивалентом понятия
«общенародный язык».
Понятие «особенный узус» в интерпретации Варки относится
к сфере социальной стратификации языка. Здесь выделяются три
страта: 1. употребление тех, кто обучен грамоте, т. е. помимо
родного языка (lingua natia) знает латинский или греческий или оба
классических языка (uso de' letterati); 2. другой полюс
составляют те, кто не знает никаких языков, кроме родного, и к тому же
не умеет правильно говорить на своем родном языке (misuso degli
idioti = плохой узус малограмотных природных носителей); 3. узус
тех, кто не знает классических языков, но на своем родном языке
изъясняется правильно (uso de' non idioti). Приобретению
навыков правильной речи (parlare corettamente) способствует
соответствующее языковое окружение (правильная речь родителей, ня-
236 «Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque / quae nunc sunt in honore
vocabula, si volet usus / quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi» — «Нет
возродятся слова, которые ныне забыты, / И позабудутся те, что в чести, — коль
захочет обычай, / Тот, что диктует и меру, и вкус, и закон нашей речи» [Гор*'
ций. Наука поэзии, ст. 70-72] (пер. М. Зерова).
237 «Consuetudo vero certissima loquendi magistra, utendumque plane sermone u*
nummo, cui publica forma est» — «Обычай есть поистине надежнейший учитель
того, как следует говорить, и надлежит пользоваться обыденной речью, как Р*3'
менной монетой, у которой единый для всех чекан» (Inst. orat. I, 6. 3).
238 «Sermo constat ratione, vel vetustate, auctoritate, consuetudine» — «Речь со*
гласуется с логикой или со стариной, авторитетом, обычаем» (Inst. orat. I. 6. !)•
239 «...одной стеной и рвом окружены» — цитата из Данте: un muro e una fosfl
serra (Purg. VI. 84).
qacrrib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 299
нек, соседей), социальный успех (общение с высшими кругами) и
знакомство с тосканской литературой («общение» с писателями,
чтение, собственные попытки сочинять стихи или прозу). Эти три
благоприятных для индивида фактора Варки называет
«природой» (natura), «везением» (fortuna) и «промышленностью»
(industria). Между речью этой категории носителей (поп idioti) и
речью «грамотных» (uso de' letterati) нет фактической разницы,
она состоит лишь в том, что одни владеют бессознательно только
практикой правильной речи, а другие знают еще и теорию240.
Несколько в ином ключе рассматривает «употребление» Карло
Ленцони. Он выдвигает понятие «общественного употребления»
(uso publico), связав его с идеей Квинтилиана об общественной
значимости слова. «Слова, как и деньги, имеют общественный, а
не личный чекан» (le parole поп altrimenti che le monete, le qual
hanno sempre la stampa publica e поп privata) [DL, p. 355] (cp.
выше с. 298, прим. 237). Ленцони называет общественным
употреблением речь, свойственную главной (maggiore) части
населения, понимая под главной не бесчисленное скопище городских
низов, а только «мыслящих граждан (cittadini e intelligenti),
поскольку все, что относится к обычаям жизненного поведения
(consuetudine del vivere), согласуется и определяется этими
добрыми гражданами» (ср. выше концепцию «придворного языка»).
Именно в этой среде добронравных граждан складываются
формы правильной речи и в этом смысле можно говорить о хорошем
узусе города Флоренции или просто о флорентийском узусе: «А
из соединения (composto), перемешивания (mescolanza) и смеси
(mescuglio) частных (particulare) городских употреблений
рождается то, что следовало бы называть тосканским узусом (uso
toscano)». To же самое можно было бы сказать и о том, как
образуется итальянский узус (uso italiano), но Ленцони предпочитает
ограничиться рассуждениями о знакомой ему местной ситуации
(там же, с. 355).
Эти и многие другие контексты показывают, что термин
«употребление» означает то, что позже назовут речью, — это язык в
Действии241.
Данная стратификация, как замечает собеседник Варки, не учитывает тех,
Для кого тосканский язык является чужим; эти люди, даже будучи образованны-
Ми и сведущими (dottissimi) в классических языках, варварски говорят на своих
Р°Дных языках (favellano barbaramente nelle lor lingue proprie). К какой же кате-
°Рии их следует относить? Варки в ответ ссылается на Бембо, который сравнива-
®т подобных людей с теми, кто возводит в чужом краю прекрасные и хорошо
^Деланные дома, а у себя на родине живет плохо и неустроенно (abitano male e
^agiosamente). Ср. [Литературные манифесты, с. 36].
Отметим, что в истории языкознания, сосредоточенной главным образом на
ализе грамматических теорий, стало принятым рассматривать usus в оппози-
и к ratio. Это противопоставление ratio vs usus, положенное в основу класси-
300 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Если концепция языка как структуры не оставляет места для
конкретной личности, языковой ситуации, общества и т. п.
(«носителем» структуры является сам язык), то в сфере речи
(употребления, функции), наоборот, носитель языка (говорящий индивид,
группа индивидов — сообщество) становится полноправной
единицей лингвистического описания. Понятие индивидуального
языка (идиолекта) как минимальной единицы социолингвистических
отношений (вне связи с проблемами индивидуального
ораторского или писательского стиля)242 является новшеством и одной из
отличительных особенностей ренессансного языкознания по
сравнению с предшествующей традицией. Так, включение индивида в
парадигму социолингвистических отношений позволяет Триссино
разработать многоступенчатую модель «итальянского узуса».
Триссино выделяет пять языковых регистров, располагающихся
между общенациональным языком (lingua italiana) и индивидуальным
(в общей сложности выделяется семь регистров)243.
Отвлекаясь от процедуры выделения этих уровней (см. [Cas-
tellano, p. 48-49]), представим ее результат в виде следующей
схемы:
1. итальянский язык
i
2. [областные языки]: римский, сицилийский, ломбардский,
венецианский, тосканский и т. д.
4.
3. [городские языки]: флорентийский, сиенский, пизанский,
аретинский и т. д. (т. е. городские диалекты Тосканы)
i
фикации грамматик (ср. рациональные грамматики vs литературные,
теоретические грамматики vs грамматики «примеров») и целых периодов (в духе куновских
парадигм) развития науки о языке (логика vs риторика), способствовало тому*
что за «узусом» закрепилось значение частного примера, литературного
употребления, словом, эмпирического факта, не вписываемого ни в какую теорию и в
лучшем случае относящегося к ведению риторики, но никак не лингвистики.
Между тем, как показывают приведенные построения, речь идет о собственно
лингвистическом теоретическом понятии.
242 Ср. в современной лингвистике и поэтике понятие идиостиля.
243 В современной науке состояние итальянского языка описывается как четЫ"
рехъярусная система форм языковой общности: 1. итальянский литературный
язык в письменной форме (italiano come si scrive); 2. итальянский региональный
язык (italiano regionale); 3. региональный диалект (dialetto regionale). 4. местный
диалект (dialetto locale) [Migliorini 1963, p. 81], [Касаткин 1976, с. 171],
[Степанова 1981, с. 139].
цасгпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 301
4. [языки пригородов]: язык Чертальдо, Прато, Сан-Миньято и
т# д. (маленькие города вокруг Флоренции)
Ф
5. [языки городских районов]: виа Маджо, Борго Оннисанти и
т. Д- (городские районы Флоренции)
6. [языки семей или домов]
7. [индивидуальные языки]
В предисловии к современному изданию лингвистических
сочинений Триссино эта схема представлена в виде дерева244
[Castelvecchi 1986, p. XLII]:
1) Итальянский язык А
2) Областные языки
3) Городские языки
7) Индивидуальные языки
Показательно, что вичентинец Триссино (его родная Виченца
входит в провинцию Венето) иллюстрирует свою классификацию
примерами разных уровней языковой общности внутри
тосканского ареала, хотя подразумевает при этом, что каждый из
областях языков Италии включает ряд уровней, обозначенных здесь
Цифрами 3, 4, 5, 6, 7. На свой личный языковой опыт он ссылает-
Ся> проделывая обратный путь — путь восхождения от идиолекта
к «единствам» более высокого порядка (мой язык отличается от
языка моего брата, язык нашей семьи— от языка вашей и т. д. ).
Данная классификация, представляющая собой иерархию уров-
Ср. классификацию языков ("дерево") Б. Варки (см. 260 и рис. 3).
302 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ней — от самого общего (genere generalissimo245 = итальянский
язык) до самого частного (идиолект), при чтении снизу вверх (вое-
хождение от частного к общему) служит моделью, демонстрирую,
щей процессы языковой конвергенции как «по горизонтали» (в
процессе внутрисемейного, межсемейного общения и т. д. ), так и
«по вертикали» (процесс унификации языка путем вхождения
индивида в языковую общность более высокого порядка — язык
округи, города, области и т. д.). «Так, — поясняет Хранитель Замка
в одноименном диалоге Триссино, — жители Чертальдо
используют некоторые слова, обороты речи и произношения, отличающие
их от жителей Прато, особенности же этих отличают их в свою
очередь от жителей Сан Миньято246, а тех — от флорентийцев, но
если отринуть (rimovere) все те различия в произношении, в
оборотах речи и в словах, которые существуют между ними, не
станут ли все эти языки одним и тем же флорентийским языком?...
Точно так же можно отринуть247 различные произношения,
обороты речи и слова, свойственные отдельным муниципальным
языкам (municipali lingue) Тосканы, и составить из них (farle) один
язык, который назывался бы тосканским (lingua toscana). И
равным образом, если отринуть все местные различия,
существующие между сицилийским, апулийским (pugliese), римским,
тосканским, маркизанским (marchiana), романьольским и другими
языками остальных районов Италии, не станут ли тогда они все
одним и тем же итальянским языком?» [Castellano, p. 51].
Примечательно, что единый итальянский язык, очищенный от местных
особенностей, который стал бы средством общения для
представителей разных регионов страны, воспринимается только как
гипотетическая возможность или даже как абстракция. Не случайно,
именно по поводу этого последнего обобщения собеседник
замечает, что такое крайне трудно себе представить (sarebbe di extrema
difficulty). Хранитель Замка отвечает на это, что «трудность, сколь
бы великой она ни была, не означает невозможность».
Вопросы эволюции и генезиса языка, как мы уже отмечали,
будут подробно рассмотрены в следующей главе на примере
теорий происхождения итальянского языка, поэтому здесь мы
ограничимся характеристикой самых общих положений, связанных с
этой проблематикой. Эволюция языка в трактатах XVI в.
рассматривается как изменения, происходящие в одном и том же объекте
(эти процессы обозначаются глаголами variare, alterare). Помимо
245 Genere generalissimo (наиобщий род) — термин средневековых схоластов.
246 Сан-Миньято — ближайший пригород Флоренции, самый дальний — ПраТ°
находится в 83 км от Флоренции.
247 Контекст показывает, что слово rimovere, которое мы переводим как 'отрй*
нуть', означает здесь Пренебречь', 'отвлечься*.
цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 303
изменений внутри языка, может произойти смена языка. Обычно,
как отмечает Л. Сальвиати, язык сменяется (si suol mutare il
linguaggio) двумя способами: «когда оставляют старый язык и
переходят на совершенно новый или же когда прежний язык
видоизменяется (trasformandosi) настолько, что перестает быть тем
#се самым языком» [DL, р. 824]. Причины, по которым оставляют
один язык в пользу другого, могут быть разными: это происходит
либо по принуждению (per comandamento — букв, 'по приказу',
хотя такие приказы, как говорит Сальвиати, никогда не
эксплицируются), либо из соображений большего удобства (так было с
этрусками, которые перешли на латинский язык), или же потому,
что другой язык больше нравится (piaccia piu l'altrui). «Большая
часть населения Италии в наши дни стремится отказаться от
своего собственного (il proprio) [языка], так как наш [тосканский] им
более приятен» (там же). «Перерождение» языка (трансформация)
проистекает из случайностей (dagli accidenti), этот процесс
никогда и никем не направляется, в нем нет места предумышленности),
и потому «никакие человеческие старания не в силах
предупредить его течение». Именно таким способом Италия «сменила свою
родную речь (muto l'ltalia la sua propria favella), то есть не
перейдя на другой язык и оставив свой собственный, а видоизменив
свой собственный язык (ma la sua transformando). Так родился
наш народный язык» [DL, р. 825].
Винченцио Боргини в заметке «Почему изменяются или
сменяются языки» (Li ague ре re he si variino о mutino [DL, p. 746-750])
выделяет три причины или три «модуса» языковых изменений:
место (luogo), время (tempo) и смешение людей (mescolanza degli
uomini). Изменения языка в пространстве и времени он называет
«акцидентальными» (accidentali), а видоизменение, произошедшее
из-за «смешения людей» (= языковые контакты)
«субстанциональным» (sustanziale). Говоря о территориальных вариациях языка,
Боргини подчеркивает, что при этом не имеет в виду такие
различия, как, например, между языком Франции и Испании,
поскольку это два разных языка, а не два варианта одного и того же (поп
variare una medesima). К территориальным различиям он относит
такие явления, как разницу в выговоре и в некоторых
словоупотреблениях между столичной и провинциальной латынью, о кото-
Рой сообщал Цицерон в письмах к Бруту (Брут 46. 171), или
такие всем хорошо известные факты, как различия в тосканском
Между Флоренцией, Сиеной, Пистоей, Ареццо и Пизой248.
Здесь ссылка на тосканский язык не имеет того значения иллюстративного
Римера, как в классификации Триссино, но свидетельствует скорее о том, что
оргини не рассматривает другие языки Италии (ломбардский, венецианский и
* Д- ) как территориальные варианты одного языка.
304 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Главной причиной всех языковых изменений, как отмечает
Боргини, безусловно, являются люди: это они меняются и вносят
свои изменения в язык, но поскольку эти перемены связываются
то с местом, то со временем, для большей ясности и лучшего
понимания мы говорим об изменениях языка в зависимости от
места и от времени. Время само по себе не имеет никакого отношения
ни к языку, ни к человеческим привычкам (поп ha che fare пё con
la lingua пё con gli abiti), оно оказывает свое действие на того, кто
рождается, растет и постепенно старится, но никакого подобного
действия в языке оно не производит (поп opera nulla). Развитие
языка, — если сравнивать латинский язык XII таблиц (один из
древнейших памятников середины V в. до н.э.) с тем, каким он
стал через 200 лет во времена Ливия Андроника, Энния, Плавта,
Катона и др., а затем в век Цицерона, —связано не с течением
времени, а с изменениями условий жизни, занятиями людей, с
уровнем их достатка, с расширением империи, с появлением
новых форм общественных отношений и новых «материй» для
совместного обсуждения (переговоры о мире, заключение
соглашений и т. д. ), одним словом, рост и развитие общества создает
условия для развития языка, возрастают предпосылки для его
улучшения (la cagione di migliorare la lingua). И наоборот, если
некогда богатый, знатный и преуспевающий город начинает хиреть,
превращаясь в захолустную деревню, то, «вне всякого сомнения,
и язык этого города превращается в конечном счете в мужицкий
(villana) и неотесанный (goffo)» [DL, р. 750].
Особенно интенсивное воздействие на изменение языка
оказывает «смешение людей», т. е. контакты с представителями других
языков. Что происходило с языком Рима, когда после окончания
гражданских войн столицу наводнили «новые народности» (nuove
genti), как говорит Боргини, «всякому очевидно». То же самое
можно наблюдать и в приморских городах, где язык изменяется
значительно больше, чем в глубине материка. Степень языковых
изменений зависит от масштабов «смешения» людей (один человек
не может заметным образом повлиять на изменение языка, но
много людей осуществляют и вносят большие изменения — gran varieta)
и от длительности контактов (напр., совместное проживание на
одной территории). «Языки не только имеют обыкновение
изменяться, но они и рождаются и умирают», — пишет Боргини на полях
«Божественной комедии» (Рай. XXVI. 124) [DL, р. 749 п. 8].
Процессы перерождения языка, т. е. появление нового объекта (nuova
natura 'новой природы') обозначаются глаголами mutare, trasformare
'сменяться', 'видоизменяться' (или производными от них).
Территориальная вариативность языка рассматривается в
трактатах XVI в. с непременными ссылками на греческую ситуацию»
апсгпь II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 305
«Обилие языков» в Древней Греции (linguarum copia) Лоренцо
Валла расценивал как недостаток языка греков, видя в единстве
римского языка (lingua romana) явное преимущество латинской
культуры перед греческой249. Младший современник Баллы, Кри-
стофоро Ландино (1424-1498), в своем итальянском комментарии
к Данте (1481) сравнивает языковую ситуацию Древней Греции с
современной Италией: «По всей Италии существует один язык
(una sola lingua), но он разделен на многие особенные [языки] (in
niolte proprieta), поскольку в каждой области имеется свой (ciascuna
regione ha la sua). Эти особенные языки (queste proprieta)
по-гречески называются «идиомами» (idiomati). У латинян же не было
никаких местных языков (поп hanno idioma alcuno), поскольку
латинский язык (lingua latina) — в силу того что Лаций занимал
небольшую территорию (essendo Lazio piccolo tratto) — не имеет
никаких вариантов (поп varia in nessuna cosa). Но поскольку
греческий язык простирается на многие области, то он имеет многие
особенности (molte proprieta), или идиомы, как-то: аттический,
эолийский, дорийский, ионийский и тому подобные» [Trovato 1984,
р. 213].
Как показано в ряде работ недавнего времени, греческий
термин «диалект» плохо приживался в латинском языке: слово
dialectus (в значении 'диалект греческого языка') не встречается
ни в «Этимологиях» Исидора, где содержатся школьные сведения
о пяти языках Греции (Etym. IX. 2. 34; 80), ни в учебнике
латинского языка Эберхарда Бетюнского, в котором целая глава была
посвящена словам греческого происхождения (откуда и название
учебника Greclsmus). Оба этих автора, хотя и не были в чести у
гуманистов, продолжали регулярно издаваться в XVI в.250 [Trovato
249 В предисловии к «Книге о тонкословии латинского языка» Валла пишет:
«Так пусть же теперь явятся сюда греки и станут кичиться множеством своих
языков (linguarum copia). Наш единственный, да к тому же и нищий (inops), как
они утверждают, сделал больше, чем их пять богатейших (locupletissimae), если
верить им, языков. Для множества народов существует один латинский язык
(una est lingua Romana), подобно единому закону, а у одной Греции, к ее стыду,
Не один, а множество языков, подобно партиям (factiones) в государстве.
Чужеземцы, благодаря языку, понимают нас, греки не могут договориться между со-
°и... По-разному пишут у них авторы: по-аттически, по-эолийски, по-ионийски,
На к°йне; у нас же, то есть у множества народов, все говорят только по-латыни;
а этом языке изложены все науки, достойные свободного человека, тогда как у
Г*25оКОВ ~~ на многих языках» [Соч. ит. гум., с. 123].
Несмотря на резкую критику «Этимологии» Исидора, которую мы находим
* *• Валлы, епископ Севильский продолжал оставаться авторитетом в эпоху Воз-
^°^дения. С усилением интереса к древним языкам и народам, населявшим Ев-
ПУ» гуманисты все чаще и чаще обращались к IX книге «Этимологии» как к
точнику разнообразных этнокультурных знаний (о древних языках, народах,
Эт^?альных институтах, терминологии и т. д. ). См. комментированное издание
г°и главы [Reydellet 1984].
306 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысли
1984, р. 208]. Многие гуманисты XV в. передают понятие
«греческий диалект» при помощи самого общего латинского термина
lingua (Валла, Перотти)251 или таких выражений, как sermonis
differentia (различия речи), loquendi genus (род речи), propriety
linguae (особенность языка), или же при помощи греческого, но
более привычного термина idioma (идиом). Греческий термин «дц.
алект» в гуманистической латыни появляется довольно поздно.
П. Тровато называет в качестве первого — известного ему —
употребления письмо Франческо Филельфо (1398-1481) к Лоренцо
Медичи 1473 г. (опубл. в 1502), где термин дается и по-гречески,
и в латинской транскрипции «quas бюЛектогх;, dialectus, vocant»
(и греческое и латинское слово стоит в аккузативе) [Trovato 1984,
p. 207]252.
В итальянском языке термин «диалект» (dialetto) впервые
засвидетельствован в глоссарии Никколб Либурнио (1474-1557). В
предисловии к этому изданию (Occorenze umane, 1546 [Liburnio
1970]) автор пишет, что даже нынешние молодые люди,
«посредственно образованные в латыни» (in lettere latine mediocremente
ammaestrati), прекрасно знают, что «ученая Греция в целом
пользовалась пятью различными языками (distinzioni di lingue), как это
явствует из сочинений Иоанна Грамматика (т. е. Иоанна Филопо-
на. — Л. С.) и ученейшего Плутарха, который называет их по-
гречески dialetto, то есть особенностями языка (propriety della
lingua). Первый из этих языков именуется аттическим, второй —
дорическим, далее идут эолийский, ионийский и общий (comune),
точно так же, как, к примеру, сегодня у нас существует идиом
(lo idioma), или особенность в виде языка флорентийского
(propriety della lingua fiorentina), римского, неаполитанского,
сицилийского, ломбардского, а также в виде других — если будет
угодно — более мелких вариаций современной народной речи (1а
variety del sermone volgare odierno) по всей Италии» [Trovato
1984, p. 211].
251 В словаре Н. Перотти Cornucopia («Рог изобилия», I изд. 1471) выделяются
три значения слова lingua: 1. орган речи; 2. различные языки (differentia
sermonum), например, латинский, греческий, иудейский, арабский, халдейский;
3. различия внутри одного языка (in una lingua est aliquando sermonis diversitash
«которые также называются языками (lingua), так, в греческом языке есть язык»
называемый общим (communis), аттическим, дорийским, ионийским и
эолийским» [Trovato, 1984, р. 209].
252 См. также [Tavoni 1984], где опубликовано письмо Ф. Филельфо и
комментируется этот пример (с. 185, 282), там же приводится и другой, несколько б°£?
поздний пример из рукописи римского гуманиста Паоло Помпилио (ок. 145»
1491), также свидетельствующий о редкости и необычности термина «диалек*
для этого времени: «Но и греки не смогли сохранить свои некогда чистые и Я
вредимые диалекты» (puram et inviolatam dialectim — p. 300).
qncrrib II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 307
Как показывает этот и более поздние примеры употребления
термина (в 60-е-70-е гг. XVI в.) [Alinei 1981, р. 148-149],
итальянский язык осваивает это понятие в значении греческий диалект
точно так же, как это было в латинском языке (dialetto, distinzioni
di lingue, proprieta della lingua, idioma)253, и самым
распространенным обозначением на протяжении всего XVI в. является
общий термин lingua. Однако, если источником сведений ученых
гуманистов XV в. о греческих диалектах была латинская
традиция (средневековая и античная, восходящая в конечном счете к
Квинтилиану, ср. Inst. orat. I. 5. 29; IX. 4. 18; XII. 10. 34)254
[Alinei 1981, p. 151, 153], то источником для сравнения
диалектов древней Греции с современными «языками» Италии для
гуманистов XVI в. послужили византийские диалектографические
трактаты255 , которые часто издавались в конце XV и в XVI в. в качестве
приложений к греческим словарям и грамматикам (о
популярности этих трактатов, завезенных в Италию «последним
поколением византийцев», см. [Гаврилов 1985, с. 134-135], обзор
печатных изданий XV-XVIb. дан в Приложении к [Trovato 1984,
р. 227-236]). Важнейшим источником распространения этих
сведений стало издание Мануция 1496 г., куда вошли эксцерпты
Иоанна Филопона (нач. VI в.), трактат Григория Коринфского
(конец XII - начало XIII в.) «Об особенностях диалектов» и
извлечения из псевдо-Плутарха о гомеровских диалектах (в 1512 г. они
были переизданы вместе с латинским переводом)256.
253 Ср. у Варки: «dialetto, cioe proprieta della lingua», «idioma cioe proprieta
della lingua», «quattro dialetti, cioe quattro idiomi о linguaggi proprii».
254 «Воспитание оратора» было переведено на итальянский язык Орацио Тоска-
неллой (изд. 1567). В предисловии «К читателю» среди прочих трудностей, с
которыми пришлось столкнуться автору этого перевода (в том числе и чисто
языковыми), отмечается отсутствие комментариев к Квинтилиану (в отличие от
хорошо откомментированного Цицерона). О. Тосканелла восполняет этот пробел,
сопровождая «трудные» места собственными краткими примечаниями. Так, к
интересующему нас термину «диалект» (в переводе I. 5. 29 он дан в латинской
транслитерации) приводится следующее пояснение: «Dialectos, т. е. языки (lingue),
которых у них (греков. — Л. С.) пять: ионийский, дорийский, эолийский,
аттический и общий» [Quintiliano 1567, р. 32]; в IX. 4. 18 ipsa dialectos переведено
Как l'idioma istesso (p. 493); в XII. 10. (p. 663) сказано, что «аттическое наречие
Uavella Attica) является наилучшим». Таким образом, в итальянском переводе
г\винтилиана используется следующий ряд обозначений: dialectos — lingua —
2wma - favella.
Как отмечает итальянский ученый Карло Дионизотти, «в культурной обета-
°вке позднего Кватроченто прямой переход от латыни к вольгаре был
невозможен и для этого потребовалось греческое посредничество» (la mediazione greca)
l^°nisotti 1968, p. 51].
ь «Античных теориях языка и стиля» древнегреческая диалектология пред-
авлена довольно скудно, а именно эксцерптами из анонимного грамматика (в
еРеводе Я. M. Боровского) [Античные теории, с. 142-143].
308 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслъ
Две разных точки зрения на лингвистическую ситуацию Ита*
лии XVI в. (описанные в трактате Толомеи «Чезано», см. выще
с. 266, 276) восходят к дискуссиям византийских грамматистов о
природе общего диалекта Греции, в частности к трактату Иоанна
Филопона «О греческих диалектах» (в латинской версии De
graecarum proprietate linguarum) [Trovato 1984, p. 224]. Представ*
ление о «четырехсоставном» (quadripharmacon) общем диалекте
находит свое продолжение в идеях общего итальянского языка
Триссино, Кастильоне и др.257.
Вопросу о правомерности сравнения итальянской ситуации с
языковой ситуацией Древней Греции флорентийский гуманист
В. Боргини посвящает специальную заметку: «Являются ли раз*
личия в греческом языке такими же, как в итальянском» (Se la
diversita della lingua greca ё la medesima come la italiana). Он
рассматривает «общий диалект» как общенародный язык Греции,
который служил средством общения всего народа (comune a tutti
di quella nazione) и представлял собою «главную основу этого
языка» (fondamento principale di quella lingua). Затем, поскольку
население большой страны всегда «разносортно» (vi furono di piu
sorte popoli), этот язык разделился на четыре других, «которые в
действительности не были языками (in verita non furono lingue),
но диалектами (dialetti), — так их называют и так они и должны
называться» [Trovato 1984, р. 222, п. 48]. Речь дорийцев, как
поясняет Боргини, каковы бы не были истинные причины подобных
изменений (климат, местные вкусы, смешение с аборигенами),
стала отличаться в некоторых вещах (in certe poche cose) и
особенно в произношении от общего употребления (uso comune),
сохраняя при этом неизменной изначальную основу и правила того
родного языка, который был общим для всех (tenendo fermo quel primo
buon fondamento e quelle regole della lor propria lingua e comune)
[DL, p. 748, n. 8]. Таким образом, хотя термин «диалект» на
протяжении XVI в. продолжает употребляться применительно к
греческой ситуации258, современное значение «диалекта» как терри-
257 Ср. например, у Триссино в «Поэтике»: «...и так же, как греки из своих
четырех языков, а именно из аттического, ионийского, дорийского и эолийского,
образовывали другой язык (formarono uiTaltra lingua), который называется
общим (lingua comune), так теперь и мы из языка тосканского, римского,
сицилийского, венецианского и из других языков Италии образуем один общий (formiamo un*
comune), который называется итальянским языком» [Trattati di poetica, p. 26—27]-
258 Примеры «безотносительного» (к греческой ситуации) употребления тер'
мина, засвидетельствованные итальянскими словарями, относятся к XVII в.»
например, «questo sonetto ... ё scritto secondo la pronunzia о dialetto pisano» "*"
«этот сонет написан на пизанском говоре (букв. *в соответствии с пизанскй*»
выговором'), или диалекте*. Любопытно отметить, что французский учены
Ж. Дюпюи (Dupuy) в письме 1579 г. к своему итальянскому коллеге Дж. В. Пи*
ь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 309
ориального варианта языка, занимающего подчиненное положе-
ие по отношению к «высшей» форме языковой общности —
языку, складывается к концу XVI в. В концепции Боргини (и др.
тосканских филологов) диалект есть результат изменений в некогда
0бщем языке и вторичен по отношению к нему; в
лингвистическом плане диалект рассматривается как совокупность местных
особенностей речи («собственная привычка и способ [речи]» — proprio
vezzo e modo), отклоняющихся от общего языка (che si diparte dal
comune) и вместе с тем не смешиваемых с особенностями других
наречий (пё si mescola anche con altri)259.
Две различных концепции общего языка,
противопоставленные друг другу в языкознании XVI в. («общая структура vs
единый унифицированный язык», имплицирующее
противопоставление «объективная норма vs национальная норма»), соотносятся с
двумя разными представлениями о хронологии возникновения
территориальных различий. Теперь, как отмечает Леонардо Сальвиа-
ти, многие задаются вопросом о времени появления того различия
(la distinzione), «которое наблюдается сегодня между языками
Италии, относится ли оно к самому началу (т. е. к периоду
образования нового языка. — Л. С.) или же возникло впоследствии (о sia
nata dappoi), а также интересуются, каким образом
видоизменялось каждое слово по отдельности (in qual modo ad uno si sien
trasformati i vocaboli), понаписав об этом столько подробностей,
будто присутствовали при сем событии сами, держа линейки
наготове260 (a quel fatto con le regole in mano vi fossero intervenuti)»
[DL, p. 825].
Несмотря на то что вопрос о времени образования диалектных
различий в итальянском языке не получил должного освещения в
нелли называет «лимузинский язык диалектом провансальского языка» (la langue
Hmosine est une dlalecte de la provenzale), а тот в ответном письме перефразиру-
ет*. «Вы говорите, что лимузинский язык, то есть идиом ... провансальского...»
(della lingua limosina, che sia un idioma ... della provenzale) [Debenedetti 1911,
P- 138, 139]. Термин «диалект» (лат. dialectus) используется в «Митриадате»
К- Гесснера применительно к описанию диалектного многообразия Италии [Gesner
1555 f. 57r].
Ср. замечания Р. Якобсона к проблеме соотношения «единства» (unite) и
♦Множества» (pluralite) в языке, которое в традиционном языкознании пред-
тавляется в виде последовательности, перехода от одного состояния (unite) к
^РУгому (pluralite) [Jakobson 1962, p. 235]. В теориях литературного языка —
аоборот: исходное состояние мыслится как «множество», сменяемое затем
«единством».
Намек на «увлечение» итальянских филологов установлением регулярных
°ответствий («правил» перехода — regole) между латинскими и итальянскими
Ц^Рмами (см. ниже, гл. «Звуковой строй языка»). Как отмечено в комментарии к
°Му пассажу, Сальвиати имеет здесь в виду конкретные работы Лодовико Кас-
гельветро.
310 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
дискуссиях XVI в. (во всяком случае, на сегодняшний день ^
такими материалами не располагаем), сама постановка этого воц%
роса свидетельствует о зрелости лингвистической мысли Возро^.
дения.
Происхождение итальянского языка
Большое место в дискуссиях XVI в. занимает вопрос о
происхождении новых (романских) языков из латинского (факт
генетической связи этих языков с латынью, как мы уже отмечали,
признавался большинством филологов, независимо от того, как они
оценивали результат этой «мутации», а именно итальянский язык
в сравнении с латинским). Отчасти этот вопрос, хотя и в
косвенной форме, уже затрагивался гуманистами XV в. в связи с
разными взглядами на языковую ситуацию в Древнем Риме (см. наше
Приложение II). Одни, как мы помним, полагали, что в Риме
существовал один язык, которым пользовались и ученые и
простолюдины, и вся разница заключалась только в степени владения
латинским языком: образованные люди умели изъясняться
грамотным и изысканным слогом, а простой народ нет. Другие,
наоборот, проецируя ситуацию современного итальянско-латинского
двуязычия на прошлое, полагали, что уже в древности
существовало два обособленных языка: грамотный (латинский) и
простонародный (vulgare), — которые отличались друг от друга в той же
степени, что и теперь.
В XVI в. анализ лингвистических отношений древнего мира
продолжает привлекать внимание ученых как в плане типологии
языковых ситуаций и состояний (о диалектах Греции в связи с
территориальными различиями языка в современной Италии см.
предыдущую главу), так и с точки зрения истории языка.
Пьетро Бембо вносит существенные уточнения в
характеристику языковой ситуации древнего Рима, определяя ее как греко-
латинское двуязычие, а в отношении народного языка он
разделяет взгляды Флавио Бьондо и Поджо Браччолини, т. е. считает, что
в древности латынь существовала как единый общий язык. В
подтверждение этого положения Бембо ссылается на отсутствие
письменных памятников на древнем volgare. Один из участников его
«Бесед о народном языке» так рассуждает по этому поводу: «...буДь
известен наш язык уже в ту пору, имелась бы в надгробиях или
строениях древних хоть какая-то память об этом, как о
латинском и греческом. Ведь, как каждому из нас ведомо, доселе в Риме
сохранилось великое множество плит, латинскими и иной раз гре*
ческими письменами покрытых, но нашими народными — ни ofir
77. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 311
ной. Повсеместно, куда ни кинь взор, имена подлейшего люда,
без чина и звания, на камнях начертаны, — в прегрешение
против законов языка и правописания, как простолюдины в речи и
на письме имеют обыкновение прегрешать, — тем не менее все
письменами греческими или латинскими... Так что можно
заключить, что как мы ныне двумя языками владеем, нам
современным, народным, и древним, латинским (una moderna, che ё volgare,
l'altra antica, che ё la latina), так и римляне в свою пору не
большим их числом владели: латинским, им современным, и древним
для них, греческим, — третьего же, бывшего в меньшем почете, у
них не было...» [Литературные манифесты, с. 38]; [Prose I, 6, р. 84].
Один из самых авторитетных комментаторов Бембо, моденс-
кий филолог Лодовико Кастельветро (о нем уже шла речь, см.
выше с. 248 ел.), также возвращается к этому «старому» спору
гуманистов, связывая его с вопросом о происхождении
итальянского языка. Кастельветро резонно возражает прославленному
Бембо, что если под народной речью (del vulgo) понимать
устно-разговорную разновидность латыни, то стоит ли удивляться тому, что
надписи, которые постоянно обнаруживают в Риме, сделаны
только по-латыни и по-гречески, ведь разговорную речь не высекают
на камне, на ней вообще не пишут тексты. Однако, по мнению
ученого, следы разговорной речи — отражение вульгарной
латыни — можно обнаружить в других письменных памятниках: в
произведениях старых комедиографов или таких авторов, как,
например, Апулей, а также в латинском руководстве по сельскому
хозяйству Палладия (IV в. н.э.). Если мы посмотрим на наш
теперешний язык, — рассуждает далее Кастельветро, — который мы
также называем «народным» (vulgare), на его окончания,
наклонения (maniere), [грамматические] роды, «застывшие» (immobili)
падежи и тому подобные «претерпевания слов» (passioni di voci),
то, вне всякого сомнения, следует признать, что такого языка не
было в республиканском Риме; однако, «если мы посмотрим на
вещи с другой стороны, приняв во внимание только естественный
к°рпус261 слов (corpo naturale delle voci), который либо
укоротился, либо в большинстве случаев удлинился (diminuito о accresciuto
Здесь не совсем понятно, что имеет в виду Кастельветро под естественным
корпусом слов: объем словаря (весь словарный корпус и соответственно его
увеличение или уменьшение) или же корпус слова, его тело в отвлечении от фор-
м&льных грамматических показателей, т. е. непроизводную основу слова и соот-
етственно ее увеличение или сокращение. Мы склонны считать, что речь здесь
iqqT ° протяженности слова (такая же трактовка corpo naturale у [Padley 1985-
у88, р. 72]), иными словами, об увеличении основы слова в народном языке по
Равнению с литературным за счет разнообразных «приращений» (реже сокраще-
ии), свойственных просторечному узусу, типа итал. orecchia *ухо'< лат. auricula
Уц1Ко\ от auris 'уэсо\
312 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысЛк
per lo piu), то у меня нет ни малейшего сомнения, что такой язы^
существовал уже в те времена: именно на таком народном языке
(lingua vulgare) изъяснялись уже тогда и женщины, и люди
низкого сословия, и крестьяне» [DL, р. 614]. Это рассуждение важно
для нас в нескольких отношениях: Кастельветро обращает
внимание на социальную неоднородность латыни, объясняет, что он по-
нимает под «вульгарной» латынью, указывает на источники, по
которым можно выявить элементы народной латыни, и главное -^
отмечает преемственную связь нового языка не с латынью
вообще, а с ее ненормированной народно-разговорной разновидностью.
Преемственную связь между народной латынью и народным
итальянским языком он видит только в лексике и только в этом смысле
считает возможным говорить об итальянском как о прямом
продолжении латыни. Кастельветро ясно дает понять, что
морфология итальянского языка («окончания, наклонения» и т. д. ) не
восходит к латинской грамматической системе, поскольку такого
языка не было в Древнем Риме.
Все итальянские гуманисты, начиная с Флавио Бьондо,
считали смешение латыни с варварскими языками германских
завоевателей главной причиной распада (corruzione) латинского языка и
возникновения на его обломках народного языка262 (о «смешении
языков» см. выше с. 303-304; об изучении германских
древностей в Италии XVI в. [Costa 1977, р. 47-121]). Кастельветро
затрагивает вопрос о германских языках как бы в продолжение
полемики с Бембо и его предшественниками, привыкшими иметь дело
только с классическими памятниками письменно-литературного
языка. Кастельветро считает вполне вероятным, что на
территории Германии или Франции в древности сохранялись свои
местные языки, и не исключает возможности, что на этих языках
создавались произведения, предназначенные для потомков. Но
поскольку эти древние языки не получили такого широкого
распространения, как латынь, «известная чуть ли не во всем мире»,
то и писавшие на этих языках пользовались известностью только
«в пределах своего родного языка», и потому нам ничего не
известно об этих языках [DL, р. 609]. Кастельветро доверяет мнению
«добропорядочных немцев» (alcuni lealissimi uomini tedeschi),
которые самым тщательным образом изучали свои древности (loro
262 Ср. у Макьявелли в * Истории Флоренции»: *Из всех этих разрушений, из
пришествия новых народов возникают новые языки, как показывают те, на
которых стали говорить во Франции, Испании, Италии: смешение родных языков
варварских племен (lingua patria di quei nuovi popoli) с языком Древнего Рим*
(con Tantica romana) породило новые способы изъясняться» (nuovo ordine di parlare
'новый строй речи') [Макьявелли 1973, I.V, с. 17].
Пасть Л- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 313
emorie)263 и пришли к выводу, что их язык является
древнейшим и на протяжении долгого времени он соперничал с древним
латинским (ё antichissima e gareggiante di tempo con la latina antica).
О развитости этого языка и его приспособленности к письменной
форме речи, как отмечает Кастельветро, свидетельствует и «опыт
нашего времени». Под «опытом нашего времени», скорее всего,
имеется в виду лютеровский перевод Библии (1534)264.
Не исключено также, что и «соперничество с древней
латынью» подразумевает конкретный письменный памятник:
Кастельветро (проведший последние десять лет жизни в изгнании — в
Швейцарии, Лионе и Вене) мог знать о готском переводе Библии
Вульфилы (IV в.), обнаруженном вскоре после появления Библии
Лютера [DL, р. 614, п. 37]. Несмотря на то что в рассуждениях
Кастельветро нет ссылок на источники и прямых указаний на
необходимость привлечения данных о германских языках для
изучения истории итальянского языка (как это было сделано в
отношении вульгарной латыни), его экскурс в «другие» языки — по
смыслу — носит характер методологического замечания об
использовании косвенных источников и фактов живых языков265.
Мысль о существовании местных культурных языков в
латинизированной Европе и о непрерывном характере иных традиций,
развивавшихся параллельно с латинской, является новшеством и
свидетельствует о глубоких переменах, произошедших в
гуманистической культуре Чинквеченто по сравнению с предшествующим
столетием. Наблюдения над живыми языками, ставшими в XVI в.
главным предметом изучения, ощущение неоднородности языка и
осознание социальных, территориальных и
функционально-стилистических различий как факторов, сопровождающих развитие
любого языка, — все это заставляло по-новому взглянуть на
прошлое и проецировать современные отношения на прошлые —
некого имеет в виду Кастельветро под ♦добропорядочными немцами», устано-
вить пока не удалось. Однако известно, что в странах Реформации в XVI в.
существовали кружки «друзей языка» (philoglotti), которые занимались изучением и
сРавнением тех языков, которые греки и латиняне «чванливо (fastidiose) называ-
Ют варварскими», устанавливая сходства каждого из этих языков с готским, не-
МеДким или с другим [из этих языков] (ut philoglotti ex mutua earum inter se
collatione, quid quaeque vel cum Gothica, vel Teutonica, vel alioquin ipsae inter se
"mitatis habeant... investigare possent). Так описывает деятельность филологов-
ерманистов автор сочинения De Uteris et lingua Getarum siue Gothorum [Tavoni
2610' p- 234' n- 1521-
Первый полный перевод Библии на немецкий язык был издан в Страсбурге
2б^1 г. О долютеровских переводах Библии см. [Бах 1956, с. 169].
В своих этимологических этюдах Л. Кастельветро широко пользовался дан-
1^оИ совРеменных итальянских диалектов [Debenedetti 1911, р. 149-153], [Bianchi
314 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мыслк
доступные прямому наблюдению — состояния. К тому же опыт
реконструкции недостающих звеньев текста, умение восстанавли.
вать их по другим источникам и косвенным свидетельствам, на-
блюдения над многочисленными примерами того, что и письмен-
ная традиция подвержена разным влияниям и несвободна от
искажений, — весь этот арсенал филологических в точном смыс.
ле слова знаний, накопленных предшествующими поколениями
итальянских гуманистов-классиков, стал успешно применяться к
изучению истории живых языков. Не случайно филологи XVI в.
(К. Толомеи, В. Боргини и др.) пользуются термином
«конъектура» (текстологическим термином) в расширительном (с нашей
точки зрения) значении 'реконструкция предшествующего состояния
(текста, языка)' (об этом пойдет речь дальше в связи с гипотезой
субстрата, см. с. 315 ел.).
Возвращаясь к изучению проблемы возникновения новых
языков, следует отметить, что языковые контакты («смешение
языков»), которые рассматривались в языкознании XVI в. как
главный фактор, нарушающий естественную эволюцию языка (его
органическое развитие), интересовали филологов того времени в
самом общем плане (если не считать единичных попыток
объяснить новый строевой элемент итальянского языка германским
влиянием)266; ученые (надо отдать им должное) прекрасно
понимали, что не располагают никакими лингвистическими данными
о «варварских» языках той поры и ограничивались фактами
внешней истории и общей типологией процессов. Так, например, Клав-
дио Толомеи пишет об образовании новых языков следующее: «...в
древности многие языки разрушались и на их месте возникали
новые языки. Не берусь сейчас приводить примеры тех языков, с
которыми такое произошло, это заняло бы, наверное, немало
времени и труда, но не принесло бы особой пользы. Однако
достаточно посмотреть на более свежие примеры языка испанского и
нашего тосканского, из которых первый произошел, как мы видим,
от разрушения языка латинского и мавританского (moresca). Ведь
мавры не раз вторгались в Испанию, завоевывали эту страну, Уп*
равляли ею и надолго обосновались там, а поскольку язык их был
совсем не похож на тот, на котором говорило местное население»
то не приходится удивляться, что эти языки, смешиваясь один с
гее так^ например, друг Дж. Триссино, известный драматург Джованни РучеЛ-
лаи с уверенностью заявляет, «что все наши артикли (Articoli) достались нам о
смешения с готами и вандалами, которые долгое время держали Италию в свое
подчинении, латинский язык тогда был в упадке, а наш в самом начале. У этИ
двух народов (как установлено людьми, языки эти знающими) есть артикли
предлоги (segni de' nomi) во всех падежах, то есть почти в точности то же само »
что и у нас» [Costa 1977, р. 106].
tfacrnb II- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 315
гтпугим, образовали тот язык, на котором и говорят в наши дни в
Испании» [Cesano, p. 225-226J267.
В отношении происхождения тосканского языка Толомеи не
ограничивается указанием на средневековые языковые контакты
(«смешение латыни с варварским и чужеземным языком,
который принесли с собою пришлые племена»), но предполагает, что
й в древности латынь на территории Тосканы подвергалась
влияниям со стороны коренного языка этрусков. Клавдио Толомеи,
возможно, впервые в истории языкознания высказывает идею
субстрата, которую называет гипотезой или «конъектурой»268: «В
тосканском языке (lingua toscana), — пишет Толомеи, — по всей
вероятности, сохраняются некоторые слова этрусского
происхождения. Мы можем говорить об этом только предположительно, ибо
показать наглядно, какое именно слово является древним
этрусским, нет никакой возможности. Тем не менее если прибегнуть к
разумной конъектуре (ragionevol coniettura), то станет ясно, что
невозможно и обратное — невозможно допустить, чтобы язык,
который рождается и взрастает в данной стране, оказался бы
полностью искорененным на этой территории, особенно если язык
этот пользовался почетом и уважением, на нем развивались науки
и им пользовались писатели, а таковым и был в свое время язык
этрусский; и если книги, написанные на этом языке, не дошли до
нашего времени, это еще не значит, что их никогда и не было;
ведь и теперь, как мы можем видеть, находят множество
надписей и эпитафий на этом языке и вблизи древнего этрусского
города Кьюзи, и на сиенских болотах около Сатурнии, и повсюду в
окрестностях Витербо. Поэтому вполне вероятно, что некоторые
В Испании вопросами языковых контактов с готами и арабами занимался
Бернардо де Алдрете (1565-1645), см. [Gauger 1967], есть факсимильное издание
обширного трактата Алдрете, посвященного происхождению кастильского языка
[Aldrete 1972].
Теория субстрата, как известно, была разработана Г. И. Асколи, в числе
предшественников которого называют другого итальянского филолога, К. Каттанео
(1801-1869). Как утверждает Й. Йордан, влияние автохтонного элемента допус-
Кали в той или иной степени разные лингвисты «с самого начала возникновения
Романского языкознания», что означает, что он относит идею субстрата к
научным достижениям XIX в. [Йордан 1971, с. 28-30, прим. 1]. Интересно отметить,
То теория субстрата Асколи была выдвинута им в полемике с младограмматика-
и» которые, по мнению Асколи, в установлении фонетических законов
опираясь только на аналогию, пренебрегая историческими фактами. В начальный
еРиод зарождения романистики в XVI в. была уже и мысль о влиянии автохтон-
ого элемента на язык-победитель и первые опыты установления регулярных
обУк°ВЬ1х соответствий между латынью и тосканским (см. ниже с. 362, 366-367) —
q a ЭТих научных открытия принадлежали сиенскому ученому Клавдио Толомеи.
^ЛКептическом отношении к фонетическим законам (regole) во второй половине
VI в. см. с. 309 и прим. 260).
316 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
слова этого древнего языка сохраняются в нашем теперешнем язы
ке». Далее Толомеи поясняет, что этрусская лексика могла войти
в состав тосканского языка только через посредничество латинс*
кого: «...в образовании этого нового тосканского наречия (favella\
участвовали не два раздельных языка — древний этрусский и
латинский, а как бы один язык, но единое тело которого
образовалось из двух начал» [DL, р. 226, п. 127].
Эта догадка, содержащаяся в рукописном архиве К. Толомеи
контрастирует с высказыванием его «заглавного персонажа» в
опубликованном диалоге «Чезано», где утверждается, что
тосканский язык состоит из трех, а может и большего количества
языков, «а именно: из древнего этрусского, из латинского,
пришедшего позднее ему на смену, и из варварского и чужеземного,
который принесли с собою пришлые племена (genti esterne),
вероломно напавшие на нашу несчастную Италию» [Cesano, p. 226].
Пафос «защитной» речи мессера Габриэле Чезано, которому
принадлежат только что процитированные слова, направлен на то,
чтобы доказать статус тосканского как нового самостоятельного
языка, а не испорченного продолжения латыни269, поэтому, как
справедливо отмечает М. Поцци, влияние этрусского элемента здесь
преувеличено и в полемических целях приравнено к роли
латыни. В то же время в своих рукописных конспектах К. Толомеи
вполне определенно и уверенно утверждает, что более двух третей
тосканских слов являются по происхождению латинскими (hanno
origine da la latina).
Приведем еще одно рассуждение Толомеи (также из
неопубликованной работы) касательно результата германского влияния
(суперстрата) в его соотношении с основным латинским фондом в
составе современного ему тосканского языка: «Слова тосканского
языка ведут свое происхождение от распада многих языков (hanno
origine da la corrozzione di piu lingue), как-то: готского, лангобар-
дского и других варварских языков, однако в количестве,
намного превышающем все эти языки, они происходят из языка
латинского, потому как если принять во внимание весь словарный состав
269 Мысль Толомеи об этрусском влиянии претерпевает еще большие изменения
в пересказе Пьерио Валериано (настоящее имя: Джованни Пьетро Больцани ДеЛ*
ле Фоссе, 1477-1558). В его «Диалоге о народном языке» {Dialogo della vol6a'
lingua, после 1524, изд. посмертно в 1620, см. [Floriani 1981, р. 68-91]) от лип*
Толомеи излагается гипотеза происхождения тосканского языка из этрусского-
♦ Точно так же, как вы, — говорит Толомеи, обращаясь к Триссино, — считаете»
что ваш общий италийский (commune italica) произошел из латинского, мы вПра'
ве полагать, что современный тосканский произошел от древнего этрусского, *°
торый к настоящему времени окончательно угас, возможно под натиском ново
[тосканского] языка, но наиболее вероятно, конечно, что угас он из-за разма*
огромной империи римлян, которая все вбирала в себя и поглощала, как погЛ
щает океан стекающие в него воды» [DL, р. 69-70].
b II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 317
rtutte le parole), то окажется, что большая часть слов взята из
патыни (son Urate da la lingua latina)» [DL, p. 248, n.196].
Сопоставление высказываний К. Толомеи о латинской лексике
контексте его рассуждений о происхождении итальянского
языка из латинского с его утверждениями о том, что отнюдь не
лексика (всегда неоднородная) определяет неповторимый характер
каждого языка, показывает что ученый по-разному оценивает одни и
те же факты (словарь данного языка) в зависимости от того, в
какую перспективу изучения языка он их включает. Специфика
языка, как неоднократно подчеркивал Толомеи, определяется не
его словарем, а фонетическим и грамматическим строем языка. С
этой точки зрения, язык представляет собой законченное целое,
упорядоченную систему (fabbrica, orditura, struttura delle forme),
которая и обеспечивает тождество языка, его постоянство,
неизменность и возможность регулярного воспроизводства. Словарь же,
напротив, является разнородным собранием слов и в этом смысле
представляется Толомеи как бы открытым множеством (по
сравнению с конечным составом строевых элементов языка, ср. выше
с. 290 концепцию языка как 'quantita discrete' у Триссино),
подверженным внешним влияниям и случайным изменениям,
которые, однако, сами по себе не могут изменить природу языка (ср.
уже цитированное нами сравнение лексики с обшивкой корабля,
см. выше с. 291 ел.). Это четкое противопоставление устойчивого
и неустойчивого в языке, системного и внесистемного (при
синхронном подходе), как мы уже отмечали, является общим тезисом
тосканских филологов, так что можно говорить о нем как об
одном из фундаментальных положений тосканской школы
языкознания в XVI в.270.
С другой стороны, когда К. Толомеи говорит о
лингвистической эволюции (диахронический подход) и генезисе новых языков,
то он обращает внимание на то, что следы прежнего языка,
который — разрушаясь — порождает новый, обнаруживаются
главным образом в словаре (massimamente... si manifesta ne' vocaboli.
Таким образом, в отличие от синхронии, где анализ лексики не
Играет существенной роли для изучения характера языка и
постижения законов, управляющих его «поведением», в диахронии,
напротив, изучение лексики — всего массива слов — становится
Равным предметом анализа, позволяющим установить
регулярные законы, характеризующие переход (скачок) от одного
исторического состояния языка к другому.
270 г>
Ск „ связи с этим мы никак не можем согласиться с точкой зрения 3. В. Гуков-
,°и» считавшей, что атомистический взгляд на язык как на «собрание слов»,
Рормулированный Триссино, разделяло большинство грамматиков и стилистов
в-. в том числе Макьявелли и Толомеи [Гуковская 1940, с. 85].
318 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл
Сравнивая тосканские слова с их латинскими этимонами, К. То.
ломеи приходит к выводу о регулярном характере звуковых пере,
ходов (изучению тосканских рефлексов латинских форм посвя-
щен рукописный трактат Толомеи De le forme toscane — «q
тосканских формах», см. об этом более подробно ниже, с. 361 ел.).
Все это позволяет нам заключить, что Толомеи вполне четко и
определенно осознавал разницу между синхронией и диахронией
убедительно показав на примере анализа лексики, как важно в
изучении языка соблюдать этот дифференцированный подход271.
В результате размышлений над проблемой генезиса новых
народных языков и возможностью его научного объяснения
итальянские филологи вплотную подходят к осознанию неразрешимого
парадокса: получается, что теоретически — в идеале — можно
проследить происхождение каждой языковой формы, установить
историческую преемственность языка и как бы постоянство его
вещественного состава в диахронии (ср. выше высказывание Л. Ка-
стельветро о принципиальном тождестве лексического состава
вульгарной латыни и народного итальянского, с. 311-312), но при этом
генезис самой лингвистической системы в целом, как ее
понимали тосканцы (см. выше с. 289 ел.), остается загадкой, окутанной
непостижимой тайной рождения. Намек на непознаваемость
возникновения новой лингвистической системы (ее невыводимость
из другого языка) проскальзывает в следующем замечании
Толомеи: «большая часть слов нашей речи (favella) пришла к нам из
латыни (lingua latina), которая — непонятным для меня образом
(in non so che modo — выделено нами. — Л. С.) — является
родительницей и матерью (generatrice e madre) нашего языка,
известно только, что беременность протекала тяжело, а роды и того хуже
(mala gravidanza e parto peggiore), потому как в результате этих
родов латынь изуродовала самое себя»272 (цит. по: ркп. в [DL, р. 248,
п. 196]). Здесь уже видно, как языковая преемственность
переформулируется в терминах генетических отношений. Через
несколько десятилетий эту же самую мысль о невыводимости
«природы» одного языка из «природы» другого языка повторит
Винченцио Боргини (о нем см. ниже с. 334-345), говоря о том, что
он не знает, откуда произошла грамматика тосканского языка,
271 О понятии диахронии в ренессансной лингвистике см. [Simone 1976].
272 Отметим при этом, что сам механизм «смешения языков» (интерференции
Толомеи представлял себе довольно хорошо, не видя в нем ничего загадочного и
необъяснимого. Так, например, он рассуждает о том, что процессы языковЫ*
изменений в ситуации двуязычия протекают быстрее (con minor longhezza di temp0'
и инновации (rinovazione) становятся более заметными, как это было в
средневековой Италии при смешении латыни с языками пришлых завоевателей [Cesano»
р. 255].
алеть И- Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 319
прй том что изолированные грамматические формы он уверенно
возводил к латыни (например, тосканский перфект festi<jiaT. fecisti
•ты сделал' [Woodhouse 1971, p. 43])273.
В связи с генезисом итальянского языка филологами XVI века
обсуждался вопрос и о месте возникновения нового языка. Вопрос
этот был сформулирован Джироламо Муцио и нашел отражение в
диалоге Варки «Эрколано». Дж. Муцио в письме к синьору Рена-
то Тривульцио писал: «Предоставляю другим спорить, в какой
части Италии вероятнее всего могло произойти это
разрушительное для латыни смешение с варварскими языками, там ли, где
варвары дольше всего задерживались и подолгу управляли краем,
или же, напротив, там, где они меньше всего пробыли, либо там,
куда они вовсе не дошли» [DL, р. 732, п. 19]. Автор письма
считает, что очагом инновации, как мы бы теперь сказали, была
Ломбардия, «поскольку лангобарды, владевшие на протяжении двух
веков большей частью Италии, утвердились главным образом в
землях, расположенных к северу от реки По, и именно в тех
краях, скорее всего, и возник этот язык (lingua), а уж оттуда, от
одного населенного места к другому (di luogo in luogo)
передаваясь, распространился по всей Италии». В качестве
консервативной зоны, где лучше всего сохранялась латынь, Муцио выделяет
Рим, «поскольку римляне более, чем кто-либо другой в Италии,
держались латинского языка». В этой перспективе Тоскана,
занимающая серединное положение «между двумя крайностями» (due
estremi), рассматривается как переходная зона, смягчившая
инновационные тенденции, идущие с севера, и архаичные с юга.
Именно среди тосканцев, как полагает Муцио, и должно было
произойти то «смешение» (mescolanza) [противоположностей],
которое нам видится более красивым и изящным (bella e leggiadra),
чем где бы то ни было» [DL, р. 733, п. 20]274.
Точка зрения Дж. Муцио рассматривается в трактате Б. Варки
в связи с вопросом о том, не следует ли называть народный язык —
коль скоро он родился в Ломбардии — ломбардским. Флорентиец
Уклоняется от прямого ответа на вопрос своего собеседника,
присоединяясь к более традиционной точке зрения П. Бембо, кото-
273 с.
u том, как решается вопрос о переходе от латинского языка к итальянскому
в 2с70вРеменной науке см. [Sch'iaffini 1959], [Pfister 1978],
Напомним, что Данте в тех же терминах описывал превосходство наречия
°лонцев над другими местными наречиями, считая, что «уравновешенная при-
тность» речи болонцев достигается «путем смешения противоположностей» (per
^°nimixtionem oppositorum) (см. выше с. 74, а также прим. 121 и 122 о роли
СеРедины» в истории языка). Ср. высказывание Данте о свойственной
ломбардам гортанности, которая осталась у «тамошних уроженцев от смешения с при-
ЩлЬ1Ми лангобардами» (VE XV. 3).
320 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
рую воспроизводит полностью [Ercolano, p. 74]. Пьетро Бембо в
первой книге своих «Бесед» излагает общий взгляд гуманистов
XV и XVI вв. на то, когда и как возник современный язык
Италии. О времени возникновения этого языка, как пишет Бембо
ничего определенного сказать нельзя, кроме того что начало его
образования относится к моменту варварских нашествий. Что же
касается того, как он возник, то здесь «нельзя ошибиться, и коль
скоро язык римлян с языками варваров был крайне несхожим, то
варвары, постепенно усваивая то те, то эти слова из нашего
языка, усекали их и коверкали, а мы точно так же обходились с их
словом; оттого и образовался с течением времени и народился
новый язык, отдающий и тем и этим наречием, он-то и есть наш —
народный, каковым мы теперь пользуемся. А то, что он оказался
с языком римским более схожим, нежели уподобился варварским
наречиям, то в этом сказалась сила родного неба, ведь в любой
части света те растения лучше идут в рост, которые разведены
там самой природой, а не те, что завезены из дальних стран.
Помимо того, варвары, которые проходились по нашей земле, не были
одним и тем же народом, а разными, и каждый нес с собою свой
язык, одни — один, а другие — другой, и, таким образом,
новорожденный язык не мог сильно уподобиться ни одному из них.
Ведь и французы (francesi), и бургунды, и немцы (tedeschi), и
вандалы, и аланы, и венгры (ungheri), и мавры, и турки, и другие
народы перебывали здесь, к тому же многие из них — по многу
раз, а готы в один из своих набегов задержались здесь на целые
семьдесят лет» [Prose 1.7, р. 86].
Итак, подводя итог тому, что было сказано П. Бембо, Дж. Му-
цио, К. Толомеи и Л. Кастельветро о генезисе итальянского
языка, мы можем составить общее представление о теории
происхождения нового языка, разрабатываемой совместными усилиями
итальянских филологов XVI века. Суть ее сводится к
следующему. Итальянский язык произошел из латыни и является
продолжением ее народно-разговорной разновидности — вульгарной
латыни (Кастельветро). Эта генетическая связь обнаруживается
главным образом в лексике: основной корпус итальянских слов
более чем на две трети унаследован из латыни. В период
варварских нашествий на Италию средневековая латынь (разговорная речь
латиноязычного населения Италии) претерпела структурные
изменения: разложение (corruzione) языка произошло в результате
длительных языковых контактов (V-VIII в.) с множеством ДРУгИ*
языков, несхожих с родным латинским. Понятие «варварский
язык» является условным, оно имеет собирательное значение,
обозначая всякую другую и чуждую латыни лингвистическую
систему. В числе варваров, покорявших Италию, упоминаются разные
цасгпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 321
народы: готы (тоже общее обозначение разных готских племен —
восточных, западных и кочевых), лангобарды, саксы, гунны и
т. д., — об этом подробно говорит Варки, опираясь на
средневековые источники (хотя прямых ссылок на знаменитую «Историю
лангобардов» Пьера Дамиани (1007-1072) в «Эрколано» нет и
ссылается он только на новых историков (например, на Маттео Пал-
мьери, 1406-1475) [Ercolano, p. 72-74]. Речь идет именно о
влиянии чужеродной (варварской) лингвистической системы —
фонетики и грамматики, а не о лексических заимствованиях,
поскольку иноязычные слова, даже заимствованные в большом
количестве, хотя и ухудшают узус, не могут разрушить при этом
сам язык, т. е. изменить его фонетический и грамматический строй
(Макьявелли, Толомеи). В результате же «смешения» латыни с
варварскими языками сложилась совокупность черт новой
языковой системы, которая не восходит к латыни (ср. современное
понятие «суперстрата», введенное Вартбургом в 1936 г.).
В истории возникновения нового языка особое место занимает
Тоскана, при этом речь идет не об истории формирования
литературного языка (изучение которого, по мнению Толомеи, должно
строиться на других основаниях), а о естественном развитии
народного языка на территории Тосканы. В связи с этим
высказываются два предположения, оба они касаются языковых контактов,
но в одном случае речь идет о древнейших временах, а в другом —
о средневековой истории. Клавдио Толомеи высказывает
предположение о наличии этрусского слоя лексики, ассимилированного
латынью; рефлексы этой лексики, согласно гипотезе Толомеи,
должны сохраняться в современном тосканском языке (ср.
теорию субстрата), однако ученый не знает методов и оснований, при
помощи которых, как он сам говорит, можно было бы вычленить
этрусский элемент, т. к. не известен исходный материал —
этрусский язык. По мнению Дж. Муцио, в Тоскане встретились две
тенденции языкового развития средневековой Италии: сильные
инновационные процессы, идущие с севера — из Ломбардии, где
разрушительные (для латыни) языковые контакты с варварами
были наиболее интенсивными, столкнулись здесь с не менее
сильными консервативными тенденциями, распространявшимися из
Рима, где влияние латинского языка сохранилось лучше, чем где
бы то ни было. Эти противоборствующие силы, как полагает Му-
Дио, могли найти равновесие только в Тоскане, расположенной
между главным очагом инновации (Ломбардией) и главной зоной
консерватизма (Римом). Язык тосканцев, таким образом, и стал
той золотой серединой между двумя крайностями, которая
составляет суть нового языка (Муцио, как и Триссино, в названии ново-
г° языка придерживается «общего» термина итальянский).
Ч;»к\ 3101
322 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Вечный интерес человеческой мысли к поискам «начал»
(origines) и главного человеческого начала, языка, сосредоточился
в XVI в. на вопросах происхождения собственного языка, для раз-
решения которых привлекались как собственно лингвистические
факты, так и данные внешней — по отношению к языку —
истории. Вовлечение исторических фактов в орбиту теоретических
построений составляет главную черту языкознания эпохи
Возрождения в отличие от средневековой науки, чьей сильной стороной
была как раз утонченная техника дедуктивного метода и
спекулятивных теорий.
Наряду с теорией происхождения итальянского языка из
латинского, в рамках которой были сделаны многие важные
открытия, позволяющие говорить о первых шагах романистики как
науки275, в XVI в. была выдвинута и другая теория — теория
происхождения тосканского языка из этрусского276.
Эта версия широко дебатировалась среди флорентийских
академиков. Один из главных энтузиастов новой академии277 Джам-
баттиста Джелли (1498-1563) опубликовал в середине 40-х годов
небольшой трактат (trattatello) «Происхождение Флоренции»
(Origine di Firenze), посвятив его Козимо Медичи. Идя по стопам
первых исследователей этрусских древностей — монаха Анния из
Витербо (известного также под именем Джованни Нанни) и его
275 О романском языкознании в эпоху Возрождения см. [Banner 1974; 1981;
1983].
276 В языкознании Испании и Франции XVI в. также прослеживаются две
тенденции в теориях происхождения языка: одна научная, возводящая испанский и
французский к латинскому языку, и другая (назовем ее условно идеологической),
направленная на поиски более древних истоков своего языка (в греческом,
древнееврейском); в конце XVI в. гранадский ученый Г. Лопес Мадера выдвигает
теорию «первобытного кастильского» (castellano primitvo) [Binotti 1987]; различные
теории происхождения новых языков, выдвинутые учеными XVI в. в романских
странах, рассматриваются в [Tavoni 1990, р. 221-233].
277 Флорентийская академия была учреждена специальным указом Козимо
Медичи в 1541-1542 гг., согласно которому приватное собрание ученых и
литераторов, группировавшихся вокруг падре Страдино в Академии дельи Умиди
(«Влажных»), было преобразовано в официальный орган, призванный заниматься
изучением итальянского языка. Для укрепления позиций народного языка имело
большое значение то обстоятельство, что академия уравнивалась этим декретом в
правах и привилегиях с университетом (Studio) — традиционным центром
классических штудий, причем разрешалось совмещение должностей ректора
университета и консула академии. В состав Флорентийской академии вошли наиболее
известные ученые того времени: Бенедетто Варки, Джамбаттиста Джелли, Пьер
Франческо Джамбуллари, Козимо Бартоли, Карло Ленцони, Леонардо Сальвиа-
ти, Пьеро Веттори и др. История итальянских академий хорошо изучена и
подробно описана (см. например, обзор в [Yates 1983]), о деятельности европейски
академий в области изучения национальных языков см. материалы Междунар°Д
ной конференции [The Fairest Flower] с вступительной статьей Я. Малкиеля.
цастпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 323
соотечественника кардинала Эгидия из Витербо278, Джелли
рассматривал древнюю Этрурию как землю, которая была первой
обвита после всемирного потопа праведным Ноем, прибывшим туда
со своими домочадцами, при этом Ноя он отождествлял с главным
героем римской мифологии — первым царем Лация Янусом, а
легендарного основателя Флоренции Либия — с Гераклом. Мысль
о том, что далекие предки тосканцев были основателями
европейской цивилизации, импонировала официальной государственной
идеологии, насаждаемой Козимо Медичи, и исторические
сочинения, восхвалявшие превосходство Тосканы над Римом, пришлись
как нельзя более ко двору тосканского герцога. Тем не менее
сочинение Джелли не получило широкого распространения279, и
другой флорентийский академик — Пьер Франческо Джамбуллари
(1495-1555) решил развить этрусскую тему в популярном жанре
научной прозы, диалоге, который он посвятил своему другу и
назвал в его честь «Джелло» (// Gello. Ragionamenti de la prima et
antica origine della Toscana et particularmente della lingua Fioren-
Una, 1546).
Джамбуллари (о нем еще пойдет речь в связи с его
грамматикой, см. ниже с. 406-411) использовал в своем диалоге все
возможные источники — свидетельства античных авторов,
ветхозаветные сюжеты, средневековые легенды и труды своих ближайших
современников. Желая «доставить приятность» Козимо, автор
решил также более подробно исследовать (ricercar con molta piu
278 «Комментарии» Анния из Витербо к античным историкам были
опубликованы в 1498 г. (Commentaria fratris Ioannis Annii Viterbensis Ordinis Praedicatorum
theologiae professoris super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium).
В своем сочинении автор использовал не только недавно обнаруженные
гуманистами рукописи Геродота и Дионисия Галикарнасского [Sabbadini 1967, р. 178], но
и многочисленные собственные подделки, выдаваемые им за античные
памятники [Cipriani 1980, р. 33, п. 69]. Энциклопедический труд Эгидия из Витербо (1469-
1532) «История двадцати веков» (Historia viginti saeculorum), в котором
этногенезу этрусков уделяется значительное внимание, существует только в рукописи.
Интерес к этрусским древностям, возникший в связи с обнаружением
памятников материальной культуры и этрусских надписей на территории Тосканы,
исследуется в монографии Дж. Чиприани «Этрусский миф в эпоху флорентийского
Возрождения» [Cipriani 1980]. См. также [Немировский 1983, с. 3-4, 63].
По поводу этого издания В. Боргини сообщает в письме 1578 г., что он «его
видел в свое время и посмеялся над ним», но спустя несколько лет не смог его
найти в продаже. Отсутствие трактата Джелли на книжных прилавках
Флоренции Боргини рассматривает как явное свидетельство второстепенности этого
сочинения: «...бывают такие вещи, которые поначалу расходятся, но более не
перекатываются и таким образом легко теряются из виду» [Cipriani 1980, р. 83-84,
п- 48]. Во Флоренции сохранился единственный экземпляр рукописи Джелли,
обнаруженный и опубликованный М. Барби в 1894 г., переиздан [D'Alessandro
19^, р. 61-122], см. также [D'Alessandro 1980].
324 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
dilegentia) вопрос о «происхождении и основе того языка, кото-
рый Боккаччо называл флорентийским». На основании
направления письма этрусских надписей справа налево и особенностей
алфавита280 ученые эпохи Возрождения, начиная с Анния из Витербо
[Немировский 1983, с. 4], возводили этрусский язык к
древнееврейскому. Обобщая наблюдения своих предшественников281,
Джамбул лари пришел к выводу, «что древнее этрусское письмо было
тем же самым, что и арамейское282... ибо если Янус — это тот же
Ной, — в чем я не сомневаюсь, — и коль скоро он принес в
Этрурию грамоту (le lettere), то вполне правдоподобно заключить, что
он не мог принести с собой другого способа письма, ни других
начертаний букв, нежели те, что были известны в его стране»
[Cipriani 1980, р. 85]. Если родословная современных тосканцев
начиналась от Ноя-Януса, то для Джамбуллари логичным было
280 Начало изучения этрусского письма связано с именем Тезея Амброджо,
опубликовавшего в 1539 г. два этрусских алфавита [Немировский 1983, с. 68]. Монах
Ордена св. Августина Т. Амброджо (1469 — после 1540), впервые встретившись с
представителями восточных католических церквей на Латеранском соборе (1512-
1517), заинтересовался историей восточных религий. Он выучил
древнееврейский, арабский, сирийский и начала армянского языка (уроки которого брал у
одного армянина в Венеции) и стал первым собирателем и переводчиком
восточных рукописей в Италии. По инициативе Амброджо в одной из типографий его
родного города Павии были отлиты шрифты для многих «восточных» алфавитов,
которые погибли во время разграбления города (1527). Амброджо удалось
восстановить свою типографию и издать в 1539 г. в Павии «Введение к халдейскому,
сирийскому, а также армянскому и десяти другим языкам» (Introductio in
Chaldaicam linguam, Syriacam atque Armenicam et decern alias linguas) [Kevorkian
1986, p. 172], там же полное название книги под N 199). В истории языкознания
Тезей Амброджо Альбонезе считается предтечей ориенталистики [Tagliavini 1963,
Р. 44].
281 Еще до написания ученого трактата Джамбуллари изучал разнообразные
источники, чтобы использовать мотивы древней истории Тосканы в оформлении
убранства города по случаю бракосочетания Козимо с Элсенорой Толедской в 1539
г., и подробно описал весь сценарий пышного торжества в виде послания своему
Другу Дж. Джелли. Этот сценарий, включающий также мадригалы, стансы и
интермедии, был издан в 1854 г. (вместе с «Историей Европы от DCCC до DCCCXLIII»
Джамбуллари). С точки зрения интересующей нас темы Ноя-Януса, любопытны
тексты (в стихах), комментирующие инсценированную процессию городов
Тосканы, съехавшихся на торжество. Так, по поводу древнейшего города Ареццо,
известного еще до того, как был основан Рим, говорится: «...из Армении прибыла в
Тоскану Ареция, супруга Ноя, которого древние именовали Янусом, и там, где
Арно презрительно воротит нос, как будто осерчав на что-то, основала Ареццо У
подножия тенистой горы» [Cipriani 1980, р. 78]; легенды о библейской горе Ара*
рат см. [Новосельцев 1978].
282 Об отождествлении языка, на котором говорил Ной, с арамейским см. ниже
с. 330, прим. 288. Об арамейском письме и арамейском языке, ставшими межДУ"
народным средством общения для всего переднего Востока в так называемый
второй период древней истории см. [Фридрих 1979, с. 106], об изучении арамейского
в XVI в. см. [Tamani 1996].
qacrnb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 325
предположить родство тосканского языка с арамейским.
«Большая часть наших имен (nomi) зависит (dipendono) не от латинско-
г0? а от этрусского языка, понять который в наше время
невозможно без отменного знания других языков [этой же группы], я
имею в виду еврейский и халдейский» (там же, с. 85)283.
В качестве лингвистических доказательств этого тезиса Джам-
буллари предлагал ряд этимологии, прибегая к старинному
методу произвольного членения слова, который был осужден еще
Л. Валлой. Например, имя своего родного города, «который
латиняне называли "Florentia", а мы — "Firenze" (Флоренция)», Джам-
буллари этимологизировал следующим образом: «Поскольку "fir"
по-арамейски значит 'цветок', как это следует из VIII главы
Чисел, где "fircah" означает 'его цветок' и из V главы Исайи, где
"fircam" означает 'их цветок', а слово "hen" означает 'благодать'
(gratia), как в VI главе Книги Бытия, то, соединив эти два слова,
мы получим значение 'цветок благодати' (fior di grazia) или
'грациозный цветок' (fiore grazioso)» [Cipriani 1980, p. 86]. Эта гипотеза
не нашла поддержки у тосканских филологов — современников
Джамбуллари. Товарищ Джамбуллари и Джелли по Академии,
Бенедетто Варки, допускал следы этрусского языка в тосканской
топонимике, но решительно отвергал сходство языкового строя
тосканского языка с арамейским284.
Свое ироническое отношение к такому методу Джамбуллари
высказал и В. Боргини. По поводу предложенной этимологии
названия «Firenze» ученый приор замечает: «Что касается
толкования слов, то кто же не знает, что если разделить слово на части по
своему собственному усмотрению и взять любую из этих частей,
велика будет вероятность встретить ее соответствие в
каком-нибудь другом языке. Но стоит ли, право, расчленять наше слово
Ради того, чтобы выделить нечто вроде Fir или Firza, да еще
отправляться потом в далекую Месопотамию в поисках их значения,
когда оно у нас под боком, в двух шагах от римлян, которые и
Упоминание о «языке евреев» и «языке халдеев», которые были во многом
схожими, но все же разными языками (со ссылкой на Книгу пророка Даниила,
см- Дан 1:3) встречается у Исидора [Isid. Etym. IX.9]. В трактатах XVI в.
«халдейский» и «арамейский» употребляются как синонимы, ср. в «Митридате»
К-8Геснера [Gesner 1555 f. 9r].
Полемике с трактатом «Джелло» посвящена вся VII глава «Эрколано»
lErcolano, p. 82-119]. Варки излагает свою позицию по «арамейскому вопросу»
Следующим образом: «Я твердо стою на том, что он (этрусский язык. — Л. С.)>
Как и само этрусское царство, пал от римлян или, во всяком случае, угас задолго
Я° основания Флоренции, при этом я не отрицаю, что некоторые этрусские слова
0гли сохраниться в названии какого-либо места или местности, горы или реки,
^нако не в таком количестве, чтобы составить нерв (nerbo, т. е. характер, тип. —
' С-) флорентийского языка».
326 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
назвали этот город, пожелав ему благополучия [и процветания], на
своем языке "Florentia" от "flor" ('цветок')» [Discorsi I, p. 22-23].
Об этимологиях Джамбуллари есть специальная работа [Coseriu
1972]. Э.Косериу проверил весь лексический материал,
содержащийся в трактате 1546 г., по пяти современным этимологическим
словарям итальянского языка, сопоставил списки слов, которые
Джамбуллари определяет как слова «этрусско-арамейского»,
греческого, французского или германского происхождения, и
пришел к выводу, что критерии и методы Джамбуллари не поддаются
реконструкции. Из 166 слов «семитского» происхожения многие
(примерно одна четверть) фигурируют также в списках слов,
выводимых из других языков (Косериу приводит точные цифры и
вычисляет процент достоверности для каждой группы слов). Из
итальянских слов «семитского» происхождения подавляющее
большинство, как отмечает Косериу, на самом деле восходит к
латыни, но относится либо к трудным случаям реконструкции, либо к
словам с «неясной» — и для современной науки — этимологией.
То, что в этимологиях ученых XVI в. было много неверного, не
может никого удивить, удивительно, пишет Э. Косериу, что
Джамбуллари сумел правильно идентифицировать происхождение 11-
ти итальянских слов, среди которых и такое трудно
этимологизируемое слово, как ragazzo 'мальчик* [Coseriu 1977, р. 114] (итал.
ragazzo < ср.-лат. ragatius из араб. raqq£§, см. [Pellegrini 1960],
[DELI, 4]).
Несмотря на научную несостоятельность — отмеченную уже
современниками — возведения тосканского языка к арамейскому
(«арамейская теория» подробно рассматривается в [D'Alessandro
1980]), эта гипотеза заслуживает нашего внимания, поскольку
соотносится, во-первых, с дантовской темой глоттогенеза и
лингвистической эволюции, интерес к которой возник после
публикации трактата «О народном красноречии» (и спорами вокруг него),
и во-вторых, переплетается с другой, очень важной для позднего
Возрождения темой — с поисками истоков и оснований своей
региональной культуры, которые бы доказывали ее универсальное
значение и обеспечивали всеобщее признание.
Европейское средневековье боялось распада своего
культурного единства, терялось перед многообразием местных языков и
культур: рассеяние народа переживалось как страшная кара, а языковая
разобщенность (confusio linguarum) — как неминуемая расплата
за грех гордыни, подвигнувшей человечество на строительство
Вавилонской башни. Культура Возрождения, напротив, искала в
Священном Писании оправдания множественности языков и
культур и находила его в лице Авраама — «великого отца множества
народов» (Сир 44:19, Быт 17:5).
qaCrrib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 327
По всей видимости, для филологов Возрождения проблема
этногенеза европейских народов стала соотноситься не со зловещим
символом Вавилонской башни, а с библейским мотивом
«остатка»285 — мотивом благочестивого праведника, которого Бог
уберег от своего гнева во время наказания всемирным потопом, и
родословие народов начиналось, таким образом, от ноевых сынов:
«От них населились острова народов (insulae gentium) в землях их
(in regionibus suis), каждый по языку своему, по племенам своим,
в народах своих (unusquisque secundum linguam et familias in
nationibus suis)» Gen 10:5). Тему вынужденного рассеяния
народа, как наказания, вытесняет картина мирного разделения ное-
вой семьи и расселения ее отпрысков по разным землям (во
всяком случае, на такое понимание распространения «языков», как
нам представляется, указывает роль Ноя в построениях,
связанных с этрусками); на этих языках нет печати проклятия, как при
вавилонском смешении (ср. «confusum est labium universae terrae
Gen 11:9 — «смешал Господь язык всей земли», Быт 11:9), они —
как и сама идея спасения — отмечены знаком избранничества.
Ср. «Тогда я дам народам уста чистые (labium electum), чтобы все
призывали имя Господа и служили Ему единодушно» (Соф 3:9).
Вопрос о языке Адама и о его трактовке у Данте привлекал
особое внимание приверженца «арамейской теории» Джелли.
Начиная с 1553 г. в академические обязанности бывшего сапожника
(Джелли кичился своим простонародным происхождением)
входили ежевоскресные дантовские лекции, в которых он должен был
систематически — песнь за песней — комментировать
«Божественную Комедию». Но еще задолго до начала этого официального
курса, в 1541 г. Джелли прочел лекцию на тему, которая больше
всего интересовала его самого — «Об одном месте XXVI главы
"Рая"», посвятив ее разбору ст. 124 и ел., где Адам говорит, что
язык, который он «сработал» (feci от fare 'делать'), «угас задолго
До немыслимого дела тех, кто Немвродов исполнял приказ» (т. е.
До начала строительства башни в Вавилоне), а затем Данте
объясняет закономерные причины изменчивости человеческого языка.
Важно отметить, что в этой «Лекции» Джелли впервые в истории
Дантоведения привлекает для комментирования поэмы другие
сочинения самого Данте (использует метод «объяснения Данте
через Данте» [Gerardi 1955, р. 482]), подчеркивая связь XXVI песни
«Рая» с теорией непрерывной изменчивости языка, изложенной в
«Пире», где говорится, что «если бы те, кто покинул эту жизнь
тьгсячу лет тому назад, вернулись в свои города, они подумали
Ср. «Ной оказался совершенным, праведным; во время гнева он был умило-
тивлением, и по сему сделался остатком на земле» (Сир 44:17).
328 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
бы, из-за различия языка, что город их занят чужеземцами» (Пир
I.V.9).
Джелли полностью разделяет эту точку зрения Данте, и
поэтому ему кажется странным, что в трактате «О народном
красноречии» высказывается нечто прямо противоположное и
утверждается, будто язык, на котором говорил Адам, сохранялся неизменным
у потомков Евера и после Вавилонского столпотворения286 (VE
I.VI.5-6). Это противоречие, которого Данте, по мнению Джам-
буллари, конечно же, не мог не заметить, заставляет его
усомниться в том, что автором латинского трактата был сам Данте.
Джелли — на этом основании — исключает из своего
рассмотрения лингвистическую теорию, изложенную в трактате «О
народном красноречии» (где тема изменчивости естественного языка во
времени является основной и пример с воскресшими жителями
древней Павии, которые «говорили бы с нынешними ее жителями
на языке особом и отличном» — VE.I.IX.7, прямо соотносится с
той же мыслью в Пир. I.V.9), тем не менее он пытается
разобраться в проблеме соотношения неизменных и изменяющихся языков
и касается этого вопроса — уже вне связи с дантовским
контекстом — в трактате «Размышление о том, почему трудно
установить правила для нашего языка» (Ragionamento sopra le difficolta
di mettere in regole la nostra lingua, изд. в 1551 вместе с
грамматикой Джамбуллари).
В этом трактате автор относит к неизменным языкам языки
божественного происхождения, как, например, еврейский.
Примечательно при этом, что он рассуждает о таких языках во
множественном числе, как если бы речь шла о типе языков,
созданных Богом с определенной целью, в отличие от других языков,
образованных людьми для своих нужд. «Они (elle), — пишет
Джелли о неизменных языках, — легко подводятся под правила (possono
agevolmente ridursi a regole), ибо тех же правил, которые
обнаруживаются у писателей (scrittori), придерживаются затем и в
употреблении, и правила эти едины287 (tutt'uno)» [Girardi 1955, p. 490].
280 «Невозможно себе представить, — говорит Джелли, — чтобы в течение всего
этого времени сохранялась та же самая речь в неизменном виде, ведь от начала
мира до постройки башни Немвродом прошло около двух тысяч лет» (Letture И»
Р. 622).
28' Под «употреблением» (uso) здесь, конечно, следует понимать не обычный
узус (т. к. именно в сфере общежитейского обихода язык не может сохраняться
неизменным, что постоянно подчеркивает Джелли), а письменный. Здесь речь
идет о богодухновенном языке Писания и об идентичности (tutt'uno) языка
библейских авторов (scrittori) и языка позднейших толкователей («узуса»
раввинских экзегетов). Джелли употребляет термин «еврейский язык» (lingua ebraica) p
значении «канонический древнееврейский» (иначе было бы непонятно, почему
он не может принять дантовский тезис о неизменности еврейского языка в той
qacrtib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 329
Ко второму типу относятся языки, которые изменяются «время от
ремени, когда ухудшаясь, а когда улучшаясь, в зависимости от
меНяющихся обстоятельств (accidenti), складывающихся в тех
краях (provincie), где эти языки являются коренными и
исконными (е private e proprie), а также в зависимости от того, селятся ли
на этих территориях люди другого языка» (там же). Некоторые из
этих языков являются мертвыми, например, греческий и
латинский, другие — живыми, как, например, язык, на котором
говорят во Флоренции.
В этой «типологии» обращают на себя внимание два момента.
Во-первых, эволюция языка (порча или же развитие) связана не с
самим течением времени, а с обстоятельствами, которые могут
быть либо благоприятными, либо неблагоприятными для
языкового развития данной области. Во-вторых, традиционная
средневековая триада сакральных языков — еврейский, греческий,
латинский — сменяется здесь триадой исторических языков, т. е.
языков изменяющихся. Эта перегруппировка происходила
постепенно. Сначала гуманисты XV века «перевели» греческий и
латинский в разряд исторических и тем самым способных
развиваться языков, в то время как Данте еще считал их «стабильными
и неизменными».
Рассматривая оба классических языка как некий эталон
человеческого языка вообще, итальянские гуманисты в лице их
наиболее яркого представителя, Лоренцо Баллы, особо выделяли
латынь как наиболее совершенный инструмент общечеловеческой
культуры — человеческий язык par exellence. В XVI в., когда
доминирующей стала идея национальных языков, место
сакрального еврейского, не вписывающегося в парадигму исторических
языков, как бы освободилось для народного языка. Джелли
считает свой флорентийский «в большей степени присущим
человеку, чем какой-либо другой язык... наша речь (il parlar nostro)
является для человека менее трудной и более легкой, чем любая
Другая, поэтому она и присуща ему в большей степени и
оказывается ближе ему по самой своей природе» (Letture II, р. 631).
Говоря об общечеловеческой природе тосканской речи, Джелли имеет
Форме, как это изложено в VE I.IX.7, где говорится о языке потомков Евера, т. е.
0 людском языке). Мысли Джелли о том, что могут быть и другие языки такого
*е типа, как древнееврейский, т. е. абсолютно неизменные (ср. более четкую
Формулировку В. Боргини, который объясняет неизменное тождество
древнееврейского строго ограниченной сферой его употребления, см. ниже с. 338 прим.
°1), представляются нам важными и очень характерными для ученых
Возрождения, которые, постоянно осознавая ограниченность своего знания по сравне-
**И1° с многообразием мира, как бы оставляли в своих классификациях пустые
еста для заполнения их еще неизвестными фактами.
330 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
в виду естественную простоту и легкость артикуляции восхваляв-
мого им языка: все слова в тосканском оканчиваются на гласные
звуки, которые, как говорит Джелли, ссылаясь на Макробия,
являются «как бы естественными для человека, они легче всего
запечатлеваются и намного дольше удерживаются в памяти по
сравнению с другими звуками» (там же, с. 632).
Таким образом, природный тосканский выдвигается на роль
главного члена триады — самого человеческого языка. В свете
этих рассуждений нетрудно понять логику Джелли, согласно
которой он считает тосканский самым древним языком Европы и
возводит его к «арамейскому», т. е. к тому «остатку» уцелевшего
вместе с его носителями языка, который в конечном счете может
быть возведен к языку Адама. По этому поводу в трактате «О
происхождении Флоренции» Джелли замечает: «...первые
обитатели Италии после потопа говорили по-арамейски (lingua Aramea),
но не на том языке, на котором в настоящее время говорят в
Армении и называют его «сорийским» (lingua Soria), а на том же языке,
на каком говорил Ной и его домочадцы; каков был этот язык, не
известно — тот ли самый, первоначальный, что был у Адама, или
же какой другой, возникший позже» [D'Alessandro 1979, р. 77]. В
этом контексте lingua Aramea служит обозначением неизвестного
древнего языка, от которого, как полагает Джелли, произошли
затем в разное время другие языки — еврейский (hebrea) в Палестине
и этрусский в Тоскане, которая в древности называлась Этрурией.
Таким образом, сосуществование естественного изменчивого
языка наряду с неизменным книжным проецируется Джелли на
ветхозаветную историю человечества и в роли неизменного языка
оказывается один древнееврейский. В этой перспективе
тосканский язык представляет собой как бы современное состояние
еврейского народного, в то время как богодухновенный еврейский
всегда сохраняет свою идентичность, независимо от изменчивых
обстоятельств места и времени288.
гее французский гебраист Г. Постель (о нем см. ниже) относит разделение
функций языка (появление двух типов языка — изменчивого и неизменного) к
периоду первых установлений человеческого общежития, заведенных Ноем-ЯнусоМ
после потопа: ♦ Fuit enim Ianus primus ille qui ita instituit orbem ut duae semper
linguae traditiones in Rebuspublicis essent» (Так что Янус был первым в мире, кто
упорядочил мир таким образом, чтобы в государствах всегда было два способа
языкового общения) [Postel 1551, р. 68]. И далее: «В начале было два языка!
внешний общественный (externa publica) и священный (sacra)» (там же, р. 249)»
♦Священный», т. е. неизменный канонический язык, в трактатах XVI в.
называется ♦еврейским», в то время как разговорный (♦общественный») язык еврее*
называется по-разному у разных авторов: Г. Постель называет его
самаритянским, тосканские ученые — арамейским. То, что Ной и его домочадцы, по
мнению Джамбуллари и др., говорили по-арамейски, по всей вероятности, являете
экстраполяцией еврейско-арамейской диглоссии на ранний период ветхозаветно
истории.
qacrrib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 331
С этрусской проблемой в связи с комментариями к Данте —
неожиданно для себя — столкнулся первый издатель латинского
оригинала трактата «О народном красноречии» Якопо
Корбинелли (1536-1589). В отличие от своих удачливых
соотечественников, прославлявших режим Козимо, Корбинелли, подозревамый в
заговоре против «тирана», вынужден был эмигрировать в Париж,
где он постоянно опасался расправы (которая настигла его
старшего брата, убитого там в 1569 г.), но зато был более свободным в
занятиях и мог, например, позволить в своем издании ссылки на
Конрада Геснера (в Италии его «Митридат» входил в индекс
запрещенных книг). Корбинелли в своих комментариях к трактату
Данте встретился с теми же противоречиями, которые до него были
отмечены Джелли, но поскольку он не сомневался в авторстве Данте
(издание и было задумано как направленное против
усомнившихся в этом флорентийских академиков), то обязан был
прокомментировать несоответствие в трактовке вопроса о языке Адама в VE
I.IX.7 и «Рай» XXVI.124-126. Не чувствуя себя компетентным в
этих вопросах, атеист Корбинелли решил обратиться за
разъяснениями к известному ученому, с которым успел подружиться в
Париже289, знатоку восточных языков, путешественнику,
философу и визионеру Гильому Постелю (1510-1581)290, изложив ему
существо дела и позицию своих противников, как она виделась
ему издалека.
Г. Постель, который узнал о лингвистических воззрениях
Данте, по всей вероятности, впервые из пересказа Корбинелли (в
ответе он называет поэта «твой Данте» [Simoncelli 1984, р. 145]), но
289 О связях Я. Корбинелли с французскими учеными и поэтами «Плеяды» см.
переписку Корбинелли с известным падуанским библиофилом Дж. В. Пинелли
[Calderini de Marchi 1914] (см. рец. [Crescini 1916]), о его вкладе в романскую
филологию [Crescini 1883], о провансальских штудиях и занятиях ст.-французс-
ким [Bertoni 1905, р. 47 sq], [Debenedetti 1911, § 12], ст.-итальянским [Cherchi
1985].
290 г>
В истории лингвистики имя этого ученого упоминается в связи с его
трактатом «О сродстве языков» (De affinitate linguarum, 1538) и встречается по-русски,
видимо, вслед за довоенным переводом «Истории языковедения» В. Томсена [Том-
^н 1938, с. 110], с неизменным сохранением латинского окончания — Гвилельм
Яостеллус. В [Амирова и др. 1976] этот трактат назван «О родстве языков» (с.259)
Со ссылкой на изд. 1538 г. (с. 317). Отметим, что в 1538 г. Г. Постель опублико-
вал два своих труда; экземпляр, хранящийся в БАН (шифр 44q/3537)
представит конволют, включающий: 1). Linguarum duodecim characteribus differentium
^Phabetum, introductio, ac legendi modus longe facillimus... Parisiis, apud Dionysium
Lescuier... 1538 [52 л], 4е; 2). De Originibus seu de Hebraicae linguae et gentis
^Uquitate, deque variarum linguarum affinitate, liber... (ibidem) 1538 [30 л]. Ра-
°ты этого известного в XVI в. гебраиста и библеиста, который привез в Европу
иРийскую рукопись Нового Завета [Куторга 1891, с. 228], безусловно,
заслужите?1, более подробного анализа, а не только упоминания, см., например, [Есо
1993, р. 85-90].
332 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысдъ
был давно знаком с трудами Джелли и Джамбуллари, поскольку
сам интересовался этрусскими древностями291, ответил на вопро-
сы издателя, изложив свою точку зрения в двух письмах
(по-латински). Корбинелли опубликовал их в своем парижском издании
(1577) полностью, поместив перед своими примечаниями к
трактату (перепеч. в [Simoncelli 1984, р. 165-173]).
Оба письма касаются теории происхождения языка и
расселения народов, первое в большей степени посвящено интерпретации
трактата «О народном красноречии», во втором основное
внимание сосредоточено на языке Адама и его противоречивой
трактовке у Данте. Постель считает, что в своем латинском трактате
Данте рассуждает как настоящий историк (vere historicus Dantes tuus);
версию, изложенную в поэме, предлагает рассматривать как
поэтический вымысел (ср. традиционный взгляд на поэзию как на
«прекрасную ложь»), не претендующий на историческую
достоверность. Излагая свою точку зрения, Постель старается увязать
оба события библейской истории — интересующий его потоп и
дантовскую версию вавилонского смешения. Поскольку хорошо
известно, как пишет Постель, что во время потопа спаслись
восемь человек, то они не могли говорить ни на каком другом
языке, кроме как на том, на котором говорил Адам, и этот язык,
безусловно, сохранился вплоть до строительства Вавилонской
башни, иначе бы Немврод не смог созвать всех в Вавилон и строители
не могли бы действовать сообща, если бы говорили на разных
языках. Смешения языков избежали только немногие благочестивые,
и прежний язык сохранился в их сознании (in mente piorum
paucorum). Как мы видим, Постель трактует библейский текст
(Быт 10:11) иначе, чем Данте, выделяя в качестве главной темы
идею спасения, постоянную возможность возрождения, которую
Бог предоставляет человеческому роду, сберегая его праведный
«остаток», а вместе с ним и первоначальный язык. Поэтому не
случайно, полагает Постель, Бог снова назначил Тоскану (Thuscia),
землю, где некогда обосновался Ной, местом возрождения
красноречия в лице таких светлых мужей, как Данте, Петрарка и Бок-
каччо [Simoncelli 1984, р. 169].
Что касается этрусков, то Постеля, как философа,
интересовали в первую очередь основания религиозного мировоззрения у раз-
291 Постель знал и другие работы итальянских «этрускологов», во Флоренции
вышла его собственная книга про этрусков, которую он, так же как и «его давние
друзья» — Джелли и Джамбуллари — посвятил Козимо Медичи [Postel 1551]; *
этой книге Постель опубликовал и свое письмо к Джамбуллари 1549 г., с. 220"
221). О сложных перипетиях научных связей, лингвистических споров, дрУ*60'
ких отношений и идеологических расхождений между флорентийскими
академиками, Постелем и Я. Корбинелли, см. [Simoncelli 1984], [Cherchi 1985].
Часть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 333
нЫх народов, связь между востоком и западом, прошлым и
настоящим, язычеством и христианством292, поэтому открытие нового
региона древней культуры в Европе — этрусков он воспринял как
восполнение недостающего и необходимого звена в цепи этих
связей [Cipriani 1980, р. 88].
Не имея возможности углубляться в историю изучения
«этрусского вопроса», который выходит за пределы нашей темы,
ограничимся в заключение замечаниями общего характера.
С точки зрения истории лингвистики, «арамейскую теорию»
происхождения тосканского языка можно рассматривать как один
из вариантов очень распространенной в XVI в. теории
происхождения всех языков из еврейского. Как отмечал в начале нашего
века В. Томсен, ее разрабатывали наиболее значительные
филологи прошлого — «хорошие ориенталисты и теологи», которые
привели ее «прямо-таки в систему» [Томсен 1938, с. 42]. Оценивая
труды этого направления, имевшего продолжение в XVII-XVIII вв.,
датский лингвист приводит слова своего соотечественника Р. Рас-
ка: «Не приходится удивляться тому, что это так хорошо удалось,
так как уже с самого начала в этом были так уверены» (там же, с.
43).
Тосканские филологи в своих этимологических опытах
действительно искали и находили то, что они хотели найти, — общность
тосканского с «арамейским» (ср. выше с. 325 замечание В. Борги-
ни по поводу этимологических упражнений современников,
перекликающееся со словами Раска), но — как мы пытались
показать — их уверенность в том, что они на правильном пути, не
была задана «с самого начала», и возникла она не на пустом
месте, а под влиянием археологических находок XVI в. и
последовавших за этим поисков сведений о древнем народе этрусков293.
Поэтому мы убеждены, что без анализа источников, которыми
пользовались ученые XVI в., и без выяснения контекста, в
котором происходило выявление предполагаемых генетических
связей того или иного конкретного языка с древнееврейским (а для
разных национальных традиций этот контекст мог быть разным)294,
292 К параллелям между языческими религиями и христианством во Франции
вносились менее терпимо, чем к сравнению языков, так что в итоге Постеля
тоже постигла участь изгнанника, и он был выслан из Парижа.
293 См. выше с. 315, 323 и прим. 278.
94^ В Германии, например, вскоре после обнаружения перевода Библии на
готский язык возникло искушение выводить все языки из немецкого [DL, р. 614, п.
*?]; в Испании теория автохтонного кастильского (castellano primitivo) была
выдвинута после того, как в 1588-1598 гг. в Гранаде были найдены свинцовые
плагины и пергаменты с текстами I в. н.э. на латинском, и «что самое
удивительное, как утверждает М. Тавони, — на кастильском языке» [Tavoni, 1990, р. 231].
У продолжении этой тенденции в XVII в. см., например, [Вессен 1949, с. 164,
пЧ Ср. с 322 прим. 276.
334 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
гипотеза еврейского праязыка будет обречена оставаться для нас
лишь одним из курьезов из области ошибочных этимологии295.
Наш небольшой экскурс в историю «арамейской теории»
показывает, что тосканских ученых интересовала не проблема общего
праязыка, а поиски начал своего народного языка, которые к тому
же стимулировались желаниями отгородиться от латинского
наследия (в том числе и лингвистического) и доказать
превосходство более древней тосканской цивилизации над римской (точно
так же у нормандца Постеля заметным было стремление
отмежеваться от римской церкви, противопоставив ей «галликанскую» —
Ecclesia Gallicana).
Изучение живых языков в сочетании с интересом к древней
истории данного региона дает основание увидеть в «арамейской
теории» не только проявление местного регионального сознания
(«тосканский национализм»), но общую тенденцию вытеснения
«античного мифа» другими мифами о древности — этрусским,
кельтским, галльским (см. «Миф и язык в XVI в.» [Dubois 1970],
об интересе к истории кельтов и галлов в XVI в. [Dubois 1972],
[Schmidt 1990]).
Так Возрождение, начавшееся в Италии прославлением
латинской культуры в качестве универсальной основы человеческой
цивилизации, заканчивается осмыслением ее как одной из
региональных культур в ряду культур других народов, в том числе и
более древних по сравнению с латинами и римлянами.
Вопросы итальянской филологии
в трудах Винченцио Боргини (1515—1580)
Обозначенный выше круг общелингвистических проблем,
конечно, не целиком, но в очень значительной части представлен в
трудах одного ученого, флорентийского
филолога-энциклопедиста В. Боргини, которого по праву считают основателем
итальянской филологии (в его честь был назван журнал «И Borghini»,
выходивший во Флоренции в 1863-1869 и в 1870-1880 г.). В Боргини
удачно сочетались монашеская и светская образованность, обшир-
295 Удивительно, что современный автор книги «Происхождение языка как
философская проблема» [Донских 1984] даже не пытается ввести «еврейскую
гипотезу» в русло философской проблематики, ограничиваясь примерами
фантастических этимологии и цитатой из Раска (с. 36-38). Ссылка на Раска, уместная *
университетском курсе Томсена, мало что проясняет здесь, в специальной работе,
поскольку от трудов с подобными названиями естественно ожидать анализа преД*
посылок распространенной теории и выяснения причин ее притягательности, а
не просто оценки лингвистических методов доказательства.
цасгпъ П. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 335
ная классическая эрудиция и глубокое знание новой литературы.
Приняв постриг, он прошел всю монашескую иерархию в ордене
бенедиктинцев, учился у главного флорентийского гуманиста того
времени Пьеро Веттори (1499-1585), который преподавал латынь
й греческий во Флорентийском университете (Studio) и составил
«Комментарии к "Поэтике" Аристотеля». Благодаря своим
занятиям античными древностями — исследованиям в области
римской ономастики и быта (трактат на итальянском языке «Об
античных пирах»), обширным познаниям в области археологии,
эпиграфики, нумизматики и т. п., В. Боргини был хорошо
известен в европейском ученом мире. С усилением тосканского
государства при Козимо I ученый бенедиктинец стал заметной
фигурой в общественной и культурной жизни Флоренции. Он был тесно
связан с художественным кружком Дж. Вазари (участвовал в
подготовке к печати его многотомного труда «Жизнеописания
наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» и, по всей
вероятности, редактировал прозу Вазари [Folena 1970]), в начале 60-х
годов возглавил Академию рисунка во Флоренции и, забросив
занятия римскими древностями, сосредоточил свои научные
интересы на отечественной истории, то есть на древностях
флорентийских296 .
Параллельно с работой над источниками для своей книги «О
происхождении Флоренции» (De originibus Florentinis), Боргини
намечает широкую программу изучения итальянского языка.
Первоначально он предполагал включить главу о тосканском языке в
этот труд297, но затем возник замысел отдельного трактата о
языке, который он вынашивал до конца своих дней. К сожалению,
290 Как отмечает биограф Боргини [Legrenzi 1910], грандиозный план истории
Флоренции «от основания города» возник и начал осуществляться в связи с
поручением выбрать сюжеты для росписи зала заседаний в Палаццо Веккьо.
Впоследствии Боргини стал специалистом и в этой области, разрабатывая исторические
сюжеты для художников и декораторов Флоренции (например, был главным
оформителем похоронной церемонии по случаю кончины великого герцога
тосканского Козимо в 1574 г.).
297 В письме к одному из своих корреспондентов Боргини сообщает: «После того
как я расскажу об основании города, его местоположении, строительстве,
территории и других вещах, связанных с историей Флоренции, а также отведу
некоторое возражения и отвечу на те спорные вопросы, которые возникали у [Джирола-
м°] Меи и других или могли бы возникнуть, и соберу для этого все необходимое —
0 Римском гражданстве, римских колонистах и легионерах, об
административном делении территорий и еще о многом другом, — я собираюсь написать и об
Этом языке тоже и уже наметил для себя такие главы: где родился и как стано-
вился этот язык, о том, чтб именно является нашим коренным языком (nostra
Propria), что составляет его особую красоту и каковы его качества, а
напоследок — о том> как следует его беречь и устранять все постороннее, что может его
3агРязнить и испортить» [Trabalza 1963, р. 218].
336 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
такие замечательные качества ученого, как широта эрудиции ц
глубина знаний, в сочетании с основательностью, с которой он
подходил к любому делу, а также деятельное участие в собирании
рукописей и подготовке к изданию памятников старотосканской
литературы (в том числе и ранних флорентийских хроник братьев
Джованни и Маттео Виллани) мешали ему привести в порядок
собственные сочинения, так что многое из начатого осталось
незавершенным, недописанным или неопубликованным, а то
немногое, что увидело свет при жизни автора, вышло по воле
смиренного монаха без его подписи298. Особенно это касается филологических
трудов Боргини, оставшихся в многочисленных тетрадях в виде
конспектов, набросков, проспектов, разрозненных заметок и
маргиналий299. Для того чтобы понять язык, считал Боргини, «надо
многое найти, многое увидеть и отметить, надо перечитать
множество текстов, уметь отобрать наиболее авторитетные, уметь
сличать рукописи и сравнивать разные тексты, справляться с
множеством других забот и хлопот» [Folena 1970, р. 685].
Отсутствие публикаций и неупорядоченность архива долгое
время препятствовали освоению научного наследия В. Боргини.
Одним из первых шагов на пути к устранению этой лакуны стало
исследование М. Поцци [Pozzi 1971-1972], представляющее
описание черновых тетрадей Боргини, — работа, которую сам автор
квалифицирует как предварительный обзор и своего рода
путеводитель по архиву. Как следует из многочисленных фрагментов,
цитируемых М. Поцци, Боргини прекрасно сознавал
неудобочитаемость своих бумаг (отрывочность, возможные повторы и
противоречивость суждений, которые относятся к разному времени или
298 Например, анонимно вышли предисловия к подготовленным Боргини
изданиям «Новеллино» (изд. в 1572 г. под названием Libro di novelle e di bel parlar
gentile— «Книга новелл и красивого и изящного слога») и ♦История событий,
произошедших в Тоскане с 1300 по 1348 год» (Istoria delle cose avvenute in Toscana
dalVanno 1300 all'anno 1348). Между прочим, ему мы обязаны сохранением списка
новелл Ф. Саккетти: Боргини заказал копию с единственной рукописи
(впоследствии утерянной) и сличил ее с оригиналом [Шишмарев 1962, с. 316].
299 Большой подбор этих материалов опубликован Джоном Р. Вудхаузом
[Borghini 1971] (см. рец. [Pozzi 1973], [Stefanini 1976]), о подготовке к изданию
отрывочных записей В. Боргини см. [Woodhouse 1972]. Некоторые из работ,
опубликованных Вудхаузом в 1971 г. (такие как «Набросок трактата о
народном языке», «Почему изменяются или сменяются языки», «Новые слова,
образованные Джамбуллари», «ГЛВДТАЬ, «О крестьянском языке», «Трудности
перевода и т. п.»), а также неиздававшийся ранее отрывок из De originibus
Florentinis (текст на итал. яз.), «Об авторитете Боккаччо и о том, что такое
авторитет» включены в хрестоматию М. Поцци [DL, р. 721-789]. О лингвисти;
ческих взглядах Боргини см. [Barbi 1889], [Pozzi 1971-1972] (перепеч. [Pozzi
1975, p. 91-255]), [Woodhouse 1972a], о его дантоведческих исследования*
[Saraceno 1973], [Pozzi 1975, p. 257-287].
qacriib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 337
приходили ему в голову по разным поводам) и — более того —
опасался, что оставшись в таком сыром виде, они будут превратно
истолкованы. Однако из этих опасений явственно следует и
другое: Боргини не просто коллекционировал в течение последних
десятилетий своей жизни языковые факты, но собирал
материалы, руководствуясь определенным планом и концепцией языка,
которая — что очень важно — не была дана ему a priori, но
складывалась по мере углубления в материал. Поэтому первое, что
следует отметить и что выгодно отличает Боргини от многих его
современников и ближайших предшественников, — это
(пользуясь языком историков) расширение источниковедческой базы.
Боргини, выучивший итальянскую грамоту по Петрарке,
считает, что изучение народного языка не должно опираться только
на авторитетные литературные тексты, но следует учитывать и
другие памятники того же периода, — например, новеллистику
Треченто, старые хроники и приватные документы. Очевидно, что
для систематизации фактов, почерпнутых из разных источников
(тем более «массового» характера), требуется каждый раз четкое
осознание того, что именно ты изучаешь и какие результаты тебя
интересуют. В связи с этим ученый отмечает: «Я не жду от народа
двух вещей: ни чистоты (pulitezza), ни безупречной правильности
речи и потому никогда не пойду в лавку торговца за примерами
такой чистоты или изысканности (eleganza), а пойду туда только в
том случае, если меня интересует употребление (uso), иными
словами, если я обнаруживаю какую-либо форму слова и в книгах и
в речи тогдашних лавочников, я делаю заключение, что данное
слово было в то время общеупотребительным... У тех же
лавочников я справляюсь и о значении этого слова. Встретив, к примеру,
в одной из книг, составленных около 1315 года, т. е. когда еще
был жив Данте, запись, что некто купил своей жене пару
«стоящих» (contigie) и что купил он их у сапожника, я убеждаюсь, во-
первых, что слово это было в ту пору общеупотребительным и, во-
вторых, что означало оно либо башмаки, либо домашние туфли,
одним словом, какое-то богато отделанное изделие из кожи300. Но
если мне предстоит решить, как следует сказать, propio илиргорпо,
то в этом случае я не стал бы особенно полагаться на народ,
который часто подхватывает ошибки и скверные обыкновения,
особенно, когда это касается таких труднопроизносимых букв, как
R» [Woodhouse 1971, р. 111-112].
Этот пример рассматривается в связи с вопросом о том, читать ли donne
(Женщины) contigiate или gonne (юбки) contigiate в «Рай» XV. 101, т. е.
соответственно 'дорогие (продажные) женщины* или 'богатые (расшитые) юбки* [Woodhous
338 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Заметки Боргини показывают, что круг интересующих его
вопросов тематически совпадает с проблематикой языковых споров
XVI в. (ср., например, заглавия некоторых тетрадей, на которые
ссылается М. Поцци в своих журнальных статьях: «Следует ли
подражать Данте», «Сопоставление Данте и Петрарки»,
«Создаются ли языки писателями или язык формирует писателей», «о
двух письмах Муцио о тосканском языке», «Являются ли
различия в греческом языке такими же, как в итальянском» и др.), но
его они интересуют в чисто научном плане, с точки зрения
истории языка и способов ее изучения. Создается впечатление, что
для изложения этого нового предмета филологической науки
Боргини затрудняется выбрать подходящую форму.
С одной стороны, огромный эмпирический материал, который
он тщательно собирает, не вмещается в традиционные схемы
описательной грамматики, с другой стороны, жанр литературного
диалога также не удовлетворяет его (к тому же он не чувствует
себя достаточно свободным в языке, не имея ни досуга, ни особой
склонности, чтобы овладеть красноречием)301. Поэтому Боргини
останавливается на форме комментария (жанра в равной мере
привычного и для филолога-классика, и для богослова), предполагая
написать комментарии к народному языку по образцу
«Комментариев к греческому языку» (Commentaria linguae Graecae, 1529)
французского филолога-классика Гийома Бюде, на труд которого
он ссылается в начале тетради «Набросок трактата о народном
301 Отметим, что несмотря на сдержанное отношение к риторике, упражнения в
которой он считал для себя непозволительными («не по возрасту и не по сану»),
Боргини отдал дань литературному творчеству, сочинив сказку-аллегорию о трех
языках (греческом, латинском и тосканском) «Три сестры» (слово "lingua" в итал.
языке ж. рода; текст опубл. в [Mazzoni 1939], [DL, р. 737-741]). В ней
повествуется о том, как старшей дочери короля, которую звали Эллас, достаются в
приданое все богатства и сокровища отца, средней, по имени Лация, — владение
империей («крыша и голые стены здания»), а для младшей и самой любимой, которую
звали Тирсина (Tyrsine, ср. греч. название Этрурии Tyrrhenia), как всегда, не
остается уже ничего, но зато природа одарила ее «небывалой поднебесной
красотой и грацией», поэтому и у нее нет отбоя от женихов. Любопытно примечание
Боргини, объясняющее, почему в сказке не упоминается еще одна «дочь»,
которая на самом деле была у короля, — еврейский язык: «Этот язык сохранился
только в Священном Писании, все остальное утрачено, нет ни одного памятника
и никаких свидетельств об истоках этого языка; что же касается писателей И
раввинов, комментировавших Писание, то они строили свой язык — пpaвилflf
слова и проч., — руководствуясь этим единственным источником» [DL, р. 737-
738, п. 3] (ср. выше с. 328 и прим. 287 рассуждение Джелли о неизменном
характере древнееврейского языка). Иными словами, жанровая исключительность дре**
нееврейского языка не дает возможности включить его в сюжет о королевских
дочерях, руки которых домогаются многие; Боргини сравнивает этот язык с
«почтенной матроной, которая, посвятив себя Богу, стала затворницей в собственном
доме».
цасгпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 339
языке» [DL, p. 721]302. «Думаю, главное, что по-настоящему
следовало бы сделать, — замечает Боргини в другом месте (по поводу
трактата Бембо, относящегося к тому же времени, что и труд Г. Бю-
яе), — это раскрыть природу языка, но Бембо избрал толкование
й более ученое и более изящное, словом, отставив объяснение,
подобающее школьному учителю, и его одежды, обрядился в
светское платье дворянина» [Woodhouse 1971, p. 41]303. Боргини
критикует язык «Бесед о народном языке», считая слог, которым Бембо
понуждает говорить собеседников, уместным разве что для
произнесения речей перед римским сенатом, но совершенно
противоестественным в обстановке дружеского разговора у очага. Однако
что касается самого предмета «Бесед», то Боргини занимает
нейтральную позицию, не присоединяясь ни к противникам, ни к
поклонникам «корифея», он только констатирует, что задачи,
поставленные автором, отличаются от его собственных.
Определяя значение этого трактата, Боргини подчеркивает, что
Бембо не собирался «делать обобщений относительно природы
нашего языка в целом (dichiarare generalmente tutta la natura della
nostra lingua), но хотел научить, как надобно в наше время
говорить, сочинять (comporre) и писать на этом языке или, выражаясь
старинным языком, который различал "сочинение стихов" и
"сочинение прозы", — тому, как следует "находить" (trovare) и
"диктовать" (dettare) новым слогом изысканно, изящно и совершенно»
[Pozzi 1971-1972, р. 237].
Работа Боргини преследует совсем иные цели, он не
предполагает заниматься «наставлениями новому Боккаччо, Данте или
Петрарке», но будет вести речь о том сырье (materia), которым
пользуются и ораторы, и поэты, сосредоточив при этом все
внимание на качестве и особенности (qualita e propriety) самого
материала, «накрепко связанного природою» (stretta di natura). Само собой
разумеется, что произведения, выполненные из одинакового
материала, разнятся друг от друга так же, как и предметы,
сделанные из природного сырья — глины или дерева; сотни ваз и всякой
Утвари, по разумению ремесленника, получаются то красивыми,
то нет, бывают аляповатыми и изящными, грубыми и
безобразными [Pozzi 1971-1972, р. 228].
В рассуждениях Боргини, как может показаться на первый
взгляд, не содержится ничего нового или оригинального, и он повто-
Отметим, что в жанре традиционного комментария «на автора» или «на
проведение» Боргини удалось написать законченные работы: «Комментарии к
"Декамерону"» (1574) и неопубликованные «Комментарии к Джованни Виллани».
Ср. замечание Н. М. Карамзина, характеризующее состояние русского язы-
Ка в XVIII в.: «Русские о многих предметах должны еще говорить так, как напи-
Шет человек с талантом» [Винокур 1990, с. 103].
340 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ряет общие места многих риторик. Однако на самом деле он
пытается определить понятие «литературный язык» в отличие от об-
щежитейского разговора, с которым тот «накрепко связан приро-
дою» (всей системой народного языка и естественным течением
спонтанной речи), и, с другой стороны, от языка литературы с его
сознательной установкой на художество. Провести эту грань
действительно очень сложно (эта тема остается открытой в любой
национальной традиции с того момента, как осознается
потребность в «образованном слоге»), а для ученого XVI века это
представляется особенно трудным, поскольку он не видит никакой
опоры в традиции — ни в античной, ни в ближайшей к нему.
Боргини хорошо знал труды классиков античного красноречия (см.,
например, его пометы к «Бруту» и «Об ораторе» в публикации
Вудхауза [Woodhouse 1971])30'1 и внимательно следил за всем, что
писали его соотечественники о языке, а за полвека со дня
появления грамматики Дж. Фортунио (1516) таких сочинений
накопилось немало (см. перечень упоминаемых Боргини авторов [Trabalza
1963, р. 219]). Этим фоном и объясняется настойчивая
повторяемость главного тезиса, с которого начинаются многие его
заметки: «Мы сейчас рассуждаем о природе и качестве языка, а не о
качестве или совершенстве того или иного поэта или оратора, —
пишет Боргини. — Аристотель писал о тех и о других — о поэтах
и об ораторах. Цицерон, как и после него Квинтилиан, писал только
об ораторах. Все они, в силу того, что в основе украшенной и
искусной речи лежит обыкновенное слово (а именно таков
порядок вещей в природе), не могли обойтись без того, чтобы не
коснуться этого, т. е. самого обычного слова; время от времени они
действительно говорят об этом, но всегда вскользь и как о чем-то
очень второстепенном, отдавая занятие подобными вещами на
откуп своим грамматикам» [Pozzi 1971-1972, р. 229].
Боргини пытается определить понятие «образованного»
(литературного) языка через критерий правильности. Рассуждения о
грамматической и стилистической правильности с привлечением
многочисленных примеров «хороших» и «худых» слов и оборотов
речи заполоняли страницы итальянских лингвистических
трактатов Чинквеченто305.
Подводя итоги этих споров о частных словоупотреблениях,
Боргини приходит к выводу, что вопрос о том, что есть правильное в
304 Как справедливо отмечает М. Поцци, в отличие от многих своих
современников, Боргини читал греческих и латинских авторов не ради утверждения Д<>г"
матических правил, освященных признанными авторитетами, а в качестве
источников сведений о языке тех эпох [Pozzi 1971-1972, р. 229]. й
305 Сходная ситуация наблюдается в журнальных публикациях пушкинской
поры [Винокур 1990, с. 102], что лишний раз убеждает в типологическом с*0*'
стве итальянской «прозы о языке» с журнальной публицистикой позднейши*
эпох.
qacnib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 341
языке, не может быть решен удовлетворительным образом, если
рассматривать отдельные слова, но требует изучения языка в
совокупности всех его проявлений. Для этого следует научиться
различать такие принципиально важные и существующие в
действительной жизни языка противопоставления, — говорит Боргини, —
«на которые мало кто обращает внимание, не давая себе труда
задуматься — то ли по лености, то ли по нерадивости, — что
является порочным (vizio), а что старинным (antico), что поэтическим,
а что обычным. Все это валят в одну кучу, коснея в множестве
ошибок, хотят показать себя знатоками изящного вкуса и
красноречия, а обнаруживают полную неосведомленность в науке» [DL,
р. 722]. Одно дело, как поясняет он, осудить какую-нибудь
глагольную форму, которую не употребит ни писатель, ни добронравный
тосканец, другое дело, когда в языке встречается такая форма, как
inveggia 'зависть'; здесь нужно уже не порицание, как если бы
речь шла об иностранном или худом слове, а объяснение: требуется
объяснить, что слово это вышло из обихода вместе с другими
приметами обычаев и быта старого времени (там же, с. 723).
Смысл приведенного Боргини примера заключается в том,
чтобы показать, как надо подходить к оценке языковых фактов: речь
должна идти не о «хорошем» и «дурном» в языке того или иного
писателя, а об определении места данной лексической единицы в
системе языка, об отношениях, которые сложились в языке на
самом деле (distinzioni reali). Поясним, что слово inveggia 'зависть'
(за употребление которого вместо «правильного» — с точки
зрения современников Боргини — invidia нередко упрекали Данте)
является нормальным рефлексом лат. invidia: лат. -d- между
двумя гласными (через ступень j+ гласи.) давало в старотосканском -
gg- (ср. veggio — совр. итал. io vedo 'я вижу'; chiuggio — io chiudo
*я закрываю'; creggio — io credo 'я верю')306 и, таким образом,
«необычными» для народного языка Треченто были как раз
формы с сохранением -d- (ср. аналогичные рефлексы в других ст.-
итал. диалектах: сев.-итал. сгесо, неапол. creggio, сиц. criju — io
credo 'я верю'» [Rohlfs 1968, § 534]). К XVI веку это соотношение
изменилось и форма invidia, которая в генетическом отношении
является ученым латинизмом, стала нейтральным
общеупотребительным словом, a inveggia, как свидетельствуют цитированные
слова Боргини, стала восприниматься как архаизм (ср. русское
вРаг/ворое, о проблеме различения генетических и стилистичес-
ких славянизмов в русском языке см. классическую работу Г. О.
Винокура 1947 г. [Винокур 1953, с. 443-459]).
Отметим, что, объясняя происхождение ст.-итал. creggio из лат. credo, Л. Ка-
^тельветро постулировал форму credeo по аналогии с лат. habeo > ст.-итал. haggio
я имею* [Kukenheim 1932, р. 189].
342 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Проблема архаизмов интересовала Боргини не как
стилистическая категория, а как факт истории языка. В этой связи особый
интерес представляют его заметки «О крестьянском языке» (Delia
lingua contadinesca) [DL, p. 778-784]. Автор отмечает, что в дан-
ной работе речь пойдет не о специальной сельскохозяйственной
терминологии, ибо с этой точки зрения крестьянский язык ничем
не отличается от других цеховых языков: люди сельского труда
так же, как и городские ремесленники, используют особый,
только им свойственный словарь и для обозначения предметов, и для
названия действий, связанных с их занятиями. Боргини обратил
внимание на то, что многие «исконные и чистые» (proprie e pure)
тосканские слова, ставшие теперь неупотребительными,
сохраняются в деревне. Это наблюдение он рассматривает как общую
закономерность развития языка. Старый язык лучше сохраняется в
деревне, поскольку крестьяне не общаются с чужестранцами и
никогда не заботятся об улучшении и совершенствовании языка.
Отмечая традиционный характер крестьянской культуры,
Боргини говорит о том, что крестьяне, даже когда они распевают
целыми днями свои песни, никогда не задумываются над формой
словесного выражения, но всегда стараются идти уже «проторенной
дорогой» (andar dietro alle peste). С другой стороны, слова и
выражения, которые привносятся в деревню извне, часто усваиваются
в неправильной форме. «Деревенские» коверкают произношение,
пропускают или, наоборот, вставляют лишние буквы и слоги, что
можно постоянно наблюдать и в жизни, и в некоторых новеллах
Боккаччо.
Резюмируя эти замечания Боргини, можно заключить, что
крестьянская речь интересует его и с точки зрения сохраняющихся в
ней архаизмов, и с точки зрения наблюдаемых в ней
инновационных процессов, свойственных живой спонтанной речи, свободной
от сдерживающего влияния литературной нормы. Такой подход
коренным образом отличался от традиционного взгляда на
деревенскую речь как на грубую и неотесанную по сравнению с более
изящной, украшенной и «цивилизованной» городской речью.
Поэтому неудивительно, как отмечает Боргини, что латинские
авторы не оставили ни одного очерка (saggio), посвященного
описанию крестьянского языка. Это положение сохраняется и поныне.
Примеры крестьянской речи можно найти лишь в старых
итальянских комедиях и у Боккаччо307. Что касается стилистических
307 Заметим, что В. Боргини обращает здесь внимание только на отображение
крестьянской речи в художественной прозе и драме. Однако установка на
«грубую деревенскую речь» (rozzo parlare) характеризует многие поэтические
эксперименты XV-XVI вв. См., например, материалы конгресса «Деревенская поэзия
в эпоху Возрождения» [Poesia rusticana nel Rinascimento], [Chiesa 1980].
цастпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 343
различий между речью города и деревни, то на них обращали
внимание и в античности. Несмотря на то что современные отноше-
ния между городом и деревней, как справедливо полагает
Боргини, должны отличаться от прежних, сами понятия urbanita и
rusticita по отношению к языку сохраняют то же значение, что и
у древних308.
Пристальное внимание к культурно-историческим условиям
ясизни общества позволило Боргини разработать обширную
программу изучения истории языка, основные положения которой
изложены в «Наброске трактата о народном языке» (Schizzo d'un
trattatello della lingua volgare) [DL, p. 721-726], в одной из глав
его большого труда «О происхождении Флоренции» (Parte terza:
De originibus Florentinis) [DL, p. 727-736] и в некоторых других
работах (в том числе и в переписке). Многие явления в
современном языке, по мнению Боргини, невозможно понять и объяснить,
не зная их генезиса, а для этого — в свою очередь — необходимо
хорошо представлять себе историю языковых отношений,
имевших место на данной территории, начиная с древнейших времен.
Боргини не случайно обращает внимание на древнюю историю
Тосканы и заводит речь о «древнем тосканском», т. е. в данном
случае об этрусском языке. Он крайне скептически относился к
модным в XVI в. теориям происхождения языков из еврейского и
к «арамейской теории» происхождения тосканского, выдвинутой
его соотечественниками (см. выше с. 322-334).
Его также не устраивали распространенные в его время методы
этимологизирования, основанные на внешнем сходстве слов.
Критикуя эти методы, Боргини замечает, что, по сути дела, все слова
представляют собой не что иное, как различные комбинации из
конечного количества элементов (из 20-22 букв), и слишком
велика вероятность случайных совпадений определенной
последовательности этих знаков, составляющих слово. Поэтому чисто внешне
и механически установленные сходства между отдельными
словами разных языков сами по себе еще ни о чем не говорят, эти
совпадения должны подтверждаться реальными основаниями и
историческими фактами (un f ondamento reale del f atto e della storia)
PL, p. 729].
Касаясь вопроса о языковых контактах, имевших место на
территории современной Тосканы от древнейших времен до варвар-
08 Ср. рассуждения Цицерона о ♦столичности» в трактате «Брут» (46.171-172),
а также «Об ораторе»: «Итак, существует определенный говор, свойственный
римскому народу и его столице, говор, в котором ничто не режет слух, не вызывает
Неудовольствия, не навлекает упрека, не содержит чуждого звука и привкуса,
^тот говор мы и усвоим, стараясь избегать не только мужицкой грубости, но и
чУжеземных особенностей» [Об ораторе III, 12.44]. О понятии urbanitas в
античной и средневековой культуре см. [Мажуга 1986].
344 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ских завоеваний Италии, Боргини отмечает, что их безусловно
следовало бы учитывать. Однако конкретные факты влияния
этрусского языка на латинский или готского и лангобардского на
средневековую латынь невозможно установить в силу
недостаточности наших знаний об этих языках: памятники этрусской
письменности не поддаются дешифровке, а у готов и лангобардов не
было своей литературы, а такие документы, как, например,
«Эдикт» лангобардского короля Ротария (643 г.), издавались на
латыни309.
Помимо исторических особенностей развития региона,
имеющих прямое отношение к истории языка данного народа (внешняя
история языка), Боргини приводит целый ряд общих свойств,
присущих любому языку, которые также необходимо хорошо себе
представлять, прежде чем приступать к синхронному описанию
языка или — выражаясь языком автора — «к дробному описанию
его частей (venire alle sue parti trittamente), каковыми являются
глагол, имя и т. д. » [DL, р. 736]. Под свойствами,
составляющими «схожесть всех языков» (comunita delle lingue), он имеет в
виду не грамматические категории и их формальные показатели,
а такие характеристики, как наличие неологизмов, архаизмов и
иноязычных заимствований в словаре любого языка, динамику
развития письменно-литературной речи (от первоначальной
«грубости» к совершенству), функционально-стилистическую
неоднородность языка (прозаический язык, поэтический, высокий стиль,
бытовая речь и т. п.), соотношение между языком и литературой,
языком писателей и народным языком, образование новых слов
посредством метафор и др.
Без знания общих закономерностей и конкретной истории
языка, по мнению Боргини, невозможно определить правила
современного речевого узуса — создать грамматику и литературную
норму.
Боргини раньше, чем кто-либо другой, понял необходимость
школьного обучения родному языку310. Прислушавшись к его
советам, Козимо Медичи поручил в 1571 г. создать учебник
флорентийского языка для преподавания во всех школах Тосканы.
Козимо, таким образом, стал первым из итальянских правителей, кто
пожелал ввести родной язык в систему школьного образования.
Если бы он сумел осуществить свой план, то новшество было бы
309 О современном состоянии вопроса о германском суперстрате в романских
языках см. [Pfister 1978].
зю Интересно отметить, что ученый бенедиктинец выучил итальянскую
грамоту по Петрарке, в то время как в купеческой и крестьянской среде учителя-
доброхоты обучали детей и взрослых грамоте по итальянским переводам
Псалтыри [De Blasi 1993, p. 392].
Цасгпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 345
поистине революционным. В школах XVI века языком
преподавания по-прежнему оставался латинский, учителям грамматики
запрещалось пользоваться народным языком, а ученик,
заговоривший на уроке по-итальянски, подвергался различным
наказаниям311 [De Blasi 1993, p. 390-391].
Боргини принял активное участие в разработке программы
школьного преподавания родного языка, написав меморандум
«Относительно правил тосканского языка» (Per le regole della lingua
toscana) [Borghini 1971, p. 5-9]. В этой записке на имя великого
герцога ученый объяснял, почему возникла необходимость в
создании твердых языковых правил. Развитие тосканского языка с
середины XIII в. до начала XV в. представляется Боргини
периодом роста и совершенствования языка (наивысший расцвет
приходится на 1350-1400 гг.). «Наши древние» (i nostri antichi),
причем не только писатели, но и горожане в своих частных письмах,
как свидетельствуют тексты того времени, строго придерживались
одних и тех же и общих для всех правил (за исключением
орфографии, где никакого единообразия не наблюдалось): все
правильно спрягали глаголы, правильно употребляли времена и
наклонения, окончания единственного и множественного числа, короче,
не делали тех грубых ошибок, которые обычно встречаются в речи.
Затем по мере развития торговли и увеличения населения города
за счет притока «новых людей» и чужестранцев (приезжих
учителей, прислуги, иностранных дворов и т. д. ) наш язык стал
портиться. И если в теперешних условиях «здоровое и как бы
естественное тело исконного тосканского языка» (buono e come naturale
corpo del vero e puro toscano) уже не сохраняется в своей
целостности, то следует создать правила и по ним обучать детей языку в
школе.
Как мы видим, вопросы прагматики речи постоянно
находились в поле зрения ученого, но его место в истории языкознания
определяется отнюдь не отношением к языковой норме,
ориентированной так же, как и у Бембо, на язык Треченто.
Эти запреты существовали вплоть до XVIII в. и отменялись постепенно.
РеФормы 30-х годов XVIII в. рекомендовали преподавателям латыни
пользоваться итальянскими учебниками латинского языка, в 70-е годы сначала в Лом-
°аРдии, а затем в Венеции итальянский язык был узаконен в качестве языка
пРеподавания начальной школы. Итальянский язык как предмет (новая образо-
Вательная дисциплина) сначала был допущен в высшей школе (им разрешалось
Сниматься по субботам), а затем, уже во второй половине XVIII в., «родной
Язык был введен в начальную и среднюю школу» [De Blasi 1993, p. 400-403].
346 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Звуковой строй языка
В работах по истории языкознания стало общепринятым ух.
верждение, что должное внимание к звуковой стороне языка про-
явилось в европейской лингвистике довольно поздно — не ранее
конца XIX века [Алпатов 1990, с. 23]. Конечно, в сравнении с
другими и более развитыми в фонетическом отношении традициями
(такими как, скажем, индийская или арабская) это выглядит
убедительно, однако в контексте внутриевропеиского развития как
такового это мнение отражает отсутствие интереса к проблеме
фонетического описания языка, скорее, у специалистов по истории
лингвистики, нежели у самих ученых предшествующих эпох. При
этом не только новые идеи в области фонетики (например, новые
идеи в лингвистике XVI в., о которых речь шла выше), но и
множество конкретных фонетических наблюдений, часто бесценных
для истории конкретных языков, остаются вне поля зрения
историка, который отделывается общим утверждением, кочующим из
работы в работу (причем, это говорится о самых разных периодах,
предшествующих новому времени), о «неспособности провести
четкое различие между буквами и звуками» [Грошева 1985,
с. 209] — при этом подразумевается, что при таком уровне
фонетической мысли никакие достижения попросту невозможны.
Между тем это обобщение, которое имеет, конечно, некоторые
исторические основания, все же нельзя признавать адекватным.
Начать с того, что упреки в неразличении букв и звуков (litterae и
elementa) начинаются уже в самой поздней античности, у Присциа-
на [Prise. De accentibus 1.1-3; Inst. Gramm. XVII. 10], который тем
самым осознавал их различие (хотя и не всегда последовательно)312.
Терминологическое разграничение «элемента» и «буквы»
находим и в средневековье313.
312 В свою очередь, лат. littera является переводом греч. gramma, a elementum —
греческого философского термина stoicheion, который использовался также и
грамматиками. «"Буква", — как сообщает Диоген Лаэртский, — говорится в трояком
смысле: это и сам элемент, и его начертание, и его название, например "альфа"»
[Диоген Лаэртский VII.56] (пер. М. Л. Гаспарова).
313 Так в Большом комментарии на сочинение Аристотеля «Об истолковании»
Боэций обозначает термином «элемент» (лат. elementum) минимальную единиДУ
звучания в отличие от ее графического изображения — буквы (littera). Ср. также
определение «элемента» у Гуго Сен-Викторского (ум. 1141), правда, в более
традиционном контексте как одно из значений «буквы»: «Elementum enim est simple*
vocis articulatae quae scribi potest et intelligi, cuius repraesentatio quod scribitur
figure est, quod dicitur elementum, littera utrumque» (Элемент есть простой Я
несоставной звук членораздельной речи, которая может быть записана и понята»
воспроизведение его, когда он записывается, называется фигурой, а когда
произносится — элементом; и то и другое составляет букву). Оба примера отмечены
[Есо 1989, р. 29, п.18, р. 32, п.27].
цастпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 347
В эпоху Возрождения термин elementum вводится в широкий
научный обиход как основная единица описания звуковой
стороны языка. Едва ли не первым, кто в этот период напомнил
европейским ученым о необходимости разграничения буквы и элемен-
та, был испанский гуманист Антонио Небриха (ок.1444-1522)
[Percival 1988, р. 223, 230 п.15]. В своем «Введении в грамматику
латинского языка» (Introductiones Latinae explicitae),
опубликованном в 1481 г., он прямо ссылается на Присциана, а в
специальном трактате «О силе и значении букв» (De vi ас potestate litterarum,
1503) устанавливает типичные случаи расхождения между
фонетикой и орфографией.
В итальянских лингвистических трактатах XVI в. термин
elemento регулярно употребляется для обозначения фонетической
единицы или звуковой «силы», «значения» буквы. С другой
стороны, в латинской традиции термин littera (буква) охватывал
соотношение трех понятий — «внешней формы» буквы (figura),
«названия» (nomen) и «значения» (potestas) [Abercrombie 1949]; [Tavoni
1984, p. 85-91] (ср. с греческой традицией, см. выше прим. 312).
Контекст во многих случаях снимал двусмысленность, и можно
привести примеры, где термин «буква» несомненно и однозначно
относился к фонетическому уровню и обозначал минимальный
звуковой элемент языка314.
К числу бесспорных случаев относится анализ двуфонемных
сочетаний (восходящий еще к Сексту Эмпирику [Античные
теории, с. 112]), такой как: «X никто не считает буквой, поскольку
она двойная (х autem nemo litteram putat, quoniam duplex est) и
состоит из G и S, как rex—regis, либо из С и S, как mix—nucis»
[Martianus Capella 1836, p. 272-273]. Марциана Капеллу здесь
можно, скорее, обвинить в смешении фонетики с морфологией (или
в своеобразной морфонологии), нежели с графикой. В том же со-
iU Речь идет, таким образом, в отличие от предыдущего случая, лишь о
терминологическом смешении, а не о реальном неразличении звука и буквы в анализе.
Инерция этой терминологии оказалась столь велика, что проявляется еще у
таких представителей новой лингвистики, как Р. Раек (в его материалах к
греческой грамматике — см. [Кузьменко 1984, с. 37]) и Я. Гримм (в «Немецкой
грамматике», где первая часть называлась Von den Buchstaben и слово «буквы» было
снято лишь в издании 1870 г. [Leoni 1977, р. 79]), с другой стороны, обвинения в
Фактическом смешении букв и звуков предъявлялись некоторым выдающимся
Лингвистам недавнего прошлого, и Бругманна, в частности, упрекали в
установлении не звуковых, а буквенных законов (Buchstabengesetzen). По всей вероятно-
Сти, было бы правильным отрешиться, наконец, от оценочного подхода к старой
ТеРминологии, признав, что речь идет о другой и достаточно последовательной
ТеРминологической системе. Из наиболее ранних упоминаний о трояком смысле
ТеРмина «буква» сошлемся на трактат стоика Диогена Вавилонского (II в. до н.э.)
«О звуке» [Античные теории, с. 69, 298].
348 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
чинении315 в разделе, озаглавленном «Об образовании букв» (£)е
formatione litterarum), речь идет о звуках латинского языка (там
же, с. 277-280). С другой стороны, такое название параграфа, как
«О природе букв» (De natura litterarum), где подробно
рассматриваются позиционные варианты «буквы» L, видимо, надо было
читать буквально, т. е. понимать эти наблюдения как «правила
чтения» буквы L (пожалуй, слишком смело было бы видеть здесь
идею фонемы и ее позиционных реализаций — но см. ниже о «пре-
фонологических» идеях в лингвистике XVI в.). Упомянутый
параграф, однако, в другом отношении опровергает устоявшееся
мнение о смешении понятий «буквы» и «звука», демонстрируя
фонетические наблюдения: Марциан различает слабое звучание
(exilis sonus) геминаты, среднее (medius) у L в конце слова и перед
гласной и полное (plenus) после Р, G, С, F: Plauto, glebis, Claudio,
flavo (p. 270, — примеры даны в этих формах. — Л. С). Нужно
заметить, что вопрос о правилах чтения определенных букв (а
именно этой теме были в значительной мере посвящены
итальянские орфографические трактаты) был весьма важен и для латыни,
и впоследствии для итальянского языка, из-за обилия локальных
различий в произношении. Итальянские фонетисты многое
извлекли из наблюдений своих далеких предшественников XVI в. над
современными им диалектами, а в латинской лингвистике
средневековья можно найти свидетельства о произношении латинских
звуков («букв») в разных местностях316.
Это локальное варьирование латыни, усиливающееся по мере
ее распада, осознавалось грамматистами как порча языка, и
чтобы противодействовать ей, появляются руководства по орфоэпии,
где локальным особенностям произношения противопоставлялись
нормативные правила чтения. При этом в них могли отмечаться
позиционные чередования, как в анонимной Ars lectoria X в., где
перечислены буквы (С, G, R, S, T, U, X), чтение которых
обусловлено их положением: «Sunt litterae quarum pronunciacio posicione
variatur» [Thurot 1869, p. 77]. В орфоэпическом трактате Пари-
зия из Альпидо (конец XIII в.) систематически отмечается раз-
315 «Брак Меркурия с Филологией» датируется между 450 и 480 г. Этот
пространный «роман», повествующий о семи свободных искусствах, был одним из
самых авторитетных учебников на протяжении всех средних веков; интерес К
нему не угас и в эпоху Возрождения (в XVI в. он издавался 8 раз [Curtius 1956, Ь
р. 86, п. 1]).
310 Очень ценный свод данных о локальных вариантах произношения,
извлеченных из средневековых латинских грамматик, приводится и анализируется в
специальной главке раздела «Средневековая лингвистика» одной из новейшИ*
работ по истории языкознания [Vineis, Maieru 1990, p. 92-100]. Эти сведения
важны не только для истории лингвистики, но и для исторической фонетики.
цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 349
личное звучание (чтение) букв в начале, в конце и в середине
слова [Thurot 1869, р. 141-144].
Здесь нет возможности приводить другие примеры
распространенных мнений относительно неразвитости фонетического
описания языка, основанных главным образом на отсутствии
соответствующего материала в обзорных работах и трудах по истории
лингвистики (в свою очередь обусловленном невниманием
историков к данному материалу). Упомянем только мимоходом
высказанное В. М. Алпатовым замечание о том, что в традициях с
фонетическим письмом не были распространены классификации
письменных знаков по их начертанию, поскольку теоретически
возможное выделение дифференциальных признаков графических
знаков в контексте фонетических алфавитов не имело никакого
практического смысла [Алпатов 1990, с. 22]. Между тем в XIII в.,
как отмечает Ш.Тюро, получила распространение странная, с его
точки зрения, идея317 установить соответствие между
произношением звука и формой буквы, которая была разработана до
мельчайших подробностей для гласных и согласных [Thurot 1869,
р. 138-139]. Из известных нам сочинений XV в. сошлемся на
пространный трактат М. Галеотти (в латинизированной форме Martius
Galeottus) «О человеке», где среди прочего автора как раз
занимает проблема разложения графического знака на простейшие
составляющие (elementa) и попытка найти подобие между
положением органов речи при артикуляции звука и его графическим
отображением [Galeottus 1517, f.57-61]318. Примечательно, что
автор постоянно ссылается на Марциана Капеллу, опираясь на его
характеристики латинских звуков. В качестве своеобразного «пер-
31' Поиски соответствия между внешним знаком (буквой) и его значением
(звуком) не покажутся уж такой странной затеей, если принять во внимание, какое
место отводилось в средневековой философии языка проблеме соотношения
между словом и вещью, означающим и означаемым и другим вопросам, в разрешении
которых искали подтверждение одной из основополагающих идей христианского
мировоззрения — идеи иконического соответствия между явлением и сущностью.
С Другой стороны, количество соответствий, открываемых средневековыми
мыслителями между самыми удаленными друг от друга и — на наш взгляд — никак
не связанными между собой «ярусами» мироздания, должно было свидетельство-
вать о правильном устройстве мира. Так, например, на вопрос, почему в языке 5
гласных (так сказать 5, «свободных» элементов), отвечали, проводя аналогию
между А, Е, О, U и четырьмя «первоэлементами» физического мира (А
символизировало огонь, Е — воздух, О — воду, U — землю). Букву I (самую «малую по
Форме» и занимающую срединное положение в алфавитной последовательности
^' Е, I, О, U) считали «душой мира» и выражением божественной связи между
пРиродными элементами («anima mundi, sive divina dispositio ligans elementa
naturalia») [Guerri 1909, p. 67].
За указание на этот трактат мы признательны Питеру Майеру (Лондон),
Снимающемуся теорией и историей алфавитов.
350 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
воэлемента» Галеотти рассматривает букву «I», состоящую из пря.
мой черты — элемента, из которого могут быть выведены и к ко-
торому, соответственно, могут быть сведены все прочие
модификации линий (двойная черта, округление, изгиб и т. п.)
используемые для начертания букв. «I» — единственная буква]
состоящая из одной прямой линии, и это означает, что при ее
произнесении воздух беспрепятственно, тонкой струей проходит
между зубами, поэтому не случайно и то, что в
цифровом/числовом ряду она означает единицу — «мать всех чисел»319. В том же
духе описываются все латинские буквы в их алфавитной
последовательности. Галеотти не пытается классифицировать буквы на
основе «дифференциальных признаков» (элементов) их
начертания, но подобные опыты явно обнаруживаются в первой
грамматике итальянского языка Леона Баттисты Альберти (1404-1472).
Альберти приводит буквы народного языка не в алфавитном, а в
каком-то другом порядке, его «порядок» (Ordine delle lettere della
volgar lingua) представляет собой колонку из восьми рядов по три
знака в каждой. Принцип организации этих рядов, в том виде как
они воспроизводятся в печатных изданиях этой грамматики,
совершенно непонятен. Что, например, общего у I, s, f или а, х, zl И
только из факсимильного воспроизведения первого листа
рукописи [Trabalza 1963, tav.4; Grayson 1964, p. 364] становится
очевидным, что горизонтальные (и отчасти вертикальные) ряды
организованы на основании графического сходства320.
В каллиграфии XV в. / отличается от s только одним
элементом — горизонтальной чертой: f Г (см. написание этих букв в
таких словах, как si riferisce, fu, suo и др. на рис. 3), а группа а, х,
z представляет собой сочетание косых линий с другими
элементами А, х, z. Выделенные в отдельный ряд гласные состоят из 7
знаков (в традиционном алфавите их 5: а, е, i, о, и). Альберти
использует диакритические знаки для различения итальянских закрытых
и открытых «е»и«о»,а для различения омонимов,
глагола-связки ё и артикля е' использует знаки густого и легкого придыхания,
что представляет собой первую попытку приспособить греческую
диакритику к итальянскому языку [Grayson 1964, р. XXXIV]321*
319 О символических интерпретациях «Ьв средневековой традиции см. с. 47 И
сн. 68 настоящей книги.
320 Питер Майер указал нам на то, что это напоминает расположение букв в
пособиях по каллиграфии и, вероятно, восходит к ним. Кроме того, Альберт**
учитывает и другие параметры, например, частотность букв в тексте [Sensi 19^5"*
1906]. Эти и другие вопросы он тщательно изучил в связи с составлением шиф"
ров, посвятив им специальный трактат De Cifris.
321 О неизученности вопроса об использовании диакритических знаков в
итальянской рукописной и печатной традиции см. [Folena 1952, р. 91], по исторй
пунктуации см. материалы Международного круглого стола [Ponctuation].
qacrnb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 351
Обычно любые графические нововведения оказываются
небезразличными для современников, т. к. воспринимаются как инди-
вйдуальные вмешательства в общественную практику (в данном
сЛучае этого не произошло, поскольку рукопись Альберти долгое
время оставалась неизвестной), и зачастую — особенно в тех
случаях, когда графические знаки заимствуются из другого языка, —
их использование вызывает резкий протест (ср. бурную реакцию
на попытку Дж. Триссино ввести в итальянскую графику омегу и
эпсилон, см. ниже). Что касается терминологии, то здесь, как
известно, наблюдается прямо противоположная картина, и
терминологический аппарат, сложившийся для описания одного
языка, зачастую «безболезненно» переносится на почву другого.
Примером таких механических переносов может служить постоянное
определение h как «придыхания», при том что в итальянском эта
графема не имеет никакого фонетического значения322, описание
ударных и безударных гласных в терминах острого и тяжелого
ударения (tuono или accento acuto/grave) и т. п. Мало кто из
филологов XVI в. обращал внимание на подобные несоответствия,
поэтому примечательно критическое отношение Пьетро Бембо
(который провел два года в Мессине, изучая греческий в школе
Константина Ласкариса) к сложившейся практике выделять три вида
ударения в итальянском: острое, тяжелое и облеченное. По этому
поводу Бембо пишет: «Говоря об ударениях, я не собираюсь
повторять всего того, что говорили греки, потому как сказанное ими
более пристало их языку, нежели нашему. Скажу только, что в
нашем народном языке долгим является в каждом слове тот слог,
который находится под ударением, а краткими — все те, которые
ему предшествуют ... чего не происходит ни в греческом языке, ни
в латинском ...» [Prose II.XVI р. 160]. Для Бембо вообще
характерно стремление заменять итальянские эквиваленты
традиционных латинских терминов собственными терминами, которые,
однако, не получили сколько-нибудь широкого распространения:
гласные он называет «отдельными» (separate), а согласные
«сопровождаемыми» (accompagnate).
Звуковая сторона итальянского языка в большем или меньшем
объеме становится предметом рассмотрения в самых разнообраз-
Нь1х жанрах лингвистических сочинений XVI в.: в грамматиках,
многочисленных трактатах по орфографии, в различных трудах,
Ср. в грамматике Джамбуллари (1552): «# никогда не была буквой ни у
гРеков, ни у латинян и не имела выраженного звука (suono manifesto), не являет-
°я °на таковой и для нас: это густое придыхание (spirito grasso), которое служит
н*м для различения ci и chi; се и che; gi и ghi; ge и ghe» (т. е. для различения
аФфрикат и велярных смычных. — Л. С.) [Giambullari 1986, р. 7-8].
352 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
связанных с полемикой по поводу орфографической реформы, ц
наконец, в специальных трактатах по фонетике.
В грамматиках, которые следуют традиционной схеме
(установившейся еще в античности и существующей и поныне), описание
начинается с простейших единиц языка — букв. Типичным
примером такого построения может служить грамматика Пьерфран-
ческо Джамбуллари «Правила флорентийского языка» (Regole delta
lingua fiorentina, опубликована в 1552 г. под названием «О языке,
на котором говорят и пишут во Флоренции»)323, примечательная
в том отношении, что это первая грамматика флорентийского
автора (до этого вопросами нормализации народного языка
занимались преимущественно северяне — Ф. Фортунио, Дж. Триссино,
П. Бембо и др., см. гл. «Первые грамматики итальянского языка»
в наст, книге). Уроженцы Тосканы считали себя природными
носителями правильной речи (за что их осуждал уже Данте, см. выше,
с. 73). В предисловии к «Правилам» Джамбуллари пишет, что его
главной задачей было помочь не столько своим
соотечественникам (т. е. флорентийцам. — Л. CJ, ибо они в этом не нуждаются,
сколько чужестранцам и молодым людям, «которые жаждут
научиться правильно говорить и писать на нашем нежнейшем
языке (dolcissima lingua nostra), пользующемся почетом и уважением
не только по всей Италии, но и при всех королевских и главных
дворах Европы» [Giambullari 1986, р. 3]. Джамбуллари
определяет букву (lettera) как «минимальную часть звучания (voce),
которую можно написать: она обладает формой (forma), именем (поте)
и звуком (suono)» (ср. с «трояким» значением буквы в латинской
терминологии, см. выше с. 347). Ссылаясь на Квинтилиана,
утверждающего, что главное назначение букв состоит в том, чтобы
сохранять звучание слов324, Джамбуллари считает, что написание
должно точно соответствовать произношению, таким образом, для
флорентийского языка достаточно 19 букв: 5 гласных и 14
согласных. Джамбуллари отказывается от графем, используемых
только в заимствованных словах (у, k, w, x, у), и от буквы h на том
основании, что она не обозначает никакого звука, когда же она
употребляется в сочетании с другой буквой (см. выше с. 351 прим.
322), то на ее месте могло бы стоять какое угодно начертание
(carattere). Правда, в отношении количества согласных делается
323 При этом автор ссылается как на ближайший источник на латинскую
грамматику Томаса Линакра (Thomas Linacre, ок. 1460-1524) De emendata structura
latlni sermonis, изданную посмертно в Лондоне в 1524 г.
324 «Hie enim est usus litterarum, ut custodiant voces» (Inst. orat. I.VII.31). Ссылка
на это высказывание Квинтилиана содержится в фундаментальной энциклопедии
Дж. Тортелли «Об орфографии» (1471) в статье п.ел. «Littera», так что оно
является достаточно хрестоматийным.
Цасгпь //. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 353
оговорка, что если учесть «негласные» i и i>, то согласных окажет-
сЯ 16 (там же, с. 7-9). В описании фонетики Джамбуллари (как и
большинство его современников) обращает внимание только на те
звуковые различия, которые не находят отражения в письме (в
итальянском языке это графемы Е, I, О, V, S, Z, каждая из
которых могла обозначать разные фонемы). В описаниях гласных между
характеристикой закрытого в и о, с одной стороны, и открытого е
и 0, с другой, наблюдается почти полный параллелизм: закрытый
(chiuso) и узкий (stretto), ослабленный (indebolito) vs открытый
(aperto) и светлый (chiaro), сильный (gagliardo). To же самое и в
характеристике глухих и звонких s [s:z] и z [ts:dz]; глухие
определяются как нежные (dolce) и слабые (leno), звонкие как
жесткие и резкие (crudo, aspro), более сильные (di maggior forza,
gagliardo). Джамбуллари различает «i» слогообразующий и
неслогообразующий (в позиции перед гласным) и согласным, как,
например, в начале имен собственных (Jacopo, Jeronimo, Jove,
Junone)325 и т. п., но не рассматривает «и» неслоговое, отметив
только, что один и тот же знак обозначает гласный и согласный326.
Примером другого подхода, также опирающегося на давнюю
традицию, восходящую в конечном счете к Дионисию Галикар-
насскому, является описание звукового состава итальянского
языка, которое мы встречаем у друга и коллеги Джамбуллари по
Флорентийской академии — Карло Ленцони (1501-1550) в трактате
«В защиту флорентийского языка и Данте» (In difesa delta lingua
florentina e di Dante, con le regole da far bella e numerosa la prosa,
опубликованном посмертно в 1556 г. благодаря стараниям
Джамбуллари). Ленцони интересует только проблема благозвучия, а не
артикуляция звуков, поэтому он не собирается заниматься
вопросом о месте их образования (будь то горло, небо, язык, зубы или
губы), «оставляя его для тех, кто стремится обучать исчезнувшим
языкам» [Peirone 1968, р. 102]. Так же как и Джамбуллари в
«Правилах», Ленцони в своих рассуждениях об эвфонии опирается на
ближайшую традицию — в данном случае на дантовскую теорию
Отметим характерную непоследовательность между теорией и практикой, а
именно между составом предлагаемого Джамбуллари алфавита и количеством
графем, используемых им в рукописи. Так, например, он употребляет s для [s],
J Для [z], z для [ts] и ^ для [dz]. Это явление, довольно распространенное (в том
числе и на других уровнях, например, расхождение между парадигмой грамма-
тических форм и их вариантами в объяснительной части), ставит перед издателя-
ми лингвистических текстов на новых языках целый ряд проблем, к разрешению
Которых современная наука еще не приступила [Bongrani 1983, р. 102].
Считается, что графическое различение гласного «U» и согласного «V» вош-
Ло в итальянское письмо благодаря Триссино, однако до него на необходимости
такого разграничения настаивал Альберти [Sensi 1890, р. 314]. Окончательно это
Разграничение вошло в узус только в последние десятилетия XVII века.
12'3"к 3101
354 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
гармонии слов (VE П.VII.5). «Звучание и облик слов зависят от
букв, — пишет Ленцони, — и в зависимости от того, каковы эти
буквы — нежные (dolci), резкие (aspre), воздушные (spiritose), пол-
ные (piene), слабые (deboli), светлые (chiare) или здоровые (sane), —.
таковыми становятся и слоги, которые из них составляются, а
затем и слова, которыми располагает писатель или поэт для
выражения своего замысла» [Peirone 1968, р. 102]327.
Ленцони ставит своей целью описать слуховые впечатления и
использует для этого, как мы видели, преимущественно
метафорические определения (что, кажется, характерно для всех
акустических описаний). Вот любопытная характеристика сибилянта:
«S напоминает ветер в лесу, а удвоенный SS удваивает силу
свиста (sibilo)» [Peirone 1968, p. 104]. Он явно стремится к полноте
охвата, рассматривая все «буквы» итальянского алфавита (отдельно
гласные и согласные и некоторые их сочетания), но те звуки
(фонемы), которые в итальянском обозначаются диграфами или
трехбуквенными сочетаниями: sc(i), gli, gn(i) соотв. [/], [А.], [п],
остаются вне его поля зрения.
Утверждая, что артикуляция звуков может иметь значение
только для изучения мертвых языков, К. Ленцони, конечно, имел в
виду то внимание, которое уделялось в гуманистической школе
произношению при обучении латинскому и греческому языку328,
и не предполагал, что физиология речи может представлять
самостоятельный интерес. Между тем его соотечественник, великий
Леонардо (1452-1519), посвятил этому специальный трактат «О
звуках» (De vocie) [Tagliavini 1963, p. 37], [Peirone 1968, p. 102],
[Peirone 1981]329.
Леонардо да Винчи, являющийся для нас почти легендарной
фигурой итальянского Возрождения по размаху дарования и
широте своих научных интересов, всю жизнь занимался изучением
строения человеческого тела, заполнив, по его собственным сло-
327 Ср. у Дионисия Галикарнасского: «различные свойства слогов получаются
благодаря сплетению букв, а разнообразие природы слов — благодаря сочетанию
слогов, многообразность же речи — благодаря построению слов. Отсюда, таким
образом, необходимо следует, что красива та речь, в которой слова красивы, и что
причиной красоты слов являются слоги и буквы: приятным язык становится
благодаря приятно действующим на слух словам, слогам и буквам, и те для каждого
единичного случая отличающие их особенности, в которых находят свое
отражение и характеры, и чувства, и настроения, и действия лиц, и то, что со всем этим
связано, проистекает от основных свойств букв («О сочетании имен» 16 (96), ИиТ'
по [Античные теории, с. 211] (перевод И. И. Толстого).
328 О замечаниях Небрихи, Меланхтона, Лоренцо Баллы, Эразма по поводу
отдельных звуков, «испорченных» варварской латынью, см. [Kukenheim 1951, Р- 60J•
329 Из работ, известных нам только по названию, укажем [Solmi 1906J»
[Vangensten 1913], [Panconcelli-Calzia 1943], [Marinoni 1944-1952].
Цасть 77. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 355
вам, 120 томов анатомическими этюдами. Как отмечает Л. Олып-
ки, «эти продолжительные и упорные исследования превосходят
по своему объему и характеру даже величайшие требования
самого натуралистического из всех искусств» — живописи [Олыпки
1933-1934, I, с. 177]. К области таких исследований, не
связанных непосредственно с ремеслом художника, принадлежат
рисунки органов речи и дыхания. Интерес к физиологии речи, речевой
деятельности человека и языку вообще относится к наименее
изученным — и уж во всяком случае — наименее известным
сторонам научной деятельности Леонардо, но согласуется с его
главным девизом «все отметить» и все прочесть (основным источником
анатомической номенклатуры служили для Леонардо сочинения
знаменитого пергамского медика и философа Галена).
Как следует из цитируемого ниже описания, к тексту
прилагались рисунки, изображающие положения органов речи при
артикуляции гласных. Учитывая, что рисунку и чертежу в
исследованиях Леонардо отводилось центральное место, а сопроводительный
текст, как правило, давался в маргиналиях, то, может быть,
правильнее было бы сказать наоборот — рисунки органов речи
сопровождались следующим описанием: «Единственной завесой (panni-
culo) для воздуха, выдыхаемого через рот или пропускаемого через
нос, является та, которую использует человек при произнесении
"а", она помечена как завеса а п: какие бы движения ни
производились при этом языком или губами, они не могут
воспрепятствовать тому, чтобы воздух, поступающий из трахеи в полость а п,
произвел звук "а"».
В том же самом месте образуется и «звук "и", но при помощи
губ, которые стягиваются и выдвигаются вперед; и чем больше
выдвигаются вперед губы, тем лучше они произносят букву "и",
правда, надгортанник т (epiglotto) слегка приподнимается к небу,
а если этого не сделать, то вместо "и" получится "о". Для того
чтобы ясно и отчетливо представлять, как произносится "а" или
"и", надо растянуть звук, не допуская паузы, и постепенно
сужать раствор губ (apritura di labbri); и тогда получится, что у "а"
Раствор губ широкий, у "о" — более узкий и совсем узкий при
произнесении "u"» [Peirone 1968, р. 102].
Наблюдения Леонардо, как мы видим, свободны от каких-либо
Риторических коннотаций и являются примером чисто
инструментального подхода к проблеме образования звуков человеческой речи.
В отличие от Леонардо, подход Пьетро Бембо к описанию
звуковой материи определяется влиянием риторической традиции
[pettinati 1960].
В «Беседах о народном языке» Бембо пишет: «Итак, поскольку
созвучие рождается из сочетания многих слов и берет свое начало
356 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
от каждого отдельного слова, а каждое отдельное слово обретает
качество и форму букв, которые в нем содержатся, то необходимо
знать, какой звук передают эти буквы» [Prose II, X, p. 147]330.
Примечательно, что характеризуя гласные по качеству
звучания — от наилучшего звука у А до «наименее хорошего U», Бембо
отступает, наконец, от алфавитной последовательности и
выстраивает следующий ряд: А, Е, О, I, U, т. е. фактически он
устанавливает зависимость полноты звучания от степени раствора
гласных331 . Эта закономерность, как известно, была открыта только
современными фонетистами.
Для объяснения разного качества звуков — открытых и
закрытых О и Е — Бембо обращается к истории происхождения этих
звуков, или, проще говоря, к исторической фонетике, отмечая,
что в словах orto 'огород' и popolo 'народ' первая буква О
произносится с более разомкнутыми губами, по сравнению с
последующими О, и точно также в орга 'дело, произведение', где О
получается более открытой и свободной (spaziosa), чем в ombra 'тень' и
sopra 'над', потому что в одном случае она стоит на месте
латинской О, а в другом — на месте U (т. е. орга < лат. opera; ombra,
sopra < umbra, super). Пропорционально этому соотношению: Е
открытый < лат. Е, Е закрытый < лат. I, к чему приводится
пример (из Боккаччо): «Se tu di Constantinopoli se'» (Если ты из
Константинополя есть), где различие двух Е «особенно наглядно», т. к.
первое se 'если' происходит от лат. si, а второе se' — второе лицо
от глагола essere (<lat. estis). Иными словами, в качестве
наиболее наглядного примера фонологического противопоставления
приводится минимальная пара [se]: [se].
Как уже отмечалось, Бембо не пользуется термином «гласные»
(vocali), называя их «отдельными» (separate). За вычетом этих
«букв», все остальные называются accompagnate (от accompagnare
Сопровождать'). В описании согласных Бембо также отступает от
алфавитной последовательности, начиная с самой спорной
«буквы» в риторической традиции — Z, которую он считает «самой
прекрасной», отмечая, что это единственная из греческих
«двойных», унаследованная тосканцами332. Термин «двойная» (обыч-
330 Ср. прим. 327 на с. 354.
331 Итальянский ученый Л. Пейроне даже усматривает в этой
последовательности «линейную запись треугольника гласных» [Peirone 1971, р. 9].
332 Противоречивое отношение к Z (введенной в римский алфавит в I в. до н.э-
для обозначения греческой £ [=dz] в заимствованных словах), разумеется, был
связано не с графикой, а с произношением. И М. Капелла, и М. Галеотти в
отрицательной характеристике Z ссылаются на Аппия Клавдия (знаменитого РиМ"
ского цензора 312 г. до н.э.), сравнивавшего Z с оскалом мертвеца (историк
латинского языка связывают это с мимикой лица при произношении Z как LZJ*
См. [Линдсей 1948, с. 15, 24], о других вариантах просторечного произношенИ
цастпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 357
лый в латинской традиции для описания греческих дзеты, кси и
пси) явно не устраивает Бембо как не соответствующий, по его
мнению, фонетической природе греческого звука, и он поясняет,
что у греков она (lettera) простая, но может, как и другие
согласные, удваиваться в определенных позициях, «когда хотят
удвоить силу звука» (la forza del suono).
Бембо неслучайно выделяет тосканское произношение z [dz],
т. к. в речи северян [dz] в словах греческого происхождения
(равно как и глухой [ts] в начале слова в лангобардских
заимствованиях: zoppo 'хромой', zecca 'монетный двор' и т. д. ) утрачивала
смычное начало [Rohlfs 1966, § 169].
Описание Бембо красноречиво свидетельствует о том, что
филологические навыки венецианского гуманиста, его эрудиция,
владение классическими языками и знание античной традиции333
расширяют диапазон чисто оценочного подхода к итальянским
фонемам за счет привлечения таких — пока еще только
вспомогательных — средств, как артикуляция звуков и данные
исторической фонетики. Если у Бембо приметы научного подхода носят
эпизодический и фрагментарный характер, то у сиенца Клавдия
Толомеи и флорентийца Джорджо Бартоли они складываются в
систему, призванную служить теоретической основой для
успешного разрешения орфографической реформы и становления
орфоэпической нормы национального языка. Взгляды этих выдающихся
филологов XVI века заслуживают того, чтобы остановиться на них
более подробно.
Орфографическая реформа и изучение
тосканской фонетики в трудах Клавдио Толомеи
В период становления нормы национальных языков проблема
регулирования графики и орфографии выдвигается, как извест-
гРеч. [dz] см. [Черняк 1985, с. 56-57]). Приятность греческого звука и его
«варварское» латинское произношение отмечал Квинтилиан: «Латинская речь уже в
звуковом отношении грубее [чем греческая], так как у нас нет тех приятнейших
гРеческих букв — одной гласной и одной согласной, — которые звучат у них
благозвучнее (dulcius) всех других и которые мы обычно заимствуем всякий раз,
Когда пользуемся греческими словами. В этих случаях наша речь сразу
становится как-то оживленнее; таковы, например, слова zephyrus и zophorus ...» (Inst.
0rat. XII. 10.27, цит. по [Нидерман 1949, с. 19 прим.1]), ср. негативную
характеристику Z в речи генуэзцев у Данте (VE I.XIII.5).
Так, например, по поводу S Бембо замечает, что хотя этот звук безусловно
Нельзя отнести к разряду «наиболее чистых», тем не менее в «нашем языке» он
Не вызывает такого отвращения, как у древних в греческом, о чем свидетельству-
К)т произведения некоторых писателей, предпочитавших обходиться вовсе без
HJro (имеется в виду «асигматический» гимн Ласа Гермионского, известного сво-
еи приверженностью к различным звуковым эффектам и техническим фокусам,
к°торые назывались по его имени «ласисматы»).
358 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
но, на одно из первых мест, и хотя предложения по усовершен.
ствованию традиционного алфавита исходят от конкретных лиц
дело это воспринимается как общественное. В Италии этот вопрос
также вызывал оживленные споры и породил множество самых
разнообразных предложений (см. [Zambaldi 1892], [Vitale 1951]
[Migliorini 1955], [Fiorelli 1956], [Rinaldi 1973], [Maraschio 1985])33^
Непосредственным поводом к началу полемики послужила
публикация Джанджорджо Триссино «Эпистолы о прибавлении
новых букв языку итальянскому» (Epistola de le lettere nuovamente
aggiunte ne la lingua italiana, 1524). Триссино предлагал ввести в
итальянский алфавит следующие графемы: £ для [е], со[э], £ [dz] и
v [v] (для обозначения согласного, чтобы отличать его от гласного
U), а также регламентировать написания некоторых звуков,
используя традиционные буквы латинского алфвита: j [j], lj [AJ, ki
[k] (см. подробно о реформе Триссино [Rajna 1916], [Migliorini
1950]), [Castelvecchi 1986, § 2]. При этом, аргументируя введение
эпсилона для «е» открытого, Триссино подчеркивал, что его
выбор был обусловлен не фонетическим сходством между греческим
и итальянским звуком, а внешним подобием, т. к. греческое
написание более «открыто» по сравнению с «закрытым»
начертанием латинской буквы «е». Инициатива гуманиста из Виченцы
(который к тому же опубликовал в новой орфографии свою трагедию
«Софонисба», а чуть позднее и свой перевод дантовского трактата
«О народном красноречии») особенно возмутила тосканцев, и
против него ополчились Алессандро де' Пацци, Анджело Фиренцуо-
ла, Лодовико Мартелли и Никколо Либурнио335 (о полемике по
поводу названия итальянского языка см. выше, с. 264-280).
Член сиенской Академии мессер Клавдио Толомеи
откликнулся на реформу Триссино трактатом «Полито» (// Polito),
названным так по имени одного из участников диалога и
опубликованном в 1525 г. под псевдонимом Адриано Франчи336. К. Толомеи,
изложивший свою концепцию реформы, был единственным
оппонентом Триссино, чья критика носила конструктивный и
теоретически обоснованный характер. Возражения Толомеи направлены
не столько против самих графических нововведений (хотя и он
334 О проблеме орфографии в связи с книгопечатанием см. [Ghinassi 1961]»
[Trovato 1987].
335 Их выступления и «Послание» Триссино изданы Б. Ричардсоном [Richardson
1984]. Текст «Послания» в редакции 1524 г. и в оригинальной орфографии —'
Epistola de le lettere nucovamente aggiunte ne la lingua italiana — приводится *
[DL, p. 105-116]. О ходе полемики см. [Castelvecchi 1986, § 3].
336 Авторство Толомеи было очевидным для современников, и об этом с уверен*
ностью заявлял Бенедетто Варки в трактате «Эрколано» [Rajna 1979]. «Полито»
вышел вторым изданием в Венеции в 1531, что случалось нечасто с сочинениям
подобного рода. Современное издание см. [Richardson, 1984, р. 77-130].
цастпь //. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 359
недоумевает, зачем Триссино понадобилось заимствовать буквы у
греков), сколько против отсутствия какого-либо метода в
решении этого вопроса. Для восполнения этого существенного
недостатка автор рассматривает весь фонетический состав
итальянского (тосканского в терминологии Толомеи)337 языка, независимо от
того, имеет ли тот или иной звук особую фиксацию в письме,
сосредоточивая внимание на тех новых звуках, которых, по его
мнению, не было в латинском.
Толомеи убежден в необходимости орфографической реформы,
потому что алфавит латинского языка отображает тосканскую речь
«шиворот навыворот» (contro stomaco) и предлагает исключить из
него буквы ненужные и бесполезные (х, k, q, h) и ввести новые
знаки для различения открытых и закрытых «е» и «о»,
«плавных» (liquide) «i» и «и» (т. е. [j], [w]), звонких и глухих «s» и «z»;
«с» и «g» перед гласными переднего ряда ([ts], [dz]), а также для
обозначения «мягких» (suoni grassi), которые передаются при
помощи сочетания из нескольких букв: gni, gli, sci, но в
действительности составляют только один звук (elemento). Предлагая,
таким образом, одиннадцать новых знаков для тосканского и
предвидя вероятность еще более негативной реакции на свой вариант
реформы, чем на «пять новых букв» Триссино, Толомеи спешил
оговорить, что его главной целью было показать все разнообразие
тосканских звуков в сопоставлении со звуковыми соответствиями
латинских букв и что в своих конкретных предложениях он
опирался «на мнения, суждения и решения сиенской академии»
[Sbaragli 1939, р. 20], которая занималась этими вопросами в
течение многих лет338.
Трактат «Полито» интересен для нас не столько конкретными
предложениями по реорганизации итальянского письма, сколько
своим научным подходом к комплексу рассматриваемых в нем
проблем. Прежде всего заслуживает внимания то, что в нем
намечается системный подход к описанию звукового строя языка и
обнаруживаются признаки фонологического анализа звуковой
материи живого языка. В отличие от других оппонентов
Триссино, которые считали, что передать на письме все разнообразие
337 %, „
Мы пользуемся здесь понятиями итальянский язык и тосканский как рав-
н°значными, в то время как для многих итальянских лингвистов термин
«итальянский» оказывается неприемлемым, когда речь идет о фонетике национального
я^Ь1Ка. См. с. 364 прим. 343.
Толомеи лучше, чем кто-либо другой, понимал, что реформа орфографии не
м°Жет быть частным делом и должна осуществляться правительством. Он был
пРотив того, чтобы «будоражить всю Италию новыми алфавитами», и не хотел
^Народывать разработанный им самим новый итальянский алфавит, проект ко-
орого обсуждал в письмах к друзьям. Его полный вариант опубликован в [Sbaragli
1939, р. 22, п. 2].
360 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
конкретных звуков того или иного языка принципиально
невозможно, и ссылались при этом на Присциана, Толомеи опровергает
как раз это утверждение признанного авторитета в латинской
грамматике (напомним, что Присциан говорил о наличии по крайней
мере пятидесяти гласных в латинском языке, которым на письме
соответствовали 5 букв алфавита). «Разумеется верно, — пишет
Толомеи, — что у гласных существует множество разных
звучаний (differenze); ведь любой гласный произносится человеком
посредством горла и губ, и потому неудивительно, что при
малейшем изменении их формы, выдох получается то более сильным,
то более слабым, рот приоткрывается то больше, то меньше, а
значит и сам гласный приобретает разный чекан, отсюда и
происходит умножение количества звуков, о котором говорят
грамматики... Ошибочно, однако, на одном этом основании заключать о
непомерно большом количестве гласных [в языке], ибо при всей
разнице звучаний (diversita), различие это столь ничтожно (tanto
росо differente) и так мало заметно, что не образует ни новой
ступени (nuovo grado), ни нового вида (nuova spetie) гласного... А вот
разница (diversita) в тосканском языке между звуками в таких
словах, как spento 'погасший' и vento 'BeTep'[spento:vento], toglie
'лишает' и moglie 'жена' [toglie:moglie], и слышится отчетливо, и
узнается легко, и различается мгновенно (discernesi subitamente)»
[Cappagli 1993, p. 116]. По мысли Толомеи, таким образом,
звуковыми единицами языка являются только те звуки, которые
опознаются как видовые различия, и их количество должно быть
конечным в отличие от произносительных вариантов, которых может
быть сколь угодно много. Смыслоразличительная функция [е] и
[е]; [о] и [э]в тосканском языке подтверждается примерами
минимальных пар: fora [fora] (гл. форма от essere 'был бы') и fora [f эга]
(от гл. forare 'дырявить'), рега [рега] 'груша' и рега [рега] 'гибнет'
(поэт, от гл. perire) и др. [Cappagli 1993, р. 117].
Другой важной особенностью, характеризующей подход
Толомеи к изучению языка, является систематическое обращение к
фактам истории языка, сравнение «элементов» тосканской
фонетики с латинскими. Уже в раннем трактате «Полито», имеющем
полемическую направленность и предназначенном для решения,
казалось бы, сугубо практических задач, сиенский ученый
старается выявить все фонетические инновации в тосканском и даже
объяснить появление некоторых из них. Так, например,
появление «менее открытого Е», который не является исконно
латинским (поп ё latina), равно как и «более тусклого О», Толомеи
связывает с длительным пребыванием в Италии варваров, смешение
с которыми повредило в том числе и произношение (pronuntia), и
вместе с образованием нового языка сложился и новый произно-
Цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 361
сцтельный навык (creandosi nuova lingua, si creo con lei nuovo
pr0ferire) [Cappagli 1993, p. 113 n.7].
Рассуждая о составе итальянских согласных, автор трактата
подчеркивает, что с и g в латинском языке имели твердое
произношение в любой позиции, в то время как в новом языке перед е и
/ на их месте образовались новые звуки, «мягкие» (grassi) с и g.
(соотв. [ts] и [dz]). В связи с этим он считает, что именно для
обозначения этих новых звуков и требуются новые буквы, а
установившаяся традиция использовать графему h для обозначения
«твердых» перед гласными переднего ряда (chi, ghi и т. д. )
искажает реальную картину звуковых изменений339 [Sbaragli 1939, р. 21].
Существенным недостатком триссиновского «Послания» Толо-
меи считал и то, что его автор даже не пытался сформулировать
правила, лежащие в основе нового правописания. Этот сложный
вопрос, разумеется, не мог быть решен в рамках одного трактата
и требовал скрупулезных исследований, результаты которых были
систематизированы Толомеи в целом ряде специальных работ: «Об
"о" тусклом и "о" светлом» (опубликовано в [Sbaragli 1939, р. 160-
187]), «Об удвоении между словами» (опубликовано частично там
же, с. 188-193 и отдельным изданием [Garvik 1992]), «О
тосканских формах» (опубликовано в издании, оставшемся для нас
недоступным [Vannini 1920]), «Об удвоении между слогами» (где есть
раздел о «тонком» sottile и «толстом» grosso z), «О двух "s"» и др.
Анализ этих сочинений показывает, что Толомеи твердо
следовал главным сформулированным им методологическим
установкам — систематизации наблюдаемых фактов и их научной
интерпретации. «Хороший законодатель, — как отмечал он в одном из
писем, — должен уметь объединять разрозненные вещи,
упорядочивать трудные и разбирать запутанные» [Sbaragli 1939, р. 188].
Сравнивая работу лингвиста с ремеслом врача, Толомеи считал,
что для «постижения языка и совершенного владения им важно
обращать внимание не только на внешнюю оболочку и на вещи,
заметные снаружи, но совершенно необходимо проникнуть в
самые потаенные уголки его души, тайны его природы, дабы
избежать грубейших и крайне постыдных ошибок» [Sbaragli 1939,
Р. 192].
В трактате «Об "о" закрытом ('тусклом' fosco)»
формулируются десять правил, когда «о» в ударном положении произносится в
9 Средневековые грамматики, как известно, обращали внимание на разницу в
звучании с и g перед гласными переднего и заднего ряда, причем некоторые из
Них (очевидно, исходя из названия буквы или из собственных произносительных
Навыков) утверждали, что перед е, i «буквы» с и g сохраняются, а перед другими
~Уквами изменяют свое звучание (mutat sonum), как в gallus, gobio, gula [Thurot
1869, p. 141].
362 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
тосканском как закрытый звук (в безударном положении он
всегда закрытый). В начале следующего трактата — «Об "о" открьь
том ('светлом' chiaro)» — отмечается, что можно было бы
ограничиться указанием на то, что во всех остальных случаях следует
произносить «о» открыто, однако автор предпочитает следовать
своему плану, «чтобы проникнуть в тайну тосканского языка», и
устанавливает еще восемнадцать правил. Часть этих правил
базируется на регулярности фонетических переходов, наблюдаемых в
эволюции латинских звуков. Например, рефлексом лат. U
является в тосканском «о» закрытое: лат. musca, surdus, culpa и
множество других слов дают в тосканском mosca 'муха', sordo 'глухой',
colpa 'вина' и т. д. В качестве примера противопоставления «о»
закрытого и «о» открытого приводится минимальная пара: tosco
'тосканский' из лат. tuscus и tosco 'яд' < лат. toxicum (с
выпадением «i»).
Большая часть правил формулируется на основе синхронного
анализа итальянской лексики, однако с постоянной оглядкой на
историческую фонетику. Здесь выделяются морфологические
классы слов (прилагательные на -oso, существительные с суффиксами
-olo и т. д. ), рассматриваются позиционно обусловленные звуки,
зависящие от качества последующего согласного (мягких gn, gU
сонантов т, п и т. п.) и структуры слога. В каждом параграфе
специально оговариваются исключения и приводятся примеры,
не подпадающие под данное общее правило (regola generate), но и
для исключений Толомеи старается дать разумные обоснования и
подвести их под другие правила, действующие в языке. В
большинстве случаев одного критерия для формулировки правила
оказывается недостаточно, и, например, в словах на -oso (-а) «о»
закрытое произносится только в прилагательных (эти имена, которые,
как отмечает Толомеи, греки называли эпитетами, а римляне —
адьективами, он называет «налагательными» sovrapposti), а в
именах существительных (rosa, sposo) и в единственной
глагольной форме с тем же фонетическим комплексом (son osato 'я
осмелился') произносится открытый звук, т. к. в данном причастии
«о» (в osa-) восходит к латинскому дифтонгу аи. Лат. аи дает в
тосканском «светлый» звук, и этому правилу не подчиняются
только два слова, foce (из fauces 'глотка') и coda (из cauda 'хвост'). В
отношении последнего слова Толомеи отмечает, что уже древние
римляне говорили codam вместо cai/dam и приводит пример из
Варрона340.
340 Любопытно отметить, что Г. Рольфе в разделе о развитии аи в национальной
норме итальянского языка упоминает об упрощении дифтонга аи, отмеченном
еще в античную пору, однако считает эти процессы хронологически
несвязанными [Rohlfs 1966, § 41, р. 64].
qacmb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 363
Среди характерных особенностей тосканской фонетики
Толоки указывает на «загадочную силу» мягкого gn [n], перед
которым всегда произносится закрытый звук. Ему известен только один
сЛучай отклонения от этого общего правила — это имя собствен-
ное Antogno, которое в современном ему разговорном языке
произносится с открытом «о» и является, по мнению Толомеи,
инновацией, развившейся под влиянием тех, кто стал произносить это
имя на латинский лад: Antonio.
Благодаря способности Толомеи быть предельно ясным и
четким в формулировке общих положений, его единичные примеры
также занимают свое место в системе, не теряясь (как это нередко
случается в грамматиках с разрядом исключений) в хаотическом
списке varia, и, с другой стороны (что также очень важно, ибо
синхронные данные итальянской фонетики XVI в. не подлежат
верификации на основании позднейших исследований),
свидетельствуют о полноте, если не исчерпанности обработанного
материала.
Ярким примером такого подробного и детального описания
может служить правило «Об открытом "о" перед удвоенной
согласной». Оно формулируется следующим образом: там, где «о»
находится перед удвоенной согласной, не являющейся ни
плавной, ни мягкой, и на месте этого «о» не было исконного «и», звук
«о» следует произносить открыто. Приводятся примеры с гемина-
цией всех итальянских согласных (в алфавитном порядке: с
удвоенными Ь, с — велярного и палатального, d и т. д. до z).
Поскольку тосканский язык «очень неохотно» удваивает -d- в исходной
форме слова, то Толомеи удалось найти только один пример с -dd-,
иллюстрирующий открытость гласного в этой позиции: это
фамилия знатного перуджинского рода Oddo, Oddi. Случаи, не
относящиеся к этому правилу («о» перед двумя разными согласными и
на месте лат. U), также иллюстрируются примерами, а среди
собственно исключений приводятся 4 слова: tocco 'берет', sozzo
'грязный, сальный', botte 'сосуд для вина', госса 'прялка' (пример из
Данте, см. Paradiso XV. 124). Поскольку эти слова, как утвержда-
ет Толомеи, являются заимствованиями из других языков341, то
*°» закрытый может быть обусловлен здесь влиянием «какого-
нибудь варварского и* (ср. госса < готск. rukka), но поскольку
Толомеи не может установить источников заимствования (tocco <
Фр. toque, sozzo < пров. sotz), то не берется утверждать ничего
Толомеи ошибается здесь только в отношении слова botte, для которого он,
По всей видимости, не сумел найти латинского этимона, — это слово восходит к
сР.-лат. butte(m) и тем самым подпадает под другое его правило об «о» закрытом:
0 < лат. и.
364 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
определенного, ограничившись лишь гипотезой о неслучайности
подобных исключений.
О распространенном в итальянском языке явлении, удвоении
согласных, речь идет в двух работах: «Об удвоении между
слогами» и «Об удвоении между словами» (так называемое
синтаксическое удвоение). Примеры из древних языков (латинского,
греческого, еврейского) дают автору основание предполагать, что
удвоение согласных на стыке слогов присуще всем языкам, что
же касается синтаксического удвоения, которое никак не
отражается в графике, то трудно судить, как произносили в латинском
tu facis 'ты делаешь' — tufacis или tuffacis? Толомеи считает, что
способ передачи на письме двойного согласного в
древнееврейском языке (с точкой в середине графемы) является более
совершенным, нежели распространенный в других языках
графический повтор. «У кого хороший слух, — пишет он, — тот прекрасно
знает, что в слове bella красивая' произносится не два
раздельных Z, а одно Z, но с большим нажимом и с большей силой, а в
слове bela 'блеет' — одно /, которое произносится нежно и без
всякого нажима» [Sbaragli 1939, р. 192]. Далее следует подробное
описание, как следует артикулировать звуки в слове bella, не
нарушая его слоговую структуру, чтобы получилось BE-LLA, а не
BEL-LA342.
Автор монографического исследования о Клавдио Толомеи,
Лоренцо Збаральи, по достоинству оценивая теоретический
уровень небольших по своему объему трактатов этого автора об
итальянской орфоэпии, подчеркивает актуальность
сформулированных им правил для разработки современной орфоэпической нормы
национального языка и их безусловную практическую ценность —
они с успехом могли бы использоваться в преподавании
итальянского языка иностранцам и в обучении глухонемых устным
методом343 [Sbaragli 1939, р. 23].
342 Удвоение согласных особенно интересовало Толомеи в связи с проблемой
определения долготы и краткости слога (в греческой и латинской просодике
гласный перед двумя согласными считается позиционно долгим). В римской
Академии Доблести (переименованной впоследствии в Академию Новой поэзии) под
руководством Толомеи разрабатывались вопросы приложения латинской
метрики к итальянскому стиху. Основы новой поэзии были изложены Толомеи в книге
Versi e regole della nuova poesia toscana («Правила стихосложения новой
тосканской поэзии»), вышедшей в Риме в 1539 г. Стихотворные опыты Толомеи не
вызывали сочувствия у многих его современников. Б. Варки жаловался, например»
что не может распознать на слух ни латинский метр, ни тосканскую гармонию
[Sbaragli 1939, р. 57-58 п. 6].
343 В связи с этим следует отметить, что современное состояние итальянского
языка характеризуется отсутствием «единой фонетической структуры, общей дл*
всех говорящих» [Parlangeli 1969, р. 748], и в становлении национальной
орфоэпической нормы в настоящее время конкурируют разные региональные варианты
цасгпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 365
Несмотря на то что большинство сочинений Толомеи не было
опубликовано и некоторые оказались утраченными еще при
жизни автора, они были хорошо известны современникам, о чем
свидетельствует и переписка, игравшая огромную роль в
интеллектуальной жизни Италии XVI в., заменяя несуществовавшие в ту пору
научные журналы и обеспечивая циркуляцию идей в обществе
(достаточно сказать, что письма Толомеи были изданы еще при
жизни автора в 1547,344 а всего за последние две трети XVI века
было издано около 70 томов писем итальянских гуманистов Чин-
квеченто), и деятельность Толомеи в различных академиях,
получившая общественное признание. Вкладом Толомеи в изучение и
упорядочивание тосканского языка особенно гордились сиенцы,
что вполне понятно (здесь сказывался и обычный для итальянцев
местный патриотизм, и традиционное соперничество с
Флоренцией, еще усилившееся в связи с потерей Сиеной своей
независимости), но примечательно другое — а именно то, что пальма
первенства в деле «прославления» тосканского языка (neWillustrare la
nostra lingua) отдается не литераторам, а ученым, которые
обнаруживают достоинства языка, «просвещают», т. е. открывают
законы его организации — фонетические и грамматические, в чем
особенно преуспел Клавдио Толомеи345.
литературного произношения [De Mauro 1963], а ученые спорят о влиянии двух
столиц, отстаивая престиж тосканского узуса [Migliorini 1967], [Fochi 1969] или
римского [Bertoni, Ugolini 1939]. В Италии по сравнению с другими странами
(например, с Германией, лингвистическая ситуация в которой имеет много
общего с итальянской, и они часто сопоставляются) этот процесс осложняется еще и
тем, что сценическое произношение не могло служить образцом для
литературного в силу того, что итальянский театр традиционно ориентировался на живую
диалектную речь. Как отмечает один из современных итальянских лингвистов,
общество располагает всеми техническими средствами, необходимыми для
распространения орфоэпической нормы, и расположено к ее восприятию, не хватает
только одного — самой нормы, пригодной для распространения [Peruzzi 1967,
Р- 65]. Учитывая это обстоятельство, читатель не должен удивляться тому
практическому интересу, который могут представлять работы Толомеи спустя четыре
столетия после их написания. Сиенский ученый находился в явно более
выигрышных «полевых» условиях по сравнению с фонетистами XX в., выводя
национальную норму из тосканского узуса, хотя и он наблюдал различия в городской
Речи, свойственные даже лучшей части Тосканы — Флоренции, Пизе, Лукке и
его родной Сиене. Однако местные фонетические расхождения касались лишь
частностей — произношения отдельных слов, не затемняя для него общей
картины.
344 Это прижизненное издание «Писем» осталось для нас недоступным, и мы
Пользовались посмертным изданием [Tolomei 1560], которое снабжено
несколькими указателями: выборочным предметным указателем, именным указателем
аДресатов переписки, а также полным списком греческих цитат в оригинальной
°Рфографии с переводом на итальянский.
В речи, посвященной сиенской Академии Глухих (названной так, чтобы
показать, что ее члены остаются абсолютно глухими (intronati) к мирским заботам,
366 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
В истории лингвистики интерес к неизданным
лингвистическим трудам Толомеи долгое время был связан с выяснением
вопроса о месте в истории итальянского языкознания другого
сиенского филолога — Чельсо Читтадини (Celso Cittadini, 1553-1627),
автора сочинения «Истоки народной тосканской речи» (Origini della
Volgar Toscana fauella, 1604). В этом сочинении уже
современники усматривали компиляцию (без должных ссылок) из работ
Толомеи, уличали Читтадини в плагиате, однако обнародованы эти
обвинения были только в XIX в. [D'Ovidio 1893]. Для
окончательного прояснения истинного положения дел Филиппо Сенси
опубликовал не издававшийся ранее трактат Толомеи «Об источниках
тосканского языка» (De1 Fonti de la lingua Toscana) [Sensi 1890-
1892, p. 447-453], закрепив тем самым за Клавдио Толомеи
статус предшественника исторической фонетики346.
Опубликованный Сенси материал (автор склонен рассматривать
рукопись Толомеи не как подготовительный набросок, а как
выводы большой исследовательской работы) состоит из «Введения»
(Proemio) и девяти разделов. Принцип деления на разделы не
всегда понятен из-за конспективности изложения, но совершенно
очевидно, что под «источниками» образования итальянской
лексики из латинской подразумеваются различные звуковые
переходы, наблюдаемые на пути эволюции от латинского этимона к
итальянскому слову, иначе говоря, фонетические законы. По этому
поводу во «Введении» говорится следующее: «Тосканские слова
происходят (hanno Torigine) от разложения (corruzion)347 многих
языков — готского, лангобардского и других варварских языков,
но в большинстве своем они происходят из латинского ... и при
переходе в тосканский они могут сохраняться целиком, ничего не
меняя, как, например porta 'дверь', lima *луна\ а могут изме-
посвятив себя занятиям моральной философией и изящной словесностью),
известный эрудит Уберто Бенвольенти говорит о приоритете Академии, деятельность
которой сделала очевидными и известными всему миру достоинства «нашего»
языка. Среди первых светил (lumi) Академии оратор называет Клавдио Толомеи,
который «своими многочисленными сочинениями вознес до небес наш язык и
новым алфавитом постарался освободить его от всяких двусмысленностей
(equivoco)» [Sbaragli 1939, p. 159-160]. О трудах других сиенских филологов см.
[Weis 1946-1948], о деятельности Академии [Belladonna 1978]. В 1991 г. в Сиене
был проведен конгресс «Язык и литература в Сиене в XVI-XVIII вв.» [Lingua e
letteratura].
346 Одним из наиболее «плодотворных предшественников исторической
грамматики» называет его Чиро Трабальца в своей фундаментальной «Истории
итальянской грамматики» (1908) [Trabalza 1963, р. 142]. За пределами Италии, кажется,
впервые упоминает о Толомеи как основоположнике исторической фонологии
Р. Холл [Hall 1936].
347 О переосмыслении термина «порча» (corruzione) у Толомеи см. с. 237-23©
наст, книги.
Цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 367
пяться, и ступени (или степени — gradi) таких преобразований
различны... От наименьшей, как, например, в Roma 'Рим', где из
латинского заменяется только «о» открытый на тосканский «о»
закрытый, до наибольшей, примером которой может служить
наречие assai 'довольно, достаточно'; в этом слове из-за приращения
в начале и преобразований в конце с трудом можно распознать
латинское satis, от которого оно произошло». Далее приводятся
примеры «перераспределения» (ripartimento) слогов (увеличение,
уменьшение), изменение гласных, согласных и т. п. Подводя итог
краткому перечню отмеченных трансформаций, Толомеи
заключает: «Все эти слова порождены девятью источниками, в
соответствии с которыми то или иное слово произносится в тосканском
так, а не иначе» [Sensi 1890, р. 448]. Первые два «источника»
образования итальянской лексики из латинской связаны с
действием регулярных звуковых переходов. Один из них —
«источник происхождения» (Fonte de VOrigine) устанавливается на
основе регулярных звуковых соответствий между латинским и
тосканским, другой — «источник формы» (Fonte de la Forma)
базируется на определенных фонетических правилах, свойственных
живому тосканскому языку. Так, например, многие произносят
слово lettera 'буква, письмо' с закрытым «е», т. к. оно происходит
из лат. littera (именно в этом Толомеи видит «источник
происхождения», т. е. диахронический закон), но правы и те, кто
произносит это слово с «е» открытым, ибо они следуют «тосканской
форме», в соответствии с которой гласный под ударением перед
удвоенным согласным произносится открыто («источник формы»
= синхронное правило). Границы между тем, что мы, отступая от
оригинальной терминологии Толомеи, «перевели» как
диахронический закон и синхронное правило, оказываются подвижными и
зависят от интерпретации. Иными словами, одно и то же
фонетическое явление может рассматриваться и как следствие
регулярного звукового перехода, и как проявление синхронного правила.
Чтобы лучше понять, как действует «источник формы»,
обусловленный самой природой — жилами (vene) — тосканского языка,
Толомеи рассматривает ряд таких соответствий, как лат. vultus
■"- итал. volto, stultus — stolto, multum — molto, представляя его
в виде последовательных переходов: vultus > vultu > vulto > volto),
т- е. руководствуясь диахроническими законами. Однако соответ-
Ствующие правила формулируются им при этом как перечень
ограничений, налагаемых тосканским языком на фонетическую
СтРуктуру данного слова: в тосканском языке слово не может
оканчиваться на -s или -т; природа языка диктует, что в ударной
порции и не может находиться перед -I в том же слоге и т. д. Впро-
**ем, некоторую условность этого разграничения осознает и сам
368 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
автор, поясняя, что в данной рубрике следует рассматривать те
слова, фонетика которых в большей степени сообразуется с
природой тосканского языка, нежели с фонетическим обликом
исходного латинского слова. Третий закон, озаглавленный «источник
деривации» (Fonte de la Derivanza), также относится к числу
всеобщих фонетических законов (regole universali). Согласно
данному закону, звуковые изменения, произошедшие в слове на
основании одного из двух сформулированных выше правил,
сохраняются и в производных формах данного слова (под «деривацией»
Толомеи подразумевает как словообразование, так и
словоизменение). В остальных разделах рассматриваются частные
фонетические явления, такие как выпадение гласных (Fonte de la Figura)m,
усечение слов и др.; в отдельную группу выделены те
звукоподражательные слова, фонетический облик которых, имитирующий
естественные природные звуки, противоречит природе данного
языка. В последнем разделе под рубрикой «источник расхождений»
(Fonte de la Disuguaglianza) «объединяются те слова, которые
отклоняются от обычных правил (regole ordinarie) и, как
отбившиеся от строя солдаты, не идут в ногу со своим капитаном». В
качестве примера такого «непослушного» слова рассматривается итал.
chioma 'грива, копна волос'. Согласно правилам, из известной
Толомеи латинской формы coma в народном языке должно быть
cuoma или же coma с сохранением исходного латинского гласного
по образцу других слов книжного языка (в терминологии Толомеи
«второго и третьего языка», о чем речь дальше), как palus > palo,
rogus > rogo. Этот и другие примеры убеждают нас, что в анализе
звуковой материи языка Толомеи исходил из гипотезы о
мотивированности любых фонетических изменений (предвосхищая тем
самым один из главных тезисов младограмматиков), хотя и не
для всех из них мог найти удовлетворительные объяснения. В
данном случае Толомеи не учел одного недостающего звена —
уменьшительной формы com(u)la > chioma (через метатезу 1 см. [Rohlfs
1966, § 353, р. 455].
Идея регулярности фонетических изменений была успешно
применена Толомеи как для разработки орфоэпических норм, так
и в теоретическом плане, результатом чего, как мы видели, стала
своеобразная типология звуковых изменений. Эта же идея легла в
348 В разделе «фигуры слова» в описательных грамматиках с большей или
меньшей подробностью перечислялись различные виды фонетических изменений
слова, или — следуя античной традиции — «претерпеваний» (ср. греч. лаОг|, итал.
passioni). В данной работе Толомеи не задерживается специально на «фигурах»»
однако в материалах рукописи есть раздел De le figure, состоящий из 8-ми
пунктов, к которым переписчик добавил еще 4, упоминаемые в других работах
Толомеи. См. их перечень в [Franco Subri 1977, p. 541, п.12].
цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 369
основу еще одного трактата Толомеи — «О четырех языках».
Трактат, к сожалению, не сохранился, но его содержание поддается
реконструкции на основании частых ссылок на него в других
работах того же автора (в том числе и в «Источниках») и по фраг-
ментам, имеющимся в рукописном наследии Толомеи349.
Анализируя разные рефлексы латинских звуков в тосканском
в сходных фонетических условиях и отмечая существование в языке
таких форм, как turba 'толпа' < лат. turba, наряду с forno 'печь' <
лат. furnus, cigno 'лебедь' < лат. cycnus и segno 'знак' < лат.
signum, linea 'строка' < лат. linea и vigna 'виноградник' < лат.
vinea и др., Толомеи выделяет в итальянском языке четыре слоя
лексики, называя каждый из них «языком». К первому языку,
который определяется как «более древний, благородный, чистый
и прозрачный», относится большинство слов, употребляемых
говорящими (parlatori), в том числе и образованными людьми (dotti).
Слова второго языка, образованные по латинской модели (а не по
правилам тосканского языка), были введены писателями, но
вошли в общий обиход. К третьему языку относятся ученые слова,
также образованные по латинской модели, но не вошедшие в
общий узус, и наконец, к четвертому языку, представляющему, по
сути дела, подраздел третьего350, относятся латинизмы, которые
содержат звуки, противоречащие «природе тосканского языка»
(типа ejcperto вм. esperto). Таким образом, исходя из
фонетических критериев, Толомеи приходит к важному открытию —
противопоставлению исконной общенародной лексики и книжной,
которая, в свою очередь, подразделяется на несколько уровней «по
убывающей» — от наиболее употребительных слов до редких и
наименее употребительных. Проблеме разграничения
общенародной и книжной лексики (или «двух природ» в языке), судя по
всему, были посвящены и другие (несохранившиеся) работы
автора. В уцелевших фрагментах одной из них, ставящей своей целью
изучение вопроса о том, «каким образом и в каких формах
латинский язык преобразовался в тосканский», автор отмечает, что в
лексике латинского происхождения «некоторые слова — и таких
большинство — образованы в соответствии с универсальными пра-
49 Краткие сведения об этой работе содержатся в публикации Ф. Сенси, более
обстоятельная реконструкция дана в [Franco Subri 1980], подробное описание
Рукописного наследия Толомеи, хранящегося в Сиенской коммунальной
библиотеке (кодекс Н VII 15, состоящий из 476 страниц, впервые в [Franco Subri 1977]),
°б истории рукописи см. [Cappagli, Pieraccini 1985]. В настоящее время готовится
Публикация неизданных лингвистических трудов Толомеи (см. [Cappagli 1993,
p-35iii]).
В рукописях Толомеи и в переписке с современниками эта работа иногда
Фигурирует под названием «О трех языках».
370 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
вилами (regole universali) первого тосканского языка и ими
пользуется как народ (volgo), так и ученые (dotti) в равной мере.
Некоторые же другие слова были добавлены к первому языку
грамотными людьми (persone letterate) и образованы не по образцу первого
тосканского языка, а взяты в соответствии с их латинскими
формами и уже потом сообщены народу, и, таким образом, мало помалу
как те первые слова, так и эти стали употребляться в народе
повсеместно (universalmente dal volgo usate)» [Franco Subri 1977, p. 553].
Другой важный вывод из этой теории касается установления
относительной хронологии наблюдаемых процессов. Толомеи
считает, что книжные слова вошли в язык позже, т. к. в старом
тосканском не было таких слов, как giusto 'справедливый' и
giustizia 'справедливость', gusto 'вкус', angusto 'узкий' и т. п. и
для выражения этих понятий использовались другие слова: dritto
и drittura, sapore, stretto и т. п. и только «позднее учеными (dotti)
были добавлены многие термины в их латинской форме, такие
как ingiusto 'несправедливый', ingrato 'неблагодарный', iniguo
'незаконный'. А если бы этими словами пользовались уже
первые тосканцы, то тогда они и произносились бы иначе — что-
нибудь вроде engiusto, engrato, eniguo, как и сегодня их
произносят некоторые простолюдины или как произносили наши
древние, перенося в тосканский такие латинские слова, как impius
'нечестивый', inflatus 'надутый', и превращая их в empio, enfiato»
[Franco Subri 1980, p. 412].
Сам Толомеи придавал большое значение своему учению «о
четырех языках», считая его важным как в теоретическом
отношении, так и в практическом. Эта книга должна была открыть
многие вещи, которые «освещают темные места в тосканском
языке» (illustrano le oscurezze della lingua toscana)351, способствовать
упорядочению узуса и обогащению словарного запаса языка
путем введения новых слов по установленным фонетическим
моделям для ученых заимствований из латинского. Наряду с этим, не
будучи строгим пуристом в вопросах языковой нормы, Толомеи
все же осуждал стремление многих писателей искусственно
восстанавливать латинское написание в итальянских словах
«первого языка», что, по его мнению, лишает тосканский язык его
самобытности (proprieta)352.
351 Сходную оценку читаем в одном из писем: «Сейчас я собираюсь написать
небольшой труд "О трех языках в тосканском" и послать его мессеру Аннибале
Каро, труд этот распахнет огромное окно и осветит все тело нашего языка (Ре
illuminar il corpo de la nostra lingua), а без этого света (lume) мы бродим будт0
потемках» [Franco Subri 1977, p. 556]. Отметим здесь явную цитату из дантовско-
го трактата «О народном красноречии» (VE I. 1, 1). ^
352 Эта тенденция, как мы знаем, особенно усилилась в связи с издательско
деятельностью итальянских гуманистов.
Цастпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 371
Распространенный в трактатах Чинквеченто мотив любви к
родному языку, восхваление его красоты и самобытности
постоянно присутствует и в трудах Толомеи, но самой характерной
чертой его творчества было стремление к научной основательности и
пунктуальности во всем, даже, например, в определении такого
качества, как dolcezza Нежность'353 (слово dolce 'нежный'
превратилось в постоянный эпитет итальянского языка), которое он
старался объяснить правилами дистрибуции фонем,
свойственными только тосканской речи.
Что касается одной из центральной тем европейского
языкознания XVI века — проблемы «иллюстрации» народного языка, то
она формулируется Толомеи как задача в первую очередь
лингвистическая — задача научного освещения языка, а не проблема его
литературного (поэтического) освоения354.
Трактат Джордже Бартоли
«Об элементах тосканской речи»
Примером синхронного описания звукового состава
итальянского языка является трактат Джорджо Бартоли (Giorgio Bartoli,
1534-1583) «Об элементах тосканской речи» (Degli elementi del
parlar Toscano), опубликованный посмертно355.
353 О топосе нежность (dolcezza) в трактатах XVI в. см. [Maraschio 1977, р. 215-
217]. Автор отмечает, что качество, восхваляемое как природная красота
тосканской речи, побуждает филологов XVI в. перейти от констатации своих
акустических впечатлений к анализу их фонетических оснований и обращать внимание не
только на отдельные звуки, но и на сочетания элементов, дифтонги,
фонетическое строение слога, слова, интонацию и т. п. Так, например, Джованни Норкьяти
(ум. 1541) в трактате «О тосканских дифтонгах» (Trattato dei diphthongi toscani,
1539) приводит примеры скопления четырех гласных в одном слоге, что придает
его родному языку «ббльшую грацию и нежность» по сравнению с латинским и
греческим. Винченцио Боргини рассматривает «нежность» как неотъемлемое
свойство языка, сообразуясь с которым происходит «добавление, выпадение и
"аккомодация" (accomodare) букв [в слове]». Об употреблении эпитета нежный
(нежнейший, сладчайший) по отношению к русскому языку и выговору (например,
Московское аканье), а также о его терминологическом значении в литературных
Нориях XVIII в. см. [Лотман, Успенский 1975, с. 230-232], [Успенский 1985, с.
713.' 83-85].
Показателен в этом отношении один совет, высказанный в письме к
уроженку Испании и в прошлом римскому папе Александру VI (1492-1503): «Тот, кто
захочет выучить язык прежде, чем начнет читать произведения писателей,
рискует никогда не дойти до конца, потратив на это уйму времени. С другой сторо-
HbI» принимаясь сразу же за изучение авторов без знания основ грамматики, можно
с°вершенно запутать слушателей, — ведь это все равно что бродить в лесу (selva)
наобум, не зная дороги и не видя перед собой света (lume)» [Franco Subri 1977,
Р-560]. Отметим опять использование дантовской топики (ср. выше с. 370 и сн.
d5l).
Книга Дж. Бартоли вплоть до недавнего времени ни разу не переиздавалась;
^стоящее время текст в факсимильном воспроизведении и в современной ор-
372 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
В этом небольшом по своему объему сочинении (50 страниц щ
4°, не считая краткого посвящения и предметного указателя, со*
ставленного братом Джорджо — Козимо Бартоли) выделяются два
круга проблем, которые предварительно можно было бы
обозначить как относящиеся к вопросам общей фонетики и к описанию
фонетической системы конкретного языка.
Рассуждение начинается с оценки того огромного значения,
которое имеет письменность в формировании и развитии знания и
в совершенствовании отдельных наук. Однако простота овладения
искусством письма (arte dello scrivere) — ведь ему мы научаемся с
детства, — а также инерция привычки (использование знаков
одного языка, т. е. латыни, для обозначения звуков другого) и
недостаточное внимание к этому аспекту со стороны ученых (именно в
силу кажущейся простоты вопроса) приводят к тому, что
существующие системы письма всех современных языков (idiomi
moderni) крайне несовершенны. В назидание современникам
Бартоли ссылается на Платона и Аристотеля, которые не считали для
себя зазорным уделять внимание простейшим единицам слова —
элементам. Однако, насколько адекватным было письмо у
древних, трудно судить, поскольку об их произношении ничего не
известно. Что касается новых языков, то здесь важно научиться
выделять единицы звучащей речи (elementi) независимо от
принятых способов их письменного обозначения — букв (lettere,
caratteri). На первый взгляд эта задача тоже может показаться
нетрудной, ибо в данном случае предметом наблюдения является
физическая, чувственно воспринимаемая реальность (oggetto
sensibile) и надо только вычленить (distinguere) из звучащей речи
(voce) все разнообразие звуков (varieta dei suoni) и их вариаций
(акциденций — accidenti) (с. 2). Разработке этой процедуры и
посвящена значительная часть трактата «Об элементах тосканской
речи»356.
фографии см. [Maraschio 1992, p. 267-356J. Мы пользовались первым изданием
[Bartoli 1584], ссылки на него даются здесь с указанием только страниц в
круглых скобках. Из старых работ о Дж. Бартоли укажем [Teza 1893] и «Историю
итальянской грамматики» 1908 г. [Trabalza 1963, р. 21], из современных: [FiorelU
1957] и наиболее детальный анализ в [Izzo 1982], то же [Izzo 1986], см. также
обстоятельное предисловие (с. XIX-LXII) и примечания Николетты Мараскио в
♦Фонетических трактатах XVI века» [Maraschio 1992].
356 По этому поводу Дж. Бартоли замечает, что многие люди, «не утруждая себя
исследованиями того, какое количество элементов содержится в одном языке по
сравнению с другим — равное, большее или меньшее, — ошибочно думают, что в
их языке (parlare) не может быть ни других элементов, ни букв, ни начертании»
кроме тех, которым их научили в свое время, рассуждая так, словно количество
элементов, встречающихся в звучащей речи (ne la voce), всегда точно
соответствует количеству конфигураций букв, к которым они привыкли в речи
письменной, а не наоборот: ведь количество и разнообразие письменных знаков долЖИ°
qacnib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 373
Свое толкование термина «элемент» (о котором у Аристотеля
говорится очень коротко)357 Бартоли предваряет кратким обзором
разных способов передачи информации (при помощи жестов, зву-
к0в и т. п.) и рассуждением о том, что звуки, производимые
живыми существами (voce — букв, 'голос' является эквивалентом
столь же многозначного латинского термина vox), могут иметь
различную природу. Он исходит из общепринятого определения
языка: «речь (parlare) есть обозначение понятий посредством
голоса », но рассматривает только интересующую его материальную
сторону знака — звуковую манифестацию, чтобы указать на
принципиальное отличие звуковой речи от звуков, издаваемых
животными, и непроизвольных выкриков358.
«Мы не называем речью мычанье, кряканье, рычанье не
потому, что они ничего не означают, а потому, что не производят
доступных [разумному] восприятию членораздельных звуков» (поп
fanno distinzioni comprensibilli ne li voci loro — с. 8). Другими
словами, у животных план выражения (voce) выступает как
неорганизованная звуковая материя, Бартоли называет ее
«неразличимой» (indiscernibile) и «неоформленной» (поп distinta da le varieta
di forme comprensibili — букв, «в ней не различается
разнообразие воспринимаемых форм [звука]»). Звуковая речь человека
устроена иначе: она состоит из членораздельных звуков, которые
реализуются в разнообразных формах произношения, следующих
одна за другой и образующих слова. Все эти рассуждения
приводят к следующему определению минимальной частицы речи —
«элемента»: «элемент есть звук (voce), отличающийся простой
формой членораздельного произношения и предназначенный для
образования слов» (elemento esser voce distinta da una forma semplice
di pronunzia discernibile, atta a la composizione delle parole — p. 8).
зависеть от различий произносительной формы элементов (da varia forma di
Pronunzia degli elementi), поскольку элементы даны прежде всего в звучании
(sono prima ne la voce), в речи (nel parlare) и только потом обозначаются на пись-
Ме (segnati in scrittura)» (p. 3). И в другом месте: «главное назначение этого
искусства (arte) состоит в том, чтобы сначала узнать, сколько элементов
содержится в языке, на котором говорят, и какие это элементы, а затем найти для них
столько же различных начертаний» (с. 12).
Ср. «Элемент — неделимый звук, но не всякий, а такой, из которого может
возникнуть разумное слово» [Античные теории, с. 62] (пер. Н. И. Новосадского).
Ч>. перевод В. Г. Аппельрота: ^Основной звук есть неразделимый звук, но не
]*сякий, а такой, из которого может происходить осмысленное слово...» [Поэтика
^01.
Классификация разных «звучаний» имеет давнюю традицию и особенно ин-
Тенсивно разрабатывалась в средневековой науке, входя в круг общесемиотичес-
Ких проблем (ср. vox/non vox, significativa/non significative, articulata/non
ar*iculata, litterata/illitterata и т. п.) [Есо 1989]. О противопоставлении
человечной речи и криков животных у Данте см. выше с. 42.
374 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Как явствует из сказанного выше, Дж. Бартоли подходит к
определению ключевого термина своего трактата, отправляясь от
звуковой материи языка, и — в строгом соответствии с
поставленной задачей — полностью абстрагируется от письменной формы
речи, не опираясь на «готовые» дискретные единицы — буквы.
Это очень важно не только для характеристики разрабатываемого
им метода, но и с точки зрения тех существенных сдвигов,
которые происходят в связи с этим в традиционной таксономии.
Соотношения единиц письменной и звуковой речи, обозначаемые
общим термином «буква», преобразуются в противопоставление:
письменная/звуковая манифестация языка, где единицами
письменной речи являются «буква» (lettera) и ее начертание (caratte-
ге)359, а единицами звуковой речи (voce) — «элемент» (elemento) и
его фонетическая реализация (forma di pronunzia — форма
произношения). Из различения элемента и формы произношения мы
вправе заключить, что речь идет о разграничении фонемы
(элемента) и ее реализации (формы произношения). В правильно
составленном алфавите, по мнению Дж. Бартоли, каждому
элементу (фонеме) данного языка должен соответствовать свой
графический знак (см. рис. 3). По сути дела, все наиболее
продуманные проекты алфавитов, разработанные в XVI веке,
представляли собой не что иное, как разные фонологические
транскрипции360 .
О достоинствах такого алфавита для посвященных один из
корреспондентов пишет: «Несколько лет тому назад м<ессер> Клав-
дио Толомеи открыл полный и безупречный алфавит тосканского
языка, он нашел совершенно новые фигуры, которые раздельно и
последовательно — от звука (voce) к звуку — изображают все
элементы (elementi) нашего языка, причем таким образом, что уже
не может быть никакой путаницы и нельзя будет принять одну
359 Для обозначения единиц письменной речи Дж. Бартоли пользуется обоими
терминами (lettera, carattere) как равноправными, и вряд ли было бы
оправданным ожидать здесь четкого терминологического разграничения, но на
лексическом уровне разница в значении есть, ибо можно сказать, что каждая буква (lettera)
имеет свою форму написания (carattere), но не наоборот. Таким образом,
намечается некоторая симметрия с терминами другого ряда: элемент и форма его
произношения.
360 Показательно, что и сами авторы осознавали, что их алфавиты (так же, как
и современные способы транскрипций) не предназначались для всеобщего
пользования, а только для узкого круга посвященных. Так, например, Толомеи, как
следует из переписки, составил два алфавита, один из которых он держал
«втайне, смакуя его (goderlo) только с самыми близкими друзьями», а другой
предназначал для «широкого пользования» (allargarlo e lassarli correr la sua fortune)
[Migliorini 1960, p. 370], подробно об этом фонетическом алфавите см. [Capped1
1990].
Цасгпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 375
букву за другую или один элемент за другой. Кроме того, он
настолько проработал детали начертания (forme) каждой буквы, что
по одному только внешнему виду (figura) можно сразу догадаться,
гласная это или согласная, немая или плавная, легкая (leggiera)
или тяжелая (grave)...» [Franco Subri 1977, p. 552]. Здесь
несомненно сказывается влияние упоминавшейся выше идеи о
соответствии графического облика буквы ее фонетическому значению:
компоненты внешнего облика графемы, т. е. ее различительные
признаки, отражают признаки, которые, судя по этому описанию,
вполне можно назвать фонологическими361.
Трудности в определении состава фонем живых языков
сопряжены с тем, что в речи они даны сплошным потоком. Для
иллюстрации этого положения Дж. Бартоли прибегает к различным
аналогиям (в том числе сравнивает поток речи с пульсирующей струей
воды). «Человеческая речь, — пишет он, — напоминает кривую
линию с многочисленными и разнообразными по форме изгибами,
следующими один за другим» (с. 14). Хотя эта линия и членится
на отрезки, благодаря большой закругленности каждого изгиба и
его отличия от последующего, границы между изгибами
оказываются все же размытыми, как в цветовом спектре, и трудность
идентификации элементов заключается в том, что в отличие от
зрительного восприятия, при котором можно как угодно долго
рассматривать наблюдаемый предмет, звуки мгновенно сменяют
ДРУГ Друга, поэтому для упорядочения и осознания данных
слухового восприятия необходима работа памяти. Для членения
звукового континуума полезно также наблюдать за положением
органов речи при артикуляции того или иного звука. Так, например,
если воздух встречает на своем пути несколько преград в полости
рта (ne la bocca) и места образования этих преград
последовательно сменяют друг друга, то мы имеем дело не с одним, а с
несколькими элементами (с. 14). Однако, судя по всему, эти приемы — и
«звуковые представления», хранящиеся в памяти говорящего, и
акустические и моторные характеристики, наблюдаемые при
восприятии и производстве звуков речи362, — Дж. Бартоли
рассматривает как технические средства для узнавания и
отождествления фонем, в то время как главные операционные правила
базируются на функции элемента в слове. Дж. Бартоли нигде прямо
61 Ср. систему «Visible Speech» Белла, обсуждавшуюся на Копенгагенской
конференции 1925 г., и принятые на этой конференции решения о «знаках, самой
своей формой дающих представление о звуке или видоизменениях звука,
которые они должны изображать» [Щерба 1974, с. 252].
62 Об использовании этих и других оснований для определения фонемы
Разными учеными см. [Трубецкой 1960] раздел «К определению фонемы» (с. 46-
52).
376 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
не называет эту функцию смыслоразличительной, ибо весь его
пафос направлен на то, чтобы преодолеть инерцию восприятия
звука через традицию письменной речи, но поскольку он
рассматривает минимальные единицы языка — элементы (понятие «ми-
нимальной единицы» следует из того, что элемент имеет «про.
стую форму» — forma semplice — фонетического воплощения) в
составе значимой лингвистической единицы — слова, мы вправе
заключить, что именно смысловая функция элемента
предполагалась им в первую очередь.
Отмечая, что голосовой аппарат человека является самым
совершенным инструментом в природе, — ведь человек может
подражать любому природному звуку, — Дж. Бартоли обращает
внимание на то, что далеко не все звуки используются в человеческом
языке вообще и в конкретных языках в частности. «Возвращаясь
к элементам, — пишет он, — мы должны учитывать, что
различные слова не всегда отличаются друг от друга всеми элементами,
но в большинстве случаев они составлены из одних и тех же
элементов, повторяющихся полностью или частично, которые
располагаются в определенном порядке и служат для умножения
смысловых различий (moltiplicano diversi significati), и даже в речи
небольшой протяженности одни и те же элементы встречаются по
несколько раз: количество элементов [в языке] не бесконечно, а,
скорее, не так уж оно и велико, и при определенной
наблюдательности все они могут быть перечислены» (с. 11-12).
Поскольку отдельные слова легко вычленяются из потока речи
(вопроса о клитиках Дж. Бартоли не касается), то прежде всего
надо научиться определять, из скольких элементов состоит то или
иное слово и каковы эти элементы, а для их отождествления
(особенно в спорных или неясных случаях) использовать метод
подстановки других элементов в данное слово (ср. метод коммутации
у глоссематиков). Для облегчения задачи и сокращения
количества элементов, подлежащих отождествлению, нужно уметь
делить слово на слоги. Хотя границы слога не столь безусловны для
носителя языка («в разных языках может оказаться, что
элементы распределяются по-разному между слогами»), как границы
слова, тем не менее строение слога в каждом языке тоже
подчиняется определенным правилам. Здесь также важно определить, с
какого элемента начинается слог и каким оканчивается, а также
сколько элементов помещается между началом и концом слога
(один, много или ни одного). На примере специально подобранной
пары: altro 'другой' и atro 'черный, темный' Дж. Бартоли пока*
зывает, что строение первого слога у этих слов различно: al-tro И
a-tro. В слове altro нельзя выделить слог а-, ибо в тосканском
языке не может быть слова ltro-, поскольку ни одно слово не на*
qacmb II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 377
пинается в нем с этого сочетания (в то время как tro- является
началом многих слов: tro-ppo 'слишком', tro-nco 'ствол' и т. п.).
Для того чтобы объяснить слитность слога и дискретность его
составляющих — элементов, Дж. Бартоли использует музыкальные
аналогии, уподобляя слог одному взмаху смычка, а элементы —
касанию струн в процессе движения смычка363.
Большая часть трактата посвящена классификации элементов
и описанию артикуляции соответствующих им звуков. И эта
классификация еще в большей степени, чем теория Толомеи,
заслуживает названия фонологической364.
Некоторые приемы анализа и выводы действительно поражают
своим сходством с лингвистикой XX в. Говоря о разнообразии
природных звуков (скрежет металла, шуршание сухой листвы,
журчанье жидкости 'materie liquide'), Дж. Бартоли отмечает, что в
отличие от механических «шумов», образующихся от
соприкосновения предметов, звуки речи образуются от прохождения струи
воздуха (percotimento del fiato), который встречает или не
встречает на своем пути преграды со стороны органов речи (instrumenti).
В соответствии с этим различаются три вида образования звуков
(Бартоли не пользуется термином «артикуляция», возможно,
потому, что в традиции этим термином принято было обозначать
«членораздельность» письменной речи): 1) отсутствие преграды;
2) преграда, образуемая от сближения (accostamento) органов речи,
например, язык касается твердого неба (palato) или зубов,
соединяются губы и т. д. ; 3) преграда, возникающая в результате «на-
363 Известно, что Бартоли был музыкально образованным человеком и
главное — он переводил на итальянский сочинения Аристотеля о музыке и трактат
Боэция «О музыке» {De musica), что дает основание предполагать, что указание
на Аристотеля как на прямой источник бартолиевского термина «элемент» могло
быть опосредовано и влиянием Боэция. Переводы этих сочинений не издавались,
Рукописи хранятся в Национальной библиотеке во Флоренции.
dc-1 Это касается в первую очередь классификации согласных, а в описании
гласных главное внимание уделяется артикуляции. Бартоли отмечает, что на слух
гласные элементы очень хорошо различаются и четко противопоставлены друг
АРУгу, но, в отличие от согласных, трудно и понять и описать, за счет чего
образуются различающие их признаки (differenti forme di essi) и как они соотносятся
пРи этом с различными положениями рта и других органов речи. «Говорить о
гласных, — заключает он, — гораздо труднее, чем о других элементах, потому
Что местом их образования оказываются самые внутренние части ротовой полос-
Ти Ое parti piu interne de la bocca). Тем не менее мы постараемся быть ясными,
"оказав все [что касается гласных], ни на кого не опираясь, а следуя только
Истине, которую мы открываем при помощи чувств и рассудка» (с. 25). Далее
следует подробное описание артикуляции гласных. Не имея возможности столь
*е подробно разбирать этот вопрос здесь, отметим только, что изучение языка
лингвистических трактатов могло бы стать ценным дополнением к известной книге
*• Ольшки «История научной литературы на новых языках» [Ольшки 1933-1934],
к°торая не рассматривает метаязык гуманитарных наук.
378 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ложения» друг на друга (applicazione) органов речи (т. е. полная
смычка), когда струя воздуха, не имея другого прохода,
«размыкает» преграду, производя звук, похожий на взрыв (scoppio, ср.
его ученый дублет — esplosione). «От того, встречает ли
выталкиваемая струя воздуха преграду на своем пути или нет, образуется
ли таковая вследствие сближения органов речи или их полного
смыкания, а кроме того, от способов преодоления преграды, места
ее образования, положения губ (figurazione de la bocca) при
выдохе, — пишет Дж. Бартоли, — и зависят существенные различия
(diversita essenziale) элементов» (с. 15).
Эти «дифференциальные признаки» и служат основанием для
классификации фонем. По признаку отсутствия vs наличия
преграды все элементы делятся на гласные (vocali) и не-гласные (поп
vocali). Дж. Бартоли отвергает узуальный термин «согласные» (т. е.
обозначающий звуки, которые могут быть произнесены только в
сочетании с гласными: con-sonans)365, считая его неточным, ибо
элементы, противоположные гласным, включают в свой состав
также и «полугласные» (semivocali). Как отмечает канадский
ученый Герберт Изо, в классификации согласных Бартоли
последовательно применяет принцип бинарных (привативных) оппозиций,
сделав только одну уступку традиционному делению согласных
на «полугласные» и «немые». Однако именно этот «сбой», по
мнению Изо, и завел Дж. Бартоли в тупик, в частности, при
характеристике «аспират» (об этом ниже). Что же касается трактата в
целом, то если несколько модернизировать язык и стиль, как
отмечает Г. Изо, он вполне мог бы быть написан американским
структуралистом 1940-1950 гг. [Izzo 1986, р. 128].
В разряде «полугласных» Бартоли выделяет «напряженные
(т1еп81)/ослабленные (rimesse)», а внутри этой оппозиции:
«аспираты (aspirati)/He-acnnpaTbi (non aspirati)», в разряде «немых» к
этим оппозициям добавляется противопоставление «широкие, или
мягкие (larghi о тоШ)/не-широкие (non larghi)»366.
«Каковые различия (differenze), — пишет Дж. Бартоли, —
являются наиважнейшими, и не изучив их, невозможно понять
сущность (essenza) самих элементов» (с. 15).
Как следует из авторских определений, в противопоставлений
напряженные/ненапряженные речь идет о соотношении
мускульного напряжения органов речи, участвующих в образований
преграды, и силы воздушной струи (pressione e stringimento *дав-
365 Ср. три вида звуков у Аристотеля: гласный, полугласный и безгласный.
366 Классификация согласных по этим дифференциальным признакам
представлена в виде таблицы [Trabalza 1963, р. 210] и в виде дерева [Izzo 1986, p. 13U*
Различные классификации гласных и согласных (традиционная латинская в
сопоставлении с классификациями XVI в.) приводятся в [Cappagli 1993].
цасгпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 379
ление и сжимание')367, а в противопоставлении
широкие/неширокие — о локальной оппозиции (палатальные/непалатальные).
Наиболее подробно Дж. Бартоли останавливается на
характеристике аспирации368, критикуя своих предшественников за то,
что они только упоминали о придыхании (в связи с письменным
знаком Л), никогда не объясняя, что это такое. Для объяснения
этого явления Бартоли обращается к фактам греческого языка,
отмечая, что произношение греческих 0 (тета), Ф (фи) и X (хи)
было аспирацией соответствующих им Г, Я и К, которым в свою
очередь «соответствуют "наши" элементы, обозначаемые буквами
Г, Р и С в значении ЯГ». Далее подробно описывается, за счет чего
получается греческое придыхание: «Если приложить кончик
языка к тому же месту, где образуется Т, т. е. поместить его между
краем неба и зубами, но не производить взрыва, как при
произнесении 7\ а оставить просвет (причем, не столь тесный как при
произнесении полугласных, а более просторный — такой, чтобы
выталкиваемый воздух проходил через него не единой струей (поп
unito), а распределялся бы по всей ширине просвета), то
получится звук "рассеянный" (sparso) и напоминающий шум ветра
(ventoso). Точно так же [у греков] аспирируется Л, ведь когда они
произносят свой Ф, то не накладывают верхние зубы на нижнюю
губу, как делаем мы, когда произносим F, но сначала сжимают
губы, как если бы собирались произносить Р, а потом вместо того,
чтобы резко разомкнуть их для Р, приоткрывают губы,
выталкивая воздух через образовавшийся просвет, как будто хотят
разжечь угли» (с. 19). Таким образом, Дж. Бартоли совершенно
правильно описывает греческие придыхательные как согласные, при
произношении которых происходит смена смычной артикуляции
Щелевой (фонетическая интерпретация).
6' В качестве примера приводится немой широкий напряженный [kj] в слове
chioccia 'наседка' и ненапряженный [gj] в ghianda 'желудь'. В современных
классификациях эти «элементы» не рассматриваются как отдельные фонемы, а как
сочетания k + j, g + j [Izzo 1986, p. 130], но противопоставление напряженные/
ненапряженные (или глухие/звонкие) известны многим фонологическим
теориям.
368 Отметим для справки, что аспирация смычных (велярного к и некоторых
Других согласных) наблюдается в большинстве тосканских диалектов (так
называемая gorgia toscana), постоянно привлекая внимание ученых в связи с пробле-
мой этрусского субстрата. По этому поводу высказываются различные точки
зрения, по-разному определяется и фонетическая природа «тосканской гортанности»
(аспирация, спирантизация). См. обзор в [Agostiniani 1983]. Примечательно, что
Л- Агостиниани выделяет работу Г. Изо [Izzo 1972] как пример первой за всю
Историю корректной постановки вопроса (с. 35). О вкладе ренессансной науки в
Разработку этого вопроса (К. Толомеи, Дж. Бартоли и Сиона Давида Риса — Sion
°afydd Rhys) см. [Izzo 1970].
380 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл.
В итальянском языке согласными с такой же двойной артику.
ляцией (смычное начало и щелевой исход) являются аффрикаты
но — вопреки ожиданиям — Дж. Бартоли эту напрашивающуюся
параллель между артикуляцией греческих придыхательных и
итальянских аффрикат оставляет без внимания, следуя какой-то иной
логике изложения. Объяснив артикуляционную природу
греческого придыхания, он пытается определить «придыхательность»
как различительный признак, т. е. дать ему фонологическую
интерпретацию, а затем — уже по этому основанию — делить
«тосканские элементы» на придыхательные и непридыхательные.
Поскольку в греческом этот признак противопоставляется смыч-
ности, то релевантным оказывается не первый элемент греческих
придыхательных (смычный), а второй (щелевой). Как мы помним,
Дж. Бартоли выделял два типа преград для согласных: полную
(смычка) и неполную («сближение» органов речи — щель). При
этом для смычных был обозначен характер преодоления
преграды (взрыв), а для щелевых — нет. При характеристике
«придыхательных» обнаружилась недостаточность (и ассиметрия)
обозначенной ранее оппозиции (взрывные/щелевые) и необходимость
дополнить ее, введя для щелевых (так же, как и для смычных)
разграничение по способу преодоления преграды. Поэтому Дж.
Бартоли уточняет, что у придыхательных не такая же щель, как у
«полугласных», а более «воздушная» и характер экспирации
отличается рассредоточенностью, в то время как при образовании
«полугласных» воздушная струя концентрируется в более тесном
проходе. «Придыхательными (aspirati), — пишет он, — мы
называем те элементы, при артикуляции которых образуется более
широкий просвет, а звучание напоминает шум ветра, но не
такого, как это бывает, когда ветер дует из какой-нибудь теснины, а
ровного, как на более открытых просторах» (с. 18). Из этого
определения мы можем заключить, что речь идет о
противопоставлении фрикативных (которые Бартоли называет
«придыхательными» — aspirati) и сонантов (которые традиционно обозначались
как «полугласные» — semivocali). В пользу такого
отождествления (фрикативные = «придыхательные») свидетельствует,
например, то, что Дж. Бартоли определяет итальянские [I] и [f] как
«придыхательные», и элемент [J] в его классификации отличается от
[s] только этим признаком, но в то же время и фрикативные, И
сонанты рассматриваются им как «полугласные», и
следовательно, «полугласные» не тождественны сонантам.
Противоречивость категории «придыхательности» у Бартоли»
по всей вероятности, связана с тем, что она принадлежит двУ^
рядам признаков одновременно. По типу преграды (признаки
модальной корреляции первой степени в терминологии Трубецкого;
qacnib II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 381
придыхательные» противопоставляются взрывным (наибольшая
преграда) и «полугласным» (наименьшая преграда). По этому
основанию бартолиевская триада в точности соответствует ставшему
теперь общепринятым делению согласных на взрывные,
фрикативные и сонанты. С другой стороны, оппозиция
придыхательные/'непридыхательные, наряду с другой бинарной оппозицией
Дж. Бартоли — напряженные/ненапряженные, является критерием
для различения согласных одного места и способа образования и в
этом качестве (уже как необусловленная типом преграды) входит
в число признаков другого ряда (модальная корреляция второй
степени по Трубецкому).
Акцентируя внимание на бинарности открытых им отношений,
Дж. Бартоли пишет: «...существует определенная пропорция, и
каждый придыхательный зависит от какого-либо немого
элемента, являющегося для него основным, поскольку они образуются в
одном и том же месте. Поэтому мы говорим, что X является
придыхательным К. Точно так же можно сказать и про другие
элементы, образующиеся в том же месте, но отличающиеся шириной
смыкания языка, и обозначить первый элемент в словах chioccia
'наседка', chiesa 'церковь', chiamo 'я зову' [kj] мягким
[коррелятом] (molle) того же самого if» (с. 21).
Предоставим специалистам-фонологам право углубиться в
более детальный анализ «фонологии», разрабатываемой Бартоли, и
дать ей критическую оценку в свете современной науки. Даже
оставляя в стороне вопрос о Дж. Бартоли как предшественнике
современной фонологии369, отметим здесь несомненные
достоинства предложенного им метода. К числу наиболее очевидных
преимуществ его метода следует отнести усовершенствование самой
техники описания. Начиная с определения общих признаков,
которые затем используются для характеристики каждого элемента
в отдельности, Дж. Бартоли, во-первых, достигает значительной
«экономии» (хотя, конечно, и ему не удается избежать многих
повторов при некоторой цикличности общего построения
трактата) и, во-вторых, обнаруживает стремление к терминологической
строгости и точности описания (как отмечает Г. Изо, если бы Бар-
9 Итальянские историки обычно делают акцент на приоритете Дж. Бартоли в
описании фонетики итальянского языка. Ср. оценку К. Тальявини: «он впервые
Дает достаточно точную физиологическую классификацию тосканских фонем»
[Tagliavini 1963, р. 37]. В связи с этим необходимо упомянуть о не менее
блестящем — латинском — трактате, опубликованном в Падуе на несколько лет рань-
ше: «Книге об итальянском произношении и орфографии» (De Italica
Pronunciatione et Orthographia Libellus, 1569), написанной уроженцем Уэльса
Давидом Рисом (Rhoeso Ioanne Davide Auctore). См. [Trabalza 1963, p. 207-209] и
более подробно [Izzo 1986], современное издание в [Maraschio 1992].
382 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
толи был менее скрупулезным в своих описаниях, то некоторые
слабые звенья его классификации несомненно остались бы просто
незамеченными).
Классификация согласных на основании их различительных
признаков позволяет Бартоли не только справиться с
поставленной задачей — определить состав фонем итальянского языка и
место каждого элемента в системе (в общей сложности, включая
гласные, он выделяет 35 элементов)370, но и дает возможность
перейти на более высокий уровень — общей фонологии или
фонологического (типологического) сопоставления языков. Характеризуя
каждый элемент тосканской речи, он постоянно — по ходу
изложения — обращается к сравнению с другими языками и
диалектами (латинским, греческим, французским, далматинским,
генуэзским, неаполитанским и др.), отмечая отсутствие данной фонемы
в других языках и иногда указывая на ее эквивалент. Построив
«решетку» из дифференциальных признаков (с. 23), Бартоли
приходит к общему заключению, что не все из теоретически
возможных комбинаций реализуются в данном языке. К числу «пустых
клеток» в тосканском он относит такие наборы признаков, как
«немой-напряженный-придыхательный-широкий» и «немой-
ослабленный-непридыхательный-широкий». То, что Бартоли
рассматривает в качестве коррелята, отсутствующего в тосканском
языке элемента, глухой придыхательный k в интервокальном
положении, свидетельствует о его диалектных фонетических
навыках (т. наз. «тосканская горджия», см. с. 379, прим. 368)371.
370 Количество фонем, выделяемых в современном итальянском языке,
колеблется между 27 и 50 (при этом число гласных всегда 7), см. обзор различных
классификаций [Агсе 1962], 35 фонем (или «фонотипов» в терминологии
итальянской школы) выделяет А. Кастеллани [Castellani 1956], и большая часть из
них соответствует «элементам» Бартоли. Любопытно отметить, что в рецензии
на эту работу (с цитатным названием Degli elementi del parlar toscano)
крупнейший итальянский фонетист П. Фьорелли отмечает не только это сходство в
самом подходе к проблеме: оба ученых последовательно описывают одну общУ10
фонетическую систему — флорентийскую, пренебрегая местными вариантами
произношения, и оба устанавливают инвентарь звуков этой системы [FlorelH
1957, р. 116]. В другой статье, доказывая флорентийскую основу итальянского
литературного произношения, Фьорелли приводит исчерпывающую, по его
мнению, библиографию основных работ по флорентийской фонетике, которая
состоит из пяти названий — трактата Дж. Бартоли и четырех работ XX века [ИогеШ
1952, р. 59, п.23].
371 Ср. известную в Италии дразнилку, имитирующую тосканское
произношение [kj: «hoha hola hon la hannuccia» (= coca cola con la cannuccia 'кока кола с
соломинкой'). Многочисленные примеры тосканских придыхательных, в том числе
и с последующим выпадением велярных в интервокальном положении (тИ^ц
[pak:ardi]>[pa:rdi]), а также других взрывных (например, [Ь:]) приводит [Fiorel
1953].
DEGLI
ELEMENTI DEL
PARLAR TOSCANO
Trattato
CI GIORGIO BARTOLI
Gentiluomo Fioreimno
NVOVAMENTE PVBLICATO
ConLicenTg с Triuilegio
IN FIORENZA
Nc 1c Ca(c de' Giunci Ne Г Anno
M D LXXXilll.
Рис. 5. Первое издание трактата Джорджо Бартоли
«Об элементах тосканской речи». Флоренция, 1584.
384 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Разумеется, сами тосканцы не расценивают свои
придыхательные как местные особенности речи. Так, например, Клавдио Толо-
меи в трактате «Полито» формулирует правило, по которому с и g
(как велярные [k], [g], так и палатальные [ts], [dz]) следует
произносить с придыханием. Исключения из этого правила касаются
двух случаев: начальной позиции с и g (cane 'собака', conto 'счет',
chino 'склоненный' и т. д. ) и позиции в середине слова после дру.
гой согласной (fianco 'бок', forche 'вилы', piange 'плачет' и т. д. ).
Во всех остальных случаях (т. е. в интервокальном положении) с
и g произносятся с придыханием: fuoco 'огонь', luogo 'место', vaghi
'красивые' (в языке XVI в.), 'туманные', piaghe 'раны', agevole
'легкий', placido 'спокойный' [DL, р. 91, п.189]. Как отмечают
итальянские ученые, описание Толомеи относится к наиболее
ранним свидетельствам «тосканской горджии»372.
Жители других областей Италии («нетосканцы»), напротив,
воспринимали тосканское придыхание как неправильное, сугубо
местное произношение. В «Диалоге о народном языке» Пьерио
Валериано (настоящее имя Giovanni Pietro Bolzani Dalle Fosse,
1477-1558), написанном, по всей вероятности, в 30-е гг. XVI в.
(но опубликованном только в 1620 г.), северянин Дж. Триссино
упрекает своего оппонента, тосканца Алессандро Пацци,
превозносящего природную красоту родной речи: «Вы произносите chosa
'вещь', chasa 'дом' горлом (a gola piena) и с придыханием, но,
будучи человеком образованным, пишете cosa и casa без [знака]
придыхания и этим-то себя и разоблачаете, ведь если бы ваше
[тосканское] произношение, которое мессер Клавдио [Толомеи]
пытался выдать за образец утонченного и украшенного языка, не
было бы на самом деле порочным, наверное вы бы не стыдились
писать так, как говорите, но ваша письменная речь как раз и
свидетельствует против вас» [DL, р. 91-92].
К числу элементов, не встречающихся ни в одном языке,
Дж. Бартоли относит сочетание признаков «немой-ненапряженный-
придыхательный-широкий», т. е.
звонкий-придыхательный-палатальный согласный (его непалатальным коррелятом в данной
классификации выступает [j] в noia). Вопрос о потенциальных фонемах
особенно привлекал внимание Дж. Бартоли, и в трактате он
обсуждался неоднократно. «Однако не все немые элементы и
полугласные, — пишет он, — могут становиться придыхательными,
как не все немые — мягкими, и не все напряженные —
ненапряженными. Отчасти это связано с тем, что таких элементов нет в
употреблении, и потому у нас нет навыка приспособить наши ин-
372 К. Толомеи подробно описывает тосканское придыхание также в письме
А. Читолини [Tolomei 1560, f. 155-156r].
цасгпь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 385
струменты (органы) речи для их образования и произнесения, а
отчасти потому, что не всем из этих элементов соответствовал бы
звук, пригодный для словесной речи, т. е. такой, который можно
было бы воспринять на слух и отличить от других, как тому
положено в языке. Но даже и те звуки, которые доступны
восприятию, не обязательно представлены в том или ином языке» (с. 21).
Так, в тосканском нет придыхательного t, а у греков и, возможно,
у евреев не было «полугласных» ci и gi, у французов нет
полугласного с/, а у далматинцев — gi (за исключением, быть может,
заимствованных имен собственных).
Помимо интереса к другим языкам, проблема «пустых клеток»
привлекала Дж. Бартоли в связи с решением теоретических
задач. «Следует иметь в виду, — замечает он, — что почти каждый
из элементов имеет рядом с собой — один или больше — соседних
и очень сходных с ним элементов, хотя и отличных от него по
существу (differenti di essenza), и если их нет в обиходе
произношения в одном языке, то либо они встречаются в другом, либо их
можно произнести потренировавшись, поскольку, даже если их
нет ни в одном языке, образуются они при помощи тех же самых
органов речи, в тех же самых местах [артикуляции] и
способами — немного отличными, но в общем теми же самыми» (с. 17).
Развивая идею «соседства» элементов, Дж. Бартоли выстраивает
ряд т Ъ р, указывая, что общим для этих элементов является
признак огубленности. Ряд п d t характеризуется тем, что
отношение п к t и d пропорционально отношению т к Ь и р в ряду
губных (с. 36). Иными словами, он выделяет два из трех «самых
естественных» (по замечанию Трубецкого) локальных рядов,
лабиальный и апикальный, и констатирует пропорциональные
отношения между этими рядами. Бартоли пытается также
определить соотношение между I пи г,т. к. ему кажется, что эти элементы
также связаны общим местом образования («кончик языка
касается неба близко к зубам»), однако не будучи уверенным, в каком
порядке следует расположить элементы («к чему ближе /, к п или
г>>), ограничивается предположением о большем сходстве между I
и г на том основании, что дети, не научившись произносить г,
подставляют на его место I. Также в виде гипотезы высказывается
Мысль о трех ступенях реализации напряженных согласных, в
Которой для нас не так важна ее фактическая сторона (у Бартоли
в качестве трех ступеней фигурируют [ts]-[s]-[ts], с. 40), как сама
иДея градуальных оппозиций.
Наиболее очевидным доказательством того, что Дж. Бартоли
Рассматривал фонему как пучок признаков (мы не решаемся на-
Зь1вать их дифференциальными, поскольку смыслоразличитель-
**ая функция признаков не эксплицирована достаточно четко), мо-
3Ъ«к. 3101
386 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
жет служить его предложение об «упрощении» системы письма
Поскольку количество основных признаков намного меньше, чем
количество элементов данного языка, то можно придумать
графические знаки (включая и диакритику) для изображения
отдельных признаков, а затем из различных комбинаций этих
графических знаков составлять соответствующие элементы. Однако
высказывая это предложение, Дж. Бартоли прекрасно осознает'
что сокращение количества знаков в результате разработки
такого алфавита признаков не может упростить само письмо, а
наоборот — сделает его более трудоемким и медленным (поскольку
использование диакритических знаков затрудняет скоропись), и
потому относится к собственной идее как к задаче теоретически
возможной, но практически нецелесообразной.
•k *.V *
Итак, в области звукового строя языка итальянские гуманисты
в той или иной мере затронули целый ряд проблем, отчасти уже
известных античным теориям и средневековым грамматикам,
отчасти — совершенно новых и предвосхищающих гораздо более
поздние этапы развития лингвистической науки. Мысль о том,
что историкам языкознания пора отказаться от сложившейся
традиции связывать «начала» подлинно научных знаний о языке и
методов исследования только с наукой XIX века, настойчиво
проводимая рядом современных ученых зарубежных стран373,
подтверждается и нашим материалом, рассмотренным в настоящей
главе.
XVI век действительно следует считать важнейшим этапом в
истории европейской науки. Обращение к живым языкам и
диалектам не могло обойтись без существенных изменений методов,
целей и задач лингвистического исследования. Изучение
звуковой стороны языка, безусловно, стимулировалось практическими
задачами орфографической реформы, но если для истории
конкретных языков первостепенное значение приобретают итоги
реформы, закрепившиеся в норме, то интересы историка науки лежат в
иной плоскости. Поэтому, прежде чем говорить о достижениях
итальянских ученых в области фонетических штудий,
необходимо подчеркнуть общественный и публичный характер самой этой
373 Ср., например, два таких показательных выступления на XIV МеждунароД'
ном конгрессе романистов (Неаполь 1974), как доклад В. Банера («
Романистика
и задачи лингвистики в эпоху Возрождения») [Banner 1981] и доклад
итальянского фонолога Луиджи Пейроне «Первые подступы к фонетике и фонологии
итальянского языка в XVI веке» [Peirone 1981].
CdtdtteriiUjtU Eltm'mkJtUAfducfid
a-
b.
ammo
bonta
i
45
cera
^anc
cane
diqo
dico
pcbc
pcfcc
pc£c
pccc
с
d
с
e
f
3
g
r
ь
cauc
dono
il melc
mtlo
fiorc
gcntc
girlanda
mafo
таьо
chiaue
mclo
ghirlanda
maglio
magno
о
9
Ю
11
ii
13
*4
4
16
Рис. 6. Знаки для обозначения элементов (фонем) тосканского языка,
граница из трактата Джорджо Бартоли «Об элементах тосканской речи»
Флоренция, 1584.
388 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
деятельности, позицию активного участия в обсуждении всего
комплекса проблем, связанных с организацией звуковой материи
языка и поисками ее «разумных оснований», как выразились бы
средневековые схоласты. Это обстоятельство — общественная (и
общенациональная) значимость предмета изучения — во многом
предопределило и широту интересов к звуковой стороне живого
языка (физиологии речи, артикуляции, акустическим
характеристикам звуков и т. д. ), и разнообразие подходов, и глубину
проникновения в суть наблюдаемых явлений. Та особая обстановка
обмена и взаимообогащения идеями и фактами, которая
сложилась в гуманистической среде, убеждает нас в том, что речь здесь
должна идти не об отдельных прозрениях или случайных
открытиях, оказавшихся в чем-то созвучными нашему времени, а об
успехах зрелой научной мысли, в том числе и в такой специальной
области, как фонетика (и фонология). Научная литература этого
времени была хорошо известна современникам: за ней следили, ее
читали, обсуждали, комментировали, обменивались рукописями
неопубликованных или еще не готовых для печати трудов. Для
истории формирования научных взглядов рассматриваемого периода
важно иметь в виду, что лингвистические трактаты XVI в. стали
малодоступными и малоизвестными (чтобы не сказать забытыми)
лишь впоследствии, но не были таковыми в эпоху Возрождения.
Как показывает изучение источников, уже в в самом начале
дискуссии по поводу орфографической реформы на первый план
выдвинулись вопросы теоретического характера: соотношение
буквы и звука, графемы и фонемы (вплоть до попытки обнаружить
иконическое соответствие между ними), поиски критериев
вычленения минимальной единицы звукового уровня языка без опоры
на письменный знак и установление звукового состава
итальянского языка в отвлечении от традиционного алфавита. Принцип
фонетического письма, положенный в основу создания новых
алфавитов, по сути дела, привел к разработке различных систем
фонетической (и фонологической) транскрипции.
В фонетических трактатах XVI в. наблюдается тенденция к
терминологическому разграничению понятий «звук» (suono) и
«элемент» (elemento). При том что оба термина используются при
описании звуковой стороны языка, звук — это то, что произносится,
артикулируется, воспринимается на слух и т. д., про «элемент*
так обычно не говорят, элемент определяется как минимальная
звуковая единица языка. Кл.Толомеи рассматривает «элемент» как
определенный вид звука, обладающий функцией различения слов;
Дж. Бартоли определяет «элемент» как совокупность
«существенных различий» (differenze essenziali), которые мы бы сейчас
назвали дифференциальными признаками. Таким образом, понятие
Часть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 389
«элемента» в лингвистике XVI в. соотносится с концепцией
фонемы в современных теориях.
Считается, что метод бинарных оппозиций (разработанный
средневековыми логиками), довольно долго пробивал себе дорогу в
качестве инструмента лингвистического анализа. Но когда,
наконец, он прочно утвердился и в этой области знания, то стал
восприниматься нами как новейшее достижение современной науки.
Однако методы классификации фонем, выявление их
«существенных различий» и вырабатываемая при этом таксономия (А — не-А),
техника минимальных пар — все это свидетельствует о том, что
метод бинарных оппозиций успешно применялся итальянскими
учеными уже в XVI в. именно в качестве инструмента
лингвистического (фонологического) анализа.
Из главных новаций в фонетических исследованиях XVI в., не
имеющих прецедента в предшествующие периоды, следует
отметить зарождение исторической фонетики и осознание того
значения, которое имеют данные диахронии как для синхронного
описания языка, так и для дальнейшего развития лингвистической
теории. В этом направлении наивысшим достижением научной
мысли стало открытие регулярных фонетических переходов (regole
universali в формулировке Кл. Толомеи) и гипотеза о
мотивированности «исключений». Разумеется, радиус действия
«фонетических законов», установленных Толомеи, был обусловлен
научными интересами его времени и принципиально иным — в
сравнении с младограмматиками — историческим контекстом, что,
однако, не отменяет научной ценности этого открытия и поражает
сходством формулировок. Подчеркнем еще раз, что Толомеи не
просто рассматривал соответствия между отдельными
латинскими и итальянскими звуками типа лат. и = итал. о и т. д.
(подобных примеров приводилось немало в лингвистической литературе
Возрождения), но отмечал закономерность фонетических
переходов в определенном окружении (как то: putum > puto, но vultus >
volto). Рискнем утверждать, что при меньшем временном
разрыве, чем тот, что отделяет конец XIX века от первой половины XVI,
революционные новшества младограмматиков вполне могли бы
Рассматриваться как прямое продолжение сиенской
академической школы.
В заключение отметим, что изучение звукового строя языка в
сопоставлении с фонетическими системами других языков
знаменовало подступы к типологическим исследованиям. В
современной историографии языкознания одним из немногих ученых, кто
обратил внимание на научную ценность итальянских исследова-
ний XVI в. с этой точки зрения, усмотрев в них попытку фоноло-
гической типологии языков, является Э. Станкевич. Среди пред-
390 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
посылок для перехода на уровень типологического анализа аме-
риканский ученый отмечает суждения общего характера о конеч-
ном количестве элементов (фонем) в языке, подкрепляемые
конкретными наблюдениями и сопоставлениями (например, что в
латыни меньше гласных, чем в греческом; в итальянском языке
есть открытые и закрытые е и о, отсутствующие в латинском, но
имеющиеся в греческом и др.) [Stankievicz 1990, р. 236-237]. К
числу ученых, предвосхитивших фонологическую типологию,
Э. Станкевич относит Иеронима Кардано (Hieronimus Cardanus),
миланского математика и астролога (см. о нем [Олынки 1933-
1934 т. 2, с. 28-29; т. 3, с. 53]), который в трактате De Utilitate
(1553) касается характера различий между языками: все их
разнообразие по характеру произношения сводится к шести
основным различиям в соответствии с такими фонетическими
признаками, как «оральный», «лабиальный», «дентальный»,
«палатальный», «велярный» и, по всей видимости, гортанный или
фарингальный (a pectore, букв, «грудной»). Их разновидности
образуют 62 типа фонетически различных языков, причем все
основные отличия можно найти, как утверждает Кардано, в самой
Италии среди ее диалектов [Stankievicz 1990, р. 236].
Первые грамматики итальянского языка
Грамматике, как мы неоднократно отмечали, всегда отводится
центральное место в истории языкознания, и грамматика эпохи
Возрождения не составляет в этом плане исключения374.
Поэтому мы сочли возможным в настоящей работе, целью
которой было показать прежде всего диапазон итальянского
языкознания эпохи Возрождения, уделить грамматике меньше
внимания, чем она того заслуживает, ограничившись такой
традиционной — и для истории языка, и для истории языкознания —
темой, как возникновение первых грамматик на данном языке375'
XVI век является началом создания итальянской
грамматической традиции, а в европейском контексте — периодом интенсив-
374 Основными трудами по истории ренессансных грамматик национальных
языков являются [Kukenheim 1932], [Padley 1985-1988], [Percival 1975], [Auroux
1992], см. также относящиеся к этому периоду главы в «Истории итальянской
грамматики» [Trabalza 1963].
375 О первых французских и окситанских грамматиках см. [Черняк 1991; 1991а]»
о первых итальянских, испанских и португальских грамматиках [Swiggerfl»
Vanvolsem 1987], о рукописных и печатных изданиях первых итальянских
грамматик [Tavoni 1993], в сравнении с первыми испанскими грамматиками [Tavoni
1996], сводную хронологию первых грамматик на новоевропейских языках см.
[Auroux 1992, р. 14-15, 53-56].
Цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 391
яого освоения новых литературных языков и появления огромного
количества новых грамматик. Лидируют в этом отношении
«главные» страны романской речи — Италия, Франция и Испания, к
которым постепенно присоединяются и другие страны Европы.
Анализу этого феномена (на итальянском материале)
посвящена работа А. Квондама «Рождение грамматики: Заметки и
материалы к аналитическому описанию» [Quondam 1978]. Здесь в
Приложении дана хронологическая таблица итальянских грамматик
и лингвистических трактатов XVI в. (включая переиздания этого
времени) от Франческо Фортунио (1516) до 1600 г. (этот чисто
хронологический рубеж рассматриваемого периода отмечен
выходом 13-го изд. трактата Франческо Алунно La fabrica del mondo —
«Мироустройство», 1-е изд. 1548). Среди двух сотен
наименований, составляющих библиографию А. Квондама (с. 587-592), —
издания самые разные, от брошюр в несколько страничек до
роскошных томов, среди них — элементарные учебники, трактаты и
даже «всеобщая грамматика», написанная одним сицилийским
автором. Грамматическая литература этого периода отличается
разнообразием форм, жанров и композициий, что, с одной
стороны, обусловлено общими установками ренессансной культуры с ее
декларативной приверженностью к свободной форме изложения,
а с другой стороны, — и в данном случае это, видимо, является
решающим фактором, — грамматика XVI в. не связана с
нуждами школьного преподавания (о начале формального преподавания
итальянского языка см. с. 345 сн. 311). Это обстоятельство нельзя
недооценивать, именно из-за него грамматисты не стремятся к
описанию всего состава языка, обращая внимание в первую
очередь на те участки морфологической системы, которые
представляются наиболее «неупорядоченными» (вариантными) в речевом
употреблении (о полиморфизме итальянского языка и
осмыслении этого явления в грамматических трактатах XVI в. см. [Nencioni
1954, р. 111-181]).
Начальный период возникновения грамматик национальных
европейских языков обычно рассматривают под углом зрения
влияния латинских грамматик (и даже зависимости от них). Однако
эта формулировка слишком общая, чтобы можно было
ограничиваться одной этой констатацией. Как мы видели на примере
«Грамматических правил» Гварино Веронезе, вопрос об источниках в
каждом конкретном случае становится отдельной
исследовательской проблемой. В работе М. Корти, посвященной грамматике
неаполитанского автора Марко Антонио Атенео Карлино, изданной в
1533 г. [Corti 1955], результатом исследования является сложная
схема (с. 201), на которой сплошными и пунктирными линиями
обозначены прямые и опосредованные связи грамматики Карлино
392 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
с другими грамматиками — античными, средневековыми и ренес-
сансными. Эта схема напоминает географическую карту с
«городами» Харисий, Диомед, Донат, Присциан, Гварино, Перотти,
«Януа» и т. д. (всего 18 таких «пунктов»).
Материал этих двух работ — 200 различных изданий
грамматической литературы XVI в. в первом случае и около 20
источников, обследованных для выяснения связей только одной из
провинциальных грамматик с латинской и греческой традицией, во
втором — позволяет определить две главные тенденции
современных научных исследований по истории грамматики
рассматриваемого периода: стремление к полному охвату всего наличного
материала и скрупулезный анализ отдельного памятника.
Родному языку, как мы знаем из истории позднеантичной
школы, учатся на поэтических текстах. В отличие от античности в
Италии XVI в. еще не существует школ, где обучали бы родному
языку. Главным школьным автором Возрождения становится
Петрарка, он — «и букварь, и грамматика, и словарь, а также
топика, словарь рифм и поэтика» [Quondam 1978, р. 559]. Данте
уступает Петрарке в популярности, но является главным цитируемым
автором в грамматических сочинениях, написанных в жанре
«наблюдений» (osservazioni 'наблюдения' — одно из самых
частотных слов в названиях грамматических очерков XVI века)376.
В числе первых итальянских грамматик в научной литературе
можно встретить название трех грамматик, из них два печатных
издания XVI века: это первая по времени публикации грамматика
Франческо Фортунио (ок. 1470-1517) — «Грамматические
правила народного языка» (1516), затем первая грамматика,
составленная флорентийским автором, — «Правила флорентийского
языка» (1552) Пьерфранческо Джамбуллари (1495-1555) и, наконец,
первая по времени создания (из известных на сегодняшний день)
грамматика Леона Баттисты Альберти (1404-1472),
обнаруженная в XIX в. и впервые опубликованная в 1908 г. в Приложении к
«Истории итальянской грамматики» под названием «Правила
флорентийского языка» [Trabalza 1963, р. 535-548]. Рассмотрим
их в хронологическом порядке.
Первое упоминание о рукописи анонимного автора,
обнаруженной в одном сборнике вместе со списком XVI века трактата Данте
«О народном красноречии», относится к 1850 г.: издатель
трактата приводит в предисловии incipit и explicit этой грамматики и
ограничивается предположением, что ее автором должен быть
тосканец или флорентиец [Grayson 1964, р. XXII]. Более подробные
376 Об интерпретации «примеров» из Данте в грамматиках первой половины
XVI в. см. [Ferrero 1935].
Часть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 393
сведения приводит Пио Райна в предисловии к критическому
изданию De Vulgari Eloquentia (VE) [Rajna 1896, p. XLIV-XLVIII].
Согласно его данным, список был сделан в 1508 г. с оригинала,
принадлежавшего библиотеке Лоренцо Великолепного; в
инвентаре этой библиотеки (1495 г.)377 значилась рукопись Regule lingue
Florentine без указания имени автора (под этим названием Regole
della lingua fiorentina она и была опубликована ровно четыре
столетия спустя, в 1908 г.; отметим, что латинские названия
произведений, написанных по-итальянски, были частой практикой в
культуре Кватроченто)378.
Проблема установления авторства анонимных «Правил» стала
предметом дискуссии в начале XX века: «кандидатуру»
знаменитого итальянского гуманиста Л. Б. Альберти отстаивал Филиппо
Сенси [Sensi 1906] (перепечатка газетной статьи 1905 г.), [Sensi
1909], а его оппонент считал автором грамматики Лоренцо
Медичи [Morandi 1905; 1908; 1909]; высказывались и другие
предположения, и в числе возможных авторов назывались имена К. Лан-
дино, А. Полициано, Л. Пульчи [Grayson 1964а, р. 297 п. I]379.
После тщательных филологических разысканий, предпринятых
итальянской исследовательницей К. Коломбо [Colombo 1962] и
английским ученым С. Грейсоном [Grayson 1964a] (см. также его
издание грамматики [Grayson 1964] с предисловием — с. IX-
XLVIII — и комментариями), авторство Альберти считается
бесспорным (ср. [Vineis 1974, р. 289]). После издания Грейсона (с
того единственного списка, который в настоящее время хранится
в Ватиканской библиотеке) грамматику Альберти часто называют
«ватиканской грамматикой» (la grammatichetta vaticana — с умень-
377 Об инвентаре медицейской библиотеки 1495 г. см. [Sabbadini 1905], о судьбе
этого богатейшего книжного собрания см. [Забугин 1914а, с. 77-78].
3,8 Кроме того, как сообщает П. Райна, список с VE был сделан для Пьетро
Бембо и содержит пометы, сделанные его рукой. Таким образом, судьба первой
итальянской грамматики оказывается самым тесным образом связанной с дан-
товским трактатом: «Занятно, — пишет Ч. Трабальца, — что эта маленькая
грамматика (grammatichetta) оказалась переплетенной вместе со знаменитым и тоже
небольшим по объему сочинением (operetta) Данте, скопированным для Бембо,
который, должно быть, никогда этой грамматики не видел и даже не догадывался
о ее существовании» [Trabalza 1963, р. 13].
379 К моменту публикации «Правил флорентийского языка» Трабальца не
решался принять чью-либо сторону, пока сам не нашел косвенного свидетельства,
Которое он счел достаточно убедительным аргументом в пользу Альберти [Trabalza
1912]. Гипотеза о том, что список с анонимной грамматики XV в. был сделан
самим П. Бембо [Cian 1909], в настоящее время считается несостоятельной;
история происхождения рукописного сборника XVI в., в котором — наряду с другими
текстами — оказались два важнейших памятника итальянского языкознания,
неизвестна, равно как и судьба оригинала из личной библиотеки Лоренцо
Медичи, по всей вероятности, безвозвратно утраченного.
394 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
шительным суффиксом, т. к. она действительно невелика по
объему). Точную дату написания грамматики назвать невозможно (Грей-
сон указывает 1454 г. как terminus ante quem [Grayson 1964
p. XLIV])380.
Краткое предисловие Альберти, как отмечают исследователи,
вводит нас в обстановку гуманистических дискуссий 40-х годов
XV века о природе латинского языка и языковой ситуации
Древнего Рима (см. наше Приложение II) и перекликается с другим
(более пространным) предисловием автора к его итальянскому эти-
ко-философскому трактату «О семье». Во вступительном слове к
III книге этого трактата автор высказывается по поводу
происхождения итальянского языка и говорит о необходимости писать
сочинения на этом языке и для того, чтобы быть понятным для
всех итальянцев, и для совершенствования самого этого языка381.
Цель написания своей грамматики Альберти формулирует
следующим образом: «Я надеюсь, что те, кто утверждают, будто
латинский язык не был общим языком всех латинских народов, но
был — подобно тому как мы это наблюдаем сегодня — лишь
достоянием ограниченного числа ученых и схоластов, откажутся от
своего ошибочного мнения, когда прочтут мой труд, в котором я
даю краткий набросок употребления нашего языка. Такую же
работу проделали светлые головы и образованные умы сначала для
греков, а потом и для римлян, назвав подобные руководства, столь
необходимые, дабы писать и говорить без изъяна, словом
"грамматика". В чем состоит это умение на нашем языке, думаю,
станет понятным, когда прочтут меня» [Trabalza 1963, р. 535]. В
заключение Альберти подчеркивает, что «потрудился немало»,
прежде чем набросать свой эскиз (congettare)382 итальянской
380 В течение долгого времени первой «вернакулярной» грамматикой эпохи
Возрождения (термин vernacular, принятый в англоязычной научной литературе,
соответствует обозначению «народный язык» в романской традиции) считалась
«Грамматика кастильского языка» (Gramatica de la lengua castellana, 1492) Ан-
тонио Небрихи; о необходимости пересмотра этой начальной даты см. [Fellmann
1977].
381 О литературном наследии выдающегося итальянского архитектора см. [Бра-
гина 1977], [Ponte 1981], о значении Л. Б. Альберти в истории итальянского
языка [Dardano 1974], о программности предисловия к III кн. трактата Delia Famiglte
[Grayson 1964a, p. 295-296] (текст см. в изд. Грейсона [Alberti 1960, I, p. 1М~
155]), [Bruni 1984, р. 341-342].
382 Как показали исследования С. Грейсона, глагол congettare 'делать набросок
эскиз* является техническим термином, который Альберти часто использует
применительно к архитектуре, говоря о первых предварительных эскизах здания
(предшествующих чертежам с окончательными расчетами); употребление этого
профессионального термина в значении 'дать очерк* (т. е. словесное описание)
нигде, кроме данной грамматики, не засвидетельствовано [Grayson 1964a, p. 208J
(см. также предисловие к критическому изд. [Grayson 1964, р. XXIX sq.]). В оте-
Цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 395
грамматики. Таким образом, очерк Альберти — это не столько
справочное пособие по итальянскому языку, сколько аргумент в
споре с гуманистами, признающими только древний латинский
язык и неспособными разглядеть регулярный строй в новом
народном языке; именно на их суд умелый архитектор и
предоставляет набросок своего плана, рассчитывая больше на их
исправления (emendarmi), чем на поношения (biasimare) (ср. [Grayson 1982,
р# 137]). Грамматика Альберти состоит из перечня согласных
(данных в особом порядке — ordine delle lettere, см. выше с. 350-351) и
гласных (с использованием греческой диакритики для различения
открытых и закрытых е и о), описания грамматических категорий
итальянского языка и очень краткого рассуждения о языковых
ошибках (vizi del favellare) — непременного раздела латинских
грамматик. В этой последней части Альберти отмечает, что в любом
языке речевые ошибки бывают двух видов и связаны либо с
именованием новых вещей (из приводимых примеров ясно, что имеются
в виду варваризмы), либо с неправильным употреблением уже
существующих слов. Здесь приводятся два примера —
сконструированная автором фраза, в которой нарушены все согласовательные
связи: 'вчера ты пойдем на эта рынки* (tu ieri andaremo alia
mercati), и употребление одного слова вместо другого (при
максимальной фонетической близости двух разных по значению слов):
processione 'шествие, процессия* вместо possessione 'владение*383.
В основной части (морфология) выделяются семь частей речи:
имя (поте), местоимение (pronome), глагол (verbo), предлог
(preposizione), наречие (avverbio), междометие (interiezione), союз
(congiunzione). В категории имени отмечается изменение
итальянского существительного по родам, числам и падежам.
Сочетание существительного с предлогом рассматривается как
парадигма склонения по аналогии с латинской (EL cielo 'небо', DEL cielo,
чественной науке «технический» язык Альберти был самым тщательным образом
исследован В. П. Зубовым (1899-1963) — переводчиком «Десяти книг о
зодчестве» с латинского языка на русский и автором ряда значительных работ по
истории науки. «Архитектурная теория Альберти» стала темой его докторской
диссертации 1946 г. (отдельные ее части опубликованы [Зубов 1977]); особенный
интерес для нас представляет глава о влиянии античных теорий красноречия на
архитектурную теорию Альберти (с. 81-91), которая подтверждает проводимый
нами тезис о значении Квинтилиана (и Цицерона) для развития научной мысли
Кватроченто, а не только для литературного стиля подражательной прозы
гуманистов, как это принято считать.
383 Этот вид паронимических оговорок граничит с каламбурами и часто обыг-
Рьгвается как комический прием (и в качестве невольной ошибки и —
намеренной игры). Альберти, вероятно, знал известный латинский каламбур этого типа:
«Катон, говоря о Марке Фульвии, переменил его прозвание Nobilior,
благороднейший, в Mobilior, непостояннейший, самый переменчивый» ([Остолопов 1821,
с- 334] цит. по: [Тынянов 1977, с. 297]).
396 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
AL cielo, EL cielo, 0 cielo, DAL cielo), и этой же схемы придержи-
вается большинство грамматистов XVI в. (падежи в других
грамматиках нередко обозначаются порядковым номером: первый
падеж, второй вм. номинатив, генетив и т. д. ). Однако не следует
эту дань традиции рассматривать как проявление механического
(бездумного) перенесения категорий одного языка на
грамматическую структуру совсем иного склада. Свидетельством
переосмысления функции падежа является изобретение нового термина,
которым во многих итальянских грамматиках XVI в. будет
назван предлог: segnacaso ('указатель падежа* в противоположность
лат. prepositio, итал. preposizione, ср. рус. предлог). Идея распада
падежной флексии наиболее эксплицитно выражена у Л. Кастель-
ветро. Кастельветро говорит о «застывших падежах» (casi immobili
см. выше с. 311) итальянского имени и выделяет в итальянском
языке два синтаксических падежа — субъектный и объектный,
называя их соответственно [caso] operante и operato [Castelvetro
1563, f.2r].
В категории глагола Альберти прежде всего отмечает
отсутствие в итальянском языке («тосканском» в его терминологии) —
в отличие от латинского — форм пассива (verbi passivi in voce) и
говорит, что для выражения пассивного значения в настоящем
времени (per exprimere el passivo) используется сочетание глагола
«быть» с пассивным причастием прошедшего времени, взятым из
латыни (participio preterito passivo tolto da e' latini): lo sono amato
4 Я любим*. В парадигме глагола (она приводится полностью)
названия времен, соответствующих временам латинского глагола,
не указываются, но отмечается форма «как бы ближайшего
прошедшего» (preterito quasi teste, в современной терминологии passato
prossimo) и приводится пример: 'вчера я побывал (fui) в Остии, а
сегодня был (sono stato) в Тиволи\ В системе наклонений
(indicativo, optativo ecc.) Альберти выделяет отсутствующее в
латинском языке (поп notato da е' Latini) условное наклонение,
называя его asseverativo (от asseverare 'увеРять, заверять')384.
В качестве основного источника первой итальянской
грамматики исследователи называют «Курс грамматики» Присциана (см.
[Grayson 1964, p. XXXIX-XL] и более подробно [Vineis 1974], где
проанализировано свыше 20-ти параллелей), однако очерк
Альберти в целом, — выявляющий еще никем не описанную
грамматическую структуру итальянского языка, — очевидным образом
ориентирован на схематизм новых латинских учебников гуманис-
384 Условное наклонение (condizionale) окончательно утвердится в своих правах
в грамматике веронца Ринальдо Корсо «Основы тосканского языка» (Fondamenti
del parlar toscano, 1549) [Skytte 1990, p. 273], о грамматике Р. Корсо (1525-оК.
1580) см. [Trabalza 1963, p. 125-127], [Peirone 1971].
цастъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 397
тцческой школы Кватроченто (Гварино Веронезе и др.). В этой
связи особое значение приобретает вопрос о терминологии.
Оказывается, что большинство итальянских терминов грамматического
описания, засвидетельствованных в «ватиканской грамматике»
середины XV в. (avverbio, appellativo, articolo, asseverativo, caso,
composito, coniugazione, dizione, gerundio, imperativo, impersonate,
niodo, neutro, perfetto и т. д. ) датируются в итальянских словарях
([Battaglia], [Battisti, Alessio]) XVI веком или еще более поздним
временем — XVII веком (congiunzione, monosillabo) и даже XIX
(anormale) [Grayson 1964, p. XLVII]. Таким образом, грамматика
Альберти является не только первой итальянской грамматикой,
но и первым примером сознательного освоения латинской
грамматической терминологии народным языком. «Слава Господу, —
говорит Альберти, завершая свой труд, — теперь и у нашего
языка имеются его основания (primi principii). Вот уж не гадал, что и
это смогу одолеть (assequire)» [Trabalza 1963, p. 548].
Совершенно другие установки и иной подход характеризуют
первую печатную грамматику Джан (Джован) Франческо Форту-
нио «Грамматические правила народного языка» (Regole gramma-
ticali della uolgar lingua, 1516; изд. в качестве университетского
пособия с краткими примечаниями М. Поцци [Fortunio 1973])385.
Об описании правил народного языка, его тонкостей и
орфографии (cum le sue ellegantie et hortographia) Фортунио сообщал
уже в 1509 г.386 как об осуществленном замысле, намекая при этом
сведущему читателю, что речь идет о труде, сопоставимом с двумя
главными произведениями филологической науки
предшествующего столетия — «Книгой о тонкословии латинского языка» Ло-
ренцо Баллы и «Орфографией» Тортелли. Время написания
грамматики датируется периодом между 1502 и 1509 г. (или даже
1505 г.) [Paccagnella 1986, р. 284]. В предисловии к книге [Fortunio
380 О личности автора известно немногое, см. [Hortis 1938], [Dionisotti 1938;
1967; 1968, p. 18-26] и краткую биографическую справку в [Fortunio 1973, р. 159-
162] (в библиографической справке, там же, с. 163-167, есть неточности в
названиях некоторых работ). Ф. Фортунио, которого некогда считали «славянином из
Далмации», был итальянцем родом из г. Порденоне (обл.
Фриули-Венеция-Джулия), возможно, учился у известного венецианского гуманиста Маркантония Са-
беллико (Sabellico 1436-1506), когда тот преподавал во Фриули (во всяком
случае, был хорошо знаком и с ним самим, и с филологической наукой и издательской
Деятельностью в Венеции начала XVI в.), однако областью профессиональных
занятий Фортунио была юриспруденция. Бблыпую часть жизни он провел в Три-
есте, избирался судьей по гражданским делам, затем судьей по уголовным делам,
Работал адвокатом. Погиб при невыясненных обстоятельствах (разбился, выпав
Из окна) в 1517 году.
386 В 1509 г. Фортунио обратился к венецианским властям с просьбой о
предоставлении ему «привилегий» на печатание некоторых своих трудов, среди
которых он указывает и грамматику [DL, р. 43].
398 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
1973, р. 1-9], вышедшей в 1516 году в г. Анкона (пров. Марке
где типографское дело возникло только в 1512 г.), автор говорит о
пяти книгах, которые вместе должны были составить одно целое
и осветить вопросы грамматических норм (grammatical! norme),
словоупотребления, различных конструкций с глаголами (т. е.
синтаксиса простого предложения) и стихосложения на народном
языке. Однако неожиданная смерть помешала осуществлению этого
плана в полном объеме, и издание 1516 г. состоит из двух книг
вместо объявленных пяти — грамматических правил и
орфографии (об орфографии см. [Vitale 1951]). И в той и в другой Форту-
нио действительно продолжает традиции классической
филологии Кватроченто, уделяя большое внимание исправлениям (то, что
гуманисты называли термином castigationes).
Предметом критики Фортунио стали первые опыты
итальянской филологии — подготовленные Бембо издания Данте и
Петрарки, знаменитые альдины 1501 и 1502 г. и новинка
типографского искусства того времени, так называемые «курсивные»
издания классиков. То были издания небольшого для своего
времени формата (в одну восьмую листа), изящно оформленные,
набранные сплошным курсивом (что было новшеством) и без
комментариев. Разумеется, «курсивы» Данте и Петрарки, выпущенные
Бембо, мы не решились бы назвать массовым изданием, однако
отсутствие комментария свидетельствовало о том, что они были
рассчитаны на более широкие круги образованных читателей, а
не только на гуманистов с их специальной филологической
выучкой. По мысли Бембо, эти издания должны были не только
поднять престиж народного языка, вставая в один ряд с точно
такими же томиками Вергилия и Горация, но и способствовать
установлению языковой нормы, которую публикатор выравнивал
по своему усмотрению, устраняя варианты грамматических форм,
даже если они встречались в автографе Петрарки [Tavoni 1992,
р. 1067]. Вопросы нормы, как мы знаем, были предметом острых
дискуссий, и потому нет ничего удивительного, что редакция
Бембо, последовательно отражавшая его концепцию литературной
нормы, и ее тиражирование в виде канонических текстов Данте и
Петрарки становились мишенью для критики со стороны
приверженцев других языковых программ и иных литературных
вкусов — так что в этом отношении Фортунио не был одинок,
предлагая свои «исправления».
В том, что народный язык следует определенным
грамматическим правилам, судья из Триеста убедился благодаря долгому
опыту знакомства с итальянской литературой. Чтение Данте,
Петрарки и Боккаччо, как отмечает он сам, стало для него обыкновением
с младых лет, и этому занятию он отдавал часы досуга после ис-
REGOLE
GRAM1VLATICALI
JDELtA VOtGAR L1NU7A,
Di.MESSER E RA№
СБ5СО FOR»
T V N I 0.
NOVELJL-AMENTE REVIJTB,
БТ CON JOMMA OILU
GENT1A EME^DATA.
InVMMgtt, M. D. L. 11.
Рис. 7. Первая печатная грамматика итальянского языка
«Грамматические правила народного языка» Франческо Фортунио.
Венеция, 1570 ( первое изд. Анкона, 1516).
400 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
полнения своих судейских обязанностей, совершенствуя таким
образом собственное ораторское мастерство. Обращая внимание
поначалу только на блестки (lumi) народного красноречия, — «ко-
торые светят нам, что звезды в ясную ночь, причем с не меньшим
блеском, нежели у любого из самых почитаемых латинских
авторов», — внимательный судья, привыкший сопрягать причину и
следствие, пришел к заключению, что народный язык никогда бы
не достиг такого лада, не будь в нем каких-то собственных
грамматических правил (alcuna regola di grammatical! parole). Тогда-то
он и начал собирать примеры, которые можно было бы подвести
затем под общее правило с некоторыми исключениями (generali
regole con poche eccezioni), и довольно быстро обнаружил
закономерности «в изменении имен по числам (il variar delle voci nelli
numeri), местоимений по падежам, а также в спряжениях и
склонениях глагола (le congiugazioni e declinazioni dei verbi)».
Congiugazione в терминологии XVI в. означает тип глагольного
спряжения (Фортунио различает только два класса спряжения в
итальянском языке, а не четыре, как это принято), a declinazione —
изменение глагола по временам и лицам.
В грамматике рассматриваются четыре части речи: имя,
местоимение, глагол и наречие. Автора совершенно не интересуют
грамматические категории как таковые и состав частей речи в полном
объеме, он не дает определений частей речи и перечня их
акциденций, обходится без классификаций и не приводит всей
парадигмы «склонения» имени или глагола, считая такие вещи либо
хорошо известными из латинских грамматик, либо достаточно
очевидными для носителя языка, данными ему, так сказать, в
опыте [Trabalza 1963, р. 68].
«Правила» Фортунио рассчитаны на совершенно определенную
аудиторию, на образованных филологов и литераторов, и
представляют собой извлечения, примеры из
письменно-литературного языка XIV века. Чтобы понять, как устроена эта грамматика,
рассмотрим раздел о местоимении. Здесь формулируются пять
правил употребления местоимений с глаголом; в основном это
формы третьего лица, что вполне естественно, учитывая
специфику письменной речи, которую анализирует Фортунио. Вопрос этот
сам по себе достаточно сложен. Следует иметь в виду, что в
итальянском языке (так же, как и в латинском) при развитой
глагольной флексии употребление личного местоимения при глаголе не
обязательно, в отличие, например, от французского языка, где
личная форма глагола не употребляется без
местоимения-подлежащего. Что же касается третьего лица (или *не-лица» по Бенве-
нисту), то — в отличие от «я» и «ты» — оно по самой своей прирО"
де допускает наличие некоторого числа местоименных или
указательных вариантов [Бенвенист 1974, с. 291].
Цастъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 401
В старотосканском языке количество таких вариантов весьма
значительно (ср. меньшее количество указательных местоимений
в латинском и их распределение в ораторской и «исторической»
прозе, отмеченное Валлой, см. выше с. 216). Фортунио должен
был проделать довольно большую работу, суммируя возможности
выбора из следующего ряда форм, обозначающих 'он' ('его', 'ему'):
egli, ei, questi, quegli, lui, altrui, colui, costui, esto, esso, ello и др.
Большинство из этих указателей лица имеет соответствующие
формы женского рода: ella, lei, colei, costei, esta, essa, ella. Во мн.
числе используются формы муж. и жен. рода (ср. рус. они/оне):
esti/este, essi/esse и «общего рода» (loro, coloro и т. д.). Фортунио
систематизирует употребление всех этих форм в зависимости от
падежа («прямого» геМоили «косвенного» obliquo) и соответственно
позиции перед или после глагола. Правило формулируется
кратко. Например: «Во втором правиле мы утверждаем, что такие
местоимения, как lui, lei, loro, cui, altrui не употребляются в
качестве [обозначения] действующего лица (come persone agenti) перед
глаголом, обозначающим действие (поп si propongono a verbi
operatione significante), поэтому нельзя сказать lei mi vide 'она
меня увидела', lui mi disse 'он мне сказал,' а надо: ella mi vide,
egli mi disse» [Fortunio 1973, p. 34]. Сформулировав, таким
образом, общее правило, Фортунио затем проделывает свою работу как
бы в обратном порядке, проверяя правило на текстах. Эту
филологическую часть грамматики народного языка явно недооценивает
Ч. Трабальца, отмечая — как недостаток — то, что краткие
правила «растворяются» в огромном количестве примеров [Trabalza
1963, p. 69]387.
«Примеры» Фортунио, нагромождение которых представлялось
историку итальянской грамматики в начале XX в. отсутствием
какого-либо метода, в настоящее время проанализированы в
работе «У истоков итальянской филологии и грамматики: Фортунио»
[Belloni 1987]. Дж. Беллони вносит важные уточнения
терминологического характера и раскрывает филологическую «кухню»
Фортунио. Так, например, он показывает, что слово essempio в
Данном контексте является калькой латинского термина
гуманистов exemplum, который означает 'образцовый список', т. е. копию,
наиболее близкую к оригиналу. В интерпретации примеров
Фортунио руководствовался желанием — вполне понятным для авто-
Ра грамматики — свести к минимуму число отклонений от уста-
8' Сравнительно недавно в университетской библиотеке г. Павия был
обнаружен ♦ Компендий к грамматике народного языка» Ф. Фортунио, изданный в
Болонье в 1521 г. [Pastore 1984]. До этого считалось, что подобные краткие
руководства составлялись только к грамматике П. Бембо (см. [Bongrani 1989,
Р. 108-109]).
402 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
новленного им общего правила. Для достижения этой цели он и
использовал различные приемы, полемизируя с комментаторами
(например, с Филельфо, который интерпретировал lei в одном из
сонетов Петрарки как субъектное местоимение, что, по мнению
Фортунио, искажало смысл стиха и т. п.), исправляя ошибки
печатников, сравнивая чтения разных списков и т. д. [Belloni 1987
р. 197-198].
Не будем углубляться в подробности этой своеобразной
критики текста с позиций грамматической правильности, но напомним
в этой связи одно тонкое замечание Э. Бенвениста. «Употребление
форм, — пишет Бенвенист, — не тождественно, по нашему
мнению, употреблению языка. В действительности это различные
миры, и представляется полезным подчеркнуть различие между
ними, так как из него следует иной способ рассмотрения тех же
самых явлений, иной способ их описания и интерпретации»
[Бенвенист 1974, с. 311]. Фортунио, как нам кажется, прекрасно
видел это различие, но пытался представить эти «миры» (формы
языка и формы речи) как абсолютно симметричные, что было даже
логично для основателя итальянской грамматики, каковым
осознавал себя автор «Грамматических правил народного языка»,
публикуя их в 1516 году.
Пальму первенства Франческо Фортунио пытался оспорить
Пьетро Бембо. Его знаменитые «Беседы о народном языке»
увидели свет только в 1525 г. Бембо работал над текстом этой книги
(Prose della volgar lingua, о нашем «исправлении» в переводе
названия см. выше с. 222 прим. 152) в течение долгих лет (ее
замысел документально датируется 1500 г.), а затем тщательно
курировал издание. Вопросам грамматики посвящена третья книга
«Бесед».
Здесь необходимо дать хотя бы короткую справку о том, что
представляют собой «Прозы» Бембо и что скрывается за такими
традиционными эпитетами, как «изящный», «изысканный»
применительно к данному сочинению. Оно написано в форме диалога,
но отличается от всех последующих «диалогов о языке» XVI в.
откровенной установкой на подражание определенным
литературным образцам — композиционному приему Боккаччо в
«Декамероне» и пластике латинской фразы в философических «Тускулан-
ских беседах» Цицерона. «Действие» происходит в самом начале
XVI в. в Венеции, где светское общество проводит три дня в
беседах о языке. Функция персонажей у Бембо не «цитатная», как в
диалогах Макьявелли, Триссино, Сперони и др. (см. выше с. 249)»
а иная: четверо беседующих (брат автора — Карло Бембо, затем
знаток семитских языков и первый собиратель наследия
провансальских трубадуров Федерико Фрегозо, брат Лоренцо Великолеп-
Цастпъ П. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 403
ного — Джулиано Медичи и неолатинский поэт Эрколе Строцци)
не излагают содержания опубликованных трактатов (своих собст-
венных, как Данте у Макьявелли, или чужих, выступая от лица
автора, как в «Хранителе Замка» Триссино), а представляют
вместе итальянскую науку и культуру периода перехода от
латинского гуманизма Кватроченто к итальянскому (umanesimo volgare)
Чинквеченто. Таким образом, перед нами произведение изящной
словесности, некий триэмерон (ср. «Декамерон» Боккаччо, «Геп-
тамерон» Маргариты Наваррской и «Пентамерон» Дж. Базиле), в
котором главным героем является Язык, а фабулой — смена
культурного языка.
В первый день (содержание I книги) предметом разговора
становится соотношение латинского языка и народного и в связи с
этим поднимаются следующие вопросы: многообразие языков,
языковая ситуация в Древнем Риме, происхождение народного
языка, провансальские истоки итальянской поэзии и др. Во второй
день (II кн.) беседуют о риторике, в третий и последний день,
отведенный грамматике, функцию «рассказчика» берет на себя
Джулиано Медичи. Он представляет тосканский язык (Джулиано
казался современникам идеальной фигурой либерального и
просвещенного правителя), повествуя об его устройстве и
«приключениях» (заметим, что именно этим термином в старых русских
переводах передавали значение «акциденций» Аристотеля). Таким
образом, «Грамматика» Бембо — это не совсем обычная
грамматика, и для раскрытия ее значения требуется особый
инструментарий анализа388.
Огорченный тем, что его опередили, Бембо поспешил обвинить
Фортунио в плагиате, заподозрив, что тот мог воспользоваться его
материалами, ходившими в определенных филологических
кругах в рукописном издании389. Полемика Бембо — Фортунио
подробно рассматривается в работе К. Дионизотти [Dionisotti 1938], и
388 Издатели XVI в. учитывали необычность этой грамматики и через два года
после смерти автора сумели сделать из изысканной книги для чтения
необходимый для более широкого круга читателей учебник, снабдив «Беседы»
предметным указателем (Tavola di tutta la contenenza del presente volume secondo Uordine
dell'alphabeto); уменьшение формата и умеренная цена превратили грамматику
Бембо в ходовой товар (III изд. Венеция, «Сыновья Альда», 1549) [Tavoni 1992,
Р- 1072], [Sabbatino 1988]. О кодификации языковой нормы Бембо см. [Sabbatino
1985], о его влиянии на литературный язык Чинквеченто [Sabbatino 1986].
389 Многие итальянские ученые первой половины XVI века, несмотря на то что
°ни принимали активное участие в издательской деятельности (как, например,
Бембо, который не только издавал итальянских классиков, но и придумал
«портативное» по масштабам своего времени издание в одну восьмую листа), были, —
по выражению А. Квондама, — людьми «догутенберговской» эпохи: рукописное
издание было их привычной книгой, они предпочитали читать своих современни-
404 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
вопрос о плагиате (как с той, так и с другой стороны) в настоящее
время считается исчерпанным: разногласия между авторами
обусловлены принципиальной разницей их установок, а совпадения
в трактовке некоторых вопросов грамматики неизбежны при
единстве самого предмета — грамматики итальянского языка.
Несмотря на то что «Правила» Фортунио написаны менее изящным
слогом, чем «Прозы» Бембо, грамматика Фортунио продолжала
пользоваться спросом и после 1525 г., многократно выходила
отдельными изданиями (16 изд. менее чем за полвека) и в составе
антологий, которые стали издавать во второй половине XVI в.
[Paccagnella 1987, р. 273-274], и даже в XIX в. по ней еще учился
известный критик и историк итальянской литературы Франческо
Де Санкти^ (1817-1883) [Fortunio 1973, p. 167]390.
На протяжении первой половины XVI в. в создании
итальянской грамматики участвовала вся Италия — от Фриули до
Сицилии. Эги труды: «Правила народного языка» Фортунио,
«Замечания к грамматике народного языка» Джироламо Кларичо (1520,
на материале «Амето» Боккаччо), изысканные «Беседы» Бембо,
«Грамматика народного языка» (Grammatica volgare, 1533)
неаполитанца Карлино, феррарца Альберта Аккаризи (La grammatica
volgare, 1537, 1538), его же «Словарь, грамматика и орфография
народного языка с комментариями ко многим местам из Данте, из
ков в рукописи и не торопились печатать свои собственные произведения.
Издатели-печатники, напротив, охотились за новыми сочинениями, чутко реагируя
на рыночный спрос, но зачастую в ущерб интересам автора. Так, например,
сочинение Лодовико Кастельветро (1505-1571), известного гуманиста и оппонента
Пьетро Бембо, книгопечатники из его родной Модены выпускают в 1563 году как
произведение анонимного автора. В предисловии к публикуемым «Добавлениям
к рассуждению мессера Пьетро Бембо об артиклях и глаголах» издатели
сообщают, что нашли эту рукопись, показали ее знающим людям и те, оценив ее
содержание, посоветовали печатать, что они и делают. Экземпляр этого
прижизненного издания автора имеется в БАН [Castelvetro 1563].
390 Мы не согласны со многими положениями и формулировками в
комментарии М. Л. Андреева к первому русскому переводу (его же) книги I Prose della
volgar lingua (в ст. о Пьетро Бембо [Литературные манифесты, с. 503-504]):
например, с определением грамматики Фортунио как эмпирической, в отличие от
Бембо как примера первой научной грамматики; с утверждением, что к 1540 г.
«язык, который проповедовал Бембо, стал единственным литературным языком
Италии и оставался им добрых три столетия» (с. 504, курсив наш. — Л. С). Все
это не так точно соответствует действительности, как утверждает переводчик и
комментатор. Неточным нам представляется и перевод названия (см. выше с
222; исправляя его, мы руководствуемся только соображениями более точного
соответствия заглавия переводимого произведения его литературному жанрУ и
стилю, а не предпочтениями собственного вкуса (как было бы в случае выбора
названия между «Придворным» и «Царедворцем» для русского перевода КастИ-
льоне или «Хранителем Замка» и «Кастеляном» для трактата Триссино).
цаспгь II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 405
0етрарки и из Боккаччо» (1543, изд. в г. Ченто), «Грамматика
народного языка, извлеченная из произведений (trovata nelle opere)
Петрарки, Боккаччо, Чино да Пистойя и Гвиттоне д'Ареццо»
неаполитанца Гаэтано Тиццоне (1538), несколько сочинений Ф. Алун-
но — «Замечания к Петрарке» (Osservazioni sopra il Petrarca, 1539),
«Богатства народного языка» (Le richezze della lingua volgare, 1543),
«Десять книг о мироустройстве» (La Fabrica del Mondo, все они
йзд. в Венеции), а также вышедшие в Мессине «Замечания об
сицилийском языке» (Osservantii di la lingua siciliana, 1543) M. Арец-
цо — все эти (и некоторые другие не упомянутые нами) трактаты
по грамматике были адресованы ученой аудитории и своим
ближайшим современникам — итальянским филологам и писателям
XVI века. Об этом мы знаем не только из авторских предисловий;
многочисленные факты из истории итальянского языка
(например, расхождения между разными редакциями произведений
итальянской литературы в изданиях XVI в.) также свидетельствуют
о том, что именно в этой среде первые итальянские грамматики
находили своего заинтересованного читателя391. И только Тоскана
оставалась в стороне от этого процесса.
Тосканцы чувствовали себя в своем языке как дома,
полагались на разумную природу своего языка, его естественные законы
(объективная норма), необходимость и достаточность которых
доказывали их соотечественники в своих трактатах, доверяли,
наконец, собственному языковому чутью и слуху. Среди
флорентийцев раздавались даже голоса в защиту свободы языка, в которых
явственно звучали ноты протеста против повального увлечения
правилами, сковывающими словно наручниками (manette) живую
флорентийскую речь (В. Боргини). Однако причину запоздалого
появления первой грамматики, написанной носителем
природного тосканского языка П. Джамбуллари, мы склонны усматривать
не только в этом. Привилегированное положение Тосканы на
территории литературного языка ко многому обязывало (к тому же в
XVI в. оно все меньше и меньше подкреплялось новыми
авторитетами), и потому лучше, наверное, было не спешить с «правила-
Ми», уступив их на время провинциям, нежели обмануть ожида-
391 Ярким свидетельством того, как читали в XVI веке грамматические
трактаты, могут служить и обнаруженные нами (совсем недавно) маргиналии к editio
Princeps «Бесед» Пьетро Бембо (публикация готовится). Знаменательно, что на
п°лях первых двух книг Prose della volgar lingua вообще нет никаких помет, за
Исключением единичных исправлений типографских ошибок, в то время как
третья книга «Бесед» испещрена дополнениями, возражениями, замечаниями,
приорами и уточнениями (с использованием греческих терминов в их оригинальной
°Рфографии), сделанными незнакомой нам рукой неаполитанского — по первому
впечатлению — эрудита.
406 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
ния обделенных самой природой «чужестранцев». Кроме того
следует иметь в виду, что по мере укрепления тосканской госу!
дарственности (при Козимо Медичи) к «вопросу о языке» тоже
стали подходить как к делу государственной важности, и начиная
с 40-х гг., преобразованная Флорентийская академия (см. с. 322
сн. 277) оформилась в организационный центр филологической
деятельности, направленной на укрепление и «расширение»
тосканского языка392.
В рамках академии была создана комиссия по преобразованию
языка (comissione dei riformatori della lingua), глава комиссии
(Riformatore) избирался из числа академиков на определенный
срок. В 1550-1551 гг. ее деятельность возглавлял Джамбуллари,
человек разносторонне образованный и хорошо знающий древние
языки, причем не только латинский и греческий, но также и
древнееврейский. Академия вынашивала планы создания
грамматики, но этому замыслу так и не суждено было осуществиться.
Вместо академической грамматики в 1552 г. Джамбуллари выпустил
в свет свои «Правила флорентийского языка» (Regole della lingua
fiorentina), но до этого, еще в марте 1548 г., он преподнес беловую
рукопись грамматики малолетнему наследнику — Франческо
Медичи по случаю его дня рождения. По своим целям, задачам и
структуре, оговоренным автором, грамматика флорентийского
академика существенно отличается от всех остальных, появившихся
к этому времени (ее написание датируется между 1546 и 1548 г.)393-
Грамматика Пьерфранческо Джамбуллари, изданная во
Флоренции (без указания года издания), вышла вместе с диалогом о
трудностях упорядочивания современного языка, написанным
другим академиком и близким другом нашего автора — Джамбат-
тистой Джелли, под названием «О языке, на котором говорят и
пишут во Флоренции» (De la lingua che si parla et scrive in
Firenze)394.
Из предисловия автора (посвящение Франческо Медичи) ясно
следует, что учебник, в отличие от названных выше трудов, рас-
392 Впоследствии Флорентийская академия будет преобразована в Accademia della
Crusca (итал. crusca 'отруби') — знаменитую Академию Круска, которая станет
центром словарного дела в Италии.
393 Эти и другие сведения приводятся в предисловии Иларии Бономи к
критическому изд. [Giambullari 1986, p. XI-LX], библиография рукописных и
печатных трудов Джамбуллари с. LXI-LXII).
394 Критическое издание восстанавливает оригинальное заглавие Regole de№
lingua fiorentina no автографу Джамбуллари, однако, как считает современный
издатель, изменение первоначального названия в печатном варианте было вполне
оправданным и больше отвечало содержанию грамматики, в которой не
формулировались нормативные правила, и автор был вообще очень осторожен в свой*
рекомендациях по поводу употребления языка [Giambullari 1986, p. XLVI].
цасть II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 407
считан на достаточно широкие круги итальянской молодежи,
желающей обучиться «грамотно говорить и писать» на нашем языке
(5 то время как другие грамматики обращались к «даровитым
юношам» — giovani ingegnosi, имея в виду начинающих
литераторов), и на иностранцев; флорентийцы же, по мнению
Джамбуллари, в подобном руководстве не нуждались395.
Иными словами, Джамбуллари ориентировался на
принципиально иной тип грамматики — на пособие по обучению неродному
языку. Среди многочисленных грамматик латинского языка он
выбрал для своего учебника один конкретный источник, о чем
сообщается в коротком обращении «К читателю» [Giambullari 1986,
р. 5-6]. «Пусть не удивляет тебя, друг мой читатель, — пишет
Джамбуллари, — когда ты заметишь, что мой скромный труд
(operetta) почти во всем, что касается построения, основных
понятий и выражений (l'ordine, i concetti et le parole), следует
сочинению ученейшего Линакра "Правильное строение латинской речи"
(Emendata struttura del parlar latino)*396.
Джамбуллари считает труд Линакра образцовым изложением
латинской грамматики, и точное следование достойному
источнику представляется ему только разумным: читателю — при таком
подходе — будет прямая польза (utile), для него как автора —
почетное дело (onorevole), а для изложения вещей, сходных в
обоих языках (cose comuni ad ambedue queste lingue), это послужит
большей ясности. И наоборот, пытаться внести какие-то
изменения в организацию текста своей грамматики, не создавая ничего
нового по существу, значит для Джамбуллари, во-первых,
выказывать неуважительное отношение к автору латинской
грамматики, а во-вторых, запутывать предмет, вместо того чтобы ясно
изложить его суть397.
395 О грамматиках итальянского языка, написанных специально для
европейских дворов XVI в. или конкретных особ см. [Bonomi 1987].
396 Имеется в виду латинская грамматика английского гуманиста Томаса
Линакра (Thomas Linacre, ок. 1460-1524) De emendata structura latini sermonis,
вышедшая в Лондоне в 1524 (посмертно). Т. Линакр довольно долгое время (1487-
1499) жил в Италии — во Флоренции, Риме, в Падуе и Венеции; о его связях с
итальянскими гуманистами (прежде всего с А. Полициано) см. [Weiss 1957].
397 К аналогичным мотивировкам — соображения краткости и простоты —
нередко прибегали и другие авторы, точно следующие традиционному инвентарю
латинской грамматики. Так, например, некоторые из них выделяли шесть «ро-
Дов» в акциденциях итальянского имени: maschile (мужской), femminile (жен-
Ский), neutro (средний), incerto (неопределенный), indifferente (безразличный),
comune (общий). Вряд ли эта классификация служила краткости описания двух
гРамматических родов в итальянском языке, но легко предположить, что
привычность заученной с детства латинской схемы не затрудняла, а как раз
упрощала ее восприятие.
408 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл.
Грамматика Джамбуллари состоит из восьми книг [Giambullarj
1986, р. 7-318]. В первых пяти книгах, где рассматривается ор.
фография, части речи, «конструкция» и конструкции с глаголом
и отчасти в шестой книге (фигуры речи), как отмечает И. Бономи*
Джамбуллари довольно близко следует своему источнику,
местами прибегая даже к дословному переводу латинского текста Ли-
накра. Наиболее самостоятельной является четвертая книга «о
конструкциях с глаголом» (De la costruzzione de' verbi) [Bonomi
1978; 1982]. В последних двух книгах, целиком посвященных
вопросам риторики, автор опирается на трактаты латинских риторов
и на Ars grammatica Диомеда. Включение синтаксического и
риторического разделов является новшеством в истории
итальянской грамматики.
Глава «О конструкции» (кн.III, с. 114-131) начинается с
определения: «Конструкция — это должное соответствие (un debito
componimento) частей речи (parti del parlare), т. е. определенный
их порядок и расположение относительно друг друга,
соответствующие строгому правилу (retta regola), устанавливаемому
грамматикой» (с. 114). Сразу вслед за этой формулировкой Джамбуллари
поясняет, что он подразумевает под «строгим правилом»: «Однако
следует иметь в виду, что строгое правило — это не только
правильность, которую неукоснительно соблюдают самые лучшие и
наиболее признанные писатели в своих сочинениях (ne' scritti loro),
что мы собственно и наблюдаем на примере языков теперь уже
мертвых, но и та правильность, каковой держатся в своем обиходе
(uso comune) люди образованные (м.б., даже 'профессионалы*
persone qualificate. — Л. С), говорящие и пишущие на своем
языке в наши дни, на том языке, на котором будут говорить и
сочинять во все времена грядущие, покуда сохранен будет этот язык в
сущности своей (nello essere suo), о чем толкует нам со всей
ясностью Гораций в своей «Поэтике»:
То же дозволили нам, и всегда дозволяемо будет
Новое слово ввести, современным клеймом обозначив.
(Наука поэзии, 58-59. Пер. М.Дмитриева)-
Далее Джамбуллари приводит наиболее часто цитируемые
строки Горация (70-72) об изменчивости словоупотребления, которым
распоряжается usus:
Многие падшие вновь возродятся; другие же, ныне
Пользуясь честью, падут, лишь потребует властный обычаи,
В воле которого все — и законы и правила речи!398
(Наука поэзии. Пер. М. Зерова)
398 Multa renascentur quae, cecidere; cadentque / quae nunc sunt in honore vocabul
si volet usus / quern penes arbitrium est, et vis et norma loquendi.
PIERFRANCESCO
GIAMBVLLAKI
Fiorcntino,de la lingua
chc fi parla & fcrme
in^Firenze .
Etvno
DialogodiGiouan Batifta Gcllifopra
la difficult:* <Aeilo ordinare
dett& lingua.
Con Priuilegio*
Рис. 8. Первое издание грамматики флорентийского автора Пьерфранче-
ско Джамбуллари «О языке, на котором говорят и пишут во Флоренции».
Флоренция, s. a [1552/1?].
410 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысл^
Подкрепив тезис об изменчивости языка и о человеке как
субъекте меняющейся языковой нормы авторитетными высказы.
ваниями Данте по этому поводу в «Пире» (Пир I.V.) и в «Коме.
дни»399, Джамбуллари заканчивает вступление к III кн. следую,
щим рассуждением: «Итак, обычай (uso) и есть подлинный
наставник; я имею в виду обычай тех, кто говорит не на
чужестранных языках (lingue forestiere), а на своих родных языках (1е
proprie native), причем пишет величественно и изящно (con maestu
е con leggiadria), то есть словами, конечно же, отборными и пра-
вильно расположенными (bene ordinate), но не слишком
отличными от обычных (comuni) и внятными не только для меньшинства.
Такая вот составленность речи и есть та самая конструкция,
которую мы постараемся показать» (с. 99-100).
В этой книге рассматриваются различные виды
согласовательной связи в конструкции (modi delle concordanze), словосочетания
с предлогами, конструкции с прилагательными в сравнительной
степени, конструкции с местоимениями и т. д. и формулируются
самые общие правила (regole generalissime) в виде запретов (типа
«номинатив не может употребляться без глагола»). Все эти
правила взяты из грамматики Линакра, и их формулировка
обнаруживает недостаток специальных терминов для обозначения членов
предложения, синтаксических связей и иерархических
отношений между ними. Так, например, говоря о несамостоятельности
определения в атрибутивной конструкции, Джамбуллари пишет
(правило III): «Прилагательное (agghiettivo) и все то, что в
конструкции замещает (va imitando) прилагательное, не может
употребляться без имени собственного или нарицательного (il proprio,
о lo appellativo), которое бы его поддерживало (che lo sostenga)»
(с. 105).
Конструкции с глаголом рассматриваются отдельно и
составляют содержание IV книги (с. 133-171). Здесь Джамбуллари
следует своему источнику только в изложении теории глагольного
управления (costruzzioni generali de' verbi, p. 149, ср. у Линакра:
communes omnium verborum constructiones), но весь материал,
относящийся к управлению итальянского глагола, им проработан
самостоятельно и достаточно основательно. Джамбуллари даеТ
очень подробную классификацию глаголов по характеру
управления, выделяя, например, среди переходных глаголов три группы»
«глаголы, способные приобретать пассивное значение во всех тре*
лицах ед. и мн. числа и во всех наклонениях» (amare 'любить,
temere 4бояться\ emendare 'исправлять'); те, которые могут пр*1"
399 Естественно, чтоб смертный говорил; / Но — так иль по-другому, это яаД°»
Чтоб не природа, а он сам решил (Рай, XXVI. 130-132. Пер. М. Лозинского).
цасгпъ II. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения 411
Ломать пассивное значение только в третьем лице (masticare
'желать', salire 'подниматься'), и, наконец, те, которые «не
выражают пассивного действия никакого лица» (io vivo una vita faticosa
«я живу трудной жизнью' и da me si vive una vita faticosa 'мною
проживается трудная жизнь'). Иначе говоря, в пассивных
конструкциях с переходными I (primi transitivi) в качестве
подлежащего могут употребляться личные местоимения во всех трех лицах
(л, ты, он любим), с переходными II — только местоимение 3-го
лица (оно жуется), переходные III никогда не имеют подлежащего
в форме личного местоимения (нельзя сказать «она проживается
мною»), и этот критерий положен в основу классификации
транзитивных глаголов.
Для каждого класса формулируются правила управления,
расширяющие конструкцию «вправо». Так, I правило вводит
конструкцию с простым аккузативом («я люблю истину»), II —
конструкцию с глаголом, требующим после прямого дополнения предлога
di (io ti biasimo di dappocaggine 'я ругаю тебя за глупость') и т. д.;
под каждым правилом дается перечень глаголов (по латинской
традиции в трех формах: amo, amai, amare) данного типа
управления. В общих чертах трактовка глагольных конструкций в
грамматике Джамбуллари напоминает соответствующий раздел в
«Правилах» Гварино Веронезе (см. выше с. 188-190), но отличается от
него и терминологией и принципами классификации.
Джамбуллари завершает IV книгу алфавитным списком
глаголов (от А до U), по большей части не вошедших в предыдущие
списки, сопровождая их примерами из «Декамерона», так что
получается небольшой словарь глагольного управления (с. 150-
171). В других разделах своей грамматики Джамбуллари широко
пользуется примерами из Данте и Петрарки, реже —
собственными примерами, в отдельных случаях он заимствует у Линакра
примеры из Вергилия, снабжая их собственным переводом на
итальянский язык. Однако современники не оценили стремления
Джамбуллари снабдить их полным курсом грамматики народного
языка. Несмотря на то что грамматика флорентийского языка была
написана по всем правилам латинской ars grammatica (в ее новом,
гуманистическом освещении) и в соответствии с требованиями
Флорентийской академии (где переводить все примеры из
латинских авторов на итальянский язык было обязательным правилом),
этот большой труд так и не нашел своего читателя. Грамматика
ни разу не переиздавалась в учебных целях. Она существует в
Двух рукописных вариантах (черновой и беловой автограф
Джамбуллари) и в двух печатных изданиях (1552 и 1986 гг.).
В заключение нашего обзора трех первых грамматик
итальянского языка отметим, что составление полного лексикона италь-
412 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая
янской грамматической терминологии XVI в. (и затем ее сравни
ние с другими национальными традициями) — дело будущих ис.
следований, но уже сейчас, в частности на основании грамматик
описанных в настоящем разделе (которые на самом деле охваты!
вают период длиною в целое столетие), мы можем говорить об
общих чертах состава грамматической терминологии на народном
языке. Это: 1) точные соответствия традиционной латинской (и в
большинстве своем современной общепринятой) терминологии
(напр., лат. nomen — итал. поте 'имя'); 2) обилие вариантов -~
прозрачных в своей основе — для выражения одного и того же
понятия (лат. pluralis — итал. plurale наряду с il numero del piu, Ц
numero del maggiore, il maggior numero, il numero del moltiplicato
'множественное число'); З) создание собственных терминов
взамен традиционных латинских, как, например: segnacaso
'указатель падежа' (предлог), legatura 'соединение' (союз), inframmesso
'междуположенное' (междометие, ср. лат. interiectio, итал.
interiezione). В этой группе неологизмов можно отметить, с одной
стороны, термины, распространенные во многих грамматиках XVI
века (segnacaso), и с другой стороны, индивидуальные
(окказиональные) образования400; 4) новые термины, обозначающие
грамматические категории, отсутствующие в латинской грамматике
(asseverativo 'условное [наклонение]'); 5) отсутствие терминов
общего значения, таких как фонетика, морфология, синтаксис,
лексика, парадигма и т. п., большинство из которых было
впоследствии заимствовано из греческого.
400 Особенно много таких необычных терминов у Джамбуллари (см. глоссари*1
[Giambullari 1986, р. 321-323]) и у Бембо (например, pendente 'зависающее [вре*
мя]' — имперфект). Все подобные неологизмы, как правило, впоследствии был^
вытеснены общепринятой латинской терминологией (ср. preposizione 'предлог *
congiunzione 'союз* и т. д. )
ПРИЛОЖЕНИЯ
I. РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
ТРАКТАТОВ ДАНТЕ «О НАРОДНОМ КРАСНОРЕЧИИ» И «ПИР»
Трактат De vulgari eloquentia (VE)
Автографы Данте, как известно, не сохранились, и все его наследие
дошло до нас только в списках. Так, например, самый ранний список
полного текста «Комедии» датируется 1336 г. Из всех сочинений Данте,
если не считать «Писем» (Epistole) и трактата «Вопрос о воде и земле»
(написанного тоже по латыни — Questio de aqua et terra. De forma et situ
duorum elementorum aque videlicet et terre)y хуже всего в рукописной
традиции представлен VE. Известны только пять списков: Берлинский
(В), Гренобльский (G), Тривульцианский (Т), Ватиканский (V) и Страс-
бургский (S). При этом V представляет собой две копии XVI в. с Т, a S —
список с печатного издания XVIII в. (Венеция, 1758). Таким образом,
современная наука по существу располагает лишь тремя рукописными
текстами (BGT), которые и считаются основными; до обнаружения В (1917)
в распоряжении ученых были только Т и G.
Исследователи полагают, что текст VE не был известен при жизни
Данте и был обнаружен только после его смерти в Равенне в 1321 г., так
сказать, «в ящике стола» [Mengaldo 1978, р. 23]. Едва ли не
единственным бесспорным свидетельством того, что о существовании такого
трактата, написанного в изгнании, знали современники Данте на его родине
во Флоренции, является упоминание о VE в знаменитой «Хронике» Джо-
ванни Виллани (ок. 1280-1348), повествующей об истории Флоренции от
основания города до 1346 г. (Cronica IX, 136). Первым из младших
современников Данте, кто серьезно озаботился изучением творчества
своего великого предшественника и опозоренного правительством
Флоренции соотечественника, был Джованни Боккаччо (1313-1375)1. Боккаччо
1 Напомним, что в ноябре 1301 г. Данте, как и другие видные политические
Деятели разгромленной партии белых гибеллинов, был обречен навсегда
покинуть свое отечество. В январе 1302 г. подеста Флоренции издал приговор, по
которому Данте (и три его товарища) обвинялся во всевозможных государственных
414
Приложение
начинает публичное комментирование поэмы в церкви Св. Стефана (1373-
1374, Флоренция), написав перед этим биографию Данте (De origine, vita
studiis et moribus clarissimi viri Dantis Aligerii Florentine poetae illustri$
et de operibus compositis ab eodem, 1351-1355). В «Жизни Данте» есть
упоминание об интересующем нас незаконченном трактате: «Уже
незадолго до смерти он написал латинской прозой книжечку под заглавием
De vulgari eloquent ia, предназначенную для тех, кто хотел бы изучить
основы стихосложения; судя по всему, он собирался разделить ее на
четыре части, но не то смерть прервала его работу, не то третья и четвертая
части были утеряны, сейчас существуют только две первые» [Боккаччо
1975, с. 566. Пер. Э. Линецкой]2. В этом же сочинении Боккаччо
впервые применяет эпитет «божественная» (divina) по отношению к дантовс-
кой поэме, имеющей жанровое название «Комедия». Для истории VE
весьма показательно, что не было ни одного печатного издания трактата
в XV веке. Таким образом, настоящую известность VE получает лишь два
века спустя после его написания, в эпоху Возрождения, когда
обладателем рукописи (Т) становится Джанджорджо Триссино, который
знакомит со своим новым приобретением ученых литераторов в Риме и во
Флоренции. Именно с этого экземпляра и были сделаны копии: Пьетро Бембо
заказал для себя список всей работы, а другой итальянский гуманист,
флорентиец Анджело Колоччи (1474-1549), ограничился выпиской глав,
относящихся к определению канцоны как поэтической формы из II кни-
преступлениях (продаже должностей, взяточничестве, незаконных притеснениях
и несправедливом изгнании партии гвельфов — «верных сынов святой римской
церкви», сопротивлении папе и Карлу Валуа, нарушении мира во Флоренции,
подстрекательстве в Пистое и т. д.) и был обязан предстать перед судом и
уплатить в трехдневный срок огромный штраф и судебные издержки. В случае
неуплаты штрафа имущество и владения обвиняемого подлежали разрушению или
конфискации (к моменту издания приговора дом и имения поэта уже были
разграблены, так что о наличии искомой суммы не могло идти даже речи, и все это
прекрасно знали), а в случае уплаты штрафа присуждался к двухлетнему
изгнанию из Тосканы с дальнейшим лишением всех гражданских прав и почестей на
вечные времена. Неявка в суд означала, согласно закону, признание обвиняемым
своей вины. В марте 1302 г. правительство Флоренции обнародовало второй
приговор, по которому Данте и другие осужденные по тому же делу (15 человек)
были приговорены к изгнанию из Флоренции на вечные времена, а в случае, если
они когда-нибудь попадут во власть Коммуны, — к сожжению. В этой обстановке
надо отдать должное честности флорентийского хрониста Дж. Вил лани, который,
будучи сторонником победившей партии гвельфов, так писал о своем
поверженном соотечественнике: «Причиной изгнания Данте было то, что в 1300 году,
когда Карл Валуа изгнал Белых [гибеллинов], он стоял во главе правительства и
принадлежал к названной партии. Поэтому-то, без всякой другой вины, он и
подвергся изгнанию» (Cronica IX, 136, цит. по: [Скартаццини 1905, с. 60], пер*
О. Введенской).
2 Незаконченность трактата послужила здесь основанием для его неверной
датировки последними годами жизни Данте. Этой датировки придерживались все
итальянские ученые XVI в., восприняв VE как своего рода завещание основателя
итальянского языка своим потомкам. Отсюда и стремление устроителей язык
Чинквеченто проникнуть в смысл этого документа и понять, какой же идиом в
самом деле Данте назначал главным языком для всей Италии.
Печатные издания трактатов Данте
415
ги (гл. IX и начало X). Эти копии (V) хранятся в Ватиканской
библиотеке; на экземпляре Бембо имеются многочисленные маргиналии и
некоторые исправления, сделанные его же рукой. Триссино перевел VE на
итальянский язык и издал его (только перевод, без латинского оригинала)3
в 1529 (о знакомстве с VE до выхода этого печатного издания см.
специально [Lattes 1937])4.
О судьбе рукописи после смерти ее владельца (1550) и до конца XVIII в.
почти ничего не известно. Достоверно известно, что в 1797 г., т.е. в
период наполеоновского господства, французы вывезли Т из монастыря
Санта Мария делла Салюте в Венеции, дабы пополнить фонды Парижской
Национальной библиотеки, но менее чем через год редкий манускрипт
был возвращен монастырю. В начале XIX в. Т стал собственностью князя
Джанджакомо Тривульцио (откуда и название списка «тривульцианский»)
и до 1937 г. находился в собрании княжеской фамильной библиотеки в
Милане; в настоящее время хранится в Библиотеке Государственного
исторического архива им. Тривульцио (Библиотека Тривульциана). Некоторые
орфографические особенности Т дают исследователям основания полагать,
что переписчиком кодекса был венецианец. Владельческие пометы
указывают на Падую, где Триссино и купил эту рукопись (собственноручные
пометы Триссино датируются 1514-1524 гг.). Т состоит из 14 листов
(бумага); датируется приблизительно первой половиной XV в.; заглавие Liber
de vulgari eloquio sive ydiomate (совпадающее с G) и названия глав явно
относятся к более позднему слою текста [Mengaldo 1979, р. 18].
Список G, по мнению экспертов, был сделан несколькими годами
позже Т и, судя по всему, тоже в Падуе. Рукопись отличается от Т
изысканностью исполнения — и каллиграфией, и изящным переплетом XVI в.;
состоит из 26 листов. Известно, что трактат был обнаружен в одной из
церковных библиотек в Падуе в 1570 г. аббатом Пьеро дель Бене,
который подарил его затем флорентийскому филологу Якопо Корбинелли,
находившемуся тогда в изгнании в Париже. Корбинелли тщательно
изучил текст дантовского трактата (о пометах Корбинелли на полях этого
экземпляра см. [Gutkind 1934]), учел работу своего предшественника
[Dante 1529] и издал латинский оригинал в 1577 [Corbinelli 1577] (см.
более подробно выше, с. 331-332). История G в течение двух
последующих веков не известна, равно как и обстоятельства, при которых она
попала в начале XIX в. в библиотеку Гренобля, где находится по
настоящее время. Установлено, что Т и G восходят к одному протографу, но G
признан более авторитетным списком, т. к. носит явные следы сверки с
3 Исправим заодно ошибку в комментарии М. Л. Андреева, где указано, что
латинский текст VE был опубликован Триссино вместе с его переводом
[Литературные манифесты, с. 502].
4 Вопрос об истории восприятия дантовского творчества современниками
поэта и последующими поколениями изучен достаточно детально. Об изучении
Данте в XIV в. см. [Cavallari 1921], между XIV и XVI [Frattarolo 1970], в XV [Dionisotti
1965], в XVI [Barbi 1890; 1980], [Grayson 1962], [Garin 1970], в XVII [Marchesi
1897-1898], [Cosmo 1946], [Lamentani 1964], в XVIII [Zacchetti 1900], в XIX
[Mococci 1891], в XX [Bosco 1965], [Barberi Squarotti, Jacomuzzi 1971], [Caso
1982].
416
Приложения
каким-то другим и до сих пор неизвестным кодексом. G издан
фототипическим способом: D. Alighieri. Traite de l'Eloquens Vulgaire. Manuscript
de Grenoble, publie par Magnien et Prompte. Venise. 1892; описание см. в
[Billanovich 1947, p. 13-19].
Список В был обнаружен в 1917 г. немецким филологом Людвигом
Бертало (Bertalot, 1884-1960)5 в Берлинской государственной библиотеке,
которая купила его в 1878 г. у одного антиквара. О предыдущей истории
В ничего не известно, не поддается точному определению также время и
место изготовления В. Современные исследователи полагают, что копия
была сделана не ранее середины XIV в., в то время как сам Л. Бертало,
П. Райна и др. датировали ее 30-40 годами Треченто. Интересно
отметить, что в берлинском конволюте имеется и другой трактат Данте —
«Монархия», так же, как и VE, написанный им в изгнании, против
которого церковь начиная с 1328 г. повела ожесточенную борьбу, включив
его в Индекс запрещенных книг. Неизвестный переписчик XIV в. по
понятным причинам предпочел оставить запретный политический трактат
без титула, а в конце текста приписал: «А коли хочешь знать, что это,
догадайся» (endivinalo sel voy sapere) [Ricci 1970, p. 399]. Другой рукой
перед текстом «Монархии» подписано: Incipit Rectorica Dantis, и это же
название «Риторика Данте» повторено в эксплиците VE. Большинство
исследователей, занимавшихся изучением В, считает, что копия была
сделана во Флоренции, однако некоторые особенности орфографии
отражают характерные черты падуанского произношения; П. В. Менгальдо
относит В к северной рукописной традициии [Mengaldo 1979, р. 18] и,
таким образом, с его точки зрения, современное дантоведение вообще не
располагает ни одним флорентийским источником. Рукопись В
выполнена готическим шрифтом на пергамене в два столбца.
Попытки ученых установить личность владельца «господина Бини из
Флоренции» (dominus Binus de Florentia), дважды упомянутого в списке
(откуда и обозначение кодекса латинской буквой «В», данное ему Л.
Бертало), не привели ни к каким результатам. Рукопись В, несмотря на
наличие некоторых ошибок, общих с другой ветвью традиции, вне
всякого сомнения признается самым ранним и наиболее авторитетным
списком VE. В современном дантоведении соотношение списков принято
характеризовать следующей схемой [Ricci 1970, р. 400]:
АВТОГРАФ
I
ПРОТОГРАФ
В У
5 Библиографию работ Бертало см. в журнале Scriptorium 16 (1962), р. Ю2~
104, см. также его фундаментальный труд Initia Humanistica Latina, изданный
уже после смерти [Bertalot 1985], и предисловие П. О. Кристеллера (с. VII-XI)-
Печатные издания трактатов Данте
417
В настоящее время В хранится в Университетской библиотеке
Тюбингена.
ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ VE. Итальянский перевод Дж. Триссино [Dante
1529], латинский оригинал [Corbinelli 1577], библиографию изданий с
1529 по 1930 г. (всего 62 названия) см. [Tilton 1934]. Укажем основные
критические издания:
1. II trattato «De vulgari eloquentia» di Dante Alighieri. Per cura di Pio
Rajna. Firenze, 1896. Это так называемое editio major Пио Райны с
обширным «Введением» (215 с. ) и подробной историей известных на то
время списков (p. I-XLVIII); труд переиздан (Милан 1965). Его же (Ed.
minor) Firenze 1897.
2. Dantis Alagherii de vulgari eloquentia Libri II. Rec. L. Bertalot.
Friedrichsdorf apud Francofortum, 1917. To же: Geneva, 1920; Firenze
1923. Ред.: Р. Rajna//Bulletino della Societa dantesca italiana. N. S. 25
(1918). P. 133-166.
3. De vulgari eloquentia. Per cura di P.Rajna// Le Opere di Dante. Testo
critico della Societa dantesca italiana. Firenze, 1921. P.317-352.
4. De vulgari eloquentia. Per cura di E. Moore//Dante Alighieri. Tutte
le Opere. 4 ed. nuovamente riveduta da P. Toynbee. Oxford, 1924. P. 377-
400. To же: Оксфорд, 1963.
5. Dante Alighieri. De vulgari eloquentia, ridotto a miglior lezione e
tradotto da A. Marigo ... Firenze 1938. Ред.: G. Contini//GSLI, 113 (1939).
P. 283-293; 2 ed. Firenze 1948; 3 ed. con Appendice d'aggiornamento a
cura di P.G. Ricci. Firenze, 1957.
6. Dante Alighieri. De vulgari eloquentia. Testo curato, tradotto e annotato
da B. Panvini. Palermo, 1968. Ред. (отрицательная): Р. V. Mengaldo// GSLI.
147 (1970). P. 67-93.
7*. Dante Alighieri. De vulgari eloquentia. A cura di P.V. Mengaldo, I:
Introduzione e testo. Padova, 1968 (прим. к тексту с. CIII-CXXI, основная
библ. с. CXXII-CXXV). «Введение» переп. в [Mengaldo 1978, р. 11-119),
основная библ. с. 120-123.
8*. Dante Alighieri. De vulgari eloquentia. A cura di P.V. Mengaldo//
Dante Alighieri. Opere Minori, II. Milano;Napoli, 1979. P. 3-240 (La
letteratura italiana: Storia e testi. Vol. 5. T.II), основная библ. с. 22-25.
Ред.: М. Marti//GSLI, 158 (1981). P. 146-150.
ПЕРЕВОДЫ. Первый русский перевод Владимира Борисовича
Шкловского [Данте 1922]. Вступительная статья, как уведомляет переводчик,
по техническим условиям не могла быть опубликованной в этом
издании. Вл. Б. Шкловский был расстрелян в 1937 году [Степанова 1998];
архив ученого не сохранился, местонахождение рукописи «Данте как
филолог» не известно. Перевод Ф. А. Петровского [Голенищев-Кутузов 1968,
с 270-304].
Английский перевод: De vulgari eloquentia. Translated into English
with explanatory notes by A.G. Ferrers Howell. London, 1890.
Немецкий перевод: D. Alighieri. Uber das Dichten in der Muttersprache.
De vulgari eloquentia, aus dem Lateinischen ubersetzt und erlautert von
F. Dornseiff und J.Balogh. Darmstadt, 1925. To же: Дармштад, 1966.
!/2 U Зак. 3101
418
Приложения
Французский перевод: Dante. De Tart cTecrire en langue vulgaire.
Introduction et traduction de P.Godaert. Louvain, 1948; [Pezard 1965
p. 551-630] (первый фр. пер. 1856).
Трактат Convivio («Пир»)
Рукописная традиция Пира несоизмеримо богаче по сравнению с VE,
и на сегодняшний день обнаружено 44 списка итальянского
философского трактата Данте, однако все они восходят к одному источнику, что
ставит перед исследователями целый ряд серьезных текстологических
проблем, не имеющих до сих пор удовлетворительного решения. Дело в
том, что неоконченное сочинение Данте не пользовалось сколько-нибудь
заметной известностью при жизни поэта. Самые ранние из имеющихся
списков относятся к последним десятилетиям XIV века, что дает
основание исследователям связывать усиление интереса к творчеству Данте с
деятельностью Боккаччо. В уже цитированной нами «Жизни Данте» Бок-
каччо сообщает об этом трактате следующее: «Также написал он на
флорентийском наречии прозаический комментарий к трем пространным
канцонам и как будто намеревался снабдить таким же и все остальные, но то
ли передумал, то ли у него не хватило времени, только никаких других
комментариев он не оставил, а уже написанный озаглавил "Пир" — это
маленькое сочинение достойно высокой хвалы» [Боккаччо 1975, с. 566].
Большая часть списков относится к первой половине XV в. или
приходится на период между 1440 и 1470 г. В 1490 г. «Пир» был издан во
Флоренции в типографии Франческо Бонакорси. Вопрос о соотношении
этого первого печатного издания трактата с рукописными копиями
является в настоящее время дискуссионным. Согласно одной точке зрения,
инкунабула, изданная Бонакорси, представляет собой точное
(♦механическое») воспроизведение несохранившегося списка наиболее близкого к
протографу [Brambilla Ageno 1967]. Другие исследователи, напротив,
полагают, что образованные издатели-гуманисты конца XV в. должны
были внести свои исправления в текст и тем самым печатный текст не
может быть точной копией с какого-нибудь одного списка [Simonelli 1970,
р. 33 sq.]. Библиографию работ по текстологии «Пира» до 1966 г. см.
[Simonelli 1966, p. XX-XXIII], затем [Brambilla Ageno 1966; 1967; 1967а].
Большой исследовательской работой итогового характера является
монография Марии Симонелли «Материалы к критическому изданию
трактата Данте "Пир"» [Simonelli 1970] с подробным обзором рукописной
традиции (с. 7-50) и перечнем всех списков (с. 12-14); библиография
печатных изданий (три изд. XVI в. под названием L'amoroso Convivio/
Convito di Dante, два XVIII в. и два наиболее серьезных из
многочисленных переизданий XIX в.) приводится в ее же статье п. ел. Convivio в
«Дантовской энциклопедии» [Simonelli 1970a]. Материалы к новому
критическому изданию содержатся также в [Brambilla Ageno 1971; 1979].
Наиболее авторитетными комментированными изданими являются:
1. Двухтомное издание под редакцией Дж. Бузнелли и Дж. Ванделля
[Busnelli 1934-1937]; 2-е дополненное изд. с приложением под реД-
А. Э. Квальо (Quaglio), Флоренция, 1964.
Лингвистическая ситуация в Древнем Риме
419
2*. Однотомное издание под редакцией Ч. Вазоли и Д. Де Робертиса
[Vasoli 1988] с предисловием Чезаре Вазоли (с. XI-LXXXIX), нескольки-
ми Указателями (с. 887-1107); основную библиографию см. с. XCIV-C.
Примечание: Изданий, отмеченных в настоящем Приложении *, насколько
яам известно, в библиотеках Петербурга нет. Я получила их в подарок от
профессора Д'Арко Сильвио Авалле, за что ему бесконечно благодарна.
II. Лингвистическая ситуация в Древнем Риме
в спорах гуманистов XV в.
В этом Приложении мы публикуем один документ — письмо Гварино
Веронезе (в оригинале и в русском переводе) своему бывшему
воспитаннику Леонелло д'Эсте, ставшему в ту пору правителем Феррары. Письмо,
датированное августом 1449, представляет для нас интерес в нескольких
отношениях: и с точки зрения содержания рассматриваемого в нем
вопроса, и с точки зрения истории обращения текстов и идей в европейской
культуре середины XV в.
В данном письме автор излагает свой взгляд на историю латинского
языка и обозначает свою позицию в споре о лингвистической ситуации в
Древнем Риме. История возникновения самого спора такова. Однажды —
это было во Флоренции в марте 1435 года — в папской приемной
(известной нам из литературы того времени под названием «вральня») зашел
разговор о том, на каком языке говорили в Древнем Риме, и мнения по
этому вопросу разделились. Часть собеседников (среди собравшихся были
Поджо Браччолини, Антонио Лоско, Ченчо Рустичи, Андрея Фьокко и
др.) приняла точку зрения Флавио Бьондо, а подошедший в разгар
дискуссии Леонардо Бруни присоединился к его оппонентам.
Флавио Бьондо (настоящее имя Бьондо Бьондини, 1392-1462?)
изложил суть вопроса и свою позицию в письме De verbis romanae locutionis,
адресованном Бруни. Историка Бьондо интересовала главным образом
реконструкция языковой ситуации в античном обществе (в этом же
ключе написаны и его исторические труды: гражданская и культурная
история отдельных областей Италии Italia Illustrata, 1453 и история
римских институтов и обычаев Roma triumphans, 1459). В античном Риме,
как считает автор, все говорили на общем латинском языке; народ не
только понимал грамотную латинскую речь, но мог оценить ораторское
искусство и театральные представления, так как и то и другое
предназначалось для широкой публики. В своих рассуждениях Бьондо опирается
на свидетельства того времени, используя в качестве авторитетного
источника труды Цицерона, в которых особенно подробно рассматриваются
вопросы языковой правильности, грамотности речи и ораторского искусства.
Особенно часто он обращается к трактату «Брут». Ср., например, такое
свидетельство Цицерона: «Ведь если мы и хвалим правильность языка ...
то не столько потому, что она ценна сама по себе, сколько потому, что
слишком многие ею пренебрегают; уметь правильно говорить по латыни —
еЩе не заслуга, а не уметь — уже позор, потому что правильная речь, по-
Моему, не столько достоинство хорошего оратора, сколько свойство
каждого римлянина» [Брут 139, 140] (разрядка наша. — Л. С).
Анализируя «свои источники», Бьондо приходит к выводу, что в античном Риме
420
Приложения
в качестве общего языка использовался один язык — латинский, но
владение языком было различным у поэтов, ораторов и простолюдинов.
Из ответного письма Бруни «Одинаково ли говорили в Риме во времена
Теренция и Туллия простой народ и образованные люди» (An uulgus et
literati eodem modo per Terentii Tullique tempore Romae locuti sunt)
следует, что рассматриваемая ситуация представлялась ему как двуязычная.
Бруни убежден, что во времена Теренция и Цицерона ораторы
произносили свои речи на площади на народном языке, а публиковали их в переводе
на латынь. Иными словами, он (как и Данте) проецирует современное ему
латинско-итальянское двуязычие на прошлое. Однако рассуждения Бруни
не являются чисто логической экстраполяцией языковых отношений
разных временных срезов; он так же, как и Бьондо, опирается на античные
источники. Но Леонардо Бруни — как филолога — интересуют прежде
всего языковые различия между литературным языком и народной речью,
свидетельства существования которых он обнаруживает у Варрона.
Анализируя один из таких примеров, Бруни заключает, что народ говорил vellatura
и vella (* переезд, путешествие' и * вилла'), а образованные vectura и villa, и
«стало быть, у народа был один язык, а у образованных — другой» (Alius
ergo vulgi sermo, alius literorum) [Tavoni 1984, p. 220].
Два различных взгляда на языковую ситуацию в Древнем Риме
(Бьондо — Бруни) так или иначе обсуждались на протяжении всего XV века
[Mignini 1890], [Vitale 1953], [Grayson I960, p. 7-12], [Fubini 1961], [Tavoni
1982; 1984], и эта дискуссия стала как бы общей темой, объединяющей
филологов разных поколений и различных культурных центров Италии.
Исследование материалов этого гуманистического спора (писем,
трактатов, предисловий и др. источников) показывает, что круг вопросов,
поднятых итальянскими учеными XV века, был гораздо шире, чем
заявленная тема; он включал самые разные аспекты истории латинской и
долатинской Италии (собиранием сведений о древних народах Италии и
словах, заимствованных в латынь у сабинов, венетов, осков, умбров и
др., особенно увлекался Поджо, прекрасно знающий античные
источники) и проблематику возникновения неолатинских языков. Идея,
выдвинутая Бьондо, о происхождении народных языков из смешения латыни с
языками варварских завоевателей получила всеобщее распространение и
стала основополагающим тезисом для языкознания Возрождения (в
новейших работах по истории лингвистики она получила удачное, на наш
взгляд, наименование «теория катастроф» [Marazzini 1989, р. 17-45]. Что
касается конкретного вопроса о разговорном языке Древнего Рима, то
большинство итальянских ученых разделяло точку зрения Бьондо о
существовании общего латинского языка. «Линию Бьондо» поддерживали
во Флоренции (Карло Марсуппини, Л. Б. Альберти), в Риме (Поджо Брач-
чолини, Лоренцо Валла), в Милане (Франческо Филельфо). Гуманисты в
Ферраре, напротив, приняли сторону Бруни, и в его поддержку
выступили Анджело Дечембрио, Фельтрино Боярдо (однофамилец известного
поэта) и Лионелло д'Эсте1.
1 История этого диспута, анализ разных концепций, понятий и терминов
подробно исследованы в монографии Мирко Тавони «Латинский язык, грамматика»
народный язык: История одного гуманистического спора» [Tavoni 1984]. Текст
Лингвистическая ситуация в Древнем Риме
421
Против этой феррарской «оппозиции» и было направлено письмо Гва-
рино Веронезе. Это, по сути дела, маленький научный трактат,
ходивший среди «своих» (т. е. ученых определенного круга) под названием De
linguae Latinae differentiis («О различиях в латинском языке»). Как
сравнительно недавно выяснилось, текст письма знаменитого итальянского
учителя был известен не только в Италии, но и за ее пределами. Так,
например, анонимная испанская рукопись (датируемая приблизительно
50-60 гг. XV в.), опубликованная как оригинальный испанский трактат
[Webber 1962], [Penna 1965], включает целые фрагменты из De differentiis
Гварино в переводе на испанский (об отождествлении оригинала с
переводом см. [Binotti 1988], а также М. Тавони в очерке по истории ренес-
сансной лингвистики [Tavoni 1990, р. 229]).
Латинский текст письма был опубликован впервые Р. Саббадини в
трехтомном издании «Писем Гварино»под N 813 [Epistolario, И, р. 503-
511] с комментарием (т. 3, с. 408 -410).
Публикуемый ниже перевод Ванды Казанскене выполнен по изданию
М. Тавони, снабженному новым комментарием в подстрочных
примечаниях [Tavoni 1984, р.228-238]. Мы сохраняем разбивку текста на абзацы
н нумерацию параграфов, сделанную публикатором. Латинский текст
письма дается здесь без примечаний. В русском переводе мы вынуждены
были почти полностью отказаться от содержательного комментария и
ограничиться главным образом ссылками на авторов, которыми
пользуется Гварино. Однако один источник, не названный им эксплицитно, все
же необходимо оговорить. Сведения о четырех периодах развития
латинского языка, которые можно узнать, — как назидательно сообщает
Гварино — внимательно читая старинные памятники (veterum monumenta),
почерпнуты им из «Этимологии» средневекового
ученого-энциклопедиста Исидора Севильского [Isid. Etym. IX. I, 6-7]. Огромное влияние на
западноевропейскую культуру Исидора (пришедшего в Европу не
непосредственно из Испании, а через Ирландию) является общепризнанным,
но по-настоящему не исследованным. Между тем в этом главном
средневековом справочнике изложены основы семи свободных искусств (I кн.
целиком посвящена грамматике, II — риторике и диалектике,
показательно, что в главах о риторике ни разу не упоминается ни Цицерон, ни
Квинтилиан), содержатся сведения о языках и народах, социальных и
политических институтах, приводятся термины родства и т. д. (кн. IX
вышла отдельным изданием с предисловием, комментарием и фр.
переводом [Reidellet 1984], см. также [Vineis, Maieru 1990, p. 37-43]). Таким
образом, значение Исидора и других средневековых авторов (особенно
историков, как латинских, так и византийских), которых гуманисты,
несомненно, читали, следует учитывать и при изучении ренессансной
науки, не принимая на веру высказывания гуманистов о средневековом
невежестве. Письмо Гварино является убедительным тому свидетельством.
Участников полемики — Бьондо, Бруни, Альберти (единственного из них, кто
писал по-итальянски), А. Дечембрио, Гварино, Поджо, Баллы, Ф. Филельфо и
Паоло Помпилио — составляют 2-ю часть книги (с. 195-300). Появление этой
работы было отмечено многочисленными рецензиями (см., например, [Regoliosi
1985] и реферат, включенный в виде Приложения в [Mazzocco 1993]). О
продолжении этого спора в дискуссиях XVI в. см. в наст, книге с. 236-237 (о Франческо
Флоридо) и гл. «Происхождение итальянского языка».
422
Приложения
GUARINUS VERONENSIS ILL. PRINCIPI LEONELLO
MARCHIONI ESTENSI DE LINGUE LATINE DIFFERENTIIS
<Guarinus Veronensis ill. principi Leonello
marchioni Estensi sal. pi. d.>
(1) Confiteri profecto licet, et pro tui nominis commendatione et pro
animi mei voluptate simul ac laude, ut nunquam ad amplitudinis tuae
praesentiam accedam, quin multo hilarior abs te festiviorque discedam:
tantum valet prisca ilia benivolentia in me tua studiorumque societas, cuius
memoriam non modo non obliteras sed etiam conserves et in dies auges.
(2) Id sane declarant honores in me tui, et commoditates quibus meos saepe
saepiusque prosequeris. Quocirca tuis plerunque regni negotiis occupa-
tionibusque meis subirascor, quae tuo me privant aspectu consuetudineque
frequentiore. (3) Verum enim vero corpora quamvis absint, at epistularum
officio invicem confabulari «et notas audire et reddere voces* dabitur et eo
liberius ac libentius, quo pauciora, dum rusticaris et otio labores temperas,
te distinent negotia.
(4) Igitur cogitanti mihi et saepe ac multum animo versanti quidnam
potissimum scribam, quo tuas aures amoenitate aliqua teneam et quasi prae-
sens ratiocinari tecum videar, venit in mentem quaestiuncula quaedam coram
te quandoque disceptari solita: cuius generis lingua maiores nostros usos
fuisse iudicemus, cum eos latine locutos dicimus; eane fuerit, quam hac
aetate vulgo et ab indoctis usurpari sentimus, an litteralis et a peritis
observata, quam graeco vocabulo recte grammaticam appellamus. (5) Qua de
re cum fere docti minus dubitent, reliqui contradicunt nee assentiri ullo
pacto possunt, cum credibile non esse dicant ut, quae tantis salariis laborious
vigiliis atque praeceptis discitur oratio solisque nunc eruditis intellecta, ea
tunc rusticis operariis militibus et mulierculis gratis et sensim cognita
innataque fuisse dicatur. (6) Quibus non omnino falsa dicentibus revehenda
est in melius opinio et aperienda est latinae linguae vis differentia ruina
sive mutatio.
(7) Attendi autem ante omnia con venit, cum linguam osque dicimus, pro
lingua et ore verba et sermones intelligi, ut instrumentum pro vocibus
ponatur, colore quodam quem rhetores latine quidem denominationem, graece
vero metonymiam nuncupant, sicuti dixit Horatius: «Grais ingenium, Grais
dedit ore rotundo musa loqui» et T. Livius: «quo linguae commercio» et
Ovidius Naso: «lingua fuit damno».
(8) Latinitatem igitur duobus acceptam modis apud maiores animadverto:
uno quidem pro ea sermocinatione, qua priscos sine ratione sine regulis»
urbanos ac rusticos, uti solitos legimus, cum vox tamen ipsa litteralis esset;
altero, qua studio et arte comparata docti posterius usi sunt. (9) Hanc
posteriorem sic a Cicerone diffiniri videmus: «latinitatem esse quae sermonem
purum conservat ab omni vitio remotum. Vitia duo sunt in sermone, quo
minus is latinus sit: soloecismus et barbarismus. Soloecismus est cum pluribus
in verbis consequens verbum superiori non accommodatur», praecipue cum
sine ratione fit, ut si quis dixmrit «pax bonus et rex aequa gubernat civi-
tati». (10) Barbarismus in uno inepte prolato verbo fit, veluti si «ordtoris
Quarinus Veronensis... de lingue Latine differentiis 423
eSt persuadere» dixeris, paenultimis utrobique correptis; et cum syra vocabula
vel scythica aliave generis eiusdem latinis immisceantur, ut qui pro «curru»
latino gallicum inseruerit «petoritum», quod vitium barbarolexis dicitur.
(Ц) Haec si recte considerentur, haud sane convenire iudicabuntur huic
linguae maternae sive plebeiae aut vulgaricae, quam passim effutit haec
aetas quamque nequaquam latinam propterea vocabimus, nee ea usos fuisse
veteres assentiar, sicut paulo post aperiam.
(12) Ceterum non erit inutile cognitu, Leonelle princeps, si diversas
latini sermonis aetates speciesque noverimus, ut mirari desinamus tantam
influxisse mutationem, «unde haec sartago loquendi venerit in linguas».
(13) Si quis igitur diligentur veterum monumenta lustraverit, quadripartitum
latinae locutionis usum agnoscet. Prima ilia traditur pervetusta sub Iano
Saturno Pico Fauno viguisse, per Auruncos Sicanos Pelasgos, priscos Italiae
incolas, disseminata, inculta quidem, velut infans, incondita, ut «magis
frendere et verba frangere quam loqui» viderentur, adeo ut invicem cuncti
se eodem ore inter se loquentes non intelligerent. (14) Necdum eos mater
Evandri Nicostrata ex Arcadia veniens erudierat, quae prius litterarum
notitiam ad nostrates detulisse fertur; cumque carmine responsa daret, vates
enim erat, Carmentis ab indigenis cognomento vocata est, quoniam humano
eiecto sensu et introducto divino Carmentis quasi «carens mentis» dicta
vulgo est. Quae verba, licet tunc vulgaria ut illius aetatis essent, tamen
litteralem gerere formam nemo negaverit. (15) Altera subinde deprehensa
est, quae ab Latino rege citra, Fauni filio, in consuetudinem venit, nonnihil
politior limatiorve, non tamen adhuc absolute constructa, ut balbutiens adhuc
puella, quae tamen prae priore ilia asperiore delectaret. (16) Earn locuti sunt
et Latino regi subditi et qui Latium incolerent et Hetruriam ferme; quo
loquendi more duodecim tabularum leges anno ab urbe condita tercentesimo
scriptae creduntur. Hoc prisco et horrido adhuc dicendi modo Menenium
Agrippam plebem in sacro monte pro concordia allocutum traditur. (17) Hos
grammaticam idest litteralem, non grammatice, locutos contenderim, ut qui
consuetudine magis quam ratione et artificio ducti eorum sensa enuntiarent.
(18) Successit tertia iam formosa iam adulta iam concinna, quam recte
romanam, idest robustam, appellaverim. (19) In ea tot effloruere poetae
oratores historici, quos enumerare longa mora est: Plautus Naevius Ennius
Ovidius Virgilius Gracchi Cato et unicum eloquentiae specimen Cicero aliique
infiniti paene scriptores; quaquam et hi magis minusve diserti et elonquentes
fuerint, nam Ennium sicut sacros vetustate lucos adorari Quintilianus iubet.
(20) Quarta deinde mixta quaedam emersit seu potius immersit lingua, quam
recti us corruptelam linguae quis dixerit. (21) Irrumpentibus nanque per
varias tempestates gentibus in Italiam, quaedam sicuti colluvio sordium et
Polluta barbaries confluxit inquinate loquentium; unde romani sermonis
Prophanata est puritas et prior ilia maiestas velut e senatu deiecta degeneravit,
infundentibus modo se Gallis nunc Germanis alias Gotthis et Longobardis,
quorum indeleta vestigia luculentum ilium romanae suavitatis splendorem
macularunt et instar faecis obscenarunt.
(22) His ita enarratis nullo modo dubitandum esse credo et neminem vel
niediocriter peritum inficias iturum, quin secunda et tertia locutionis
Particula sic per universorum sanguinis latini aures atque ora versaretur,
ut cognitu faciles essent, unde et in recitandis poematis, comicis praesertim
424
Приложения
et tragicis, tam frequens omnis sexus et aetatis concursus fieret in scenam,
ut de loco certaretur; subinde tam variae auditoribus affectiones
innascerentur: mulierculis lacrimae risusque viris, suspiria misericordia
moeror gaudia silentium applausio. (23) Quia vero haec ipsa fortasse splendido
equiti Boiardo aut generoso comiti tuo Pirundulo frigidiora videri possunt
sine exemplorum adiectione, si auctoritates apposuero, probabilia fient utrique
testimonia. (24) Occurrit terentianum illud: «valete et plaudite» et plautinuni
«nunc spectatores, Iovis summi causa clare plaudite» et aliud: «ecce nunc
iam tu praeco omnem auritum (idest ad intelligendum vigilem) populuni
age» et illud: «spectatores, ad pudicos mores facta est haec fabula; qui
pudicitiae esse vultis praemium plausum date»; «valete, bene rem gerite et
vincite virtute vera, quod fecistis antehac». (25) Tale aliquid profecto poetae
nequaquam imperassent auditoribus, nisi recitata intelligerent et intellecta
probare potuissent, cum sit plaudere «manuum repercussione dicta laudare».
Alioquin quid tam demens, quam surdis narrare fabulam et verba mortuis
facere, ut dicitur? (26) Praeterea tot orationes ab imperatoribus ad exercitum,
ab consulibus et tribunis ad plebem, ab oratoribus in foro habitas legimus et
audimus et ab notariis de verbo exceptas, quas omnes latinis et romanis,
idest litteralibus, verbis dictas scriptasque cernimus; (27) nee iudicibus,
idest viris doctis, quanquam ii forent imperiti fere, sed toti audiendae fuerant
populo, vel ipso teste Tullio: «quantum potero voce contendam, ut populus
haec romanus exaudiat».
(28) Non negaverim pleraque fuisse vocabula, quae ex secretiore quadam
intelligentia doctis quidem cognita, rudibus autem minus percepta fuere,
unde et latine loquebantur plurimi non studiosi et litterarum ignari. (29)
Huic rei testis est locuples Cicero latinae eloquentiae parens et excultor, qui
in tertio de Oratore: «nostri, inquit, minus student litteris quam latine;
tamen ex istis quos nostis urbanis in quibus minimum est litterarum nemo
est quin litteratissimum Q. Valerium Soranum lenitate vocis atque ipso oris
pressu et sono facile vincat». (30) Idem de claris oratoribus: «Q. Flaminium,
ait, pueri, vidimus; existimabatur bene latine loqui sed litteras nesciebat».
(31) Et Quintilianus: «nam mihi aliam quandam videtur habere naturam
sermo vulgaris, aliam viri eloquentis oratio», (32) Et alio in loco Tullius:
«solum quidem, inquit ille, et quasi fundamentum oratoris vides orationem
emendatam et latinam, cius penes quos laus adhuc fuit non fuit rationis aut
scientiae sed quasi bonae consuetudinis; aetatis illius ista fuit laus tanquam
innocentiae, sic latine loquendi».
(33) Vides iam, magnifice princeps, latinam locutionem, quae nunc arte
constat et regulis, superioribus saeculis usu tantum fuisse perceptam, cum
rarus esset litterarum usus, Livio teste, (34) apparetque sic latinam orationem
late per omnes patere solitam, ut etiam illiterati bene latine et loqui et
intelligere possent, ut rugire leoni, mugire bovi, equis hinnire simul cum
animabus nasci cernimus. (35) Qua de re Ciceronem audiamus: «Curio tertius
illius aetatis erat quia splendidioribus fortasse verbis utebatur et quia latine
non pessime loquebatur, usu aliquo domestico; nam litterarum admodum
nihil sciebat. Sed magni interest quos quisque audiat quottidie domi,
quibuscum loquatur a puero, quemadmodum patres matres paedagogi». (36)
Ut enim Quintilianus praecipit, formanda est a teneris annis in pueris lingua:
«ante omnia nee sit vitiosus sermo nutricibus»; «nam et Gracchorum
Quarinus Veronensis... de lingue Latine differentiis 425
eloquentiae multum contulisse accepimus Corneliam matrem, cuius
doctissimus sermo in posteros quoque est epistulis traditus». (37) Ea
praeceptio tarn necessaria fuit tamque firmiter a maioribus servata, ut «non
tarn praeclarum visum sit latine scire», cum id commune foret, «quam turpe
nescire; neque tam id mihi oratoris boni quam civis romani proprium videtur»:
ut iam non propria quorundam laus, sed publica romani sanguinis et nationis
extiterit eaque vel mulieribus initio fuerit vis loquendi semper ingenita, ut
romanum sermonem tenuerint. (38) Crassus de socru testatur: «equidem
cum audio socrum meam Laeliam, sic audio ut Plautum mihi aut Naevium
videar audire, sono ipso vocis ita recto et simplici, ut nihil ostentationis aut
imitationis afferre videatur; ex quo sic locutum esse eius patrem iudico, sic
maiores». (39) Hanccine mulierem ceterasque generis eiusdem nedum viros
omnes si orantem quempiam vel consulem vel tribunum aut si recitantem
poetam audissent, num intellecturas fuisse dubitabimus? minime sane. (40)
Huius rei de qua nunc agimus non mediocris testis accedit Iuvenalis, vir
certe omni doctrinarum genere refertus, cum de recitatione dicat: «Curritur
ad vocem iocundam et carmen amicae Thebaidos, laetam cum fecit Statius
urbem Promisitque diem: tanta dulcedine captos Afficit ille animos tantaque
libidine vulgi Auditur». Ea profecto non esset aviditas audiendi, nisi auditores
linguam scribentis callentes agnoscerent. (41) Quid tot Ciceronis ad Terentiam
uxorem et filiolam Tulliolam epistulae? an velut ad ignaras scribebat?
(42) Tolerabis longiorem epistulam, princeps illustris, quae si de loquendo
fuerit loquacior, nil absurdum fecerit; earn, cum iusseris, tacitam feceris.
(43) Cum variae multiplicesque linguae sint, e quibus tres principatum semper
tenuisse videam, hebraicam graecam et huius filiam latinam, hebraicam suis
constare litteris accipio, ut vulgare nullum habeat suae locutionis idioma,
qua divinos illos et veteres prophetas atque patriarchas non modo in sacris
praeceptis et institutionibus, verum etiam mutuis inter se sermonibus usos
creditum est. (44) Graecam etiam sic litteralem esse et grammaticorum non
dicam rationibus sed consuetudine usurpatam esse affirmaverim, ut rusticos
et mulieres, quae incorruptam facilius servant antiquitatem, quo minus
multorum sermonis communicatrices sunt, sic loqui animadvertam, ut
Demosthenem Isocratem Xenophontem aut Platonem legere aut audire videar.
(45) Cum iuvenilibus annis sub Manuele Chrysolora illustri philosopho et
eius nepote Iohanne praeceptoribus amantissimis Constantinopolim incolerem
et post prima deposita rudimenta pleniore gradu discendo pergerem, infantes
quosdam mulieresque loquentes annotabam; delectabar simulque mirabar
linguae volubilitatem et suavem vocis sonum, adspirata ab illis vocabula,
servatas accentuum normas, casuum mutationes, verborum tempora, duorum
triumve nominum in unum compositionem, quamvis novam, dulcedine tamen
mirabili: tantum poterat absorpta a parentibus et conterraneis per usum
forma loquendi absque norma. (46) Eadem et de latina locutione dicere licet,
quae per universos diffusa olim litterariam per ignaros litterarum formam
pronuntiationemque continebat. (47) Rusticos latinos teste Tullio scimus
solitos «gemmare vites, luxuriam herbis inesse, laetas segetes», occata semina.
(48) Nisi multis variisque modis propositum approbem, non fit
contradicentibus credibile. Itaque non paucis inducendi sunt exemplis.
(49) Octavianum Augustum quottidiano sermone «simus* pro «sumus*
usurpasse legimus. (50) Non omittam et illud quod in dies audire licet.
15Чак. 310!
426
Приложения
Documento sunt romanarum coloniarum in hanc usque aetatem retentae
reliquiae. (51) Nuper cum subiratus et excandescens quidam herus in famulum
inclamaret, erat autem ex Iberia peregrinus in hoc ferrariensi gymnasio:
«vade, inquit, in malas horas cum carries assadas anseres et anserinos*.
Quid latinius fere dici potest? Alter gentis eiusdem dixerat: testa civitat
habe formosas mulieres*, cum in singulari numero diceret: testa e formosa
mulier* et «dico res honestas*. (52) Finis non erit si quaecunque succurrerint
scribere aggrediar, quibus latinam linguam litteralem et grammaticam fuisse
ostendam, qua prisci et posteriores usi sint, donee ad hanc non latinam sed
latinae corruptricem descensum est. Tu, princeps optime, pro tua gravitate
iudicabis, cum cessantibus nonnumquam regni negotiis ad haec perlegenda
praestabitur otium.
(53) Unum denique succurrit argumentum, cui fides abrogari meo iudicio
non potest. Nonnulli ad nostram usque aetatem venere commentarioli, ex
quibus aliquos Constantiensis tempore concilii Poggius invenit, vir
doctissimus et in primis eloquens. (54) Hi notas quasdam habent ad breviandi
usum cum notarii, cum recitarentur ad populum vel exercitum orationes, ad
verbum per notas exciperent et exceptas excriberent, uti pauculis elementis
dicta prolixiora colligerent: (55) spqr senatus populusque romanus; pc patres
conscripti; pr populus romanus; dms diis manibus sacrum; vf vivi fecerunt;
tfi testamento fieri iussit; aac ante audita causa; bm benemerentes; bh
bonorum heres; cm causa mortis; Cs Caesar; Csa Caesar Augustus; (56) aed
aedem dicavit; dd dedicaverunt; dgm dignus memoria; dqs die quo supra; sg
sacrilegium; epm epistulam misit; fdb fide bona; h heres, hh heredes; hi
hereditario iure; Ы Lucii libertus; hln honesto loco natus; ss satis; (57) k
carissime; kk carissimi; ii iuste iudicavit; sc senatus consultum; sd sententiam
dicit; stp statutum tempus; sttp statuta tempora; oo omnino; rp res publica;
vc vir clarus; vg verbi gratia; rbg re bene gesta; Is locus sacer; Ig legavit; Id
locus divinus; Idd locus dedicatus; qdcv qua de causa venit; ff filius familias;
pf pater familias. (58) Alia sunt innumerabilia iisdem in commentariolis,
quae dum oculis ac mente percurro, nullum nisi latinum occurrit, a
consuetudine vulgari diversum, qualiter nunc aetatis nostrae viri litterati
loquuntur. Alioquin inter tot auditorum milia nemo, nisi idem insonaret,
sermonem faceret, nisi dicta perciperentur et ad unguem intelligerentur.
(59) Succurrere plura sane cogitanti argumenta possunt, quibus latina
lingua Htteralis, non ut haec materna vel haec barbaries, erat; sed unam
adiciam rationem, reliquis vale dicturus, quae meo iudicio refelli non potest.
(60) Ex quo rerum humanarum divinarumque scriptores apud nostros esse
coeperunt, inter tot de medicina de iure civili de moribus de re militari de
rebus gestis de re rustica de religione, postremo de artibus ac discipline
volumina primis conscripta saeculis, tantillumne commemorare potes hoc
vulgari et operariorum sermone compositum? minime sane. Quamobrenu
quia in ipsa mortalium sermocinatione non erat, cum ne minimum quidem
eius vestigium extet.
(61) Vale princeps illustris et dum abes interea me ut facis amare perges
et memoria me tenebis. Vale felix iterum.
(Ferrariae) V kalendas augusti 1449-
ГВАРИНО ВЕРОНЕЗЕ СВЕТЛЕЙШЕМУ КНЯЗЮ
ПРАВИТЕЛЮ ЛЕОНЕЛЛО Д'ЭСТЕ О РАЗЛИЧИЯХ В ЛАТИНСКОМ
ЯЗЫКЕ
<Гварино Веронезе Светлейшему князю Лео-
нелло правителю д'Эсте шлет свой привет>
(1) Я могу поистине признаться, согласуясь и с обаянием твоего
имени, и с радостной тебе признательностью моей души, что всякий раз,
соприкоснувшись с твоим величием, я становлюсь значительно веселее и
жизнерадостнее: столь много значат для меня твоя давняя
благосклонность и общность научных интересов, воспоминание о которых ты не
только не стираешь из своей памяти, но сохраняешь и даже
преумножаешь с каждым днем. (2) Это отлично доказывают почести, которые ты
оказываешь мне, и подарки, которыми ты все чаще награждаешь мои
заслуги. Поэтому я больше всего сетую на твою занятость управлением, а
также и на свои дела, которые не позволяют мне чаще видеться и
общаться с тобою. (3) Но хотя у нас и нет возможности встретиться воочую,
мы можем беседовать друг с другом с помощью писем, «и слушать и
молвить слово в ответ»1 и тем свободнее и охотнее, чем меньше тебя
связывают дела, пока ты находишься в деревне и, отдыхая, избавлен от
множества обязанностей.
(4) Таким образом, пока я думал и перебирал в памяти, что бы лучше
всего было написать, чем приятным я мог бы привлечь твое внимание,
мне пришли на ум некоторые мелкие вопросы, которые когда-то
случалось обсуждать при нащих встречах: какого рода язык мы имеем в виду,
когда утверждаем, что наши предки говорили по-латыни; был ли это
язык, на котором в ту пору, по нашему ощущению, общался между собой
необразованный простой люд, или литературный и возделанный
знатоками, такой, который мы по праву называем греческим словом
«грамматичный»2. (5) Обычно этот вопрос вызывает меньше сомнений у ученых,
в то время как остальные возражают и никак не могут согласиться: мол,
1 Цитата из Вергилия (Энеида, VI. 689, пер. М. Л. Гаспарова).
2 Следует оговорить, что термины «грамматичный язык» в данном случае
равнозначен испрользуемому в нашей книге термину «грамотный язык»; вся
разница здесь только в предпочтениях при переводе лат. grammatica lingua, а не в
объеме самого понятия. В других же контекстах определение grammatica и его
латинская калька litteralis может передаваться иначе в зависимости от оттенков
значения: образованный, книжный, литературный [язык] и т. п. Варианты ла-
тинскиой терминологии, которую используют авторы XV века при описании
ситуации диглоссии/двуязычия см. в [Tavoni 1984, р. XI]. На русском материале
этот вопрос подробно разработан в трудах Б. А. Успенского по истории русского
языка (прим. — Л. С).
428
Приложения
невероятно, чтобы язык, которому мы учимся, тратя столько сил,
времени и средств, и который сейчас понятен одним лишь эрудитам, в те
времена даром, без усилий и сам собой давался и был врожденным любому
крестьянину, ремесленнику, солдату и любой бабенке. (6) Так как
подобное мнение не является полностью ошибочным, этот вопрос следует
пересмотреть заново и показать, в чем крепость латинского языка, а где
расхождения, распад или и вовсе его перерождение.
(7) Но прежде всего следует иметь в виду, что когда мы говорим lingua
и os (язык и уста), то подразумеваем под этим «слова и речи» (verba et
sermones), используя названия орудий речи для звучащей речи в целом
(voces), иначе говоря, прибегаем к известному стилистическому приему
(color), который у ораторов называется по-латински деноминацией, а по-
гречески — метонимией3. Так, например, говорили и Гораций: «Грекам
творческий гений и речь округленная, грекам завещаны Музой»4, и Тит
Ливии: «на каком [общем] языке»5 и Овидий Назон: «Сгублен он был
языком»6.
(8) Итак, я отмечаю, что правильный латинский язык (latinitas) был
унаследован от предков двумя путями; первый путь — как мы знаем из
книг — через ту обыденную речь, на которой в древности говорили как
горожане, так и селяне, не задумываясь над правилами, однако при этом
их язык был тогда вполне грамотным. Другой путь — через язык,
которым стали пользоваться затем образованные люди, овладевая им с
помощью специальных занятий и правил искусства.
(9) Впоследствии у Цицерона мы находим такое определение этого
языка: «А хорошим латинским языком (latinitas) будет тот, который
сохраняет чистую разговорную речь свободной от всяких пороков. Пороков
же речи, мешающих ей быть хорошим латинским языком, может быть
два: солецизм и варваризм. Солецизм — это когда в сочетании из
нескольких слов слово последующее не согласовано с ему
предшествующим»7, особенно когда делается это непреднамеренно, как если
кто-нибудь, например, скажет: Pax bonus et rex aequa gubernat civitati, т. е.
«Добрая мир и справедливая царь управляют государство». (10)
Варваризм — это когда неправильно произносится какое-либо слово, как
например, если мы скажем oratoris est persuddere8, сделав ударение в сло-
3 Сведения о метонимическом характере выражений «lingua» и «os»
почерпнуты из «Этимологии» Исидора, где говорится, что слово «уста» (os), обычно
означает «речь» (verba), точно так же, как слово «рука» (manus) означает
«почерк» (litterae) [Isid. Etym. IX I, 2]. В этом письме Гварино часто обращается и к
другим местам IX кн. Исидора, озаглавленной De Unguis gentium («О языках
различных народов»).
4 К Пизонам 323, пер. М. Зерова. Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo musa
loqui. Выражение ore rotundo loqui (букв, 'говорить круглыми устами') в
значении 'велеречивый язык'. Ср.: «Грекам Муза дала полнозвучное слово и гении»
(Наука поэзии, 323, пер. М. Дмитриева)
5 quo linguae commercio (Liv. I 18, 3): «И на каком языке снёсся бы он с
сабинянами». Пер. В. М. Смирина.
6 Метам. II 540, пер. С. В. Шервинского.
7 Риторика к Гереннию IV 12, 17, пер. А. В. Болдырева.
8 задача оратора - убеждать.
рварино Веронезе... о различиях в латинском языке 429
вах oratoris и persuadere, не на долгих о и е, как подобает, а на а;
варваризмами являются также сирийские, скифские и другие подобные слова,
вкрапленные в латинский текст, например, когда вместо латинской
«повозки» вставляют галльское «petoritum». Эта ошибка также называется
варваризмом9. (11) Если хорошо подумать, нетрудно установить, что
солецизмы м варваризмы никоим образом не является исконными для
родного языка простолюдинов, а в наше время так стали говорить
повсеместно и теперешний язык мы уже никак не назовем латинским; я не могу
согласиться, что на нем говорили люди в древности и покажу это
несколько позднее.
(12) Однако небесполезно знать, князь Леонелло, что познакомившись
с латинским языком, с его разновидностями и особенностями в разные
периоды, мы перестанем изумляться столь большому наплыву
изменений и тому, «откуда проникла такая смесь в языки»10. (13) Итак, тот,
кто основательно знаком с письменными памятниками древних,
согласится, что было четыре периода латинской речи11. Как сообщает
традиция, поначалу, во времена Януса, Сатурна, Пика и Фавна12 повсеместно
преобладала старинная речь, распространенная среди самых древних
обитателей Италии: аврунков, сиканов и пеласгов, она была неразвита,
словно дитя, и настолько невозделана, что «скорее был слышен скрежет
зубов и обрубки слов, нежели связная речь», а люди, пользуясь при общении
одним языком, не понимали друг друга. (14) Ибо их еще не просветила,
придя из Аркадии, мать Евандра Никострата, которая, говорят, первая
познакомила туземцев Италии с письменностью. Так как она, будучи
прорицательницей, давала ответы стихами, местные жители дали ей
прозвище Карменты, и так как она мало воспринимала человеческое и была
всецело обращена на божественное, о ней в народе поговаривали, будто
она не в своем уме13. Пусть эти ее речи были совсем простыми, поскольку
принадлежали тем далеким временам, однако никто не отрицает их
красоты, присущей словесности вообще. (15) Потом, со времени царя Лати-
на, сына Фавна, наступил второй период, и вошел в обиход язык, хотя
более отделанный и изящный, но все еще не совсем складный, словно
лепет ребенка, однако уже более радующий ухо, нежели прежний
грубый. (16) На нем говорили люди, подчиненные царю Латину, жители
9 Гварино вслед за Исидором употребляет разные термины , называя ошибки
в произношении словом barbarismus, а употребление иноязычной лексики —
barbolexis. См. Isid. Etym. I 32
10 Pers. 1 80.
11 Имеется в виду периодизация Исидора Севильского, выделявшего четыре
этапа развития латинского языка: древнелатинский (Latina lingua Prisca),
латинский (Latina), римский (Romana) и смешанный (Mixta). Далее в своем письме
(13-21) Гварино опирается на исидоровскую характеристику «четырех латинских
языков» (Isid. Etym. IX I, 6-7).
12 Пик — один из легендарных царей Авзонии, отец Фавна (Serv. Verg. Aen.
VII 190; X 76; Ovid. Met. XIV 320), традиционно считается эпонимом племени
пиценов. Фавн также считался царем, отцом Латина.
13 В оригинале игра слов: Carmenta — «carens mentis», дословно «лишенная
Ума» (прим. переводчика).
430
Приложения
Лация, и даже Этрурии. Полагают, что согласно манере этой речи в трех,
сотом году от основания города были написаны Законы Двенадцати
таблиц. Традиция гласит, что именно такой старинной и все еще грубой
речью Менений Агриппа призывал к согласию народ на Священной горе.
(17) Я склонен считать, что они говорили на грамматичном, т. е. на
литературном языке, но выражали свои мысли, следуя скорее обычаю, чем
сознательно придерживаясь правил грамматики. (18) После этого
наступил третий период уже красивого, возмужавшего и упорядоченного
языка, который с полным правом можно назвать римским, т. е. мощным
языком14. (19) На этой почве взросло столько поэтов, ораторов,
историков, что их перечисление будет долгим: Плавт, Невий, Энний, Овидий,
Вергилий, Гракхи, Катон и почти единственный и неповторимый
образец красноречия Цицерон, а также почти нескончаемое множество
других писателей; и хотя все они, кто в большей, кто в меньшей степени,
отличались образованностью и красноречивым, Квинтилиан, однако,
велит почитать Энния, подобно тому, как почитают священные рощи за их
старину15. (20) После этого возник (или скорее проник) некий
четвертый — смешанный — язык, который правильнее было бы назвать порчей
языка. (21) Ибо в разные времена различные племена вторгались в
Италию и ее наводняли, словно потоки нечистот, засоряющие язык
варваризмы неправильно говорящих людей; тем самым чистота и былое
величие римской речи было поругано, словно ее исключили из сената, и она
выродилась под натиском то галлов, то германцев, а вслед за ними готов
и лангобардов, неистребимые следы которых запятнали знаменитый блеск
латинской речи, словно покрыв ее грязью.
(22) Я уверен, что после этого изложения уже никто, даже из мало
сведущих, не станет сомневаться и отрицать, что речь второго и третьего
периода была настолько на слуху и на устах у всех людей латинской
крови, что все ее без труда понимали, иначе бы на поэтические
представления, в особенности на постановки комедий и трагедий, не сбегалось бы
столько мужчин и женщин всех возрастов, что они спорили из-за мест; а
сами эти представления не вызывали бы у зрителей столь разнообразные
чувства, у женщин слезы, смех — у мужчин, вздохи, жалость, грусть,
радость, и тишина не сменялась бы рукоплесканиями. (23) Конечно,
поскольку такой блистательный рыцарь, как Боярдо, или твой
благородный граф Пирундуло могут отнестись к моим словам, если оставить их
без примеров, скорее недоверчиво, то дабы убедить их обоих, сошлюсь на
авторитеты. Так, приходит на ум из Теренция16 «Прощайте! Хлопайте!» ,
и замечание Плавта: «В честь Юпитера погромче, зрители, похлопайте!»
или:«Зови, глашатай, к слушанью всю публику», и еще: «Зрители, для
чистых нравов наша пьеса создана. Громкий звук рукоплесканий пусть
за скромность наградит»; «Прощайте, я желаю вам /В делах успеха. С
14 Имеется в виду распространенная этимология, согласно которой название
Рима (Roma) выводилось из греч. ршцт| «сила, мощь», ср. Serv. Aen. I 273.
15 Inst. orat. X I, 88.
16 Евнух, 1096, пер. А. В. Артюшкова.
рварино Веронезе... о различиях в латинском языке
431
истинною доблестью /Всех побеждайте, как доныне делали»17. (25)
Разумеется, ничего подобного поэты никогда бы не велели своим
слушателям, если бы те не понимали услышанного и не могли бы одобрить
понятое, так как хлопать — это «звуками, издаваемыми руками, одобрять
сказанное». Иначе, что может быть глупее, чем, как говорится,
рассказывать сказки глухим и держать речи перед мертвыми? (26) Кроме того,
мы читаем и слышим, что полководцы произносили перед войском, а
консулы и трибуны — перед народом, ораторы — на форуме
многочисленные речи, стенографисты же их понимали и записывали дословно, и
мы знаем, что все эти речи были произнесены и записаны латинскими и
римскими, то есть грамотными словами; (27) а ведь слушали эти речи не
только судьи, то есть образованные мужи, хотя и они порою бывали
невежественными, но и весь народ, о чем свидетельствует сам Туллий: « ...я
возвышу свой голос, насколько смогу, дабы это услыхал римский
народ»18.
(28) Не стану отрицать, что было много таких слов, которые были
известны лишь образованным людям благодаря их специальным
знаниям и менее понятны простолюдинам, так как многие из говорящих по-
латински не учились и грамоты не знали. (29) Тому надежный свидетель
Цицерон, отец и воспитатель латинского красноречия, который в
третьей книге трактата «Об ораторе» пишет: «Жители Рима менее
прилежны к словесности, чем жители Лация19; однако среди этих самых
столичных граждан, совершенно необразованных, как мы знаем, любой легко
превзойдет мягкостью голоса, чеканностью речи и благозвучием даже
Квинта Валерия Сорана20, ученейшего из всех, кто носит тогу»21. (30) То
же он говорит о знаменитых ораторах: «Квинта Фламиния я видел в
детстве; он считался образцом чистой латинской речи, но грамматики не
знал»22. (31) Квинтилиан также говорит: «ибо мне кажется, что природа
просторечия — одна, а природа ораторской речи — другая»23. (32) А в
другом месте Туллий передает: «Так вот, почвой и основанием
ораторского искусства, — сказал тот, — служит безупречная и чистая латинская
речь. Те, кто до сих пор обладал этим достоинством, приобрели его не
благодаря целенаправленному изучению, а просто по наследству, как
хороший обычай: в тот век язык был так же чист, как и нравы»24.
(33) Теперь ты видишь, благородный князь, что латинская речь,
которая держится ныне на правилах грамматики и красноречия, в прежние
17 Плавт. Амфитрион 1146; Ослы 4-5, пер. А. В. Артюшкова (букв, всякого, у
кого есть слух, то есть, способного к восприятию); Пленники 1029 и 1036, пер.
Я. Боровского; Касина 87-88, пер. А. В. Артюшкова.
18 Цицерон. Речь в защ. Квинта Лигария 6, пер. В. О. Горенштейна.
19 Первые римские писатели, Невий, Энний, Плавт и другие, происходили не
из Рима.
20 Квинт Валерий Соран (из Соры) — писатель, грамматик, предшественник
Варрона.
21 Об ораторе III 43, здесь и далее пер. Ф. А. Петровского.
22 Брут, 259, здесь и далее пер. И. П. Стрельниковой.
23 Inst. orat. XII 10, 43.
24 Брут, 258.
432
Приложения
века усваивалась только повседневной практикой (usu), так как, по
свидетельству Ливия, письменностью пользовались редко25. (34) Очевидно
также, что латинское слово обычно было в такой мере доступно каждому
человеку на огромной территории, что даже неграмотные могли и
говорить хорошо, и понимать по-латыни наподобие того, как уже при
рождении— и это мы знаем все — лев умеет рычать, бык — мычать, конь -—
ржать. (35) По этому вопросу давайте послушаем Цицерона: «Третьим
оратором своего поколения мог почитаться Курион, может быть, потому,
что речь его отличалась яркостью, а латинский язык — правильностью,
усвоенной, вероятно, еще с детства, в семье. Грамматики (litterae) он не
изучал совершенно; но для оратора очень важно и то, кого он слушает
каждый день дома, с кем он говорит ребенком, каким языком
изъясняется его отец, учитель и даже мать»26. (36) Ведь и Квинтилиан наставляет,
что язык детей следует формировать с младенчества: « в первую очередь
да не будет неправильной речь кормилиц»; «ибо мы убедились, что
красноречию Гракхов во многом способствовала их мать Корнелия,
изысканнейший слог которой в письмах сохранился даже для потомков»27. (37)
Это наставление было настолько важным и так ревностно соблюдалось
предками, что считалось, что «уметь правильно говорить по-латыни —
еще не заслуга», ибо это умели все, «а не уметь — уже позор», потому
что правильная речь, — как говорил Цицерон, — «не столько
достоинство хорошего оратора, сколько свойство каждого римлянина»28. Итак,
подобная слава относилась уже не к отдельному лицу, а скорее ко всем
людям римской крови, и в первую очередь женщины обладали столь
великим даром красноречия, что именно они сохранили язык Рима. (38)
Красе свидетельствует о своей теще: «По крайней мере когда я слушаю
мою тещу Лелию, мне кажется, что я слышу Плавта или Невия. Самый
звук ее голоса так прост и естествен, что в нем не слышится ничего
показного, ничего подражательного! Отсюда я заключаю, что так говорил
ее отец, так говорили предки»29. (39) Так неужели мы будем
сомневаться, что эта и похожие на нее женщины, уже не говоря о мужах,
прекрасно понимали, если им доводилось слышать какого-либо консула или
трибуна, держащего речь, или поэта, читающего стихи? Конечно, нет. (40) В
качестве серьезного свидетеля того, о чем сейчас говорим, выступает
Ювенал, человек на самом деле переполненный всякого рода науками,
сказавший о чтении стихов: «Смотришь, на чтенье бегут приятной для
всех «Фиваиды», / Только лишь Стаций назначил день и обрадовал
город. / Что за нежностью он охватил плененные души, / Что за страсть У
толпы послушать эту поэму!»30. Конечно, не было бы такой жадности до
слушания, если бы слушатели не опознавали хорошо им знакомый язык
25 Liv. VI 1, 2. «...мало и редко в ту пору случалось прибегать к письменам!
хотя только они надежно сберегают память о свершившемся». Пер. Н. Н.
Казанского.
26 Брут, 210.
27 Inst. orat. I 1, 4, 6.
28 Брут, 140.
29 Об ораторе, 111 45.
30 Ювенал 7, 82-86, пер. Д. Недовича и Ф. А. Петровского.
рварино Веронезе... о различиях в латинском языке 433
пишущего. (41) Откуда столько писем Цицерона к жене Теренции и
дочери Туллиоле? Неужели он писал к совершенно непонимающим?
(42) Светлейший князь, надеюсь, ты снисходительно отнесешься к
тому, что письмо получится длинным: оно не станет неуместным, если по
вопросу о речи станет многоречивее, — когда захочешь, ты легко
сделаешь его безмолвным. (43) Существует множество различных языков, но
среди них, как это видно, всегда первенствовали древнееврейский,
греческий и его отпрыск — латинский; я убежден, что древневрейский язык
можно усвоить только из книг, ибо никакого народного еврейского
языка (vulgare idioma) просто не было, хотя другие уверены, что в древности
пророки и патриархи пользовались еврейским языком не только в своих
священных книгах и руководствах, но и в повседневном общении друг с
другом. (44) Что касается греческого языка, языка тоже книжного,
осмелюсь утверждать, что его-то усваивали, скорее, из обихода, а не путем
выучивания основ грамматики, потому что крестьяне и женщины, как я
заметил, которые вообще легче сохраняют неизменной старинную речь,
поскольку круг их общения ограничен, говорят так, что создается
впечатление, будто читаешь или слушаешь Демосфена, Исократа, Ксенофон-
та или Платона. (45) Когда в юношеские годы я жил в Константинополе
и под руководством любезнейших моих учителей — знаменитого
философа Мануила Хрисолора и его племянника Иоанна — сначала одолел азы,
а потом шагнул на ступень выше в знании греческого, то стал примечать,
как говорят там женщины и дети; я любовался и одновременно
удивлялся плавности их речи и приятному звучанию голоса, произношению слов,
содержащих придыхательный звук, соблюдению правил ударения,
склонению, спряжению, словосложению из двух или трех имен, причем
получалось хотя и новое, но удивительно благозвучное слово: столь силен был
склад речи, далекой от нормы (forma loquendi absque norma)31 и
перенятой из уст (per usum) родителей и соотечественников. (46) То же самое
можно сказать и о латинской речи, которая, распространившись некогда
повсюду, сохраняла свой склад и произношение (formam pronuntiatio-
nemque) в том числе и среди людей, читать не умеющих. (47) Из
свидетельства Цицерона мы знаем, что крестьяне обычно говорили:
«виноградная лоза покрывается жемчугом» [т. е. 4пускает глазки'], «стелется
пышный ковер трав», «тучные хлеба», «взбороненное семя».
(48) Одно это, возможно, не переубедит противников, если я оставлю
сказанное без обширного и разнообразного подкрепления, поскольку
убеждать следует множеством примеров. (49) Так, мы читаем, что Октавиан
31 Опыт знакомства с новогречеческим языком, таким же народным языком
(vulgare idioma), как и итальянский, но в отличие от итальянского сохраняющим
флективный строй, является для Гварино решающим аргументом в пользу того,
что и в древнем Риме народ владел латинским языком («умел склонять и
спрягать») без обучения грамматике, как владеют своим родным языком. Данная
формулировка — forma loquendi absque norma — близка по существу современному
понятию объективной нормы в противоположность аксиологической; приложи-
мая и к латинскому языку, она явилась основанием для пересмотра
традиционного взгляда на грамматику как отличительное свойство книжного языка,
противопоставленного «неграмотному» народному языку.
434
Приложения
Август в повседневном разговоре употреблял simus вместо sumus. (50) Не
пропущу и того, что можно услышать изо дня в день. Свидетельством
тому являются сохраняющиеся и по сю пору остатки языковых
особенностей римских колоний. (51) Недавно один господин, прибывший в нащу
Феррарскую гимназию из Иберии, побледнев от ярости закричал на
своего слугу: Vade in malas horas cum carnes assadas anseres et anserinos32.
Что может более приблизительно напоминать латынь, чем эта фраза.
Другой, тоже родом из Иберии, говорил так: esta civitat habe formosas
mulieres, а в единственном числе он сказал: esta e formosa mulier или еще
так: dico res honestas33. (52) Не будет конца, если начну перечислять
примеры, показывающие, что латинский язык, которым пользовались
древние и их потомки, был литературным и грамматичным языком, пока
не докатился не то что до подобной «латыни», но до полной ее порчи.
Итак, мне хочется, чтобы ты, наилучший из князей, обдумал это со
свойственной тебе серьезностью как-нибудь на досуге, когда у тебя будет
меньше государственных дел и высвободится время, чтобы перечитать все это.
(53) Наконец, приходит на ум еще один довод, надежность которого
мне представляется бесспорной. Вплоть до наших дней сохраняются
отдельные краткие записи, и пояснения к некоторым из них обнаружил
Поджо во время Собора в Констанце34, ученейший из мужей и главное —
в совершенстве говорящий на латыни. (54) Эти записки содержат
значки, используемые для сокращений, когда секретари во время речей,
произносимых ораторами перед народом или войском, записывали слова
некоторых более длинных выражений не полностью, а сокращая их до
нескольких букв: (55) spqr senatus populusque romanus — сенат и
римский народ; рс patres conscripti— отцы сенаторы; pr populus romanus —
римский народ; dms diis manibus sacrum — посвящено божественным
душам; vf vivi fecerunt — сделали живые; tfi testamento fieri iussit —
приказал включить в завещание; аас ante audita causa — до слушания
дела; bm benemerentes — благодетели; bh bonorum heres — наследник
имущества; cm causa mortis — по причине смерти; Cs Caesar — Цезарь;
Csa Caesar Augustus — Цезарь Август; (56) aed aedem dicavit — освятил
здание; dd dedicaverunt — посвятили; dgm dignus memoria — достойный
упоминания; dqs die quo supra — за день до этого; sg sacrilegium —
святотатство; epm epistulam misit — послал письмо; fdb fide bona — no
чистой совести; h heres — наследник, hh heredes — наследники; hi
32 «Поди прочь в недобрый час с жаренным мясом, гусями и гусятами».
Пример с грамматическими ошибками: предлог cum с винительным падежом вместо
аблатива и испанизм assadas.
33 «в этой стране красивые женщины»; «эта женщина — красивая»; «честно
говорю». Все эти примеры являются латинизированными испанскими фразами, а
с точки зрения латиниста Гварино, демонстрируют порчу языка, прежде всего
отпадение латинских флексий: habe(t), e(st), civitat (civitas, -atis) и т. п.
34 Собор в Констанце (1414-1418), в котором, будучи апостольским
секретарем, участвовал Поджо Браччолини, известный гуманист и страстный собиратель
латинских рукописей. Найденная им рукопись содержала список сокращении,
введенных в обиход изобретателем римской скорописи М. Туллием Тироном,
вольноотпущенником М. Туллия Цицерона.
рварино Веронезе... о различиях в латинском языке 435
hereditario iure — по праву наследования; Ы Lucii libertus—
вольноотпущенник Луция; Ып honesto loco natus — знатного происхождения; ss
satis — достаточно; (57) k carissime — любезнейший; kk carissimi—
любезнейшие; ii iuste iudicavit — вынес правильное решение; sc senatus
consultum — сенатское постановление; sd sententiam dicit — подал голос;
stp statutum tempus — определенное время; sttp statuta tempora —
определенные сроки; оо omnino — в целом; rp res publica — государство; vc
vir clarus — знаменитый муж; vg verbi gratia — например; rbg re bene
gesta — хорошо выполнив дело; Is locus sacer — священное место; Ig
legavit — оставил по завещанию; Id locus divinus — чудесное место; Idd
locus dedicatus — освященное место; qdcv qua de causa venit — зачем
пришел; // filius familias — сын под отцовской властью; pf pater familias —
отец семейства, домовладыка. (58) В тех же самых записках содержится
несметное количество и других примеров: когда я пробегаю их глазами
или мысленно, то обнаруживаю — хотя и отличные от простонародного
обихода — но одни только исконные латинские выражения, и именно на
такой латыни говорят еще и поныне образованные люди. В противном
случае никто не стал бы держать речи перед многотысячными
слушателями, если бы не было знакомым звучание, если бы сказанное не было
доступно восприятию и понятно до самых мелочей.
(59) Здравомыслящий человек может привести множество других
аргументов, доказывающих, что латинский язык был образованным
языком (lingua litteralis), не таким, как наш теперешний родной или как эта
варварская латынь. Оставив в стороне остальные соображения, я
добавлю лишь одно, которое, по моему мнению, вообще не может быть
опровергнуто. (60) С тех пор, как у нас появились писатели божественных и
человеческих дел, среди столь многочисленных книг, написанных в
первые века о медицине, гражданском праве, военном деле и военных
подвигах, о сельском хозяйстве, религии, наконец, об искусствах и науках,
можно ли найти хоть крохотную книжицу, написанную на будничном
языке поденщиков? Конечно, нет! А почему? Потому, что даже в
простых разговорах смертных не может не проступить хоть небольшой след
той настоящей словесности.
(61) Прощай, светлейший князь, и пока ты далеко, продолжай
относиться ко мне с твоей обычной любовью и помни обо мне. Еще раз будь
счастлив и здоров.
<Феррара> 5 день августовских календ 1449 г.
ITALIAN LINGUISTIC THOUGHT OF THE FOURTEENTH
TO THE SIXTEENTH CENTURIES
(FROM DANTE TO THE LATE RENAISSANCE)
SUMMARY
This book concerns the history of three centuries of linguistic
ideas in Italy and covers two epochs: the late Middle Ages and the
Renaissance, when Italy was the acknowledged intellectual leader of
Europe. It is in two parts.
Part One offers an analysis of Dante's linguistic views as set
forth in two of his treatises. Chapter 1 examines the problems raised
in the sections of the Conuiuio devoted to language, while Chapter 2
takes up De vulgari eloquentia, which is entirely concerned with issues
of language and poetics.
The last fifteen years of study of these two treatises has yielded
exceptionally valuable results that mark a new stage in our
understanding of Dante's theoretical legacy. Following the publication
of two Italian monographs (Corti 1981 and Illeana 1982) and a new
critical edition of De vulgari eloquentia, Dante's theory of language
has been the subject of a number of specialized studies by Western-
European and American scholars, although not, unfortunately, by
Russian scholars, who remain in regard to this question on the level
of knowledge achieved at the end of the last century.
Despite the enormous interest of contemporary scholarship both
in Medieval philosophies of language and in the theory and history
of literary languages, and despite the very great value of Dante's
own ideas, the most recent histories of linguistic scholarship have
largely been content to mention only his name. In polemical opposition
to many authorities (G. Vinay, for example), the author of the present
monograph views the first book of De vulgari eloquentia as a complete,
autonomous work meant to serve as a linguistic introduction to the
unfinished technical manual on Italian versification contained in (the
second book and those that where to follow. The vulgare illustre
theory is regarded, after the pioneering work of M. Corti, as a theory
of poetic language, which allows one to avoid the misconceptions
Summary
437
potential in the vague term "literary language" with its sociolinguistic
connotations imposed on a terminology derived from the Medieval
Scholastic tradition.
The author gives a great deal of attention to analysis of the
descriptive language worked out by Dante (his terms, metaphors,
similes, intertextual linkages, and so on). Chapter 3, "On Dante's
Linguistic Terminology", is devoted to the analysis of four key terms—
the attributes of the word uulgare (vernacular), illustre, cardinale,
aulicum, and curlale—which have usually been regarded as an
arbitrary series of optional evaluative epithets, but not, in any case,
as a substantive scholarly terminology. Nonetheless, Dante's treatise
lies at the juncture of scholarship (for its time highly professional
and rigorous scholarship) and poetry (in which regard it is beyond
praise). Each term and its definition is implicated in a complex
intertextual network that clarifies the philosophical and linguistic
meaning of epithets that, in view of their poetic character, had always
seemed ornamental to investigators. The allusions to the Bible thus
reveal fresh nuances for the terms under consideration, thereby
affording a better understanding of the meaning and significance of
Dante's theory as a whole. For example, his definition of the word
cardinale, "sicut totum hostium cardinem sequitur ut, quo cardo
vertitur, versetur et ipsum..." (XVIII.1), contains an allusion to
Proverbs 26:14 ("sicut cardine vertitur in cardine suo ita piger in
lectulo suo": "as a door turns on its hinges, so does a sluggard on his
bed") that makes plain the definition's principal feature, the retention
of stability despite constant movement. Further on is an allusion to
the parable of the good shepherd (John 10: 1-9), where the words
"ego sum ostium ovium" ("I am as a gate to my sheep" ) indicate
suspension of the opposition between the "one who leads" and the
"one who is led" and acquire linguistic meaning in Dante in regard
to dialects and the vulgare illustre. This approach is further justified
by the distinctive polysemy of the Dantean word, a polysemy in which
the word does not merely have other meanings (as in paradigmatics)
but different meanings that are present in a single use of the word
(G. Contini). Dante's polysemy unfolds, however, not only within
the word as a fact of language but also as a fact of text, and it is
realized through a multiplicity of internal references and allusions.
A careful analysis of Dante's definitions and of the semantic structure
of the words in question leads to the conclusion that in their entirety
they form a tetrad based on the model of the four cardinal virtues.
As is shown in the book, each term thus mediates one of the oppositions
contained in language, or, as Dante's direct source Aristotle might
have put, it finds a mean between two extremes.
438
L. G Stepanova. Italian Linguistic Thought..,
Of the four definitions of vulgare, illustre mediates the opposition
between subject and object, between agens and patiens. The language
is directed toward itself, something that is, to be sure, especially
characteristic of poetic language, as Mandelstam would grasp some
six hundred years later in calling the Commedia "a monument of
granite erected in honor of granite" ("A Conversation about Dante").
Cardinale mediates the opposition between movement and stasis, and
therefore between evolution and stability (a theme fundamental to
the relation between Latin and the living languages). Aulicum brings
into play and mediates the opposition between the universal or
collective and the singular or personal as they are manifest in the
common (noun) and the individual (creative work). Curiale, the last
of Dante's definitions of the fundamental qualities of language, has,
by analogy with justice, the last term in the set of cardinal virtues,
a summarizing or generalizing significance and indicates the chief
function of the postulated language — "to serve as a measure or
standard." Delineated in this way is a profound and elegantly
proportioned conception of the creation of a new language as a poetic
language, a conception that, pace the views of skeptics, is essentially
justified by the history of the growth of the Italian literary language.
The book's appendix contains a brief survey of the manuscript
tradition of both treatises and offers a bibliography of the principal
published editions, including reviews of the critical editions.
Part Two of the book, "Linguistic Studies in Italy during the
Renaissance," consists of two sections: 2.1 "The Quattrocento: Latin
Philology and Linguistics," and 2.2 "The Cinquecento and the Origins
of Italian Philology." These sections follow a brief Introduction in
which the contradictory nature of the historiographical term
"Renaissance" is noted and the terminological significance of the
word "Humanist" is examined. The latter word originally had no
ideological connotations at all but merely denoted a profession, first
an expert in language and literature, especially Latin and Greek, and
then, later on, in Italian. The Introduction also addresses the
discrepancy between the immense significance accorded the
Renaissance in the history of European culture and the small place
traditionally assigned to it in the history of linguistics.
Section 2.1 comprises four chapters. The first, "The Philological
Culture of the Quattrocento," sketches the diverse and truly colossal
work done by the Italian Humanists in creating a new (in relation to
the Christian Middle Ages) secular culture: the collection and
correction of the Latin codices (both Roman literary monuments and
the corpus of the writings of the Roman grammarians), the translation
of the Greek philosophical legacy into Latin, and so on. Most of the
Summary
439
source text of the principal philosophical schools (the Platonists, the
Stoics, the Epicureans, the Skeptics) were being translated from Greek
for the first time. And thanks to their translation into Latin during
the Renaissance, Greek poetry, oratorical prose, historiography, works
in mathematics, geography, medicine, and botany, and the writings
of the fathers of the Eastern Orthodox Church were made available
to educated Europeans for the first time, as well. This work helped
to lay the foundations of the contemporary theory of translation. In
characterizing this period, the author has found it necessary to draw
a clear distinction between: attitudes toward Latin and conceptions
of the Latin language. As regards the former, fifteenth-century
Italy differed from all the other countries where Latin was still used
as the international cultural medium. The Italians viewed Latin as
their own language, although not as a mother tongue (cf. paternal
versus maternal languages). What many contemporary historians
have perceived as an Italian Humanist effort to impose the Ciceronian
style on the entire Western-European world — as sheer aestheticism,
in other words — the present work regards as a first, unprecedented
attempt to restore a dead language, to revive Latin as a living national
language. Unlike the study of Greek, which was never meant to
realize any linguistic program, that of Latin had as its main purpose
the institution of language reform in accordance with the linguistic
standards of a definite historical period — the Ciceronian age (of
classical Latin), understood as more than merely the style of a single
author. As concerns Renaissance linguistic thought, it was influenced
in particular by such newly "discovered" monuments as Plato's
Cratylus, Quintilian's Institutio oratoria, and Varro's De lingua Latina
on wich Pomponius Letus gave public lectures in Rome. In regard to
Cicero's De oratore it was not questions of oratorical art that chiefly
interested the Humanist philologists, but information about the
linguistic situation in ancient Rome and the social differentiation of
everyday Latin speech (see Appendix 2). As for the fifteenth-century
Italian conception of Latin, the main contribution of the Humanists,
and a contribution whose significance for the subsequent development
of linguistics it would be difficult to overestimate, was the discovery
of language as a historical category.
The next three chapters in this section of the book are basically
concerned with issues of grammar. Chapter 2, "Latin Grammar in
Italy," gives a brief survey of the medieval grammatical tradition
and enumerates the main school textbooks and medieval innovations
(terminological for the most part). Chapter 3, "Guarino Veronese
and the New Latin Grammars," deals with the reform of the
educational system (on the model of antiquity), as exemplified by
Guarino's school in Ferrara. Without an understanding of the
440
L. G Stepanova. Italian Linguistic Thought...
historical context of the school reforms carried out by the Italian
Humanists (reforms that became the basis of a new educational system
in Europe that would remain virtually unchanged until the nineteenth
century), it is impossible to grasp the significance of the new Latin
textbooks compiled during this period by practicing teacher-
Humanists. Among those textbooks, the Regulae grammaticales (ca.
1418) by Guarino himself (it was to all appearances the first
Renaissance Latin grammar) is described in the greatest detail,
especially in regard to its structure and sources and its interpretation
of the verb. The description is based on the manuscript fragments in
the Bodleian Library, on the edition of the book in the collection of
the Academy of Sciences Library in St. Petersburg (Ferrara, 1591),
and on the vrorks of R. Sabbadini and K. Percival. Besides the Regulae
grammaticales, the monograph also looks at treatises on orthography
by Gasparino Barzizza, Cristoforo Scarpa, and Giovanni Tortelli, and
at the Rudlmenta grammaticales of Niccolo Perotti, a school textbook
popular not only in Italy but outside the country as well (the
incunabulum in the St. Petersburg collection — Venezia: Jacobis
Brittanicus, 1474 — is evidently a rarity; we have not, in any event,
found a single reference to the edition in contemporary scholarly
literature, and it would be interesting to clarify its relation to the
edltlo prlnceps of 1473). Relying as they did on the traditions of
antiquity and the medieval period, the authors of the new grammars
did not, as the analysis shows, raise any questions of a theoretical
nature, but, in contrast to the textbooks of the fourteenth century
influenced by the speculative theories of the late Middle Ages, their
originality lay in the utter simplicity of their grammatical
descriptions. There is no theory in them, no philosophy, no discussion
of the issues of language reform, nor do they touch upon the matter
of grammatical and stylistic correctness (which does not mean, of
course, that the philologists of the Renaissance were uninterested in
it). The simple, unpretentious textbooks written for the new Humanist
schools retained from the old Latin grammars only the barest of
schemes: elementary morphology, a single syntactic model (SVO),
and a minimal grammatical vocabulary. Nevertheless, despite its
indifference to theory (characteristic of Renaissance scholarship in
general), the period constitutes an important link in the history of
linguistics — the period of the systematization of the elements of
Latin grammar.
Chapter 4, devoted to Lorenzo Valla, examines his principal work
on Latin grammar, the Elegantlae linguae Latinae, along with his
logico-philosophical treatise Repastinatio dlalecticae. The subject of
inquiry in both texts is the Latin language, and both employ a
historico-philosophical method and contain critiques of the preceding
Summary
441
tradition (both philosophical and grammatical). Astonishingly,
historians continue to reproach Valla for confusing the questions of
grammar and literary language (see, for example, Sylvain Auroux et
al., Histoire des idees linguistiques, vol. 2, Le deueloppement de la
grammaire occidentale [Liege, 1992]), when it was in fact Valla who
introduced into scholarly usage Quintilian's distinction between
merely grammatical and authentic Latin speech (a distinction that
would be added to the arsenal of French grammarians only in the
seventeenth century). For all the difficulty of the generic
classification of the Elegantiae, the vast work on the "re-excavation"
(repastinatio) of Latin grammar and lexis undertaken by Valla marks
a break with medieval notions of Latin as an unchanging (extra-
historical) language, and the discovery of a scholarly method based
on the study of linguistic monuments and the establishment of actual
linguistic usage (usage reel, [Chomorat 1982, p. 21]). Valla's approach
to the study of Latin as an ordinary natural language, and his analysis
of the meaning of terms in logic and philosophy from that vantage
point, have led some contemporary scholars to see him as a precursor
of ordinary-language philosophy. In the history of the Latin language,
Valla's grammar is a unique work without analogue in either the
preceding or subsequent traditions.
Section 2.2, devoted to sixteenth-century linguistics, comprises
nine chapters. Set forth in the first two is the essence of the
phenomenon known as "the question of language" (questione della
lingua). The chapter entitled "Latinists versus Italianists" examines
the different issues entailed in comparing the two competing languages
and tries, wherever possible, to place those issues in a broader
historical perspective by referring such qualitative features of
language as "dignity," "richness," and "purity" to the tradition
antiquity. Developed in somewhat greater detail in this connection
are the views of Francesco Florido, who may be considered the first
historiographer of Humanism. Chapter 2, "The Questione della lingua
in the History of Italian and the Historiography of Linguistics"
addresses a few problems of a methodological character. Thus, the
question of what constitutes a linguistic standard (and the debates
surrounding that question) that has acquired paramount significance
in the history of the formation of the Italian literary language has,
in the autor's opinion, been wrongly regarded in the historiography
of linguistics as the principal, indeed, as virtually the only topic
that engaged Italian linguistic thought in the sixteenth century.
This circumstance motivates the composition of the subsequent
chapters of Part II. The exposition of the polemic contained there
also serves as an outline of the cultural-historical situation of the
cinquecento — a characterization of the linguistic literature, its
16 Зак. 3101
442
L. G Stepanova. Italian Linguistic Thought...
generic originality, and its principal names. On the whole, however,
the composition of the final section is oriented not toward an
exposition "in terms of authors" or individual works, as several of
the chapter titles might lead one to assume, but "in terms of issues,"
although exemplified by concrete authors and their source works,
the majority of them quite unfamiliar to the Russian reader. Part
Two proceeds with a description of the diversity of languages and
an attempt to systematize the information about those languages on
the model of the classification of Benedetto Varchi (Chapter 3).
Analysis of his classification provides a clear understanding of the
fundamental difference between Renaissance and Medieval
scholarship: the transition from the classification of sign systems to
systematization of the information about concrete languages. In the
chapter subtitled "The Terminological Controversy in Claudio
Tolomei's Treatise Cesano," the issue concerns different approaches
to the interpretation of one and the same object (the Italian language).
The views on language of Pietro Bembo, Giangiorgio Trissino,
Baldassaro Castiglione, and Alessandro de' Pazzi acquire in Tolomei's
exposition the significance of first attempts at scholarly illumination
of the history of the questione della lingua. Tolomei's Cesano is
interesting, too, as evidence of the reception of Dante's De vulgari
eloquentia, allusions to which pervade the speech of its characters —
that is, the participants in the dialogue.
Following the discussion of this material, which illustrates the
highly complicated perspective of connections and relations (horizontal
and vertical, synchronic and diachronic) in which sixteenth-century
scholars viewed the object of linguistic thought, the author goes on
(in Chapter 5) to an analysis of the general theoretical ideas about
language of the Italian Humanists. It is characteristic of sixteenth-
century linguistics that language is examined independently of its
relation to thought, and that scholars evince no interest at all in the
problem of naming (that is, in the relation between word and thing).
Rather, their attention is concentrated on language as such and on
its relation to human society. The principal achievement of
Renaissance scholarship in this regard is the contrasting of "structure"
and "function." Clearly delineated in sixteenth-century discussions
are two conceptions of language: it is a stable structure, an idea
formulated in the Tuscan philological milieu (Machiavelli, Tolomei),
and it is a corpus of words (Trissino, Equicola). Phonetics and
morphology, which define the uniqueness of each language — its
particular nature, possess the features of structural organization.
Given the absence in sixteenth-century Italian of shared terminologies
(of words like "phonetics," "morphology," "syntax," "lexis," and so
on), the ideas of structural unity and systematic organization were
Summary
443
conveyed by means of extended similes (language is like a building,
a ship, a military formation, and so forth), by metaphors, and by the
use of special technical terms that in preceding traditions (among
students of Provencal, for example) had been used only in relation to
particular languages. Structural unity is regarded in these
elaborations as a fundamental characteristic of language and as
independent of the level of development or degree of regulation within
a given concrete language. It is a necessary condition for the
functioning of language in society, the condition by which a language
remains equivalent to itself in all its manifestations. Analyzed in
relation to the idea of "function" are the semantic range of the word
"usage" (uso scritto/parlato, universale/particolare, uso publico,
toscano, fiorentino, etc.); the notion of "individuality" as a new
category of linguistic analysis (Trissino, Varchi, Lenzoni); the
problems of social stratification and territorial variation in language
("dialect" both as a concept and a term); and language and the category
of time (the reasons for and the nature of linguistic variation, the
terms variare, alterare/mutare, transformare).
Chapter 6 looks at theories of the origin of the Italian language.
Elocidated here are such matters as the reason for the decline of
Latin and the formation of a new language on Italian territory (the
idea expressed as early as the fifteenth century by Flavio Biondo
about the mixing of Latin with the barbarian languages of the
Germanic conquerors, an idea shared by almost all sixteenth-century
Humanists); Lodovico Castelvetro's conception of vulgar Latin; the
Etruscan-substratum hypothesis (Tolomei); the role of Tuscany as a
center where two opposed tendencies came together, an innovative
one from Lombardy, and a conservative one from Rome (the theory
of Girolamo Muzio). Along with these scholarly hypotheses about
the origin of the Italian language, which provide ample basis for
speaking of the emergence of Romance philology in Italy, the quasi-
scientific theory of the derivation of the Tuscan language from
Etruscan (Gelli, Giambullari) is also looked at. Chapter 7, "Issues of
Italian Philology in the Works of Vincenzio Borghini," examines the
broad program for studying the history of the Italian language
developed by Borghini and the first (unsuccessful) attempt to
introduce the Italian language into a program of school instruction
in Tuscany. Borghini did not write treatises on language, nor were
his philological notes published during his lifetime. It is in fact only
quite recently that his linguistic legacy has become available to
investigators, and this circumstance partly explains why we have
decided to devote an entire chapter to him. Of particular interest as
an example of his historical approach to the analysis of linguistic
444
L. G Stepanova. Italian Linguistic Thought...
facts is Borghini's essay, "On Peasant Language" (Delia lingua con-
tadinesca).
Chapter 8, The "Sound Structure of Language," contains an
examination of the phonetic treatises of Tolomei and of Giorgio
Bartoli's "On the Elements of Tuscan Speech" (Degli elementi del
parlar toscano). The contributions of Italian scholars to theoretical
phonetics (and phonology) are summarized in the chapter's conclusion,
viz., the elaboration of the idea of the "phoneme" (suono/elemento)
and of differentiating features, the recognition of binary oppositions
(A versus non-A) and of minimal pairs, the idea of the regularity of
sound shifts and of the non-arbitrariness of exceptions, and realization
of the importance of diachrony in the synchronic description of a
language. Chapter 9, "The First Grammars of Italian", describes the
works of Leon Battista Alberti (the first to be written), Francesco
Fortunio (the first to be printed), and Pierfrancesco Giambullari (the
first systematic grammar by a Tuscan author).
(Translated by Judson Rosengrant)
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
вя
жмнп
AGI
AR
ASNP
CPhDMA
DBI
DELI
DL
ED
GSLI
HL
LN
RLI
RPh
SL
TLL
ZRPh
— Вопросы языкознания.
— Журнал Министерства Народного Просвещения.
— Archivio Glottologico Italiano.
— Archivum Romanicum.
— Atti della Scuola Superiore Normale di Pisa. Classe
di Lettere.
— Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi.
— Dizionario biografico degli Italiani. Roma, 1961-.
— Cortelazzo M., Zolli P. Dizionario etimologico della
lingua italiana. 5 voll. Bologna, 1978-1988.
— см. Discussioni linguistiche.
— Enciclopedia dantesca. 5 voll. Roma, 1970-1976.
— Giornale storico della letteratura italiana.
— Historiographia Linguistica. International Journal for
the History of Linguistics.
— Lingua nostra.
— Rivista di letteratura italiana.
— Romance Philology.
— см. Storia della linguistica.
— Thesaurus linguae Latinae. Editus auctoritate et
consilio academiarum quinque germanicarum Beroli-
nensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindo-
bonensis. Lipsiae, 1900-.
— Zeitschrift fur Romanische Philologie.
БИБЛИОГРАФИЯ
Часть I
Аидрушко В. А.
1989 Феноменология зрения и света в поэзии Данте // Дантовские чтения 1987.
М. С. 91-118.
Алисова Т. Б.
1985 Средневековая логика и современная лингвистика // Западноевропейская
средневековая словесность. М.: Изд-во МГУ. С. 31-34.
Аристотель
1983 Сочинения: В 4 т. М.
Арутюнова Н. Д.
1988 Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. М.
Бицилли П. М.
1916 Салимбене: Очерки итальянской жизни XIII века. Одесса.
1919 Элементы средневековой культуры. Одесса.
1925 Очерки теории исторической науки. Прага.
Боккаччо Дж.
1975 Малые произведения. Пер. с ит. Предисловие, сост. и общая ред. Н. Тома-
шевского. Л.
БОНАВЕНТУРА
1993 Путеводитель души к Богу. Sancti Bonaventurae Itinerarium mentis in Deum.
Пер. с лат. Вступ. ст. и комментарий В. Л. Задворного. М.:
Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина.
Бонецкая Н. С.
1986 «Антиномия языка» П. А. Флоренского // Studia Slavica. Acad. Scientiarum
Hungaricae, 32 (1-4). С. 117-164.
Бонфанте Дж.
1957 Заметки о родстве европейских языков (К истории постановки вопроса в
период с 1200 по 1800 г.). Пер. с фр.//Вестник истории мировой культуры,
4. С. 102-109.
Бродский И. А.
1987 Нобелевская лекция 1987 // Русская мысль, 11 дек. С. 10-11.
1995 В окрестностях Атлантиды. Новые стихотворения. СПб.
Будагов Р. А.
1960 Трактат Данте *0 народном языке» и его значение для современности //
Научн. докл. высш. школы. Филол. науки, 2. С. 5-16.
1967 Трактат Данте *0 народном языке» и его значение для современности //
Будагов Р. А. Литературные языки и стили. М. С. 332-350.
1984 Писатели о языке и язык писателей. М.
Булгаков С.
1953 Философия имени. Париж.
Библиография
447
Бычков В. В.
1984 Эстетика Аврелия Августина. М.
Вергилий
1979 Буколики. Георгики. Энеида. Пер. с лат. Вступительная ст. М. Л. Гаспаро-
ва. М. (Библиотека античной литературы).
Вышеславцев Б. П.
1929 Сердце в христианской и индийской мистике. Paris.
Гайденко П. П.
1990 Социология Макса Вебера // М. Вебер. Избранные произведения. Пер. с
нем. М. С. 5-43.
Гайденко П. П., Смирнов Г. А.
1989 Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и учение о
движении. М. (Библиотека Всемирной истории естествознания).
Гаспаров М. Л.
1986 Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и
риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском
средневековье. М. С. 91-169.
1989 Очерк истории европейского стиха. М.
Гете И. В.
1964 Избранные философские произведения. М.
Голенищев-Кутузов И. Н.
1967 Данте и Предвозрождение // Литература эпохи Возрождения. М. С. 46-85.
1968 Данте Алигьери. Малые произведения. Изд. подготовил И. Н. Голенищев-
Кутузов. М. (Литературные памятники).
1971 Творчество Данте и мировая культура. М.
Гранде Б. М.
1972 Введение в сравнительное изучение семитских языков. М.
Гринина Б. А.
1986 Грамматические и риторические понятия в средневековых трактатах
Прованса и Каталонии. Автореф. канд. дисс. М.
1993 Жофре де Фуша — один из первых каталанских филологов // Каталанская
культура: История и современность. М. С. 11-30.
Трошева А. В.
1985 Грамматические учения западноевропейского средневековья // История
лингвистических учений: Средневековая Европа. Л. С. 208-242.
Гуковская 3. В.
1940 Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения. Л.
Гуревич А. Я.
1981 Проблемы средневековой народной культуры. М.
Данте Алигьери
1922 De vulgari eloquio (О народной речи). Перевел Владимир Б. Шкловский. Пг.
Данченко В. Т.
1973 Данте Алигьери. Библиографический указатель русских переводов и
критической литературы на русском языке 1762-1972. М.
Донских О. А.
1984 Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск.
Бвлахов А.
1910 Трактат Данте *De vulgari eloquio» (Очерк из истории романской
филологии) // Варшавские унив. изв., 3. С. 1-15 (отд. оттиск).
Блина Н. Г.
1988 Проза «Пира» Данте. К вопросу о жанре и структуре // Средние века. Вып.
51. М.
Зубов В. П.
1960 Пространство и время у парижских номиналистов XIV в. (К истории понятия
относительного движения) // Из истории французской науки. М. С. 3-53.
448
Библиография
Иванов Вяч. Вс, Топоров В. Н.
1965 Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний
период). М.
1974 Исследования в области славянских древностей: Лексические и
фразеологические вопросы реконструкции текстов. М.
Карсавин Л. П.
1915 Очерки средневековой религиозности в XII—XIII веках, преимущественно в
Италии. Пг.
Кудрявцева Т. С.
1988 Текст как единица обучения // Текст в речевой деятельности: Перевод и
лингвистический анализ. М. С. 62-71.
Ле Гофф Ж.
1992 Цивилизация средневекового Запада. Пер. с фр. М.
Левинтои Г. А.
1977 «На каменных отрогах Пиэрии» Мандельштама: Материалы к анализу //
Russian Literature, 5 (2-3). P. 123-170, 201-237.
Ливии
1989 История Рима от основания города. Пер. с лат. под ред. М. Л. Гаспарова и
Г. С. Кнабе. Т. 1. М. (Памятники исторической мысли).
Литературные манифесты
1980 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Собрание
текстов, вступ. ст. и общ. ред. Н. П. Козловой. М.: Изд-во МГУ.
Мажуга В. И.
1986 Культурные идеалы античности в средневековой Европе. Город как их символ
// Городская культура: Средневековье и начало Нового времени. Л. С. 236-
277
Мандельштам О.
1967 Разговор о Данте. М.
1987 Слово и культура. М.
Мейлах М. Б.
1970 Язык трубадуров. Автореф. канд. дисс. Л.
1973 Entrebescar los motz // Лингвистические исследования, ч. II. М. С. 347-
356.
1975 Язык трубадуров. М.
Мифы
1982 Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М.
Монтале Э.
1979 Избранное. Пер. с ит. М.
Ольшки Л.
1933-1934 История научной литературы на новых языках. Пер. с нем. Т. 1.:
Литература техники и прикладных наук от средних веков до эпохи
Возрождения М.; Л., 1933; Т. 2: Образование и наука в эпоху Ренессанса в
Италии. М.; Л., 1934; Т. 3: Галилей и его время М.; Л., 1933.
Панов М. В.
1966 Русский язык // Языки народов СССР, I: Индоевропейские языки. М. С. 55-
122.
Пизани В.
1973 Итальянские диалекты в историческом аспекте. Пер. с ит. // ВЯ, 6. С. 3-8.
Проперцип
1963 Валерий Катулл, Альбий Тибулл, Секст Проперций. Пер. с лат. М.
Рабинович Е. Г.
1972 «Пир» Платона и «Пир во время чумы» Пушкина // Античность и
современность. К 80-летию Федора Александровича Петровского. М. С. 457-
470.
1976 «Золотая середина»: К генезису одного из понятий античной культуры //
Вестник Древней истории, 3. С. 92-107.
Библиография
449
Радлов Э. Л.
1908 Очерки истории греческой этики до Аристотеля // Этика Аристотеля. Пер.
с греч. СПб. С. V-LXIV.
Райт Дж.
1988 Географические представления в эпоху крестовых походов. Пер. с англ. М.
СКАРТАЦЦИНИ И.
1905 Данте. Пер. О. А. Введенской. Под ред. и со вступит, статьей Д. К. Петрова.
СПб.
Степанов Ю. С.
1972 От имени лица к имени вещи — стержневая линия романской лексики //
Общее и романское языкознание. Сб. ст. в честь 60-летия чл.-корр. АН
СССР Р. А. Будагова. М.: Изд-во МГУ. С. 107-118.
1985 В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики,
философии, искусства. М.
Степанова Л. Г.
1990 К семантике термина illustre у Данте // Новая и древняя Романия. Вып. 4.
Романские языки: Семантика, прагматика, социолингвистика. Л. С. 110—
118.
1990а Об особенностях металингвистического текста: Теория и поэзия в трактате
Данте *0 народном красноречии» // Семантические и коммуникативные
категории текста (типология и функционирование). Тезисы докладов
Всесоюзной научной конференции (Ереван, 19-21 ноября 1990). Ереван.
С.118-119.
1991 О лингвистической терминологии Данте: Cardinale // Романское
языкознание: Семантика и перевод. М. С. 97-103.
1991а Значение термина curiale у Данте // Современные проблемы романистики:
Семантика, прагматика, синтаксис. Тезисы докладов 6-ой Всесоюзной
конференци по романскому языкознанию. В 2 т. Москва; Воронеж. Т. 2.
С. 64-65.
1998 О Владимире Борисовиче Шкловском // Ленинградский Мартиролог 1937-
1938. Т. 3: Ноябрь 1937 года. СПб. С. 547-549.
Сыркин А. Я., Топоров В. Н.
1968 О триаде и тетраде // III Летняя школа по вторичным моделирующим
системам. Тезисы. Тарту. С. 109-119.
Тодоров Ц.
1978 Грамматика повествовательного текста. Пер. с фр. // Новое в зарубежной
лингвистике. Вып. 8. М. С. 450-463.
Толстой Н. И.
1988 История и структура славянских литературных языков. М.
Топоров В. Н.
1975 К объяснению некоторых славянских слов мифологического характера в
связи с возможными древними ближневосточными параллелями //
Славянское и балканское языкознание: Проблемы интерференции и
языковых контактов. М. С. 3-49.
1980 О числовых моделях в архаичных текстах // Структура текста. М. С. 3-58.
1992 Об этой книге. Вместо предисловия // Айрапетян В. Герменевтические
подступы к русскому слову. М. С. 4-27.
Тронский И. М.
1953 Очерки из истории латинского языка. М.; Л.
Трубецкой Н. С.
1923 Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник, 3.
Берлин. С. 107-124.
Тынянов Ю. Н.
1977 Поэтика. История литературы. Кино. М.
450
Библиография
Успенский Б. А.
1982 Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты
язычества в восточнославянском культе Николая Марлинского). М.
1985 Из истории русского литературного языка XVIII-начала XIX века. М.
1994 Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX вв.). М.:
Гнозис.
Флоренский П. А.
1990 У водоразделов мысли, II. М. (Приложение к журналу «Вопросы
философии»).
Фуко М.
1977 Слова и вещи. Археология гуманитарных знаний. Пер. с фр. М.
Харитонович Д. Э.
1982 Средневековый мастер и его представление о вещи // Художественный язык
средневековья. М. С. 24-39.
Ходасевич В.
1983 Собр. соч. Анн Арбор: Ардис.
Чекин Л. С.
1985 Западноевропейская энциклопедия XII—XIII вв. как предмет литературного
исследования // Западноевропейская средневековая словесность. М.: Изд-
во МГУ. С. 84-86.
Челышева И. И.
1990 Формирование романских литературных языков: Итальянский язык. М.
1994 Роль иноязычной культурной традиции на раннем этапе формирования
литературного языка (на материале литературного языка Италии XIII века)
// Литературный язык и культурная традиция / Российская Академия наук:
Институт языкознания. М.: Стелла. С. 142-168.
Черняк А. Б.
1991 Первые окситанские грамматики // История лингвистических учений:
Позднее средневековье. СПб. С. 80-102.
1991а Первые французские грамматики // История лингвистических учений:
Позднее средневековье. СПб. С. 103-114.
Шишмарев В. Ф.
1972 Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского
языка. Л.
Щеглов Ю. К.
1962 Некоторые черты структуры ♦Метаморфоз» Овидия //
Структурно-типологические исследования. М. С. 155-166.
Эдельштейн Ю. М.
1985 Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических
учений: Средневековая Европа. Л. С. 157-207.
Элиот Т. С.
1981 Данте // Писатели Англии о литературе. Пер. с англ. М. С. 295-304.
Эстулина С. Б.
1967 Данте и проблема защиты volgare в Италии XIV века // Вестник ЛГУ.
История, язык, литература. Вып. 2. С. 124-131.
1967а «Спор о языке» в Италии XIV века и Дантова концепция языка и стиля /
/ Вопросы романо-германского языкознания. Материалы Межвузовской
конференции (Челябинск, 13-16 апр. 1965). Челябинск. С. 169-174.
Яковсон Р.
1983 В поисках сущности языка. Пер. с англ. // Семиотика. Сост., вступит.
статья и общая ред. Ю. С. Степанова. М. С. 102-117.
1985 Избранные работы. Пер. с англ., нем., фр. М.
Библиография
451
Alessio G. С.
1984 La grammatica speculative e Dante / Letture claesenei, 13. P. 69-88.
Andriani G.
1923 La carta dialettologica d'ltalia secondo Dante // Atti dell'VIII Congreeso
Geografico Italiano, II. Firenze.
Apel K. 0.
1975 L'idea di lingua nella tradizione deirumaneeimo da Dante a Vico. Bologna
(пер. с нем.: Die Idee der Sprache in der Tradition dee Humanismus von Dante
bis Vico. Bonn, 1963).
Arens H.
1955 Sprachwissenschaft der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegen-
wart. Munchen.
Ascoli G. I.
1882-1985 L'ltalia dialettale // AGI, 8. P. 98-128.
Baldelli I.
1965 Sulla teoria linguietica di Dante // Cultura e scuola, 6 (№. 13-14, gennaio-
giugno). P. 705-713.
BaRBERI SQUAROTTI G.
1959 Le poetiche del Trecento in Italia // Momenti e problemi di storia delPestetica,
I. Milano. P. 255-291.
BaRBERI SQUAROTTI G., JACOMUZZI A.
1971 Critica dantesca: Antologia di studi e letture di Novecento. A cura di G. Barberi
Squarotti e A. Jacomuzzi. Torino.
Barbi M.
1890 Delia fortune di Dante nel secolo XVI. Firenze.
1980 Dante nel Cinquecento. Pisa.
Battaglia S.
1971 Amore e nobilta nella prospettiva del ♦Convivio» // [Barberi Squarotti,
Jacomuzzi 1971, p. 36-39].
Bertalot L.
1985 Initia humanistica Latina: Initienverz. lat. Prosa und Poesie aus der zeit dee
14. bis 16. Jh. Tubingen.
BlLLANOVICH G.
1947 Nella tradizione del ♦De vulgari eloquentia»// Prime ricerche dantesche. Roma.
Borst A.
1957-63 Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen uber Ursprung und
Vielfalt der Sprachen und Vdlker. 4 voll., 6 tomi. Stuttgart.
Bosco U.
1965 Dante nella critica d'oggi. A cura di U. Bocso. Firenze.
1966 Dante vicino. Caltanisetta; Roma.
BOURKE V. J.
1975 Augustine and the Roots of moral Values // Auguetinian Studies, 6. P. 65-
74.
Brodsky J.
1987 In the Shadow of Dante // Brodsky J. Less than one. Selected Essays. New
York. P. 95-113.
Brambilla Ageno F.
1966 II quarantaquattresimo codice del ♦Convivio» // Studi danteschi, 43. P. 263-
264.
1967 Riflessioni sul testo del ♦Convivio» // Studi danteschi, 44. P. 85-114.
1967a Osservazione sugli errori significativi // Lettere Italiane, 19. P. 457-459.
1971 Nuove proposte per il ♦Convivio» // Studi danteschi, 48. P. 121-136.
1979 Per Pedizione critica del ♦Convivio» // Atti del Convegno internazionale
di studi danteschi (Ravenna, 10-12 settembre 1971) a cura di Comune di Ravenna
e della Societa Dantesca Italiana. Ravenna. P. 43-78.
452
Библиография
Brunetto Latini
1968 La Rettorica / Testo critico di Francesco Maggini. Firenze.
Busnelli G.
1934-1937 Opere di Dante. II Convivio, ridotto a miglior lezione e commentato da
G. Busnelli e G. Vandelli, con Introduzione di M. Barbi. Firenze, 2 voll.
Camilli A.
1944 La canzone marchigiana del «De vulgari eloquentia» // Studi di filologia italiana,
7. P. 81-96.
Caso A.
1982 Dante in the Twentieth Century. Ed. by Adolph Caso. Boston.
Cavallari E.
1921 La fortune di Dante nel Trecento. Firenze.
Ciiiavacci Leonakdi A. M.
1991 Introduzione // Dante Alighieri. Commedia. Vol. 1: Inferno con il commento
di A. M. Chiavacci Leonardi. Milano. P. XIII-LIX.
1997 Dante Alighieri. Commedia. Vol. 3: Paradiso con il commento di A. M. Chiavacci
Leonardi. Milano.
Ciiydenius J.
1958 The Typological Problem in Dante // Commentationes humanarum litterarum
Soc. Scientiarum Fennicae, 25 (1). Helsingfors.
Colocci 1972
Atti del Convegno di Studi su Angelo Colocci (Jesi, 13-14 settembre 1969). Jesi:
Amminitraszione Comunale, 1972.
Colombo M.
1984 Note sul linguaggio amoroso dei mistici medievali e Dante // Letture classen-
si, 13. P. 89-109.
Contini G.
1979 Poeti del Duecento: Poesia didattica dell'Italia Centrale. A cura di Gianfranco
Contini. Torino (Classici Ricciardi, 88).
1979a Filologia ed esegesi dantesca // Contini G. Varianti e altra linguistica. Una
raccolta di saggi (1938-1968). Torino. P. 407-432.
Coppini D.
1987 II cielo della luna: Alcune considerazioni su grammatica e latino in eta mediev-
ale e umanistica // Rinascimento. Ser. 2, 27. P. 179-214.
Corbinelli J.
1577 De vulgari elonquentia libri duo. Nunc primum ad vetusti, & unici scripti
Codicis exemplar editi. Ex libris Corbinelli: Eiusdemque Adnotationibus illus-
trati. Ad Henricum, Franciae, Poloniaeque regem christianiss. Parisiis. Apud.
Io. Corbon.
Corti M.
1959 Le fonti del «Fiore di virtu» e la teoria della nobilta nel Duecento // GSLI,
136, fasc. 413. P. 1-82.
1973 II genere «disputatio» e la trascodificazione indolore di Bonvesin da la Riva /
/ Strumenti critici, 21-22. P. 157-185.
1978 Dante e la torre di Babele: una nuova «allegoria in factis» // M. Corti. II
viaggio testuale: Le ideologie e le strutture semiotiche. Torino. P. 243-256.
1981 La teoria del segno nei logici modisti e in Dante // Per una storia della semiotica:
Teoria e metodi. Ed. Lendinara P., Ruta M. С Palermo (Quaderni del Circolo
semiologico Siciliano, 15-16). P. 69-86.
1981a Les notions de * langue universelle» et de «langue poetique» chez Dante
Alighieri // Logos semanticos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu (1921
— 1981), I: Theorie des Sprachwandels und der Sprachlichen Variation.
Berlin; New York; Madrid. P. 31-39.
Библиография
453
1982 Dante a un nuovo crocevia. Firenze.
1983 La felicita mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante. Torino.
1984 Postille a una recensione // Studi medievali, 25. P. 839-845.
1993 Percorsi deH'invenzione: II linguaggio poetico di Dante. Torino (Einaudi Pa-
perbacs: Letteratura, 237).
Cosmo U.
1946 Con Dante attraverso il Seicento. Bari (Biblioteca di culture moderna, 412).
Cremona J.
1965 Dante's Views on Language // The Mind of Dante. Ed. by U. Lamentani.
Cambridge. P. 138-162.
Crescini V.
1898 Le razos provenzali e le prose della «Vita nuova» // GSLI, 32. P. 463-464.
Dante Alighieri
1529 De la volgare eloquenzia. Vicenza. Tip. Ianiculo.
Dante e la Bibbia
Dante e la Bibbia. Atti del Convegno Internazionale promosso da «Biblia».
(Firenze, 26-27-28 settembre 1986). A cura di G. Barblan. Firenze, 1988.
Dante e Bologna
Dante e Bologna nei tempi di Dante. A cura della Facolta di Lettere e Filosofia
dell'Universita di Bologna. Bologna, 1967.
Dante e l'Italia Meridionale
Dante e l'Italia Meridionale. Atti del Congresso nazionale di studi danteschi
(Caserta; Benevento; Cassino; Salerno; Napoli, 10-16 ottobre 1965). Firenze,
1966.
D'ENTReVES P.
1955 «Gratiosum lumen rationis» // Passerin D'Entreves. Dante politico e altri
saggi. Torino. P. 97-113.
Di Capua F.
1945 Insegnamenti retorici medievali e dottrine estetiche moderne nel «De vulgari
eloquentia». Napoli.
DlONISOTTI C.
1965 Dante nel Quattrocento // Atti del Congresso internazionale di studi
danteschi. Vol.1. Firenze.
D'Ovidio F.
1873 Sul trattato «De vulgari eloquentia» di Dante Alighieri // AGI, 2. P. 59-110.
1926 II nome di Dio nella lingua di Adamo secondo il XXVI del «Paradiso» e il verso
di Nembrotte nel XXXI del «Inferno» // D'Ovidio F. L'ultimo volume dantesco.
Roma. P. 407-418.
1931 Dante e la filosofia del linguaggio // D'Ovidio F. Opere. In 8 voll. Vol. 2.
Napoli. P. 291-325.
1932 Versificazione romanza. Poetica e poesia medievale. Seconda parte // D'Ovidio F.
Opere. Vol. 9. Napoli.
Dragonetti R.
1961 La conception du langage poetique dans le «De vulgari eloquentia» de Dante //
Dragonetti R. Aux frontieres du langage poetique: Etudes sur Dante, Mal-
larme, Valery. Gand. P. 9-77 (Romanica Gandensia, 9).
Du Bellay J.
1967 La Defense et Illustration de la Langue fran^aise. Ed. etablie par S. de Sacy //
Du Bellay J. Les Regrets. Les Antiquites de Rome, [s.l.]: Gallimard. P. 197-
264.
Du Cange Си.
1883-1887 Glossarium mediae et infimae latinitatis. T. 1-10. Niort.
454
Библиография
Eco U.
1988 The Aesthetics of Thomas Aquinas. Transl. from Italian, [s.l.]: Radius.
1993 La ricerca della lingua perfetta. Bari.
Eco U., Marmo C.
1989 On the Medieval Theory of Signs. Amsterdam; Philadelphia (Foundations of
Semiotics, 21).
Eco et al.
1989 Eco U., Lambertini R., Marmo C, Tabarroni A. On Animal Language in the
Medieval Classifications of Signs // [Eco, Marmo 1989, p. 3-41].
Emery L.
1947 Vecchi manuali italo-tedeschi: Catherin Ledoux maestro d'italiano // LN, 8.
P.35-39.
Engels J.
1963 Origine, sens et survie du term boecien «secundum placitum» // Vivarium, 1.
P.87-114.
Ernout A., Meillet A.
1960 Dictionnaire etymologique de la langue latine. Paris.
Ewert A.
1940 Dante's Theory of Language // Modern Language Review, 35/3. P. 355-366.
Favati G.
1961-1965 Osservazioni sul «De Vulgari Eloquentia» // Annali della Facolta di
Lettere, Filosof. e Magist. dell'Univ. di Cagliari, 29. P. 151-213.
Fleckenstein J.
1990 Curialitas: Studien zu Grundfragen der hofisch-ritterlichen Kultur/. Hrsg.
von J. Fleckenstein. Gottingen (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts
fur Geschichte, 100) .
Frattarolo R.
1970 Dante nella critica fra Tre- e Cinquecento // Letture classensi, 3. P. 59-85.
Fredborg K.
1980 Universal Grammar According to Some 12th-Century Grammarians //HL, 7.
P. 69-84.
Garin e.
1970 Dante nel Rinascimento // Letture classensi, 3. P. 111-145.
Gilson E.
1939 Dante et la philosophie. Paris.
Gisalberti A.
1984 La cosmologia nel Duecento e Dante // Letture classensi, 13. P. 33-48.
Giuliani G. B.
1865 Dante spiegato con Dante // Dante e il suo secolo. Firenze. P. 353-381.
Goidanich P. G.
1926 Sul giudizio di Dante intorno al dialetto romagnolo e bolognese, e sulla lingua
usata da Sordello // AGI, 20. P. 109-126.
Grayson C.
1962 Dante and the Renaissance // Italian Studies presented to E. R. Vincent.
Cambridge. P. 57-75.
1963 Dante e la prosa volgare // II Verri, 9. P. 6-26.
1965 «Nobilior est vulgaris»: Latin and Vernacular in Dante's Thought //
Centenary Essays on Dante by Members of the Oxford Dante Society. Oxford. P. 54-
76.
Groppi F.
1962 Dante traduttore. Roma.
Guerri D.
1909 Sul nome di Dio nella lingua di Adamo secondo il XXVI del «Paradiso» e il
verso di Nembrotte nel XXXI dell'«Inferno» // GSLI, 54 (fasc.160-161). P-
65-76.
Библиография
455
GUILLET J.
1927 «La lumiere intellectuelle» d'apres S. Thomas // Archive d'histoire doctrinale
et litteraire du Moyen Age, 2. P. 79-88.
Gutkind С S.
1934 Die handschriftlichen Glossen des Jacopo Corbinelli zu seiner Ausgabe der «De
Vulgari Eloquentia», Paris 1577 //AR, 18. P.19-120.
Hellmann L.
1967 II giudizio di Dante sul dialetto bolognese // [Dante e Bologna, p. 151-160].
lOANNIS ROBOAMUS
1549 Elegantiarum Laurentii Vallae libri VI. Carmine prestricti: cum brevissimis
iisdemque doctissimis Scoliys. Ioanne Roboamo Rauerentino authore. Luteti-
ae. Ex officina Roberti Stephanini typography Regiy.
Italia ed Europa
Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento: Confronti e relazioni. Atti
del Convegno internazionale (Ferrara, 20-24 marzo 1991). A cura di M. Tavo-
ni et al. Modena, 1996. Vol.1: L'ltalia e il mondo romanzo. Vol.2: L'ltalia e il
mondo non romanzo. Le lingue orientali.
Ives
1955 Ives. Epitre a Severin sur la charite. Richard de Saint-Victor. Les quatre
degres de la violente charite. Texte critique avec introduction, traduction et
notes poublie par G. Dumeige. Paris (Textes philosophique du Moyen Age, 3).
Jakobson R.
1971 Selected Writings, 2. The Hague; Paris.
1975 Glosses on the Medieval Insight into the Science of Language // Melanges
linguistiques offerts a Emile Benveniste. Paris. P. 289-303.
1979 Selected Writings, 5. The Hague; Paris; New York.
Katzenellenbogen A. E. M.
1939 Allegories of the Virtutes and Vices in Medieval Art: From Early Christian
Times to the Thirteenth Century. London (Studies of the Wartburg Institute, 10).
Kelly L. G.
1975 Saint Augustine and Saussurian Linguistics // Augustinian Studies, 6. P. 45-
64.
Kristeller P. 0.
1946 The Origin and Development of the Language of Italian Prose // Word, 2.
P. 50-65.
1985 Latin and Vernacular in Fourteenth- and Fifteenth Century Italy // Journal of
the Rocky Mountain Medieval and Renaissance Association, 6. P. 105-125.
Lambertini R.
1989 Sicut tabernarius vinum significat per circulum: Directions in Contemporary
Interpretations of the Modistae // [Eco, Marmo 1989, p. 107-143].
Lambruschini R.
1865 Che cosa intendesse Dante per idioma illustre, cardinaley aulico, curiale //
Dante e il suo secolo. Firenze. P. 655-668.
Lamentani U.
1964 The Fortunes of Dante in Seventeenth Century Italy. London.
Lampe G. W. H.
1969 The Cambridge History of the Bible. Vol. 2: The West from the Fathers to the
reformation. Ed. G.W.H. Lampe. Cambridge.
Lanza A.
1990 Dante e la Gnosi. Esoterismo del «Convivio». Roma (L'Opera Segreta, 4).
LATTes S.
1937 La conoscenza e Tinterpretazione del «De Vulgari Eloquentia» nei primi anni
del Cinquecento // Rendiconti dell'Accad. di Archeol., Lettere e Belli Arti di
Napoli. N. Ser., 17. P. 157-168.
456
Библиография
1972 Studi letterari e filologici di Angelo Colocci// [Colocci 1972, p. 243-255].
Lisio G.
1902 L'arte del periodo nelle opere volgari di Dante Alighieri e del secolo XIII. Bologna.
Liver R.
1992 «Rationale signum et sensuale». Concezione linguistica e stile nel primo libro
del «De vulgari eloquentia» // Vox Romanica, 51. P. 41-55.
Lo Piparo F.
1983 Dante linguista anti-modista // Italia linguistica: Idee, storia, strutture.
Bologna. P. 9-30.
1986 Sign and Grammar in Dante: A non-modistic language theory // [Ramat 1986,
p. 1-22].
Machiavelli N.
1976 Discorso о dialogo intorno alia nostra lingua. Ed. critica con introd., note e
appendice a cura di B.T. Sozzi. Torino.
Mac-Lennan L. J.
1960 Autocommentario en Dante // Vox romanica, 19, N 1. S. 82-123.
Maieru A.
1983 Dante al crocevia? // Studi medievali, 24. P. 735-748
1984 И testo come pretesto // Studi medievali, 25. P. 847-855.
MAhl S.
1969 Quadriga virtutum. Die Kardinaltugenden in der Geistesgeschichte der Karo-
lingerzeit. Koln; Wien.
Manzoni A.
1868 Nuovi scritti sulla lingua italiana. Torino.
Marchesi G. B.
1897-1898 Delia fortune di Dante nel secolo XVII //Atti dell'Ateneo di Scienze,
Lettere ed Arti di Bergamo, 14. P. 1-20.
Marigo A.
1957 Dante Alighieri. De vulgari eloquentia. Ridotto a miglior lezione, commentato
e tradotto da A. Marigo, con introd., analisi metrica della canzone, studio
della lingua e glossario. 3-a ed. con appendice di aggiornamento a cura di R.G.
Ricci. Firenze.
Marzot G.
1965 Dante e Seneca «morale» // Dante e Roma. Atti del Convegno di studi (Roma,
8-9-10 aprile 1965). A cura della «Casa di Dante». Firenze. P. 263-282.
Mazzoco A.
1987 Dante's Notion of the vulgare illustre: a reappraisal // Papers in the History of
Linguistics. Proceedings of the Third International Conference on the History
of the Language Sciences (ICHoLS III) (Princeton, 19-23 August 1984). Ed. by
H. Aarsleff, L. G. Kelly, H.-J. Niederehe. Amsterdam, Philadelphia
(Amsterdam Studies, 38). P. 131-141.
1993 Linguistic Theories in Dante and the Humanists: Studies of Language and
Intellectual History in Late Medieval and Early Renaissance Italy. Leiden;
New York; Koln (Brill's Studies in Intellectual History, 38).
Mengaldo P.V.
1978 Linguistica e retorica di Dante. Pisa.
1979 De vulgari eloquentia. A cura di P.V. Mengaldo // Dante Alighieri. Opere
minori. T. 2. A cura di P. V. Mengaldo, B. Nardi et al. Milano; Napoli. P. 26-
237 (La letteratura italiana: Storia e testi, 5).
Mococci U.
1891 La fortune di Dante nel secolo XIX. Firenze.
Mod. sign.
1969 Boethii Daci Modi significandi. Ed. J.Pinborg, H. Roos, S. Skovgard Jensen //
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi, IV (1-2).
Библиография
457
Molk U.
1990 Curia und curialitas — Wort und Bedeitung: Zu fr. cortois(ie) / pr. cortes(ia)
im 12. Jahrhundert // [Fleckenstein 1990, S.27-38].
MONTALE E.
1976 Sulla poesia. A cura di G. Zampo. Milano.
Moore E.
1903 Studies in Dante: Third Series. Oxford.
Mori A.
1922 La geografia nell'opera di Dante // Atti dell'VIII Congresso Geografico
Italians I. Firenze. P. 271-299.
Mounin G.
1973 Historia de la linguistica desde los origines al siglo XX. Habana (пер. с фр.:
Histoire de la linguistique des origines au XXe siecle. Paris. 1967).
Nardi B.
1930 Alia illustrazione del «Convivio» dantesco (a proposito dell'ediz. di Giorgio
Rossi, 1925) // GSLI, 95. P. 73-114.
1949 Filosofia dell'amore nei rimatori italiani del Duecento e in Dante // Nardi B.
Dante e la culture medioevale. 2a ed. Bari. P. 1-88.
1949a II linguaggio // Nardi B. Dante e la culture medioevale. Bari. P. 217-247.
1967 La dottrina deU'empireo nella sua genesi storica e nel pensiero dantesco //
Nardi B. Saggi di filosofia dantesca. Firenze. P. 182-194.
1992 Dal «Convivio» alia «Monarchia». Sei saggi danteschi. Roma (Nuovi studi
storici, 18).
Nencioni G.
1967 Dante e la retorica // [Dante e Bologna, p. 91-112].
Nolan E., Hirscii S. A. (eds.)
1902 The Greek Grammar of Roger Bacon. Cambridge.
Operum Latinorum Concordantiae
Dantis Alagherii Operum Latinorum Concordantiae curante Societate Dantea quae
est Cantabrigiae in Nova Anglia ediderunt E. K. Rand et E. H. Wilkins quos
adiuvit A. C. White. Oxonii, 1912.
Pagani I.
1982 La teoria linguistica di Dante («De vulgari eloquentia»: Discussioni, scelte,
proposte). Napoli.
Pagliaro A.
1956 I «primissima signa» nella dottrina linguistica di Dante // Pagliaro A. Nuovi
saggi di critica semantica. Messina; Firenze. P. 215-238.
1956a Nomina sunt consequentia rerum (Dante. «Vita nuova» XIII, 4) // Pagliaro A.
Nuovi saggi di critica semantica. Messina; Firenze. P. 239-246.
1965 Dialetti e lingue neiroltretomba //[Bosco 1965, p. 254-270].
1966 Comunita linguistica e lingua comune in Dante // [Dante e Tltalia
Meridional, p. 115-129].
Palmieri U.
1964 Appunti di linguistica dantesca // Studi danteschi, 41. P. 45-53.
Panvini B.
1966 Origine e distribuzione dei volgari europei secondo il «De vulgari eloquentia»
// Siculorum Gymnasium. Rassegna della facolta di Lettere e Filosofia
delPUniversita di Catania. Catania. P. 174-197.
Paparelli G.
1975 Lingua e poesia nel «De vulgari eloquentia» // Paparelli G. Ideologia e poesia
in Dante. Firenze. P. 31-49.
Paratore E.
1968 II latino di Dante // E. Paratore. Tradizione e struttura in Dante. Firenze.
P. 127-177.
458
Библиография
Paustian P. R.
1979 Dante's Conception of the Genetic Relationship of European Languges // Neo-
philologus, 63. P. 173-178.
Pazzaglia M.
1967 II verso e Parte della canzone nel «De vulgari eloguentia». Firenze.
Peirone L.
1975 И «De vulgari eloquentia» e la linguistica moderna. Genova.
Perotti Niccolo
1513 Cornucopiae, sive linguae latinae com[m]entarii diligentissime recogniti: atqfue]
ex archetypo emendati. Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae soceri.
PeZARD A.
1965 Dante Alighieri. De Peloquence en langue vulgaire // Oeuvres completes.
Traduction et commentaires par A. Pezard. Paris. P. 551-630.
Rajna P.
1901 La lingua Cortigiana // Miscellanea linguistica in onore di Graziadio Ascoli.
Torino. P. 295-314.
1906 II trattato «De vulgari eloquentia» // Lectura Dantis. Le opere minori di
Dante Alighieri. Firenze. P. 195-221.
Ramat P.
1986 The History of Linguistics in Italy. Ed. P. Ramat, Hans-J. Niederehe, K. Koerner
(Studies in the History of the Language Sciences, 33). Amsterdam;
Philadelphia.
Raynouard M.
1836-1843 Lexique roman ou dictionnaire de la langue des troubadours, comparee
avec les autres langues de l'Europe latine. T. 1-6. Paris.
Restoro d'Arezzo
1976 La composizione del mondo colle sue cascioni / Ed. critica a cura di A. Morino
(Scritti italiani e testi antichi pubblicati dalFAccademia della Crusca). Firenze.
Ricci P. G.
1970 De vulgari eloquentia: tradizione manoscritta //ED, vol. 2. P. 399-401.
RUEF H.
1981 Augustin uber Semiotik und Sprache. Berb.
Russo F.
1966 Dante e Gioachino da Fiore // [Dante e Tltalia Meridionale, p. 217-230].
Russo V.
1966 Gli studi danteschi di Francesco D'Ovidio e la tradizione filologica italiana //
[Dante e Pltalia Meridionale, p. 339-461].
Sarfatti G. B.
1986 Dante e Rashe sulla divisione delle lingue // Studi danteschi, 58. P. 381-382.
SCAGLIONE A.
1978 Dante and the Rhetorical Theory of Sentence Structure // Medieval Eloquence:
Studies in the Theory and Practice of Medieval Rhetoric. Ed. J. J. Murphy.
Berkeley; Los Angeles; London. P. 252-269.
1990 Dante and the Ars Grammatica // De ortu grammaticae. Studies in Medieval
Grammar and Linguistic Theory in Memory of Jan Pinborg. Ed. G. L. Bursill-
Hall, S. Ebbens, K. Koerner. Amsterdam; Philadelphia. P. 305-319.
SCHIAFFINI A.
1934 Tradizione e poesia nella prosa d'arte italiana dalla latinita medievale a
G. Boccaccio. Genova.
1958 «Poesis» e «poeta» in Dante // Studia Philologica et Litteraria in honorem
L. Spitzer. Bern.
1959 Lettura del «De vulgari eloquentia» di Dante. Corso di Storia della lingua
italiana per Panno accademico 1958-59. A cura di F. Sabatini. Roma.
Библиография
459
SCHNAPP J. T.
1988 Trasfigurazione e metamorfosi nel «Paradiso» dantesco // [Dante e la Bibbia,
p. 273-294].
Schmidt P. G.
1990 Curia und curialitas. Wort und Bedeitung im Spiegel der lateinischen Quellen //
[Fleckenstein 1990, S.15-26].
Segre C.
1976 Lingua, stile e societa: Studi sulla storia della prosa italiana. Milano.
Sermon eta G.
1969 Un glossario filosofico ebraico-italiano del XIII secolo. Roma (Lessico intellet-
tuale europeo, 1).
Shapiro M.
1986 On the Role of Rhetoric in the «Convivio» // RPh, 11/1. P. 38-64.
1990 «De vulgari eloquentia»: Dante's Book of Exile. Lincoln; London.
Simon de la Barba da Pescia.
1556 La Topica del Cicerone col commento nel quale si mostrano gli esempi di tutti
i luoghi cavati da Dante, dal Petrarca e dal Boccaccio... in Vinegia appresso
Gabriele Giolito De' Ferrari.
Simonelli M.
1966 Dante Alighieri. II Convivio. Ed. critica a cura di M. Simonelli. Bologna.
1970 Materiali per un'edizione critica del «Convivio» di Dante. Roma.
1970a Convivio // ED, vol. 2. P. 193-204.
Spitzer L.
1976 «La tipologia ideale» nel «De vulgari eloquentia» di Dante // Spitzer L. Studi
italiani. Milano. P. 191-212.
Stefanini J.
1973 Les modistes et leur apport a la theorie de la grammaire et du signe linguis-
tique // Semiotica, 8 (3). P. 263-275.
Stepanova L.
1993 On Dante's Linguistic Terminology: Cardinale // Культурология. The
Petersburg Journal of Cultural Studies, 1 (1). P. 78-86.
1996 La terminologia linguistica dantesca e la sua fortuna nel Rinascimento //
[Italia ed Europe I, p. 211-218].
SZEMERENYI O.
1970 The Indo-European Name of the "Heart" // Donum Balticum. To prof. Ch.
Stang. Stockholm. P. 515-533.
Tavoni M.
1987 Contributo all'interpretazione di «De vulgari eloquentia» 1.1-9 // Rivista di
letteratura italiana, 5 (3). P. 385-453.
1990 «Idioma Tripharium» (Dante. «De Vulgari Eloquentia», 1.8-9) // History and
Historiography of Linguistics. Papers from the Fourth International
Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS IV) Trier, 24-28
August 1987. Ed. by H.-J. Niederehe and K. Koerner. Amsterdam; Philadelphia
(Amsterdam Studies, 51).
Terracini B.
1952 «Quia magis videtur inniti grammatice» (De vulgari eloquentia I.X.4) //
Melanges de linguistique et de litterature romanes offerts a Mario Roques. Paris.
Vol. 3. P. 275-279.
1957 Pagine e appunti di linguistica storica. Firenze.
1963 Lingua libera e liberta linguistica. Introduzione alia linguistica storica.
Torino.
460
Библиография
Tesoretto
1979 Brunetto Latini. II Tesoretto // Poeti del Duecento: Poesia didattica dell'Italia
centrale. A cura di G. Contini. Torino. P. 9-111 (Classici Ricciardi, 88).
Thurot Си.
1869 Notices et extraits des manuscrits latin pour servir a l'histoire de doctrines
grammaticales en Moyen Age. Paris. (Repr. Frankfurt, 1964).
Tilton E. K.
1934 Bibliogrphy of the «De vulgari eloquentia» being a list of editions, editors,
commentators and translators, from the first edition of 1529 throught that of
1930 // Italica, 11/4. P. 117-121.
Toja G.
1950 Dante et la langue bolognaise // Les Lettres Romanes, 4. P. 49-63.
Trauzzi A.
1921 II volgare eloquio di Bologna ai tempi di Dante // Studi danteschi a cura di R.
Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna nel VI Centenario
della morte del poeta. Bologna. P. 121-163.
Tresor
Li livres dou Tresor de Brunetto Latini / Ed. critique par F. J. Carmodi. Univ. of
California Press. Berkeley and Los Angeles, 1948.
Vallone A.
1950 La «cortesia» dai provenzali a Dante. Palermo.
1967 La prosa del «Convivio». Firenze.
Vasoli C.
1988 II Convivio // Dante Alighieri. Opere minori. T. 1. Parte 2. A cura di С Vasoli
e D. De Robertis. Milano; Napoli (La letteratura italiana: Storia e testi, 5).
1988a La Bibbia nel «Convivio» e nella «Monarchia» // [Dante e la Bibbia, p. 19-
39.]
Vidossi G.
1977 L'ltalia dialettale fino a Dante // Scritture e scrittori del secolo XI. A cura di
A.Viscardi e G.Vidossi. Torino. P. 279-319. (Classici Ricciardi, 57).
VlNAY G.
1956 I. Crisi tra «Monarchia» e «Commedia»; II. «Gratiosum lumen rationis» (Vulg.
eloq. I. 18.5) // GSLI, 133. P. 149-155.
1959 Ricerche sul «De vulgari eloquentia» // GSLI, 136. P. 236-274; 367-388.
1960 II «De vulgari eloquentia» // Annali della Pubblica Istruzione, 6. P. 673-686.
1962 La teoria linguistica del «De vulgari eloquentia» // Culture e scuola, 2 (5).
P. 30-42.
Vineis E., Maieru A.
1990 La linguistica medioevale // Storia della linguistica. A cura di Giulio С Lep-
schy. Vol. 2. Bologna. P. 11-168.
Viscardi A.
1942 La favella di Cacciaguida e la nozione dantesca del latino // Culture neolatina.
Bolletino di Filologia romanza della R. Universita di Roma, 2. P. 311-314.
Woodhouse J. R.
1971 Vincenzio Borghini. Scritti inediti о rari sulla lingua. A cura di J. R. Wood-
house. Bologna.
Zacchetti G.
1900 La fama di Dante in Italia nel secolo XVIII. Roma.
Zumthor P.
1973 Lingua e tecniche poetiche nell'eta romanica (secoli XI-XIII). Bologna (пер. с
фр.: Langue et tecniques poetique a l'epoque romane (XIe-XIIIe siecles). Paris,
1963).
библиография
461
Часть II
ДЛИСОВА Т. Б.
1960 Особенности становления нормы итальянского письменно-литературного
языка // Вопросы формирования и развития национальных языков. М.
С. 177-203 (Труды Института языкознания, 10).
Дверинцев С. С.
1991 Античная риторика и судьбы античного рационализма // Античная поэтика.
М. С. 3-26.
Алпатов В. М.
1990 О сопоставительном изучении лингвистических традиций (к постановке
проблемы) // ВЯ, N 2. С. 13-25.
Амирова Т. А. и др.
1975 Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории
лингвистики. М.
Античные теории
Античные теории языка и стиля. Под ред. О. М. Фрейденберг. М.; Л., 1936.
Арутюнова Н. Д.
1990 Логическое направление в языкознании // Лингвистический
энциклопедический словарь. М. С. 273-275.
Ауэрбах Э.
1976 Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе.
Пер. с нем. М.
Барроу Т.
1976 Санскрит. Пер. с. англ. М.
Бах А.
1956 История немецкого языка. М.
Бенвенист Э.
1974 Общая лингвистика. Пер. с фр. Под ред., с вступит, статьей и
комментариями Ю. С. Степанова. М.
Берк П.
1993 Антропология итальянского Возрождения. Пер. с англ. // Одиссей: Человек
в истории. Отв. ред. А. Я. Гуревич. М. С. 272-283.
Бибихин В. В.
1993 Язык философии. М.
Бицилли П. М.
1996 Место Ренессанса в истории культуры. СПб.
Бокадорова Н. Ю.
1987 Французская лингвистическая традиция XVIII—начала XIX века. Структура
знания о языке. М.
Брагина Л. М.
1970. Гуманизм // История Италии. Под ред. С. Д. Сказкина и др. Т. 1. М. С. 390-
425.
1977 Альберти-гуманист // Леон Баттиста Альберти. Отв. ред. В. Н. Лазарев. М.
С.10-49.
Бранка В.
1983 Боккаччо средневековый. Пер. с ит. М.
Брут
1972 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. с лат. Под ред.
М. Л. Гаспарова. М. С. 253-328.
Буркгардт Я.
1904-1906 Культура Италии в эпоху Возрождения. Пер. с нем. Т. 1-2. СПб.
Вазари Дж.
1963 Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Пер.
с ит. Т. 2. М.
462
Библиографця
Валла Л.
1989 Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. Пер. с лат.
М. (Памятники философской мысли).
Вандриес Ж.
1937 Язык. Лингвистическое введение в историю. Пер. с фр. М.
Вернадский В. И.
1981 Избранные труды по истории науки. М.
Вессен Э. В.
1949 Скандинавские языки. Пер. со 2-го швед. изд. и прим. С. С. МасловоЙ-
Лашанской. Под ред. и с предисл. проф. С. Д. Кацнельсона. М.
Винокур Г. О.
1959 О славянизмах в современном русском литературном языке //
Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М. С. 443-459.
1990 Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М.
Гаврилов А. К.
1985 Языкознание византийцев // История лингвистических учений.
Средневековая Европа. Л. С. 109-156.
Гайденко П. П.
1990 Социология Макса Вебера // Макс Вебер. Избранные произведения. Пер. с
нем. М. С.5-43.
Гаспаров М. Л.
1986 Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и
риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском
средневековье. М. С. 91-169.
1991 Античная риторика как система // Античная поэтика. Риторическая теория
и литературная практика. М. С. 27-59.
Горфункель А. X.
1978 Основные этапы развития итальянской философии в эпоху Возрождения //
Типология и периодизация культуры Возрождения. М. С. 52-60.
1980 Философия эпохи Возрождения. М.
Грошева А. В.
1985 Грамматические учения западноевропейского средневековья // История
лингвистичеких учений: Средневековая Европа. Л. С. 208-242.
Гуковская 3. В.
1940 Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения. Л.
Джаукян Г. Б.
1978 Общее и армянское языкознание. Ереван.
Диоген Лаэртский
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Пер.
с греч. М. Л. Гаспарова. М., 1979 (Философское наследие).
ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ О. А.
1987 История письма в средние века. Руководство к изучению латинской
палеографии, 3-е изд. М.
Забугин В. Н.
1914 Юлий Помпоний Лет. Критическое исследование. СПб.
1914а Византийские историки и итальянские гуманисты // 1873-1913: Николаю
Ивановичу Карееву ученики и товарищи по работе. СПб.
Зубов В. П.
1977 Архитектурная теория Альберти. Отв. ред. В. Н. Лазарев. М. С. 50-149.
Иванов Вяч. Вс.
1991 Эволюция ноосферы и художественное творчество // Ноосфера и хуД°*
жественное творчество. М. С. 3-37.
Ит. гум.
Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. Сост., ред. и предисловие
М. А. Гуковского. М., 1963.
библиография
463
ЙОРДАН Й.
1971 Романское языкознание. Пер. с рум. М.
Кареев Н. И.
1914 История Западной Европы в Новое время, I. СПб. (изд. 5).
Касаткин А. А.
1976 Очерки истории литературного итальянского языка (XVIII-XX вв.). Л.
1986 Культ латыни в эпоху Возрождения (генезис и исход) // Культура эпохи
Возрождения. Л. С. 36-41.
Каталог инкунабул
Каталог инкунабулов. Сост. Е. И. Боброва. М; Л., 1963.
КЛБЙНБР Ю. А.
1985 Латинская грамматическая традиция в Англии VII-XI вв. (Беда, Алкуин,
Эльфрик) // История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л.
С. 62-76.
Корелин М. С.
1892 Ранний итальянский гуманизм и его историография (Критическое
исследование). М.
1899 Папский секретарь и гуманист Поджо Браччолини // Русская мысль, VIII.
С.133-153.
Кузьменко Ю. К.
1984 Лингвистическая концепция Расмуса Раска // Понимание историзма и
развития в языкознании первой половины XIX века. Л. С. 16-53.
1985 Средневековые исландские грамматические трактаты // История
лингвистических учений: Средневековая Европа. Л. С. 77-97.
Куторга М. С.
1891 Водворение на Западе изучения эллинства с эпохи Возрождения // ЖМНП,
275, май, с. 81-120; июнь, с. 216-251.
Линдсей В. М.
1948 Краткая историческая грамматика латинского языка. Пер. с англ. М.
Литературные манифесты
1980 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Под ред.
Н. П. Козловой. М.: Изд-во МГУ.
Лободанов А. П.
1995 История ранней итальянской лексикографии (к вопросу становления метода
европейской толковой лексикографии). Автореф. канд. дисс. М.
Лосев А. Ф.
1982 Эстетика Возрождения. М.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А.
1975 Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие
в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение
Семена Боброва) // Труды по русской и славянской филологии, 24:
Литературоведение (Уч. записки Тартуского университета, Вып. 358). С. 168-
322.
Мажуга В. И.
1986 Культурные идеалы античности в средневековой Европе. Город как их символ
// Городская культура: Средневековье и начало Нового времени. Л. С. 236-
277.
Макьявелли Н.
1973 История Флоренции. Пер. с ит. Л.
Малеин А. И.
1926 «Донаты», принадлежащие Библиотеке Академии наук СССР // Докл. АН
СССР 1926. С. 9-12 (отд. оттиск).
Мандельштам О. Э.
1987 Слово и культура. М.
464
Библиографу
Немировский А. И.
1983 Этруски: От мифа к истории. М.
Нидермлн М.
1949 Историческая фонетика латинского языка. Пер. с фр. М.
Новосельцев А. П.
1978 О местонахождении библейской *горы Арарат» // Восточная Европа в
древности и средневековье. М. С. 61-66.
Об ораторе
Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. с лат. Под ред. М. Л. Гас-
парова. М., 1972. С. 75-252.
Оленин Р. М.
1980 Александрийская грамматическая школа // История лингвистических
учений: Древний мир. Л. С. 214-233.
Ольшки Л.
1933-1934 История научной литературы на новых языках. Пер. с нем. В 3 т.
М; Л.
Остолопов Н. Ф.
1821 Словарь древней и новой поэзии, ч. II. СПб.
Перельмутер И. А.
1991 Грамматическое учение модистов // История лингвистических учений:
Позднее средневековье. СПб. С. 7-66.
1995 Залог древнегреческого глагола: Теория, генезис, история. СПб.
1998 Залог латинского глагола в грамматическом учении Юлия Цезаря Скалигера
// Индоевропейское языкознание и классическая филология. Материалы
чтений, посвященных памяти проф. И. М. Тройского. СПб. С. 65-69.
Петрарка Ф.
1982 Франческо Петрарка. Эстетические фрагмены. Пер., вступ. статья и примеч.
B. В. Бибихина. М.
Петров М. Т.
1989 Проблема Возрождения в современной науке. Л.
Поэтика
Аристотель. Об искусстве поэзии. Пер. с др.-греч. В. Г. Аппельрота под
ред. Ф. А. Петровского. М., 1957 (Памятники мировой эстетической и
критической мысли).
Рабинович Е. Г.
1992 Об «Африке» Петрарки // Ф. Петрарка. Африка. М. (Литературные
памятники). С. 211-240.
Ревякина Н. В.
1975 Итальянское Возрождение: Гуманизм второй половины XIV века — первой
половины XV века. Новосибирск.
1984 Античные источники итальянской гуманистической педагогики XV в. //
Античное наследие в культуре Возрождения. М. С. 66-79.
1988 Из практики гуманистического воспитания (Гуарино из Вероны и Леонелло
д'Эсте) // Возрождение: Общественно-политическая мысль, философия,
наука. Иваново. С. 40-51.
1989 Творческий путь Лоренцо Баллы и его философское наследие // [Валла
1989, с. 5-64].
1993 Гуманистическое воспитание в Италии XIV-XV вв. Иваново: Изд-в°
Ивановского ун-та.
1993а Авторское самосознание итальянских гуманистов // [Scribantur haec..-»
с. 41-42].
1994 Итальянский гуманизм XV в. и эстетическое воспитание (Школа Гуарияо
да Верона) // Возрождение: Гуманизм, образование, искусство. Иваново.
C. 33-48.
Библиография
465
1995 Традиции образования и воспитания в Европе XI-XVII веков. Сб. статей и
материалов. Отв. ред. Н. В. Ревякина. Иваново.
Сергиевский М. В.
1952 Введение в романское языкознание. Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и
ин-тов иностр. яз. М.
Соч. ит. гум.
Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). М., 1985.
Степанов Ю. С.
1985 В трехмерном пространстве языка. М.
Степанова Л. Г.
1981 «Диалектная вспышка» в языке художественной литературы современной
Италии и ее наддиалектный характер // Типы наддиалектных форм языка.
М. С 136-157.
1994 Из истории «итало-кельтских» лингвистических связей (XVI век) // Язык
и культура кельтов. Материалы III коллоквиума, проведенного Рос. ассоц.
кельтологов и Ин-том. ин. языков (Санкт-Петербург, 24.05.1994). Тезисы.
СПб. С. 19-21.
Томсен В.
1938 История языковедения до конца XIX века (краткий обзор основных
моментов). Пер. с нем. М.
Тронский И. М.
1953 Очерки из истории латинского языка. М.; Л.
Трубецкой Н. С.
1920 Европа и человечество. София.
1960 Основы фонологии. Пер. с нем. Ред. С. Д. Кацнельсона. М.
Тынянов Ю. Н.
1977 Поэтика. История литературы. Кино. М.
Уколова В. И.
1985 История образования в Италии в средние века и в эпоху Возрождения в
русской дореволюционной историографии // Возрождение: Культура,
образование, общественная мысль. Иваново. С. 21-24.
Успенский Б. А.
1985 Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М.:
Изд-во МГУ.
Фридрих И.
1979 История письма. Пер. с нем. М.
Хоментовская А. И.
1963 Лоренцо Валла против «Дара Константина» // Вопросы истории религии и
атеизма. М.; Л. Т. 12. С. 267-288.
1964 Лоренцо Валла — великий итальянский гуманист. М.; Л.
1994 Итальянская гуманистическая эпитафия: ее судьба и проблематика. СПб.
Изд-во С.-Петерб. ун-та (на обложке 1994 год, на титуле 1995).
Чекалова Е. И.
1966 Из истории римской лексикографии (о характере словаря Верия Флакка) //
Язык и стиль античных писателей. Л.: Изд-во ЛГУ. С. 188-193.
Черняк А. Б.
1985 К истории алфавитов в романоязычных странах // История лингвистических
учений: Средневековая Европа. Л. С. 55-61.
1991 Первые окситанские грамматики // История лингвистических учений:
Позднее средневековье. СПб. С. 80-102
1991а Первые французские грамматики // История лингвистических учений:
Позднее средневековье. СПб. С. 103-114.
Черняк И. X.
1986 Термин humanitas у Марсилио Фичино // Культура эпохи Возрождения. Л.
С. 89-94.
466
Библиографу
Чикобава А. С, Ватейшвили Д. Л.
1983 Первые грузинские печатные издания [Тбилиси].
Шаскольский П. Б.
1914 Критика «Донации Констатина» в эпоху гуманизма // 1873-1913: Николаю
Ивановичу Карееву ученики и товарищи по работе. СПб. С. 252-272.
Шервуд Б. А.
1989 Предпосылки формирования итальянского этноса // Романия и Барбария
С. 25-47.
Шеременда М. И.
1995 Из писем Гварино да Верона (публикация) // [Ревякина 1995, с. 170-189].
ШИШМАРЕВ В. Ф.
1962 Франко Сакетти // Франко Сакетти. Новеллы. Пер. с ит. М; Л. (Литературные
памятники). С. 315-355.
Шубин С. А.
1980 Языкознание Древнего Рима // История лингвистических учений: Древний
мир. Л. С. 233-256.
Щерба Л. В.
1974 Языковая система и речевая деятельность. Л.
Эльфонд И. Я.
1984 Леонардо Бруни и греческая философия // Античное наследие в культуре
Возрождения. М. С. 58-66.
Эстетика Ренессанса
Эстетика Ренессанса: [Антология в 2 т.] / Сост. В. П. Шестаков. М., 1981.
Aarsleff et al.
1987 Aarsleff H., Kelly L. G., Niederehe H.-J. Papers in the History of Linguistics.
Proceedings of the Third International Conference on the History of the
Language Sciences (Princeton, 19-23 August 1984). Amsterdam; Philadelphia.
Abercombie D.
1949 What is «a letter» // Lingua, 2 (1). P. 54-63.
Acta scaligeriana
Actes du colloque international Jules-Cesar Scaliger (Agen, 14-16 septembre 1984).
Reunis par J. Cubelier du Beynac et M. Magnien. Agen, 1986 (Recueils de
Travaux de la Societe Academique d'Agen. Ser.III, 6).
Adorno F.
1954 Di alcune orazioni e prefazioni di Lorenzo Valla // Rinascimento, 5. P. 191-
225.
Affo I.
1789-1797 Memorie degli scrittori e letterati Parmigiani, II. Parma.
Agostiniani L.
1983 Aspirate etrusche e gorgia toscana: valenza delle condizioni fonologiche et-
rusche. Fonologia etrusca, fonetica toscana // Biblioteca deH'*Archivium ro-
manicum». Ser. 2: Linguistica, 39. P. 25-59.
Aiilquist A.
1992 Les premieres grammaires des vernaculaires europeens // [Auroux 1992, p. 107-
114].
Albano Leoni F.
1975 II primo trattato grammatical islandese. Bologna.
Alberti G. B.
1957 Tucidide nella traduzione latina di Lorenzo Valla // Studi italiani di filologi*
classica, 29. P. 224-249.
Alberti 1974
Convegno internazionale indetto nel V Centenario di Leon Battista Alberti (Roma ~
Mantova - Firenze, 25-29 aprile 1972). Roma, 1974 (Accademia Nazionale del
Lincei, 209).
Виблиография
467
Alberti L. В.
1960 Opere volgari. 3 voll. A cura di С Grayson. Vol. 1. Bari.
Aldrete B. J. de.
1972 Del origen у principio de la lengua castellana 6 romance que oi se usa en Espana
(I). Ed. face, de L. Nieto Jimenez. Madrid (Cldssicos Hisp£nicos 13-14).
D'Alessandro, A.
1979 Gelli G. B. Dell'origine di Firenze. Introduzione, testo critico e note a cura di
Alessandro D'Alessandro // Atti e Memorie dell'Accademia toscana di scienze
e lettere «La Colombaria». 44 (n.s. 30). P. 59-122.
1980 II mito dell'origine ♦aramea» di Firenze in un trattatello di Giambattista
Gelli // Archivio storico italiano, 138. P. 339-389.
Alessio G. C.
1988 II «De componendiis epistolis» di Niccold Perotti e l'epistolografia umanistica
// Res Publica Litterarum, 11. P. 9-18.
Alinei M.
1981 Dialetto: un concetto rinascimentale fiorentino. Storia e analisi // Quaderni di
semantica, 2. P. 143-173.
Amelli A.
1899 Paolo Diacono. Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit. A cura di A.
Amelli. Montecassino.
Anecdota Helvetica
Grammatici Latini. Ed. H. Keil. 8. vol. (vol. 8 = Anecdota Helvetica. Ed. H. Hagen).
Lipsiae, 1880.
Arce J.
1962 II numero dei fonemi in italiano in confronto con lo spagnuolo // LN, 23 (1).
P. 48-52.
Arens A.
1987 [Рец.]: Moqueries savoyardes. Monologues polemiques et comiques en dialect
Savoyard de la fin du XVI-e siecle. Ed. etablie par Anne Marie Vurpas. Lyon I,
1986 (Collection d'Archives de Savoie) // Vox Romanica, 46. P. 311.
Ascoli G. I.
1968 Scritti sulla questione della lingua. Torino.
Asher, R. E.t Henderson E. J. A (eds.)
1981 Towards a History of Phonetics. Edinburgh.
Auroux S.
1992 Histoire des idees linguistiques. Sous la direction de Sylvain Auroux. T. 2: Le
developpement de la garmmaire occidentale. Liege.
AVESANI R.
1960 Amaseo Romolo // DBI, vol. 2. P. 660-666.
1970 La professione dell'umanista nel Cinquecento // Italia medievale e umanistica,
13. P. 205-232.
Bahner W.
1957 Zur Romanitat des Rumanischen in der Geschichte der Romanischen Philologie
vom 15. bis zur Mitte des 18. Jahrhundert // Romanistischen Jahrbuch, 8. S.
75-94.
1974 La philologie romane et les problemes linguistiques de la Renaissance // Bei-
truge zur romanischen Philologie, 13. S. 211-216.
1981 La philologie romane et les problemes linguistiques de la Renaissance // Atti
del XIV Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza (Napoli,
15-20 aprile 1974). Napoli; Amsterdam, 5. P. 617-624.
1983 Skizzen zur Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft von der Mitte des
15. bis zu den Anfangen des 17. Jahrhunderts // Beitrage zur Romanischen
Philologie, 22. S. 177-222.
468
Библиографии
Barbi M.
1889 Degli studi di Vincenzo Borghini sopra la storia e la lingua di Firenze //
Propugnatore. N. Ser., 2. Fasc. 10. P. 5-71.
Baron H.
1970 La crisi del Rinascimento. Trad. ital. Firenze (Biblioteca storica del Rinasci.
mento. N. Ser., VI).
Bartoli Giorgio
1584 Degli elementi del parlar toscano. Trattato di Giorgio Bartoli Gentiluomo fioren-
tino Nuovamente Publicato con Licenza e privilegio in Fiorenza. Ne le Case de'
Giunti ne TAnno MDLXXXHII.
Battaglia S.
1961 Grande dizionario della lingua italiana. Torino, 1961-
Battisti C, Alessio G.
1950-1957 Dizionario etimologico italiano. 5 voll. Firenze.
Belladonna R.
1978 Some Linguistic Theories of the Accademia Senese and of the Accademia degli
Intronati of Siena: An Essay on Continuity // Rinascimento, 18. P. 229-248.
Belloni G.
1987 Alle origini della filologia e della grammatica italiana: il Fortunio // Linguis-
tica e Filologia. Atti del VII Convegno internazionale di Linguistica tenutosi a
Milano nei giorni 12-14 sett. 1984. A cura di G. Bolognesi, V. Pisani. Brescia.
P. 187-204.
Bertoni G., Ugolini F. A.
1939 Prontuario di pronuncia e di ortografia [Torino].
Bertoni G., Vicini E. P.
1905 Gli studi di grammatica e la Rinascenza a Modena. Modena (отд. оттиск).
Besomi О., Regoliosi M.
1984 Laurentii Valle Epistole. A cura di O. Besomi e M. Regoliosi. Padova
(Thesaurus mundi, 24).
Bianciii M. G.
1996 Lodovico Castelvetro, la ricerca etimologica e lo studio della lingua letteraria
// [Italia ed Europe I, p. 549-564].
Billanovicii G.
1954 Leon Battista Alberti, il «Graecismus» e la «Chartula» // Lingua nostra, 15.
P. 70-71.
Binotti L.
1987 Quevedo у la teoria del *castellano primitivo» // [Speculum historiographiae
linguisticae, S. 95-102].
1988 Guarino en el Ms. Escurialense S.II.13: version castellana de una polemica
humanista en Italia // Actas del I Congresso Internacional de Historia de la
Lengua Espafiola (Caceres, 30 de Marzo — 4 de Abril 1987). Ed. рог М. Ariza
etal. Madrid. P. 1095-1107.
BOLGAR R. R.
1954 The Classical Tradition and its Beneficiaries. Cambridge.
Bongrani P.
1983 Nuovi contributi per la «Grammatical di Leon Battista Alberti // Studi di
filologia italiana, 40. P. 65-106.
1986 Lingua e letteratura a Milano nell'eta Sforzesca. Una raccolta di studi. Parma-
1989 [Рец.]: [Sabbatino 1988] // GSLI, 106, P. 105-115.
BONOMI I.
1978 A proposito di alcune forme verbali nella grammatica di Pierfrancesco Giam"
bullari // Studi di grammatica italiana, 7. P. 375-397.
1982 La grammatica di Pierfrancesco Giambullari: Saggio di un'analisi delle *°гт
verbali del fiorentino vivo // Rinascimento: Aspetti e problemi attuali. Fire
ze, P. 231-242.
Библиография
469
1985 Giambullari e Varchi grammatici nell'ambiente linguistico fiorentino // La
Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana. Atti del Congresso
internazionale per il IV centenario deirAccademia della Crusca. Firenze.
1987 Una grammatichetta italiana per Giovanna d'Austria, sposa di Francesco de'
Medici (1565) // Acme, 40, P. 51-73.
BORGIIINI V.
1971 Scritti inediti о rari sulla lingua. A cura di J. R. Woodhouse. Bologna (Colle-
zione di opere inedite о rare, 132).
Bosco U.
1970 Saggi sul Rinascimento italiano. Firenze.
Bracciolini 1982
Poggio Bracciolini 1380-1989. Nel 6° centinario della nascita, Firenze, 1982.
(Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Studi e Testi, 8).
Brulard I.
1990 La traduction comme miroir d'un changement dans Tapproche du sens a la
Renaissance // [Moments et mouvements, p. 13-21].
Brum L.
1928 Humanistisch-philosophische Schriften. Ed. H. Baron. Leipzig; Berlin. 1928
(2te Ausg. Wiesbaden, 1970).
Brum F.
1984 L'italiano: Elementi di storia e della culture. Testi e documenti. Torino.
Bursill-Hall G. L.
1981 Medieval Donatus Commentaries // HL, 8. P. 1-72.
1989 Medieval Priscian Commentaries. Introduction and Bibliography // HL, 16.
P. 89-130.
Caix N.
1876 Die Streitfrage iiber die italienische Sprache // Italia, hgg. K. Hillebrand in
Florenza. Bd. 3. Leipzig. S. 121-154.
Calderini De Marciii R.
1914 Jacopo Corbinelli et les erudites francais d'apres la correspondence inedite
Corbinelli—Pinelli. Milano.
Calmeta V.
1959 Prose e lettere edite e inedite. A cura di С Grayson. Bologna.
Cambridge History
The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Ed. Charles B. Schmitt.
Cambridge; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge Univ. press,
1988.
Campana A.
1946 The origin of the word humanist // Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, 9. P. 60-73.
Camporeale S.I.
1972 Lorenzo Valla: Umanesimo e teologia. Firenze.
1976 Lorenzo Valla tra Medioevo e Rinascimento. «Encomium Sancti Thomae» —
1457 // Memorie domenicane. N. Ser., 7. P.102-124.
1981 Poggio Bracciolini contro Lorenzo Valla. Le «Orationes in L. Vallam» e la
«teologia umanistica» // Sapienza, 34. P. 396-415.
1982 Poggio Bracciolini contro Lorenzo Valla. Le «Orationes in L.Vallam» //
[Bracciolini 1982, p. 137-161]. Nel VI centenario della nascita. Firenze.
1986 Lorenzo Valla. «Repastinatio, liber primus»: retorica e linguaggio // [Valla
1986, p. 217-239].
Cantimori D.
1971 Storici e storia. Metodo, caratteristiche e significato del lavoro storiografico.
Torino.
Capodurro L.
1983 L'edizione romana del «De orthographia» di Giovanni Tortelli (Hain 1563) e
Adamo de Montaldo // Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento.
470
Библиография
Atti del 2 seminario (6-8 maggio 1982). A cura di M. Miglio et al. Citta del
Vaticano.
Cappagli A.
1990 Gli scritti ortofonici di Claudio Tolomei // Studi di grammatica italiana, 14.
P. 341-394.
1993 Due ricerche sulla fonetica del Tolomei // Studi di grammatica italiana, 15.
P.111-155.
Cappagli A., Pieracini A. M.
1985 Sugli inediti grammaticali di Claudio Tolomei. I. Formazione e storia del mano-
scritto senese//Rivista di letteratura italiana, 3. P. 387-411.
Casacci A.
1926 Gli «Elegantiarum libri» di Lorenzo Valla // Atene e Roma. N. Ser., 7. P.
187- 203.
Casciano P. (ed.)
1990 Lorenzo Valla, L'arte della grammatica. A cura di Paola Casciano. Milano.
Castellani A.
1956 Fonotipi e fonemi in italiano // Studi di filologia italiana, 14. P. 435-453.
Castellano
Trissino G. G. Dialogo intitulato «II Castellano», nel quale si tratta de la lingua
italiana // [DL, p. 117-173].
Castelvecciii A.
1986 Introduzione // [Trissino 1986, p. XII-LVII].
Castelvetro L.
1563 [Castelvetro L.] Giunta fatta al Ragionamento degli articoli e de' verbi di
Messer Pietro Bembo. In Modena. Per gli Heredi di Cornelio Gadaldino MDLXIII.
1978-1979 «Poetica» d'Aristotele vulgarizzata e sposta. A cura di W. Romani. Roma;
Bari (Scrittori d'ltalia, 265).
Catalogus translationum
Catalogue translationum et commentariorum. Ed. P. 0. Kristeller and
F. E. Cranz. Washington, I960-.
Ceard J.
1980 De Babel a la Pentecote: la transformation du my the de la confusion des langues
au XVI siecle // Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, 42. P. 577-594.
Cesano
Tolomei Claudio. II Cesano della lingua Toscana // [DL, p. 185-275].
Cherchi P.
1985 Corbinelli, Postel e il problema deH'antico toscano // [Postel 1985, p. 317-
325].
Chevalier J.-Cl.
1968 Histoire de la syntaxe: Naissance de la notion de complement dans la gram-
maire francaise (1530-1750). Geneve.
ClIIESA M.
1980 Appunti sul rozzo parlare // GSLI, 157. P. 282-292.
СНОМARAT J.
1979 Erasme lecteur des «Elegantiae» de Valla // Acta Conventus Neo-Latini Am-
stelodamensis. Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin
Studies (Amsterdam, 19-24 August 1973). Ed. by P. Tuyman, G. С Kuiper,
E. Kessler. Munchen. P. 206-243.
1981 Grammaire et rhetorique chez Erasme. 2 vols. Paris.
ClAN V.
1909 Le «Regole della lingua Fiorentina» e le «Prose» bembiane // GSLI, 54. P. 120'
130.
1911 Contro il volgare // Studi letterari e linguistici dedicati a Pio Rajna. Firenze.
P. 251-297.
Библиография
471
Cipriani G.
1980 II mito etrusco nel Rinascimento fiorentino. Firenze.
Codoner C.
1996 «Elegantiae» di Valla у «Differentiae» di Nebrija // [Italia ed Europa, I,
p. 89-98].
Colocci 1972
Atti del Convegno di Studi su Angelo Colocci (Jesi, 13-14 settembre 1969).
Jesi: Amministarzione Comunale, 1972.
COLOMBAT B.
1988 Les «parties du discours» (partes orationis) et la reconstruction d'une syntaxe
latine au XVIe siecle // Langages, 92. P. 51-64.
1988a Presentation: Elements de reflexion pour une histoire des parties du discours
// Langages, 92. P. 5-10.
Colombo С
1962 Leon Battista Alberti e la prima grammatica italiana // Studi linguistici itali-
ani, 3. P.176-187.
COPENHAVER B. P.
1988 Translation, Terminology and Style in Philosophical Discours // [Cambridge
History, p. 75-110].
CORTESI M.
1979 II «Vocabularum» greco di Giovanni Tortelli // Italia medioevale e umanisti-
ca, 22. P. 449-483.
1986 Scritti di Lorenzo Valla tra Veneto e Germania // [Valla 1986, p. 365-398].
Corti M.
1955 Marco Antonio Ateneo Carlino e Tinflusso dei grammatici latini sui primi
grammatici italiani // Cultura neolatina, 15. P. 195-222.
1969 Un grammatico e il sistema classificatorio nel Cinquecento // M. Corti. Metodi
e fantasmi. Milano. P. 219-249.
1982 Dante a un nuovo crocevia. Firenze (lfl ed. 1981).
Coseriu E.
1972 Las etimologias de Giambullari // Homenaje a A. Tovar. Madrid. P. 95-103.
1973 Lezioni di linguistica generale. Torino.
Costa G.
1977 Le antichita germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico. Napoli
(Istituto italiano per gli studi filosofici. Serie Studi, 1).
Crescini V.
1883 Lettere di Jacopo Corbinelli. Contributo alia storia degli studi romanzi //
GSLI, 2. P. 303-333.
1916 [Рец.]: [Calderini de Marchi 1914] //GSLI, 68. P. 395-434.
Croce B.
1946 Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Bari.
Curtius E. R.
1956 La litterature europeenne et le Moyen Age latin. Trad, de Tallemand. 2 vol.
Press. Univ. de France.
Dardano M.
1974 L. B. Alberti nella storia della lingua italiana // [Alberti 1974, p. 261-272].
Debenedetti S.
1902 B. Varchi provenzalista. Torino.
1911 Gli studi provenzali in Italia nel Cinquecento. Torino.
De Blasi N.
1993 L'italiano nella scuola // Storia della lingua italiana, I: 1 luoghi della cod if i-
cazione. Torino. P. 383-423.
De Mauro T.
1963 Storia linguistica dell'Italia unita. Bari (Biblioteca di cultura moderna).
472
Библиография
D'Ovidio F.
1893 Ре' plagiarj del Tolomei // Rassegna bibliografica della letteratura italiana, 1.
P. 46-49.
De Petris A.
1975 Le teorie umanistiche del tradurre e «l'Apologeticus» di Gianozzo Manetti //
Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, 37. P. 15-32.
DfAZ Y DfAZ M. С
1951 Latinitas: Sobre la evoluti6n de su concetto // Emerita, 19. P. 35-50.
Dionisotti C.
1938 Ancora del Fortunio // GSLI, 111. P. 213-254.
1967 II Fortunio e la filologia umanistica // Rinascimento europeo e Rinascimento
veneziano. A cura di V. Branca. Firenze (Civilta europea e civilta veneziana,
3). P. 11-23.
1968 Gli umanisti e il volgare fra Quattro e Cinquecento. Firenze.
Discorsi I
Discorsi di monsignore ... Vincenzio Borghini. Parte I. [Della origine della citta di
Firenze.; Delia citta di Fiesole.; Della Toscana, e sue citta ... ]. Fiorenza, nella
stamperia di Filippo, e Jacopo Giunti, e fratelli, 1584.
Discorso- см. [Machiavelli 1976].
Discussioni linguistiche
Discussioni linguistiche del Cinquecento / A cura di M. Pozzi. Torino, 1988 (Classici
italiani).
Dubois Cl.-G.
1970 Mythe et langage au seizieme siecle. Bordeaux.
1972 Celtes et Gaulois au XVIе siecle. Le developpement litteraire d'un mythe na-
tionaliste. Paris (De Petrarque a Descartes, 28).
Eco U., Marmo C. (eds.)
1989 On the Medieval Theory of Signs. Amsterdam; Philadelphia (Fondations of
Semiotics, 21).
Eco et al.
1989 Eco U., Lambertini R., Marmo C, Tabarroni A. On Animal Language in the
Medieval Classifications of Signs // [Eco, Marmo 1989, p. 3-41].
Engler R.
1975 I fondamenti della favella di Lionello Salviati e Г idea saussuriana di «langue
complete» // Lingua e stile. 10. P. 17-28.
Epistolario
Epistolario di Guarino Veronese. 3 voll. Venezia. 1915-1919.
Ercolano
Varchi B. L'Ercolano, Dialogo nel quale si ragiona generalmente delle lingue e in
particolare della toscana e della fiorentina... // [DL, p. 443-596]; Id. Lezioni
sul Dante e prose varie di Benedetto Varchi la maggior parte inedite... Per cura
e opera di G. Aviazzi. Vol. 2. Firenze, 1841.
The Fairest Flower
The Fairest Flower: The Emergence of Linguistic National Consciosness in
Renaissance Europe. International Conference of the Center for Medieval and
Renaissance Studies University of California (Los-Angeles, 12-13 December 1983).
Firenze, 1985.
Faithfull R. G.
1953 The Concept of Living Language in Cinquecento Vernacular Philology // The
Modern Language Reveiw, 48. P. 278-292.
Fellman J.
1977 The Earliest Renaissance Vernacular Grammar // Orbis, XXVI (2). P. 409-
410.
Ferrau G.
1986 La concezione storiografica del Valla: i «Gesta Ferdinandi regis Aragonum» //
[Valla 1986, p. 265-310].
Библиография
473
Ferlauto F.
1979 II testo di Tucidide e la traduzione latina di Lorenzo Valla. Palermo.
Ferrero G. G.
1935 Dante e i grammatici della prima meta del Cinquecento // GSLI, 105. P. 1- 59.
Filelfo 1986
Francesco Filelfo nel V centenario della morte. Atti del XVII Convegno di studi
maceratesi (Tolentino, 27-30 settembre 1981). Padova, 1986 (Medioevo e Umane-
simo, 58).
FlORELLI P.
1952 Senso e premesse d'una fonetica fiorentina // Lingua nostra, 13. P. 57-63.
1953 Gorgia toscana e gorgia beota // Lingua nostra, 14. P. 57-58.
1956 Pierfrancesco Giambullari e la riforma dell'alfabeto // Studi di filologia ita-
liana, 14. P. 177-210.
1957 *Degli elementi del parlar toscano» // LN, 18. P. 113-118.
Floriani P.
1981 I gentiluomini letterati: Studi sul dibattito culturale nel primo Cinquecento.
Napoli (Le forme del significato, 29).
Focm F.
1969 L'italiano facile. Milano.
Folena G.
1952 Vocaboli e sonetti milanesi di Benedetto Dei / Studi di filologia italiana, 10.
P. 83-143.
1970 Borghini Vincenzio // DBI, vol. 12. P. 680-689.
1973 ♦Volgarizzare» e «tradurre»: idea e terminologia della traduzione dal
Medioevo italiano e romanzo all'Umanesimo europeo // La traduzione: Saggi e studi.
Trieste. P. 59-109.
Fortunio G. F.
1973 Regole grammaticali della volgar lingua. A cura di M. Pozzi. Torino.
Franco Subri M. R.
1977 Gli scritti grammaticali inediti di С Tolomei // GSLI, 154. P. 537-561.
1980 Gli scritti grammaticali inediti di C. Tolomei: le quattro *lingue» di Toscana
//GSLI, 167. P.403-415.
Freund W.
1874 Triennium philologicum oder Grundzuge der philologischen Wissenschaft. I
Semester Abteilung. Leipzig.
Fubini R.
1961 La coscienza del latino negli umanisti. «An latina lingua romanorum esset
peculiare idioma» // Studi medievali. Ser. Ill, 2. P. 505-550.
Gabotto F.
1892 Un nuovo contributo alia storia deirUmanesimo ligure (estr.) // Atti della
Societa ligure di storia patria, 24 (1). Genova.
Gaeta F.
1955 Lorenzo Valla. Filologia e storia neirUmanesimo italiano. Napoli.
Galeottus Marti us
1517 Galeotti Martii Narniensis De homine libri duo. Basilea.
Gamberini S.
1970 Lo studio dell'italiano in Inghilterra nel '500 e nel '600. Messina; Firenze
(Biblioteca di culture contemporanea, 106).
Gara F.
1996 II «De linguae latinae usu et praestantia» di Uberto Foglietta: una difesa del
latino nell'Europa del Cinquecento // [Italia ed Europa, I, p. 187-208].
Garin E.
1951 Le traduzioni umanischiche di Aristotele nel secolo XV // Atti e memorie
dell'Accademia Fiorentina di scieze morali la ♦Colombaria». N. Ser., 16 (2).
P. 57-104.
!7 3ак. 310!
474
Библиография
1966 Educazione umanistica in Italia. Bari.
Garvin B.
1992 CI. Tolomei. Del raddoppiamento da parola a parola. Ed. critica a cura di
B. Garvin. Univ. of Exeter Press. (Testi italiani di letteratura e di storia della
lingua, 7).
Gauger H-M.
1967 Bernardo de Aldrete 1565-1645. Ein Beitrag zur vorgeschichte der romanis-
chen Sprachwissenschaft // Romanisches Jahrbuch,18. S. 207-248.
Gendre R.
1973 [Рец.]: [Gamberini 1970] // GSLI, 150. P. 459-466.
Gesner C.
1555 Mitridates. Differentiis linguarum tarn veterum tarn hodie apud diversos na-
tiones in toto orbe terraru[m] in usu sunt, Conradi Gesneri Tigurini Observa-
tiones. Anno MDLV Tiguri exudebat Froschoverus.
Gerl H. B.
1974 Rhetorik als Philosophie: Lorenzo Valla. Munchen.
Ghinassi Gh.
1961 Correzioni editoriali di un grammatico cinquecentesco // Studi di filologia
italiana, 19. P. 33-93.
Giambullari P.
1986 Regole della lingua fiorentina. Ed. critica a cura di Ilaria Bonomi. Firenze
(Grammatiche e lessici. Pubbl. dell'Accad. della Crusca).
GlANNANTONIO P.
1972 Lorenzo Valla filologo e storiografo deH'Umanesimo. Napoli.
Giannini S.
1996 Teoria linguistica e storia della grammatical Vanalogia // [Italia ed Europe,
P. 75-87].
GlARD L.
1982 Lorenzo Valla: La langue comme lieu du vrai // Histoire. Epistemologie. Lan-
gage, 4. P. 5-15.
Gilbert N. W.
1960 Renaissance Concepts of Method. New York.
GlRARDI E. N.
1955 Gli scritti linguistici di G. B. Gelli // Aevum, 29. P. 469-503.
Godfrey R. G.
1965 Late Medieval Linguistic Metatheory and Chomsky's Syntactic Structures //
Word, 21. P. 251-256.
GOLDBLATT H.
1984 The Language Question and the Emergence of Slavic National Languages //
The Emergence of National Languages. Ed. A. Scaglione. Ravenna. P. 119-
173.
GOLDBLATT H., PlCCHIO R.
1984 Guidelines for a Comparative Study of the Language Question among the
Slavs. // Aspects of the Slavic Language Question. 2 voll. (Yale Russian and
East European Publicabions, 4). New Haven. I. P. 1-42.
Grabmann M.
1979 Gentile da Cingoli ein italienischen Aristoteleserklarer aus der Zeit Dantes //
M. Grabmann. Gesammelte Akademieabhandlungen. 2 Bd. Padeborn; Munchen;
Wien; Zurich. S. 1639-1724.
Gravelle S. S.
1982 Lorenzo Valla's Comparison of Latin and Greek and the Humanist Background
// Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, 44. P. 269-289.
1989 A New Theory of Truth // The Journal of the History of Ideas, 50 (2). P. 333-
336.
Библиография
475
Grayson С.
1957 A Renaissance Controversy: Latin or Italian. Oxford.
1960 Lorenzo, Machiavelli and the Italian Language // Italian Renaissance Studies:
A Tribute to the Late Cecilia M. Ady. London.
1964 Leon Battista Alberti. La prima grammatica della lingua volgare. La gram-
matichetta vaticana. Cod. Vat. Reg. Lat. 1370 / A cura di С Grayson. Bologna
(Collezione di testi inedite e rare, 125).
1964a Leon Battista Alberti and the Beginings of Italian Grammar (Italian Lecture,
read 4 December 1963 // Proceeding of the British Academy, 49. London.
P. 291- 311.
1982 Le lingue del Rinascimento // II Rinascimento: Aspetti e problemi. A cura di
V. Branca ed al. Firenze (Biblioteca delP^Archivium Romanicum». Ser. I. Sto-
ria. Letteratura. Paleografia, 167).
Grendler P. F.
1989 Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning: 1300-1600. Baltimore;
London.
Griffith T. G.
1961 Awenture linguistiche del Cinquecento. Firenze.
Gualdo Rosa L.
1983 Una nuova lettera del Bruni sulla sua traduzione della *Politica» di Aristotele
// Rinascemento. Ser. II, 23. P. 113-134.
Guarino Veronese
1591 Guarini Veronensis... Regulae grammatices; nunc denuo recognitae, et summa,
ac diligenti cura excusae, et emendatae; quibus adiecimus in fine Alphabetum
graecum. Ferrariae apud Benedictum Mammerellum 1591 [24 f. in 8°].
Guarinus Baptista
1514 De modo et ordine docendi ac discendi. Veronae. Ex aedibus Schurerianis 1514
[14 f. in 4°].
GUERRI D.
1909 Sul nome di Dio nella lingua di Adamo secondo il XXVI del Paradiso e il verso
di Nembrotte nel XXXI dell'Inferno // GSLI, 54, fasc. 160-161. P. 65-76.
Hall R. A. Jr.
1936 Linguistic Theory in Italian Renaissance // Language, 12/2. P. 96-107.
1942 The Italian Questione della lingua. An interpretative essay // Studies in the
Romance Languages and Litteratures (of the) University of North Carolina, 4.
Chapel Hill.
Haskins G. H.
1929 The Early «artes dictandi» in Italy // Studies in Medieval Culture.
Hayes H.
1988 Claudio Tolomei: A Major Influence on Griff ydd Robert // Modern Language
Review, 83/1. P. 56-66.
Heinimann S.
1963 Zur Geschichte der grammatischen Terminologie im Mittelalter // ZRPh, 79,
1/2. P. 23-37.
L'lIERITAGE DES GRAMMARIENS LATINS
L'heritage des Grammariens Latins, de PAntiquite aux Lumieres // Actes du Col-
loque de Chantilly (Louvain, sept. 1987). Ed. I. Rosier. Paris, 1988.
Holmes U. T.
1928 The Vulgar Latin Question and the Origin of Roman Tongues: Notes for a
Chapter of the History of Romance Philology prior to 1849 // Studies in
Philology, 25. P. 51-61.
Holtz L.
1981 Donat et la tradition de Penseignement grammatical. Etude sur PArs Donati
et sa diffusion (IVe-IXe siecle) et edition critique. Paris.
476
Библиография
Hortis А.
1938 Notizie di Gianfrancesco Fortunio // GSLI, 111. P. 205-212.
Ijsewijn J.
1975 Laurentius Vallas ♦Sprachliche Kommentar» // Der Kommentar in der
Renaissance. Hrsg. von A. Buck und 0. Herding. Boppard: Harald Boldt Verlag.
S. 89-95.
Inst. orat.
M. Fabi Quintiliani. Institutionis oratoriae libri duodecim. Ed. M. Winterbottom.
Oxford, 1970.
lOANNIS ROBOAMUS
1549 Elegantiarum Laurentii Vallae libri VI. Carmine prestricti: cum brevissimis
iisdemque doctissimis Scoliys. Ioanne Roboamo Rauerenino authore. Lutetiae.
Ex officina Roberti Stephani typography Regiy MDXLIX.
Ism. Etym.
Isidore Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri. Ed. W. M.
Lindsay, 2 voll. Oxford. 1962 (repr.)
Italia ed Europa
Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento: Confronti e relazioni. Atti del
Convegno internazionale (Ferrara, 20-24 marzo 1991). A cura di M.Tavoni et
al. Modena, 1996. Vol. 1: L'ltalia ed il mondo romanzo. Vol. 2: L'ltalia e
l'Europa non romanza. Le lingue orientali.
Izzo H. J.
1970 Implications of Renaissance Phonology for Etruscan Origin of the Gorgia Toscana
// Forum Italicum, 4. P. 376 — 385.
1972 Tuscan and Etruscan. Toronto.
1982 Phonetics in 16th-Century Italy: Giorgio Bartoli and John Davis Rhys // HL,
9. P. 335-359.
1986 Phonetics in 16th-Century Italy: Giorgio Bartoli and John David Rhys // The
History of Linguistics in Italy. Ed. P. Ramat, H.-J. Niederehe, K. Koerner
(Studies in the History of the Language Science, 33) Amsterdam. P. 121-145.
Jakobson R.
1962 Sur la theorie des affinites phonologique entre les langues // Selected
Writings. Vol. I. The Hague. P. 234-246.
Jardine L.
1988 Humanistic Logic // [Cambridge History, p. 173-198].
Jensen K.
1990 Rhetorical Philosophy and Philosophical Grammar. Julius Caesar Scaliger's
Theory of Language. Munchen.
Jones-Davies M. T.
1984 Le dialogue au temps de la Renaissance. Paris (Traveax du Centre de Recher-
ches sur la Renaissance de l'Universite de Paris — Sorbonne, 9).
Kelley D. R.
1970 Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law, and the French
Renaissance. New York; London.
Kelly L. G.
1990 Medieval Philosophers and Translation // [Niederehe, Koerner 1990, p. 205-
218].
Kevorkian R. H. ^^
1986 Catalogue des Incunables Armeniens (1511-1693). Ou Chronique de L'Imprimerie
Armenienne // Cahiers d'Orientalisme, 9. P. XXXIV-203.
KlIASAF H. /
1992 Le origini del linguaggio secondo i musulmani medioevali // Versus. Quader-
ni di studi semiotici, 61-63. P. 71-90.
Библиография
All
Klein H. W.
1957 Latein und Volgare in Italien. Ein Beitrag zur Geschichte der italienischen
Nationalsprache. Mtinchen (Miinchner Romanistische Arbeiten, 12).
Koerner K.
1989 Sur l'origine du concept et du terme «sinchronique» en linguistique //
Koerner K. Practicing Linguistic Historiography: Selected Essays. Amsterdam;
Philadelphia. P. 257-266.
Kristeller P. 0.
1944-1945 Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance // Byzantion,
17. P. 346-374.
1965-1990 Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued
humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol.
1-5. London.
1981 Niccolo Perotti ed i suoi contributi alia storia deirUmanesimo // Res Publica
Litterarum, 4. P. 7-25.
1984 Latein und Vulgarsprache im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts // Deut-
sches Dante-Jahrbuch, 59. S. 7-35.
1988 Humanism // [The Cambridge History, p. 113-137].
KUKENHEIM L.
1932 Contribution a l'histoire de la grammaire italienne, espagnole et francaise a
l'epoque de la Renassance. Amsterdam.
1951 Contribution a l'histoire de la grammaire greque, latine et hebraique a l'epoque
de la Renaissance. Leiden.
Labande-Jeanroy Th.
1925 La question de la langue en Italie de Baretti a Manzoni. Paris.
Lambert P.-Y.
1987 Les premieres grammaires celtiques // Histoire. Epistemologie. Langage, 9
(1). P. 13-45.
Lardet P.
1986 Enonciation et redistribution des savoirs a la Renaissance // Histoire.
Epistemologie. Langage, 8 (2). P. 81-104.
1992 Travail du texte et savoirs des langues: la philologie // [Auroux 1992, p. 187-
205].
Law V.
1986 Originality in the Medieval Normative Tradition // Studies in the History of
Western Linguistics. In Honour of R. H. Robins. Ed. T. Bynon, F. R. Palmer.
Cambridge; London. P. 43-55.
Legrenzi A.
1910 Vincenzio Borghini. Studio critico. Udine. 2 voll.
Leoni F. A.
1977 Fonetica storica e grafetica storica // Problemi della ricostruzione in linguis-
tica. Atti del Convegno internazionale di studi (Pavia, 1-2 ottobre 1975). A
cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma. P. 79-102.
Lepsciiy G. (ed.)
1994 History of Linguistics. London; New York (пер. с ит. [Storia linguistica]).
Letture II
Letture edite e inedite di G. B. Gelli. A cura di С Negroni. Firenze, 1887. 2 voll.
Liburnio N.
1970 Occorrenze umane. A cura di L. Peirone. Milano.
Lingua e lettekatura
1992 Lingua e letteratura a Siena dal '500 al '700. Atti del Convegno (Siena, 12-13
giugno 1991). A cura di L. Giannelli et al. Universita degli studi di Siena.
Lloyd W.
1964 Lloyd W., Daly В., Daly A. Some Techiques in Medieval Latin Lexicography //
Speculum, 39. P. 229-231.
478
Библиография
Lo Monaco F.
1986 Per la traduzione valliana della «Pro Ctesiphonte» di Demostene // [Valla
1986, p. 141-164].
Luzzato L.
1893 Pro e contro Firenze. Saggio storico sulla polemica della lingua. Verona; Padova.
Machiavelli N.
1976 Discorso о dialogo intorno alia nostra lingua. Ed. critica con introduzione,
note e appendice a cura di В. Т. Sozzi. Torino.
MADRIGNANI С. А.
1963 Di alcune biografie umanistiche di Dante e Petrarca // Belfagor, 18. P.29-48.
Manacorda G.
1912 Postille Gunzoniane // Scritti varii di erudizione e di critica in onore di Rod-
olfo Renier. Torino. P. 99-124.
1913-1914 Un testo di grammatica latino-veneta del sec. XIII // Atti Accad. Sc. di
Torino, 49. P. 689-698.
[1914] Storia della scuola in Italia. Vol. 1: II Medio Evo. Milano; Palermo; Napoli,
[s.a.]. (Repr. Firenze, 1980).
1916-1917 Libri scolasctici del Medioevo e del Rinascimento // Bibliofilia. Vol. 17.
1916. P. 397-421. Vol. 18. 1916-1917. P. 240-258.
MANCINI G.
1891 Vita di Lorenzo Valla. Firenze. (Repr. Roma, 1971).
Maraschio N.
1977 II parlato nella speculazione linguistica del Cinquecento // Studi di
grammatica italiana, 6. P.201-226.
1985 Scrittura e pronuncia nel pensiero di Leonardo Salviati // La Crusca nella
tradizione letteraria e linguistica italiana. Atti del Congresso internazionale
per il IV centenario dell'Accademia della Crusca. Firenze. P. 81-89.
1992 Tratatti di fonetica del Cinquecento. A cura di N. Maraschio. Firenze.
Marazzini Cl.
1987 Le origini barbare nella tradizione linguistica italiana // GSLI, 164.
P. 396-423.
1989 Storia e coscienza della lingua in Italia dalFUmanesimo al Romanticismo.
Torino.
Marchegiani L.
1970 L'aristotelismo latino di Gentile da Cingoli alia fine del XIII secolo // Annali
della Facolta Giuridica. Univ. degli Studi di Camerino, 36. P. 81-177.
Margolin J.-Cl.
1981 La fonction pragmatique et l'influence culturelle de la ♦Cornucopia» de Nicco-
16 Perotti // Res Publica Litterarum, 4. P. 123-171.
Marigo A.
1936 I codici manoscritti delle *Derivationes» di Uguccione Pisano... con appendice
sui codici del ♦Catholicon» di Giovanni da Genova. Roma.
Marinoni A.
1944-1952 Gli appunti grammaticali e lessicali di Leonardo da Vinci. Milano. 2 voll.
Marsh D.
1979 Grammar, Method and Polemic in Lorenzo Valla's «Elegantiae» //
Rinascimento. N.S., 19. P. 91-116.
1980 The Quattrocento Dialogue. Classical Tradition and Humanism Innovation.
Cambridge (Mass).
1984 Lorenzo Valla in Naples: The Translation from Xenophon's ♦Cyropaedia» //
Bibliotheque d'Humanism et Renaissance/^. P. 407-420.
Marti M. \
1980 Nuovi contributi dal certo al vero. Studi di filologia e di storia. Ravenna.
Библиография
479
Martianus Capella
1836 Martiani Minei Felicis Capellae, afri Carthagiensis de Nuptiis Philologiae et
Mercurii et de septem Artibus Liberalibus libri novem / Ed. Ulricus Fridericus
Корр. Hassus Casellanus. Francofurti ad Moenem.
Martinelli L. C.
1980 Note sulla polemica Poggio — Valla e sulla fortune delle oElegantiae» //
Interpres, 3. P. 29-70.
1986 Le postille di Lorenzo Valla all'olnstitutio oratoria» di Quintiliano // [Valla
1986, p. 21-50].
Martorelli Vico R.
1985 Gentile da Cingoli. Questiones supra Prisciano minori. A cura di R. Martorelli
Vico. Pisa (Centro della culture medievale della Scuola Normale Superiore, 1).
Mathieu-Castellani G.
1982 Origine de la langue, langue de l'origine: mythe et desir dans «Le Thresor» de
Claude Duret // Reforme. Humanisme. Renaissance. Bull, de l'Ass. d'etude
sur rHumanism, la Reforme e la Renaissance, 15. P. 79-85.
Mazzoni G.
1939 Una novella di Vincenzo Borghini sopra la lingua italiana // LN, 1. P. 38-40.
Mazzotta 0.
1989 Monaci e libri greci nel Salento Medievale. Novoli.
Mengaldo P. V.
1960 Appunti su Vincenzo Calmeta e la teoria cortigiana // La Rassegna della lette-
ratura italiana, 64. P. 446-469.
Mercati G.
1925 Per la cronologia della vita e degli scritti di Niccolo Perotti arcivescovo di
Siponto. Vaticano (Studi e testi, 44).
Miccoli L.
1983 Questiones disputate a magistero de Cingulo super Prisciano minori. A cura di
L. Miccoli // Linguistica medievale. Bari. P. 231-314.
Migliorini B.
1949 La questione della lingua // Questioni e correnti di storia letteraria. Milano.
P. 1-75.
1950 Le proposte trissiniane di riforma ortografica // LN, 11. P. 77-81.
1955 Note sulla grafia italiana del Rinascimento // Studi di filologia italiana, 13.
P. 259-296.
1960 Storia della lingua italiana. Firenze.
1963 Lingua e dialetti // LN, 24 (3).
1967 La lingua italiana d'oggi. Torino.
1975 Cronologia della lingua italiana. Firenze.
MlGNE, PL
Migne J.-P. Patrologiae cursus completus, sive Bibliotheca universalis... Accurante
J.-P. Migne. Seria Latina. T. 1-221. Parisiis, excudebat Migne, 1844-1864.
Mignini G.
1890 La epistola di Flavio Biondo *De locutione romana» // Propugnatore, N.S., 3.
P. 135-161.
Moments et mouvements
Moments et mouvements dans l'histoire de la linguistique. Ed. P. Swiggers. Lou-
vain, 1990 (Chaiers de l'lnstitut de linguistique de Louvain, 16/1).
Monfasani J.
1989 Was Lorenzo Valla an Ordinary Language Philosopher? // Journal of the
History of Ideas, 50 (1). Jan.-Mar. P. 309-323.
MORANDI L.
1905 I primi vocabolari e le grammatiche della nostra lingua // Nuova Antologia, 1
agosto. P. 438-443.
480
Библиография
1908 Lorenzo il Magnifico, Leonardo da Vinci e la prima grammatica italiana. Citta
di Castello.
1909 Per Leonardo da Vinci e per la «Grammatica» di Lorenzo de' Medici // Nuova
Antologia, 1 ottobre. P. 429-449.
MORELLI C.
1910 I trattati di grammatica e retorica del cod. Casanatense 1086 // Rendiconti
della R. Accad. dei Lincei. CI. di scienze morali, storiche e filol. Ser. V, 19. P.
287-328.
Mounin G.
1967 Histoire de la linguistique. Des origines au XX'siecle. Paris: Univ. de France.
Muller J.-Cl.
1986 Early Studies of Language Comparison from Sassetti to Sir William Jones
(1786) // Kratylos, 31. P. 1-31.
Nardi B.
1942 La «Donatio Constantini» e Dante // Studi danteschi, 26. P. 47-95.
Nebrija 1983
Nebrija у la introducci6n del Rinascimiento en Espana. Actas de la III Academia
Literaria Renacentista (Univer. de Salamanca 9, 10 у 11 diciembre de 1981).
Ed. Victor G. de la Concha. Salamanca, 1983.
Nencioni G.
1950 Quicquid nostri predecessores (per una piu piena valutazione della linguistica
preascoliana) // Atti e memorie dell'Arcadia. Accad. letteraria italiana. Ser.
3, vol. 2, fasc. 1. P. 3-36.
1954 Fra grammatica e retorica: un caso di polimorfia della lingua letteraria dal
secolo XIII al XVI. Firenze. [1954] Estr. Atti dell' Accad. Toscana di scienze e
lettere «La Colombaria», 18 (1953), 19 (1954).
1963 Essenza del toscano // Libera cattedra di storia della civilta fiorentina, VII:
Studi fiorentini. Firenze.
Neidereiie H.-J., Koerner K.
1990 Niederehe H.-J., Koerner K. History and Historiography of Linguistics.
Papers from the Fourth International Conference of the History of the Language
Science (ICHoLS IV), Trier, 24-28 August 1987. Amsterdam; Philadelphia.
Niutta F.
1990 Da Crisolora a Niccolo V: Greco e Greci alia Curia romana // Roma nel Rinasci-
mento. Roma. P. 13-31.
Orlandi G.
1975 Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi. Introd. di С Dioni-
sotti. Testi, traduzioni e note a cura di G. Orlandi. Milano.
Orlando S.
1973 La cultura umanistica e gli interessi linguistici di Leonardo da Vinci //
Interrogate dell'Umanesimo. Atti del X Convegno internazionale del centro di
studi umanistici. A cura di G. Tarugi. Firenze. 2 voll.
Ovid. Fast.
P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex. Recensuerunt E. N. Alton, D.E.W. Wormell,
E. Courtney. Leipzig, 1978 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum
Teubneriana).
Ovid. Met.
P. Ovidi Nasonis Metamorphoses. Ed. W. S. Anderson. Leipzig, 1977 (Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana).
Paccagnella I.
1986 Grammatica come scienza: Papprossimazione di Fortunio (1516) // Literatur
und Wissenschaft Begegnung und Integration. Festschrift fur Rudolph Baeh.
Hrsg. von B. Winklehner, Tubingen. S. 2Ъ-289.
Библиография
481
Padley G. A.
1976 Grammatical Theory in Western Europe 1500-1700: The Latin Tradition.
Cambridge.
1985-1988 Grammatical Theory in Western Europe 1500-1700: Trends in
Vernacular Grammar. Cambridge. Vol. 1: 1985. Vol. 2: 1988.
Panconcelli-Calzia G.
1943 Leonardo als Phonetiker. Hamburg.
Parlangeli O.
1969 Considerazioni sulla classificazione dei dialetti italiani // Studi linguistici in
onore di V. Pisani. Vol. 2. Brescia. P. 715-760.
Papiae Elementarium
Papiae Elementarium doctrine rudimentum. Littera «A». Ed. V. De Angelis. 3 voll.
Milano, 1977-1980.
Pastore A.
1984 Di un perduto e ritrovato «Compendio di la volgare grammatica» di Marcanto-
nio Flaminio // Italia medioevale e umanistica, 27. P. 349-356.
Peirone L.
1968 Un cinquecentesco inno ai fonemi // LN, 29. P. 102-105.
1971 Una raccolta di grammatiche del Cinquecento // LN, 32 (1). P. 7-10.
1971a Lo schema semiotico delF«albero» // LN, 32. P. 85-86.
1981 Primi approcci alia fonetica ed alia fonologia dell'italiano nel secolo XVI //
Atti del XIV Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza (Napoli,
15-20 aprile 1974). Napoli; Amsterdam. Vol. 5. P. 635-645.
Pellegrini G.
1954 Michelangelo Florio e le sue «Regole de la lingua Thoscana» // Studi di
filologia italiana, 12. P. 77-201.
1960 Ragazzo // Studi lingustici italiani, 1. P. 162-173.
Pelizzari A.
1924 II quadrivio nel Rinascimento. Napoli; Genova; Citta di Castello; Firenze.
(Biblioteca della «Rassegna della letteratura italiana», 8).
Penna M.
1965 Traducciones castellanes de la «Divina commedia» // Revista de la Univer-
sidad de Madrid, 16. P. 81-127.
Percival W. K.
1972 The Historical Sources of Guarino's «Regulae Grammaticales»: a
Reconsideration of Sabbadini's Evidence // Atti del VI, VII, VIII Convegno del Centro di
Studi Umanisctici «Angelo Poliziano». A cura di G.Tarugi. P. 263-284.
1975 The Grammatical Tradition and the Rise of the Vernaculars // Current Trends
in Linguistics. Ed. Th. A. Sebeok, 13. P. 231-275.
1975a [Рец.]: [Scaglione 1970] // Language, 51(3). P. 731-736.
1976 Renaissance Grammar: Ribellion or Evolution // Interrogativi dell' Umane-
simo. Atti del X Convegno internazionale del Centro di Studi umanistici
«Angelo Poliziano». A cura di G. Tarugi. Firenze. Vol. 2: Etica, estetica, teatro,
onoranze a Niccold Copernico. P. 73-89.
1976a Deep and Surface Structure Concepts in Renaissance and Medieval Syntactic
Theory // The History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics.
Ed. H. Parret. Berlin; New York. P. 238-253.
1976b The Notion of Usage in Vaugelas and in the Port Royal Grammar // History
of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics. Berlin; New York.
P. 374-382.
1978 Textual Problems in the Latin Grammar of Guarino Veronese // Res Publica
Litterarum, 1. P. 241-254.
1981 The Place of the «Rudimenta grammatices» in the History of Latin
Grammar // Res Publica Litterarum, 4. P. 233-264.
482
Библиография
1982 Change in the Approach to Language // The Cambridge History of Later
Medieval Philosophy: From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of
Scholasticism. Ed. N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg. P. 808-817.
1982a Antonio De Nebrija and the Dawn of Modern Phonetics // Res Publica Litter-
arum, 5/1. P. 221-232.
1986 Renaissance Linguistics: the old and the new // Studies in the History of
Western Linguistics in Honour of R. H. Robins. Ed. T. Bynon, F. R. Palmer.
Cambridge. P. 56-68.
1986a Early Editions of Niccolo Perotti's «Rudimenta grammatices» // Res Publica
Litterarum, 9. P. 219-229.
1988 Renaissance Grammar // Renaissance Humanism Foundations, Forms and
Legacy. Ed. by A. Rabil, Jr. Philadelphia. Vol. 3: Hummanism and the
Disciplines. P. 67-83.
1992 La conaissance des langues du monde // [Aroux 1992, p. 226- 238].
Perotti N.
1474 Perottus Nicolaus Rudimenta grammatices. Vinegia. Jacobis Brittanicus, IV
Non. Nov. [10 XI] 1474, [109 f. in 4°].
1513 Cornucopiae, sive linguae latinae com[m]entarii diligentissime recogniti: atq[ue]
ex archetypo emendati. Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae soceri.
Pertusi A.
1964 Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio. Le sue versioni omeriche negli
autograft di Venezia e la culture greca del primo Umanesimo. Venezia; Roma.
Peruzzi E.
1967 Una lingua per gli italiani. Torino.
Petrucci F.
1980 Cesano Gabriele Maria // DBI. Vol. 24. P. 129-132.
Pettenati G.
1960 II Bembo sul valore delle lettere e Dionisio d'Alicarnasso // Studi di filologia
italiana, 18. P. 69-78.
Pfister M.
1976 Zur Geschichte der Begriffe von Subjekt und Pradicat / /Munchener Studien
zur Sprachwissenscaft, 35. S. 105-119.
1978 Le superstrat germanique dans les langues romanes // Atti XIV Congresso
Internazionale di linguistica e filologia romanza (Napoli, 19-20 aprile 1974).
Napoli. Vol.1. P. 49-97.
Picchio R.
1972 Studi sulla Questione della lingua presso gli Slavi. A cura di R. Picchio. Roma.
Pirotti U.
1971 B. Varchi e la culture del suo tempo. Firenze.
La Poesia rusticana nel Rinascimento
La poesia rusticana nel Rinascimento. Atti del Convegno dei Lincei (Roma, 10-13
ottobre 1968). Roma, 1969.
PONCTUATION
La Ponctuation. Recherches historiques et actuelles. Actes de la Table Ronde
international C.N.R.S. de mai 1978. Ed. par J. Petit, N. Catach. Paris; Besancon,
1979.
PONTANI A.
1996 Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV: l'esempio di Michele Apostolis
// [Italia ed Europa, I, p. 133-170].
PONTE G.
1981 Leon Battista Alberti umanista e scrittore. Genova.
Postel 1985
Guillaume Postel: 1581-1981. Actes du Colloque International d'Avranches (5-9
sept. 1981). Paris, 1985. ^
Библиография
483
POSTEL G
1551 De Etruriae regionis, quae prima in orbe Europaeo habitata est, originibus,
institutes, religione et moribus, et imprimis de aurei saeculi doctrina et vita
praestantissima quae in divitinationis sacrae usu posita est Guilielmi Postelli
commentatio. Florentia. Torrentino.
Pozzi M.
1971-1972 II pensiero linguistico di Vincenzio Borghini // GSLI, 148. P. 216- 294;
149. P. 207-268.
1973 A proposito di una recente edizione di scritti borghiniani sulla lingua // GSLI,
150. P. 381-392.
1975 Lingua e culture del Cinquecento. Padova.
1979 II pensiero linguistico di B. Castiglione // GSLI, 156. P. 180-202.
1980 Teoria e fenomenologia della «descriptio» nel Cinquecento italiano // GSLI,
157. P. 161-179.
1980a [Рец.]: [Sport e giuochi] // GSLI, 157. P. 616-618.
Pratesi A.
1960 Giovanni Balbi // DBI. Vol. 5. P. 369-370.
Presa G.
1973 A. Citolini, V. Marcellino e V. Marostica nella vicenda d'una lettera in difesa
del volgare (sec. XVI) // Studi in onore di Alberto Chiari. Brescia. Vol. 3.
P. 1001-1024.
Previtera C.
1946 Nozioni di storia della lingua e della grammatica italiana. Messina.
Prisc. De accents.
[Prisciani] De accentibus liber // [Keili, III, p. 517-528).
Prisc. Inst, gramm.
Priscianus institutionum grammaticarum libri XVII // [Keili, III].
Prosatori latini
Prosatori latini del Quattrocento. A cura di E. Garin. Napoli; Milano, 1952
(Letteratura italiana: Storia e testi, 13).
Prose
Bembo P. Prose della volgar lingua. // Prose e rime di Pietro Bembo. A cura di
Carlo Dionisotti. Torino, 1966. P. 71-309.
Quintiliano
1567 L'institutioni oratorie di Marco Fabio Quintiliano... tradotte da Oratio Toscanella
... Delia vita autore: et d'annotazioni in lettere grandicelle delle cose piu im-
portanti. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari.
Quondam A.
1978 Nascita della grammatica: Appunti e materiali per una descrizione analitica //
Quaderni storici, 38. P. 555-592.
Rajna P.
1879 Un vocabolario e un trattatello di fonetica provenzale del secolo XVI // Gior-
nale di filologia romanza, 4/2. P. 34-50.
1896 Dante Alighieri. И trattato «De Vulgari Eloquentia». Per cura di Pio Rajna.
Firenze.
1916 Questioni cronologiche concernenti la storia della lingua italiana, II. Datazi-
one di un manifesto memorabile di riforma ortografica // La Rassegna bi-
bliografica della letteratura italiana. Ser. Ill, 1. P. 257-262.
1916a Questioni cronologiche concernenti la storia della lingua italiana; III. Datazi-
one ed autore del «Polito» // La Rassegna bibliografica della letteratura
italiana. Ser. Ill, 1. P. 350-361.
Regogliosi M.
1983 Umanesimo lombardo: la polemica tra Lorenzo Valla e Antonio da Rho // Studi
di lingua e letteratura lombarda offerti a Maurizio Vitale. Pisa. P. 170-179.
484
Библиография
1984 Le due redazioni delle «Raudensiane note» e le «Elegantiae» del Valla //
Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich. A cura di R. Avesani et al.
2 voll. Roma. Vol. 2. P. 559-573.
1985 [Рец.]: [Tavoni 1984] //Aevum, 59. P. 407-414.
1986 Le congetture a Livio del Valla: Metodo e problemi // [Valla 1986, p. 51-71].
Renaissance Linguistics Archive
Renaissance Linguistics Archive: 1350-1700. Ed. by M. Tavoni. 3 voll. Ferrara:
Presso Tlstituto, 1987-1990.
Reydellet M.
1984 Isidorus Hispalensis: Etymologiae IX.-Isidore de Seville: Etymologies; Livre
IX: Les langues et les groupes sociaux. Texte etabli, traduit et commente par
M. Reydellet, prof, a TUniversite de Haute Bretagne. Paris.
Ricci P. G.
1952 La prima cattedra di greco in Firenze // Rinascimento, 3. P. 159-165.
Richardson B.
1979 Chi fu «il Polito»? // Lingua nostra, 40. P. 41-42.
1984 Trattati sull'oratografia del volgare 1524-1526. A cura di Brian Richardson.
Exter: Univ. of Exter, (Testi italiani di letteratura e storia della lingua, 5).
Riessner С
1965 Die «Magnae Derivationes» des Uguccione da Pisa und ihre Bedeutung fur die
romanische Philologie. Roma.
RlNALDI M. D.
1973 Fortuna e diffusione del «De ortographia» di Giovanni Tortelli // Italia medi-
evale e umanistica, 16. P. 227-261.
Rizzo S.
1973 И lessico filologico degli umanisti. Roma (Sussidi eruditi, 26).
1986 II latino neirUmanesimo // Lettreratura Italiana. Vol. 5: Le Questioni.
Torino, p. 379-408.
1996 L'insegnamento del latino nelle scuole umanistiche // [Italia ed Europa, I,
p. 3-29].
Roccih I.
1976 Per una nuova cronologia e valutazione del «Libro de natura de Amore» di
Mario Equicola // GSLI, 153. P. 566-585.
ROCKINGER L.
1861 Uber die Ars dictandi und die Summae dictaminum in Italien, vorzugweise in
der Lombardei, vom Ausgange des eiften bis zweite Hafte des dreizehnten
Jahrhunderts // Sitzungsberichte d. Konigbauerischen Akademie der Wissen-
schaften zu Munchen. Jahrgang 1861. Bd. 1. S. 98-151.
Roiilfs G.
1966-1969 Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti / Trad. ital.
Torino. [I] Fonetica, 1966; [II] Morfologia, 1968; [III] Sintassi e formazione
delle parole, 1969 (пер. с нем.: Historische Grammatik der Italienischen Sprache
und ihrer Mundarten. Bern, 1949-1954).
Romeo L.
1976 A Paradigmatic History of «Latin» Linguistics // History of Linguistic Thought
and Contemporary Linguistics. Ed. H. Parret. Berlin; New York. P. 157-163.
Rosen K.
1981 On the Publication of the «Rudimenta grammatices» in France // Res Publica
Litterarum, 4. P. 265-284.
Rosier I.
1984 Transitivite et ordre des mots chez les grammariens medievaux // Materiaux
pour une Histoire des theories linguistiques / Essays towards a History of
Linguistic Theories / Materialen zu einer Geschichte der sprachwissenschaftli-
chen Theorien. Lille. P. 181-190.
Библиография
485
1988 Les parties du discours aux confins du XIPsiecle // Langages, 92. P. 37-49.
1988a L'heritage des grammairiens latins de l'Antiquite aux Lumieres. Actes du
Colloque de Chantilly, 2-4 septembre 1987. Ed. par I. Rosier. Paris: Societe
pour 1'information grammaticale.
Rosmini C. D.
1806 Vita e discipline di Guarino Veronese e de' suoi discepoli. 3 voll. Brescia.
1808 Vita di Francesco Filelfo da Tolentino. 3 voll. Milano.
Rossi V.
[1934] II Quattrocento. S. a.
Ruegg W.
1946 Cicero und der Humanismus. Zurich.
RUYSSCHAERT J.
1954 Les manuels de grammaire latine composes par Pomponio Leto // Scriptorium
8. P. 98-107.
1961 A propos des trois premieres grammaires latines de Pomponio Leto //
Scriptorium, 15. P. 68-75.
Sabbadini R.
1885 Guarino Veronese e il suo epistolario edito e non edito. Salerno.
1885a Storia del ciceronianismo e di altre questioni letterarie nell'eta della Rina-
scenza. Torino.
1886 Vita e opere di Francesco Florido Sabino // GSLI, 8. P. 333-363.
1887 Codici latini posseduti, scoperti, illustrati da Guarino Veronese // Museo di
antichita classica, 2. P. 373-456.
1892 [Рец.].: [Gabotto 1892] // GSLI, 20. P. 254-258.
1896 La scuola e gli studi di Guarino Veronese. Catania.
1899 Versi grammaticali di L.Valla // La biblioteca delle scuole italiane, Ser. II, 8.
P.134-135.
1900 L'ortografia latina di Foca // Rivista di filologia e di istruzione classica, 28.
P. 529-544.
1902 Dei metodi nelPinsegnamento della sintassi latina: considerazioni didattiche e
storiche // Rivista di filologia e di istruzione classica, 30. P. 304-314.
1903 Spogli ambrosiani latini. L'ortografia latina del Barzizza // Studi italiani di
filologia classica. N. Ser., 11. P. 362-376.
1904 Frammento di grammatica latino-bergamasca // Studi medioevali, 1 (fasc. 2).
P. 281-292.
1905 Cataloghi di biblioteche nel codice Vat. Barb. lat. 3185 // Rendiconti R. Isti-
tuto lombardo delle Scienze e Lettere, 38. P. 911-916.
1905-1914 Le scoperte dei codici latini e greci ne' secoli XIV e XV. 2 voll. Vol. 2:
Nuove ricerche col riassunto filologico dei due volumi. Firenze.
1906 Elementi nazionali nella teoria grammaticale dei Romani // Studi italiani di
filologia classica, 14. P. 113-125.
1914 Storia e critica di testi latini. Catania.
1915 Quando fu riconosciuta la latinita del rumeno // Atene e Roma, 18. P. 83-85.
1920 И metodo degli umanisti. Firenze.
1928 L'ortografia latina di Vittorino da Feltre // Rendiconti della (R.) Accademia
dei Lincei. CI. di scienze morali. Ser. VI, 4. P. 209-221.
1967 Edizione anastatica [Sabbadini 1905-1914] con nuove aggiunte e correzioni
dell'autore a cura di E. Garin. Firenze.
Sabbatino P.
1985 La codificazione della scrittura volgare nelle «Prose» del Bembo // Lingua e
stile, 20. P. 333-370.
1986 II modello bembiano a Napoli nel Cinquecento. Napoli.
1988 La «scienza» della scrittura. Dal progetto del Bembo al manuale. Firenze.
486
Библиография
Saitta G.
1949 II pensiero italiano nell'Umanesimo e nel Rinascimento. Bologna. Vol. 1.
SandkChler B.
1967 Die frtihen Dantekommentare und ihr Verhaltnis zur mittelalterlichen Kom-
mentartradition. Munchen (Munchner romanistische Arbeiten, Heft 19).
Santangelo G.
1961 Bembo e la questione della lingua // La letteratura italiana. I Minori. Milano.
Vol. 1.
Santini E.
1912 La produzione volgare di Leonardo Bruni, Aretino e il suo culto per *le tre
corone»// GSLI, 90 (3). P. 289-339.
Santoro M.
1954 Cristoforo Landino e il volgare // GSLI, 131. P. 376-396.
Saraceno L.
1973 Aspetti linguistici degli studi danteschi di V. Borghini: II fiorentino di Dante
//Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Accademia di scienze e lettere. CI. di
Lettere, 107. P. 1057-1096.
Sassetti F.
1855 Lettere edite et inedite di Filippo Sassetti raccolte e annotate di E. M. Maruc-
ci. Firenze.
1970 Lettere da vari paesi (1570-1588). A cura di V. Bramanti. Milano.
Sbaragli L.
1939 Claudio Tolomei umanista sanese del Cinquecento. La vita e le opere. Siena.
(Collezione di monografie e di storia senese, 17).
Scaglione A.
1970 Ars Grammatica. A Bibliographic Survey, Two Essays on the Grammar of the
Latin and Italian Subjunctive, and a Note of the Ablative Absolute. The Hague;
Paris.
Schiaffini A.
1921 Frammenti grammaticali latino-friulani del secolo XIV. Udine: Tip. D. Del
Bianco e figlio.
1959 Problemi del passaggio dal latino all'italiano // Studi in onore di A.
Monteverdi. Modena. P. 691-715.
Schmidt К. Н.
1990 The Celts and the Renaissance // Proceedings of the 8th International
Congress of Celtic Studies 1987. Ed. by G. Williams and R. O. Jones. Cardiff:
Univ. of Wales Press.
Schmitt W. O.
1969 Die «Ianua» (Donatus): Ein Beitrag zur lateinischen Schulgrammatik des Mit-
telalters und der Renaissance // Beitrage zur Inkunabulkunde. Dritte Folge,
4. Berlin.
SCRIBANTUR HAEC...
«Scribantur haec...». Проблемы автора и авторства в истории культуры. Научная
конференция (Москва, 12-15 мая 1993). М., 1993.
Scritti d'arte
Scritti d'arte del Cinquecento. A cura di P. Barocchi. 2 voll. Milano; Napoli, 1971-
1973.
Segarizzi A.
1915 Cristoforo de Scarpis // Nuovo archivio veneto. N. Ser. Anno XV, t. 29, parte
1. P. 209-220.
Segre C.
1976 Lingua, stile e societa. Milano.
Seigel J.
1968 Rhetoric and Philosophy in Renaissance Humanism. The Union of Eloquence
and Wisdom. Petrarch to Valla. Princeton.
Библиография
487
Sensi F.
1890 M. Claudio Tolomei e le controversie sull'ortografia italiana nel secolo XVI //
Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Ser. IV, 6. P. 314-325.
1890-1892 Per la storia della filologia neolatina in Italia. I. Claudio Tolomei e Celso
Cittadini // AGI, 12. P. 441-460.
1906 Un libro che si credeva perduto (L. B. Alberti grammatico) // Bibliofilia, 7. P.
211-212.
1909 Ancora su L. B. Alberti grammatico // Rendiconti R. Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, 42. P. 467-475.
SlMONCELLI P.
1984 La lingua di Adamo. Guillaume Postel tra accademici e fuorusciti fiorentini.
Firenze (Biblioteca della «Rivista di storia e letteratura religiosa», 7).
Simone R.
1976 Sperone Speroni et l'idee de diachronie dans la linguistique de la Renaissance
italienne // History of Linguistic Thought and Contemprary Linguistics. Ed.
by H. Parret. Berlin; New York. P. 302-316.
Simoniti P.
1975 Der Humanist Bernhard Perger und seine «Grammatica nova» // 2iva Antika
(Skopje), 25. P. 210-216.
Skytte G.
1990 Dall'Alberti al Fornaciari: Formazione della grammatica italiana // Revue
Romane, 25 (2). P. 268-278.
Solmi E.
1906 II trattato di Leonardo da Vinci sul linguaggio «De vocie» // Archivio storico
lombardo. Ser. IV, 6. P. 68-98.
Sorrento L.
1921 B. Varchi e gli etimologisti francesi del suo secolo. Milano.
Sottili A.
1986 Notizie sul «Nachleben» di Valla tra Umanesimo e Rinascimento // [Valla
1986, p. 329-364].
Sozzi В. Т.
1955 Aspetti e momenti della questione linguistica. Padova.
Speculum historiographiae linguisticae
Speculum historiographiae linguisticae. Kurzbeitrage der IV. Internationalen Kon-
ferenz zur Geschichte der Sprachwissenschaften (ICHoLS IV) Trier, 24-27.
August 1987. Hrsg. Klaus D. Dutz. Munster, 1989.
Speroni S.
1912 Dialogo delle lingue e Dialogo della rettorica. A cura di G. De Robertis. Lan-
ciano.
Sport e giuochi
Sport e giuochi. Trattati e scritti dal XV al XVIII secolo. A cura di Carlo Bascetta.
Milano, 1978 (Classici italiani di Scienze tecniche e Arti).
Stankiewiecz E.
1990 The Typological Study of Languages during the Italian Renaissance // Res
Philologica: Филологические исследования памяти акад. Г. В. Сте-
панова.1919-1986. М.; Л. С. 231-240.
Stefanini R
1976 [Рец.]: [Woodhouse 1971] // RPh, 30 (1). Р.262-254.
Stefano A. de.
1905 Una nuova grammatica latino-italiana del sec. XIII // Revue des langues ro-
manes, 48. P. 495-529.
Stevens H. J.
1975 Lorenzo Valla and Isidore of Seville // Traditio, 31. P. 343-348.
488
Библиография
Storia della linguistica
Storia della linguistica. A cura di Giulio С Lepschy. Vol. 2. Bologna, 1990.
Swiggers P.
1985 Le «Donait fran<;ois»: La plus ancienne grammaire du francais // Revue des
langues romanes, 89/2. P. 235-251.
Swiggers P., Vanvolsem S.
1987 Les premieres grammaires vernaculaires de Pitalien, de Pespagnol et du por-
tugais // Histoire Epistemologie Langage, 9/1. P. 157-181.
Tagliavini С
1963 Panorama di storia della linguistica. Bologna.
Tamani G.
1996 Gli studi di aramaico giudaico nel sec. XVI // [Italia ed Europa, II, p. 503-515].
Tateo F.
1986 Francesco Filelfo tra latino e volgare // [Filelfo 1986, p. 61-87].
Tavoni M.
1982 The 15th-century Controversy on the Language Spoken by the Ancient
Romans: An Inquiry into Italian Humanist Concept of «Latin», «Grammar», and
«Vernacular»//HL, 9. P. 237-264.
1984 Latino, grammatica, volgare. Storia di una questione umanistica. Padova.
1985 Sulla difesa del latino nel Cinquecento // Renaissance Studies in Honor of
Graig H. Smyth. Vol. 1. P. 493-505.
1986 Lorenzo Valla e il volgare // [Valla 1986, p. 199-216].
1986a Per un archivio della linguistica del Rinascimento // Schifanoia, 1. P. 45-58.
1986b Linguistica italiana del Quattro- e Cinquecento. Rassegna di studi 1979-1989
// Bollettino di italianistica, 4 (1/2). P. 1-28.
1989 The «Renaissance Linguistics Archive» Workshop at ICHoLS IV // [Speculum
historiographiae linguisticae, p. 339-343].
1990 La linguistica rinascimentale: L'Europa occidentale // [Storia della
linguistica, p. 169-245].
1992 «Prose della volgar lingua» di Pietro Bembo (Estr.) Letteratura italiana. Le
opere. Torino. P. 1065-1088.
1993 Scrivere la grammatica. Appunti sulle prime grammatiche dell'italiano mano-
scritte e a stampa // Pratiche di scrittura e pratiche di lettura nell'Europa
Moderna. Atti della settimana di studio «Writing and Reading. Models and
Applications in Modern Europe» (16th-18th Centuries). Erice, 17-22 settembre
1989. A cura di A. Petrucci. Pisa (ASNP, III 23/2). P. 759-796.
1994 Renaissance Linguistics // Italian Studies in Linguistic Historiography. Eds.
T. De Mauro, L. Ormigari. Miinster.
1996 Osservazioni sulle prime grammatiche dell'italiano e dello spagnolo / [Italia ed
Europa, I, P. 333-346].
Teza E.
1893 Un maestro di fonetica italiana nel Cinquecento (Lettera di E. Monaci) // Studi
di filologia romanza, 6. P. 449-463.
Thurot Си.
1860 De Alessandri de Villadei eiusque fatu. Paris.
1869 Extraits de divers manuscripts latins pour servir a l'histoire des doctrines
grammaticales au moyen age. Paris (Nachdruck, Frankfurt, 1964).
Tolomei Cl.
1560 De le lettere libri sette. Venezia. Giolito.
1974 И Cesano della lingua toscana. Ed. critica a cura di Ornella Castellani Polli-
dori. Firenze (Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria». Studi,
35).
1975 II Cesano della lingua toscana. A cura di Maria Rosa Franco Subri. Roma.
Trabalza C.
1912 Una singolare testimonianza sulPAlberti grammatico // Studii dedicati a
Francesco Torraca nel XXXVI anniversario della sua laurea. Napoli. P. 263-278.
Библиография
489
1963 Storia della grammatica italiana. Bologna.
Trattati d'arte
Trattati d'arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma. A cura di P. Baroc-
chi. Vol. 1. Bari, 1960.
Trattati di poetica
Trattati di poetica e retorica del Cinquecento. A cura di B.Weinberg. 4 voll. Bari,
1970-1974.
Trattatisti del Cinquecento
Trattatisti del Cinquecento. A cura di M. Pozzi. Vol. 1. Milano; Napoli, 1978.
Trissino 1980
Atti del Convegno di studi su Giangiorgio Trissino. A cura di N. Pozza. Vicenza,
1980.
Trissino G. G.
1986 Scritti linguistici. A cura di Alberto Castelvecchi. Roma (Testi e documenti di
letteratura e di lingua, 8).
Trovato P.
1984 «Dialetto» e sinonimi ("idioma", "proprieta", "lingua") nella terminologia lin-
guistica Quattro- e Cinquecentesca con un'appendice sulla tradizione a stampa
dei trattatelli dialettologici bizantini // RLI, 2. P. 205-236.
1990 Prefazioni cinquecentesche e «questione della lingua» // Schifanoia, 9. P. 57-
65.
1987 Notes on Standard Language, Grammar Books and Printing in Italy, 1470-
1550 // Schifanoia, 2. P. 84-95.
Valla 1986
Lorenzo Valla e TUmanesimo italiano. Atti del Convegno internazionale di Studi uman-
istici (Parma, 18-19 ottobre 1984). Padova, 1986 (Medioevo e umanesimo, 59).
Vandermarliere P.
1990 La notion de paradigme dans la tradition grammaticale // [Moments et mouve-
ments, p. 37-48].
Vangensten О. С
1913 Leonardo da Vinci og fonetiken // I kommission Hos Jacob Dybwad (Forhan-
dlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania, 1). Oslo.
Vannini A.
1920 Notizie intorno alia vita e alFopera di Celso Cittadini. Siena.
Vasoli С
1968 La dialettica e la retorica dell'Umanesimo: «Invenzione» e «Metodo» nella
culture del XV e XVI secolo. Milano.
1982 И concetto del Rinascimento // И Rinascimento: Aspetti e problemi. A cura di
V. Branca ed al. Firenze (Biblioteca deir«Arohivium Romanicum». Ser. I:
Storia. Letteratura. Palleografia, 167).
Vecce C.
1986 Tradizioni valliane tra Parigi e Fiandre dal Cusano ad Erasmo // [Valla 1986,
p. 399-408].
Viuamaa T.
1976 The Renaissance Reform of Latin Grammar // Annales Universitatis Turkuen-
sis. Ser. В. Т. 142. Turku (estr).
Villey P.
1908 Les sources italiennes de la «Defence et illustration de la Langue francaise» de
J. Du Bellay. Paris.
Vineis E.
1974 La tradizione grammaticale latina e la grammatica di Leon Battista Alberti //
[Alberti 1974, p. 289-303].
Vineis E., Maieru A.
1990 La linguistica medioevale // [SL., p. 11-168].
490
Библиография
Vismara F.
1900 L'invettiva arma preferita degli umanisti nelle lotte private, nelle polemiche
letterarie, politiche e religiose. Milano.
Vitale M.
1951 L'atteggiamento generale di G. F. Fortunio in ordine al problema ortografico
// Rendiconti del Istituto lombardo di scienze e lettere. CI. di lett. e scienze
morali e storiche, 84. P. 227-244.
1953 Le origini del volgare nelle discussioni dei filologi del '400 // LN, 14. P. 64-
69.
1978 La questione della lingua. Palermo.
1986 L'oro nella lingua: Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo
italiano. Milano; Napoli.
Vivaldi V.
1891 Una polemica nel Cinquecento e le controversie intorno alia nostra lingua.
Studi di storia letteraria. Napoli.
1894-1898 Le controversie intorno alia nostra lingua dal 1500 ai giorni nostri.
3 voll. Catanzaro.
1925 Storia delle controversie linguistiche in Italia da Dante ai nostri giorni. Vol. 1.
Catanzaro.
Waswo R.
1979 The «Ordinary Language Philosophy» of Lorenzo Valla // Bibliotheque
d'Humanisme et Renaissance, 41. P. 255-271.
1980 The Reaction of Juan Vives to Valla's Philosophy of Language // Bibliotheque
d'Humanisme et Renaissance, 42. P. 595-609.
1989 Motives of Misreading // The Journal of the History of Ideas, 50 (2). P. 324-
332.
Waterman J.
1970 Perspectives in Linguistics: An Account of the Background of Modern
Linguistics. Chicago Univ. Press.
Webber E. J.
1962 A Spanisch Linguistic Treatise of the Fifteenth Century // RPh, 16 (1). P. 32-
40.
Weinricii H.
1958 Munze und Wort, Unterscheidungen an einem Bildfeld // Romanica. Fest-
shrift fur Gerhard Rohlfs. Halle. S. 508-521.
Weiss R.
1946 The Sienese Philologists of the Cinquecento. A Bibliographical Introduction /
/ Italian Studies, 3. P. 34-49.
1977 Medieval and Humanist Greek. Collected Essays. Padoue.
Woodiiouse J. R.
1971 «Donne (o gonne) contigiate»: nota borghiniana // LN, 32. P. 111-112.
1972 Per una edizione dei «Pensieri e annotazioni» di V. Borghini // LN, 33. P. 39-
45.
1972a La glottologia vitale e la vita glottologica del Borghini // LN, 33. P. 114-120.
Yates J.A.
1983 The Italian Academies // Renaissance and Reform: The Italian Contribution.
Vol. 2. London; Boston; Melbourne. P. 6-29.
Zabughin V.
1909-1912 Giulio Pomponio Leto. Saggio critico. 3 voll. Roma.
Zambaldi F.
1892 Delle teorie ortografiche in Italia // Atti del R. Istituto veneto di scienze,
lettere ed arti. Ser. VII, 3. P. 323-368.
Zielinski Th.
1912 Cicero in Wandel der Jahrhunderte. Leipzig; Berlin.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН1
Абдулафия, Авраам 47
Абеляр, Пьер 264
Авалле, Д'Арко С. 103
Август 103, 108
Августин Блаженный 40, 41, 50,
53, 89, 122, 131, 155, 173, 235
Аверроэс (Ибн Рушд) 204
Авиценна (Ибн Сина) 87, 204
Агостиниани Л. 379
Адриан, император 250
Аккаризи, Альберто 404
Александр VI, папа 371
Александр Вилладейский 146,
173, 174, 184, 185, 189, 199,
218
Алессио Дж. К. 38
Алисова Т. Б. 44
Алкей 292
Алкуин 84, 172, 173
Алпатов В. М. 148, 349
Алунно Франческо 391, 405
Альберик Монтекассинский 176
Альберт Великий 90
Альберти, Леон Баттиста 149, 217,
350, 351, 353, 392—397
Альдхельм 173
Альфонс Мудрый 50
Амасео, Ромоло 224, 225, 237
Амброджо, Тезео 257, 324
Амвросий Медиоланский 165, 205
Андреев М. Л. 404
Анненский И. Ф. 292
Анний из Витербо 322, 323, 324
Антонио да Ро 208
Аппельрот В. Г. 373
Аппий Клавдий 356
Апулей 311
Ареццо, Клавдио Марио 405
Ариосто, Лудовико 236, 296
Аристотель 13, 14, 17, 32, 40, 41,
44, 71, 76, 78, 82, 83, 84, 91,
104—105, 120, 121, 164, 165,
169, 177, 178, 182, 189, 203,
205, 210, 226, 228, 238, 240,
248, 256, 257, 270, 275, 279,
335, 340, 346, 372, 373, 377,
378, 403
Арнаут, Даниэль 16, 109
Арнульф Орлеанский 160
Арутюнова Н. Д. 175
Асколи Г. И. 67, 70, 222, 315
Ауриспа, Джованни 162, 182, 203,
208
Ауэрбах Э. 229
Афиней 13
Ахматова А. А. 17, 112
Базиле, Джамбаттиста 403
Бальби, Джованни см. Иоанн
Генуэзский
Банер В. 386
Барбери Скуаротти Дж. 98
Барби М. 14, 323
Бартоли, Джорджо 357, 371—388
Бартоли, Козимо 322, 372
Барцицца, Гаспарино 192, 193,
194, 195
Бат, Уильям 97
Бебель, Генрих 218
Беда Достопочтенный 53, 85, 112,
173
Белл М. А. А. 375
Составила М. Г. Ермакова
492
Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Беллафини, Франческо 225
Беллони Дж. 401
Бембо, Пьеро 147, 159, 222, 225,
226, 247—251, 253, 256, 265,
270, 279, 280, 282, 284, 285,
288, 292, 296, 299, 310, 311,
312, 319, 320, 339, 345, 351,
352, 355—357, 393, 398, 401-
405, 415
Бембо, Карло 256, 402
Бенвенист Э. 402
Бенвольенти, Уберто 366
Бернар Клервоский 85
Бернардо дс Алдрете 315
Бицилли П. М. 10, 19, 57, 121
Богородицкий В. А. 287
Боккачо, Джованни 61, 135, 144,
162, 170, 235, 236, 243, 244,
248, 269, 272, 293, 296, 324,
332, 339, 342, 356, 398, 402-
405
Бонавентура 41, 76, 77
Бонамико, Лаццаро 226, 227, 228,
291
Бонвезин де ла Рива 26
Бонграни П. 244
Бонкомпаньо, ди Синья 176, 177
Бономи И. 406, 408
Бонфанте Дж. 21
Боргини, Винченцио 61, 237, 252,
254, 284, 286, 303, 308, 309,
314, 318, 323, 325, 329, 333,
334—345, 371, 405
Боровский Я. М. 307
Борхес X. Л. 263
Боэций Дакийский (Датский) 20,
24, 37, 40, 204
Боэций, Северин 32, 40, 173, 178,
204, 348, 377
Брагина Л. М. 281
Брагинская Н. В. 120
Браччолини, Поджо 149, 162, 167,
168, 182, 204, 209, 215, 217,
219, 235, 310
Бродский И. А. 117
Бругманн К. 347
Брунетто Латини 84
Бруни, Леонардо 154, 164, 165,
168, 180, 184, 204, 208, 215,
217, 219, 235
Брут, Марк Юний 303
Будагов Р. А. 81
Булгаков С. Н. 44, 51, 113
Буркхардт Я. 141, 243, 244, 268,
269
Буснелли Дж. 10
Бьондо, Флавио 215, 310, 312
Бэкон, Роджер 38, 264
Бюде, Гильом 172, 339
Вазари, Джорджо 241, 335
Вазоли Ч. 14, 170
Вайнрайх У. 234
Валериано, Пьерио 316, 384
Валла, Джорджо 196, 218
Валла, Лоренцо 112, 149, 151, 152,
153, 159, 166, 167, 168, 171,
173, 184, 185, 199—235, 259,
292, 305, 306, 329,354, 397, 401
Ванделли Дж. 10
Вандриес Ж. 245, 246, 252
Варки, Бенедетто 237, 238, 240,
248, 252, 256, 257—261, 263,
264, 281, 282, 286, 290, 292,
297, 298, 299, 301, 307, 319,
322, 325, 358, 364
Варрон, Марк Теренций 155, 158,
161, 170, 171, 196, 209, 211,
215, 217, 291, 362
Вартбург В. 321
Василий Великий 155, 180
Вебер М. 71, 77
Везалий, Андреас 279
Вергилий 49, 60, 86, 95, 110, 112,
113, 114, 115, 160, 167, 181,
182, 196, 209, 213, 236, 398,
411
Верджерио, Пьер Паоло 180, 182
Вернадский В. И. 254
Веттори, Пьеро 322, 335
Вивес, Хуан Луис 218
Вийон, Франсуа 136
Виллани, Джованни 336, 339
Виллани, Маттео 336
Винокур Г. О. 341
Винэ Г. 53, 100—101, 104, 105,
126, 132
Витале М. 224, 238
Витгенштейн А. 206
Указатель имей
493
Витторино да Фельтре 192
Вожла К. 220
Вудхауз Дж. 336, 340
Габричевский А. Г. 31
Газа, Теодор 181
Гален 355
Галеотти, Марцио 349, 350, 356
Галилей, Галилео 86
Гальфред Винсальвский 173
Гарэн Э. 207, 210
Гаспаро, Веронезе 192, 199
Гаспаров М. Л. 187, 234, 295, 346
Гварини, Баттиста 183
Гварини, Гварино Веронезе 157,
163, 168, 173, 179, 180—199,
215, 217, 219, 391, 392, 397,
411
Гварна, Андреа 177, 178
Гвидотто из Болоньи 11
Гвиницелли, Гвидо 52, 55, 75, 135,
244, 245
Гвиттоне д'Ареццо 405
Гегель Г. В. Ф. 143
Геллий, Авл 216
Геродот 323
Геснер, Конрад 54, 174, 257, 309,
325, 331
Гете И. В. 77, 142
Гизильери, Гвидо 52, 75
Гираут де Борнейль 55
Гоббс Т. 71
Голенищев-Кутузов И. Н. 81, 126,
137
Гомер 15, 66, 162, 235, 279
Гонорий Августодунский 85
Гораций 56, 182, 196, 209, 298,
398, 408
Горфункель А. X. 143, 144, 281
Грабманн М. 175
Грейсон С. 393, 394
Григорий Богослов 155
Григорий Коринфский 307
Гримм Я. 347
Трошева А. В. 145
Гуго Сен-Викторский 346
Гугуций см. Угуччоне Пизанский
Гуковская 3. В. 317
Гуковский М. А. 209
Гунцоне 174
Гутенберг, Иоганн 146
Д'Антрев П. 101
Даль В. И. 90
Дамиани, Пьер 321
Данте, Алигьери 9—140, 144, 151,
155, 159, 165, 166, 167, 174,
175, 185, 200—217, 222, 226,
228, 229, 243—244, 245, 247—
248, 249, 251, 256, 257, 265,
266, 267, 269, 270, 271, 272,
274—278, 293, 297, 305, 319,
327, 328, 329, 331, 332, 338,
339, 340, 352, 357, 363, 370,
371, 373, 392, 398, 403, 404,
410, 411
Де Бовель, Шарль 232
Де Санктис Ф. 404
Деспаутерий, Иоганн 197, 236
Джамбулари, Пьер Франческо 252,
322, 323, 324, 326, 328, 330,
332, 351, 352, 353, 392, 405—
412
Джанни, Лапо 73
Джелли, Джамбаттиста 252, 322,
323, 324, 325, 327, 328, 329,
330, 332, 338, 406
Джентиле да Чинголи 175, 176
Джотто 245
Дино дель Гарбо 14
Диоген Вавилонский 347
Диоген Лаэртский 164, 346
Диомед 170, 392, 408
Дионизотти К. 307, 403
Дионисий Галикарнасский 232,
323, 353, 354
Дмитриев М. 408
Д'Овидио Ф. 44, 49
Долето, Стефано 236
Донат, Элий 160, 170, 172, 173,
174, 177, 181, 187, 190, 198,
211, 213, 392
Достоевский Ф. М. 282
Дю Белле Ж. 92
Дюбуа, Жак (Сильвиус) 230
Дюпюи Ж. 308
Дюре, Клод 232
494 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Евгений II, папа 174
Еврипид 270
Женсон, Николо 195, 226
Жильсон Э. 14
Забугин В. Н. 171
Збаральи Л. 364
Зеров М. 408
Зубов В. П. 395
Иван III 171
Иероним 47, 56, 155, 165, 205,
229, 235
Изабелла д'Эсте Гонзага 226
Изо Г. 378, 379, 381
Иларий 205
Иннокентий IV, папа 26
Иоанн Гарландский 119, 172
Иоанн Генуэзский 146, 172, 174,
212
Иоанн Грамматик 306
Иоанн Златоуст 155
Иоанн Корнуэльский 189
Иоанн Филопон 307, 308
Иоахим Флорский 52
Иоганн Датский 20
Исидор Севильский 47, 50, 53, 76,
94-95, 100, 211, 212, 305, 325
Исократ
Йордан Й. 315
Кавальканти, Гвидо 14, 55, 73, 88,
245
Казаччи А. 209, 210
Калепино, Амброджио 174
Кальво, Андреа 243, 244
Кальканини, Челио 225
Кальмета (Колло, Винченцо) 248,
249
Кампана А. 150
Кантимори Д. 142
Капреоло, Анджело 235, 236
Карамзин Н. М. 15, 223, 339
Кардано, Иероним 390
Кареев Н. И. 142, 153, 167, 171,
202
Карл IV 142, 225
Карл Великий 173
Карлино, Марко Антонио Атенео
391, 401
Каро, Аннибале 258, 370
Касаткин А. А. 156
Кассиодор 173
Кастеллани А. 136, 382
Кастельветро, Лодовико 147, 189,
248, 249, 258, 284, 309, 311,
312, 318, 320, 324, 396, 404
Кастильоне, Бальдассаре 238, 247,
248, 265—270, 280, 308, 313,
404
Кастра, Якопо 72
Катон, Марк Порций Цензорий
(Старший) 304
Каттанео К. 315
Катулл 218
Каценелленбоген А. Э. 85
Квинтилиан, Марк Фабий 147,
152, 162, 168, 170, 181, 182,
196, 209, 213, 215, 219, 220,
237, 254, 256, 259, 266, 291,
298, 299, 307, 346, 352, 357,
395
Квондам А. 391, 403
Киприан, епископ Карфагена 205
Кларичо, Джироламо 244, 404
Коломбо К. 393
Колоччи, Анджело 149
Коменский, Ян Амос 97
Константин I Великий 200, 201
Контини Дж. 118, 136, 137, 138
Корбинелли, Якопо 63, 331, 332
Корелин М. С. 153, 180
Корсо, Ринальдо 396
Кортезе, Паоло 162
Корти М. 10, 20, 40, 44, 46, 57,
61, 62, 63, 65, 391
Коссериу Э. 242, 326
Котрелев Н. В. 117
Кристеллер П. О. 143, 150, 154,
157, 160, 198, 203
Ксенофон 13
Кукенхайм А. 152, 196, 197, 198,
199
Курциус Э. 154, 155
Лабанд-Жанруа Т. 245, 246
Указатель имен
495
Лактанций, Луций Целий Фирми-
ан 155, 201
Ландино, Кристофоро 151, 166,
170, 217, 305, 393
Ланца А. 26
Лас Гермионский 357
Ласкарис, Иоан 226, 232
Ласкарис, Константин 351
Лев X, папа 279
Ленцони, Карло 285, 295, 296,
322, 353, 354
Леонардо да Винчи 230, 354, 355
Леонелло д'Эсте 180, 181
Лепски Дж. 144, 145, 149
Лет, Помпоний 170, 171, 215, 231
Либурнио, Никколо 306, 358
Ливии Андроник 304
Ливии 90, 209, 243
Линакр, Томас 171, 352, 407, 408,
410, 411
Лозинский М. Л. 16, 17, 97, 266
Ломбарделли, Орацио 250
Лопес Мадера Г. 322
Лоренцо Великолепный, см.
Медичи, Лоренцо
Лосев А. Ф. 88, 206, 281
Лукан 160
Лукиан 13, 235
Лукреций Кар 142, 167
Любимов Н. М. 175
Лютер, Мартин 313
Мадзокко А. 132, 133
Майер П. 349, 350
Макробий, Амвросий Феодосии
211, 330
Максим Викторин 170, 172
Макьявелли, Никколо 74, 178,
229, 248, 252, 253, 256, 284,
289, 294, 296, 299, 312, 321,
402, 403
Малкиель Я. 322
Ман, Вальтер 122
Мандельштам О. Э. 10—11, 17, 28,
115, 292
Мандзони А. 66
Манетти, Джаноццо 167
Мануций, Альд 152, 196, 228, 244,
307
Манфред, король Сицилии 73, 75,
102
Манчинелли, Антонио 170, 181,
196
Мараскио Н. 372
Марбэ, Мишель 175, 187
Маргарита Наварская 403
Мариго А. 10, 44, 55, 63, 96, 119,
126
Марий Викторин 172
Мартелли, Лодовико 249, 265,
272, 279, 280, 358
Мартин Датский 20, 40, 175
Мартин, архиепископ Брагский
89, 90
Мартине А. 234
Мартинелли Л. 217
Марцелл, Марк Клавдий, римский
консул 168
Марциал, Марк Валерий 214
Марциан Капелла 111, 173, 178,
347, 348, 349, 356
Медичи, Джулиан 403
Медичи, Козимо 247, 322, 323,
324, 331, 332, 335, 344, 406
Медичи, Лоренцо 279, 306, 393,
402—403
Медичи, Франческо 406
Меи, Джироламо 335
Мейер-Любке М. 136
Мейлах М. Б. 114, 115, 138
Меланхтон, Филипп 354
Мельк У. 124
Менгальдо П. В. 10, 11, 63, 72,
103, 133
Мессала, Марк Валерий 211
Мильорини Б. 224, 227
Михаил Апостол 163
Монтале Э. 117
Монфазани Дж. 206
Мунэн Ж. 95
Муцио, Джироламо 225, 227, 237,
259, 319, 320, 321, 338
Мюллер Ж.-Кл. 258
Нарди Б. 107
Небриха, Антонио 149, 196, 197,
236, 347, 354, 394
Николи, Никколо 172, 204
496 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Новосадский Н. И. 373
Ноний 170
Норкьяти, Джованни 371
Нума Помпилий 89, 90, 152
Овидий 92, 95, 98, 114, 116
Оккам У. 235, 236
Ольховиков Б. А. 245
Ольшки Л. 254—255, 377
Онести дельи, Онесто 55, 75
Орланди Дж. 248
Павел Диакон 173, 174, 176
Палемон, Реммий 170, 217
Палладий 311
Пальмьери, Маттео 321
Пальяро А. 66
Панвини Б. 46
Панов М. В. 134
Панормита (Беккаделли, Антонио)
158
Папий 146, 211
Паризий из Альпидо 348
Пацци де' Медичи, Алекссандро
265, 266, 270, 271, 272, 274,
276, 280, 358, 384
Пейроне Л. 356, 386
Пеллегрини С. 66
Пергер, Бернхард 193
Перотти, Никколо 112, 160, 173,
190, 191, 192, 193, 196, 215,
218, 392
Персиваль К. 178, 179, 184, 185,
190, 198—199
Персии Флакк, Авл 182
Петр Гелийский 178
Петр Испанский 57, 264
Петр Коместор 50
Петр Пизанский 174
Петрарка, Франческо 135, 142,
144, 151, 155, 161, 162, 167,
226, 235, 236, 247, 266, 269,
272, 293, 332, 337, 338, 339,
344, 398, 402, 405, 411
Петровский Ф. А. 10, 119, 120
Пизани В. 61
Пизон, Гай 216
Пико делла Мирандола 167
Пилат, Леонтий 162, 163
Пинелли, Джан Винченцо 309, 331
Плавт 152, 155, 167, 182, 201, 209,
216, 235—237, 304
Платон 13, 42—43, 71, 84, 114,
120, 163, 164, 168, 182, 203,
237, 256, 372
Плиний Старший 76, 201, 236, 275
Плотин 164
Плутарх 13, 180, 235, 306
Покорны Ю. 95
Полициано, Анджело 162, 165,
393, 407
Помпилио, Паоло 306
Помпонацци, Пьетро 226, 236
Постель, Гильом 54, 149, 257, 330,
331, 332, 333, 334
Поцци М. 238, 267, 316, 336, 338,
340, 397
Присциан 159, 172, 173, 174, 177,
178, 179, 181, 190, 197, 346,
347, 360, 392, 407
Проб 172
Проперций 112, 116
Пульчи, Луиджи 393
Пэдли Г. 251—252
Рабан Мавр 53
Рабле, Франсуа 175
Радлов Э. Л. 120
Разумовский А. К. 173
Райна П. 35, 63, 100
Раек Р. 333, 334, 347
Ревякина Н. В. 281
Рейхлин, Иоаганн
Ренуар Ф. 136
Ресторо д'Ареццо 13
Ринальдо д'Аквино 55
Рис, Сион Давид 379, 381
Ричардсон Б. 358
Рольфе Г. 294, 362
Ротарий, король лангобардов 344
Ручеллаи, Джованни 249, 314
Рюстов А. 71
Саббадини Р. 145, 162, 175, 179,
180, 183, 184, 186, 189, 195,
217
Сабеллико, Маркантонио 397
Саитта Дж. 202
Указатель имен
497
Саккетти, Франко 336
Салимбене, Салимбени 121
Саллюстий 209
Сальвиати, Леонардо 293, 294,
303, 309, 322
Салютати, Колуччо 162, 167—168,
193
Сассетти, Филиппо 257, 258
Свиггерс П. 253
Сегре Ч. 136
Секст Помпеи см. Фест, Секст
Помпеи
Секст Эмпирик 347
Семереньи О. 95
Сенека 71, 89, 90, 161, 162, 182
Сенси Ф. 366, 369, 393
Сервий 112, 170, 177, 211
Сергиевский М. В. 148
Сергий 170
Сигонио, Карло 225
Сильвестр I, папа 201
Сильвиус см. Дюбуа, Жак
Симон Датский 20
Симонид 84
Скавр, Теренций 170
Скалигер, Юлий Цезарь 147, 149,
169, 172, 196, 198
Скальоне А. 185
Скарпа, Кристофоро 194
Скьяффини А. 49, 64, 136
Смит А. 292
Соссюр Ф. 41, 202, 287
Софокл 162, 270
Сперони, Спероне 225, 226. 229,
232, 247, 255, 288, 291, 295,
402
Станкевич Э. 251, 292, 389, 390
Стивене Г. Дж. 212
Страбон 180, 275
Страдино (Маццуоли, Джованни)
322
Строцци, Филиппо Джамбаттиста
249, 256
Сульпиций, он же Сульпицио Ве-
рулано, Джованни 196, 199,
218
Тавони М. 54, 333
Тадео д'Альдеротто 13, 14
Тальявини К. 381
Тарталья, Никколо 231
Теофил Пресвитер 85
Теофрид Эхтернахский 85
Теренций 155, 167, 182, 216, 235
Террачини Б. 86
Тирабоски Дж. 228
Тиццоне, Гаэтано 405
Тойнби А. 141
Толомеи, Клавдио 147, 148, 178,
181, 230, 231, 237, 238, 240,
241, 242, 247, 252, 256, 264,
265, 274—282, 285, 286, 288,
291, 293, 294, 296, 297, 308,
314—318, 320, 321, 357—371,
374, 379, 384
Толстой И. И. 354
Толстой Ф. А. 170, 192
Томас Эрфуртский 175
Томсен В. 143—144, 331, 333, 334
Топоров В. Н. 41, 90
Тортелли, Джованни 194, 195,
352, 388, 389, 397
Тосканелла, Орацио 260, 307
Трабальца Ч. 366, 393, 401
Траверсари, Амброджо 164
Триссино, Джанджорджо 149, 170,
228, 238, 247, 248, 249, 253,
256, 265—267, 270, 279, 280,
290, 300—303, 308, 314, 316,
317, 321, 351—352, 353, 358,
359, 384, 402, 403, 404
Тровато П. 306
Тройский И. М. 187, 213
Трубецкой Н. С. 49, 130, 152, 381,
385
Тюро Ш. 20, 58, 145, 173, 183,
187, 349
Угуччоне Пизанский 146, 160,
175, 211
Урсус, епископ Беневента 174
Успенский Б. А. 36
Фабруццо, де' Ламбертацци 52, 75
Фава (Фаба), Гвидо 11, 176
Фест, Секст Помпеи 170, 291
Филельфо, Франческо 149, 151,
215, 219, 402
498 Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль
Филмор Ч. 190
Фиренцуола, Анджело 249, 358
Фичино, Марсилио 164
Флоренский П. А. 90, 110
Флоридо, Франческо 225, 228,
230, 235, 236, 237, 238, 243
Фока 170, 172, 194
Фолькино деи Борфони 185, 187,
189
Фома Аквинский 20, 24, 42, 51,
90, 91, 200
Фортунио, Джан (Джован)
Франческо 352, 391, 392, 397—404
Франциск I 235
Франциск Ассизский 229
Франческо да Бути 174, 185
Фрегозо, Федерико 402
Фридрих II 72, 75, 102
Фройнд В. 149
Фукидид 166, 209
Фуко М. 14, 27
Фульвий, Марк 395
Фуше, Клод 232
Фьорелли П. 382
Фэйсфул Г. 240
Харисий 392
Хей Д. 141, 142
Холл Р. 147, 148, 366
Хоментовская А. И. 180
Хомский Н. 206
Хрисолор, Мануил 162
Хугутио Пизанский см. Угуччоне
Пизанский
Цезарь, Гай Юлий 201, 209
Цицерон 14, 16, 71, 87, 156, 157,
162, 165, 168, 170, 171, 177,
182, 201, 209, 213, 215, 216,
218, 233, 234, 236, 247, 254,
256, 260, 266, 295, 303, 304,
307, 340, 343, 395, 402
Цумтор П. 138, 278
Чезано, Габриэле 275
Чекко, Анджольери 136
Чело д'Алькамо 72, 73
Челышева И. И. 135, 136
Чимабуэ (Ченни ди Пепо) 244, 245
Чино да Пистойя 51, 62, 63, 73,
405
Чиприани Дж. 323
Читолини, Алессандро 225, 240,
384
Читтадини, Чельсо 148, 366
Шантрен П. 94
Шервинский С. В. 114
Шишмарев В. Ф. 92
Шкловский Вл. Б. 63
Шлегель Ф. 292
Штаерман Е. 107
Эберхард Бетюнский 146, 173,
175, 187, 199, 305
Эгидий из Витербо 323
Эдельштейн Ю. М. 48
Эквикола, Марио 290, 291
Эко У. 47
Элеонора Толедская 324
Элиот Т. С. 139
Энний, Квинт 304
Эразм Роттердамский 172, 196,
218, 236, 354
Эрколано, Чзаре 258, 259
Эсхил 162
Эфрос А. 33
Ювенал 189, 199
Юэрт (Ewert) A. 54
Якобсон Р. О. 40, 92, 309
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рис. 1. (с. 29). Первое издание трактата Данте De vulgari eloquentia
на русском языке.
Рис. 2. (с. 239). Первое издание (посмертное) трактата Бенедетто
Варки «Эрколано». Флоренция, 1570.
Рис. 3. (с. 262). Классификация языков («дерево») в трактате
Бенедетто Варки «Эрколано». Флоренция, 1570.
Рис. 4. (с. 272). Первое издание трактата Клавдио Толомеи «Чеза-
но о тосканском языке». Венеция, 1555.
Рис. 5. (с. 383). Первое издание трактата Джорджо Бартоли «Об
элементах тосканской речи». Флоренция, 1584.
Рис. 6. (с. 387). Знаки для обозначения элементов (фонем)
тосканского языка. Страница из трактата Джорджо Бартоли «Об
элементах тосканской речи». Флоренция, 1584.
Рис. 7. (с. 399). Первая печатная грамматика итальянского языка
«Грамматические правила народного языка» Франческо
Фортунио. Венеция, 1570 ( первое изд. Анкона, 1516).
Рис. 8. (с. 409). Первое издание грамматики флорентийского
автора Пьерфранческо Джамбуллари «О языке, на котором
говорят и пишут во Флоренции». Флоренция, s. a [1552/1?].
Содержание
От автора 5
Часть I. Лингвистические взгляды Данте 9
1. Трактат «Пир» и провозглашение
самоценности родного языка 13
2. Трактат «О народном красноречии»:
Язык и языки 35
3. Из лингвистической терминологии Данте:
четыре атрибута искомого языка 81
Заключение 132
Часть 2. Языкознание в Италии в эпоху Возрождения ... 141
2.1. Кватроченто (XV в. ): латинская филология
и лингвистика
Филологическая культура Кватроченто 150
Латинская грамматика в Италии 172
Гварино Веронезе (1374-1460) и новые учебники
латинского языка 180
Книга «Тонкословие латинского языка»
Лоренцо Баллы 199
2.2. Чинквеченто (XVI в.) и начало итальянской
филологии 222
Спор «латинистов» и «итальянистов» 224
Questione della lingua в истории языка и
в историографии лингвистики 245
Многообразие языков. Классификация Б. Варки.. 257
Как следует называть современный язык
Италии: спор о терминах в трактате К. Толомеи
« Чезано » 264
Общетеоретические представления
итальянских гуманистов XVI века о языке 280
Происхождение итальянского языка 310
Вопросы итальянской филологии
в трудах Винченцио Боргини (1515—1580) 334
Звуковой строй языка 346
Орфографическая реформа и
изучение тосканской фонетики в трудах
Клавдио Толомеи 357
Трактат Джорджо Бартоли
«Об элементах тосканской речи» 371
Первые грамматики итальянского языка 390
Приложения 413
I. Рукописная традиция и печатные издания
трактатов Данте «О народном красноречии» и
«Пир» 413
П. Лингвистическая ситуация в Древнем Риме
в спорах гуманистов XV в 419
Guarinus Veronensis ill. principi Leonello
Marchioni Estensi de lingue differentiis 422
Гварино Веронезе светлейшему князю
правителю Леонелло д'Эсте о различиях
в латинском языке. Пер. В. П. Казанскене 427
Summary 436
Список сокращений 445
Библиография 446
Часть I 445
Часть II 461
Указатель имен 491
Список иллюстраций 499
CONTENTS
Introduction 5
Part I. Dante's Linguistic Views 9
1. The Treatise Convivio and the Defense 13
of The Mother Tongue
2. The Treatise De vulgari eloquentia: Language and
Languages 35
3. On Dante's Linguistic Terminology: The Four Qualities
of the Perfect Language 81
Conclusion 132
Part II. Linguistics in Renaissance Italy 141
2.1. The Quattrocento: Latin Philology and Linguistics
The Philological Culture of the Quattrocento 150
Latin Grammar in Italy 172
Guarino Veronese and the New Latin Grammars 180
Lorenzo Valla's Elegantiae linguae Latinae 199
2.2. The Cinquecento and the Emergence of Italian
Philology 222
Latinists versus Italianists 224
The Questione della lingua in the History of the Italian
Language and in Linguistic Historiography 245
The Diversity of Languages and Benedetto Varchi's
Classification 257
Naming the Contemporary Language of Italy:
The Terminological Controversy in Claudio Tolomei's
Treatise Cesano 264
Sixteenth-century Italian Humanist Conceptions
of Language 280
The Origins of the Italian Language 310
Issues of Italian Philology in the Works
of Vincenzio Borghini (1515—1580) 334
The Sound Structure of Language 346
Orthographic Reform and the Study of Tuscan Phonetics
in the Works of Claudio Tolomei 357
Giorgio Bartoli's Degli elementi del parlar toscano 371
The First Grammars of Italian 390
Appendices
I. Manuscripts and Editions of Dante's De vulgari
eloquentia and Convivio 413
II. The Linguistic Situation in Ancient Rome as Reflected
in the Polemics of the Fifteenth-century Humanists 419
Guarinus Veronensis ill. principi Leonello Marchioni Estesi de
lingue Latine differentiis 422
Russian Translation by Vanda P. Kazanskene 427
Summary 436
Abbreviations 445
Bibliography Pt. I 446
Bibliography Pt. II 461
Index of Proper Names 491
List of Illustrations 499
Лариса Георгиевна Степанова
ИТАЛЬЯНСКАЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
XIV—XVI ВЕКОВ
(ОТ ДАНТЕ ДО ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ)
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Утверждено к печати
Институтом лингвистических исследований (ИЛИ) РАН
В оформлении форзаца использованы барельефы Луки делла
Роббиа "Грамматика" и "Философия".
Редактор М. Г. Ермакова
Макет, верстка: В. Н. Храмцов
Издательство Русского Христианского гуманитарного института
191011, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15
Подписано в печать с готовых диапозитивов
Формат 60x90 У16. Бум. офсетная.
Гарнитура Школьная. Печать офсетная. П. л. 31,5.
Тираж 1000 экз. Заказ №3101.
По вопросу оптовых закупок обращаться по адресам:
191011, Санкт-Петербург, Набережная р. Фонтанки, 15
Издательство Русского Христианского гуманитарного института
Факс: (812) 311-30-75. e-mail: rector@rchgi.spb.ru.
URL: http://www..rchgi.spb.ru;
"Университетская книга", тел.: (812) 232-21-04;
издательско-торговый дом "Летний сад", тел.: (095) 290-06-88.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
Safe Handling Instructions
This product was prepared from inspected
and passed meat and/or poultry. Some food
products may contain bacteria that could
cause illness if the product is mishandled
or cooked improperly For your protection,
follow these safe handling instructions.
В Keep refrigerat
Thaw in refrige
ited or frozen,
igerator or microwave.
Ф
Keep raw meat and poultry separate from
other foods. Wash working surfaces
(including cutting boards), utensils, and
hands after touching raw meat or poultry.
ч^^~ Cook thoroughly.
Ql Keep hot foods hot. Refrigerate leftovers
^^^^ immediately or discard.
REMOVE LABEL BEFORE MICROWAVING