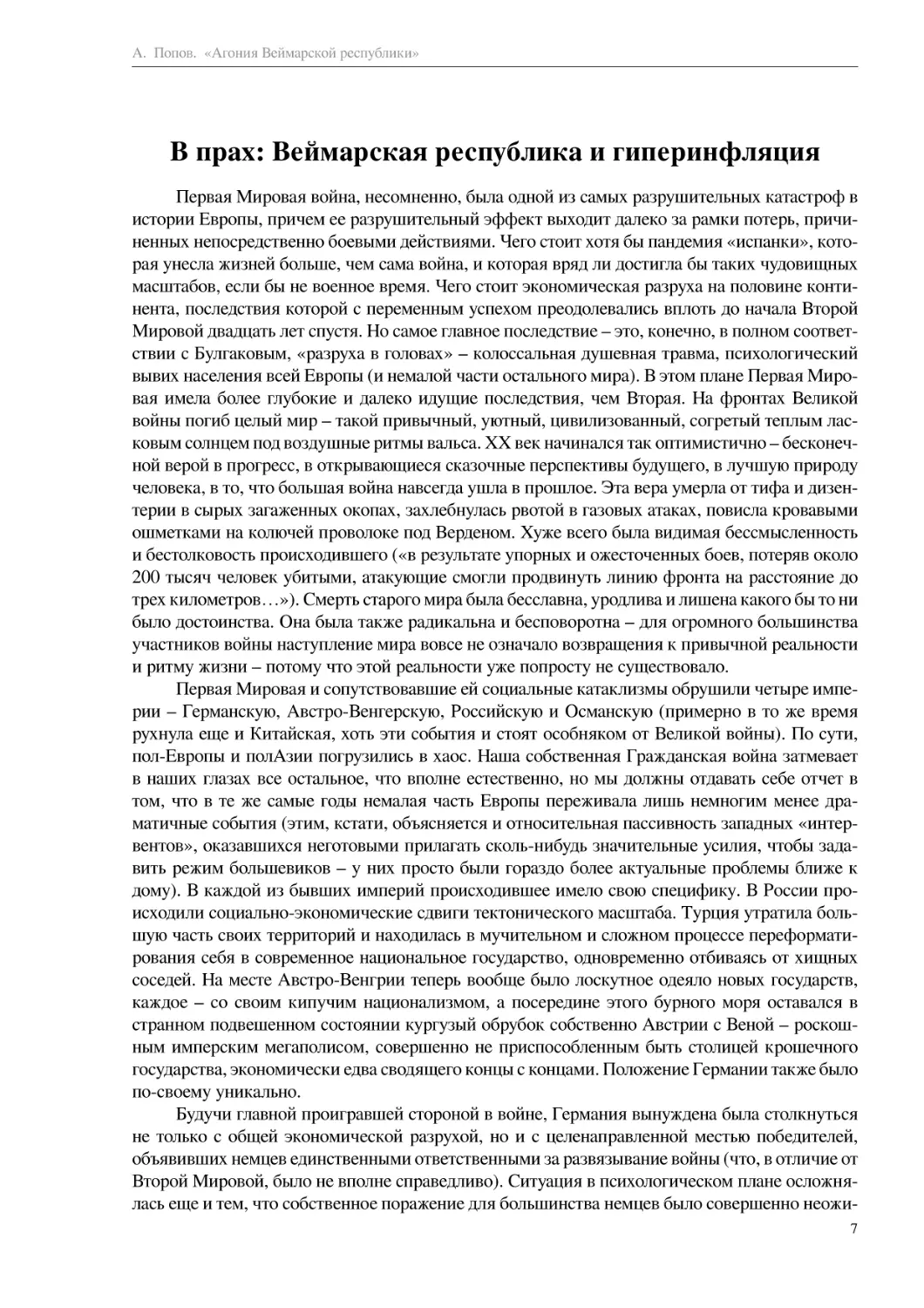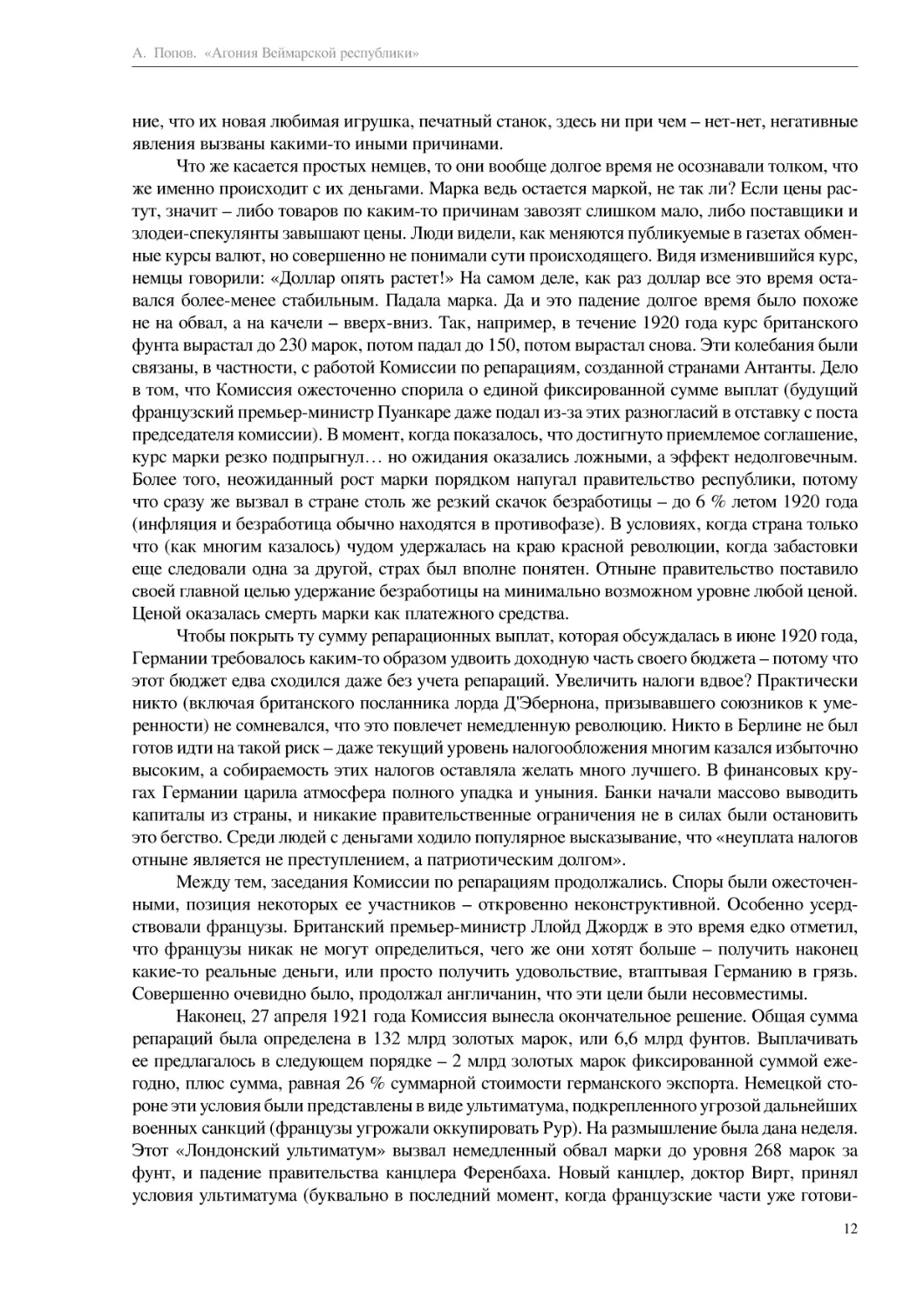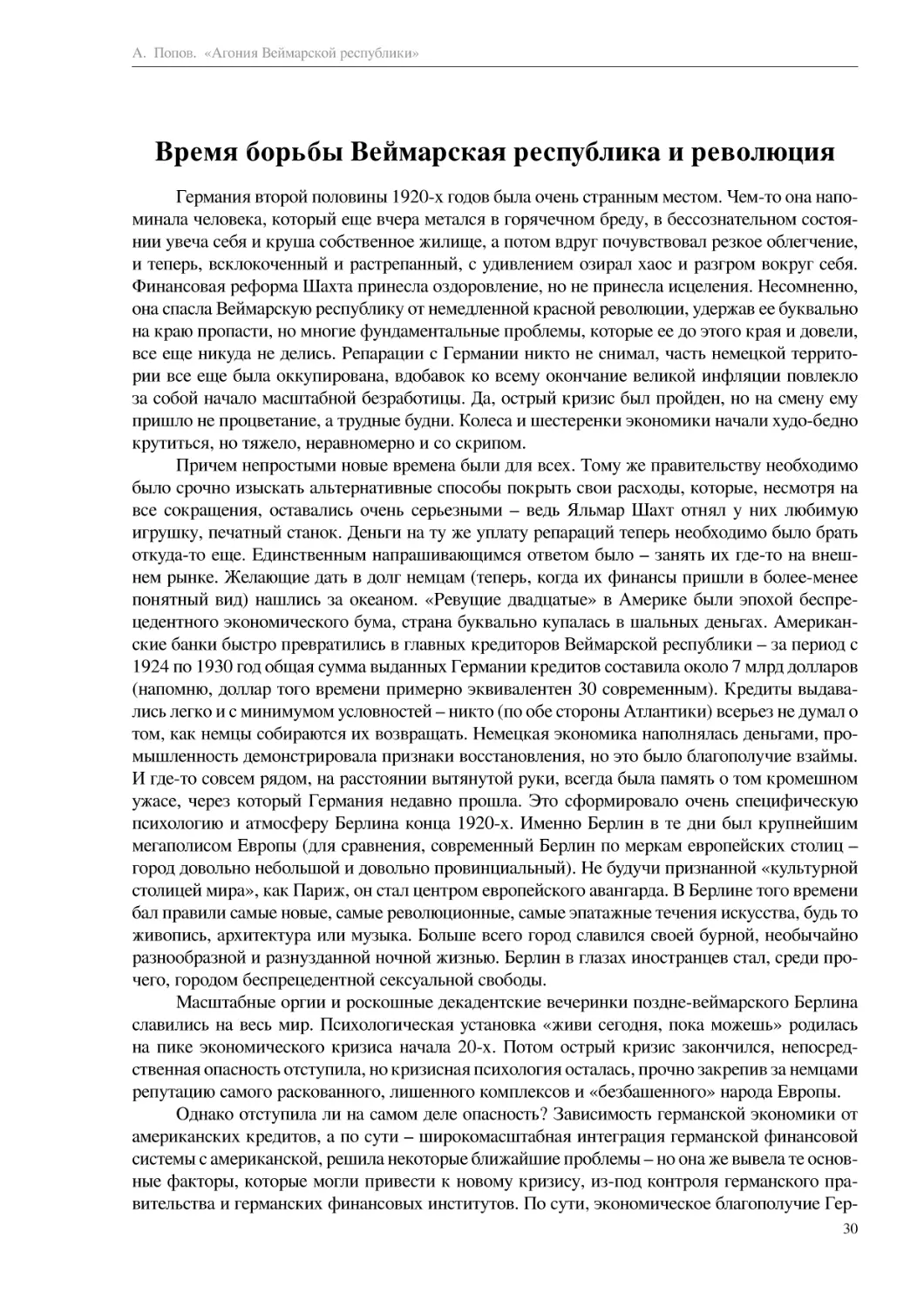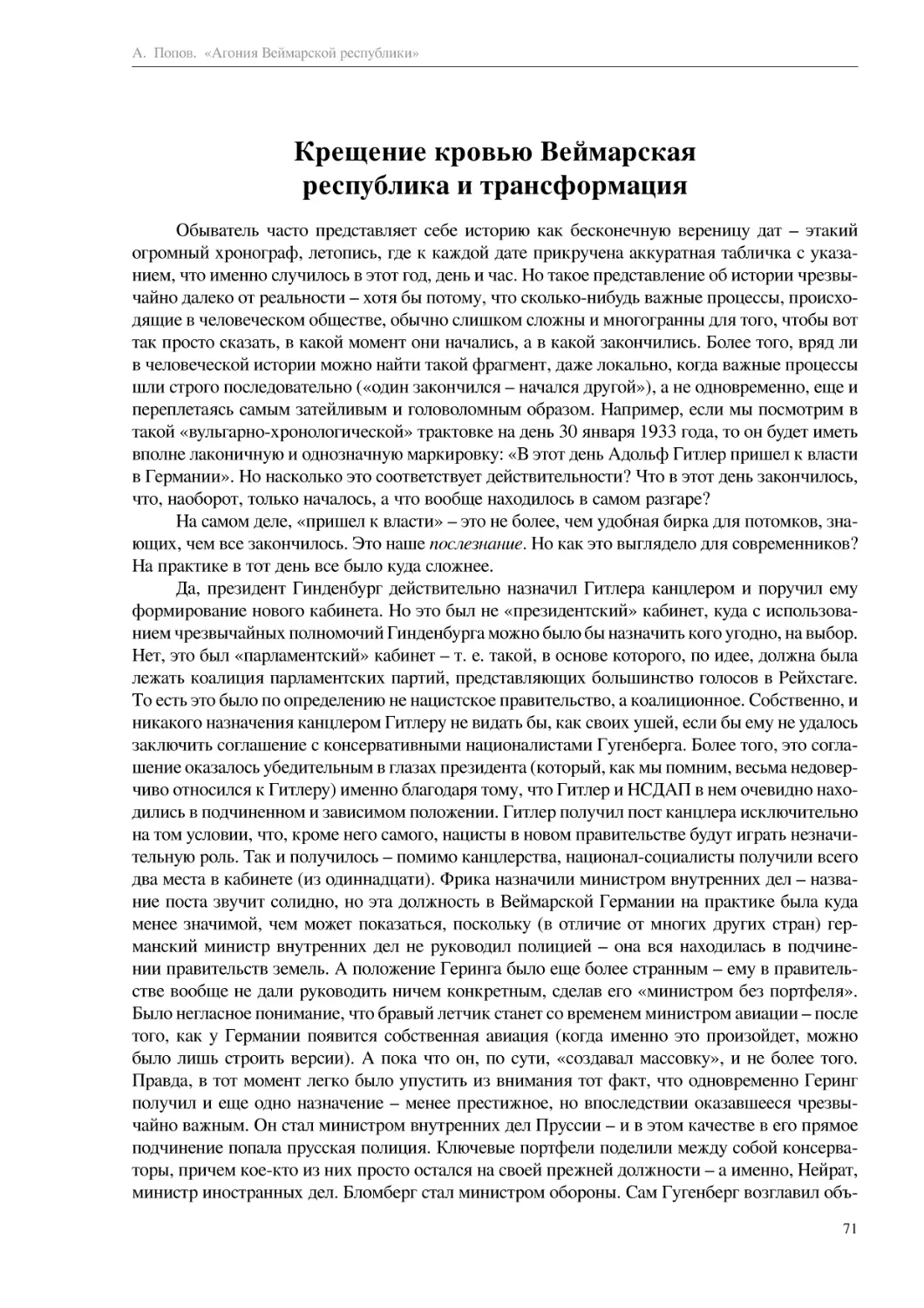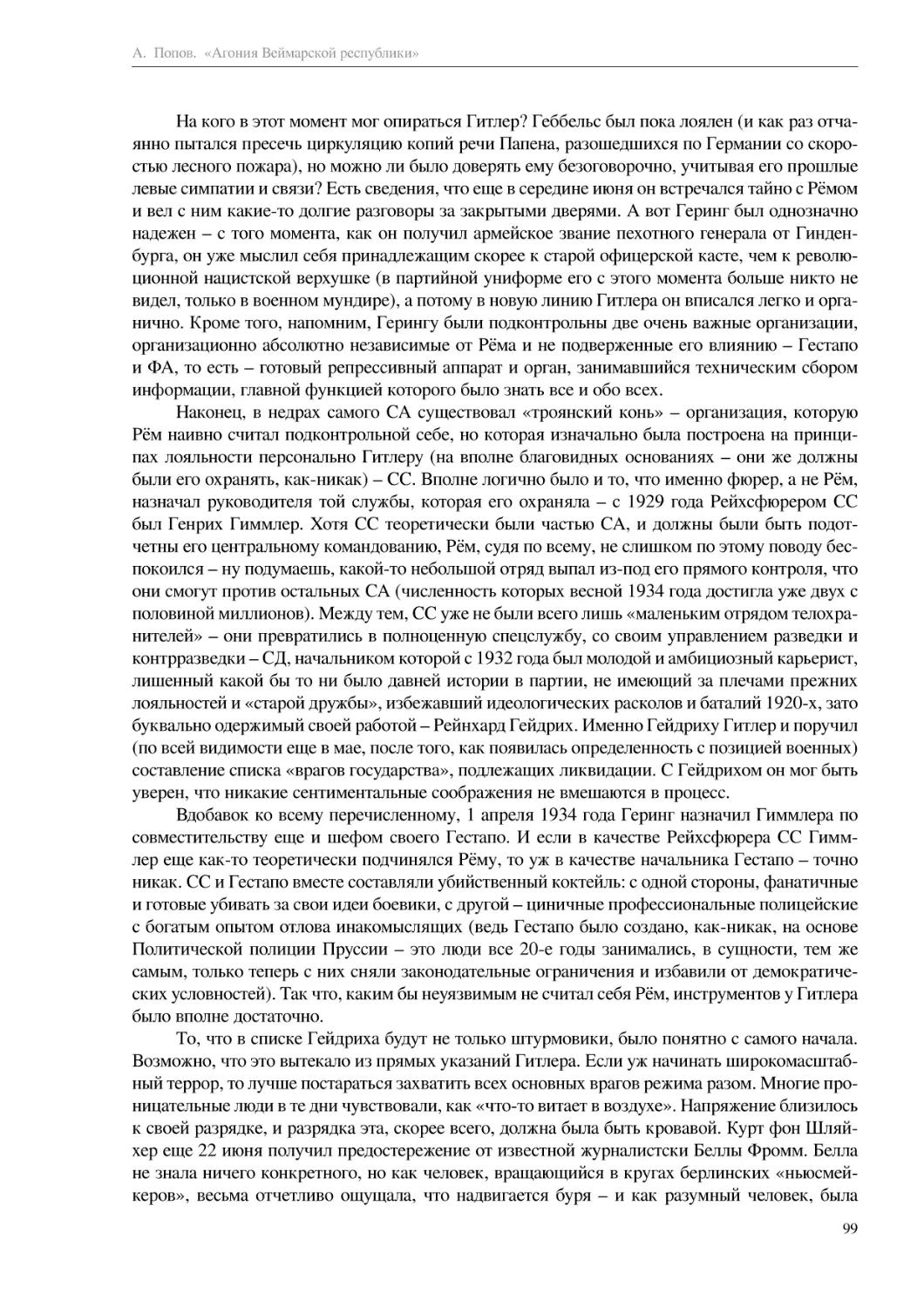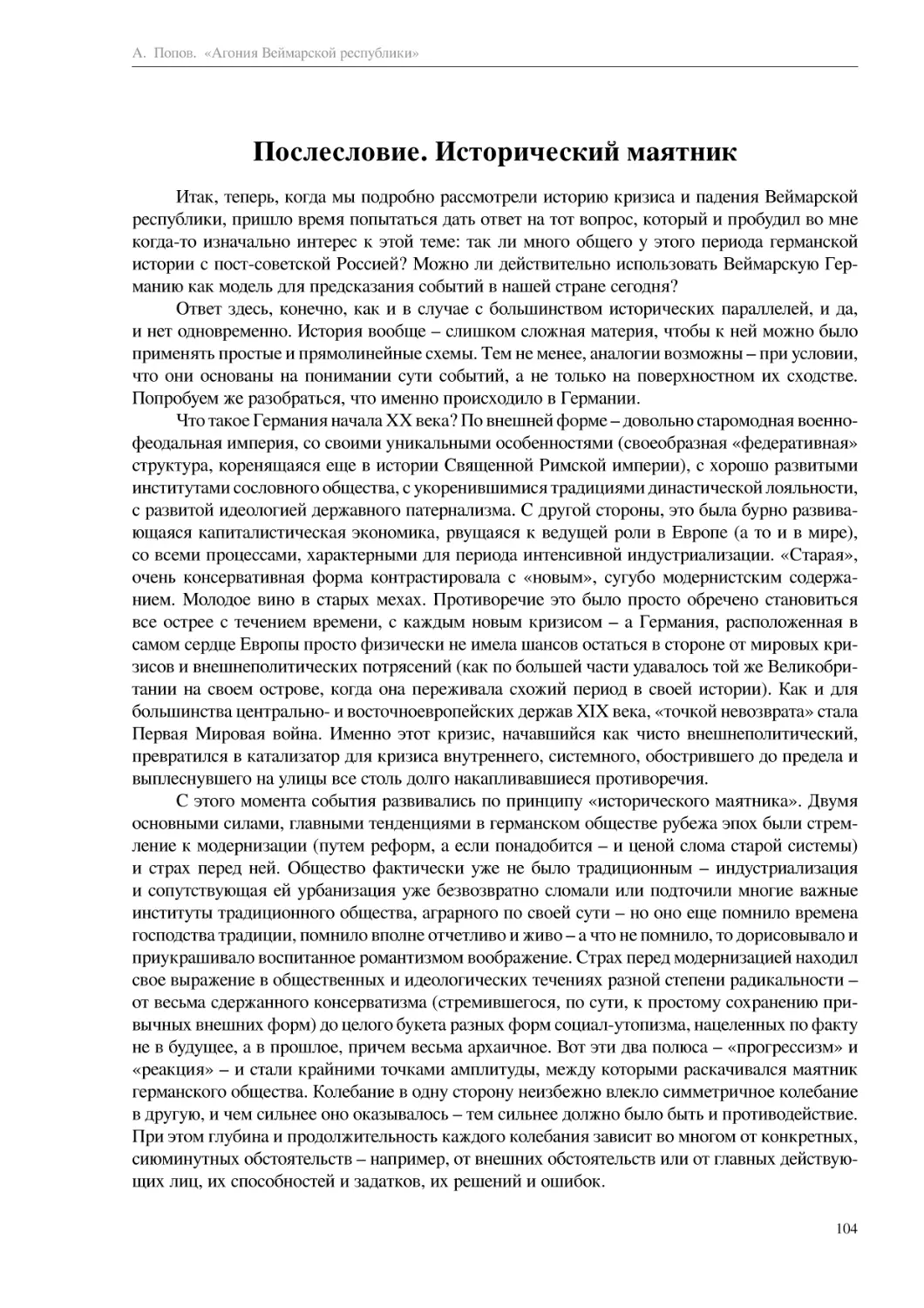Text
Антон Попов
Агония Веймарской республики
«Accent Graphics communications»
2017
Попов А.
Агония Веймарской республики / А. Попов — «Accent Graphics
communications», 2017
ISBN 978-1-386-96157-4
Однажды в начале девяностых, еще в бытность школьником, мне довелось
прочитать в одном серьезном научно-популярном журнале статью,
поразившую мое воображение. В ней маститый академик доказывал, что
новейшая история России (а дело было между августовским путчем 1991
года и событиями октября 1993-го) имеет полный и буквальный аналог в
событиях, происходивших в Веймарской Германии между двумя мировыми
войнами – до такой степени, что на основе этой аналогии можно строить
точные политические прогнозы. Как любой советский/российский школьник,
хорошо учившийся в старших классах, события я те представлял себе весьма
приблизительно и в общих чертах: ну да, был в истории Германии такой
период после Первой Мировой войны, который называют «Веймарской
республикой». Вроде как, в Германии в то время была демократия, но страна
переживала какие-то серьезные проблемы. И в конце концов, к власти пришел
Гитлер. Сравнение, таким образом, получалось совершенно неутешительное,
чтоб не сказать зловещее. Его хотелось обязательно проверить на прочность.
ISBN 978-1-386-96157-4
© Попов А., 2017
© Accent Graphics
communications, 2017
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Содержание
В прах: Веймарская республика и гиперинфляция
Время борьбы Веймарская республика и революция
Крещение кровью Веймарская республика и трансформация
Послесловие. Исторический маятник
7
30
71
104
4
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Антон Попов
Агония Веймарской республики
Однажды в начале девяностых, еще в бытность школьником, мне довелось прочитать в
одном серьезном научно-популярном журнале статью, поразившую мое воображение. В ней
маститый академик доказывал, что новейшая история России (а дело было между августовским путчем 1991 года и событиями октября 1993-го) имеет полный и буквальный аналог
в событиях, происходивших в Веймарской Германии между двумя мировыми войнами – до
такой степени, что на основе этой аналогии можно строить точные политические прогнозы.
Как любой советский/российский школьник, хорошо учившийся в старших классах, события
я те представлял себе весьма приблизительно и в общих чертах: ну да, был в истории Германии
такой период после Первой Мировой войны, который называют «Веймарской республикой».
Вроде как, в Германии в то время была демократия, но страна переживала какие-то серьезные
проблемы. И в конце концов, к власти пришел Гитлер. Сравнение, таким образом, получалось
совершенно неутешительное, чтоб не сказать зловещее. Его хотелось обязательно проверить
на прочность.
С тех пор утекло много воды. Мне довелось подробно, внимательно и с разных сторон
изучить историю той самой Веймарской республики, Европы в целом в этот период, а также
нацизма как идеологии и политического течения. С другой стороны, и жизнь нашей страны
в это время отнюдь не стояла на месте. Выяснилось, что историческая аналогия с Германией
1920-х остается вполне актуальной и востребованной в глазах части российской интеллигенции, причем к ней время от времени прибегают люди самых разных политических взглядов.
Более того, в силу тесной переплетенности с такой сложной и крайне болезненной темой, как
нацизм, аналогия эта имеет в глазах многих оттенок «жаренности», сенсационности, и это придает ей особой притягательности и авторитета. Одним она нравится, и поэтому им хочется в
нее верить, других она пугает, и потому волей-неволей завладевает их разумом. К сожалению,
уровень практических знаний о предмете, демонстрируемый многими «экспертами» оставляет
при этом желать много лучшего, а потому тема часто становится предметом досужих и ненаучных спекуляций довольно низкого пошиба. В конце концов, столкнувшись в очередной раз
с неграмотностью и плохой информированностью наших современников, я решил заняться
просвещением читающей публики самостоятельно, в меру своих скромных сил. Так родился
замысел сначала одной статьи об экономическом кризисе в межвоенной Германии, затем серии
статей – среди прочего, для того, чтобы ответить на возникавшие вопросы читателей. Идея
превратить их в книгу возникла поздно, когда большая часть основного текста была уже написана. На мой взгляд, получившийся труд представляет собой целостную и завершенную структуру, которая в целом дает ответ на те вопросы, которыми я задался впервые в те далекие
девяностые. А именно: действительно ли существует аналогия между историей России рубежа
ХХ-XXI веков и Германии 1920-х и начала 1930-х? (Забегая вперед – да, существует, но не
совсем такая, какой ее видел автор той давней статьи). Кроме того, и не менее важно: является ли сходство с Веймарской республикой приговором? То есть, грубо говоря, неизбежен
ли в Веймарской республике Гитлер? И вот здесь, как выяснилось, ответ будет скорее отрицательный, хоть и с оговорками. В этой книге я как раз и попытаюсь проанализировать события
восьмидесяти-девяностолетней давности, чтобы понять, что именно в истории падения Республики было неизбежностью, а что – более-менее исторической случайностью или следствием
уникального стечения обстоятельств. Отделив таким образом зерна от плевел, мы попытаемся
вместе сделать определенные выводы, имеющие практическое значение для нас здесь и сейчас.
Должен сразу оговориться, что данная книга не является настоящим историческим
исследованием – я не ставил себе целью искать и находить новые, ранее неизвестные или забы5
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
тые факты. Скорее, я ставил себе задачу проанализировать заново хорошо известные факты,
предложить их интерпретацию и улучшить тем самым наше понимание причин, внутренних
«пружин» и механизмов тех давних событий – а заодно дать читателю в руки весь минимально
необходимый инструментарий, чтобы аргументированно согласиться или не согласиться с этим
анализом, поверить или не поверить моей интерпретации, или – если будет на то желание –
сформировать свою собственную информированную картину этого в высшей степени интересного и важного периода истории. Тешу себя надеждой, что с этой задачей я справился.
Должен предупредить читателя, что путешествие наше по необходимости будет весьма
мрачным. Мир 1920-х был довольно-таки мрачным сам по себе, хоть изо всех сил и пытался
веселиться. Для Германии он был мрачным в особенности: это мир жестокого кризиса, политических бурь и набирающего силу Гитлера. Со зловещей фигурой Гитлера нам придется познакомиться довольно близко – во многих случаях, чтобы понять суть происходившего, требуется
буквально «влезть ему в голову». Наша задача здесь – не осудить и заклеймить его или его
идеи – это сделано тысячу раз до нас, и ничто не способно эти оценки изменить или даже поколебать. Но наша задача здесь понять, почему и как он победил, а потому смотреть на него мы
будем в основном глазами его современника – как смотрел бы на него образованный и хорошо
информированный немец 1920-х, не знающий пока что, к каким страшным последствиям приведут слова и действия данного персонажа. В этом весь смысл. Главный герой этой книги –
вовсе не Гитлер. Главный герой – германское общество той эпохи, и именно в понимании того,
какие процессы происходили в этом обществе в те тревожные годы, лежат ответы на все наши
вопросы.
Хочу поблагодарить людей, которые так или иначе способствовали появлению этого
труда. Романа Александровича Сетова, замечательного университетского преподавателя,
когда-то впервые привившего мне навыки системного исторического анализа. Егора Просвирнина – блестящего самобытного журналиста и редактора, который первый разглядел в тексте
книгу, неожиданно для меня самого. Моих родителей – за бесконечную поддержку и интерес.
И – самое главное – одного человека, без которого точно не была бы написана эта книга,
да и вряд ли что-нибудь еще за последние годы. Это тебе, Женя.
6
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
В прах: Веймарская республика и гиперинфляция
Первая Мировая война, несомненно, была одной из самых разрушительных катастроф в
истории Европы, причем ее разрушительный эффект выходит далеко за рамки потерь, причиненных непосредственно боевыми действиями. Чего стоит хотя бы пандемия «испанки», которая унесла жизней больше, чем сама война, и которая вряд ли достигла бы таких чудовищных
масштабов, если бы не военное время. Чего стоит экономическая разруха на половине континента, последствия которой с переменным успехом преодолевались вплоть до начала Второй
Мировой двадцать лет спустя. Но самое главное последствие – это, конечно, в полном соответствии с Булгаковым, «разруха в головах» – колоссальная душевная травма, психологический
вывих населения всей Европы (и немалой части остального мира). В этом плане Первая Мировая имела более глубокие и далеко идущие последствия, чем Вторая. На фронтах Великой
войны погиб целый мир – такой привычный, уютный, цивилизованный, согретый теплым ласковым солнцем под воздушные ритмы вальса. ХХ век начинался так оптимистично – бесконечной верой в прогресс, в открывающиеся сказочные перспективы будущего, в лучшую природу
человека, в то, что большая война навсегда ушла в прошлое. Эта вера умерла от тифа и дизентерии в сырых загаженных окопах, захлебнулась рвотой в газовых атаках, повисла кровавыми
ошметками на колючей проволоке под Верденом. Хуже всего была видимая бессмысленность
и бестолковость происходившего («в результате упорных и ожесточенных боев, потеряв около
200 тысяч человек убитыми, атакующие смогли продвинуть линию фронта на расстояние до
трех километров…»). Смерть старого мира была бесславна, уродлива и лишена какого бы то ни
было достоинства. Она была также радикальна и бесповоротна – для огромного большинства
участников войны наступление мира вовсе не означало возвращения к привычной реальности
и ритму жизни – потому что этой реальности уже попросту не существовало.
Первая Мировая и сопутствовавшие ей социальные катаклизмы обрушили четыре империи – Германскую, Австро-Венгерскую, Российскую и Османскую (примерно в то же время
рухнула еще и Китайская, хоть эти события и стоят особняком от Великой войны). По сути,
пол-Европы и полАзии погрузились в хаос. Наша собственная Гражданская война затмевает
в наших глазах все остальное, что вполне естественно, но мы должны отдавать себе отчет в
том, что в те же самые годы немалая часть Европы переживала лишь немногим менее драматичные события (этим, кстати, объясняется и относительная пассивность западных «интервентов», оказавшихся неготовыми прилагать сколь-нибудь значительные усилия, чтобы задавить режим большевиков – у них просто были гораздо более актуальные проблемы ближе к
дому). В каждой из бывших империй происходившее имело свою специфику. В России происходили социально-экономические сдвиги тектонического масштаба. Турция утратила большую часть своих территорий и находилась в мучительном и сложном процессе переформатирования себя в современное национальное государство, одновременно отбиваясь от хищных
соседей. На месте Австро-Венгрии теперь вообще было лоскутное одеяло новых государств,
каждое – со своим кипучим национализмом, а посередине этого бурного моря оставался в
странном подвешенном состоянии кургузый обрубок собственно Австрии с Веной – роскошным имперским мегаполисом, совершенно не приспособленным быть столицей крошечного
государства, экономически едва сводящего концы с концами. Положение Германии также было
по-своему уникально.
Будучи главной проигравшей стороной в войне, Германия вынуждена была столкнуться
не только с общей экономической разрухой, но и с целенаправленной местью победителей,
объявивших немцев единственными ответственными за развязывание войны (что, в отличие от
Второй Мировой, было не вполне справедливо). Ситуация в психологическом плане осложнялась еще и тем, что собственное поражение для большинства немцев было совершенно неожи7
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
данным, а глубина его – неочевидной. В самом деле, на момент подписания перемирия война
нигде не велась на территории собственно Германской империи. Более того, за последний год
произошел целый ряд событий, которые, как многим казалось, должны были радикально переломить ход войны в пользу немецкого оружия. Подписание Брестского мира не только вывело
из игры Россию, но и знаменовало для Германии колоссальные территориальные приобретения на Востоке, которые должны были, в частности, быстро решить все ее продовольственные
проблемы. Наступление 1918 года на Западном фронте (знаменитый Kaiserschlacht), хоть и не
достигло главных своих целей, но наглядно показало, во-первых, что германская армия еще
более чем жива, а во-вторых, что новая экспериментальная тактика вполне способна указать
выход из надоевшего всем позиционного тупика. Оба события были широко растиражированы
германской пропагандой, в то время как реальная тяжесть стратегического положения Германии, разумеется, замалчивалась. В таких условиях было вполне естественно, что большинство
населения Империи (да и многие из немецких солдат на фронте) воспринимали победу в войне
как нечто более-менее предрешенное, по сути – вопрос времени. Поэтому подписание перемирия в ноябре 1918 года оказалось для простых немцев чудовищным шоком. Отсюда и возникла расхожая легенда про Dolchstoss – «удар в спину», которую затем искусно эксплуатировали нацисты: дескать, германская армия-то войну выигрывала, но вот группа национальных
предателей и вредителей в тылу (политиков и финансистов) украла неизбежную, заслуженную,
выстраданную немцами победу.
Правда заключалась в том, что стратегическое положение Германии после неудачи весеннего наступления 1918 года, и ввиду того, что ее союзники оказались поставлены на грань
неминуемого выхода из войны, было безнадежным. Если бы немцы не начали переговоры о
мире, очень быстро последовало бы как раз все то, чего германской публике не хватало для
полноценного ощущения поражения – и военный разгром на фронте, и оккупация немецкой территории иностранными армиями. Собственно, это было к тому моменту до такой степени неизбежно, что ни о каких равноправных переговорах с Антантой уже не могло быть и
речи – союзники могли диктовать условия (известен характерный диалог французского маршала Фоша с германской мирной делегацией: «Германия хочет обсудить вопрос о мире.» –
«Извините, но мы совершенно не заинтересованы в мире. Нам очень нравится эта война, мы
хотим ее продолжать.» – «Но мы не хотим, мы не можем больше воевать!» – «А, так вы просите о мире? Так это совсем другое дело!»). Собственно, решение о капитуляции было своевременным и мудрым – еще несколько месяцев, и последствия для Германии были бы гораздо
более катастрофичными. Но в тот момент немецкий народ был совершенно не в состоянии это
понять – немцы оказались заложниками чрезвычайно эффективной государственной пропаганды, которая четыре года трубила им о скорой победе, стоит только немного затянуть пояса
и подождать.
Вследствие этого в верхах началось настоящее жонглирование горячей картофелиной –
никто не горел желанием брать на себя ответственность за столь явно непопулярное решение. К
чести германской элиты, это, по крайней мере, не остановило ее от принятия самого решения,
что сберегло немцам множество жизней. Но это «бегство от ответственности» привело к образованию вакуума власти. Кайзер, обоснованно догадываясь, кто тут сейчас окажется крайним
(причем как перед собственным народом за «позорную капитуляцию», так и перед победителями за «развязывание войны»), предпочел отречься от престола и бежать из страны. Военное
командование, начав мирные переговоры, тем не менее, самоустранилось от обсуждения окончательных условий мира – слишком уж очевидно было для хорошо информированных людей,
насколько некрасивыми эти условия окажутся. В результате понадобилось в спешном порядке
формировать хоть какое-то гражданское республиканское правительство, которое смогло бы
взять эту незавидную роль на себя.
8
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
В этом было фундаментальное отличие Германской революции от Русской. Германский
«февраль» (на деле – ноябрь) был в значительной степени навязан внешними обстоятельствами, как бы «спущен сверху» – он не был результатом заговора и целенаправленного переворота, а был скорее вынужденной политической импровизацией. Что касается «октября», то
его попытка в Рейхе тоже была. В Германии были свои большевики – «спартакисты» – вполне в
духе своих восточных коллег. Более того, на протяжение последнего года перед капитуляцией
их влияние в стране ощутимо росло – опять-таки, вполне по «русскому сценарию» – разлагающая пропаганда в армии (и особенно на флоте – как и в России, именно флот стал наиболее
питательной средой для мятежа), забастовки на промышленных предприятиях… Особенно эти
явления усилились после подписания Брестского мира – в Германии поднялась волна левой
пропаганды против его «несправедливых и грабительских» условий. Думается, однако, что все
эти явления остались бы лишь эпизодом, если бы дела на фронте для Германии складывались
более удачно. Именно скоропостижная капитуляция рейхсвера оказалась настоящим подарком
судьбы для революционеров – до нее сколь-нибудь серьезные революционные выступления
имели место лишь на флоте, и их до поры как-то удавалось изолировать и сдерживать. После
объявления о перемирии (фактически, капитуляции, как для всех быстро стало понятно) по
военным частям немедленно покатилась волна формирования солдатских комитетов. В этом
еще одно отличие от России, где именно революция привела к распаду армии и, по сути, капитуляции. В Германии капитуляция была первична, главное разложение последовало за ней.
Импровизированность и непредвиденность германского «февраля» сыграла с немецкими
«большевиками» очень злую шутку. По-хорошему, самым логичным выбором для них было бы
поддержать республику, затаиться, подрывать изнутри армию, копить силы и ждать удобного
момента для перехвата власти – как это и сделали большевики в России. Однако калейдоскопическая скорость событий вскружила им голову, и они пошли на немедленный вооруженный
мятеж, пытаясь захватить власть сразу же, здесь и сейчас, свергнуть разом и монархию, и новоявленную республику. Так, последний король Баварии, Людвиг III (напомним, что в Германской империи, наряду с кайзером, сохранялись и местные монархические династии – империя
была в некотором роде «лоскутная») вынужден был поспешно бежать из своего дворца в компании своих дочерей, только с коробкой сигар подмышкой, тайком пробираясь по темным улицам Мюнхена, где в это время уже провозглашали Баварскую советскую республику, не иначе.
Успехи были очень локальными и недолговечными. Трудно сказать, насколько именно
поспешные действия ультралевых подтолкнули германских «февралистов» к такому образу
действий, а насколько они сами оказались умнее своих русских собратьев (вероятно, то и другое вместе), но факт остается фактом – германское «временное правительство» пошло на союз
с контрреволюционно настроенными сегментами армии (знаменитые «свободные корпуса»,
фрайкоры) против левых экстремистов – в отличие от российского Временного правительства, которое сделало ровно наоборот – пошло на союз с большевиками против «мятежа» генерала Корнилова. Результатом стала двухлетняя гражданская война – впрочем, гораздо меньшей
интенсивности, чем в России – в ходе которой спартакисты и прочие левые были задавлены.
Уничтожены они поголовно не были – погибли лишь наиболее одиозные их лидеры, вроде
Карла Либкнехта и Розы Люксембург, остальные были загнаны в русло более-менее «легальной» политики, став ядром новой Коммунистической партии Германии. Демократы-республиканцы удержали власть. По сути дела, германская Веймарская республика – это примерно
то, чем теоретически могла бы стать «февральская» Россия, при более разумных действиях
ее руководства.
Эта республика изначально вынуждена была жить в реальности, сформированной Великой войной и Версальским миром, и реальность эта была весьма недружелюбна. Избежав
немедленного политического коллапса, республика толком ничего не могла поделать с катастрофической экономической ситуацией – во-первых, ситуация эта имела к тому времени
9
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
довольно глубокие корни и истоки, а во-вторых, во многом она была беспрецедентной, и общество просто не знало, как ее понимать, тем более – что с ней делать.
Для общества, жившего всю жизнь в условиях твердого валютного курса, гарантированного золотым стандартом, инфляция была непонятным и диковинным явлением. Все привыкли, что немецкая марка, французский франк и итальянская лира обменивались болееменее один к одному. Каждая из трех денежных единиц была приблизительно равна (плюсминус) английскому шиллингу, а 4 или 5 их равнялись одному американскому доллару (который в то время по своей покупательной способности был примерно эквивалентен 30 современным долларам). Так было, сколько люди помнили себя. Какие бы политические бури ни
сотрясали общество, деньги всегда оставались стабильным якорем реальности. «Марка остается маркой», любили говорить немецкие банкиры.
Эта ситуация начала исподволь меняться после начала Великой войны, хотя на первых
порах мало кто это замечал. Уже вскоре после начала боевых действий стало понятно, что
гигантский Молох германской военной машины оказался гораздо прожорливее, чем ожидалось. В этих условиях правительство задумалось о двух взаимосвязанных вещах – во-первых,
как финансировать войну, а во-вторых – как сделать так, чтобы золотой запас Империи не
растаял полностью прежде, чем она закончится.
В соответствии с Законом о банках от 1875 года не менее одной трети от номинальной стоимости денежной эмиссии должно было быть обеспечено непосредственно золотом,
остальное – государственными облигациями сроком не более трех месяцев. В августе 1914
года Рейхсбанк прекратил обмен банкнот на золото. Одновременно были созданы специальные кредитные банки, капитал которых был сформирован очень просто – государство взяло и
напечатало столько денег, сколько было нужно, обеспечивая их лишь трехмесячными гособлигациями. Эти банки должны были выдавать займы предприятиям, правительствам земель,
муниципалитетам, военным подрядчикам. Вдобавок они должны были финансировать выпуск
облигаций военного займа. Таким образом большая часть напечатанных банкнот (чье обеспечение было уже весьма сомнительным) быстро поступили в оборот в качестве законных платежных средств. Самое скверное было то, что механизм позволял повторять эту операцию
снова и снова, по мере необходимости. А необходимость возникала с железной неотвратимостью. Реальная покупательная способность марки начала неуклонно снижаться. К концу войны
она примерно ополовинилась. Фраза «марка остается маркой» уже превратилась в фикцию,
хотя большинство немцев этого еще не понимало. Ведь все фондовые биржи Германии были
закрыты до окончания войны, а курсы обмена валют больше не публиковались. Цены на внутреннем рынке выросли, это верно, и вдобавок возник черный рынок с еще более высоким
порядком цен, но в этом винили морскую блокаду Германии, а также вызванные ей меры экономии и дефицит импортных товаров – вроде как, вполне естественные и ожидаемые явления
в военное время. Какие-то смутные догадки, что с экономикой происходит нечто не совсем
хорошее, могли быть лишь у коммерсантов, торговавших с нейтральными странами, вроде
Швейцарии. Большинство немцев столкнулись лицом к лицу с суровой реальностью, когда
война закончилась, а экономические тяготы отказались уходить вместе с ней. Напротив, очень
скоро выяснилось, что перемирие вывело их на принципиально новый уровень.
Уже по тому первичному документу, который был подписан в штабном вагоне на станции Компьень 11 ноября 1918 года, можно было сделать вывод, что окончательные условия
мира не принесут Германии ничего хорошего. Помимо чисто военных условий капитуляции
(сдача германского флота, вывод войск с территории Франции и Бельгии, эвакуация Эльзаса и
Лотарингии), условия перемирия содержали в себе также немедленную сдачу всех германских
колоний и оккупацию Рейнской области войсками союзников. Но самым тяжелым для простых
немцев был тот факт, что морская блокада Германии оставалась в силе вплоть до подписания
окончательного мирного договора.
10
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Союзники не особо утруждали себя каким-то согласованием условий мира с немцами –
торг на переговорах шел в основном между разными участниками коалиции. Германия была
просто поставлена перед фактом – хотите, принимайте как есть, хотите – нет. Никакого выбора,
конечно же, не было. Часто говорят, что условия мира были «унизительными» для Германии. Возможно, но это было лишь полбеды – в конце концов, проигравшей стороне в мировой
войне, в ходе которой широко применялось химическое оружие и случались репрессии против
мирного населения (в гораздо меньшем масштабе, чем во Вторую мировую, конечно, но для
тогдашней Европы и это было страшным шоком), трудно было ожидать, что ее ласково пожурят и отпустят восвояси. Справедливо или несправедливо на Германию возложили моральную
ответственность за развязывание войны – вопрос сам по себе академический, думаю, что большинству простых немцев дела до него было немного. Хуже было другое. Условия Версальского
мира были страшным ударом для германской экономики – для того, что от нее осталось после
четырех лет войны.
Когда говорят о потере территорий (а Германия в соответствии с договором теряла примерно 1/7 своей площади и 1/10 населения), в первую очередь обычно думают о военно-политическом аспекте. Но экономический аспект был как минимум не менее важен. Германия
теряла не только территории и население – она теряла их промышленность и экономический
потенциал. К тому же, по условиям Версаля, Рейнская область подлежала оккупации Францией на 15 лет – с последующим проведением плебисцита на предмет дальнейшей судьбы территории. Рейнская область, на минутку, была важнейшим источником угля для германской
промышленности, и французы получали эксклюзивные права на его добычу на весь срок оккупации. Верхняя Силезия, будущее которой тоже было поставлено в зависимость от результатов плебисцита, также была важным промышленным районом. Имело важнейший экономический аспект и сокращение численности германской армии – ведь оно в одночасье выбрасывало
на германский рынок огромное количество свободных рабочих рук, которые было жизненно
необходимо чем-то занять. Наконец, самое прямое и катастрофическое влияние имел тот факт,
что по условиям мирного договора Германия должна была уплатить огромные репарации (и
деньгами, и натурой), выплаты которых должны были растянуться на долгие, долгие годы.
Все эти условия – убийственные сами по себе, способные поколебать любую, даже самую
здоровую экономику – упали не в вакуум, а на «плодородную почву» германской финансовой
системы военного времени. Помните, это той самой, где правительство покрывало свои экстренные нужды, тупо печатая деньги. А экстренные нужды теперь в одночасье возникли такие,
что те 164 млрд марок, в которые Рейху встала Великая война, выглядели сущей безделицей.
Что ж, так и германский печатный станок еще ведь далеко не вышел на предел своей производственной мощности…
По состоянию на 1 августа 1914 года британский фунт стерлингов стоил, как мы помним,
20 германских марок (1 марка равнялась 1 шиллингу). В декабре 1918-го он стоил уже 43. На
момент подписания Версальского мира в июне 1919-го – 60. К декабрю того же года – все 185.
Но это было только начало.
Нам сейчас может показаться странным, но в тот момент почти никто в Германии не связывал стремительный рост цен в стране и утрату покупательной способности марки с денежной
эмиссией. Сейчас для нас эта идея абсолютно естественна, но в начале ХХ века сама ситуация была внове и для широкой публики, и для ученых-экономистов. Новообретенная способность правительства почти произвольно увеличивать денежную массу в стране для покрытия
своих нужд (ведь впервые такая методика была опробована каких-то пять лет назад!) многим
профессиональным финансистам казалась гениальным открытием, блестящим достижением
современной мысли, практически панацеей от всех проблем. И даже сознавая, что покупательная способность национальной валюты почему-то снижается, они яростно отстаивали убежде11
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ние, что их новая любимая игрушка, печатный станок, здесь ни при чем – нет-нет, негативные
явления вызваны какими-то иными причинами.
Что же касается простых немцев, то они вообще долгое время не осознавали толком, что
же именно происходит с их деньгами. Марка ведь остается маркой, не так ли? Если цены растут, значит – либо товаров по каким-то причинам завозят слишком мало, либо поставщики и
злодеи-спекулянты завышают цены. Люди видели, как меняются публикуемые в газетах обменные курсы валют, но совершенно не понимали сути происходящего. Видя изменившийся курс,
немцы говорили: «Доллар опять растет!» На самом деле, как раз доллар все это время оставался более-менее стабильным. Падала марка. Да и это падение долгое время было похоже
не на обвал, а на качели – вверх-вниз. Так, например, в течение 1920 года курс британского
фунта вырастал до 230 марок, потом падал до 150, потом вырастал снова. Эти колебания были
связаны, в частности, с работой Комиссии по репарациям, созданной странами Антанты. Дело
в том, что Комиссия ожесточенно спорила о единой фиксированной сумме выплат (будущий
французский премьер-министр Пуанкаре даже подал из-за этих разногласий в отставку с поста
председателя комиссии). В момент, когда показалось, что достигнуто приемлемое соглашение,
курс марки резко подпрыгнул… но ожидания оказались ложными, а эффект недолговечным.
Более того, неожиданный рост марки порядком напугал правительство республики, потому
что сразу же вызвал в стране столь же резкий скачок безработицы – до 6 % летом 1920 года
(инфляция и безработица обычно находятся в противофазе). В условиях, когда страна только
что (как многим казалось) чудом удержалась на краю красной революции, когда забастовки
еще следовали одна за другой, страх был вполне понятен. Отныне правительство поставило
своей главной целью удержание безработицы на минимально возможном уровне любой ценой.
Ценой оказалась смерть марки как платежного средства.
Чтобы покрыть ту сумму репарационных выплат, которая обсуждалась в июне 1920 года,
Германии требовалось каким-то образом удвоить доходную часть своего бюджета – потому что
этот бюджет едва сходился даже без учета репараций. Увеличить налоги вдвое? Практически
никто (включая британского посланника лорда Д'Эбернона, призывавшего союзников к умеренности) не сомневался, что это повлечет немедленную революцию. Никто в Берлине не был
готов идти на такой риск – даже текущий уровень налогообложения многим казался избыточно
высоким, а собираемость этих налогов оставляла желать много лучшего. В финансовых кругах Германии царила атмосфера полного упадка и уныния. Банки начали массово выводить
капиталы из страны, и никакие правительственные ограничения не в силах были остановить
это бегство. Среди людей с деньгами ходило популярное высказывание, что «неуплата налогов
отныне является не преступлением, а патриотическим долгом».
Между тем, заседания Комиссии по репарациям продолжались. Споры были ожесточенными, позиция некоторых ее участников – откровенно неконструктивной. Особенно усердствовали французы. Британский премьер-министр Ллойд Джордж в это время едко отметил,
что французы никак не могут определиться, чего же они хотят больше – получить наконец
какие-то реальные деньги, или просто получить удовольствие, втаптывая Германию в грязь.
Совершенно очевидно было, продолжал англичанин, что эти цели были несовместимы.
Наконец, 27 апреля 1921 года Комиссия вынесла окончательное решение. Общая сумма
репараций была определена в 132 млрд золотых марок, или 6,6 млрд фунтов. Выплачивать
ее предлагалось в следующем порядке – 2 млрд золотых марок фиксированной суммой ежегодно, плюс сумма, равная 26 % суммарной стоимости германского экспорта. Немецкой стороне эти условия были представлены в виде ультиматума, подкрепленного угрозой дальнейших
военных санкций (французы угрожали оккупировать Рур). На размышление была дана неделя.
Этот «Лондонский ультиматум» вызвал немедленный обвал марки до уровня 268 марок за
фунт, и падение правительства канцлера Ференбаха. Новый канцлер, доктор Вирт, принял
условия ультиматума (буквально в последний момент, когда французские части уже готови12
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
лись к выступлению), и это вызвало отскок курса марки до уровня 232. Но передышка была
недолгой. Перед новым правительством стояла необходимость как-то выплачивать астрономические суммы репараций – притом, что бюджет уже трещал по швам. Налоги снова поднялись –
но это не вызвало заметного облегчения ситуации, лишь еще больше подорвало благосостояние низов общества и привело к вызывающему параду роскоши в верхах – богачи стремились
потратить деньги прежде, чем до них доберется государство. Градус социальной напряженности начал заметно расти. Другого выхода не оставалось – правительство снова включило печатный станок на полную мощность.
В июне 1921 года министром реконструкции в правительстве Веймарской республики
стал доктор Вальтер Ратенау, видевший свою основную задачу в выполнении требований по
репарациям. На протяжении предшествовавших 9 месяцев курс марки колебался вверх-вниз
вокруг показателя в 250 марок за фунт, в пределах около 15 пунктов. Очень скоро этим временам относительной стабильности предстояло превратиться в блаженные воспоминания. Июль
1921 года стал рубежом, потому что уже в августе по графику необходимо было произвести
первую выплату по репарациям в размере 1 млрд золотых марок. Ратенау удалось найти эту
сумму, но лишь половина собранных денег была получена нормальными реалистичными способами (в том числе за счет привлечения иностранных кредитов). Остальное правительство
просто напечатало. Курс марки упал до 310. Хуже было то, что правительство совершенно не
представляло себе, где будет брать деньги для следующего платежа. А самым худшим, пожалуй, что одновременно со всеми этими чудесами финансовой эквилибристики правительство
вынуждено было еще и выплачивать долги по ранее выданным ему кредитам. Проблема была
в том, что для этого требовалась иностранная валюта, которой у республики почти не было.
Поэтому начиная с августа доверенные лица, действующие по поручению Рейхсбанка, начали
скупать иностранную валюту на внешнем рынке практически по любой доступной цене. Их
примеру очень быстро последовали частные банки, сначала действуя в интересах германских
промышленников и просто частных клиентов, а потом включившись и в самостоятельную спекуляцию. Все это происходило на фоне почти апокалиптических настроений в обществе –
немцы пристально наблюдали за наступавшим буквально через границу экономическим коллапсом Австрии (австрийская крона упала уже до показателя 3000 за фунт, и не показывала
признаков стабилизации). В германской политике царил хаос, что также не способствовало
уверенности в завтрашнем дне и доверию к марке. Одно за другим следовали масштабные
выступления правых (признанным лидером их в этот период был генерал Людендорф). К парадам и шествиям скоро добавились и политические убийства – 26 августа был убит Матиас Эрцбергер, политик-социалист (к тому же еще и еврей по происхождению), которого правые считали одним из главных фигурантов «удара в спину» в ноябре 1918-го. Интересно, что одним из
ведущих политиков-националистов в это время, чьи речи во многом и вдохновили убийц, был
ни кто иной, как Карл Хелфферих – бывший имперский министр финансов и отец той самой
инфляционной схемы финансирования войны, с которой все и началось. Вполне логично, что
это вызвало бурю возмущения со стороны левых всех мастей. Стремясь предотвратить волнения среди социальных низов, правительство объявило о широком повышении зарплат.
По состоянию на октябрь 1921 года бюджет Веймарской республики находился в плачевном состоянии. Расходная его часть (включая платежи по репарациям и расходы на анонсированное повышение зарплат) составляла 113 миллиардов марок, доходная – менее 90 миллиардов. При этом следует учитывать, что рассчитаны эти цифры были, исходя из курса золотой
марки в 13 бумажных марок (напомню, что репарации рассчитывались именно в золотых марках), а реальный курс к тому времени был уже на уровне 22 к 1. В результате одни только
выплаты союзникам (текущий платеж по репарациям плюс оккупационные расходы) уже оказывались примерно равны всей сумме реальных доходов бюджета (и это при условии высокой
собираемости налогов, что представлялось крайне сомнительным). Понятно было, что следу13
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ющий платеж по репарациям похоронит данный бюджет окончательно и вызовет новое падение марки.
Правительство доктора Вирта отчаянно балансировало на грани. 17 октября пришли
новости о решении Лиги Наций по разделу Верхней Силезии между Германией и Польшей (это
при том, что в провинции уже прошел плебисцит, на котором большинство жителей высказалось за то, чтобы остаться в составе Германии). Решение вызвало бурю возмущения и правительство подало в отставку. Однако уже 26 числа Вирт был вынужден вернуться во главе нового
правительства, которому пришлось принять силезский ультиматум (лишь зафиксировав свой
письменный протест для будущих поколений). Курс марки мгновенно упал до 600 за фунт, и
продолжал неуклонно снижаться. Через месяц за фунт давали уже 1040 марок, а еще через
месяц – все 1300… Наступающий год не предвещал ничего хорошего – к февралю германскому
правительству предстояло найти где-то еще 500 млн золотых марок для выплаты следующего
транша репараций. В противном случае на горизонте снова начинала маячить угроза занятия французами Рура… Правительство снова обратилось за помощью к английским банкам,
но их ответ был неутешительным. Прежде чем вести речь о выдаче новых кредитов, англичане потребовали, во-первых, навести порядок в государственных финансах (хотя бы сбалансировать бюджет), а во-вторых – достичь какого-то приемлемого соглашения с французами.
То и другое было в той ситуации абсолютной утопией. Тем не менее, начавшийся в Лондоне
в декабре очередной раунд англо-французской конференции дал немцам небольшой лучик
надежды – потому что вскоре после его открытия стороны сделали совместное заявление, в
котором признали предстоящий февральский транш нереалистичным. Этого хватило, чтобы
марка откачнулась назад к уровню 751.
Тем не менее, надо понимать, что вздох облегчения был весьма относительным. Колебания марки чуть вверх или чуть вниз могли огорчать или радовать политиков и финансистов.
У простых немцев был куда более наглядный и насущный индикатор состояния экономики –
уровень цен. За прошедшие восемь лет (с 1913 года) цена ржаного хлеба выросла в 13 раз,
говядины – в 17, сахара, молока, свинины и картофеля – в среднем в 25, сливочного масла –
в 33. И это были официальные цены, в реальности все это можно было купить лишь где-то на
треть дороже. Причем примерно 30 % этого роста цен приходилось на последние два месяца
1921-го. Понятно, что в такой ситуации правительство было даже больше обеспокоено опасностью народных волнений, чем назревающим дефолтом. Правящая верхушка и олигархи-промышленники безостановочно искали врага, которого можно было бы назначить ответственным
в глазах народа. Виновными назначались то коварные происки зарубежных врагов, то более
или менее анонимные «спекулянты» внутри Германии (стремление тех, у кого хоть какие-то
деньги водились, потратить их поскорее лишь добавляло остроты к массовому недовольству
и ощущению, что кто-то жиреет, пока простые немцы голодают – в Баварии даже попытались
принять закон против обжорства).
Между тем, столь обнадежившая было Германию Лондонская конференция завершилась
без особых результатов. Вопрос о репарациях отложили на после Нового года, когда была
назначена еще одна конференция – в Каннах. Каннская конференция в итоге постановила
предоставить Германии мораторий на репарационные выплаты сроком на два месяца (январь и
февраль 1922 года), но после завершения этого периода обязать немцев выплачивать по 31 млн
золотых марок каждые 10 дней. На этом фоне марка опять начала падать, достигнув в конце
января показателя в 850 марок за 1 фунт.
По сути, Германия продолжала неудержимо сползать по скользкому склону к краю пропасти. Она отчаянно брыкалась, цеплялась за каждую кочку, иногда ей удавалось немного
притормозить или даже вернуться на шаг-другой назад – но любое облегчение оказывалось
недолговечным, очень скоро скольжение возобновлялось. Соседи наблюдали за конвульсиями
Германии – некоторые с брезгливым любопытством, другие даже с чем-то похожим на сочув14
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ствие, хотя немцам от этого было не легче. Те же англичане, к примеру, смотрели на германские проблемы с гораздо большим снисхождением, чем французы – но при этом они были
совершенно не готовы портить отношения со своими ближайшими союзниками, чтобы облегчить участь вчерашнего врага. Французы же просто пылали жаждой мести – особенно это стало
заметно после того, как их премьер-министром стал Пуанкаре, уроженец Лотарингии, люто
ненавидевший немцев и все немецкое. На конференциях с немецкими делегациями обращались как с отбросами – по сути, их вызывали лишь для того, чтобы поставить в известность
о принятых решениях, все основные дискуссии союзники по-прежнему вели исключительно
между собой. Справедливости ради надо отметить, что их поведение не во всем было таким
уж злонамеренным «вредительством» – то, что мы говорили ранее о тотальном непонимании
механизмов инфляции, относилось и к союзникам в не меньшей степени, чем к самим немцам.
Англичане и французы часто попросту не понимали до конца, какое воздействие их требования оказывали на гибнущую экономику Германии. Впрочем, по крайней мере французам в
любом случае было бы все равно.
Тем временем, экономическая ситуация продолжала усугубляться. Предоставленный
мораторий истек в конце февраля, после чего Германия столкнулась с необходимостью производить платежи теперь уже три раза в месяц, и неуклонное падение марки возобновилось.
В апреле произошел небольшой обратный отскок – в связи с надеждами, которые немецкие
финансисты возлагали на Генуэзскую конференцию, назначенную на этот месяц. Надежды
не оправдались – Генуя для немцев ознаменовалась лишь подписанием параллельного германо-советского договора в Рапалло, но для немецкой экономики в тот момент этот договор
важной роли не сыграл.
Теперь для значительной части населения Германии реальностью стала не только инфляция, но и бедность. Заработная плата в абсолютном выражении теоретически тоже увеличивалась – но к началу 1922 года стало заметно, что цены на многие продукты питания (и, например,
уголь, необходимый для отопления) растут опережающими темпами. Исследование, проведенное во Франкфурте-на-Майне в феврале 1922 года, показало, что все проживавшие там дети –
всех без исключения социальных классов – отставали в своем физическом и умственном развитии в среднем на два года от нормы. Сказывался дефицит необходимых для здорового развития продуктов – в первую очередь молока (в зимнее время его вообще получали только больные). Тем не менее, номинальный рост зарплат немцев вызывал у широкой публики в соседних
странах ощущение, что в Германии все не так уж и плохо, что германское правительство сознательно сгущает краски, даже – что имеет место колоссальных масштабов надувательство, в
котором участвуют десятки миллионов людей, с целью побудить союзников смягчить справедливо наложенные санкции. Статьи такого содержания регулярно выходили в центральной
печати – например, в лондонской «Таймс» в апреле 1922 года. Простым французам или англичанам было трудно понять, что увеличение заработной платы в абсолютных цифрах может
отнюдь не означать роста благосостояния, что последнее может определяться не только простым количеством денег на руках, но и их покупательной способностью. Разумеется, в странах-победительницах за время войны также имела место инфляция – но масштабы ее были
существенно ниже немецких (в 2-3 раза), и такой рост цен можно было объяснить военными
тяготами, дефицитом и разрухой. Между тем, в Германии нарастали настроения всеобщего
отчаяния и безнадежности (отмечалось, в частности, резко возросшее число самоубийств), а
конца и края бедам еще не было видно.
28 июня 1922 года Вальтер Ратенау, министр реконструкции и главное «контактное
лицо» западных держав по всем вопросам репараций, одиозная фигура в глазах всей правой
общественности Германии, видевшей в сотрудничестве с Антантой прямую государственную
измену (вдобавок ко всему, подобно Эрцбергеру, Ратенау был еще и евреем), был убит по
дороге из дома в Министерство иностранных дел – его машина была сначала расстреляна в
15
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
упор, а затем на всякий случай еще и подорвана. Плох ли был Ратенау, хорош ли, но он был
знаковой фигурой, чье присутствие на германской политической арене обеспечивало ограниченную, хрупкую, неустойчивую, но все же какую-никакую стабильность. Его смерть наложилась, конечно, на ряд других факторов, внутренних и внешних – например, на фактический
дефолт госбюджета Баварии, где дефицит оказался вдвое больше прогноза, а собираемость
налогов упала почти до нуля, на провал переговоров в Париже по предоставлению новых международных займов, на массовые забастовки и страх перед народными волнениями в Германии.
Но не будет ошибкой выделить именно смерть Ратенау как ключевое, символическое событие,
окончательно пославшее Германию в тартарары. Если до этого республика, как мы говорили,
еще сползала, отчаянно цепляясь, по скользкому склону к краю пропасти, то теперь она в эту
пропасть ухнула, истошно крича и бесполезно размахивая руками. Сразу же после убийства
марка обрушилась до уровня 1600 за фунт, а в течение следующей недели – до 2200, т. е. почти
500 марок за доллар.
Новым фактором была та скорость, с которой вслед за падением курса теперь изменялись
цены. Примерно к 10-15 июля они удвоились относительно уровня начала июня, и продолжали
расти. Разрыв между обесценением марки на внешнем и внутреннем рынке стал минимальным.
Германские производители заявили, что их издержки сравнялись с общемировым уровнем, а потому их продукция оказалась неконкурентоспособной за пределами страны. Германская рабочая сила оставалась относительно дешевой, но это не играло никакой роли, потому
что безработицы в стране де факто не существовало – наоборот, наблюдался дефицит рабочих
рук, поскольку немецкие рабочие массово устремились на заработки в соседние страны. Мечта
веймарского правительства о нулевой безработице сбылась – только почему-то никто не был
этому рад.
Безусловно, в ухудшающуюся ситуацию внесла свою лепту и союзническая Комиссия по
репарациям, еще в мае настоявшая на реформе Рейхсбанка, которая сделала его независимым
от государства. Как мрачно заметил британский посол лорд Д'Эбернон, это было примерно то
же самое, что доверить управление сумасшедшим домом его пациентам. Свободный от всякого
постороннего контроля Рейхсбанк принялся бороться с обвалом экономики парадоксальными
методами – безостановочно печатая деньги. Ведь для того, чтобы население оставалось спокойным в условиях растущих цен, требовалось обеспечить симметричный рост заработной платы.
А для этого были нужны… правильно, опять деньги. Еще больше денег! Всего за июнь и июль
было выпущено в оборот 11 с лишним триллионов марок. Когда в начале июля забастовали
работники печатного пресса и эмиссия вынужденно приостановилась, директор Рейхсбанка
доктор Хавенштейн привлек штрейкбрехеров, и печать возобновилась в полную силу. Когда
члены Гарантийного комитета Комиссии по репарациям посетили Берлин в середине июля,
компенсация их командировочных расходов была выплачена им купюрами достоинством в 20
марок, причем на железнодорожную станцию эти деньги были доставлены семерыми носильщиками в огромных корзинах для бумаг. А печатные станки продолжали безостановочно работать. Причем выбранная Рейхсбанком стратегия (дать населению побольше денег, чтобы оно
успешно справилось с повышением цен) быстро доказала свою полную несостоятельность, так
как сбережения и зарплаты обесценивались гораздо стремительнее, оставляя людей, вроде бы
сохранивших свой номинальный доход, фактически без гроша.
При этом надо понимать, что из-за стремительно падающего курса марки реальный уровень цен в Германии – даже после головокружительного роста – все равно оказывался на порядок ниже той же Франции. Конечно, ниже он оказывался только с точки зрения человека, въехавшего извне, имея в кармане иностранную валюту. Проблема немцев была не столько в том,
что продукты стоили так дорого, сколько в том, что у населения все равно не было достаточно
денег, чтобы купить их, сколько бы нулей ни было нарисовано на купюрах у них в кармане.
16
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Корреспондент газеты «Торонто Дейли Стар», молодой американец по имени Эрнест
Хемингуэй, посетил Германию примерно в это время, въехав через Страсбург. На границе он
поменял 10 французских франков (примерно 90 канадских центов) на 670 марок. На эту сумму
они вдвоем с женой делали покупки весь день, и в итоге все равно остались со 120 марками
на руках. Первой их покупкой были яблоки у уличной торговки. Они стоили 12 марок. Проходивший мимо в этот момент благообразный пожилой немец тоже поинтересовался ценой
яблок. Услышав про 12 марок, он печально покачал головой: «Я не могу себе этого позволить».
Немец удалился, а Хемингуэй лишь позже, пересчитывая свои дневные расходы, понял, что
яблоки стоили два цента. Он пожалел, что не отдал их старику, но уже ничего не мог поделать.
Другие журналисты в те же дни подсчитали, что если общая стоимость жизни в Германии с довоенных времен выросла как минимум в 86 раз, то средняя заработная плата за тот
же период увеличилась лишь в 34 раза. В отдельных отраслях было и гораздо хуже – в особенности пострадали те, кто не занимался физическим трудом. Годового жалованья, к примеру,
среднего банковского клерка теперь хватало на то, чтобы минимально прокормить его семью
в течение одного месяца. Что же касается пенсионеров и прочих неработающих групп населения, привыкших полагаться в основном на свои сбережения, то их ситуация могла быть описана емким словом «крышка».
В этих условиях в Германию начался массовый наплыв иностранцев, особенно заметный
в приграничных областях. Хемингуэй, наблюдавший это явление своими глазами, пишет о нем
с нескрываемой брезгливостью: «Французы, возможно, и не могут пересечь границу, скупить
и вывезти все дешевые товары, как им бы хотелось. Зато они могут пересечь ее, чтобы наесться
вдоволь… Эти чудеса валютного обмена приводят к свинскому зрелищу, когда молодежь из
Страсбурга набивается в немецкую кондитерскую с целью жрать, покуда им не станет дурно,
давясь воздушными, наполненными кремом кусками немецкого торта по цене 5 марок за порцию. Вся продукция кондитерской сметается за полчаса… Хозяин заведения и его помощник
были мрачны, особенного счастья в них заметно не было. Марка падала быстрее, чем они успевали печь».
Удивительно, но и правительство, и банкиры, и депутаты парламента, и пресса продолжали не просто игнорировать причинно-следственную связь между денежной эмиссией и
инфляцией, но и активно ее отрицать. Газета «Фоссише Цайтунг» от 16 августа 1922 года (в
этот день курс марки преодолел рубеж в 1000 марок за 1 американский доллар) писала: «Мнение о том, что наводнение экономики бумажными деньгами есть истинная причина их обесценивания, является не только ложным, но и опасным… Данные и официальной, и независимой
статистики давно уже доказали, что падение покупательной способности марки на внутреннем рынке за последние два года является следствием снижения обменного курса… Сегодня
необходимо помнить, что общий объем денег, находящихся в нашем обороте, хоть он и демонстрирует на бумаге ужасающее количество миллиардов, на самом деле, не так уж и велик…
У нас нет никакого «опасного наводнения экономики бумагой» – как раз наоборот, суммарный объем нашего денежного оборота в три или четыре раза меньше, чем он был в довоенное
время». В общем и целом, газеты больше беспокоились о возможных волнениях пролетариата и потере государственного престижа, чем о реальном положении в экономике. Более того,
единственным средством выхода из сложившейся ситуации авторитетные финансовые издания
Германии видели… дальнейшее увеличение объемов денежной эмиссии – в три-четыре раза,
как предлагал «Берлинский биржевой курьер»!
Между тем, в беседе с послом Д'Эберноном 26 августа канцлер Вирт высказал опасения,
что предстоящей зимой у Германии возникнут проблемы не только с репарационными выплатами, но и с тем, как прокормить собственное население. В процессе разговора пришли новости, что марка упала до уровня 1837 за доллар – это означало, что за прошедшие десять дней
17
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
она обесценилась почти вдвое. За оставшиеся дни августа она успешно преодолеет и рубеж в
2000 (или 9000 за британский фунт).
Впрочем, конечно же, находились и отдельные личности, которым удавалось нажиться
на ситуации. Падающий столь стремительно курс марки, в частности, сильно облегчал жизнь
заемщикам по банковским кредитам (от чего сами банки, конечно, были далеко не в восторге…
те из них, которым вообще удавалось выжить). Некоторые пользовались этим осознанно – но
по большей части, это были люди, и так не испытывавшие особых проблем с деньгами. Например, Ганс-Георг фон дер Остен, бывший пилот знаменитой эскадрильи Рихтхофена, в феврале
1922 года взял кредит у знакомого банкира и на эти деньги купил поместье в Померании. Осенью того же года он без проблем «вернул» этот кредит, продав половину урожая картошки с
одного из своих полей. В июне, когда цены на продукты питания росли с опережением падения
курса марки, тот же самый предприимчивый авиатор произвел еще одну успешную махинацию, купив партию в 100 тонн кукурузы за 8 миллионов марок… а через неделю (даже прежде,
чем ее успели физически ему доставить) продав ее обратно тому же самому торговцу за вдвое
большую сумму. На полученные 8 млн марок чистой прибыли он тут же обставил особняк своего поместья (того самого) антикварной мебелью, купил три охотничьих ружья, шесть костюмов и «три самые дорогие пары обуви, какие нашел в Берлине» – а на оставшиеся деньги еще
восемь дней кутил в столице. На самом деле, в этом не было какого-то особого мотовства – в те
дни любой, у кого появлялись хоть какие-то деньги, твердо знал, что их необходимо как можно
скорее потратить – пока они не превратились в пустую бумагу, что могло произойти за считанные дни. Берлин превратился в город самой бесстыжей, экстравагантной, показной роскоши.
Можно только попытаться представить себе, какие эмоции при виде всего этого испытывали
рядовые немцы, которые не могли позволить себе яблоки за 12 марок…
Мы упоминали о том, что до сих пор работники физического труда находились в
несколько лучшем положении в сравнении с теми, кто зарабатывал трудом интеллектуальным.
Это было отчасти связано с тем самым страхом правительства перед угрозой большевистской
революции, которая все время маячила где-то на горизонте. Именно этот страх вел к тому,
что своевременному повышению зарплат промышленных рабочих (симметрично росту уровня
цен) уделялось особое внимание: по сути, львиная доля выходящих из-под пресса денег предназначалась именно им. Это привело, в частности, к существенному оттоку высоквалифицированных кадров (вплоть до университетских профессоров) в область низкоквалифицированного ручного труда – многие всерьез опасались, что иначе их семьи попросту могут не пережить
следующую зиму. Однако к осени 1922 года стало понятно, что рост цен и обесценение марки
начинают заметно опережать и повышение зарплат рабочих, и никакие усилия правительства,
и никакие демарши профсоюзов не в силах были этого изменить. Печатный станок уже попросту не успевал выдавать необходимое для этого количество банкнот. Доходило уже до того,
что крупные промышленные компании начинали платить своим рабочим отчасти купонами
собственного выпуска, а некоторые муниципалитеты начали печатать собственную «валюту».
Заметна стала также тенденция к искусственному раздуванию штатов и производству заведомо
ненужных работ (например, ремонт абсолютно исправного дорожного покрытия) – что угодно,
лишь бы избежать безработицы, лишь бы не было красной революции.
К середине октября марка окончательно вошла в состояние свободного падения – всего
шесть недель понадобилось ей, чтобы пройти путь от показателя 9000 за фунт до уровня в
13000.
Конечно же, видные экономисты и просто ученые своего времени продолжали ломать
головы над решением проблемы и предлагать свои рецепты. На данном этапе большинство из
них винило союзников с их нереалистичными требованиями репараций (отчасти это, конечно,
было верно, но лишь отчасти – репарации усугубили ситуацию, но не вызвали ее). Например,
Джон Мейнард Кейнс опубликовал статью в «Манчестер Гардиан», в которой обосновывал, что
18
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
максимально возможный платеж по репарациям для Германии не превышал 2 млрд золотых
марок в год, и то, даже получение этой суммы невозможно было гарантировать, а все, что сверх
нее (французы требовали более 3 млрд) вообще принадлежало к «царству фантазии». Думал
над этой проблемой и Альберт Эйнштейн – он считал репарации основной причиной инфляции, и предлагал, чтобы англичане и французы вместо денежных выплат вошли бы в акционерный капитал германской промышленности, получив до 30 % акций крупнейших предприятий.
А в ноябре был опубликован доклад группы экспертов, в котором содержались конкретные
предложения по вполне разумной программе финансовой стабилизации (предусматривавшие,
среди прочего, и временное замораживание репарационных платежей).
Недостатка в предложениях (в том числе и довольно дельных), как мы видим, не было.
Однако в конечном итоге все они были проигнорированы как союзниками, так и германским
правительством. У англичан и французов хватало своих забот – в Великобритании сменилось
правительство, Франция была больше озабочена событиями в Италии, где к власти как раз
пришел Муссолини. Немецким же государственным мужам, судя по всему, казалось, что они и
так знают ответы на все насущные вопросы. Как раз в это время они занимались ужесточением
законодательства о валютном контроле, чтобы воспрепятствовать немцам использовать иностранные валюты во внутренних расчетах – отныне за это полагалось тюремное заключение и
штраф в десятикратном размере суммы незаконной сделки. Население Германии все больше
переходило к расчетам бартером. К середине ноября фунт стоил 27000 марок, доллар – 6400.
Цены продолжали взлетать ракетой. В сентябре литр молока стоил 26 марок, в октябре –
уже 50, цена яиц также удвоилась. Цена сливочного масла по сравнению с апрельским уровнем
увеличилась почти в 10 раз. Расческа стоила 2000 марок, рулон туалетной бумаги – 2000, пара
детских штанишек – 5000, пара детской обуви – 2800, дюжина тарелок – 7500, пара шелковых
чулок – 16500. С момента окончания войны стоимость жизни в Германии выросла примерно
в 1500 раз, при этом зарплата (например, шахтера, труд которого традиционно оплачивался
лучше остальных рабочих) – лишь в 200 раз. К тому же, даже эту зарплату начали выдавать с
большими задержками – к моменту получения работниками причитающихся им сумм на руки,
они успевали потерять до 50 % своей покупательной способности. Зарплаты промышленного
рабочего не хватало уже на покупку даже самой минимально необходимой «корзины товаров».
Тем не менее, организованные забастовки практически прекратились – фонды профсоюзов
были пусты. Вместо этого, подобно снежному кому, начало расти число вспышек радикального
насилия – позиции и влияние коммунистов в рабочей среде стремительно укреплялись.
1923 год был открыт очередной – уже четвертой – Лондонской конференцией. Представители стран-победительниц (от Италии приехал Муссолини) собрались еще в декабре, чтобы
обсудить, среди прочего, стоит ли предоставить Германии очередной мораторий по репарационным платежам. Позиция французов была жесткой. Пуанкаре заявил: «Чтобы не случилось,
я намерен ввести войска в Рур 15 января». Ллойд Джордж (к тому времени уже освободивший
должность британского премьера) заметил, что намерения Пуанкаре «выдают либо полную
неспособность постигнуть даже азы экономики, либо злонамеренное желание довести Германию до дефолта, что по условиям договора послужит оправданием военного вторжения в вестфальский угольный бассейн с конечной целью отторгнуть его от Германии вообще». Англичане
пытались убедить французскую сторону, что выжимать из Германии чудовищное количество
ее ничего не стоящих бумажных денег (ведь репарации только рассчитывались в «золотых марках», платили их марками самыми что ни на есть обычными) все равно не имеет смысла. На
счетах Комиссии по репарациям этих марок уже скопилось полтора триллиона – и никто не
брал на себя смелость их обналичивать или во что-то переводить, потому что понятно было,
что вся сумма попросту испарится – бумага стоила больше. Пуанкаре, однако, был убежден,
что прямой военный контроль над ресурсами Германии (углем, лесом) способен окупиться
экономически. Кроме того, он предлагал передать Рейхсбанк под прямое управление союзни19
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ков, и думал, что они смогут жесткими принудительными мерами (надо думать, расстрелами
«спекулянтов») вернуть курс марки в приемлемое состояние. Дальнейшие события покажут,
насколько он был неправ – среди прочего, его слепое стремление «дожать Германию любой
ценой» приведет к серьезным экономическим проблемам для самой Франции, в том числе к
обесцениванию франка в пять раз относительно довоенного уровня.
10 декабря новый канцлер Германии, доктор Вильгельм Куно, направил в адрес заседавшей Лондонской конференции ноту, в которой предлагал комплекс мер по стабилизации
марки. Среди прочего, он просил о предоставлении Германии двухлетнего моратория по репарационным выплатам. Кроме того, Куно предлагал подписать 30-летний мирный договор. Нота
была отвергнута. 4 января 1923 года французские, бельгийские и итальянские представители
в Комиссии по репарациям (при одном лишь британском голосе против) приняли заявление
о том, что Германия сознательно нарушила условия Версальского договора в части поставок
угля и древесины. 11 января Пуанкаре направил в Рур контрольную комиссию из французских
инженеров, задачей которых было обеспечить своевременность поставок. Вместе с комиссией
направлялись французские войска.
Официально провозглашенная цель французского вторжения – «привести Германию в
чувство» и побудить исправно выполнять свои обязанности по договору – вызывала сильные
сомнения не только у немцев, но и у партнеров Франции по Антанте. В самом деле, оккупация
области, имевшей огромный «удельный вес» в германской экономике вряд ли могла облегчить
немцам выполнение их финансовых обязательств – скорее наоборот, могла поставить его под
еще больший вопрос. Англичане подозревали, что истинной целью было отторгнуть экономически ценные территории от Германии и создать на них некое государственное образование,
полностью зависимое от Франции. Ллойд Джордж назвал вторжение «актом военной агрессии
против безоружной страны, настолько же несправедливым, насколько и экономически нецелесообразным».
Действия французов, естественно, вызвали бурю возмущения в Германии, сплотив немцев, которые, казалось, еще вчера готовы были вцепиться друг другу в глотки. Конечно, ни
о каком военном сопротивлении в той ситуации речи идти не могло. Разоренная, раздавленная, униженная Германия ответила единственным доступным ей способом – пассивным
сопротивлением, отказом выходить на работу, отказом от любого сотрудничества с оккупантами. Это горькое, безмолвное противостояние получило в немецкой историографии название
Ruhrkampf – «битва за Рур». Экономическая жизнь Рура практически замерла. Промышленное сердце Германии перестало биться. Шестимиллионное население Рура могло выживать
лишь за счет экономической поддержки остальной страны – по сути, речь шла о всеобщей
бессрочной забастовке, официально санкционированной и финансируемой правительством.
Последствия для французов были предсказуемыми и плачевными – они-то изначально совершенно не рассчитывали на столь глубокое вовлечение в дела Рура, в итоге же его пришлось
полноценно оккупировать – альтернативой было сдаться, что, по понятным причинам, было
совершенно неприемлемо. Оккупация Рура потребовала огромных расходов и быстро превратилась в камень на шее французской экономики. С этого момента франк пошел вниз.
Однако для самой Германии экономические последствия были поистине катастрофическими. В Руре были сосредоточены почти 85 % оставшихся у Германии запасов угля, 80 %
ее сталелитейного производства, 70 % производства товаров и добычи прочих полезных ископаемых, и примерно 10 % населения – которое все теперь де факто стало безработным. По
сути, после исключения Рура из экономического оборота о существовании в Германии какойто «экономики» вообще говорить можно было лишь очень условно. На Рождество 1922 года
фунт стоил 35 000 марок, на следующий день после ввода войск курс взлетел до 48 000. К
концу января 1923 года он составил 227 500 марок за один фунт, или свыше 50 000 за один
20
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
американский доллар. Именно в те дни Рейхсбанк выпустил первую купюру с номиналом в
100 000 марок.
Безусловно, «битва за Рур» имела и позитивное влияние на германское общество. Вопервых, она сплотила простых немцев и отвлекла их от текущих экономических невзгод. Вся
страна собирала деньги, продукты, теплую одежду для жителей Рура. Во-вторых, она до некоторой степени развязала руки правительству: репарационные платежи были заморожены в
одностороннем порядке, и Рейхсбанк бросил высвободившиеся резервы иностранной валюты
на осуществление массированных валютных интервенций. Эти меры возымели краткосрочный
позитивный эффект – в феврале марка подпрыгнула вверх, ненадолго вернувшись к показателю 20 000 за доллар. Однако эта положительная динамика очень быстро потонула в новой
чудовищной волне денежной эмиссии. Рейхсбанк был в своем репертуаре – он пытался «спасать» вставший Рур, заливая его волнами бумажных денег. На протяжении февраля денежный оборот в Германии каждую неделю увеличивался примерно на 450 миллиардов. Ситуация
была в некотором роде феноменальной – обменный курс марки на внешнем рынке в результате
интервенций стабилизировался, но внутри страны инфляция продолжалась полным ходом, что
выражалось в безудержном росте цен. Нам сейчас совершенно очевидно, что относительно
устойчивый курс марки в эти месяцы поддерживался Рейхсбанком абсолютно искусственно,
путем постоянных вмешательств, и что до бесконечности это продолжаться не могло – рано или
поздно ресурсы должны были закончиться, и тогда плотину неизбежно должно было прорвать.
Тем не менее, на протяжении всего марта и первой половины апреля марку удавалось
удерживать на уровне плюс-минус 100000 за фунт. Эту «стабильность» не смогли поколебать ни дальнейшее вторжение французских войск (13 марта они переправились через Рейн
и частично оккупировали Мангейм, Карлсруэ и Дармштадт), ни новости о том, что крупный
японский кораблестроительный заказ достался англичанам, а не верфям Гамбурга, как изначально предполагалось. Пережила она и падение франка (он упал до уровня 77 франков за
фунт), и волнения в Баварии, и даже объявление правительства о четырехкратном увеличении
дефицита бюджета за первый квартал – теперь он достиг суммы в 7 триллионов марок (дыру,
естественно, предполагалось закрывать с помощью эмиссии). Нельзя сказать, чтобы Рейхсбанк
совсем не понимал хрупкость и конечную обреченность ситуации – лучше чем кто бы то ни
было, его руководство должно было отдавать себе отчет в том, как стремительно таяли его
ресурсы. Банк искал способы увеличения своих валютных запасов – например, путем выпуска
трехлетних долларовых облигаций под высокий процент. Однако проект оказался провальным – те, у кого на руках была какая-никакая иностранная валюта, предпочитали держать ее у
себя, а не вкладывать в какие-то очередные государственные бумажки. Репутация германского
государства и доверие к нему упали до предельно низких показателей, как вне страны, так и
внутри нее. Люди всеми правдами и неправдами стремились разменять марки на иностранную
валюту, а не наоборот.
Момент истины наступил 18 апреля 1923 года, когда Гуго Штиннес, один из крупнейших «олигархов» германской экономики (его империя контролировала примерно 1/6 немецкой
промышленности) обратился в Рейхсбанк за покупкой крупной суммы в иностранной валюте.
В совокупности со всем массивом более мелких требований, это оказалось больше, чем Рейхсбанк мог себе позволить одномоментно. Поддержка марки на валютном рынке была официально прекращена, курс отпущен в свободное плавание. В течение 24 часов марка упала до
уровня 140 000 за фунт, и падение продолжалось. В судорожных попытках остановить обвал
вслед за валютными резервами Рейхсбанка вскоре отправилась и существенная часть его золотого запаса. Все без толку – максимум, чего удавалось достичь, так это притормозить падение
на день-другой. К первому мая был преодолен рубеж в 200 000.
В конце апреля Хемингуэй снова приехал в Германию – снова в тот же городок через границу от Страсбурга, но застал уже совсем иную картину. Город был пустынен, жизнь замерла.
21
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Поток французских «туристов» прекратился, поскольку власти Страсбурга под давлением
возмущенных французских рестораторов и лавочников попросту закрыли границу, причем в
обе стороны – чтобы голодные немецкие рабочие не подрывали цены на французском рынке
труда. С германской стороны границы промышленность стояла мертвая, уголь стал дефицитным товаром, по железной дороге передвигались лишь французские военные эшелоны. Если у
людей и были деньги, их было попросту не на что потратить. Положение правительства было не
сильно лучше – на протяжении марта, апреля и мая доходная часть бюджета не превышала 30 %
от расходной. К 31 мая фунт стоил 320000 марок. 1 июня в оборот поступила купюра достоинством в 5 миллионов марок. Тогда же Министерство внутренних дел в целях удешевления
и экономии времени разрешило использование при похоронах бедняков за государственный
счет гробов из папье-маше вместо деревянных.
Германию захлестнула волна преступности – но это в основном была преступность отчаяния. Люди тащили все, что представляло хоть какую-то ценность. После многих инцидентов, металлические таблички с памятников и зданий были сняты и убраны – для сохранности. С входных дверей домов в Берлине пропадали латунные украшения – не миновала эта
участь даже двери британского посольства. Квартирные кражи стали повседневной реальностью. С крыш домов по всей Германии исчезала жесть, из баков припаркованных автомобилей сливался бензин. Все это были ходовые товары для бартера. Многие предприятия платили
рабочим либо своей продукцией, либо купонами на определенное количество этой продукции
(например, на несколько пар обуви), которые затем можно было обменять на купоны других
производителей (например, на хлеб или мясо). За квартиру можно было расплатиться фунтом
масла в месяц. Бутыль парафина можно было обменять на рубашку, а эту рубашку затем – на
ведро картошки.
Величайшими счастливчиками были те, у кого в руках оказывалась иностранная валюта.
Задокументирован случай, когда компания из семи человек гуляла и кутила в Берлине сутки –
с плотным обедом в ресторане и посещением нескольких ночных клубов – и все на одну однодолларовую купюру, причем по итогам у них еще осталась сдача. Приезжие американцы часто
испытывали сложности, потому что не могли найти никого с достаточным количеством марок,
чтобы разменять им купюру в пять долларов.
Цены росли ежеминутно. Заказывая чашку кофе за 5000 марок, к моменту оплаты счета
можно было столкнуться с тем, что цена успела вырасти до 8000. В день зарплаты исхудавшие
работники в изношенной одежде выстраивались в длинные очереди перед окошком кассы с
большими хозяйственными сумками для денег. И эти деньги необходимо было потратить как
можно скорее – уже через несколько часов они могли утратить чуть ли не половину своей стоимости. Берлин стал городом людей в залатанной одежде. Люди продавали (а скорее, обменивали на еду) практически все, что можно было отделить и вынести из квартиры.
Рейхсбанк продолжал время от времени предпринимать судорожные попытки валютных
интервенций, но единственным их долгосрочным эффектом было нарастающее истощение
золотого запаса. 7 июля фунт стерлингов стоил 800 000 марок, 14 июля – 900 000, 23 июля – 1
600 000, 31 июля – 5 000 000. Еще через неделю курс достиг 16 000 000. В обороте уже давно не
было купюр достоинством менее 100 000 марок. К середине лета внешняя торговля Германии
практически остановилась – в силу физической невозможности вести дела в условиях трижды
в день меняющегося валютного курса. По всей стране не прекращались митинги и забастовки –
частично инспирированные коммунистами, но чаще просто стихийные – рабочие требовали,
во-первых, своевременного увеличения зарплат, чтобы угнаться за падающим курсом, а вовторых – своевременной выдачи этих самых зарплат, что превращалось уже в нетривиальную
проблему – по сути, задача правительства заключалась в том, чтобы обеспечить беспрерывный
(и с каждым днем возрастающий) поток бумаги от печатного станка к кассе предприятия. Особенно острой проблема была для Рура, где бастующие рабочие продолжали исправно получать
22
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
зарплату в рамках борьбы с иноземным захватчиком – по сути, жизнь и смерть целого региона
целиком и полностью зависели от регулярного подвоза купюр из Берлина. Французы, разумеется, об этом знали, и потому периодически перекрывали границу оккупированной области в
качестве «акции возмездия» за очередные акты саботажа… Впрочем, и в остальной Германии
ситуация была не сильно легче – дело доходило до массовых беспорядков, со стрельбой на улицах и убийством полицейских. В конечном счете, как бы рабочие ни боролись, результат все
равно был один – за то время, которое уходило на то, чтобы достичь какой-то договоренности
об увеличении оплаты и претворить ее в жизнь, марка успевала обесцениться в 1,5-2 раза.
В газетах каждый день публиковались сводки изменения цен, напоминавшие сводки с
фронта. Теперь совершение даже простой покупки требовало недюжинных математических
способностей, потому что обычную цену того или иного товара либо услуги требовалось умножать на определенный индекс, который каждый день менялся. Например – «оплата такси:
обычную ставку умножить на 600 000; общественные бани: обычную ставку умножить на 115
000; медицинские услуги: обычную ставку умножить на 80 000».
17 августа 1923 года, выступая перед членами Государственного совета, директор Рейхсбанка доктор Хавенштейн с гордостью объявил: «Рейхсбанк сегодня выпускает новых денег на
сумму 20 триллионов марок ежедневно, в том числе 5 триллионов – в купюрах больших деноминаций. На следующей неделе банк планирует увеличить выпуск до 46 триллионов в день,
включая 18 триллионов – в купюрах больших деноминаций. Полный объем денежного оборота
в настоящее время составляет 63 триллиона. Таким образом, через несколько дней мы сможем
за один день эмитировать до двух третей общего объема денежного оборота.» Удивительно, но
многоопытный, блестяще образованный финансист не видел никакой причинно-следственной
связи не только между работой печатного станка и денежной девальвацией (мы уже видели,
что это был общий пробел экономической теории того времени), но и между своими собственными словами и умонастроениями биржи. В течение 48 часов после того, как эта речь была
опубликована, марка упала до уровня 22 000 000 марок за 1 фунт, или 5 200 000 марок за 1
доллар. Общий объем денежного оборота Германии в этот момент в пересчете составлял всего
9 млн фунтов стерлингов – что составляло менее 1/30 от довоенных показателей, и сколько
бы Рейхсбанк ни печатал новых денег, он не в силах был увеличить его реальную стоимость
хоть на один фунт. Напротив, дыра в бюджете продолжала лишь увеличиваться. 22 августа
была выпущена банкнота достоинством в 100 миллионов марок, 1 сентября – в 500 миллионов.
Фунт стерлингов к этому времени стоил уже 50 000 000 марок.
В Берлине остановились трамваи. На улице можно было увидеть людей с тюками, полными денег, за спиной. Некоторые толкали перед собой набитые деньгами тачки или детские
коляски. Система налогообложения была практически парализована – никто уже не мог точно
сказать, кто, кому, сколько, за что и когда должен платить. Многие частные компании начали
выпускать свои собственные «кризисные деньги» – абсолютно нелегальные и уже точно ничем
не обеспеченные. Удивительно, но Рейхсбанк, осуждая эту практику на словах, на практике
обменивал эти бумажки на марки.
От патриотического подъема и национального единения, которое наблюдалось весной,
сразу после занятия французами Рура, не осталось почти ничего. Люди смертельно устали и
полностью разочаровались в правительстве. На этом фоне бал правили ультра-левые и ультра-правые движения. 2 сентября на митинг национал-социалистов в Нюрнберге послушать
выступление Гитлера пришло 100 тысяч человек. В Дрездене 9 сентября состоялся парад коммунистических «отрядов самообороны», вооруженных, дисциплинированных и обученных по
военному образцу. Руководство местной полиции присутствовало среди зрителей и аплодировало выступлениям коммунистических ораторов. В различных регионах Германии (Померании, Восточной Пруссии, Баварии) пышным цветом расцветали сепаратистские движения.
Центральное правительство в Берлине перестало вызывать хотя бы символический пиетет.
23
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Страна скатывалась в пучину чрезвычайщины – 8 сентября был назначен комиссар по
валютному контролю, в чьи функции входило арестовывать и изымать где бы то ни было любую
иностранную валюту. Ради этого было объявлено о временной приостановке действия целых
разделов конституции, связанных с неприкосновенностью собственности, жилища, частной
жизни… Через десять дней полномочия комиссара распространили также и на все драгоценные металлы. Таким образом правительство надеялось пополнить свой оскудевший золотой
запас. 20 сентября полиция произвела рейд по кафе и ресторанам на Унтер-ден-Линден и Курфюрстендамм в Берлине. Всем клиентам было приказано предъявить свои бумажники, вся
обнаруженная там иностранная валюта была изъята. Валютные резервы Германии пополнились
3 120 долларами, 36 фунтами стерлингов, 200 французскими и 475 швейцарскими франками,
пригоршней купюр разных мелких европейских валют, и 500 советскими рублями. Результаты
были столь же смехотворны, сколь и унизительны.
Урожай 1923 года выдался хорошим, но крестьяне категорически отказывались обменивать свою продукцию на бумажные деньги. Над городами нависла угроза голода. Правительство попыталось хоть как-то решить проблему, создав специальный «Земельный Кредитный
банк», который запустил в оборот новое суррогатное платежное средство, придуманное специально для расчетов с крестьянами – так называемую «земельную марку». Обеспечена она
была не золотом (от золотого запаса к тому времени уже мало что осталось), а залогом земельных угодий и промышленных предприятий. Ранее Рейхсбанк успел породить еще одну квазиденежную единицу – так называемую «счетную марку», что-то вроде знакомой нам «у.е.» Она
была придумана специально для упрощения расчета больших сумм, и ее курс был зафиксирован на уровне 10 центов. Однако, конечно же, ни счетная марка, ни земельная марка не могли
послужить основой для настоящей денежной реформы, еще и потому, что параллельно с этим
Рейхсбанк продолжал все в том же бешеном темпе эмитировать марки обычные. В оборот как
раз были запущены банкноты в 10 и 20 миллиардов марок.
Необходимо помнить, что все это время продолжалась тяжелая, угрюмая и в конечном
итоге обреченная «битва за Рур». В самом Руре к тому времени настроения царили уже совершенно не боевые. Эмоциональный подъем сменился разочарованием и деморализацией. В Берлине также становилось все более очевидным, что без Рура и рурского угля надеяться хоть
на какие-нибудь позитивные сдвиги в экономике Германии не приходилось. Более того, продолжающаяся оккупация Рура теперь уже начала превращаться в фактор, косвенно поддерживающий франк за счет марки – потому что многие рабочие и шахтеры на оккупированных территориях, получая направляемые им берлинским правительством субсидии, спешили
поскорее конвертировать их в пусть и не идеальную, но все же более устойчивую французскую
валюту. По сути, Пуанкаре все-таки победил – пусть его победа и была пирровой по своей сути,
пусть она и чрезвычайно дорого обошлась самой Франции. Перед берлинским правительством
Штреземанна стояла нетривиальная задача – как выйти из «битвы за Рур», более-менее сохранив лицо и избежав народных волнений.
26 сентября канцлер Штреземанн приостановил действие семи статей Веймарской конституции, объявил в стране чрезвычайное положение и передал полноту исполнительной власти министру обороны Гесслеру.
Поскольку последний находился в прямом подчинении главнокомандующего Рейхсвера
генерала фон Секта, это означало, что со всех практических точек зрения в Германии была введена военная диктатура. В тот же самый день президент Республики Эберт объявил об окончании пассивного сопротивления в Руре.
На самом деле, гладкой смены режима не получилось, да и диктатура вышла весьма
сомнительная. Оно и понятно – берлинское правительство, как бы оно ни дуло щеки, находилось не в том положении, чтобы кому-то что-то всерьез диктовать. Почти сразу пришлось идти
на компромиссы. В первую очередь, конечно, это касалось Баварии, кипящего плавильного
24
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
котла всевозможных правых движений (среди которых нацисты в то время были лишь одним
из, хотя и стремительно набиравшим вес). Как раз перед объявлением диктатуры в Берлине,
баварские лидеры всерьез задумывались о провозглашении независимости, и даже прощупывали на этот счет позицию президента Чехословакии Бенеша (тот пообещал сохранить нейтралитет). На момент Штреземанновского «переворота» в Баварии уже действовало собственное
чрезвычайное положение, объявленное из-за страха перед возможной попыткой переворота
со стороны Гитлера (насколько этот страх был реален, неизвестно, но отряды СА действительно были приведены в боевую готовность). Теперь баварский кабинет министров (в полном противоречии конституции, кстати) назначил известного правого политика Густава фон
Кара государственным генерал-комиссаром с, по сути, диктаторскими полномочиями. Возникло противоречие между двумя диктатурами, центральной и местной, и центральная продемонстрировала необычайную (для диктатуры) гибкость мышления – местный командующий
Рейхсвера, генерал фон Лоссов, был назначен официальным комиссаром от берлинского правительства, а фон Кар официально же возглавил гражданскую администрацию. На деле баланс
оставался хрупким, а отношения между берлинской и мюнхенской диктатурами – натянутыми
и настороженными. Впрочем, кроме Баварии, у центрального правительства хватало и иных
проблем. Ему пришлось иметь дело с попыткой путча в Кюстрине в Пруссии (заодно фон Сект
воспользовался оказией, чтобы разгромить последние остатки фрайкоров – военизированную
организацию правого толка, известную как «Черный Рейхсвер») и с леворадикальным выступлением в Саксонии. Капитуляция в Руре вполне предсказуемо вызвала бурю в Рейхстаге – в
глазах большинства правых это было национальное предательство.
В ответ, правительство и олигархи пытались любыми способами показать, что игра того
стоила, что с отказом от «битвы за Рур» и появлением (теоретически) «сильной руки» в центре, экономика получила хотя бы маленький глоток свежего воздуха. Германские автомобильные концерны даже провели в октябре очередное ежегодное шоу в Берлине, на котором представили свои новинки. Зрелище, конечно, было очень печальное – единственной компанией,
которая показала хоть что-то новое, была «Ауди», другие лидеры отрасли, вроде концернов
«Майбах», «Бенц» и «Мерседес» (тогда это были отдельные марки), по сути, повторили свои
старые модели с косметическими изменениями, все как один критики отметили низкий уровень дизайна, плохое качество покраски и отделки, и конечно, не имеющие разумного обоснования цены. Однако для немецкой промышленности главным в тот момент было показать,
что она еще кое-как, худо-бедно жива.
Тем не менее, несмотря на эти символические жесты, ни одна из реальных проблем германской экономики ни на шаг не приблизилась к решению. Падение продолжалось все более
пугающими темпами. Ко 2 октября фунт стоил 1,5 миллиарда марок, через неделю – уже 5,7
миллиардов. Купюры с номиналом менее 1 миллиона практически исчезли из оборота. Рост
цен далеко опережал любую индексацию и повышение заработной платы – после всех пересчетов, ее реальная покупательная способность составляла в среднем не более 20 % от довоенной.
Положа руку на сердце, народу и не требовались никакие политические агитаторы – созданная политикой правительства и Рейхсбанка политическая ситуация справлялась с этой задачей
лучше любого радикала-экстремиста. В этих условиях люди были готовы пойти хоть за самим
чертом, если он обещал выход из катастрофической ситуации. Идеалы демократии – и без того
изначально разделяемые далеко не всеми немцами – померкли в глазах большинства окончательно. Правительство понимало, что единственный способ удержать власть в этой ситуации –
это продемонстрировать, что оно-то и есть та самая «сильная рука», которая сможет все исправить. Штреземанн отправил в Рейхстаг законопроект, предоставлявший правительству дополнительные чрезвычайные полномочия, а когда он расколол кабинет – отправил его в отставку и
вернулся 6 октября во главе нового правительства, гораздо более правого, чем прежнее. Компромисс с право-консервативными партиями был основан на урезании социально-демократи25
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ческих принципов конституции, вроде того же восьмичасового рабочего дня (об отмене которого германские олигархи мечтали уже давно). В качестве решения экономических проблем
Германии, новое правительство просто предлагало немцам больше, тяжелее и упорнее работать. Удивительно, но рабочие поначалу в целом приняли такую постановку вопроса относительно лояльно, поверив, что это реально сможет помочь что-то исправить. Однако этот кредит
доверия теперь предстояло оправдать, а вот с этим-то дела обстояли плохо.
Едва ли не первым, что сделало новое правительство, было прекращение программы субсидирования рабочих Рура. Республика, однако, обязалась платить пособия по безработице
тем из рурцев, кто не сможет сразу найти себе работу – на первых порах, в двойном размере
относительно остальной Германии, а после 1 ноября – в обычном размере (что на практике
означало – вдвое ниже прожиточного минимума).
Однако даже начало работы промышленности и угольных шахт Рура, как выяснилось,
само по себе мало что значило, без нормализации финансовой сферы. Начало работы означало,
среди прочего, начало поставок угля во Францию в рамках Версальского договора. Оплачивать их все равно должно было германское правительство. И взяться эти деньги могли лишь из
одного источника. Безудержная денежная эмиссия продолжалась. К 10 октября фунт официально стоил 7 млрд марок, на черном рынке же – все 18 млрд. К 15 октября уже официальный
курс достиг 18,5 млрд, на черном рынке фунт можно было купить за 40 млрд.
Правительство в очередной раз вернулось к попыткам запустить в оборот некую «альтернативную» денежную единицу – на этот раз в этом качестве предлагалась «рентная марка»,
по каковому случаю было объявлено о создании на основе уже известного нам Земельного
банка нового Рентного банка (он должен был начать функционировать через месяц). Надо сказать, что базовая идея была разумной – разгрузить Рейхсбанк, избавив его от необходимости
финансировать госрасходы и затыкать дыры в бюджете. Теоретически, введение в оборот новой
денежной единицы с хорошим обеспечением могло позволить вернуться к тем принципам, на
которых была построена довоенная финансовая система. Однако ключевой момент здесь был
именно в обеспечении. Золота в резервах осталось настолько мало, что возникали реальные
сомнения, хватит ли его для полноценного обеспечения новой валюты. Рассматривались всевозможные альтернативы, но по состоянию на середину октября рентная марка в глазах значительной части общества выглядела очередной фикцией.
Фикцией во многом оказывалась и пресловутая «жесткая рука» берлинской диктатуры,
на которую возлагалось столько надежд. В Баварии отлично сработавшийся тандем комиссаров
фон Кара и фон Лоссова успешно игнорировал указания, поступавшие от центрального правительства, и снова играл с идеей баварской независимости и восстановления монархии Виттельсбахов. В Бремене местный Сенат вообще выпустил свои собственные банкноты, достоинством в четверть, половину и один доллар. Они имели золотое обеспечение и могли быть в
любой момент обменены на марки Рейхсбанка по официальному курсу Нью-Йоркской биржи.
В Аахене 21 октября под защитой и покровительством Бельгии была провозглашена независимая «Рейнская республика». Возмущенной ноты от Великобритании хватило, чтобы Бельгия
тихо свернула этот проект, но вслед за этим с помощью уже французских войск сепаратистские
городские администрации были установлены в Бонне, Трире, Висбадене и Майнце. Категорический отказ германских чиновников сотрудничать с этой «новой властью» быстро привел ее
в тупик, но подогреваемое извне брожение продолжалось. В Дюссельдорфе на улицах происходили вооруженные столкновения, убивали полицейских. Одновременно в Гамбурге вспыхнул коммунистический мятеж, подавить который удалось лишь силами флота. Высадившаяся
с кораблей морская пехота арестовала около 800 участников беспорядков.
21 октября курс марки достиг 80 млрд за 1 фунт стерлингов (причем с 24 млрд до 80 млрд
он упал за три дня). В Берлине не было хлеба. 26 октября здание Рейхсбанка было осаждено
толпой, требовавшей денег. Деньги им выдали – в купюрах по миллиарду марок. Люди увозили
26
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
эти купюры тачками. 1 ноября в оборот поступили первые купюры по триллиону (как у нас
сейчас принято называть этот порядок цифр; в Германии тогда их называли биллионами), 5
и 10 триллионов марок. Цены в общем и целом шли в ногу с курсом, заработная плата, как
всегда, сильно отставала – в реальном выражении за октябрь она обесценилась в 10-15 раз.
Обычный бизнес стал попросту невозможен. Предприятия вставали, лавки и магазины удавалось держать открытыми только под страхом уголовной ответственности их владельцев. Безработица достигла 18,7 %, причем еще 40 % работников находились на сокращенном рабочем
дне (иногда по 4-5 рабочих часов в неделю). В этих условиях было понятно, что массовые волнения неизбежны – вопрос был только в том, кто первый доберется до правительства, разъяренные левые или разочарованные в нем правые.
30 октября курс марки достиг 310 млрд. В Саксонии была провозглашена коммунистическая диктатура, в Тюрингии, по сути, началось вооруженное восстание. В Баварии происходила мобилизация и концентрация нацистских штурмовых отрядов. В Саксонию были введены
войска, коммунистические министры были арестованы, но это вызвало бурное возмущение
депутатов-социалистов в Рейхстаге и раскол кабинета. 5 ноября войска выдвинулись из Саксонии в Тюрингию. На следующий день в Берлине начали громить продуктовые магазины (в том
числе под антисемитскими лозунгами). Нищета и отчаяние к этому времени достигли ужасающего размаха. Есть свидетельства о женщинах, продававших себя на улице за кусок мыла.
8 ноября Гитлер бросил свои силы (собранные изначально, как предполагалось, для
похода против коммунистов в Тюрингии, и далее на Берлин) на улицы Мюнхена. Знаменитый
«пивной путч» и в историографии, и в массовом сознании, как правило, стоит особняком, как
совершенно отдельная, самостоятельная история. Однако мы видим, что на деле он был очень
органичной частью общей революционной ситуации, разыгрывавшейся в те дни по всей Германии – собственно, с точки зрения правительства он в тот момент выглядел гораздо менее
опасным, чем, к примеру, события в той же Саксонии. В конце концов, с ним удалось справиться местными силами, без привлечения подкреплений из Берлина, да и программа нацистов
выглядела гораздо менее радикальной, чем коммунистическая, и к тому же – де факто выступление ведь было направлено все-таки против мюнхенского режима фон Кара и фон Лоссова, в
отношение лояльности которых в Берлине питали большие сомнения. С этим в значительной
степени и связана та мягкость и лояльность, с которой правительство обошлось с нацистами.
Тем временем, экономика продолжала свое падение в ад. В оборот уже поступила купюра
в 100 триллионов (по-нашему, или биллионов, как на ней было написано – 100 плюс еще 12
нулей) марок – самая высокая деноминация из всех, когда-либо где-либо напечатанных. Печатный станок, любимая игрушка доктора Хавенштейна, в это время выдавал 74 миллиона миллионов миллионов марок в неделю, за шесть дней учетверяя полный объем денежного оборота
Германии. Теперь правительство, забыв обо всех своих патриотических и гуманитарных соображениях, готовилось свернуть вообще какое-либо централизованное вмешательство в финансовые дела Рура, вплоть до прекращения выплат пенсий по старости. Фирмы и муниципалитеты на оккупированных территориях начинали либо выпускать свои собственные банкноты
(обеспеченные, как правило каким-то своим капиталом в иностранной валюте), либо заготавливать продукты. Вопросом, который не на шутку беспокоил всех, было – как пережить наступающую зиму?
На момент, когда 13 ноября 1923 года был назначен новый комиссар по национальной
валюте, в Берлине уже три дня не выходили газеты из-за забастовки типографий. За последние 10 дней государственные расходы превысили доходы в 1000 раз – доходы исчислялись в
квадриллионах (15 нулей), в то время как расходы составляли 6 квинтиллионов (18 нулей).
Один фунт стоил 6 триллионов марок. Отпечатанные, но еще не выпущенные в оборот марки,
находившиеся в хранилищах Рейхсбанка, заполнили бы 300 десятитонных железнодорожных
вагонов.
27
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Нового комиссара звали Яльмар Шахт, и он был опытным финансистом, долгое время
проработавшим управляющим директором в крупных коммерческих банках. Он являлся
одним из авторов проекта Рентного банка и рентной марки. Теперь ему предстояло претворить
этот проект в жизнь. 15 ноября Рентный банк начал функционировать.
Перед следующим решающим шагом Шахт выждал ровно пять дней. За это время марка
упала с 12 до 18 триллионов за один британский фунт, а общий номинальный объем денежного
оборота еще раз удвоился. Но Шахт ждал неспроста. Он дождался момента, когда бумажная
марка стала стоить ровно одну миллионную миллионной золотой марки – когда для того, чтобы
перевести одно в другое, нужно было просто отбросить двенадцать нулей. В этот момент Шахт
объявил, что одна рентная марка (которые как раз начинали поступать в оборот) равнялась
одной золотой марке или миллиону миллионов обычных марок.
Это было в высшей степени смелое заявление. Заявлять-то можно было все, что угодно –
вопрос был, кто в это поверит. Чем были обеспечены рентные марки, учитывая, что золота у
государства было явно недостаточно? Гарантией послужили в равной пропорции залог земельных угодий и облигации промышленных предприятий, на совокупную стоимость в 3,2 млрд
золотых марок (около 160 млн фунтов стерлингов). При этом максимальный объем выпуска
рентных марок должен был составить 2,4 млрд. Из них 1,2 млрд предоставлялись государству
в виде специального кредита, в том числе 300 млн в качестве беспроцентного займа для погашения госдолга. Взамен государство обязывалось больше не дисконтировать облигации казначейства (т. е. их стоимость больше не индексировалась с изменением курса марки, оставаясь
номинальной). Не очень честный трюк заключался в том, что дисконтирование прекратилось
с момента открытия Рентного банка (т. е. с 15 ноября), а о фиксации курса было объявлено,
как мы уже сказали, лишь 20 ноября. За это время, пока курс марки еще падал, а дисконтирование уже прекратилось, облигации, которые теперь подлежали выкупу в рамках погашения
госдолга, потеряли в своей цене в рентных марках примерно вдвое. Государству, конечно, это
было на руку. А вот для держателей этих облигаций – а они включали в себя еще военные
займы и для многих немцев составляли значительную часть их капитала и накоплений – это
была катастрофа. Иностранные наблюдатели удивлялись тому, как тихо и спокойно публика
восприняла эту потенциально очень непопулярную меру. Причина, на самом деле, была в том,
что публика в основном просто не поняла, что произошло – лишь позднее, постепенно до нее
стало доходить, что ее сбережения как-то подозрительно и резко усохли.
Тем не менее, чудо свершилось. С 20 ноября 1923 года курс марки оставался стабилен,
хотя эмиссия ее продолжалась. Более того, эта эмиссия была очень важна, так как экономике
требовалось покрыть дефицит ликвидности – попросту, закачать в нее побольше денег, но так,
чтобы их стоимость при этом не упала. Стабилизация была основана не на остановке печатного станка, а на жестком упорядочивании госрасходов, режиме экономии, отказе правительству в новых кредитах, и по крайней мере номинально прочной привязке к стоимости золота
и курсу иностранных валют. По сути, рентная марка стала просто символическим, психологическим ориентиром – и этого оказалось достаточно. Целый год две марки циркулировали
параллельно – вплоть до замены их новой купюрой, рейхсмаркой, в августе 1924-го (по курсу
1 рейхсмарка = 1 рентная марка = 1 триллион старых марок). За это время объем денежного
оборота увеличился еще в 12 раз. Это больше не сопровождалось обесценением валюты, зато
позволило экономике снова начать функционировать.
Равновесие все это время, конечно, было очень хрупким. Рентная марка была, по сути,
фокусом, основанным на доверии публики, но насколько это доверие было обосновано – большой вопрос. Кто и как, например, оценивал те права залога, которые служили ее обеспечением? Да и могли ли они вообще адекватно выполнять эту роль, учитывая низкую ликвидность
недвижимости? Эксперты полагают, что при необходимости Рентный банк сумел бы в спешном порядке покрыть не более 1/3 выпущенных им в оборот денег. В этом смысле, рентная
28
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
марка была примерно тем же самым, что и марка обычная – клочком бумаги с написанным на
нем обещанием. По сути, Шахту удалось создать иллюзию реальной стоимости там, где ее на
самом деле не было. Ему просто сильно повезло, что обстоятельства не проверили его систему
на прочность по-настоящему. С другой стороны, было ли это недостатком плана, или просчитанным риском, который оправдался? И можно ли было в той ситуации предложить какую-то
другую схему?
По удивительному совпадению, доктор Хавенштейн, пламенный певец и поборник
инфляции, умер 20 ноября 1923 года – как раз в день стабилизации марки. Скорее всего, это
действительно было совпадение – хотя бы потому что практически никто в тогдашней Германии не осознавал степень его персональной ответственности за экономическую катастрофу, как
осознаем ее мы сегодня. Три дня спустя пало правительство Штреземанна – депутаты-социалисты таки поквитались с ним за Тюрингию. Германский «политикум» продолжал жить своей
обычной жизнью, и немногие до конца понимали (а из них немалое число предпочло поскорее забыть), в какую пропасть страна буквально только что заглянула. Не вызывает особых
сомнений, что запоздай реформа Шахта на месяц-другой, в Германии случилась бы революция, сопровождаемая «парадом суверенитетов» различных регионов.
При этом не надо думать, что после 20 ноября Веймарская республика вдруг по мановению волшебной палочки превратилась в успешное и процветающее государство. Никоим
образом. Финансовая реформа лишь решила наиболее острую и неотложную из накопившихся
проблем, но остальные никуда не делись. Версальский договор с его тяжелейшими и разорительными условиями остался в силе, репарации никто не отменял, Рур все еще был оккупирован французами. На смену гиперинфляции пришла массовая безработица. Следующая мощная волна экономического кризиса – на этот раз уже общемирового, Великая Депрессия 1929
года – снова ввергнет Германию в хаос и приведет-таки к власти политических радикалов. По
сути, Яльмар Шахт лишь купил Веймарской республике немного времени, отсрочив ее падение. Кроме того, в определенном смысле можно сказать, что именно Шахт гарантировал, что
революция, которая положит в итоге конец Республике, будет не коммунистической, а нацистской. В 1923 году Гитлер объективно вряд ли смог бы претендовать на победу в общенациональном масштабе – разве что в пределах самостийной Баварии. Необходимо понимать, что
каким бы блестящим ни выглядел результат, реформа Шахта была лишь временной, косметической, локальной мерой – подпиранием палкой накренившегося здания. Для выживания Веймарской республике были необходимы гораздо более серьезные, глубокие, системные изменения. Способна ли она была на них – большой вопрос.
29
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Время борьбы Веймарская республика и революция
Германия второй половины 1920-х годов была очень странным местом. Чем-то она напоминала человека, который еще вчера метался в горячечном бреду, в бессознательном состоянии увеча себя и круша собственное жилище, а потом вдруг почувствовал резкое облегчение,
и теперь, всклокоченный и растрепанный, с удивлением озирал хаос и разгром вокруг себя.
Финансовая реформа Шахта принесла оздоровление, но не принесла исцеления. Несомненно,
она спасла Веймарскую республику от немедленной красной революции, удержав ее буквально
на краю пропасти, но многие фундаментальные проблемы, которые ее до этого края и довели,
все еще никуда не делись. Репарации с Германии никто не снимал, часть немецкой территории все еще была оккупирована, вдобавок ко всему окончание великой инфляции повлекло
за собой начало масштабной безработицы. Да, острый кризис был пройден, но на смену ему
пришло не процветание, а трудные будни. Колеса и шестеренки экономики начали худо-бедно
крутиться, но тяжело, неравномерно и со скрипом.
Причем непростыми новые времена были для всех. Тому же правительству необходимо
было срочно изыскать альтернативные способы покрыть свои расходы, которые, несмотря на
все сокращения, оставались очень серьезными – ведь Яльмар Шахт отнял у них любимую
игрушку, печатный станок. Деньги на ту же уплату репараций теперь необходимо было брать
откуда-то еще. Единственным напрашивающимся ответом было – занять их где-то на внешнем рынке. Желающие дать в долг немцам (теперь, когда их финансы пришли в более-менее
понятный вид) нашлись за океаном. «Ревущие двадцатые» в Америке были эпохой беспрецедентного экономического бума, страна буквально купалась в шальных деньгах. Американские банки быстро превратились в главных кредиторов Веймарской республики – за период с
1924 по 1930 год общая сумма выданных Германии кредитов составила около 7 млрд долларов
(напомню, доллар того времени примерно эквивалентен 30 современным). Кредиты выдавались легко и с минимумом условностей – никто (по обе стороны Атлантики) всерьез не думал о
том, как немцы собираются их возвращать. Немецкая экономика наполнялась деньгами, промышленность демонстрировала признаки восстановления, но это было благополучие взаймы.
И где-то совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, всегда была память о том кромешном
ужасе, через который Германия недавно прошла. Это сформировало очень специфическую
психологию и атмосферу Берлина конца 1920-х. Именно Берлин в те дни был крупнейшим
мегаполисом Европы (для сравнения, современный Берлин по меркам европейских столиц –
город довольно небольшой и довольно провинциальный). Не будучи признанной «культурной
столицей мира», как Париж, он стал центром европейского авангарда. В Берлине того времени
бал правили самые новые, самые революционные, самые эпатажные течения искусства, будь то
живопись, архитектура или музыка. Больше всего город славился своей бурной, необычайно
разнообразной и разнузданной ночной жизнью. Берлин в глазах иностранцев стал, среди прочего, городом беспрецедентной сексуальной свободы.
Масштабные оргии и роскошные декадентские вечеринки поздне-веймарского Берлина
славились на весь мир. Психологическая установка «живи сегодня, пока можешь» родилась
на пике экономического кризиса начала 20-х. Потом острый кризис закончился, непосредственная опасность отступила, но кризисная психология осталась, прочно закрепив за немцами
репутацию самого раскованного, лишенного комплексов и «безбашенного» народа Европы.
Однако отступила ли на самом деле опасность? Зависимость германской экономики от
американских кредитов, а по сути – широкомасштабная интеграция германской финансовой
системы с американской, решила некоторые ближайшие проблемы – но она же вывела те основные факторы, которые могли привести к новому кризису, из-под контроля германского правительства и германских финансовых институтов. По сути, экономическое благополучие Гер30
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
мании отныне было теснейшим образом привязано к экономическому здоровью Соединенных
Штатов. Справедливости ради, подобные процессы в те годы происходили в той или иной степени в большинстве европейских стран, но именно в Германии, пожалуй, они достигли наиболее полного своего воплощения. Пока с американской экономикой все было хорошо, она
продолжала расти и купаться в деньгах, все было в порядке, но могло ли такое положение дел
продлиться вечно?
Между тем, видимая политическая стабильность Германии в те годы была основана как
раз на вроде бы установившейся экономической стабильности. Революционные силы, которые
рвали страну на части в начале 1920-х, никуда, собственно, не делись – они просто вынужденно сменили свою тактику. На пике гиперинфляции, когда социальные страсти бурлили,
выплескиваясь на улицы немецких городов волнами насилия, сценарий силового захвата власти казался вполне реальным. Стабилизация марки, хоть и не решила всех социальных проблем, но все же снизила градус напряженности в обществе. В сочетании с успешным подавлением как раз в это же время целого ряда радикальных вооруженных выступлений «слева»
и «справа» (например, коммунистического мятежа в Тюрингии, национал-социалистического
«пивного путча» в Мюнхене) это убедило лидеров радикальных движений, что перспективы
вооруженной борьбы (по крайней мере, пока что) стали туманными. Однако это вовсе не означало отказа от борьбы как таковой.
Историки нацизма придают большое значение той «смене курса» НСДАП, который провозгласил Гитлер после выхода на свободу из Ландсбергской тюрьмы в конце 1924 года (где он
отбывал срок после провала «пивного путча»). Это считается переломным моментом в истории партии – отказ от идеи вооруженного мятежа в пользу легальной политической борьбы.
Это породило, среди прочего, распространенное мнение, что Гитлер пришел к власти демократическим путем, честно переиграв своих соперников по их же правилам. Между тем, при
ближайшем рассмотрении поверхностность этого суждения быстро становится очевидной. На
деле ситуация была куда сложнее.
Характерной особенностью политической арены Веймарской республики в середине
1920-х было то, что разделение там пролегало не только по оси «правые-левые», но и по оси
«охранители-революционеры», причем эти оси пересекались, а вовсе не были параллельны.
Внутри и «левого», и «правого» лагеря были как свои охранители, так и свои революционеры
(у левых охранителями были социал-демократы, революционерами – коммунисты, у правых с
одной стороны были традиционные национал-консерваторы разных течений, с другой – национал-социалисты и близкие к ним движения), и отношения между ними были весьма неоднозначными. Вообще, строго говоря, того же Гитлера можно считать «правым» лишь довольно
условно – некоторые исследователи вполне убедительно аргументировали, что он был скорее
центристом, искусно сочетавшим популярные элементы как правой, так и левой идеологии.
Осознавая это, мы, однако для простоты будем считать его правым революционером. Революционером он сам себя осознавал вполне.
Нормализация положения в Германии с конца 1923 года поставила все революционные
силы (как правые, так и левые) перед нетривиальной проблемой: как делать революцию в условиях стабильно функционирующих демократических институтов, учитывая, что обе конкурирующие модели революции (как левая, так и правая) были глубоко антидемократическими по
своей природе. Как коммунисты, так и нацисты ничего, кроме отвращения к парламентской
системе не питали. Более того, и у тех, и у других перед глазами были успешные примеры
революций, совершенных их «коллегами» и идейными вдохновителями за рубежом, и совершены они были отнюдь не демократическими методами – коммунисты, естественно, вдохновлялись октябрьским переворотом 1917 года, нацисты – «маршем на Рим» Муссолини. Тем не
менее, очевидно было, что политическая ситуация в Германии требует поиска новых подходов.
Функционирующие демократические институты были реальностью, с которой следовало сми31
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
риться – частью тех правил, по которым революционерам предстояло играть ближайшие годы.
Успех антидемократической революции требовал в качестве одной из своих главных предпосылок глубокого кризиса демократической системы. При отсутствии такого кризиса его необходимо было создать – создать, эффективно используя те же самые демократические институты. В этой игре (по демократическим правилам, но с конечной целью свержения демократии)
Гитлер как политик имел изначальное, врожденное преимущество над всеми своими потенциальными соперниками.
Рассуждая на эту тему, автор ранее сформулировал различия между тем, что он условно
назвал «открытым» и «закрытым» пониманием политики. Если совсем кратко, «открытая»
политика свойственна демократическим системам, и основана на прямом манипулировании
общественным мнением, которое служит передаточным механизмом между волей политика и
механизмами принятия решений. «Закрытая» же политика свойственна политическим системам различной степени авторитарности, и основана преимущественно на искусстве аппаратной интриги и кулуарном принятии решений «в узком кругу», с последующим информированием общественности. Обе эти системы могут быть вполне эффективны (в своих условиях), но
они требуют от политика совершенно разного набора качеств – как профессиональных, так и
чисто личностных. Крайне маловероятно, чтобы один и тот же человек одинаково хорошо владел и «открытым», и «закрытым» инструментарием. За примерами, когда «закрытый» по природе своей политик изображает «открытость», далеко ходить не надо (достаточно взглянуть на
того же Путина, да и на добрую половину латиноамериканских и африканских диктаторов), но
«казаться» – совсем не то же самое, что «быть». Реальная власть таких персонажей все равно
держится на «закрытых» механизмах, и лишившись этих преимуществ, долго они свою власть
не удержат. Адольф Гитлер, кажется, едва ли не единственный политик в XX веке, который
действительно успешно сочетал в себе качества как «открытого», так и «закрытого» лидера.
По всей видимости, именно в этом факте и кроется секрет его неостановимой политической
эффективности, а равно – и его убедительности. Гитлеру не приходилось носить маску. Он не
изображал «открытого» политика – когда это было в его интересах, он реально был им. При
этом ни на минуту не теряя из фокуса свою подлинную цель, не имевшую ничего общего с
демократией.
Буквально через две недели после своего освобождения из Ландсберга Гитлер встретился
с доктором Генрихом Хельдом, премьер-министром Баварии, и уговорил его снять запрет на
деятельность НСДАП и выпуск партийной газеты. Для этого хватило обещания «хорошего
поведения». Сказывался тот факт, что из всех вооруженных выступлений, имевших место в
1923 году, «пивной путч» казался властям наименее радикальным, а потому – и наименее опасным. 26 февраля 1925 года вышел в свет первый после перерыва номер «Фёлькишер Беобахтер» с обширной статьей Гитлера, озаглавленной «Новое начало». На следующий день состоялось первое после освобождения публичное выступление лидера партии – в том самом зале
пивной «Бюргербройкеллер», откуда утром 9 ноября 1923 года нацисты отправились на свой
марш по улицам Мюнхена. Аудитория была куда скромнее, чем привык Гитлер, которому до
путча доводилось уже выступать и перед стотысячными толпами – всего 4 тысячи человек.
Многие из виднейших деятелей партии отсутствовали, причем если некоторые – не по своей
инициативе (как Геринг, все еще пребывавший в изгнании), то другие (как Людендорф) за прошедшее время вполне осознанно сделали выбор в пользу продолжения политической карьеры
в других организациях, решили бросить политику вообще (как Рём), или вынашивали личные
обиды (как Розенберг). Основатель партии Антон Дрекслер, получив приглашение председательствовать на собрании, вообще послал Гитлера к черту. Тем не менее, выступление было
вполне успешным – Гитлер говорил два часа, как обычно, сумел захватить и взвинтить аудиторию, и к концу его речи ни у кого из слушателей не оставалось сомнений, что он по-прежнему
оставался неоспоримым единоличным лидером партии. И несмотря на все обещания «оста32
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ваться отныне в рамках конституционного поля», Гитлер ничуть не смягчил своей риторики –
правящий режим Веймарской республики был для него ни чем иным, как «врагом», и миндальничать с этим врагом он не собирался: «Наша борьба может иметь лишь два возможных
исхода – либо враги пройдут по нашим телам, либо мы пройдем по их!» Правительство отреагировало вполне логично (хотя и по-прежнему мягко) – Гитлеру запретили выступать публично (и этот запрет останется в силе два года).
В принципе, будь Гитлер обычным демократическим политиком (то есть политиком полностью «открытого» типа, полагающимся преимущественно на личный контакт с публикой
для достижения своих целей), данная мера была бы весьма эффективной – два года вынужденного молчания в любом случае резко снизили бы популярность и узнаваемость такого политика-популиста и отбросили бы его к самому началу карьеры. Гитлер же просто, «щелкнув
тумблером», переключил режимы. Пока действовал запрет, он занялся организационными и
идеологическими задачами – то есть тем, чему политики «открытого» типа традиционно уделяют внимание, по большей части, по остаточному принципу.
С этим, однако, связано еще одно укоренившееся недопонимание. В свете громогласно
озвученных самим Гитлером целей участия в легальной политической борьбе делается вывод,
что он строил свою партию именно как инструмент данной борьбы. А в связи с тем, что Гитлер
в итоге, как всем известно, пришел-таки к власти (причем, как считается, в целом демократическим путем), выходит, что НСДАП в том виде, как он ее выстроил, оказалась на редкость
эффективным инструментом демократической партийной политики. Отсюда – постоянные
попытки «осмыслять и использовать опыт», а называя вещи своими именами – попросту подражать НСДАП. Между тем, в основе этого подражания лежит целый ряд фундаментальных
заблуждений. Во-первых, как мы еще увидим, Гитлер отнюдь не пришел к власти обычным
демократическим путем. Во-вторых, НСДАП не создавалась как обычная партия демократического типа с основной целью победы на выборах.
Гитлер с самого начала взял курс на построение не обычной парламентской партии, а
буквально «государства в государстве». И если разветвленную иерархическую сеть отделений
(«гау»-«крайсе»-«ортсгруппе» и так далее, до квартала и чуть ли не отдельного дома) можно
еще привязать к нуждам избирательной кампании (хотя другие партии, вполне успешно конкурировавшие с нацистами на выборах – те же социал-демократы – как-то обходились без
такой детализированной структуры), то про другие аспекты организации такое сказать затруднительно. Вся структура партии подразделялась на два параллельных «слоя» с не до конца
ясным разграничением полномочий (что вообще впоследствии было чрезвычайно характерно
для институтов Третьего Рейха, где пересекающиеся и дублирующие друг друга компетенции были правилом, а не исключением: «эффективная централизованная бюрократия» – это
вообще не про нацистов). Общие функции их, тем не менее, были обозначены предельно четко.
Так называемая P.O. I (от слов «партийная организация») имела своей задачей борьбу и подрывную деятельность против существующего политического режима. Задача же P.O. II заключалась в построении полного комплекта «альтернативных» государственных институтов, призванных в готовом виде, «под ключ», придти на смену действующим немедленно после захвата
власти нацистами. P.O. II включала в себя, например, департаменты (по сути – «теневые министерства») сельского хозяйства, юстиции, внутренних дел, культуры, строительства, и т. д. Иностранные дела, пресса и трудовые организации относились к ведению P.O. I. Попутно создавались «дочерние» организации, ориентированные на охват самых разных категорий населения –
женщин, детей и юношества обоих полов, профессиональные объединения студентов, преподавателей, госслужащих, врачей, юристов… По сути, выстраивалась целая параллельная структура «альтернативных профсоюзов» под крылом НСДАП.
Параллельно со всем этим существовала такая в высшей степени любопытная структура как СА. Ее функции давно уже вышли за пределы обеспечения безопасности нацио33
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
нал-социалистических мероприятий – теперь это в гораздо большей степени была борьба
(сугубо силовыми методами, доходившая до прямого террора) против политических противников нацистов. Соответствующим образом выросла и численность штурмовых отрядов, а
их организационная структура была приведена в порядок и систематизирована по военному
образцу. По сути, «альтернативное государство» Гитлера обзавелось своей собственной «альтернативной армией». Многие в руководстве СА надеялись, что после прихода к власти эта
«альтернативная армия» точно так же заменит собой армию Веймарской республики, как «альтернативные министерства», выращенные в недрах P.O. II, придут на смену ее гражданским
институтам. Трудно сказать, насколько эту точку зрения разделял сам Гитлер, а насколько он
просто позволял желающим так думать – с одной стороны, он предпринял некоторые организационные шаги, которые могли быть расценены как подготовка к такой подмене (в частности,
было создано так называемое «Политическое управление вооруженных сил» под началом генерала Франца Риттера фон Эппа), но с другой стороны, в это же время было положено начало
созданию организации, альтернативной уже самим СА, более компактной, гораздо жестче дисциплинированной и лично преданной самому Гитлеру (а не «партии в целом») – «охранных
отрядов» СС.
Согласитесь, все это в комплексе выглядит довольно странно для парламентской партии, борющейся за власть в демократической республике обычным легальным путем. Нацисты изначально и вполне открыто держали курс на слом всей существующей государственной системы, и особо не скрывали того факта, что использование ими институтов демократии
имело своей целью в первую очередь их дезорганизацию и подрыв изнутри. При этом необходимо отдавать себе отчет, что реальные успехи НСДАП в деле демократической борьбы за
власть долгое время оставались весьма скромными. Численность партии до самого конца 1920х годов совершенно не впечатляет, если сравнивать ее с численностью основных парламентских
партий того времени – социал-демократов и «старых» консервативных националистов: 27 000
членов в 1925 году, 49 000 – в 1926-м, 72 000 – в 1927-м, 108 000 – в 1928-м, 178 000 – в 1929м. Конечно, темпы роста хорошие… но вот абсолютные цифры (и пропорционально – количество голосов на выборах) все равно оставались слишком незначительными, чтобы можно было
вести речь о какой-то реальной «победе демократическим путем». Нацисты на протяжение
всего этого периода все равно оставались меньшинством в Рейхстаге – достаточным, чтобы
напомнить о своем существовании, но совершенно недостаточным, чтобы реально влиять на
политику государства. Думаю, что общую суть политики Гитлера в этот период можно кратко
описать одной фразой – «маневрировать и выжидать». Борьбу за власть до 1929 года он не
столько реально вел, сколько обозначал символически. Как и ко всем без исключения революционерам всех времен и всех идеологических окрасок, к Гитлеру был сполна применим ленинский принцип «чем хуже, тем лучше» – успех его предприятия и благополучие государства
находились в строго обратной зависимости, и до тех пор, пока Веймарская республика сохраняла видимую экономическую стабильность, шансы на осуществление национальной революции стремились к нулю. В отличие от Ленина, Гитлер все-таки не озвучивал этот принцип
вслух – но он должен был отлично осознавать его, и действовал соответственно. Любой успешный революционер по природе своей – оппортунист, ждущий подходящего кризиса. Пока кризиса не было, можно было спокойно заниматься подготовкой к нему.
Пространство для маневра было необходимо еще и потому, что не все было так просто и
однозначно внутри самого нацистского руководства. Мы настолько привыкли ассоциировать
НСДАП персонально с Адольфом Гитлером, что в наших глазах они стали практически синонимичны. Но это типичный случай «послезнания». На протяжении всех 1920-х лидерство Гитлера в партии отнюдь не казалось современникам таким бесспорным и безальтернативным,
каким оно стало впоследствии. Безусловно, будучи ярким оратором, эффективным организатором и обладая феноменальным личным магнетизмом, Гитлер имел очень весомое преиму34
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
щество. Но его лидерство не было бесспорным и само собой разумеющимся ни до, ни после
«пивного путча». Можно напомнить о том, что он не был ни основателем партии, ни даже
одним из первых ее членов – длительное время он оставался просто одним из партийных ораторов. Да, как вскоре выяснилось – наиболее эффективным и популярным из них, но само по
себе это не могло надежно гарантировать ему лидерство в партии. Вплоть до самого «пивного
путча» Гитлер нуждался в подкреплении своего авторитета за счет привлечения в качестве
союзников других харизматичных и знаковых в глазах широкой публики фигур – как того же
Людендорфа, игравшего в памятных событиях 8 ноября 1923 года как минимум не менее значимую роль, чем он сам (что и послужило одной из непосредственных причин провала всего
предприятия).
Суд и тюремное заключение в Ландсберге сыграли двоякую роль. С одной стороны, они
ощутимо укрепили позиции лично Гитлера – его известность в масштабах страны (особенно
в околонационалистических кругах) возросла в результате эффектных выступлений в суде, а
само заключение придало ему ореол бескомпромиссного борца и мученика за свои идеалы (при
этом без малейшего риска и даже серьезного дискомфорта). После тюрьмы Гитлер вполне мог
уже позволить себе попробовать обойтись и без сомнительных «политических костылей» вроде
Людендорфа. С другой стороны, запрет деятельности НСДАП в целом и относительная изоляция Гитлера подтолкнули центробежные тенденции в партии – многие из партийных деятелей
покрупнее, считавшие себя весомыми фигурами в собственном праве, стали искать альтернативные пути приложения своих способностей. Так, Грегор Штрассер совместно с Розенбергом и все тем же Людендорфом, решив, что песенка НСДАП спета, создали другую политическую организацию – Национал-социалистическое Германское освободительное движение –
и вышли с ней на баварские и федеральные парламентские выборы, причем далеко не безуспешно: в Баварии движение вообще заняло второе место, а в Германии в целом набрало два
миллиона голосов и получило 32 депутатских кресла в Рейхстаге. Это были реальные достижения, которые очень даже неплохо смотрелись и при сравнении с тюремным «мученичеством»
Гитлера. Людям вроде Штрассера было, что возразить в ответ на претензии Гитлера на безусловное лидерство – и возразить аргументированно.
Вообще сам Грегор Штрассер – очень характерная фигура для данного этапа развития
революционного движения. На три года моложе Гитлера, баварец, фармацевт по образованию,
он принадлежал к тому же самому «потерянному поколению» ветеранов Первой Мировой, чья
жизнь была расколота надвое войной и навсегда отмечена ее печатью. Собственно, его карьера
в окопах была успешнее, чем у Гитлера – Штрассер (тоже кавалер Железного креста первого
класса) дослужился до лейтенанта. В НСДАП он вступил в 1920 году – на относительно раннем
этапе, когда влияние Гитлера еще не было определяющим, а потому совершенно не являлся
его креатурой. Кроме того, Штрассер сам по себе был довольно харизматичной личностью
и неплохим оратором (в отличие от Гитлера, он полагался больше на энергию и напор, чем
на убеждение, но его выступления были достаточно эффективны). В общем и целом, Грегор
Штрассер представлял ту генерацию партийных деятелей, лояльность которых была адресована скорее идее, чем человеку (причем эту идею он осмыслял и интерпретировал сам), и для
которых Гитлер всегда был в лучшем случае «первым среди равных» (если не просто «равным» – всего лишь уважаемым «товарищем по партии»), но никак не единственным фюрером-полубогом, слова которого не подлежат обсуждению.
К этому добавился еще успех на выборах – к моменту освобождения Гитлера Штрассер
был депутатом Рейхстага. В результате, выйдя на свободу Гитлер вынужден был иметь дело со
Штрассером как вполне самостоятельной фигурой, обросшей своими собственными последователями и своими собственными идеями: его интерпретация национал-социализма была ощутимо левее, чем у Гитлера, это был в первую очередь «социализм», лишь затем «национал-».
Этот новый Штрассер держался уважительно, но подчеркнуто независимо – он не явился на
35
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
первое собрание обновленной НСДАП 27 февраля 1925 года. Лояльность этого нового Штрассера нельзя было воспринимать как данность – за нее предстояло побороться и даже поторговаться.
Но торговаться определенно было за что. Дело в том, что во время избирательной кампании 1924 года Штрассеру для разработки достался север Германии, где позиции нацистов были
весьма слабыми (в отличие от той же Баварии, на промышленном Севере с развитым пролетариатом традиционно боролись коммунисты и социал-демократы, с традиционными националистами в качестве «третьей силы»). И в этих условиях Грегор сумел добиться впечатляющих
успехов: с одной стороны, он заключил несколько удачных союзов с местными национал-консервативными политиками, с другой – своей социалистической риторикой сумел привлечь
часть городского рабочего класса. Это демонстрировало незаурядную политическую гибкость.
А поскольку одним из аспектов «нового курса» НСДАП, только что провозглашенного Гитлером, должно было стать превращение партии из преимущественно баварской в общегерманскую организацию, северное направление должно было в ближайшие годы стать для нацистов
приоритетным. В этих условиях «задел», созданный там Штрассером, непозволительно было
игнорировать.
Поэтому спустя какие-то две недели после собрания в «Бюргербройкеллере» Штрассер
получил от Гитлера персональное предложение о встрече. Тогда Грегор, конечно, не мог этого
знать, но этому приглашению было суждено сыграть в его судьбе определяющую – и в конечном итоге, роковую – роль. Но в тот день уже фюрер проявил чудеса политической гибкости. Он был сама любезность, польстил Штрассеру, восхитился его успехами (на самом деле,
будучи в заключении, Гитлер высказывался о деятельности Штрассера резко и ядовито, но
теперь Штрассер был ему нужен). Что было даже важнее, он очень точно нащупал, что именно
он мог предложить амбициозному младшему коллеге. Штрассер был уверен в своих силах и
талантах, он воспринимал себя как самостоятельного игрока, и был совершенно не готов признавать над собой чей-то непосредственный контроль. Но с другой стороны, для дальнейшего
роста и развития ему были нужны дополнительные ресурсы. И Гитлер предложил ему именно
это – возглавить ключевое северное направление экспансии НСДАП с большой фактической
автономией, но при этом с доступом к довольно значительным ресурсам партии. Сам фюрер
останется преимущественно в Мюнхене, он будет сохранять лишь номинальный контроль, и
не будет дышать в спину Штрассеру. Партийное строительство в Пруссии и – в частности –
в Берлине (безусловно, стратегически важнейшие направления в обозримом будущем!) были
целиком и полностью отданы на откуп Штрассеру. Это было как раз одно из тех самых предложений, «от которых невозможно отказаться», и Штрассер его принял.
Он немедленно развернул бурную деятельность. В Берлине была основана новая нацистская газета – «Берлинер Арбайтерцайтунг» (очень характерное название для социалиста
Штрассера), главным редактором которой стал брат и ближайший сподвижник Грегора – Отто
Штрассер. Еще один печатный орган, информационный листок, выходивший раз в две недели,
был адресован партийным функционерам и предназначен для того, чтобы держать их в курсе
происходящих событий и позиции партии по ключевым вопросам. Сам Штрассер пустился в
нескончаемые разъезды по всей вверенной ему территории – Пруссии, Саксонии, Ганноверу,
Рейнской области. Он лично участвовал в создании партийных организаций на местах, без
устали выступал на многочисленных собраниях и митингах. При этом Грегор, остававшийся
действующим депутатом Рейхстага, по полной программе использовал те преимущества, которые ему это давало – по городам и весям он катался за государственный счет, а выступая
с речами, мог позволить себе не стесняться особенно в выражениях, поскольку депутатская
неприкосновенность надежно защищала его как от административных мер (от которых, как
мы уже видели, не на шутку доставалось Гитлеру), так и от судебных исков за клевету.
36
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Еще одна характерная черта деятельности Штрассера, о которой стоит сказать отдельно –
это его наметанный глаз в подборе кадров. Многим из тех людей, которых он впервые привлек
на партийную работу, предстояло так или иначе большое будущее в нацистском движении. Его
первого личного секретаря звали Генрих Гиммлер (с секретарской работой он справлялся не
слишком хорошо, и сам ушел с этой должности, но в поле зрения партии остался). На смену
ему пришла, наверное, одна из самых ярких, талантливых и многогранных фигур в будущем
нацистском руководстве (по-настоящему талантливых, без всяких качественных или моральных оценок) – хромой и неказистый молодой человек с бешеной энергией, огромным ораторским талантом и недюжинной работоспособностью, которого звали Пауль Йозеф Геббельс.
Геббельс – действительно одна из самых необычных личностей среди нацистской верхушки, и заслуживает того, чтобы сказать о нем пару слов отдельно. Хромота его не была
врожденной – это был результат перенесенного в семилетнем возрасте остеомиелита и неудачной операции, в результате которой одна его нога стала короче другой. Не вызывает сомнения,
что это было источником немалого психологического комплекса для молодого человека (в том
числе из-за того, что увечье сделало его непригодным к военной службе – и это в годы, когда
всей общественной жизнью в стране заправляли ветераны). Геббельс компенсировал это трудоголизмом и кипучей сексуальной активностью – судя по его дневникам, он редко крутил менее
трех романов одновременно, причем все они были для него источником бурных эмоциональных переживаний. Он получил блестящее образование – хотя его страстная и взрывная натура
сказалась и здесь. В Германии перемещение студентов между университетами в процессе обучения было распространенным явлением – прослушал часть курса в одном ВУЗе, потом перешел в другой, к какому-нибудь знаменитому профессору. Но Геббельс за время своего обучения сменил аж восемь университетов, успев поучиться практически везде. Параллельно он
увлекался писательством (причем писал как прозу, так и стихи, и театральные пьесы). Впрочем, его опусы не были опубликованы, пока он не приобрел известность благодаря своей партийной деятельности. Со словом он обращался, безусловно, хорошо, но как показала вся его
дальнейшая жизнь, по-настоящему «своей стихией» для него была все-таки краткая форма –
речи, статьи, эссе. По своим политическим взглядам молодой Геббельс был безусловно левым –
едва ли не более левым, чем Грегор Штрассер. В ранней молодости он симпатизировал коммунистам, и на всю жизнь сохранил какую-то особую тягу к большевистской России (именно
к большевистской, что было редкостью и диковинкой среди нацистского руководства, которое в основном более-менее уважительно относилось к России дореволюционной, но считало,
что большевики ее загубили и испортили бесповоротно, как в политическом, так и в расовом смысле). Есть сведения (труднопроверяемые, конечно же), что уже в годы войны Геббельс
несколько раз выступал с инициативами начать с СССР тайные переговоры о сепаратном мире.
Так или иначе, но любимым писателем его совершенно точно был Достоевский, в особенности
«Бесы». В партию Геббельс пришел сам, без участия Штрассера (это произошло еще в 1922
году, когда он услышал одно из выступлений Гитлера, после чего он даже успел некоторое
время поработать агитатором в оккупированном французами Руре – работа, кстати, в период
«битвы за Рур» не на шутку рискованная, потому что французам случалось таких агитаторов
расстреливать). Однако именно Штрассер заметил Геббельса в 1925 году и дал настоящий толчок его карьере.
Тем не менее, тот факт, что Штрассер и Геббельс обрели высокий статус в партийной
иерархии, ни в коей мере не означал, что идеологические разногласия между ними и высшим руководством в лице фюрера куда-то в одночасье исчезли. Скорее наоборот, полученная Штрассером значительная фактическая автономия способствовала тому, что эти разногласия расцвели пышным цветом. Северное «крыло» партии на глазах становилось все более
недвусмысленно левым. Свой вклад в это вносили как выступления Штрассера, так и публицистика Геббельса – последний даже опубликовал открытое письмо к одному из коммунисти37
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ческих лидеров, в котором уверял его, что нацисты (и персонально он, Геббельс) ему не враги,
поскольку делают они фундаментально одно и то же дело. Разумеется, Гитлер был в ярости, но
политика связывала ему руки – Штрассер и его северная организация были слишком нужны
ему. Тем не менее, понятно было, что рано или поздно заочные идеологические споры должны
были прорваться открытой конфронтацией – партия не могла долго оставаться «домом, разделенным в себе».
В этом, кстати, один из законов любой политической революции, каков бы ни был ее
характер. На раннем этапе развития революционного движения неизбежны альянсы между
довольно разноплановыми по своим взглядам силами и фигурами, чьи позиции совпадают
лишь по некоторым ключевым пунктам. По мере развития движения, неизбежно происходит
его, так сказать, «гомогенизация» – своеобразное «приведение к единому знаменателю», в
ходе которого выявляется его идейное ядро («мейнстрим»), а диссидентствующие элементы
последовательно либо адаптируют свои взгляды, сглаживая противоречия, либо вытесняются
из движения вообще. Однако со стороны лидеров движения это требует немалой осторожности и политической мудрости. Попробуешь форсировать процесс раньше времени – рискуешь
зря потерять ценных союзников, которые могли бы еще принести немалую пользу движению.
Думается, именно поэтому Гитлер выжидал, до поры не принимая никаких мер, давая возможность противоречиям созреть.
В конце концов, формальными инициаторами решающей конфронтации выступили
именно Штрассер и Геббельс. Поводом же послужил вопрос, вызвавший в то время ожесточенные споры и поляризацию мнений по всей Германии. Это была законодательная инициатива левых о национализации имущества бывших монаршьих династий (напомним, что в
Германской империи, помимо императорской династии Гогенцоллернов, сохранялись и местные королевские и княжеские фамилии; в 1918 году власть и статус они утратили, но многие из них оставались крупными землевладельцами и при Республике). Инициативу поддерживали коммунисты и социал-демократы, национал-консерваторы всех мастей, естественно,
были категорически против. Штрассер и Геббельс выступили за присоединение к кампании
левых. Более того, вопрос о собственности бывших коронованных особ послужил для них
поводом для того, чтобы выступить с обширной экономической программой, совершенно альтернативной официальной программе НСДАП, так называемым «25 пунктам», неизменным
еще с 1920 года. Экономическая программа Грегора Штрассера предусматривала, среди прочего, широкую национализацию крупных производств и земельных угодий. Для Гитлера это
было абсолютно неприемлемо – у него как раз налаживались отношения с германскими промышленными и финансовыми кругами, и налаживались они именно на том понимании, что от
национал-социалистов, при всем их словесном радении за судьбы германских рабочих, можно
было не ждать коммунистических экспроприаций. К тому же, и некоторые титулованные особы
из числа старой имперской аристократии успели засветиться среди спонсоров и даже членов
партии.
Тем не менее, Гитлер не выступил немедленно всеми силами против северной инициативы. Конечно, он мог бы начать открытую конфронтацию, с обменом гневными речами с трибуны и взаимными обвинениями в отступничестве – очевидно, что это было как раз то, чего от
него ждали Штрассер и его сторонники. Но в тех условиях это, скорее всего, привело бы к расколу партии, поскольку северное ее крыло было лично предано Штрассеру и в целом проникнуто его идеями. Однако Гитлер снова поступил совсем не так, как от него ждали люди, мыслившие в парадигме обычной партийной борьбы в демократической системе. Двойственность
его природы как политика позволяла ему раз за разом ставить в тупик своих оппонентов. Гитлер позволил Штрассеру и Геббельсу совершить свой демарш без видимого противодействия.
Когда 22 ноября 1925 года Штрассер созвал в Ганновере совещание руководителей северных
отделений с целью представления им своей экономической программы, Гитлер прислал от себя
38
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
лишь наблюдателя. На заседании безраздельно доминировали Штрассер и Геббельс. Возразить
им робко, что такие вопросы хорошо бы, вообще-то, решать с участием фюрера, попытался
лишь Роберт Лей, глава кёльнского отделения. Однако возражения были решительно отметены
и раздавлены. Геббельс, среди прочего, громогласно потребовал исключить из партии «мелкого буржуа Адольфа Гитлера». Программа была принята, решение присоединиться к кампании левых за национализацию монарших имений – одобрено. Штрассер и Геббельс праздновали победу.
Однако в самом ощущении триумфа крылась ловушка. Нежелание Гитлера вступать в
открытый спор со всем северным крылом партии – т. е., по сути дела, принимать бой на условиях, выбранных противником – не означало, что он сдался. Просто лидеров диссидентов необходимо было сперва изолировать от их поддержки. Выждав пару месяцев, Гитлер объявил о
созыве совещания партийного руководства в Бамберге (на юге) 14 февраля 1926 года. Это был
рабочий день и объявление было дано лишь с небольшим упреждением. Расчет был на то, что
северным лидерам, большинство из которых партийной деятельностью занимались в свободное от основной работы время, будет сложно туда добраться. Результат хитрости превзошел
все ожидания – Штрассер и Геббельс приехали в Бамберг вообще одни. Вдвоем против Гитлера, имевшего за спиной единодушную поддержку полного комплекта партийных функционеров Юга, они, конечно, не имели ни малейших шансов. Под обрушившимся на них со всех
сторон сконцентрированным давлением они вскоре вынуждены были капитулировать и объявить об отказе от своей программы. Капитуляция, конечно, не была искренней – судя по тем
же дневникам Геббельса, мнение его в глубине души в тот момент ничуть не изменилось, он
по-прежнему был убежден в своей со Штрассером правоте и в ошибочности курса Гитлера,
и твердо намерен был оставаться в оппозиции, но… слова отречения, какими бы вынужденными, вырванными насильно они ни были, уже были сказаны, и все северное крыло партии,
голосовавшее за программу, немедленно об этом узнало. Гитлер вбил клин между лидерами
«левой фракции» в НСДАП и их сторонниками.
Стратегически игра была уже выиграна – как бы отрекшиеся ни махали кулаками после
драки, их авторитет в глазах их собственных последователей был подорван, а фракция деморализована и дезорганизована. Теперь дело оставалось за чисто техническим эндшпилем. Гитлеру необходимо было перехватить руководство северными отделениями партии, не растеряв
достижений Штрассера – но лишив Штрассера его независимой роли. Для этого хорошо было
бы вбить еще один клин – теперь уже между самими лидерами оппозиционеров.
29 марта Геббельс получил письмо от Гитлера – написанное в предельно уважительном и
даже дружеском тоне, будто и не было никакой стычки, взаимного крика, обвинений, оскорблений и угроз. В письме содержалось приглашение выступить с речью в Мюнхене 8 апреля.
Геббельс мог быть сколько угодно предан идеям социализма и мог сколько угодно считать себя
другом Грегора Штрассера лично – но он был тщеславен. Признание его как оратора, подчеркнуто уважительное отношение, несколько символических жестов – и сердце его начало таять.
Он принял приглашение. Когда он прибыл в Мюнхен 7 апреля, на вокзале его ждал личный
автомобиль Гитлера. «Истинно королевский прием!» – записал он в дневнике. На следующий
день Геббельс, встреченный бурными аплодисментами, произнес двух-споловиной-часовую
речь в «Бюргербройкеллере», причем Гитлер стоял с ним рядом на трибуне, а по окончании
речи тепло обнял его. Решимость Геббельса пошла трещинами, он был в смятении. Он остался
в Мюнхене на 10 дней, слушал выступления Гитлера, и вскоре его оппозиционные убеждения рухнули окончательно. В своем дневнике он сам перед собой признал полную правоту
Гитлера по всем ключевым позициям. Отныне он превратится в его верного помощника. 20
апреля он пришлет фюреру высокопарное поздравление с днем рождения, в котором назовет
его гением. Большую часть лета 1926 года он проведет рядом с Гитлером в его альпийской
резиденции в Берхтесгадене, а в августе формально порвет со Штрассером, опубликовав в
39
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
«Фёлькише Беобахтер» открытое письмо, в котором назовет своих бывших союзников «фальшивыми революционерами», а «мелкого буржуа Адольфа Гитлера», которого он не так давно
хотел исключить из партии – «инструментом Божественной Воли». В конце октября 1926 года
Гитлер назначит 29-летнего Геббельса гауляйтером Берлина.
Перехват власти над партийной организацией Севера был закончен. Грегору Штрассеру
оставался не такой уж большой выбор – уйти в относительную неизвестность, попытавшись
начать самостоятельную политическую деятельность почти с нуля, с неясными перспективами,
или примириться с Гитлером. Он предпочел второй вариант. Гитлер принял его вполне доброжелательно – он даже стал крестным отцом для двух сыновей Грегора. Его брат Отто, однако,
предпочел сохранить независимость. В своей газете он продолжал упорно продвигать идеи
социализма. Финальная конфронтация между ним и Гитлером наступит в 1930 году, когда
Отто Штрассер будет исключен из партии – причем его брат выберет этот момент, чтобы еще
раз недвусмысленно заявить о своей лояльности Гитлеру. В итоге из двух братьев именно
«принципиальный и независимый» Отто останется жив, а «преданный до гроба» Грегор погибнет – потому что, один раз примирившись, решит, что и дальше может вести самостоятельную
игру.
Страсти, бушевавшие в руководстве нацистской партии в середине 1920-х, конечно,
поучительны и многое способны рассказать нам о принципах партийной политики, и в еще
большей степени – внутрипартийной интриги. Однако не стоит забывать, что какое бы значение этим событиям ни придали историки впоследствии, в тот момент все это было не более,
чем бурей в стакане воды. Объединенная, реорганизованная, преодолевшая кризис НСДАП на
парламентских выборах в мае 1928 года набрала 810 000 голосов, что принесло ей… 12 мест
в Рейхстаге (из 491). Конечно, это было лучше, чем ничего, но не сильно. И самое главное –
очевидно было, что шансы на резкое улучшение показателей в ближайшее время были скромными. Если только в стране и мире не произойдет ничего из ряда вон выходящего.
Сейчас можно до бесконечности спорить о том, насколько Гитлер предвидел наступление Великой Депрессии в Америке, а насколько это было чистое везение. Сам он, конечно же,
неоднократно говорил, что всегда исходил из того, что столь тотальная зависимость германской
экономики от американских кредитов рано или поздно выйдет Веймарской республике боком.
Проблема только в том, что наиболее детальные и конкретные из этих высказываний относятся
к более позднему времени, и потому могут быть просто «послезнанием». С другой стороны,
нельзя сказать, чтобы крах 1929 года был для всех такой уж неожиданностью. История последних 200 лет – вплоть до происходящего сейчас на наших глазах – вообще демонстрирует, что
биржевые катастрофы обычно оказываются совсем уж «громом среди ясного неба» только для
неинформированного обывателя. Люди, более-менее пристально следящие за процессами в
мире финансов, как правило, на протяжении довольно долгого времени «нутром чуют», что
надвигается что-то нехорошее. Другое дело, что почти никогда это предчувствие не оказывается способным предотвратить или смягчить катастрофу – в том числе и потому, что моменту
окончательного краха обычно предшествуют несколько «ложных» обвалов биржи с последующим восстановлением. Люди устают от криков «волк!», и в результате приход реального волка
все равно застает их врасплох. О том, что на американском фондовом рынке зреет колоссальный спекулятивный «пузырь», экономисты говорили еще с 1928 года, если не раньше, так что
теоретически Гитлер мог и слышать что-то об этих экспертных оценках. Доподлинно мы вряд
ли когда-то это узнаем. Бесспорно, однако, что он сумел чрезвычайно быстро сориентироваться
в стремительно меняющейся ситуации.
Нью-Йоркская фондовая биржа рухнула 24 октября 1929 года – это был тот самый «черный четверг», о котором хотя бы краем уха слышали все. Мало кто знает, однако, что это было
лишь начало падения – на самом деле, худшим днем в истории NYSE стал следующий вторник,
29 октября. Падения ждали все (кроме совсем уж жизнерадостных идиотов). Таких масштабов
40
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
падения не ждал никто. Началась в полном смысле этого слова паника. По Америке прокатилась волна банкротств и самоубийств финансистов.
Покачнулась и фактически застопорилась банковская система. Встала промышленность.
Экономические последствия покатились по миру расходящейся волной цунами.
Германия почувствовала на себе эти последствия почти сразу же. Сначала иссяк поток
кредитов от американских банков. А между тем, сроки возврата старых кредитов наступали
(сапогом на горло). Германская финансовая система охнула и затрещала по швам. Объем
международной торговли резко упал, что означало стремительное сокращение немецкого экспорта – а за счет него, среди прочего, финансировался импорт жизненно необходимого Германии сырья и продовольствия. Началось сокращение промышленного производства – с конца
1929 по 1932 год оно упало почти вдвое. Миллионы людей оказались на улице. Малый бизнес погибал. В мае 1931 года рухнул крупнейший австрийский банк, Кредитанштальт, и это
повлекло за собой цепную реакцию среди тесно связанных с ним немецких банков. Когда 13
июля обрушился один из важнейших банков Германии – Дармштедтер унд Национальбанк,
правительство вообще временно приостановило работу всей банковской системы. Американский президент Гувер выступил с инициативой объявить мораторий на выплаты по всем оставшимся военным долгам, в том числе и по германским репарациям (да, в 1931 году Германия
все еще платила репарации), и этот мораторий вступил в силу с 6 июля, но даже это не смогло
спасти Германию, вновь стремительно скатывавшуюся в пропасть.
А что происходило в это время в германской политике? Густав фон Штреземанн, канцлер, с чьим именем был связан выход страны из предыдущего кризиса, а также ее последующие «сытые» годы, умер за три недели до «черного четверга», словно подведя своей смертью
черту под целой эпохой в жизни Веймарской республики. Пришедший ему на смену Герман
Мюллер, последний социал-демократ на посту канцлера (и последний глава правительства,
созданного коалицией демократических партий), подал в отставку в марте 1930-го из-за разногласий между партиями по поводу фонда страхования от безработицы. Его сменил Генрих
Брюнинг, лидер фракции Католического центра. Это был уважаемый политик, известный своими высокими моральными качествами и безукоризненным послужным списком (среди прочего – естественно, ветеран войны, капитан в отставке, кавалер Железного креста). Забавно,
но похоже, что Брюнинг сам не понимал, что своим назначением был обязан армейской протекции – мы-то сейчас знаем, что его кандидатуру предложил президенту фон Гинденбургу,
который в душе всегда оставался военным и охотно прислушивался к бывшим коллегам, генерал Курт фон Шляйхер.
Брюнинг попытался протолкнуть через Рейхстаг программу финансовых мер, направленных на спасение экономики, однако не смог заручиться поддержкой большинства. Тогда он
обратился за помощью к Гинденбургу – статья 48 Веймарской конституции наделяла президента в чрезвычайной ситуации правом утверждать законы своим декретом, без участия парламента. А ситуация в экономике была такая, что требовала как раз чрезвычайных мер, аргументировал Брюнинг. Гинденбург согласился с ним. Но Рейхстаг не собирался сдаваться – он
принял постановление с требованием к президенту отменить декрет. В условиях кризиса германский парламентаризм начинал трещать по швам без какого-либо подталкивания извне –
органы власти республики вошли в жесткую конфронтацию, в которой никто не собирался
уступать. Тогда Брюнинг сделал следующий шаг, казавшийся ему вполне логичным в той ситуации, но которому было суждено оказаться судьбоносным. В июле 1930 года он обратился
к президенту с просьбой распустить Рейхстаг и назначить новые выборы, на которых – надеялся канцлер – ему удалось бы сформировать устойчивое умеренное парламентское большинство. Почему Брюнинг был так уверен в результате – до сих пор остается загадкой для историков. Любой, кто отдавал себе отчет о происходящем в Германии (а Брюнинг не производит
впечатления несведущего человека – в конце концов, именно он ратовал за антикризисную
41
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
финансовую программу), должен был усомниться в том, что именно центристы и их союзники
смогут укрепить свои позиции на этих выборах. Миллионы безработных, стремительно разоряющийся малый бизнес, а также новый фактор, которому суждено было сыграть немалую
роль в назревавших событиях – примерно четыре миллиона молодых избирателей, только что
получивших право голосовать, но совершенно неустроенных и не видящих перед собой никаких реальных жизненных перспектив в свете кризиса – обеспечили выборам вполне закономерный результат. Умеренные партии (ориентировавшиеся на пресловутый «средний класс»),
потеряли в общей сложности больше миллиона голосов (свои позиции сохранил лишь все тот
же Католический центр, но поскольку его союзники были разгромлены, о формировании коалиции большинства можно было забыть). Примерно столько же потеряли социал-демократы.
Правые национал-консерваторы потеряли два миллиона из ранее имевшихся четырех. Коммунисты получили 4,5 млн голосов (в сравнении с 3,2 миллионами на прошлых выборах), и увеличили свое присутствие в Рейхстаге с 54 до 77 мест. НСДАП, ранее, как мы помним, имевшая
810 000 голосов, набрала 6 409 000. Число депутатов-нацистов в Рейхстаге выросло с 12 до
107, что разом сделало их второй по величине фракцией в парламенте.
Очевидно было, что именно нацисты смогли лучше всех воспользоваться наставшими
трудными временами. Очевидно было также, что большую роль сыграла риторика Гитлера,
нацеленная на самых ущемленных и обездоленных кризисом людей – на тех же безработных,
неустроенную молодежь… Интересно было другое – немалую часть новых голосов НСДАП
получила от представителей «среднего класса», разочаровавшихся в тех партиях, за которые
они голосовали традиционно. Собственно, подавляющая часть голосов, которые ушли от центристов и консерваторов, достались именно ей. То есть – люди уходили именно от тех партий,
которые специально строились «под средний класс», были, как казалось, на него нацелены. И
ушли они к национал-социалистам, которые «партией среднего класса» себя никогда открыто
не провозглашали, а напротив, стремились (хоть и не всегда успешно) подчеркнуть свою связь
с рабочими – даже в название партии эту связь вынесли. Почему это произошло?
В Веймарской Германии, как и в современной России, были чрезвычайно популярны
спекуляции на тему пресловутого «среднего класса». Уж точно не было недостатка в политиках, видевших в этом классе «своего избирателя». И как и в современной России, понимание
природы этого «среднего класса», его интересов и устремлений у каждого было свое. Более
того, как это очень часто бывает, когда какую-то социальную группу ставят на пьедестал и
начинают ей поклоняться, политики больше приписывали «среднему классу» свое представление о том, чего он должен желать, какими ценностями жить (подобно тому как в России конца
XIX века народовольцы и славянофилы каждый со своей стороны лепили свой образ русского
крестьянина, одинаково далекий от истины). В ход шли все расхожие (и до сих пор, кстати,
популярные) мифы о том, что «средний класс» – это консерватизм, приверженность порядку и
уважение к собственности. Оно, конечно, бывает верно в определенных обстоятельствах (когда
в стране все хорошо, экономика более-менее уверенно развивается, перспективы завтрашнего
дня понятны)… Но сторонники такого взгляда часто забывают о том, что же собой физически
представляет «средний класс», особенно в стране с неустойчивой, «переходной», «посткризисной» экономикой (как Веймарская Германия 1920-х или постсоветская Россия начала XXI
века). Это люди, в большинстве своем, только недавно вырвавшиеся из низкого социального
статуса, обретшие определенную степень самостоятельности и уверенности – и очень гордые
этим фактом. Ни один потомственный миллионер не гордится своим положением в обществе
так, как какой-нибудь мелкий предприниматель, выстроивший свой (относительно скромный
по масштабам) бизнес с нуля. И эта гордость имеет свою оборотную сторону – представитель
«среднего класса», как правило, гораздо острее боится потерять свой статус, чем тот же миллионер-олигарх – свой. Именно потому, что он очень хорошо помнит, как относительно недавно
этот статус был достигнут, и кем он был до того, как «выбился в люди». В любой кризисной
42
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ситуации он очень живо чувствует, насколько тонка и зыбка грань, отделяющая его от социальных низов. И если он видит, что ситуация вокруг устойчиво ухудшается, и что сохранение
имеющихся тенденций (т. е. та самая «стабильность») с большой долей вероятности создает
лично для него угрозу утраты столь ценимого им статуса, представитель «среднего класса»
становится самым непримиримым и самым радикальным из революционеров.
Бесспорно, что именно сентябрь 1930 года стал для Гитлера рубежом – настоящим началом новой эры. Чтобы понять истинное значение произошедшего, однако, необходимо взглянуть на ситуацию не под углом зрения выборов, а шире. Масштаб успеха НСДАП, конечно же,
оказался сюрпризом и для самого Гитлера, и мы можем понять, что все это слегка вскружило
ему голову. Несомненно, в тот момент он должен был ощущать, что весь мир в его власти и все
ему по силам – в том числе, чем черт не шутит, и победить демократическим путем. Но глядя
на ситуацию отстраненно, мы должны констатировать, что успех, хотя и оказался больше, чем
ожидалось, был все же довольно ограничен. В самом деле, нацисты не получили в Рейхстаге
большинства, необходимого для принятия решений по своему усмотрению. Они не получили
бы его и в том случае, если бы стали крупнейшей парламентской фракцией. Для того, чтобы
диктовать Рейхстагу свою волю, им не миновать было создания эффективной коалиции – но
как раз это было затруднительно, ввиду того самого радикализма НСДАП, который и принес
ей немалую часть голосов.
По сути, в чисто избирательном плане нацисты оказались в классическом положении
«фаворита кризисной ситуации» – когда напряженное стечение обстоятельств разом выводит
радикальную политическую силу, ранее находившуюся в положении стабильного аутсайдера,
на вторые-третьи роли в национальном масштабе. В такие моменты, на волне успеха, многим
кажется, что еще один рывок – и вот он, будущий бесспорный лидер. Но этот рывок приходит –
и еще один, и еще – а лидерство так и остается недостижимым. Сейчас в похожей ситуации
находятся некоторые европейские правые партии (в первую очередь, французский Национальный Фронт Марин Ле Пен) – они показали хорошие промежуточные результаты на выборах,
и кое-какие наблюдатели (особенно симпатизирующие им, или наоборот – напуганные ими)
начинают говорить о них, как о грядущих лидерах. Но на деле, они достигли потолка того,
чего они могут добиться чисто демократическим путем. Дальше их радикализм (даже относительный) начинает работать против них. Им оказывается крайне затруднительно сформировать прочную коалицию с кем-то из соперников – напротив, именно соперники начинают
объединяться «перед лицом угрозы». Да, фаворит-радикал может некоторое время (несколько
избирательных циклов) удержать хорошую позицию, которая заставляет общество с ним считаться и о нем говорить. Но это продолжается ровно до тех пор, пока сохраняется та кризисная
ситуация, которая и вытолкнула его на эту роль. Рано или поздно кризис будет разрешен, тем
или иным образом (кризисы всегда разрешаются, даже те, которые на пике кажутся неразрешимыми) – и тогда он неизбежно вернется в привычную роль аутсайдера. Временная позиция
фаворита приносит ему определенные бонусы, которыми надо успеть воспользоваться, но эти
бонусы не демократические по своей природе, и чтобы воспользоваться ими в полной мере,
нужно уметь переключаться между «открытым» и «закрытым» режимами поведения политика.
То есть – необходимо быть Адольфом Гитлером. Никто из нынешних европейских правых им
не является.
Какие реальные бонусы получил Гитлер от успеха на сентябрьских выборах 1930 года?
Во-первых, он заявил о себе, как о реальной силе, причем очевидно находящейся на подъеме.
В результате на него посмотрели совсем другими глазами именно те группы влияния, в привлечении которых он был больше всего заинтересован – в первую очередь, крупные промышленники и военные. Нет, контакты с ними были и до того, конечно же, но есть разница между
парламентской партией-аутсайдером со стабильными двенадцатью депутатскими креслами, и
партией-победителем на выборах, в одночасье увеличившей свое представительство аж в 9 раз.
43
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Понятное дело, что и первая представляет определенный интерес для лоббистов, и получит
определенный уровень поддержки и финансирования, но этот уровень не идет ни в какое сравнение с тем, что может получить вторая. Особенно, если умело сыграть на страхах и опасениях – ведь напомним, что на тех же самым выборах немало очков набрали и коммунисты, и
наибольшее беспокойство это, естественно, должно было вызывать именно у финансово-промышленных олигархов и высшего офицерства. Конечно, психологическая «тень», отбрасываемая коммунистами, была куда значительнее реальных масштабов их успеха, но в политике, как
и на бирже, психологический фактор в краткосрочной перспективе играет важнейшую роль. И
уж если кто и умел на нем играть, это был Гитлер. Весь 1931 год пройдет под знаком налаживания контактов с верхушкой деловых кругов. Неоценимую помощь в этом деле Гитлеру оказали две ключевые фигуры: бывший главный редактор «Берлинской биржевой газеты» Вальтер
Функ, и наш старый знакомый – бывший директор Рейхсбанка (до 1930 года), автор финансовой реформы, остановившей гиперинфляцию, «отец рейхсмарки» Яльмар Шахт. Оба этих
персонажа, надо понимать, обладали огромными связями, и теперь без колебаний пустили их в
ход на благо партии. Вот это был психологический фактор в действии в чистом виде – оба после
выборов увидели в нацистах новую, восходящую силу на германской политической арене, оба
решили присмотреться получше – и оба попали под магнетическое личное обаяние Гитлера.
Уже скоро Шахт заканчивал свои письма фюреру словами «с энергичным 'хайль!'».
Был и еще один важный бонус для НСДАП – вторая по размерам фракция в Рейхстаге,
конечно, не могла диктовать парламенту свою волю, но она все же существенно могла повлиять
на его работу. Повлиять, в первую очередь, в деструктивном плане – затруднить и дестабилизировать – но в конечном итоге, это было именно то, что требовалось Гитлеру.
Антидемократическая революция в рамках функционирующей демократической
системы была возможна лишь при условии, что эта система перестанет работать так, как было
задумано. С самого начала своего существования, Веймарская республика для стабильного
функционирования своих институтов в очень большой степени зависела от способности Рейхстага сформировать дееспособную коалицию – без этого просто не могло быть принято ни
одно сколько-нибудь важное решение, и все государство оказывалось парализовано. Как правило, канцлерам удавалось такую коалицию правдами и неправдами сколотить, но специально
для тех случаев, когда это не получалось, в Веймарской конституции было предусмотрено
право президента распустить Рейхстаг и назначить новые выборы, а для совсем уж экстренных обстоятельств, как мы уже видели, особые полномочия, позволявшие выпускать президентские декреты, имевшие силу закона. «Экстренные» роспуски парламента в ее истории уже
встречались – но как правило, одних перевыборов вполне хватало для того, чтобы искомая
коалиция все же появилась, и страна вернулась бы к нормальной жизни. Рейхстаг 1930 года,
однако, имел принципиальное отличие. Дело было не только в том, что его состав затруднял
формирование коалиции – поскольку вторая по величине фракция была настроена деструктивно и в любой момент могла «встать в позу», и обойти это препятствие другим фракциям
было бы весьма непросто (для этого понадобился бы какой-то уж совершенно экзотический и
маловероятный «союз ежа с ужом»). Дело было еще и в том, что вероятность каких-то изменений ситуации к лучшему в случае перевыборов выглядела призрачной. Нацистская фракция
в Рейхстаге, таким образом, была чем-то вроде «троянского коня» или бомбы замедленного
действия, и только от воли одного-единственного человека – Адольфа Гитлера – зависело, в
какой момент она сработает.
И этот человек мог быть вполне доволен тем, как складывалась ситуация. Козыри продолжали сами прибывать ему в руку – экономическая ситуация в стране делала все за него.
Число безработных в 1931 году достигло 5 миллионов, полным ходом шло разорение среднего
класса, у германских крестьян начались массовые проблемы с платежами по закладным… Нет,
Гитлеру не было нужды повторять ленинское «чем хуже, тем лучше» – за него это, ничтоже
44
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
сумняшеся, сделал теперь уже окончательно верноподданный Грегор Штрассер, в эти годы
периодически игравший роль «рупора партии»: «все, что приближает катастрофу… это благо,
большое благо для нас и нашей германской революции».
Республика вступала на финишную прямую своей истории. Впрочем, «прямая» эта
кажется прямой только нам, с высоты прошедших десятилетий. На деле дорожка была
довольно извилистой, с напряженной борьбой почти на каждом шагу, со множеством интриг
и резких поворотов. Многие из них были так или иначе связаны с личностью одного и того
же человека, с которым мы уже мельком встречались – Курта фон Шляйхера. Пришло время
познакомиться с ним чуть подробнее.
Шляйхер был классическим образчиком старомодного прусского офицерства. Родился
он в 1882 году, в 18 лет поступил на военную службу в 3-й Гвардейский пехотный полк. Полком
одно время командовал будущий фельдмаршал Гинденбург, и одновременно со Шляйхером
там же служил его сын, Оскар фон Гинденбург. Молодые люди стали друзьями. В этой вхожести Шляйхера в семейный круг Гинденбургов – немалая часть секрета его влияния на престарелого героя войны и бессменного президента Республики с самого 1925 года. Шляйхеру
также повезло обратить на себя внимание генерала Грёнера во время обучения в военной академии, и когда генерал сменил Людендорфа на посту главнокомандующего германской армией
в 1918 году, он привлек Шляйхера в качестве своего адьютанта. Это и задало тон всей его дальнейшей карьере – Шляйхер был преимущественно тыловым, штабным офицером (во время
войны он лишь совсем недолгое время провел на передовой на Восточном фронте). Что важно,
он был толковым и грамотным штабистом. Он сыграл важную роль (под началом генерала
фон Секта) сначала в создании фрайкоров во время гражданской войны в 1919 году, а затем
в организации так называемого «Черного рейхсвера» – нелегальной секретной военной организации, призванной стать кадровым резервом для возрождения германской армии в обход
Версальского договора. Он также активно участвовал в налаживании военного сотрудничества
с Советской Россией – в тех самых секретных переговорах, которые привели к отправке германских военных специалистов в СССР для обучения в 1920-е годы, а также к размещению
запрещенных германских военных производств на советской территории. Германская армия
начала готовиться к реваншу задолго до того, как Адольф Гитлер стал крупной фигурой в германской политике, и Курт фон Шляйхер активнейшим образом участвовал в этом процессе.
К 1931 году он был уже генерал-лейтенантом.
Его роль была очень характерной для роли военного истеблишмента в Веймарской республике вообще – и она была двоякой по своей природе. В стране, вся жизнь которой крутилась
так или иначе вокруг понесенного ей жестокого военного поражения и необходимости когданибудь за него поквитаться, армия была обречена играть роль, совершенно непропорциональную ее фактическим размерам, усеченным до абсолютной смехотворности в соответствии с
условиями мирного договора. Высшее офицерство в глазах значительной части общества было
символом – во-первых, символом «настоящей Германии», прусской военной традиции, а вовторых – символом грядущего возрождения нации (пока не вполне понятно, когда и каким
конкретно образом, но от кого еще этого возрождения было ждать?). К тому же, как мы уже
видели, ветераны играли в жизни Республики ключевую роль – собственно, большинство политиков и общественных деятелей конца 20-х – начала 30-х были ветеранами, с боевым опытом,
ранениями и наградами. Президентом Республики, как-никак, был фельдмаршал в отставке. В
этих условиях, видимо, неизбежно было, что наиболее заметные представители высшего офицерства приобретут в политике и жизни страны влияние, далеко выходящее за рамки их, в
общем-то, узко-специальных прямых функций. И также неизбежно было, что неприметный
штабной офицер, в нормальных условиях оставшийся бы совершенно незаметным никому,
кроме прямых сослуживцев, вдруг станет активным игроком на политической арене.
45
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
В январе 1928 года именно Шляйхер – через свою дружбу с семьей Гинденбургов –
поспособствовал назначению своего бывшего начальника и патрона, генерала Грёнера, на
должность военного министра. Грёнер немедленно назначил Шляйхера на должность начальника так называемого Министерского управления, которое отвечало за связи армии с политической сферой и прессой. Де факто, Шляйхер стал главным политическим агентом Министерства обороны – и шире, германского генералитета в целом, его «связным» в коридорах власти.
Тот же Грёнер назвал его «своим серым кардиналом». Это было заблуждение – Шляйхер точно
не был «чьим-то», он был исключительно «своим собственным». Роль его очень быстро оказалась двойственной – он не только мог вмешиваться в политику, имея за спиной вес армии,
он мог и использовать свое политическое влияние, чтобы вмешиваться в армейские дела, способствовать назначениям своих друзей, ломать карьеры тем, к кому он испытывал неприязнь.
В политике у Шляйхера было определенное личное видение, которому он в целом и
следовал, и назначение Брюнинга канцлером было шагом именно по этому пути. Шляйхер
отлично понимал, что Брюнинг, скорее всего, не сможет сформировать дееспособную парламентскую коалицию, и рано или поздно войдет в клинч с Рейхстагом. Но это было как раз
то, что ему и было нужно. Как и большинство генералов «прусской школы», Шляйхер относился к любому парламентаризму с недоверием и презрением. Он был убежден, что именно в
сильном Рейхстаге крылась одна из главных причин проблем Веймарской республики. Между
тем, в конституции, как мы уже видели, были заложены механизмы для более сильной, даже
авторитарной власти. По сути, при недееспособности Рейхстага президент мог взять бразды
правления в свои руки полностью. Веймарская Германия, таким образом, несмотря на свой
«парламентский» фасад, на деле была потенциально сверхпрезидентской республикой – даже в
большей степени, чем современная Российская Федерация. Для того, чтобы сделать ее таковой
на практике, были необходимы две вещи – во-первых, воля президента (а Шляйхер, полагаясь
на свое влияние на глубоко престарелого, находящегося на грани маразма Гинденбурга, был
уверен, что сможет ее обеспечить), и чрезвычайная ситуация в стране (включая обязательно
паралич Рейхстага). Экономическая ситуация в Германии и без того была чрезвычайной, паралич Рейхстага вполне добросовестно обеспечил Брюнинг, результаты новых выборов Шляйхера тоже вполне устроили – поскольку гарантировали, что паралич продолжится и дальше.
План Шляйхера, насколько можно судить, заключался в том, чтобы как можно дольше поддерживать в стране атмосферу чрезвычайщины, снова и снова заставляя президента вмешиваться
и забирать на себя реальные властные функции, в конечном итоге, видимо, превращая парламент вообще в фикцию. Да, Курт фон Шляйхер хотел быть «серым кардиналом», но не при
каком-то жалком министре, а при полновластном военном диктаторе.
По сути, нацистская революция «снизу» встретилась с ползучим военным переворотом
«сверху». Шляйхер и Гитлер не осознавали друг друга как соперников – каждый из них,
насколько мы можем судить, считал другого удобным инструментом, удачно подвернувшимся
ему под руку. Гитлер в глазах Шляйхера очень удачно вписывался в его идею создания в Германии перманентного чрезвычайного положения. В свою очередь, Шляйхер принес Гитлеру
на блюдечке с голубой каемочкой самый главный подарок для любого революционера – раскол
и борьбу внутри правящих элит. Конечно, Шляйхер не предвидел столь головокружительного
успеха НСДАП на выборах, но он его вполне устраивал. Конечно, конкретные планы теперь
необходимо было корректировать. На арене появился новый крупный игрок, и с ним надо было
наводить мосты. Уже к к концу 1930 года Шляйхер наладил контакты с Эрнстом Рёмом (который вернулся из Боливии и снова возглавил СА) и Грегором Штрассером.
Раскол правящих элит проявлялся еще и в том, что видение Шляйхера совершенно не
совпадало с идеями с его же подачи назначенного канцлера Брюнинга. Да к тому же, и экономические реалии Депрессии продолжали властно вмешиваться во все политические расклады.
Пытаясь бороться с кризисом, правительство административными методами ограничивало
46
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
рост цен – но одновременно с этим оно снижало заработную плату. Поскольку искусственное
снижение цен обычно быстро приводит к дефициту и развитию параллельного черного рынка
(с совершенно иным ценовым уровнем), по факту получалось, что принимаемые «антикризисные» меры работали лишь на снижение уровня жизни рядового немца. Правительство Брюнинга стало самым непопулярным за всю историю Республики. Коммунисты и нацисты в своих
выступлениях называли Брюнинга не иначе, как «канцлер голода». Брюнинг обо всем этом был
отлично осведомлен, но будучи человеком добросовестным и верящим в свою высокую миссию, стиснув зубы, продолжал искать решение запутанного клубка проблем. В частности, он
планировал добиться от союзников окончательной отмены германских репараций (их выплата,
как мы помним, уже была заморожена в связи с Депрессией, что открывало дорогу к дальнейшим уступкам). Более того, на международной конференции по разоружению, намеченной на
следующий год, Брюнинг собирался поставить ребром вопрос об ограничениях, наложенных
на Германию по условиям Версальского договора. Дело в том, что этот почтенный документ,
урезавший германские вооруженные силы до совершенно неприличного уровня, содержал в
себе оговорку, в соответствии с которой державы Антанты принимали на себя обязательство
когда-нибудь уменьшить и свои армии до сопоставимого с Германией уровня. Брюнинг собирался напомнить союзникам об этом небольшом факте и потребовать либо исполнения данных
ими обещаний (что, конечно, было ненаучной фантастикой), либо, если уж они не собирались
их исполнять, разрешения Германии начать собственную (относительно скромную) программу
вооружений. На самом деле, рейхсвер тайком уже начал кое-какие работы в данном направлении (к чему приложили руку и Шляйхер, и сам Брюнинг как канцлер), но официальное
«добро» позволило бы существенно увеличить масштабы этих работ и развернуть их открыто
на территории самой Германии (в данный момент наиболее секретные направления – танковое, авиационное – развивались в значительной степени на территории СССР). Необходимо
понимать, что масштабные проекты по вооружению – хорошее и проверенное средство по
созданию рабочих мест в кризисных условиях. Собственно, крупные военные заказы (в частности, кораблестроительная программа) были важной составной частью экономической политики Рузвельта по преодолению как безработицы, так и промышленного спада, так что тут
Брюнинг был абсолютно «в тренде эпохи».
На горизонте, однако, начинала маячить нешуточная проблема, которая с неизбежностью
притягивала к себе внимание всех главных политических игроков – и Шляйхера, и Брюнинга,
и Гитлера. Срок полномочий президента Гинденбурга (7 лет по Веймарской конституции) подходил к концу в 1932 году. Широкая публика в Германии боготворила фельдмаршала (одного
из немногих крупных военачальников Великой войны, не запятнанных военными неудачами
или сомнительными политическими делишками), но ему было уже 85, его все более явно осаждало старческое слабоумие, и в периоды прояснений сам честный старый солдат отлично осознавал, что ему пора уходить на покой. Гинденбург не хотел выставлять свою кандидатуру на
следующие выборы, и все заинтересованные лица об этом знали. Беда Гинденбурга была в том,
что его же главных защитников и помощников его уход сейчас категорически не устраивал.
Президентские выборы сейчас, в разгар кризиса, когда популярность Гитлера находилась
на пике, да еще и без участия Гинденбурга (единственного в данный момент, кто мог похвастаться еще большей популярностью) – это был верный способ открыть фюреру НСДАП кратчайший путь к власти, да к тому же и развернуть на этом пути красную ковровую дорожку.
Собственно, президентские выборы – это и был тот самый единственный шанс Гитлера придти
к власти демократическим путем – потому что одни только парламентские выборы в Веймарской Германии не решали ровным счетом ничего. Гитлер, естественно, это понимал, и готов
был ухватиться за эту возможность обеими руками.
Однако как бы ни была расколота правящая элита, в приходе Гитлера к власти пока
что не была заинтересована ни одна из ее группировок – уж точно не в качестве бесспорного
47
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
единоличного победителя. Шляйхер был заинтересован в институционально сильном, но при
этом лично управляемом, подверженном его влиянию президенте – и с этой точки зрения лучшей кандидатуры, чем Гинденбург, пока что не существовало. Следовательно, с точки зрения
Шляйхера, Гинденбурга следовало любой ценой подвигнуть к участию в выборах.
Видение Брюнинга было сложнее. Канцлер вообще-то был монархистом. В конечном
итоге, он рассчитывал восстановить в Германии монархию Гогенцоллернов – только в конституционном, демократическом виде, по образцу Британии. В качестве кандидата на трон
он рассматривал кого-нибудь из сыновей действующего кронпринца. С этой целью Брюнинг
надеялся заручиться поддержкой всех партий, представленных в Рейхстаге (кроме, конечно,
коммунистов). Президентские выборы 1932 года канцлер предлагал вообще отменить, вместо
этого просто продлив полномочия Гинденбурга (конституция предусматривала такую возможность, для этого было нужно большинство в 2/3 голосов обеих палат парламента). После этого
парламент должен был объявить о восстановлении монархии, а Гинденбурга назначить пожизненным регентом. Предполагалось, что фельдмаршал все равно долго не проживет – ну еще
пару, ну тройку лет. Это и будет переходный период, а после его смерти в свои права вступит
выбранный наследник трона. Брюнинг уже начал активные переговоры и торг с руководством
партий, и ему даже удалось добиться заметных успехов – в частности, получить осторожное
предварительное согласие от социал-демократов и руководства профсоюзов – а это чего-то да
стоило! Гитлер, правда, оказался не таким сговорчивым – при встрече с Брюнингом, в ответ
на его просьбу о поддержке, он разразился долгой пламенной речью с обличением республиканских институтов как таковых. Понятно, что здесь нужно было искать подходы потоньше
и поизощреннее. Но что было даже важнее, схема натолкнулась на сопротивление с той стороны, откуда его уж точно никто не ждал – от президента Гинденбурга. Президент (кстати,
это именно он в свое время доставил кайзеру ультиматум об отречении) был категорически
против «британской» конституционной модели.
Восстанавливать – так уж по полной программе, без всяких компромиссов и «усеченных»
вариантов, и только при условии возвращения на трон самого Вильгельма II (он был вполне
себе жив и проживал в эмиграции в Голландии). Попытка Брюнинга переубедить Гинденбурга
закончилась бурно – канцлер был изгнан из кабинета с криком, как нашкодивший мальчишка.
Через неделю президент снова вызвал его к себе – но лишь для того, чтобы безапелляционно
заявить, что он не будет участвовать в выборах. Процесс зашел в тупик.
Отстранимся на минутку, и окинем взглядом Веймарскую Германию образца 1931 года
как бы с высоты птичьего полета. Что мы увидим на этом «стоп-кадре»? Мы увидим суперпрезидентскую республику, находящуюся в состоянии жестокого экономического и политического
кризиса, к тому же пребывающую под серьезным внешнеполитическим давлением и испытывающую все прелести психологического комплекса проигравшего и несправедливо обиженного.
Мы увидим правящие элиты этой республики в состоянии разброда и раскола. Мы увидим
изначально харизматичного и популярного «национального лидера», стремительно теряющего
влияние и связь с реальностью, и обреченного на скорый неотвратимый уход, чуть раньше или
чуть позже. Народ в большинстве своем еще не очень это понимает, но элита осознает сполна, и
судорожно ищет пути выхода. Мы увидим минимум три конкурирующих концепции будущего
Германии. При этом прошу обратить внимание: ни один из политических проектов по преодолению кризиса, имевших шансы на реализацию, не предусматривал сохранения Республики в
существующем виде. Зато все три (конституционная монархия Брюнинга, военная диктатура
Шляйхера, партийное государство Гитлера) предусматривали в той или иной степени ремилитаризацию страны и, очевидно, в обозримой перспективе – какие-то попытки внешнеполитического реванша. Возможно, проект Гитлера был наиболее радикальным – но для современников (даже компетентных и хорошо информированных) это не могло быть очевидно. Для них
выбор не стоял между сохранением Республики и ее сломом – лишь между разными вариан48
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
тами слома. Дело осложнялось тем, что даже и этот выбор с большой долей вероятности не
предусматривал прямого участия большинства населения – две трети реальной политической
борьбы уже происходили за кулисами – в режиме «закрытой» политики, имеющем мало общего
с демократией. Демократия в Веймарской республике начала умирать задолго до того, как пала
формально – Гитлер ее лишь добил, но есть ощущение, что в тех условиях ее добила бы с тем
же успехом и победа любого из альтернативных проектов. Даже монархический проект Брюнинга, если бы дело дошло до его реализации, скорее всего, оказался бы на практике совсем
не таким конституционным и демократическим, как задумывалось. Время было такое. Тучи
сгущались над Германией, с Гитлером или без Гитлера.
Собственно, парадокс заключается в том, что на данном этапе Гитлер был как раз единственным, кто пытался действовать в русле чисто демократической политики (конечно, не из
внутреннего идеализма, а потому что видел шанс демократическим путем переиграть соперников, игравших в основном в режиме кулуарной интриги). В тот момент, как казалось, президентские выборы могли открыть ему короткий путь к власти. Проблема была только в одном –
в Гинденбурге. Пока что совершенно неясно было, будет он участвовать в выборах или нет – у
старика было семь пятниц на неделе. Гитлер начала 30-х, даже окрыленный успехом, все-таки
был политическим реалистом, и понимал, что одолеть живую легенду в прямом столкновении
ему будет крайне трудно. Легенда – она все-таки на то и легенда, что в значительной степени
стоит над партиями, и каковы бы там ни были ее личные взгляды и симпатии, на практике эта
фигура легко оказывается компромиссным кандидатом, устраивающим самые разные политические силы. Если Гинденбург все же пойдет на выборы, за его спиной сформируется довольно
широкая коалиция, и Гитлеру как кандидату строго партийному будет сложно ему противостоять. Поэтому фюрер НСДАП решил на всякий случай попробовать навести мосты – в конце
концов, президенту Гинденбургу понадобится канцлер. Лидер популярной партии со второй
по численности фракцией в Рейхстаге, по мысли Гитлера, был кандидатурой не хуже любой
другой. Поэтому он попытался в своей манере взять Гинденбурга приступом.
Личная встреча, которая состоялась 10 октября 1931 года, однако, не дала ожидаемых
результатов. Гинденбург был человеком из другого мира, статус и иерархия для него имели
значение, которое трудно понять людям, сформировавшимся в современную эпоху, после войн
и революций. Он был фельдмаршалом, а Гитлер – ефрейтором. Он был профессиональным
кадровым военным, представителем элиты империи, а Гитлер – гражданским, случайно и ненадолго оказавшимся на военной службе, притом из самых что ни на есть социальных низов –
безработным художником. Он был пруссаком, а Гитлер – австрийцем, даже не вполне настоящим немцем в глазах многих северян. В старом Кайзеррайхе эти люди могли бы столкнуться,
разве что, если бы один походя, не поворачивая головы, кинул другому милостыню. Взаимопонимание между ними – особенно если учесть жесткую, напористую и бескомпромиссную
политическую манеру Гитлера – было крайне маловероятно. Его и не произошло. Для Гинденбурга Гитлер был «богемским капралом», опереточным персонажем, недостойным серьезного отношения. Само предположение, что такой человек может стать канцлером, было смехотворным и оскорбительным. Единственной должностью, которую он как президент был готов
предложить этому персонажу, был министр почты. Компромисс был невозможен – по крайней
мере, в данный момент, без серьезных изменений ситуации.
Покинув встречу с президентом в сумрачном настроении, Гитлер отправился в городок
Бад Харцбург. Там на следующий день, 11 октября, был назначен слет всей «национальной
оппозиции» – в основном, различных право-консервативных организаций, вроде Германской
Национальной партии, Юнкерской аграрной лиги, военной организации ветеранов «Стальной
шлем», и других подобных. Гитлеру было понятно, что если уж ему придется столкнуться на
выборах с Гинденбургом, без союзников его шансы будут сомнительны. Встреча и совместный парад в тот день завершились формированием так называемого Харцбургского Фронта,
49
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
который задумывался как союз всех консервативных сил Германии, и лидеры коалиции были
заинтересованы в участии столь массовой и популярной организации как НСДАП. Гитлера,
однако, зрелище совершенно не вдохновило. Это было сборище реликтов ушедшей эпохи –
старорежимных политиков во фраках и цилиндрах, престарелых генералов с моноклями… По
сути, это были германские «национал-патриоты» – клуб политической ностальгии, сугубо субкультурная тусовка, мнящая себя радикалами, но на деле панически боящаяся любой революции и потому при малейшем обострении ситуации съезжающая на ретроградно-охранительные позиции. Для революционного по своей сути, динамичного и молодого движения скольконибудь прочные ассоциации с этими людьми могли принести лишь вред. Встреча была интересна лишь новыми знакомствами, в том числе – контактами с потенциальными новыми источниками финансирования.
Никакого иного политического толка от нее ждать не стоило. Гитлер выступил кратко
и сдержанно, быстро исчез со сцены и вскоре покинул слет. Он был прав – Харцбургский
Фронт оказался абсолютно мертворожденной организацией. Покрасовавшись вместе, сделав
ряд громких совместных заявлений, его участники уже через несколько дней начали увлеченно
интриговать друг против друга, и в итоге – открыто вцепились друг другу в глотки – как и
положено конкурирующим лидерам субкультурной тусовки.
Важным среди всего этого было только одно – Хугенберг, лидер Германской Национальной партии, так же, как и Гитлер, отказался поддержать инициативу Брюнинга о продлении
президентских полномочий Гинденбурга. Для канцлера это было прискорбно, потому что он
только что все-таки сумел уговорить дряхлеющего фельдмаршала дать свое согласие (решающим аргументом послужило то, что продление избавит его от трудоемкой избирательной кампании). Но теперь злополучный Тришкин кафтан расползся в другом месте – и расползся капитально, потому что без согласия как НСДАП, так и националистов Хугенберга о 2/3 голосов
Рейхстага можно было забыть. По сути, жесткий отказ Хугенберга означал, что без Гитлера
теперь не обойтись никак, его согласие приобрело критическую важность. И в начале 1932 года
Брюнинг начал новое решительное наступление, чтобы все же склонить его на свою сторону.
7 и 10 января 1932 года Гитлер снова встретился в Берлине с Брюнингом и Шляйхером.
Переговоры были долгими и напряженными. Есть неподтвержденные сведения, что Брюнинг
был готов зайти очень далеко – говорят, что он обещал Гитлеру, что в случае успеха голосования по продлению полномочий (и после завершения переговоров по отмене репараций и
ограничений по вооружениям, которые были запланированы позже в этом же году), он уйдет в
отставку с поста канцлера – и лично рекомендует Гинденбургу Гитлера в качестве своего преемника. У нас нет доказательств, что это предложение было озвучено – но оно выглядит вполне
логичным. Во всяком случае, Гитлер не ответил ни да, ни нет, а взял время на размышление и
вернулся в отель «Кайзерхоф». Там и состоялось решающее совещание высшего нацистского
руководства.
Вопрос был непростым. Согласиться на предложение Брюнинга (если оно действительно
было озвучено именно в таком виде) было довольно соблазнительно – в конце концов, повторюсь, Гитлер не мог не понимать, что Гинденбург был чрезвычайно сложным соперником
на президентских выборах. Однако здесь был важный момент. Брюнинг предлагал уступить
власть не сейчас, а в будущем – причем, на самом деле, будущем довольно неопределенном,
обставленном целым рядом условий. При самом оптимальном стечении обстоятельств, простое выполнение этих условий заняло бы не меньше полугода. Причем за эти полгода могло
случиться все, что угодно. Ну, допустим, полномочия президента будут продлены. Но что произойдет, если переговоры по репарациям сорвутся или затянутся? Если конференция по вооружениям не решит вопрос, а отложит его в долгий ящик? А что будет в это время с экономикой?
А если сам Брюнинг за это время заболеет и умрет? А если Гинденбург? А если… Слишком
многое могло пойти не так. Да и насколько можно было доверять слову Брюнинга, даже если
50
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
все пойдет благополучно? Очевидно было, что канцлер получает то, что ему нужно от этого
соглашения, прямо сейчас, сразу же – а в ответ дает лишь обещания. Мнения присутствующих
разделились. Грегор Штрассер был за план Брюнинга, Геббельс и Рём – категорически против.
Подумав, Гитлер сделал неожиданный «ход конем». Он ответил не Брюнингу, а через
его голову – напрямую президенту (через секретаря президентской канцелярии Отто фон
Майсснера, которого для этой цели тайно позвали в «Кайзерхоф»). Сообщив Гинденбургу о
подробностях переговоров, Гитлер заявил, что считает предложение Брюнинга антиконституционным, но что он, Гитлер, готов поддержать кандидатуру Гинденбурга на выборах, если он
отвергнет план Брюнинга, отправит его в отставку, назначит новое «национально-мыслящее»
правительство, и объявит новые выборы в Рейхстаг и прусский парламент.
На эти условия Гинденбург не согласился – по всей видимости, сказалось его неприязненно-высокомерное отношение к Гитлеру. Тем не менее, план Брюнинга был похоронен, Гинденбург твердо и окончательно заявил о своем решении идти на выборы. А сам канцлер оказался в шатком и изолированном положении. Он утратил доверие президента – Гинденбург
считал, что Брюнинг поставил его в неловкое и двусмысленное положение. Из-за его махинаций фельдмаршал испортил отношения с консервативными националистами, которых он всегда считал своими естественными союзниками, и теперь вынужден был искать опоры у социалдемократов и профсоюзов, к которым всегда относился с презрением, и это было Гинденбургу
откровенно неприятно. Что не менее важно, Брюнинг утратил расположение генерала фон
Шляйхера, который и выдвинул его когда-то на эту должность. Шляйхер был откровенно разочарован – правительство Брюнинга было непопулярно, вместо того, чтобы обеспечить гладкое
продолжение курса на президентское правление и ослабление Рейхстага, он устроил какойто балаган вокруг выборов, приплел туда реставрацию монархии, при этом ухитрился рассориться с правыми партиями и не смог сформулировать никакой внятной политики в отношение нацистов – ни обуздать их, ни привлечь на свою сторону. «Серому кардиналу» республики
было очевидно, что после президентских выборов Брюнинг должен будет уйти.
Что касается Гитлера, то он очутился в странной и двойственной ситуации. Надо думать,
что и Шляйхер, и Брюнинг думали об этом не без некоторого удовлетворения. Заносчивый и
неудобный выскочка, своим неожиданным появлением (словно чертик из табакерки) спутавший каждому из них все его стройные планы, получил, как казалось, по заслугам, с размаху
сев в ту самую лужу, которую сам же и помог вырыть. В этом была некая поэтическая справедливость. Теперь Гитлер оказался перед сложным выбором – ему предстояло либо выйти на
выборы в заведомо почти безнадежной ситуации, практически не имея шансов на успех, либо
официально отказаться от участия в них, признав поражение. Любой из двух вариантов означал бы конец почти мистической череды успехов, крах раздражающего мифа о непобедимости
Гитлера. Результатом любого из двух путей должен был стать пристыженный и присмиревший
Гитлер, вынужденный занять подобающее ему место в тени и в услужении настоящих мастеров
и корифеев германской политики.
Что происходило в голове у самого Гитлера в это время, мы можем только догадываться.
Он тянул с окончательным решением до последнего, и надо думать, как раз в эти дни он переживал некий внутренний кризис. С момента последних парламентских выборов он жил в рамках определенного политического видения, определенной концепции, парадигмы, если угодно.
Ему казалось, что перед ним открыт прямой и короткий путь к власти – либо его выберут
президентом, либо (в крайнем случае) он выторгует себе пост канцлера. То и другое достигалось чисто демократическим путем, просто за счет массовой народной поддержки. Необходимо было лишь нейтрализовать заговоры берлинских кабинетных интриганов, изящно обойти
их, и дать демократии сделать свою работу. Теперь перед ним была вполне реальная – даже
весьма вероятная – возможность, что выборы принесут ему поражение. Это необходимо было
51
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
принять и осмыслить, а самое главное – понять, что делать и куда двигаться дальше в случае
такого поражения.
Историки часто говорят, что в этот период Гитлер страдал от нерешительности – долго
колебался, несмотря на настойчивые уговоры нетерпеливого Геббельса, и окончательное решение об участии в президентских выборах принял лишь в феврале 1932 года (он объявил о
нем 22 февраля, спустя неделю после Гинденбурга). Думается, что вывод о нерешительности Гитлера поспешен и поверхностен. На деле именно в этот период у него внутри происходила серьезная перенастройка – возможно, окончательная в его политической карьере. Да, его
поймали в ловушку – но эта ловушка была бы смертельной лишь для обычного «открытого»
политика-демагога. Ошибка его политических противников была именно в том, что они его
таковым считали. Теперь ему предстояло разобраться в себе, в полной мере осознать двойственность своей природы как политика, и подготовить тот самый «план Б», к которому он
мог безболезненно и гладко перейти в случае поражения на выборах – тот план, в рамках которого потенциально негативные последствия поражения (которые должны были его сломать, по
мысли Шляйхера и Брюнинга) оказались бы для него приемлемыми. План, который неизбежно
должен был быть «закрытым», недемократическим по своей природе. Парадоксальным образом официальное объявление об участии в выборах было моментом принятия возможности и
даже вероятности отказа от демократических методов борьбы. Это было заявление: «Делайте,
что хотите, но победа все равно будет за мной, любой ценой и любым способом». Это как раз
требовало незаурядных силы и решительности.
Президентские выборы 1932 года были во многом парадоксальны сами по себе. Они
вывернули наизнанку все привычные расклады и союзы. Гинденбург – который в 1925 году
вообще-то был кандидатом от правых консерваторов, и по жизни воплощал в себе классический образ старой прусской военной аристократии – на этих выборах опирался в основном на социал-демократов, католиков и либералов. За Гитлера, социалиста по названию,
хотя и довольно своеобразного, помимо его собственных сторонников, голосовали, например,
юнкеры-аграрии и часть монархистов, включая кронпринца. Германская Национальная партия
выдвинула кандидатом Теодора Дюстерберга, второго человека в «Стальном шлеме» (почетным командующим которого числился Гинденбург). Коммунисты (не упустившие шанса обвинить социал-демократов в предательстве интересов рабочего класса) выдвинули Эрнста Тельмана. Ни Дюстерберг, ни Тельман, конечно же, не имели реальных шансов на победу, но они
могли смешать карты основным кандидатам, оттянув на себя часть голосов.
У Гитлера было формальное препятствие для участия в президентских выборах – он все
еще не был гражданином Германии. Однако он решил эту проблему легко и даже изящно – 25
февраля министр внутренних дел земли Брауншвейг (член НСДАП) назначил Гитлера атташе
при представительстве Брауншвейга в Берлине. По закону это автоматически сделало Гитлера
гражданином земли Брауншвейг, а как следствие – и гражданином Германии. После этого
новоиспеченный кандидат с головой окунулся в предвыборную кампанию. Он мог сколько
угодно внутренне принять вероятность поражения, но он не собирался сражаться вполсилы, и
на эту кампанию были брошены все ресурсы партии. Во всех германских городах стены были
заклеены плакатами, типографии выдали в общей сложности восемь миллионов пропагандистских памфлетов и двенадцать миллионов дополнительных номеров партийной газеты – специально для раздачи на мероприятиях и просто на улице. График самого Гитлера и других
партийных ораторов – Штрассера, Геббельса – был напряженнейшим, они колесили по стране
безостановочно, выступая на десятках митингов. Живые люди успевали не везде – на пике
кампании нацисты проводили до трех тысяч митингов в день (практика показала, что охват
населения получается большим, если вместо одного большого митинга провести одновременно
десяток локальных в разных районах города). Именно в рамках этой кампании впервые в исто52
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
рии широчайшим образом использовались демонстрация кинофильмов и прокрутка граммофонных записей через громкоговорители, установленные на грузовиках.
Всему этому бешеному напору Брюнинг, основной «мозг» избирательной кампании Гинденбурга, противопоставил старый, испытанный, но по-прежнему действенный метод – «административный ресурс». Весь радиоэфир был подконтролен государству, и он целиком и полностью был поставлен на службу одному кандидату. Учитывая, что этот кандидат изначально
имел огромную «фору», этого было вполне достаточно. Лично Гинденбург выступил с речью
по радио только один раз – 10 марта, в самом конце кампании. Говорил он взвешенно и спокойно, упирал на то на то, что он кандидат вне- и надпартийный, и выступает прежде всего за
мир и стабильность в германском обществе, ради спасения Отечества от грозящих ему опасностей раздора и смуты. Как и следовало ожидать, это подействовало. Гинденбург получил
49,6 % голосов (не дотянув 0,4 % до победы в первом туре), Гитлер – 30,1 %, Тельман – 13,2 %
и Дюстерберг – 6,8 %.
Второй тур был неизбежен, причём по германскому закону в нем принимали участие все
четыре кандидата, но теперь победа достигалась простым большинством голосов. Германская
Национальная партия сняла кандидатуру Дюстерберга и объявила о поддержке Гитлера, который развернул еще более бурную кампанию, чем прежде. Теперь он зафрахтовал самолет и
на нем многократно пересекал Германию из конца в конец, выступая иногда на трех-четырех
митингах в разных городах в один день.
В день повторного голосования явка избирателей была заметно ниже (из-за отвратительной погоды). Тем не менее, результаты, достигнутые Гитлером в деле привлечения голосов, не
могут не поражать – если сравнивать с прошлыми парламентскими выборами, за него проголосовало вдвое больше людей. Но этого было недостаточно. Во втором туре Гинденбург набрал
53 % голосов, Гитлер – 36,8 %, Тельман – 10,2 %. Гитлер боролся упорно и отчаянно, он выложился полностью, он выжал все, что могло быть выжато из его ресурсов – и он проиграл. Это
был действительно единственный его шанс придти к власти демократическим путем – и он
потерпел поражение. Попытка демократической революции в Германии провалилась. Теперь
действовать предстояло другими методами.
Гитлер воспринял поражение на удивление спокойно и по-деловому – что лишний раз
доказывает, что он его ждал и внутренне его уже осмыслил. Как катастрофу произошедшее
восприняли лишь Геббельс и Рём, которые явно не были посвящены в подробности его планов.
Между тем, Брюнинг торжествовал победу (он явно еще не догадывался, что его собственные дни в должности канцлера были уже сочтены). Конечно, это было не совсем то,
что он хотел, но новый президентский срок Гинденбурга, по крайней мере, как казалось Брюнингу, позволял ему чувствовать себя уверенно на какое-то время. Теперь предстояло вплотную заняться зарвавшимся Гитлером. Никогда больше не должна была повториться ситуация,
в которой безродный неизвестный выскочка, джокер в политической колоде Республики, сможет вмешаться в игры «больших мальчиков» и спутать их карты. Гитлеру позволили вырасти
совершенно неприлично и неподобающе, и теперь это упущение необходимо было исправить.
И в первую очередь, его нужно было разоружить.
Еще 5 апреля представители нескольких германских земель, в том числе Пруссии и Баварии, обратились к центральному правительству с требованием запретить нацистские силовые
формирования – СА и СС. Поводом послужило то, что в руки правительств земель попали
некие документы, свидетельствовавшие о подготовке нацистами вооруженного путча: в случае победы Гитлера на выборах, штурмовые отряды должны были взять контроль над правопорядком в свои руки и учинить расправу над всеми политическими противниками нацистов.
Насколько эти документы были подлинными, мы не знаем. На самом деле, не исключено, что
командование СА могло строить некие планы и без ведома партийного руководства и лично
Гитлера – проблемы с контролем у данной организации возникали хронически. В любом слу53
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
чае, 10 апреля – в самый разгар голосования – состоялось заседание кабинета, на котором
было принято решение о немедленном запрете нацистских вооруженных формирований. Инициаторами и главными движущими фигурами были сам Брюнинг и военный министр Грёнер.
Неожиданные сложности возникли, когда решение принесли на утверждение Гинденбургу –
совершенно неожиданно Шляйхер, в поддержке которого все были уверены, стал советовать
президенту повременить. Брюнинг сумел настоять на своем, но тогда Шляйхер через третье
лицо (некую анонимную даму) сообщил Гитлеру, что он выступает против запрета, и даже
собирается из-за этого подать в отставку.
В какую игру играл Шляйхер? Очевидно, он решил для себя, что и Брюнинг, и Грёнер –
отработанный материал. Союз с ними перестал отвечать его интересам. У них было слишком
много своих идей и они вели себя гораздо самостоятельнее, чем ему было нужно. А нацисты… Нацисты были интересным новым фактором германской политики, и они еще могли
быть полезны. Я не случайно говорю «нацисты», а не «Гитлер», потому что немалая часть контактов Шляйхера с НСДАП была с другими членами нацистского руководства – Штрассером,
Рёмом… В Гитлере он мог видеть потенциально сильного и амбициозного соперника, но другие люди могли быть более открыты к манипуляции.
Еще прежде, чем запрет СА был окончательно утвержден, Шляйхер, действуя через находящегося под его влиянием главнокомандующего Рейхсвера, генерала фон Хаммерштейна, в
конфиденциальном порядке уведомил командующих семи военных округов о том, что армия
выступает против запрета. Вслед за этим военный министр Грёнер получил написанное в едких
выражениях письмо от Гинденбурга (также инспирированное Шляйхером). В этом письме президент просил разъяснить ему, почему одновременно с СА не был запрещен Рейхсбаннер – военизированная организация социал-демократов. Одновременно с этим по Берлину таинственным образом стали распространяться слухи, очерняющие генерала Грёнера. Утверждалось, что
он тяжело болен и не может исполнять свои обязанности, что он скрытый марксист и пацифист, и что его ребенок родился подозрительно скоро после свадьбы – непростительный позор
в глазах консервативного прусского офицерства. В те же самые дни Шляйхер возобновил свои
контакты с командованием СА – он встретился сначала с Рёмом, затем с графом фон Хелльдорфом, фюрером берлинского СА. 28 апреля состоялась новая встреча Шляйхера с Гитлером.
В чем была суть интриги? Очевидно, что Шляйхер искал поддержки Гитлера в противостоянии с Брюнингом. В качестве платы за такую поддержку он мог обещать помощь в деле
отмены запрета СА. С другой стороны, сами по себе СА могли послужить рычагом давления
на Гитлера – если Шляйхеру удастся установить свой контроль над ними (или, по меньшей
мере, влияние). У Рёма и его сподвижников были свои разногласия с фюрером – и главное из
них было по вопросу включения штурмовых отрядов в регулярную армию. И здесь Шляйхер
тоже очень даже мог поспособствовать.
Тут надо понимать, что означала бы инкорпорация СА в структуры Рейхсвера в тот
момент. Численность германской армии в соответствии с Версальским договором была ограничена 100 тысячами человек. Численность отрядов СА в 1932 году составляла примерно 400
тысяч человек. По сути, не СА вошли бы в состав армии, а армия – в состав СА. Интерес Рёма
(который на своей военной службе не поднялся выше капитана) был понятен. Но точно так же
понятно, и почему отношение Гитлера к этой идее изначально было чрезвычайно осторожным.
Ему и так хватало проблем с контролем над штурмовиками. Что будет, когда они формально,
юридически станут независимы от партии? Не окажутся ли они инструментом не в его руках,
а в руках амбициозных «политических» генералов, вроде того же Шляйхера? Поэтому все три
стороны интриги напряженно маневрировали. У каждой были свои цели, и каждая надеялась
использовать обе другие стороны для их достижения, причем более-менее «втемную».
Судя по дневникам Геббельса, в начале мая 1932 года состоялась обстоятельная беседа
Гитлера со Шляйхером, при которой присутствовали еще какие-то неназванные лица, «близ54
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
кие к президенту». В ее ходе Шляйхер поставил Гитлера в известность, что участь Грёнера
и Брюнинга была решена, оба они будут через несколько дней отправлены в отставку в связи
с утратой доверия. Одновременно будет распущен Рейхстаг и указом президента назначено
новое правительство, заодно будет отменен запрет СА. Шляйхер просил Гитлера временно
покинуть Берлин, чтобы Брюнинг ничего не заподозрил, и вечером 8 мая Гитлер и Геббельс
уехали в Мекленбург.
В глазах обоих заговорщиков вся эта история с «президентским кабинетом» носила
характер сугубо временной, переходной меры, хотя касательно того, к чему именно будет осуществляться переход, мнения их расходились. Шляйхер видел в этом начало перехода к тому
самому «президентскому правлению», мечту о котором он давно вынашивал. Новому правительству, возможно, предстояло подготовить соответствующие поправки к конституции. В
свою очередь, нацистский лидер, если верить дневникам Геббельса, видел во всем этом исключительно подготовку к собственному приходу к власти. «Они просто расчистят дорогу нам»,
написал Геббельс.
Зачем Шляйхеру был нужен Гитлер? В тот момент, помимо чисто технической помощи
по устранению Грёнера и Брюнинга, лишь за одним: чтобы убедить Гинденбурга пойти на
решительные меры, Шляйхеру необходимо было наглядно продемонстрировать престарелому
президенту, что он, Шляйхер, легко и просто мог принести ему на блюдце то, чего Брюнинг
оказался неспособен достичь. А именно, заручиться поддержкой нового правительства со стороны Гитлера – то есть, по сути, добиться той самой «прочной коалиции», которую не смог
обеспечить предыдущий канцлер. Немаловажно при этом было, чтобы Гитлер не претендовал
на непосредственное участие в правительстве сам и не раздражал бы таким образом Гинденбурга – Шляйхер знал, что фельдмаршал оценит такую заботу о его покое.
Час «икс» наступил 10 мая. В Рейхстаге Геринг (глава фракции НСДАП) потребовал
объяснений от генерала Грёнера по поводу запрета СА. Грёнер поднялся для выступления, но
был освистан и засыпан оскорблениями со стороны депутатов-нацистов, которые попросту не
давали ему говорить. Разъяренный и униженный Грёнер попытался демонстративно покинуть
зал, но в дверях его ждал ни кто иной, как Шляйхер, его бывший друг и протеже, который
холодно проинформировал его, что он «утратил доверие армии и должен уйти». Грёнер метнулся к Гинденбургу, но президент ответил лишь, что очень сожалеет, но ничем не может ему
помочь. Спустя три дня раздавленный и морально уничтоженный Грёнер подал в отставку.
Дни Брюнинга были сочтены. Его правительство буквально трещало по швам, и он не
мог найти людей, которые согласились бы работать с ним в качестве министров. Должность
военного министра он попытался предложить Шляйхеру. Тот отказался, со словами: «Я буду
им, но не в Вашем правительстве». Сам Шляйхер все это время был занят непростым и ответственным делом – он составлял списки будущего кабинета. 19 мая он отправил этот список на
одобрение Гитлеру. Тот просмотрел его бегло. «Это всего лишь переходное правительство»,
записал в дневнике Геббельс, «большого значения оно не имеет». Для Гитлера гораздо важнее
был сам факт, что с ним советовались. Необязательно было выигрывать президентские выборы,
чтобы оказаться в роли решающего фактора германской политики – республика так или иначе
уже дошла до такого положения, при котором политика в основном делалась не на выборах.
Наконец, 29 мая (в воскресенье) Гинденбург вызвал к себе Брюнинга, и без обиняков
потребовал его отставки. На следующий день прошение об отставке было подано.
Шляйхер добился того, чего хотел – Германия окончательно превратилась в авторитарную суперпрезидентскую республику с преимущественно декоративным парламентом. Реальный центр власти теперь находился в окружении президента – причем сам президент, формально почти всесильный, в силу возраста и состояния с каждым днем все меньше мог
считаться самостоятельной фигурой. Реально судьбы Германии решались в кулуарных интригах внутри узкого кружка амбициозных теневых политиков. Со всех практических точек зре55
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ния Веймарская республика перестала быть демократией – и необходимо заметить, что сделал
это отнюдь не Гитлер, более того – Гитлер до поры даже пытался этому помешать (разумеется,
в своих собственных целях, а не из каких-то высоких альтруистических соображений). Гитлер
до такой степени ассоциировался с популизмом, выборами и прочей сугубо демократической
политикой, что тот же Шляйхер, судя по всему, был вполне уверен, что его расправа над германской демократией неизбежно подкосит и источники силы Гитлера. «Серый кардинал» Республики, кажется, был вполне уверен, что в игре по правилам кабинетной интриги Гитлер с
ним тягаться не сможет, а потому отводил ему роль полезного инструмента – который можно
было использовать в своих целях, а потом, когда он исчерпает свою полезность, просто выкинуть. Судя по всему, интриги с Рёмом и Штрассером придавали Шляйхеру уверенности, что
он сможет легко обуздать Гитлера в любой момент, попросту расколов его партию и лишив его
силовых рычагов давления.
Гитлер, однако, отлично понимал новые правила игры, и вполне был готов потягаться с
любыми конкурентами. Но не прямо сейчас. Ситуация его полностью устраивала. Дневники
Геббельса в эти дни излучают спокойствие и оптимизм. Нацистское руководство пребывало в
полной уверенности, что время работает на него.
30 мая – то есть аккурат в тот же самый день, когда Гинденбург принял отставку Брюнинга – Гитлер (специально для этого вернувшийся в Берлин из Ольденбурга, где нацисты
провели очень успешную местную избирательную кампанию) встретился с президентом. На
встрече были подтверждены все договоренности, достигнутые в начале мая со Шляйхером –
немедленное снятие запрета на деятельность СА в обмен на поддержку Гитлером следующего
правительства. Фюрер с готовностью и без малейших колебаний подтвердил эту поддержку. В
данный момент ему не было никакой нужды затевать новый конфликт. Во всей ситуации его
критически интересовали два момента – то самое снятие запрета, а также роспуск Рейхстага и
последующие новые выборы. Гитлеру было чрезвычайно важно сохранить, а лучше – укрепить,
позиции НСДАП в парламенте. Делалось это не для того, чтобы реально влиять на принятие
решений – в новом политическом раскладе роль парламента, строго говоря, была довольно
скромной. Нет, Рейхстаг сохранил свою значимость для Гитлера только в одном качестве. Как
и СА, он был не более чем инструментом для дестабилизации политической ситуации и нагнетания напряженности. Шляйхер и подобные ему чисто кабинетные интриганы не вполне понимали одну простую вещь – «закрытая» политика может делаться отнюдь не только в кулуарах.
Внешние факторы могут вмешиваться в нее властно и вполне действенно.
Новым канцлером Германии (с подачи Шляйхера, конечно же) был назначен Франц фон
Папен. Это был настолько неожиданный выбор, что иностранные послы, когда им сообщили
о назначении, встретили новость дружным смехом. Папен был представителем той особенной
породы людей, которые по жизни не воспринимаются всерьез никем – ни друзьями, ни врагами. Отпрыск обедневшей дворянской фамилии, бывший офицер Генерального штаба, бывший военный атташе в Вашингтоне (выдворенный из США еще до вступления их в войну за
практически открытое участие в подрывной деятельности), человек, получивший состояние
через удачный брак, без особого успеха пытавшийся сделать политическую карьеру в партии
Католического центра (партия Брюнинга), известный как мелочный и поверхностный персонаж, главным достижением которого были успехи в верховой езде – Папен был инстинктивным
интриганом, как и Шляйхер, но гораздо меньшего масштаба и лишенным любых заметных
талантов. Важным с точки зрения Шляйхера было то, что Папен был абсолютно несамостоятельной фигурой – у него не было никакой политической поддержки. Он не был даже депутатом
Рейхстага – выше прусского ландтага он в своей карьере не поднялся. Более того, после назначения его канцлером его собственная партия, Католический центр, исключила его из своих
рядов за предательство. Одним словом, с точки зрения Шляйхера, он был просто идеальным
канцлером.
56
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Никаких сложностей с формированием нового правительства у Папена не возникло –
ведь при назначении он просто получил на руки готовый список фамилий будущих министров. Этот кабинет острословы прозвали «правительством баронов» – среди его членов было
пять представителей титулованной знати и двое директоров крупных корпораций. Министром
юстиции стал Франц Гюртнер бывший министр юстиции Баварии во время. «пивного путча»,
друг и симпатизант Гитлера, который и обеспечил ему столь лояльное отношение на суде в 1924
году. Военным министром, после долгих уговоров со стороны Гинденбурга, стал сам Шляйхер.
4 мая Папен распустил Рейхстаг и назначил новые выборы на 31 июля. 15 мая он отменил
запрет СА. Эффект был немедленным и очень зримым. Штурмовики развили бешеную активность, заполонив улицы немецких городов, как никогда ранее. Сразу же начались массовые
беспорядки и столкновения – в особенности, с коммунистами. За июнь по всей Германии был
отмечен 461 случай уличных столкновений, в которых погибло 82 человека и было ранено еще
примерно 400. И масштабы в дальнейшем только росли. Лишь за один день, воскресенье 10
июля, было убито 18 человек. Через неделю, марш нацистов через рабочий пригород Гамбурга
(традиционную вотчину коммунистов), хотя и проходил с полицейским эскортом, закончился
перестрелкой и побоищем, в которых 19 человек погибло и 285 было ранено.
Фактически, в Германии началась вялотекущая гражданская война, не слишком уступающая по интенсивности событиям 1919-1920 годов. При этом правительство было не склонно
рассматривать нацистов как возмутителей спокойствия – с точки зрения Папена (на самом
деле, конечно, Шляйхера) они были чем-то вроде фрайкоров раннего периода Республики,
и делали в целом полезную вещь – помогали воплотить в жизнь политические изменения
именно такого рода, какие сам Шляйхер считал необходимыми. В кровопролитии в Гамбурге
обвинили… земельное правительство Пруссии, которое «продемонстрировало неспособность
поддерживать правопорядок» и вообще слишком благоволило коммунистам. 20 июля Папен
отправил прусское правительство в отставку и назначил самого себя единоличным Рейхскомиссаром Пруссии. Когда прусские министры (среди которых было много социалистов)
заявили протест, в Берлине было введено военное положение, и несогласные министры были
арестованы по приказу местного командующего Рейхсвера, генерала фон Рундшедта. Революция в Германии шла полным ходом, хотя Гитлер в этих событиях продолжал оставаться на
втором плане – не совсем в массовке, конечно, но точно не в числе главных персонажей. Как
обычно и бывает на начальном этапе революции, главные революционеры сидели в правительстве, и именно они проделали как минимум 2/3 всей работы – работы, без которой шансы
Гитлера придти к власти и трансформировать Веймарскую республику в Третий Рейх были бы
минимальны.
Гитлер, разумеется, понимал, что если он хотел добиться своих собственных целей, скоро
ему необходимо будет покончить с ролью второго плана и вырваться на авансцену. В том, что
текущее положение вещей – сугубо временная мера, среди руководства НСДАП не сомневался никто. Геббельс еще 5 июня написал в своем дневнике: «при первом же удобном случае
нам необходимо дистанцироваться от этого переходного буржуазного кабинета». Но для этого
необходимо было сначала решить важную непосредственную задачу – парламентские выборы.
В принципе, с такими вводными данными победа нацистов была делом техники – и тот факт,
что главные их соперники в борьбе за власть не рассматривали больше Рейхстаг как серьезный
потенциальный источник проблем, сильно облегчал им задачу. У них просто не было конкурентов.
На выборах 31 июля 1932 года НСДАП получила почти 14 миллионов голосов, и как
следствие – могла претендовать на 230 кресел в Рейхстаге. Это делало нацистов крупнейшей
фракцией в парламенте с большим отрывом – но все же ни на шаг не приближало их к той
самой легендарной «победе демократическим путем», поскольку 230 депутатских мандатов
были по-прежнему далеки от абсолютного большинства (в Рейхстаге на тот момент было 608
57
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
депутатов). Возможностей для формирования стабильной коалиции у нацистов было крайне
мало – второй по численности фракцией были социал-демократы (133 места), третьей – коммунисты (89 мест). Правые партии, возможные ситуационные союзники Гитлера, находились в
сильном меньшинстве – понятно было, что все, кто хотел, от них уже перебежали к нацистам.
Теоретически, можно было сформировать коалицию с Католическим центром, и такая коалиция как раз дотянула бы до большинства, но возможность такого союза и его устойчивость
в тот момент вызывали большие сомнения – а у некоторых членов нацистского руководства
(например, у того же Геббельса) – яростные возражения, по идеологическим причинам.
Тем не менее, Гитлер выбрал именно этот момент, чтобы явиться к Шляйхеру и в ультимативном порядке объявить ему свои условия. Он требовал себе должность канцлера, а
своей партии – должность премьер-министра Пруссии, прусское и центральное министерства
внутренних дел, центральные министерства юстиции, экономики и авиации, а также создания
нового министерства – просвещения и пропаганды, специально для Геббельса. Шляйхеру он
готов был оставить его военное министерство. Кроме того, Гитлер желал получить утвержденный Рейхстагом акт о чрезвычайных полномочиях, который позволил бы ему как канцлеру
управлять страной единолично, декретами имеющими силу закона, в течение оговоренного
срока.
Насколько реалистичны были эти требования? Гитлер не мог не понимать, что прошедшие выборы не дают ему ровным счетом никаких оснований для предъявления подобных претензий. С другой стороны, нетрудно заметить, что перечисленное в целом соответствовало
тому, что в дальнейшем действительно будет реализовано после прихода Гитлера к власти, так
что озвучил он, в общем-то, реальные свои планы. Думается, что августовский ультиматум следует расценивать скорее как объявление войны. Гитлер четко «расставил точки над i», доходчиво объяснил, чего именно он намерен добиваться, и при этом обозначил принципиальную
готовность к компромиссу лично со Шляйхером. Вероятность выполнения требований прямо
сейчас, конечно, была невелика, но с этого момента борьба становилась открытой, и Гитлер
был намерен использовать все свои ресурсы для достижения поставленных задач.
Практически одновременно с предъявлением ультиматума, в дело вступили СА. Берлинские подразделения были приведены в боевую готовность в первые дни августа. Многие штурмовики совмещали свою службу с какой-то основной работой (потому что за службу в СА
рядовые бойцы, вообще-то, денег не получали). После выборов все эти люди начали массово
брать на работе отпуска и переходить, по сути, на казарменное положение. Заметно усилилось
присутствие штурмовиков на улицах, появились их посты и кордоны на въезде в город. СА
недвусмысленно брали Берлин в кольцо, и это кольцо становилось плотнее с каждым днем. В
воздухе повисла напряженность. Деловые круги ощутимо нервничали (о чем Гитлеру в те дни
по отдельности сообщали и Функ, и Шахт). Нескрываемо нервничала и власть. Генерал Шляйхер был, конечно, умный и по-своему талантливый человек, но храбрость и твердость характера
никогда не числились среди его достоинств. На угрозы и давление он реагировал, как и положено профессиональному интригану – начинал юлить и изворачиваться. Он не отверг требования Гитлера жестко и сходу – вместо этого он стал затягивать вопрос и выдвигать встречные
условия. Предположим, Гитлер будет назначен канцлером. В таком случае, он должен гарантировать, что не будет заводить речь ни о каких «чрезвычайных полномочиях» – все должно быть
строго в рамках конституции. Любые нарушения прерогатив парламента совершенно недопустимы, не так ли?
Наконец, 13 августа состоялась встреча Гитлера с Шляйхером и Папеном. Говорил Папен,
Шляйхер лишь присутствовал в качестве молчаливой многозначительной тени. О должности
канцлера не могло быть и речи, сказал действующий канцлер. Но он мог предложить Гитлеру
вице-канцлерство, возможно, его устроит такой компромисс? Гитлер вспылил. Его устроит
только канцлерство и ничто другое. Папен пожал плечами и сказал, что сам помочь ничем
58
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
не может, и оставит окончательное решение Гинденбургу. Строго говоря, это была чистая
правда – такие вопросы действительно находились в компетенции президента. Вообще-то,
встреча с Папеном строго формально была бессмысленна – и Гитлер, очевидно, хотел говорить
не с ним, а со Шляйхером как с лицом, реально способным повлиять на принятие решений
президентом. Шляйхер, однако, предпочел отгородиться от проблемы, выдвинув вместо себя
на первый план бессмысленную марионетку – этим и был вызван взрыв раздражения Гитлера.
Гинденбург в этой ситуации должен был выступить своеобразным голосом разума. Это
было самое действенное оружие в арсенале Шляйхера – предполагалось, что уж президент-то
сможет своим авторитетом «продавить» нужное решение, навязать Гитлеру компромисс и
заставить его снова послушно «встать в строй», занять отведенное место в политическом концерте, дирижируемом Шляйхером.
Президент, который как раз находился в на удивление ясном рассудке, пригласил Гитлера к себе. Разговор получился неожиданно спокойным и взвешенным – на этот раз Гинденбург держался подчеркнуто уважительно, внимательно выслушал требования Гитлера, а потом
объяснил свою позицию. В принципе, чисто теоретически, он ничего не имеет против Гитлера
в должности канцлера, но как гарант стабильности Республики он не может передать власть
в руки политической силы, которая раз за разом демонстрирует неспособность и нежелание
договариваться с другими. Вот если Гитлер сумеет создать прочную коалицию с другими правыми партиями и центристами, Гинденбург с готовностью рассмотрит его предложения… Гитлер наотрез отказался от любых переговоров и альянсов. Тогда Гинденбург напомнил ему о
его обещании, данном перед выборами, поддерживать правительство Папена. В его глазах, то,
что делал Гитлер сейчас, было нарушением этого слова. Фельдмаршал в тоне строгого отца
пристыдил Гитлера и призвал его вести себя достойно, как подобает германскому политику,
пусть и оппозиционному, и превыше всего – заботиться о стабильности Республики. Одним
словом – успокоиться и не раскачивать лодку.
Отповедь Гинденбурга, честно говоря, прозвучала бы гораздо эффектнее, если бы ее произнес какой-то другой человек – не тот, чье непосредственное окружение (с его согласия и
одобрения), собственно, и сделало больше всех, чтобы раскачать лодку германского государства, а заодно провертеть в ее днище несколько солидного размера дыр. На тот момент – уж
точно больше, чем Гитлер.
Что ж, все акценты действительно были расставлены. Теперь руки Гитлера были развязаны, война была объявлена, можно было переходить к активным действиям. И в первую очередь, необходимо было избавиться от Папена. Вот сейчас самое время было наглядно продемонстрировать, для чего Гитлеру была нужна такая большая фракция в Рейхстаге. Речь
о прочной коалиции для создания правительства не шла, но тактический компромисс для
проведения конкретных решений был вполне возможен, причем размер нацистской фракции
означал, что любая другая фракция с большой степенью вероятности схватится за предложение о сотрудничестве. Идеологические разногласия – идеологическими разногласиями, но 230
голосов обладали шармом, перед которым трудно было устоять. Важнейшая разница между
НСДАП и другими парламентскими партиями заключалась в том, что другие шли в Рейхстаг
для того, чтобы принимать законы, а нацисты – именно для того, чтобы контролировать организационную сторону функционирования парламента, и через это – иметь рычаги давления
на правительство. И если за тот или иной важный законопроект фракции действительно могли
рубиться не на жизнь, а на смерть, то на компромисс по организационным вопросам многие
готовы были идти без особых колебаний. Примеров долго ждать не пришлось. Уже 30 августа
при поддержке фракций НСДАП и центристов (переговоры об этом заняли примерно неделю)
Герман Геринг был избран главой палаты – президентом Рейхстага.
Правительство (а точнее, лично генерал Шляйхер) было не на шутку напугано наметившимся альянсом, и решило предпринять радикальные превентивные меры. Первая рабочая
59
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
сессия Рейхстага была назначена на 12 сентября. К этому дню Папен получил у Гинденбурга
подписанный указ о роспуске палаты. Тем не менее, он не собирался пока что пускать его в
ход – это было оружие «про запас», на всякий случай. На первую сессию Папен в свойственной
ему манере искреннего головотяпства даже не взял указ с собой. Он собирался выступить с
докладом о программе правительства на обозримое будущее. Ему было известно, что коммунисты собирались использовать это как повод, чтобы инициировать вотум недоверия кабинету,
однако его заверили, что один из депутатов-националистов обязательно опротестует данное
предложение – а этого было достаточно, чтобы отложить голосование в долгий ящик.
Но когда лидер коммунистической фракции Эрнст Торглер предложил внести вопрос
о вотуме недоверия в повестку дня, ни один член палаты – будь то националист или представитель любой другой фракции – не поднялся, чтобы заявить протест. Вместо этого нацисты попросили перерыв на полчаса. Ситуация была необычна, и Гитлеру необходимы были
несколько минут для размышления. Решение националистов не вмешиваться застало его врасплох – это была их собственная инициатива, мелкая пакость лично Папену лично от тех, кого
он считал своими естественными союзниками. В принципе, падение Папена было как раз тем,
что Гитлеру и требовалось, и защищать его он не собирался, но ассоциация с коммунистами
была откровенно неприятна. Тем не менее, немного поразмыслив, он решил, что дареному
коню в зубы не смотрят. Было принято беспрецедентное решение – нацистская фракция будет
голосовать за предложение коммунистов. Гитлер, однако, был отлично осведомлен о том, что
у Папена был уже заготовлен указ о роспуске. Проблема была в том, как провернуть дело – как
сделать так, чтобы вотум недоверия прошел прежде, чем канцлер успеет распустить Рейхстаг.
Между тем, Папен пребывал в тихой панике. «Измена» националистов и его тоже застала
полностью врасплох. В отчаянии он послал помощника в свой офис – забрать указ о роспуске,
и срочно доставить ему. Помощник успел буквально в обрез, едва ли не в последнюю минуту.
Когда сессия возобновилась, канцлер появился в зале с красной папкой для документов
в руках. Всем была хорошо известна эта папка – по традиции, именно в ней всегда хранились
указы о роспуске парламента. Однако иметь документ при себе было полдела – его еще надо
было огласить. И вот тут началась настоящая комедия-буфф. Папен попросил слова, рассчитывая зачитать драгоценный указ. Однако достопочтенный президент Рейхстага… просто сделал вид, что не заметил его. И не расслышал. Сегодня с утра Геринг был подозрительно туговат
на ухо. Папен вскочил на ноги, он кричал и размахивал бумагой – но Геринг демонстративно
отвернулся.
Очевидцы говорят, что лицо Папена последовательно сменило половину цветов радуги.
Широкими шагами он подошел к месту Геринга на трибуне и положил бумагу на стол прямо
перед ним. Тот даже не повел глазом, и вместо этого поставил на голосование инициативу коммунистов. Папен, повернувшись и скрежеща зубами от ярости, выбежал из зала, причем за ним
последовали остальные присутствовавшие члены правительства. Вотум недоверия был вынесен с разгромным счетом – 513 голосов «за», 32 «против», остальные воздержались. Геринг
объявил результаты голосования, и лишь в этот момент вдруг «обнаружил» лежавшую прямо
перед ним бумагу. С большой торжественностью он зачитал Рейхстагу указ о его роспуске,
потом нахмурил брови… вот ведь незадача, на злополучном документе в качестве второй подписи рядом с подписью президента стояла подпись лица, которому был только что вынесен
вотум недоверия Рейхстагом, вследствие чего это лицо формально уже не являлось канцлером Германии. В результате означенный документ, к сожалению, никак не мог быть принят
к исполнению.
Ситуация была уникальной. Шляйхер, Брюнинг, Папен годами пытались добиться от
Рейхстага если не единства, то хотя бы условного консенсуса. О перевесе в без малого 500
голосов они не смели даже мечтать. В конечном итоге единство – и почти полное единство! –
палаты было достигнуто легко и просто, без долгих переговоров и торговли, за каких-то пол60
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
часа – именно по вопросу недоверия к ним. За вотум недоверия голосовали все – коммунисты, социал-демократы, нацисты, центристы, консерваторы, монархисты. Никто не попытался
заявить протест, когда Геринг откровенно издевался над парламентской процедурой – даже
те, кто в обычных обстоятельствах терпеть не мог нацистов и считался их непримиримыми
врагами. Шутка была слишком хороша, чтобы не посмеяться над ней всем вместе. Да, Франц
фон Папен был нелепым и комичным персонажем, ни у кого не вызывавшим ни малейшей
симпатии, но неглупые люди самых разных политических взглядов, заседавшие в Рейхстаге, не
могли не понимать, что эта фигура олицетворяла нечто большее – она была воплощением всей
политики шляйхеровской «камарильи», воплощением всего политического курса последних
лет. По сути, депутаты всего политического спектра – от крайне левых до крайне правых –
красноречиво выразили свое отношение к политике демонтажа парламентаризма и ползучей
узурпации власти узкой кликой военных и гражданских чиновников. И отношение это заключалось в презрительном свисте, топоте и единодушном голосовании «против». Папену повезло,
что у депутатов с собой не оказалось тухлых яиц – его, несомненно, проводили бы ими.
Триумфа демократии, однако, не получилось. Начать с того, что канцлер по Веймарской конституции назначался президентом, а вовсе не избирался Рейхстагом, поэтому Рейхстаг
не мог отправить его в отставку. Вотум недоверия означал буквально только это – парламент
заявил, что не доверяет канцлеру и не хочет с ним работать. Это была рекомендация президенту задуматься над сменой канцлера, но не более того. Вотум создавал неудобство правительству – большое неудобство – и затруднял ему работу, на напрямую не мог вызвать его падения. Поэтому никакой автоматической отставки правительства за вотумом не последовало.
Триумфа демократии и трудно было ожидать, когда крупнейшая фракция в парламенте к
демократии относилась еще прохладнее, чем те, кого они освистали. Да, положа руку на сердце,
и половина остальных тоже. Кто там был демократ? Коммунисты? Национал-консерваторы?
Теоретически, ими могли считаться социал-демократы и центристы, но и они были «не без
греха» – в разное время и те, и другие были замечены в поддержке, прямой или косвенной,
шляйхеровских проектов, далеких от демократических идеалов. Правда заключается в том,
что всякая демократия в Веймарской республике к тому времени уже умерла – потому что не
осталось ни одной политической силы, способной и желающей отстаивать именно ее, а не свои
узкопартийные интересы. И в конечном итоге, фарс в Рейхстаге лишь способствовал дальнейшей утрате немецким народом остатков уважения к парламентской системе.
Нацистам усиление Рейхстага было совершенно не нужно – они хотели шантажировать
правительство, чтобы в конечном итоге войти в него, а вовсе не ослабить его навсегда как
институт. Поэтому никто всерьез не собирался оспаривать президентский указ о роспуске и
дальше, теперь, когда задача была достигнута. Парламент выполнил свою техническую роль,
больше из этого инструмента сложно было что-то выжать. После того, как волна эйфории от
позорного изгнания Папена схлынула, Рейхстаг быстро согласился со своим роспуском. Новые
выборы были назначены на 6 ноября, и Гитлер был абсолютно спокоен за их результаты. Тем
не менее, результат этот оказался для него не самым приятным.
Кампания шла тяжело. Немецкие избиратели банально устали от вечных выборов, назойливой агитации, пламенных речей и бесконечных обещаний, которые политики не успевали
даже начать выполнять, прежде чем все начиналось заново. В прошлый раз Гитлер получил
огромный кредит доверия. Он был еще не полностью растрачен, но люди начали заметно охладевать и терять интерес. Разочарованы были и многие представители деловых кругов – за
свои деньги они надеялись все-таки увидеть что-то большее, чем процедурные «перетягивания каната» с правительством, с неясными результатами. К тому же нацисты, пытаясь переманить голоса рабочих от социал-демократов, стали «перегибать палку» с левой риторикой, что
совершенно не вдохновляло их поклонников с противоположного фланга.
61
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Нацисты потеряли два миллиона голосов и 34 места в Рейхстаге. Со 196 местами они
все равно остались крупнейшей фракцией, но позиция их все же стала слабее, и тенденция
была налицо. Коммунисты увеличили свое присутствие с 89 до 100 мест, а социал-демократы
сократили свое со 133 до 121. Германская Национальная партия прибавила почти миллион
голосов (с 37 мест до 52) – и очевидно было, что большая их часть перешла от нацистов.
Результаты немного вдохновили Папена. Возможно, теперь Гитлер станет посговорчивее,
его удастся уговорить на какой-то компромисс, и канцлер сможет сохранить свою должность?
13 ноября канцлер направил Гитлеру письмо с предложением встретиться и обсудить ситуацию. «Пробный шар», однако не удался – Гитлер обставил встречу таким количеством условий, что сразу же стало понятно – ни о каком примирении, или хотя бы смягчении позиции,
для него не могло быть и речи. Вместо этого, к глубочайшему изумлению Папена, он получил
удар в спину от своего «друга» Шляйхера – тот предложил президенту отправить-таки кабинет в отставку и самому напрямую достичь согласия с основными политическими партиями,
в первую очередь – с нацистами. 17 ноября 1932 года Франц фон Папен и его правительство
ушли в отставку, а Гинденбург немедленно вызвал к себе Гитлера.
Они встретились 19 числа и проговорили более часа, а затем еще 21-го. Общение было
гораздо более теплым и обстоятельным, чем в прошлый раз. Гинденбург был готов обсуждать министерские портфели для нацистов. Самому Гитлеру он предложил два варианта –
пост канцлера, если он сможет создать прочную парламентскую коалицию и предложить внятную программу, или вице-канцлерство под началом того же Папена, в новом «президентском»
кабинете, который будет править снова в рамках чрезвычайных полномочий.
Это было уже что-то. Гитлер спешно прощупал вопрос о формировании коалиции –
но добиться стабильного, гарантированного большинства у него не вышло. Центристы были
готовы к сотрудничеству – но только при условии, что он не будет добиваться диктаторских
полномочий для себя (а это ведь было как раз одно из изначальных его условий – указ о чрезвычайных полномочиях канцлера, о котором он вел речь на прошлом раунде переговоров,
означал именно это). Но хуже было другое – Хугенберг, лидер Германской Национальной партии, вообще отказался от участия в коалиции. С кем Гитлеру было еще объединяться? Ну не
с коммунистами или социал-демократами же. Гитлер вернулся к Гинденбургу и потребовал
канцлерства без коалиции – то есть в «президентском» кабинете, вместо Папена. На это президент пока что не готов был пойти – на роль канцлера, действующего от его имени в рамках
чрезвычайных полномочий, гораздо лучше подходил Папен – да, пусть не блещущий умом и
деловыми качествами, но зато понятный и управляемый. В конце концов, Гинденбург дал Гитлеру письменный ответ. В нем он отказывался назначить фюрера НСДАП «президентским»
канцлером, мотивировав это тем, что такое назначение «неизбежно перерастет в диктатуру
одной партии», а за это он не готов был принять на себя ответственность – ему этого не позволяла ни принесенная им президентская клятва, ни его совесть. Звучало это, конечно, благородно, но не оставляет ощущение, что на самом деле Гинденбургу просто не хотелось рисковать тем, что власть утечет из рук его самого и его окружения. Фельдмаршал был против
диктатуры одной партии, но при этом его прекрасным образом устраивала диктатура одной
клики – в том случае, если эта клика состояла из его друзей.
Все это, надо сказать, изрядно окрылило Папена. Будучи не очень проницателен от природы и к тому же являясь совершенно случайным человеком в политике, вообразившим о
себе (как часто и происходит со случайными людьми) невесть что безо всяких к тому оснований, он почему-то решил, что отказ, данный Гитлеру, автоматически равнялся его, Папена,
победе. Когда Гинденбург вызвал его и Шляйхера к себе вечером 1 декабря, Папен пребывал
в полной, железной уверенности, что сейчас последует новое назначение его канцлером. Он
не подозревал, что Шляйхер все это время тоже не сидел сложа руки. Используя свой контакт
с Грегором Штрассером, он вел свои собственные переговоры с руководством НСДАП. Если
62
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
нацисты так возражают против участия в кабинете Папена, быть может, они все же согласятся
войти в правительство, где канцлером будет он сам, Курт фон Шляйхер? Через Штрассера он
передал Гитлеру приглашение приехать в Берлин (тот успел уехать в Мюнхен) для обсуждения
деталей. Гитлер, однако, решил потянуть время и вместо Берлина отправился в Веймар, где
предложение Шляйхера обсудили на совещании высшего нацистского руководства. Штрассер
был за то, чтобы принять предложение – или, во всяком случае, если и не войти самим в правительство Шляйхера, то гарантировать ему поддержку. Геринг и Геббельс горячо выступили
против предложения. Все эти хитрые маневры со стороны правящих кругов означали, на самом
деле, лишь одно – Шляйхер и Гинденбург колебались, их решимость уже была изрядно подточена, они активно искали компромисса вовсе не из-за своего благорасположения и симпатий
к национал-социалистам, а как раз наоборот – потому что чувствовали свою слабость. Идти на
компромисс в такой момент означало сдаться, уже имея победу почти что в кармане. Гитлер
поддержал эту точку зрения. Сейчас нужен был не компромисс, а неослабевающее давление
на правительство – кто бы там его ни возглавил. Гитлер не поехал на встречу. Вместо этого он
сказал эмиссару Шляйхера, майору Ойгену Отту (будущему послу Третьего Рейха в Японии),
чтобы тот передал своему хозяину его искренний совет – не брать на себя канцлерство. Однако
к тому времени (утро 2 декабря) было уже поздно.
В Берлине буквально в эти же часы разворачивались драматические события. Накануне
вечером, представ перед Гинденбургом, Папен произнес речь, в которой смело нарисовал
достаточно масштабную программу преобразований. Свое назначение канцлером он полагал
само собой разумеющимся, а своей основной задачей видел окончательное лишение Рейхстага
реального веса в германской политике и последующее внесение поправок в конституцию, которые должны были, по сути, свернуть все демократические институты Республики и превратить
ее в неприкрыто авторитарную диктатуру с почти ничем не ограниченной властью президента.
Конечно, добавил Папен, он понимал, что столь резкие и радикальные изменения вступают в
некоторое противоречие с президентской клятвой, столь много значившей для Гинденбурга,
но во-первых, в конечном итоге он сам ведь именно таких преобразований и хотел для Республики, а во-вторых, в существующей ситуации другого выхода просто не было.
Того, что произошло в следующий момент, Папен совершенно не ожидал. Шляйхер,
которого он считал чем-то вроде молчаливой «группы поддержки», вдруг откашлялся и произнес: «Вообще-то нет. Убежден, что другой выход есть». И затем генерал развернул перед
изумленной публикой свой проект. Радикальные правки конституции были не нужны. Шляйхер был уверен, что сможет сколотить действенную парламентскую коалицию, которая позволит ему провести нужные реформы, не прибегая к чрезвычайным полномочиям. Центристы и
социал-демократы уже были у него в кармане (как и поддержка профсоюзов). Но кроме того,
у него уже были предварительные договоренности с Грегором Штрассером. Штрассер инициирует раскол внутри НСДАП. По предварительным оценкам, он мог отколоть от нацистской
фракции в Рейхстаге порядка 60 депутатов. Вместе с ними у коалиции Шляйхера будет решающее большинство, и он сможет уверенно проводить через Рейхстаг нужные законы.
Гинденбург был в шоке. Конечно, старый фельдмаршал и в самом деле болезненно воспринимал необходимость почти открыто попрать данную им клятву, которую предусматривала
программа Папена. Он был хоть и деспот по натуре, но одновременно – честный и принципиальный прусский солдат, и данное раз слово многое для него значило. Строго говоря, программа Шляйхера сама по себе была для него более приемлемой. Но… его покоробило то, как
Шляйхер беззастенчиво подставил Папена, считавшего его своим другом. Не нравился ему и
предложенный Шляйхером «подлый» маневр против Гитлера. Гинденбург, конечно, не питал
большой любви к «богемскому капралу», и сам упрекал его в нарушении данных обещаний,
но ему претили удары кинжалом в спину. Гинденбург был рыцарь. Биться – так лицом к лицу,
и желательно – с открытым забралом. Разумеется, именно это делало его скверным полити63
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ком. Выслушав Шляйхера, президент повернулся к Папену и будничным тоном спросил: «Как
скоро Вы сможете сформировать правительство?»
Казалось, что Шляйхер, пытавшийся одновременно вести даже не двойную, а тройную
игру (одновременно с Папеном, со Штрассером и с Гитлером – ведь не будем забывать, Гитлеру он накануне тоже направил предложение по участию в новом кабинете), наконец-то перехитрил сам себя. Однако Папену рано было торжествовать победу (а Гинденбургу рано было
успокаиваться). «Серый кардинал» не собирался сдаваться. Когда Папен на следующий день
(то есть 2 декабря) собрал заседание кабинета для объявления дальнейшего плана действий,
Шляйхер (военный министр, напомним) встал и заявил, что в сложившейся ситуации выполнить директиву, данную президентом, не представляется возможным. В случае назначения
нового «президентского» кабинета во главе с Папеном, по всей стране неизбежно поднимется
волна протестов и забастовок (напомним, что Шляйхер неоднократно хвастался своей дружбой с профсоюзами), причем полиция и армия совершенно не гарантируют, что смогут обеспечить бесперебойное функционирование транспортной системы и снабжение столицы всем
необходимым. Затруднительно им будет и поддерживать правопорядок в случае ожидаемых
массовых вспышек насилия, вплоть до гражданской войны (тут явно имелись в виду СА). Генеральный штаб (по словам Шляйхера) провел специальное исследование на сей счет, и сейчас его автор готов лично представить кабинету свой доклад. Автором оказался тот самый
многогранный майор Отт, который меньше суток назад выступал посредником на переговорах с Гитлером. Суть доклада сводилась к тому, что имеющихся в распоряжении армии сил
и средств было недостаточно для того, чтобы одновременно защищать границы Республики
и поддерживать порядок в стране, если начнутся вооруженные выступления нацистов и/или
коммунистов. Памятуя о весьма скромной численности Рейхсвера, а также о том факте, что не
у одних лишь нацистов, а практически у всех крупных политических партий в стране (включая
и национал-консерваторов, и социал-демократов, и тех же коммунистов) были свои военизированные отряды, готовые вцепиться друг другу в глотку при первой же провокации, доклад
не выглядел такой уж фантастикой. Тем не менее, факт остается фактом – угрозы всеобщей
стачки и массовых беспорядков пока что были всего лишь угрозами, а вот германская армия
предъявила правительству вполне конкретный ультиматум. Папен должен был уйти. Терпеть
новое его канцлерство военные не собирались.
Папен кинулся за помощью к Гинденбургу – он надеялся, что президент отправит Шляйхера как министра обороны в отставку, а его, Папена, оставит канцлером. Но Гинденбург устал.
«Мой дорогой Папен,» сказал президент, прослезившись, «я слишком стар, чтобы взвалить
на себя ответственность за гражданскую войну. Наша единственная надежда – дать Шляйхеру
попытать удачи». Франц фон Папен был отправлен в отставку – хотя Гинденбург успел еще
несколько раз сказать ему о том, как он искренне сожалеет, и даже прислал ему через день
письмо с таким же содержанием, и свою фотографию на память.
Генерал Курт фон Шляйхер стал канцлером Германии. Момент его триумфа был одновременно и моментом начала конца его карьеры. Оставаясь в тени и манипулируя другими,
Шляйхеру долго удавалось балансировать разные политические силы друг против друга –
только в этом и заключался секрет его успеха, потому что за ним самим никакой реальной
политической силы не стояло. Опереться он мог лишь на личную связь с президентом Гинденбургом – именно эта дружба придавала ему авторитет в глазах генералов (для которых фельдмаршал был чем-то вроде непогрешимого полубога), и в глазах гражданских политиков (для
которых Шляйхер был человеком, вхожим в высшие круги вершителей судеб, «приближенным к особе»). Однако его последний шедевр интриги, принесший ему канцлерство, нанес ему
непоправимый вред, хотя сам он не сразу это понял. Этот высокий образец политической подлости и двурушничества навсегда разрушил доверие Гинденбурга к нему. Старик был вынужден пойти у него на поводу – но он никогда так и не смог ему этого простить. Дружба Шляй64
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
хера и Гинденбурга умерла. А кроме этой дружбы, у Шляйхера за душой ничего и не было.
В тот день, 2 декабря, Геббельс, как обычно, проницательный и едкий в своих политических
комментариях, написал в дневнике кратко: «Шляйхер назначен канцлером. Он не протянет
долго».
Шляйхер протянул пятьдесят семь дней.
Начал он свое канцлерство – как он и обещал Гинденбургу – с попытки расколоть нацистов. 3 декабря (на следующий день после назначения) он обратился к Грегору Штрассеру с
предложением занять пост вице-канцлера и премьер-министра Пруссии. Момент для раскола
партии выглядел более, чем подходящим. НСДАП переживала не лучшие времена. Разочарованные олигархи-промышленники (которые давали деньги на великие свершения, а вместо них
получили лишь нескончаемые бодания с правительством и упорные отказы занять хоть какойнибудь значимый пост) один за другим сворачивали финансирование. Партия была на грани
банкротства. В декабре Гитлеру пришлось урезать зарплату партийным функционерам. Издатели многочисленной партийной прессы стояли в очереди в его секретариате, требуя денег и
грозя остановить печатные прессы. Прошедшие как раз 3 декабря местные выборы в Тюрингии показали, что в сравнении с прошлой кампанией нацисты потеряли порядка 40 % голосов.
Очевидно было, что следующие выборы в Рейхстаг могут прикончить партию, вернув ее в то
состояние, в котором она пребывала в 20-е годы – мелкой парламентской фракции, не имеющей самостоятельного значения. Фаворит кризисного момента не смог должным образом воспользоваться своей удачей – и теперь ему предстояло забвение. Или так казалось. Примерно
это Штрассер и изложил Гитлеру на встрече партийного руководства 5 декабря, настоятельно
советуя ему незамедлительно пойти на сотрудничество со Шляйхером и согласиться хоть на
какие-нибудь должности в правительстве. Очевидно ведь было, что это лучшая возможность,
которая у них будет. Если Гитлер продолжит упорствовать, партию ждет раскол. И многие
люди пойдут за ним, Штрассером. Это была отнюдь не пустая угроза – Грегор по-прежнему
был популярен, особенно среди «левого» крыла партии, да и многие депутаты из нацистской
фракции в Рейхстаге, которым очень даже было что терять в случае нового роспуска парламента и новых выборов, могли бы поддержать его. Геринг и Геббельс традиционно выступили
против Штрассера, заодно обвиняя его в измене, в тайных переговорах со Шляйхером (что
было чистой правдой). Гитлер попытался занять некую «среднюю» позицию. Нет, он по-прежнему не готов идти на сотрудничество со Шляйхером на его условиях, но он согласен на дальнейшие переговоры с ним. Вот только вести эти переговоры от лица НСДАП отныне будет не
Штрассер, а Геринг. На том собрание и закончилось, но два дня спустя Штрассер снова явился
к Гитлеру, и на сей раз последовал долгий разговор тет-а-тет, который закончился бурной ссорой и взаимным криком. Вернувшись в свой отель, Штрассер написал Гитлеру пространное
письмо, в котором изложил все свои претензии, обвинил лидера в том, что он привел партию на
край гибели, и под конец подал в отставку со всех партийных постов. Одновременно Штрассер
направил соответствующие заявления во все утренние газеты.
На удивление, первым порывом Гитлера – хотя он, конечно, кричал об «измене» – было
найти Штрассера и попробовать с ним все же договориться. Однако того уже не было в Берлине. Как оказалось, он просто собрал вещи, сел на поезд и укатил в Италию – отдыхать. Это
была ошибка. Штрассеру следовало в той ситуации делать одно из двух – либо действительно
договариваться с Гитлером (в этом не было ничего принципиально невозможного, как показывает пример того же Геббельса), либо – продолжать активную линию на раскол партии. Собирать сторонников, немедленно идти на прием к Шляйхеру. В тот момент могло и получиться.
В любом случае, просто устраняться от дальнейшей борьбы было нельзя. Впрочем, как показала дальнейшая судьба Грегора Штрассера, человек явно не очень хорошо понимал, в какую
игру он играет. Между тем, воспользовавшись его отсутствием, Гитлер перехватил инициативу. Общее руководство партийной организацией, которой заведовал ранее Штрассер, отныне
65
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
взял на себя лично фюрер. Совсем уж явные друзья Штрассера были изгнаны из партии. Партийное руководство и руководителей отделений собрали на экстренный съезд в Берлине, где
они подписали спешно составленную декларацию, в которой провозглашалась их полная и безусловная преданность лично Адольфу Гитлеру. Грегор Штрассер в одночасье потерял все свое
хваленое влияние в партии. «Он мертвец», написал Геббельс в своем дневнике. Пока что это
был лишь переносный смысл.
Между тем, 10 декабря, пока все эти события были в самом разгаре, Гитлер получил
через одно из своих контактных лиц в деловых кругах, известного финансиста барона Курта
фон Шрёдера, просьбу о встрече от неожиданного, казалось бы, человека – от Франца фон
Папена. Встреча состоялась в строжайшем секрете (теоретически) в доме Шрёдера в Кёльне
утром 4 января 1933 года.
Многое изменилось со времени их предыдущей встречи. В тот момент Папен еще был
канцлером, причем канцлером, уверенным в поддержке почти всесильного президента, а Гитлер ощущал себя самым могущественным и популярным политиком в Германии, и каждый
из них считал, что может диктовать условия, на которые оппонент рано или поздно вынужден
будет согласиться, стоит лишь проявить твердость. Теперь Папен был в отставке, преданный и
выброшенный на свалку истории теми, кого он считал ближайшими друзьями, и больше всего
на свете мечтающий о мести. Гитлер же за прошедший месяц с небольшим успел заглянуть
в пропасть – и лишь чудом удержаться на краю. Да, он сумел (пока) удержать партию от раскола, но финансовая проблема оставалась нерешенной, и падающая популярность тоже настоятельно требовала к себе внимания. Если раньше он был уверен, что время работает на него,
то теперь все было наоборот. Необходимо было что-то менять, и притом быстро. Нужен был
прорыв. Однако несмотря на все трудности, у каждого за душой оставалось нечто, ценное для
другого. У Папена были связи – политические и финансовые. У Гитлера… у Гитлера все еще
была реальная сила в виде мощной партийной организации и частной армии, превосходящей
Рейхсвер по численности в четыре раза.
Поэтому разговор втроем в кабинете Шрёдера, продолжавшийся два с лишним часа за
закрытыми дверями, проходил в совершенно иной атмосфере. На этот раз они были нужны
друг другу – и это не замедлило сказаться. Если сравнивать со всеми предшествующими встречами между Папеном, Шляйхером, Гинденбургом и Гитлером в разных комбинациях, беседа
в Кёльне была беспрецедентна по своей эффективности.
Папен сообщил Гитлеру важнейшую вещь. Благодаря своим дружеским контактам с Гинденбургом, ему было доподлинно известно, что президент, вынужденный уступить Шляйхеру
по большинству пунктов, все же отказал ему в одном. Он не дал новому канцлеру полномочий
для роспуска Рейхстага (какие были в свое время у Папена в виде того достопамятного указа).
Значение этого «инсайдера» в тот момент трудно переоценить. Роспуск Рейхстага был в те дни
ночным кошмаром Гитлера – ведь у него были все основания полагать, что новые выборы окажутся катастрофическими для НСДАП. Роспуск Рейхстага был незримым дамокловым мечом,
висевшим над его головой и заставлявшим его воздерживаться от чересчур резких движений.
Если же угроза не была реальной, это меняло все. Зная это, Гитлер мог свалить Шляйхера, это
было только дело техники. Тут же было достигнуто принципиальное соглашение о формировании совместного кабинета. Гитлер должен был стать канцлером, но в обмен на это он готов
был заполнить кабинет преимущественно кандидатурами, подобранными Папеном – при условии, что они согласятся с основными направлениями его политики. Эти направления Гитлер
сформулировал следующим образом: в политической жизни Германии не должно быть социалдемократов, коммунистов и евреев. С этим Папен согласился. Более того, Папен гарантировал
Гитлеру, что деловые круги Западной Германии (где он имел определенный вес, в том числе
благодаря своему удачному браку) немедленно покроют все долги нацистской партии.
66
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
На следующее утро, 5 января, всех участников встречи ждал неприятный сюрприз.
Встреча в Кёльне оказалась совсем не такой секретной, как они считали. Берлинские газеты
вышли с подробными рассказами об их переговорах – и даже с фотографией Папена, входящего в дом. У Шляйхера были свои шпионы, и свой хлеб они ели не зря. Впрочем, принесли
ли эти публикации Гитлеру больше вреда или пользы в долговременной перспективе – еще
большой вопрос. Ведь если отбросить гневную обличительную риторику, в них можно было
разглядеть как раз то, в чем некоторые части германского общества – и что особенно важно,
германской элиты – в тот момент чувствовали себя все больше заинтересованными – альтернативу.
Дело в том, что за прошедший месяц после своего назначения Шляйхер развернул
довольно бурную политическую деятельность. Ему было мало быть просто очередным назначенным «сверху» канцлером, еще одним временщиком, пришедшим из пустоты и обреченным
снова уйти в пустоту. Чего он хотел – так это чтобы его правительство стало не просто «очередным», а началом настоящего «нового режима», новой эпохи в истории Германии. Для этого
требовалась некая идеологическая основа и широкая поддержка населения.
Еще 15 декабря Шляйхер выступил по радио с пространной речью, в которой внушал
слушателям, что он абсолютно нейтрален, что хоть он и генерал, но не отстаивает интересы
своего класса и своей корпорации, а пытается работать исключительно на общее благо. Он
не капиталист и не социалист, он вообще не оперирует такими понятиями, а просто пытается облегчить жизнь простым немцам. Его задача – ликвидировать безработицу и оздоровить
экономику страны. Новых повышений налогов или снижений зарплат не будет. Более того,
он отменяет последнее сокращение зарплат и пособий, введенное правительством Папена, а
также отменяет введенные тогда же сельскохозяйственные квоты, которые защищали интересы
крупных землевладельцев. 800 000 акров земли будут изъяты у обанкротившихся юнкерских
хозяйств и распределены между 25 000 крестьянских семей. Кроме того, его правительство
будет жестко контролировать цены на товары первой необходимости. Популистская направленность всех этих мер была очевидна. Пропагандистский эффект, однако, мог бы оказаться
более значительным, если бы все это не находилось в таком кричащем противоречии со всей
предыдущей деятельностью Шляйхера. На протяжении всей своей предшествующей карьеры
он последовательно защищал интересы крупного капитала и правящей элиты, а теперь из него,
как из рога изобилия, посыпались чуть ли не социалистические инициативы. Слишком уж очевидно было, что он пытается копировать чужую риторику.
Во всяком случае, профсоюзы, с руководством которых Шляйхер организовал встречу
вскоре после этой речи по радио, и которым он пообещал, ни много ни мало, что именно они,
наряду с армией, станут одним из столпов новой Германии, отнеслись к этой риторике весьма
скептически, и отказали канцлеру в своей поддержке.
С другой стороны, промышленники и особенно землевладельцы расслышали инициативы канцлера хорошо – даже слишком хорошо. В глазах многих, это был чистой воды большевизм. На стол Гинденбургу посыпались протесты и коллективные жалобы, в частности,
от различных аграрных ассоциаций. До поры их получалось игнорировать, но гораздо более
серьезной была другая проблема – Шляйхер стал терять поддержку людей, участие которых
в своем кабинете он считал уже гарантированным. Политический ветер ощутимо менял свое
направление.
Сначала он потерял Штрассера. Вернувшись с рождественских каникул в Италии примерно в то самое время, когда Гитлер встречался с Папеном, Грегор сначала подтвердил было
свое желание войти в шляйхеровский кабинет, и даже успел встретиться в этом качестве с Гинденбургом. Но потом почуял что-то такое в воздухе… и отправился просить прощения у Гитлера. Тот отказался с ним разговаривать. Однако другой посетитель, явившийся к фюреру в те
же дни, был принят куда более радушно. Это был Хугенберг, лидер националистов, и пикант67
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ность ситуации заключалась в том, что у него тоже ранее имелась предварительная договоренность со Шляйхером о вхождении в его правительство. Это был очень нехороший звоночек.
Практически одновременно с этим нацисты одержали маленькую, но для них чрезвычайно
важную победу на местных выборах в Липпе. Сам по себе, это был крошечный избирательный
округ, который в других обстоятельствах они бы и не заметили. Но после провалов и испытаний последних месяцев даже 17-процентный прирост голосов в городке всего лишь с 90 тысячами избирателей воспринимался как триумф. Фортуна снова поворачивалась к ним лицом.
Победа в Липпе, на самом деле, имела значение еще и по другой причине. Она послужила своеобразным сигналом – о том, что у НСДАП все не так уж плохо, и с ней можно иметь
дело. И этот сигнал уловили два человека, которым предстояло сыграть не последнюю роль в
разворачивавшихся событиях – государственный секретарь Майсснер и сын президента, Оскар
фон Гинденбург, который был в некотором смысле ближайшим претендентом на роль нового
«серого кардинала» Республики с тех пор, как генерал Шляйхер «вышел из тени» и стал канцлером Германии, и который до сих пор не был замечен в каких бы то ни было симпатиях к
нацистам. Однако новости о новом благоприятном повороте в политической карьере Гитлера
(победа в Липпе плюс широко, хоть и ругательски, растиражированные переговоры с Папеном – и все это на фоне нарастающего всеобщего разочарования в Шляйхере) заставили его
как минимум заинтересоваться.
Вечером 22 января 1933 года Майсснер и Гинденбург-младший тайком выбрались из
президентского дворца и на такси добрались до особняка в пригороде, принадлежавшего до сей
поры мало кому известному члену НСДАП по имени Иоахим фон Риббентроп, где их ждали
Папен, Гитлер, Геринг и Фрик. Главная ценность Риббентропа для партии состояла в том, что
он был личным другом Папена (они вместе служили на турецком фронте во время Великой
войны). Собственно, именно участие в качестве удобного посредника в важнейших закулисных переговорах и стало ключевым моментом в карьере этого, в общем-то, весьма бледного и
посредственного дипломата, загадочным для современников образом обошедшего по службе
своих гораздо более талантливых коллег. Риббентроп просто оказался очень полезен Гитлеру
в тот момент, когда решались важнейшие, судьбоносные вопросы – и Гитлер был ему за это
благодарен.
Поздоровавшись, Гитлер немедленно пригласил Оскара фон Гинденбурга переговорить
с глазу на глаз в соседней комнате, и тот согласился. Подробности разговора нам неизвестны –
они не были известны и современникам, в том числе другим представителям нацистской верхушки. Одни говорили, что Гитлер предложил Оскару (и через него, его отцу), по сути, взятку
(и впрямь, спустя несколько месяцев к земельным угодьям Гинденбургов таинственным образом прибавились 5 000 акров земли, причем освобожденных от налогов, а сам Оскар спустя
полтора года вдруг совершил ничем не мотивированный прыжок в своей военной карьере, в
одночасье став из полковника генерал-майором – правда, у нас нет никаких доказательств,
что договоренность обо всем этом была достигнута именно в тот вечер в особняке Риббентропа). Другие высказывали резонные предположения, что у Гитлера было и чем припугнуть
Гинденбургов – ему могло быть известно о налоговых нарушениях, связанных, опять-таки, с
их земельными владениями). Весьма вероятно, что фюрер успешно сочетал то и другое, кнут
и пряник. В любом случае, на обратном пути в такси Оскар фон Гинденбург долго молчал, а
потом сказал Майсснеру: «Ничего не поделаешь – нацистов нужно взять в правительство».
Теперь дело было за Гинденбургом-старшим. Упрямого старика взял на себя Папен.
Задачу ему облегчало то, что кабинету Шляйхера зримо и осязаемо для любого стороннего
наблюдателя приходил бесславный конец. Генерал не смог выполнить свое главное обещание
президенту – создать парламентскую коалицию, которая позволила бы обойтись без чрезвычайного положения. Он не смог ни заручиться поддержкой национал-социалистов, ни расколоть их. Националисты, центристы и социал-демократы тоже последовательно отказались с
68
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ним работать. Это был тупик. 23 января Шляйхер явился к президенту и сообщил ему официально, что попытка создать коалиционное правительство полностью провалилась. Поэтому
он просил Гинденбурга распустить Рейхстаг, ввести чрезвычайное положение и назначить правительство своим указом, в соответствии со статьей 48 Веймарской конституции. Более того,
он просил «временно упразднить» Рейхстаг вообще, и ввести в стране военную диктатуру.
По сути, он вернулся почти в точности к предложению Папена от 2 декабря. Только теперь
они поменялись ролями. Папен, хоть лично не присутствовал при разговоре, как раз накануне
сообщил Гинденбургу, что у него есть прочные договоренности – в том числе и с Гитлером –
о создании коалиционного правительства. Ирония ситуации не ускользнула от старого фельдмаршала. Выслушав Шляйхера, он напомнил ему о его собственных словах почти двухмесячной давности. Что изменилось? Ровным счетом ничего. Он отказал канцлеру в роспуске Рейхстага, и отправил его назад – пытаться собрать коалицию. Это был крах. Политическая карьера
Курта фон Шляйхера была окончена. 28 декабря он официально подал в отставку. В тот же
день Гинденбург попросил Папена обсудить с Гитлером вопрос формирования нового правительства.
Папен, на самом деле, все еще подумывал, не сыграть ли ему в двойную игру еще раз и
не попытаться ли обойтись без Гитлера вообще, в последний момент предложив президенту
в качестве канцлера снова себя, любимого, с опорой на националистов Хугенберга. Уволенный Шляйхер последним своим политическим усилием направил к президенту главнокомандующего Рейхсвером, генерала фон Хаммерштейна, чтобы предостеречь его против происков
Папена. Уж лучше Гитлер! Гинденбург, однако, ответил Хаммерштейну, что вопрос о назначении Гитлера даже не стоит. Тогда на следующий день, 29 января, Шляйхер послал того же
Хаммерштейна (главнокомандующий в роли курьера, каково?) уже к Гитлеру – предупредить
о кознях Папена. Гитлер был абсолютно спокоен, Геринг только что принес ему новость из
президентского дворца – о его назначении канцлером будет объявлено на следующее утро. Вся
нацистская верхушка расслаблялась в доме у Геббельса на Рейхсканцлерплатц, когда появился
еще один посланник от Шляйхера, который сообщил нечто вообще не лезущее ни в какие
ворота: Шляйхер и Хаммерштейн подняли по тревоге гарнизон Потсдама, они собираются арестовать Гинденбурга и провозгласить военную диктатуру. На самом деле, это была выдумка –
по всей видимости, целиком и полностью на совести посланника. Шляйхеровская Германия
была настолько переполнена интригами, заговорами и предательствами всех мастей, цветов и
калибров, что продолжала плодить их даже из могилы.
Гитлер, однако, принял меры. Берлинские СА были подняты по тревоге, немедленно
были поставлены в известность симпатизировавшие нацистам чины берлинской полиции, а
генерал фон Бломберг (военный министр в новом правительстве) был проинструктирован
немедленно направиться в Берлин, прямиком в президентский дворец, чтобы быть наготове
сразу же после вступления канцлера и правительства в должность, гасить любые военные
мятежи. По факту, никаких чрезвычайных ситуаций не возникло, а мобилизованные штурмовые отряды пригодились тем вечером для масштабного факельного шествия мимо окон президентского дворца. Старик-фельдмаршал наблюдал за ними из окна, кивая головой в такт
прусским военным маршам. «Я и не знал, что мы взяли столько русских в плен под Танненбергом!» – вдруг обратился он с искренним изумлением к стоявшим вокруг. Сознание его было
далеко, совсем в другом месте и времени. История провожала Веймарскую республику смесью
фарса и высокой трагедии.
Внимательное изучение этой истории подсказывает, что такой – или примерно такой –
конец, видимо, был неизбежен. И дело было не в происках «злого гения» Гитлера, не в идеологии национал-социализма. НСДАП вообще – более-менее случайный элемент во всей это
эпопее. Правда заключается в том, что ее могло бы и не быть. И Гитлера как политика тоже
могло бы и не быть, и принципиально не так уж многое бы изменилось в истории конца Респуб69
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
лики. Существенные изменения, конечно, были бы потом, когда персональные идиосинкразии
и пристрастия данного конкретного человека начали формировать германскую политику. Но
Веймарская республика все равно пала бы примерно так же, как пала, и примерно тогда же,
когда пала, с Гитлером или без него. Мы видели, что ни одна из политических сил, реально претендовавших на формирование будущего Германии на рубеже 1920-х и 1930-х годов, не предполагала сохранения Республики. По большому счету, Республика была обречена с того самого
момента, как демократия перестала быть работающей системой, а превратилась лишь в ширму
для «закрытой», закулисной борьбы за власть. Более того, если бы демократические институты
Республики реально функционировали так, как должны были, шансы Гитлера придти к власти вообще стремились бы к нулю. Мы видели, что даже на пике своей «демократической»
активности он не смог и близко подойти к тем результатам, которых добился в итоге интригой,
закулисными махинациями и силовым давлением. В нормальной демократической стране Гитлер невозможен – там возможна максимум Марин Ле Пен. Гитлеры – это удел «суверенных»
псевдодемократий. Это если есть подходящий человек, соединяющий в одном лице нужные
таланты и харизму. Если его нет, история отлично справится и без него. В той же Германии
на месте Гитлера мог быть любой из полудюжины других персонажей – или все сразу, этакий
«коллективный Гитлер». Результаты все равно были бы похожи. Авторитарная власть, находящаяся в руках неумных, нерешительных, зато уверенных в своей непогрешимости и неуязвимости людей, при остром экономическом и политическом кризисе – это рецепт катастрофы,
в любом случае.
И Германии теперь предстояло в полной мере пожать ее плоды. Йозеф Геббельс однажды
написал в своем дневнике: «Придя к власти, мы никогда больше ее не отдадим. Им придется
выносить наши мертвые тела из министерств».
Как это часто случалось у Геббельса, его слова оказались пророческими.
70
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Крещение кровью Веймарская
республика и трансформация
Обыватель часто представляет себе историю как бесконечную вереницу дат – этакий
огромный хронограф, летопись, где к каждой дате прикручена аккуратная табличка с указанием, что именно случилось в этот год, день и час. Но такое представление об истории чрезвычайно далеко от реальности – хотя бы потому, что сколько-нибудь важные процессы, происходящие в человеческом обществе, обычно слишком сложны и многогранны для того, чтобы вот
так просто сказать, в какой момент они начались, а в какой закончились. Более того, вряд ли
в человеческой истории можно найти такой фрагмент, даже локально, когда важные процессы
шли строго последовательно («один закончился – начался другой»), а не одновременно, еще и
переплетаясь самым затейливым и головоломным образом. Например, если мы посмотрим в
такой «вульгарно-хронологической» трактовке на день 30 января 1933 года, то он будет иметь
вполне лаконичную и однозначную маркировку: «В этот день Адольф Гитлер пришел к власти
в Германии». Но насколько это соответствует действительности? Что в этот день закончилось,
что, наоборот, только началось, а что вообще находилось в самом разгаре?
На самом деле, «пришел к власти» – это не более, чем удобная бирка для потомков, знающих, чем все закончилось. Это наше послезнание. Но как это выглядело для современников?
На практике в тот день все было куда сложнее.
Да, президент Гинденбург действительно назначил Гитлера канцлером и поручил ему
формирование нового кабинета. Но это был не «президентский» кабинет, куда с использованием чрезвычайных полномочий Гинденбурга можно было бы назначить кого угодно, на выбор.
Нет, это был «парламентский» кабинет – т. е. такой, в основе которого, по идее, должна была
лежать коалиция парламентских партий, представляющих большинство голосов в Рейхстаге.
То есть это было по определению не нацистское правительство, а коалиционное. Собственно, и
никакого назначения канцлером Гитлеру не видать бы, как своих ушей, если бы ему не удалось
заключить соглашение с консервативными националистами Гугенберга. Более того, это соглашение оказалось убедительным в глазах президента (который, как мы помним, весьма недоверчиво относился к Гитлеру) именно благодаря тому, что Гитлер и НСДАП в нем очевидно находились в подчиненном и зависимом положении. Гитлер получил пост канцлера исключительно
на том условии, что, кроме него самого, нацисты в новом правительстве будут играть незначительную роль. Так и получилось – помимо канцлерства, национал-социалисты получили всего
два места в кабинете (из одиннадцати). Фрика назначили министром внутренних дел – название поста звучит солидно, но эта должность в Веймарской Германии на практике была куда
менее значимой, чем может показаться, поскольку (в отличие от многих других стран) германский министр внутренних дел не руководил полицией – она вся находилась в подчинении правительств земель. А положение Геринга было еще более странным – ему в правительстве вообще не дали руководить ничем конкретным, сделав его «министром без портфеля».
Было негласное понимание, что бравый летчик станет со временем министром авиации – после
того, как у Германии появится собственная авиация (когда именно это произойдет, можно
было лишь строить версии). А пока что он, по сути, «создавал массовку», и не более того.
Правда, в тот момент легко было упустить из внимания тот факт, что одновременно Геринг
получил и еще одно назначение – менее престижное, но впоследствии оказавшееся чрезвычайно важным. Он стал министром внутренних дел Пруссии – и в этом качестве в его прямое
подчинение попала прусская полиция. Ключевые портфели поделили между собой консерваторы, причем кое-кто из них просто остался на своей прежней должности – а именно, Нейрат,
министр иностранных дел. Бломберг стал министром обороны. Сам Гугенберг возглавил объ71
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
единенные министерства экономики и сельского хозяйства. Зельдте (руководитель Стального
шлема) стал министром труда. Остальные министры сохранили свои должности еще с папеновских времен – во многом потому что они не имели партийной привязки, будучи просто техническими специалистами каждый в своей профессиональной области. Сам Франц фон Папен
стал вице-канцлером и премьер-министром Пруссии. Очевидно было, что ему предназначалась
роль основного «сдерживающего фактора». В качестве вице-канцлера он призван был «держать на поводке» Гитлера (с этой целью было заключено беспрецедентное устное соглашение:
Гинденбург будет принимать канцлера лишь в присутствии вице-канцлера, и никак иначе), а в
качестве прусского премьера – Геринга, который оказывался таким образом у него в прямом
подчинении.
В общем и целом, схема выглядела достаточно продуманной и надежной. Точнее, выглядела бы, если бы не один пикантный нюанс, а именно, что национал-социалисты Гитлера и
националисты Гугенберга вместе не обладали большинством в Рейхстаге (в совокупности у них
было лишь 247 голосов из 583), и потому, строго говоря, не имели права образовывать коалиционное правительство. Это можно было исправить, включив в коалицию центристов с их 70
голосами – и одним из первых действий Гитлера в качестве новоиспеченного канцлера была как
раз отправка к ним Геринга для переговоров о таком союзе. В пять часов вечера в день своего
назначения Гитлер как канцлер созвал первое заседание кабинета, и как раз на нем-то Геринг
и озвучил результаты своей миссии: центристы выдвинули встречные требования. В обмен на
участие в коалиции, они хотели получить места в правительстве. Геринг тут же, прямо в завершении своего доклада, предложил распустить Рейхстаг и назначить новые выборы (конечно,
это должен был сделать президент). Гитлер был за, Гугенберг против. Конечно, лидер консервативных националистов не горел желанием делиться министерскими портфелями с Центром,
но он вполне справедливо испытывал опасения, что вот теперь-то, когда Гитлер имел возможность использовать в предвыборной кампании всю мощь «административного ресурса»,
НСДАП явно окажется на выборах в привилегированном положении. Чего доброго, нацисты
еще смогут набрать абсолютное большинство голосов самостоятельно – и зачем им тогда будет
нужен Гугенберг? Поэтому он предложил другой, весьма оригинальный выход: не назначая
новых выборов, просто запретить Коммунистическую партию. Коммунисты имели в Рейхстаге ровно 100 голосов. Если эти 100 голосов выбывали, коалиция автоматически получала
абсолютное большинство даже без необходимости привлекать новых членов. Гитлер, однако,
выступил категорически против. Нет-нет, столь антидемократические меры были совершенно
неприемлемы! После долгих споров решили, что Гитлер лично предпримет еще одну попытку
уговорить центристов. Но если переговоры не дадут эффекта, правительство будет ставить
перед президентом вопрос о роспуске Рейхстага.
Трудно предположить, на что рассчитывали Гугенберг и Папен. На честность Гитлера?
Вряд ли. Скорее уж, на гибкость и сговорчивость центристов. Возможно, тот же Папен по
каким-то своим каналам (ведь изначально он сам был членом центристской партии, покуда
его из нее не исключили) даже дал их руководству определенный намек, что вот сейчас пришло время немного поступиться своими амбициями ради общего блага. Если это так, то намек
подействовал. Во всяком случае, лидер Центристской партии, монсеньор Людвиг Каас (напомним, что Центр был католической партией; Каас был священником, советником папского нунция) сформулировал гораздо более умеренный список требований, чем можно было ожидать.
Он уже не включал в себя требования конкретных министерских постов – по сути, Каас хотел
лишь получить от Гитлера письменные гарантии, что он будет править в строгом соответствии
с конституцией. Гитлер, однако, вернувшись с переговоров, сообщил кабинету, что Центр
выдвинул нереальные требования, не оставляющие возможности достичь соглашения. В определенном смысле, конечно, для него все именно так и было – не для того фюрер НСДАП
рвался к должности канцлера, чтобы строго руководствоваться конституцией (в соответствии
72
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
с которой канцлер, вообще-то, был фигурой хоть и важной, но скорее технической, зависимой
от президента и Рейхстага). Не дав кабинету времени для проверки этой информации, Гитлер немедленно поставил вопрос ребром: необходимо было срочно просить президента распустить Рейхстаг и назначить новые выборы, ведь правительство находилось в «подвешенном»
состоянии, его полномочия в любой момент могли быть поставлены под сомнение. При этом
Гитлер с готовностью обещал Папену и Гугенбергу, что вне зависимости от исхода выборов,
состав правительства останется тем же. Эта гарантия их немного успокоила, а неослабевающий
напор со стороны Гитлера сделал остальное. По сути, Гитлер сумел, находясь в меньшинстве,
силой продавить нужное ему решение там, где для этого не было достаточных оснований – ни
юридических, ни фактических. Реальность прогнулась под его натиском. Новые выборы были
назначены на 5 марта.
Историки иногда говорят, что выборы 1933 года были последними свободными выборами в Германии – но «свобода» этих выборов уже была довольно относительной. Теперь в
распоряжении НСДАП оказалась вся мощь «административного ресурса», доступного в рамках весьма несовершенной Веймарской конституции. Такова участь любого псевдо-демократического режима, который, опасаясь за свою сохранность, создает антидемократические механизмы для «законного» подавления конкурентов. Если кому-то из этих конкурентов когданибудь удастся прорваться к властным рычагам, в их руках окажется все необходимое для
укрепления этой власти и вытеснения всех потенциальных соперников на политическую обочину. Геббельс радовался, как ребенок, заполучивший в свои руки новые блестящие игрушки –
впервые в его эксклюзивном распоряжении оказалось радио, а также широчайшие возможности для влияния на центральную печать. Теперь он мог по-настоящему дать волю своей творческой фантазии.
А самое главное – теперь однозначно не было недостатка в деньгах. Крупные германские
промышленники приветствовали правое правительство – они рассчитывали, прежде всего, что
оно сумеет обуздать сильно беспокоившее их профсоюзное движение и дать отпор коммунистам. Зная это, Гитлер собирался заставить их заплатить сполна. Те, кто со скрипом и сомнениями давали ему деньги, пока он боролся за власть, оказались гораздо сговорчивее теперь,
когда власть была в его руках. Более того, к ним с удовольствием готовы были присоединиться
и те их коллеги, кто в дружбе с нацистами прежде замечен не был вовсе. Встреча с представителями крупного бизнеса (их собралось больше двух десятков) была проведена 20 февраля
в резиденции президента Рейхстага (которым, напомним, был все тот же «многостаночник»
Герман Геринг). Организовывал мероприятие Яльмар Шахт, Геринг и Гитлер выступали перед
гостями и общались с ними неформально. Среди присутствовавших были главные имена германской экономики – Крупп фон Болен (ранее не поддерживавший НСДАП, по некоторым
сведениям, даже интриговавший против назначения Гитлера канцлером, но после этого назначения в одночасье ставший большим другом и почитателем нацистов), Бош, Шницлер (глава
гигантского химического концерна И.Г. Фарбен, который впоследствии будет активно использовать труд заключенных Аушвица на своем производстве). Гитлер выступил с речью, которая была настоящим панегириком частному предпринимательству вообще и «капитанам индустрии» в частности. Уж они-то, говорил фюрер, как никто другой должны были знать, что
главным условием для развития частной инициативы является вовсе не демократия, а порядок, твердая власть и волевое лидерство. Все материальные богатства – дело рук немногих
избранных, а культура и цивилизация расцветают тогда, когда насаждаются, при необходимости, железным кулаком.
Нетрудно заметить, что Гитлер обращался не столько к реальным немецким «олигархам»,
сидевшим перед ним, сколько к их воображаемому образу самих себя. Это у кого там была
«несгибаемая воля» и «железный кулак»? У Круппа, готового полностью сменить свою политическую ориентацию за одну ночь в угоду новой власти? Правда заключается в том, что крупный
73
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
бизнес любит воображать себя властителем судеб страны, но на деле, за редким исключением,
им не является. В реальности он всегда следует за правящим режимом, деньги всегда вторичны
по отношению к власти, и самый надежный способ привлечь их – это прорваться к этой власти,
любыми правдами и неправдами. Именно это и сделал Гитлер. Исход встречи был уже предрешен, фюрер лишь польстил промышленникам, умаслил их, заверил в их собственной значимости – чтобы им было веселее расставаться с деньгами. Когда речь шла о его намерениях, он
был предельно – даже неожиданно – откровенен. Он уничтожит марксистов в Германии. Он
восстановит мощь германской армии (здесь был прямой интерес для многих присутствующих,
которым масштабная программа перевооружения сулила выгодные контракты). Он не собирается отдавать власть – с их помощью или без нее. Если ему не удастся удержать эту власть
законным способом, он готов применить «другие методы». Выступавший за ним Геринг развернул эту мысль еще откровеннее: предстоявшие выборы имели все шансы стать последними
выборами в Германии на следующие десять лет, а может быть – и на следующие сто. В интересах бизнеса было раскошелиться сейчас, чтобы пожинать плоды этого сотрудничества потом.
Нацистские руководители говорили не как просители, представляющие свой «бизнес-план»
спонсорам. Они выступали как подлинные, уже состоявшиеся хозяева Германии. Они говорили так, будто это сидевшие перед ними «олигархи» были соискателями их будущей милости.
И это сработало. Крупп фон Болен – тот самый Крупп фон Болен, который меньше месяца
назад до последнего выступал против назначения Гитлера – вскочил и горячо поблагодарил
канцлера за столь ясное и вдохновляющее выступление. Шахт пустил по кругу шляпу. Там и
тогда, на месте, они собрали три миллиона марок, и это был только маленький задаток.
Слова об «уничтожении марксистов» не были пустым разговором – и присутствовавшие
бизнесмены уже об этом знали. Еще в первых числах февраля Гитлер (который, как мы помним, незадолго до этого воспротивился запрету Коммунистической партии, поскольку в тот
момент ему это было невыгодно), запретил любые собрания коммунистов и закрыл все их
печатные органы. Попутно досталось и социал-демократам – их мероприятия теперь систематически разгонялись штурмовиками СА, которые развернули настоящий уличный террор.
Он затронул даже центристов – у них были свои собственные католические профсоюзы, и это
автоматически поставило их в глазах «коричневых рубашек» на одну доску с социалистами.
Штегервальд, руководитель центристских профсоюзов, был избит, и даже самому экс-канцлеру
Брюнингу пришлось спасаться бегством и искать защиты у полиции. Всего за время избирательной кампании в уличных столкновениях были убиты 51 противник нацистов и 18 штурмовиков.
Самым большим разочарованием для Гитлера и его сподвижников было то, что ожидавшаяся ими попытка левой революции так и не состоялась, несмотря на то, что поводов для
открытого восстания новое правительство дало в изобилии. Анализ дневников того же Геббельса показывает, что коммунистическая угроза для нацистской верхушки в 1933 году была
не просто фигурой речи: ей не только стращали избирателей, к ней реально готовились. На
передовой этой подготовки был Геринг в своем качестве министра внутренних дел Пруссии.
Вопреки всем ожиданиям, что он будет находиться строго в подчинении у Папена, Геринг
очень быстро «ушел в отрыв», проводя волюнтаристским образом политику, абсолютно не
согласованную со своим предполагаемым начальником. По сути дела, национал-социалистическая партия уже начала подменять собой германское государство – с того момента, как чиновник крупнейшей и важнейшей из германских федеративных земель начал в своих практических действиях руководствоваться политикой своей партии, а не указаниями вышестоящего
должностного лица. В первую очередь, Геринг произвел широкомасштабные кадровые перестановки во вверенном ему ведомстве, уволив несколько сот человек (в том числе 22 из 32
начальников полицейских управлений) и заменив их членами НСДАП, в основном – из рядов
СА и СС. Полиции было строго запрещено вступать в конфронтацию с боевиками СА, СС и
74
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
«Стального шлема», зато было приказано «беспощадно бороться» с «врагами государства»,
при этом поощрялось применение огнестрельного оружия. 22 февраля (через 2 дня после
встречи с промышленниками) Геринг своим приказом создал «вспомогательную полицию»
численностью в 50 000 человек, причем комплектовать ее предполагалось следующим образом: 40 000 человек – из подразделений СА и СС, оставшиеся 10 000 – из «Стального шлема».
По сути, все эти меры в совокупности означали, что полиция в Пруссии (а Пруссия, на секундочку, составляла примерно 2/3 Германии) была отныне не просто подконтрольна нацистам –
она из них в значительной степени и состояла, частью из вчерашних штурмовиков, но большей
частью – из вполне сегодняшних. Члены новой «вспомогательной полиции» несли службу в
своей партийной униформе, от обычных штурмовиков их отличала только не слишком приметная повязка на руке. Отличить, кто там еще обычный штурмовик, а кто уже «вспомогательный
полицейский», имеющий законное право задерживать, досматривать и проверять документы,
было, надо думать, не всегда просто. Можно сказать, что создание «вспомогательной полиции»
было со всех практических точек зрения важнейшим (может быть, ключевым) шагом к приданию чисто партийным организациям СА и СС официального статуса.
Конечно, не вызывает особых сомнений, что угроза революции для нацистов была в
первую очередь поводом для закручивания гаек. С другой стороны, похоже, они исходили
из того, что попытка восстания будет вполне настоящей – хотя бы потому что им трудно
было представить себе, чтобы коммунисты просто так покорно снесли все направленные против них репрессивные меры нового правительства. Тем не менее, ожидаемая со дня на день
революция все никак не начиналась. Сейчас, имея задним числом доступ к информации о
том, что происходило в это время в среде германских левых, это кажется естественным и
вполне логичным. Коммунистическая партия Германии сама по себе не обладала достаточными ресурсами для того, чтобы осуществить революцию. В рабочем движении в целом доминировали социал-демократы. Теоретически левые разных толков могли бы объединиться на
базе антифашизма, перед лицом прямой и непосредственной угрозы, но проблема была в том,
что германские коммунисты не были самостоятельной силой. КПГ получала значительную
часть финансирования – а вместе с ним, вполне естественно, и инструкции – из Москвы, по
линии Коминтерна. Нам необходимо понимать, что для зарубежных коммунистических партий Коминтерн в это время был чем-то гораздо большим, чем «международная ассоциация»
или «организация сотрудничества». Он являлся – ни много ни мало – всемирной коммунистической партией, по отношению к которой отдельные «национальные» партии были лишь
секциями, обязанными соблюдать субординацию. А позиция Коминтерна по ситуации в Германии была недвусмысленной – всякое сотрудничество с социал-демократами исключалось.
За этим стоял сложный комплекс причин. Одной из них было то, что в горячечном мире узколобых партийно-фракционных интриг, в котором давно уже жили лидеры марксистов, многим реально казалось, что гораздо большая угроза «мировой революции» исходит как раз от
«розового» социал-лемократического движения, от умеренных левых, готовых отказаться от
насильственных методов борьбы и встроиться в существующую политическую систему, чем от
«сил мирового фашизма». К тому же, и понимание природы этого самого «мирового фашизма»
было весьма слабым и неустойчивым (что подтверждается, кстати, самим фактом существования обобщающего термина «фашизм» – ведь он означает, что у коммунистических идеологов
отсутствовало понимание неоднородности данного движения, сложности и глубины противоречий между отдельными его течениями – например, между собственно итальянским фашизмом и германским национал-социализмом, которые долгое время рассматривали друг друга
весьма недружелюбно, и сохраняли сомнения даже на пике военного союза). Вполне вероятно,
что и однозначное понимание, кто такие нацисты – враги или союзники/попутчики – сформировалось еще не во всех головах в Москве. С одной стороны, Гитлер был знаменит своей
непримиримой антикоммунистической риторикой. С другой, программа и пропаганда наци75
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
стов имели ощутимый «левый налет», а в самой партии существовала влиятельная левая фракция, которая, теоретически, вполне могла еще взять верх. Да и разве сам Гитлер несколько раз
не выступал de facto союзником коммунистической фракции в Рейхстаге при важных голосованиях? Со стороны, не имея нашего «послезнания», вопрос в тот момент и впрямь мог показаться не таким уж однозначным. Так или иначе, никакой попытки коммунистического восстания в Германии так и не было предпринято. Вместо этого, значительная часть руководства
КПГ просто ушла в подполье, а кое-кто и бежал в СССР.
Ситуация начинала откровенно напрягать нацистское руководство. Коммунисты наотрез
отказались им подыгрывать – а ведь именно неумолимо надвигающаяся зловещая угроза
революции была универсальным оправданием всей той «чрезвычайщины», которую нацисты
активно начали плодить в стране с момента назначения Гитлера. Да, похоже, что многие из них
и сами вполне искренне верили в эту угрозу, но это лишь усугубляло нелепость положения, в
котором они оказались. В Германии 1933 года еще было кому задавать неудобные вопросы, и
такие вопросы начинали вызревать. Необходимо было предпринимать какие-то срочные меры.
24 февраля прусская полиция нагрянула в берлинскую штаб-квартиру КПГ, «Дом Карла Либкнехта». Партийный офис оказался пустым – руководство коммунистов покинуло его еще за
пару недель до того. Тем не менее, в подвале было найдено много печатных материалов, пропагандистских брошюр и листовок. Геринг официально заявил, что среди прочего там были
обнаружены документы, свидетельствующие о том, что коммунисты готовили революцию, но
даже он сам понимал, что без предъявления конкретных недвусмысленных доказательств звучит это как-то неубедительно и голословно. Публика встретила это заявление скептическим
молчанием. Почва начинала явственно уходить у нацистской пропаганды из-под ног.
Вечером 27 февраля 1933 года вице-канцлер фон Папен и президент фон Гинденбург
ужинали в элитном Херренклубе в центре Берлина, буквально за углом от Рейхстага. Смеркалось. Внезапно Папен, взглянув в окно, заметил странные багровые отблески на небе. Один из
официантов, нагнувшись, шепнул ему на ухо, что горит Рейхстаг. Папен и Гинденбург кинулись туда, где из окна поверх крыш домов был виден его характерный застекленный купол. Он
выглядел так, будто был подсвечен изнутри прожекторами. Вспышки, вырывавшиеся языки
пламени и клубы черного дыма не оставляли сомнений в сути происходящего. Здание германского парламента было охвачено сильнейшим пожаром.
Гитлер, которого в эксклюзивный клуб не пригласили, в этот вечер ужинал у четы Геббельсов в их фешенебельной квартире на Рейхсканцлерплатц. Фюрер в этот период своей
жизни очень любил гостить у тех из своих ближайших соратников, у кого были семьи – видимо,
это давало ему, вечному холостяку с запутанными и туманными взаимоотношениями с женщинами, ощущение некой социальной вовлеченности, «нормальности». После смерти первой
жены Геринга, эту функцию принял на себе Геббельс, как раз недавно женившийся на Магде
Квандт, женщине разведенной, самостоятельной, обеспеченной, яркой и довольно социально
активной, которая к тому же была всерьез увлечена нацистской идеологией еще до того, как
познакомилась с ним. Ужин уже закончился и компания сидела в гостиной, ведя расслабленную беседу, когда зазвонил телефон. Услышав новости, Гитлер и Геббельс немедленно помчались к месту событий, где уже застали сильно возбужденного, кричащего и размахивающего
руками Геринга, командующего полицией и пожарными. Президент Рейхстага, судя по всему,
прибыл через считанные минуты после того, как сработала пожарная сигнализация. В принципе, сам по себе этот факт был совершенно не удивителен, поскольку его резиденция находилась прямо напротив через площадь, и пожар он буквально мог видеть из собственного окна.
Сомнения внушало другое – уже был задержан подозреваемый в поджоге, странный молодой
человек, которого заметили через окно шатающимся в холле Рейхстага непосредственно перед
возгоранием. Задержанный очень кстати оказался голландским коммунистом по имени Маринус ван дер Люббе. Собственно, официальное расследование на практике этим и ограничи76
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
лось – сначала Геринг, а вскоре и сам Гитлер выступили с заявлениями, которые однозначно
возлагали вину за поджог Рейхстага на Коммунистическую партию. У Геринга – совершенно
случайно, конечно же – при себе оказались готовые списки «врагов государства», которые и
были немедленно переданы полиции и СА для целей розыска и задержания. Естественно, коммунисты оказались в этих списках почти в полном составе, но помимо них там значились имена
многих социал-демократов, а на всякий случай – и просто известных пацифистов. Геринг в
пылу риторики вообще-то грозился не просто арестовать всех коммунистов, а «вздернуть их в
ту же ночь», или, чуть позже, «пристрелить их как собак на месте». На практике до резни дело
(пока) не дошло, но под стражу было взято около трех тысяч человек.
Кто на самом деле поджог Рейхстаг (и по чьему приказу) – вопрос, который, как ни
странно так и не получил ясного и однозначного ответа до сегодняшнего дня. Сам ван дер
Люббе с готовностью признал свою вину (вообще, очень похоже, что он был человек психически не вполне нормальный), да и застигнут он был, что называется, с поличным и при
большом количестве свидетелей. Проблема была в другом – пожар был очень уж сильным
(настолько сильным, что все пожарные бригады Берлина два часа не могли его остановить,
за каковое время здание превратилось в выжженный остов). Причем сильнейшее возгорание
началось буквально через две минуты после того, как коммунист-поджигатель проник в здание
через окно (согласно его собственным показаниям). Никаких особых горючих материалов у
голландца при себе не было – для розжига он использовал… собственную рубашку. Спрашивается, что же могло полыхнуть в злосчастном здании с такой силой и так быстро?
Слухи о том, что к пожару были так или иначе причастны сами нацисты, поползли почти
сразу же. Конкретных материальных доказательств не было, но очень уж все было подозрительно, в особенности – поведение Геринга, который будто заранее знал, что должно было произойти, и успел заблаговременно подготовиться – чего стоили одни только пресловутые списки
врагов! Многим был известен факт, что здания Рейхстага и резиденции Геринга (расположенной, напомню, ровно напротив через площадь) были соединены подземным ходом. Позднее
европейские левые проведут свое собственное альтернативное расследование с привлечением
различных экспертов (никто из которых, впрочем, лично не присутствовал на месте событий)
и выдвинут версию, что примерно в одно время с ван дер Люббе (о намерении которого поджечь Рейхстаг нацисты знали и активно его к этому подталкивали – нашлись свидетельские
показания о том, что голландца видели где-то в компании штурмовиков СА) в здание через
тот самый подземный ход проникла хорошо подготовленная и оснащенная команда поджигателей (с бензином и всем необходимым). Пока злополучный пирокоммунист разводил свой
слабенький костерок, эти люди и устроили настоящий, широкомасштабный, правильно спланированный пожар. Мозгом операции, естественно, называли Геринга (хотя кое-кто полагал,
что изначально идея принадлежала Геббельсу). Учитывая все обстоятельства, версия выглядит
правдоподобно – но положа руку на сердце, необходимо все же помнить, что по-настоящему
весомых, «железобетонных» доказательств непосредственно из 1933 года у нас нет.
Много позже, на Нюрнбергском трибунале, всплыли показания Гизевиуса, офицера
Гестапо и служащего прусского Министерства внутренних дел, который подтвердил, что поджог был организован нацистами – но не им лично, конечно. Однако мы не можем быть уверены,
насколько он говорил объективную правду, насколько – повторял «общеизвестные» слухи, а
насколько – пытался выслужиться перед трибуналом, переложив побольше ответственности на
своих бывших коллег. На том же трибунале генерал Франц Гальдер сообщил, что в каком-то
застольном разговоре уже во время войны слышал, как Геринг прямо заявил: «это я сжег Рейхстаг». Надежность этих показаний (естественно, ничем другим не подкрепленных) – опятьтаки, где-то 50×50. Уже в 1960-е годы в Германии выходили труды вполне серьезных и уважаемых историков, доказывавшие, что ван дер Люббе был единственным поджигателем, так
что простор для сомнений остается. Автор, со своей стороны, склонен согласиться с версией
77
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
о нацистском заговоре – по крайней мере, она выглядит весьма вероятной и хорошо согласуется с характером именно Германа Геринга – человека, весьма обаятельного внешне, но абсолютного циника внутри, с особым пристрастием к театральности и лицедейству (достаточно
вспомнить его издевательство над Папеном в Рейхстаге).
При всем при этом, хочется подчеркнуть, что хотя никто не отрицает преступлений и
общего правового нигилизма нацистов (эти люди были железно убеждены в своей исторической правоте, а потому не особо утруждали себя расследованиями и доказательствами), сам по
себе этот факт не делает коммунистов кристально чистыми и непогрешимыми. Не вызывает
особых сомнений, что если бы в тот момент в Германии у власти оказалась Коммунистическая партия (тем или иным способом), последовала бы примерно такая же волна бессудного и
противоправного террора. Ситуация, по большому счету, была из серии «вор у вора дубинку
украл», а поражение коммунистов в борьбе с национал-социалистами было вызвано вовсе не
стремлением оставаться в рамках правового поля и не благородным неприятием политического насилия, а вполне конкретными стратегическими просчетами в Москве.
Нацисты, конечно, попытались извлечь из пожара Рейхстага максимальный пропагандистский эффект. Лейпцигский судебный процесс, посвященный этому событию, задуман был
как суд не над одним человеком, а над Коммунистической партией, и даже шире – над мировым
коммунизмом в целом. Забавно, что в этом смысле надежд он совершенно не оправдал. Чтобы
подчеркнуть политический и международный характер заговора, помимо ван дер Люббе, на
скамью подсудимых усадили главу парламентской фракции КПГ Эрнста Торглера, а также
троих заезжих болгарских коммунистов, попавшихся в руки полиции (Георгия Димитрова и
двоих его коллег, Танева и Попова). Однако никакого опыта организации публичных политических процессов у нацистов в 1933 году не было (да и ни у кого в мире еще не было – ведь те
же большие сталинские показательные процессы были еще впереди, и не исключено, что при
их проведении впоследствии были учтены ошибки, допущенные «германскими коллегами»
в Лейпциге). С ван дер Люббе, конечно, никаких проблем не возникло, он был быстро приговорен к смерти и обезглавлен на гильотине (именно так казнили по приговору суда в нацистской Германии), а вот с остальными вышел конфуз. Во-первых, их вину не смогли убедительно
доказать. Во-вторых, Димитров (опытный и убедительный оратор) успешно использовал ту же
самую тактику, которую в свое время применил сам Гитлер на суде в Мюнхене после «пивного
путча» – вместо пассивной защиты перешел в нападение и начал пламенно обличать своих
обвинителей, работая на публику и прессу, так что его пришлось много раз спешно удалять
из зала суда, останавливая процесс. В итоге болгар экстрадировали в СССР, а Торглера оправдали. Правда, это уже не означало его автоматического освобождения.
Дело в том, что за прошедшее время (а Лейпцигский процесс – это ноябрь 1933 года)
нацисты не сидели сложа руки, и Германия в которой разворачивался суд над «поджигателями Рейхстага», уже сильно отличалась даже от той Германии, в которой и произошел сам
поджог. Уже утром 29 февраля (буквально на следующий день после пожара, когда почерневшее здание, должно быть, еще дымилось) Гитлер созвал экстренное заседание кабинета. Правительство оказалось перед лицом сильнейшего политического кризиса, объявил он, и преодоление его потребует решительных и чрезвычайных мер. Мер, на пути которых не должны
вставать соображения права – не до щепетильности было в этот труднейший момент, когда
судьба Германии балансировала на краю пропасти. Разумеется, сам Гитлер не мог принять
никаких «чрезвычайных мер», конституция не давала канцлеру таких полномочий – это должен был сделать президент. И получив одобрение кабинета, тем же вечером Гитлер отправился
на прием к Гинденбургу (в сопровождении Папена, в точности в соответствии с договоренностью). При себе у него был проект указа о чрезвычайном положении, который предполагалось
принять в обход парламента, президентским декретом, в соответствии со все той же статьей
48 Веймарской конституции. Указ этот, ни много ни мало, приостанавливал (на время «чрез78
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
вычайной ситуации», т. е., называя вещи своими именами, на неопределенный срок) действие
тех статей конституции, которые гарантировали права и свободы человека и гражданина в Германии. Свобода высказываний, свобода печати и собраний отменялись. Неприкосновенность
личности, частной жизни и жилища серьезно ограничивались – полиция (а на деле, к тому
времени, как мы уже видели – и СА с СС) получила право произвольно врываться в дома с
обысками, производить почти произвольный личный досмотр и задержание.
Естественно, очень быстро встал важный практический вопрос – а что, собственно,
делать с таким количеством задержанных? Напомним, три тысячи человек – это только первая
волна арестов, по «проскрипционным спискам» Геринга и за компанию с ними, и это был не
конец, это было только начало. «Традиционные» процедуры ареста, полицейские и судебные,
требовали все-таки наличия каких-то юридических оснований, и к тому же соблюдения определенных формальностей – хотя бы в части оформления бумаг. От такого количества задержанных одновременно полиция попросту захлебывалась. Кроме того, задержать человека –
это одно дело, но если в кратчайший срок ему не удастся предъявить ничего конкретного, его
все-таки придется освободить, хочешь – не хочешь. Делать этого нацисты, конечно, не собирались – не для того все затевалось, чтобы слегка попугать и выпустить. Но в таком случае,
задержанных надо было где-то держать – тюремная система Германии попросту не была рассчитана на такое количество заключенных.
Решение было найдено простое и утилитарно-логичное, вполне в рамках обычного
нацистского отношения к праву («право соблюдается до тех пор, пока это не вступает в противоречие с соображениями государственной целесообразности; если вступило – тем хуже для
права»). Уже в первые дни террора СА начали сгонять попавших к ним в руки задержанных в
импровизированные лагеря. 22 марта 1933 года заработал первый в Германии «официальный»
концентрационный лагерь – Дахау.
Что такое концентрационный лагерь и в чем его принципиальное отличие от обычной
тюрьмы? Отличие это юридическое, и оно чрезвычайно важно.
Тюрьма – это место, где отбывают лишение свободы в рамках уголовного права – либо
в качестве наказания, либо в качестве предварительного заключение на время следствия. В
любом случае, чтобы отправить человека в тюрьму, требуется решение суда. Смысл наличия в
стране специальной судебной власти (в идеале, независимой) – в том, чтобы создать дополнительную гарантию соблюдения законности и защиты человека от произвола государственных
органов. Даже суд, не являющийся на деле независимым, все же создает хотя бы видимость
законности, и тем самым, по крайней мере, улучшает имидж государства на международной
арене. Суд в любом случае обязан следовать определенной процедуре (обычно, довольно сложной) и документировать свои действия. Если суд отправил человека в тюрьму, об этом, по
крайней мере, остались записи. Кроме всего прочего, в этих записях должны быть указаны
основания, срок и условия заключения. Основанием для судебного приговора является установленный судом факт виновности подсудимого в совершении того или иного уголовно наказуемого деяния. Иными словами, отправить человека в тюрьму не так уж легко – его нельзя
просто схватить на улице, бросить в застенок и забыть об этом, придется соблюсти уйму формальностей.
В отличие от тюрьмы, концентрационный лагерь находится вне уголовно-правовой (а
по правде сказать, и вообще вне правовой) системы. В концлагерь человека отправляют в
административном порядке, без всякого суда – простым росчерком пера чиновника. Чиновник отвечает только перед вышестоящим лицом в своей служебной иерархии, руководствуется
исключительно должностными инструкциями (зачастую закрытыми), и не связан никакими
условностями вроде уголовного кодекса, особенно в обстоятельствах нацистской чрезвычайщины. Он может обойтись минимумом записей, или даже без записей вообще – просто фамилия оказалась включена к какой-то длинный безликий список, а то и вовсе дело обошлось
79
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
кратким устным распоряжением. Был человек – и исчез. Строго говоря, у чиновника даже нет
необходимости устанавливать вину заключенного – достаточно простого факта целесообразности.
Нацисты изобрели удобную и универсальную формулировку – они говорили, что человек «взят под стражу в целях защиты». Защиты кого и от чего? А здесь можно было дать два
разных ответа, в зависимости от ситуации. Если лицо было более-менее известным, обеспокоенным родственникам или любым другим лицам, пекущимся о жизни и правах задержанного,
можно было сказать – «защиты его самого от его врагов и недоброжелателей». Ну вот узнало
доброе германское государство, что жизни и здоровью его гражданина угрожает опасность –
и решило припрятать его от греха подальше в безопасное место, пока опасность не пройдет.
Напомню, что все это происходило, вообще-то, на фоне льющихся из всех динамиков, радиоточек и со страниц печати красочных рассказов о чудом предотвращенном коммунистическом
мятеже, разветвленном заговоре, опутавшем всю страну, найденных зловещих документах, и
т. п. Благонамеренный обыватель вполне мог и поверить, что в распоряжении полиции оказались какие-нибудь «расстрельные списки», составленные коммунистами, в которых числилось имя его родственника/друга/сослуживца, и что теперь все, кто в них значился, временно
взяты под охрану – пока полиция не убедится, что все красные заговорщики нейтрализованы.
Чрезвычайная ситуация, а что вы хотели? Человеку зачастую достаточно лишь кинуть намек,
без подробностей – его воображение само дорисует остальное. На первых порах (сразу после
начала арестов), этого иногда хватало, чтобы успокоить людей в первом приближении.
Если же фигура задержанного была незначительной и не выглядела способной вызвать
общественный резонанс, можно было сказать и по-другому. «Взят под охрану для обеспечения
безопасности государства». Здесь также сохранялась двоякость – никто ни в чем конкретном
человека прямо не обвинял. Конечно, может быть, что его заподозрили в причастности к антиправительственному заговору и решили на всякий случай пока изолировать. С другой стороны,
он сам мог быть прямо ни к чему и не причастен, а просто относиться к некой категории лиц,
которых германское государство по тем или иным причинам сочло опасными, ненадежными
или нежелательными. В нацистской идеологии большое внимание уделялось понятию «асоциальности» – предполагалось, что определенные группы населения самим своим присутствием,
образом жизни и мышления подрывают здоровье общественного организма, и для блага общества их хорошо бы от этого общества профилактически изолировать. Опять-таки, это не подразумевало судебного приговора, или даже установленного факта вины в чем-либо конкретном. Просто такой «социальный инжиниринг», ничего личного. Самое главное во всем этом
(и самое удобное с точки зрения нацистов) – это произвольность, бесконтрольность и бессрочность такого заключения. В самом деле, если нет приговора суда, в котором указан срок, то
заключение может продолжаться столько, сколько необходимо – пока обстоятельства не изменятся, или пока не будет принято решение по каким-то причинам заключенного выпустить.
Концлагерь был чем-то вроде темного чулана, в который любого человека в любой момент
можно было спрятать «с глаз долой» – а потом, если понадобится, с такой же легкостью его из
этого чулана достать. Вот только чулан этот был очень страшный, заключенные в нем мерли
как мухи – и тех, кто их туда отправил, это вполне устраивало.
Позже, уже во времена «развитого» Третьего Рейха суды стали назначать заключение в
концентрационный лагерь как самостоятельное уголовное наказание, альтернативное обычной
тюрьме – то есть произошло уже смешение понятий. Или точнее, система чрезвычайного террора стала поглощать сохранившиеся остатки традиционного уголовного правосудия, подобно
тому, как нацистская партия поглощала институты германского государства, постепенно стирая грань между партийными и государственными структурами.
Так или иначе, к осени 1933 года у нового режима в Германии была эффективно отработана технология произвольной внесудебной изоляции своих противников, и поэтому оправда80
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ние в обычном уголовном суде (каковым был Лейпцигский процесс) само по себе еще совершенно не означало освобождения. Получив оправдательный приговор, Торглер тут же был
«взят под стражу с целью защиты» – грубо говоря, переехал из обычной тюрьмы в концлагерь,
уже безо всяких гарантий и на неопределенный срок. В его случае, правда, этот срок оказался
не особенно долгим – правительство Рейха сочло, что бывший коммунист может оказаться ему
полезен, и уже в 1935 году Торглера не только выпустили на свободу, но и взяли на работу
в Министерство пропаганды, где он и трудился в поте лица до самого конца войны. Благополучно пережив «тысячелетний рейх», Торглер даже попытался восстановить свое членство в
КПГ. Правда, бывшие товарищи назад его не приняли – были сведения, что за время своего
труда на благо Рейха жертва режима успела посотрудничать еще и с гестапо. Был ли у него
выбор – вопрос риторический, но недоверие к человеку после подобных кульбитов кажется
вполне логичным.
Последние (условно) свободные выборы в Германии при жизни Адольфа Гитлера состоялись 5 марта 1933 года. НСДАП на них, конечно, победила, как и следовало ожидать, но
победа эта все равно не была полной и окончательной – 44 % голосов избирателей, 288 мест
в Рейхстаге, что опять-таки не давало нацистам абсолютного большинства, которое позволило
бы обойтись вообще без коалиции. Социал-демократы потеряли некоторое количество голосов, но все же остались второй по численности фракцией. Центристы даже немного увеличили
свое присутствие, националисты остались примерно на тех же позициях, что и имели. И что
удивительно, несмотря на физический разгром значительной части партии, коммунисты все же
приняли участие в выборах, и хоть и потеряли порядка миллиона голосов, остались в Рейхстаге. Очевидно было, что у электората КПГ есть прочное и идейное ядро, которое будет голосовать за партию при любых обстоятельствах, пока она не будет полностью запрещена законодательно и снята с выборов вообще.
По крайней мере, выборы решили насущную проблему формирования коалиции. Привлекать к участию в ней центристов больше не требовалось – теперь НСДАП и Национальная
партия вместе имели простое большинство в 16 голосов. По крайней мере, законность правительства Гитлера больше не была под сомнением. Тем не менее, расслабляться было рано –
простое парламентское большинство, тем более, с таким небольшим перевесом, могло испариться так же легко и быстро, как образовалось. Для достижения абсолютной, гарантированной власти требовалось что-то большее.
Гитлер в свое время обещал Гугенбергу и Папену, что вне зависимости от исхода выборов, состав правительства не изменится. Однако он всегда умел творчески интерпретировать
данные обещания – вроде как, прямо ничего и не нарушил, а все равно сделал по-своему.
Действительно, никто из министров старого состава своих мест не потерял. Однако директор Рейхсбанка формально министром не был, и Гитлер без особого стеснения заменил Ганса
Лютера на хорошо известного всей Германии (но преданного уже лично ему) Яльмара Шахта
(Лютер был отправлен послом в США). К тому же, Гитлер ведь, когда раздавал обещания,
ничего не говорил о создании новых министерских портфелей. 14 марта Геббельс был назначен министром пропаганды и народного просвещения. На самом деле, в этом, конечно, не было
ничего неожиданного – этот пост был обещан Геббельсу давным-давно, и информированные
люди ждали его назначения еще в конце января (тогда отсутствие Геббельса в новом правительстве для многих оказалось полной неожиданностью). Однако в то время Гитлеру важно
было продемонстрировать скромность, чтобы не напугать президента и своих партнеров по
коалиции чересчур резкими движениями. Теперь же повестка дня изменилась. Для того, что
Гитлер собирался сделать дальше, ему необходим был в том числе и тотальный контроль над
средствами массовой информации.
В этот период он окончательно прощался с «открытыми» методами политической
борьбы – с демократической партийной политикой, крутящейся вокруг выборов. Мы должны
81
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
понимать, что уходя целиком и полностью в политику «закрытого» типа – политику кулуарных
интриг и переговоров за закрытыми дверями – Гитлер вступал на поле, где было много сильных
и опытных игроков. Те же Гинденбурги (старший и младший), Папен, да, наверное, и Гугенберг, имели больше опыта в кабинетно-коридорных играх, и, по всей видимости, искренне
полагали, что находятся в более выгодном положении на фоне Гитлера, которого считали всего
лишь удачливым популистом и демагогом, хорошо умеющим завести толпу и творящим чудеса
на выборах. Гитлеру предстояло показать, что и в «закрытую» политику он умеет играть ничуть
не хуже. Вот только «закрытая» политика в его исполнении была «закрытой» политикой принципиально нового типа. Из демократической политики Гитлер принес туда, во-первых, всеобъемлющую медийность. Классические кабинетные интриганы Веймарской Германии любили
тишину. Для Гитлера политика была прежде всего шоу, театром. Оперой Вагнера. Даже если
публика не видела, как непосредственно принимались решения, она постоянно должна была
наблюдать яркие внешние спецэффекты. Имидж правителя был важнейшим элементом его
власти. Общественное мнение больше не выражалось через выборы – но будучи правильно
срежессированным и направленным в нужную сторону, оно могло стать эффективным рычагом давления, влияющим на принятие решений за закрытыми дверями. Равно как и второй
ключевой элемент, принесенный Гитлером в затхлый кулуарный мирок с улицы – использование грубой, зримой и открытой силы для прямого воздействия. Грубо говоря, нужные решения
за закрытыми дверями принимаются куда веселее, если по ту сторону этих дверей дежурят
вооруженные штурмовики, а под окнами ревет толпа, взвинченная пропагандой через массмедиа. Теперь, когда начиналась по-настоящему большая и серьезная игра, без Геббельса было
уже не обойтись.
И он немедленно развернул кипучую деятельность. Тотальный контроль – так тотальный
контроль. Декрет о чрезвычайных полномочиях, среди прочего, упразднявший свободу слова,
давал ему все необходимые инструменты для «наведения порядка» во вверенной ему сфере.
Неугодные, хоть сколько-нибудь оппозиционные периодические издания закрывались мгновенно, издатели и журналисты массово арестовывались без долгих разговоров. Так что концлагерь в Дахау подоспел как раз вовремя.
За день до его открытия в Берлине начал свою работу Рейхстаг нового созыва. Дата была
выбрана неслучайно – именно 21 марта в далеком 1871 году Бисмарк открыл первую сессию
Рейхстага Германской империи. Геббельс, занимавшийся организацией церемонии, выжал из
этой параллели максимум возможного. На торжественную церковную службу был собран сонм
старорежимных персонажей из кайзеровских времен при полном параде, в мундирах и орденах, во главе с кронпринцем и фельдмаршалом фон Макензеном. Гинденбург (тоже при полных регалиях, включая шлем с остроконечным навершием и фельдмаршальский жезл) пару
раз даже прослезился ностальгически. Церемонии этой, правда, суждено было остаться самым
памятным и славным моментом в истории Рейхстага 1933 года. Во-первых, потому что здание
парламента к тому времени уже месяц стояло выгоревшей развалиной, и после праздничной
службы депутатам предстояло отправиться заседать в оперный театр. А во-вторых, потому что
и там полноценно работать им было суждено очень недолго. Два дня спустя, 23 марта, перед
палатой выступил канцлер.
Гитлер говорил много, и, как всегда, красноречиво, продолжая гнуть линию тяжелого
положения Германии и страшной опасности, которую пока что героическими усилиями удалось отвратить, но которая, тем не менее, продолжала угрожать стране. Ситуация оставалась
чрезвычайной, и она продолжала требовать чрезвычайных мер. Полномочий, данных ему президентским декретом, как показала практика, было недостаточно. Президент не мог произвольно, по своему усмотрению, изменять конституцию. Между тем, в нынешних условиях правительству на какое-то время требовалась вся полнота власти, а передать ему всю полноту
власти не позволял заложенный в конституцию принцип разделения властей.
82
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Замечательный принцип, сам по себе, но – для спокойных и сытых времен, не для того
момента, когда государство балансирует на грани пропасти. Поэтому Гитлер и выносит на рассмотрение депутатов новый законопроект, который он назвал «Закон об облегчении бедственного положения народа и Рейха» (германской публикой того времени, а также иностранными
наблюдателями и последующими историками это цветистое название употреблялось редко – в
основном, этот документ называли просто «актом о наделении полномочиями» – не путать с
предшествующим декретом Гинденбурга о чрезвычайном положении). Смысл его был в том,
что вся полнота законодательной власти временно (разумеется, только временно, на 4 года)
передавалась правительству. Отныне оно имело право самостоятельно, без участия Рейхстага,
принимать акты, имеющие силу закона, в том числе – утверждать бюджет и самостоятельно
вносить поправки в конституцию. Проекты законов теперь будет предлагать канцлер, причем
отдельно оговаривалось, что эти проекты могли и отклоняться в каких-то аспектах от положений конституции (то есть даже оформлять как поправки их было необязательно). Эти законы
ни в коем случае не должны были ограничивать оставшиеся прерогативы Рейхстага и президента. Рейхстаг не упразднялся, нет. Он продолжал существовать. Он даже мог заниматься
какой-то «нормальной» парламентской деятельностью. Вот только деятельность эта теперь
могла иметь разве что символическое значение, потому что правительство отныне спокойно
могло обойтись без него и вообще забыть о его существовании.
Разумеется, этот закон означал внесение изменений в конституцию, а потому простого
большинства голосов для его принятия было недостаточно – требовалось квалифицированное
большинство в две трети. Конечно, задачу облегчало то, что фракция коммунистов в полном
составе отсутствовала в зале – одни ее представители сидели за решеткой, другие пустились
в бега или ушли в подполье. Оставались социал-демократы, и их лидер, Отто Велльс, даже
поднялся и выступил против (вызвав в ответ гневную тираду от Гитлера в свой адрес). Но
у социал-демократов было лишь 84 места, и сами по себе, в одиночку, они не могли остановить законопроект. В какой-то момент его судьба балансировала буквально на лезвии ножа.
Нацисты и националисты были за, социал-демократы против, коммунисты отсутствовали. В
этих условиях все зависело от последней оставшейся фракции – партии Центра. Все взоры,
как пишут в дешевых романах, устремились на ее лидера, монсеньора Кааса.
Не так давно, как помнит читатель, Гитлер активно заигрывал с Каасом, склоняя его
к вхождению в правую коалицию. Переговоры остановились на том, что Каас потребовал от
Гитлера письменную гарантию, что тот будет править в строгом соответствии с конституцией.
Гитлер даже вроде бы на словах обещал дать такую бумагу – но фактически не дал. А потом
новые выборы сделали вопрос о вхождении центристов в коалицию вообще неактуальным,
Гитлер и Гугенберг смогли обойтись своими силами. Так что теперь сторонний наблюдатель, в
принципе, мог ожидать от Кааса чего угодно. Сочтет ли он себя обиженным и обманутым? Или
предпочтет вспомнить только то, что с ним готовы были вести переговоры как с доверенным
партнером? Ну, почти.
Каас поднялся, и спокойным, негромким голосом сказал, что его партия поддержит законопроект, предложенный канцлером.
Голосование состоялось. 441 депутат проголосовал «за», лишь 84 социал-демократа
«против». Квалифицированное большинство было достигнуто.
Как это получилось? Почему депутаты – и далеко не все из них нацисты, и далеко не
все из них даже связанные с нацистами какими-то формальными обязательствами и союзами –
проголосовали с таким редким единодушием за закон, который (как они не могли не понимать)
делает их ненужным и нелепым атавизмом?
Почва, конечно, была неплохо подготовлена пропагандой. Последний месяц депутаты
жили в обстановке постоянно нагнетаемой и подпитываемой истерии, с ежедневными рассказами о заговорах и угрозах – и не только рассказами, ведь повальные аресты, обыски и улич83
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ный террор создавали неповторимую атмосферу массового психоза. Именно в этой атмосфере
депутаты готовились к судьбоносному заседанию 23 марта. Они шли на работу по улицам,
заполненным штурмовиками. Само здание театра в этот день было взято в плотное кольцо
боевиками СА. Они не были пассивными наблюдателями – они живейшим образом реагировали на происходившее внутри, и присутствие их очень хорошо ощущалось в зале. Например,
когда выступал Отто Велльс, тысяча луженых глоток снаружи принялась скандировать: «Полномочия! Полномочия!» Когда были оглашены результаты голосования, все депутаты национал-социалистической фракции, как один человек, вскочили на ноги и хором затянули гимн
«Deutschland über Alles», и пение было немедленно подхвачено всеми штурмовиками снаружи.
Эффект был, должно быть, впечатляющий.
Несомненным, однако, является тот факт, что Гитлер в общем и целом победил еще до
начала заседания. 23 марта он мог чувствовать себя уже вполне уверенно, потому что Рейхстаг
уже был сломлен. Демократии в тот момент там было уже не сильно больше, чем на сталинских
съездах. Этот парламент и избран-то был уже в обстановке весьма сомнительной демократичности, и было бы, честно говоря, очень странно, если бы он вдруг начал за эту демократию всерьез сражаться. Да, формально никто не заставлял каждого конкретного депутата голосовать
именно так, как он голосовал, но к тому моменту в Германии в целом и здесь, в зрительном
зале оперного театра «Кролль», в частности, была создана такая психологическая, идеологическая и политическая обстановка, что иной результат голосования был крайне маловероятен.
Все фигуры были расставлены. Уже с утра 23 марта Рейхстаг, по сути, был не более, чем куском пластилина в руках у Гитлера. Даже участь социал-демократов была, по большому счету,
уже предрешена – вспомним, что в прошедший месяц они частично уже попали под репрессии
наряду с коммунистами. Согласитесь, было бы странно, если бы после такого они стали голосовать за то, чтобы дать этому правительству еще больше полномочий!
В общем и целом, можно сказать, что историки, которые говорят, что германская демократия закончилась 23 марта 1933 года (вот до этого дня она была, а потом ее раз! – и не стало),
сознательно или неосознанно выдают желаемое за действительное, пытаясь свалить всю вину
за крах демократии на одного лишь Гитлера. Между тем, демократия в Германии к тому времени закончилась уже давным-давно, и Гитлер нес за это меньше ответственности, чем многие. Что действительно закончилось 23 марта, так это «закрытая» политика старого веймарского образца – того рода, которая делалась на тайных встречах в кулуарах президентского
дворца, без вынесения на публику. Закончился «междусобойчик» старой веймарской «теневой» элиты, группировавшейся вокруг Гинденбурга и его ближайшего окружения – каковая
«теневая» элита, в общем-то, как раз и погубила немецкую демократию. 23 марта было триумфом принципиально новой антидемократической политики медийности и открытого силового
давления. И это было лишь легким аперитивом наступавшей новой эпохи.
В совокупности два закона – о чрезвычайной ситуации и о наделении полномочиями –
позволяли Гитлеру править страной, по сути, всецело по своему усмотрению, как полновластному диктатору. Понятно, что такую власть берут не для того, чтобы просто оставить все, как
было. Германия окончательно превратилась в диктатуру по сути – то есть сбылось, наконец,
то, к чему она давно шла стараниями многих политиков, еще до того, как Гитлер стал звездой
первой величины на ее небосклоне. Теперь же и внешнюю форму необходимо было привести
в соответствие с содержанием.
Гитлер начал с федеративной структуры государства. Первым законом, принятым в
новом порядке в соответствии с Актом о наделении полномочиями (то есть без участия Рейхстага), стал закон от 31 марта 1933 года, который распускал законодательные собрания всех
федеральных земель, кроме Пруссии. Их предписывалось сформировать заново на основе
результатов последних федеральных парламентских выборов (но без учета голосов, поданных
за коммунистов). Правительства земель были нейтрализованы еще раньше – в рамках закона
84
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
о чрезвычайном положении, путем назначения полномочных рейхскомиссаров (опять-таки,
во все земли, кроме Пруссии). Наконец, 7 апреля канцлер подготовил новый закон, который
решал вопрос окончательно. Отныне в земли просто централизованно назначались губернаторы, обладавшие в рамках своей земли полномочиями, сходными с полномочиями канцлера
на федеральном уровне, и строго иерархически подчиненные Берлину. Они могли своими указами назначать правительства земель, формировать и распускать местные законодательные
собрания, назначать и увольнять всех чиновников и судей. Все вновь назначенные губернаторы
были членами НСДАП.
Почему Пруссия была выделена таким особым отношением? Дело в том, что ее правительство и ландтаг нацисты уже неплохо контролировали. Там сидел Геринг, который стремительно становился уже чем-то большим, чем просто министр внутренних дел, превращаясь в
форменного мини-диктатора. Поэтому Пруссия была удобным полигоном, лабораторией, где
как раз в это время успешно отрабатывались различные «новаторские идеи». В апреле, опираясь на подведомственные ему структуры прусской полиции (уже, как мы помним, подвергшиеся изрядной «нацификации») Геринг начал формирование принципиально новой полицейской структуры, призванной охватить своей деятельностью не только Пруссию, но и всю
территорию Рейха. Он назвал эту организацию Государственной тайной полицией, или сокращенно – Гестапо (по аналогии с принятыми в Германии сокращенными наименованиями «традиционных» полицейских подразделений – Крипо, «криминальная полиция», и Орпо, «полиция общественного порядка»). Руководителем Гестапо Геринг назначил Рудольфа Дильса,
бывшего начальника Политической полиции Пруссии (кстати, Дильс был одним из немногих
не-нацистов, оставленных Герингом на высоких должностях в силу незаменимости – изначально он был вообще-то социал-демократом). Гестапо, таким образом, было не партийной
структурой (как СС, подразделением которого его часто считают в популярном представлении), а чисто полицейской. Вполне можно было служить в Гестапо, и не быть при этом членом СС, а то даже и НСДАП (хоть с течением времени это и становилось все менее вероятным). Вообще, именно в силовых структурах наиболее ярко проявилась головоломная до
шизофреничности запутанность бюрократии Третьего Рейха, с вечно пересекающимися компетенциями, дублирующими друг друга функциями и даже альтернативными системами званий и иерархической подчиненности, в которых один и тот же человек одновременно мог занимать несколько разных позиций. Особенно значительный вклад в создание этой «неевклидовой
геометрии» внес именно Геринг – человек энергичный, нетерпеливый, с кучей неортодоксальных идей, к тому же крайне честолюбивый. В его манере было запустить множество инициатив
сразу по разным направлениям, не очень задумываясь о том, как вписать их в уже существующие организационные структуры, в идеале – замыкая их все на себя лично. Гестапо у него со
временем заберут, но он еще долго будет относиться к этому ведомству с особой ревностью и
пристрастием, как к любимой игрушке.
В это же самое время Геринг создал и еще одну организацию – гораздо менее известную,
чем Гестапо, но ничуть не менее важную – так называемое Управление научных исследований
(Forschungsamt, сокращенно ФА).
Впоследствии оно будет формально подчинено Министерству авиации, но изначально
это было независимое ведомство, и основной его функцией была организация технической
прослушки. Прослушки всего и вся – телефонных звонков и устных переговоров, причем как
частных лиц, так и всех госучреждений, и в особенности – соратников Геринга по партии. Развитие технологии как раз к 1930-м годам сделало эту задачу вполне выполнимой – но Геринг
был первым в Германии (а весьма вероятно, что и в мире), кому пришло в голову систематизировать и централизовать эту деятельность в таких масштабах. И конечно, сосредоточить
контроль над ней в своих руках, надолго установив почти что монополию. ФА – пожалуй, наименее известная из всех спецслужб Третьего Рейха (и видимо, наименее «гламурная»), но при
85
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
этом ее значение трудно переоценить. Еще долгое время все остальные полицейские ведомства нацистского государства (включая и Гестапо, и СД) вынуждены будут ходить на поклон
к Герману Герингу, когда им будет нужна систематическая прослушка высокого уровня или
широкого охвата. А тот еще будет выбирать – какой информацией поделиться и с кем, часто –
из двух-трех конкурирующих инстанций. Геринг отлично сознавал, что информация является
важнейшим ресурсом и страшнейшим оружием. В мире нацистской политики обладание или
необладание ключевой информацией в нужный момент часто было равнозначно жизни или
смерти, поэтому ФА был бесценным ресурсом. И уже очень скоро он начнет отрабатывать свой
хлеб.
Между тем, демонтаж государственных и общественных институтов Веймарской республики продолжался. Теперь пришла очередь профсоюзов.
Немецкие профсоюзы были одним из столпов германского общества с самого начала
истории Республики. Неоднократно им доводилось участвовать и в германской политике – так,
именно профсоюзы сыграли решающую роль в провале попытки военного переворота в марте
1920 года (так называемый «капповский путч», устроенный частями фрайкоров при пассивной
позиции регулярной армии, который в итоге был сорван всеобщей стачкой, организованной
профсоюзами). Мы видели, как на профсоюзы пытался опираться тот же Шляйхер. Хотя влияние на них имели в основном социал-демократы, а не радикалы-коммунисты, рабочее движение в Германии оставалось реальной силой, традиционно вызывавшей неприязнь правых, и
в ответ не питавшей к ним никаких теплых чувств.
Тем удивительнее и тем более неожиданным для всех стал широкий жест Гитлера, который, кажется, вдруг решил замостить эту пропасть. Первое мая было объявлено в Германии
государственным праздником – Национальным днем труда – и по этому случаю назначены
масштабные торжества. На крупнейшую в истории страны рабочую манифестацию и сопутствующие ей мероприятия в Берлин были приглашены лидеры профсоюзного движения со
всей Германии. Праздник (организацией которого, естественно, занимался Геббельс), удался
на славу. Гитлер выступил перед восторженной стотысячной массой трудящихся с проникновенной речью. НСДАП прежде и превыше всего была рабочей партией, подчеркивал он. Уважение к труду и защита интересов рабочих всегда будут стоять для нее во главе угла. Праздник Первого мая отныне будет отмечаться в Германии всегда, на столетия вперед, пообещал
канцлер.
И ведь, что самое интересное, формально совершенно не соврал. Как всегда, Гитлер знал,
как именно надо сформулировать свои обещания, чтобы они звучали красиво и помпезно, но
чтобы при этом их совершенно не пришлось нарушать в дальнейшем при неуклонном проведении все той же заранее намеченной политики. Уже на следующий день, 2 мая 1933 года, все
лидеры профсоюзов были арестованы (благо, они так удобно собрались в одном месте), офисы
профсоюзов по всей стране захвачены, а все средства на их счетах конфискованы. Германское
профсоюзное движение прекратило свое существование в один день. Но при этом – да, Первое мая действительно осталось одним из важнейших праздников Третьего Рейха, а на смену
разгромленным профсоюзам быстро пришли новые рабочие организации – правда, чисто партийные, строго централизованные и подконтрольные государству. Часть из них уже была заранее сформирована внутри нацистской партийной организации – в том своеобразном теневом
«государстве в государстве», которое Гитлер кропотливо строил еще со второй половины 1920х. Пропагандистскую важность заботы о благополучии рабочего класса фюрер НСДАП понимал отлично, так что для повышения уровня жизни и условий труда среднестатистического
рабочего при нацистах действительно будет сделано немало – вот только о независимости и
свободе выбора им можно будет забыть, а социальные гарантии в нацистской интерпретации
чем дальше, тем больше будут означать потерю контроля над своей жизнью, как профессиональной, так и личной.
86
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Следующими на очереди были политические партии. 10 мая полиция, действуя по приказу Геринга, арестовала все имущество, принадлежавшее Социал-демократической партии,
в том числе здания и типографии. Часть партийных функционеров была арестована. Партия
и ее парламентская фракция, однако, еще продолжали функционировать. 19 мая оставшиеся
депутаты от социал-демократов вместе со всем Рейхстагом проголосовали в редкостном единодушии, выразив свое безоговорочное одобрение внешней политике правительства. В своем
верноподданическом рвении, партия даже приняла заявление, обличающее тех из ее бывших
руководителей, которые эмигрировали из Германии и теперь высказывались неодобрительно
о новой власти. Видимого эффекта это не возымело, и месяц спустя, 19 июня, СДПГ, видимо,
отчаявшись доказать свою благонадежность и стремясь откреститься от всяких следов своей
прежней оппозиционности, избрала новое руководство. Не помогло. Всего лишь через три
дня распоряжением министра внутренних дел Фрика партия была распущена как «враждебная
государству и ведущая подрывную деятельность». Новое руководство партии и социал-демократической фракции было арестовано. Остальные партии посыпались, как карточный домик,
из-под которого выдернули основу. Большая часть их уже и так не имела реального политического веса, а потому решения о самороспуске «от греха подальше» давались им с замечательной легкостью: в конце июня это сделали демократы, 4 июля – Народная партия (из рядов которой когда-то вышел канцлер Штреземанн). На следующий день, 5 июля, самоликвидировалась
партия Католического Центра. К тому моменту, правительство Гитлера уже перестало быть
коалиционным. Еще 21 июня полиция и штурмовики СА просто тихо заняли все помещения,
принадлежавшие Национальной партии по всей стране. 29 июня Гугенберг подал в отставку с
поста министра экономики и сельского хозяйства. В тот же день было объявлено о добровольном самороспуске партии. Нацисты остались одни. 14 июля эта ситуация была закреплена в
законе, который прямо называл НСДАП единственной политической партией в Германии, и
объявлял любую попытку создания другой партийной организации уголовно наказуемым деянием. Теперь это само по себе каралось тремя годами лишения свободы «при отсутствии более
тяжелого состава преступления».
Меньше полугода понадобилось Германии, чтобы превратиться в жесткую идеологизированную партийную диктатуру. Никаких попыток организованного сопротивления не было –
если, конечно, не считать таковой одну-единственную парламентскую речь Отто Велльса. Да
и та не получила никакого развития и продолжения даже со стороны его собственных однопартийцев, которые вместо того, чтобы «позвать народ на улицы», или любым иным способом
вынести вопрос из стен Рейхстага, тут же кинулись доказывать свою лояльность. Между тем,
хочется напомнить, что Веймарская Германия последних лет своего существования отнюдь
не была тихой и «травоядной» демократической страной. Террор и «силовая» уличная политика отнюдь не были для нее чем-то новым, шокирующим и беспрецедентным. Все выборы
последних лет сопровождались уличными столкновениями и политическими убийствами. У
большей части безропотно «самораспустившихся» партий, вообще-то, имелись собственные
военизированные отряды – по численности, конечно, уступавшие СА, но ведь при желании
они вполне могли бы объединиться временно для спасения Республики. Проблема была не в
страшном злом Гитлере. Она была в том, что Республику, в общем-то, почти никто и не хотел
спасать. Германская демократия уже умерла, и речь шла всего лишь о дележе наследства, а в
этом вопросе каждый был исключительно сам за себя. Немецких политиков не надо обвинять в
глупости. Они как раз действовали абсолютно разумно. Если речь шла исключительно о своем
выживании и материальном благополучии, попытка договориться с наметившимся победителем – или, по крайней мере, не рассориться с ним бесповоротно – действительно была оптимальным способом действий, с точки зрения рисков и затрат. Это за абстрактные идеи люди
могут жертвовать собой – ради материальной выгоды делать это никакого смысла не имеет,
ведь для того, чтобы этой выгодой воспользоваться, надо как минимум быть живым. Риско87
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
вать – да, возможно. Но разумный просчитанный риск подразумевает возможность (и даже
желательность) вовремя выйти из игры, если вероятность победы становится слишком низкой.
Вот лидеры германских партий и вышли. Гитлер победил, потому что в этой покерной партии
все игроки кроме него спасовали.
Между тем, еще в апреле-мае 1933 года – т. е. даже до того, как процесс концентрации власти завершился – жизнь в Германии начала отчетливо приобретать черты мрачного
сюрреалистического карнавала. 1 апреля был провозглашен общенациональный бойкот еврейского бизнеса, в первую очередь – розничной торговли. 10 мая толпы нацистских «активистов»
устроили сразу в нескольких городах налет на частные и публичные библиотеки, после чего на
площадях запылали костры из запрещенной (согласно спискам министра Геббельса) литературы. И это явно был еще не конец. Гитлер сам открытым текстом сказал об этом в своих речах
в мае – и снова повторил в июне: «Германская национальная революция еще не окончена!»
Немцы затаили дыхание.
Как пелось в известной советской песне, «есть у революции начало – нет у революции
конца.» А то, что процесс, разворачивавшийся в Германии, был именно революцией, сомневаться не приходится. Причем началась она задолго до 1933 года. Чтобы яснее понять это,
полезно еще раз провести параллель с хорошо знакомыми нам событиями в России. Ведь
экономическое и социально-политическое положение Германской и Российской империй в
начале XX века было схоже в ряде ключевых аспектов, при всех частных различиях. То и
другое общество находились в процессе глубокой, разносторонней и стремительной по историческим меркам социальной модернизации, оставаясь при этом весьма консервативными по
своим внешним формам. По сути, оба общества стояли одной ногой в будущем, а другой –
в прошлом. Быстро растущая капиталистическая экономика рвала в клочья традиционный
уклад жизни, коренящейся в аграрной эпохе, и непросто уживалась с феодальными пережитками, вроде остатков старой сословной системы. Общество всегда боится быстрой модернизации. На политической арене этот страх выражается через появление влиятельных консервативных, традиционалистских и фундаменталистских течений разной степени радикальности.
В мягком варианте эти течения призывают к разумному консерватизму, к сохранению наследия, в жестком – к возращению к той или иной идеализированной модели прошлого. Причем
эта модель может и не позиционироваться как «образ прошлого», это может быть просто некое
абстрактное «идеальное общество», но по сути своей модель все равно будет глубоко архаическая (человек вообще, видимо, неспособен придумать «общество будущего», свободное от
исторических прецедентов – как бы он ни старался, в результате все равно выйдет вариация
на тему прошлого – как и получилось у коммунистов).
Глубокие противоречия, конечно, сами по себе не означали, что катастрофа была неизбежна – но для их благополучного преодоления за счет внутренних ресурсов обществу требовались десятилетия эволюционного развития в относительной изоляции и безопасности. Этот
бесценный ресурс был в свое время у островной Великобритании (которая первая в мире прошла по подобному пути), но его были категорически лишены все страны континентальной
Европы. Первая мировая война многократно обострила ситуацию для «переходных» империй, которые при спокойном и мирном развитии имели все шансы стать следующим поколением «капиталистических тигров» – Германии, Австро-Венгрии, России. Во всех трех случаях
результатом стал жестокий внутренний кризис и коллапс старой полуфеодальной государственности (в случае с Австро-Венгрией, осложненный еще и бесповоротным распадом единого
государства как такового). Везде к власти в первый момент пришли силы, которые считали
себя либералами-модернизаторами и видели свою задачу в скорейшем избавлении страны от
«пережитков прошлого». При этом сам кризис отнюдь не был преодолен, а просто вступил в
следующую фазу, поскольку социальные противоречия и страх, порожденный модернизацией,
никуда не делись – наоборот, они вскрылись и поднялись на поверхность.
88
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
А вот дальше развитие России и Германии пошло по разным сценариям. В России
«буржуазные либералы» из Временного правительства удержали власть всего лишь считанные месяцы, после чего были свергнуты большевиками, которые, несмотря на свой радикально-модернизаторский фасад, представляли собой на деле силу махрово-контрреволюционнную и ультра-консервативную. Они быстро реконструировали в стране сословное
общество, причем в куда более архаичной форме, чем та, в которой оно существовало до февраля 1917-го, а под флагом «социализма» выстроили экономику даже не феодальную, а близкую к государственнорабовладельческой, иными словами – сделали даже не «шаг назад», а
подлинный «скачок назад». Большевизм в этом смысле был наиболее радикальным выражением страха разлагающегося традиционного общества перед неизбежной модернизацией.
В Германии сложилось иначе. Германский аналог «Временного правительства» оказался
умнее и дальновиднее (возможно, еще и смог вовремя проанализировать печальный опыт
своих русских коллег), и сумел удержать власть на полтора десятилетия – этот режим мы и
называем Веймарской республикой. При этом антидемократические, ультрареакционные силы
в германском обществе никуда не делись – поскольку никуда не делся кризис и порожденный им страх модернизации. Но в силу специфики немецкого общества того времени, эти
силы нашли себе иное идеологическое воплощение – не через большевизм (который на германской почве, несмотря на ранние успехи, в итоге так и не прижился, оставшись чужеродным, привнесенным извне элементом, исключительно «рукой Москвы»), а через другую форму
социального утопизма – национал-социализм. Необходимо обратить внимание, что подъем
нацистского и родственных ему движений в Германии начался вскоре после демократического
переворота ноября 1918-го – примерно в тех же хронологических рамках, когда в России случилась большевистская революция. Таким образом, в России и в Германии после падения
«старого режима» имели место фундаментально одни и те же процессы, просто в силу ряда
исторических обстоятельств (многие из которых были полуслучайными, или обусловленными
влиянием конкретных личностей) протекали они с разной скоростью. В России процесс занял
полгода с небольшим. В Германии – пятнадцать лет. По историческим меркам разница не
такая уж большая, на самом деле, в масштабах эпохи то и другое все равно – сущее мгновение.
Разница становится заметна лишь с позиции конкретного живого человека из плоти и крови,
живущего здесь и сейчас. Германия в 1933 году, таким образом, переживала свой «октябрь
17-го».
Поэтому Гитлер был совершенно прав, когда говорил о происходящем, как о революции.
И прав, когда говорил в июне 33-го, что революция эта пока еще не завершена. Ключевой
вопрос революции (если вспомнить ленинскую формулировку) – это вопрос о власти. Добавлю
от себя – это вопрос об абсолютной власти. То есть – о полной концентрации власти в одних
руках (это не обязательно буквально руки одного человека, это могут быть в фигуральном
смысле «руки» некоего плотно спаянного и обладающего единой волей центра власти, предлагающего единый, внутренне непротиворечивый образ будущего). До тех пор, пока у власти
находится коалиция, у разных членов которой различные представления о будущем страны,
революция не завершена и обречена продолжаться в форме борьбы уже между революционерами. С этой точки зрения, о настоящем захвате власти большевиками в России – о том, что
большевистская революция состоялась – можно говорить только после того, как большевики
сумели нейтрализовать меньшевиков и эсеров.
Позвольте, может сейчас сказать читатель, но ведь к июлю 1933 года Гитлер благополучно отделался от коалиции, убрав из политики как консервативных националистов Гугенберга, так и ситуативных «попутчиков» вроде тех же центристов. Это так. Но дело в том, что
сама НСДАП, как мы уже неоднократно упоминали вскользь, вовсе не была такой монолитной
и идеологически однородной силой, как нам кажется «задним числом». Да, времена, когда Геббельс требовал исключить из партии «мелкого буржуа Адольфа Гитлера», а Штрассер угрожал
89
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
отколом всех северных отделений, прошли. Но так ли безвозвратно? Среди национал-социалистов по-прежнему существовало мощное «левое крыло» – потому что сама природа партии оставалась двойственной, «лево-правой», одновременно и национальной, и социальной.
В этом, конечно, заключалась и сильная сторона нацистов – источник их гибкости, позволявшей им с легкостью маневрировать между различными группами избирателей, в зависимости
от обстоятельств апеллируя то к одним, то к другим. Но это было важно, пока борьба велась
преимущественно демократическими методами. Ради успеха на выборах имело смысл закрыть
глаза на некоторые идеологические «вольности» отдельных соратников. Гитлер отлично умел
поддерживать неопределенность, позволяя различным людям интерпретировать свои слова и
действия так, как их это устраивало в данный момент. Это вообще очень удобное свойство
человеческого сознания – оно само легко заполняет лакуны в поступающей извне информации,
причем зачастую не руководствуется при этом формальной логикой, а просто выдает желаемое
за действительное. Человек с готовностью сам себя обманывает, если получившаяся в результате этого обмана картинка кажется ему неотразимо привлекательной. Таким образом можно
на некоторое время избежать однозначного выбора между двумя взаимоисключающими точками зрения. Но если речь идет о серьезных вопросах, это не может продолжаться до бесконечности – рано или поздно события заставят все-таки сделать этот выбор, окончательно и
бесповоротно.
Именно в таком «подвешенном» состоянии еще со второй половины 1920-х пребывал
вопрос об объединении после прихода нацистов к власти отрядов СА и регулярной германской
армии. Для руководства СА – Эрнста Рёма и его ближайшего окружения – это был вопрос
абсолютно краеугольный. Ядро организации составляли люди из старой кайзеровской армии
и фрайкоров. Вокруг этого ядра группировались многочисленные оппортунисты более молодого возраста, которые сами ни в Великой войне 1914-198 гг, ни в гражданской 1919-1920 гг
поучаствовать не успели, но были захвачены тем же самым пьянящим этосом «боевого братства» и общей «крутости». Т. е. это были люди, либо выброшенные из армии «за ненадобностью» (нередко – несмотря на реальные заслуги, награды и вроде бы неплохие карьерные перспективы, просто в связи с резким сокращением численности вооруженных сил), либо люди
более молодого поколения, которые хотели бы сделать карьеру в армии, имели для этого все
необходимые данные – но этот путь был для них закрыт в рамках Версальской системы, ограничивавшей численность германского рейхсвера смешными 100 тысячами человек. На протяжении 1920-х и начала 1930-х годов военизированные организации, существовавшие в Германии под эгидой различных политических движений (или в ассоциации с ними) были этакой
суррогатной альтернативой военной карьере для большого числа людей, лишенных возможности эту карьеру сделать. В некотором роде, это был стихийный ответ традиционно сильно
милитаризованного германского общества, поставленного в неестественные для него условия.
Парамилитарных организаций было много – свои отряды имелись почти у каждой значительной политической партии. СА, конечно, были самыми успешными – и потому самыми многочисленными из всех. Их успех шел рука об руку с успехом НСДАП, и трудно даже сказать, кто
больше помог кому – это классический вопрос «курицы и яйца». Строго говоря, СА с самого
начала имели высокую степень организационной независимости от партии – и сохранение этой
автономии было, по всей видимости, ключевым условием, на котором Рём согласился в 1930
году снова возглавить организацию. Гитлер в тот момент только что добился своего первого
крупного успеха на парламентских выборах. Он понимал, что вступает в принципиально новый
этап борьбы за власть – этап, на котором СА должны были сыграть важнейшую роль, так что
проверенный, надежный – и что самое главное, известный и популярный среди штурмовиков –
человек, вроде Рёма, был ему жизненно необходим, и обещать такому человеку Гитлер готов
был хоть золотые горы. Нюанс заключался в том, что (даже в большей степени, чем тот же Гре90
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
гор Штрассер) Эрнст Рём не был креатурой Гитлера – более того, имел все основания считать
себя как минимум равным ему.
В самом деле, мало того, что в будущую НСДАП Рём пришел раньше Гитлера (и внес,
кстати сказать, немалый, а как некоторые историки даже говорят – ключевой вклад в развитие
партии на первых порах), одновременно с этим он еще и в какой-то момент стал начальником того самого специального отдела военной разведки, агентом-информатором которого был
Гитлер. То есть, в каком-то смысле Рём до своего увольнения из рейхсвера осенью 1923 года
мог даже ощущать себя прямым начальником Гитлера (что подкреплялось и их воинскими
званиями – Рём все-таки закончил войну капитаном). То, что этот факт не вызвал заметных
конфликтов и публичных скандалов, что, напротив, Гитлер и Рём в период до «пивного путча»
вполне продуктивно и слаженно работали вместе, является свидетельством гибкости и способности к компромиссу не только Гитлера – но даже в большей степени Рёма (ведь именно
он в их тандеме формально был вышестоящим, а значит – должен был идти на более значительные уступки). Роли в этом тандеме распределились весьма гармонично – Гитлер взял на
себя собственно политическую и идеологическую сторону руководства, а также, разумеется,
функции главного оратора, а Рём, который с самого детства мечтал исключительно о военной
карьере, взвалил на себя всю силовую составляющую деятельности нацистов. Нетрудно понять,
что для него СА стали чем-то гораздо большим, чем просто подходящая работа для уволившегося из армии ветерана – столкнувшись с тем, что в постверсальской Германии его военная
карьера зашла в тупик, он нашел, по сути, альтернативный способ ее продолжить. Ведь на том
этапе партия недвусмысленно делала ставку на силовой захват власти – у Гитлера перед глазами был наглядный и свежий пример Муссолини с его «маршем на Рим», и очевидно, что
на том этапе будущее движения он представлял себе примерно в таком же духе – вопрос был
только, будет ли это «поход на Мюнхен» или сразу «поход на Берлин». Очевидно также, что в
любом подобном мероприятии именно СА предстояло сыграть ключевую и решающую роль.
А потому Эрнст Рём мог рассчитывать на самые радужные перспективы при новом режиме и
в обновленной германской армии.
Вполне логично поэтому, что резкое изменение концепции движения в 1925 году – когда
Гитлер решил сделать ставку не на скорый переворот, а на легальное партийное строительство –
вызвало первый серьезный конфликт между фюрером НСДАП и командующим СА. Рём ушел
и три года тяжело и неуклюже пытался как-то выжить «на гражданке», меняя профессии и
перебиваясь случайными заработками. В 1928 году он уехал в Южную Америку. Там как раз
начиналась война Чако, между Боливией и Парагваем, в которой обе стороны активно использовали иностранных военных советников, парагвайцы – русских белоэмигрантов, боливийцы –
немцев. Рём увидел в этом предложении спасительную соломинку, шанс хоть как-то вернуться
в привычную для него обстановку фронтового братства. Идея оказалась не слишком удачной –
войну-то себе Рём нашел, но вот культурная среда Боливии оказалась ему совершенно чуждой
и неприятной. Рём вдобавок ко всему был гомосексуалистом (еще в 1924 году он попал на
полицейский учет в связи с кражей его чемодана при весьма компрометирующих обстоятельствах), и если в Веймарской Германии, известной своими свободными нравами, он чувствовал
себя вполне свободно и комфортно, при условии соблюдения простых мер предосторожности,
то Южная Америка к людям его ориентации была весьма недружелюбна. Да и вообще – чужая
и непонятная война не оправдывала ожиданий. Совершенно не удивительно, что когда Рём
осенью 1930-го получил телеграмму от Гитлера с предложением вернуться и снова возглавить
СА, с фактическим карт-бланш на развитие организации, он схватился за это предложение с
готовностью и энтузиазмом.
Мы уже видели, что к моменту, когда Гитлер был назначен канцлером, численность СА
составляла уже 400 тысяч человек. Это, напомним, в четыре раза превышало численность сухопутной армии Веймарской республики на тот момент. Но это был далеко не конец. Звездный
91
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
час Эрнста Рёма только начинался. Широкая кампания террора была важнейшей составляющей национал-социалистической революции 1933 года, а поскольку СА играли в этой кампании решающую роль (ведь помимо собственно силовых уличных акций, управления концлагерями и службы в качестве вспомогательных полицейских, они еще и служили кадровым
резервом при реформировании старой полиции), неизбежно было, что значение этой организации в германском обществе (и без того уже весьма значительное) будет расти, вместе с ним
будет и дальше расти ее численность, а как следствие – будет расти и политический вес ее руководителя. Уже к июню 1933 года численность штурмовиков достигла – ни много, ни мало – двух
миллионов человек. Причем эти два миллиона человек отнюдь не собирались быть пассивным
и безмолвным орудием. Буквально через считанные дни после назначения Гитлера канцлером,
Рём начал заявлять права и претензии. Во-первых, он немедленно поставил ребром все тот
же больной вопрос об объединении СА и рейхсвера (что, при таком соотношении их численности, означало попросту подчинение рейхсвера лично Рёму). Если прямо сейчас это сделать
было невозможно по тем или иным причинам, то во всяком случае рейхсвер и СА необходимо
было уравнять в статусе. Здесь хорошо видны болезненные амбиции и комплексы руководства
штурмовиков и самого Рёма – ведь армейское офицерство в Германии считалось элитой из
элит, сливками нации, и офицеры СА – особенно те из них, кто в свое время вышел из военной
среды – очень остро ощущали рядом с ними свою ущербность. Кроме того, Рём хотел быть
министром обороны – что, в общем-то, означало бы примерно то же самое – организационное
подчинение рейхсвера и СА одному лицу, даже без формального их объединения.
Фюрер, однако, не торопился выполнять эти пожелания. Не препятствуя Рёму наращивать численность штурмовых отрядов и не отказывая ему в его требованиях прямо, он всячески затягивал время – а одновременно с этим вел переговоры как раз с теми людьми, кого
Рём считал (обоснованно) главным препятствием к реализации его планов, и вообще главными
его недоброжелателями – с верхушкой офицерского корпуса. Уже 2 февраля 1933 года (т. е.
всего через три дня после своего назначения) Гитлер тайно встретился с группой высших военачальников дома у главнокомандующего, генерала фон Хаммерштейна. Фюрер обратился к
генералам и адмиралам с двухчасовой речью, в которой заверил их, что не допустит в Германии никакой гражданской войны, и рассказал про задуманную им масштабную программу
перевооружения и военного строительства (что вызвало большой интерес и энтузиазм собравшихся). Очень скоро стало понятно, что это были не пустые слова – 4 апреля был создан Совет
обороны Рейха, который был призван, среди прочего, заниматься всей практической стороной
секретных программ.
Тем временем, СА почти безраздельно правили улицами германских городов. С самого
начала своей истории, штурмовые отряды были известны своими ярко выраженными левыми
тенденциями – для Рёма и его людей, как для Штрассера, национал-социализм был в первую
очередь социализмом (что, в общем-то, неудивительно, учитывая высокую концентрацию
неустроенных, недовольных и «лишних» людей в их рядах). Только, в отличие от того же
Штрассера, которого Гитлер смог более-менее приструнить, в случае с СА фюрер вынужден
был в значительной степени закрывать глаза на идеологические вольности – слишком нужны
ему были штурмовики, да и слишком реальную силу они представляли, трогать их всерьез
было откровенно опасно. Гитлер ограничился тем, что давая «коричневым рубашкам» резвиться на улицах и направляя их радикализм против своих политических соперников, между
делом, спокойно, не привлекая излишнего внимания, без особой спешки и помпы выращивал
альтернативную организацию, изначально выстроенную на принципах личной лояльности и
абсолютной идеологической «чистоты» – СС.
Непохоже, чтобы Рём чувствовал в этом какую-либо серьезную угрозу для себя. Судя по
всему, он искренне считал СС просто еще одним подразделением своих СА, и был уверен в
том, что они последуют за ним вместе с остальными (а если нет, то с легкостью будут сметены).
92
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
В конце концов, за плечами у него была двухмиллионная армия. В тот момент – весной 1933
года – вся Германия, должно быть, казалась ему безраздельно в его власти. В каком-то смысле,
так оно и было. Это мы сейчас знаем, каким изощренным политическим фехтованием занимался в это время Гитлер – но не надо забывать, что от большинства современников подробности закулисной кухни были скрыты. Зато абсолютная вакханалия революционных штурмовиков видна была всем. С того момента, как функции СА и полиции фактически слились, а
выходцы из СА стали наводнять полицейское руководство, нормальный правопорядок в стране
де факто закончился. В те месяцы в Германии почти каждый день кого-то громили – в первую
очередь, конечно истинных, потенциальных или мнимых противников нового режима (коммунистов, социал-демократов, журналистов, профсоюзы – на евреях пока внимания специально
не заостряли, хотя первые ласточки уже полетели и в эту сторону, в виде того же апрельского
бойкота). Но, думается, вместе с ними неизбежно попадало и немало вообще никак не причастных к политике людей – оказавшихся рядом, подвернувшихся под горячую руку, привлекших внимание некстати. Еще в большей степени это относилось к массовым и бесконтрольным арестам. Проверить, что случилось с человеком, вышедшим, например, с утра из дома, но
так и не добравшимся до работы, было крайне сложно. Он мог быть схвачен штурмовиками
(целенаправленно или по ошибке) и брошен в какой-нибудь импровизированный концлагерь,
мог получить (намеренно или случайно) дубинкой по голове и теперь лежать чуть живым гденибудь в канаве. А мог быть, в принципе, и просто убит – специально или за компанию. Тем
более, что полиция теперь имела прямые и недвусмысленные указания в любой спорной ситуации, не раздумывая, применять оружие – полицейского отныне могли наказать скорее за то,
что он не выстрелил, когда у него была возможность, чем за то, что он выстрелил и попал не в
того. Атмосфера в те дни была… ну вот, как если бы государство просто взяло и исчезло. Вот
только оно никуда не исчезало – напротив, именно оно-то и занималось всем этим террором.
Соблазн не ограничиваться революционными убийствами и избиениями, а перейти сразу
к революционным экспроприациям и рейдерским захватам, конечно же, был велик. В отдельных случаях энтузиазм уже брал верх. Но прямого указания – или хотя бы одобрения – не
было. И Рёма это начинало изрядно раздражать. Это революция, или это очередной верхушечный переворот в стиле Шляйхера, который никто, кроме непосредственных участников, и не
заметит? В его глазах, все это выглядело так, будто Гитлер колебался – сказал «а», но теперь
застыл в страхе, не находя в себе сил сказать «б». Так может быть, его нужно было подстегнуть?
«Нами уже одержана одна победа на пути германской революции.» – Заявил Рём в одной
из своих речей в июне. «СА и СС, которые ответственны за начало этой революции, не позволят предать ее на полпути… Если фарисеи считают, что национальная революция слишком
затянулась… значит, и впрямь пришло время национальной революции завершиться и превратиться в национал-социалистическую.» Рём и его последователи реально были готовы – более
того, очень хотели – идти дальше. Гораздо дальше. Разрушить вообще все институты старого
общества и заменить их новыми. Разрушить капитализм и экспроприировать собственность.
Сделать, в принципе, то, что сделали большевики в России, только разве что под национальными знаменами, опираясь на немецкий народ, а не на инородцев. Заодно, пока такие дела,
разрушить и старую армию как силу по определению реакционную и контрреволюционную,
и заменить ее подлинно народным ополчением. Кто должен стать его ядром? Естественно,
СА. Это не были идеи лишь небольшой группы людей, «вторая революция» витала в воздухе.
Какие-то социалистические струны дернулись в эти дни в душе даже у Йозефа Геббельса, казалось, давно распрощавшегося со своими прежними левыми идеалами – в его дневнике (этом
превосходном барометре мнений внутри нацистской верхушки) появились записи о том, что
«революция не должна останавливаться».
Вот в этом-то контексте и звучали примерно в то же самое время слова Гитлера о том,
что «революция еще не окончена». Разумеется, Гитлер не планировал никакого «перераста93
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
ния национальной революции в социалистическую» – не для того он так долго и кропотливо
выстраивал мосты с промышленниками и военными. Но сказать об этом открытым текстом
во всеуслышание, для широкой публики (т. е. и для рядового состава тех же СА), в данный
момент значило пойти на открытую конфронтацию с Рёмом. Конечно, такая конфронтация
была неизбежна рано или поздно – но штурмовики именно сейчас были сильны как никогда,
а ключ к победе над превосходящим по физической силе противником заключается в точном
выборе момента и условий для схватки. Поэтому пока что задача Гитлера заключалась в том,
чтобы эти условия готовить, одновременно затягивая время. Слова про «неоконченную революцию», конечно, призваны были успокоить Рёма. Но с другой стороны, в характерной гитлеровской манере, они действительно содержали в себе – где-то в глубине, на «втором дне» –
зерно истины. Революция действительно не была завершена, пока вся реальная власть не была
сосредоточена в одних-единственных руках, пока главный «силовик» нового режима мог позволить себе почти открыто шантажировать его лидера.
Поэтому решив благополучно проблемы с президентом, Рейхстагом, профсоюзами и
политическими партиями – т. е. всеми старыми институтами Республики, которые теоретически могли бы бросить ему вызов – Гитлер занялся решением проблемы СА.
Во-первых, требовалось как-то ограничить причиненный разгулом штурмовиков вред –
а именно, успокоить те важнейшие для Гитлера группы влияния, которые усматривали в СА
прямую и непосредственную угрозу для себя. С военными, как мы уже видели, Гитлер начал
плотно работать с первых же дней своего пребывания у власти. Теперь настал черед промышленников и экономической элиты. В первую очередь были исправлены «перегибы на местах» –
уволены люди, попытавшиеся в пылу революционного энтузиазма захватить контроль над ассоциациями работодателей, во главе ассоциаций были восстановлены Крупп фон Болен и Фриц
Тиссен. Был дан укорот другим энтузиастам, попытавшимся заняться практическим воплощением одного из пунктов изначальной программы НСДАП – о борьбе с крупными универсальными магазинами в пользу мелких лавочников. Министром экономики вместо Гугенберга был
назначен генеральный директор страхового гиганта Allianz Карл Шмитт. Если у кого-то успели
возникнуть какие-то иллюзии по поводу нацистской экономической политики, эти жесты призваны были наглядно подтвердить ее, в целом, консервативную природу. Чтобы ни у кого не
оставалось сомнений, Гитлер высказался вполне недвусмысленно в закрытом партийном кругу.
1 июля он выступил перед руководством СА и СС: «Я подавлю любую попытку нарушить существующий порядок так же беспощадно, как я беспощадно разберусь с этой так называемой
«второй революцией», которая приведет лишь к хаосу». Точки над i были, таким образом,
расставлены вполне однозначно, но в то же время – без вынесения на публику. Если до большинства населения что-то из этого и доходило, то разве что в виде туманных слухов. Но вот
конкретные дела они вполне могли видеть, и Гитлер приложил серьезные усилия к тому, чтобы
атмосфера чрезвычайщины в стране – которая была ему необходима в период утверждения
своей власти, как рычаг психологического давления – начала постепенно смягчаться и рассасываться. В указаниях о том, как следует обращаться с бизнесом, которые Гитлер раздавал свежеиспеченным нацистским функционерам на местах (например, недавно назначенным губернаторам, на встрече с ними 6 июля), сквозит лейтмотив «возвращения к нормальности». «Бурный
поток революции должен быть направлен в безопасное эволюционное русло… Поэтому мы не
должны отстранять от дел предпринимателя, если он хороший предприниматель, даже если
он еще не стал национал-социалистом, и в особенности если национал-социалист, которого
хотят назначить вместо него, ничего не знает о ведении дел. В деловой сфере, единственным
критерием должны быть способности человека.»
Для широкой публики – в особенности для тех самых «целевых» ее сегментов, которые
и пытался завоевать Гитлер – такая смена тенденции, конечно, выглядела обнадеживающе.
Правда, у многих рядовых нацистов – в особенности, у тех же штурмовиков – это рождало
94
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
все большее разочарование. Не так уж и мало людей присоединились к движению, купившись
именно на социалистическую часть риторики. Многим из них, должно быть, национал-социалисты казались изначально чем-то вроде более респектабельной вариации на тему коммунистов – таким же антикапиталистическим движением, только ориентированным не совсем уж
на пролетариев и люмпенов, а на нижний уровень среднего класса, ну и без засилья евреев,
с которым ассоциировались «красные». Наконец, немало было людей, которые жаждали революции из чисто прагматических соображений – рассчитывая поживиться как следует при переделе собственности. Летом 1933 года до них стало постепенно доходить, что революция пошла
каким-то не тем путем, на какой они рассчитывали.
Мы уже видели, как Гитлер умел при необходимости переключаться между режимами
«открытой» и «закрытой», демократической и антидемократической политики. Теперь он
демонстрировал примерно такую же гибкость в вопросах идеологии, легко и непринужденно
скользя по шкале «левый-правый». И после захвата политической власти он начал ощутимо
забирать именно вправо. Никакой национализации и экспроприации собственности. Роль СА,
подчеркивал он снова и снова, должна была быть чисто политической, не военной. Он не собирался покушаться на роль, статус и прерогативы армии. Более того, Гитлер начал раз за разом
публично подтверждать свой подчеркнутый пиетет в адрес этого института. «Сегодня нам в
особенности необходимо помнить о той роли, которую сыграла наша армия», – заявил он,
например, в речи, произнесенной 23 сентября в Нюрнберге, – «потому что все мы понимаем,
что если бы в дни нашей революции армия не встала на нашу сторону, мы с вами не стояли бы
здесь сегодня. Мы можем заверить армию, что мы никогда об этом не забудем, что мы видим
в ней носителей славных старых армейских традиций, и что мы всем сердцем и всеми своими
силами будем поддерживать дух армии».
Насколько такие панегирики были реально заслужены, а насколько они были авансом –
хороший вопрос, который не часто поднимают историки. Обычно слова Гитлера принимают
более-менее за чистую монету, и наличие по меньшей мере молчаливого согласия армейской
элиты, если не активной ее поддержки, при назначении Гитлера на должность канцлера принимается как данность. Думается, реальность была несколько сложнее. Надо учитывать, что в
начале 1933 года армия пребывала в политическом плане в довольно дезорганизованном состоянии после череды интриганских кульбитов Шляйхера, и у германского офицерства, судя по
всему, отсутствовал единый дееспособный лидер. Да, армейская среда в целом сохраняла непоколебимую лояльность Гинденбургу, но его авторитет уже давно был скорее морально-символическим. Теневым лидером на практике долгое время был Шляйхер, но авторитет его оказался настолько подорван, что он уже вряд ли мог рассчитывать на безоговорочную поддержку
даже своих «друзей» и протеже. В этой обстановке разброда и шатания Гитлер обеспечил
себе уверенную лояльность, по сути, лишь нескольких ключевых деятелей военного истеблишмента – вроде того же генерала Бломберга – и полагался на то, что их успокаивающее влияние
поможет удержать их сослуживцев от резких телодвижений. Расчет оправдался – армия осталась в роли пассивного, спокойно-доброжелательного наблюдателя. Какую-либо «активную и
неоценимую помощь» того сорта, о котором говорил Гитлер впоследствии, честно говоря, в
событиях января 1933-го усмотреть сложно. Не попытались свергнуть – и на том, как говорится, спасибо.
Скорее всего, пышные славословия Гитлера в адрес «наших армейских товарищей» были
все-таки вызваны в большей степени мыслями о будущем. Любому беспристрастному наблюдателю давно уже было очевидно, что фельдмаршал фон Гинденбург не задержится надолго в
президентском кабинете – вопрос был только в том, преставится ли он прямо на своем посту,
или все же успеет подать в почетную отставку по состоянию здоровья. В любом случае, это был
потенциально опасный момент – во-первых, в силу знаковости фигуры, во-вторых – потому
что Гитлеру необходимо было удержать в своих руках полноту власти (зря он, что ли, изощ95
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
рялся с чрезвычайным положением и законом о наделении полномочиями!), а для этого необходимо было так или иначе контролировать должность президента. Строго говоря, только эта
фигура в Германии еще сохраняла достаточно конституционных полномочий, чтобы бросить
вызов Гитлеру (ведь президент мог издавать декреты, имеющие силу закона, и Гитлер к тому же
прямо обязался не покушаться на его прерогативы). Понятно, что дряхлый и глубоко больной
Гинденбург сделать этого не мог, но к должности ни в коем случае нельзя было допустить коголибо более молодого и энергичного. Безопаснее всего для Гитлера было самому принять на
себя функции президента, став окончательным, совершенным, ничем не ограниченным диктатором. И вот в этот-то момент перехода полномочий лояльность армии могла оказаться ключевым фактором – по сути, армия оставалась единственной силой в Германии, способной в
этот момент оказать какое-то сопротивление.
Чувства, которые должен был испытывать по этому поводу Эрнст Рём, по-человечески
можно понять. Он-то, в отличие от этих хлыщей с лампасами и аксельбантами, вовсе не сидел,
сложа руки, в роли наблюдателя. Как он это, должно быть, видел, он-то и принес Гитлеру его
победу на блюдечке с голубой каемочкой. А теперь тот же самый Гитлер рассыпался комплиментами этим никчемным реакционерам, а его, Рёма, кормил сказками – «потерпи, дескать,
дружище Рём (Гитлер был с Рёмом на «ты» – единственный случай из всего нацистского руководства), не нервничай, не раскачивай лодку, подожди еще немного». Пока это еще кое-как
работало, но напряжение явственно начинало сгущаться. Рёму, в свою очередь, приходилось
аналогичным образом успокаивать и обнадеживать своих подчиненных. 5 ноября, выступая
перед ними, он приложил недюжинные усилия, чтобы донести мысль: вот многие говорят, что
СА утратили цель и смысл своего существования, но это совершенно не так! Правда, без конкретики все это звучало довольно бледно, и вряд ли ему удалось развеять сомнения надолго.
Чтобы немного разрядить обстановку, Гитлер 1 декабря 1933 года включил Рёма в состав
кабинета (вместе с Рудольфом Гессом, своим заместителем по партии). «Ввести в состав кабинета», конечно, это совсем не то же самое, что «назначить министром обороны» – статус вроде
бы повысился, но реальных полномочий у командующего СА не прибавилось. Вдогонку Гитлер написал по случаю наступающего Нового Года теплое и проникновенное поздравительное
письмо – адресованное лично «дорогому другу Эрнсту Рёму» (с традиционным обращением на
«ты»), но с явным расчетом, что прочтет его весь личный состав СА. Фюрер выражал благодарность штурмовикам и подчеркивал их ключевую роль и заслуги в германской революции. При
этом он, правда, снова не упустил случая подчеркнуть разграничение функций между СА и
армией: военные должны были охранять нацию о внешних врагов, в то время как штурмовики –
«защищать завоевания национал-социалистической революции и обеспечивать безопасность
национал-социалистического государства». Таким образом, армия отвечала за внешнюю безопасность Германии, СА же – за внутреннюю, они призваны были стать чем-то вроде «внутренних войск» Рейха. Гитлер четко обозначил свою позицию. Ближайшее время должно было
показать, насколько СА – и в первую очередь, их руководство – готовы ее принять.
Если у Гитлера и были какие-то иллюзии или надежды на сей счет, они развеялись как
дым в феврале, когда Рём подал ему меморандум со своими предложениями по реформе
вооруженных сил. В нем он снова излагал свою идею о том, что именно СА должны стать основой для формирования новой, «подлинно народной» армии. В качестве первого шага на пути
к этой реформе, все вооруженные группы в стране – рейхсвер, СА, СС, различные незапрещенные ветеранские организации вроде «Стального шлема» – должны были быть подчинены
новому, объединенному и усиленному министерству обороны. Вряд ли у кого-то могло возникнуть сомнение, кого именно Рём видел будущим министром. Меморандум вызвал вполне
ожидаемую бурную реакцию со стороны военных, и Гитлер его, естественно, отклонил.
Со стороны Рёма этот меморандум был если не объявлением войны, то уж точно – ясной
и недвусмысленной декларацией о намерениях. Для Гитлера это означало неизбежность столк96
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
новения. Рёму был предоставлен «золотой мост» для отступления – возможность сдаться с
сохранением лица и занять вполне почетное место среди верхушки нового режима. Но это
было бы место не рядом и не наравне с фюрером, место не соправителя и даже не второго
человека в Рейхе, это было бы место «одного из», на одном уровне с Герингом и Геббельсом.
Согласиться на это Рём был совершенно не готов. Что ж, если СА недовольны предложенным
им местом в жизни Германии, их необходимо было под это место переформатировать – потому
что иного им было не дано.
В феврале 1934 года Берлин посетил Энтони Иден – на тот момент, заместитель министра иностранных дел Великобритании. Цель визита, конечно, была совершенно не связана с
Рёмом – обсуждали так называемый «вопрос о разоружении». На самом деле, это был эвфемизм. По сути, дело обстояло как раз наоборот – Гитлер потребовал, чтобы, раз уж западные
союзники не стали выполнять свои обязательства по разоружению, предусмотренные Версальским договором, Германии тоже было позволено вооружиться до паритетного уровня. В противном случае, он угрожал выйти из Договора о разоружении и из Лиги наций. Идена прислали для попытки «конструктивного разговора». Но в процессе переговоров (видимо, для
того, чтобы лишний раз продемонстрировать свое миролюбие и готовность к партнерству) Гитлер конфиденциально сообщил «британскому партнеру» о своем намерении сократить численность СА (страшной радикальной военизированной организации, о которой люди на Западе
слышали много всяких ужасов) на две трети. Он был готов разоружить их и даже согласен на
проведение международной инспекции – чтобы мировое сообщество могло удостовериться,
что они не вооружатся обратно. Все бы ничего, но информация о переговорах просочилась
в газеты, вызвав вполне закономерное возмущение у Рёма и его подчиненных. Атмосфера и
без того была напряженная – теперь в ней все чаще начинали искрить разряды. На заседаниях
кабинета Рём неоднократно сцеплялся с генералом Бломбергом, вплоть до крика и взаимных
оскорблений. Бломберг не оставался в долгу – в марте он, например, обратился к Гитлеру с
жалобой на то, что СА вооружает некоторые из своих отрядов тяжелыми пулеметами, что привлекает слишком много нежелательного внимания к нарушениям условий Версальского мира
Германией (которые и так уже являлись секретом Полишинеля), и ставит под угрозу тайную
программу перевооружения.
Ситуация к тому времени имела неизмеримо большее значение, чем просто обмен
шпильками между двумя соперниками, или даже чем простая борьба за власть и влияние (каковой ее могли осознавать сами участники). По сути, боролись друг с другом не армия и СА (и уж
точно не персонально Бломберг и Рём), а два разных направления политики, две разных версии
национал-социализма, возможно даже – два разных Гитлера. Рём и СА образца 1934 года олицетворяли собой прошлое движения. Марширующий по улицам штурмовик, пожалуй, лучше
всего воплощал в себе дух нацизма периода борьбы за власть. В каком-то смысле, это были
более простые времена, а для многих членов партии (как рядовых, так и не очень) – наверняка, и более понятные и комфортные. И они закончились бесповоротно в тот миг, когда Гитлер принес присягу канцлера. Да, конечно, именно после этого началась самая дикая вакханалия штурмовиков – но именно в безудержности их разгула крылась неизбежность его скорого
конца. Ведь невиданная свобода, данная им Гитлером в этот период, имела очень узкую и конкретную цель – создать условия для захвата неограниченной власти. После того, как эта цель
была достигнута, надобность в атмосфере тотального террора отпала – и, как мы видели, Гитлер уже летом 1933 года осознанно и целенаправленно начал предпринимать шаги к разрядке.
Реальность изменилась. Теперь он был не просто фюрер радикальной политической партии, а
полновластный правитель государства. А в этом государстве были и другие силы помимо нацистов. И если одни из них можно было подавить и уничтожить, то в других Гитлер был теперь
заинтересован. У него было свое видение перспектив своего режима и будущего Германии, и
это видение было шире, чем прежние революционные агитки. Он не собирался отрекаться от
97
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
старых лозунгов или подвергать их сомнению – он просто не собирался руководствоваться ими
на практике. Достаточно сказать, что программу НСДАП – легендарные «20 пунктов», принятые еще на заре существования партии – никто и не пытался адаптировать к новым обстоятельствам. «20 пунктов», содержавшие в себе существенные социалистические элементы, благополучно пережили все взлеты и падения как Веймарской республики в целом, так и самой
партии – и сделали это без малейших изменений или поправок. С политическим документом
такое может произойти лишь в одном случае – если его никто всерьез не исполняет. Для ортодоксального нациста «20 пунктов» были символом веры, «священной коровой». Им положено
было поклоняться (иногда почти в буквальном смысле), но их не положено было рационально,
критически анализировать. И даже всерьез пытаться претворять в жизнь, на самом-то деле. В
каком-то смысле, Рём и его молодчики были ближе к изначальной идеологии движения. Гитлер зато был ближе к объективной реальности той Германии, которую они завоевали и подчинили себе. Можно сказать, что противостояние Рёма и Гитлера – это противостояние НСДАП
в старом смысле этого слова – и Третьего Рейха. Этот конфликт должен был быть разрешен,
а не законсервирован – и с каждым следующим ходом его участников становилось все яснее,
что разрешен он мог быть только радикально. Полумеры не сработают.
11 апреля Гитлер поднялся на борт крейсера «Дойчланд», которому предстоял поход из
Киля в Кёнигсберг (теперь отрезанный от основной Германии сухопутным «польским коридором»). Там канцлеру предстояло посетить очередные весенние маневры в Восточной Пруссии.
Вместе с ним на корабле присутствовали министр обороны генерал Бломберг, а также главнокомандующие армией и флотом – генерал барон фон Фрич и адмирал Рёдер. Представителей СА с ними не было. Эта внешне невинная оказия и была использована Гитлером, чтобы
провести решающий раунд переговоров с верхушкой военной элиты. Вопрос был один – что
делать после Гинденбурга. Гитлер (при поддержке Бломберга) представил свои предложения.
Рдер согласился сразу, фон Фрич попросил время на консультацию с ближайшими подчиненными из генералитета – это заняло еще месяц. Окончательное решение было принято 16 мая на
совещании армейского командования в Бад Наухайме – предложения Гитлера были приняты
единогласно. Суть этого «пакта» была следующей: после смерти Гинденбурга Гитлер принимает на себя полномочия президента. Армия обеспечит ему безоговорочную поддержку. В
обмен Гитлер гарантировал, что амбиции Рёма будут подавлены раз и навсегда, что численность СА подвергнется радикальному сокращению, и что армия и флот останутся единственными вооруженными силами в Германии. После того, как решение о принятии условий пакта
было принято, рейхсвер был приведен в боевую готовность, отпуска офицеров отменены.
Между тем, ситуация продолжала накаляться. Рассуждения про «вторую революцию»
не стихали. Рём и его окружение были главными источниками брожения, это было понятно
и ожидаемо, но на этом фоне ощутимо колебались даже некоторые, как казалось, вполне благонадежные личности, вроде того же Геббельса. Не было ни малейших сомнений – начнись
что серьезное, немедленно всплывут многие «фигуры из прошлого», вроде Грегора Штрассера
(все еще живого и даже сохранившего остатки влияния). Где-то рядом ходил кругами, подобно
старой, побитой, но все еще зубастой акуле, генерал фон Шляйхер. Наконец, почуяв в воздухе
дуновение перемен, стали поднимать голову и совсем уж неожиданные персонажи, вроде того
же вице-канцлера фон Папена, который 17 июня 1934 года произнес речь перед студентами
университета Марбурга, в которой резко критиковал политику правительства и призывал, в
частности, вернуть свободу прессы. Надо отдать должное – Папен, этот смешной тщедушный
человечек, которого мало кто в жизни воспринимал всерьез и который никогда не блистал особой смелостью и решительностью, произнес, на минутку, последнюю открыто оппозиционную
публичную речь в Германии до 1945 года. Это само по себе свидетельствует: власть Гитлера
многим уже казалась непрочной. Нацистский режим вплотную подошел к порогу кризиса.
98
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
На кого в этот момент мог опираться Гитлер? Геббельс был пока лоялен (и как раз отчаянно пытался пресечь циркуляцию копий речи Папена, разошедшихся по Германии со скоростью лесного пожара), но можно ли было доверять ему безоговорочно, учитывая его прошлые
левые симпатии и связи? Есть сведения, что еще в середине июня он встречался тайно с Рёмом
и вел с ним какие-то долгие разговоры за закрытыми дверями. А вот Геринг был однозначно
надежен – с того момента, как он получил армейское звание пехотного генерала от Гинденбурга, он уже мыслил себя принадлежащим скорее к старой офицерской касте, чем к революционной нацистской верхушке (в партийной униформе его с этого момента больше никто не
видел, только в военном мундире), а потому в новую линию Гитлера он вписался легко и органично. Кроме того, напомним, Герингу были подконтрольны две очень важные организации,
организационно абсолютно независимые от Рёма и не подверженные его влиянию – Гестапо
и ФА, то есть – готовый репрессивный аппарат и орган, занимавшийся техническим сбором
информации, главной функцией которого было знать все и обо всех.
Наконец, в недрах самого СА существовал «троянский конь» – организация, которую
Рём наивно считал подконтрольной себе, но которая изначально была построена на принципах лояльности персонально Гитлеру (на вполне благовидных основаниях – они же должны
были его охранять, как-никак) – СС. Вполне логично было и то, что именно фюрер, а не Рём,
назначал руководителя той службы, которая его охраняла – с 1929 года Рейхсфюрером СС
был Генрих Гиммлер. Хотя СС теоретически были частью СА, и должны были быть подотчетны его центральному командованию, Рём, судя по всему, не слишком по этому поводу беспокоился – ну подумаешь, какой-то небольшой отряд выпал из-под его прямого контроля, что
они смогут против остальных СА (численность которых весной 1934 года достигла уже двух с
половиной миллионов). Между тем, СС уже не были всего лишь «маленьким отрядом телохранителей» – они превратились в полноценную спецслужбу, со своим управлением разведки и
контрразведки – СД, начальником которой с 1932 года был молодой и амбициозный карьерист,
лишенный какой бы то ни было давней истории в партии, не имеющий за плечами прежних
лояльностей и «старой дружбы», избежавший идеологических расколов и баталий 1920-х, зато
буквально одержимый своей работой – Рейнхард Гейдрих. Именно Гейдриху Гитлер и поручил
(по всей видимости еще в мае, после того, как появилась определенность с позицией военных)
составление списка «врагов государства», подлежащих ликвидации. С Гейдрихом он мог быть
уверен, что никакие сентиментальные соображения не вмешаются в процесс.
Вдобавок ко всему перечисленному, 1 апреля 1934 года Геринг назначил Гиммлера по
совместительству еще и шефом своего Гестапо. И если в качестве Рейхсфюрера СС Гиммлер еще как-то теоретически подчинялся Рёму, то уж в качестве начальника Гестапо – точно
никак. СС и Гестапо вместе составляли убийственный коктейль: с одной стороны, фанатичные
и готовые убивать за свои идеи боевики, с другой – циничные профессиональные полицейские
с богатым опытом отлова инакомыслящих (ведь Гестапо было создано, как-никак, на основе
Политической полиции Пруссии – это люди все 20-е годы занимались, в сущности, тем же
самым, только теперь с них сняли законодательные ограничения и избавили от демократических условностей). Так что, каким бы неуязвимым не считал себя Рём, инструментов у Гитлера
было вполне достаточно.
То, что в списке Гейдриха будут не только штурмовики, было понятно с самого начала.
Возможно, что это вытекало из прямых указаний Гитлера. Если уж начинать широкомасштабный террор, то лучше постараться захватить всех основных врагов режима разом. Многие проницательные люди в те дни чувствовали, как «что-то витает в воздухе». Напряжение близилось
к своей разрядке, и разрядка эта, скорее всего, должна была быть кровавой. Курт фон Шляйхер еще 22 июня получил предостережение от известной журналистски Беллы Фромм. Белла
не знала ничего конкретного, но как человек, вращающийся в кругах берлинских «ньюсмейкеров», весьма отчетливо ощущала, что надвигается буря – и как разумный человек, была
99
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
абсолютно уверена, что уж Шляйхера-то она не минует. Но генерал от предупреждения отмахнулся: «Они не посмеют меня тронуть. Ты просто паникерша, Белла. Я ведь уже ушел из политики, кому я теперь нужен?» Шляйхер, конечно, лукавил. Даже если он еще не успел предпринять никаких конкретных шагов, личность его масштаба и его репутации просто физически
не могла долго оставаться вне политики, пока была жива и дееспособна. Политика неизбежно
шла за ним следом – как идет маньяк с топором за своей намеченной жертвой.
26 июня Гесс – бессменный секретарь и доверенное лицо Гитлера – посетил Гейдриха и
провел с ним длительное время за закрытыми дверями. Потом Гесс уехал, а Гейдрих вышел
из кабинета с еще одним списком в руках. Он был немедленно включен в уже существующий.
28 июня (в 15-ю годовщину Версальского мира) Рём был исключен из Германской лиги
офицеров. В это время Гитлер был в Руре – побывал на свадьбе у гауляйтера Тербовена, потом
в гостях у семьи Круппов. Все своим чередом, «бизнес как обычно». Между делом, Гитлер
позвонил из Эссена Рёму. Тот отдыхал в отеле «Ханзельбауэр» в городке Бад Висзее на берегу
баварского озера Тегернзее, в полусотне километров к югу от Мюнхена. Гитлер сообщил Рёму,
что он будет в Бад Висзее в 11 часов утра 30 июня, и хочет провести там важное совещание.
На это совещание он попросил собрать все высшее командование СА в полном составе. Дело
явно было важное. Может быть, Гитлер наконец созрел для откровенного разговора со старыми товарищами по партии? Рём немедленно разослал телеграммы всем крупным чинам СА
с приказом явиться к назначенному времени.
Одновременно Рём запланировал большой банкет, заботливо предусмотрев специальное вегетарианское меню для фюрера. Тем временем Геринг, находившийся в Эссене вместе
с Гитлером, спешно вылетел в Берлин – готовить все необходимое для реализации финальной
стадии плана, разработанного во всех подробностях Гейдрихом. Операция получила кодовое
название «Колибри», и на тот момент (вспомним, на дворе стоял 1934 год, и все самые знаменитые экзерсисы сталинского НКВД были еще в будущем), это был беспрецедентный шедевр
в своем жанре. И шестеренки убийственного механизма уже завертелись с возрастающей скоростью.
День 30 июня был субботой. В 2 часа утра Гитлер в сопровождении своей свиты вылетел из Бонна. По своему обыкновению, фюрер сидел в кабине рядом со своим персональным
пилотом, Гансом Бауром, молча слушая его комментарии – тот называл все города, над которыми они пролетали. Вид у фюрера был задумчивый, даже отсутствующий. Около 4 часов утра
самолет приземлился на аэродроме Обервайссенфельд, недалеко от Мюнхена, где его уже ждал
отряд солдат в полной амуниции. В их сопровождении Гитлер направился в баварское Министерство внутренних дел. Начальник полиции Мюнхена Август Шнайдхубер, по совместительству самый старший офицер СА в Мюнхене, был к тому времени уже арестован. Его привели
к Гитлеру. Последовала бурная сцена, во время которой Гитлер обвинил штурмовика в измене
и сорвал с него погоны, а Шнайдхубер кричал Гитлеру: «Убери от меня грязные лапы!» Его
отправили в тюрьму.
Вскоре после рассвета Гитлер выехал в Бад Висзее с вооруженным эскортом на двух
машинах. Приехали они почти в 7 утра. Рём и другие руководители СА еще спали. Они тихо
проникли в отель. Гитлер расставил своих людей в стратегических точках, и по его сигналу
офицер в штатском постучал в дверь номера Рёма. Рём был ошарашен спросонья. – «Что, ты
уже здесь?» – спросил он, увидев Гитлера на пороге. У фюрера в руке был пистолет. Нацелив
его на Рёма, он объявил, что тот арестован.
Одновременно были схвачены в своих номерах другие руководители СА. Одного из них
(начальника СА в Бреслау Эдмунда Хайнеса) застали в постели со своим водителем. Во главе
с Рёмом все арестованные были препровождены к машинам и вывезены в Мюнхен. Просыпающийся город не заметил ничего странного.
100
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Тем временем на железнодорожный вокзал Мюнхена начинали прибывать старшие офицеры СА, вызванные Рёмом на совещание. По мере того, как они сходили на перрон, их брали
под стражу вооруженные эсесовцы и отправляли в тюрьму Штадельхайм.
Вернувшись в Мюнхен, Гитлер немедленно занял так называемый «Коричневый дом» –
городскую штаб-квартиру СА. Ключевая фаза операции – когда что-то теоретически могло бы
пойти не так – завершилась гладко. СА были, по сути, обезглавлены – почти все их лидеры
были под арестом. Можно было переходить к чисто технической части. Гитлер подал сигнал
Геббельсу (который все утро провел рядом с ним), тот поднял трубку, позвонил Герингу в
Берлин, и сказал лишь одно слово: Колибри. Через считанные минуты сигнал получил Гейдрих. Еще через минуту сигнал разлетелся по всей Германии, по телефону и гестаповскому
телетайпу, командующим специальных групп, состоявших из офицеров Гестапо и эсесовцев.
У каждого командующего такой группы был заранее врученный ему запечатанный конверт. По
сигналу конверты были вскрыты. В конвертах были списки людей, чья жизнь закончилась в
этот день 30 июня 1934 года, даже если они сами об этом еще не подозревали.
Телефоны в Коричневом доме в Мюнхене звонили не переставая. Гитлер и Гесс принимали звонки сами, и аккуратно ставили галочки напротив имен в длинном списке, лежавшем
перед ними. Йозефа «Зеппа» Дитриха, бывшего мясника, командовавшего личной охраной
Гитлера, отправили в тюрьму Штадельхайм, руководить казнями – по еще одному наскоро
набросанному списку. Сам приказ был отдан устно. Гесс попытался заступиться перед Гитлером за своего друга Шнайдхубера (того самого, который с «грязными лапами»), но Гитлер
лишь раздраженно мотнул головой. Примерно так же разбилась о стену попытка баварского
министра юстиции Ганса Франка (который был на месте, в тюрьме) потребовать хотя бы письменное подтверждение приказа. Гитлер лишь накричал на него по телефону. Все арестованные, включенные в список, были по очереди выведены в тюремный двор и расстреляны. Рёма
в списке не было.
В Берлине тем временем эсесовцы и полицейские под командованием Геринга и Гиммлера без малейшего сопротивления захватили штаб-квартиру СА. Геринг лично отдавал приказы, кого из присутствовавших на месте следовало арестовать, а кого – отпустить. Всего в
штаб-квартире и у себя на квартирах в городе было арестовано около 150 человек. Их доставили в здание кадетского училища в Лихтерфельдских казармах, и там методично, по очереди,
группами по четыре человека, поставили к стенке и расстреляли. Ничего похожего на суд не
было. Многие из арестованных даже не понимали, почему их убивают. Некоторые думали, что
происходящее – переворот, направленный против канцлера, и умирали с криком «Хайль Гитлер».
Командующий берлинскими СА Карл Эрнст (которого молва обвиняла в том числе в том,
что он возглавлял команду поджигателей Рейхстага) 30 июня как раз собирался вылетать на
Мадейру, у него был медовый месяц, причем на его недавней свадьбе сам Гитлер выступил
свидетелем. Когда его арестовали в аэропорту Бремена, он решил, что это чей-то розыгрыш,
в крайнем случае – дурацкое недоразумение. – «Ничего, когда мы доберемся до Берлина, там
разберутся, это не страшно!» – Уверял он эсесовцев. В этом убеждении он и пребывал, пока
его не поставили к стенке в Лихтерфельдских казармах.
Но списки, как и следовало ожидать, отнюдь не ограничивались штурмовиками. Из трех
человек, которые готовили для Франца фон Папена его знаменитую марбургскую речь, двое,
Герберт фон Бозе и доктор Эрих Клаузенер, чиновник Министерства транспорта, были застрелены эсесовцами в собственных кабинетах. Третий, журналист и адвокат Эдгар Юнг, был похищен из своей квартиры (похитители оставили на двери надпись «Гестапо»), после чего его
больше никто не видел. Сам Папен смерти избежал – предположительно, потому что был другом Гинденбурга, а ссориться с ним Гитлеру было не с руки. Его посадили под домашний арест,
а вскоре отправили послом в Вену.
101
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Из двух братьев Штрассеров Отто, предчувствуя неладное, благоразумно сбежал в ту
же самую Вену, так что явившиеся к нему домой убийцы его не обнаружили. Грегор патриотично остался в Германии, был арестован прямо во время семейного обеда, доставлен в тюрьму
Гестапо на Принц Альбрехштрассе, и там расстрелян.
Генерал и бывший канцлер Курт фон Шляйхер был убит пятерыми эсесовцами в штатском у себя дома, вместе с женой. Заодно эсесовцы арестовали соседа Шляйхера, бывшего
мэра Кёльна и президента Государственного совета Пруссии Конрада Аденауэра. Впрочем, он,
очевидно, просто подвернулся под горячую руку. После допроса в полиции Потсдама, где он
несмотря на запугивание, отказался признаваться в какой-либо антиправительственной деятельности, будущего канцлера ФРГ отпустили на свободу.
73-летний Густав фон Кар, бывший Верховный Комиссар Баварии, когда-то подавивший
«пивной путч», а после выступавший ключевым свидетелем обвинения против Гитлера в суде,
был найден в болоте недалеко от Дахау, изувеченный и зарубленный насмерть.
Не обошлось без досадных недоразумений. Известный мюнхенский музыкальный критик, доктор Вильгельм Эдуард Шмидт, отродясь не соприкасавшийся ни с какой политикой,
был арестован эсесовцами на глазах у жены и троих детей и увезен в неизвестном направлении.
Через несколько дней его вернули семье в закрытом гробу, со строгим запретом его открывать. Произошла ошибка. Нужен был другой Шмидт. Шмидт в Германии – распространенная
фамилия.
Еще прежде чем убийства завершились, Герман Геринг собрал большую пресс-конференцию. Хоть германские города и продолжали в целом жить своей обычной жизнью, любому
внимательному наблюдателю понятно было, что в стране происходит что-то необычное. Необходимо было дать какое-то объяснение. Версия, изложенная Герингом, стала официальной
нацистской версией событий 30 июня 1934 года. Имел место заговор, в котором участвовали
Эрнст Рём, его ближайшие подчиненные и некоторые лица со стороны, в частности – бывший
канцлер Шляйхер. Заговор удалось подавить, но к сожалению, некоторых жертв не удалось
избежать – тот же Шляйхер был, к несчастью, убит, когда попытался оказать сопротивление
аресту.
Кровавый день заканчивался. На самом деле, убийства продолжались еще и 1 июля, но
уже всем понятно было, что задача выполнена. Гитлер в сопровождении очень нервного и притихшего Геббельса прилетел в Берлин вечером 30-го. В аэропорту Темпельхоф их встретили
Геринг и Гиммлер, последний – с длинным списком имен в руках. Очевидцы говорят, что
фюрер был бледен, небрит и имел невыспавшийся вид.
В воскресенье в саду Канцелярии в Берлине было устроено званое чаепитие. Гитлер развлекал гостей как радушный хозяин, угощая чаем, сладостями и непринужденно болтая. Он
умел быть обаятельным. Между тем, Рудольфу Гессу лишь за считанные минуты до начала
мероприятия удалось, наконец, после долгих уговоров и просьб, получить у своего шефа один
короткий, но очень важный приказ, которого он добивался уже сутки.
На стол в тюремной камере в Мюнхене положили пистолет с одним патроном. Эрнст Рём,
стойкий старый боец, ветеран Вердена, посмотрел на него и усмехнулся: – «Если Адольф хочет
убить меня, ему придется самому сделать свою грязную работу».
Пистолет забрали. Через десять минут в камеру вошли два офицера СС. Рём поднялся
им навстречу и встал гордо посреди камеры. Не говоря ни слова, эсесовцы расстреляли его из
пистолетов. Последними его словами было: – «Мой фюрер…»
Когда солнце садилось в тот день над Германией, оно садилось не над страной, оно садилось над целой эпохой. Еще жив был беспомощный старик Гинденбург, но очень скоро он
отправится следом за республикой, президентом которой он был так долго. Переход полномочий пройдет легко и почти незаметно – потому что теперь механизм нацистского государства
работал четко, гладко, без сучка и задоринки. Помех больше не было. Со всех практических
102
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
точек зрения, это было уже совсем другое государство, и если до 30 июня 1934 года у кого-то
еще могли быть сомнения или надежды – «а может, все еще повернется вспять, ну не может же
это быть всерьез?» – то после Ночи длинных ножей всем окончательно стало ясно и что новое
государство пришло, чтобы остаться, и на что оно было способно.
30 июня 1934 года Веймарская республика – этот кричащий пестрый бедлам, полный
жизни, энергии, борьбы и противоположностей, где было место всему – и голодающим людям
с тележками денег, и экспериментальному авангардному искусству, и разудалым оргиям в берлинских ночных клубах, и кованому шагу штурмовиков на улицах – закончилась. Осталось
мрачное, нечеловеческое, монументальное, из гранита и вороненой стали сооружение на человеческих костях, за которым история закрепит изобретенное когда-то давно прекраснодушными романтиками наименование «Третий Рейх».
103
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
Послесловие. Исторический маятник
Итак, теперь, когда мы подробно рассмотрели историю кризиса и падения Веймарской
республики, пришло время попытаться дать ответ на тот вопрос, который и пробудил во мне
когда-то изначально интерес к этой теме: так ли много общего у этого периода германской
истории с пост-советской Россией? Можно ли действительно использовать Веймарскую Германию как модель для предсказания событий в нашей стране сегодня?
Ответ здесь, конечно, как и в случае с большинством исторических параллелей, и да,
и нет одновременно. История вообще – слишком сложная материя, чтобы к ней можно было
применять простые и прямолинейные схемы. Тем не менее, аналогии возможны – при условии,
что они основаны на понимании сути событий, а не только на поверхностном их сходстве.
Попробуем же разобраться, что именно происходило в Германии.
Что такое Германия начала XX века? По внешней форме – довольно старомодная военнофеодальная империя, со своими уникальными особенностями (своеобразная «федеративная»
структура, коренящаяся еще в истории Священной Римской империи), с хорошо развитыми
институтами сословного общества, с укоренившимися традициями династической лояльности,
с развитой идеологией державного патернализма. С другой стороны, это была бурно развивающаяся капиталистическая экономика, рвущаяся к ведущей роли в Европе (а то и в мире),
со всеми процессами, характерными для периода интенсивной индустриализации. «Старая»,
очень консервативная форма контрастировала с «новым», сугубо модернистским содержанием. Молодое вино в старых мехах. Противоречие это было просто обречено становиться
все острее с течением времени, с каждым новым кризисом – а Германия, расположенная в
самом сердце Европы просто физически не имела шансов остаться в стороне от мировых кризисов и внешнеполитических потрясений (как по большей части удавалось той же Великобритании на своем острове, когда она переживала схожий период в своей истории). Как и для
большинства центрально- и восточноевропейских держав XIX века, «точкой невозврата» стала
Первая Мировая война. Именно этот кризис, начавшийся как чисто внешнеполитический,
превратился в катализатор для кризиса внутреннего, системного, обострившего до предела и
выплеснувшего на улицы все столь долго накапливавшиеся противоречия.
С этого момента события развивались по принципу «исторического маятника». Двумя
основными силами, главными тенденциями в германском обществе рубежа эпох были стремление к модернизации (путем реформ, а если понадобится – и ценой слома старой системы)
и страх перед ней. Общество фактически уже не было традиционным – индустриализация
и сопутствующая ей урбанизация уже безвозвратно сломали или подточили многие важные
институты традиционного общества, аграрного по своей сути – но оно еще помнило времена
господства традиции, помнило вполне отчетливо и живо – а что не помнило, то дорисовывало и
приукрашивало воспитанное романтизмом воображение. Страх перед модернизацией находил
свое выражение в общественных и идеологических течениях разной степени радикальности –
от весьма сдержанного консерватизма (стремившегося, по сути, к простому сохранению привычных внешних форм) до целого букета разных форм социал-утопизма, нацеленных по факту
не в будущее, а в прошлое, причем весьма архаичное. Вот эти два полюса – «прогрессизм» и
«реакция» – и стали крайними точками амплитуды, между которыми раскачивался маятник
германского общества. Колебание в одну сторону неизбежно влекло симметричное колебание
в другую, и чем сильнее оно оказывалось – тем сильнее должно было быть и противодействие.
При этом глубина и продолжительность каждого колебания зависит во многом от конкретных,
сиюминутных обстоятельств – например, от внешних обстоятельств или от главных действующих лиц, их способностей и задатков, их решений и ошибок.
104
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
На первом этапе, в 1918 году, маятник качнулся резко в сторону «прогрессизма». В Германии была построена демократическая республика, страна успешно избавилась от большинства анахроничных черт, вступавших в противоречие с задачами модернизации. Система ни
в коей мере не была совершенной (к тому же, ей сходу пришлось иметь дело с очень глубоким экономическим, социальным и политическим кризисом). Собственно, она была ровно
тем, чего и можно было ожидать в подобных обстоятельствах, и надо признать, что, учитывая
все «врожденные пороки», со вставшими перед ней задачами она справилась, и справилась
неплохо. Ее высокая дееспособность предотвратила быстрое «обратное колебание» маятника –
демократия в Германии задержалась на целых 15 лет (напомним, что в революционной России 1917 года аналогичный процесс занял в общей сложности полгода). Тем не менее, уже со
второй половины 1920-х годов стало понятно, что маятник неумолимо движется в обратную
сторону.
Кризис демократии в Германии был вполне объективным, глубоким и разносторонним,
и его категорически не следует связывать с деятельностью лишь одной политической силы
(НСДАП). Собственно, похоже на то, что усиление нацистов, выход их на ведущие позиции в
германской политике, было симптомом и следствием, но отнюдь не причиной этого кризиса.
Мы уже видели, что к началу 1930-х годов в Германии практически не оставалось значительных политических сил, активно отстаивавших интересы демократии. Борьба шла не между
противниками и сторонниками демократии (или «фашистами» и «антифашистами»), она шла
между сторонниками разных версий авторитаризма. Да, не все из них были столь радикальны,
как версия Гитлера, но все без исключения (и гитлеровский Третий Рейх, и проект диктатуры
Шляйхера, и монархическая реставрация) включали в себя одни и те же основные элементы,
только в чуть разной пропорции и с разной интенсивностью: авторитаризм, популизм, реваншизм. Те силы, которые вроде как самой историей были предназначены в той ситуации отстаивать интересы демократии (те же социал-демократы, например) превратились к этому моменту
в более или менее пассивных статистов. В массовку. Тот факт, что в этой «битве реакционеров» победил в итоге именно Гитлер, был обусловлен, видимо, конкретным, полуслучайным стечением обстоятельств. Грубо говоря – просто тем, что в критический момент нашелся
именно такой политический деятель, с таким уникальным и редким сочетанием способностей.
Что произошло бы, если бы на германском политическом небосклоне не оказалось Гитлера?
Сегодня, скорее всего, мы рассуждали бы об истории прихода к власти реваншистского режима
Шляйхера, только и всего. Демократия в Германии все равно закончилась бы на ближайшие
лет 10-15. Да, Шляйхер, скорее всего, был бы менее смел и решителен и более осторожен,
чем Гитлер. Дело при нем вряд ли дошло бы до мировой войны. Тем не менее, программа
перевооружения Германии уже была разработана и даже запущена – не Гитлер ее придумал.
Пусть и без мировой войны, но мы можем довольно уверенно предполагать ряд локальных
или пограничных конфликтов. Можем предполагать рано или поздно экономическую и политическую изоляцию Германии. А после неизбежного конца шляйхеровского режима (потому
что бессмертных диктаторских режимов не бывает) маятник снова качнулся бы в обратную
сторону – в сторону демократии, модернизации, вестернизации и открытости общества… Да,
жертв и разрушений было бы на порядок меньше. Такова цена талантов и одержимости одного
конкретного человека.
Что в этой связи можно сказать о России? Очевидно, что Россия в XX веке прошла
через похожую ситуацию кризиса, вызванного столкновением сил прогрессизма и реакции,
как минимум, дважды – в начале века, почти одновременно с Германией, и в его конце, при
падении Советского Союза. Первую аналогию мы уже частично рассматривали и видели, что
последовательность событий – тех самых «колебаний маятника» – в целом была той же самой,
различной была лишь их длительность. Тем не менее, вторая аналогии для нас сейчас даже
105
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
интереснее – ведь она имеет прямое, непосредственное приложение к нашей сегодняшней
жизни. И именно с нее, напомню, и начался в свое время интерес автора к данной теме.
Итак, если мы принимаем события августа-декабря 1991 года за точку отсчета нового
периода истории России – начала нового «раскачивания маятника» – то совершенно очевидно,
что вначале он качнулся в сторону «прогрессизма» с не меньшей силой, чем в Германии 1920х. Тем не менее, предела он достиг достаточно быстро, и начиная года этак с 1993-го можно
уверенно говорить, что маятник начал движение в обратном направлении – вначале медленно,
затем все быстрее и быстрее. Начиная со второй половины 1990-х и особенно после 2000-го
года можно с уверенностью говорить, что мы живем в стране, движущейся уверенно в сторону
«реакции» – сугубо советской по своей природе «реакции», что весьма логично.
Пока что наше изложение укладывается, как видите, целиком и полностью в канву той
теории, с которой все и началось – о полном и почти буквальном соответствии между историей Веймарской Германии и постсоветской России. «Но когда же реакция достигнет своего
апогея?» – воскликнет, должно быть, обеспокоенный читатель. «Где же наш Гитлер?» И вот
здесь и начинается наше главное отличие. В современной России нет своего Гитлера.
Политик такого масштаба и такого редкого сочетания талантов явно не рождается раз
в поколение. И даже раз в сто лет. Тем более – не рождается по заказу к какому-то конкретному историческому моменту (который, к тому же, никак еще не может быть предрешен на
момент его рождения – если, конечно, рассуждать вне категорий мистики). Собственно, личность такого масштаба не может вдруг «вынырнуть из неоткуда» – вспомним, что Гитлер был
активен (и известен многим) с начала 1920-х. Если бы в современной России был свой Гитлер,
мы все заметили бы его еще в 1990-е. Точка его появления давным-давным пройдена. И он
не появился.
Да, процессы, через которые проходила Германия и проходит сегодня Россия, и впрямь,
во многом схожи. А вот набор действующих лиц у каждого свой. И наверное, к счастью. Отсутствие одного из них вовсе не означает, что аналогия в целом не работает. Вспомним, ведь и в
Германии без Гитлера маятник не начал бы качаться в другую сторону, отнюдь. И по правде
сказать, режим, который правит Россией сегодня, куда больше напоминает режим победившего
генерала Шляйхера (насколько мы можем его себе вообразить сегодня), чем Третий Рейх. И с
позиции жителя современной России этому факту, несомненно, можно только радоваться.
Секрет в том, что для понимания процессов, протекавших в Германии в период Веймарской республики, необходимо отрешиться от устойчивой ассоциации этого периода с личностью Гитлера. Эта личность, как бы негативно она ни была окрашена в нашем современном
сознании, неизбежно гипнотизирует. Просто в силу своих масштабов и колоритности. Но деятельность Гитлера вовсе не была основным содержанием этого периода истории. Более того,
Гитлер отнюдь не был неизбежным и предрешенным явлением для Веймарской Германии.
Падение демократии – да, наверное, было, а вот приход к власти именно Гитлера – нет. И для
того, чтобы лучше понять возможные исторические аналогии между Германией того дня и
Россией дня сегодняшнего, нужно представить себе Веймарскую и постВеймарскую Германию
без Гитлера. Да, аналогию можно усмотреть – но это аналогия не с Германией Гитлера, а с Германией Гинденбурга, Брюнинга, Папена, Шляйхера. Прежде всего – Шляйхера. Процессы, как
мы видели, схожи. Различна степень радикализма. Различна разрушительность последствий –
и, бесспорно, количество жертв.
Не вызывает особых сомнений, что Германия Шляйхера в конечном итоге пришла бы
примерно к тем же историческим результатам, что и Германия Гитлера – прошла бы через
период популизма во внутренней политике и реваншизма во внешней, потерпела бы крах в
обоих аспектах – и в итоге вернулась бы на демократический путь развития, как это и случилось со знакомой нам Германией. Вот только крови это стоило бы гораздо меньше. Чудовищные преступления, скорее всего, не были бы совершены. Мировая война, весьма вероятно,
106
А. Попов. «Агония Веймарской республики»
могла бы и не состояться – дело вполне могло бы ограничиться локальными конфликтами.
Процесс мог бы занять больше времени – но результат все равно был бы схожим. И в итоге,
по прошествии десятилетий, мы все равно увидели бы свободную, демократическую, богатую
и процветающую Германию, играющую заметную роль в современном мире.
И это, признаться, не может не внушать оптимизма.
107