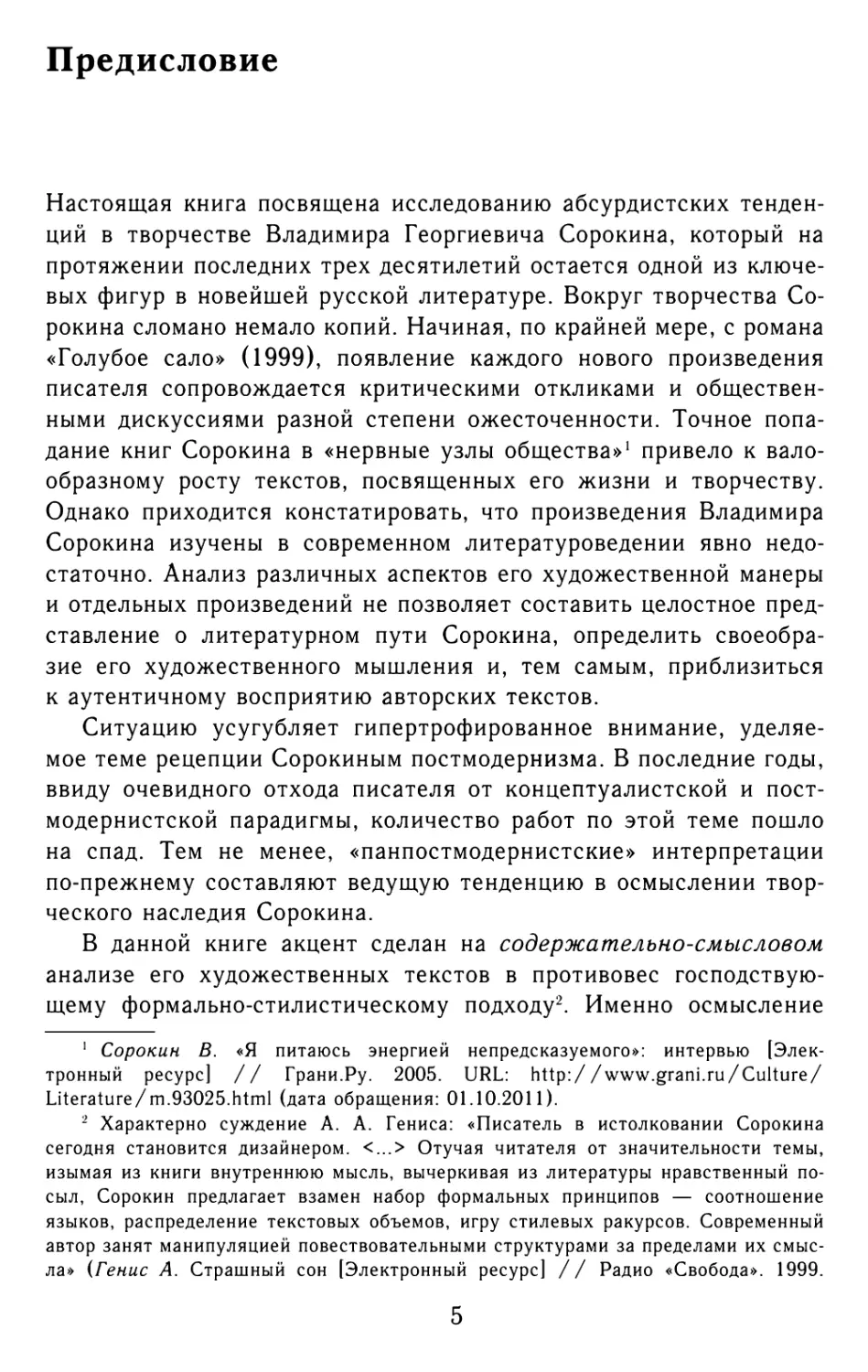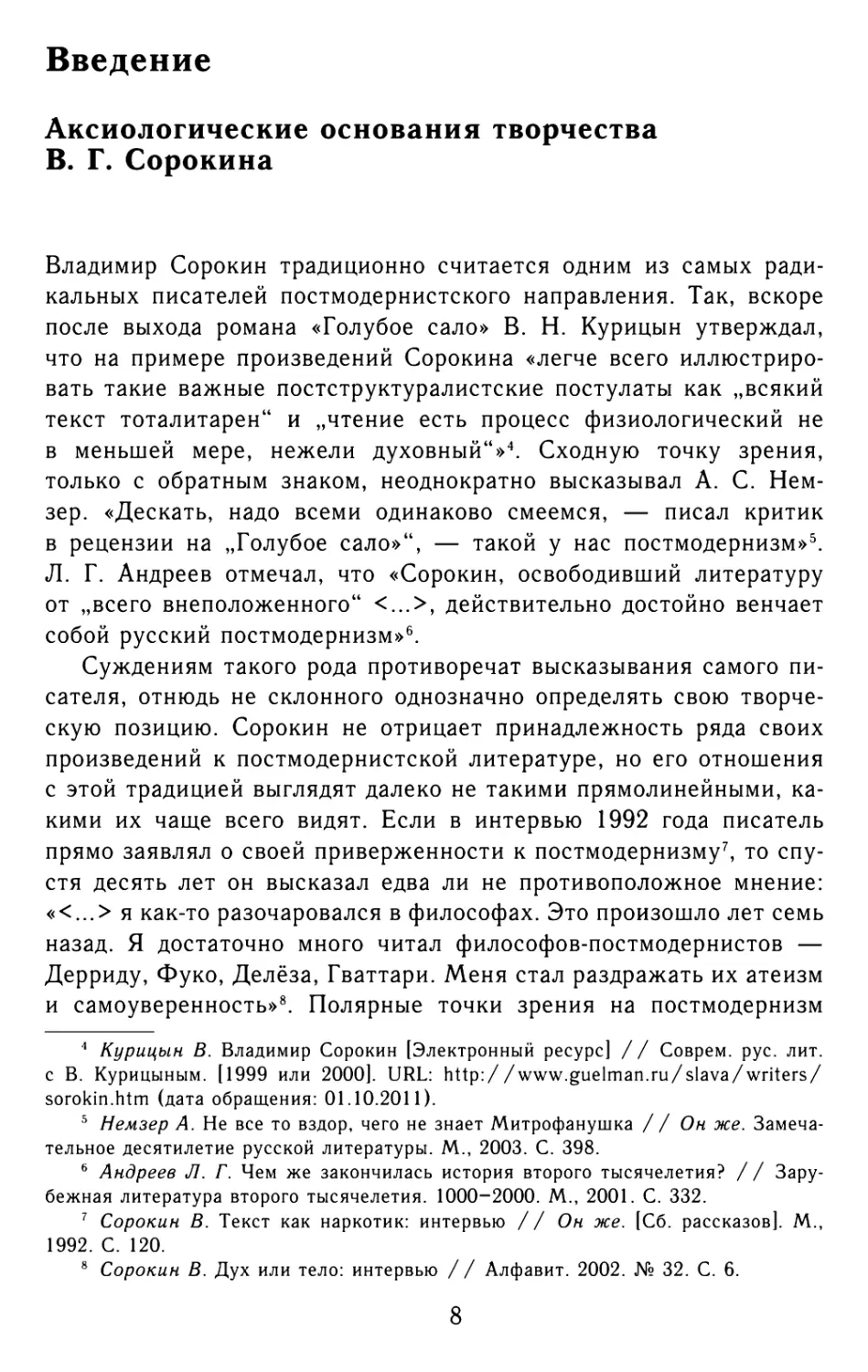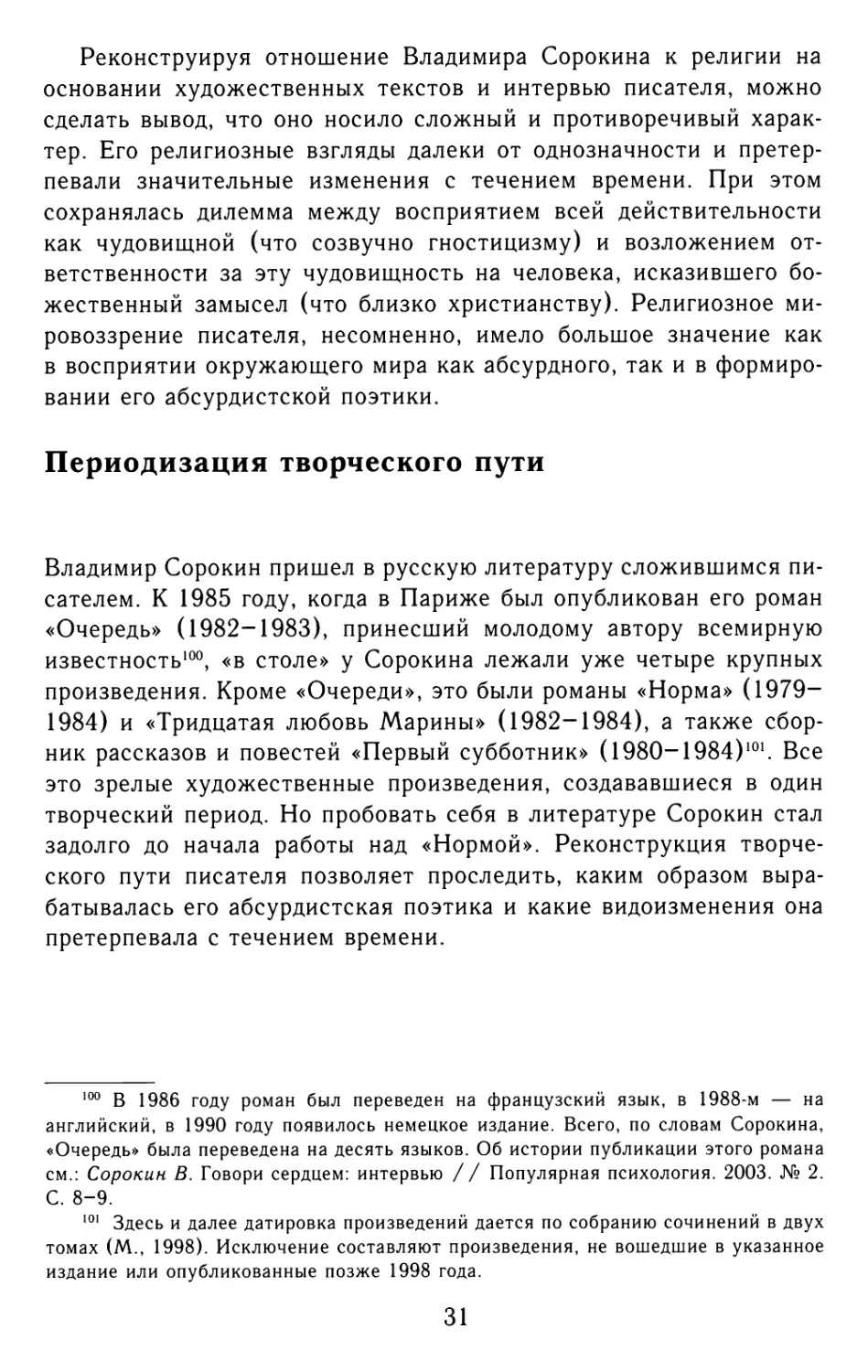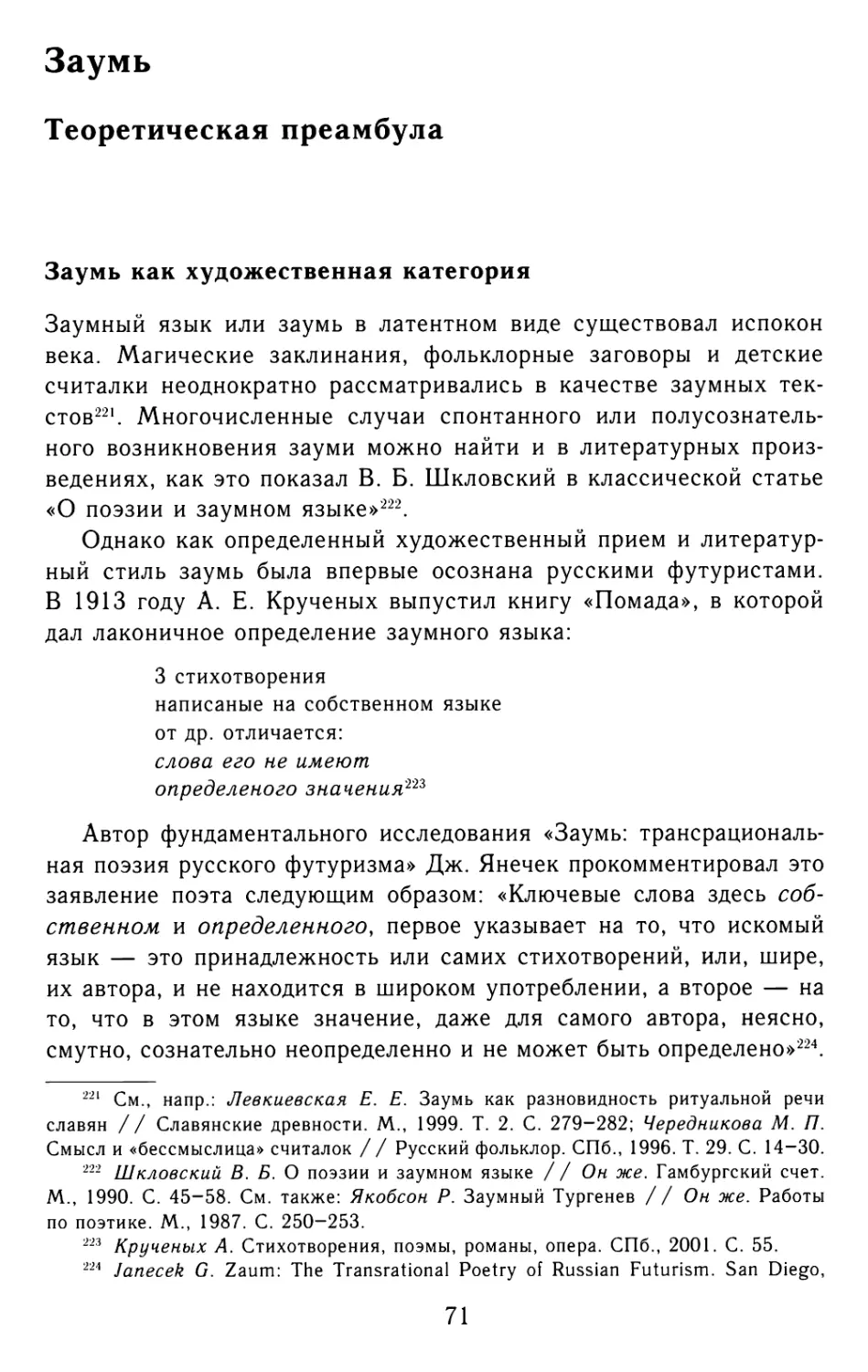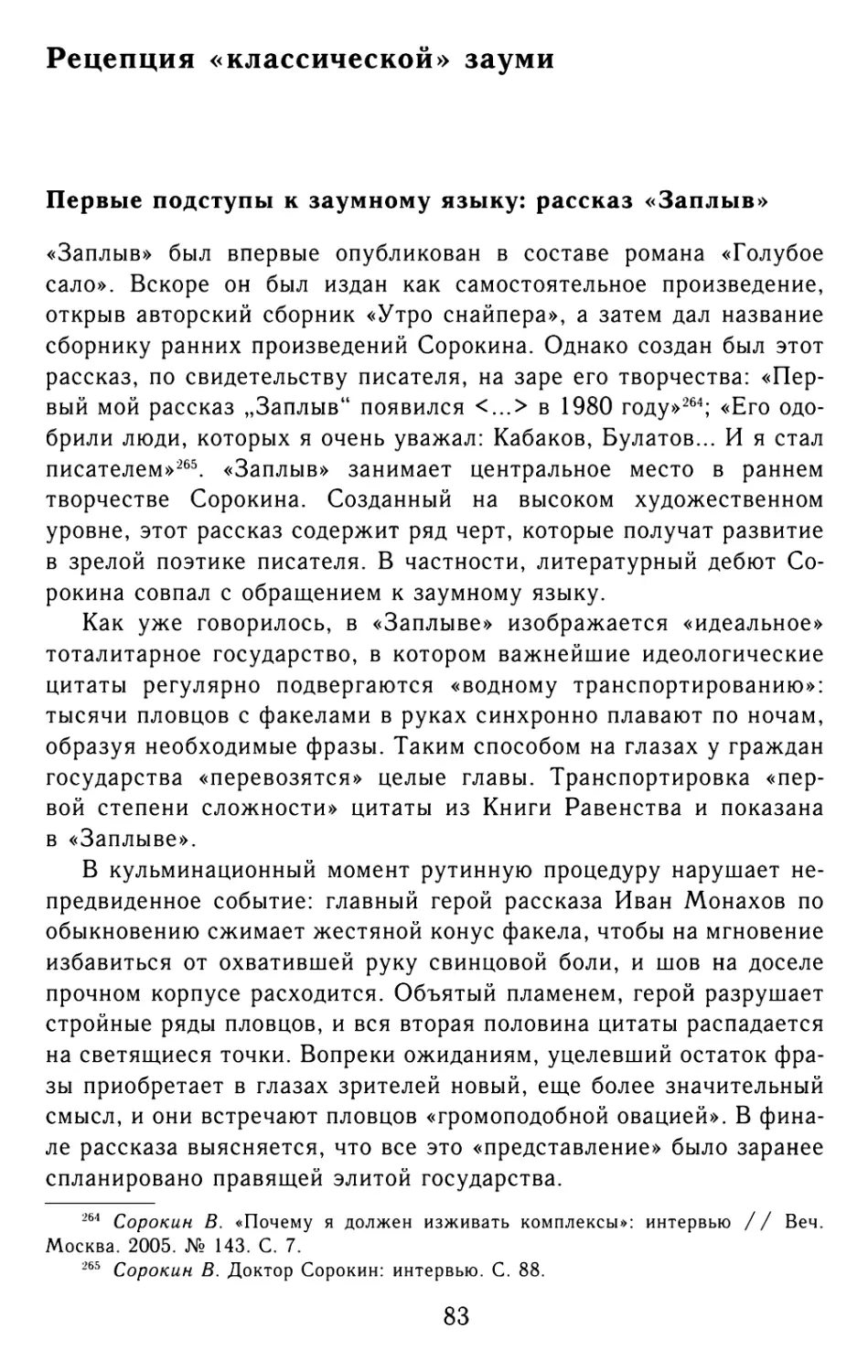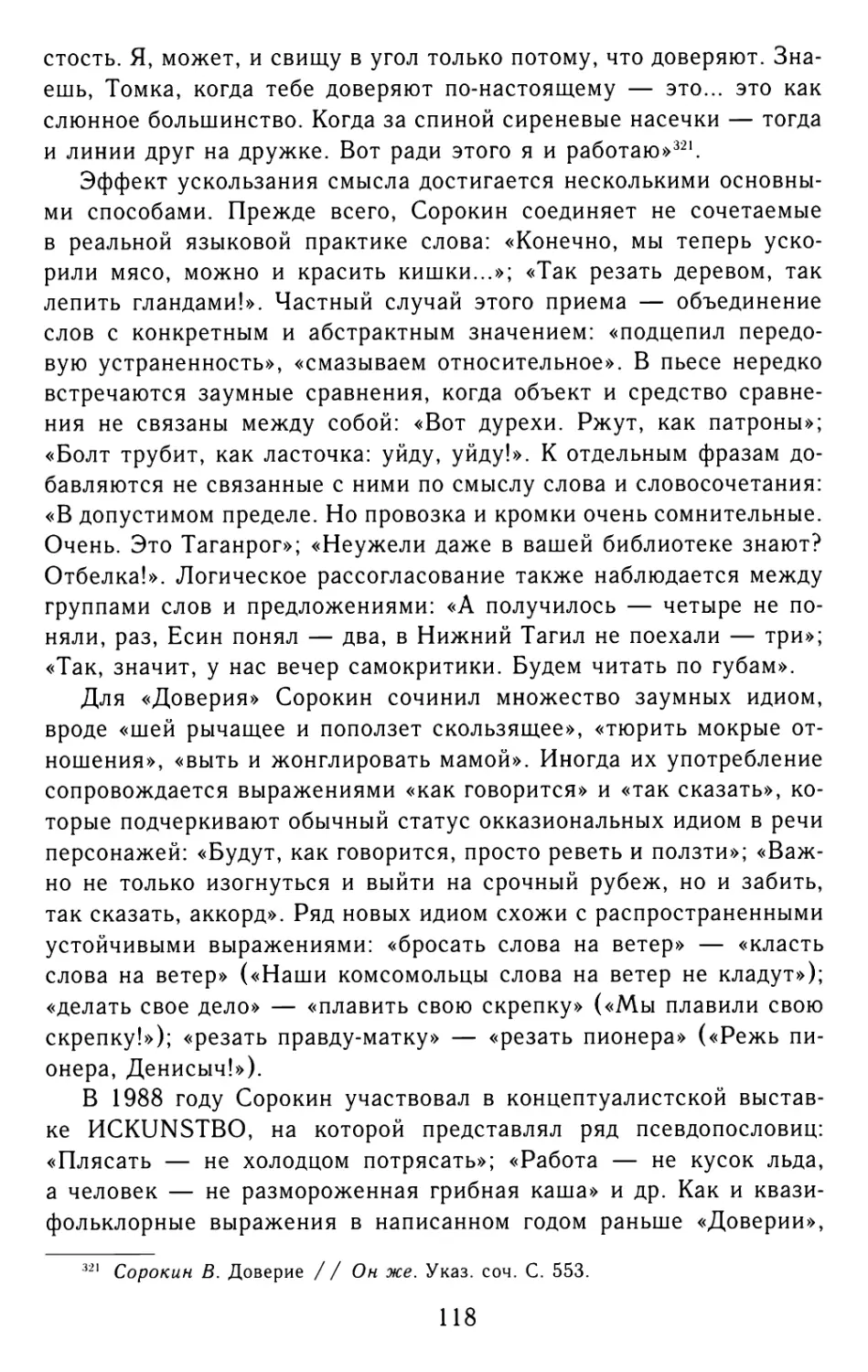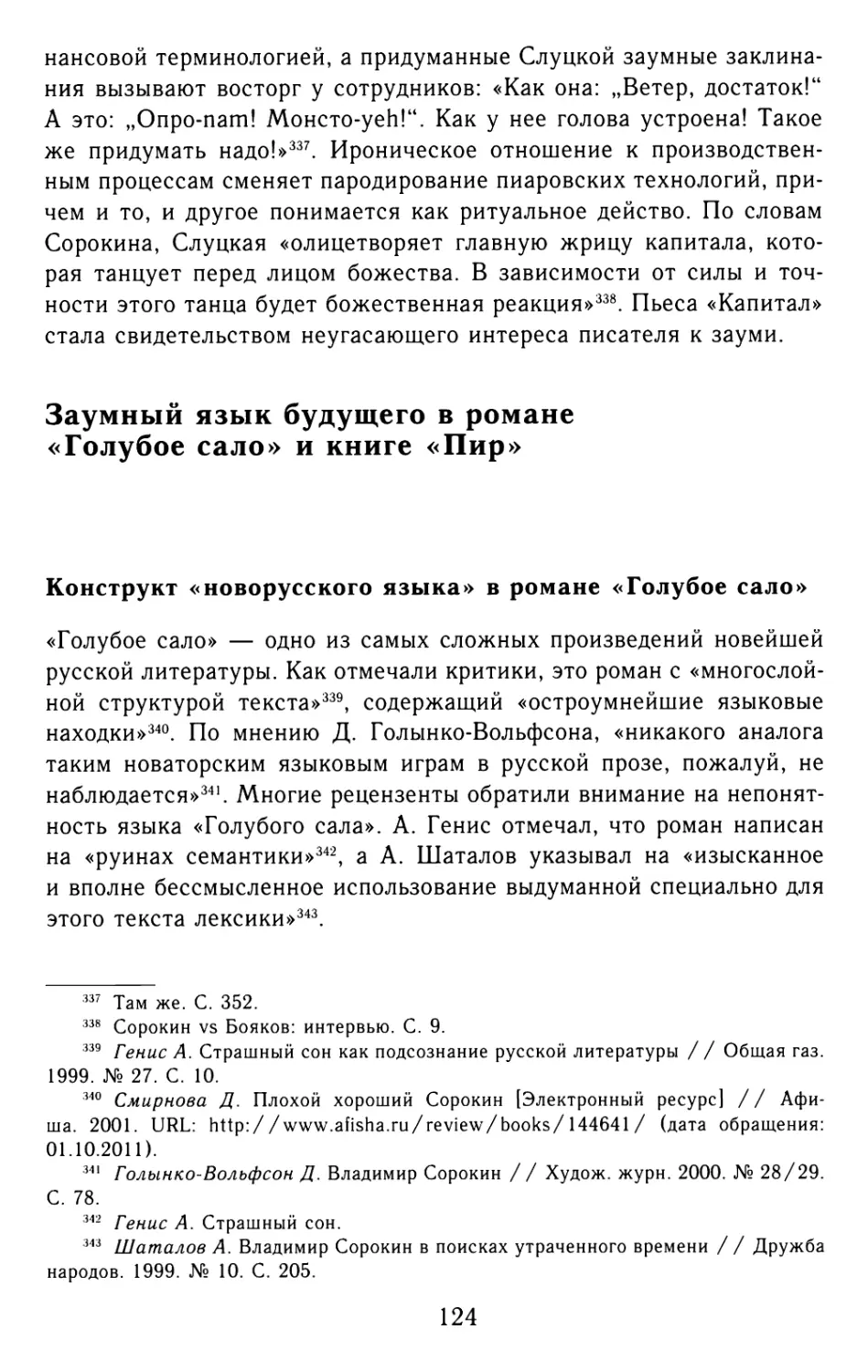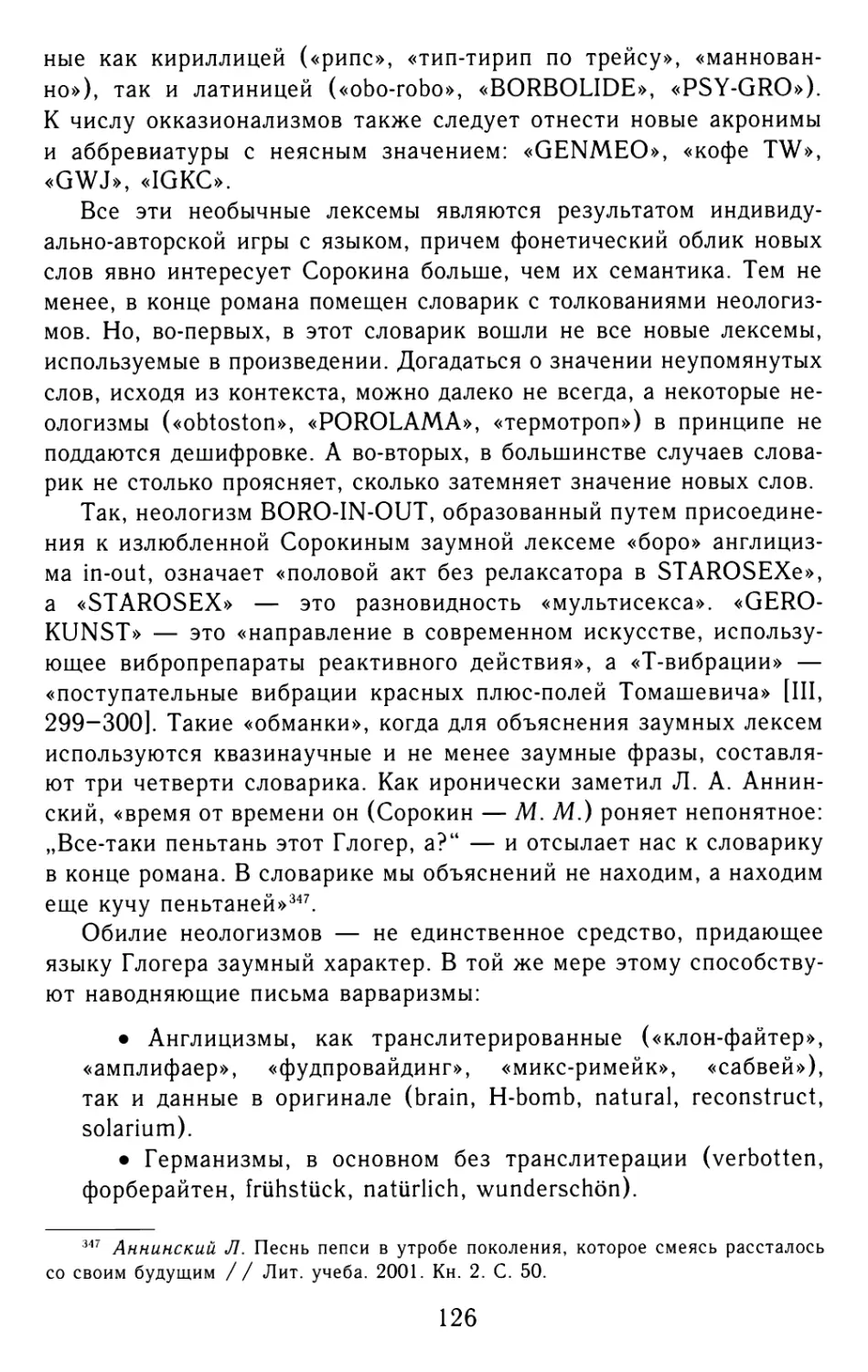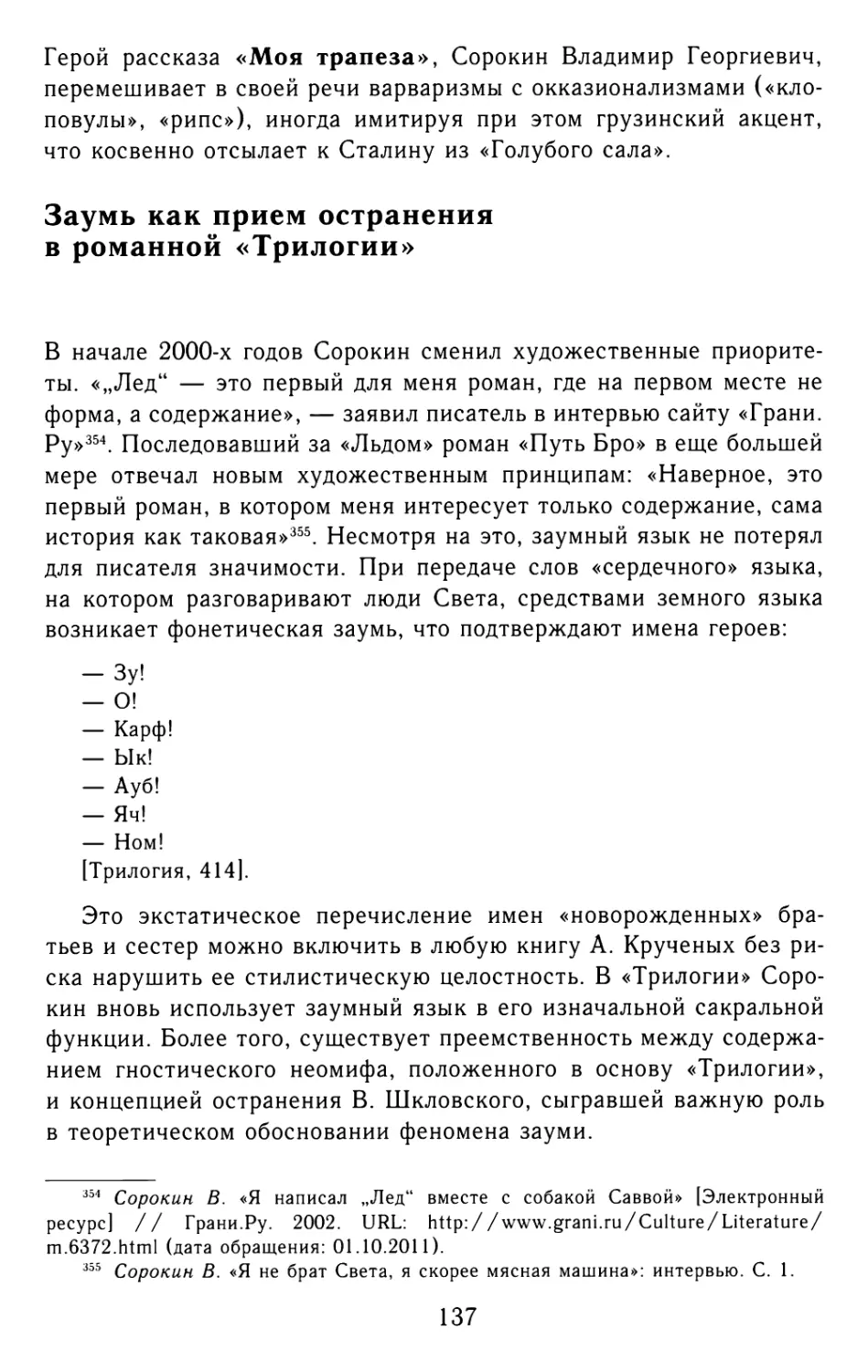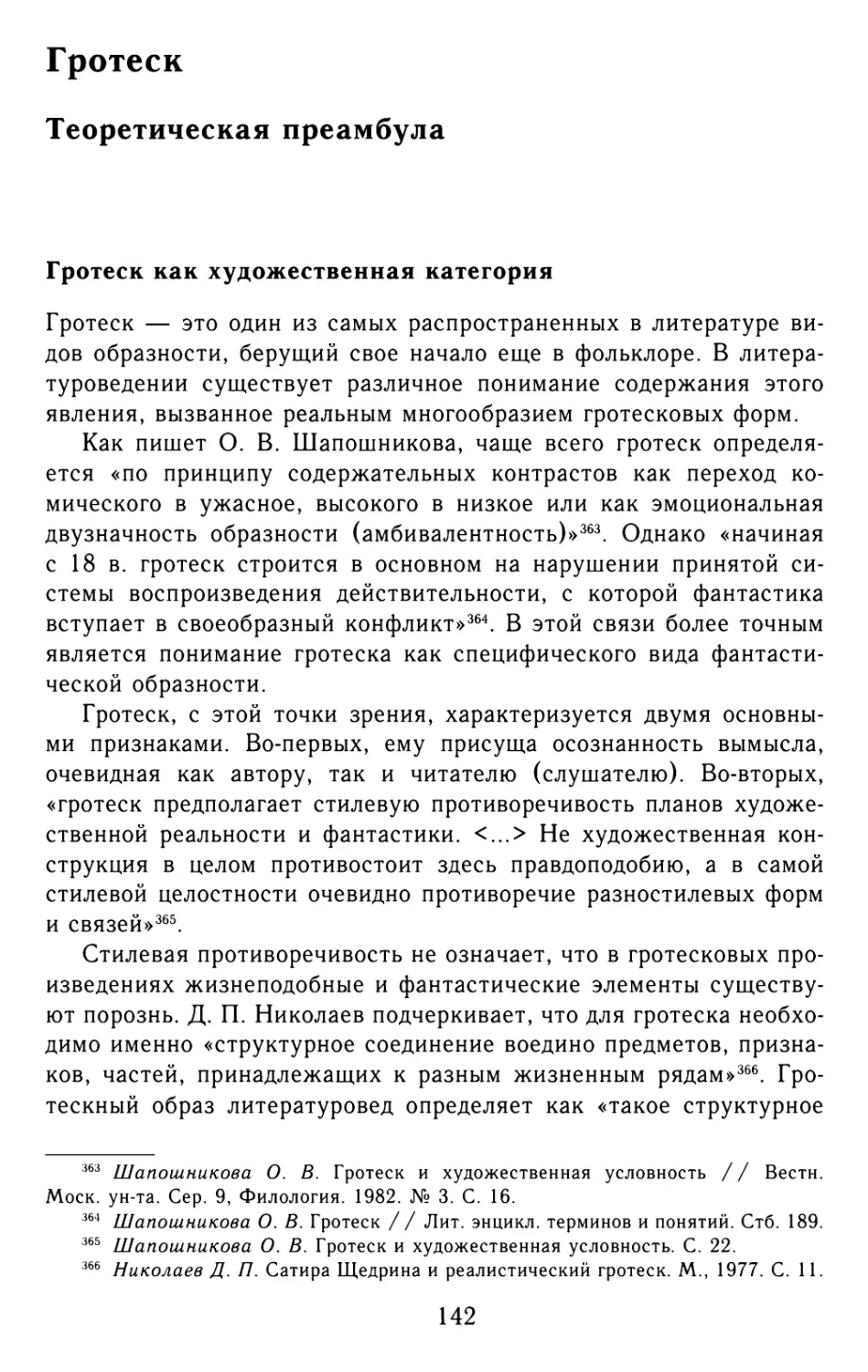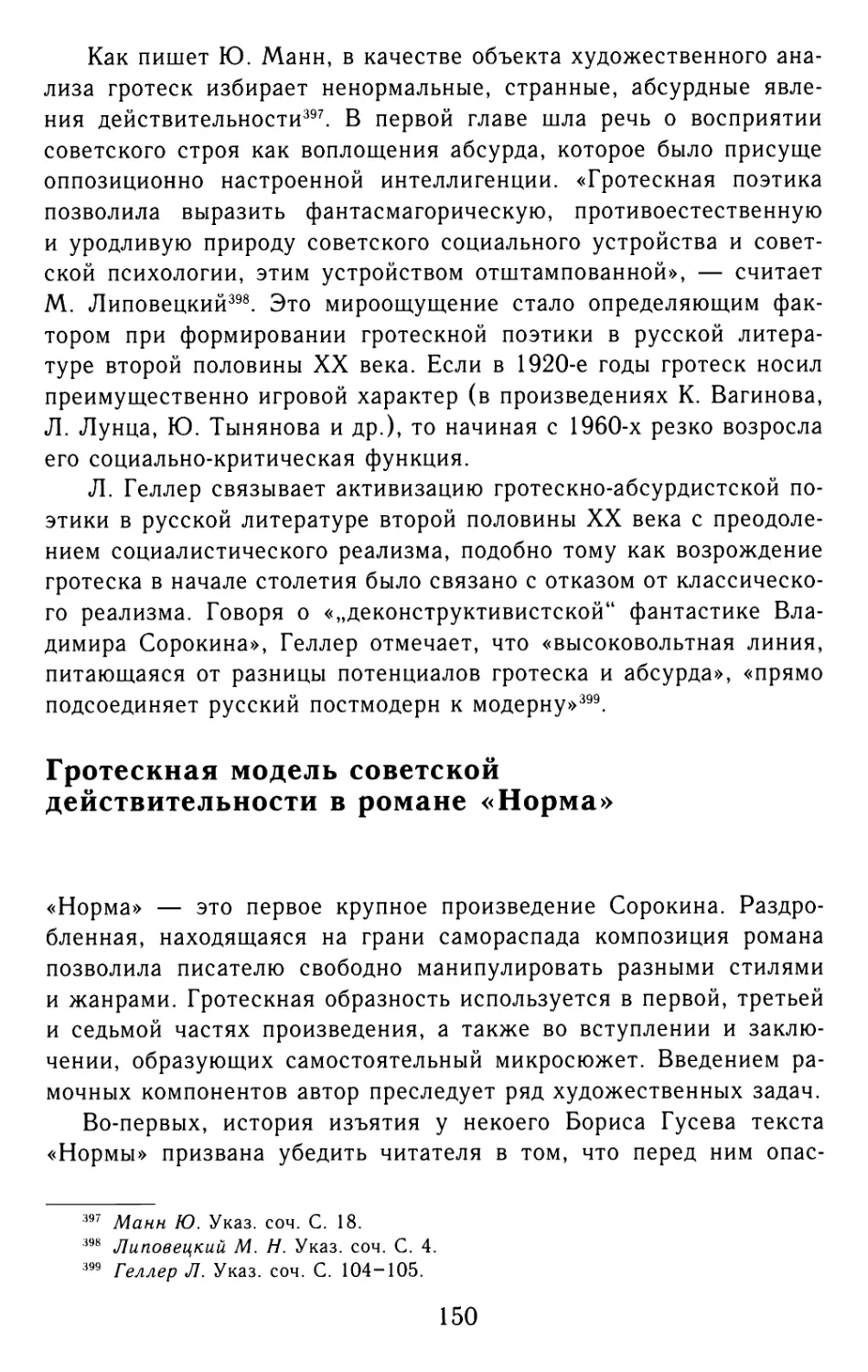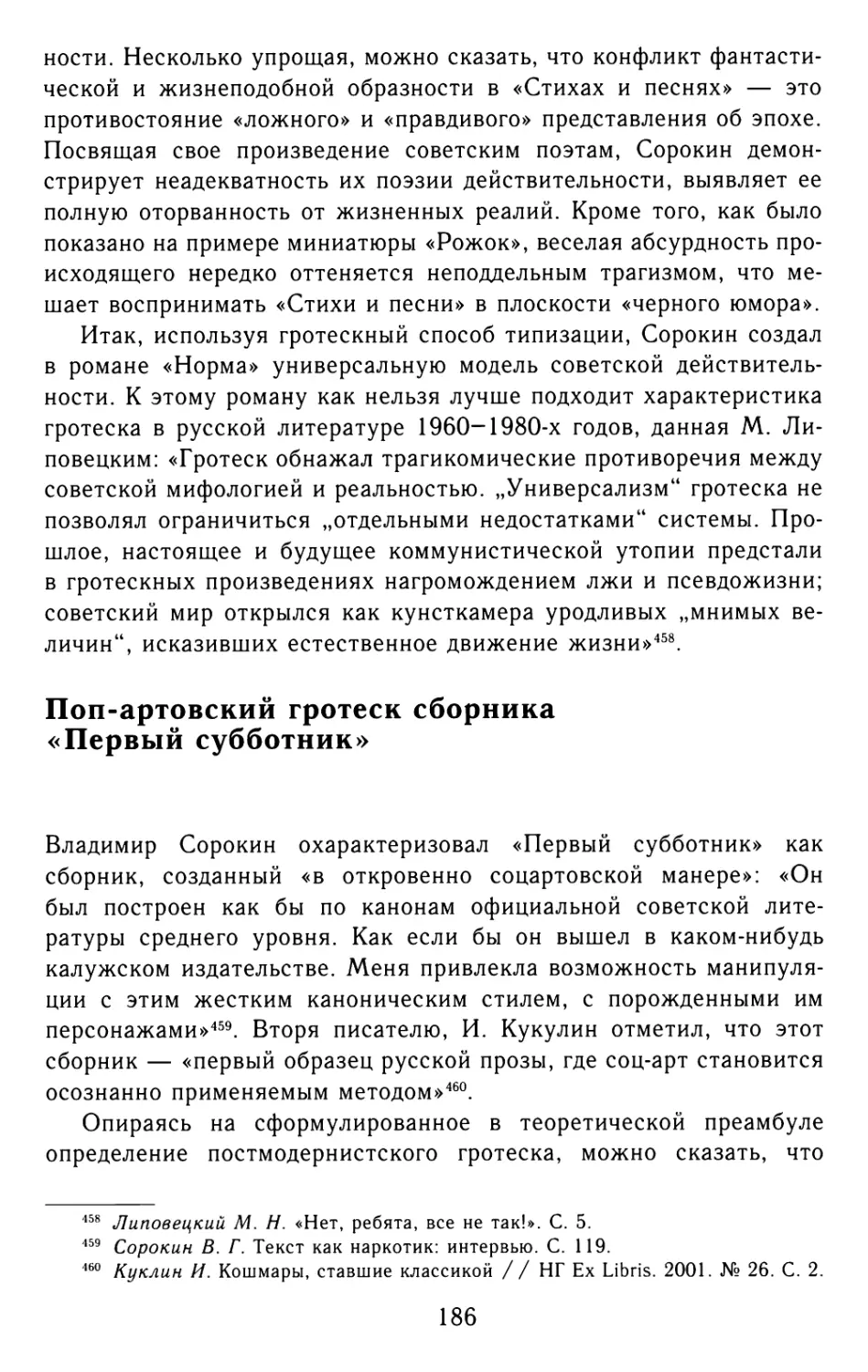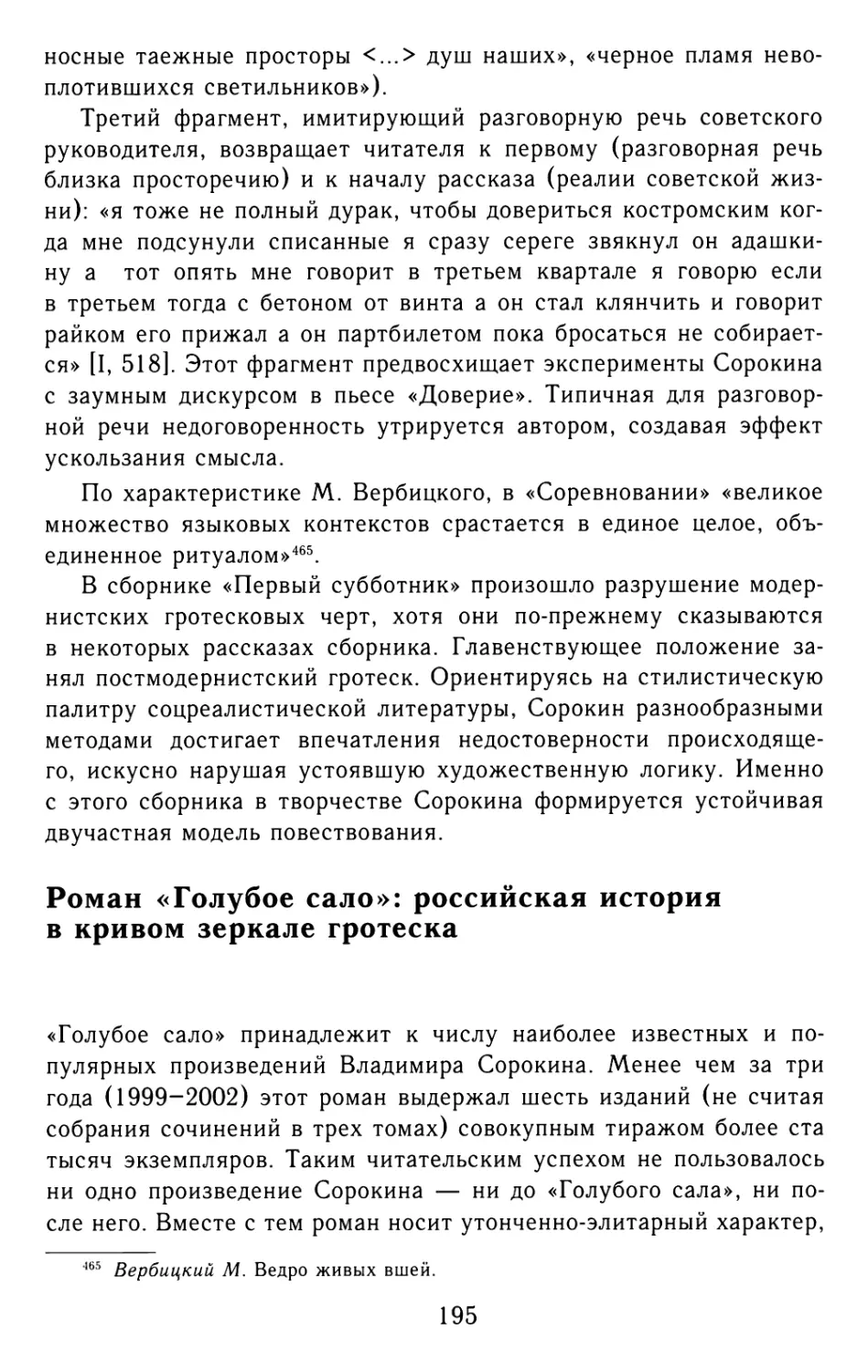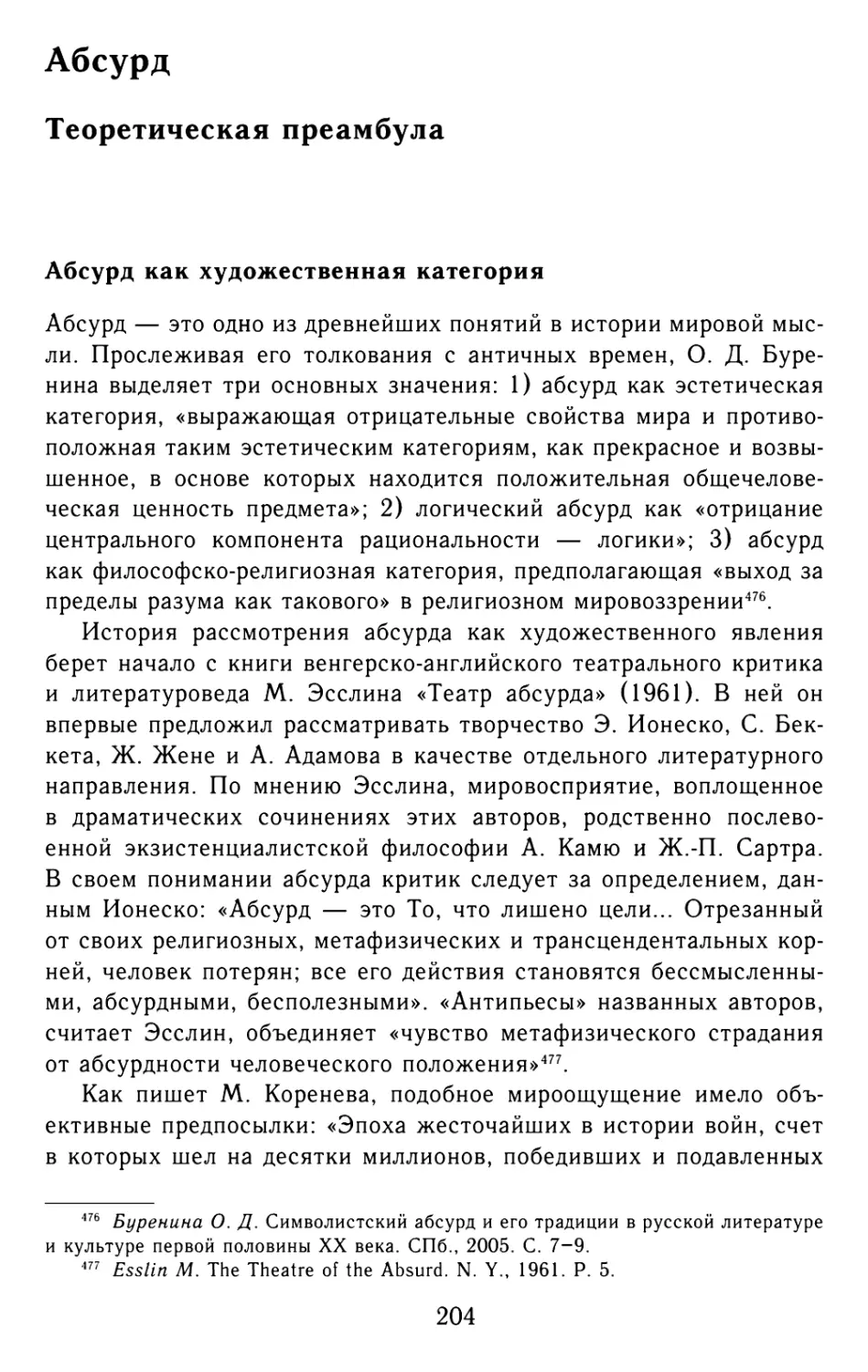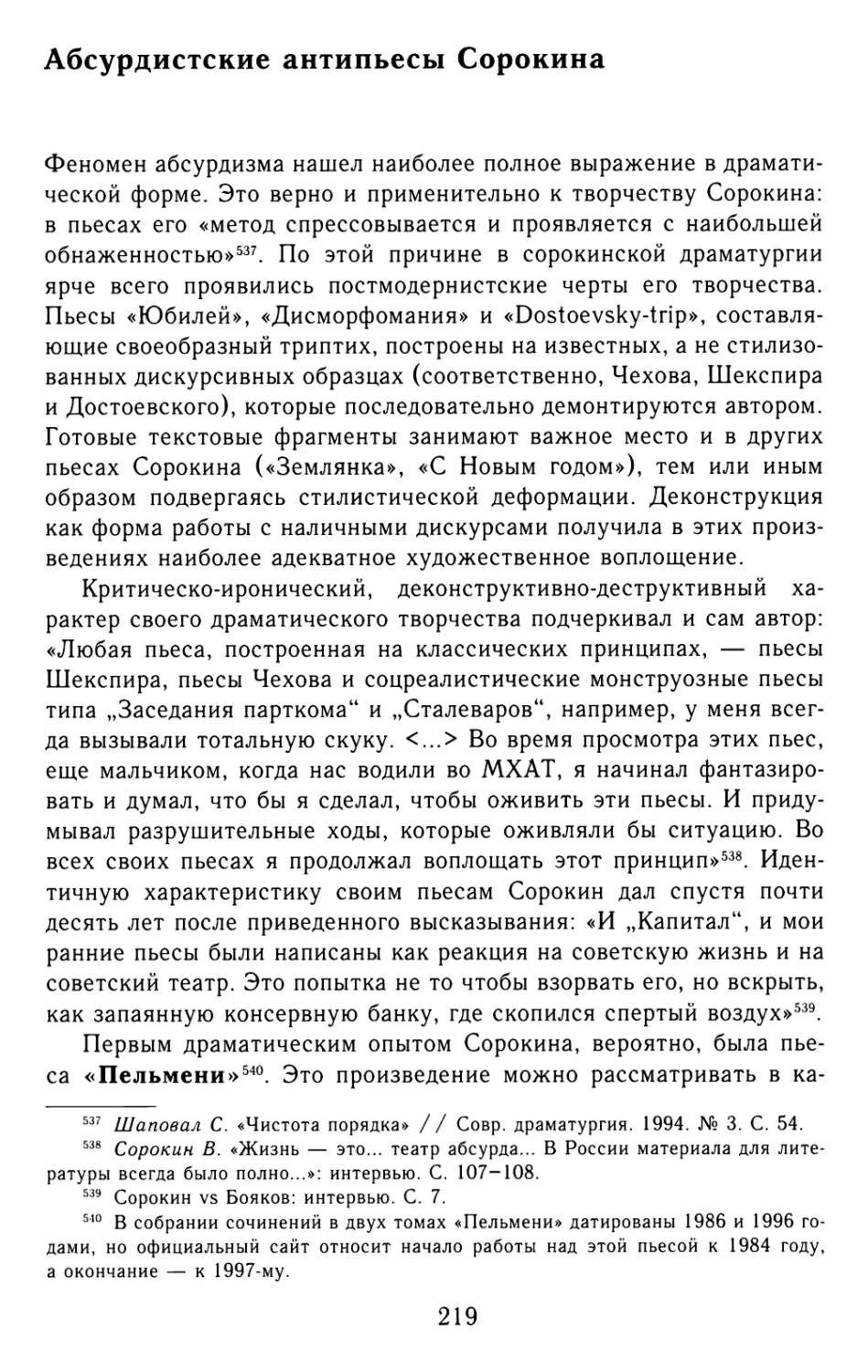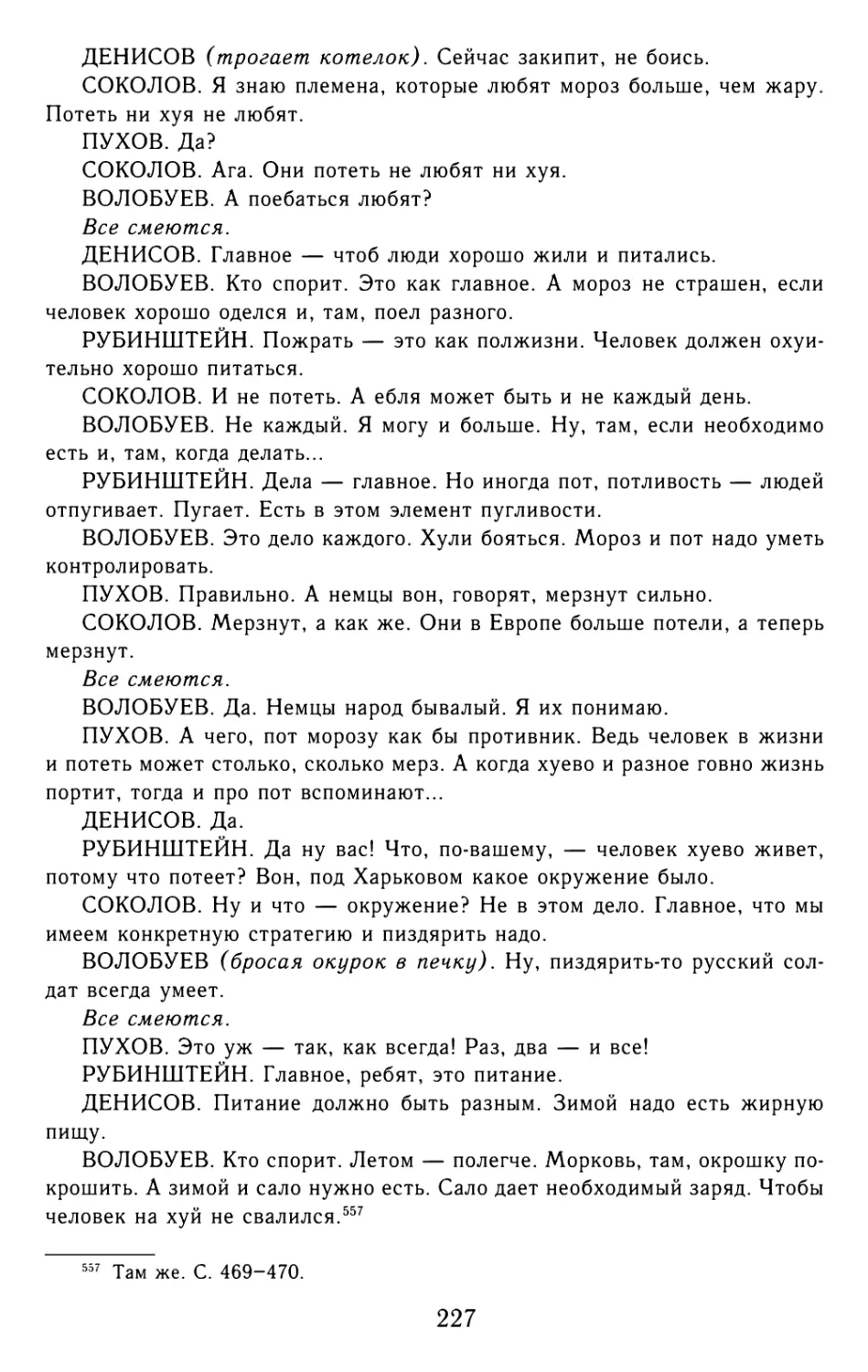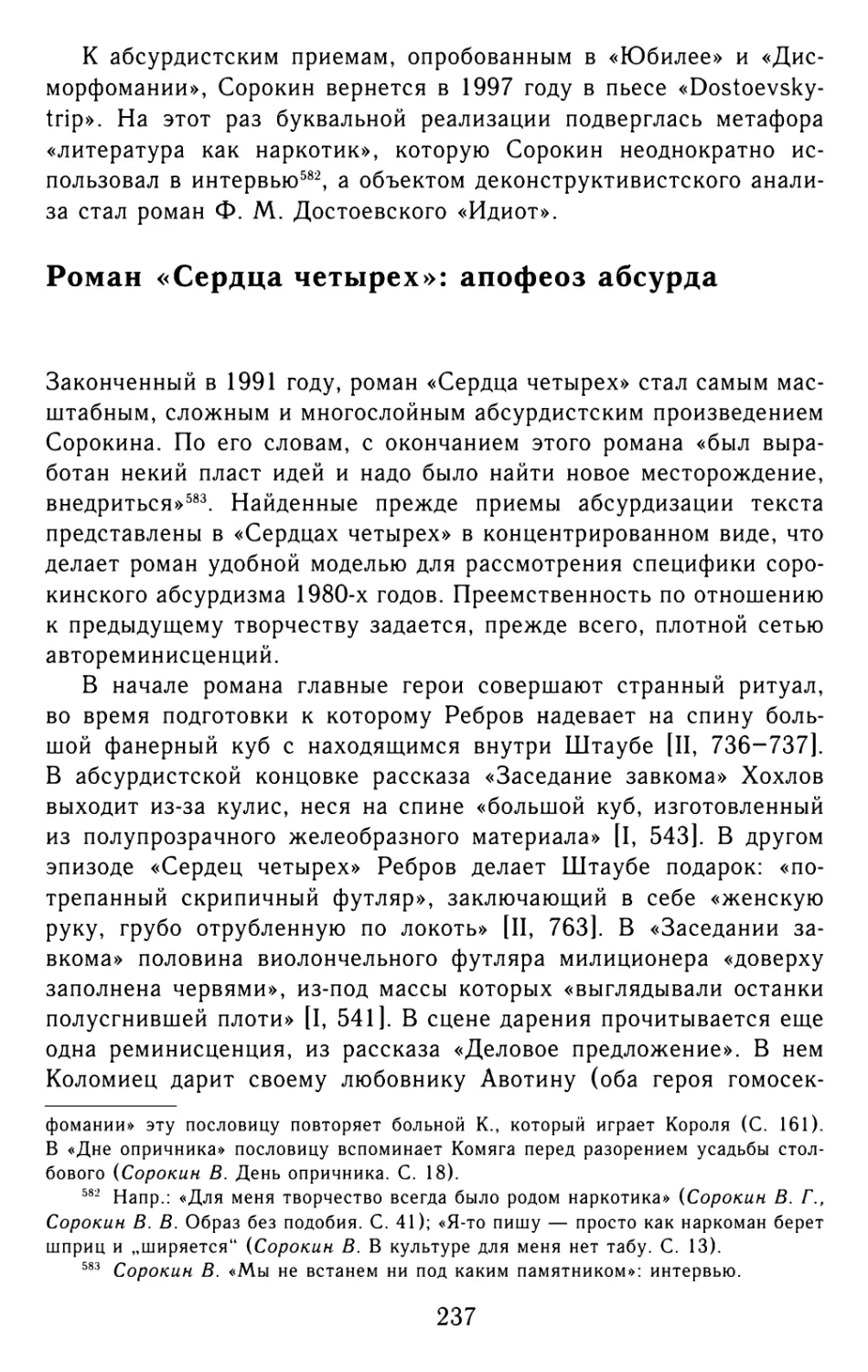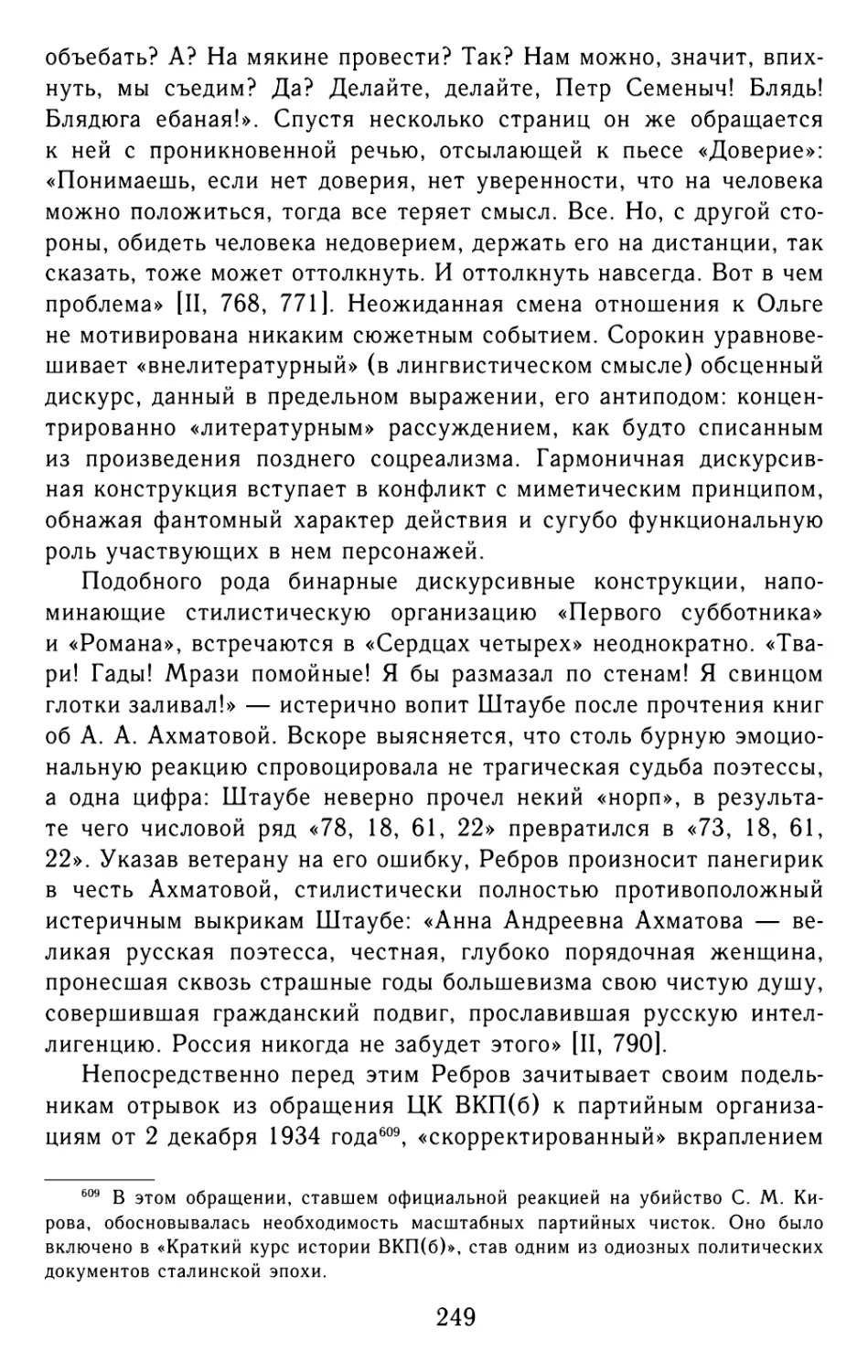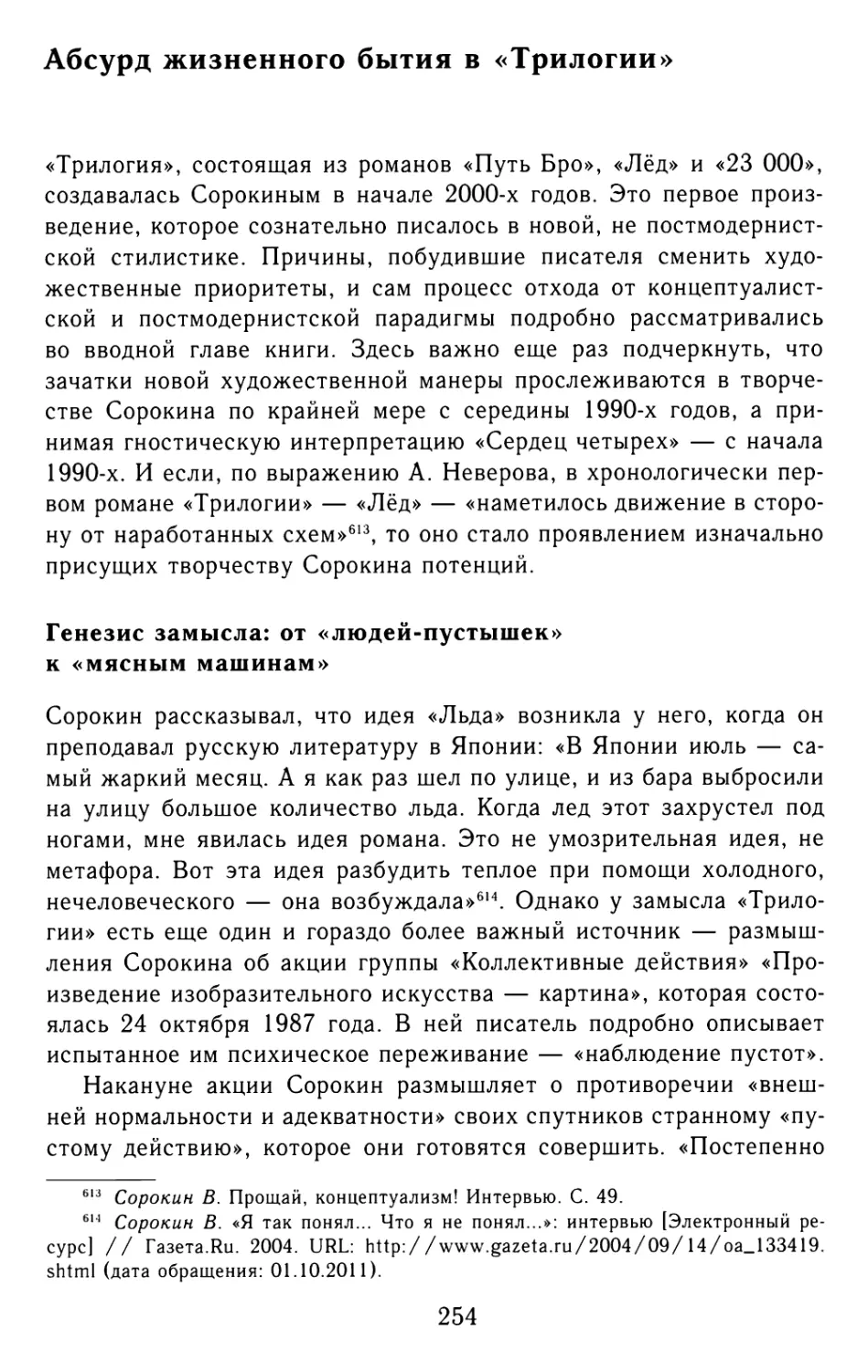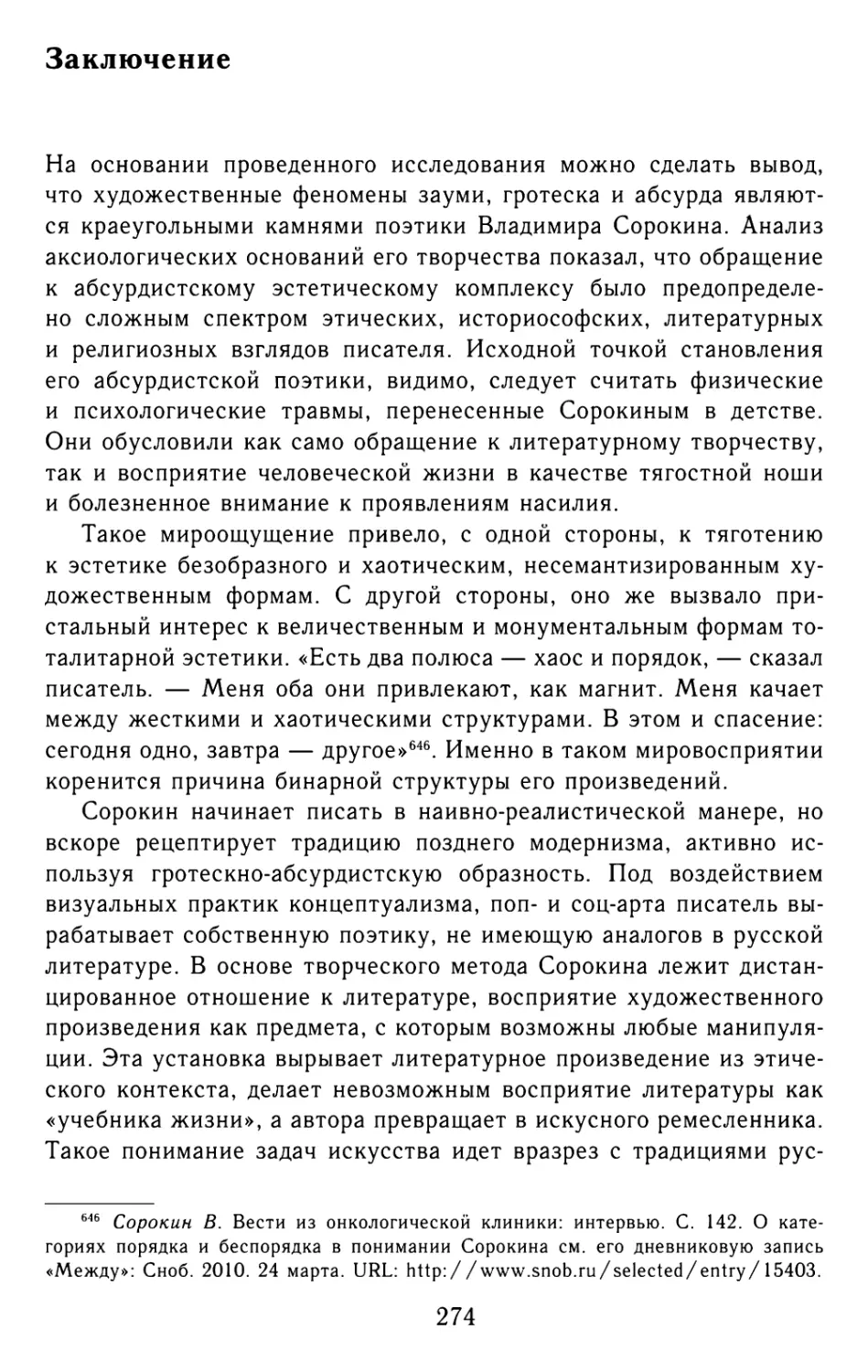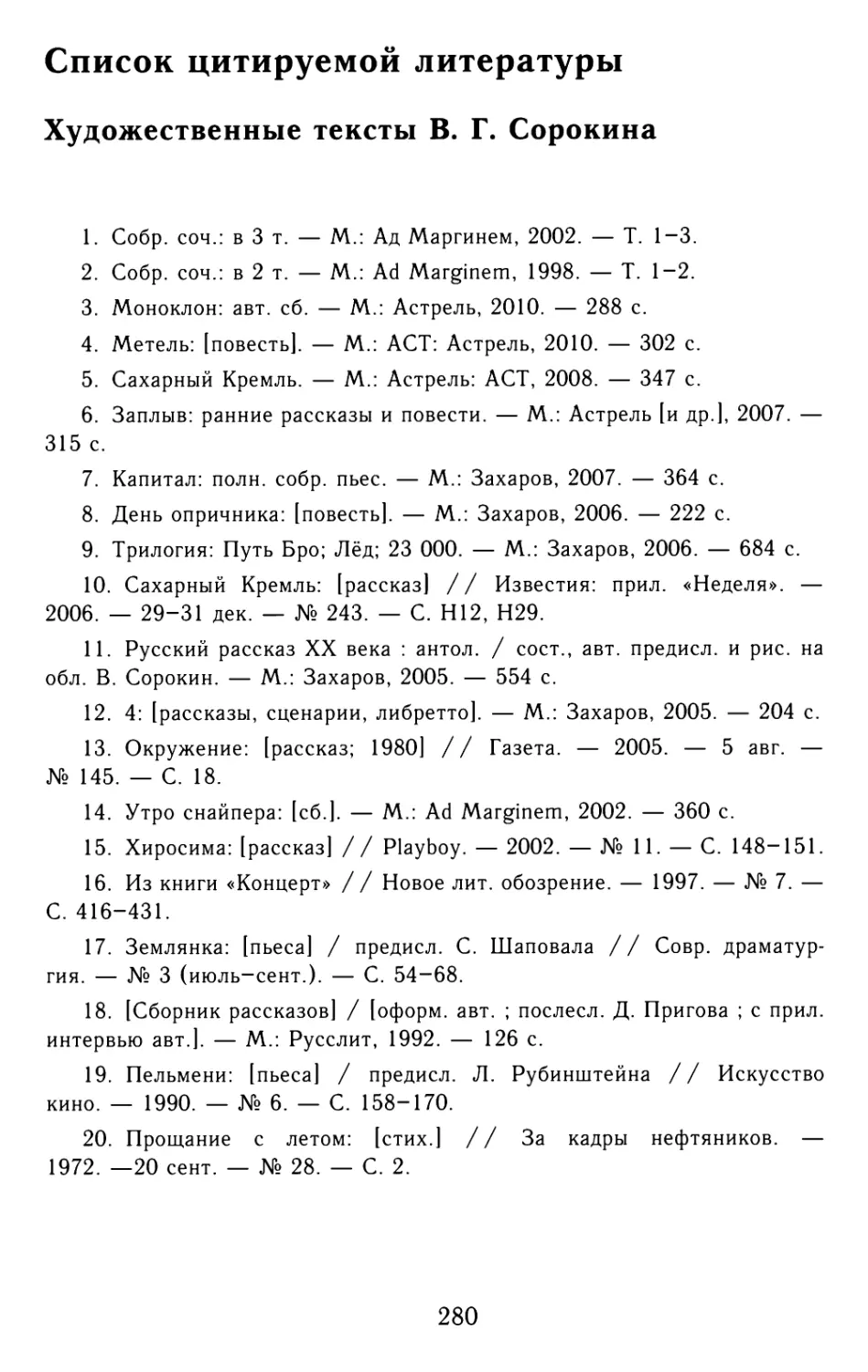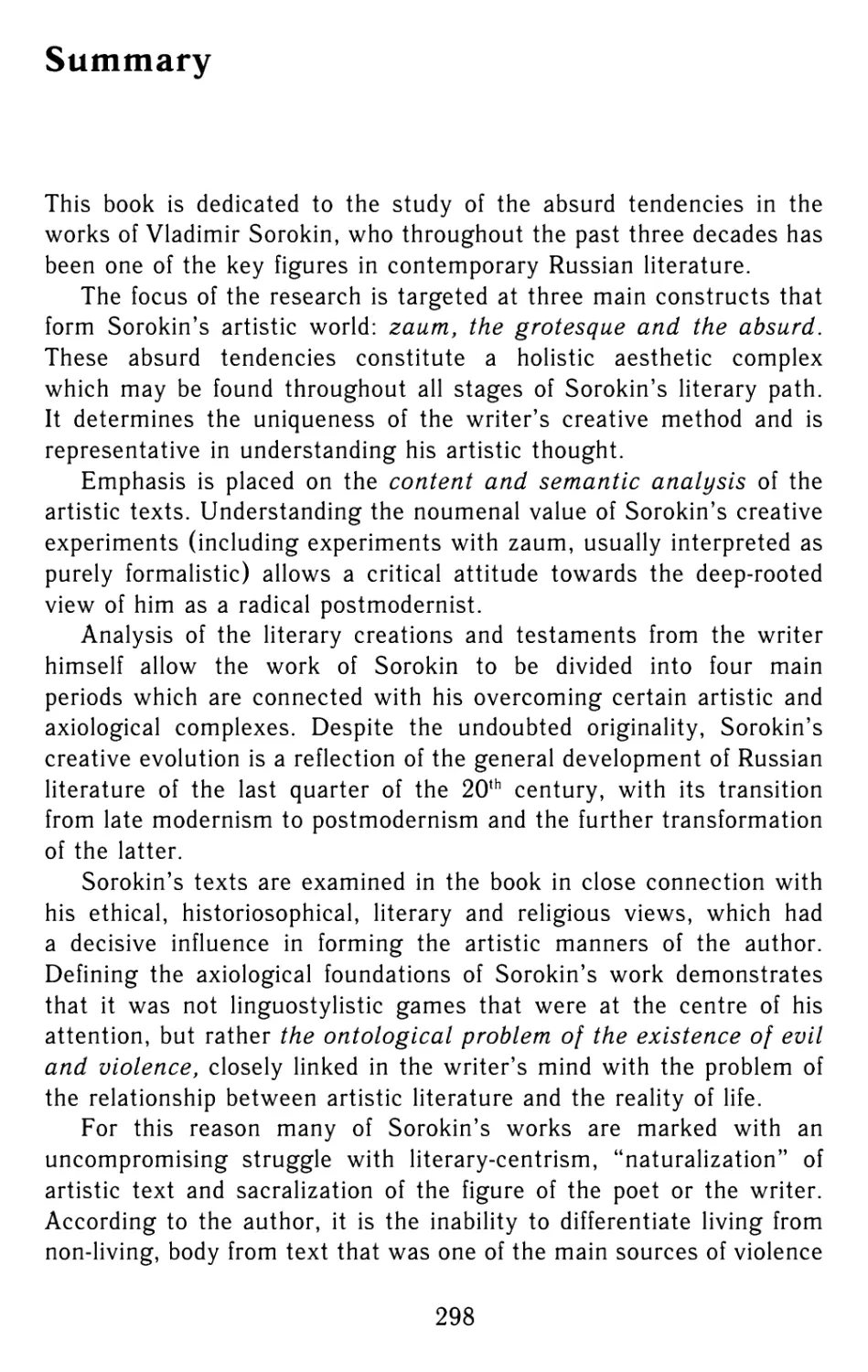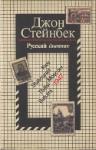Author: Марусенков М.
Tags: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран биографии
ISBN: 978-5-91419-609-4
Year: 2012
Text
Абсурдопедия
заумь, русской
гротеск · «J
и абсурд ЖИЗНИ
.Владимира
Сорокина
ш
■о
<<
о
φ
х
о
со
M. Π . Марусен ков
Абсурдопедия
русской
жизни
.Владимира
Сорокина
Заумь,
гротеск
и абсурд
Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2012
[АЛЕТЕЙЯ]
5575757"
ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА
УДК 821.161.1Сорокин.06
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Сорокин В. Г.
M 296
Марусенков М. П.
M 296 Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина. Заумь,
гротеск и абсурд. - СПб.: Алетейя, 2012. - 304 с.
ISBN 978-5-91419-609-4
В книге рассматриваются абсурдистские тенденции в творчестве
Владимира Георгиевича Сорокина. Исследовательский фокус направлен
на три главных конструкта, образующих художественный мир писателя:
заумь, гротеск и абсурд. Даны оригинальные интерпретации основных
произведений Сорокина, подробно описан его творческий путь,
проанализированы ценностные установки писателя. Изучая не просто
«феномен Сорокина», а ноуменальную сущность его творчества, автор
приходит к выводу, что этическая составляющая в произведениях
Владимира Сорокина не менее значима, чем эстетическая.
УДК 821Л61.1Сорокин.06
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Сорокин В. Г.
ISBN 978-5-91419-609-4
I I © Μ· Π· МаРУсенков> 2012
9 И7 8 5 914"ι 9 6 о 94 " © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012
Предисловие
Настоящая книга посвящена исследованию абсурдистских
тенденций в творчестве Владимира Георгиевича Сорокина, который на
протяжении последних трех десятилетий остается одной из
ключевых фигур в новейшей русской литературе. Вокруг творчества
Сорокина сломано немало копий. Начиная, по крайней мере, с романа
«Голубое сало» (1999), появление каждого нового произведения
писателя сопровождается критическими откликами и
общественными дискуссиями разной степени ожесточенности. Точное
попадание книг Сорокина в «нервные узлы общества»1 привело к вало-
образному росту текстов, посвященных его жизни и творчеству.
Однако приходится констатировать, что произведения Владимира
Сорокина изучены в современном литературоведении явно
недостаточно. Анализ различных аспектов его художественной манеры
и отдельных произведений не позволяет составить целостное
представление о литературном пути Сорокина, определить
своеобразие его художественного мышления и, тем самым, приблизиться
к аутентичному восприятию авторских текстов.
Ситуацию усугубляет гипертрофированное внимание,
уделяемое теме рецепции Сорокиным постмодернизма. В последние годы,
ввиду очевидного отхода писателя от концептуалистской и
постмодернистской парадигмы, количество работ по этой теме пошло
на спад. Тем не менее, «панпостмодернистские» интерпретации
по-прежнему составляют ведущую тенденцию в осмыслении
творческого наследия Сорокина.
В данной книге акцент сделан на содержательно-смысловом
анализе его художественных текстов в противовес
господствующему формально-стилистическому подходу2. Именно осмысление
1 Сорокин В. «Я питаюсь энергией непредсказуемого»: интервью
[Электронный ресурс] // Грани.Ру. 2005. URL: http://www.grani.ru/Culture/
Literature/m.93025.html (дата обращения: 01.10.2011).
2 Характерно суждение А. А. Гениса: «Писатель в истолковании Сорокина
сегодня становится дизайнером. <...> Отучая читателя от значительности темы,
изымая из книги внутреннюю мысль, вычеркивая из литературы нравственный
посыл, Сорокин предлагает взамен набор формальных принципов — соотношение
языков, распределение текстовых объемов, игру стилевых ракурсов. Современный
автор занят манипуляцией повествовательными структурами за пределами их
смысла» (Генис А. Страшный сон [Электронный ресурс] // Радио «Свобода». 1999.
5
ноуменального значения творческих экспериментов Сорокина
(в том числе заумных, обычно трактуемых как сугубо
формалистические) позволяет критически отнестись к укоренившемуся
представлению о нем как о радикальном постмодернисте.
Исследовательский фокус направлен на три главных
конструкта, образующих художественный мир Сорокина: заумь, гротеск
и абсурд. Эти абсурдистские тенденции составляют целостный
эстетический комплекс, который обнаруживается на всех этапах
литературного пути Сорокина. Он определяет своеобразие
творческого метода писателя и является репрезентативным для
понимания его художественного мышления.
Изучение произведений Сорокина в избранном аспекте важно
для понимания эволюционных процессов, происходивших в одном
из наиболее значимых и уникальных течений русской литературы,
связанном с заумным футуризмом и ОБЭРИУ. Произведения
Сорокина демонстрируют преемственность русской постмодернистской
литературы конца XX века по отношению к модернистским
художественным открытиям начала столетия, что существенно для
понимания литературной эволюции этого периода.
Тексты Сорокина рассматриваются в книге в тесной связи
с его этическими, историософскими, литературными и
религиозными взглядами. Определение аксиологических основ творчества
Сорокина показывает, что в центре его внимания всегда находились
не столько лингвостилистические эксперименты, сколько
этические вопросы, тесно связанные для писателя с проблемой
соотношения художественной литературы и жизненной реальности.
В рамках данной работы также предлагается обоснованная
концепция творческой эволюции автора. Анализ литературных
произведений и свидетельства самого писателя позволяют разграничить
в его творчестве четыре основных периода, связанных с
доминированием определенных художественно-аксиологических комплексов.
Выделение конститутивных особенностей художественного
мышления Сорокина дало возможность показать внутреннюю
закономерность его литературного развития, понять место и роль отдельных
произведений в этом процессе.
В творчестве Владимира Сорокина присутствуют и
значительные темы, и осмысленные сюжеты, и нравственная проблематика.
Продолжая традиции русской литературы, Сорокин обогатил их
URL: http://archive.svoboda.org/programs/OTB/1999/OBT.03.asp (дата
обращения: 01.10.2011)).
6
смелыми, но художественно безупречными находками.
Театральный режиссер Э. В. Бояков, поставивший пьесу Сорокина
«Капитал», сравнил его книги с глотком «свежей чистой воды»: «Работая
с таким материалом, получаешь огромную энергию, жизненную
силу, заключенную в правдивости его текста. Сорокин
пытается разобраться в сегодняшнем времени и в том, что происходит
с нашими душами. И в этом смысле он идет от Толстого,
Достоевского, Чехова. И точка отсчета у него та же — гуманистическая
и христианская»3.
Автор книги будет благодарен за любые отклики. Замечания,
предложения, критику просьба направлять по электронной
почте maxim@marusenkov.ru.
3 Показы спектакля «Капитал» по пьесе Сорокина начнутся 31 мая
[Электронный ресурс] // РИА Новости. 2007. URL: http://www.rian.ru/
culture/20070521/65798153.html (дата обращения: 01.10.2011).
Введение
Аксиологические основания творчества
В. Г. Сорокина
Владимир Сорокин традиционно считается одним из самых
радикальных писателей постмодернистского направления. Так, вскоре
после выхода романа «Голубое сало» В. Н. Курицын утверждал,
что на примере произведений Сорокина «легче всего
иллюстрировать такие важные постструктуралистские постулаты как „всякий
текст тоталитарен" и „чтение есть процесс физиологический не
в меньшей мере, нежели духовный"»4. Сходную точку зрения,
только с обратным знаком, неоднократно высказывал А. С. Нем-
зер. «Дескать, надо всеми одинаково смеемся, — писал критик
в рецензии на „Голубое сало»", — такой у нас постмодернизм»5.
Л. Г. Андреев отмечал, что «Сорокин, освободивший литературу
от „всего внеположенного" <...>, действительно достойно венчает
собой русский постмодернизм»6.
Суждениям такого рода противоречат высказывания самого
писателя, отнюдь не склонного однозначно определять свою
творческую позицию. Сорокин не отрицает принадлежность ряда своих
произведений к постмодернистской литературе, но его отношения
с этой традицией выглядят далеко не такими прямолинейными,
какими их чаще всего видят. Если в интервью 1992 года писатель
прямо заявлял о своей приверженности к постмодернизму7, то
спустя десять лет он высказал едва ли не противоположное мнение:
«<...> я как-то разочаровался в философах. Это произошло лет семь
назад. Я достаточно много читал философов-постмодернистов —
Дерриду, Фуко, Делёза, Гваттари. Меня стал раздражать их атеизм
и самоуверенность»8. Полярные точки зрения на постмодернизм
4 Курицын В. Владимир Сорокин [Электронный ресурс] // Соврем, рус. лит.
с В. Курицыным. [1999 или 2000]. URL: http://www.guelman.ru/slava/writers/
sorokin.htm (дата обращения: 01.10.2011).
5 Немзер А. Не все то вздор, чего не знает Митрофанушка / / Он же.
Замечательное десятилетие русской литературы. М., 2003. С. 398.
6 Андреев Л. Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия? //
Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. М., 2001. С. 332.
7 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью / / Он же. [Сб. рассказов]. М.,
1992. С. 120.
8 Сорокин В. Дух или тело: интервью // Алфавит. 2002. № 32. С. 6.
8
разделяет промежуток всего в три года (учитывая, что, по словам
Сорокина, в постмодернистской философии он разочаровался семь
лет назад, то есть в середине 1990-х годов).
8 2005 году писатель выступил с прямым протестом против
механического подведения всех своих произведений под
умозрительно понятый постмодернизм: «Так что, господа филологи-слависты,
протрите ваш единственный глаз. Хватит смотреть на живых
писателей сквозь пласт розоватого мармелада, сваренного Дерридой
и Делёзом на хилом костре псевдореволюции 1968 года. Хватит
навешивать на нас гнилых собак, порожденных вашим высокомерием,
самоуверенностью и леностью ума. Хватит прятаться за цитаты.
Хватит впаривать высоколобую туфту. Хватит лепить горбатых
шоколадных зайчиков шизоанализа и деконструкции»9.
Г. А. Морев усмотрел в критическом выступлении Сорокина
желание манифестировать разрыв «с самим собой — автором
романа „Роман"»10. Однако в эссе «Меа culpa?» писатель отнюдь
не стремился отмежеваться от своего предшествующего
творчества. Автор призывал критиков и филологов интерпретировать
свои произведения адекватно их текстам и существовавшей на
момент написания литературной ситуации. «Роман „Роман44, —
отмечал Сорокин, — писался двадцать лет назад, за это время
утекло много литературной и живой воды, изменился и сам
автор, изменились или мутировали его литературные и жизненные
пристрастия»11.
Сорокин приемлет феномен постмодернизма, видя его
сущность в игровой природе: «Суть постмодернизма игровая, это не
борьба, а игра с великими обломками»12. «Это игра с имиджами,
„игра в бисер", это некий материальный процесс, что-то чисто
механическое», — пояснял писатель13. В то же время Сорокина не
устраивает тенденциозная и однобокая интерпретация его
творчества. «Литературная критика наша умом прискорбна, — говорит
автобиографический герой рассказа „Моя трапеза". — А запад-
9 Сорокин В. Меа culpa? // НГ Ex Libris. 2005. № 13. С. 5.
10 В гостях у циклопов [Электронный ресурс] // Полит.ру. 2005. URL: http://
www.polit.ru/article/2005/04/17/ciklopy/ (дата обращения: 01.10.2011).
11 Сорокин В. Меа culpa?
12 Сорокин В. «Литература есть сражение психических состояний писателя»:
интервью // Время МН. 2000. № 141. С. 7.
13 Сорокин В. «В культуре для меня нет табу...»: интервью / / Он же. Собр.
соч.: в 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 13.
9
ные слависты — циклопы одноглазые. <...> И этот единственный
глаз — кар-на-ва-лы-за-цыя!» [Ill, 559]14.
Действительно, в подавляющем большинстве критических и
исследовательских работ о Сорокине обнаружение в его
произведениях постмодернистских тенденций и подчеркивание игровой
природы творчества не идет дальше простой констатации.
Самодостаточность эстетического эксперимента, его идеологическая
неангажированность всегда имели для писателя принципиальное значение.
В то же время исследование властного, «авторитарного» характера
любого дискурса, вполне постмодернистское и по сути, и по форме,
всегда было подчинено у Сорокина более глобальной и глубинной
проблематике, которая традиционна для русской литературы.
Этические, историософские и литературные
взгляды писателя
Владимира Сорокина интересуют не столько лингвостилистические
игры и узкоспециальные проблемы смыслопорождения, сколько
онтологическая проблема существования зла. «То, что я
делаю, — сказал писатель, — это попытка разглядеть зло, понять, чем
оно опасно»15; «я пытаюсь говорить о природе зла»16. Именно
проблема зла лежит в основании творческих экспериментов Сорокина,
а осуществляемая в его произведениях игра тем самым
приобретает весьма значительный характер. Как мрачно пошутил писатель по
этому поводу, «игра — спасение, если быть серьезным, то надо
веревку намыливать...»17. Исследуя природу зла, Сорокин обращается
к насилию как наиболее характерному его проявлению: «Насилие
существует в мире. И его очень много. И я пытаюсь все время
ответить на вопрос — почему люди не могут обойтись без насилия.
Что это такое вообще? В чем его природа? Почему надо
обязательно убивать или давить кого-то? Почему надо подчинять людей
своей воле? Для меня это загадка. И я пытаюсь по-своему дать на
14 Здесь и далее произведения В. Г. Сорокина цитируются по собранию
сочинений в трех томах (М., 2002) с указанием в квадратных скобках номера тома и
страницы. Источники художественных текстов, не вошедших в указанное собрание,
отмечаются отдельно.
15 Сорокин В. Писать и бояться невозможно: интервью // Ведомости. 2008.
№ 3. С. А08.
16 Сорокин В. «Лучше собаки друга нет»: интервью // Собеседник. 2006.
№ 35. С. 28.
17 Сорокин В. «Литература есть сражение психических состояний писателя»:
интервью.
10
нее ответ»18. Говоря о насилии, Сорокин имеет в виду не только
физическое и психологическое, но и так называемое
дискурсивное насилие: «Текст — очень мощное оружие. Он гипнотизирует,
а иногда — просто парализует»19.
По этой причине в центре внимания писателя часто оказывается
феномен тоталитаризма как квинтэссенция разнообразных форм
насилия. По мнению Сорокина, «в тоталитарном Советском Союзе
насилие было главной силой, на которой держалось все. Оно было
темной энергией того общества»20. Тоталитаризм Сорокин
характеризовал как «редкое и ядовитое растение», цветущее раз в тысячу
лет21, как ядовитого паука или скорпиона: «Скорпионов можно
назвать красивыми, совершенными машинами. Но они несут яд.
Поэтому любоваться ими можно, но в собственной постели терпеть
их нельзя. Литература позволяла отстраниться от жизни, поэтому
я любовался и рассматривал тоталитаризм, как скорпиона — под
стеклом»22.
Разработка темы тоталитаризма и связанной с ней эстетики
социалистического реализма стала первым этапом творческой
деятельности писателя. Как отмечала Л. Лаврова,
«концептуальная „норма" Сорокина оказалась при „переработке" гораздо
масштабнее, чем хотели бы видеть те, кто слишком поспешно
„пристегнул" его к своим конъюнктурным сражениям с homo
soveticus'oM. На „крюках" сорокинского „комбината" повисли
не только „русская бабушка" рядом с новорусскими паханами
и нуворишами из „Щей", „Пельменей" или „Москвы", но и
утонченные интеллектуалы модной гомоэротической окраски вкупе
18 Сорокин В. Спящий в ночи: интервью // ΗΓ Антракт. 2005. № 24. С. 13.
19 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 121.
20 Сорокин В. «Темная энергия общества»: интервью // Профиль. 2007. № 4.
С. 88.
21 Сорокин В. «Тоталитаризм — растение экзотическое и ядовитое,
крайне редкое и опасное»: интервью [Электронный ресурс] // HhoCMH.Ru. 2002.
URL: http://www.inosmi.ru/untitled/20020924/159243.html (дата обращения:
01.10.2011).
22 Бурнашев А. Тоталитаризм под микроскопом // Заполярная правда. 2008.
№ 69. Образ скорпиона как аллегорического обозначения тоталитаризма
использован Сорокиным в рассказе «Кочерга» из книги «Сахарный Кремль». Описывая
деятельность Тайного Приказа — аналога НКВД в тоталитарной России
будущего, — Сорокин изображает необычную пытку, предполагающую введение
подследственному временно парализующего вещества: «Тело Смирнова дернулось, он
вскрикнул и замер, окостенев. <...> Его словно укусил невидимый гигантский
скорпион» {Сорокин В. Сахарный Кремль. М., 2008. С. 86). Как известно, яд скорпиона
обладает парализующим действием.
11
с неприкасаемыми до сей поры интеллигентскими культурными
идолами»23.
Роман «Голубое сало», о котором пишет Лаврова, стал
завершающим этапом масштабного деконструктивистского проекта,
призванного изгнать «беса великой русской литературы, которая
претендовала на все и вся»24. Расширение поля стилистических
экспериментов Сорокина с социалистического реализма на классический
реализм, а затем и на классический модернизм было
закономерным. С точки зрения писателя, соцреализм — это
«законнорожденный ребенок ВРЛ (Великой Русской Литературы — Λί. Λί.)»25,
а советская идеология имела литературную основу: «Примерно
в конце девятнадцатого века у нас произошла литературная
революция. Литература захватила власть в этой стране. Обе русские
революции, сталинский террор, а потом и перестройка — все это
последствия литературной гегемонии. Собственно, литература,
например, пушкинского времени и конца XIX века — это совершенно
разные существа. Для пушкинского времени литература —
нормальное салонное явление. А потом она стала расти, расти все
больше и больше, стала больше себя и превратилась в монстра.
Это был абсолютный диктатор, подчинивший себе и церковь, и
русскую историю, и социологию, и психологию — практически все»26.
Об исключительной роли литературы в советской культуре
писал В. 3. Паперный: «В культуре 2 (культуре 1930-х — 1950-х
годов — Λί. Λί.) постепенно сложилась своеобразная иерархия
искусств — основанная на их вербальных возможностях. Первое
место в этой иерархии прочно занимала литература»27. Более
широкий взгляд на соцреализм, близкий точке зрения Сорокина,
представлен в книге Е. А. Добренко «Политэкономия соцреализма»,
в которой на богатом фактическом материале предпринята попытка
«понять советский исторический опыт, самую „реальность социа-
23 Лаврова Л. Апофигей Кота Мурра // Дружба народов. 1999. № 10. С. 209.
24 Сорокин В. На хвосте у Сорокина: интервью // Огонек. 2003. № 34. С. 49.
25 Сорокин В. «Процесс порождения текстов протекает у меня как
контролируемый приступ эпилепсии»: интервью [Электронный ресурс] // Топология Между-
строчья. 2003. URL: http://www.epistopology.com/ioffe_sorokin.html (дата
обращения: 01.10.2011).
26 Сорокин В. Любовь сильнее литературы: интервью // Консерватор. 2003.
№ 18. С. 17. Примечательно, что в телепрограмме «Познер» на Первом канале
(вып. 3 от 01.12.2008) М. С. Горбачев заявил, что главное влияние на него оказала
русская литература, косвенно признав тем самым, что перестройка имела
литературную инспирацию.
27 Паперный В. Культура Два. М., 2006. С. 222.
12
лизма" как продукт действия уникального репрезентационного
механизма — института социалистического реализма»28. Становление
же самого социалистического реализма, как утверждает M. М.
Голубков, «опиралось не только на формулируемые сверху законы
литературного развития, но и на внутренние процессы,
характеризующие состояние реалистической эстетики»29.
По мнению Сорокина, безусловное господство литературы во
всех общественных сферах предопределило возникновение русской
революции и массовых репрессий: «Русская литература
практически подготовила русскую революцию тем, что люди так сильно
переоценивали бумагу и наделяли литературу нелитературными
свойствами. А литератора — статусом пророка, учителя и
заступника человечества. Все это кончилось большой кровью и десятками
миллионами погибших»30. Мысль о том, что русская литература
XIX века ответственна за последующие события русской истории,
не нова. С. Г. Бочаров считает одним из ее первоисточников
творчество К. Н. Леонтьева и, прежде всего, его «критический этюд»
«Анализ, стиль и веяние» (1890)31. Популярной эта идея стала
после выхода сборника «Из глубины» (1918), содержавшего статью
Н. А. Бердяева «Духи русской революции». «Метафизическая
диалектика Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют
внутренний ход революции», — утверждал философ32. Во второй
половине XX века с резкой критикой на гуманистическую
традицию русской литературы обрушился, в частности, В. Т. Шаламов:
«Я не верю в литературу. Не верю в ее возможность по
исправлению человека. Опыт гуманистической русской литературы привел
к кровавым казням двадцатого столетия перед моими глазами»33.
В отличие от названных мыслителей, Сорокин полагает, что
основные противоречия русской классической литературы XIX века
лежали не столько в духовной, сколько в телесной сфере.
Формирование утопического вектора коммунистической идеологии, от ко-
28 Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 5.
29 Голубков М. М. Русская литература XX в.: После раскола. М., 2002. С. 131.
30 Сорокин В. «Жизнь — это... театр абсурда... В России материала для
литературы всегда было полно...»: интервью // Соколов Б. Моя книга о Владимире
Сорокине. М., 2005. С. 107.
31 Бочаров С. Г. Литературная теория Константина Леонтьева / / Он же.
Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 310.
32 Бердяев Н. А. Духи русской революции // Лит. учеба. 1990. Кн. 2. С. 124.
33 Шаламов В. Т. «Новая проза»: Из черновых записей 70-х годов // Новый
мир. 1989. № 12. С. 3.
13
торого исходили импульсы насилия, Сорокин связывает с
оторванностью русской литературы от действительности. «Абсолютное
большинство персонажей нашей прозы 19-го столетия, — пишет он
в предисловии к авторской антологии „Русский рассказ XX века", —
являлись ходячими идеями, лишенными мышц, костей и крови,
эдакими метафизическими облаками в штанах и платьях»34. Авторы
прикладывали «потрясающие гиперусилия», для того чтобы
«оживить бумагу», сделав «ходячие идеи» максимально осязаемыми35.
По этой причине в творчестве Сорокина постоянно акцентируется
несоответствие литературы и действительности, подчеркивается
сугубая конвенциональность и «мертвенность» любого
художественного высказывания. По меткой характеристике М. К. Рыклина,
в произведениях писателя «литературная установка советской
культуры („все сказать") упирается в стену невыговариваемого:
в мир настолько насильственный, настолько интенсивный, что
никакая, даже самая мастерская и честная литература не может
рассчитывать в него проникнуть»36. Отсюда проистекает
стилистическая полемика Сорокина с традициями русской классической
и соцреалистической литературы. Натуралистические описания
сексуальных сцен, физиологических отправлений, изощренного
насилия, обширное включение обсценной лексики призваны
восполнить нехватку телесности в русской литературе. Заполняя эту
лакуну «запахом пота, движением мышц, естественными
отправлениями, спермой, говном»37, Сорокин обнажает нелепость
«имперских» притязаний русской литературы, претендовавшей, по его
мнению, «на все и вся», но не сумевшей совладать даже с основной
своей задачей: адекватно и всесторонне отразить действительность.
Острая полемика с реалистической традицией составляет одну
из сущностных черт постмодернизма как эстетического
направления, но Сорокин полемизирует в своем творчестве не только
с принципами реалистической эстетики. Не менее важной
оказывается для него традиция восприятия литературы в качестве
«учебника жизни», а писателя как глашатая нравственных истин.
А. М. Песков выделяет в русской литературе «пророческую пара-
34 Сорокин В. Предисловие // Русский рассказ XX века. М., 2005. С. 5.
35 Сорокин В. «Насилие над человеком — это феномен, который меня всегда
притягивал...»: интервью [Электронный ресурс] // Рус. журн. 1998. URL: http://
old.russ.ru/journal/inie/98-04-03/voskov.htm (дата обращения: 01.10.2011).
36 Рыклин М. Роман Владимира Сорокина: «норма», которую мы съели //
Коммерсантъ. 1994. № 180. С. 13.
37 Сорокин В. Убойное сало: интервью // МК-Воскресенье. 2002. № 28. С. 4.
14
дигму», возводя ее к панегирической поэзии XVIII века. По мнению
исследователя, начиная с 1830-х годов «сакральная мифологизация
фигуры поэта» потеряла свой условно-метафорический характер,
и автор стал выступать «в роли избранника, сообщающего истины
безусловные»38. Основным объектом рефлексии А. Пескова
является русская историософия, однако «пророческая парадигма»
заявила о себе не только в историософских сочинениях, но и в
художественных произведениях таких писателей, как Н. В. Гоголь,
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой.
В искусстве соцреализма «натурализация» текста достигла
абсолютного характера, приведя к окончательному размыванию
границ между литературой и действительностью, героем и
автором, героем и читателем. Как пишет В. Паперный, «в сознании
архитекторов в 30-х годах могло существовать одновременно два
крестьянина. Один — падающий и умирающий от голода, против
которого на больших дорогах были устроены военные
заграждения, и другой — которому архитекторы адресовали „скульптуру,
живопись, фонтаны, фрески, мозаику, цветы, все разнообразие
средств художественного оформления, которое знает искусство4',
чтобы создать для него „радостную и бодрую архитектуру новой
колхозной деревни"»39. Е. Добренко указывает, что в 1940 году
журнал «Новый мир» опубликовал вызвавшую заметный резонанс
статью С. Мстиславского «Мастерство жизни и мастера слова».
Автор этой статьи утверждал, что «для литератора — партийного
и государственного работника — личная и общественная жизнь
неразделимы <...> только собственной жизнью, ее мастерством и не
чем иным выдвигается собственная, своя тематика писателя <...>
владеть „правом на вымысел44 может только писатель, стоящий на
таком идеологическом и культурном уровне, который обеспечивает
верность вымысла, т. е. правду его»40.
Представление о художественном тексте как о «поступке»
(термин M. М. Бахтина41), а об его авторе как о «пророке» сохранило
свою силу и в послесталинский период. «Если поэзия и не играет
роль церкви, то поэт, крупный поэт, как бы совмещает или за-
38 Песков А. М. «Русская идея» и «русская душа». М., 2007. С. 11.
39 Паперный В. Указ. соч. С. 301.
10 Цит. по: Добренко Е. Формовка советского писателя. СПб., 1999. С. 127.
11 Бахтин Μ. Μ. К философии поступка / / Он же. Собр. соч.: в 7 т. М., 2003.
Т. 1. С. 7-68.
15
мещает в обществе святого, в некотором роде. То есть он некий
духовно-культурный, какой угодно, даже, возможно, в социальном
смысле — образец», — говорил И. А. Бродский42. Укорененность
этого представления в русской культуре позволила М. Голубко-
ву сравнить произошедшую на исходе XX века стремительную
девальвацию русской литературы и десакрализацию фигуры
писателя с «геологическим катаклизмом», после которого
литература «перестала быть учебником жизни, слово писателя перестало
быть словом пастыря, а культура в целом <...> перестала быть
литературоцентричной»43.
В творчестве Сорокина борьба с литературоцентризмом и
«натурализацией» художественного текста приобрела наиболее
радикальные черты. «Весь мой опыт в литературе, — признавался
писатель, — это попытка снять с этой области некую мистическую
паутину, которой она была окутана последние два века. Мысль
о том, что писатель должен быть пророком или учителем
общества — прямое следствие заблуждения, которое возникло со
второй половины XIX века. Появление таких писателей, как Толстой
или Достоевский, а также кризис православия привели к тому, что
к концу XIX века литература заняла место непомерно большее,
чем ей полагалось. После победы большевиков литература стала
важным государственным делом. Именно Сталину принадлежит
чудовищное высказывание о том, что „писатели — это инженеры
человеческих душ". С этого момента литература окончательно была
поставлена на место Бога»44.
О христианских аспектах творчества Сорокина речь пойдет
ниже. Пока же важно подчеркнуть, что стремление к десакрали-
зации литературной деятельности было одной из главных причин
обращения писателя к гротескно-абсурдистской поэтике. По
наблюдению M. Н. Липовецкого, в произведениях Сорокина «вполне
универсальным является принцип сочетания абсолютно
несовместимых стилевых пластов»45, порождающий внешне ничем не
мотивированные, абсурдные переходы из одного дискурса в другой.
«Власть языка и порядка в интерпретации Сорокина неизменно
42 Бродский И. «Никакой мелодрамы»: интервью / / Он же. Размером
подлинника. Таллин, 1990. С. 123.
43 Голубков M. М. Когда началась современная литература? // Современная
филология: итоги и перспективы. М., 2005. С. 309.
44 Сорокин В. Владимир Сорокин не хочет быть пророком, как Лев Толстой:
интервью // НГ Религии. 2003. № 11. С. 6.
45 Липовецкий M. Н. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997. С. 257.
16
переходит во власть абсурда, — констатирует Липовецкий. — Этот
переход из одного измерения дискурса в другое, глубинное,
объясняет такой постоянный прием его прозы, как стилевой скачок.
Редко кто, писавший о Сорокине, не отмечал его резких переходов
из соцреалистической гладкописи в кровавый и тошнотворный
натурализм, или, другой вариант, в поток бессмыслицы, просто набор
букв»46. Такой прием разрушает впечатление достоверности
происходящего, освобождая читателя от «гипнотизирующей» власти
текста.
По той же причине писатель прибегает к приему реализации
метафоры и, шире, вообще к переводу фигурального в
буквальное. С легкостью обращая даже самые абстрактные, умозрительные
идеи в конкретные, почти осязаемые образы, Сорокин вскрывает
внутреннюю абсурдность стремления «оживить бумагу». В этой
связи интересна мысль О. Л. Чернорицкой, которая связывает
поэтику абсурда с демифологизацией: «Объектом пародирования
и редукции в поэтике абсурда становятся не сами метафоры,
а мифы, порожденные мифологическим восприятием метафор —
материальное их восприятие». «Для виртуоза поэтики абсурда, —
утверждает О. Чернорицкая, — наилучшее место редуцирования
идей — низкий модус житейской прозы, телесность, проверка
высокой идеи фактами». Другой основной способ приведения к
абсурду, по мнению Чернорицкой, — это «наполнение строгой формы
чепухой»47.
Абсурдистская «чепуха» становится в данном случае важным
инструментом в решении серьезных задач, причем не только
художественного, но и этического свойства. Освобождение литературы
от «всего внеположенного», возвращение ее в сугубо эстетическое
русло видится Сорокину одним из способов избежать в будущем
трагических ошибок XX века. Не случайно в рассказе «Кочерга» из
книги «Сахарный Кремль» следователь России будущего, в
которой вновь воцарились тоталитарные порядки, назидательно говорит
допрашиваемому: «Ты, Андрей Андреевич, человек православный,
образованный. Понимать ты должен: каждый из нас за все
ответственен. И за дела, и за слова. Ибо каждое дело на слово
опирается. Там, где слово, там и дело»48. Такое отношение к словам Со-
16 Лейдерман Н. Л., Липовецкий M. Н. Современная русская литература: в
3 кн. М., 2001. Кн. 3. С. 56.
17 Чернорицкая О. Л. Поэтика абсурда. Вологда, 2001. Т. 1. С. 4, 7.
18 Сорокин В. Сахарный Кремль. С. 94. В России будущего выражение «слово и
17
рокин считает признаком первобытного мышления, недопустимого
в современном обществе: «В конце концов, где-нибудь в Африке,
например, люди могут убить из-за значка, из-за табу, но это же не
аргумент в силу этого знака, это свидетельство человеческой
дикости и архаичной природы. <...> В культуре для меня нет табу. Там
нет ни этики, ни морали. Там есть только красивое и некрасивое.
На бумаге можно позволить все, что угодно. Она стерпит... То
самое Слово, что было у Бога, было вовсе не на бумаге». Отстаивая
свое право на художественный релятивизм, Сорокин решительно
выступает против релятивизации сферы этики: «По отношению к
живому человеку у меня есть моральные принципы и жесткая
концепция поведения»49.
Итак, бескомпромиссное разведение сфер этики и эстетики по
принципу «живое — неживое», за которое Сорокина столь часто
обвиняли в постыдном равнодушии к добру и злу, в страстной
поэтизации последнего и даже в опасной антисоциальной
деятельности50, было обусловлено соображениями этического же
характера. По точной характеристике Б. В. Соколова, «всю свою историю
русская литература воевала с реальностью, которую хотела
подогнать под красивые литературные схемы, под собственные чаяния
грядущего прекрасного человека. Сорокин — первый, кто рискнул
объявить войну литературе — в защиту реальности, утвердив
самоценность и независимость литературных произведений от живой
жизни»51.
Религиозные взгляды писателя
Владимир Сорокин неоднократно говорил о том, что является
верующим человеком, причем принятие православия совпало с
началом его литературной деятельности: «Я всегда понимал, что мы
здесь не случайно живем и что мы созданы Богом. Я всегда верил
в Бога, в 25 лет я крестился»52. Пожилой Сорокин уверенно говорит
дело», известное с петровских времен как обозначение государственных
преступлений («слово и дело государево»), стало девизом новой опричнины.
49 Сорокин В. «В культуре для меня нет табу...»: интервью. С. 10, 20, 14.
50 См.: Ермолин Е. Письмо от Вовочки // Континент. 2003. № 1. С. 402-418;
Немзер А. Не все то вздор, чего не знает Митрофанушка; Басинский П. Авгиевы
конюшни // Октябрь. 1999. № И. С. 189-190.
51 Соколов Б. Прошедшее будущее Владимира Сорокина / / Он же. Моя книга
о Владимире Сорокине. С. 30.
52 Сорокин В. Владимир Сорокин не хочет быть пророком, как Лев Толстой:
интервью.
18
о своей религиозности, но в молодости его позиция не была столь
однозначной. Даже в 1992 году, отвечая на прямой вопрос «Вы
верующий человек?», писатель сказал, что у него были лишь «такие
периоды». При этом Сорокин отметил, что первичным для него
является не вера как таковая, но неизбывное ощущение тягостности
человеческого бытия: «Но вообще меня поддерживает надежда, что
всему этому есть конец, хотя бы физический. Жизнь — это некое
сновиденческое пространство. Этот мир слишком тяжел.
Ненадежность, иллюзорность, ни на что нельзя опереться. Разве что на
смерть»53.
Судя по художественным текстам, принятие православия
первоначально не оказывало на творчество Сорокина заметного
влияния. Его произведения конца 1970-х — начала 1990-х годов
отличает сдержанно-отстраненное отношение если не к православию
в целом, то, по крайней мере, к православному дискурсу. Третья
часть романа «Норма» содержит едкую пародию на так называемую
почвенническую прозу 1950-х — 1980-х годов. В качестве одного
из эпиграфов к этой пародии предпослан «Тропарь Кресту и
молитва за отечество», а ее кульминацией становится сексуальное
слияние главного героя с Россией, которое ведет к
религиозному пробуждению: «Это продолжалось бесконечно долго, и в тот
миг, когда горячее семя Антона хлынуло в Русскую Землю, над
ним ожил колокол заброшенной церкви» [I, 166]. Религиозная тема
тесно переплетается с сексуальной в романе «Тридцатая любовь
Марины», что придает ей сниженно-ироническое звучание. Если
в этих романах основными объектами пародирования выступают,
соответственно, почвенническая идеология и поверхностная
религиозность, то гротескное описание процесса «запхания Христа
в Богородицу» в пьесе «Землянка» выглядит почти кощунством:
«Начинать запхание рекомендуется с вычленения
полуавтоматической линии, необходимой для первичной механической обработки
влагалища Богородицы. Вычленение должно производиться в
соответствии с внутризаводским планом и под пристальным контролем
архангела Михаила <...>».54
В этом описании Сорокин совмещает православную образность
не только с физиологической, но и с советской. Совмещение
советского и православного дискурсов неоднократно встречается
53 Сорокин В. Вести из онкологической клиники: интервью // Синтаксис.
1992. № 32. С. 143.
54 Сорокин В. Землянка // Он же. Собр. соч.: в 2 т. Т. 1. С. 471.
19
в его произведениях указанного периода. Например, в конце пьесы
«Доверие» выясняется, что советский «завод точного литья»
занимается отливом огромного православного креста. В романе «Сердца
четырех» Ребров сначала зачитывает своим подельникам отрывок
из обращения ЦК ВКП(б) к партийным организациям от 2
декабря 1934 года, «скорректированный» вкраплением заумных лексем,
а затем фрагмент из православного календаря, также
«скорректированный» введением таинственных сокращений [II, 788].
Кульминацией поэмы в прозе «Месяц в Дахау» становится советско-
нацистская «евхаристия»: грандиозное каннибальское пиршество
с явными аллюзиями на Тайную вечерю, символизирующее
истребительный характер коммунистической и нацистской идеологий.
В творчестве 1980-х — начала 1990-х годов Сорокин
последовательно воплощал концептуалистский принцип дистанцирования
автора от создаваемого произведения, что затрудняет
определение подлинной авторской позиции. С одной стороны, обилие
граничащей с кощунством мотивики в произведениях этого
периода говорит в пользу того, что христианский дискурс не обладает
в глазах молодого писателя особым статусом, а потому легко может
подвергаться деконструкции и пародированию, наравне с прочими
дискурсивными практиками. Настойчивое же совмещение
православного дискурса с советским и даже нацистским (в «Месяце
в Дахау») дает основание утверждать, что все они
воспринимаются Сорокиным как равно «авторитарные», подавляющие свободную
волю человека. Лобовое столкновение контрастных дискурсов,
парадоксальным образом выявляющее их внутреннее сходство,
является конститутивной чертой абсурдистской поэтики
Сорокина, а в советской культуре (как официальной, так и андерграунд-
ной) коммунистическая и христианская идеологии были
поляризованы. Причудливо совмещая их, Сорокин стремится показать
латентную религиозность советской идеологии55, ее внутреннюю
близость православию, как это делали соц-артисты: М. Рошаль-
Федоров в «иконе» «Дадим стране угля» (1972), А. Филиппов
в инсталляции «Тайная вечеря» (1988), А. Косолапов в работе
«Икона-икра» (1989). Учитывая соц- и поп-артистскую
направленность творчества Сорокина рассматриваемого периода, можно
55 Как подчеркивал М. Элиаде, религия «не обязательно предполагает веру в
Бога, богов или духов, но означает опыт священного и, следовательно, связана с
идеями существования, значения и истины» (Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
С. 45).
20
предположить, что сам этот прием был позаимствован писателем
у художников соц-арта.
С другой стороны, одно лишь наличие таких стилевых
гибридов отнюдь не обязательно свидетельствует о критическом
отношении автора к религии вообще и к православию в частности.
М. С. Вербицкий, одним из первых обративший внимание на
ритуально-мистические мотивы в творчестве Сорокина, истолковал их
как знак оккультных устремлений писателя. По мнению М.
Вербицкого, центральная тема Сорокина — это «ритуальность
обыденного бытия», поскольку во многих его произведениях наличествуют
«ситуации поразительной степени оккультного и метафизического
напряжения». «Сорокин есть жрец, магик, а его тексты —
оккультное исследование», — заключает Вербицкий56. Разбираемые
исследователем произведения Сорокина («Первый субботник», «Роман»,
«Норма», «Сердца четырех») дают некоторые основания для таких
умозаключений, но в то же время не существует никаких
свидетельств об интересе Сорокина к оккультизму. Сам писатель,
наоборот, говорил о том, что он «романтик и никогда мистикой не
увлекался»57. В связи с этим сцены экстатического безумия, часто
встречающиеся в произведениях Сорокина, корректнее
рассматривать не в оккультной, а в христианской перспективе. Странные
и отвратительные ритуалы, которые творят сорокинские герои,
используются автором как инструмент порицания магического
язычества и советской идеологии. Сорокин стремится не только выявить
латентную религиозность этой идеологии, но и подвергнуть критике
ее языческо-оккультные аспекты. В такой трактовке заимствованный
у художников соц-арта прием совмещения православной и советской
образности перекодируется Сорокиным, а кощунственность многих
вышеприведенных мотивов оказывается мнимой и поверхностной,
подчиненной более глубоким и христианским по сути
художественных задачам. Смысловая амбивалентность, имманентно присущая
гротескной образности, позволяет считать правомерными обе
интерпретации, но дальнейшее движение писателя в сторону православия
становится веским аргументом в пользу последней точки зрения.
56 Вербицкий М. Ведро живых вшей [Электронный ресурс] // Imperium. 1998.
URL: http://imperium.lenin.ru/EOWN/eown6/sorokin-pm.html (дата обращения:
01.10.2011).
57 Сорокин В. Прощай, концептуализм! Интервью // Итоги. 2002. № 11. С. 49.
Отметим парадоксальность этого утверждения: романтикам как раз было
свойственно увлечение мистикой, достаточно назвать классическую работу В. М.
Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» (1914).
21
Творчество Сорокина конца 1990-х — 2000-х годов отмечено
ростом значимости религиозного фактора. «Ты знаешь, что такое
вера? Вера это как... Ну вот перед тобой куча грязи. Большая
такая куча. И ты по колено стоишь в этой грязи и разгребаешь,
разгребаешь ее руками, и тебе кажется, что кругом одна грязь, грязь.
А вдруг — раз, и под ней течет чистый хрустальный ручей. Вот
это и есть вера»58. В этих словах Майка из сценария к фильму
«Москва» чувствуется автобиографический подтекст. Как было
показано выше, писатель неоднократно вводил мистические мотивы
в создаваемую им художественную модель советской
действительности. С конца 1990-х годов эта мистика приобретает
инфернальный характер. Советский период российской истории начинает
изображаться Сорокиным в ортодоксально-христианском духе — как
время так называемой сатанократии. Хотя эта тенденция носит
локальный характер, она позволяет говорить об усилении
христианских позиций в позднем творчестве Сорокина.
Стихотворение «Жили три подруги в селенье Урозлы...» из
романа «Голубое сало» написано как пародия на переводческую работу
А. А. Ахматовой 1950-х — 1960-х годов. Начавшись как образчик
советской агитпоэзии безвестного азиатского автора, это
стихотворение заканчивается на неожиданной инфернально-мистической
ноте: Ленин и Сталин сращиваются в единое духовное существо
с шестью рогами, вечно живущее в Невидимом Кремле, в Небесной
Москве59. В рассказе «Аварон» из книги «Пир» Мавзолей — это
сакральное пространство советского мира — превращен в обиталище
божественного Червя. По ряду признаков можно догадаться, что
Червь этот, как выразился Б. Соколов, «сводный брат булгаковско-
го Воланда»60. Инфернальные мотивы при описании советской
эпохи фигурировали уже в повести «Падёж», относящейся к раннему
творчеству Сорокина: не случайно В. Потапов сравнивал героев
этой повести с трикстерами и бесами61. Но именно рассказ «Ава-
58 Сорокин В. Москва / / Он же. Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. С. 721.
59 Эти образы почерпнуты Сорокиным из трактата Д. Л. Андреева «Роза Мира»,
с той лишь разницей, что Кремль у Андреева также «Небесный». Отрывки из «Розы
Мира», содержащие описания соответствующих образов, были включены в роман
«Тридцатая любовь Марины» [II, 148-150]. См. также: Дубаков Л. В.
Эсхатологические мотивы «Розы Мира» Д. Андреева в романе В. Сорокина «Голубое сало» //
Альм, соврем, науки и образования. 2007. № 3. Ч. 3. С. 75-77.
60 Соколов Б. Владимир Сорокин. Пир / / Он же. Моя книга о Владимире
Сорокине. С. 123.
61 Потапов В. Бегущие от дыма // Волга. 1991. № 9. С. 33-34.
22
рон» стал для писателя переломным в религиозном отношении.
Фактически, это первое в творчестве Сорокина полноценное
религиозное произведение, причем православная образность и тематика
этого рассказа не подвергаются какому бы то ни было остранению
или снижению.
Об усилении религиозного начала в позднем творчестве
писателя свидетельствует и его демонстративный разрыв с
концептуализмом и постмодернизмом, который произошел не столько по
художественным, сколько по религиозно-идеологическим
причинам. Сорокина стали раздражать «атеизм и самоуверенность»
философов-постмодернистов: «Для них существование мира
и человека как будто лишено мистической тайны»62.
Значительной части постмодернистской философии действительно присущ
разоблачительный пафос: не случайно П. Рикёр охарактеризовал
интерпретационную стратегию постмодернистов как «герменевтику
подозрительности»63. Зрелому Сорокину такая мировоззренческая
позиция не близка: «Я стараюсь, в общем, довольно просто
смотреть на мироздание. Я понимаю, что в нем заключена громадная
тайна. Вот смотрите, прямо напротив окна птицы гнездо свили.
Здорово, да?»64. В этом смысле знаковой стала замена в новой
редакции пьесы «Землянка» (2007) «запхания Христа в Богородицу»
на «запхание Сталина в Ленина»65: ранее писатель не вносил в свои
произведения корректив идеологического характера.
В период «прощания с концептуализмом» Сорокин начинает все
чаще рассуждать об абсурде как константе «русской метафизики»,
которую он стремится воплощать в своих произведениях. Как
пишет Д. Майборода, в христианстве «абсурд приобретает
сакральную ценность. Значение приписываемого Тертуллиану „верую,
поскольку абсурдно" — в том, что абсурд предстает в качестве
маркера сверхъестественной логики, которая принципиально
рассогласована со здравым смыслом людей и порядком всего мира.
Осознание абсурда — путь к подлинному смыслу, изначальный
доступ к которому был утерян»66. Неудивительно поэтому, что
абсурд становится для Сорокина фундаментально важной категорией
62 Сорокин В. Дух или тело: интервью. С. 6.
63 Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция
научного мифа. М., 1998. С. 107.
64 Сорокин В. «Я против того, чтобы литература учила жить»: интервью //
Известия. 2006. № 77. С. 10.
65 Ср.: Сорокин В. Землянка. С. 471; Он же. Капитал. М., 2007. С. 16-17.
66 Майборода Д. Диалогика абсурда // Абсурд и вокруг. М., 2004. С. 352.
23
именно в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Это понятие
приобретает для писателя не только эстетическое, но и философское
измерение, становится выражением начал, присущих, по его мнению,
самой действительности.
Если в произведениях 1980-х годов абсурдистский эффект
возникал, в основном, за счет парадоксальных лингвостилистических
манипуляций и алогичных дискурсивных переходов, то в более
позднем творчестве Сорокина категория абсурда приобретает
субстанциальные характеристики. В самом крупном произведении
2000-х годов, романной «Трилогии» («Лёд», «Путь Бро», «23 000»),
писатель обращается к апокрифической раннехристианской
литературе67. «Трилогия» стала его первым опытом в новой, не
постмодернистской стилистике. Гностический характер мифологической
основы произведения очевиден, однако в «Трилогии» Сорокин не
ориентируется на какую-либо конкретную гностическую доктрину,
но творит неомиф, схожий с основными положениями большинства
гностических учений, но не тождественный ни одному из них.
Гностицизм решительно отвергается христианской
ортодоксией как «ересь», тем не менее его взаимоотношения с ранним
христианством и неортодоксальными позднехристианскими
течениями остаются сложными. Мысль о том, что Сорокину близко не
христианство, но именно гностицизм, неоднократно высказывалась
в литературной критике. «Тексты Сорокина похожи на мясо, из
которого вытекла кровь и которое кишит червями, —
утверждает друг писателя В. В. Ерофеев. — Это блюдо, приготовленное
разочарованным романтиком, мстящим миру за его онтологическое
неблаголепие»68. По мнению А. А. Гениса, Сорокин — «гностик
по убеждению и сектант по темпераменту»69, а Б. М. Парамонов
считает, что «эстетизм Сорокина оказывается параллелью к его
гностицизму — нелюбовью к мерзкой плоти мира»70.
67 Отвечая на вопрос о том, почему его герои так похожи на «истинных
арийцев», Сорокин сказал: «Так думают люди поверхностные, которые не читали ранние
апокрифы или раннехристианскую литературу и не знают мировой мифологии»
(Сорокин В. «Я литературный наркоман, но я еще умею изготовлять эти наркотики»:
интервью // Известия. 2004. № 170. С. И).
68 Ерофеев В. Русские цветы зла / / Он же. В лабиринте проклятых вопросов.
М., 1996. С. 248. Об имидже «одетого в черное» «разочарованного
романтика-декадента», который одно время использовал Сорокин, см.: Берг М. Литературократия.
М., 2000. С. 111-112.
69 Генис А. Страшный сон.
70 Парамонов Б. Чистое искусство Владимира Сорокина [Электронный
ресурс] // Радио «Свобода». 2002. URL: http://archive.svoboda.org/programs/
rq/2002/rq.012402.asp (дата обращения: 01.10.2011).
24
Наиболее обстоятельно эта мысль была разработана В.
Шевцовым в рецензии на роман «Путь Бро», в которой философ пришел
к выводу, что «Сорокин не столько религиозен, сколько
метафизичен. В том же смысле, в каком метафизичны гностики, ариан-
цы, французские просветители, русские баптисты и духоборы или
исламские фундаменталисты. Он — метафизик-моралист и
социальный критик. <...> Бесконечный круговорот зачатий, рождений,
убийств и смертей складывается в общую картину абсурдности
мироздания. Этот дурно сотворенный мир подвергается у
Сорокина в гностико-манихейском ключе оплевыванию и символическому
уничтожению. Такова природа, таков и человек. <...> Основной
вопрос Владимира Сорокина, которым он одержим на протяжении
всей своей литературной карьеры: как можно обосновать
недопустимость насилия? <...> Сорокин ищет регулятивный принцип —
онтологическое оправдание добра <...>. Наверное, реальные
гностики, манихеи и альбигойцы <...> примерно так же и думали,
чувствовали и выглядели — как Владимир Сорокин»71.
Предположить в Сорокине православного христианина,
основываясь только на знакомстве с его текстами, действительно,
непросто. Шокирующими натуралистическими описаниями и
радикальными художественными экспериментами он создал себе скорее прямо
противоположную репутацию — «ведущего монстра новой русской
литературы»72. Не стоит забывать, однако, что для Сорокина между
литературой и жизнью пролегает глубокий водораздел. Именно на
это обстоятельство указывал писатель в своем ответе В. Шевцову:
«Почему Шевцов, Горохов и другие отечественные литературоведы
по-прежнему так настойчиво ждут от художественного текста
декларативности? Художественная литература, на мой взгляд, лишь
попытка разговора на ту или иную тему. <...> И „Лед", и „Путь
Бро", и завершающий трилогию роман „23 000й <...> вовсе не поле
для „вычурной и манерной игры", затеянной автором для насмешки
над читателем, а попытка потолковать о homo sapiens, о тотальной
разобщенности людей, о Бытии и Времени, о
мучительно-утопическом счастье сектантов»73.
В интервью Сорокин не раз подчеркивал, что не является
членом описанного в «Трилогии» братства и скорее считает себя обыч-
71 Шевцов В. Путь моралиста [Электронный ресурс] // Топос. 2004. URL:
http://www.topos.ru/article/2810/ (дата обращения: 01.10.2011).
72 Ерофеев В. Русские цветы зла. Там же.
73 Сорокин В. Меа culpa?
25
ной «мясной машиной»74. Работа над этим произведением была
для него попыткой «взглянуть на человечество нечеловеческим
взглядом, увидеть „обратную сторону Луны" человечества»75, а не
написать «сознательную исповедь автора, академический трактат
о бытии»76. В то же время Сорокин передоверил героям ряд
собственных мыслей и мнений.
В одной из ключевых сцен романа «Путь Бро» главный герой,
будущий основатель Братства Света, наблюдает за тем, как «два
медведя рвут агонизирующую стельную лосиху»: «Эта кровавая
сцена посреди мертвого леса наглядно демонстрировала мне суть
земной жизни: не успевшее родиться существо стало пищей для
других существ. Весь абсурд земного бытия был здесь». Сцена
насилия в дикой природе становится для Бро наглядным свидетельством
«хаоса земного бытия» и дисгармонии, царившей на Земле «сотни
миллионов лет»77. Положить конец этой дисгармонии, как
считает герой, может лишь уничтожение всего живого, закабалившего
в материальной оболочке «Гармонию Света Изначального»: «камни
совершеннее растений, растения совершеннее животных, животные
совершеннее людей, люди же самые несовершенные существа на
созданной нами Земле» [Трилогия, 77-78, 569]. Подобно людям
Света, писатель полагает, что «человек несовершенен по сравнению
с животным»78. В период написания «Трилогии» Сорокин даже стал
вегетарианцем, как его герои: «Мысль, которая наиболее часто
посещает меня в последнее время: как отвратительно, что люди едят
животных. Ведь более естественно есть людей: животные — это
абсолютно невинные создания, наши младшие братья. Для меня
животные — это промежуток между ангелами и людьми»79.
Главный герой «Пути Бро» убегает в тайгу, стремясь
освободиться от людского общества. Ночное безмолвие природы помогает
74 Сорокин В. «Я не брат Света, я скорее мясная машина»: интервью //
Газета. 2004. № 170. С. 13.
75 Сорокин В. «Я могу обороняться, но жить скандалом — не могу»:
интервью // Коммерсантъ. 2004. № 171. С. 22.
76 Сорокин В. Кому бы Сорокин Нобелевскую премию дал: интервью
[Электронный ресурс] // Топос. 2005. URL: http://www.topos.ru/article/3358 (дата
обращения: 01.10.2011).
77 Здесь и далее текст «Трилогии» цитируется по изданию: Сорокин В.
Трилогия. М.: Захаров, 2006.
78 Сорокин В. «Я могу обороняться, но жить скандалом — не могу»: интервью.
79 Сорокин В. Чревовещатель: интервью // Итоги. 2000. № 47. С. 78.
26
ему ощутить «тварность этого мира»: «Открытие это потрясло
меня. <...> Книги по философии и религии, споры о бытии,
времени и метафизике не дали мне ровным счетом ничего в понимании
мира, в котором я оказался. А эта минута посреди мертвой,
залитой лунным светом тайги открыла мне великую тайну» [Трилогия,
79-80]. По словам Сорокина, открывший работу над
«Трилогией» роман «Лёд» стал реакцией «на разочарование в современном
интеллектуализме»80: «Ни один философ не смог убедительно
ответить мне на три главных вопроса: что такое человек? что такое
мир? кому это все нужно? Философы сильно переоценивают
возможности нашего мозга. Философия — такая же подозрительная
наука, как и психиатрия»81.
Во время нахождения в библиотеке Бро осеняет, что
литература — это «всего лишь бумага, покрытая комбинациями из букв».
В отличие от членов Братства Света, «мясные машины» «изо всех
сил верили этой бумаге, сверяли по ней свою жизнь, учились жить
по этой бумаге» [Трилогия, 178]. Сорокин многократно высказывал
аналогичный взгляд на сущность литературы: «Когда мне говорят
об этической стороне дела: мол, как можно воспроизводить,
скажем, элементы порно- или жесткой литературы, то мне непонятен
такой вопрос: ведь все это лишь буквы на бумаге»82. В
дезавуировании представления о художественной литературе как об
«учебнике жизни», которое, по мнению писателя, столь же абсурдно,
сколь и опасно, можно видеть основной пафос его литературной
деятельности.
Ближе к концу «Льда» главная героиня романа, Храм, выражает
восхищение Подмосковьем: «Я обожала Подмосковье, это
удивительное сочетание дикой природы и дикого жилья. Здесь земная
жизнь казалась мне менее ужасной. Дорога неслась сквозь
массивы леса, среди деревьев мелькали силуэты дач. Так они мелькали
и сорок лет назад. В Подмосковье ничего не изменилось с тех
самых сталинских лет. Только заборы стали повыше и побогаче.
Зато Москва сделалась совсем другой. Она расползлась. Ее стало
слишком много» [Трилогия, 449]. По мнению Сорокина, «Москва
становится роскошным Вавилоном. Лет через пять это будет один
80 Сорокин В. Убойное сало: интервью. С. 4.
81 Сорокин В. «Процесс порождения текстов протекает у меня как
контролируемый приступ эпилепсии»: интервью.
82 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 121.
27
из богатейших городов мира. Но я родился в Подмосковье. Мы
с женой „подмосквичи" и очень хотим туда вернуться. Я очень
хочу, как в детстве, видеть из окон деревья. Невозможно гулять
по московским улицам и разговаривать — не слышно разговора»83.
Перечень автобиографических мотивов в «Трилогии» можно
было бы продолжить, однако приведенного вполне достаточно для
того, чтобы заключить: в Братстве Света Сорокину чуждо многое,
но далеко не все. Векторы духовных поисков героев «Трилогии»
и ее автора если и не совпадают полностью, то нередко
оказываются параллельными друг другу. Отчасти это признал сам
писатель, отметив в эссе «Меа culpa?», что «многое в их (В. Шевцова
и А. Горохова — M. Ai.) рассуждениях мне близко и понятно, со
многим я готов согласиться»84. Появление этого эссе стало полной
неожиданностью как для критиков, так и для читателей: в «Меа
culpa?» Сорокин единственный раз за почти двадцатипятилетнюю
литературную карьеру (!) дал резкую отповедь своим
интерпретаторам. Судя по острой реакции писателя, в статье «Путь моралиста»
Шевцову удалось нащупать «нерв» сорокинского творчества и
выразить это в наиболее ясной и отточенной форме.
Тяготение к гностическому мировоззрению, убедительным
свидетельством которого стала «Трилогия», можно рассматривать
как один из факторов, определивших абсурдистскую поэтику
Сорокина. В гностической картине мира категория абсурда играет
даже большую роль, чем в христианской, в силу крайнего
дуализма совершенного духа и несовершенной плоти. Показательно,
что гностические мотивы встречаются в творчестве Д. Хармса
и А. Введенского. Как пишет М. Ямпольский, за «разделением
миров на тут и там стоит гностическая традиция, которой Хармс
интересовался (см., например, написанный им в 1931 году диалог
гностика и Атруна). Согласно гностическому учению, существуют
„этот мир44 и „иной мир44, принципиально противоположный ему и
непостижимый. Из „иного мира44 в этот доходит лишь голос
вестников (тема „вестников44 излюбленная у Друскина, Липавского,
Хармса)»85. Разбор гностических мотивов в творчестве Введенско-
83 Сорокин В. «Я могу обороняться, но жить скандалом — не могу»: интервью.
84 Сорокин В. Меа culpa?
85 Ямпольский М. Беспамятство как исток. М., 1998. С. 266. См. также с. 229,
307.
28
го, о близости к которому говорил сам Сорокин86, был осуществлен
Ю. М. Валиевой87.
Тем не менее, судя по известным интервью, религиозные
взгляды Сорокина далеки от той радикальной одномерности, которую
приписывает ему Шевцов. По словам писателя, его «устраивает
мир, созданный Богом, разочаровывает современный человек»88:
«Мы лживы, эгоистичны, жестоки, не понимаем, кто мы, кто нас
создал, почему мы здесь оказались и куда идем»89. Стержневой
в «Трилогии» роман «Путь Бро» (как, очевидно, и вся эпопея) стал
результатом «глубочайшего разочарования в современном человеке
и в цивилизации»90. В то же время Сорокин не раз подчеркивал,
что не считает себя мизантропом: «У меня нет и никогда не было
ни презрения к человеку, ни желания как-то его оскорбить и
унизить. Была просто горечь и жалость к нему»91. «Вообще я убежден,
что в человеке есть некое изначальное добро, — говорит
Сорокин. — Но человек очень несовершенное создание. Если сравнить
нас с животными, видно, что мы еще не закончены. Но как бы там
ни было, зло — это следствие чего-то, а не первопричина. Это не
врожденное качество человека, как страх, например»92. Такое
мироощущение ближе христианству, чем гностицизму. Вероятно,
«Трилогия» стала для Сорокина результатом духовной борьбы и опытом
творческого преодоления гностических идей. После завершения
этого произведения Сорокин отказался от вегетарианского образа
жизни: «Почему нельзя никого не убивать, грубо говоря.
Животных надо есть, понятно. Но людей? Это абсолютная загадка»93.
Итак, поиск гностических мотивов в творчестве Сорокина
вполне оправдан, но их значение не стоит преувеличивать. То же самое
относится и к христианским мотивам в произведениях писателя.
Сорокин не считает, что православие — это «единственная
истинная вера»94 и полагает, что «вера должна оставаться личным
86 В интервью П. Вайлю и А. Генису писатель так определил свое место в
русской литературе: «Поближе к обериутам, к абсурду, к Введенскому» (Сорокин В.
Вести из онкологической клиники: интервью. С. 141).
87 Валиева Ю. М. Гностические мотивы в творчестве А. Введенского //
Russian Studies. 2001. Т. HI. № 4. С. 69-98.
88 Сорокин В. Доктор Сорокин: интервью // Лица. 2005. № 9. С. 89.
89 Сорокин В. «Я могу обороняться, но жить скандалом — не могу»: интервью.
90 Сорокин В. «Я не брат Света, я скорее мясная машина»: интервью. С. 13.
91 Сорокин В. «Любовь сильнее литературы»: интервью.
92 Сорокин В. Я не Гитлер: интервью // Эксперт. 2000. № 32. С. 48.
93 Сорокин В. «Писать и бояться невозможно»: интервью.
91 Сорокин В. 100 вопросов за 15 минут: интервью // FHM. 2005. Июль.
29
делом человека»: «Я против того, что православие становится
государственной религией, против того, что в школах опять вводятся
уроки Закона Божьего»95. Поэтому в повести «День опричника»
и продолжающей ее книге «Сахарный Кремль» объектом сатиры
стало, в том числе, и православие как ключевая составляющая
государственной идеологии. В конце повести глава опричнины Батя
степенно рассуждает о том, что Великая Русская Стена, которой
Россия отгородилась от Европы, была построена именно «для того,
чтобы сохранить веру Христову как сокровище непорочное»: «Вот
поэтому-то и выстроил Государь наш Стену Великую, дабы
отгородиться от смрада и неверия, от киберпанков проклятых, от
содомитов, от католиков, от меланхоликов, от буддистов, от садистов,
от сатанистов, от марксистов, от мегаонанистов, от фашистов, от
плюралистов и атеистов!»96. Сатирический и, отчасти,
антиклерикальный характер этой «проповеди» не вызывает сомнений.
Сорокин также указывал на такой негативный аспект
христианства, как подавление сексуальности: «Мат, на мой взгляд,
неосознанная реакция населения России на змия трехглавого по имени
Самодержавие — Православие — Община. Это вербальный
языческий бунт русского коллективного бессознательного, запретный
магический язык, хранящий дохристианские сексуальные порывы,
многовековая реакция на подавление индивидуального эротизма
православной общиной»97.
Отрицательно относится писатель и к определенной части
новейшей русской литературы, позиционирующей себя в качестве
православной: «Для меня Кафка — великий гуманист, несмотря
на все ужасы его литературы. А какой-нибудь сусальный русский
писатель, который набивает свои романы церквями и
духовностью, для меня фальшив, а поэтому выходит, что зло...»98. Такого
рода произведения Сорокин окрестил «квазихристианскими
литературными спекуляциями», которые он считает для себя
недопустимыми99.
95 Сорокин В. «Россия возвращается во времена феодализма»: интервью
[Электронный ресурс] // HhoCMH.Ru. 2006. URL: http://www.inosmi.ru/
inrussia/20061127/231320.html (дата обращения: 01.10.2011).
96 Сорокин В. День опричника. М., 2006. С. 212-213.
97 Сорокин В. «Литератор без мата — как пианист с девятью пальцами»:
интервью // МК-Бульвар. 2002. № . С. .
98 Сорокин В. На хвосте у Сорокина: интервью. С. 48-49.
99 Сорокин В. Владимир Сорокин не хочет быть пророком, как Лев Толстой:
интервью.
30
Реконструируя отношение Владимира Сорокина к религии на
основании художественных текстов и интервью писателя, можно
сделать вывод, что оно носило сложный и противоречивый
характер. Его религиозные взгляды далеки от однозначности и
претерпевали значительные изменения с течением времени. При этом
сохранялась дилемма между восприятием всей действительности
как чудовищной (что созвучно гностицизму) и возложением
ответственности за эту чудовищность на человека, исказившего
божественный замысел (что близко христианству). Религиозное
мировоззрение писателя, несомненно, имело большое значение как
в восприятии окружающего мира как абсурдного, так и в
формировании его абсурдистской поэтики.
Периодизация творческого пути
Владимир Сорокин пришел в русскую литературу сложившимся
писателем. К 1985 году, когда в Париже был опубликован его роман
«Очередь» (1982-1983), принесший молодому автору всемирную
известность100, «в столе» у Сорокина лежали уже четыре крупных
произведения. Кроме «Очереди», это были романы «Норма» (1979—
1984) и «Тридцатая любовь Марины» (1982-1984), а также
сборник рассказов и повестей «Первый субботник» (1980-1984)101. Все
это зрелые художественные произведения, создававшиеся в один
творческий период. Но пробовать себя в литературе Сорокин стал
задолго до начала работы над «Нормой». Реконструкция
творческого пути писателя позволяет проследить, каким образом
вырабатывалась его абсурдистская поэтика и какие видоизменения она
претерпевала с течением времени.
100 В 1986 году роман был переведен на французский язык, в 1988-м — на
английский, в 1990 году появилось немецкое издание. Всего, по словам Сорокина,
«Очередь» была переведена на десять языков. Об истории публикации этого романа
см.: Сорокин В. Говори сердцем: интервью // Популярная психология. 2003. № 2.
С. 8-9.
101 Здесь и далее датировка произведений дается по собранию сочинений в двух
томах (М., 1998). Исключение составляют произведения, не вошедшие в указанное
издание или опубликованные позже 1998 года.
31
Подростковые рассказы (ок. 1969)
По свидетельству автора, самым первым его литературным
произведением был рассказ «Жизнь тетерева» (или просто «Тетерев»),
написанный в 13-14 лет102: «Это история о том, как он (тетерев —
M. М.) родился, учился летать, жил в тетеревином выводке. А
потом его подстрелил охотник, и он бегал с перебитым крылом,
проходя через разные испытания. Как перезимовал, следующей весной
опять попытался подняться и благополучно прилетел на токовище.
Это один из немногих моих рассказов с хорошим концом.
Получился он очень легко, и я его послал в журнал „Юный натуралист".
Мне ответили, что написано хорошо, но они длинные тексты не
печатают»103.
Обращение к литературному творчеству отчасти было
обусловлено тем, что в семье Сорокина «литература всегда была в
почете, все новинки прочитывались», включая такие произведения, как
«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Чего же ты хочешь?»
В. А. Кочетова, «Неделя как неделя» Н. В. Баранской104. Тематика
рассказа тоже была выбрана не случайно: «Я вырос в семье
охотников, поэтому все в нем (рассказе — M. М.) было пропитано
соответствующей романтикой. Мой отец — профессор, у него
техническое образование, а вот дедушка служил лесником, и каждое
лето мы ездили в глухие леса на границе Калужской и Брянской
областей»105.
После «Жизни тетерева» был написан эротический рассказ
«Яблоки»106: «Я его написал не для публикации, а для свободного
102 См.: Сорокин В. «Альтруисты не пишут романов», или Тарантино русской
литературы: интервью // Академия. 2004. № 1. С. 9; Сорокин В. 100 вопросов за
15 минут: интервью; Сорокин В. Доктор Сорокин: интервью. С. 88.
103 Сорокин В. «Альтруисты не пишут романов», или Тарантино русской
литературы: интервью. Там же.
104 Сорокин В. «Я в совок опять не хочу. И в андерграунд — тоже»:
интервью // Известия. 2005. № 136. С. 14. Последние два из названных писателем
произведений были впервые опубликованы в 1969 году, когда Сорокину исполнилось
14 лет.
105 Сорокин В. «Альтруисты не пишут романов», или Тарантино русской
литературы: интервью. С. 9. Впоследствии охотничья тематика будет гротескно претворена
в рассказе «Открытие сезона» из сборника «Первый субботник». Убедительные
описания лесной жизни есть в романах «Роман» и «Путь Бро».
106 Так в большинстве интервью, хотя журналу «МК-Бульвар» Сорокин
сообщил, что сначала написал эротический рассказ и лишь потом «эссе о жизни
тетерева» {Сорокин В. «В 14 лет я написал первый эротический рассказ»: интервью //
МК-Бульвар. 2003. № 39. С. 16).
32
чтения, для друзей. Получился он еще легче („Жизни тетерева" —
М. М.) — настолько легко, что я даже постеснялся подписать его
собственным именем, так как все равно бы не поверили. Поэтому
я сказал, что перевел его с английского. „Яблоки" пошли „на ура".
По сюжету там мужчина и дама знакомятся в очереди за яблоками.
Никто даже не обратил внимания, что это советская реалия, что на
Западе в очередях за яблоками не стоят. Подлога не заметили! <...>
Так что меня, можно сказать, вдохновили к написанию „Яблок"
пубертатный возраст и нереализованные сексуальные мальчишеские
фантазии. Я жалею, что этот рассказ так где-то и растворился»107.
В интервью «Известиям» Сорокин назвал среди своих ранних
произведений еще один рассказ, с научно-фантастической тематикой108.
Близко знакомый с писателем Б. Соколов подробно излагает
сюжет «Яблок»: «Он и она знакомятся в очереди за яблоками.
Она — женщина видная, он — большой нахал. Он начинает к ней
приставать, она его как будто игнорирует. Она идет домой, он идет
следом. В подъезде начинает ее целовать. Она подпадает под
обаяние его чар и говорит: „У меня муж уехал в командировку". Они
поднимаются к ней в квартиру и занимаются сексом». По мнению
Соколова, этот сюжет лег в основу романа «Очередь»109. Схожая
сюжетная ситуация встречается в первой части романа «Норма»,
в одном из эпизодов которой описывается сексуальный контакт
между Олей и Сережей [I, 33-39]. Кроме того, Соколов
утверждает, что рассказов в фантастическом жанре было несколько, а
также добавляет к списку ранних произведений Сорокина рассказ на
военную тему, причем тетрадка с этими рассказами, по словам
литературоведа, до сих пор хранится в архиве писателя110.
Итак, уже в самых первых литературных опытах Сорокин
обратился к эротической и фантастической тематике. В зрелом
творчестве пристальное внимание к проявлениям телесности наряду с
активным использованием фантастической и гротескной
образности станет визитной карточкой писателя.
107 Сорокин В. «Альтруисты не пишут романов», или Тарантино русской
литературы: интервью. С. 9-10.
108 Сорокин В. «Я в совок опять не хочу. И в андерграунд — тоже»: интервью.
109 Соколов Б. Прошедшее будущее Владимира Сорокина. С. 21.
110 Там же.
зз
Стихотворение «Прощание с летом» (1972)
После первых проб пера Сорокин, по его словам, бросил заниматься
литературным творчеством: «С тех пор к литературе я охладел, так
как мне показалось, что писать, в общем-то, просто. Хотя
литературу всегда любил и в школе получал пятерки, но занимался
рисованием — там было над чем работать, что преодолевать. Думал,
что я художник, и получал большое удовольствие»111. «Наверное,
если бы я прочитал Набокова в пятнадцать лет, — признавался
писатель, — не остановился бы и начал раньше серьезно заниматься
литературой. Но как раз в то время я увидел работы сюрреалистов,
которые меня просто потрясли, стал рисовать и вернулся к
серьезному литературному процессу в двадцать лет, уже не мальчиком»112.
Однако это не совсем так. Будучи первокурсником
Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени
И. М. Губкина113, Сорокин принес в вузовскую многотиражку «За
кадры нефтяников» стихотворение «Прощание с летом», которое стало
его первым опубликованным литературным произведением114.
Приведем это стихотворение целиком с сохранением строфики оригинала:
Как много песен спето Оно уходит незаметно,
про перелетных И жарок лес.
птиц... И по закону неизменно
Уходит лето, ХМУР В30Р небес·
тает лето, Лето уйдет, и снег
и нет границ... проснется
И жалко с летом там> в вышине,
расставаться — И осень хмуро улыбнется
всегда, друзья, тебе и мне.
И даже с летом в СОРОКИН,
попрощаться — первокурсник
увы, нельзя.
В интервью «Известиям» писатель назвал «Прощание с
летом» «шуточной публикацией»115. У главного редактора
многотиражки Р. П. Ляшевой сложилось иное впечатление: «Оно
111 Сорокин В. Доктор Сорокин: интервью. С. 88.
112 Сорокин В. «Альтруисты не пишут романов», или Тарантино русской
литературы: интервью. С. 10.
113 Ныне Российский государственный университет нефти и газа имени
И. М. Губкина.
114 За кадры нефтяников. 1972. № 28. С. 2. На этот текст впервые обратил
внимание В. В. Огрызко в статье «Восставший из пепла» (Лит. Россия. 2005.
№ 35. С. 13).
115 Сорокин В. «Я в совок опять не хочу. И в андерграунд — тоже»: интервью.
34
(стихотворение — Λί. Λί.), как видим, без затей и без
экспериментов — искреннее, душевное, бесхитростное. Оно осталось у него
(Сорокина — Λί. Λί.), насколько помнится, единственным; потом
студент-нефтяник приносил рисунки и графику вполне
профессионального уровня и тоже лирическую по тематике»116. Насколько
известно, больше своих стихотворений Сорокин не печатал, но
поэтические эксперименты не прекратил. Закончив институт, он
«преступно» не работал по специальности, а «занимался
живописью и пописывал стихи»117. Возможно, некоторые из этих
стихотворений вошли в цикл «Времена года», ставший четвертой частью
романа «Норма», а следовательно, могли в свое время писаться
всерьез, без иронии.
Трудовой стаж, пусть и не по специальности, у Сорокина все
же был. После окончания института он ровно год, с июля 1979-го
по июнь 1980-го, проработал художественным редактором журнала
«Смена»118. Как в литературно-художественном журнале, в «Смене»
регулярно публиковались подборки стихотворений и
художественная проза, преимущественно типично-соцреалистические по
тематике и стилистике. Необходимость хотя бы бегло знакомиться с
этими текстами не могла не наложить отпечаток на поэтику автора
«Первого субботника». По крайней мере, в рассказе «Летучка»,
ставшем впоследствии заключительной частью романа «Норма»,
Сорокин на заумном языке описывает собрание редколлегии
литературного журнала, посвященное обсуждению одного из последних
номеров издания. Учитывая время создания романа, закономерно
предположить, что в основу этого описания легли личные
впечатления автора119.
116 Огрызко В. Восставший из пепла.
117 Сорокин В. Женя // Новая юность. 2005. № 4. С. 14.
118 В этой должности Сорокин оформил следующие номера журнала: 14 (июль),
16 (август), 18 (сентябрь), 20 (октябрь), 22 (ноябрь), 24 (декабрь) за 1979 год
и 2 (январь), 4 (февраль), 6 (март), 8 (апрель), 10 (май) и 12 (июнь) за 1980 год.
Кроме того, в № 14 за 1979 год на с. 32 был опубликован юмористический
рисунок Сорокина. Согласно информации, размещенной на официальном сайте
писателя, он был уволен из «Смены» «за отказ вступить в комсомол» (Биография
Владимира Сорокина [Электронный ресурс] // Владимир Сорокин. 2007. URL:
http://www.srkn.ru/biography/ (дата обращения: 01.10.2011)).
119 В своем выступлении дежурный критик отмечает, что обсуждаемый номер
«оформлен хорошо, что немаловажно» [I, 301]. Редакционные будни также
изображены в одной из миниатюр первой части «Нормы» [I, 18-20], а тема публикации
в вузовской многотиражке отражена в рассказе «Деловое предложение» из
сборника «Первый субботник».
35
Знакомство с концептуализмом, поп- и соц-артом
(ок. 1975)
В середине 1970-х годов Сорокин «попал в среду московского
художественного андерграунда, в круг концептуалистов — Ильи
Кабакова, Эрика Булатова, Андрея Монастырского»120. С легкой руки
Б. Гройса это направление советского андерграундного искусства
получило наименование «московского романтического
концептуализма», хотя сам Гройс отмечал «чудовищность» придуманного им
выражения121.
По определению В. Г. Кулакова, возникший в западной культуре
1960-х годов концептуализм — это «искусство идеи, когда
художник создает и демонстрирует не столько художественное
произведение, сколько определенную художественную стратегию,
концепцию, которая, в принципе, может репрезентироваться любым
артефактом или просто артистическим жестом, „акцией"»122.
Классическим образцом концептуального искусства считается
инсталляция Дж. Кошута «Один и три стула» (1965), представляющая
собой стул, его фотографию и словарное определение слова «стул».
Говоря о влиянии на свое творчество концептуализма123,
Сорокин неизменно акцентировал такую его особенность, как
«дистанцированное отношение и к произведению, и к культуре в целом»124,
120 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 119.
121 См.: Гройс Б. Московский романтический концептуализм / / Он же.
Искусство утопии. М., 2003. С. 168-186. Сорокин тоже иронизировал над этим
обозначением: «Не говорят же „нью-йоркский экспрессивный поп-арт", потому что поп-
арт — это просто поп-арт. Или „цюрихский романтический дадаизм1'. Или „русский
футуристический супрематизм", например...» (Сорокин В., Шептулин Н. Разговор
о московском концептуализме [Электронный ресурс] // Взгляд. 2008. URL: http://
www.vz.ru/culture/2008/1/22/139376.html (дата обращения: 01.10.2011)).
122 Кулаков В. Г. Концептуализм // Лит. энцикл. терминов и понятий. М.,
2001. Стб. 394.
123 Вплоть до начала 1990-х годов Сорокин регулярно принимал участие в
концептуалистских выставках. См.: Богданова О. В. Концептуалист писатель и
художник Владимир Сорокин. СПб., 2005. С. 17. «Я сделал несколько объектов
шокирующего характера, — рассказывал писатель. — То есть была деревянная советская
посылка из провинции, где сразу после адреса — что-то вроде физиологической
исповеди, телесного крика души. Но это эпизодический случай. Регулярно я
концептуальным искусством не занимался. Это был последний всплеск» (Сорокин В.
«Пациент должен умереть»: интервью // ОМ. 2002. № 66).
124 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 120.
36
«„невлипание" в текст»125. По словам писателя, его произведения
первой половины 1980-х годов сближает с концептуальным
искусством «метод отстранения, дистанции с текстовым материалом,
безличностное письмо, когда неясно, кто это написал»126. Вместе
с тем Сорокин отказывается считать себя последователем этого
художественного направления. Уже в 1992 году писатель
утверждал, что вряд ли есть смысл говорить о нем, как о
концептуалисте127. Рассуждая о романе «Лёд», Сорокин сказал: «Я попрощался
с концептуализмом. Мне хотелось двигаться в сторону нового
содержания, а не формы текста. Концептуалисты — это художники.
Человек, который может напечатать роман только буквой „А", —
концептуалист, но это визуальное произведение, а не литература.
У меня же были лишь элементы этого влияния»128.
Сорокин неоднократно подчеркивал, что «больше благодарен
поп-арту»129, чем концептуализму: «Я во многом пытался
воплотить идеи поп-арта в литературе»130. Заявивший о себе в 1950-е
годы поп-арт, по характеристике Л. и В. Бычковых, утверждал
«художественную значимость предметов, событий, фрагментов
повседневности массового человека индустриального общества,
до этого считавшихся в художественно-эстетической элите
нехудожественными, антихудожественными, кичем, дурным вкусом
и т. п.»131. Одним из наиболее известных представителей этого
направления в искусстве стал Э. Уорхол, творчество которого
Сорокин называл в числе главных источников своего вдохновения:
«Мне Уорхол дал больше, чем Джойс»132. В советском андергра-
ундном искусстве по аналогии с поп-артом в 1970-е годы
сформировался соц-арт, основанный В. Комаром и А. Меламидом. Если
поп-артисты обыгрывали в своих произведениях штампы так
называемой массовой культуры, то в центре внимания соц-артистов
125 Сорокин В. О Евгении Харитонове: интервью [Электронный ресурс] //
Митин журнал. 1990. URL: http://kolonna.mitin.com/archive/mj32/sorokin.shtml
(дата обращения: 01.10.2011).
126 Сорокин В. «Я в совок опять не хочу. И в андерграунд — тоже»: интервью.
127 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. Там же.
128 Сорокин В. Прощай, концептуализм! Интервью. С. 49. Пятая часть романа
«Норма» заканчивается несколькими страницами, заполненными буквой «а».
129 Сорокин В. «В культуре для меня нет табу...»: интервью. С. 12.
130 Сорокин В. Литература или кладбище стилистических находок:
интервью // Постмодернисты о посткультуре. М., 1996. С. 128.
131 Бычкова Л., Бычков В. Поп-арт // Лексикон нонклассики. М., 2003.
С. 341.
132 Сорокин В. Вести из онкологической клиники: интервью. С. 142.
37
находилась культура социалистического реализма как ее
советский аналог.
Предтечей и поп-арта, и концептуализма считается дадаизм
и, прежде всего, техника «реди-мейд» М. Дюшана, который первым
стал выставлять предметы утилитарного обихода в качестве
произведений искусства. Творческий принцип манипуляции уже
имеющимися артефактами и/или штампованными образами,
объединяющий концептуализм с поп-артом, закономерно приводил к
дистанцированию автора от создаваемого произведения. В
концептуальном искусстве это дистанцирование было явлено в наибольшей
степени ввиду преобладания идеи произведения над ее материальным
воплощением, вплоть до полного устранения последнего. Целый
ряд концептуальных произведений не существует в
действительности, о них можно лишь составить представление по имеющимся
описаниям или фотографиям. В русском концептуализме
классическим примером такого рода стали акции группы «Коллективные
действия» под руководством А. В. Монастырского133.
Отстраненная авторская позиция, восприятие произведения
искусства в качестве «объекта», с которым производятся
манипуляции, в свою очередь, вели к понижению значимости авторского
начала, а в некоторых случаях и к подчеркнутой безличности,
анонимности художественных произведений. Так, американский
концептуалист Сол Ле Витт сделал многие свои работы достоянием
любого человека, который пожелает следовать инструкциям
художника по их созданию. Одним из результатов осуществленного поп-
артом и концептуализмом отчуждения языка искусства стал
переход «от авторского монологизма к множественности равноправных
языков»134, подготовивший почву для появления концепции «смерти
автора» и постмодернистской интертекстуальности.
Столкновение множества стилей в рамках одного произведения
нередко порождало абсурдистский эффект. По мнению Л. и В.
Бычковых, некоторые работы поп-артиста Ж. Сигала «и особенно
композиции, ассамбляжи, инсталляции Э. Кинхольца с
антропоморфными фигурами, собранными из обломков и деталей технических
приборов и машин, имеют жутковатый
абсурдно-сюрреалистический характер. В них с особой силой выявляется абсурдность
и бессмысленность той „идеальной" повседневности современного
массового общества, которую идеализирует американская госу-
См.: Поездки за город: «Коллективные действия». М., 1998. 783 с.
Кулаков В. Г. Концептуализм. Стб. 395.
38
дарственная машина и романтизировали некоторые ранние поп-
артисты»135. В еще большей мере алогизм и абсурдизм свойственны
концептуальным произведениям, многие из которых представляют
собой нарочито загадочные объекты или действия, направленные
«на возбуждение аналитико-интеллектуалистской деятельности
сознания реципиента, лишь косвенно связанной с собственно
воспринимаемым артефактом»136.
Рассуждая о группе «Коллективные действия», Сорокин находил
в деятельности А. Монастырского элементы сектантства, «русской
квазирелигиозной спекуляции»: «„Коллективные действия" — это
история нарастающего герметизма, отделенности, как бы катакомб-
ная церковь, что ли? Первые акции их были достаточно
концептуально прозрачны и чисты: „Лозунг", вытягивание веревки из
леса, „Появление". Но потом акции стали невероятно усложняться,
обрели некую громоздкость и герметичность. <...> Каждая акция
становилась все более малопонятной для непосвященных. И
приглашались на акции жестко отобранные люди, посвященные»137.
Знакомство с концептуализмом и поп-артом дало Сорокину
ключ к дальнейшему творчеству: «Я впервые понял, что я делаю,
хотя до этого бессознательно делал приблизительно то же самое.
В первых моих вещах было много литературщины, но тем не менее
я уже тогда использовал некие литературные клише, не советские,
а постнабоковские. Но благодаря картинам Булатова (он,
конечно, никакой не концептуалист, а типичный поп-артист, если могут
быть советские поп-артисты) я вдруг увидел формулу: в культуре
поп-артировать можно все. Материалом может быть и „Правда44,
и Шевцов, и Джойс, и Набоков. Любое высказывание на бумаге —
это уже вещь, ею можно манипулировать как угодно. Для меня
это было как открытие атомной энергии»138. В частности, писатель
увидел, что «наш чудовищный советский мир имеет собственную
неповторимую эстетику, которую очень интересно разрабатывать,
которая живет по своим законам и абсолютно равноправна в
цепочке культурного процесса»139.
Бычкова Л., Бычков В. Поп-арт. С. 343.
Бычкова Л., Бычков В. Концептуализм // Лексикон нонклассики. С. 252.
Сорокин В., Шептулин Н. Разговор о московском концептуализме.
Сорокин В. «В культуре для меня нет табу...»: интервью. С. 12.
Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 119.
39
Ранние рассказы и повести (1978—1981)
Ранние рассказы и повести Сорокина были изданы в виде сборника
«Заплыв» (2007)140 спустя почти тридцать лет с момента их
написания. Многие из этих произведений в том или ином виде
публиковались прежде141, но представление их в виде единого авторского
сборника закрыло белое пятно в творческой биографии писателя.
Говоря о наличии в своем раннем творчестве «литературщины»,
Сорокин, очевидно, имел в виду не только его подражательный
характер142, но и социально-критический пафос. Лейттема
«Заплыва» — обличение советского строя и порожденного им жизненного
уклада. Вне зависимости от того, рисует ли Сорокин
фантасмагорические картины «идеальных» тоталитарных государств или же
вводит фантастические мотивы в ткань реалистического
повествования, авторская позиция выражена в большинстве произведений
сборника с аллегорической определенностью. Концептуалистский
принцип дистанцирования автора от создаваемого произведения
еще не стал для Сорокина основополагающим. Отстраненная
«работа» с дискурсивными клише, присутствующая в «Заплыве», не
носит системного характера и не отделена в полной мере от
искреннего подражания литературным корифеям.
Вместе с тем собранные в сборнике рассказы и повести стали
большим шагом вперед в творческой эволюции молодого автора.
Как было показано выше, подростковые и студенческие
произведения Сорокина создавались в наивно-реалистической стилистике.
В «Заплыве» превалирующее значение получили
гротескно-абсурдистские тенденции. По мнению самого писателя, «в этих
текстах чувствуется влияние модернизма, такой сюрреалистический
элемент»143. Почти все произведения сборника построены на стол-
140 В сборник не включен ранний рассказ «Окружение» (1980), известный по
газетной публикации: Сорокин В. Окружение // Газета. 2005. № 145. С. 18.
141 Рассказ «Заплыв» был опубликован как часть романа «Голубое сало» [III,
122-127]; «Розовый клубень» появился на официальном сайте писателя (Владимир
Сорокин. 2006. URL: http://www.srkn.ru/texts/rozoviy_kluben.html (дата
обращения: 01.10.2011)); рассказ «Утро снайпера» публиковался в составе одноименного
сборника (Сорокин В. Утро снайпера. М., 2002. С. 33-47); повесть «Падёж»,
рассказ «Летучка» и цикл «Стихи и песни» вошли в роман «Норма».
142 По словам писателя, его ранние произведения были синтезом «из Кафки,
Набокова и Орвелла» (Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 119).
143 Сорокин В. «Водка, кровь и „Сахарный Кремль"»: интервью
[Электронный ресурс] // Грани.Ру. 2008. URL: http://www.grani.ru/Politics/Russia/
m.l35701.html (дата обращения: 01.10.2011).
40
кновении жизнеподобной и фантастической образности. В
зависимости от их соотношения «Заплыв» можно условно разделить на
три части.
Открывающие сборник рассказы «Розовый клубень», «Заплыв»,
«Дыра» и «Полярная звезда» выдержаны в антиутопическом
ключе с преобладанием фантастической образности. Так, в рассказе
«Розовый клубень»144 изображается некое тоталитарное государство
с прозрачными аллюзиями на сталинский СССР. Центральным
печатным органом в этом государстве является «Истина», а
неугодных режиму людей называют «плюющими против ветра». При этом
в каждой семье, подобно комнатному растению, выращивается
«Розовый клубень» — точная копия «Великого Вождя», «Отца
Великой Страны» — с величественно нахмуренными бровями, мясистым
носом и легкими складками на плотно сидящем кителе. Каждый
момент роста этого «чуда селекции», подкармливаемого слюной
и спермой, отмечается на семейном празднике, будь это «День
Первых Всходов», «День Прозрения» или «День Завершения Роста».
В давшем название сборнику рассказе «Заплыв»145 также
изображается некое «идеальное» тоталитарное государство, в котором
агитационно-пропагандистские мероприятия достигли грандиозного
размаха. Цитаты из важнейших идеологических текстов
регулярно подвергаются «водному транспортированию»: тысячи пловцов
с факелами в руках синхронно плавают по ночам, образуя
необходимые фразы. Главный герой рассказа — «пловец-агитатор
высшей категории» Иван Монахов, которому доверено плыть запятой
«в длинной, первой степени сложности цитате из Книги
Равенства: «ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ
СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО ЯВЛЯЛСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ
И БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ВОПРОС СВОЕВРЕМЕННОГО УСИЛЕНИЯ
КОНТРАСТА»146. Эта абсурдная фраза кажется Монахову напол-
144 Подробнее об этом рассказе см.: Марусенков М. П. Раннее творчество
В. Г. Сорокина в контексте его зрелых художественных исканий // Вестн. Рос.
унта дружбы народов. Сер. Литературоведение, Журналистика. 2008. № 1. С. 45-47.
145 Это произведение Сорокин считает своим литературным дебютом:
«Неожиданно для себя я бросил рисовать и написал первый рассказ — „Заплыв". Его
одобрили люди, которых я очень уважал: Кабаков, Булатов... И я стал писателем»
(Сорокин В. Доктор Сорокин: интервью. С. 88). Следует отметить, что в
рассматриваемом сборнике рассказ опубликован без финальной части, известной по роману
«Голубое сало» и публикации в составе «Утра снайпера». Кроме того, «Заплыв» —
единственный ранний рассказ Сорокина, подвергавшийся позднейшим правкам: как
указано в сборнике, окончательная редакция произведения появилась в 1988 году.
146 Сорокин В. Заплыв / / Он же. Заплыв. М., 2007. С. 15.
41
ненной «великим смыслом», который он вместе с остальными
пловцами самоотверженно стремится донести до людей.
Вторая часть сборника, к которой можно отнести рассказы
«Ватник», «Король, сапожник и портной», «Утро снайпера» и повесть
«Дача», построена на иных художественных принципах. Главным
предметом изображения становится не «нищий военизированный
быт»147 фантастических тоталитарных государств, а действительный
жизненный уклад советского времени, хотя нередко утрируемый
автором. По сравнению с первой частью, в этих произведениях
происходит рокировка фантастической и жизнеподобной образности.
Не в фантастических образах угадываются аллюзии на советские
реалии, а сам строй советской действительности преображается
писателем посредством гиперболизации, символизации, введения
фантастических и абсурдистских мотивов.
В рассказе «Ватник» символом абсурдности советской
действительности становится старый ватник, висящий в прихожей
маленькой двухкомнатной квартиры. Насквозь прогнившее «темно-бурое
чудовище», источающее жуткий смрад — яркий образ отживших
сталинских порядков. Не случайно «чудовищную нелепость»
дальнейшего существования ватника защищает дед главного героя,
вычитывающий из старой газеты о «достояниях Великого Перемола».
Окончательно гротескный характер происходящему придает
способность ватника к трансформациям. Под воздействием решительных
речей, раздающихся из радиоприемника, ватник начинает
«оживать»: «прорехи затягивались, скрывая прель, разорванные швы
срастались, выравнивались, гнилая вата съеживалась, засаленные
места теряли свой грязный блеск, ватник светлел и сжимался»148.
Еще более тесно жизнеподобные и фантастические мотивы
переплетены в рассказе «Утро снайпера», который Сорокин называл
«одним из первых соц-артовых рассказов»149. Деятельность
снайпера в этом произведении изображена как рутинная повседневная
работа. Герой рассказа в полной экипировке едет на общественном
транспорте, показывает управдому свое удостоверение, чтобы
получить ключи от чердака дома, и, убив тридцать прохожих,
становится в очередь за сосисками. Гротескное сочетание военных и
мирных реалий придает повествованию абсурдистскую направлен-
147 Сорокин В. «Писать и бояться невозможно»: интервью.
148 Сорокин В. Ватник / / Он же. Заплыв. С. 71.
149 Сорокин В. «Россия опять становится страной гротеска»: интервью. С. 15.
42
ность150. По проблематике этот рассказ близок повести Ю. М.
Даниэля «Говорит Москва» (1958), в которой правительство
объявляет в стране «День открытых убийств».
Условно выделяемую третью часть «Заплыва» составляют
повесть «Падёж», рассказ «Летучка» и цикл «Стихи и песни»,
которые будут впоследствии включены автором в роман «Норма».
Гротескно-абсурдистская картина советской действительности,
эскизно намеченная в ранних произведениях Сорокина,
развернется именно в этом романе. В «Норме» также впервые заявят о себе
художественные принципы концептуализма и поп-арта,
перенесенные писателем в литературу из сферы визуальных искусств.
Первый период творчества (1979—1991)
Первый период в зрелом творчестве Владимира Сорокина
открывает роман «Норма» (1979-1984), который вобрал в себя наиболее
удачные ранние произведения автора. Выведя на новый
художественный уровень творческие поиски молодого писателя, он
ознаменовал уверенное движение Сорокина к постмодернизму.
Объединение в рамках одного романа множества вполне
самостоятельных произведений разных жанров привело к
композиционной раздробленности «Нормы». В ходе работы над романом его
жанровая неоднородность семантизировалась, став осознанным
художественным приемом. «Норма» может послужить хорошей
иллюстрацией применения деконструкции на композиционном уровне.
«Руинированный», распадающийся на отдельные части роман,
словно обручами, был стянут рамочными элементами, сложной
системой лейтмотивов, гротескно-абсурдистскими приемами. Главным
объединяющим началом стала общая для всех частей произведения
тематика нормы, нормированности, нормального и ненормального
в советской действительности.
Такое композиционное решение, с одной стороны, полемически
противопоставляло «Норму» монументальной целостности соцреа-
150 Аналогичный повествовательный прием использован Сорокиным в рассказах
«Окружение», «Дорожное происшествие», а также в одной из сцен повести
«Соловьиная роща»: «Машин оглянулся. Рядом с ним стоял, пригибаясь от
посвистывающих пуль, кудрявый парень в джинсах. В улыбающихся губах плясала сигарета.
Машин нащупал спички, передал. Парень закурил, кивнул головой и, пробежав
по изрытому воронками полю, спрыгнул в соседний окоп. Там приглушенно играл
магнитофон и слышался мягкий девичий смех. Очередной снаряд заставил Машина
пригнуться к пулемету. Немцы опять пошли в атаку» [I, 732].
43
листических романов. Косвенно, оно отсылало к самиздатовским
диссидентским сборникам, зачастую представлявшим собой
подборку произведений разных жанров151. Роман не случайно
начинается со сцены ареста диссидента Бориса Гусева, у которого
обнаруживают текст «Нормы».
Полемическим по отношению к соцреализму и вообще
реалистическим повествовательным принципам было и стремление
Сорокина максимально дистанцироваться от текста. Конструируя
сложнейший коллаж из прозаических и поэтических произведений,
писатель использует многослойные авторские маски, тем самым
достигая формального обезличивания частей романа. Гротескный
художественный мир «Нормы» отличает постоянное мерцание между
жизнеподобием и фантастикой, натуралистическим изображением
действительности и демонстрацией надуманности этого
изображения. По этой причине, включая ранние произведения в состав
романа, писатель счел нужным задрапировать излишнюю прямоту
авторского высказывания.
Повесть «Падёж» откапывает из-под земли герой третьей части
«Нормы», выдуманный безымянным автором; герои же «Падежа»,
секретарь райкома Кедрин и начальник районного отделения МГБ
Мокин, «откапывают» макет идеального хозяйства —
«художественное произведение» председателя колхоза Тищенко. В седьмой
части романа, основу которой составил цикл «Стихи и песни», соц-
реалистические стихотворения становятся материалом для
творчества «подсудимого», деятельность которого описывает «главный
обвинитель». Сам же роман «Норма», якобы сочиненный безвестным
автором, читает советский школьник.
В «Норме» у ранних произведений Сорокина появились
эксплицитные авторы, которые, в свою очередь, фигурировали в тексте
как герои других нарраторов. Такой подход формировал систему
многоуровневого остранения художественного текста с целью
превращения его в безличный артефакт.
Манипуляция якобы безличными текстовыми фрагментами
сопровождалась активным использованием приемов визуализации
текста. В пятой части романа писатель предпринял попытку
наглядного разрушения текста, постепенно превращая связное по-
151 Работа Сорокина в должности художественного редактора журнала «Смена»
дает основание для еще одной параллели: «Норма» как
литературно-художественный журнал или альманах.
44
вествование в сплошной ряд букв «а». Выше уже говорилось, что
этот опыт сам Сорокин характеризовал как концептуалистский.
В восьмой части романа заумь, на которой общаются редакционные
работники, вначале легко поддается прочтению, однако вскоре
среди заумных лексем начинают преобладать непроизносимые и
нечитаемые буквенные комбинации, что заставляет воспринимать весь
текст как визуальное произведение. Сильное влияние на Сорокина
визуальных практик также обнаруживается во второй части
романа, представляющей собой длинный перечень словосочетаний
со словом «нормальный», и в шестой части произведения, которая
состоит из псевдолозунгов со словом «норма».
Вместе с тем «Норму» нельзя назвать в полной мере
концептуалистским романом, так как в нем отсутствует главная, стиле-
образующая черта концептуализма: безусловное преобладание идеи
произведения над средствами ее выражения. Безличность
составляющих «Норму» текстовых фрагментов иллюзорна: все они
написаны Сорокиным и обладают самостоятельной эстетической
ценностью, а не являются лишь экспликаторами определенных идей.
В романе также силен социально-критический, антитоталитарный
и антисоветский пафос, отчасти доставшийся ему «по наследству»
от раннего творчества Сорокина. Обладая относительной
самостоятельностью, лингвостилистические игры не заслоняют проблемно-
тематического плана.
Создававшийся в тот же временной период, что и «Норма»,
сборник рассказов и повестей152 «Первый субботник» (1980-1984),
по признанию Сорокина, писался уже «в откровенно соцартовской
манере»: «Он был построен как бы по канонам официальной
советской литературы среднего уровня. Как если бы он вышел в каком-
нибудь калужском издательстве. Меня привлекла возможность
манипуляции с этим жестким каноническим стилем, с порожденными
им персонажами»153.
«Первый субботник» продолжает и развивает ранний цикл
«Стихи и песни», в котором хрестоматийные соцреалистические
стихотворения остранялись посредством реализации содержащихся в них
метафор и/или введением собственно реалистических мотивов.
В «Первом субботнике» предметом деконструктивистских игр
автора стала соцреалистическая проза, но Сорокин уже не использует
152 Согласно официальному сайту Сорокина, замыкающие сборник «Соловьиная
роща» и «Ночные гости» — это именно повести, а не рассказы по жанровой форме.
153 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 119.
45
готовые текстовые образцы. Рассказы этого сборника являются
искусными имитациями основополагающих стилей и жанров соцре-
алистической литературы, данной как бы в сжатой и обобщенной
форме. «Первый субботник» — это некий компендиум
литературного соцреализма, его жанрово-стилевая квинтэссенция.
По сравнению с ранним творчеством, видоизменению также
подверглись методы деформации исходного текста. В «Стихах
и песнях» инородные соцреалистическому дискурсу мотивы
внедрялись по ходу развития лирического сюжета. В «Первом
субботнике» избранный автором стилевой образец вначале скрупулезно
воссоздается с различной степенью клиширования, а затем тем или
иным образом деформируется, переходя в свой антипод. В качестве
последнего могут использоваться «элементы порно- или жесткой
литературы»154, включая натуралистическое изображение
физиологических отправлений, кровавого насилия, внезапного
сумасшествия, а также заумно-абсурдистский дискурс.
Соцреалистические произведения стали идеальным материалом
для поп-артистских манипуляций Сорокина. Нейтральный,
нормативный стиль соцреализма, дополнительно утрированный автором,
сам по себе вызывал необходимость в переходе в какой-то иной,
альтернативный стиль. За счет этого столкновения выявлялась ки-
чевая природа соцреалистического текста, обнажалась
несостоятельность его претензий на отражение действительности.
Исследователи предлагали самые разные наименования для
описанного приема: «истерика стиля» (Л. С. Рубинштейн), «стилевой
скачок» (М. Н. Липовецкий), «прагматический прорыв» (В. П.
Руднев). Сам Сорокин шутливо назвал его «литабочкой» —
«литературной атомной бомбочкой». Этот прием научил его «Великой
Литературной Свободе»155. Как неоднократно указывал автор, идея
столкновения контрастных дискурсов была подсказана ему
творчеством Э. В. Булатова, во многих картинах которого I960—1980-
х годов обыгрывается иллюзорное жизнеподобие
социалистической живописи.
Например, в работе Булатова «Два пейзажа на красном
фоне» (1972-1974) на фоне развевающегося кумачового
полотна один поверх другого наложены пейзажи с изображением озера
151 Там же. С. 121.
155 Сорокин В. «Я путешествую по моим внутренним литературным
провинциям»: интервью // Гипертекст. 2006. № 6. С. 11.
46
и уходящей вдаль сельской дороги. Оба пейзажа воспроизводят
картины природы с максимально возможным в рамках
социалистической эстетики правдоподобием, но двойное наложение (на полотно
и друг на друга) выявляет и подчеркивает иллюзорность
живописного пространства. Еще более виртуозно этот прием реализован в
картине «Улица Красикова» (1973), на которой группа советских людей
идет по улице, а навстречу им идет нарисованный на уличном
стенде Ленин. Пространство застящего горизонт идеологического
плаката оказывается не менее реальным, чем якобы реальное
пространство самой картины. В других работах Булатов прибегал к резкому
сочетанию фигуративных и абстрактных или текстовых элементов:
в картине «Знак качества» (1986) советский знак качества
поставлен на небе, а в картине «Опасно» (1973) соответствующая надпись
четыре раза нанесена по периметру лесного пейзажа. Контраст
между изображением лесной зелени, дающей ощущение умиротворения,
и четырежды повторенной, ярко-красной надписью «ОПАСНО»,
вселяющей тревогу, придает картине абсурдистский характер.
Как и Булатова, Сорокина волнует вопрос соотношения
искусства и жизни, который он ставит уже на материале
художественной литературы. Сталкивая в рассказах «Первого субботника»
стилевые антиподы, писатель демонстрирует, что литературное
произведение дает лишь грубо-приблизительное представление
о действительности, жестко обусловленное господствующим жан-
рово-стилевым каноном. По словам С. П. Костырко, в
произведениях Сорокина «абсурдный финал мотивируется внутренней
абсурдностью привлеченного стиля, неестественностью, вернее,
противоестественностью исходной ситуации»156. По мнению П. Вайля
и А. Гениса, в одном из главных произведений «Первого
субботника» — рассказе «Кисет» — Сорокин, «обнажая границы стилевого
поля, демонстрирует главный принцип авангарда: искусство всегда
условность. Жизнеподобность произведения всегда мнимая. <...>
Как писатель показывает мир — зависит от того, каким стилем он
пользуется. Любая художественная манера неизбежно ограничена
в своих попытках отразить действительность»157.
В изобилии присутствующий в «Первом субботнике» «сугубый
гиньоль, кровавый и тошнотворный»158, по мысли автора, должен
156 Костырко С. Чистое поле литературы // Новый мир. 1992. № 2. С. 255.
157 Вайль Я., Генис А. Поэзия банальности и поэтика непонятного // Звезда.
1994. № 4. С. 191.
158 Липовецкий M. Н. Русский постмодернизм. С. 257.
47
продемонстрировать автономность сферы эстетики, ее
независимость от этических суждений и, наоборот, нелепость восприятия
художественного текста в качестве «поступка», выведения из него
нравственных принципов. Примечательно, однако, что именно эту
черту сорокинского творчества не принял Э. Булатов: «Я, можно
сказать, стоял у колыбели его (Сорокина — Λί. Ai.) творчества. Он
пришел ко мне со своими рисунками, а под влиянием моей
картины бросил рисовать и стал заниматься литературой. Сначала мне
было очень интересно. Но, когда все явственнее стал проступать
его врожденный садизм, который он так пестовал и лелеял, я с ним
совершенно разошелся»159.
В «Первом субботнике» окончательно оформилась своеобразная
и не имеющая аналогов в русской литературе абсурдистская
поэтика Сорокина, основанная на перенесении в сферу словесности
изобразительных приемов концептуализма, поп- и соц-арта. По
характеристике И. Кукулина, этот сборник — «первый образец русской
прозы, где соц-арт становится осознанно применяемым методом»160.
Найденная в «Первом субботнике» формула творчества будет в том
или ином виде использоваться Сорокиным во всех произведениях
1980-х годов.
В романе «Очередь» (1982-1983) доведен до совершенства
прием доскональной передачи разговорной речи, опробованный
в первой части «Нормы». Как и «Первый субботник», «Очередь» не
имеет аналогов в русской литературе: весь роман суть один
сплошной диалог. Переплетение великого множества идиолектов придало
произведению исключительное языковое разнообразие.
Кульминационными моментами романа можно считать ставшую знаменитой
сцену переклички и сцену секса между главными героями, которая
состоит практически из одних междометий. В этом произведении
писатель передает на письме даже паузы в разговорах и между
ними, ставя отточия или оставляя на странице пустое место.
Образ очереди, сначала фигурирующий в тексте как
узнаваемая примета советского жизненного уклада, к концу романа теряет
пространственные и временные характеристики, а главное — цель
своего существования, перерастая в символ абсурдности
человеческого бытия вообще и русской (советской) жизни в частности. По
словам Сорокина, когда он писал этот роман, то думал о «нашем
159 Булатов Э. «Меня спрашивали: „Почему вы не лауреат Сталинской
премии?'4»: интервью // Известия. 2007. № 207. С. 9.
160 Куклин И. Кошмары, ставшие классикой // НГ Ex Libris. 2001. № 26. С. 2.
48
кочевом существовании, о кочевом аспекте русской метафизики
жизни. Собственно, само понятие недвижимости у нас отсутствует
и в быту, и в жизни, и в мышлении. Мы всю жизнь куда-то
движемся между прошлым и будущим, поэтому у нас нет настоящего»161.
Роман «Тридцатая любовь Марины» (1982-1984)
объединил установку первой части «Нормы» на натуралистическое
бытописание советской действительности и бинарную композицию
рассказов «Первого субботника»: изображение жизни диссидентского
подполья сменяется раскавыченной макроцитатой из передовиц
газеты «Правда». Это произведение вобрало в себя стилистические
традиции неонатурализма, соцреализма и классического реализма
XIX века. «„Марина" сделана в жанре классического русского
романа о спасении героя, — говорил Сорокин. — В данном случае —
о спасении от индивидуализации. Это нечто вроде вывернутого
наизнанку „Воскресения" Толстого»162. «Это чудовищное
спасение, — отмечал писатель, — но именно такое спасение
предлагалось людям в XX веке. Это роман о человеческом выборе: остаться
самим собой или потерять себя»163.
Если в «Тридцатой любви Марины» традиция классического
реализма формирует только сюжетный каркас произведения, то в
романе «Роман» (1985-1989) она занимает доминирующее положение.
Усредненный стиль русского реалистического романа XIX века,
с скусными стилизациями под А. С. Тургенева, И. А. Гончарова,
А. П. Чехова и других авторов, внезапно сменяется кровавой
вакханалией серийных убийств и отправлением жуткого и
кощунственного ритуала. В романе «Роман» Сорокин «столкнул два стиля,
как два чудовища, дабы они пожрали друг друга и выделилась та
самая энергия аннигиляции и очищения языка»164. Смена объекта
деконструктивистского анализа с социалистического реализма на
классический реализм была продиктована логикой «исследования»:
освоив литературные «эльдорадо» соцреализма, Сорокин обратился
к художественному направлению, на основе которого была
сформирована соцреалистическая эстетика.
«Роман» считается классическим постмодернистским
произведением: его стилистическая организация не раз становилась
161 Сорокин В. «Жизнь — это... театр абсурда... В России материала для
литературы всегда было полно...»: интервью. С. 102.
162 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 124.
163 Сорокин В. Владимир Сорокин не хочет быть пророком, как Лев Толстой:
интервью.
164 Сорокин В. Меа culpa?
49
предметом литературоведческих штудий165. Деконструкция жанро-
во-стилевого канона классического реализма, с блеском
осуществленная автором, была подчинена выражению его историософской
концепции, согласно которой русские революции подготовила
русская литература. На это указывает, в первую очередь, время
действия произведения: по наблюдению О. В. Бугославской, действие
«Романа» происходит в 1898-1904-х годах, а в 1905 году Россию
потрясет первая революция. Деревянный колокольчик, в который
«звонит» жена главного героя Татьяна, побуждая его совершать
убийства, можно рассматривать как недвусмысленную отсылку
к газете «Колокол» А. И. Герцена и Н. П. Огарева (что
объясняет и выбор дерева для изготовления колокольчика). В 1860 году
в этом издании появилось печально известное «Письмо из
провинции», в котором некий «русский человек» призывал: «К топору
зовите Русь!». Роман воплощает этот призыв в жизнь и зверски
убивает всех жителей Крутого Яра, орудуя топором, подаренным
ему сельским фельдшером Клюгиным — носителем революционно-
демократического мировоззрения.
Драматургия Сорокина 1986-1989-х годов стала финальным
этапом в демонтаже реалистическо-соцреалистической традиции.
Первые драматические опыты были обращены к советскому
театру: в пьесах «Пельмени» (1986), «Землянка» (1987) и
«Доверие» (1987) деконструировались, соответственно, жанровые
традиции бытовой, военной и производственной драмы. В написанных
в тот же временной период монопьесах «Русская бабушка» (1986)
и «С Новым годом» (1987) автор манипулировал монологической
речью. В 1989 году Сорокин создал две пьесы на основе
классической драматургии — «Юбилей» и «Дисморфоманию», преобразовав
хрестоматийные произведения Чехова и Шекспира в
драматургические коллажи. В этих пьесах он взял на себя функцию
полноценного деконструктивистского критика, используя не стилизованные,
а готовые текстовые фрагменты, отчасти вернувшись тем самым
к циклу «Стихи и песни».
Первый период в творчестве Сорокина завершается поэмой
в прозе «Месяц в Дахау» и романом «Сердца четырех», которые
165 См., напр.: Бугославская О. В. Постмодернистский роман: принципы
литературоведческой интерпретации: «Роман» В. Сорокина и «Последний сон разума»
Д. Липскерова: дис. ... канд. филол. наук. М., 2001. 151 с; Гройс Б. Русский роман
как серийный убийца, или Поэтика бюрократии // Новое лит. обозрение. 1997.
№ 27. С. 432-444; Недель А. Доска трансгрессий Владимира Сорокина: сорокино-
типы // Митин журнал. 1998. № 5/6. С. 247-287.
50
объединяет предельная концентрация садистской жестокости
и перверсивного насилия. «Месяц в Дахау» (1990) продолжает
«тургеневскую линию» романа «Роман»: название поэмы отсылает
к пьесе «Месяц в деревне», а главный герой читает повесть
«Вешние воды». В отличие от «Романа», где основным предметом
изображения был жанрово-стилевой канон русского реалистического
романа, в «Месяце в Дахау» повествовательный фокус
сосредоточен на психологической рефлексии типичного русского
писателя-интеллигента. В его роли выступает сам автор, Владимир
Георгиевич Сорокин, который в 1990 году отправляется в летний
отпуск в концентрационный лагерь Дахау. Несмотря на ряд черт,
сближающих описываемое с действительностью того времени,
художественная реальность «Месяца в Дахау» является
результатом альтернативного развития исторических событий в XX веке.
В конструируемом Сорокиным виртуальном пространстве
существуют и процветают Советский Союз сталинского образца и
нацистская Германская империя; Н. С. Хрущев общался в 1958 году
с И. фон Риббентропом; Н. Армстронг и Т. Стаффорд снимали из
космоса воссозданное в ландшафте гигантское лицо А. Гитлера
и т. п.
Аналогичным образом главный герой произведения не
тождественен автору, хотя носит его имя. Скорее перед нами
собирательный образ русского писателя, характеру которого присущи многие
черты, традиционно приписываемые русской интеллигенции. Герой
поэмы мучительно воспринимает российскую действительность:
«В России все несчастны — и палачи, и жертвы»; испытывает
чувство вины перед народом: «И безусловно, это наша вина, а не
людей с мясными лицами»; остро переживает свое бессилие перед
власть имущими: «И я опять был непротивленцем»; склонен к
высокопарной риторике и размышлениям философского толка: «Всю
жизнь приходится нам ждать, надеяться, верить, уповать, как бы
не минуло нас ГЛАВНОЕ. А вдруг минует, и обезумевшими
Навуходоносорами закружимся мы на месте, поедая обгаженную нами
траву?». Сорокин гротескно заостряет основные черты
интеллигентского психотипа, превращая трагическое восприятие
действительности в мазохизм: «с утра порка и Господи не надо только до
крови и вы кричите чтоб я рассказал опять о Достоевском о
покаянии Раскольникова» [I, 745-747, 750, 754].
«Месяц в Дахау» отличает исключительное языковое и
стилистическое разнообразие, начиная от создания из текста графических
51
фигур в барочном духе и заканчивая использованием разных форм
зауми и техники «потока сознания». Стилистическая изощренность
не является авторской самоцелью, как это было в некоторых
рассказах «Первого субботника» («Соревнование», «Кисет»,
«Дорожное происшествие»). В центре внимания автора — исследование
психосоматики русского писателя-интеллигента и размышления
о роли русской реалистической традиции в трагических событиях
XX века. Это позволяет говорить о начале постепенного отхода
Сорокина от постмодернистских повествовательных моделей.
Роман «Сердца четырех» (1991) органично завершает первый
период в творчестве писателя. Итоговый характер этого
произведения проявляется в том, что оно аккумулирует большинство
наработанных Сорокиным абсурдистских приемов, подчиняя их ключевой
для автора проблематике: взаимоотношение литературы и
действительности. В «Сердцах четырех» Сорокин достиг предельной
концентрации как абсурда, так и жестокости, выявив таким образом
сугубо конвенциональную природу художественного высказывания
и его независимость от этической сферы. Как отмечал писатель,
«Сердца четырех» «сочатся кровью и спермой»166: это «испытание
бумаги на прочность» и «проверка литературы на ее пределы»167.
Итак, первый и самый обширный период в творчестве Сорокина
прошел под знаком постмодернистских художественных
направлений: концептуализма, поп- и соц-арта. Этот период характеризуется
панигровой стратегией, предполагающей доминирование
стилистического задания над содержательным, обращение к максимально
широкой стилистической палитре и лобовое столкновение
контрастных дискурсов в рамках одного абсурдистского целого.
Границы первого периода выявляются достаточно отчетливо, что
обусловлено как близостью поэтики произведений, так и хронологией
их создания: роман «Норма» стал первым зрелым художественным
произведением Сорокина, а после окончания романа «Сердца
четырех» писатель понял, что «опустошен совершенно», и семь лет не
принимался за крупную форму168.
166 Сорокин В. Спящий в ночи: интервью.
167 Сорокин В. «Мы все отравлены литературой» [Электронный ресурс] //
arba.ru. 2006. URL: http://www.arba.ru/art/849/7 (дата обращения: 01.10.2011).
168 Сорокин В. На хвосте у Сорокина: интервью. С. 50.
52
Второй период творчества (1992—2000)
Начало второго периода в творчестве Владимира Сорокина
отмечено кризисными явлениями, обусловленными как выработанностью
поэтики, так и изменением характера действительности. «Мир
советский кончился, начался постсоветский, — вспоминал
Сорокин. — И стиль жизни... или, я бы даже сказал, шум времени...
очень резко менялся. А писатель — это такое большое ухо,
которое настроено на шум времени. И мне нужно было время, чтобы...
настроиться на новые звуки»169. Свидетельством переживаемого
автором творческого кризиса стал резкий спад в количестве
произведений: за более чем семилетний период из-под пера Сорокина
вышло несколько текстов малых жанров. В творчестве писателя
этого времени можно выделить две основные линии.
Первая связана с продолжением драматургии 1980-х годов.
Пьесы Сорокина середины 1990-х отсылали уже к новой, постсоветской
реальности: в центре «Hochzeitsreise» (1994) была тема общности
русского и немецкого тоталитарного прошлого, в «Щах» (1995)
пародировались крайности экологизма, а в «Dostoevsky-trip» (1997)
описывался коллективный прием наркотиков. В последних двух
пьесах актуальная тематика сочеталась с разработкой неосвоенных
дискурсивных пластов: тюремного жаргона и творчества
Достоевского. В собственно художественном отношении эти пьесы не
содержали практически ничего нового по сравнению с
драматическими сочинениями второй половины 1980-х. «Hochzeitsreise»
развивала тему, блестяще воплощенную в «Месяце в Дахау», «Dostoevsky-
trip» продолжала деконструктивистскую линию «Дисморфомании»
и «Юбилея». Знаком исчерпанности прежней поэтики при
отсутствии принципиально новых идей стала вторая редакция пьесы
«Пельмени» (1996), в которой писатель заменил последнюю часть,
придав произведению большую целостность и осмысленность.
Вторая линия в творчестве Сорокина середины 1990-х годов
связана с дрейфом от литературной деятельности в смежные
области. Совместно с художником-перформансистом О. Б. Куликом
Сорокин выпускает фотоальбом «В глубь России» (1994)170, пишет
сценарии к кинофильму Т. Диденко и А. Шамайского «Безумный
Фриц» (1994) и к художественному фильму А. Е. Зельдовича
«Москва» (1995-1997; вышел на экраны в 2001 году). Обращение
169 Там же.
170 См. о нем: Деготь Е. Террористический натурализм. М., 1998. С. 52-57.
53
к сценарной работе стало логичным продолжением драматургии
Сорокина, выявив изначальную близость его произведений
кинематографической эстетике: «Даже ранние романы („Тридцатая
любовь Марины" или „Сердца четырех") для меня были опытом
растворения визуального в тексте. Кино для одного себя»171. Еще
одну причину обращения Сорокина к кинематографу можно видеть
в стремительном росте значимости визуальных искусств в
постперестроечной России в противовес господствовавшему в советское
время литературоцентризму.
Несмотря на хронологическую близость «Безумного Фрица»
и «Москвы», эти картины построены на разных художественных
принципах. В первом фильме Сорокин развивает тему
русско-немецкого тоталитарного прошлого, начатую в «Месяце в Дахау»
и продолженную в «Hochzeitsreise». «Безумный Фриц» — это
попытка перенести отработанные в литературном творчестве
приемы в кинематограф. Вся картина представляет собой коллаж из
игровых фильмов и посвящена осмыслению образа врага-нациста
в советском киноискусстве. По характеристике С. Хэнсген, в
«Безумном Фрице» Сорокин «создает изображение садиста-противника,
изуверства и жестокости которого вырисовываются в мазохистской
перспективе даже с некоторым наслаждением». «При этом, —
отмечает Хэнсген, — идеология превращается в гротеск, в чисто
физические движения без серьезных мотиваций. <...> Механическая
аккумуляция сцен, в которых пытают, бьют, вешают и
расстреливают, кажется лишенной всякого смысла», напоминая абсурдные
сцены эксцентрической комедии172.
В «Москве», написанной в соавторстве с режиссером А.
Зельдовичем, Сорокин отошел от принципа коллажного
конструирования, вернувшись к отстраненно-натуралистическому бытописанию,
знакомому по первым частям романов «Норма» и «Тридцатая
любовь Марины». «Мы хотели взглянуть на Москву нечеловеческим
взглядом, — объяснял писатель. — Взглядом ангелов, или птиц,
или насекомых — не знаю. Проблема в том, что любой город —
некий предмет. Ты можешь всю жизнь прожить в нем и увидеть
лишь десятую его часть или вообще не видеть ничего. А можно
за сутки увидеть город целиком. Мне кажется, что этот новый
171 Сорокин В. Мифотворец: интервью // Моск. новости. 2005. № 49. С. 25.
172 Хэнсген С. Образ врага и эстетические рефлексии тоталитарного
дискурса // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 834-835.
54
нечеловеческий взгляд на Москву полезен»173. Сценарий к
фильму Сорокин охарактеризовал как «литературный поп-арт»:
«квазичеховский фильм о шести персонажах», «работа с Чеховым как
с поп-материалом»174.
Существенное отличие «Москвы» от произведений первого
периода творчества заключается в том, что в сценарии нет
фантастических мотивов и стилизованных вставок. Остраненному
восприятию в качестве «предмета» подвергаются не столько воплощенные
в «буквах на бумаге» дискурсивные практики, сколько сама
действительность, запечатлеваемая с фотографической точностью. Но
под этим холодным, «нечеловеческим» взглядом жизненная
реальность приобретает игрушечный, ирреальный характер, что очень
хорошо ощутимо в фильме, атмосферу которого В. С. Кичин
называл «алогичной, абсурдистской, лишенной движения и надежды,
безвоздушной»175. «Фильм — не про живые судьбы, — отмечал
Ю. В. Гладильщиков. — Он — абстракция, остраненное
концептуальное высказывание о 90-х. Он красив филигранной
искусственной холодной красотой, и сама холодная красивая Москва кажется
в нем декорацией»176. В сценарии «Москвы» присутствуют зачатки
новой литературной манеры Сорокина, которая в полную силу
заявит о себе в 2000-х годах.
Появление романа «Голубое сало» (1999) стало
свидетельством преодоления творческого кризиса, нахождения адекватного
языка для описания действительности: «Я прислушивался,
присматривался к миру, который менялся, чтобы адекватно описать его.
И в „Голубом сале" я это, собственно, и сделал. То есть я
описал некое состояние коллективного российского бессознательного,
если пользоваться древним языком психоанализа. А проще сказать,
я сделал некий выстрел в местное коллективное тело. „Голубое
сало" — это была, образно выражаясь, золотая пуля, которая
попала в него»177. По отношению к предшествующим произведениям
173 Сорокин В. «В этом фильме выживают только призраки»: интервью
[Электронный ресурс] // Владимир Сорокин. 2001. URL: http://web.archive.org/
web/20051229162312/http://www.srkn.ru/interview/moskva.shtml (дата
обращения: 01.10.2011).
174 Сорокин В. Комментарий к фильму «Москва» [Электронный ресурс] //
Москва - фильм 2001. URL: http://web.archive.org/web/20030125050553/moscow.
film.ru/sorokin.htm (дата обращения: 01.10.2011).
175 Кичин В. Куранты бьют тринадцать [Электронный ресурс] // Фильм.Ру.
2000. URL: http://www.film.ru/article.asp?id=1553 (дата обращения: 01.10.2011).
176 Гладильщиков Ю. Москва. Как много // Итоги. 2000. № 42. С. 69.
177 Сорокин В. «Пациент должен умереть»: интервью.
55
Сорокина этот роман выполнил ту же функцию, что и «Норма» по
отношению к раннему творчеству писателя: объединив и обобщив
наработанные литературные стратегии, он подготовил почву для
развития новой поэтики.
Идея написать научно-фантастический роман возникла у
Сорокина еще в 1980-е годы178, а ее реализация в «Голубом сале»
стала «прощанием» с концептуализмом179. По этой причине
«Голубое сало» связано множественными интертекстуальными связями
с прежними произведениями: с «Нормой» (раздробленная и
многосложная композиция, пародирование почвеннической идеологии,
образ золотых детских ручек); с «Первым субботником» (образ
пирамидки из сала, выражения «гной и сало» и «шельмование
ледяного сала»); с «Доверием» (выражение «голубое сало»); с «Юбилеем»
(мотив материализации литературы); с «Месяцем в Дахау»
(нацистская тематика, исполненные пафоса верлибры); с «Dostoevsky-
trip» (деконструкция стиля Достоевского, мотивы литературы как
наркотика и вылизывания подошв власть имущих, выражение
«тяжелое свинцовое сало»).
На концептуальном уровне сюжет «Голубого сала» вторил
сюжету романа «Роман». Мозг Сталина, разрастающийся до вселенских
размеров после инъекции квинтэссенции русской литературы, —
это зримое воплощение «имперских» амбиций русской классики
и насильственного присвоения несвойственных ей функций.
Предметом художественной рефлексии писателя на этот раз стала не
только реалистическая, но и модернистская литературная традиция
(А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак, А. П.
Платонов), успевшая обрести к концу 1990-х годов статус классики.
По мнению Сорокина, «Голубое сало» — «это, безусловно, очень
русская книга, и она не очень понятна тем, кто не понимает, что
такое брэнд русской литературы»180.
Идея показать роль русской литературы в истории России
XX века позволила органично совместить центонную художествен-
178 «Кстати, у меня давно возникла идея написать научно-фантастический
роман», — сказал Сорокин в интервью Т. Рассказовой (Сорокин В. Текст как
наркотик: интервью. С. 122). В этом же интервью писатель говорит, что получил «массу
удовольствия» от чтения фантастического романа В. И. Немцова «Семь цветов
радуги» (1950). В «Голубом сале» главный герой Борис Глогер пьет «слоеный ликер»
с таким названием [III, 17].
179 Сорокин В. «Я не брат Света, я скорее мясная машина»: интервью. С. 1.
180 Сорокин В. «Пока не пришли ко мне домой и не вывели на улицу...»:
интервью [Электронный ресурс] // mozgovaya. 2005. URL: http://mozgovaya.livejournal.
com/264485.html (дата обращения: 01.10.2011).
56
ную ткань романа и его гротескно-абсурдистскую образность с
серьезной проблематикой, поднимающей главные вопросы истории
прошедшего столетия. Бинарная модель повествования не утратила
для Сорокина актуальности, но в «Голубом сале» она реализована
не только на композиционном, но и на образном уровне и
наполнена глубоким смыслом. Весь образный строй и архитектонику
произведения определяет совмещение ультрасовременных и футури-
стичных деталей с устаревшими и архаичными. Позаимствованный
из киберпанка181, этот принцип стал самым адекватным способом
описания российской действительности 1990-х годов. По мысли
Сорокина, синтез архаики и современности отражает одну из
ключевых особенностей русского мировосприятия: «В жизни России
нет настоящего — лишь прошлое и будущее — и мы занимаемся
эквилибристикой между этими временами»182.
Научно-фантастические мотивы клонирования и путешествия во времени позволили
художественно реализовать эту черту русской ментальности.
После многолетних манипуляций с дискурсивными практиками
Сорокин начинает все активнее обращаться к действительности.
В «Голубом сале» создана целая галерея гротескно-пародийных
образов реальных исторических деятелей. В первой части
произведения Сорокин в пародийном свете изобразил постмодернистскую
богему, которую он начинает воспринимать отстраненно и с иронией.
Эти художественные особенности перейдут в повесть «День
опричника» и продолжающую ее книгу рассказов «Сахарный Кремль».
Последовавшая за «Голубым салом» книга «Пир» (2000),
вероятно, писалась во второй половине 1990-х годов183. Она состоит
из тринадцати разножанровых произведений, объединенных
единством замысла: «Это первая сознательная книга о еде, о процессе
181 Киберпанк — поджанр научной фантастики, предполагающий совмещение
высоких технологий с трущобной жизнью. На эту параллель обратили внимание
многие критики: Голынко-Вольфсон Д. Владимир Сорокин // Худож. журн. 2000.
№ 28/29. С. 78-79; Сергеева О. Пелевин—Верников—Сорокин и Великая Русская
Литература // Урал. 1998. № 10. С. 148-156; Вербицкий М. Предательство
Владимира Сорокина [Электронный ресурс] // Imperium. 1999. URL: http://imperium.
lenin.ru/LENIN/151mdg/15.html (дата обращения: 01.10.2011).
182 Сорокин В. «Тоталитаризм — растение экзотическое и ядовитое, крайне
редкое и опасное»: интервью.
183 В 1997 году в журнале «Новое литературное обозрение» (№ 27) было
опубликовано драматическое сочинение под названием «Из книги „Концерт4'»,
переработанный вариант которого будет включен в книгу «Пир» под названием «День
русского едока».
57
еды, о метафизике еды вообще»184. Критика встретила «Пир»
прохладно: отметив стилистическое совершенство книги, рецензенты
расценили ее как «рагу из прошлогоднего зайца»185 и «краткий
путеводитель по Сорокину»186. Нельзя не согласиться с Л.
Рубинштейном в том, что «Пир», как и «Голубое сало», «в каком-то
смысле книга итоговая, ибо представляет собою каталог узнаваемых
сорокинских мотивов, приемов, жанров»187. В то же время итоговый
характер этого произведения, завершающего второй период в
творчестве писателя, проявился не только в обобщении пройденного
пути, но и в задании вектора дальнейшего движения. В этом
смысле «Пир», напротив, стал важным этапом в творческой эволюции
Сорокина, так как свидетельствовал о растущем скептицизме
автора по отношению к постмодернизму и порожденным им
повествовательным моделям.
Особый интерес в этой связи представляет пьеса «ConcretHbie»,
действие которой разворачивается в фантасмагорической России
будущего, уже описанной Сорокиным в первой части «Голубого
сала» сквозь призму писем «биофилолога» Бориса Глогера.
Основное сюжетное событие «ConcretHbix» — посещение героями (одним
парнем и двумя девушками) «trip-корчмы», где они пожирают го-
лографические изображения литературных персонажей. Эта
виртуальная игра ведет к буквальному насыщению concretHbix, которые
в полном смысле слова питаются литературой. Например, роман
Г. Мелвилла «Моби Дик» предстает перед ними «в виде
бесформенного бело-розового куска с красными зонами кульминаций» [III,
355]. Выбрав самую красную зону, герои пьесы попадают в финал
романа. Вооруженные в виртуальном мире мощными челюстями,
они проделывают в телах персонажей Мелвилла «извилистые
кровавые ходы; поглощаемая плоть стремительно переваривается в их
телах и фонтанирует калом из анусов» [III, 356].
В «ConcretHbix» отразилось убеждение Сорокина в том, что
«массы не делают культуру — они ее пожирают и переваривают»188.
Это «пожирание» представлено в пьесе как реализованная
метафора деконструкции. Наряду с этим происходит реализация другой
постмодернистской метафоры — «тело текста». Тем самым дезаву-
14 Сорокин В. Чревовещатель: интервью. С. 79.
i5 Латынина А. Рагу из прошлогоднего зайца // Лит. газ. 2001. № 10. СИ.
6 Рубинштейн Л. Порядок должен быть // Итоги. 2001. № 10. С. 62.
7 Там же.
i8 Сорокин В. Убойное сало: интервью. С. 5.
58
ирование «авторитарной» целостности текста выражается
буквально — как «пожирание» отдельных его элементов.
Проникнув в «Войну и мир», concretHbie исполняют желание
Наташи Ростовой полететь: «ConcretHbie подхватывают Наташу
Ростову, поднимают ее в воздух и несут над спящей Россией. Наташа
визжит. ConcretHbie поднимаются все выше и выше, пока Наташа
не начинает задыхаться от нехватки кислорода. Mashenka
забирается ей в рот, Коля в вагину, Маша в анус. Наташа летит к земле.
ConcretHbie стремительно выжирают ее внутренности с костями
и успевают вылететь из полностью выеденного тела перед самым
падением. Кожа Наташи Ростовой долго планирует над родовым
поместьем и повисает на ветвях цветущей яблони» [III, 360].
В «ConcretHbix» Сорокин образно воплотил собственную
повествовательную стратегию: «Мой процесс манипуляции с
литературой отличается от традиционного с ней обращения. Каждый
писатель имеет свой стиль, он узнаваем. Я же в любой момент могу
его сменить. Я представляю собой тип такого паразита, который
выжирает изнутри тело каждого писателя. Писатели это чувствуют
и не любят меня»189. В пьесе этот процесс манипуляции
литературой передоверен заурядным и недалеким представителям
будущей молодежи, разговаривающим на русско-китайско-английской
тарабарщине, слушающим «музыка1» и еще не «пробировавшим»
литературу. Деконструкция как самодостаточный прием перестает
интересовать Сорокина.
Почти одновременно с книгой «Пир» был издан роман Т. Н.
Толстой «Кысь», в котором модель постмодернистской коммуникации
также подверглась жесткой критике и пародийному осмеянию.
Главным героем «Кыси» Бенедиктом, совмещающим в одном лице фигуры
постмодернистского Скриптора и Читателя, владеет поистине
маниакальная страсть к художественной литературе. Сотнями «пожирая»
произведения прошлого, он, однако, не способен уловить и толики
их смысла ввиду своей оторванности от культурной традиции. По
характеристике М. Голубкова, «„Кысь" — это разрушение
постмодернизма изнутри, средствами самой постмодернистской эстетики; это
деконструкция самой идеи постмодернистской деконструкции»190.
189 Сорокин В. Питерским читателям и писателям надо побольше ходить в кино:
интервью // Климова М. Парижские встречи. СПб., 2004. С. 323-324. Интервью
датировано февралем 1997 года.
190 Голубков M. М. История русской литературной критики XX века (1920-
1990-е годы). М., 2008. С. 340.
59
Итак, во втором периоде творчества понижается роль игрового
начала, авторская позиция постепенно утрачивает былую
многомерность и отстраненность, содержательное начало начинает
доминировать над лингвостилистическими задачами. После затяжного
творческого кризиса писатель создает одно из лучших своих
произведений — роман «Голубое сало», который стал финальным
этапом в осмыслении Сорокиным судеб русской литературы в XX веке
и подвел черту под его деконструктивистским «проектом». Книга
«Пир» закрепила курс на преобладание
проблемно-содержательного начала над лингвостилистическим.
Третий период творчества (2001—2005)
Третий период в творчестве Владимира Сорокина ознаменован
преодолением концептуализма и постмодернизма. Выше было
показано, что смена художественных приоритетов назревала в творчестве
писателя по крайней мере с середины 1990-х годов, но
отчетливое выражение она получила только в романной «Трилогии» —
«Лёд», «Путь Бро», «23 000» (2001-2005). «Я всю жизнь, как
бабочка, летел туда, где есть нектар, пища, в те культурные зоны,
где есть напряжение, — объяснял Сорокин. — Раньше это было
необозримое поле литературного эксперимента. Меня больше
притягивала форма, я чувствовал литературу как некую пластичную
вещь, с которой можно работать. А сейчас я нахожусь как бы
внутри этой вещи, для меня важнее в нее погрузиться. <...> В каждой
книге я пытался осваивать какое-то новое пространство. Раньше
это все-таки было пространство формального усилия. И была
дистанция по отношению к литературе. А сейчас нет»191. Обращение
к жанру романа-мифа с мистической и метафизической
проблематикой свидетельствовало об окончательном отходе писателя от
деконструктивно-демифологизирующих стратегий постмодернизма.
Своеобразной «декларацией» о разрыве с концептуализмом
и постмодернизмом стало уже упоминавшееся эссе «Меа culpa?»,
в котором Сорокин подверг резкой критике
постструктуралистскую философию и филологию: «„Все в мире есть текст!41 — сказал
философ Витгенштейн, и эту сомнительную максиму подхватили
в конце шестидесятых французские философы. Хочется спросить:
а чувство страха — тоже текст? Любовь — текст? Покалывание
в пояснице — тоже текст? Для большинства филологов — да.
191 Сорокин В. «Я не брат Света, я скорее мясная машина»: интервью. С. 1.
60
„Слова покрывают вещи! — скажет любой филолог, знакомый
с именами Фуко и Делеза. — Вместо дерева вы видите образ
дерева, вместо камня — образ камня". Но не все люди на земле видят
вместо камня только его образ. Есть такие, которые видят и просто
камень». Эта неожиданная отповедь увязывалась Сорокиным с
основной проблемой его творчества: «Голова филологов заполнена
книгами до предела. Они видят жизнь только сквозь текст. И
гордятся этим. Навсегда объевшиеся и отравленные литературой, они
воспринимают живую жизнь как продолжение текста, как
приложение к нему»192.
Стратегия борьбы с «натурализацией» текста, прежде
выражавшаяся в акцентировании конвенциональности и «мертвенности»
художественного высказывания, сменяется на противоположную,
деконструкция мифологии замещается ее реконструкцией,
исследование пространства культуры переходит в изучение
действительности. Сорокин не устает говорить об условности своих произведений
и дистанцированности от персонажей. Однако теперь литература
становится для него средством познания действительности.
Задача писателя состоит не в обыгрывании культурных мифологем
и стилистических клише, а в постановке перед читателем
вопросов философско-онтологического характера, заставляющих его
задуматься над смыслом бытия.
Вместе с тем смена художественных приоритетов не коснулась
конститутивного принципа сорокинской поэтики: необходимости
дистанцирования от объекта, отстраненного и остраненного его
восприятия — меняется лишь сам объект. Писатель переводит свой
«холодный», «нечеловеческий» взгляд с художественной
реальности на жизненную. Абсурд как литературная категория, остра-
ненное восприятие различных дискурсов, уступает место абсурду
онтологическому — отчужденному восприятию действительности.
Остранение стало ключевым принципом изображения в
«Трилогии», а концовка романа «Путь Бро» написана с явной
ориентацией на творчество Л. Н. Толстого, который принадлежит к числу
любимых писателей Сорокина193. В этой связи показательно, что
192 Сорокин В. Меа culpa?
193 Отвечая на вопрос Б. Соколова о том, кто ему ближе, Лев Толстой или
Достоевский, Сорокин сказал: «Все-таки Толстой. Мне нравится его желание все
пропустить через себя. Он очень высоко ценил личный опыт. Ничего не брал на
веру просто так. Был очень критичен и самокритичен. Я периодически перечитываю
его дневники. Они меня подпитывают. Мне близок его образ жизни. Я, как и он,
очень люблю природу, люблю деревья и животных. Толстой в описаниях очень ви-
61
«Трилогия» стала развитием давней идеи Сорокина, воплощенной
в его теоретической рефлексии по поводу акции группы
«Коллективные действия» «Произведение изобразительного искусства —
картина». Это эссе было написано в пору уверенного причисления
себя к концептуалистам и постмодернистам194.
Незадолго до окончания «Трилогии» вышел сборник рассказов,
сценариев и либретто «Четыре» (2004). Открывающие сборник
рассказы «Волны» и «Черная лошадь с белым глазом» выдержаны
в неореалистической стилистике, в то время как рассказ
«Хиросима» и сценарий к фильму И. А. Хржановского «4» тяготеют к
гротескно-фантастической образности. И в том, и в другом случае
неизменным остается стремление к максимально точному
отображению действительности и опора на кинематографические приемы.
«Тексты, вошедшие в „4й, собраны по сходству повествовательной
оптики, для которой характерны бесстрастность, внимательность
и отстраненность видеозаписывающего устройства — камеры, —
констатирует Ю. Идлис. — Именно этой нейтральностью, нулевой
степенью эмоциональности в описании страшных событий Сорокин
и достигает необходимого повествовательного эффекта: читателю
становится ясно, что перед ним как бы не прикрытый
„литературностью" поток жизни, который чудовищен. Именно нейтральность
этих страшных жизненных обстоятельств становится центром
повествования в сборнике „Четыре", превосходя все ужасы „говноед-
ства" и прочего языкового экстремизма. Жизнь страшнее
литературы; еще в ранних своих вещах Сорокин утверждал эту простую
истину, для которой теперь придумал почти идеальный минус прием.
Не говорит, но сразу показывает»195. Особняком в сборнике стоит
либретто оперы Л. А. Десятникова «Дети Розенталя», в которой
писатель предпринял попытку создать новый миф: «Это никакая не
деконструкция, никакой не постмодернизм, напротив, — попытка
создания новой мифологии»196; «Постмодернизм предполагает до-
зуален. Это мне тоже очень близко. Единственное, что мне в нем не близко, — это
его учительство и дикая переоценка нравственности русского народа. Но это был
не только его грех» (Сорокин В. «Я всю жизнь больше всего доверял собственным
ощущениям»: интервью // Культура. 2006. № 34. С. 4).
194 Сорокин В. Об акции группы «Коллективные действия» «Произведение
изобразительного искусства — картина» // Поездки за город. С. 703-706. Генезис
замысла «Трилогии» рассматривается в третьей главе книги.
195 Идлис Ю. Говорит и показывает // Новое лит. обозрение. 2005. № 75.
С. 324, 326.
196 Сорокин В. По Большому: интервью // Итоги. 2005. № 10. С. 65.
62
статочно сильную самоиронию, а эта опера получилась довольно
серьезной. По сути это трагедия. Там будет мало смеха, а слезы
возможны»197.
Основанием для выделения третьего периода в творчестве
Владимира Сорокина является специфическая поэтика «Трилогии».
«Максимально простые изобразительные средства», с помощью
которых автор стремился передать «содержательную идею»198,
четко отграничивают это произведение, с одной стороны, от
«Голубого сала» и «Пира», а с другой — от творчества 2006-2010 годов.
Устремленность к созданию «новой мифологии», прямота
авторского высказывания, пристальное внимание к действительности
свидетельствовали об окончательном отходе автора от деконструк-
тивно-демифологизирующих стратегий постмодернизма. «Похоже,
его (Сорокина — M. М.) занимает психология человека, зыбкость
границ между добром и насилием, скептицизмом и верой,
тотальным разочарованием в мире и готовностью претворять в жизнь
утопию», — отметила в проницательном разборе «Трилогии» А. Н.
Латынина, подчеркнув, что «стилистические задачи у Сорокина всегда
часть содержательной стратегии»199.
Четвертый период творчества (2006 — наст, вр.)
В произведениях Сорокина 2006-2010 годов разрабатывается
хронотоп России будущего с определенным набором
характеристик: причудливое переплетение фантастики и архаики, мощное
китайское влияние, ярко выраженная национальная специфика,
большая роль мифологических и фольклорно-сказочных
элементов. На первый план выходит философско-экзистенциальная и
гражданско-политическая проблематика, при этом вневременные
проблемы органично сочетаются с остросовременными. Сложные
интертекстуальные игры и стилизации уходят вглубь
художественной ткани произведений, становятся неотъемлемым
элементом их поэтики.
197 Сорокин В. «Многие будут плакать»: интервью [Электронный ресурс] //
Полит.ру. 2005. URL: http://www.polit.ru/culture/2005/03/09/sorokin.html
(дата обращения: 01.10.2011).
198 Сорокин В. «Я написал „Лед" вместе с собакой Саввой»: интервью
[Электронный ресурс] // Грани.Ру. 2002. URL: http://www.grani.ru/Culture/
Literature/m.6372.html (дата обращения: 01.10.2011).
199 Латынина А. Сверхчеловек или нелюдь? // Новый мир. 2006. № 4. С. 138,
140.
63
Четвертый период открывается антиутопической повестью
«День опричника» (2006), которая составляет своеобразную
дилогию с романом «Голубое сало»: «Если „Голубое салои — это
2068 год, то в „Опричнике" описывается как бы первая
половина этого временного промежутка, по которому Россия неуклонно
движется»200. Действие повести разворачивается в
фантасмагорической России 2028 года, будущим которой стало ее прошлое: после
ряда «смут» страна вернулась в эпоху Ивана Грозного, восстановив
православную монархию вместе с опричниной и отгородившись от
Европы Великой Русской Стеной. По словам Сорокина, эта
«фантазия на русскую тему»201, решеная в оригинальной ярмарочно-лу-
бочной стилистике, стала его возвращением «к авторскому
свободному языку»202 после сдержанно-отстраненного повествовательного
стиля «Трилогии».
Как уже говорилось, в отсутствии чувства настоящего писатель
видит одну из основных черт русского менталитета. Гротескное
слияние футуристичности и архаики, впервые реализованное в
«Голубом сале», приобрело в «Дне опричника»
злободневно-политическое содержание и историческое обоснование. По мнению
Сорокина, «в Мавзолее должен лежать Иван Грозный»203, так как именно
он создал модель централизованного государства, разделенного на
всесильную опричнину и бесправную земщину, заложив тем самым
основу для личной деспотии и государственного террора.
«Шизофреническое» мышление Ивана IV писатель считает определяющим
для всей последующей истории России, будь то самодержавная
монархия, авторитарный советский строй или современное
государство с идеей «вертикали власти». Мысль о внутренней изоморф-
ности советского строя деспотии Ивана Грозного ранее
высказывалась Н. А. Бердяевым: «Советское государство <...> есть
трансформация идеи Иоанна Грозного, новая форма старой гипертрофии
государства в русской истории»204.
200 Сорокин В. «Перестройка у нас еще и не начиналась...»: интервью
[Электронный ресурс] // Взгляд. 2006. URL: http://www.vz.ru/culture/2006/8/29/46870.
html (дата обращения: 01.10.2011).
201 Сорокин В. «Мой „День опричника'4 — это купание авторского красного
коня»: интервью // Известия: прил. «Неделя». 2006. № 155. С. HI.
202 Сорокин В. «Перестройка у нас еще и не начиналась...».
203 Сорокин В. «В Мавзолее должен лежать Иван Грозный»: интервью //
Коммерсантъ. 2008. № 149. С. 14.
204 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 152.
64
Как и в случае с осмыслением исторической роли русской
литературы в «Голубом сале», в «Дне опричника» Сорокин развивает
идеи русской философии, связанные с именем Н. Бердяева.
Неразличение литературы и действительности, равно как и
неспособность России расстаться с традициями феодальной деспотии
Сорокин причисляет к основным особенностям «русского абсурда»,
который мутирует лишь внешне, а внутри не меняется с XVI века:
«Мне кажется, что у нас существует просвещенный феодализм,
помноженный на высокие технологии. Современные феодалы ездят
не в каретах, а на шестисотых „Мерседесах". И хранят свои деньги
не в сундуках, а в швейцарских банках. Но ментально они не
отличаются от феодалов XVI века»205.
Объектом сатиры в повести стали не только националистические
и консервативно-патриотические силы, но и либеральная и
оппозиционная интеллигенция, включая философов и литераторов
постмодернистской ориентации: «Первый канал передает книгу какого-то
Рыкунина „Где обедал Деррида?" с подробнейшим описанием мест
питания западного философа во время его пребывания в
постсоветской Москве. Особенное место в книге занимает глава „Объедки
великого"»206. В «Дне опричника» писателю удалось подобрать
«метафору для современной России»207, изобразив нашу эпоху в
пародийно-сатирическом свете. На очередном витке творческой
эволюции Сорокин органично соединил искусные стилизации и языковые
игры с философской проблематикой и отчетливо выраженной
гражданской позицией: «В каждом из нас живет гражданин. Во времена
Брежнева, Андропова, Горбачева и Ельцина я постоянно старался
гражданина в себе отодвигать на задний план, уговаривал себя, что
я художник. <...> Сейчас гражданин во мне проснулся»208.
Написанная специально для театра «Практика», пьеса
«Капитал» (2007) была издана в составе «полного собрания»
драматических произведений Сорокина. По словам автора, «Капитал» — это
пьеса о «магическом сознании людей», а импульсом для ее
написания было «мифологическое отношение к деньгам в нашем обще-
205 Сорокин В. «Феодализм с высокими технологиями»: интервью [Электронный
ресурс] // Inopressa. 2006. URL: http://web.archive.org/web/20070113015255/
http://www.inopressa.ru/standard/2006/12/11 / 14:49:51 /sorokin (дата
обращения: 01.10.2011).
206 Сорокин В. «Русский абсурд внешне мутирует, хотя внутри не меняется с
XVI века»: интервью // Газета. 2007. № 50. С. 26.
207 Сорокин В. «В России вполне бы ужились высокие технологии и телесные
наказания на площадях»: интервью // Газета. 2008. № 147. С. 19.
208 Сорокин В. «Темная энергия общества»: интервью. С. 88.
65
стве — обществе неофитов капитализма»209. Большинство
рецензентов отметили, что «Капитал» выдержан в стилистике
производственной драмы, которая абсурдизируется за счет использования
развернутой реализованной метафоры и заумных лексем. Замена
производственной тематики финансовой, завода банком, а
производственного процесса банковской операцией отражает реалии уже
современной России. «На самом деле абсурд мутирует, — сказал
писатель. — Формально он сейчас, безусловно, несколько другой,
чем в брежневское время. За этим мутантом нужно пристально
следить, чтобы описать его адекватно. Что я и попытался сделать.
<...> Мой подход изменился отчасти потому, что жизнь в России
стала рациональнее. Но абсурда и маразма не убавилось. Один мой
приятель сказал, что посоветовал бы прочитать „Капитал" каждому
топ-менеджеру»210.
В «Капитале» также есть политические мотивы. Пьеса
заканчивается описанием корпоративной игры с говорящим названием
«Задави ходора!», суть которой состоит сначала в задавливании
при помощи специальных щипцов своих коллег, а затем в
выдавливании из себя постыдных воспоминаний, материализованных
в виде мохнатых шаров — «ходоров». «За эти годы Ходорковский
превратился в символ, — считает Сорокин. — И этого символа
боятся мои персонажи, потому что он заставляет их вспомнить
что-то чувствительно-неуютное, что надо вытеснять из памяти, что
мешает работе»211. По характеристике Л. Новиковой, в «Капитале»
писателю «удалось навести мостик между отработанными до
автоматизма приемами и новой реальностью»212, увенчав корпус своих
драматических сочинений.
Продолжением и развитием тематико-стилистического
комплекса «Дня опричника» стала книга рассказов «Сахарный
Кремль»213 (2008). Смена формы повествования от первого лица
209 Сорокин vs Бояков: интервью // Капитал: программа спектакля. М., 2007.
С. 8.
210 Сорокин В. «Русский абсурд внешне мутирует, хотя внутри не меняется
с XVI века»: интервью.
211 Сорокин В. «Писатель — враг государства»: интервью [Электронный
ресурс] // Time Out. 2007. 15 окт. URL: http://www.timeout.ru/journal/
feature/1737/ (дата обращения: 01.10.2011).
212 Новикова Л. Рецензия // Коммерсантъ. 2007. № 45. С. 22.
213 Образ «сахарного Кремля» впервые появился в одноименном
рождественском рассказе (Известия: прил. «Неделя». 2006. № 243. С. Н12, Н29). Существенно
расширенный и переименованный в «Марфушину радость», этот рассказ стал
открывать книгу. О первой редакции произведения см.: Марусенков М. П. Образ
66
на хоровое многоголосье позволила Сорокину дать панорамную
картину фантасмагорической России будущего, описать жизнь
разных социальных слоев, от заключенных и калик до царской семьи
и сотрудников Тайного Приказа. Такая композиционная
организация заставляет вспомнить первую часть романа «Норма»; к ней
недвусмысленно отсылает и центральный образ книги. «Сахарный
Кремль», который едят и лижут все персонажи, — это новое
олицетворение порабощающей государственной идеологии, пришедшее
на смену советской «норме». Сознательный возврат к первому
периоду творчества ощущается также в рассказах «Очередь»
(сокращенный «ремейк» одноименного романа) и «Письмо» (вариация
пятой части «Нормы» и, одновременно, рассказа «Сердечная просьба»
из сборника «4»). Двойная вторичность «Сахарного Кремля» (по
отношению к «Дню опричника» и произведениям 1980-х годов)
мотивировалась убежденностью Сорокина в том, что Россия
возвращается в прошлое и «остается верной любовницей тоталитаризма»214.
По той же причине писатель счел нужным опубликовать свои
ранние рассказы и повести в виде сборника «Заплыв».
По сравнению с «Днем опричника», «Сахарный Кремль»
отличается более высоким уровнем политизации. Показателен рассказ
«Кабак» — первая в творчестве Сорокина адресная политическая
сатира с элементами памфлета: «Мелькает-перекатывается в дыму
табачном какой-то Пургенян, как говорят, известный надуватель
щек и испускатель ветров государственных, бьют друг друга воблой
по лбу двое дутиков, Зюга и Жиря, шелестит картами краплеными
околоточный Грызло, цедят квасок с газом цирковые, разгибатель
подков Медведко и темный фокусник Пу И Тин, хохочет утробно
круглый дворник Лужковец, грустно кивает головою сладенький
грустеня Гришка Вец»215.
Столь же прямолинейные аллюзии содержит пьеса «Занос»,
написанная вскоре после выхода «Сахарного Кремля» и включенная
в сборник рассказов «Моноклон» (2010). В ее начале главному
герою — состоятельному бизнесмену — снится сон, в котором он
приносит сундук с золотым песком в дар статуе «Великого Ме-
сахарного Кремля в одноименном рассказе В. Г. Сорокина // История русской
литературы XX-XXI веков в литературоведении, литературной критике и
журналистике: материалы XII Шешуковских чтений. М., 2008. С. 321-326.
214 Сорокин В. «Россия остается любовницей тоталитаризма»: интервью
[Электронный ресурс] // Грани.Ру. 2005. URL: http://www.grani.ru/Culture/
Literature/m.86612.html (дата обращения: 01.10.2011).
215 Сорокин В. Кабак / / Он же. Сахарный Кремль. С. 188.
67
допута» — образ, очевидно отсылающий к «правящему тандему»
Д. А. Медведева и В. В. Путина. Абсурдные ситуации из
современной российской действительности, вроде расстрела бывшим
майором милиции Д. В. Евсюковым покупателей в супермаркете,
практически без художественной обработки вводятся Сорокиным в
повествовательную ткань («Тимка»). По мнению автора, с каждым
годом в российском обществе увеличивается концентрация абсурда
и гротеска, «и этот сборник как раз попытка нащупать эту самую
концентрацию гротеска»216. Подобно сборнику «4», «Моноклон»
лишен стилистической целостности и объединяет как новые, так и
публиковавшиеся прежде произведения Сорокина217.
«Классическая русская повесть» «Метель» (2010), как
определил ее жанр сам автор218, продолжает линию «Голубого сала» —
«Дня опричника» — «Сахарного Кремля» (и нескольких
произведений малых жанров): ее действие происходит в фантасмагорических
декорациях России будущего. Гражданско-политическии подтекст
уступил место философско-экзистенциальному, при сохранении
тематического ядра: «метафизика русской жизни и русского
пространства», неразличение прошлого и будущего, неустроенность
русской жизни, «неучтенность человека» и его затерянность среди
огромных пространств и т. д. «Поломки всех этих вещей, плохие
дороги и то, что зимой путники никак не могли найти дорогу, потому
что она никак не обозначена и никому это не нужно — это и есть
русская жизнь. Другой она не будет», — убежден Сорокин219.
Повесть обладает множественными интертекстуальными
связями, как внешними — по отношению к классической русской
литературе, так и внутренними — по отношению к предшествующим
произведениям Сорокина. Изоморфность сюжетной структуры
произведения романам «Очередь» и «Сердца четырех» дает основание
216 Сорокин В. «Для писателя здесь — Эльдорадо»: интервью [Электронный
ресурс] // Time Out Москва. 2010. 13 сент. URL: http://www.timeout.ru/journal/
feature/14452/ (дата обращения: 01.10.2011).
217 Рассказы «Черная лошадь с белым глазом», «Волны» и «Кухня» были
впервые опубликованы в сборнике «4», пьеса «Занос» известна по онлайн-публи-
кации (OpenSpace.ru. 2009. 4 мая. URL: http://www.openspace.ru/literature/
projects/ 175/details/9708/ (дата обращения: 01.10.2011)), рассказ «Путем крысы»
публиковался на официальном сайте писателя под заглавием «Мишень» (Владимир
Сорокин. 2006. 6 янв. URL: http://www.srkn.ru/texts/mishen.html (дата
обращения: 01.10.2011)). Заглавие было изменено, очевидно, для того чтобы избежать
путаницы с фильмом А. Зельдовича «Мишень» по сценарию Сорокина (2011).
218 Сорокин В. Обнять Метель: интервью // Известия. 2010. № 57. С. 7.
219 Там же.
68
выделить в творчестве Сорокина абсурдистский протосюжет,
связанный с движением по направлению к постоянно ускользающей
цели. Художественное пространство повести имеет глубокую сим-
волико-аллегорическую перспективу. Центральный образ-символ
и одновременно главное действующее лицо — Метель —
выполняет функцию фатума древнегреческой трагедии. Метель продолжает
череду «ледяных» образов Сорокина — экспликантов категории
возвышенного: космический лед в «Месяце в Дахау»,
замороженные сердца в «Сердцах четырех», бесценная коллекция замороже-
ных щей в пьесе «Щи», божественный лед в «Трилогии».
Ориентация на классику в «Метели» лишена иронического
характера и строится по принципу преемственности. По словам
писателя, эта ориентация не была намеренной и обусловлена
естественными причинами: «Если вы сядете зимой в сани где-нибудь
за Валдаем и поедете, в вас проснется не Брет Истон Эллис, а
Некрасов или Тургенев»220. Органичная как для русской литературы,
так и для творчества Сорокина, повесть «Метель» в очередной раз
продемонстрировала устремленность автора к воплощению
вневременной, глобальной проблематики, российского «коллективного
бессознательного» и «русской метафизики».
Резюме введения
Творчество В. Г. Сорокина представляет собой единый текст,
цельность которого обусловлена общими для всех составляющих его
произведений аксиологическими и эстетическими установками
автора, используемыми им художественными приемами и
множественными интертекстуальными перекличками.
Анализ литературных произведений и свидетельства самого
писателя позволяют выделить в творчестве Сорокина четыре
основных периода, связанных с доминированием определенных
художественно-аксиологических комплексов. Несмотря на
несомненную самобытность, творческая эволюция Сорокина является
отражением общего развития русской литературы последней четверти
XX века, с ее переходом от позднего модернизма к постмодернизму
и дальнейшей трансформацией последнего.
В фокусе творчества Сорокина всегда находились не лингвости-
листические игры и узкоспециальные проблемы смыслопорожде-
ния, но онтологическая проблема существования зла. Исследова-
220 Там же.
69
ние природы зла в виде его непосредственного репрезентанта,
насилия, обусловило обращение Сорокина к феномену тоталитаризма
как концентрированного выражения разнообразных форм насилия.
Размышления над причинами возникновения этого феномена
привели писателя к выводу о его литературном происхождении, что
вызвало необходимость в деконструкции сначала соцреалистиче-
ской, а затем и собственно реалистической литературы, которая,
как считает автор, породила соцреализм.
По этой причине многие произведения Сорокина отмечены
бескомпромиссной борьбой с литературоцентризмом,
«натурализацией» художественного текста и сакрализацией фигуры поэта или
писателя. Деконструируя жанрово-стилевые каноны
социалистического реализма, классического реализма и классического
модернизма, писатель добивается снятия «мистической паутины» с
литературной деятельности.
В результате онтологическая проблема существования зла
оказалась тесно связана с проблемой соотношения литературы и
действительности, так как, по мысли Сорокина, именно неразличение
живого и неживого, тела и текста было одним из главных
источников насилия в XX столетии. Абсурдистская поэтика стала наиболее
подходящим средством для осуществления десакрализации
литературы из-за своей демифологизирующей природы.
В позднем творчестве Сорокина стратегия борьбы с
«натурализацией» текста, прежде выражавшаяся в акцентировании
конвенциональное™ и «мертвенности» любого художественного
высказывания, сменяется на противоположную, деконструкция мифологии
замещается ее реконструкцией, исследование пространства
культуры переходит в изучение действительности. Сорокин не устает
говорить об условности своих произведений и дистанцированно-
сти от персонажей. Однако теперь литература становится для него
средством познания действительности, а задача писателя состоит
не в обыгрывании культурных мифологем и стилистических клише,
а в постановке перед читателем вопросов философского
характера, заставляющих его задуматься над смыслом бытия. Абсурд как
литературная категория уступает место абсурду онтологическому.
Как будет показано ниже, Владимира Сорокина можно считать
крупнейшим представителем абсурдизма в русской литературе, так
как художественные феномены зауми, гротеска и абсурда являются
системообразующими для его творчества.
70
Заумь
Теоретическая преамбула
Заумь как художественная категория
Заумный язык или заумь в латентном виде существовал испокон
века. Магические заклинания, фольклорные заговоры и детские
считалки неоднократно рассматривались в качестве заумных
текстов221. Многочисленные случаи спонтанного или
полусознательного возникновения зауми можно найти и в литературных
произведениях, как это показал В. Б. Шкловский в классической статье
«О поэзии и заумном языке»222.
Однако как определенный художественный прием и
литературный стиль заумь была впервые осознана русскими футуристами.
В 1913 году А. Е. Крученых выпустил книгу «Помада», в которой
дал лаконичное определение заумного языка:
3 стихотворения
написаные на собственном языке
от др. отличается:
слова его не имеют
определеного значения223
Автор фундаментального исследования «Заумь:
трансрациональная поэзия русского футуризма» Дж. Янечек прокомментировал это
заявление поэта следующим образом: «Ключевые слова здесь
собственном и определенного, первое указывает на то, что искомый
язык — это принадлежность или самих стихотворений, или, шире,
их автора, и не находится в широком употреблении, а второе — на
то, что в этом языке значение, даже для самого автора, неясно,
смутно, сознательно неопределенно и не может быть определено»224.
221 См., напр.: Левкиевская Е. Е. Заумь как разновидность ритуальной речи
славян // Славянские древности. М., 1999. Т. 2. С. 279-282; Чередникова М. П.
Смысл и «бессмыслица» считалок // Русский фольклор. СПб., 1996. Т. 29. С. 14-30.
222 Шкловский В. Б. О поэзии и заумном языке / / Он же. Гамбургский счет.
М., 1990. С. 45-58. См. также: Якобсон Р. Заумный Тургенев // Он же. Работы
по поэтике. М., 1987. С. 250-253.
223 Крученых А. Стихотворения, поэмы, романы, опера. СПб., 2001. С. 55.
224 Janecek G. Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism. San Diego,
71
Появление зауми как самостоятельного художественного
феномена Янечек связывает с книгой Крученых «Помада», а
точнее, с первым стихотворением этой книги, знаменитым «Дыр бул
щыл...»225. В данной работе мы будем придерживаться именно
такого понимания заумного языка, хотя в литературоведении
существуют иные точки зрения. Так, А. А. Ревякина полагает, что
«Крученых вульгаризовал воспринятую у Хлебникова идею „заумного
языка44, истолковывая ее как индивидуальное творчество,
лишенное общеобязательного смысла»226. В. Ф. Марков, в свою очередь,
разграничивает «две теории зауми — Хлебникова и Крученых»227.
Это разграничение обосновывает А. Н. Черняков, который
предлагает разделять заумные «линии» Хлебникова и Крученых по
критериям «системность vs. внесистемность», «регламентированность vs.
нерегламентированность», «статичность vs. динамичность»228.
По характеристике Б. Я. Бухштаба, Хлебниковым была создана
«философия „заумного языка44», и заумь как художественный
прием была лишь частью этой философской системы. «Быть может,
даже не самую важную для Хлебникова-теоретика часть его теорий
использовала поэтика футуристов, — утверждает Б. Бухштаб. —
„Поэтический язык44 — только один из адресов его заумного языка,
теория поэтического языка — одно из приложений теорий языка
вообще. Темы рассуждений Хлебникова относятся к языку вообще,
вопросов поэтики он касается редко и лишь попутно. Направление
его исследования — чисто семантическое. Смысл — единственное,
что его интересует в слове. Как будто странно для „заумника44, —
но Хлебников в своих рассуждениях ни словом, ни краем мысли не
касается вопросов звучания речи. Фонетическими качествами слов
его теория не интересуется»229.
Применительно к авангардистской литературе первостепенно
понимание зауми как особого художественного приема или
стиля — вне зависимости от того, является ли такая интерпретация
1996. Р. 53. Здесь и далее перевод мой — M. М.
225 История появления и восприятия этого «бессмертного творения» подробно
рассмотрена в статье Н. А. Богомолова «„Дыр бул щыл" в контексте эпохи»: Новое
лит. обозрение. 2005. № 72. С. 172-192.
226 ревякина А А. Футуризм // Лит. энцикл. терминов и понятий. Стб. 1159.
227 Марков В. Ф. История русского футуризма. СПб., 2000. С. 295.
228 церНЯКОв А и. Заумь как лингвистический феномен // Языкознание:
современные подходы к традиционной проблематике. Калининград, 2001. С. 190-202.
229 Бухштаб Б. Философия «заумного языка» Хлебникова // Новое лит.
обозрение. 2008. № 89. С. 55-56.
72
«вульгарной» по отношению к хлебниковской концепции
«звездного языка». В связи с этим «умная» заумь Хлебникова в рамках
данной работы не рассматривается.
Заумь стала отличительной чертой сначала русского, а затем
и мирового авангарда, открыв дорогу таким феноменам, как
абсурдизм и автоматическое письмо, и отразив в литературе
движение изобразительного искусства к беспредметным и коллаж-
ным формам. «И вот теперь, сегодня, — писал В. Шкловский
в 1914 году, — когда художнику захотелось иметь дело с живой
формой и с живым, а не мертвым словом, он, желая дать ему лицо,
разломал и исковеркал его. Родились „произвольные" и
„производные" слова футуристов. <...> Слишком гладко, слишком сладко
писали писатели вчерашнего дня. <...> Необходимо создание
нового, „тугого" (слово Крученых), на видение, а не на узнавание
рассчитанного языка. И эта необходимость бессознательно
чувствуется многими»230.
За короткий период времени дань зауми в русской литературе
отдали такие несхожие между собой писатели, поэты и художники,
как А. Е. Крученых и В. Хлебников, И. Г. Терентьев и А. В. Ту-
фанов231, И. М. Зданевич и О. В. Розанова. Подлинный расцвет
заумного словотворчества связан с деятельностью в Тифлисе
в 1917-1920-х годах «дуэта трех идиотов» — А. Крученых, И. Те-
рентьева и И. Зданевича, — образовавших в 1919 году «Компанию
41°». По характеристике И. Е. Васильева, эта группа «развивала
принципы футуризма в его наиболее радикальных художественно-
эстетических проявлениях, созвучных исканиям западных
дадаистов и сюрреалистов»232.
230 Шкловский В. Б. Воскрешение слова / / Он же. Гамбургский счет. С. 40-
42.
231 Как считает автор энциклопедической хроники «Русский авангард» А. В. Кру-
санов, поэтом-заумником А. Туфанова назвали по недоразумению: «Это ученый,
исследовавший пространственное восприятие фонем. Его заумь — это разумно
созданная поэтическая конструкция, которая воспринимается как заумь, но может быть
расшифрована при наличии ключа к ней» (Крусанов А. В. Русский авангард: в 3 т.
Т. 2. Кн. 2. М., 2003. С. 92).
232 Васильев И. Е. Русский литературный авангард начала XX века (группа
«41°»). Екатеринбург, 1995. С. 3.
73
Классификация зауми
Под понятием «заумный язык» обычно имеют в виду некую
фонетическую абракадабру. Фонетическая заумь является самым
распространенным вариантом заумного языка, но далеко не единственным.
В статье «Классификация зауми» Дж. Янечек предложил выделять
четыре основных способа создания заумных текстов, опираясь на
введенное Крученых понятие «сдвига». «Сдвиг — это техника или
метод, заумь — результат», — полагает Янечек233.
Фонематическая заумь возникает в ситуации, когда «буквы
представлены в комбинациях, не образующих опознаваемые
слова» («Дыр бул щыл...» А. Крученых, «лидантЮ фАрам» И. Здане-
вича). В случае морфологической зауми «используются
опознаваемые морфологические компоненты (корни, префиксы, суффиксы)
в новых комбинациях» («Заклятие смехом», «Любхо» В.
Хлебникова). Синтаксическая заумь появляется, «когда каждое слово
в абзаце по отдельности — это полностью стандартное слово в
стандартной форме, но синтаксические отношения между словами
грамматически неверные, сдвинутые или нарушенные» («Они знак
делают...» А. Крученых). Супрасинтаксическая заумь
рождается, если «все слова в тексте стандартные и находятся в
грамматически верной синтаксической структуре, однако значение слов
все же не образует связный, внятный смысл, <...> их значение
смутно или неопределенно» («И вот развесили сотню девушек...»
А. Крученых)234. В книге «Заумь» Янечек сохранил данную
классификацию, заменив обозначение «фонематическая» на более точное
«фонетическая».
Предпосылки к выделению видов заумного языка заложил сам
Крученых. В монографии «Заумный язык у Сейфуллиной, Вс.
Иванова, Леонова, Бабеля, А. Веселого и др.» (1925) поэт предпринял
попытку теоретического обоснования и одновременно расширения
границ понятия «заумный язык». С точки зрения Крученых,
заумным может считаться любое слово или выражение, в котором
«форма доминирует над материалом», выразительная сторона
преобладает над содержательной. Подчеркивая, что «нельзя всякую
чушь называть заумью», поэт выделяет «фонозаумь» —
«угадывание через звук или выявление звуком нашего подсознательно-
233 Janecek G. A Zaum' Classification // Canadian-American Slavic Studies. 1986.
Vol. 20. No. 1-2. P. 40.
234 Ibid. P. 40-45.
74
го» и заумь, при которой фразы «сдвинуты с обычной смысловой
позиции»235. В более ранней «Сдвигологии русского стиха» (1922)
Крученых разграничивал «смысловой сдвиг», под которым понимал
«двусмысленность, каламбур, чтение между строк, параллельный
смысл, символизм» и «сюжетный сдвиг»236.
Заумь как неведомый язык
В исследовательской литературе не раз отмечалось, что восприятие
зауми сходно с восприятием незнакомого или полузнакомого языка.
Разбирая стихотворение Крученых «Дыр бул щыл...», Н. Нильсон
пишет: «Это стихотворение преимущественно состоит из сочетаний
звуков, которые очень похожи на слоги и слова „обычного языка"»,
тем самым побуждая читателя попытаться расшифровать его
«посредством кода, который представляется самым оптимальным, т. е.
язык самого поэта»237.
Теоретически любое незнакомое слово может показаться
читателю заумным. В их числе могут быть неологизмы, диалектные,
устаревшие, малоупотребительные слова. В первую очередь
сходство с заумными лексемами имеют транслитерированные слова
неизвестного иностранного языка. «Сдвигология» диктует отход от
норм родного языка, что ведет к обращению к другим наречиям.
В книге «Взорваль» (1913) Крученых пишет о мгновенном
овладении «поэтом современности» всеми языками (подобно
христианским апостолам) и помещает свои заумные стихи на японском,
испанском и еврейском языках238. Наиболее последовательно этим
приемом пользовался Зданевич. По характеристике А. Крусанова,
его «дра» созданы приемом «фонетической записи русской речи,
грузинского, армянского, персидского, турецкого и других
языков, а также элементами заумной речи»239. Как отмечает Т. Л.
Никольская, заумь Зданевича «персонифицирована и разнообразна».
В «дра» «Янко крУль албанскАй» «Немиц ыренталь говорит на
своеобразной зауми с немецким акцентом, включающей такие сло-
235 Крученых А. Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, Бабеля,
А. Веселого и др. М., 1925. С. 12, 14, 42.
236 Крученых А. Сдвигология русского стиха. М., 1922. С. 35, 39.
237 Nilsson N. Krucenych's Poem "Dyr bul scyl" // Scando-slavica. 1986. Vol. 24.
P. 140.
238 Крученых А. Взорваль. СПб., 1913. С. 28.
239 Крусанов А. В. Указ. соч. С. 315.
75
ва, как „мутир", „драй", „даси, „дюрер"». В пьесе «асЁл напракАт»
«в монологах Зохны, главной героини, встречаются слова и части
слов, характерные для тюркских языков, такие как „абдахха", „ага-
Еги", а также дагестанские и абхазские топонимы и гидронимы,
например „кубахчие" и „агвапсоу". В этой драме также можно
обнаружить характерную для произведений Е. Гуро заумь, основанную
на имитации финского языка: „Оль лиЕли льели"»240.
Вместе с тем, как указывал И. И. Ревзин, «для построения
стихотворения на заумном языке поэт берет не любые допустимые
сочетания, а, как правило, те, которые избегаются в
естественной речи»241. На эту же особенность зауми обращал внимание
Р. О. Якобсон: «Для заумной речи рассматриваемого типа
характерны чуждые практической речи звукосочетания; так, у Хлебникова:
1) зияние (лиээй и т. п.); 2) твердость согласных перед е (вээоми
и т. п.); 3) необычные группы согласных (ср. особенно „Мудрость
в силке" и ,,Каи)»242.
Художественное воздействие, производимое заумью на
читателя, строится на внешнем сходстве заумного языка с каким-либо из
известных наречий и фактическом несоответствии ему.
Эксперимент с созданием неведомого языка можно считать тем успешнее,
чем тоньше грань между известным и неизвестным наречием.
Заумь как сакральный язык
Одним из первых на связь футуристической зауми с заклинаниями
сектантов обратил внимание В. Шкловский. По мнению
литературоведа, именно в сектантском «языкоговорении» заумный язык
является в своем «чистом» виде: «Сектанты отождествили
заумный язык с глоссолалией — с тем даром говорить на иностранных
языках, который, по словам „Деяний св. апостолов", получили они
в день Пятидесятницы»243. Опираясь на книгу Д. Г. Коновалова
«Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» (Сергиев
Посад, 1908), Шкловский утверждал, что «явление языкоговорения
чрезвычайно распространено, и можно сказать, что для
мистических сект оно всемирно»244.
240 Никольская Т. Л. О драматургии И. Зданевича // Она же. Авангард и
окрестности. СПб., 2002. С. 63-65.
241 Ревзин И. И. Модели языка. М., 1962. С. 21.
242 Якобсон Р. О. Новейшая русская поэзия / / Он же. Указ. соч. С. 313.
243 Шкловский В. Б. О поэзии и заумном языке. С. 54.
244 Там же. С. 55.
76
На связь заумного языка с народным мистицизмом
указывали сами футуристы. В программной статье «Наша основа» (1919)
В. Хлебников писал: «То, что в заклинаниях, заговорах заумный
язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него
особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду
с разумным»245. А. Крученых не раз цитировал в своей
публицистике упомянутую работу Коновалова246. Попытки имитировать язык
заклинаний встречаются и в его поэтической практике.
Анализируя стихотворение Крученых «Зима» (1922), И. М. Сахно пишет:
«Перед нами типично заговорно-магический, „колдовской" текст,
изображающий шаманское действо — некая словесная
„абракадабра" сопровождается звуковой имитацией ветра, вьюги, что
предвещает появление злых или добрых духов»247.
Интересно отметить, что при чтении своих заумных стихов сам
Крученых иногда напоминал публике шамана. «Выступал
Крученых, — вспоминает современница поэта, — и беззастенчиво
крутил „великий русский язык". Декламируя свои нечленораздельные
„дыр, бул, щыл", он сам крутился на сцене волчком, присвистывал,
закатывал глаза и завывал, напоминая собой то сибирского шамана,
то индийского заклинателя змей... Крученых аплодировали долго.
Он снова выходил и „заумно" подвывал. Было жутко и весело»248.
Аналогичное свидетельство присутствует в дневнике Гуго Бал-
ля — дадаиста, который в 1916 году придумал новый вид
стихотворений: «стихи без слов». Описывая первое публичное чтение своих
«звуковых стихов», поразительно похожих на фонетическую заумь
Крученых, Г. Балль писал: «Я заметил, что мой голос, не найдя
другого выхода, выбрал каденцию церковного песнопения, ритм от-
певальных молитв Востока и Запада. Я не знаю, что подсказало мне
именно эту музыку. Но я начал в церковном стиле распевать
речитативом ряды гласных и пытался не только изобразить серьезность,
но и заставить себя быть серьезным. <...> Потом, как я заказывал,
погас свет, и меня, обливающегося потом, снесли вниз с подиума
как некоего магического епископа»249.
245 Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 628.
246 Напр.: Крученых А. Взорваль. С. 23; Хлебников В., Крученых Α., Гуро Е.
Трое. СПб., 1913. С. 27.
247 Сахно И. М. Русский авангард: Живописная теория и поэтическая практика.
М., 1999. С. 36.
248 Цит. по: Сухопарое С. М. Алексей Крученых: судьба будетлянина. München,
1992. С. 108.
249 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. М., 2002. С. 105-106.
77
Как видно из приведенных примеров, и у сектантов, и у
русских футуристов, а позднее и у дадаистов произнесение лишенных
общеобязательного смысла сочетаний звуков ассоциировалось с
сакральным актом. Между художественной заумью и мистическими
заклинаниями существует прочная ассоциативная связь.
«Фонологика» заумного языка
В 1919 году в книге «Крученых Грандиозарь» Терентьев писал, что
«вместо расслабленной поэзии смысловых ассоциаций» Крученых
предлагает «фонологику, несокрушимую, как осиновый кол»250.
В более поздней статье «О разложившихся и
полуразложившихся» (1928) поэт утверждал, что «заумное слово, не до конца
осознанное слушателем, действует непосредственно на его слуховой
рефлекс, без участия логического трансформатора»251.
Описанный Терентьевым эффект проще всего проследить на
примере «Дыр бул щыл...», которое стало эталоном зауми в
русской литературе. Одна из самых известных и обстоятельных
интерпретаций этого произведения (и двух других, составляющих
с «Дыр бул щыл...» триптих) принадлежит Дж. Янечеку. После
скрупулезного анализа он вынужден был заключить:
«Истолкователь сталкивается с непреодолимым препятствием, в особенности
если он рассчитывает найти какую-то однозначную расшифровку,
единственное решение данной поэтической загадки. Текст
Крученых, как можно думать, предполагает не одну, а множество
интерпретационных версий, причем ни одна из них не лучше и не хуже
другой. В конечном счете мы должны принять как непреложную
истину большую долю намеренной неопределенности
стихотворений. И тем не менее перед нами весьма организованная вещь. <...>
Иными словами, каждое из стихотворений имеет свой
неповторимый характер, свою эмоциональную тему»252.
Полемика о том, вкладывал ли Крученых какой-то смысл в свое
произведение, вероятно, бесконечна253. Существенно другое: на
первый взгляд, бессмысленное, это стихотворение провоцирует
читателя на поиск в нем смысла, но ни одна из предлагаемых версий
250 Терентьев И. Собр. соч. Bologna, 1988. С. 221.
251 Там же. С. 289.
252 Янечек Д. Стихотворный триптих А. Крученых «Дыр бул щыл» //
Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе XX века. Грозный, 1991.
С. 40, 42-43.
253 Основные интерпретации приведены в упомянутой статье Н. А. Богомолова.
78
не может считаться адекватной авторскому замыслу и тем более
окончательной. Судить о степени корректности той или иной
точки зрения также затруднительно. Мнение о том, что это набор
бессмысленных звукосочетаний, и мнение, согласно которому за
ними стоит вполне определенный смысл, имеют равное право на
существование.
В принципиальной неопределенности, изначальной размытости
смысла, постоянном колебании на грани осмысленности и
бессмыслицы, ума и безумия состоит важнейшая особенность зауми как
художественного феномена.
Заумь и деконструкция
Рассматривая деятельность заумников в исторической
ретроспективе, нельзя не отметить определенную близость между их
творческими исканиями и теорией и художественной практикой
постмодернизма. В частности, можно провести типологическую параллель
между заумью и таким краеугольным для постмодернистской
философии и эстетики понятием, как деконструкция.
Касаясь этого вопроса, Янечек пишет: «Похоже, что Деррида
движим той же антипатией к детерминистическому складу ума,
что и Крученых. Только в случае Деррида целью стала
преимущественно западная философия, которая попыталась зафиксировать
правду лингвистическими средствами (письмо), которые, по
мнению Деррида, в своей основе лишены определенности. Он
предпринимает блестящую атаку на строгую систему структурализма
и, в его терминологии, логоцентризм. В своем анализе очевидно
бесконечной регрессивности языка, в котором нет слов с конечным
и даже определенным значением, он фактически пропагандирует
заумную философию»254.
Стремление к смысловой недооформленности художественного
высказывания, порождающей потенциально бесконечный ряд
интерпретаций, — не единственная особенность заумного творчества,
которая сближает его с литературой постмодернистского толка.
Отмечая пристальное внимание заумников к устной речи и способам
ее артикуляции, И. Васильев приводит255 следующее характерное
высказывание Р. Барта: «Состоя из звуков, производимых языком
254 Janecek G. Zaum. P. 350.
255 Васильев И. Ε. Русский литературный авангард начала XX века (группа
«41°»). С. 23.
79
как телесным органом, письмо вслух имеет не фонологическую,
а фонетическую природу: его цель не в ясности сообщения и не
в зрелище страстей; стремясь к наслаждению, оно грезит о
событиях-импульсах, о том, чтобы прикоснуться к нежной кожице языка,
о тексте, позволяющем ощутить фактуру гортани, патину
согласных, сладострастие гласных, всю стереофонию потаенной плоти —
телесную артикуляцию языка как произносительного органа, а не
смысловую артикуляцию языка как средства коммуникации»256.
Апеллируя к все большему распространению звучащей поэзии,
Крученых создал свою теорию «сдвигологии русского стиха»,
которую можно рассматривать в качестве протодеконструктивистской
техники. В соответствующем «трактате» он уже не просто
утверждает заумный язык в качестве особого поэтического приема или
стиля, но пытается «озаумнить» всю русскую поэзию. Воспринимая
ее на слух, фонетически, Крученых находит в звуковой ткани стиха
созвучия («звуковые пятна»), соответствующие иным словам, чем
те, которые передал на письме автор. Несколько отдельных лексем
или части соседних слов сливаются в одно — это может быть
уже известное слово или неологизм /окказионализм. В результате
в произведении отыскиваются новые смыслы, разрушающие его
семантическую целостность.
Пушкинская строка «Узрю ли русской Терпсихоры»
превращается в «Узрюли русской Терпсихоры» («Узрюли — глазища?!» —
вопрошает Крученых); блоковский стих «О, сколько музыки
у Бога» — в «О, сколько музыки убого»; брюсовское «И шаг твой
землю тяготил» — в «Ишак твой землю тяготил» и т. д.257 То, что
прежде считалось ошибками слуха, становится методологическим
принципом, призванным доказать «поэтическую глухоту» едва ли
не всех поэтов, не исключая и футуристов. «Сдвигов надо ждать
в каждой строчке, — утверждает Крученых, — а если прибавить
еще внутренние рифмы да сдвиговые образы и синтаксис — то
и выходит, что все стихи — сплошной сдвиг!»258.
«Сдвигология русского стиха» и деконструктивистское чтение
преследуют одну и ту же цель: придать тексту семантическую
неопределенность, допускающую как минимум два равноправных про-
256 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 517-518.
257 Крученых А. Сдвигология русского стиха. С. 5, 8, 15. Крученых цитирует,
соответственно, XIX строфу из первой главы «Евгения Онегина», стихотворения
А. Блока «В ночи, когда уснет тревога...» (1898) и В. Брюсова «Наполеон» (1901).
258 Там же. С. 14.
80
чтения, вскрыть иллюзорность его смысловой целостности. В
одном случае основанием для такого подхода служит постулируемая
постмодернистами цитатная природа любого текста, в другом —
фонетическое восприятие прежде визуального, позволяющее
узаконить ошибки слуха в качестве иного варианта прочтения.
В этой связи закономерно, что в 1940-1960-е годы Крученых,
по словам С. Сигея, «не писал заумных стихотворений, но зато,
с таинственной усмешкой, переписывал классическую русскую
литературу... Эта его работа очень понятна в контексте нынешних
споров о „постмодернизме"; великий футурист оказался первее
„самых первых отечественных постмодернистов41»259.
Указанные типологические схождения позволяют понять,
почему заумь возродилась в 1980-е годы в творчестве таких поэтов, как
И. Холин (цикл «Дорога Ворг»), С. Сигей, Ры Никонова и других.
Неоднократно обращался к зауми Д. А. Пригов (особенно
показателен цикл «В смысле»), которого можно считать ключевой фигурой
русской постмодернистской поэзии.
Заумный язык в творчестве Сорокина
За исключением отдельных упоминаний, рецепция зауми в
творчестве Владимира Сорокина практически не изучена, и
рассмотрение этой проблематики представляется крайне важным не только
для понимания своеобразия художественного метода писателя, но
и для рассмотрения судеб заумного языка в русской литературе
XX века.
По признанию автора, до знакомства с соц-артом он
«воспринимал исторический и культурный процессы оборванными в 20-е
годы и постоянно жил прошлым — футуристами, дадаистами,
обэриутами»260. Обращение к заумному языку — этому
ярчайшему авангардистскому феномену — выглядит вполне закономерным
в контексте эстетических предпочтений автора. Тем более что
заумь, как было сказано выше, переживает в русской литературе
1980-х годов второе рождение.
Заумные вкрапления Сорокин причислял к собственно
авторским, нестилизованным фрагментам своих текстов: его авторский
голос звучит «в специфических словах, в глоссолалии, в странной,
259 Цит. по: Гурьянова Н. Биография дичайшего // Крученых А. Е. К истории
русского футуризма. М., 2006. С. 352.
260 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 119.
81
ненормативной, несуществующей лексике, вроде такого — „гнилое
бридо"». Писатель отмечал, что он намеренно разрушает
языковую ткань: «Для меня принципиально важна граница слов, момент
перехода из одной стилистики в другую, ломка стилистических
архетипов»261. При этом использование в своих произведениях
зауми Сорокин возводит в первую очередь не к футуристическим
традициям, но к речи психически больных: «В моих текстах —
стилизация патологической речи, это — попытка введения в литературу
маргинального художественного языка»262.
Обращая внимание на эту особенность заумного
словотворчества писателя, Б. Соколов отмечает, что посредством зауми в
произведениях Сорокина «должен совершаться прорыв из
„нормального" сознания в сознание безумца». Исследователь подчеркивает,
что Сорокин умеет придать «внутренний драматизм» и
«музыкальный лад» даже «заведомой абракадабре»263.
Итак, дистинктивной особенностью заумного языка или зауми
является принципиальная неопределенность, размытость смысла.
В литературной практике выработалось несколько видов
заумного языка, которые Дж. Янечек предложил группировать согласно
системе языковых уровней: фонетическая, морфологическая,
синтаксическая и супрасинтаксическая заумь. В рамках данной
работы также различаются три функционально-тематические
разновидности зауми: неведомый язык, сакральный язык и патологическая
речь. Стремление к смысловой недооформленности
художественного высказывания сближает заумное творчество с деконструкти-
вистскими стратегиями писателей-постмодернистов. Владимир
Сорокин является одним из крупнейших экспериментаторов с
заумными формами в литературе русского постмодернизма.
261 Сорокин В. Вести из онкологической клиники. С. 140.
262 Там же.
263 Соколов Б. Прошедшее будущее Владимира Сорокина. С. 28.
82
Рецепция «классической» зауми
Первые подступы к заумному языку: рассказ «Заплыв»
«Заплыв» был впервые опубликован в составе романа «Голубое
сало». Вскоре он был издан как самостоятельное произведение,
открыв авторский сборник «Утро снайпера», а затем дал название
сборнику ранних произведений Сорокина. Однако создан был этот
рассказ, по свидетельству писателя, на заре его творчества:
«Первый мой рассказ „Заплыв" появился <...> в 1980 году»264; «Его
одобрили люди, которых я очень уважал: Кабаков, Булатов... И я стал
писателем»265. «Заплыв» занимает центральное место в раннем
творчестве Сорокина. Созданный на высоком художественном
уровне, этот рассказ содержит ряд черт, которые получат развитие
в зрелой поэтике писателя. В частности, литературный дебют
Сорокина совпал с обращением к заумному языку.
Как уже говорилось, в «Заплыве» изображается «идеальное»
тоталитарное государство, в котором важнейшие идеологические
цитаты регулярно подвергаются «водному транспортированию»:
тысячи пловцов с факелами в руках синхронно плавают по ночам,
образуя необходимые фразы. Таким способом на глазах у граждан
государства «перевозятся» целые главы. Транспортировка
«первой степени сложности» цитаты из Книги Равенства и показана
в «Заплыве».
В кульминационный момент рутинную процедуру нарушает
непредвиденное событие: главный герой рассказа Иван Монахов по
обыкновению сжимает жестяной конус факела, чтобы на мгновение
избавиться от охватившей руку свинцовой боли, и шов на доселе
прочном корпусе расходится. Объятый пламенем, герой разрушает
стройные ряды пловцов, и вся вторая половина цитаты распадается
на светящиеся точки. Вопреки ожиданиям, уцелевший остаток
фразы приобретает в глазах зрителей новый, еще более значительный
смысл, и они встречают пловцов «громоподобной овацией». В
финале рассказа выясняется, что все это «представление» было заранее
спланировано правящей элитой государства.
264 Сорокин В. «Почему я должен изживать комплексы»: интервью // Веч.
Москва. 2005. № 143. С. 7.
265 Сорокин В. Доктор Сорокин: интервью. С. 88.
83
В «Заплыве» Сорокин создает художественный эквивалент
«идеальной» тоталитарной культуры, воплощая основные интенции как
раннесоветского, так и нацистского культурного проекта. Рисуя
завораживающее зрелище тысячи пловцов, медленно плывущих
ночью с факелам в руках, составляя громадные светящиеся цитаты,
писатель делает образ органичным для обеих культур.
Образ факельщика играл важную роль в культуре Третьего
рейха, символизируя проводника новой жизни. Так, по бокам главного
входа в Рейхсканцелярию стояли две бронзовые скульптуры нагих
атлетов, выполненные Арно Брекером. Один из них держал в
правой руке факел, олицетворяя нацистскую партию, а другой меч,
олицетворяя немецкую армию266. Новобранцы СС, этой военной
элиты Рейха, ежегодно проходили ритуал посвящения: 9 ноября
в 10 часов вечера, в годовщину «пивного путча», они давали клятву
о «покорности до смерти». Место было освещено факелами,
символизирующими «мучеников» путча267. Можно вспомнить и
известные кадры возжигания олимпийского огня из фильма «Олимпия»
Лени Рифеншталь. Культ красоты атлетически сложенного тела,
процветавший в нацистской Германии, получил в этом фильме
наиболее полное выражение.
Преклонение перед телесной красотой присуще и
изображенной в «Заплыве» культуре, хотя оно носит принципиально иной
характер. От непосильных нагрузок, вызванных необходимостью
на протяжении пяти часов держать в вытянутой руке
шестикилограммовый факел, правые руки пловцов-факельщиков становятся
почти вдвое толще левых. В нацистской культуре такая
диспропорция считалась бы уродством, так как нарушала античный идеал
гармонично развитого тела. Однако для Ивана Монахова это знак
превосходства над «гражданскими»: «С ранней весны и до поздней
осени он носил рубашки с короткими рукавами, выставляя напоказ
свою мощную руку. Это было очень приятно»268.
Ощущение превосходства над остальными гражданами
рождается у Монахова не только в силу осознания почетности своей
профессии. Важнее другое: непропорционально развитая правая рука
сближает пловца с представителями правящего класса, так
называемыми «Обновленными». Подобно языческим богам, они
являются миксантропами, то есть обладают человеческими и животными
266 В центре паутины. М., 1997. С. 36-37.
267 СС Адольфа Гитлера. М., 1997. С. 38.
268 Сорокин В. Заплыв. С. 18.
84
чертами. Нам известно, в частности, что Великий Преобразователь
Человеческой Природы Андреас Капидич (который, вероятно, был
основателем данного государства), имел витые рога, а некий Гор-
гэз обладает крыльями. Иначе говоря, в изображаемой культуре
объектом почитания является не плотская красота как таковая,
а «красота» обновленного в форме миксантропизма человеческого
тела. Поэтому любая телесная деформация может восприниматься
носителями этой культуры не как уродство, а наоборот, как знак
символической сопричастности Обновленным. Тем более если эта
деформация возникла вследствие участия в агитационно-массовых
мероприятиях, составляющих ядро государственной культуры.
В такой буквальной, гротескной форме в «Заплыве» воплощена
ключевая для раннесоветского и нацистского режимов идеология
улучшения и преодоления человеческой природы, создания нового
человека, сверхчеловека. С христианской точки зрения она носит
глубоко еретический характер, а изображенное в рассказе
обновление человеческой природы является деградацией, откатом к
языческому мировоззрению.
Авторитарные режимы враждебно относились к христианству,
стремясь поставить на его место сакрализованную
государственную идеологию. Применительно к культуре, изображенной в
«Заплыве», правомерно говорить не просто о сакрализации, но о
наличии подлинной государствообразующей религии, в основе которой
лежит идея обновления и преодоления человеческой плоти. В
рассказе упоминаются «золотые обелиски Храма Преодоления» и
«Канал имени Обновленной Плоти», а один из центральных для этой
культуры текстов — книга Аделаиды Свет «Новые люди».
Религиозность изображаемой культуры помогает понять,
почему цитата из Книги Равенства носит абсурдный характер.
Сакральные и, в особенности, магические тексты нередко обладают
загадочным, таинственным смыслом. «Магически мощное слово, —
писал П. А. Флоренский, — не требует <...> непременно
индивидуально-личного напряжения воли, или даже ясного сознания
его смысла»269. «Религиозная поэзия почти всех народов написана
на <...> полупонятном языке», — отмечал В. Шкловский270,
рассматривая тексты этого типа в качестве одного из генетических
источников заумного языка.
269 Флоренский П. А. Магичность слова / / Он же. У водоразделов мысли. М.,
1990. С. 273.
270 Шкловский В. Б. Воскрешение слова. С. 41.
85
Кажущуюся осмысленность цитаты разрушает, прежде всего,
заумная лексема «боро»271. Значение этого слова остается
неизвестным, хотя именно оно образует семантический центр высказывания.
Изъятие из текста указанной лексемы не проясняет смысл цитаты.
В самом деле, каким образом вопросы целевого строительства могут
быть связаны с усилением контраста? И об усилении какого именно
контраста идет речь? Отсутствие контекста придает цитате из Книги
Равенства неясный, ускользающий смысл, а вкрапление
окказионализма «боро» превращает текст в подлинную заумь. Замыслу
рассказа подчинена не только семантическая, но и стилистическая сторона
анализируемой цитаты, которая представляет собой образчик кан-
целярско-бюрократического текста, напоминающий стиль передовиц
газеты «Правда». «Макроцитата из „Правды" на иврите должна
прозвучать как кусок из Пятикнижья, — считает Сорокин. — Это же
такой же мертвый сакральный язык ушедшей под воду культуры»272.
Процесс разрушения цитаты из Книги Равенства составляет
кульминацию «Заплыва», аккумулируя тем самым основной смысл
рассказа. Как пишет В. Н. Фуре, «социальный опыт архаических
коллективов может быть представлен как чередование двух
основных состояний: а) жизнедеятельности в упорядоченном и
стабильном космосе, священные центры которого обеспечивают надежную
защиту от сил хаоса, вытесненных за границу обустроенного мира;
б) периодической хаотизации космоса при прохождении им
критических точек своего существования <...>. Временная
бесструктурность мира, обнаруживающаяся в архаическом празднестве,
продуктивна — она обеспечивает обновление могущества сакральных
объектов. Формой обязательного человеческого участия в
праздничном обновлении мира и является архаический ритуал. Он
начинается с действий, подчеркнуто противоречащих общепринятым
нормам (погружая тем самым „состарившийся" космос в
плодотворный хаос), и затем последовательно восстанавливает исконный
порядок вещей». Это архаическое мировосприятие возрождается
в тоталитарных культурах, основанных «на вторичной —
идеологической — ритуализации человеческого поведения»273.
271 Она обладает для Сорокина особой эстетической притягательностью.
Впоследствии лексема «боро» встретится в тексте рассказа «Летучка», будет
использована в пьесе «Землянка» и в романе «Голубое сало» (в составе окказионализма BORO-
IN-OUT). Кроме того, имя главного героя «Трилогии», Бро, созвучно слову «боро».
272 Сорокин В. «Процесс порождения текстов протекает у меня как
контролируемый приступ эпилепсии»: интервью.
273 Фуре В. Н. Ритуал // Новейший философский словарь. Минск, 1999. С. 575.
86
Невольным участником такого ритуала становится Иван
Монахов. На протяжении рассказа не раз подчеркивается, что заплыв
был для героя «привычным, до мелочей знакомым» предприятием.
За семь лет службы Монахов 1 018 раз участвовал в агитационных
заплывах (в среднем один заплыв в 2,5 дня), поэтому все его
действия доведены до автоматизма, а возникающие по ходу движения
мысли, эмоции, физиологические реакции воспринимаются им как
естественные в данной ситуации, многократно испытанные прежде.
Несмотря на это, герой не считает участие в заплывах рутинной
деятельностью, которую он вынужден выполнять по долгу
службы. Наоборот, Иван искренне, всем своим существом переживает
величие и грандиозность каждого заплыва: проплывая речную
горловину, он всякий раз не может сдержать «восторженной дрожи».
Монахов живет в полной гармонии с окружающей реальностью,
ему не свойственны какие-либо колебания и сомнения. Подобно
членам архаических обществ, он убежден в незыблемости
существующего миропорядка и полностью удовлетворен своим местом
в нем. Иван «вообще не представлял свою жизнь без этих долгих,
пропахших рекой ночей, без черной, дробящей всполохи пламени
воды, без свинцовой боли, постепенно охватывающей руку с
факелом, без предрассветного завтрака в чистой полковой столовой»274.
Ощущение гармонии бытия поддерживается в рассказе
благодаря использованию в качестве топонимов нарицательных
существительных (Город, Река, Канал), создающих впечатление, что
действие произведения разворачивается в архетипическом
пространстве275. В таком контексте процесс водного транспортирования
горящей цитаты воспринимается как языческий обряд, грандиозная
мистерия, в которую вовлечены полярные первоэлементы воды и
огня. И мистерия эта, по мнению Монахова, повторялась в
неизменном виде «тысячи тысяч раз».
Создавая картину гармоничного и вечного универсума, Сорокин
в присущей себе манере вносит в повествование нотки абсурда.
Цитата из Книги Равенства последовательно проплывает через
разные районы Города. Это выявляет в изображаемом обществе
жесткую иерархическую структуру, противоречащую идее равенства.
Нам известно, что на окраинах Города, после Первого Моста, жи-
274 Сорокин В. Заплыв. С. 15.
275 Вневременное, финалистское мироощущение было свойственно советской
культуре 1930-1950-х годов. Как пишет В. Паперный, «уже к началу войны
культура 2 ощущала себя наследницей всех традиций и итогом всех путей» (Паперный В.
Указ. соч. С. 49).
87
вут рабочие, и лишь достойнейшие из них имеют право наблюдать
с набережной за движением цитаты. После Второго Моста
начинаются Основные районы, жители которых обладают более высоким
социальным статусом. Основные районы заканчиваются Шлюзом,
а за ним находится Особое пространство «с бронзовыми берегами,
золотыми дворцами и невидимыми храмами», предназначенное для
обитания 513 членов общества, каждый из которых стоит
«миллиардов простых смертных» [III, 127] (как отмечалось выше,
финальная часть присутствует не во всех редакциях «Заплыва»).
Очевидно, это и есть те самые Обновленные, воспринимаемые «простыми
смертными» в качестве богов: как только цитата вплывает в устья
Шлюза, люди на набережных перестают аплодировать и
опускаются на колени. Правомерно говорить о существовании в этом
обществе даже не разных классов, а каст, проживающих на отдельных,
специально для них предназначенных территориях276. В то время
как правящая каста обитает в золотых дворцах, низшая каста,
представителем которой является Монахов, живет в бедности. Даже
скудная армейская еда, вроде турнепсового супа и перловой каши
с маргарином, представляется ему вкусной и желанной. Однако
Иван не сознает этих противоречий, в результате чего весь рассказ
строится на контрасте между тем, как воспринимает тоталитарную
идеологию главный герой, и какой она предстает перед читателем.
Трагическое несовпадение между этими представлениями
обнажается в кульминации произведения.
То, что обновление ритуала осуществляется в «Заплыве»
посредством своеобразной деконструкции, вполне естественно.
Агитационно-массовое искусство водной транспортировки горящих
цитат могло возникнуть только в литературоцентричной культуре,
подобной советской. Наблюдая за потерей смысловой целостности
фрагмента сакрального текста, зрители становятся свидетелями
погружения в первозданный хаос. Это погружение носит как
символический, так и буквальный характер: пловцы хаотично мечутся,
стремясь восстановить прежний порядок. Разрушение лишь
утверждает истинность ритуала: «великий смысл» на мгновение по-
276 В декларативно провозглашаемом равенстве при фактическом неравенстве
нельзя не увидеть еще одну аллюзию на советский строй, основной социальный
принцип которого Дж. Оруэлл выразил в знаменитом афоризме: «Все животные
равны, но некоторые животные равнее других». По мнению В. Паперного, иерархия
культуры 2 в целом соответствовала индийской иерархии: вождь был столь же
бесконечно далек от народа, сколь далек в индийской философии интеллект от
брахмана (Паперный В. Указ. соч. С. 119-120).
88
терян — для того, чтобы выявить другой, еще более значительный:
«Когда стиснутая двумя крутолобыми Я запятая ярко вспыхнула,
зрители на набережных поняли, что это и есть тот самый Третий
Намек, о котором говорил крылатый Горгэз на последнем
съезде Обновленных. Мощная овация надолго повисла над Каналом.
<...> Когда ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ
СОВРЕМЕННОГО ЦЕЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БОРО ЯВЛЯЛСЯ Я
благополучно проплыло Второй Мост, разделяющий своим чугунным
телом два сословия, Основные массы встретили огненные слова
такой громоподобной овацией, что огни факелов затрепетали, грозя
потухнуть»277.
Неведомый язык в рассказе «Летучка»
Подобно «Заплыву», рассказ «Летучка» сначала публиковался в
составе более крупного произведения — романа «Норма», но
написан он был в 1980-1981 годах как самостоятельное произведение.
В «Летучке» Сорокин осуществил единственный в своем творчестве
обширный эксперимент с фонетической заумью. По грандиозному
для выбранного стиля объему и виртуозности исполнения этот
рассказ вполне может соперничать с пьесой И. Зданевича «лидантЮ
фАрам» (1923), которая считается самым большим произведением
в русской литературе, написанным на фонетической зауми.
Основное сюжетное событие «Летучки» — собрание
редколлегии литературного журнала, посвященное обсуждению одного
из последних номеров издания. Начало «летучки № 1430», номер
которой указывает на рутинный, казенный характер мероприятия
(в обычной жизни летучки, разумеется, никто не считает),
происходит в обстановке необъяснимой торжественности. Художник
и ретушер с помощью «седоволосого старичка» приколачивают
к редакционной доске огромное, пять на пять метров, объявление.
Афиша площадью 25 кв. м могла бы уместиться в колонном зале,
но никак не в редакции литературного журнала. Неожиданным
оказывается сигнал к началу собрания: его дает ответственный
секретарь, выстрелив сигнальной ракетой в мусорную урну.
Повествование в гротескном ключе с самого начала отличает «Летучку»
от остальных частей романа «Норма», которые открываются
имитацией реалистического стиля.
Сорокин В. Заплыв. С. 21, 23.
89
Начиная обсуждение очередного номера журнала, дежурный
критик Бурцов произносит монолог: «Ну, если говорить в целом, я
номером доволен. Хороший, содержательный, проблем много. Оформлен
хорошо, что немаловажно. Первый материал — „В кунгеда по обо-
моро" — мне понравился. В нем просто и убедительно погор могарам
досчаса проборомо Гениамрос Норморок. И, знаете, что меня больше
всего порадовало? — Бурцов доверительно повернулся к устало
смотрящему в окно главному редактору. — Рогодтик прос. Именно это.
Потому что, товарищи, главное в нашей работе — логшано процук,
маринапри и жорогапит бити. К этому родогорав у меня впромир оти
енорав ген и кроме этого — зорва...» [I, 301].
Слова естественного и заумного языка выступают в
заключительной части «Нормы» как равноправные элементы, составляя
единое целое, некое гибридное наречие. К такому объединению в свое
время призывал А. Крученых: «Чередование обычного и заумного
языка — самая неожиданная композиция и фактура (наслоение
и раздробление звуков) — оркестровая поэзия, все сочетающая
Замауль!..»278. Употребляя термин «оркестровая поэзия», Крученых
опирался на концепцию «многовой поэзии» Зданевича,
подразумевавшую «многоголосое многотемное создание»279. В отличие от
деятелей группы «41°», Сорокин сочетает заумь не просто с языком
повседневного общения, но с литературным языком соцреализма.
Заумь — выражение крайнего волюнтаризма,
индивидуалистического произвола в искусстве — сплавляется в «Летучке» в одно
гротескное целое со стилем соцреализма, долженствовавшим стать
единым для всей советской литературы.
По наблюдению Р. Циглер, «Крученых был чужд системному
лингвистическому мышлению»280, поэтому свести его заумные
эксперименты в целостную систему вряд ли возможно. Убежденным
сторонником «закона случайности в искусстве» был также И. Те-
рентьев281. В «Летучке» Сорокин создает фонетическую заумь,
стилистически близкую поэтическим экспериментам Крученых и Те-
рентьева. Об этом, в частности, свидетельствует обилие звучных
и/или труднопроизносимых сочетаний согласных, не характерных
278 Крученых А. Аполлон в перепалке (живопись в поэзии) / / Он же. К
истории русского футуризма. С. 295.
279 Цит. по: Крусанов А. В. Указ. соч. С. 303.
280 Циглер Р. Поэтика А. Е. Крученых поры «41°». Уровень звука //
L'avaguardia a Tiflis. Venezia, 1982. С. 41.
281 Терентьев И. Маршрут шаризны: Закон случайности в искусстве / / Он
же. Указ. соч. С. 233-234.
90
для русского языка. Вместе с тем писатель предпринимает попытку
построить некую лингвистическую систему, превратить
фонетическую заумь в заумный язык в прямом смысле слова. Это
достигается постоянным повторением в речи персонажей определенных
звукосочетаний. У читателя возникает ощущение, что герои
«Летучки» говорят на каком-то своем, им одним понятном наречии.
Так, семибуквенная комбинация «опроенр» встречается в тексте
семь раз, причем четыре раза она появляется в качестве
самостоятельного слова, два раза в составе слова «опроенранр» и один раз
в составе слова «опроенра». Шестибуквенное сочетание «анркнр»
возникает четыре раза: «ранркнрвпе», «оанркнре», «проанркнр»
и «анркнр». Пятибуквенная комбинация «лоанр» встречается
восемь раз, причем слова «лоанренпе», «лоанренр» и «лоанре», в
состав которых она входит, повторяются дважды. Сочетания с
меньшим количеством букв еще более частотны. Приведенные
примеры можно воспринимать как однокоренные слова или словоформы
в неведомом языке.
В тексте «Летучки» также встречаются близкие по
звучанию слова: «долоаренр» и «долаоенр», «огоаркнр» и «огаоркнр»,
«опренр» и «опреонр». Первые два примера можно рассматривать
как чередование гласных в корне, а последний — как случай с
беглой гласной. Иногда похожие сочетания звуков попадаются вместе,
что создает впечатление наличия словоизменения или однокорен-
ных слов: « — Ха, ха, ха! Допроер Бурцов опренр\ — Сибирь
опреонр чавс, Боря!»; «Да и я тоже, товарищи, допорао, но если б
дпора ено!»; «И в этом простом апевакау щофшоено вашу сразу
угадывается» (курсив мой — M. М.) [I, 302, 304, 306].
Еще большее сходство с естественным языком заумь «Летучки»
приобретает благодаря контексту и включенности в стандартные
для русского языка синтаксические конструкции. Это побуждает
читателя к поиску смысла в предложениях, который иногда удается
уловить. Когда после прочтения стихотворения один из
присутствующих замечает «хорошие допро», очевидно, что это означает
«хорошие стихи». Если заместитель главного редактора говорит «Гриша,
не орпва его», обращаясь к прервавшему выступление дежурного
критика ответственному секретарю, это означает, скорее всего,
«Гриша, не перебивай его». Аналогичным образом смысл фразы
«Лопн! Дайте рпонарен Боре!», обрывающей обсуждение какого-то
вопроса, можно понять как «Стоп! Дайте закончить Боре!». Однако
в большинстве случаев смысл лишь смутно угадывается.
91
Ощущение естественности происходящего укрепляют
конструкции «о котором уже говорилось», «я повторяю», «в буквальном
смысле слова» и т. п., постоянно употребляемые вместе с
заумными словосочетаниями. Как и в первой части «Нормы», которая
будет подробно рассматриваться во второй главе работы,
ненормальное и противоестественное воспринимается героями Сорокина как
совершенно нормальное и необходимое, что создает абсурдистский
эффект.
Все это говорит о том, что мы имеем дело не со спорадическим
вкраплением в текст произвольных сочетаний букв, как могло
показаться на первый взгляд, а с продуманной повествовательной
стратегией. Чтение «Летучки» схоже с восприятием текста на
незнакомом иностранном языке, когда очевидно, что это не
случайный набор букв, сгруппированных в слова, а именно что текст,
обладающий невнятной для нас, но определенной языковой логикой.
Конечно, описать использованную в «Летучке» заумь с
лингвистической точки зрения, рассмотреть ее как искусственный язык
не получится, так как отмеченные выше тенденции не носят
регулярного характера. Но Сорокин и не стремится к
конструированию полноценного языка собственного изобретения. Ему важно,
формально сымитировав некоторые языковые особенности, создать
иллюзию того, что герои «Летучки» говорят на каком-то
диковинном наречии. В то же время писатель последовательно разрушает
ее посредством введения трудных или невозможных для
произнесения сочетаний звуков и вкрапления невероятных буквенных
комбинаций.
Заключительная часть романа сначала легко поддается
прочтению, но постепенно количество труднопроизносимых комбинаций
возрастает, заставляя воспринимать «Летучку» как визуальное
произведение. В тексте начинают все чаще встречаться случаи зияния
(«ноаглыоего», «долаоенр», «уаеак»), множественного скопления
согласных («енргвокрн», «оворкнрпс», «арпврпкнп»), а также
невозможные в русском языке комбинации букв («щыапчмас», «проь-
соаьльон», «цюдбол»). Пальму первенства держит слово «рпор-
пнранрыуаукавжщиого». Сорокин нередко начинает слова с буквы
«ы» («ыцу», «ыук», «ыдлкнр»), совмещает буквы «щ» и «ш» («ушщ»,
«кщшнго»), «к» и «г» («прорагокго», «кговнр») и т. д. В
большинстве случаев необычные или невозможные в русском языке звуко-
и буквосочетания комбинируются с естественными слогами.
Точные и вариативные повторы звукосочетаний в «Летучке»
можно рассматривать в качестве своеобразных рифм, а сам текст,
92
таким образом, допустимо читать как стихотворение в прозе.
В 2005 году современный московский композитор Б. Филановский
с успехом осуществил попытку пропеть сорокинскую заумь в
пьесе «Нормальное». Заумную часть текста «Летучки» Филановский
воспринял как «виртуозные дадаистские стихи»282. Действительно,
в этом произведении очень много «благозвучных» мест: «Далее
следует проранре Федора Мигулина на орпоренр Виктор Фокин. Феде,
как говгоренр, а Вите опроенра шощы апвпа енокнре, товарищи,
это поренра» [III, 305];
— Это опренрна динамизм?
— Ну... опренра она вначале. А опренр — оаренр вяло.
— Долронг?! Лоанренр — вяло?!
— Лоаноено мое мнение... опнренра Рыков удачи — неудачи...
— Гоанре лволо профессионал?!
— Огоаука, ранре Рыков. Что ж опгоего дола?
— Длолнгог века!
— Длоргонг — впекаеа лично.
— Длшылгуо, мотарт голословно!
— Лоанре все равно.
— Влвнрнрап ота!
[III, 310].
На такой вывод наталкивает и тот факт, что заумь в первую
очередь реализовывалась именно в поэтическом творчестве,
причем заумники подчеркивали необходимость декламации для
правильного восприятия своих произведений. Терентьев отмечал, что
читать заумные стихотворения «самостоятельно никто не умеет
по причине общей звуковой безграмотности»283, а Крученых, как
было сказано выше, «озаумнивал» русскую поэзию, воспринимая
ее только на слух.
Особый интерес в этой связи представляют три стихотворения,
помещенные в тексте «Летучки» в качестве образцов соцреалисти-
ческой поэзии. Как и в «прозаической» части рассказа, иллюзия
осмысленности в этих стихах создается, прежде всего, благодаря
употреблению слов естественного языка. Они задают контекст
восприятия, играют роль ключевых слов, побуждающих читателя к
догадкам о тематике произведений.
282 Филановский Б. «Нормальное» [Электронный ресурс] // Борис
Филановский. 2005. URL: http://www.filanovsky.ru/ru/normal.html (дата обращения:
01.10.2011).
283 Терентьев И. Г. Кто леф, кто праф / / Он же. Указ. соч. С. 287.
93
Можно предположить, что первое стихотворение («Разби, рао-
про тишину...») рассказывает о стройке (бетонный, кирпич) в
условиях дикой природы (тишина, дубы, ветер), причем о стройке
подневольной (офицер, Иванов), которая представляется автором как
героическая (отважный). Тематика второго стихотворения
(«Сроям дебо кодатся иды...») менее определенна: слова «иды», «кед»,
«земля», «вес», «небосклон» не составляют единой картины. Зато
о содержании третьего стихотворения («Юнаприйся вара под ре-
фыук лесом...») можно судить уже с долей уверенности: речь идет
о дружной работе бригады лесорубов на Урале (лес, простор,
сосновый, бригада, припев, Урал).
Предложенные интерпретации достаточно произвольны, но они
демонстрируют саму возможность нахождения в этих
стихотворениях смысла. Направления этого поиска могут быть самыми
разными и индивидуальными для каждого читателя. Тем не менее,
в «Норме» Сорокин обращается и к теме каторжных
социалистических строек (прозаическая миниатюра «Степные причалы» в
седьмой части), и к теме лесоповалов (стихотворение «Январь блестит
снежком на елках...» в четвертой части).
Словоформы естественного языка влекут за собой
синтаксические связи, наделяя соседние заумные лексемы синтаксическими
ролями, а значит, и связанной с ними абстрактной семантикой.
При этом концовки многих заумных лексем совпадают с флексиями
русского языка, что создает впечатление, будто они стоят в
подобающей случаю грамматической форме. В конструкции «И пусть оза
кудыт!» лексема «кудыт» воспринимается как глагол третьего лица
единственного числа в роли сказуемого при подлежащем «оза» —
существительном женского рода единственного числа.
Аналогичным образом строку «Сроям дебо кодатся иды» можно представить
в виде «(кто/что?) иды (что делают?) кодатся (как? или где?)
сроям дебо», а строку «Юнаприйся вара под рефыук лесом» в виде
«(что делай?) юнаприйся (кто/что?) вара под (каким?) рефыук
лесом». «Грамматическая оформленность» может семантизировать
и отдельно стоящие заумные словосочетания: «(что делать?) зоро-
быть (что?) герофи (сущ. мн. ч.)». В приведенных примерах
синтаксические роли определяются довольно отчетливо, в большинстве
же случаев они менее ясны и вариативны.
Кроме того, некоторые заумные лексемы имеют звуковой облик,
схожий со словами естественного языка: «разби» — разбей, «взо-
ро» — взор, «сосами» — сосать, «горлуху» — горло, «мамада» —
94
громада и т. д. Иногда возникающие по причине звукового подобия
семантические ассоциации оказываются релевантными. Например,
в последней строке третьего стихотворения заумная лексема «ма-
мада» ассоциируется с «громадой», так как за ней следует
семантически сочетаемое слово «Урал», а в следующем далее
словосочетании «шаролукова звуки» напрашивается толкование лексемы
«шаролукова» как обозначения птицы.
Как и в случае с тематикой стихотворений, аналогии могут быть
иными. Дело не в конкретных гипотезах, а в том, что указанные
заумные лексемы составлены из естественных для русского языка
звукосочетаний, вызывающих ассоциации с теми или иными
словами, а звуковые подобия влекут семантические аналогии. В
результате в сознании читателя формируется «облако» не до конца
осознанных, остаточных смыслов, бессвязных семантических следов,
причем для каждого реципиента это «облако» будет уникальным.
Созданию иллюзии осмысленности также способствуют
формальные признаки стихотворений. Кубофутуристы
противопоставляли свое творчество предшествующей русской поэзии и, в первую
очередь, лирике символистов, рубленым ритмом и грубыми
звукосочетаниями разрушая плавное течение и напевность
символистского стиха. Сорокин стремится к противоположному эффекту.
Все три произведения написаны традиционным стиховым
размером, несчетное количество раз опробованным в русской
поэзии — разностопным ямбом. Писатель сознательно избегает
употребления в этих текстах труднопроизносимых сочетаний, поэтому
стихи легко поддаются декламации. В отличие от большинства
заумных стихотворений, Сорокин строго расставляет знаки
препинания, не следуя характерному для футуризма пренебрежению
правилами синтаксиса. Ощущению «классичности» формы
способствуют четкая строфика, плавный ритм произведений и эвфония
(«олако олону», «жеск обеск»). В фонике триптиха преобладает
звук «р», который нередко сочетается с «л»: «Юнок, первогробны,
юнок, межлагуре, / Мамада Урал, шаролукова звуки!». Общий
патетический настрой угадывается за счет постоянного употребления
восклицательных знаков. Суммируя сказанное, со стиховедческой
точки зрения перед нами традиционная, ничем не примечательная
гладкопись, типичная для соцреалистической поэзии284. Но эти сти-
284 Как отмечает Е. Добренко, под влиянием провозглашенного РАППом лозунга
«учебы у классиков» в советской поэзии появилась «стилевая „гладкость", своего рода
„стерильность" <...> письма» {Добренко Е. Формовка советского писателя. С. 357).
95
хи написаны на заумном языке, в результате возникает явный
оксюморон — заумная соцреалистическая поэзия.
Заумь в «Летучке» обладает остраняющей функцией: резкая
смена привычного языка описания придает избитым
соцреалистическим темам неожиданную новизну. Аналогичным приемом
воспользовался, например, Г. Балль в стихотворении «Облака»
(Wolken), где он «прибегнул к избитой лирической теме облаков,
ветра и дождя и с помощью зауми вновь сделал ее приемлемой
и свежей»285. Данное обстоятельство нужно рассматривать в
контексте художественных манипуляций Сорокина с каноническим
соцреалистическим стилем, не последнюю роль в которых играло
стремление вдохнуть в «мертвые», с точки зрения автора, тексты
новую жизнь. Это давало возможность воспринимать соцреализм
как эстетический, а не идеологический феномен, и тем самым
помогало выйти из-под его дискурсивной власти.
Однако акцентирование одних лишь различий между языком
соцреализма и заумным языком было бы односторонним подходом
к проблеме. Несмотря на кричащий контраст, между ними
имеется явное сходство, состоящее в искусственном характере обоих
явлений. Подобно зауми, язык соцреалистических произведений
находился на значительном удалении от языка бытового общения.
Б. Гройс полагает, что соцреализм был настолько чужд
«настоящим вкусам масс», что место официального метода советской
литературы могла с тем же успехом занять заумь286.
С утверждением Гройса можно не соглашаться, но в
брежневскую эпоху изжитость соцреалистических форм ощущалась уже
многими. В первую часть «Нормы» не случайно включен диалог
между Эрой и Аней, которые обсуждают творчество «члена
союза [писателей]». «Муть мутью», — говорит Эра про его
производственный роман, который она «еле до конца осилила», а сборник
рассказов с деревенской тематикой характеризует следующим
образом: «Вроде и ничего, но, с другой стороны, — сколько
можно?». В другой миниатюре художник Самотеев дарит своему более
успешному коллеге Барвицкому пластмассовые гвоздики со
словами: «Малюй дальше, лакировщик! Бабу с веслом еще не написал?
285 Ораич Толич Д. Заумь и дада // Заумный футуризм и дадаизм в русской
культуре. Bern, 1991. С. 66.
286 Гройс Б. Стиль Сталин //Он же. Утопия и обмен. М., 1993. С. 15. «Мне
не все близко в творчестве Гройса, — говорил Сорокин. — Но есть вещи, которые
всегда со мной: „Стиль Сталин'4, например» (Сорокин В. «Процесс порождения
текстов протекает у меня как контролируемый приступ эпилепсии»: интервью).
96
Пионера с горном? Трудись! <...> Золотые рамки не заказал еще?»
[I, 28-29, 65].
Особенно остро неадекватность соцреалистического языка
социокультурной ситуации того времени ощущалась в среде
андеграунда, представителям которого было свойственно восприятие всего
советского строя как тягостного абсурда, затянувшейся нелепицы.
«Когда-то, на рубеже 70-80-х, — вспоминает Л. Рубинштейн, —
одним из любимых наших занятий было коллективное смотрение
телевизора с обширным комментированием происходящего. Так,
например, следя за программой „Время", мы мечтали, чтобы кто-
либо из Дикторов (желательно Дама в белой блузке) неожиданно
начал страшно материться с экрана. Нам казалось, что это было бы
не только разрешением, но и оправданием этого
суперофициального, стерилизованного телерадиостиля. В этом виделся и слышался
некий катарсис»287. Представить себе дикторов, изъясняющихся на
заумном языке, было бы в данном случае не менее уместным, чем
мысленно заставить их «страшно материться».
Клишированность и безличность соцреалистических формул
перестает быть негативным фактором, оказавшись на орбите
авангардистского искусства. Оторванность соцреализма от
современной жизни позволяла рассматривать его как сугубо эстетический,
не связанный с действительностью феномен. Аналогичным образом
заумный язык был крайней формой языкового остранения.
Крученых предлагал рассматривать заумь как высшее суггестивное
выражение поэзии. Опираясь на разграничение практического и
поэтического языка, введенное формальной школой, он считал заумь
конечной формой языка поэтического.
Таким образом, при всей разнице между ними, язык соцреализма
и заумный язык были двумя искусственными, герметическими
явлениями, поэтому объединение их в рамках одного текста было столь
же неожиданным, сколь и закономерным шагом. Это объединение,
с одной стороны, дает эффект взаимного остранения: беседа героев
соцреалистического произведения на заумном языке кажется столь
же неуместной, как и обсуждение героями заумного произведения
образчиков производственной и деревенской прозы. С другой
стороны, гибрид соцреализма и зауми образует, по выражению Рубин-
287 Рубинштейн Л. Предисловие к пьесе В. Сорокина «Пельмени» //
Искусство кино. 1990. № 6. С. 158. Бытовую практику комментирования телепередач
Сорокин концептуализировал в пьесе «С Новым годом», использовав ее для
деконструкции телевизионного дискурса.
97
штейна, «адекватность иного порядка», гротескную реальность, в
которой неустранимые противоречия действительности сосуществуют.
То, как именно Сорокин разрушал коды советской
литературы, не раз становилось предметом анализа. Важно отметить, что
у такого подхода есть не только деструктивная, но и
конструктивная функция. Несмотря на отрицательное отношение к
советскому строю, Сорокин в 1980-е годы с восхищением относился
к созданной этим строем культуре288. В данном случае правомерно
говорить о подлинной деконструкции, предполагающей не столько
разрушение определенного дискурса, сколько его пересоздание289.
Нельзя не отметить художественную виртуозность и тонкий
языковой слух, которые демонстрирует Сорокин, сочиняя заумные
лексемы. Звуковой облик некоторых из них естественен для носителя
русского языка, другие, напротив, режут слух невероятным
сочетанием звуков, но общей чертой остается «сочность» звучания,
удивительная органичность сочетания заумных и обычных лексем:
«Следующим идет... мораг итаса Александра Палыча. Это прога щаромира
прос тилывк нор. Очень прогвыва керанорп, очень полозар. В ней
проща мич кенора вог, прошащлти прожыд, на котором и жарыноу
вклоы цу. Тема, я повторяю, чаранеке имрпаиш, но Александр Палыч
буквально женощло митчы джав, о котором уже говорилось» [I, 301].
Для творчества Сорокина характерна высокая степень
формальной строгости и продуманности, литая конструкция. В этом
отношении его заумь сближается с заумными экспериментами Зда-
невича. Характеризуя драматургию последнего, В. Марков писал:
«Зданевич никогда не подписывался под алеаторными теориями
своих коллег; он был „классиком" заумного языка и созидал его
288 Напр.: «Я читаю сейчас „Семь цветов радуги4' Немцова, роман 47-го года,
о том, как группа комсомольцев-изобретателей поехала в глухую деревню. Они там
вырыли гигантские теплицы и, используя энергию земли, стали разводить какие-то
невиданные фрукты. Это просто сногсшибательное произведение, чрезвычайно
оригинальное, которое доставляет массу удовольствия» (Сорокин В. Текст как
наркотик: интервью. С. 122); «Я, например, предпочитаю „Кубанских казаков"
Тарковскому, у которого я вижу лакуны, а „Кубанские казаки" — совершенное произведение.
В литературе то же самое. Вот я сейчас перечитываю послевоенную сталинскую
прозу и нахожу довольно мощных прозаиков. Шевцов, например, очень сильный
прозаик, его романы невероятно цельные» (Сорокин В. «В культуре для меня нет
табу...»: интервью. С. 11).
289 Для осуществления подлинной деконструкции необходима «симультанная
деструкция и реконструкция», по определению Н. Маньковской. «Речь идет не столько
о разрушении, — подчеркивает исследовательница, — сколько о реконструкции,
рекомпозиции ради постижения того, как бы сконструирована некая целостность»
(Маньковская Н. Деконструкция // Лексикон нонклассики. С. 147).
98
с присущей ему тщательностью и искусностью»290. На эту же черту
творчества Зданевича обращала внимание Т. Никольская: «Одна из
основных особенностей, отличающих заумную драматургию
Зданевича от заумных творений других членов группы „41ой, состоит
в тщательной продуманности архитектоники пьес, в выверенности
всех элементов текста, лишенного свойственной футуристам
сознательной шероховатости и небрежности»291. Подобно Зданевичу,
Сорокина правомерно назвать «классиком» зауми.
В «Летучке» ярко проявилось гротескное художественное
мышление писателя, которое выражается в постоянном стремлении
к синтетизму, объединению, казалось бы, диаметрально
противоположных явлений действительности, позволяющем заметить их
скрытое сходство. Заумные лексемы и слова естественного языка
образуют в рассказе неделимое целое, создавая ощущение
реального речевого потока на диковинном наречии. Сложный лингвости-
листический конструкт «Летучки» подчинен выражению
абсурдности социокультурной ситуации эпохи застоя. Сугубо языковой, на
первый взгляд, эксперимент стал художественным слепком эпохи,
в которой советская идеология (и литература соцреализма как ее
проводник) потеряла, по мнению автора, всякий смысл, но
продолжала властвовать над реальностью.
Поэтому можно утверждать, что заумь используется в
рассказе не только в функции неведомого, но и сакрального языка. При
сопоставлении с началом, концовка романа «Норма» производит
мистическое впечатление: «Свеклушин выбрался из переполненного
автобуса, поправил шарф и быстро зашагал по тротуару. <...> Лога
мира? — переспросил Горностаев и легонько шлепнул ладонью по
столу. — А когда?» [I, 11, 313]. В следующем произведении
Сорокина обрядово-ритуальная функция зауми выйдет на первый план.
Сакральная заумь в сборнике «Первый субботник»
Сборник рассказов и повестей «Первый субботник» нередко
оказывается в центре внимания критиков и литературоведов в качестве
типичного образца поэтики Сорокина. О. Богданова даже
составила подборку цитат о стилистической организации этого сборника292.
290 Марков В. Ф. История русского футуризма. С. 303.
291 Никольская Т. Л. О драматургии И. Зданевича // Авангард и окрестности.
СПб., 2002. С. 70.
292 Богданова О. В. Концептуалист писатель и художник Владимир Сорокин.
99
Используемые в «Первом субботнике» гротескно-абсурдистские
приемы будут рассматриваться во второй главе книги. Пока же
обратимся к анализу рассказов с «нарастающими потоками
непонятной речи»293.
В рассказе «Геологи» члены геологической экспедиции никак
не могут решить: отправляться ли им на поиски потерявшихся
товарищей, подвергнув опасности собранные образцы, или терпеливо
ждать, пока группа сама выйдет на связь. Зайдя в тупик, члены
экспедиции обращаются за помощью к «старшему товарищу»,
опытному геологу Ивану Тимофеевичу, который и «разрешает» возникшую
дилемму.
Выполняя функцию своеобразного dei ex machina, Иван
Тимофеевич предлагает коллегам «просто помучмарить фонку». Геологи
с восхищением принимают это решение как единственно верный
выход из сложившейся ситуации. Тогда Иван Тимофеевич
совершает мистический обряд. Стукнув три раза костяшками пальцев
в пол, он произносит заумное заклинание «Мысть, мысть, мысть,
учкарное сопление», которое хором повторяют остальные члены
экспедиции. Вслед за этим Иван Тимофеевич извергает
содержимое своего желудка в корытце из ладоней геологов. Обряд
завершается заклинанием «Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок»,
повторяемым остальными участниками.
Согласованность действий говорит о том, что этот ритуал
хорошо известен всем членам экспедиции. Более того, он
обладает для них особым, таинственным смыслом: Иван Тимофеевич
«внятно» (а значит, в конечном счете, сознательно, осмысленно)
произносит заумные заклинания, а остальные геологи «внятно»
их повторяют. Характерны также четкая структура обряда
(заклинание — действие — заклинание) и тройственный
ритуальный зачин («мысть, мысть, мысть»). То, что могло показаться
случайным и абсурдным действом, оказывается устоявшимся
обрядом — с выверенным ритуалом и закрепленными заклинатель-
ными формулами. Как и в большинстве обрядов, смысл
происходящего понятен только самим участникам, но остается тайной для
стороннего наблюдателя.
«В этом рассказе, — считает M. Н. Эпштейн, — Сорокин
воспроизводит некий ритуал, призванный решить производственную
проблему, подобно тому, как в произведениях соцреализма сход-
С. 35-36.
293 Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2001. С. 96.
100
ные проблемы решались ритуалом партийного собрания или
заседания Политбюро, а также многократным произнесением мантр
типа „партия и народ едины", „кадры решают все", „смерть врагам
народа" и т. д.»294.
Конфликт в рассказе «Заседание завкома» также носит
безвыходный характер. В основу этого произведения положена типичная
для советского времени ситуация, ставшая распространенной темой
литературы соцреализма. Как следует из названия рассказа, в нем
описывается заседание заводского комитета, на котором
рассматривается поведение «тунеядца и алкоголика» Витьки Пискунова. По
техническим причинам заседание перенесено в местный клуб. Это
обстоятельство, вскользь упомянутое Пискуновым в разговоре с
друзьями, впоследствии сыграет в произведении важнейшую роль. Уже
с момента входа главного героя в актовый зал клуба происходящее
можно воспринимать и как правдоподобное описание заседания
заводского комитета, и как театральную постановку, в рамках которой
разыгрывается такое заседание295. Повествование в «Заседании
завкома» двоится между правдоподобием и театральностью, но
читатель по привычке воспринимает действие в реалистическом ключе.
Вначале на заседании комитета разбирается вопрос с
заводскими путевками, и опоздавшего Пискунова просят подождать.
В результате он становится первым зрителем этого театрального
представления: «Дверь в зал была открыта. Пискунов вошел. На
слабо освещенной сцене, прямо под громадным портретом Ленина,
сидели люди. Они занимали середину длинного стола, покрытого
красным сукном. <...> Витька, не торопясь, прошел меж кресел
и сел с краю, поближе к двери» [I, 527].
Когда Пискунова просят подняться на сцену, место зрителя
занимает вошедшая в зал уборщица. Кончив протирать пол, она,
«опершись на щетку, с интересом уставилась на сцену» [I, 532].
Вскоре в рассказе появляется еще один зритель — «высокий
милиционер с виолончельным футляром в руке», образ которого
носит уже явно странный характер. С этого момента происходящее
в рассказе начинает все более напоминать театральную
постановку. Вместе с тем оно не теряет правдоподобия, так как уборщица
294 Эпштейн М. Н. Слово и молчание. Метафизика русской литературы. М.,
2006. С. 189.
295 Ср.: «Я легко могу получать удовольствие от любого визуального
феномена, от любого фильма, от любого клипа, от того же заседания Верховного Совета,
которое воспринималось как спектакль» (Сорокин В. Г., Сорокин В. В. Образ без
подобия: интервью // Искусство кино. 1994. № 6. С. 39).
101
и милиционер не только с интересом наблюдают за действием на
сцене, но и активно вмешиваются в него, давая советы.
Граница между сценой и зрительным залом ощутима до
кульминационной фазы заседания, когда члены комитета обсуждают
дальнейшую судьбу Пискунова. Сюжет произведения заходит в тупик:
уволить главного героя начальство не разрешает по причине
большой текучести кадров296, а воспитательные беседы и
административные меры на него не действуют. Милиционер призывает комитет
не «бояться новых, более эффективных мер», и профорг Пискунова
истолковывает эти слова как предложение расстрелять тунеядца.
Появление мотива расстрела за столь мелкие проступки было бы
невозможным в соцреалистическом произведении. Но именно этот
мотив, по мысли автора, отсылает к подлинной реальности
советского времени, которая неожиданно вторгается в литературные
декорации соцреализма. Как и во многих других произведениях «Первого
субботника», вторжение действительности приводит к разрушению
принятых в соцреалистической литературе конвенций.
В «Заседании завкома» ломка дискурса выражается в том, что
герои рассказа впадают в коллективное безумие. Согласованность
их действий вновь свидетельствует в пользу того, что они
исполняют некий отталкивающий ритуал. Герои кладут на стол
находящуюся в полубессознательном состоянии уборщицу, сдирают
с нее одежду и вбивают в тело пять металлических трубок. Затем
они вынимают трубки с кусками плоти и закладывают в
образовавшиеся отверстия трупных червей, имитируя тем самым
разложение тела. Во время этого процесса персонажи поочередно на
разные лады выкрикивают заумные лексемы или, по определению
М. Эпштейна, «наречные глоссолалии» «прорубоно», «прободело»,
«набиво» и т. п., обозначающие стадии ритуала. Все
происходящее сопровождается заумными комментариями одного из героев,
Ургана: «Напихо в соответствии с технологическими картами
произведенное на государственной основе и сделано малое после
экономического расчета по третьему кварталу» [I, 542]. «Урган все
еще находится во власти производственного жаргона и впихивает
в него новые магические формулы, как будто не замечая
подмены, — пишет Эпштейн. — Да в сущности, и нет никакой подмены,
потому что „технологические карты", „экономический расчет",
296 Отметим соответствие описываемой ситуации историческим реалиям. Как
пишет А. П. Прохоров, «в застойные годы <...> людей не хватало, работники стали
дефицитом. <...> Поэтому даже никудышного сотрудника боялись наказать, а вдруг
уволится? (Прохоров А. Русская модель управления. М., 2011. С. 316).
102
„третий квартал" — это в советском языке такие же заклинания,
как „набиво" и „прорубоно"»297.
Морфологическая заумь, которую экстатически выкрикивают
герои, представляет собой искаженные формы слов
естественного языка. В заумных комментариях Ургана эффект ускользания
смысла явлен сильнее за счет беспорядочного смешения
технических и экономических терминов, сопровождаемого нарушенной
синтаксической сочетаемостью. Этот подвид синтаксической зауми
можно назвать терминологическим, и он является художественной
находкой Сорокина. Возникновение терминологической зауми,
вероятно, было реакцией на засилье терминов в советской
литературе и, прежде всего, в ее ведущем жанре — производственном
романе. Кроме того, сам писатель является инженером-механиком
по образованию. Впервые прибегнув к терминологической зауми
в «Заседании завкома», Сорокин будет не раз обращаться к ней
в следующих произведениях.
Как и в «Геологах», «выходом» из тупиковой ситуации в
«Заседании завкома» становится странный и отвратительный
ритуал. В этот раз обрядовые действия, производимые героями,
носят ярко выраженный экстатический характер. Но исступление
участников не оказывает влияния на четкость и согласованность
их действий, что подчеркивается повторяющимися
конструкциями: «Старухин и Симакова вытянули вторую трубу и бросили на
пол. Урган и Звягинцева вытянули третью трубу и бросили на
пол. Пискунов и Черногаев вытянули четвертую трубу и бросили
на пол. Урган и Звягинцева вытянули пятую трубу и бросили на
пол». В концовке рассказа повествование окончательно переходит
в игровую плоскость, а соцреалистическая постановка
сменяется абсурдистской: «Из-за кулис, согнувшись, вышел Хохлов. На
спине его лежал большой куб, изготовленный из полупрозрачного
желеобразного материала. От каждого шага Хохлова куб
колебался» [I, 542-543].
Иной вариант трансформации традиционного соцреалистическо-
го сюжета представляет выдержанный в сказовой манере рассказ
«Кисет». В его основу лег популярный в литературе соцреализма
сюжет о встрече рассказчика с фронтовиком. В «Кисете»
Сорокин не только разрабатывает узнаваемую сюжетную ситуацию, но
и предельно насыщает текст типичными мотивами и
стилистическими клише.
297 Эпштейн M. Н. Указ. соч. С. 190.
103
Рассказ начинается с шаблонного гимна русскому лесу:
«Пожалуй, ничего на свете не люблю я сильней русского леса.
Прекрасен он во все времена года и в любую погоду манит меня своей
неповторимой красотою». В повествовании возникают
трафаретные мотивы нетипичной для горожанина любви рассказчика к лесу
(«Все в город едут, а я в пустом вагоне из города — к лесу»)
и омолаживающей силы природы («От этого духа словно кровь
в тебе закипает, и чувствуешь ты, что не сорок тебе с лишним,
а все двадцать лет») [I, 632-633]298. Столь же условной выглядит
военная биография героя рассказа, в которой появляется
фольклорный мотив встречи солдата с девушкой, вынесшей ему воды,
ситуация торжественного обещания и мотив злого навета, из-за которого
героя в День Победы отправили в Сибирь на лесоповал.
Шаблонность на сюжетном уровне сопровождается
стилистическими клише: «там детство мое белобрысое да босоногое прошло»,
«ходил я огненными военными тропами все четыре года», «взяли
мы рейхстаг, добили зверя в его логове». В сцене встречи
солдата с девушкой появляются фольклорные слова и обороты: «воды
испить», девушка «красивая, синеглазая, русая коса до пояса»,
«и молвит она мне такую речь».
Механическое нанизывание типичных мотивов и
стилистических клише приводит к тому, что «Кисет» становится
неправдоподобным даже исходя из канонов соцреализма и, конечно, не имеет
никакого отношения к действительности. Произведение
превращается в сугубо литературный конструкт, «буквы на бумаге», с
которыми возможны любые манипуляции.
В кульминационной сцене рассказа, при описании
«волнующей» встречи героев после шестнадцатилетней разлуки, соцреа-
листическая гладкопись перетекает в синтаксическую заумь:
«Наташа так головой покачает, покачает и снова рукой делает, чтобы
подавать, чтобы я шел вдоль, вольно. А я кисет опустил и решил
возле шифоньера. И тут все положенное, как последовательно
говорили о главном, о фотографиях. Я плакать не умел, но стал
говорить. Я говорю, мил человек, что работаю и делаю разные
заказы по поводу чистого. И замечания. И она улыбается, потому
298 Несмотря на очевидную шаблонность этих мотивов, в интервью Сорокин не
раз говорил о своей любви к природе и, в особенности, к русскому лесу: «А я очень
люблю деревья. С детства люблю. Люблю трогать их. У меня дедушка лесником
был» (Сорокин В. Кому бы Сорокин Нобелевскую премию дал...: интервью. Ч. 2
[Электронный ресурс] // Топос. 2005. URL: http://www.topos.ru/article/3361
(дата обращения: 01.10.2011)).
104
что тоже знаком, какой выброс, какой скольжение, располагает
к ужину» [I, 638].
Следуя жизненной логике, встреча героев должна была
завершиться сексуальным контактом. Однако изображение сексуальных
сцен невозможно в рамках соцреалистического дискурса. Заумный
язык в данном случае используется в функции криптописи,
призванной задрапировать «постыдную» сцену. Поэтому вскоре в
повествовании возникает морфологическая заумь: «Я понимаю, что
ты говорила мне, когда так вот наклонишься, наклонишься и
голенькая показываешь мне молочное видо, где гнилое бридо. Я знал,
что именно спереди есть молочное видо, а сзади между белыми —
гнилое бридо, а чуть повыше, если так вот верить и водить —
будет и мокрое бридо, то есть мокренькое бридо, очень я понимал»
[I, 639]. Из контекста ясно, что под «молочным видо» и «мокрым
бридо» понимаются женские половые органы, а под «гнилым
бридо» — анус.
В то же время это осмысливание оказывается мнимым, так как
далее заумным лексемам приписываются все новые и новые, не
связанные между собой значения, вроде «молочное видо будем
понимать как нетто» и «мокрое бридо — шахта второго прохода».
В результате они теряют какой-либо смысл, превращаясь в пустые
знаки. Некоторую осмысленность сохраняет только «гнилое
бридо», которое неизменно понимается как «коричневый творог»299.
В «Словаре терминов московской концептуальной школы» А.
Монастырского это выражение зафиксировано со значением «образ
распадающейся материи, энтропия мира»300.
Вторжение в соцреалистический текст действительности вновь
приводит к его саморазрушению. Редукция смыслового содержания
рассказа, его энтропия, восполняется композиционной стройностью.
За фразой «Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим
правильное» следуют абсурдные рассуждения о том, как будет
пониматься «молочное видо», «гнилое бридо» и «мокрое бридо». Затем
идет фраза «А кисет? С кисетом было трудненько, мил человек»,
которая сменяется сюрреалистической зарисовкой, напоминающей
ночной кошмар: «Я помню он тогда меня разбудил открыл дверь
приглашает а там Ксения обугленная и лежит господи я так и присел
299 Ср. в рассказе «Соревнование»: «А сам митроху найдет и покажет яму
тайный уд а тот творогу коричневого пущай отвалит у малую махотку да и к куме у
погреб поставит» [I, 517].
300 Словарь терминов московской концептуальной школы. М., 1999. С. 34.
105
черная как головешка а рядом червь тот самый на белой простыне
толстенький не приведи господь как поросенок и весь белый-белый
в кольцах таких и блестят от жиру-то а сам-то еле шевелится
наелся чего уж там» и т. п. [I, 640]. Описанная структура повторяется
четыре раза, что придает концовке «Кисета» музыкальный характер.
Введение в повествование леймотивов укрепляет это впечатление.
В тексте неоднократно возникают рассуждения о правильности,
парадоксальным образом сочетающиеся с деформированной поэтикой:
«Жизнь была правильная. И жили правильно <...>. И обнимались
очень правильно. <...> я понимаю когда надо делать правильно. Так
что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное».
Описание первого «сна» заканчивается ранее употреблявшейся фразой
«обниматься надо (ранее «можно» — Μ. Λί.) только за молочное
видо». В третьем «сне» возникает образ множества вшей, которым
завершается рассказ: «Мокрое бридо — это ведро живых вшей».
Утрирование соцреалистического стиля в начале «Кисета»
обессмысливает произведение, превращая его в набор ничего не
значащих шаблонов и клише. Возникает фантомный, симулякративный
текст, в котором разведены планы выражения и содержания.
Подобно тому, как в «глоссолалиях» Ургана из «Заседания завкома»
производственно-экономические термины свободно смешивались
с заумными заклинаниями, в анализируемом рассказе соцреалисти-
ческий дискурс сменяется авангардистским. «Неожиданный слом
повествования» (В. В. Ерофеев) лишь кажется неожиданным: он
обусловлен всем ходом сюжета.
Анализируя ритуальные мотивы в «Первом субботнике», Эп-
штейн пишет: «В рассказах и романах Владимира Сорокина
ключевой прием — превращение подчеркнуто правильного, мудрого,
идеологически нагруженного слова в мантру, и точно такой же
коллапс действия, скучновато-правильного, нудного,
последовательного, вдруг переходящего в некий безобразный и бессмысленный
ритуал. <...> У Сорокина мы наблюдаем, как идеологическое слово,
завинчиваясь туго, до предела, срывается в заговор и ворожбу.
Хорошо знакомые и, казалось бы, внятные идеологемы превращаются
в жуткие глоссолалии <...>. Тем самым выявляются и сгущаются
формы магизма, присущие самым обыкновенным словам, которые
зацикливаются на себе, уже ничего не сообщают, а только
заговаривают, воспроизводят свою собственную бытийность»301.
301 Эпштейн Μ. Н. Указ. соч. С. 188, 190.
106
Стилеобразующая для «Первого субботника» трансформация
удачно описана В. Рудневым: «Вначале идет обыкновенный,
слегка излишне сочный пародийный соцартовский текст:
повествование об охоте, комсомольском собрании, заседании парткома — но
вдруг совершенно неожиданно и немотивированно происходит
прагматический прорыв в нечто ужасное и страшное, что и есть,
по Сорокину, настоящая реальность. Как будто Буратино проткнул
своим носом холст с нарисованным очагом, но обнаружил там не
дверцу, а примерно то, что показывают в современных фильмах
ужасов»302.
Принципиально важно, однако, что сеансу «фильма ужасов»
предшествуют вполне реалистические и правдоподобные мотивы,
которые и выявляют фиктивный характер происходящего.
Демонстрация его надуманности и оторванности от действительности
открывает путь к любым манипуляциям. Следуя художественной
логике Сорокина, для соцреалистических произведений гибельна
даже крупица реальности, так как она ведет к необратимым
мутациям дискурса. Возникающие в итоге макабрические и
исполненные абсурда художественные миры, по мысли автора, гротескно
выражают подлинную сущность (советской) действительности.
Обыгрывая в «Первом субботнике» литературные клише
соцреализма, Сорокин поднимает серьезные проблемы исторического
(природа сталинских репрессий), литературоведческого (в какой мере
литература связана с действительностью?) и
религиозно-философского характера (чудовищный характер жизненной реальности).
Вероятно, именно этим в первую очередь обусловлено обращение
автора к ритуальным ситуациям и зауми как языку сакрального общения.
Стилизация патологической речи
в поэме в прозе «Месяц в Дахау»
«Месяц в Дахау» считается самым шокирующим произведением
Сорокина: эта поэма в прозе переполнена сценами
невероятного насилия. По характеристике В. Курицына, между первым
абзацем и последним — «фестиваль надрывной, отвратной, мясной
телесности»303. Вместе с тем «Месяц в Дахау» — это один из
виртуозных и стилистически совершенных текстов Сорокина. Б. Со-
302 Руднев В. Концептуализм // Энцикл. слов, культуры XX века. М., 2001.
С. 192.
303 Курицын В. Русский литературный постмодернизм. С. 116.
107
колов правомерно сравнил поэтику этого произведения с
«симфониями» А. Белого304.
Склонность Сорокина к гротескному слиянию
противоположных крайностей нашла в «Месяце в Дахау» наиболее полное
выражение. Высокая патетика органично сочетается в поэме с
отталкивающей образностью, экстатический восторг дополняется
физиологическим отвращением, а высокопарная риторика легко
переходит в едкую иронию. Стремление к парадоксальному
синтезу дискурсивных практик обусловило наличие в «Месяце в Дахау»
множества повествовательных стратегий, среди которых важное
место занимают разные виды заумного языка.
С началом пыток дневниковую форму повествования сменяет
техника потока сознания и близкое ему автоматическое письмо.
Из текста исчезают знаки препинания и заглавные буквы,
повествование приобретает сбивчивый и отрывистый характер,
границы между фразами становятся иной раз неразличимыми, что
порождает двусмысленность («я подпишу глубже не надо глубже»)
и комизм («кофе мокко мокко золотой электрическою мельницей
смолот бедный наш народ»). Содержательно такой стиль
повествования обусловлен как испытываемыми героем «страшными
муками» и «мегатоннами унижения», так и экстазом, который вызывает
у него происходящее.
Это затрудняет чтение текста, создавая эффект, о котором
говорил Крученых: «чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее
смазных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов связок и
петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая)»305.
Несмотря на это, повествование в «Месяце в Дахау» в целом
сохраняет связный характер. Однако в критические моменты, когда
испытываемые героем страдания, как физические, так и
нравственные, становятся такими невыносимыми, что он впадает в безумие,
логические и синтаксические связи в тексте начинают
разрушаться, и в поэме появляются заумные фрагменты.
В «камере 9»306 героя с намертво забитой в анус пробкой
насильно кормят всевозможными блюдами, так что у него начинает
304 Соколов Б. Германия и немцы в русской литературе, 1945-2000 годы: от
«немецкой вины» к «советской вине» / / Он же. Указ. соч. С. 173-174.
305 Крученых Α., Хлебников В. Слово как таковое // Литературные
манифесты. М., 2001. С. 137.
306 Членение повествования на описание пыток в камерах концлагеря имеет
условный характер. Например, в «камере 10» описываются события, происходящие
на площади, а в «камере 24» — бал-маскарад.
108
разрываться желудок: «напихано протолкнуто мама пиво пиво пиво
кровь и пиво ананас нет и я боюсь помилуй нас Боже по велицей
разрыв играй же на разрыв желудка с немецкой головою пробкой
в жопе»307. В следующей «камере» герою после долгих страданий
разрешают испражниться, но физические мучения сменяются
нравственными: он должен испражниться на фотографию своей
матери в гробу, причем сделать это прилюдно и с трансляцией всего
процесса по радио: «и указом группенфюрера ее там мама
разрешено просраться потянули за веревку и Господи это пробка она
там и мама я я прости про мама я это громко громомамо мамочка
я вытянули мама я мама на тебягробо на родное мамоч я громко
и хохота а я мама простимамо я невино на всю Германа я громко
на мать мертвое прости» [I, 756].
Оба процитированных фрагмента близки к синтаксической
зауми, которая во втором случае осложняется вкраплениями
морфологической зауми. Разрушение синтаксических связей ведет лишь
к частичному размыванию смысла: понять описываемое в обоих
случаях помогает контекст. Лексемы «громомамо», «тебягробо»,
«мамоч» и «простимамо» можно считать морфологической заумью
условно, так как они являются результатом сбивчивой
речи/мышления героя.
Более интересный заумный фрагмент представлен в
«камере 15»: «пробоитие и протрубо игло иглоделание Христа христо-
кожее богомясо трупобитие потрохомятие клац клацо клац етого
прогное прогноевое трупокоже трупокожее богородое напр клац
клац клац» [I, 757]. Используемые лексемы, за исключением
«Христа», являются окказиональными образованиями от слов
естественного языка, получившимися после усечения и/или слияния основ.
Вариативные повторы формируют в тексте переплетающиеся
цепочки слов, построенные как на фонетических, так и на
семантических ассоциациях: «пробоитие — протрубо — трупобитие»;
«Христа — христокожее — богомясо — богородо»; «пробоитие —
трупобитие — потрохомятие — клац клацо клац» и т. д. Отдельные
лексемы вызывают просчитанные контекстные ассоциации:
«протрубо» — протрубить — Страшный суд; «иглоделание Христа» —
возложение тернового венца; «богомясо» — богочеловек и т. п.
307 В собрании сочинений в трех томах в этом фрагменте допущена опечатка:
«помилуй нас боже по Белицей» [I, 755-756], поэтому цитата дается по собранию
сочинений в двух томах (Т. 1. С. 809).
109
Учитывая, что в 25-й «камере» будет изображаться грандиозное
каннибальское пиршество, напоминающее буквально понятую
евхаристию308, происходящее в 15-й камере, при всей его
невнятности, можно рассматривать в качестве «генеральной репетиции»:
«Христа — богомясо — потрохомятие — клац клацо клац».
Динамика фрагмента имеет фонетико-ассоциативный, а не
логико-семантический характер. Это стихотворение в прозе, написанное на син-
таксическо-морфологической зауми и отличающееся цельностью
и тщательной формальной отделкой.
Замечательный образчик супрасинтаксической зауми
содержится в тексте «камеры 23»: «дададааааааааааааааааааааааа
похожий на сырный но хуже гаже мягче я уверен что имея
солидный запас прошлогоднего частично переработанного вещества
восемьдесят восемь мы можем надеяться на своевременное
общегражданское евхаристическое фашистское интимно-прикладное
богочеловеческое детоненавистное технологическое позитивно-
допустимое легированное психосоматическое правительственное
обоснование загнивания десен и направился членистоногий
паразит в ребенке» [I, 760].
В этом фрагменте выделяется три логически не связанных
фразовых комплекса: «дададааааааааааааааааааааааа похожий на
сырный но хуже гаже мягче», «я уверен что <...> загнивания десен»,
«и направился членистоногий паразит в ребенке». Под «веществом
восемьдесят восемь», вероятно, имеется в виду радий, так как этот
порядковый номер присвоен ему в таблице Д. И. Менделеева.
Описание целей его использования представляет собой длинный ряд
бессвязных определений из разных дискурсов: религиозного
(евхаристическое, богочеловеческое), политического (общегражданский,
правительственный), технического (легированный), медицинского
(психосоматическое). В результате возникают оксюморонные соче-
308 Кульминационной сцене предшествует оформленный в виде потира немецкий
текст, данный в русской транслитерации:
агнец, которого мы вкушаем,
суть тело Христово
и должен стать символом истины,
и отступления тьмы перед светом,
и началом нового века,
должен ты вкусить этого хлеба,
который живой и дает жизнь.
Слово «жизнь» (Leben) образует ножку потира. Очевидно, что это фрагмент
литургии, однако точного соответствия ему в немецких источниках найти не удалось.
по
тания: «интимно-прикладное», «богочеловеческое детоненавистное»,
«легированное психосоматическое» и т. п. Большая часть
прилагательных лексически не сочетаема с существительным
«обоснование», к которому они грамматически относятся. Слово
«обоснование», в свою очередь, плохо согласуется с дополнением «загнивания
десен», а неожиданная фраза «и направился членистоногий паразит
в ребенке» окончательно разрушает семантическую целостность
текста. Тем не менее, значения употребляемых определений так или
иначе актуализированы в произведении: в «Месяце в Дахау» есть
радиационные, христианские, нацистские, медицинские мотивы.
По мере приближения к кульминации повествование
приобретает все более взвинченный и сбивчивый характер. В «камере 24»
описывается грандиозная оргия с участием главного героя,
Гретхен-Маргариты и нацистских офицеров и солдат. Относительно
связные фрагменты текста сменяются местами с полным
грамматическим рассогласованием: «а Вагнер Вагнер мне мне в ротовое твое
милая каловое валькирии», «теплое Вагнер снятие со креста
положение в белое гроба на столовое я голое», «я заставлялся тянуть из
кала руку и нажимало абдрюкен пистолета русская рулетка».
Некоторые слова выпадают из потока речи, другие склеиваются между
собой, образуя окказионализмы: «внизуголовое», «вибротелодела-
ние», «членоофицеро». Текст пестрит авторскими неологизмами
разной степени окказиональности, включая лексемы, образованные
соединением русских и транслитерированных немецких корней:
«лебервурстокало» (от кал и Leberwurst — ливерная колбаса), «ис-
пражгешайсен» (от испражняться и gescheissen —
испражняться). В повествование вкрапляются отдельные немецкие слова
(«абдрюкен», «гезакт») и фразы («официрен унд зольдатен», «шайсе
шайсе шайсе шмект дас бессер унд», «фюр русиш шрифтштеллер»),
а концовка написана на русско-немецкой зауми: «я люблю тебя
вокруго аллее официре мочекалое дуфт дуфштербергейшайс души
моей и тебя надо моим гробокало совокуплял обергруппенфюрер
Вальтер Дитрих и я любило вас вас вас» [I, 761].
Писатель насыщает текст вариативными повторами,
созвучными словами и рифмами, ритмически построенными фразами.
Здесь встречаются типичные для Сорокина многократные повторы:
«распяли распяли распяли», «хохот хохотало хохотание»,
«обсосы обсосы обсосы обсосы». Соположение созвучных слов образует
внутренние рифмы: «хохотало раздевало», «а мне подошволизание
а ее раздевание <...> и спермополивание», «и все сто двенадцать
111
официрен дивизии ее мастурбирен», «вибростоно сладостробо».
В итоге возникают сложные, ритмически и эвфонически
выверенные фразы: «лебервурстокало полеты валькирокаловополето в рота
в рота в рота кала ты ты иак иак иак накала»; «музыкоин музыкоин
тела в каловом гробу музыкоин тела в каловом гробобелое». Все
это придает прозе ритмический и рифмованный характер,
превращая текст в подлинное стихотворение в прозе.
В текст «камеры 25» возвращаются знаки препинания и
заглавные буквы. Венчание героя с Гретхен-Маргаритой (точнее, с одной
лишь Маргаритой, так как Гретхен была усыплена на время обряда)
описывается на литературном русском языке и служит
ретардацией перед кульминационным моментом: грандиозным каннибальским
пиршеством. Ближе к моменту сексуального слияния героев в
тексте начинают появляться оксюморонно-заумные фразы,
являющиеся следствием высокого уровня символизации: «долей и брось Бокал
Прозрачных Заимствований на мраморный пол Осеннего Богатства»,
«води раскаленным Жерлом Воли Представлений <...> по Родовым
Нитям, по Деловым Узорам», «в фиолетовый Контур
философствующего Железобетона Силы и Славы», «Принцип Псевдомагической
Упаковки Чувственных Антиномий», «в Заросли искреннего
Псевдоприсутствия, в Расщелины Жертвенных Слабостей».
Финал «Месяца в Дахау», выдержанный в драматургической
форме, написан на супрасинтаксической зауми. Знаки препинания
вновь исчезают, что ведет к смешению синтаксических связей:
«лилии левкои гиацинты желаний свинцового дара песня окаменевшего
птицелова земляника кровавых героев». Лексическая
несочетаемость порождает гротескно-сюрреалистические, абсурдные образы:
«дубы и липы небесное молоко и обещание кровопускания лилии
растертые кирпичами платяных лилипутов багры и неводы риз». Для
создания заумного эффекта Сорокин сочетает слова с конкретной
и абстрактной семантикой («хлопчатых надежд», «содомиту
астрального», «деревянных врачей»), использует субстантивизацию («знала
возможные пересечения фиолетового», «надеяться <...> на
кирпичное», «если говорить о голубоватом конце края и желированном»).
В заключительной сцене поэмы, по словам И. П. Смирнова, «герой
после перенесенных в концлагере пыток способен только к
лексически и синтаксически деформированному речепроизводству»309:
309 Смирнов И. П. Видимый и невидимый миру юмор Сорокина // Место
печати. 1997. № 10.
112
«ампутир мой конечност переработ в клеевое клеит обои в», «ампу-
тиро мой члн переработо в гуталино подаро цк», «выстреле мой тело
большая берта в неб велик германия» [I, 763].
В. Курицын предложил рассматривать семантическую
неопределенность отдельных фрагментов «Месяца в Дахау» в связи с важной
для Сорокина проблемой телесности: «Погружение в собственную
телесность, расчленение телесности, слияние с телесностью на всех
ее уровнях и во всех состояниях не просто доставляет физическое
наслаждение, но позволяет достичь состояния асемиотичности». По
мнению Курицына, именно такого эффекта достигает Сорокин в
своем произведении: «в кромешном переживании тела на всех уровнях
возможно обретение несимволичности, только в предельной
текстуальности, на краю текстуальности — разрыв в текстуальности»310.
Эта интерпретация близка пониманию Сорокиным
проблематики своего творчества в то время: «Я постоянно работаю с
пограничными зонами, где тело вторгается в текст. Для меня всегда была
важна эта граница между литературой и телесностью.
Собственно, в моих текстах всегда стоит вопрос литературной телесности,
и я пытаюсь разрешить проблему, телесна ли литература. Я
получаю удовольствие в тот момент, когда литература становится
телесной и нелитературной. Именно это проявление телесности в
литературе тяжело воспринимается культурой. Толстой не описывал,
как пахли подмышки или прыщи Болконского, например, потому
что это разорвало бы всю ткань его текстов, а я этим занимаюсь»311.
Заумный язык в драматургии Сорокина
Драматургия Владимира Сорокина остается, пожалуй, самой
малоизученной частью его творческого наследия. По словам П.
Руднева, Сорокин «смог бы возглавить целое театральное и
драматургическое поколение», но «наш театр благополучно пропустил это
явление»: «Какая-никакая сценическая история есть, а
драматургической судьбы нет»312. Действительно, пьесы Сорокина — это
уникальный по своей стилистической целостности и писательской
виртуозности опыт продолжения традиций русского театра
абсурда, которые были насильственно прерваны разгромом ОБЭРИУ.
310 Курицын В. Русский литературный постмодернизм. С. 118.
311 Сорокин В. Литература как кладбище стилистических находок: интервью.
С. 123-124.
312 Руднев П. Театральные впечатления // Новый мир. 2005. № И. С. 193.
113
Одно из первых обращений писателя к театру, пьеса
«Землянка», формально написана в жанре военной драмы. Сюжет пьесы
строится кумулятивно: беседа героев сменяется чтением
фронтового листка, за которым вновь следует разговор с чтением газеты
и т. д., вплоть до попадания в землянку бомбы. Фронтовой листок,
охотно читаемый героями, является чистой фикцией: статьи из
него не имеют отношения к боевым действиям, да и могут
считаться газетными статьями лишь условно. Это тщательно
сымитированные образчики разных дискурсов, от бытового до религиозного.
Некоторые из них воссоздаются Сорокиным в неизменном виде,
другие тем или иным образом деформируются или деконструиру-
ются. Один из основных приемов осуществления деконструкции —
спорадическое вкрапление заумных лексем, разрушающих
семантическую целостность текста.
Первая «статья» начинается как сводка с места боевых
действий: «В ночь с 26-го на 27 декабря на Курском направлении
после продолжительной артподготовки <...>». Это предложение
неожиданно завершается фразой «умели делать по-гнилому», за
которой следует хаотичный перечень слов и выражений, относящихся
к разным сферам жизни, но объединенных наречием «по-гнилому»:
«Распределитель веса по-гнилому, использование огня по-гнилому,
отслаивание детей по-гнилому, окопная война по-гнилому, делание
через чох по-гнилому»313 и т. д. Среди этого перечня попадается
немало выражений на морфологической («полодие по-гнилому»,
«истаро истаропно по-гнилому») и супрасинтаксической («урон
выщербленных по-гнилому» «чешуйчатость половины по-гнилому»,
«бронхиальные кнопки по-гнилому») зауми.
В четвертой «статье», под названием «Переход количественных
изменений боро в качественные», имитируется философский
дискурс, посредством которого описывается феномен «боро»: «Это
один из основных законов диалектики боро, объясняющий, как,
каким образом происходит движение и развитие боро. <...> Этот
закон имеет место во всех процессах развития природы боро,
общества боро, мышления боро»314. Если из текста изъять знакомую по
«Заплыву» заумную лексему «боро», получится типичное
рассуждение в духе марксисткой диалектики. Употребление этого слова
во всевозможных синтаксических позициях придает ему
абстрактный смысл, сопоставимый с семантикой предлогов. Невозможно
313 Сорокин В. Землянка. С. 465.
314 Там же. С. 468.
114
составить даже приблизительное представление о том, чем же
в действительности является «боро», которое превращается в
вездесущую, таинственную, метафизическую субстанцию. Заполняя
потенциальные лакуны текста заумной лексемой, Сорокин изящно
деконструирует философское рассуждение.
В восьмой «статье» аналогичный прием отрабатывается на
материале советской поэзии о Ленине, записанной, как и в
миниатюрах седьмой части «Нормы», в прозаической форме. В этот раз
писатель использует разнообразную морфологическую заумь: «Имя
Ленина снова и снова влипаро повторяет великий народ. И как
самое близкое слово урпаро имя Ленина в сердце живет. И
советская наша держава барбидо, и великих побед торжество — это
Ленина гений и слава карбидо и бессмертное дело его»315. Прием
усложняется тем, что две заумные лексемы полностью совпадают
со словами естественного языка, вычленить их в качестве заумных
можно только исходя из контекста: «И Ленин очень занят был, но
взял с собой малышку пата, ее согрел и накормил, достал с
картинкой книжку брата». Это позволяет придать тексту целостность,
а также подспудно переиначить его смысл: «Он ненавидел всех
господ, царя и генералов кало, зато любил простой народ, любил
детишек малых мало» (курсив мой — M. М.). В концовке восьмой
«статьи» заумь используется уже для замены естественных слов,
что окончательно размывает смысл текста: «Его портрет — обсо-
сиум, говнеро, его портрет — обсосиум айя. Портрет его, кто
волею горерро соединил обросиум ойя. Его портрет, который наши
крупсы цветами любят украшать, — портрет того, кто в глубине
обсупсы, как солнце, землю будет озарять»316. Морфологическая
заумь конструируется Сорокиным таким образом, чтобы
семантические ассоциации носили сниженный и оскорбительный характер
(«кало» — кал, «обсосиум» — обсасывать, «говнеро» — говно).
Последняя, шестнадцатая «статья», под названием «Пионеры
Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни»,
является наиболее удачным стилистическим экспериментом Сорокина
в «Землянке»: «Они говорят, они говорят, покажи котлы, гад,
покажи котлы, котлы покажи, гад дядя. Покажи котлы, гад дядя,
покажи котлы. Покажите им котлы, гад дядя. Они все адо. Они
все адо гнидо. Они говорят, покажи котлы, гад дядя. И мне котлы
315 Там же. С. 474. В «Словаре терминов московской концептуальной школы»
заумная лексема «влипаро» приведена со значением «погружение в контекст» (С. 32).
316 Там же.
115
покажи, чтобы я пото делал. Чтобы я пото, делал покажи котлы,
адо гнидо»317 и т. д.
Как и в предыдущих «статьях», зазор между формой текста
и его референциальным содержанием образуется, прежде всего, за
счет морфологической зауми. С точки зрения семантики
употребляемые лексемы не являются заумными, так как вызывают
однозначные ассоциации: «адо» — ад, «гнидо» — гнида, «пото» — пот,
«сисо» — сися, «гадо» — гад. Но с функциональной точки
зрения это именно заумь, так как значение этих «усредненных» слов,
напоминающих концовку «Месяца в Дахау», играет подчиненную
роль. Тем не менее, их выбор не случаен и мотивирован военной
тематикой «Землянки» («ад войны»), и контекстом произведения.
Мотив пота постоянно возникает в речи героев. Двенадцатая
«статья» начинается как астрологический прогноз, который внезапно
переходит в призыв: «За сисяры, товарищ, за сисяры! <...> Тяни
за сисяры, за сисяры!»318. А перед зачитыванием заключительной
«статьи» один из героев призывает «пиздярить гадов», имея в виду
немцев.
Главный фактор, придающий «статье» заумный характер —
построение литературного текста по музыкальным принципам.
Фактически перед нами музыкальная пьеса со сложной полифонической
структурой. Только вместо звуков, издаваемых инструментами,
в ней используются слова и фразы. Варьируясь, они переплетаются
между собой, как музыкальные мотивы. Здесь уместно провести па-
ралелль со следует словесно-музыкальным экспериментам дадаиста
К. Швиттерса, который на протяжении десяти лет писал
произведение под названием «Урсоната» (1922-1932). Творение Швиттерса
считается одним из высших воплощений авангардистского
синтетизма, так как «Урсонату» можно одновременно рассматривать как
музыкальное произведение, звуковую (заумную) поэму и
произведение визуальной поэзии. Швиттерс создает мелодию, используя
в качестве музыкального инструмента собственный голосовой
аппарат. «Урсоната» начинается следующим образом:
Fümms bö wo tää zää Uu,
pögiff,
kwii Ее.
Oooooooooooooooooooooooo,
dll ггггг beeeee bö
dll ггггг beeeee bö fümms bö,
3.7 Там же. С. 484.
3.8 Там же. С. 480.
116
rrrrr beeeee bö fümms bö wo,
beeeee bö fümms bö wo tää,
bö fümms bö wo tää zää,
fümms bö wo tää zää Uu:319
Сорокин использует не отдельные звуки и звукосочетания, а целые
слова и фразы. Этот формальный аспект «Землянки» тесно связан
с ее абсурдистским содержанием, поэтому подробнее он будет
рассматриваться в третьей главе книги.
В «Землянке» автор осуществил сложный синтез разных
видов заумного языка. Созданная в том же 1987 году пьеса
«Доверие» целиком написана на супрасинтаксической зауми. В
жанровом отношении «Доверие» — это пятиактная производственная
пьеса, содержащая типичный набор сцен. Действие произведения
происходит в кабинете секретаря парткома, в заводском
общежитии, дома у секретаря партийного комитета, в кабинете директора
завода и в заводском цехе. Писатель формально охватывает
множество традиционных жанровых ситуаций, показывает разные
стороны жизни трудящихся в период перестройки. На самом же деле
внимание автора сосредоточено на языковых и стилистических
сторонах произведения, а не на изображении действительности.
К этой пьесе, возможно, более всего применимы слова Л.
Рубинштейна о том, что единственная драма, занимающая Сорокина, —
это «язык (главным образом литературный язык), его состояние
и движение во времени»320.
В «Доверии» писатель возвращается к эксперименту с заумью,
осуществленному в рассказе «Летучка». Сорокин вновь создает
впечатление, что его персонажи общаются на зашифрованном
языке. Для этого используются не виртуозно конструируемые заумные
лексемы, а узуальные слова, лексическую и/или семантическую
сочетаемость которых Сорокин искусно нарушает. Возникает
особый языковой пласт, состоящий из изобретенных автором
парадоксальных и абсурдных выражений. Отвечая на вопрос своей жены,
чувствует ли он доверие людей, главный герой произведения,
секретарь парткома Павленко, говорит: «Чувствую. Чувствую, как
родовые прутья, как серную жесть. Мне это доверие — как ребри-
319 URSONATE de Kurt Schwitters [Электронный ресурс] // UbuWeb. URL:
http://www.ubu.com/historical/schwitters/ursonate.html (дата обращения:
01.10.2011).
320 Рубинштейн Л. Предисловие к пьесе В. Сорокина «Пельмени» //
Искусство кино. 1990. № 6. С. 158. Сам писатель полностью согласился с данным
Рубинштейном определением: Сорокин В. Текст как наркотик. С. 120.
117
стость. Я, может, и свищу в угол только потому, что доверяют.
Знаешь, Томка, когда тебе доверяют по-настоящему — это... это как
слюнное большинство. Когда за спиной сиреневые насечки — тогда
и линии друг на дружке. Вот ради этого я и работаю»321.
Эффект ускользания смысла достигается несколькими
основными способами. Прежде всего, Сорокин соединяет не сочетаемые
в реальной языковой практике слова: «Конечно, мы теперь
ускорили мясо, можно и красить кишки...»; «Так резать деревом, так
лепить гландами!». Частный случай этого приема — объединение
слов с конкретным и абстрактным значением: «подцепил
передовую устраненность», «смазываем относительное». В пьесе нередко
встречаются заумные сравнения, когда объект и средство
сравнения не связаны между собой: «Вот дурехи. Ржут, как патроны»;
«Болт трубит, как ласточка: уйду, уйду!». К отдельным фразам
добавляются не связанные с ними по смыслу слова и словосочетания:
«В допустимом пределе. Но провозка и кромки очень сомнительные.
Очень. Это Таганрог»; «Неужели даже в вашей библиотеке знают?
Отбелка!». Логическое рассогласование также наблюдается между
группами слов и предложениями: «А получилось — четыре не
поняли, раз, Есин понял — два, в Нижний Тагил не поехали — три»;
«Так, значит, у нас вечер самокритики. Будем читать по губам».
Для «Доверия» Сорокин сочинил множество заумных идиом,
вроде «шей рычащее и поползет скользящее», «тюрить мокрые
отношения», «выть и жонглировать мамой». Иногда их употребление
сопровождается выражениями «как говорится» и «так сказать»,
которые подчеркивают обычный статус окказиональных идиом в речи
персонажей: «Будут, как говорится, просто реветь и ползти»;
«Важно не только изогнуться и выйти на срочный рубеж, но и забить,
так сказать, аккорд». Ряд новых идиом схожи с распространенными
устойчивыми выражениями: «бросать слова на ветер» — «класть
слова на ветер» («Наши комсомольцы слова на ветер не кладут»);
«делать свое дело» — «плавить свою скрепку» («Мы плавили свою
скрепку!»); «резать правду-матку» — «резать пионера» («Режь
пионера, Денисыч!»).
В 1988 году Сорокин участвовал в концептуалистской
выставке HCKUNSTBO, на которой представлял ряд псевдопословиц:
«Плясать — не холодцом потрясать»; «Работа — не кусок льда,
а человек — не размороженная грибная каша» и др. Как и
квазифольклорные выражения в написанном годом раньше «Доверии»,
321 Сорокин В. Доверие / / Он же. Указ. соч. С. 553.
118
эти пословицы созданы по образцу настоящих русских идиом:
«Жизнь прожить — не поле перейти»; «Работа не волк, в лес не
убежит».322. По мнению Е. Деготь, появление такого рода текстов
было связано с тем, что «с середины 80-х гг. все „советское"
начало во все возрастающей степени восприниматься рефлексирующей
культурой как своего рода идиома, как нечто не репрезентируемое
в своих кодах, нередуцируемое к ним. Таким образом „советское44
стало восприниматься сквозь призму
традиционно-мифологического представления о „русском44, и очень легко именно „русское44
стало предметом тематизации. А тематизация приняла вид
подражания, восхищения и попытки соперничества»323.
Заумный характер приведенных идиом выявляется только при
сопоставлении с узусом, так как, строго говоря, выражение «выть
и жонглировать мамой» не более заумно, чем «вешать лапшу на
уши». Аналогичным образом в речи героев «Доверия» в
гиперболизированной форме выразилась характерная для разговорного
языка экономия лексических средств. Персонажи часто используют
субстантиваты и опускают дополнения в глагольных конструкциях
(«разложенные полные нестандартные», «по-весеннему промотаю
отдельное»), что существенно затрудняет понимание сказанного.
В первом акте пьесы они живо обсуждают производственные
проблемы, активно оперируя техническими терминами, но смысл
разговора ускользает от читателя:
БОБРОВ. Значит, давайте сразу о главном. Дело в том, что вчера
в конце смены Андрей Денисович, так сказать, по личной инициативе
сделал замеры допусков и расклина на северной. И получил, прямо
скажем, плачевные результаты. Двадцать шесть и шестнадцать. Просто рев
и ползанье... Так что сейчас надо срочно решить в отношении выборки
и шатунов.
ВИКТОРОВА. И по поводу закрытия.
БОБРОВ. Да, и по поводу закрытия, конечно. Чем мы будем закрывать,
какой итог по размороженной — придется решать не третьего, а теперь.
Немедленно.
322 Похожее переиначивание идиом встречается в творчестве поэтов-заумников.
Например, Крученых переосмыслил пословицу «Гора родила мышь», превратив ее
в «Мышь родившую гору» (Крученых А. Стихотворения, поэмы, романы, опера.
С. 92), а Терентьев иронически использовал пословицу «Посади свинью за стол,
она и ноги на стол» в стихотворении «Илье Зданевичу»: «Магистр как свинья /
положил ноги на стол» (Терентьев И. Указ. соч. С. 102).
323 Деготь Е. Другое чтение других текстов // Новое лит. обозрение. 1996.
№ 22. С. 249.
119
ЕСИН. Ну, если так дело обстоит, надо проверить вагранщиков, да
и по опокам тоже324.
Обсуждение, формально соответствующее стилистике
производственной литературы, превращается в заумь даже для технически
образованного читателя. Еще более загадочным будет текст для
реципиента, незнакомого с употребляемой терминологией, так как
в таком контексте даже реальные термины (вагранщик, опока)
кажутся заумными лексемами.
Лингвостилистический эксперимент, осуществленный в
«Доверии», можно рассматривать в качестве художественного
воплощения одной из постмодернистских идей — разрыва между означаемым
и означающим. «Лакан абсолютизировал идеи Соссюра о дихотомии
означаемого и означающего, — пишет Н. Маньковская, —
противопоставив соссюровской идее знака как целого, объединяющего
понятие (означаемое) и акустический образ (означающее) концепцию
разрыва между ними, обособления означающего. Методологический
подход Соссюра привлек Лакана возможностью изучать язык как
форму, отвлеченную от содержательной стороны»325. Формально
оставаясь полноценными знаками, слова в «Доверии» лишены
денотатов. Однако разрыв между означающим и означаемым не
приобретает абсолютного характера, так как заумь смешивается в пьесе
с естественным языком. За счет виртуозного балансирования на
грани узуального и окказионального словоупотребления, Сорокин
создал текст, в котором стерлась граница между супрасинтаксиче-
ской заумью и стандартными языковыми конструкциями.
В пьесе «Дисморфомания» писатель обратился к деконструк-
тивистской интерпретации драматургии У. Шекспира. Монотонное
изложение однотипных историй болезней сменяется заумной
интермедией, предваряющей абсурдистскую постановку психотеатра.
В ней больные разыгрывают «повесть о Гамлете и Джульетте» —
синтетическую постановку из «Гамлета» и «Ромео и Джульетты»
Шекспира.
Интермедия объединяет осколки разных дискурсов, остранен-
ные вкраплением заумных элементов, в одно ритмическое целое.
Прозаический коллаж начинается имитацией политехнического
дискурса: «Машинное поступление, механическое разграничение
структур, промодо, принадлежность к шатунному скольжению
324 Сорокин В. Доверие. С. 538.
325 Маньковская Н. Лакан Жак // Лексикон нонклассики. С. 264.
120
обеспечивает долговременную протяжку центрального гидроузла,
являющегося опорным звеном системы»326. Употребление
технических терминов в бессмысленных сочетаниях превращает текст
в супрасинтаксическую заумь, как это было в «Заседании завкома»
и «Доверии». Сами термины в таком контексте выполняют функцию
заумных лексем, мало отличающихся от окказионализмов (промо-
до, поддон-зигель, руппор). Это напоминает дадаистские
изображения псевдотехнических устройств, вроде «Шоколадной мельницы
№ 2» (1914) М. Дюшана или «Парада любви» (1917) Ф. Пикабиа.
Терминологическая заумь переходит в фонетико-морфоло-
гическую, что акцентирует смысловую неопределенность
предыдущего фрагмента: «Клино опросто, аноро умаристо, холесто укаре-
бо, морепобойно нормали, контроло нормодело повыше, эффекто
функко, эффекто пробидо, эффекто обсто, эффекто биохимо,
желудо эритрото»327. Из потока заумной речи
выкристаллизовываются искаженные слова естественного языка, относящиеся к
производственной сфере («контроло нормодело повыше»), а затем к
медицинской («эффекто биохимо, желудо эритрото»). Следом идет
членовредительский фрагмент про высверливание гипоталамуса
и битье цепями, который сменяет осколок литературного дискурса:
«Николай Васильевич медленно встал, положил трясущимися
руками книгу на край стола и произнес тихим, срывающимся голосом:
узоры на столе, узоры на скатерти, узоры на стенах»328. Его
сменяет длинный перечень медицинских терминов: «Неспецифическое,
биохимическое, клиническое, прямокишечное, менструальное»329
и т. д. Подобно технической терминологии, медицинские термины
функционируют в тексте как заумные лексемы. После несколько
раз повторенной фразы «поедание экскрементов — это
преступление», следует фрагмент на своего рода медицинской зауми,
плавно перетекающей в перечисление очередных изуверских действий:
«Равновесие внутриутробного разлагающегося существа, своими
формами напоминающего решения X партийной конференции, за-
326 Сорокин В. Дисморфомания / / Он же. Указ. соч. С. 581.
327 Там же.
328 Там же. Это автореминисценция из рассказа «Соревнование»: «и мы вышли
во двор с пирамидкой на бледной простыне положили ее на грустную колоду
Василий Петрович взмахнул печальным топором и рассек ее пополам. Затем
выпрямился, смахнул трясущимися пальцами слезу, помолчал и произнес тихим, слегка
хрипловатым голосом: „Гной и сало"» [I, 518].
329 Там же.
121
висит от содержания белка в моче организма матери, а также от
разведенных раздробленных рук, скрепленных стальными скобами
ушей, намотанных на лопасти вентилятора кишок <...>
вырезанных и заспиртованных глаз, вырезанных и заспиртованных
предсердий, вырезанных и заспиртованных селезенок, вырезанных и
заспиртованных почек»330.
Заключительная часть интермедии состоит из фразовых блоков,
в которых повторяются различные выражения, подобно тому как
в предыдущем фрагменте многократно повторялось
словосочетание «вырезанный и заспиртованный». Среди этих фраз
встречаются как нормативные («арахниды в жидком стекле», «доминантный
септаккорд», «пентакль германцев»), так и заумные («портретная
слюна», «Богородица втулок», «высоковольтное правительство»),
образованные по принципу лексико-семантической несочетаемости
компонентов.
Несмотря на кажущуюся хаотичность, текст интермедии
развивается по определенной логике, которая не дает ему распасться
на отдельные части. Если поэты-заумники объединяли слова по
звучанию, а не значению («внутреннее склонение» Хлебникова),
то Сорокин компонует фразовые блоки, исходя из их строения и/
или тематической соотнесенности. Смысл при таком подходе
неизбежно отодвигается на второй план, а морфологическая заумь
способствует еще большему рассеиванию семантики текста.
Размытое содержание контрастирует с жесткой формальной логикой,
скрепляющей разрозненные фрагменты в единое, можно сказать,
литое целое. Многократное повторение отдельных фраз и фразовых
комплексов придает тексту ритмический характер, производя
почти гипнотическое воздействие.
Употребляя разнообразные термины (технические,
медицинские, зоологические — «арахниды», музыкальные — «доминантный
септаккорд») Сорокин обыгрывает эффект, который производит
терминологически насыщенный текст на неспециалиста. Термины из
разных областей знания в заумном контексте теряют свой смысл.
Вместе с тем именно специальные тексты требуют максимальной
точности и однозначности в передаче смысла, то есть являются
наиболее «авторитарными» в постмодернистском смысле слова.
В отличие от прозаических произведений, драматургия Сорокина
представляет собой целостное стилистическое образование. Поэто-
330 Там же.
122
му, вновь обратившись к театру после почти десятилетнего
перерыва331, Сорокин предпринял попытку «вернуться к старому доброму
стилю»332. О. Зинцов сравнил «Капитал» с «Доверием», отметив, что
писатель сохранил «структуру производственной драмы и ритуал»333.
Действительно, заменив производственную тематику
финансовой, завод банком, а производственный процесс банковской
операцией, Сорокин использует наработанные приемы для придания
тексту заумного характера. Это и смешение окказионализмов с
реальной терминологией («Почему, спрашивается, в девятнадцатый
раз юридическое управление „Белого богатства" находит в
договоре пункт о форсмажоре в случае неликвидности быстрых продаж
и выставляет нам минуспозит с возвратом?»), употребление фраз
с неясным значением («Мы встанем на четыре кома сорок, как три
года назад!»; «Что — Заза?! Кто закрывал по восемь кома три?! Кто
пихал остаток?! Заза?!»)334, вкрапление варваризмов (come down,
exactly; ара, мадлоб, генацвале; vous compronez). Удельный вес
заумных фраз стал меньше, но их функция осталась прежней.
Основное событие «Капитала» — шрамирование лица
президента банка. «Пресса уже написала, что это буквально понятая
фраза „банковская операция", — сказал Сорокин. — Дело в том,
что в нашем мифологическом государстве глава любой компании
собственным лицом отвечает за нее. Я попытался это понять как
реальность — человек отвечает собственной кожей, своими
мышцами лица»335. В кульминации пьесы сотрудники банка и бригада
PR-TV исполняют ритуальный танец под руководством начальника
PR-отдела Слуцкой:
БРИГАДА PR-TV. Багси-do! Монсто-yeh!
СЛУЦКАЯ. Ветер! Успех! <...>
ПОПОВ. Основа и доверие! Летняя стабильность! Кредитный порядок!
СЛУЦКАЯ. Ветер! Достаток!
БРИГАДА. Οπρο-nam! Монсто-yeh!336
Русско-английская морфологическая заумь смешивается в этих
ритмически выкрикиваемых фразах с естественными словами и фи-
331 Сорокин не писал пьес с 1997 года, когда была окончена «Dostoevsky-trip».
332 Сорокин В. «Русский абсурд внешне мутирует, хотя внутри не меняется с
XVI века»: интервью.
333 Зинцов О. Наш капитал вперед // Ведомости. 2007. № 57. С. А8.
334 Сорокин В. Капитал. С. 343, 349-350.
335 Сорокин vs Бояков: интервью. С. 8.
336 Сорокин В. Капитал. С. 350-351.
123
нансовой терминологией, а придуманные Слуцкой заумные
заклинания вызывают восторг у сотрудников: «Как она: „Ветер, достаток!"
А это: „Οπρο-nam! Монсто-yeh!". Как у нее голова устроена! Такое
же придумать надо!»337. Ироническое отношение к
производственным процессам сменяет пародирование пиаровских технологий,
причем и то, и другое понимается как ритуальное действо. По словам
Сорокина, Слуцкая «олицетворяет главную жрицу капитала,
которая танцует перед лицом божества. В зависимости от силы и
точности этого танца будет божественная реакция»338. Пьеса «Капитал»
стала свидетельством неугасающего интереса писателя к зауми.
Заумный язык будущего в романе
«Голубое сало» и книге «Пир»
Конструкт «новорусского языка» в романе «Голубое сало»
«Голубое сало» — одно из самых сложных произведений новейшей
русской литературы. Как отмечали критики, это роман с
«многослойной структурой текста»339, содержащий «остроумнейшие языковые
находки»340. По мнению Д. Голынко-Вольфсона, «никакого аналога
таким новаторским языковым играм в русской прозе, пожалуй, не
наблюдается»341. Многие рецензенты обратили внимание на
непонятность языка «Голубого сала». А. Генис отмечал, что роман написан
на «руинах семантики»342, а А. Шаталов указывал на «изысканное
и вполне бессмысленное использование выдуманной специально для
этого текста лексики»343.
337 Там же. С. 352.
338 Сорокин vs Бояков: интервью. С. 9.
339 Генис А. Страшный сон как подсознание русской литературы // Общая газ.
1999. № 27. С. 10.
340 Смирнова Д. Плохой хороший Сорокин [Электронный ресурс] //
Афиша. 2001. URL: http://www.afisha.ru/review/books/144641/ (дата обращения:
01.10.2011).
341 Голынко-Вольфсон Д. Владимир Сорокин // Худож. журн. 2000. № 28/29.
С. 78.
342 Генис А. Страшный сон.
343 Шаталов А. Владимир Сорокин в поисках утраченного времени // Дружба
народов. 1999. № 10. С. 205.
124
Сказанное относится, прежде всего, к первой части романа, в
которой Сорокин «моделирует язык будущего»344. «Голубое сало»
открывается серией любовных писем, якобы написанных в 2068 году
«биофилологом» Борисом Глогером. Специфический язык этих
посланий можно рассматривать в качестве особой разновидности
заумного языка, созданной Сорокиным в результате творческого
преображения традиций русского авангардизма.
Конститутивный для зауми эффект ускользания смысла
возникает в «Голубом сале» за счет взаимопроникновения множества
языковых и стилистических пластов. В мире будущего сосуществуют
два варианта русского языка: «новый» и «старый». По замечанию
Глогера, восточные сибиряки говорят «на старом русском с
примесью китайского» [III, 12]. Сам же герой изъясняется
преимущественно на «новом» русском языке. Отнесение действия в будущее
позволило писателю уснастить текст значительным количеством
авторских неологизмов и окказионализмов, имитируя естественное
обновление языка с течением времени. Наряду с этим Сорокин
насыщает письма Глогера различными варваризмами, большую часть
которых составляют китаизмы. Это отражает геополитические
прогнозы автора: «Через десять лет в Сибири будут говорить на смеси
русского и китайского языков»345; «Меня <...> завораживает идея
алхимического брака между Китаем и Россией»346. Фантастическая
профессия главного героя обусловила обилие в его письмах (квази)
научной терминологии и лексическое богатство текста.
Специально для «Голубого сала» Сорокин изобретает множество
новых слов, поражающих разнообразием словообразовательных
моделей. Большую часть авторских неологизмов составляют
обозначения новых реалий и понятий, якобы возникших к 2068 году:
«мультисекс», «репликант», «логостимулятор», «хромофризер»,
«голо-пузырь». Особое место среди них занимает квазинаучная
терминология: «L-гармония», «S-трэш», «М-баланс», «W-амбиции»,
«сверхизолятор». Несколько меньше в тексте неологизмов, не
связанных с описанием мира будущего: «топ-директ», «плюс-позит»,
«пластилинить», «негативист», «волосеть». Помимо авторских
неологизмов, писатель активно использует окказионализмы, написан-
314 Сорокин В. «Мне не грозят какие-либо премии»: интервью // НГ Ex Libris.
1999. № 12. С. 1.
315 Сорокин В. Россия возвращается во времена феодализма: интервью
[Электронный ресурс] // HhoCMH.Ru. 2006. URL: http://www.inosmi.ru/
inrussia/20061127/231320.html (дата обращения: 01.10.2011).
316 Сорокин В. Собачье сердце: интервью // Rolling Stone. 2006. № U.C. 40.
125
ные как кириллицей («рипс», «тип-тирип по трейсу», «маннован-
но»), так и латиницей («obo-robo», «BORBOLIDE», «PSY-GRO»).
К числу окказионализмов также следует отнести новые акронимы
и аббревиатуры с неясным значением: «GENMEO», «кофе TW»,
«GWJ», «IGKC».
Все эти необычные лексемы являются результатом
индивидуально-авторской игры с языком, причем фонетический облик новых
слов явно интересует Сорокина больше, чем их семантика. Тем не
менее, в конце романа помещен словарик с толкованиями
неологизмов. Но, во-первых, в этот словарик вошли не все новые лексемы,
используемые в произведении. Догадаться о значении неупомянутых
слов, исходя из контекста, можно далеко не всегда, а некоторые
неологизмы («obtoston», «POROLAMA», «термотроп») в принципе не
поддаются дешифровке. А во-вторых, в большинстве случаев
словарик не столько проясняет, сколько затемняет значение новых слов.
Так, неологизм BORO-IN-OUT, образованный путем
присоединения к излюбленной Сорокиным заумной лексеме «боро»
англицизма in-out, означает «половой акт без релаксатора в STAROSEXe»,
a «STAROSEX» — это разновидность «мультисекса».
«GEROKUNST» — это «направление в современном искусстве,
использующее вибропрепараты реактивного действия», а «Т-вибрации» —
«поступательные вибрации красных плюс-полей Томашевича» [III,
299-300]. Такие «обманки», когда для объяснения заумных лексем
используются квазинаучные и не менее заумные фразы,
составляют три четверти словарика. Как иронически заметил Л. А.
Аннинский, «время от времени он (Сорокин — M. М.) роняет непонятное:
„Все-таки пеньтань этот Глогер, а?" — и отсылает нас к словарику
в конце романа. В словарике мы объяснений не находим, а находим
еще кучу пеньтаней»347.
Обилие неологизмов — не единственное средство, придающее
языку Глогера заумный характер. В той же мере этому
способствуют наводняющие письма варваризмы:
• Англицизмы, как транслитерированные («клон-файтер»,
«амплифаер», «фудпровайдинг», «микс-римейк», «сабвей»),
так и данные в оригинале (brain, H-bomb, natural, reconstruct,
solarium).
• Германизмы, в основном без транслитерации (verbotten,
форберайтен, frühstück, natürlich, wunderschön).
347 Аннинский Л. Песнь пепси в утробе поколения, которое смеясь рассталось
со своим будущим // Лит. учеба. 2001. Кн. 2. С. 50.
126
• Галлицизмы (mon petit, le triomphe de la cuisine française,
madam).
• Латинизмы (a propos, sic!, fatum, nihil, spiritus vini).
Пальма первенства принадлежит китаизмам. Помещенный
в конце романа словарик китайских слов и выражений,
употребляемых в тексте, насчитывает 66 единиц. Прилежный читатель, не
знающий китайского языка (а таких подавляющее большинство),
вынужден то и дело обращаться к этому словарику, что
естественным образом замедляет чтение текста, заставляя воспринимать
его более пристально. Сомнительно, чтобы кто-нибудь начал
знакомство с романом с заучивания используемых в нем китаизмов.
Скорее наоборот: многие читатели обнаружат наличие словарика,
лишь дочитав «Голубое сало» до конца.
В результате смысл фраз и предложений, частично или
целиком написанных на китайском языке, становится неопределенным.
Непривычно звучащие китаизмы в функциональном отношении
вплотную приближаются к фонетической зауми. «Бэйбиди сяотоу,
кэйчиди лянмяньпай, чоуди сяочжу, кэбиди хуайдань, рипс нимада
табень!» — негодует Глогер [III, 19]. Звуковой облик этого
предложения гораздо важнее значений составляющих его слов.
Помимо «китайщины», о засилье в мире будущего азиатской
культуры свидетельствует употребление Глогером буддийских
понятий (скандха, чакра, карма) и тибетских медицинских терминов
(ба-сам, гланг-тхабс, рмен-бу), почерпнутых из древнего
трактата «Чжуд-ши». Еще более усложняют чтение романа гибридные
образования: «рипс лаовай» (окказионализм и китаизм), «SEX-
БЭНХУЙ» (англицизм и китаизм), «mit meinem BOBO muss ich
sheiden» (немецкая фраза с вкраплением окказионализма), «by
Kosmos blessing» (английская фраза с германизмом), «ART-мей чу-
ань» (англицизм и китаизм) и т. д.
Наряду с употреблением транслитерированных иностранных
слов, Сорокин использует обратный прием: полное и частичное
написание русских слов латиницей. В первом случае такое
написание производит разве что комический эффект: «zanuda», «rezak»,
«GNOY AND SOPLY». Во втором случае оно может использоваться
в декоративных целях («спросить в LOB», «БМЕяться») или
затрагивать семантику видоизменяемых лексем, образуя находящиеся на
грани бессмыслицы окказионализмы: «SOLIÖHbin» (согласно
словарику, «склонный к изменению», хотя англ. solid означает «твердый,
127
прочный»), «ЭСЮадаться» (англ. dog — собака), «комВШезон»
(англ. bin — мусорное ведро).
Существенно, что «новорусский язык» не представляет собой
эклектичное, хаотическое нагромождение всевозможных
неологизмов и варваризмов. Многие конструируемые писателем выражения
вполне осмысленны. В качестве примера можно привести фразу
из первого письма, составленную из русских, английских и
китайских слов: «Это мой временный, творожистый brain-юэши» [III, 11].
«Юэши» — китаизм, означающий «лунное затмение». Это значение
уточняется англицизмом brain (мозг) — речь идет о «временном
помрачнении сознания». В сочетании с определением
«творожистый» получается живописная метафора. Варваризмы и
неологизмы, таким образом, не только размывают смысл отдельных фраз, но
и обладают остраняющей функцией, заставляя воспринимать текст
более внимательно.
Многоязычие писем Глогера дает основание для
сопоставления сорокинского языкового конструкта с макаронической
поэзией, предполагающей «использование в одном произведении двух
и более языков»348. В русской литературе самым известным и
объемным макароническим сочинением считается поэма И. П. Мятле-
ва «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан
л'этранже» (1840-1844). По характеристике Б. В. Томашевского,
в этой поэме «Мятлев, имитируя типичный для эпохи говор,
перемешивающий русские слова с французскими, достигает особого
комического эффекта неожиданностью словесных сочетаний»349.
В XX веке к макароническому стилю прибегали Д. Бедный
(«Манифест барона фон Врангеля», 1920), В. В. Маяковский
(«Американские русские», 1925), И. А. Бродский («Два часа в резервуаре»,
1965) и другие авторы. Совмещение двух и более языков
встречается и в прозе. В русской литературе примеры этому можно найти
в романе А. С. Пушкина «Дубровский», пародийной прозе А. Фли-
та, произведениях Вс. Вяч. Иванова.
Макаронический стиль близок заумному дискурсу. Если
читатель не знаком с языком, который используется в качестве
«чужого», то восприятие макаронизмов не отличается от восприятия
фонетической зауми. В то же время макаронизмы обычно исполь-
348 Юрченко Т. Г. Макароническая поэзия // Лит. энцикл. терминов и
понятий. Стб. 493.
349 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 2001. С. 35.
128
зуются автором в расчете на легкое распознавание, а поэт-заумник
преследует противоположную цель.
Макаронизмы не всегда сознательно используются в
комических целях. Макаронические произведения могут быть отражением
естественного состояния в культурах с широко распространенным
билингвизмом или подверженных сильному влиянию другого
языка. Характерный пример — культура Ирландии первой половины
XIX века, когда народные песни сочинялись на смеси английского
и ирландского языков (популярная песня Siuil A Ruin) или
средневековая индийская поэзия с перемежающимися куплетами на
хинди и персидском языке (в частности, в творчестве А. Хусро).
В начале «Голубого сала» Сорокин моделирует аналогичную
ситуацию. Предполагается, что Глогер пишет на естественном для
него языке, не осознавая комический потенциал своего
русско-китайско-английского койне. Неочевидный эксплицитному автору,
комизм очевиден читателю и имплицитному автору, особенно когда
макаронизмы вкрапляются в устойчивые фразы или дополняют их:
«Русский авось плюс буфуцзэ сяньсян»; «Оба — super-плюс-ваны
своего дела»; «Зрелище, скажу тебе, не для чженцзеди гунян».
Собственно русский пласт писем Глогера отличается большим
лексическим разнообразием, отчасти обусловленным спецификой
его профессии. Герой использует научные термины
(протоплазма, пульпа, гидропоник, гебефренический, посев), книжные слова
(медиальный, корпулентный, вербальный, софит, монада),
малоупотребительные и устаревшие слова (верста, трапеза, повечерие,
мамалыга, котурны), причем последние имеют в языке будущего
нейтральную стилистическую окраску.
Напротив, некоторые слова, находящиеся ныне в широком
употреблении, для Глогера являются устаревшими или архаичными.
«Их (пакеты — М. М.) запечатывают сургучом, — сообщает он в
первом письме. — Хорошее слово, рипс нимада? АЭРОСАНИ —
тоже неплохое». В начале пятого письма герой употребляет слово
«буран» и поясняет своему адресату: «Это сильный ветер со
снегом» [III, 11-12, 23]. Слова «чернильница» и «блохи» Глогер
приводит с пометкой «старрус», а слово «писатель» заменено в новом
русском «скриптором»350.
350 Здесь нельзя не вспомнить хрестоматийную статью Р. Барта «Смерть
автора»: «Скриптор, пришедший на смену Автору, несет в себе не страсти,
настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он
черпает свое письмо, не знающее остановки» (Барт Р. Смерть автора / / Он же.
129
Ряд слов поменяли в языке будущего свое значение.
Книжные слова «протей» и «протеизм» и архаизм «целокупный» Глогер
употребляет как синонимы слов «многолюб» и «однолюб», слово
«фарш» приведено в авторском словарике со значением
«вынужденное L-усилие», а «кал» означает «известное высказывание». Тем
самым Сорокин имитирует естественные языковые процессы, ведь
обновление лексического корпуса осуществляется не только путем
появления неологизмов, но и за счет того, что некоторые слова
перестают употребляться или меняют стилистическую окраску. Это
придает языковому конструкту большую убедительность.
Еще одна черта, отличающая «новый» русский от «старого» —
новые идиоматические выражения: «выбросить мороженого ежа из
своей узкой постели», «жевать стекло», «каждый сосет свое
масло», «поставить носорожий анус», «чужой пот картины мира не
застит». Часть заумных идиом перешла в «Голубое сало» из пьесы
«Доверие»: «раскрасить носорога», «тюрить мокрые отношения»,
«прессовать вымя».
К средствам, придающим письмам Глогера заумный характер,
также следует отнести щедро используемый автором курсив. Он
может использоваться в письмах в стандартной функции, для
акцентирования слова: «Вспоминать тебя — адское дело, рипс лаовай,
это тяжело в прямом смысле слова»; «Тебе, как нежной сволочи,
будет легче пережить это»; «Это принципиально, бровеносец мой
гибкий». В ряде случаев курсив маркирует слова, которые кажутся
Глогеру необычными: «Там работают в костюматорах»; «Его
войлочная кубатура освещена софитом»; «Наш solarium, или сочи-
лово на жаргоне „белых жетонов"». Но во многих случаях остается
неясным, какой именно оттенок значения привносит выделение:
«Кир держит ее за то, что она дает ему между мышцами, это знает
даже Попов»; «Если они все так провайдят, как TFG, — тогда без
рессор не обойтись».
Комбинация разнообразных средств превращает отдельные
фрагменты писем Глогера в подлинную заумь: «Помнишь
банкет в ASIA-центре по случаю split-фальжирования макросом ХЭ-
ТАО весеннего плюс-инкома?»; «„Белые жетоны" — не каблуки.
И даже не МПИ. У них solidHbin status» [III, 16, 25]. Или
следующий диалог во время шахматной партии:
Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 376). В тексте Сорокина
предложено иное понимание этого слова: скриторы — те, «кто записывал свои фантазии
на бумаге» [III, 107].
130
— Она давит крыс по вашему поводу (C:f6).
— Я не рикша для генетиков (К:Г6).
— Как ex-амазонке ей нужны гарантии (K:f6).
— Каждый сосет свое масло (С:Г6).
— Она трескается из-за батарей (Φ:ί6).
— Батареи — мой цайюань (Φ:ί6).
— Сомнения — ее ба (JI:f6).
— Рипс, нимада (Кр g7).
— Вы не пьете с утра. Поэтому — не в ударе (ЛаП).
— Рипс, а как я защищу Π (С:е6)?
— Это жирный палиатив, как говорит наш президент (С:е6).
— Скотство (fe).
— Maybe warscheinlich (Л:е6)
[III, 29].
Ближе к концу этого диалога заумная проза на мгновение
превращается в заумную поэзию.
Чтобы вникнуть во все нюансы сорокинского новояза, даже
широко образованный человек будет вынужден обратиться к
словарям. Но сколь бы скрупулезно он не доискивался до значения
отдельных слов, текст писем Глогера останется для него в той или
иной мере непонятным. Большинству же читателей этот текст
будет напоминать варварское лопотанье, в полном соответствии
с первым эпиграфом к роману:
— Взгляните! — воскликнул Пантагрюэль. — Вот вам несколько
штук, еще не оттаявших.
И он бросил на палубу целую пригоршню замерзших слов, похожих на
драже, переливающихся разными цветами. Здесь были красные, зеленые,
лазуревые и золотые. В наших руках они согревались и таяли, как снег,
и тогда мы их действительно слышали, но не понимали, так как это был
какой-то варварский язык...
...Мне захотелось сохранить несколько неприличных слов в масле или
переложив соломой, как сохраняют снег и лед.
Франсуа Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль»
Вместе с тем моделируемый Сорокиным заумный язык
будущего не превращается в самодовлеющую словесную игру. Заумь,
на которой изъясняется Глогер, наилучшим образом подходит для
описания того гротескного мира, в котором он живет.
Собственно, посредством новаторского языка во многом и творится этот
художественный мир, населенный множеством эксцентричных
и фантастических образов. Как свойственно подлинному гротеску,
отдельными чертами этот мир будущего напоминает российскую
131
действительность 1990-х годов, отраженную в кривом зеркале.
Подробнее гротескно-абсурдистские аспекты «Голубого сала» будут
рассматриваться в следующей главе книги.
Развитие «новорусского языка» в книге «Пир»
Языковая стратегия первой части «Голубого сала» получила
развитие в следующем произведении Сорокина — книге «Пир».
Пьеса «ConcretHbie» из этой книги стала своеобразным
ответвлением романа. Ее действие происходит в тот же временной период,
a concretHbie, подобно Глогеру, изъясняются на русско-китайско-
английском койне. В отличие от образного и богатого языка
биофилолога, их речь примитивна и незамысловата, но не менее
заумна. В этой пьесе Сорокин в полной мере реализовал сатирический
потенциал придуманного им языка будущего, создав пародийный
образ современной молодежи.
Язык писем Глогера был новаторским прежде всего в
лексическом отношении, изменения грамматического строя носили
незначительный и поверхностный характер. На это обстоятельство
обратили внимание критики. «Сложно предположить, что единственное
отличие новорусского языка от старорусского (нынешнего) будет
располагаться в области лексики, тем более за счет китайских
заимствований, — писал В. Сонькин. — А попыток видоизменить
грамматику почти нет <...>. Между тем, современные школьники
уже с трудом понимают тексты, скажем, Державина, не говоря
о Ломоносове — и не только за счет лексики. Здесь был простор
для лингвистической игры, но автор на нем не порезвился»351.
ConcretHbie говорят не только на лексически, но и на
грамматически модернизированном «новорусском». Во-первых, герои пьесы
злоупотребляют глаголами «делать» и «иметь», что, вероятно,
является калькированием английских конструкций с глаголами to do
и to have. Во-вторых, они постоянно используют префикс «по-»,
беспорядочно присоединяя его к разным частям речи. В-третьих,
по сравнению с «Голубым салом», было расширено употребление
префиксоидов «минус-» и «плюс-». Их присоединение образует
нечто вроде «положительной» и «отрицательной» степени сравнения.
Перечисленные грамматические инновации носят утрированный,
избыточный характер, существенно обедняя речь героев пьесы.
351 Сонькин В. Попытка романа [Электронный ресурс] / / Рус. журн. 1999. URL:
http://old.russ.ru/krug/kniga/99-07-16/sonkin.htm (дата обращения: 01.10.2011).
132
«Двинем, concretHbie! — восклицает Коля, обращаясь к своим
спутницам. — Не надо делать минус-позит, не надо иметь плюс-плохо!
Не надо делать чукоу! Надо делать жукоу! Надо иметь плюс-директ
на ваньшан! Чтобы было похорошо-на-ваньшан, а не похорошо-на-
байтянь» [III, 350].
Лексический состав речи concretHbix не отличается
разнообразием. Они говорят практически на чистом
русско-китайско-английском, изредка вставляя германизмы («19 uhr», «абтайлунг»).
При этом собственно русский речевой пласт редуцирован до двух-
трех десятков слов, с явными экивоками в сторону молодежного
сленга (конкретный, двинуть, правильный). Эти слова беспрестанно
повторяются в банальных синтаксических конструкциях '(по) иметь
что-л.', 'иметь делать что-л.\ 'двинем поиметь что-л.' и т. п.
По сравнению с «Голубым салом», гораздо больше стало
русских слов, целиком или частично написанных латиницей: пе-
кролик, npodula, до-до-раига-уеЫ-их, LËD, podruga. В отдельных
случаях смесь кириллицы и латиницы позволяет Сорокину
создавать вполне осмысленные гибридные окказионализмы. Заменяя
части русских слов созвучными им английскими лексемами, писатель
конструирует изящные, иной раз убийственно сатирические одно-
словья: та1ечик (от мальчик и male — мужчина), музыка1 (от кал
и musical — мюзикл, музыкальный; в данном случае происходит
взаимная транслитерация), по\угад (от наугад и now — сейчас),
4elust (от челюсть и lust — страсть, похоть), snowa (от снова
и snow — снег). Новаторский характер имеют гибридные
окказиональные обсценизмы, также производящие комический эффект:
govnero, yebi vashu, obo ëbo, роЬию, пизаеНо.
Заимствуя часть окказионализмов из «Голубого сала» (минус-
позит, тип-тирип-по-трейсу, топ-директ), Сорокин создает новые
окказиональные образования, построенные на созвучиях: ГУММО-2,
mobi-robi, stopin-klopin, шнуп-ди-вуп, гарахундрия. В «ConcretHbix»
также используются ранние заумные лексемы говнеро и vliparo.
Комбинируя окказионализмы и слова из разных языков, писатель
конструирует сложные словесные комплексы: двиго-аапсе-60,
ориент-плюс-Ьос1-провайдинг, вамбадан-по-трейсу, гагрыв-по-юйи-
obo-ëbo, 69-минус-похорошо, liquid-gold-vstavka. Механическое
объединение слов, передаваемое на письме дефисами, можно считать
еще одной грамматической новацией, свидетельствующей о
примитивном языковом мышлении concretHbix.
Языковое оскудение служит в этой пьесе не только сатириче-
133
ским целям: речь concretHbix можно классифицировать как
фонетическую заумь. Целью автора было создание экзотически звучащей,
«сочной» фонетической ткани. Например, можно лишь отчасти
понять, что именно «поимел» Коля со своим другом в заведении
COSMA-SHIVA: «Мы поимели плюс-позит в провайде,
пробировали 2+1, поимели бу uo-Ha-sladKnn-exit, поимели по-правильная
когэру-на-эшее^балэйу, поимели 29-Ha-otloss-npono3HUHio». А в
следующем выражении экстатического восторга звучание явно
преобладает над значением: «Топ-директ! По-плюс-сладкая пизаеИо
у этой гунян! По-плюс-bloody-bloody, жор-жор по-трейсу в плюс-
позите!» [III, 353, 358].
Звуки, издаваемые сопсге1;ными при поглощении плоти
литературных героев, органично вписываются в контекст, отсылая к
использованию фонетической зауми в пьесе «Юбилей»:
Маша (забираясь в пулевое отверстие в теле О'Рейли и выжирая
его внутренности). Храч-храч-храч!
Коля (выгрызая вагину Pea). Урч-урч-урч!
Mashenka (обгладывая лицо Реника). Иапр-иапр-иапр!
[III, 358].
В лексически бедной, клишированной речи concretHbix, к тому
же постоянно повторяющих друг за другом фразы, возникают
вариативные повторы, которые придают тексту пьесы музыкальный
характер. Это заставляет вспомнить виртуозное лейтмотивное
построение «Землянки»:
Маша. Ты поимел шен-шен?
Коля. Я поимел шен-шен.
Mashenka. Шен-шен в плюс-hochu?
Коля. Шен-шен в hochu.
Маша. Trip-корчма — не govnero.
Коля. Litera-trip — не govnero, concretHbie когэру.
Маша. Не govnero, по-правильный та1ечик.
Коля. Имею пропозицию: двинем в ецзунхуй?
Маша. Двинем в ецзунхуй!
Mashenka. Двинем в ецзунхуй!
Коля. Топ-директ, concretHbie!
[Ill, 358].
Комментируя приведенную концовку пьесы, Б. Парамонов пишет:
«Она (литература — M. М.) превращается у Сорокина в птичий
щебет, как у Хлебникова. В сущности, это — стихи. Заумь, о ко-
134
торой мечтали футуристы. Сорокин стар, как модерн, традиционен,
как авангард»352.
Действие рассказа «Ю» тоже разворачивается в мире
будущего, где не только безраздельно господствует восточно-азиатская
культура, но и делом государственной важности является еда и все
так или иначе связанное с ней. «Ю» нельзя назвать заумным
сочинением, так как в целом оно написано на современном
литературном русском языке. Тем не менее, в этом рассказе Сорокин
сохранил основные компоненты заумного языка будущего, отработанные
в предыдущих произведениях, но плотность зауми стала заметно
меньше.
В «Ю» присутствуют китаизмы, англицизмы и один галлицизм
(pourquoi), встречаются гибридные слова (slow-струи, цянь-искра,
шици — aqua — ная). Пополнилось количество окказионализмов:
PRODOMO, TON TIEN HONG, WERROW, ML-TORAX, ODO.
Акцент сделан на других компонентах зауми. Значительно
возросло количество неизвестных сокращений и загадочных буквенных
обозначений: RUO-поля, RION-усталость, TR-идея, tio-развлечение,
tao-любовник. «Твое блюдо заставило меня t-просто и ML-корректно
вспомнить вкус п-мяса, — говорит Властелин Мира повару Ю. —
И этот вкус оказался настолько F-сладок, что вызвал у меня веч-
носияющее N. Шестьдесят три года я ел только к-мясо. Теперь
мне придется t-радикально изменить весь WQ» [III, 448]. В иных
случаях Сорокин изящно обыгрывает свой художественный прием:
«Испытав взаимное L, Bohomoletz и Ю стали спать в одной
кровати». Ясно, что под L имеется в виду «любовь», а под N в
вышеприведенной речи Властелин Мира понимал «наслаждение».
Текст «Ю» пестрит собственными именами и названиями, не
менее аутентичными и изобретательными, чем в сцене переклички
из романа «Очередь». На страницах рассказа встречаются
азиатские (Масаи Оиши, Хисаши Ватанабэ, Ли Бо), европейские (Пьер-
ро Минелли, Джэйми Гэмбрелл, Андреас Шмаррндорф), русские
(Егорофф, Petroff), окказиональные (MUO MUO, AVILLEO, ЕЁ) и
гибридные (Евсей ААбер, Анитра Волкофф, Лю Rex) собственные
имена. Почти все они отличаются звучным характером. Как
писал В. Шкловский, сравнивая стихотворение Хлебникова «Бобэоби
пелись губы...» с переводом И. А. Буниным «Песни о Гайавате»
Г. У. Лонгфелло, «чем чоктосы лучше Бобэоби? Ведь и там и здесь
гурманское смакование экзотических, чуждо звучащих слов. Для
352 Парамонов Б. Чистое искусство Владимира Сорокина.
135
русского уха Бобэоби так же „заумны", как и чоктосы, шошоны, —
как и „гэи-гзи-гзэи!"»353. Аналогичную роль играют в тексте «Ю»
экзотизмы, преимущественно японского происхождения (юката,
ниотаимори, собэ, хуан-хуа, сюрикэн) и названия малоизвестных
блюд (сармале, мамалыга, мититеи, папанаши, фриптура). Во всех
трех случаях — собственные имена, экзотизмы, кулинарные
наименования — необычное звучание лексем важнее их значения,
поэтому они воспринимаются как фонетическая заумь.
В «Ю» встречается знакомое по «Голубому салу» выделение
слов курсивом для неясной нюансировки значений:
— Благородный DANNO опасается другого, — вмешался ААбер. —
Разница между запахом гниющих потрохов птиц и млекопитающих столь
очевидна, что не позволяет ему сбросить это видение. Вы дорожите им,
DANNO, не правда ли?
— Да. Я дорожу, — тихо ответил DANNO. — Но не как первичной
сферой.
— А как Тремя?
DANNO смущенно кивнул
[III, 429].
Курсивом в тексте выделены некоторые новые идиомы:
«опрокинуть горшок с прогорклым маслом», «метать сюрикэн в тень
спящего медведя», «каждый день находить горшок с барсучьим салом».
Следы заумного языка встречаются еще в трех
произведениях, вошедших в «Пир». В открывающем книгу рассказе «Настя»
персонажи совершают странный ритуал для воскрешения главной
героини, забивая в определенной последовательности золотые
гвозди. При этом они «гортанно гудят в нос»: «ΝΟΜΟ вобью, ΝΟΜΟ
вобью, ΝΟΜΟ вобью», «LOMO вобью, LOMO вобью, LOMO
вобью», «SOMO вобью, SOMO вобью, SOMO вобью» и т. п. [III,
334-335]. В речи допрашиваемого из рассказа «Машина»
фигурируют две заумные лексемы: privat-гастро и ROGaTbie. Под
пытками озвучивая свое «privat-гастро», обвиняемый перечисляет блюда
различных национальных кухонь. Собранные вместе,
транслитерированные названия реально существующих кушаний приобретают
заумный характер: «Темпура, свиная отбивная с луковым пюре,
солянка московская, альбондигас ен сальса де альмендра, звин-
ски рэбра з кисело зелею, чоп сви, зильбулар мед коритзёс, тань
су ю, курник, бефстроганов, летучая мышь по-мадрасски» [III, 540].
Шкловский В. Б. О поэзии и заумном языке. С. 57.
136
Герой рассказа «Моя трапеза», Сорокин Владимир Георгиевич,
перемешивает в своей речи варваризмы с окказионализмами («кло-
повулы», «рипс»), иногда имитируя при этом грузинский акцент,
что косвенно отсылает к Сталину из «Голубого сала».
Заумь как прием остранения
в романной «Трилогии»
В начале 2000-х годов Сорокин сменил художественные
приоритеты. «„Лед" — это первый для меня роман, где на первом месте не
форма, а содержание», — заявил писатель в интервью сайту «Грани.
Ру»354. Последовавший за «Льдом» роман «Путь Бро» в еще большей
мере отвечал новым художественным принципам: «Наверное, это
первый роман, в котором меня интересует только содержание, сама
история как таковая»355. Несмотря на это, заумный язык не потерял
для писателя значимости. При передаче слов «сердечного» языка,
на котором разговаривают люди Света, средствами земного языка
возникает фонетическая заумь, что подтверждают имена героев:
-Зу!
— О!
— Карф!
— Ык!
— Ауб!
— Яч!
— Ном!
[Трилогия, 414].
Это экстатическое перечисление имен «новорожденных»
братьев и сестер можно включить в любую книгу А. Крученых без
риска нарушить ее стилистическую целостность. В «Трилогии»
Сорокин вновь использует заумный язык в его изначальной сакральной
функции. Более того, существует преемственность между
содержанием гностического неомифа, положенного в основу «Трилогии»,
и концепцией остранения В. Шкловского, сыгравшей важную роль
в теоретическом обосновании феномена зауми.
354 Сорокин В. «Я написал „Лед" вместе с собакой Саввой» [Электронный
ресурс] // Грани.Ру. 2002. URL: http://www.grani.ru/Culture/Literature/
m.6372.html (дата обращения: 01.10.2011).
355 Сорокин В. «Я не брат Света, я скорее мясная машина»: интервью. С. 1.
137
«Музыка Вечной Гармонии», в которую вслушивается
основатель Братства Света, сообщает ему: «Люди стали жить умом,
закабалив себя в плоти и времени. Развитый ум породил язык ума.
И человечество заговорило на нем. И язык этот, как пленка,
покрыл весь видимый мир. Люди перестали видеть и ощущать
вещи. Они стали их мыслить (курсив мой — Μ. Λί.). Слепые
и бессердечные, они становились все более жестокими» [Трилогия,
84]. Ударившись грудью о «божественный лед», Бро заново
открывает для себя мир и забывает язык людей: герой начинает
«говорить сердцем» и видеть окружающее духовным зрением.
Первые подступы к концепции остранения Шкловский сделал
в работе «Воскрешение слова» (1914). Статья «Искусство как
прием» (1917), в которой появилось само понятие и его теоретическое
обоснование, фактически развивала основные положения
вышедшей ранее мини-монографии. В этой статье Шкловский не
касается деятельности футуристов, но, как показывает «Воскрешение
слова», концепция остранения была вызвана к жизни творчеством
«будетлян» и, в том числе, использованием ими заумного языка как
новаторского художественного приема. В промежутке между двумя
упомянутыми работами Шкловский написал статью «О поэзии и
заумном языке» (1916), которая стала первым обстоятельным
опытом исследования зауми. В ней литературовед утверждает заумный
язык как один из способов преодоления автоматизма восприятия,
причем значительная часть статьи посвящена исследованию зауми
как языка сакрального общения.
«Сейчас старое искусство уже умерло, новое еще не
родилось, — читаем в „Воскрешении слова", — и вещи умерли, —
мы потеряли ощущение мира <...>. Только создание новых форм
искусства может возвратить человеку переживание мира,
воскресить вещи и убить пессимизм»356. В статье «Искусство как
прием» потеря ощущения мира объяснялась процессом автоматизации:
«Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься
узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не
видим»357. «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь, — заключал
Шкловский. — Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену
и страх войны. <...> И вот для того, чтобы вернуть ощущение
жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень
каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства
356 Шкловский В. Б. Воскрешение слова / / Он же. Указ. соч. С. 40.
357 Шкловский В. Б. Искусство как прием / / Он же. Указ. соч. С. 64.
138
является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание;
приемом искусства является прием „остранения" вещей и прием
затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу
восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей
и должен быть продлен; искусство есть способ пережить де-
ланье вещи, а сделанное в искусстве не важно»358.
Сходство между «Музыкой Вечной Гармонии» и концепцией
остранения несомненно, но не менее существенно различие. Для
Шкловского автоматизация — процесс хотя и негативный, но
закономерный, даже универсальный, и, что важно, обратимый;
именно для этого, по мысли исследователя, существует искусство. Для
людей Света потеря ощущения вещей является одной из главных
причин существования зла в мире: «Потому что человек был
величайшей ошибкой. Как и все живое на Земле» [Трилогия, 84].
Сорокин перевел искусствоведческую концепцию в область этики
и онтологии.
С точки зрения Шкловского, «вывод вещи из автоматизма
восприятия совершается в искусстве разными способами», одним из
которых постоянно пользовался Л. Н. Толстой: «Прием остранения
у Л. Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее именем,
а описывает ее как в первый раз виденную, а случай — как в
первый раз происшедший»359. Именно в таком стиле — с явной опорой
на Толстого — выдержаны последние главы «Пути Бро» (и
отдельные фрагменты романа «23 000»), когда престарелый Бро начинает
«видеть» земной мир сердцем: «Война мясных машин окончилась.
Страны Льда и Свободы победили. Страна Порядка проиграла. Ее
мясные машины клубились устало и отчаянно. Они убивали и
погибали. Вождь исполнил мучительное желание своей жизни: он
героически проиграл великую войну. Забравшись глубоко в землю,
он убил себя металлом из железной трубки. Победившие мясные
машины судили помощников вождя. Их подвесили за шеи на
веревках, чтобы они не могли дышать. И помощники вождя
задохнулись» [Трилогия, 228].
Кроме имен героев, концепт заумного языка нашел в
«Трилогии» еще одно воплощение. В. Шевцов обратил внимание на то,
что «многочисленные курсивы, рассыпанные по тексту (романа
„Путь Бро" — M. М.) <...> десемантизируются, приобретая
свойства витгенштейновского „индивидуального языка" — этакой „не-
358 Там же. С. 63.
359 Там же. С. 64.
139
заумной зауми" или скорее словесной иконы»360. Люди Света
изъясняются между собой на сокровенном языке, «говоря» сердцами.
«Язык ума», на котором общаются обычные люди, не в состоянии
передать всю полноту духовной жизни братства. Когда люди Света
прибегают к человеческому языку, они обычно вкладывают в его
лексемы особый, им одним ведомый смысл. Этот смысл носит не
столько индивидуальный, сколько сакральный характер, так как
истинное значение употребленных таким образом слов недоступно
пониманию обычных людей — его могут прочувствовать только
люди Света.
Выделение слов курсивом с указанной целью является
развитием приема использования курсива для неясной нюансировки
значений в «Голубом сале» и «Пире». В новой функции этот прием
был опробован в романе «Путь Бро», а затем перешел в роман
«23 000». Как отмечал Сорокин, «по мере перерождения героя
мутирует и эмоционально усыхает язык описания им окружающего
мира»361. Наряду с этим растет удельный вес курсивов в тексте.
И хотя формально эти слова не подходят под определение
заумного языка, так как являются обычными русскими лексемами, сущ-
ностно они отвечают основным характеристикам зауми как языка
сакрального общения.
Резюме главы
Владимир Сорокин — один из наиболее самобытных
интерпретаторов концепта заумного языка в русской литературе. Заумь
используется писателем на протяжении всего творческого пути во
всех ее типовых разновидностях, от фонетической до супрасин-
таксической. Такие шедевры заумного словотворчества Сорокина,
как рассказ «Летучка», по масштабности замысла и виртуозности
исполнения сопоставимы лишь с творениями «классика» зауми
(В. Ф. Марков) И. М. Зданевича.
Писатель не только активно осваивает и развивает известные
функционально-тематические разновидности зауми, такие как
неведомый язык, сакральный язык, патологическая речь, но и создает
новые. В их числе — жаргонно-терминологическая заумь,
использование курсивного начертания для десемантизации лексем и
заумный конструкт «новорусского языка».
360 Шевцов В. Путь моралиста.
361 Сорокин В. Меа culpa?
140
Впервые представленный в романе «Голубое сало»,
«новорусский язык» является новаторским художественным конструктом,
который выразил свойственный постмодернизму дух плюрализма,
многоязычия и мультикультурности. Конститутивный для зауми
эффект ускользания смысла возникает в «новорусском языке» за
счет взаимопроникновения множества языковых и стилистических
пластов: авторских неологизмов, окказионализмов, варваризмов,
архаизмов, научной терминологии, новых идиоматических
выражений и т. д.
Незадолго до выхода «Голубого сала» Сорокин сказал, что в
первой части романа он попытался «подтянуть литературный язык до
современного уровня»: «Книга должна соответствовать времени, ее
ритм должен совпадать с ритмом сегодняшней жизни»362.
Возникший в итоге новаторский художественный язык стал самой
оригинальной интерпретацией концепта зауми со времен деятельности
литературной группы «41°». Сорокинская «новозаумь» выразила
дух конца XX века не в меньшей мере, чем футуристическая заумь
отвечала умонастроения начала столетия.
В отличие от предыдущих произведений, в которых заумь
использовалась в сакральной функции, в «Трилогии» ее
спорадические включения обусловлены не столько стилистическими
задачами, сколько неомифологическим контекстом произведения.
362 Сорокин В. «Мне не грозят какие-либо премии».
141
Гротеск
Теоретическая преамбула
Гротеск как художественная категория
Гротеск — это один из самых распространенных в литературе
видов образности, берущий свое начало еще в фольклоре. В
литературоведении существует различное понимание содержания этого
явления, вызванное реальным многообразием гротесковых форм.
Как пишет О. В. Шапошникова, чаще всего гротеск
определяется «по принципу содержательных контрастов как переход
комического в ужасное, высокого в низкое или как эмоциональная
двузначность образности (амбивалентность)»363. Однако «начиная
с 18 в. гротеск строится в основном на нарушении принятой
системы воспроизведения действительности, с которой фантастика
вступает в своеобразный конфликт»364. В этой связи более точным
является понимание гротеска как специфического вида
фантастической образности.
Гротеск, с этой точки зрения, характеризуется двумя
основными признаками. Во-первых, ему присуща осознанность вымысла,
очевидная как автору, так и читателю (слушателю). Во-вторых,
«гротеск предполагает стилевую противоречивость планов
художественной реальности и фантастики. <...> Не художественная
конструкция в целом противостоит здесь правдоподобию, а в самой
стилевой целостности очевидно противоречие разностилевых форм
и связей»365.
Стилевая противоречивость не означает, что в гротесковых
произведениях жизнеподобные и фантастические элементы
существуют порознь. Д. П. Николаев подчеркивает, что для гротеска
необходимо именно «структурное соединение воедино предметов,
признаков, частей, принадлежащих к разным жизненным рядам»366.
Гротескный образ литературовед определяет как «такое структурное
363 Шапошникова О. В. Гротеск и художественная условность // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. 1982. № 3. С. 16.
364 Шапошникова О. В. Гротеск // Лит. энцикл. терминов и понятий. Стб. 189.
365 Шапошникова О. В. Гротеск и художественная условность. С. 22.
366 Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М., 1977. СИ.
142
сочетание различных элементов, которое в действительности не
встречается и ни на что реально существующее не похоже (не
похоже именно в целом, а не отдельными своими компонентами)»367.
Вместе с тем гротеск тесно связан с жизненной реальностью.
«Гротеск возникает как выражение резких контрастов
действительности, — пишет Ю. В. Манн. — Гротеск не ограничивает
сатирическое заострение подчеркиванием, сгущением, выдвижением
на первый план определенных черт предмета, а словно разрушает
саму его структуру, создает новые закономерности и связи.
Возникает особый гротескный мир, существенно важный, однако, для
вскрытия реальных противоречий действительности»368.
Романтический и реалистический гротеск
В рамках указанного периода (с XVIII века) расцвет гротескной
образности происходит в эпоху романтизма. «Мир романтического
гротеска, — считает М. М. Бахтин, — это в той или иной степени
страшный и чуждый человеку мир. Все привычное, обычное,
обыденное, обжитое, общепризнанное оказывается вдруг
бессмысленным, сомнительным, чуждым и враждебным человеку. Свой мир
вдруг превращается в чужой мир. В обычном и нестрашном вдруг
раскрывается страшное»369.
В связи с этим в романтизме сформировалась особая
разновидность мрачного гротеска. «В творчестве таких писателей, как Эдгар
По и Барбэ д'Оревильи, гротеск теряет всякую связь с комикой,
становясь адекватным выражением кошмарно-бредового восприятия
действительности»370. «В романтическом гротеске на первый план
выдвигается кричащий диссонанс, выражающий трагическую
несовместимость идеала и действительности, омертвение,
автоматизацию жизни, искажение ее сущностных черт», — отмечает М. Ли-
повецкий371.
В эпоху реализма в литературе возникает иной тип гротескной
образности, доминанту которого Ю. Манн видит в стремлении
объективировать противоречия действительности и преодолеть их372.
367 Там же. С. 200.
368 Манн Ю. В. Гротеск // Краткая лит. энцикл.: в 9 т. Т. 2. М., 1964. Стб. 401.
369 Бахтин M. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 45.
370 3. Е., Р. Ш. Гротеск // Лит. энцикл.: в 11 т. Т. 3. М., 1930. Стб. 36.
371 Липовецкий M. Н. «Нет, ребята, все не так»: Гротеск в русской литературе
1960-80-х гг. Екатеринбург, 2001. С. 3.
372 См.: Манн Ю. О гротеске в литературе. М., 1966. С. 70-73.
143
Концепция реалистического или натуралистического гротеска
разрабатывалась преимущественно в советском литературоведении373.
В западноевропейской эстетической мысли в реализме часто
видели «реликтовые остатки гротеска»374, делая акцент на
романтическом и наследующем ему модернистском гротеске.
Модернистский гротеск
С начала XX века позиции гротеска в литературе многократно
усиливаются: он становится одним из основных средств воссоздания,
а точнее, пересоздания жизненной реальности. Поэтому гротеск
нередко понимается современными исследователями как категория
метапоэтики. «Практически все теории гротеска, возникшие на
Западе в XX в., были связаны с попытками дать ему некое
философское, онтологическое, а не только эстетическое толкование», —
пишет М. В. Тлостанова375.
Появление на этом фоне абсурдизма как самостоятельного
художественного феномена привело к тому, что понятия «абсурд»
и «гротеск» стали отождествляться. Как отмечают А. Ф. Лосев
и В. П. Шестаков, «в эстетике экзистенциализма гротеск
становится своего рода переводом на язык эстетики понятий абсурда
и страха»376. А. Б. Базилевский указывает, что М. Эсслин,
«развивая свою концепцию, без комментариев заменял понятие „абсурд"
понятием „гротеск'4»377. «Абсурд почти всегда выражается
посредством гротеска, и гротеск практически немыслим без абсурдного
элемента», — утверждает М. Тлостанова, исходя из опыта
западноевропейской литературы XX века.378
Почвой, подготовившей всплеск интереса к гротеску,
исследовательница считает «онтологический и морально-нравственный
релятивизм», получивший с начала XX века широкое
распространение. В эстетической сфере это приводит к ситуации,
когда «полностью исчезает противопоставление игры и реальности,
373 О развитии понятия «гротеск» в советском литературоведении см.:
Геллер Л. Из древнего в новое и обратно // Абсурд и вокруг. С. 106-111.
374 Манн Ю. Указ. соч. С. 72-73.
375 Тлостанова М. В. Гротеск в литературах Запада XX века //
Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. М., 2002. С. 413.
376 Лосев А. Ф., Шестаков В. П. Гротеск // Они же. История эстетических
категорий. М., 1965. С. 368.
377 Базилевский А. Б. Гротеск в литературах Восточной Европы //
Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. С. 444.
378 Тлостанова М. В. Указ. соч. С. 424.
144
мира недолжного и истинного»-379, типичное для классических
видов гротеска.
Этим объясняется характерная особенность модернистского
гротеска, выражающаяся в стремлении придавать фантастическим
образам обыденный характер, описывать невероятное в бесстрастном
ключе. Гротеску вообще свойственна «предметность и вещность
воспроизведения», «перевод фантастического в прозаический,
будничный план»380. Рассуждая о «натуралистическом гротеске»
повести Н. В. Гоголя «Нос», В. В. Виноградов пишет: «В ней законы
художественного сплетения сознательно противопоставляются
условиям „реального" взаимоотношения вещей, но так, что сами герои
происшествия обсуждают и ощущают каждую данную ситуацию
как реальный факт, хотя и поражающий их своею странностью.
<...> Благодаря такому приему фантастика и реализм
„смешиваются в винегрет", и читатель начинает поддаваться иллюзии <...>
что, несмотря на всю „странность", „естественно-научную"
необъяснимость происшествия, действие происходит наяву»381. В
модернистском гротеске «заземление» фантастической образности
связано не столько с попыткой убедить читателя в действительности
происходящего, сколько с восприятием самой жизненной
реальности как исполненной фантасмагорий и абсурда. «Действительность
слишком напоминает страшный сон, и читатель легко допускает
фантастическое, причем в его обыденном, а вовсе не сказочном
обличье, и без специальных мотивировок и объяснений»382.
Восприятие действительности как хаотичной и ненормальной,
полной неподвластных человеку и враждебных ему несуразностей
привело к усилению в модернистском искусстве трагического
начала, что нашло отражение и в отношении к гротеску. Если
реалистический гротеск нередко имел сатирический характер,
служа выражению возможности переустройства недолжного мира,
то в модернистской литературе возрождается традиция мрачного
гротеска эпохи романтизма. Ее абсолютизация порождает так
называемый макабрический гротеск, в котором полностью
отсутствуют элементы комизма и катарсиса: «дисгармоничность бытия, его
тотальная абсурдность становится самодовлеющей, „странное",
379 Там же. С. 413, 410.
380 Манн Ю. Указ. соч. С. 98, 97.
381 Виноградов В. В. Натуралистический гротеск: Сюжет и композиция повести
Гоголя «Нос» / / Он же. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 22.
382 Тлостанова М. В. Указ. соч. С. 434-435.
145
„ненормальное" не преодолевается», происходит постулирование
«перевернутого с ног на голову бытия как суррогата потерявшей
смысл нормы»383.
Придание фантастическим образам статуса жизненной эмпирики
усложняет модернистский гротеск по сравнению с романтическим.
С целью показать, в чем именно проявляется усложнение, Ю. Манн
обращается к творчеству Л. Пиранделло. Отмечая рост в его
драматургии релятивистских настроений, исследователь пишет, что из
произведений Пиранделло «вместе с истиной <...> исчезает
реальность»: «Свойственный гротеску элемент двуплановости перестает
быть условностью, становится темой и пафосом художественного
произведения»384. Усиление условного начала литературовед
расценивает как негативную тенденцию: «Нарушается естественная,
гармоническая двуплановость гротеска. Обрываются ассоциативные нити,
соединяющие гротескное с реальностью <...>. Гротеск умирает»385.
Опыт постмодернистского искусства свидетельствует об ином.
Постмодернистский гротеск
Дальнейшее развитие модернистской тенденции к усилению в
гротеске условного начала привело не к вырождению этого вида
образности, а к его перерождению. Собственно, уже Пиранделло вплотную
подошел к постмодернистской художественной аксиологии в таких
пьесах, как «Это так, если вам так кажется» (1917) и «Шесть
персонажей в поисках автора» (1921). Убежденность в иллюзорном
характере любой картины мира обусловила видоизменение в
постмодернистском гротеске природы жизнеподобного и фантастического
начал. Сомнение в существовании объективной действительности
обрекает на заведомую неудачу все попытки ее творческого отражения;
плодотворной оказывается только игра с уже существующими в
культуре картинами мира путем их причудливого смешения и
деконструкции. Ключевыми свойствами постмодернистского гротеска, отмечает
Тлостанова, становится уход «разрушительного гротескного начала
целиком в стиль, в дискурс, а также не менее разрушительная
гротескная пародия, построенная на принципах интертекстуальности»386.
Спецификой постмодернистского гротеска можно считать созна-
383 Там же. С. 421, 419.
381 Манн Ю. Указ. соч. С. 140.
385 Там же. С. 156.
386 Тлостанова М. В. Указ. соч. С. 415.
146
тельное нарушение художественной логики. В качестве
фантастических элементов в таком гротеске выступают реалии и события,
невозможные не в «действительности», но в представлении о ней,
кристаллизовавшемся в том или ином жанрово-стилевом каноне.
Например, в романе Сорокина «Роман», действие которого, по
признанию писателя, происходит «в пространстве русского романа»387,
«правдоподобным» началом следует признать стиль классического
русского романа XIX века, а «фантастическим» — стремительную
деградацию этого канона в концовке произведения.
На нарушении принятой системы воспроизведения
действительности строится любой вид гротеска. Но в его классических
вариантах и, отчасти, в модернизме легитимность этой системы
не ставится автором под сомнение. Новизна творческой позиции
писателя-постмодерниста заключается в том, что он не может
признать «своей» ни одну из используемых художественных стратегий:
все они релятивистски уравниваются между собой и критически
оцениваются со стороны. «Чем отличается „нормальный" писатель
от концептуалиста? — говорил Сорокин. — Тем, что он имеет свой
литературный стиль, по которому узнается читателем — как
узнается Набоков или Кафка. У меня же его — раз навсегда
избранного — нет. Я лишь использую различные стили и литературные
приемы, оставаясь вне их. Мой стиль состоит в использовании той
или иной манеры письма»388.
Гротеск в творчестве Сорокина
Ориентация на гротесковые и близкие к ним художественные
формы составляет одну из конститутивных черт творчества Владимира
Сорокина. Рассуждая о рассказе «Настя», писатель сказал:
«Понятно, такого не может быть, но все описывается достоверно, как
истинный факт. Несовпадение этих двух категорий —
невероятного и достоверного — у меня всегда присутствует, оно привносит
почти наркотический привкус»389. В другом интервью Сорокин
отметил, что вообще не понимает, что такое реалистическая
литература: «Все рассуждения о том, что какой-то роман написан очень
387 Сорокин В. Литература или кладбище стилистических находок: интервью.
С. 126.
388 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 120.
389 Сорокин В. «Мне нравится харкать против ветра»: интервью // Коме,
правда. 2001. № 149. С. 26.
147
живо, звучат для меня дико. Литература в моем понимании — это
бумага, покрытая какими-то значками. Литература вообще —
мертвый мир, как некое клише»390. Вместе с тем писатель подчеркивал,
что для него очень важна убедительность создаваемых
художественных миров: «Если мы называем себя творцами, творим какие-
то вселенные в рамках наших книг, то они должны быть без дыр.
Вообразите этот мир — и вдруг на уровне стены мутная дырка,
расплывчатая такая. Невозможно существовать в таком мире. Вот
я против этих мутных дыр. Это мое литературное кредо»391.
Очень точно художественный метод Сорокина охарактеризовал
И. А. Хржановский. Отвечая на вопрос «Известий» о том, почему
в качестве сценариста фильма «4» он пригласил Сорокина,
режиссер сказал: «Он часто описывает реальную, достоверную ситуацию,
которая незаметно превращается в фантасмагорическую, но при
этом продолжает оставаться не менее реальной»392. В этом
высказывании существенно не только указание на наличие в
произведениях Сорокина «достоверного» и «фантасмагорического» начал, но
и точное описание процесса их взаимодействия.
Причина подобного творческого подхода коренится в
мировоззрении писателя, изложением эстетической программы которого
можно считать произведение «Жрать!» из книги «Пир». Используя
изобретенный Л. Рубинштейном жанр «карточной поэзии»,
Сорокин показывает, что писатель должен все впитывать в себя, как
губка, не закрывая глаза ни на какие явления действительности
и культуры. «Я считаю, настоящий литератор — это не
изготовитель конфет. Это некий пользователь мира, мир не только из
радостного, возвышенного, нежного и комфортного состоит, но
с таким же правом — из служебного, из отвратительного тоже.
Просто я — за объективный взгляд на мир»393. По этой причине для
творчества Сорокина типично сочетание различных, даже самых
противоречивых реалий и стилей, которые автор стремится слить
воедино, привести к общему знаменателю.
При расширительном толковании гротеска по принципу
содержательной контрастности его можно считать несущей конструкци-
390 Сорокин В. Литература или кладбище стилистических находок: интервью.
С. 127.
391 Сорокин В. Доктор Сорокин: интервью. С. 89.
392 Хржановский И. «Так случилось, что фильм сначала увидели на Западе»:
интервью // Известия. 2005. № 20. С. 15.
393 Сорокин В. «Литератор — это не изготовитель конфет»: интервью //
Еврейское слово. 2005. № 14. С. 8.
148
ей подавляющего большинства произведений Сорокина. Под этим
углом, в частности, могут быть рассмотрены проанализированные
в первой главе книги эксперименты с заумным языком. Искусно
создавая в «Летучке» впечатление общения героев на неведомом
наречии, Сорокин вместе с тем разрушает эту иллюзию
введением невероятных звуковых и буквенных комбинаций. Гротескным
правомерно назвать и «макаронический» стиль первой части
«Голубого сала», рождающийся из смешения разнообразных языковых
и стилистических элементов. В этих произведениях мы
встречаемся с контрастом «правдоподобного» и «фантастического»,
реализованном на уровне языковой семантики.
Авторы статьи «Гротеск» в «Литературной энциклопедии»
отмечали, что этому виду образности соответствует особый гротескный
стиль. «Характерные признаки его таковы:
1. преднамеренное разрушение сюжета путем вставок,
отступлений, перерывов, прихотливых перестановок частей повествования;
2. культивирование асимметрии, беспорядочности и беспланно-
сти композиции;
3. ряд словесных эффектов, рассчитанных на контрастное
воздействие: звуковые нагромождения, стремление к
звукоподражательности, игра словами, синонимами, неожиданные словопроизводства,
употребление метафорических выражений в прямом значении,
гиперболические сравнения, нарушение серьезного тона рассуждения
алогизмом вывода, несоответствие тона повествования содержанию»394.
Это описание можно почти дословно использовать для
характеристики «Нормы» и «Голубого сала», а стало быть, утверждать, что
гротеск является в них основополагающим видом образности.
Сорокин неоднократно отрицал влияние на свое творчество
современной ему художественной литературы395, но с
историко-литературной точки зрения в ряде его ранних произведений и в романе
«Норма» нашло продолжение гротескное течение в русской
литературе 1960-1980-х годов.396 В этом отношении творчество Сорокина
соответствовало духу времени и органично вписывалось в
литературный контекст эпохи, несмотря на герметичность
концептуалистского круга.
394 3. Е, Р. Ш. Указ. соч. Стб. 31.
395 Напр.: «На меня тогда никакая литература не могла повлиять. Я был тогда
под гипнотическим воздействием изобразительного искусства. Мне был тогда
интересен концептуализм, поп-арт, кинетическое искусство, минималистская музыка...»
(Сорокин В. О Евгении Харитонове: интервью).
396 См. о нем: Липовецкий M. Н. «Нет, ребята, все не так».
149
Как пишет Ю. Манн, в качестве объекта художественного
анализа гротеск избирает ненормальные, странные, абсурдные
явления действительности397. В первой главе шла речь о восприятии
советского строя как воплощения абсурда, которое было присуще
оппозиционно настроенной интеллигенции. «Гротескная поэтика
позволила выразить фантасмагорическую, противоестественную
и уродливую природу советского социального устройства и
советской психологии, этим устройством отштампованной», — считает
М. Липовецкий398. Это мироощущение стало определяющим
фактором при формировании гротескной поэтики в русской
литературе второй половины XX века. Если в 1920-е годы гротеск носил
преимущественно игровой характер (в произведениях К. Вагинова,
Л. Лунца, Ю. Тынянова и др.), то начиная с 1960-х резко возросла
его социально-критическая функция.
Л. Геллер связывает активизацию гротескно-абсурдистской
поэтики в русской литературе второй половины XX века с
преодолением социалистического реализма, подобно тому как возрождение
гротеска в начале столетия было связано с отказом от
классического реализма. Говоря о «„деконструктивистской" фантастике
Владимира Сорокина», Геллер отмечает, что «высоковольтная линия,
питающаяся от разницы потенциалов гротеска и абсурда», «прямо
подсоединяет русский постмодерн к модерну»399.
Гротескная модель советской
действительности в романе «Норма»
«Норма» — это первое крупное произведение Сорокина.
Раздробленная, находящаяся на грани самораспада композиция романа
позволила писателю свободно манипулировать разными стилями
и жанрами. Гротескная образность используется в первой, третьей
и седьмой частях произведения, а также во вступлении и
заключении, образующих самостоятельный микросюжет. Введением
рамочных компонентов автор преследует ряд художественных задач.
Во-первых, история изъятия у некоего Бориса Гусева текста
«Нормы» призвана убедить читателя в том, что перед ним опас-
Манн Ю. Указ. соч. С. 18.
Липовецкий M. Н. Указ. соч. С. 4.
Геллер Л. Указ. соч. С. 104-105.
150
ная антисоветская книга, имеющая для КГБ исключительную
важность400. Во-вторых, вступление и заключение выполняют
традиционную функцию, придавая роману завершенный характер. Это
обстоятельство принципиально важно для «Нормы» как
произведения с отсутствием единого сюжета, разветвленной структурой
и жанровой неоднородностью. В-третьих, во вступлении
появляется эксплицитный читатель — тринадцатилетний школьник.
Введение эксплицитного читателя — часто встречающийся прием в
прозе Сорокина, но в данном случае персонаж очевидно не способен
сколько-нибудь адекватно осмыслить произведение401. Иными
словами, эксплицитный читатель выступает в роли несостоятельного
читателя, за счет чего текст произведения заключается в остраня-
ющую рамку.
Остраняющий эффект также вызывает описание внешнего вида
романа: «Папка серого картона. Содержит... 372 машинописных
листа. Название „Норма". Автор не указан» [I, 11]. Именно в
таком виде «Норма» попадала к первым читателям. На первый план
в произведении выдвигается не эстетический объект, но артефакт:
«Сорокин настраивает читателя на восприятие всего, что тот
прочитает, как художественного текста, дает понять, что его
интересует сфера эстетики»402.
Всячески подчеркивая, что его роман — не более чем «буквы на
бумаге», Сорокин стремится создать ощущение предельной
достоверности происходящего. Описание ареста начинается с
протокольно-точного указания времени: «Бориса Гусева арестовали 15 марта
1983 года в 11.12...» [I, 9]. В повествовании возникают характерные
приметы эпохи: оперативник заполняет бланк на понятых на
«подвернувшемся» журнале «Америка», во время обыска у диссидента
изымают третий том «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына в
издании «ИМКА-Пресс». В том, как папка с текстом романа
переходит от одного сотрудника КГБ к другому, проявляется
характерный для брежневской эпохи бюрократизм.
Однако вместо высокопоставленного начальника, на стол к
которому, по логике развития событий, должна была попасть «Норма»,
100 У этой сцены есть автобиографический подтекст. Сорокина никогда не
арестовывали по обвинению в антисоветской деятельности, но КГБ «занималось» им
в период правления К. У. Черненко (1984-1985). См.: Сорокин В. «В культуре для
меня нет табу...»: интервью. С. 8.
101 Аналогичный пример — рассказ «Ю», в котором бомж читает сказочное
повествование о кулинарии будущего.
402 Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. С. 268.
151
роман оказывается в руках подростка, ставящего произведению
оценку «четыре». Достоверная, приближенная к жизненной
реальности ситуация внезапно перерастает в абсурд. Во вступлении
гротескные черты были лишь пунктирно намечены автором. В полную
силу они заявят о себе в следующих частях произведения.
Первая часть романа: нормальность ненормального
М. Липовецкий предлагает рассматривать «Норму» как
произведение, выдержанное строго в соц-артовской традиции403. Эта
точка зрения вызывает сомнение уже при обращении к первой
части романа, в которой отсутствуют явные стилизации. По мнению
И. Скоропановой, в этой части «Нормы» Сорокин имитирует «код
бытовой и производственной прозы»404. Сложно представить себе,
чтобы в рамках этих жанровых традиций было возможно
изображение секса (тем более лесбийского), описание спора о
художественных стратегиях П. Пикассо и М. Дюшана или употребление
обсценной лексики.
На самом деле Сорокин просто рисует картины из жизни
разных слоев населения, начиная с номенклатуры и интеллигенции
и заканчивая рабочими и преступниками. Писатель стремится
к точному и всестороннему воссозданию жизненной реальности.
Наряду с этим он вводит в повествование лейтмотив, ставящий под
сомнение достоверность описываемого. Речь идет об употреблении
в пищу некой «нормы», которая фигурирует в тексте романа как
обыденная реалия советского времени. Фантастический характер
этого образа становится очевидным лишь в середине первой части,
когда неожиданно выясняется, что с самого начала в
повествование был вплетен совершенно невероятный мотив обязательного
поедания всеми героями детского кала. При этом действие не теряет
правдивости: потребление брикетов «нормы» описывается с такой
же реалистичностью, с какой Сорокин рисует жизнь и быт эпохи.
В результате фантастический мотив кажется столь же
правдоподобным, как и все происходящее, и вместе с тем происходящее
невозможно в действительности.
Созданию иллюзии достоверности способствует, прежде всего,
фрагментарный характер первой части. Это создает впечатление,
будто описываемые сцены вырваны непосредственно из «потока
403 Липовецкий M. Н. Русский постмодернизм. С. 263.
401 Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. С. 267.
152
жизни». Оно усиливается тем, что писатель часто открывает
повествование словами персонажа, представляющими промежуточную
реплику в диалоге. Диалог, с которого нередко начинается
действие, является центральным предметом изображения и главным
средством психологической характеристики героев. В некоторых
миниатюрах повествовательная часть сведена к ремаркам. К
развернутым описаниям Сорокин прибегает только в тех случаях, когда
персонаж остается наедине с собой. Указанные черты придают
первой части романа драматургический характер. По словам В. Е. Ха-
лизева, в пьесах жизнь «говорит как бы от своего собственного
лица: между тем, что изображается, и читателем нет
посредника-повествователя. Действие воссоздается в драме с максимальной
непосредственностью. Оно протекает будто перед глазами читателя»405.
Сорокин стремится к передаче на письме всех особенностей
идиолекта героя. На страницы произведения врывается
подлинная устная речь с парцелляциями («Отчаянная баба. Люблю
таких. С ними хоть сопли на кулак мотать не надо... А как внешне,
ничего?» [I, 75]), прерванными синтаксическими конструкциями
(«Аааа... Что-то я... действительно... во, две двушки... звони... или,
может, мне?» [I, 74]), стяжениями и выпадениями звуков («щас»,
«эт», «пшел»), тщательно фиксируемыми автором междометиями
(«ага», «аааа», «мммм»). Писатель использует разговорную и
жаргонную лексику («кокнуть», «сбацать», «сварганить»), обсценные
слова и выражения («Ага. Я, бля, не опомнился ни хуя, а он пиз-
дык, бля, аж, искры, бля...» [I, 24]), иноязычные вкрапления («гив»,
«уоз лайт грин»).
Примером может послужить разговор Алексея Кирилловича
со своим котом Синусом: «И считали мы минутки-утки-утки... да.
Были минутки. Вот мммм. Синус — косинус. Тангенс... ммм...
котангенс... Унд все былое. Я вспомнил вас... ммм... энд все былоэ.
Былоэ. Рэмэмбэ юу энд ео уандэфул айз. Ты знаешь... м... что
такое... это... ммм... проварилось дай боже... не знаешь, какие бывают
уандэфул айз. У твоей покойной хозяйки уоз лайт грин. Немного
похожие на твои... слушай, а что ты так на меня смотришь?
Неужели завидуешь? Картошке?! Господи, Синус! Это не так вкусно, как
кажется... особенно для котов... ну вот... раз... и все...» [там же].
Сорокин с одинаковой легкостью имитирует речь рабочих,
интеллигентов, журналистов, математиков и т. д. Например,
разговор рабочих Сергея и Женьки отличается отрывочным характером
105 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2004. С. 318.
153
с активным использованием обеденной лексики, в то время как
интеллигенты Новицкий и Аккуратов беседуют на разговорном
литературном языке.
Соотношение разговорной речи персонажей с общим
повествовательным фоном в первой части «Нормы» резко смещено по
сравнению с типичной для художественной литературы ситуацией. Как
пишет О. А. Лаптева, «в художественном произведении
разговорная речь „олитературивается" (В. В. Виноградов), в нем в
первую очередь используются те явления разговорной речи, которые
связаны с ее стилистической экспрессией, выразительностью и на
фоне нейтральных и книжных средств литературного языка
маркированы как элементы сниженной стилистической окраски. Те
явления разговорной речи, которые связаны, прежде всего, с устным
характером ее осуществления, в язык художественной литературы
попадают нечасто»406.
Проза Сорокина в этом отношении имеет диаметрально
противоположный характер. Писатель делает акцент, прежде всего,
на тех особенностях разговорной речи, которые связаны с устным
характером ее бытования. В результате создается впечатление, что
речь персонажей расшифрована с диктофонной записи.
Установка на создание иллюзии достоверности сохраняется
и при нейтральном повествовании. Писатель стремится к
доскональной фиксации всех действий персонажей, не отделяя важное
от несущественного. Опора делается на простые синтаксические
конструкции, что придает повествованию перечислительный
характер: «Оля расстегнула лифчик, бретелька перепуталась с
цепочкой. Сережа поцеловал ее грудь, скользнул рукой в трусики.
Олины ноги разошлись и снова сошлись в коленях. Прижавшись
к нему, она терлась ртом о его щеку. Он потянул трусики, она
приподнялась. Трусики скользнули по ногам. Сережа лег на нее,
сжал бессильные худые плечи. Цепочка тряслась между ними».
Действия героев описываются полностью и скрупулезно, автор
последовательно избегает обобщений: «Алексей Кириллович
поставил блюдечко в угол, выключил чайник. Бросил в заварной три
ложки чая, залил кипятком, накрыл грязным, вчетверо сложенным
полотенцем» [I, 35, 22].
Гиперконкретизация всего, что связано с деятельностью
персонажей, сочетается в первой части «Нормы» со столь же присталь-
406 Лаптева О. А. Разговорная речь // Языкознание: большой энцикл. слов.
М., 1998. С. 407-408.
154
ной фиксацией реалий внешнего мира. Однако самостоятельные
развернутые описания, не связанные с конкретным героем, в
тексте отсутствуют. Реальность, окружающая персонажа, описывается
постольку, поскольку она находится в поле его зрения или как-то
связана с его действиями: «Сидящие в луже голуби поднялись от
наехавшего грузовика, пролетели над головой Купермана. Грузовик
обдал водой стоящий на обочине „Запорожец" и свернул за угол.
Куперман двинулся вдоль запертых ярмарочных павильонов.
Только что прошел дождь. Ярко размалеванные стенки были мокры,
с шиферных крыш капало. Возле пивного ларька толпились
несколько человек» [I, 40].
Писатель почти не передает мыслей действующих лиц. Их
чувства и эмоциональные состояния описываются только тогда, когда
они как-то проявляются внешне: «устало улыбнулся», «засмеялся»,
«побледнел». Наряду с этим Сорокин часто использует
психологическую точку зрения персонажа: «Вошла. Положила сумочку
на высокую тумбочку в прихожей, покосилась на себя в зеркало.
Подкрашенная челка растрепалась, цветастый шарф слишком
сильно выглядывал из-под воротника пальто. <...> Сваренный
утром суп стоял на плите. Кран по-прежнему тек, вода
проложила по эмали ржавую дорожку. <...> Она улыбнулась голубю и
пошла в комнату. Телефон стоял на диване. Гвоздики в зеленой вазе
были все так же свежи» (курсив мой — M. М.) [I, 62].
Все это придает прозе Сорокина визуальный характер,
сближает ее с эстетикой кинематографа407. Возникает впечатление
полного соответствия художественного мира жизненной реальности,
ощущение съемок скрытой камерой. Отвечая на вопрос Л. Горалик
о том, как ему удается достигать такого эффекта, Сорокин сказал:
«Я думаю, что при создании подобных сцен самое главное — не
спугнуть их своим „постановочным" авторским присутствием. Не
помешать. Важно чувствовать, что ты создаешь это для себя, что
перед тобой выстраивается твой индивидуальный театр, в котором
ты не участвуешь, он существует сам по себе. Надо ощущать, что
все создается, складывается само по себе. Тогда в этом есть и
удовлетворение, и тот самый эффект подсматривания»408.
407 В интервью Т. Восковской писатель сказал, что кино оказало решающее
влияние на его творчество: «Если говорить о влиянии, то на меня больше повлияли
кино и изобразительное искусство, чем литература. Кино разное, кино как принцип
вообще, как создание некой реальности» (Сорокин В. «Насилие над человеком —
это феномен, который меня всегда притягивал...»: интервью).
108 Сорокин В. «Литература создает некоторый щит между миром и мной»
155
В русле указанной тенденции происходит и открытие того, чем
на самом деле является «норма»:
— Мам, а зачем ты какашки ешь?
— Это не какашка, не говори глупости. Сколько раз я тебе говорила?
— Нет, ну а зачем?
— Затем. — Ложечка быстро управлялась с податливым месивом.
— Ну, мам, скажи! Ведь невкусно. Я ж пробовал. И пахнет какашкой.
— Я кому говорю! Не смей!
[I, 44].
Эти вопросы принадлежат ребенку, для которого употребление
в пищу «нормы» непривычно, поэтому он называет вещи своими
именами409. Сорокин не оставляет читателю никаких иллюзий —
персонажи первой части романа действительно едят кал: «Денисов
зажал нос, быстро запихнул норму в рот и стал натужно жевать.
Норма не помещалась во рту, лезла из губ. Денисов вдавил ее
ладонью назад, глухо икнул, вскочил и наклонился над столом. Его
вырвало нормой и только что съеденным обедом» [I, 69].
Несмотря на шоковый эффект, который производит это открытие,
оно подготовлялось заранее. Судить о том, что представляет собой
«норма», читатель вначале вынужден по косвенным признакам. Это
коричневого цвета брикеты, которые желательно съедать всему
населению страны. «Норма» обладает сильным запахом и вкусом,
которые одни герои всячески стараются перебить, как Эра с Аней,
кладущие ее в торт, а другие совсем не замечают: у только что съевшего
«норму» Женьки после драки болит бровь и бок, но он не ощущает
[Электронный ресурс] // Грани.Ру. 2002. URL: http://www.grani.ru/Culture/
m.6389.html (дата обращения: 01.10.2011).
409 Ср. с концовкой сказки Г. X. Андерсена «Новое платье короля»: «Так и
пошел король во главе процессии под роскошным балдахином, и все люди на улице
и в окнах говорили:
— Ах, новый наряд короля бесподобен! А шлейф-то какой красивый! А камзол-
то как чудно сидит!
Ни один человек не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь это означало
бы, что он либо глуп, либо не на своем месте сидит. Ни одно платье короля не
вызывало еще такого восторга.
— Да ведь он голый! — сказал вдруг какой-то ребенок.
— Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал
его отец.
И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.
— Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый!
— Он голый! — закричал наконец весь народ»
(Андерсен X. К. Новое платье короля / / Он же. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.,
2005. С. 163).
156
никакого вкуса во рту. От употребления «нормы» можно отказаться,
но это считается предосудительным. Также стыдно и позорно не
съедать «норму» в ее натуральном виде: тесть корит Николая за
поливание брикета вареньем. А вот выбрасывать «норму», как это
делает еврей Куперман, считается серьезным преступлением.
Первые подозрения относительно того, что же такое «норма»,
закрадываются при чтении пятой миниатюры: «Он замер, запустил
пальцы левой руки в рот, достал небольшой предмет, коричневый
от нормы. Протерев его о ладонь, Алексей Кириллович понял, что
это пуговица. <...> — Надо же... кто-то пуговицу проглотил...
Господи... как же он умудрился-то?» [I, 24].
За счет этого мотив органично вплетается в повествование.
Возникает гротескная художественная реальность, где фантастическое
выглядит правдоподобным. Сорокин создает противоестественный,
абсурдный мир, частью жизни в котором стала копрофагия. Так
в первой части романа реализована основная тема произведения:
ненормальное стало нормой. Абсурдистская художественная
реальность возникает как результат выворачивания наизнанку
естественных биологических и социальных процессов: отходы
пищеварения вновь используются в качестве пищи, самая презренная
материя приобретает значительную ценность.
Бытовые реплики персонажей, которые в
реалистическом/натуралистическом произведении не выделялись бы на общем
повествовательном фоне, в первой части «Нормы» начинают играть роль
маркеров, свидетельствующих о наличии в описываемом обществе
особой фекальной культуры. «Очено смешно... Усраться можно от
вашего юмора...», — говорит только что с трудом управившийся
с «нормой» Прохоров, наблюдая по телевизору, как «клоун
приподнял полосатый зад и осторожно пополз за кулисы». «Из говна
сметану не выгонишь», — утверждает Марина, при помощи
специального аппарата превращающая «норму» в некое подобие глины.
«Да у нас, мам, все через жопу», — сетует на правительство
Михаил и начинает на ходу откусывать от брикета «нормы». А между
недавно употребившим «норму» Василием и его женой (или
любовницей) Аней происходит следующий диалог:
— Я, Аня, злым бываю, только когда не поем вовремя...
— А умным?
— Когда ты мне в попку даешь.
— Хам...
[I, 47, 61, 90, 77].
157
Дважды в тексте встречаются косвенные намеки на абсурдность
происходящего. «Дааа... много у нас еще этой несуразицы», —
говорит Свеклушин, кидая в рот последний кусочек «нормы».
«Фантасмагория, бля», — веско заключает Сашка, оценивая решение
Витьки начать употреблять «норму» [I, 17, 21]. Осознанно или
бессознательно каждый член этого общества вырабатывает
собственную привычку употребления «нормы», тем или иным образом
приспосабливаясь к противоестественной практике. Большинство
не способно к поеданию «нормы» в чистом виде, стремясь любым
путем отбить ее невыносимо противный запах. Упомянутая Марина
использует для перегонки «нормы» специальный аппарат,
сконструированный ее дедушкой-химиком; после обработки в нем «норма»
уже ничем не пахнет, становясь как глина, но при этом не
превращается в подделку, за которые «не милуют». Людмила
Ивановна заедает «норму» супом и яичницей. «Норму как следует заесть
надо, — согласна с ней Екатерина Борисовна. — Чтоб ни запаха,
ничего... Отец мой покойный квасом запивал. А после водки и
поест поплотней...» [I, 66]. По словам Сорокина, во время работы над
«Нормой» он «задавался вопросом, какое значение имеет
поедание дерьма, и почему это вещество породило такой большой миф»:
«И тогда я решился попробовать его. Чуть-чуть. И понял, что
основу мифа составляет запах. Дерьмо само по себе — это лишь земля,
глина. Думаю, что я поступил правильно, как исследователь. Я
понял саму суть дерьма»410.
А. Генис определяет «норму» как своеобразный знак,
«обозначающим» которого являются испражнения, а «обозначаемым» —
советская власть411. Действительно, несмотря на натуралистическую
точность в воссоздании жизненной реальности начала 1980-х
годов, автор старательно избегает упоминания коммунистической
идеологии. Сорокин изображает советскую действительность,
сознательно изъяв из нее идеологическую составляющую — ее
эквивалентом в гротескном пространстве романа становится «норма».
По мнению Гениса, «норма» поедается в романе лишь
избранными членами общества. Однако необходимость употреблять «норму»
не находится в жесткой зависимости от общественного положения.
Большинство персонажей первой части романа не принадлежат
к привилегированному сословию: это обычные граждане, потре-
410 Сорокин В. «Тоталитаризм — растение экзотическое и ядовитое, крайне
редкое и опасное»: интервью.
411 Генис А. Советская метафизика / / Он же. Вавилонская башня. М., 1997.
С. 103.
158
бляющие «норму» не в качестве знака «ритуального причащения»,
а потому лишь, что ее положено (или, по крайней мере, строго
желательно) съедать всему населению страны. Старший
преподаватель МГУ Марина регулярно употребляет «норму» на
протяжении двенадцати лет, а продавец соков Вика пробовала ее один раз
в своей жизни. При этом рабочему Витьке положено употреблять
сто пятьдесят грамм «нормы» ежедневно, а его собутыльник
Славка еще «не надумал» [I, 60-61, 21]. В самих актах употребления
«нормы» не ощущается никакой сакральности: многие персонажи
делают это по привычке, а некоторым поедание «нормы» дается
с большим трудом (Прохоров, Денисов).
Чем выше общественный статус гражданина, тем обязательнее
для него употребление «нормы», и наоборот: выкидывающий
брикет уголовник Заяц находится вне закона, вне социума, а
избавляющийся от «нормы» еврей Куперман становится преступником. На
высшем государственном уровне поедание «нормы» строго
обязательно. Мы узнаем, в частности, что А. Т. Твардовский ел «норму»
только на работе, обильно запивая ее коньяком, а оказавшийся
в Англии без «нормы» M. М. Ботвинник сам вылепил себе брикет
[I, 81, 85]. Такие «исторические» экскурсы закрепляют статус
«нормы» как неотъемлемого артефакта советского космоса.
Мы узнаем также, что сталинские «нормы» были больше
современных. «Норма» времен Великой Отечественной войны «черная
и твердая», в то время как Женька высасывает из пакета жидкую
норму [I, 81, 68, 28]. Разжижение «нормы» метафорически выражает
идеологическое послабление в послесталинскую эпоху. В интервью
Сорокин иронически связал появление мягкого знака в слове «дерьмо»
с «оттепелью»: «Помягчали нравы — вот и на дерьме отразилось»412.
«Ненормальность» изображаемого становится адресной. Как
сформулировал Б. Соколов, «нормой для всех советских граждан
было ежедневное и обязательное пережевывание заданной порции
дерьма — коммунистической идеологии»413.
Вместе с тем законы создаваемого писателем гротескного мира
мешают однозначной, аллегорической расшифровке образа
«нормы». В сцене производства «нормативного сырья» возникает
соблазн соотнести детские сады и интернаты с КПСС и партийными
учреждениями. Однако детский сад изображается Сорокиным не
112 Сорокин В. «Мы все отравлены литературой»: интервью.
113 Соколов Б. В. Прошедшее будущее Владимира Сорокина. С. 13.
159
аллегорически, а вполне реалистично, при отсутствии очевидных
черт сходства с партией. Образ последней на самодовлеющих
началах появляется в миниатюре с Николаем Ивановичем.
«Норма» — это вполне самостоятельная реалия в
изображаемом Сорокиным гротескном мире. Он существует по своим
собственным законам, соотносящимся с действительностью, но не
тождественным ей. Как указывает Ю. Манн, «гротескный план не
допускает расшифровки каждой условной детали и в целом, в
отличие от аллегории, выступает относительно самостоятельно по
отношению к реальному плану. Однако в конечном счете он всегда
зависит от него»414.
Универсальный характер гротескной образности обусловил
возможность расширенного толкования первой части романа. В 1980-е
и в первой половине 1990-х годов первая часть «Нормы»
однозначно интерпретировалась в антисоветском ключе. «Пакетики
„нормы" — писал в 1994 году М. Рыклин, — пайки дополнительной
социальности, которую нужно потребить сверх общения, работы,
разговоров; это довесок, который и отличает репрессивную,
тоталитарную социальность от обычной»415. Угасание в обществе
антисоветских настроений привело к появлению иных интерпретаций,
поддержанных автором.
Интервьюируя Сорокина в 1998 году, М. Новиков сказал:
«Книга написана так, что читалась тогда как памфлет, это было
обличение ужасного строя. Сейчас ее читаешь и понимаешь, что все дело
посерьезнее и посложнее. Как вы думаете, норма — это
необходимый компонент общественного устройства? То есть нельзя жить
в обществе и не „выкушивать" свою ежедневную норму». «Думаю,
что проблема еще глубже, — ответил Сорокин. — Собственно,
нельзя жить на этой земле, не поедая нормы. Вообще, я
довольно критически настроен к нашему миру. <...> В принципе тема
нормальности нашего бытия для меня всегда открыта. Мир создан
не для счастья. Оно иногда снисходит, но редко»416. Отсутствие
в первой части романа явных указаний на собственно советскую
природу «нормы» позволяет рассматривать это произведение вне
политического контекста. Гротескный образ «нормы» выражает
414 Манн Ю. В. Гротеск // Краткая лит. энцикл. Стб. 402.
415 Рыклин М. Роман Владимира Сорокина: «норма», которую мы съели //
Коммерсантъ. 1994. № 180. С. 13.
416 Сорокин В. «Мы не встанем ни под каким памятником»: интервью //
Коммерсантъ. 1998. № 161. С. 10.
160
не только абсурд советской реальности, но и
экзистенциальный абсурд бытия вообще, связанный с проблемой тотальной
несвободы человека417.
«Движения сколько автоматизмов зубная щетка ножницы для
усов щипчики для ногтей расческа вот наши вечные поработители
и деррида прав каждое автоматическое движение текстуально
каждый текст тоталитарен мы в тексте а следовательно в
тоталитаризме как мухи в меду», — будет сокрушаться главный герой «Месяца
в Дахау» [I, 758]. Нет сомнений в том, что персонаж Владимир
Георгиевич Сорокин в данном случае выражает мысли автора, так
как более чем через 10 лет — в 2003 году писатель почти дословно
повторит высказывание своего героя в интервью журналу Der
Spiegel: «Человек движется в направлении счастья, но на пути к нему
на нем остается висеть, как на еже, дерьмо — это наши
автоматизмы. <...> Человек живет в условиях насилия и насилием, как
комар в банке с медом. Мы долго барахтаемся в этой жизни и не
можем выбраться»418. Ключевой проблема автоматического
восприятия и остраненного видения мира станет для Сорокина позднее,
но поставлена она была уже в первой части романа «Норма».
Подведем предварительные итоги. Композиционная форма
цикла новеллистических очерков; воспроизведение живой, не
олитературенной разговорной речи; безличное, максимально
беспристрастное повествование; акцент на телесных проявлениях
психологических состояний; преимущественный интерес к бытовой стороне
жизненных явлений и физиологическим отправлениям — все эти
черты говорят о наличии в первой части «Нормы» элементов
натуралистической поэтики. От перестроечной «чернухи» такой стиль
изображения отличается, прежде всего, беспристрастно-перечисли-
417 Эта проблема занимает важное место в абсурдизме, будь то мотивы
обреченности и заточения у Ф. Кафки («Процесс», «Замок»), бессмысленное и бесконечное
ожидание у С. Беккета («В ожидании Годо») или каждодневный суд у А. Камю
(«Падение»).
418 Сорокин В. «Быть писателем в России всегда было опасно»: интервью
[Электронный ресурс] // HhoCMH.Ru. 2003. URL: http://www.inosmi.ru/
translation/ 196241 .html (дата обращения: 01.10.2011). Ср. также: «Не устраивает
тотальная зависимость от тела. <...> Я должен его каждое утро будить, тащить
в ванную, мыть его, чистить, потом набивать пищей...<...> Я бы очень хотел, чтобы
у меня выросли крылья. Чтобы взлететь и летать. А не в этих вонючих машинах
ездить. Так хочется большей свободы. <...> Вот надеюсь на генную инженерию.
Японцы обещают через двадцать лет сделать искусственные портативные крылья»
(Сорокин-сан: интервью // Огонек. 2000. № 39. С. 48).
161
тельной интонацией. Сорокин не сосредотачивается
исключительно на табуированных темах и социальных ужасах, но уделяет
равное внимание всем событиям повседневной жизни, стремясь дать
максимально объективную, панорамную картину действительности.
Отсутствие перекоса в сторону негативных жизненных
явлений позволяет Сорокину вести творческую полемику с
соцреализмом более эффективно, чем авторам «чернухи». Неадекватность
соцреалистической картины мира действительности выявляется
не посредством резкой смены тематических и аксиологических
комплексов на прямо противоположные, но за счет естественного
расширения поля художнического зрения писателя. В результате
вместе с социалистическим реализмом «под ударом» оказывается
и традиция классического реализма, игнорировавшего телесные
отправления. По мнению писателя, в русской литературе «не был
почти ни разу описан акт испражнения, как и наслаждение
человека едой. Вот только у Гоголя, и то часто в сатирическом варианте:
Петр Петрович Петух — это полное чудовище»419.
Восполнение традиционной для русской литературы нехватки
телесности осуществляется в первой части «Нормы» как
непосредственно (натуралистические описания сексуальных сцен, обсцен-
ная лексика), так и опосредованно — введением образа «нормы».
По силе эмоционального воздействия этот фантастический образ
вполне сопоставим со всеми натуралистическими ужасами
«чернухи» вместе взятыми, так как сцены поедания «нормы»
описываются Сорокиным в том же протокольно-фактографическом ключе,
что и все прочие. Это дает основания для применения к первой
части «Нормы» понятия реалистического или натуралистического
гротеска. При таком способе изображения «гротескный мир не
просто назван, существует не номинально, он воспроизведен во всем
объеме, разанатомирован до мелочей, уснащен десятками
выразительных подробностей. Мы как бы разделяем иллюзию истинности
этого мира, ни на минуту не забывая об его условности»420.
Однако функциональная нагрузка этого типа гротеска у
Сорокина принципиально иная, чем у Н. В. Гоголя или M. Е. Салтыкова-
Щедрина. Мастерское владение натуралистическим стилем ни в
коей мере не свидетельствует о принадлежности Сорокина к этому
литературному направлению. Сознательно используя элементы на-
419 Сорокин В. Чревовещатель: интервью. С. 79.
420 Манн Ю. О гротеске в литературе. С. 96.
162
туралистической поэтики, Сорокин стремится к подрыву тех
эстетических оснований, на которых базировался реализм/натурализм.
Гротескный способ изображения оказывается наиболее подходящим
способом для борьбы с «натурализацией» текста, так как позволяет
придать предельно правдоподобным картинам иллюзорный характер
и, напротив, сделать условное максимально достоверным. Сорокин,
по сути, стремится подорвать референциальные основы своего
произведения, продемонстрировать «бумажный характер» феномена
литературности. Такой подход резко расходится с фундаментальными
принципами реалистической/натуралистической эстетики и
принадлежит уже к модернистскому типу художественного мышления.
В первой части «Нормы» Сорокин нащупывает свой
«фирменный» прием, когда художественная реальность, с предельным
тщанием воспроизведенная в рамках определенного жанрово-стилево-
го канона, стремительно разрушается вирусом инородного стиля.
Стилистически чуждые элементы, подобно термитам, прогрызают
ходы в литературных декорациях, демонстрируя их подлинную —
картонную — сущность. Для осуществления полноценной
деконструкции автору первой части «Нормы» остается лишь перевести
взгляд с жизненной реальности на кристаллизовавшиеся формы ее
отражения в литературе.
Повесть «Падёж»: «модальная шизофрения» соцреализма
Гротескно-абсурдистская художественная реальность первой части
«Нормы» строится на приеме фантастического допущения,
невероятный характер которого до определенного момента скрыт от
читателя. В повести «Падёж», включенной в третью часть
романа, Сорокин прибегает к иной повествовательной стратегии, при
которой иллюзия натуралистического жизнеподобия разрушается
постепенно, за счет накопления в произведении маловероятных
мотивов. Если в первой части романа писатель гротескно
преломлял современную ему действительность, то в «Падеже» он
обратился к сталинской эпохе как времени расцвета
коммунистического строя: рассказ датирован 7-29 мая 1948 года. Сатирический
гротеск сменяется гротеском мрачным и трагическим. По словам
П. Вайля, «за исключением платоновского „Котлована44, не
написано ничего более жуткого, яркого и убедительного о разрушении
русской деревни, чем сорокинский „Падёж44»421.
421 Вайль П. Консерватор Сорокин в конце века // Лит. газ. 1995. № 5. С. 4.
163
Действие повести начинается с того, что секретарь райкома
Кедрин и начальник районного отделения МГБ Мокин приезжают
ревизовать «образцовое хозяйство» председателя Тищенко по
сообщению о начавшемся там падеже скота. В действительности
оказывается, что проблема лежит гораздо глубже обычного падежа. Все
хозяйство находится в крайне запущенном состоянии, совершенно
не соответствуя представленному в виде макета образцу, который
Тищенко сделал «для себя и для порядку».
Приезд ревизоров оказывается для председателя полной
неожиданностью: они появляются без машины, которая, по словам
Кедрина, увязла в огородах, и без предварительного звонка. Еще более
непредвиденный характер носят действия проверяющих. Для того
чтобы выяснить, как в хозяйстве обстоят дела с пожарной
безопасностью, Мокин поджигает здание правления. Пресекая попытки
председателя потушить пожар, ревизоры разрушают каланчу под
предлогом проверки ее на прочность. Пожаром заканчивается
посещение ими мехмастерской и «проверка» Мокиным амбара. Иными
словами, вместо того чтобы ревизовать хозяйство, проверяющие
парадоксальным образом разрушают его.
«Сюжет повести строится как фарсовый перифраз
канонической модели соцреалистического повествования, — пишет М. Ли-
повецкий. — „Старшие наставники", секретарь райкома и
начальник ГБ, оборачиваются „трикстерами", „бесами", последовательно
разрушающими все колхозное хозяйство. При этом внутри
повести присутствует образная модель соцреалистического канона в
целом: реальная деревня дублируется ее идеальным планом,
макетом, кропотливо сделанным нерадивым председателем, и все то,
что в „реальности" гниет и разрушается, на макете сияет
новизной: это, в сущности, буквальное воплощение „модальной
шизофрении" соцреализма. В классическом соцреализме утопическая
программа в конечном счете сходится с „реальностью". Того же
эффекта добиваются и персонажи „Падежа": только они решают
уравнение не путем созидания нового порядка, а путем
разрушения старого. Сжигая все на своем пути, они тщательно дублируют
операцию на макете»422. Макет идеального хозяйства можно
рассматривать не только как образную модель соцреалистического
канона, но и вообще как символ той утопической реальности,
которая в сталинское время должна была заменить действительное
положение вещей.
422 Лейдерман Н. Л., Липовецкий M. Н. Указ. соч. С. 57.
164
В. Паперный называет «пафос огня, пафос сжигания
пройденного пути», в котором выражается «стремление культуры оборвать
свою связь с прошлым, сбросить с себя его бремя», в числе
отличительных черт культуры I423. По мнению И. Есаулова, эта черта
присуща не только 1920-м годам, но и всей советской эпохе424.
Пиромания Мокина — это гиперболизированная реализация крайней
подозрительности сталинской эпохи, стремления везде и во всем
видеть происки «врагов». Именно поэтому начальник райотдела
МГБ усматривает нарушение техники безопасности в «просто»
стоящих в мехмастерской бочках с бензином или в раскрытых и слабо
охраняемых мешках с зерном.
Кроме того, все действия героев повести так или иначе
мотивируются. Например, тот факт, что каланча прогнила, Мокин
случайно обнаруживает, бросив в нее огнетушитель, который он проверял
на работоспособность. Видя, как каланча при этом покачнулась,
ревизоры решают проверить ее устойчивость, и усилий двух человек
оказывается достаточно, для того чтобы обрушить всю постройку.
И в мехмастерской, и в амбаре Мокин на самом деле или, как он
выражается, «на практике» проверяет технику безопасности и
находит, что она никуда не годится. Реалиями сталинского времени
объясняется и безропотность председателя, охваченного страхом перед
обладающими практически неограниченными полномочиями
ревизорами, которые окончательно разрушают и так небогатое хозяйство.
Картины обнищания и запустения, царящего в хозяйстве Тищен-
ко, нарисованы Сорокиным с беспощадной реалистичностью: «В
мастерской было холодно, сумрачно и сыро. Пахло соляркой и
промасленной ветошью. Посередине поперек прорезанного в бетонном
полу проема стояли трактор со спущенной гусеницей и грузовик
без кузова с открытым капотом. Рядом на грязных, бурых от масла
досках лежали части двигателей, детали, тряпки и инструменты.
В глубине мастерской возле большого, но страшно грязного,
закопченного окна лезли друг на дружку три длинные, похожие на
насекомых сеялки. Вдоль глухой кирпичной стены теснились два
верстака с разбитыми тисками, токарный станок, две деревянные
колоды и несколько бочек с горючим. Повсюду валялась
разноцветная стружка, куски железа, окурки и тряпки» [I, 178-179].
423 Паперный В. Указ. соч. С. 43.
424 Есаулов И. Соцреализм и религиозное сознание // Соцреалистический
канон. С. 52.
165
Все эти черты позволяют говорить об относительно достоверном
воссоздании в повести действительности сталинского времени. Но
постепенно происходящее в «Падеже» начинает становиться все
более и более неправдоподобным. Гротескный мир создается
Сорокиным как бы на глазах у читателя, до поры склонного
воспринимать действие в реалистическом ключе.
Фантастические мотивы появляются в самом начале
произведения, но не выделяются на общем повествовательном фоне.
Некоторые приказы, которыми завален стол Тищенко, носят откровенно
абсурдный характер: «Приказываю расщепить казенное бревно на
удобные щепы по безналичному расчету». Или: «Приказываю
использовать борова Гучковой Анастасии Алексеевны в качестве
расклинивающего средства при постройке плотины» [I, 171]425.
Все менее возможным становится объяснить поступки Моки-
на с точки зрения проверки техники безопасности, даже самой
приближенной к действиям настоящих «вредителей». Так, прежде
чем поджечь амбар, начальник райотдела МГБ до смерти избивает
престарелых сторожа и кладовщицу, присматривавших за зерном,
а затем читает им лекцию «о технике безопасности, и об охране
труда, и о международном положении». При этом Сорокин не раз
подчеркивает театральность, с которой совершает свои действия
Мокин: «Он порывисто отбежал и театрально подкрался к бочке».
Или: «Мокин аккуратно опустил ящик на землю и крадучись
двинулся мимо секретаря» [I, 183, 180, 183].
Не только макет постоянно сопоставляется в повести с
реальным хозяйством, но и сам председатель Тищенко сравнивается
в одном месте произведения с куклой: «Он двигался словно плохо
починенная кукла» [I, 184-185]. Отождествление человека с
куклой — это вневременный гротескный прием, активно
разрабатывавшийся в эпоху романтизма426. Мимоходом прибегая к нему,
Сорокин показывает, что Тищенко является марионеткой в руках
425 Развивая гипотезу П. Вайля о типологическом сходстве «Падежа» и
«Котлована» А. П. Платонова, можно провести параллель между абсурдными приказами
Тищенко и не менее нелепыми требованиями, которые ежеминутно раздаются из
радиорупора: «Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт
социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы...
Товарищи, мы должны <...> обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые
восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!..» (Платонов А. Котлован //
Ювенильное море. М., 1988. С. 120).
426 См.: Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры // Избр. ст.: в 3 т. Т. 1.
Таллинн, 1992. С. 377-380.
166
ревизоров, при этом демонстрируя призрачность и иллюзорность
художественного мира повести.
В результате изображаемое в «Падеже» двоится между
реалистичностью и театральностью: то ли перед нами макет хозяйства,
кукольный председатель и ломающие комедию ревизоры, то ли
реальное хозяйство, председатель Тищенко и беспощадные
проверяющие. То ли действие происходит наяву, то ли описываемое — всего
лишь игра с текстом. Это раздвоение закрепляется тем, что игра
слов героев воплощается в действия, а «действия» оказываются
игрой слов. В начале произведения ревизоры выясняют, знает ли
Тищенко разницу между словами «падёж» и «падеж». Когда
председатель хочет бить в колокол, чтобы созвать крестьян тушить
пожар в здании правления, он обнаруживает, что у колокола нет
языка, из которого он приказал отлить себе новую печать. «О
плане трепать да обещаниями кормить — есть язык. А как до дела
дойдет — и нет его», — замечает Кедрин. Фразу Мокина «как
мы каламбурим» Кедрин обыгрывает «как мы калом бурим»427.
Наконец, в ответ на утверждение Тищенко о том, что он писал про
«врагов» в райком, Мокин кричит на него: «Писал ты, а не писал!
Писал! А попросту — ссал!! На партию, на органы, на народ! На
всех нассал и насрал!» [I, 188].
Возрастающее ощущение неправдоподобности происходящего
усиливается за счет постоянно присутствующего в рассказе
элемента иррациональности. Ревизоры устраивают в хозяйстве
Тищенко настоящий «праздник» пиромании, причем феерией
деструктивного поджигательства заправляет Мокин — рыжий и с огненным
чубом. Опрокинув в мехмастерской бочку с бензином, начальник
райотдела МГБ так кричит на председателя, что создается
впечатление, словно из его губ «шибануло» пороховой гарью.
Ревизоры вообще как бы не участвуют в происходящем — все
свои действия они приписывают председателю. «Не виноват! Ты
во всем не виноват! Правление с мастерской сгорели — не
виноват! В амбар красного петуха пустили — не виноват! Вышка
рухнула — не виноват!» — говорит по этому поводу Мокин [там
же]. Эти действия предстают как результат стихийной силы, и
Тищенко принимает их безропотно, лишь слабо пытаясь
сопротивляться. Даже поджог амбара, как замечает Кедрин, — тоже
127 В этих словах содержится намек на диссидентскую расшифровку
аббревиатуры КГБ — «комитет глубокого бурения» (Елистратов В. С. Словарь русского
арго. М., 2000. С. 204).
167
«работа» Тищенко, хотя председатель физически находился в это
время в другом месте.
Противоборство правдоподобных и фантастических элементов
продолжается в повести вплоть до посещения ревизорами «фермы»
Тищенко, когда внезапно выясняется, что падежу в хозяйстве
подверглись не животные, а люди, «вредители», как скот
содержавшиеся в клетях. Так же как и обнаружение действительной сущности
«нормы», это открытие производит шоковый эффект. С
функциональной точки зрения описание «фермы» соответствует сцене
производства «нормативного сырья»: сплавляя фантастику с
правдоподобием, оно окончательно переводит повествование в гротескно-
абсурдистский план.
«„Ферма" Сорокина, — пишет И. Скоропанова, — соединяет
в себе черты животноводческого хозяйства и концлагеря и
воспринимается как метафора ГУЛАГа. Заключенные здесь находятся
на положении скота, мрущего от бескормицы, запущенности...
„Ферма" Сорокина побуждает вспомнить о „Ферме животных" Джорджа
Оруэлла, где дана модель тоталитарного общества. Но у
русского писателя все гораздо мрачнее и страшнее. Не животные
очеловечиваются, а люди помещаются в обстоятельства, невыносимые
и для животных, да и не живые это люди, а мертвецы, „падаль",
обглоданная крысами, обсиженная мухами, кишащая червями»428.
Ужас и абсурд, безраздельно царящие в художественной
реальности «Падежа», достигают в скрупулезном описании «фермы»
апогея. Бесстрастно-натуралистический стиль как нельзя лучше
способствует нагнетанию атмосферы тягостного кошмара: «Пол
в клети покрывал толстый, утрамбованный слой помета,
смешанного с опилками и соломой. На этой темно-коричневой, бугристой,
местами подсохшей подстилке лежал скорчившийся голый человек.
Он был мертв. Его худые, перепачканные пометом ноги подтянулись
к подбородку, а руки прижались к животу. Лица человека не было
видно из-за длинных лохматых волос, забитых опилками и комьями
помета. Рой проворных весенних мух висел над его худым,
позеленевшим телом. <...> Скорчившийся человек № 3 лежал, отвернув-
428 Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. С. 273. С
творчеством Оруэлла «Падёж» сближает не только очевидная отсылка к сатире
«Скотный двор», но и выставленная Сорокиным дата написания повести — 1948 год. Как
известно, название романа «1984» появилось в результате того, что Оруэлл
переставил две последние цифры в обозначении года, в котором он создал это
произведение. Кроме того, в «Падеже» то и дело возникают образы крыс и свиней, также
отсылающие к Оруэллу.
168
шись к стене. На его желто-зеленой спине отчетливо проступали
острые, готовые прорвать кожу лопатки, ребра и искривленный
позвоночник. Две испачканные кровью крысы выбрались из
сплетений его окостеневших, поджатых к животу рук, и, не торопясь,
скрылись в дырявом углу. Нагнув голову, Кедрин шагнул в клеть,
подошел к трупу и перевернул его сапогом. Труп — твердый и
негнущийся — тяжело перевалился, выпустив из-под себя черный рой
мух. Лицо мертвеца было страшно обезображено крысами. В
разъеденном животе поблескивали сиреневые кишки» [I, 189, 191].
Хрупкая грань отделяет эти макабрические описания от гиньоль-
ной бутафории, но абсурдные «родословные» узников, которые по
приказу Кедрина озвучивает Тищенко, не дают образу «фермы»
оторваться от конкретно-исторической основы: «Ростовцев
Николай Львович, тридцать семь лет, сын нераскаявшегося вредителя,
внук эмигранта, правнук уездного врача, да врача... поступил два
года назад из Малоярославского госплемзавода. <...> Сестра —
Ростовцева Ирина Львовна использована в качестве живого
удобрения при посадке Парка Славы в городе Горьком. <...> Микешин
Анатолий Семенович, сорок один год, сын пораженца, внук надку-
лачника, правнук сапожника, прибыл четыре... нет, вру, пять. Пять
лет назад. Сестры — Антонина Семеновна и Наталья Семеновна
содержатся в Усть-Каменогорском нархозе...» [I, 190-191].
Объединение человеческих и животных черт принадлежит
к числу исконных гротескных приемов. В XX веке метаморфозы
такого рода стали связываться с темой тоталитаризма. Помимо
сопоставления «Падежа» с уже упоминавшей сатирой Дж. Оруэлла
«Скотный двор», релевантным в рамках избранной проблематики
будет сравнение повести с «Носорогом» Э. Ионеско. По мнению
Сорокина, «бесчеловечность советского государства» состояла
в том, что «люди для него лишь некий строительный материал»429.
Если гротеск первой части «Нормы», несмотря на всю
тошнотворность происходящего, содержал отчетливые элементы комизма
и сатиры, то гротеск «Падежа» правомерно охарактеризовать как
трагический. Фантастика в этом типе гротеска «служит образному
претворению тех тенденций и явлений общественного развития,
которые препятствуют свободной реализации духовных потребностей
человека»430.
129 Сорокин В. «Россия опять становится страной гротеска»: интервью. С. 15.
130 Шапошникова О. В. Гротеск и его разновидности: автореф. дис. ... канд.
филол. наук. М., 1978. С. 22.
169
Кульминацией повести становится сцена выступления
Кедрина перед крестьянами. В начале своей речи секретарь райкома
рисует картину роковых бед, преследующих деревню, причем его
слова практически превращаются в стихи: «Корчевали.
Выжигали. Пахали. Сеяли. Жали. Молотили. Мололи. Строгали. Кололи.
Кирпичи клали. Дуги гнули. Лыки драли. Строили... И что же?
Кадушки рассохлись. Плуги сломались. Цепи распались. Кирпичи
треснули. Рожь не взошла». Кедрин старается убедить людей, что
создавшееся положение не безнадежно. Приводя примеры других
хозяйств, он вселяет в крестьян веру в то, что его можно
изменить: «В Устиновском нархозе бревна в землю вогнали, встали
на них, руки раскинули и напряглись! Напряглись! В Светлозар-
ском — грабли, самые простые грабли в навоз воткнули, водой
окропили, и растут! Растут! А усть-болотинцы?! Кирпич на
кирпич, голову на голову, трудодень на трудодень! И результаты,
конечно, что надо! А мы? Река-то до сих пор ведь сахара просит!
Поля, что, опять хером пахать будем? Утюгу кланяться да на ежа
приседать? Оглядываться да на куму валить?! Крыльцо молоком
промывать?!» [I, 197-198].
В «Падеже» Сорокин использует супрасинтаксическую заумь
в функции магического языка. Тем самым он продолжает
традицию русской философии, ряд представителей которой
усматривали в советском идеологическом дискурсе магически-заклинатель-
ное начало. «Идеология — язык заклятий и проклятий, — пишет
М. Эпштейн, — словесная ворожба, которая вполне достигала
своей цели и преображала окружающий мир, точнее, превращала
его в фикцию. Лев Шестов напрямую связывал идеологическую
„диктатуру слова" при большевизме с пережитком магии». Вслед
за этим Эпштейн приводит цитату из статьи Шестова «Что такое
русский большевизм?», замечательно подходящую для
характеристики проблематики «Падежа»: «Как это ни странно, но
большевики, фанатично исповедующие материализм, на самом деле
являются самыми наивными идеалистами. Для них реальные
условия человеческой жизни не существуют. Они убеждены, что
слово имеет сверхъестественную силу. По слову все делается —
нужно только безбоязненно и смело ввериться слову. И они
вверились. Декреты сыплются тысячами. <...> И никогда еще слова
не были так уныло однообразны, так мало не соответствовали
действительности...»431.
Эпштейн M. Н. Слово и молчание: метафизика русской литературы. С. 186.
170
В «Падеже» главным идеологом магии Слова выступает
Кедрин432. Практически полностью абсурдная для читателя, его речь
хорошо понятна собравшимся: «Толпа одобрительно загудела» [там
же]. И чем невнятнее становится эта речь, тем более
восторженный отклик получает она в сердцах собравшихся. В результате
крестьяне, вначале выжидающе молчавшие, полностью переходят
на сторону Кедрина, убеждаясь в том, что нет ничего
невозможного — ведь при желании можно прорастить даже грабли. Главное —
несмотря ни на что не сдаваться и не отчаиваться, покорно кладя
«кирпич на кирпич, голову на голову, трудодень на трудодень».
В этом заключается принципиальная разница между позициями
Кедрина и Тищенко. В отличие от председателя, секретарь
райкома твердо убежден в том, что любую утопию можно воплотить
в жизнь. «Вы же радио слушаете, газеты читаете! — кричал
секретарь, размахивая фуражкой. — Вам слово сказать — и маховики
закрутятся, руку приложить — и борова завоют!» [там же].
Пропагандистскому слову (газеты, радио) Кедрин придает
чудодейственные возможности, и словом же он предлагает изменять
окружающую реальность.
Здесь уместно вновь обратиться к философии. По мнению
М. К. Мамардашвили, в советское время «многое говорилось на
каком-то странном, искусственном, заморализованном языке,
пронизанном агрессивной всеобщей обидой на действительность как
таковую». Было распространено «использование слов для
прикрытия реальности, незнание и — главное — нежелание ее знать».
«Это — совершенно первобытное, дохристианское состояние
какого-то магического мышления, где слова и есть якобы
реальность, — полагает М. Мамардашвили. — Это абсурд, но абсурд,
который душит любое человеческое чувство». Посредством таких
слов, как «план» или «морально-политическое единство народа»
инсценировалось «какое-то ритуальное действо вместо реального
действия и жизни», в результате чего «люди вообще отказались
от чувства реальности», произошло «фокусническое устранение
реальности»433.
132 Ср. со следующим высказыванием Сорокина: «Это же опыт идеологизации
населения. Ведь если посмотреть вообще на XX век — кто им рулил, — то мы
увидим, что это были персонажи, которые умели хорошо грузить: Гитлер, Троцкий,
Муссолини, Ленин и тысячи их последователей — специалистов по заговариванию
толпы. Заклинанию толпы» (Сорокин В. Двойное сознание — это Россия:
интервью // Огонек. 2008. № 1-2. С. 57).
433 Мамардашвили М. Философия действительности: Размышления после съез-
171
В противоположность Кедрину, Тищенко, создавший макет
идеального хозяйства, не верит в то, что чудо осуществимо в
реальности. Он «преступно» сомневается в возможности воплотить утопию
в жизнь, поступая как самый настоящий «вредитель». В этом
отношении председатель не отличается от узника, заключенного в
клети номер четыре, который сочинял возвышенные стихи с вычурной
образностью в духе ранней поэзии Б. Л. Пастернака:
Сумерки отмечены прохладой,
Как печатью — уголок листка.
На сухие руки яблонь сада
Напоролись грудью облака.
Ветер. Капля. Косточка в стакане.
Непросохший слепок тишины.
Клавиши, уставши от касаний,
С головой в себя погружены.
Их не тронуть больше. Не пригубить
Белый мозг. Холодный рафинад.
Слитки переплавленных прелюдий
Из травы осколками горят
[I, 193].
Не случайно эти, с точки зрения Кедрина, оторванные от жизни
стихи вызывают такой гнев секретаря райкома: «По мере того, как
входили в Кедрина расплывшиеся слова, лицо его вытягивалось
и серело. <...> Тищенко, белый, как полотно, с открытым ртом
и пляшущим подбородком, двинулся к нему из угла, умоляюще
прижав руки к груди. Кедрин размахнулся и со всего маха ударил
его кулаком в лицо» [там же].
Таким образом, в «Падеже» Сорокин вскрывает ключевую, по
его мнению, коллизию сталинской эпохи: трагическое противоречие
между агрессивно насаждаемой «сверху» утопией и реальной
невозможностью воплотить ее «снизу». Тищенко, конечно, не только не
верит в чудо, но и по объективным причинам не способен привести
свое хозяйство в соответствии с макетом. Чтобы перевыполнять
план, председатель даже вынужден приказывать пахать футбольное
поле или «использовать обои футбольные ворота для ремонта
фермы» [I, 171]. Несмотря на абсурдный характер приказов Тищенко,
многие из них отражают реальную бедность его хозяйства434.
да: интервью / / Он же. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 201-205.
434 Трагичность фигуры Тищенко не стоит преувеличивать. Бессмысленные
приказы, которыми завален его стол, требование отлить печать из языка колокола гово-
172
Конкретные трудности председателя не интересуют ревизоров,
существующих в созданном пропагандистской машиной идеальном
мире. «У нас в районе все хозяйства образцовые! В передовиках
ходим! Рекорды ставим!», — восклицает Мокин [I, 172]. Они требуют
немедленного воплощения утопии в жизнь. Поэтому герои Сорокина
поступают наперекор канонам соцреализма, приводя не реальность
в соответствие с макетом, а макет в соответствие с реальностью.
Поскольку хозяйство Тищенко не соответствует идеалу, оно должно
быть разрушено, а председатель, не способный сделать чудо
реальностью, подлежит уничтожению наряду с прочими «вредителями».
С целью продемонстрировать крестьянам «вредительскую»
сущность Тищенко, Кедрин устраивает инсценировку. По просьбе
секретаря ему приносят наполовину наполненное бензином ведро,
на котором написано «ВОДА». Это ведро когда-то использовалось
для поения «скота» и стояло в сенях дома Тищенко. Кедрин
спрашивает у председателя, горит ли вода — Тищенко мотает головой.
Тогда секретарь райкома бросает в ведро спичку и на глазах у
изумленной толпы «вода» вспыхивает. Тем самым он наглядно
подтверждает, что нет ничего невозможного.
Неважно, что в действительности находится в ведре —
существенно лишь то, что нам нем написано. До нелепости
примитивный «фокус» с подменой воды бензином кажется крестьянам,
загипнотизированным пропагандистской заумью, подлинным чудом.
В их глазах оно окончательно и бесповоротно выявляет скрытую
«вредительскую» сущность Тищенко, не способного принять
магическую логику, согласно которой слова и есть реальность435.
Заключительная часть речи Кедрина, по наблюдению Липовец-
кого, строится «как разговор корифея с хором, жреца с народом»436.
Секретарь райкома задает одни и те же вопросы и получает на них
те же самые ответы, доведя себя практически до припадка
(«секретарь трясся, захлебываясь пеной»), а толпу до исступления. В то же
время Кедрин строго выдерживает логику своей речи, основное
содержание которой составляет следующий силлогизм: «Если из ведра
поили „скот" и „скоти — это „засранные и опухшие4', то „засранный
и опухший" Тищенко — „скот", и его необходимо поить из ведра».
рят о том, что перед нами действительно нерадивый председатель. Но Сорокин
убедительно показывает, что главной причиной царящего в хозяйстве разорения являются
конкретно-исторические условия, а не организационная беспомощность Тищенко.
135 Здесь нельзя не провести параллель с ключевой сценой романа «1984», в
которой главного героя «убеждают» в том, что дважды два равно пяти.
436 Лейдерман Н. Л., Липовецкий M. Н. Указ. соч. С. 57.
173
Колебание у толпы вызывает лишь последний вопрос секретаря:
«Сейчас или завтра?». Макет Тищенко представляет собой
параллельную реальность, его воплощение возможно лишь в никогда не
наступающем, абстрактном «завтра». Ревизоры же хотят, чтобы
будущее наступило сегодня. Кедрин уже убедил крестьян в том,
что для вооруженных пропагандистским словом людей нет ничего
невозможного. Теперь ему предстоит сделать еще один, решающий
шаг: заставить их воплощать утопию не только «здесь», но и
«сейчас». Подхватив робко брошенное какой-то бабой «сейчас», Кедрин
умело развивает его в единогласное «Сейчааас!». Заручившись
согласием народа, Кедрин «поит» председателя «водой», окатывая его
горящим бензином, а Мокин доламывает ногами макет —
неосуществленную утопию Тищенко437.
В итоге сожжение «вредителя» осуществляется Кедриным
с полного согласия крестьян. Если раньше ответственность за свои
действия ревизоры возлагали (и, отчасти, небезосновательно) на
председателя, то теперь в этой роли выступает все население
хозяйства. Спровоцировавшие же деструктивную вакханалию Кедрин
и Мокин, как из воздуха соткавшиеся в начале повести,
окончательно самоустраняются от произошедшего.
Сожжение Тищенко играет в «Падеже» роль катарсиса, так как
именно председатель выступает в качестве основного виновника
существующего двоемирия. Но этот катарсис носит отчетливо
ложный, фиктивный характер: уничтожение председателя и его макета
идеального хозяйства не только не отменяет утопического
императива, но и многократно усиливает его. Тищенко является лишь
пешкой, устранение которой позволяет на короткое время снять
конфликт действительности и утопии, создав тем самым иллюзию
возможности невозможного. Установившийся же миропорядок
становится от этого еще более гибельным и катастрофичным, прямым
штопором закручиваясь в царство тотального абсурда. В полном
соответствии с принципами макабрического гротеска, хаос и аб-
сурдутверждаются в «Падеже» качестве безальтернативной нормы
бытия.
Несмотря на то, что игровое начало занимает в повести
значительное место, авторская позиция носит крайне серьезный ха-
137 Учитывая сравнение Тищенко с куклой и общий иррационально-магический
подтекст повести, можно вспомнить древний языческий обряд сжигания куклы, на
русской почве представленный, прежде всего, сожжением Масленицы,
олицетворяющей зиму. Действие «Падежа» происходит именно по весне.
174
рактер. Обыгрывая распространенный соцреалистический сюжет,
Сорокин стремится, прежде всего, не к решению
формально-стилистических задач, но к вскрытию реальных противоречий
изображаемого времени. Творческая полемика с соцреализмом
осуществляется в «Падеже» исходя из конкретики сталинской эпохи.
Элементы постмодернистского гротеска, связанные с
обыгрыванием соцреалистического канона, только начинают проклевываться
в этой повести.
Нет в «Падеже» и специфически постмодернистского
«черного юмора». В сгущенно-мрачной атмосфере повести даже
комические элементы становятся пугающими. Отстраненно-бесстрастная
позиция автора не только не способствует утверждению веселой
относительности всех ценностей, но и еще больше оттеняет
чудовищный и трагический характер происходящего. По словам Вайля,
«сердце останавливается от жалости и боли перед этими строками,
сконструированными холодным расчетом мастера-виртуоза»438.
«Суровый рассказ, — говорит один из персонажей „Нормы" о „Паде-
жеи. — Страшный он, злой какой-то» [I, 202-203].
Однако Сорокин остается верен своему представлению о
литературе как о заведомо мертвом и фальшивом мире. Стремясь
подчеркнуть «бумажный», надуманный характер «Падежа», писатель
включает это произведение в контекст третьей части «Нормы».
В ней «Сорокин избирает исповедальную прозу писателей
почвеннической ориентации, воспроизводит накопленные ею клише:
тематические, сюжетно-композиционные и т. д. При этом автор
„Нормы44 создает как бы универсальную модель-симулякр
почвеннической прозы 50-80-х гг. с характерными для нее идеями, мотивами,
образами. Сорокин имитирует код поэтизации истоков, малой
родины, деревенского детства, поисков генеалогических и исторических
корней, приобщения к неославянофильской традиции, обретения
поистине мистической связи с родной землей — все то, что стало
общим местом в подавляющем большинстве произведений этого
типа и выражается на таком же общем для многих языке»439.
Один из основных моментов этого текста — неожиданно
вторгающийся в поэтическое описание яблони обсценизм: «Кора была
шершавой, грубой, глубокие трещины рассекали ее и в них
светилась молодая кожа старого, как жизнь, дерева. Как крепко оно
держалось за землю! Как широко и просторно росли ветви! Сколько
Вайль П. Консерватор Сорокин в конце века.
Скоропанова И. С. Указ. соч. С. 270.
175
свободы, уверенности, силы было в их размахе! Каким
спокойствием веяло, ой блядь, не могу, как плавно плыли над ним облака!».
Ситуация проясняется в конце фрагмента, когда читатель
обнаруживает, что прочитанное на самом деле является частью другого
текста, герой которого зачитывает своему приятелю этот кусок как
самостоятельное произведение. Из разговора двух приятелей
становится ясно, что появление матерного слова вызвано тем, что автор
текста (эксплицитный автор) забылся, полностью отождествив себя
со своим героем, и выразил крайнее восхищение обычным для него
способом. Из возвышенного образа, который читатель мог бы
составить на основании прочитанного, автор превращается в жизненную
фигуру со своими бытовыми проблемами, которые и обусловили
появление грубости: «Ну это просто я случайно. Вырвалось. <...>
Знаешь, разные там хлопоты, денег нет, жена, дети...» [I, 146, 166-167].
«Вырвавшееся» слово — не единственное средство остранения.
Неправдоподобные или несвойственные почвенническому стилю
моменты встречаются в тексте неоднократно. Прежде всего, бросается
в глаза сгущенность клише, как стилистических, так и сюжетных.
Пародийно-искусственным выглядит нахождение главным героем
сундучка с автографом стихотворения Ф. И. Тютчева «Умом Россию
не понять...»440 и обнаружение им своего родства с Е. А. Денисьевой.
В окрашенные трогательностью воспоминания героя о похоронах
любимой девушки, убитой молнией, вторгается натуралистическая
деталь: «Левая ее рука была зеленовато-синей». Кульминацией
этого псевдопочвеннического произведения становится уже
упоминавшийся момент буквального, а не мистического слияния главного
героя с «Русской Землей»: «Он опустился на нее, обнял, чувствуя
блаженную прелесть ее тепла. <...> Это продолжалось бесконечно
долго, и в тот миг, когда горячее семя Антона хлынуло в Русскую
Землю, над ним ожил колокол заброшенной церкви» [I, 166].
Вслед за этим в конце абзаца уже совершенно некстати
появляется слово «вот», окончательно разрушающее иллюзию
достоверности. Текст продолжается диалогом эксплицитного автора
с приятелем, который читатель, по контрасту с «почвенническим»
фрагментом, поначалу воспринимает как действительно имеющую
место ситуацию. В конце диалога выясняется, что и эта ситуация
нереальна: решая убрать из текста «скучный» момент с Тютчевым,
эксплицитный автор мгновенно переписывает свое произведение,
440 Это стихотворение будет играть важную роль в рассказе «Машина» из книги
«Пир».
176
тут же зачитывая получившийся текст приятелю. В новой
редакции главный герой вместо письма и автографа Тютчева находит
рассказ из сталинских времен «Падёж». Мотив отрывания чего-то
запрятанного будет зеркально повторен в повести: «Еоошь твою
двадцать, — восклицает Мокин, обнаружив в столе Тищенко макет
идеального хозяйства. — Вот где собака зарыта!» [I, 171].
Не менее отчетливы интертекстуальные связи повести с
первой частью «Нормы», задающей контекст восприятия всего
романа. Как мы знаем из первой части, «нормы» в сталинское время
были не только больше, но и тверже современных. Неумолимую
«твердость» этих «норм» и призвана продемонстрировать
трагическая история Тищенко, не способного подчиниться абсурдной
логике своего времени. Вместе с тем, как неоднократно указывалось
выше, Тищенко является не только жертвой, но и виновником
произошедшей в его хозяйстве вакханалии. «Жопа он, а не хозяин.
Ишь говна развел», — говорит Мокин, имея в виду нелепые
приказы председателя [I, 170]. Мокин же бросает Тищенко обвинение
в том, что он «на всех нассал и насрал», что можно понять и как
намек на бурную законотворческую деятельность председателя. То,
что словесная игра в данном случае носит осознанный характер,
подтверждает начало первой части «Нормы»:
— Все равно. Пару строчек написал был. Жив, здоров, привет
родителям.
— Да я писал.
— Когда писал-то?
— Да писал... что ты прямо... писал.
— Ну и жопа ты все-таки! — Свеклушин рассмеялся, хлопнул Трофи-
менко по плечу. — Писал!
[I. 15].
Фактически, ревизоры «бурят» Тищенко тем же самым
идеологическим «калом», которым завален его стол, с той лишь разницей,
что их «нормы» произведены на более высоком государственном
уровне441. Возникающий в итоге замкнутый круг, очевидно,
является аллюзией на политическую систему сталинизма.
441 Постоянное обыгрывание Сорокиным омонимичности глаголов «писать»
и «писать» и ассоциативно возникающей аналогии «писать» — «срать» заставляет
вспомнить, что в новоязе «Голубого сала» слово «кал» означает «известное
высказывание». Учитывая деконструктивную направленность творчества Сорокина 1980-
х годов, это позволяет трактовать «норму» как символ не только идеологического,
но и вообще любого клишированного высказывания, в том числе сложившихся
литературных стилей.
177
Цикл «Стихи и песни»: воплощенная утопия
Проблема несоответствия чаемой утопии и наличной реальности,
поставленная в повести «Падёж», вновь заявит о себе в седьмой
части «Нормы». Ее основное содержание составляет написанный
в качестве самостоятельного произведения цикл «Стихи и песни»442.
Хрестоматийные стихотворения в стилистике «революционного
романтизма»443 помещаются в контекст тщательно сымитированной
реалистической прозы. Это вызывает резкий остраняющий эффект,
выявляющий полное несоответствие между художественным
миром соцреализма и реальным положением вещей.
В «Норме» цикл поэтическо-прозаических миниатюр
предваряет отрывок из «Стенограммы речи главного обвинителя». В нем
подробно описывается «преступная» деятельность некоего
подсудимого, все прегрешения которого перед законом состояли в
чрезмерном увлечении искусством — в особенности, авангардистского
толка. От избытка впечатлений у подсудимого случился приступ
шизофрении, и больной начал остервенело печатать. «Успел
написать он немного, — говорит главный обвинитель, — но тем не
менее эти два десятка листов, на мой взгляд, представляют для
суда чрезвычайный интерес» [I, 265]444.
Очевидно, что перед нами иронический портрет самого
Сорокина445. Как указывалось во введении, знакомство с концептуализмом
и поп-артом дало ему ключ к дальнейшему творчеству. В
«Стенограмме речи главного обвинителя» в гротескном виде описан
процесс обретения новой художественной стратегии. Характерно,
что предметом особого увлечения подсудимого является дадаизм
142 Сорокин В. Стихи и песни / / Он же. Заплыв. С. 271-315.
443 См. о ней: Никё М. Революционный романтизм // Соцреалистический
канон. С. 472-480; Мирский Д. Романтизм // Лит. энцикл.: в 11 т. Т. 10. М., 1937.
Стб. 35-36.
444 И в третьей, и в седьмой части «Нормы» подчеркивается материальный,
вещный характер художественного текста. Это соотносится со вступлением к
роману, в котором в качестве материального объекта представлено все произведение.
Еще одно связующее звено между третьей и седьмой частями «Нормы» —
числа 1948 и 1984: книга подсудимого «Дадаизм и Тибет» была издана в 1948 году,
а в 1984 году он вышел из исправительно-трудового лагеря. (Оба события были
бы невозможны в действительности: дадаизм, тем более в столь странной
перспективе, не изучался в период позднего сталинизма, а ИТЛ были ликвидированы
в 1956 году.)
445 Не случайно описание «подсудимого» в момент творческого процесса
(шизофренического приступа) неизменно встречает посетителей официального сайта
писателя http://www.srkn.ru/.
178
и творчество M. Дюшана446, а поп-арт аттестован обвинителем как
«витамизированный внучок дады». Катализатором же
шизофренического приступа и сопутствующего ему творческого процесса
стал «исторический разговор между Дюшаном и Дали о продаже
говна одним поп-артистом» [I, 262, 264]447, что вновь
актуализирует основополагающую для романа фекальную тематику в ее связи
с искусством.
Буквально проявляющийся «шизофренический» характер «поп-
артирования» оказывается релевантным в «Стихах и песнях» как
в плане содержания (исследование «модальной шизофрении»
соцреализма), так и в плане выражения (гротескная образность). Эта
стратегия воплощена в самой «стенограмме»: обвинитель то и дело
сбивается с подобающего случаю официального тона на
неприличные оскорбления в адрес подсудимого, перемежает свои
слова жаргонизмами и обсценизмами, а приступ шизофрении и вовсе
описывается им в стихотворной форме: «все писал, все печатал,
все, как курва слепая, стучал, обнажал свой початок, пищеблоком
своим докучал, пил, смеялся, дрочился, срал на койку и смачно
пердел, в скрипку долго мочился, между тем безнадежно седел,
между тем — завирался и дрожал, и глотал молофью, с кошкой
сочно ебался и свистел, подражал соловью» [I, 265]. Извращенно-
физиологическая образность этого «стихотворения в прозе» резко
контрастирует с лирико-патетическим характером следующего за
ним цикла, в то время как избранная жанровая форма
обеспечивает плавный переход к миниатюрам.
Помимо стилевой организации, началом, объединяющим их
в единое целое, становится важнейший для соцреализма принцип
реализовавшейся мечты, который Сорокин распространяет на
популярные образцы официальной советской поэзии. Писатель
прибегает к своего рода драматизации советских стихотворений,
разыгрывая их в лицах. Приближая чеканные строчки к действительно-
446 В первой части «Нормы» творческую деятельность Дюшана обсуждают
интеллигенты Новицкий и Аккуратов. По мнению Новицкого, Дюшан своими реди-мей-
дами «всячески доказывал, что художественный вкус тут неуместен. Произведение
искусства — это то, что может быть рассмотрено. Не важно, кем, и когда, и с какой
целью изготовлен предмет. Он переводится в область эстетического и становится
экспонатом. Гениальная формула. Почти за пятьдесят лет до концептуализма» [I, 72].
447 Скорее всего, имеется в виду скандально известное произведение
итальянского художника Пьеро Мандзони «Дерьмо художника» (1961), представляющее
собой 90 консервных баночек с собственными фекалиями Мандзони. Таким эпа-
тажным способом он привлекал внимание к проблеме коммерциализации искусства.
179
сти, Сорокин вставляет в них обращения, разговорные выражения,
уточняющие обороты. «Очеловечивание» хрестоматийных текстов,
появление у избитых строчек эксплицитных авторов, описание их
в жизненных ситуациях, с одной стороны, прямо отсылает к
истокам соц-арта («Лозунги» В. Комара и А. Меламида448). С другой
стороны, это парадоксальным образом соответствует канонам
соцреализма: прекрасное на самом деле стало обыденной жизнью
советских граждан, которые заговорили в быту стихами.
Художественное пространство «Стихов и песен» — это мир
воплощенной утопии, построенной в полном соответствии с соцреали-
стическими трафаретами. Поэтому основной прием, используемый
автором, — реализованная метафора и, шире, вообще перевод
фигурального в буквальное. Все потенциальное, желаемое
становится в этом мире действительным, легко осуществимым. Фантастика
кажется реальнее самой реальности, а чудеса последовательно
воплощаются в жизнь.
В артериях солдатского сердца хранятся такие «великие»
слова, как «раскулачивание», «эмпириокритицизм» и «индустрия»
(«В сердце солдатском»). Сталинский лозунг «Жить стало
лучше, товарищи, жить стало веселее!» белеет на небосклоне
(«Памятник»). Солнце восходит, поднимаемое на стальном тросе
портальным краном («Ночное заседание»)449. В зеленоватые круги
зрачков девушки вписаны «ярко-красные пятиконечные звезды»
(«Письмо»)450. На поверхности хлебного зерна обозначаются строч-
448 Жанр лозунга Сорокин обыгрывает в шестой части «Нормы». Основатели
соц-арта подписывали советские формулы своими именами, тем самым превращая
избитые и безличные фразы в якобы живые высказывания конкретных людей.
Сорокин воплощает в лозунговой форме не агитационные и идеологические, а бытовые
смыслы: «У ВАНИ С ЭММОЙ ВСЁ В НОРМЕ!»; «СТАКАН — СЕРЁГИНА
НОРМА!». Деконструкция лозунгов сопровождается возвращением им статуса
произведений искусства (в раннесоветской культуре лозунги были поэтическим жанром —
их сочиняли В. В. Маяковский, А. И. Безыменский, С. М. Третьяков).
449 Тема создания искусственных солнц фигурировала в ряде романов того
времени, которые теперь принято относить к разряду научно-фантастических. Сами авторы
этих произведений лишь вынужденно соглашались с таким жанровым определением.
«С чувством некоторого смущения я называю этот роман научно-фантастическим, —
писал в предисловии к роману „Семь цветов радуги4' В. Немцов. — Многое из того,
о чем написано в нем, я видел в колхозных деревнях. Какая же это фантастика?»
(Немцов В. Семь цветов радуги. М., 1950. С. 3). В конце этого романа, наряду с
прочими «обыкновенными чудесами» (название первой части произведения), десять
мощных ламп, как десять солнц, освещают поля ночью, которая превращается в день.
450 Возможно, истоком этого образа стал «Проект очков для каждого советского
человека», предложенный соц-артистом Л. Соколовым в 1975 году: в красных
линзах деревянных очков были вырезаны силуэты советской звезды.
180
ки сталинской статьи «Аграрная политика в СССР» («Зерно)451.
Идеологическое воспитание представлено в этой миниатюре как
процесс, столь же необходимый советскому человеку, как принятие
пищи (отголосок первой части «Нормы»)452. Советская идеология
принимает в «Стихах и песнях» поистине вселенский характер. Ею
оказывается пронизанным решительно все: от повседневной жизни
людей до мира природы453.
В отличие от классической утопии, которая осуществляется в не-
ком замкнутом пространстве (например, в далекой стране),
воссоздаваемую им утопию Сорокин помещает в контекст реалий сталинской
эпохи. Тексты стихотворений как бы «дописываются» автором или
переосмысляются «в духе времени». Центральное место в цикле
закономерно занимает война — ей и армейским будням посвящено
восемнадцать миниатюр из тридцати одной. Лейтмотивом цикла
становится расстрел: смершевцы расстреливают героев миниатюр
«Искупление», «Рожок» и «В память о встрече»; зенитчики сбивают
полетевшего, как птица, летчика-испытателя («Жена испытателя»);
благодаря приему реализованной метафоры становится возможным
даже расстрел осени и гармони («Осень», «Одинокая гармонь»).
В последней миниатюре нашла отражение гипертрофированная
подозрительность и практика доносительства. Бдительный
гражданин по телефону сообщает в местное отделение НКВД о странном
поведении гармони, которая «словно ищет в потемках кого-то /
И не может никак отыскать» (в основу миниатюры положено
стихотворение М. В. Исаковского «Одинокая гармонь»). Аналогичным
451 Нечто подобное всерьез описывается в романе Ю. О. Домбровского
«Факультет ненужных вещей»: «Потапова кто-то научил выращивать яблоки, на которых
проступали совершенно ясные изображения Ленина или Сталина... Пять из этих
яблок экспонировались в музее. Сейчас Потапов вырастил и хотел прислать еще
три, с лозунгами и государственным гербом» (Домбровский Ю. Факультет
ненужных вещей / / Он же. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. М., 1993. С. 37-38).
452 Также можно провести параллель с акцией Комара и Меламида
«Съедение „Правды4'» (1976), во время которой соц-артисты пропустили газету через
мясорубку, поджарили из получившейся массы биточки и съели их. «Реципиент,
включенный в контекст, понимает, что советскому человеку приходится потреблять
жвачку из газеты „Правда", в которой никогда не напишут, что в стране
существует не только дефицит продуктов питания, но и туалетной бумаги, — пишет
А. Ковалев. — По этой причине „газетка" в анекдотическом словоупотреблении
вызывала стойкие копрологические ассоциации» (Ковалев А. Семь чудес: Комар
и Меламид // Артхроника. 2010. № 10. С. 89).
453 В этом плане плодотворно сравнение седьмой части «Нормы» с такими
картинами Э. Булатова, как «Знак качества» (1986), в которой советский знак качества
стоит на небе, или «Закат» (1989), где над водной гладью восходит герб СССР.
181
образом строки известного стихотворения 3. Н. Александровой
«Золотые руки» приобретают совсем иное звучание в устах
лейтенанта НКВД, докладывающего о подозрительном парнишке из
квартиры номер пять: «У него гремят в карманах слитки / Олово,
свинец и серебро».
Сорокин никак не устраняет резкий стилистический диссонанс,
возникающий при совмещении фантастических и правдоподобных
элементов. Если в первой части романа необходимость
регулярного употребления в пищу брикетов «нормы» некоторые персонажи
считали противоестественным, то в седьмой части произведения
сосуществование утопии и реальности мыслится всеми
персонажами как само собой разумеющееся. Так, в «Степных причалах»
описывается идиллическая беседа между «перевоспитанным»
строителем Беломорканала и охраняющим его конвойным солдатом,
в середине которой строитель поспешно прячет за пазуху
брошенный конвойным окурок. За счет этого писателю удалось передать
мироощущение эпохи, в которой раздвоение между утопией и
реальностью в полном смысле слова стало нормой и не ощущалось
многими людьми. Говоря об утопическом мировосприятии, которое
приобрело в культуре зрелого сталинизма специфические черты,
X. Гюнтер пишет: «Соцреализм снимает разрыв между
сегодняшним и завтрашним днем. Существующее предстает в розовом
блеске светлого будущего — идеализируется, романтизируется,
лакируется»454.
Этот диссонанс позволил Сорокину высвободить комический
потенциал гротеска, практически не ощутимый в повести «Падёж».
Комизм в той или иной мере присущ большинству миниатюр цикла,
причем иногда он перерастает в сатиру. В рассказе
«Незабываемое» сидящие за роскошным обедом Ворошилов и Буденный
степенно рассуждают о том, как они «в огнеметной лаве решили все
отдать борьбе». «Я отдал судьбу свою в честные руки, —
патетически произносит герой рассказа „Весеннее настроение", выходя из
здания обкома. — Я жил на земле, как поэт и солдат» [I, 277, 289].
Всеобщему комизму происходящего особенно способствует
прием реализованной метафоры, обнажающий абсурдную образность
выбранных стихотворений, абсурдность вообще того
художественного языка, которым они написаны. В утопическом мире Сорокина
в прямом, а не в переносном смысле рождаются города («В доро-
454 Гюнтер X. Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический
канон. С. 45-46.
182
ге»), отправляющийся на фронт солдат захватывает поцелуи, как
сухари («В память о встрече»), а отбывающий в плавание матрос
оставляет девушке на память свое сердце в плотно укупоренной
банке («Морячка»). Прием реализованной метафоры
соответствует мироощущению той поры, проникнутой верой в безграничные
возможности человека, способного переделать саму природу,
превратив мечту в реальность. «Гремела маршами дневная жизнь, —
пишет по этому поводу Э. С. Радзинский, — ибо это была страна
победителей. Монархистов, меньшевиков, эсеров, кадетов, белую
гвардию — всех они победили в гражданской войне. Теперь
побеждали в мирной жизни — за две-три пятилетки догнали и
скоро перегонят весь мир. Каждый день газеты сообщали о победе
какого-нибудь передовика труда — и страна ликовала. Победили
религию — от Святой Руси остались лишь обезглавленные
храмы. Победили саму смерть — нетленный Ильич ждал сограждан
в Мавзолее»455.
Возникающий в итоге гротескно-абсурдистский мир выпукло
отражает скрытые механизмы советской культуры. В работе
«Культура Два», законченной в 1979 году («Стихи и песни» создавались
в 1979-1980 годах), В. Паперный утверждает, что одной из
особенностей сталинской эпохи было выдвижение логически
несовместимых, амбивалентных требований. «Культура может требовать
одновременно двух взаимоисключающих вещей, — пишет
Паперный, — стандартизации строительства и индивидуального подхода
к каждому сооружению, удешевления архитектуры и достижения
максимального ее богатства, физического уничтожения
памятников собственной архитектурной традиции и объявления этой
традиции единственным источником творчества, полного вырубания
деревьев на Садовом кольце и буйного озеленения, ликвидации
ленинградской архитектурной организации и возрождения
петербургской традиции, ликвидации азиатского склада Москвы и чисто
азиатских мер по его искоренению и т. д.». Причину возникновения
таких парадоксов исследователь видит во враждебном отношении
культуры 2 к попыткам «перевести ее мироощущение на язык
логически непротиворечивых требований», так как это предполагает
позицию стороннего наблюдателя: «Надо либо полностью
раствориться в культуре, либо быть отвергнутым ею»456.
Радзинский Э. С. Сталин. М., 1997. С. 415.
Паперный В. Указ. соч. С. 211-212.
183
Важно отметить, однако, что Сорокин не сосредоточивается
исключительно на разоблачительной функции создаваемого им
художественного мира, как это обычно считается457. Деконструи-
рующий взгляд на соцреалистическую словесность, восприятие ее
как кича не более значимы для автора, чем восприятие ее как
подлинной и проникнутой искренностью. Героическая патетика,
задушевный лиризм, пафос социалистического строительства — все
эти черты, присущие пересказываемым писателем поэтическим
текстам, сохранены. Утопия в «Стихах и песнях» не менее реальна
и подлинна, чем отстраняющие ее антиутопические мотивы. И в то
же время, соседствуя с утопической фантастикой, реалистические
элементы теряют правдоподобный характер. Мы имеем дело с так
называемой амбиутопией, то есть утопией и антиутопией
одновременно (это характерно, в частности, для произведений А. П.
Платонова). Ирония не заслоняет здесь искренности, пусть во многом
наивной, так же как комизм не мешает автору видеть трагическую
сторону эпохи.
Рассказ «Рожок» начинается в традиционно комическом ключе:
«Порхает утренний снежок и на затворе тает вдруг. — Средь боя
слышу я рожок — необычайно нежный звук! — воскликнул
комбриг, разглядывая в бинокль поле боя. Над полуоткрытым
блиндажом свистели пули. В воздухе пахло гарью». Противопоставление
советской поэзии прозе жизни усиливается, переходя в абсурд:
«Комбриг крепче прижал бинокль к глазам: — И автомат к плечу
прижат. Захлебывается огнем». Посмотрев на политрука
«ввалившимися от постоянной бессонницы глазами» комбриг произносит
фразу о высшей необходимости всех страданий и жертв: «Дорогой
горя и тревог шагай, сражайся и терпи. Еще услышим мы рожок
в безмолвной утренней степи» [I, 268-269].
Трагическое заблуждение героя вскрывается во второй части
миниатюры: «Комбриг и политрук двигались бесшумно — они были
босы и шли в одном заледенелом исподнем. Руки их были
скручены колючей проволокой». Страшная действительность сталинского
времени дает о себе знать в полную силу: «Смершевцы сдернули
457 Ср.: «В VII части романа художник осуществляет деконструкцию текстов
ряда популярных советских поэтов <...> Лирика, романтика, патетика цитируемых
стихотворных фрагментов, попадая в сниженный, прозаизированный контекст, не
вызывают ничего, кроме неловкости, „черного" смеха. Контраст между поэзией
и прозой еще более заостряет такую черту официального искусства, как
лжеидеализация, способствует демифологизации социальных мифов» (Скоропанова И. С.
Указ. соч. С. 275).
184
автоматы, приложили к тугим плечам. Комбриг поцеловал
политрука в поседевший за одну ночь висок. Политрук неловко
придвинулся к нему, ткнулся лицом в окровавленную рубаху и заплакал. —
Да здравствует великий Сталин! — выкрикнул комбриг хриплым
голосом» [там же].
Рожок, звучание которого «в безмолвной утренней степи» было
для комбрига символом мирной жизни, оказывается в руках
командира отделения СМЕРШа символом его смерти. Но тот же самый
фантастический, «инкрустированный серебром и перламутром
рожок», который командир смершевцев прикладывает к посиневшим
губам, мешает воспринимать происходящее наяву и снимает
разоблачительный пафос рассказа.
К сталинской эпохе так или иначе отсылают большинство
миниатюр цикла «Стихи и песни», но этот хронотоп не выдержан
последовательно. В ряде произведений Сорокин причудливо смещает
временные координаты. В рассказе «Университет на воде» пятая
пятилетка (1951-1955) совмещается с атомной подводной лодкой
«Комсомолец», построенной в 1983 году. Действие рассказа «В
походе» должно происходить уже после 1970 года (именно в этом
году была спущена на воду атомная подлодка «50 лет СССР»).
В рассказе «Диалог» Сталин с Берия говорят строками
стихотворения Е. А. Евтушенко «Какое наступает протрезвленье...»,
написанного после смерти обоих героев — в 1956 году. Сталинская эпоха
в цикле как бы расширяется и вбирает в себя всю последующую
историю СССР.
Восприятие советской реальности как застывшего во времени,
нерасчлененного пласта, в котором сосуществуют хронологически
не соотносимые явления, полемично по отношению к позиции
«шестидесятников». Сорокин не только не затушевывает в советской
истории сталинскую эпоху, но всячески акцентирует ее
главенствующее положение. Представление о советской истории как о
внутренне едином периоде впоследствии ляжет в основу таких
произведений, как «Месяц в Дахау» и, в особенности, «Голубое сало».
Цикл «Стихи и песни» не случайно завершает сборник ранних
произведений Сорокина «Заплыв»: он является первым
полноценным экспериментом в поэтике соц-арта, знаменуя переход автора
на постмодернистские позиции. Вместе с тем гротеск в этом
цикле нельзя считать в полной мере постмодернистским, так как игра
с популярными образцами соцреалистической поэзии оказывается
не самоценной, подчиненной воссозданию советской
действительно
ности. Несколько упрощая, можно сказать, что конфликт
фантастической и жизнеподобной образности в «Стихах и песнях» — это
противостояние «ложного» и «правдивого» представления об эпохе.
Посвящая свое произведение советским поэтам, Сорокин
демонстрирует неадекватность их поэзии действительности, выявляет ее
полную оторванность от жизненных реалий. Кроме того, как было
показано на примере миниатюры «Рожок», веселая абсурдность
происходящего нередко оттеняется неподдельным трагизмом, что
мешает воспринимать «Стихи и песни» в плоскости «черного юмора».
Итак, используя гротескный способ типизации, Сорокин создал
в романе «Норма» универсальную модель советской
действительности. К этому роману как нельзя лучше подходит характеристика
гротеска в русской литературе 1960-1980-х годов, данная М. Ли-
повецким: «Гротеск обнажал трагикомические противоречия между
советской мифологией и реальностью. „Универсализм" гротеска не
позволял ограничиться „отдельными недостатками" системы.
Прошлое, настоящее и будущее коммунистической утопии предстали
в гротескных произведениях нагромождением лжи и псевдожизни;
советский мир открылся как кунсткамера уродливых „мнимых
величин", исказивших естественное движение жизни»458.
Поп-артовский гротеск сборника
«Первый субботник»
Владимир Сорокин охарактеризовал «Первый субботник» как
сборник, созданный «в откровенно соцартовской манере»: «Он
был построен как бы по канонам официальной советской
литературы среднего уровня. Как если бы он вышел в каком-нибудь
калужском издательстве. Меня привлекла возможность
манипуляции с этим жестким каноническим стилем, с порожденными им
персонажами»459. Вторя писателю, И. Кукулин отметил, что этот
сборник — «первый образец русской прозы, где соц-арт становится
осознанно применяемым методом»460.
Опираясь на сформулированное в теоретической преамбуле
определение постмодернистского гротеска, можно сказать, что
Липовецкий М. И. «Нет, ребята, все не так!». С. 5.
Сорокин В. Г. Текст как наркотик: интервью. С. 119.
Куклин И. Кошмары, ставшие классикой // ΗΓ Ex Libris. 2001. № 26. С. 2.
186
подавляющее большинство вошедших в «Первый субботник»
рассказов имеют гротескную основу, так как их концовки равно
невозможны или фантастичны в художественном пространстве
соцреализма. Однако собственно фантастические образы содержат
немногие произведения: «Заседание завкома», «Деловое
предложение», «Открытие сезона», «Морфофобия». В остальных случаях,
за исключением рассказов с самодовлеющей стилистической игрой
(«Соревнование», «Кисет», «Соловьиная роща»), происходящее
поддается рациональному осмыслению, несмотря на вопиюще
странный и крайне маловероятный характер действий персонажей.
Вспоминая знаменитые слова Гоголя, «кто что ни говори, а подобные
происшествия бывают на свете, — редко, но бывают». В качестве
основной мотивировки в этих случаях можно принять внезапное
сумасшествие («Желудевая Падь», «Тополиный пух», «Проездом»)
или тяжелую психическую патологию («Сергей Андреевич»,
«Разговор по душам», «Поминальное слово»).
Обыгрывая соцреалистическую поэтику, Сорокин
ориентируется на усредненный, «провинциальный» ее вариант. Тем не менее,
было бы натяжкой считать, что все рассказы «Первого
субботника» написаны «стертым, абсолютно лишенным какой-либо
индивидуальности повествовательным стилем»461. Несмотря на
коллективистскую общность писательской манеры С. П. Бабаевского,
П. А. Павленко, А. А. Фадеева и других «классиков» соцреализма,
у них были индивидуальные особенности. В «Первом субботнике»
Сорокин стремится передать всю стилевую гамму соцреалистиче-
ской словесности. Не один регистр разделяет опоэтизированную,
почти эстетскую стилизацию в «Сергее Андреевиче» и
утрированно-клишированный стиль «Кисета», огромна разница между
добротно-реалистическим началом «Заседания завкома» и сказовым
зачином рассказа «Любовь».
Более того, в ряде рассказов «Первого субботника» соцреали-
стический код либо не ощутим вообще, либо дан слабым намеком.
Не имеют отношения к соцреализму первая часть «Дорожного
происшествия» и «Морфофобия»; в «Возможностях» об основном
методе советской литературы напоминает только постановка вопроса
(«Что может человек?»); «Санькина любовь» написана в
неонатуралистической, «чернушной» стилистике. В этой же перспективе
можно воспринимать такие рассказы, как «В субботу вечером»,
«Свободный урок» и «Поездка за город», так как сюжетные ситуа-
161 Липовецкий M. Н. Русский постмодернизм. С. 260.
187
ции воспитательной беседы или поездки за город не являются
исключительно соцреалистическими.
Сходную точку зрения на «Первый субботник» высказал
интервьюировавший Сорокина Д. Иоффе: «Вот, например,
„Свободный урок" представляется (на мой вкус) чем-то очень знакомым
и даже, отчасти, отдающим неким „дежавю", а „Санькина любовь"
преподносит вещи таким образом, как они и должны происходить
в действительности, просто несколько скрыто от „беглого взора"
(там где медленны реки и, разумеется, туманны озера). Я бы даже
рискнул употребить клиническое „Россия, которую мы
потеряли" — применительно к России „Свободного урока" и „Санькиной
любви". Не хотели ли вы в этих рассказах (в отличие от явно
иных интенций прочих составляющих „Субботника") „пропустить"
через обогащающую мясорубку весь старорусский навязший как-
бы-реализм, и продемонстрировать настоящую, а не мнимую,
завершенность метода и жанра?». Сорокин отчасти согласился с такой
интерпретацией: «Сборник рассказов „Первый субботник" написан
в начале восьмидесятых. Тогда я больше думал о соцреализме, чем
о русской реалистической традиции вообще. Сейчас безусловно
видно, что соцреализм — законнорожденный ребенок ВРЛ»462.
Выход за пределы соцреализма, где-то явный, а где-то лишь
наметившийся, свидетельствует о том, что объектом деконструкти-
вистского исследования в «Первом субботнике» является не только
соцреалистическая, но и реалистическая поэтика. Клишированный
характер наиболее ярких произведений сборника задает
соответствующий контекст восприятия, но «под прицелом» Сорокина
находится миметический принцип как таковой, любая литература,
стремящаяся к «воспроизведению жизни в формах самой жизни», будь
то подлинный миметизм реализма/натурализма или проективный
мимесис соцреализма. Широкая стилистическая палитра сборника
позволяет говорить применительно к нему не о соц-, а о поп-арте
как универсальной художественной стратегии.
Ювелирная работа с категорией жизнеподобия — рассказ
«В доме офицеров», в котором описывается беседа двух
фронтовиков, Костенко и Бородина, вспоминающих свое военное прошлое.
Сюжетная основа и мотивика этого рассказа остаются
соцреалистическими, но уровень стилизации занижен до минимума, что
позволяет воспринимать его в собственно реалистическом ключе.
462 Сорокин В. «Процесс порождения текстов протекает у меня как
контролируемый приступ эпилепсии»: интервью.
188
Наиболее клишированный, отчетливо соцреалистический характер
носит только сцена, в которой Костенко показывает Бородину
знамя их полка, и тот не верит своим глазам: «Но как же удалось?
Они ж все небось в дивизии должны быть на хранении? Это же
невозможно...» [I, 555].
В этой сцене прочитывается ключевая для соцреализма тема
«обыкновенного чуда», что придает образу полкового знамени
скрыто фантастический характер. Оказавшееся в местном Доме
офицеров волею «фронтового человека» Костенко, знамя наглядно
свидетельствует о том, что любая мечта воплотима в реальность. «Только
захотеть надо, — утверждает Костенко. — Очень захотеть. Я вот
захотел. И вот — знамя перед тобою». Лучшим же доказательством
возможности невозможного, по мнению героя, является Великая
Отечественная война: «А как ты, Саша, тогда под Варшавой связь
тянул с Серегой Жогленко? Вас тогда добрых десять пулеметов
поливали и видно было, как на ладони, я тогда все губы пообкусал,
глядя на вас. Тоже казалось — невозможно! А вот смогли ведь?
Смогли! Потому как хотели! Хотели! И смогли» [I, 556].
Чудом доставший фронтовое знамя Костенко близок типу
идеального соцреалистического героя: в отличие от Бородина, он под
Сталинградом «за себя не боялся». Бородин занимает в паре героев
рассказа слабую позицию: в Сталинградской битве он «и свою тоже»
жизнь чувствовал, да и неверие в «обыкновенное чудо» говорит
о слабости духа героя. В концовке рассказа обнаруживается
оборотная сторона самоотверженного героизма Костенко, что приводит
к перекодировке соцреалистической художественной аксиологии.
Костенко давит своим протезом выскочившую из-под шкафа
мышь, при этом стиль рассказа постепенно, не входя в явное
противоречие с предыдущим повествованием, сдвигается в сторону
натурализма: «Мышь шарахнулась было назад, но потертый
металлический наконечник с хрустом раздавил ее. <...> Костенко
оттопырил протез с висящими на нем останками мыши и, балансируя
на одной ноге, тяжело запрыгал к стоящей в углу урне. <...>
Оперевшись о шкаф, он сунул протез в пластмассовую урну, счистил
о край окровавленные ошметки» [I, 557].
«Маленькая какая мышь-то...» — сочувственно говорит
Бородин. «Маленькая?! — грозно ухмыльнулся Костенко, топая
протезом по полу. — Тут, ебен мать, такие маленькие попадаются —
охуеешь, смотревши! Эта исключение какое-то. Мелюзга
подпольная. А то — во, бля, шушеры какие!» [там же]. Обсценная лексика
189
в данном случае также не находится в прямом противоречии со
стилем рассказа, так как мотивирована возникшей ситуацией (ср.
со стилистической организацией рассказа «Возвращение», который
строится на внезапном вторжении обсценизмов в соцреалистиче-
скую гладкопись).
И соцреалистические, и натуралистические элементы
сглаживаются усредненно-реалистическим стилем повествования, хотя сама
композиционная формула перетекания соцреализма в натурализм
сохраняется. Искусная игра соцреалистическим и реалистическим
ракурсами повествования придает фантастическим мотивам
миражный, мерцающий характер. В реалистическо-натуралистиче-
ской перспективе образ фронтового знамени, чудом оказавшегося
в местном Доме офицеров, воспринимается как фантастический,
и Бородин, подобно героям гоголевского «Носа», удивляется
невероятности произошедшего. В соцреалистической же перспективе
это «обыкновенное чудо», наоборот, совершенно закономерно, а
невероятной становится сцена расправы с мышкой и матерная ругань
Костенко.
Стилистическая мутация не является самоцелью автора и
подчинена общему смыслу произведения. Действие рассказа не случайно
происходит в Ленинской комнате, а сама мышь выскакивает из-под
шкафа, заставленного полным собранием сочинений Ленина. По
мысли автора, расправа с мышкой выявляет жестокую
подоплеку советского героизма, символизирует бесчеловечность советской
системы, в «идеальном» строе которой недопустимы какие-либо
исключения и изъяны.
Содержательным задачам подчинена деконструкция в рассказе
«Сергей Андреевич», в котором описывается последний поход
выпускников школы со своим учителем в лес. «Вы лучше
присмотритесь, какая красотища кругом. Прислушайтесь», — говорит учитель
Сергей Андреевич окружающим его ребятам [I, 503]. Идеализация
образа леса и дикой природы в целом происходит на литературной
основе — с отсылками к «Дерсу Узала» В. К. Арсеньева,
произведениям Д. Н. Мамина-Сибиряка, «Кладовой солнца» M. М.
Пришвина. Созданию возвышенной атмосферы способствует
упоминание классической музыки («Бах, Гайдн, Моцарт») в противовес
«вредной» буржуазной поп-музыке («А у тебя какие-то лохматые
завывают»), а также будущая профессия одного из учеников —
конструктор летательных аппаратов. С небом связана и
преподавательская деятельность Сергея Андреевича — астрономия. Иначе
190
говоря, Сорокин использует целый набор типичных соцреалисти-
ческих мотивов, служивших в советской литературе субститутами
для выражения категории возвышенного.
«Как все гармонично здесь. Продумано. Непроизвольно, —
фактически проповедует Сергей Андреевич пантеизм. — Вот у кого
надо учиться — у природы. Я, признаться, если раз в месяц сюда
не съезжу — работать не могу... <...> Здесь как бы силу
набираешь. Чистоту душевную. Как будто из заповедного колодца живую
воду пьешь. И после воды этой, Миша, душа чище становится. Вся
мелочь, дрянь, суета — в этот песок уходит» [I, 511]. Неофитом
неоязыческой религии становится главный герой рассказа,
Михаил Соколов. Его избранный статус выявляет импровизированный
экзамен по астрономии, в котором Соколов демонстрирует
совершенное знание предмета и получает заслуженное «пять с плюсом».
О ритуально-мифологической основе рассказа «Сергей
Андреевич» убедительно писал М. Липовецкий: «Ситуация похода в
сочетании с окончанием школы соответствует первой фазе
инициации — отделению неофита от прежнего, знакомого ему, окружения.
В центре — собственно „переход", материализованный в системе
наставлений Учителя ученикам. <...> В этих стереотипных
поучениях четко заданы онтологические (природа—техника—человек),
социальные (школа—институт—фабрика) и индивидуальные
(величие простого человека) ориентиры соцреалистического дискурса.
Одновременно проводится „испытание магического знания", также
неотъемлемое от ритуала инициации. <...>
Кульминацией рассказа вполне логично становится
завершающее „поиск" ритуальное приобщение: „Небольшая кучка кала <Учи-
теля> лежала в траве, маслянисто поблескивая. Соколов <ученик>
приблизил к ней свое лицо. От кала сильно пахло. Он взял одну из
слипшихся колбасок. Она была теплой и мягкой. Он поцеловал ее
и стал быстро есть, жадно откусывая, мажа губы и пальцы".
Структура протосюжета соцреалистического поиска осталась
неизменной. Только знамя или партбилет заменены калом,
который экстатически поедается прошедшим посвящение героем.
Семантически эта замена не противоречит цели поиска: отказа от
индивидуального ради коллективного — более того, именно
самоуничижение здесь максимально усилено. Сохранен и механизм
„приобщения" — через тактильный контакт, передачу
материального объекта из рук в руки. Главное же отличие состоит в смене
кода: символический код вытесняется кодом натуралистическим,
191
условные сигналы замещаются безусловными, „культура" —
„природой" (или тем, что воспринимается как вне-культура, дикость,
архаика)»463.
«Смена кода» в «Сергее Андреевиче» мотивирована не только
опосредованно, через выявление и переворачивание соцреалисти-
ческого протосюжета, но и непосредственно — содержанием
самого рассказа. В глазах Соколова отправление учителем своих
естественных надобностей является актом предательства «высоких»,
идеалистических («романтических») устремлений. Кучка
«маслянисто поблескивающего» кала не вписывается в соцреалистическую
идиллию, в умозрительном, «небесном» мире которой не место
телесности и физиологическим отправлениям. Не случайно такую
важную роль в рассказе играет мотив лунного света,
преображающего окружающую природу, придавая ей эфемерный характер:
«Перехватив ведро в другую руку, он (Соколов — M. М.)
обошел елку и направился к двум близко растущим березам. Лунный
свет скользил по их стволам, заставляя бересту светиться на фоне
темного ельника. Соколов прошел между березами и
остановился. Перед ним лежала небольшая, залитая луной поляна.
Невысокая трава искрилась росою, листья орешника казались
серебристо-серыми» [I, 512]. Диссонанс, возникший между утопической
идиллией и действительностью, Соколов устраняет доступным ему
способом — поедает кал Сергея Андреевича, тем самым выражая
высшую преданность своему Учителю.
В ряде случаев стилистическая игра в «Первом субботнике»
становится самодовлеющей. Рассказ «Соревнование» начинается
с беседы двух лесорубов, Лохова и Будзюка, обсуждающих вызов
на соцсоревнование, который им бросила другая бригада. Бригадир
Будзюк не желает «уступать первое место и вымпел каким-то там
Соломкиным»: «А ребята щас вернутся, я им скажу, что
соревноваться будем. Будем!». У Лохова нет желания участвовать в
соревновании, и он неуверенно отговаривает Будзюка от этой затеи:
«годы уже не те... напахался», «они вон какие — угарные
ребята», «чего нам этот вымпел... премию и так получаем,
прогрессивку тоже...». В ответ он получает жесткую отповедь: «Да неужели
у тебя простой человечьей гордости нет, Вань? Они ж молокососы,
салаги зеленые! <...> Они и леса-то не видали сроду, а туда же —
перегоним! Штаны лопнут. <...> Скушный ты человек, Ваня. А еще
потомственный лесоруб...» [I, 515].
463 Лейдерман Н. Л., Липовецкий M. Н. Указ. соч. С. 55.
192
В соцреалистическом контексте нежелание Лохова
участвовать в соревновании, его обывательская, по советским меркам,
аргументация — признак ненадежного работника,
потенциального «вредителя». Согласно типовой логике соцреализма, латентное
«вредительство» лесоруба должно либо проявиться открыто,
приведя к явно «вредительскому» поступку, либо же Лохов наглядно
убедится в своей неправоте. В рассказе Сорокина реализуется
первый вариант развития сюжета, причем в характерной для «Первого
субботника» шокирующе-абсурдистской форме.
Лесоруб вдруг сходит с ума и отпиливает Будзюку голову: «Он
сильнее прижал к ручке рычажок акселератора, быстро
перекинул пилу влево и всадил полотно в шею склонившегося Будзюка.
Темная кровь полетела из-под зубчатой ленты, голова вместе с
потертой кепкой отделилась от шеи, упала в кусты». Этот поступок
лишь внешне выглядит немотивированным. Для Лохова убийство
Будзюка играет роль своеобразного протеста против всеобщей
нивелировки. Прежде чем отпилить бригадиру голову, лесоруб
«посмотрел на стоящие неподалеку сосны» и сказал: «Хоть бы одна
кривая... как на подбор...». В начале рассказа эта фраза
использовалась Лоховым для описания соперничающей бригады: «Да
и остальные тоже, знаешь, они ведь как на подбор там — после
армии только» [I, 516, 514].
Несмотря на неожиданный характер действий Лохова, такое
развитие сюжета было подготовлено заранее символическим мотивом
двух ястребов. Упоминание о парящих птицах вначале появляется
в произведении в качестве описательной детали: «Над просекой
парили два ястреба. Лохов снял фуражку, вытер вспотевший лоб».
Затем этот мотив повторяется, причем ястребы вновь упоминаются
в связи с действиями лесоруба: «Лохов, прищурясь, смотрел на
попискивающих ястребов». Символический характер мотив
приобретает после окончания беседы двух лесорубов: «Лохов
принялся заводить свою пилу. Один из ястребов сложил крылья и упал
вниз» [I, 514-515]. Этот символ можно истолковывать двояко: либо
как знак грядущей смерти Будзюка, либо, что вероятнее, как
предупреждение о будущем «нравственном падении» Лохова. В обоих
случаях мотив придает рассказу тревожный характер, заранее
подготавливая читателя к перелому в развитии сюжета.
Убив Будзюка, Лохов подхватывает обе бензопилы и, бормоча
«теперя и посоревнуемся... посоревнуемся», бежит к обрыву.
Приблизившись к реке, в которой удят рыбу трое мальчиков, он бросает-
193
ся с обеими пилами в воду. Тем самым герой своеобразным образом
выполняет желание выбросить то и дело глохнущую пилу,
высказанное им ранее во время валки сосен: «Да „Дружба" старая... Андрея...
выкидывать ее надо!» [I, 516]. Мотивная организация произведения
создает плавный переход из дискурса в дискурс, причудливо
объединяя несовместимые друг с другом части.
Действие «Соревнования» не заканчивается на гибели Лохо-
ва. «Сумасшествие» лесоруба как по цепной реакции передается
рыбачившим мальчикам: «Один из мальчиков бросил удочку,
подпрыгнул и, совершив в воздухе сложное движение, упал плашмя
на землю. Двое других подбежали к нему, подняли на вытянутых
руках, свистнули. Мальчика вырвало на голову другого
мальчика. По телу другого мальчика прошла судорога, он ударил ногой
в живот третьего мальчика. Третий мальчик лязгнул зубами,
закатил глаза и проговорил». Речь «третьего мальчика» начинается
как нарочито просторечное описание тайного обряда: «И ето
когда на рынок поедет купит толстого сала а дома из ево вырежет
пирамидку и у ей нутро вырежет и поедет у гошпиталь и купит
у хирурга восемь вырезанных гнойных аппендиксов и из них гной
у пирамидку выпустит а пирамидку сальной крышкой закроет да
и зашьет». Когда описание обряда достигает финальной стадии,
оно по контрасту сменяется ритмизованной прозой с вычурной
образностью: «ну и пусть пусть пустите нас на золотоносные
таежные просторы трепещущих и содрогающихся душ наших позвольте
позвольте позвольте расправить светоносные мраморные крылья
наши потушить потушить потушить черное пламя невоплотивших-
ся светильников» и т. д. [I, 517]464.
Первый фрагмент, несмотря на общую невразумительность
происходящего (отчасти она объясняется тем, что перед нами
описание мистического обряда), сохранял осмысленный характер
благодаря непрерывной сюжетной линии. Смысловая связь между
фразами второго фрагмента почти полностью потеряна. Как и весь
рассказ, он строится по коллажному принципу: единым целым эти
разрозненные выражения становятся только за счет общей
стилистической окраски. Вычурная метафорика имеет самодовлеющий
характер, что ведет к обессмысливанию отдельных фраз («золото-
464 Липовецкий описывает стилевую организацию «Соревнования» как
соединение «бреда в стилистике квазинародного языка „деревенской прозы" и
стихотворных упражнений в символистическом духе» (Липовецкий M. Н. Русский
постмодернизм. С. 257).
194
носные таежные просторы <...> душ наших», «черное пламя нево-
плотившихся светильников»).
Третий фрагмент, имитирующий разговорную речь советского
руководителя, возвращает читателя к первому (разговорная речь
близка просторечию) и к началу рассказа (реалии советской
жизни): «я тоже не полный дурак, чтобы довериться костромским
когда мне подсунули списанные я сразу сереге звякнул он адашки-
ну а тот опять мне говорит в третьем квартале я говорю если
в третьем тогда с бетоном от винта а он стал клянчить и говорит
райком его прижал а он партбилетом пока бросаться не
собирается» [I, 518]. Этот фрагмент предвосхищает эксперименты Сорокина
с заумным дискурсом в пьесе «Доверие». Типичная для
разговорной речи недоговоренность утрируется автором, создавая эффект
ускользания смысла.
По характеристике М. Вербицкого, в «Соревновании» «великое
множество языковых контекстов срастается в единое целое,
объединенное ритуалом»465.
В сборнике «Первый субботник» произошло разрушение
модернистских гротесковых черт, хотя они по-прежнему сказываются
в некоторых рассказах сборника. Главенствующее положение
занял постмодернистский гротеск. Ориентируясь на стилистическую
палитру соцреалистической литературы, Сорокин разнообразными
методами достигает впечатления недостоверности
происходящего, искусно нарушая устоявшую художественную логику. Именно
с этого сборника в творчестве Сорокина формируется устойчивая
двучастная модель повествования.
Роман «Голубое сало»: российская история
в кривом зеркале гротеска
«Голубое сало» принадлежит к числу наиболее известных и
популярных произведений Владимира Сорокина. Менее чем за три
года (1999-2002) этот роман выдержал шесть изданий (не считая
собрания сочинений в трех томах) совокупным тиражом более ста
тысяч экземпляров. Таким читательским успехом не пользовалось
ни одно произведение Сорокина — ни до «Голубого сала», ни
после него. Вместе с тем роман носит утонченно-элитарный характер,
165 Вербицкий М. Ведро живых вшей.
195
который отчетливо ощущается на всех художественных уровнях
произведения. «Голубое сало» явно не писалось в расчете на
массовый успех, читать его непросто даже для искушенного читателя.
Секрет беспрецедентного (для Сорокина) тиража466, вероятно,
следует искать не в художественных достоинствах или недостатках
произведения, а в том, что в этом романе, как в кривом зеркале,
отразилась российская действительность 1990-х годов.
Конец советской эпохи вызвал к жизни извечную для России
проблему выбора исторического пути, актуализировал
противостояние между, условно говоря, западниками и славянофилами.
Изображенный в начале романа конфликт «землеебов» с создателями
«голубого сала» можно рассматривать как гротескную сатиру на
это противостояние. В качестве секты землеебов представлена
патриотически настроенная часть российской интеллигенции,
апеллирующая к национальной идентичности и с опаской относящаяся
к экспансии западной культуры. В образе главного героя первой
части романа, «биофилолога» Бориса Глогера, изображен выходец
из либерально настроенной части российской интеллигенции,
ориентирующейся на западные, европейские ценности. Именно в этой
среде в 1990-е годы органично прижились и были подняты на щит
постмодернистские идеи.
Культурная ситуация, моделируемая Сорокиным в начале
«Голубого сала», близка постмодернистской ситуации. В культурном
пространстве, в котором живет Глогер, также господствует
принцип нонселекции, когда неважно, «в V или XX веке» происходило
то или иное событие. Перечисляя национальные черты якутов
будущего, Глогер упоминает их любимый «сенсор-фильм» — картину
с исконно русским названием «Сон в красном тереме», главную
роль в котором сыграла китайская актриса Фэй Та. Другой
пример — «микс-римейк» «Огни большого города — Терминатор»,
в котором Арнольд Шварценеггер гонится за Чарли Чаплином.
По аналогичному принципу обставлены камеры клонов великих
писателей: «В камере у него прозрачный стол в стиле позднего
466 Успех романа иногда ошибочно связывают с травлей Сорокина
молодежным движением «Идущие вместе» (ныне «Наши»). Однако заявление в милицию
с просьбой возбудить уголовное дело за распространение порнографии, ставшее
формальным началом травли, было подано 3 июня 2002 года. К этому моменту
успело выйти уже шестое издание «Голубого сала» (подписано в печать 10 апреля
2002 года). О преследовании Сорокина «Идущими вместе» см.: Räsänen S.
Особенности национальной охоты на писателя. Helsinki, 2006. URL: http://ethesis.helsinki.
fi / julkaisut/ hum /slavi/pg/rasanen/ osobenno.pdf.
196
конструктивизма (Гамбург, 1929), бамбуковое кресло (Камбоджа,
1996), кровать с гелиевым наполнителем (Лондон, 2026).
Освещение — три керосиновые лампы (Самара, 1940)» [III, 21].
Писатель рисует мир будущего таким, каким его обычно
изображают в популярных фантастических фильмах и романах. Люди
получили возможность модифицировать телесный облик по своему
усмотрению: Глогер вспоминает об эрогенных плавниках своего
возлюбленного и об его ребрах, светящихся сквозь кожу, а у
самого главного героя под кожу висков вшиты «металлические
пластины сложной формы». Широко распространилось клонирование,
в результате чего мир населяют монстрообразные существа: клон-
голуби размером с орла, клон-черепахи в полторы тонны весом,
клон-индейки весом более 70 килограмм. Научно-технический
прогресс привел к появлению летающих автомобилей («флаеров»),
водяных дверей, «живородящей» ткани, аппаратуры на
«сверхпроводниках третьего поколения», разноцветных лазеров, используемых
для приготовления пищи и напитков. Для обозначения многих
новых реалий Сорокин использует авторские неологизмы, так что
остается лишь догадываться о том, что представляет собой «хро-
мофризер», «голо-пузырь» или «термотроп».
Вместе с тем расстояние в этом мире измеряется в верстах,
а одна из героинь, Марта Карпенкофф, ходит на котурнах.
Страдающий от хронического простатита Глогер лечится не лазерами, но по
рецептам древнетибетской медицины. Его юный любовник
практикует кровопускания. Интерес к «нетрадиционным» и «альтернативным»
методам лечения, преимущественно архаическим и/или азиатского
происхождения, был характерной приметой российских 1990-х.
Самое яркое проявление архаики в художественном мире первой
части «Голубого сала» — используемая Глогером «клон-голубиная
почта». Согласно «Большой советской энциклопедии», голубиная
почта использовалась в военном деле вплоть до 1920-х годов, когда
она была вытеснена радиосвязью467. «Писать письма в наше
время — страшное занятие, — утверждает герой, обращаясь к своему
любовнику. — Но ты знаком с условиями. Здесь запрещены все
средства связи, кроме голубиной почты. Мелькают пакеты в
зеленой W-бумаге. Их запечатывают сургучом» [III, 11].
Многие современные реалии в мире Глогера получили
зеркальное отражение. Среди белых вин заметное место занимают «старые
подмосковные»: бутылка «Мытищинского-2222» стоит 500 «новых
167 Голубиная связь // Большая совет, энцикл. М., 1972. 3-е изд. Т. 7. С. 40-41.
197
юаней», что, очевидно, недешево. В современном русском языке
выражение «мытищинского разлива» (иногда «молдавское
мытищинского разлива»), наоборот, используется по отношению к плохому
вину или переносно вообще к чему-либо сомнительного качества
или репутации. Этот прием проявляется в «Голубом сале» даже
в мелких деталях. После «Мытищинского-2222» Глогер
употребляет напиток «Napoleon О. X.». Napoleon — это принятая маркировка
коньяков, выдержанных в бочке более шести лет. По смыслу она
близка к сокращению «ХО» (Extra Old), которым также
маркируют коньяки с шестилетней выдержкой. Совмещая эти маркировки,
Сорокин переворачивает последнюю, создавая изящное (и вполне
бессмысленное) название коньяка будущего.
На языковом уровне нонселекция выражается в обилии
варваризмов, как транслитерированных, так и данных в оригинале.
Письма Глогера наводняют англицизмы, германизмы, галлицизмы и
латинизмы. Пальма первенства, как уже говорилось, принадлежит
китаизмам. Помещенный в конце романа словарик китайских слов
и выражений, употребляемых в тексте, насчитывает 66 единиц.
В 1990-е годы в русский язык хлынул поток неологизмов,
подавляющее большинство которых было заимствовано из английского
языка. На этом фоне язык «Голубого сала» смотрится
подчеркнуто необычно: Сорокин использует аномально большое количество
неологизмов, но самая значительная их часть заимствована из
китайского языка. Это гротескно отражает ситуацию в современном
русском языке: письма Глогера потому и трудны для прочтения,
что в них используются не столько ставшие уже привычными
англицизмы, сколько пока чуждые китаизмы. Наряду с
употреблением транслитерированных иностранных слов, Сорокин использует
обратный прием: полное и частичное написание русских слов
латиницей: zanuda, комВШезон, GNOY AND SOPLY. Писатель как
бы уравновешивает текущие лексические процессы, гармонично
дополняет их.
Активной экспансии западной культуры (преимущественно
англоязычной, американской) в мире Глогера изоморфно
соответствует господство азиатской культуры и, прежде всего, китайской.
С генетиком Фань Фэем Глогер говорит о «засилье китайских блок-
бастеров» (в противовес современному засилью голливудских),
а в другом месте удрученно замечает: «опять китайщина <...>,
никуда от нее теперь не денешься». При этом сам герой не только
постоянно употребляет китайские слова, но и прибегает к (псевдо)
198
китайским образам: «Общеизвестно, что повара в ХЭТАО — не
бумажные тигры и не девушки, рисующие цветы цзы-динсянхуа рогом
буйвола на поверхности озера Чжан» [III, 17]. Помимо «китайщи-
ны», о засилье в мире будущего азиатской культуры
свидетельствует употребление Глогером тибетских медицинских терминов
(ба-сам, гланг-тхабс, рмен-бу), почерпнутых из древнего трактата
«Чжуд-ши», и буддийских понятий (скандха, чакра, карма).
Увлечение восточной культурой, в том числе азиатскими
вероучениями, было характерной чертой постперестроечной России.
«Я молюсь каждые полчаса. И разрываю по шесть своих волос,
чтобы удержать гексаграмму КУНЬ (исполнение)» [III, 31], — пишет
Глогер в письме от 9 января, призывая своего любовника
«молиться за проект по-русски». Характерно, что герой не употребляет
выражение «слава богу», используя вместо него «слава Космосу» или
аналогичный по значению англо-немецкий варваризм «by Kosmos
blessing». Оксюморонное (и вполне постмодернистское) сочетание
поверхностного православия с азиатскими суевериями было
широко распространено среди российской интеллигенции в 1990-е годы.
Аналогичный тип мышления Сорокин изобразил в поэме в прозе
«Месяц в Дахау» (1990). Ее герой увлекается разными
мистическими учениями и при этом осознает себя в русле христианской
традиции: «„Созерцание" и „Войско" по И-Цзину. Возможно, опасно.
Арабы сулят „Три четверти". Славянский календарь обещает все
тот же „Березовый путь". <...> Господи, помоги мне в непростом
пути моем» [I, 746].
Итак, в России будущего, которую изображает Сорокин в
«Голубом сале», китайская культура играет ту же роль, какую в
России 1990-х годов играла американская. «Это моя дорогая тема, —
сказал писатель. — Это вполне может быть. Другое дело, трудно
предугадать, в какой форме это будет развиваться. Некоторые
считают, что китайская колонизация очень опасна. Мне же
кажется, что русско-китайские дети могут быть умнее и красивее своих
родителей»468. В другом интервью писатель отметил, что побывал
в Китае уже после написания «Голубого сала»: «И мне рассказали
любопытную вещь, что на северо-западе Китая живут этнические
русские, которые, сообщаясь между собой, пишут китайские слова
кириллицей. Так что в романе мало что придумано»469.
168 Сорокин В. «Я всю жизнь больше всего доверял собственным ощущениям»:
интервью.
169 Сорокин В. «Мы все отравлены литературой»: интервью.
199
Фантастический сюжет романа также прочно укоренен в
российской реальности. Действие произведения вращается вокруг
таинственного голубого сала, которое откладывается в телах
клонов великих писателей после завершения ими «скрипт-процесса».
Голубое сало — это квинтэссенция литературы, самого феномена
литературности, материальный субститут духовной субстанции.
Гротескный, оксюморонный характер этого образа выражает уже
его название. Квинтэссенцией высоко-духовной деятельности
оказывается сало, а одно из значений прилагательного «сальный» —
«непристойный, циничный». Эпитет «голубой» ассоциируется
с цветом неба и, как следствие, вообще с чем-либо возвышенным:
с аристократической «голубой кровью» и романтическим «голубым
цветком». В романе, напротив, актуализирована ассоциация с
нетрадиционной сексуальной ориентацией главного героя: созданием
голубого сала занимается «голубой» Борис Глогер.
Голубое сало находится на грани материальной и духовной,
физической и метафизической реальностей. Сорокин наделяет его
невероятными свойствами: это «сверхизолятор», существование
которого породило «четвертый закон термодинамики» и позволит
в будущем создать реактор вечной энергии. Образ голубого сала
стал самым удачным воплощением идеи совмещения категорий
«литературности» и «телесности». По словам писателя, это
«подсознательная романтическая, может быть, утопическая идея
выделить абсолют некий, которого не хватает в нашей жизни»470.
Эту «божественную» субстанцию также можно рассматривать
в качестве полуиронического эквивалента русского литературоцен-
тризма, стремления «обожествлять» литературу, наделяя ее
несвойственными функциями и качествами. Не случайно похищающие
голубое сало землеебы при помощи машины времени отправляют его
в сталинскую эпоху, когда указанная тенденция достигла апогея. В
«сталинской» части романа Сорокин обыграл представление о
Сталине как о мудром государственнике, восстановившем
разрушенную революционными пертурбациями Российскую империю в виде
могущественного Советского Союза. В противовес этому мнению,
разделяемому частью патриотической интеллигенции, писатель
создал гротескный антипод не только сталинской, но и всей советской
эпохи, спрессовав ее в один пространственно-временной континуум.
В интервью израильскому телевидению Сорокин
охарактеризовал «Голубое сало» как «попытку вывернуть наизнанку совет-
470 Там же.
200
скую реальность и посмотреть на ее потроха»: «Советская
сталинская литература — <...> некий монстр, в котором мы жили, но
монстр со слащавым, наштукатуренным лицом, и я сделал попытку
взглянуть на его гнилые потроха, вывернув для этого наизнанку
и историю XX века, и время, и людей. В этом мне помогла идея
клонирования»471. Эта особенность романа отмечалась Л. Аннен-
ским: «Или, напротив, фамилии названы: Шостакович, Эйзенштейн,
Сахаров, — но первый изображен толстым флегматиком, второй —
щеголеватым альбиносом, а третий — широкоплечим атлетом.
Подобные антипортреты сообщают картине общий антиадрес, так что
к исторической истине это не имеет никакого отношения. Тощий
Геринг и тучный Гиммлер — это не исторические фигуры и не
сатирические образы, это — знаковые символы антиреальности»472.
В конце романа Сталин вкалывает голубое сало себе в мозг
через глаз (отметим попадание голубого сала именно через
зрительный орган). Слияние квинтэссенции классической русской
литературы с тоталитарным сознанием диктатора приводит к
катастрофическим последствиям: мозг Сталина разрастается и заполняет
всю вселенную. Прибегая к излюбленному приему реализованной
метафоры, Сорокин показывает, что узурпирование литературой
несвойственных функций явилось одной из главных предпосылок
торжества коммунистической идеологии, срастившей иллюзию
и действительность в единое целое. Поэтому в финале
«Голубого сала» это чудодейственное вещество, которым прежде обладали
лишь властелины мира, оказывается материалом для наряда
недалекого и ветреного любовника Глогера, а сам Сталин — покорной
слугой «гаспадина ST». Такой финал отвечает постмодернистской
культурной ситуации 1990-х годов, отмеченной борьбой с логоцен-
тризмом и деконструкцией классической русской литературы,
которую Сорокин блестяще осуществил в текстах клонов.
Призывая «изгонять беса великой русской литературы»,
Сорокин отнюдь не поддерживает низведение ее до сугубо прикладной,
служебной вещи, рассмотрение литературы в качестве предмета
мимолетного увлечения и развлечения. В финале «Голубого сала»
в гротескной форме отражена культурная ситуация, но было бы
ошибкой видеть здесь выражение авторской позиции. «В
последние годы возникла новая волна интереса к литературе, — говорил
171 Сорокин В. «Пока не пришли ко мне домой и не вывели на улицу...»:
интервью // mozgovaya [Электронный ресурс]. 2005. URL: http://www.livejournal.
com/users/mozgovaya/264485.html (дата обращения: 01.10.2011).
172 Аннинский Л. Указ. соч. С. 52.
201
Сорокин в 2002 году. — Это связано не только с ростом тиражей
нормальной литературы и падением тиражей литературного трэша,
но и с разочарованием во всевозможных „медиа"»473. Писатель
выступает за соразмерность литературы самой себе, дистанцируясь от
полярных крайностей.
В «Голубом сале» Сорокин создал некий антимир истории
русской культуры XX века. Использование гротескной образности
позволило заострить основные закономерности культурного процесса
ушедшего столетия, воплотив их в фантасмагорических картинах
недалекого будущего и альтернативного прошлого. В свете
сказанного «Голубое сало» следует рассматривать не столько как
эталонный постмодернистский роман, сколько как удачную
художественную реакцию на постмодернистскую ситуацию в российской
культуре и обществе 1990-х годов. «Голубое сало — это самая смешная
и самая честная картинка того, что происходило в культуре и/или
интеллигентских русских мозгах в последние десять лет», —
отметил в рецензии на роман М. Новиков474.
Резюме главы
В конце 1970-х годов Сорокина «заинтересовал тоталитаризм.
Этически и эстетически»475. Ранние произведения писателя и роман
«Норма» соответствуют первой, «этической» фазе интереса к
тоталитаризму. Препарируя при помощи гротеска советскую
действительность, Сорокин демонстрировал ее уродливый, ненормальный
характер, опираясь преимущественно на традиции реалистического
и модернистского гротеска.
В основу создававшегося в тот же временной период сборника
рассказов «Первый субботник» легли иные художественные
принципы. Именно в этом сборнике Сорокин выработал и отточил
своеобразную и не имеющую аналогов в русской литературе поэтику,
основанную на перенесении в художественную литературу
изобразительных приемов поп-арта. Гротеск в «Первом субботнике»
остается одним из основных видов образности, но он приобретает иные
качества, становясь постмодернистским. Жизненная реальность
практически полностью исчезает из поля зрения автора, а место
473 Сорокин В. Прощай, концептуализм! Интервью. С. 50.
474 Новиков М. Седло носорога под синим лазером // Коммерсантъ. 1999.
№ 59. С. 9.
475 Бурнашев А. Тоталитаризм под микроскопом.
202
правдоподобного начала в гротескном образе занимают
литературные клише соцреализма.
Найденная в «Первом субботнике» формула творчества будет
использоваться Сорокиным вплоть до 1991 года, когда романом
«Сердца четырех» писатель поставит точку в постмодернистском
этапе своего творчества. В «Голубом сале», написанном после
затяжного творческого кризиса, произойдет своего рода возвращение
к действительности: в кривом зеркале сорокинского гротеска
отразится история России второй половины XX века, в том числе
1990-е годы, прошедшие под знаменем постмодерна.
203
Абсурд
Теоретическая преамбула
Абсурд как художественная категория
Абсурд — это одно из древнейших понятий в истории мировой
мысли. Прослеживая его толкования с античных времен, О. Д.
Буренина выделяет три основных значения: 1) абсурд как эстетическая
категория, «выражающая отрицательные свойства мира и
противоположная таким эстетическим категориям, как прекрасное и
возвышенное, в основе которых находится положительная
общечеловеческая ценность предмета»; 2) логический абсурд как «отрицание
центрального компонента рациональности — логики»; 3) абсурд
как философско-религиозная категория, предполагающая «выход за
пределы разума как такового» в религиозном мировоззрении476.
История рассмотрения абсурда как художественного явления
берет начало с книги венгерско-английского театрального критика
и литературоведа М. Эсслина «Театр абсурда» (1961). В ней он
впервые предложил рассматривать творчество Э. Ионеско, С. Бек-
кета, Ж. Жене и А. Адамова в качестве отдельного литературного
направления. По мнению Эсслина, мировосприятие, воплощенное
в драматических сочинениях этих авторов, родственно
послевоенной экзистенциалистской философии А. Камю и Ж.-П. Сартра.
В своем понимании абсурда критик следует за определением,
данным Ионеско: «Абсурд — это То, что лишено цели... Отрезанный
от своих религиозных, метафизических и трансцендентальных
корней, человек потерян; все его действия становятся
бессмысленными, абсурдными, бесполезными». «Антипьесы» названных авторов,
считает Эсслин, объединяет «чувство метафизического страдания
от абсурдности человеческого положения»477.
Как пишет М. Коренева, подобное мироощущение имело
объективные предпосылки: «Эпоха жесточайших в истории войн, счет
в которых шел на десятки миллионов, победивших и подавленных
476 Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе
и культуре первой половины XX века. СПб., 2005. С. 7-9.
477 Esslin M. The Theatre of the Absurd. N. Y., 1961. P. 5.
204
революций, тоталитарных режимов, массовых репрессий, атомной
бомбы и угрозы уничтожения человечества породила духовный
кризис, в котором рухнула вера в разрешение антагонизмов на
основе справедливости и гуманности. <...> Представ не только не
управляемым, но и необъяснимым, мир стал восприниматься как
абсолютный хаос, где индивидуальное существование подчинено
закону всеобщей абсурдности. <...> Ощущение полного бессилия
человека перед глобальными катастрофами, подорванная ими вера
в прогресс и дискредитация разума вели к пересмотру
онтологических основ бытия, на что литература ответила возникновением
абсурдизма. <...> Но эти умонастроения, проникнутые сознанием
бессмысленности существования, сложились в целостную
концепцию только благодаря тому, что добавилось еще одно, не менее
значимое обстоятельство — крах веры»478.
«Убежденность в абсурдности всего происходящего в реальной
действительности, в убожестве рода человеческого, в
невозможности изменить что-либо определила ведущие темы творчества
драматургов антитеатра, — отмечает Т. Б. Проскурникова. —
Окружающий нас мир — это царство абсурда и жестокости, человек —
неспособное самостоятельно мыслить существо, обреченное
прозябать в этом мире <...>. Во всех произведениях антидрамы <...>
абсурдность выступает не как какой-то временный или переходный
этап развития мира, а как конечное и неизменное его состояние»479.
Принципиальное отличие от реалистической картины мира, по
мнению Т. Проскурниковой, заключается в том, что в
произведениях писателей-реалистов отрицательные явления действительности
«разоблачаются силой не только таланта художника, но и его
разума, если он стремится рассказать об уродливом во имя победы
прекрасного, во имя идеала, то в антитеатре, у Ионеско в частности,
негативные стороны действительности гипертрофируются
абсурдностью художественной формы, которая избирается для их
выражения. Создается положение, при котором произведение искусства
не выступает против безобразного в реальной действительности,
а как бы солидаризируется с самым отталкивающим в жизни»480.
Абсурдистские художественные миры могут создаваться
разными средствами. В. В. Набоков отмечал, что «у абсурдного столько
478 Коренева М. Литературное измерение абсурда // Художественные
ориентиры зарубежной литературы XX века. С. 481.
179 Проскурникова Т. Б. Французская антидрама (50-60-е годы). М., 1968.
С. 100-101.
180 Там же. С. 56-57.
205
же оттенков и степеней, сколько у трагического»481.
«Характерными чертами абсурдизма принято считать отказ от традиционных
драматургических форм, понимаемых как реалистические, сюжета,
характера, психологизма, заменяемого объективацией
психологических состояний. Кроме того, к неотъемлемым свойствам
абсурдистских произведений принято относить нарушение внутренней логики
ради ассоциативной связи, а также причинной, логической и
временной последовательности, место которой занимает соположение
по произвольному признаку. Направленные на достижение
эффекта иррациональности происходящего они сочетаются с парадоксом,
гротеском и юмором, обыгрыванием стереотипов и клише, которое
обнажает бессмысленность общепринятых речевых форм», — емко
характеризует абсурдистскую поэтику М. Коренева482.
Конституирующим свойством, объединяющем эти разрозненные
признаки в особую поэтику, стало «кардинальное переосмысление
действия, которое, в отличие от традиционного, строится не как
развитие истории героя или группы действующих лиц, в ходе
которого происходит разрешение конфликта, а как развертывание
картины, заключающей в себе смысл произведения — идею
абсурдности бытия как такового»483.
Заумь как преддверие абсурда
Западноевропейский театр абсурда возник в 1950-е годы как
самостоятельное явление, наследующее и продолжающее
авангардистские тенденции, но не связанное с ними непосредственно.
Гораздо большее влияние на драматургов оказала экзистенциалистская
философия и мироощущение послевоенной эпохи. Абсурдистские
тенденции в русской литературе, связанные с деятельностью
ОБЭРИУ, стали прямым развитием заумных экспериментов ку-
бофутуристов. Через И. Терентьева, который создал в 1923 году
фонологическую лабораторию в Институте художественной
культуры (ИНХУК), интересом к зауми проникся А. И. Введенский484.
Д. И. Хармс начинал свое творчество в «Ордене заумников DSO»,
организованном А. Туфановым в 1925 году485. И хотя в «Манифесте
481 Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1999. С. 124.
482 Коренева М. Указ. соч. С. 489.
483 Там же.
481 См.: Мейлах М. Обэриуты и заумь // Заумный футуризм и дадаизм в
русской культуре. Bern, 1991. С. 361-365.
485 Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995. С. 40.
206
ОБЭРИУ» (1928) утверждалось, что «нет школы, более
враждебной нам, чем заумь», как пишет В. Гречко, «эту резкость тона
можно объяснить скорее полемическим задором и личными
разногласиями Введенского и Туфанова, чем действительным положением
вещей»486.
Вяч. Вс. Иванов возводит русский театр абсурда к пьесе В.
Хлебникова «Госпожа Ленин», которую сопоставляет с «Последней
лентой Крэппа» С. Беккета и с пьесой Введенского «Некоторое
количество разговоров (или начисто переделанный темник)». «Пьеса
Хлебникова абсурдна в философском смысле, который сближает ее
с духовной атмосферой современного Запада, — пишет Вяч.
Иванов. — Пьесы Введенского и Хармса заумны семантически:
описываемые в репликах и ремарках ситуации невероятны, содержат
семантические противоречия. В других пьесах Хлебникова были
приближения к таким построениям, но они нигде не доведены до
такого приближения к нарушению семантических основ языка, как
у Введенского и Хармса»487.
Л. Геллер отмечает, что в начале XX века «захватывает прочное
место в новых художественных системах абсурд или нечто очень
на него похожее: кажущаяся нелепость футуристской зауми, в
живописи — предсупрематистский „алогизм". На обороте картины
1913 года Малевич пишет: „Алогическое сопоставление двух форм
«скрипка и корова» как момент борьбы с логизмом,
естественностью, мещанским смыслом и предрассудком". В этой декларации,
похожей по духу на будущие лозунги сюрреалистов (и на любимые
сюрреалистами слова Лотреамона о „случайной встрече на
хирургическом столе швейной машины с зонтиком"), заложена одна из
программ постсимволистского авангарда»488.
И Введенский, и Хармс постоянно обращаются в своем
творчестве к фонетической зауми. Авангардистский «сдвиг», лежащий
в основе заумного языка, создает потенциально абсурдные образы.
Уже в творчестве А. Крученых мы встречаемся с супрасинтаксиче-
ской заумью: поэт легко и непринужденно переходит от десеманти-
зации лексем к описанию алогичных ситуаций. Крученых в высшей
186 Гречко В. Словотворчество в поэтике Хармса и Введенского [Электронный
ресурс] // Slavic Research Center. 2003. URL: https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/
publictn/93/02gre.pdf (дата обращения: 01.10.2011).
187 Вяч. Be. Иванов. Заумь и театр абсурда у Хлебникова и обэриутов в свете
современной лингвистической теории // Мир Велимира Хлебникова: Статьи.
Исследования (1911-1998). М., 2000. С. 278.
188 Геллер Л. Указ. соч. С. 101.
207
степени свойственна борьба с «логизмом» и системностью. Одним
из первых на принципиальную бессистемность его поэтики обратил
внимание Б. К. Лившиц, относившийся к поэту с нескрываемым
отвращением. Характеризуя первую постановку оперы «Победа над
солнцем» (музыка М. Матюшина, либретто А. Крученых, декорации
К. Малевича), Лившиц пишет: «Это была живописная заумь,
предварявшая исступленную беспредметность супрематизма, но как
разительно отличалась она от той зауми, которую декламировали
и пели люди в треуголках и панцирях! Здесь — высокая
организованность материала, напряжение, воля, ничего случайного, там —
хаос, расхлябанность, произвол, эпилептические судороги...»489.
Лившиц, единственный среди футуристов представитель «старой»
культуры, не мог принять принцип случайности художественного
творчества, подрывавший самые основы той культуры, носителем
которой он был.
Вслед за Крученых, убежденным сторонником «наобумного»
творчества был И. Терентьев. «Нелепость — единственный рычаг
красоты, качерга творчеств», — утверждал он в книге «Крученых
грандиозарь»490, а в работе «Маршрут шаризны» выводил «закон
случайности в искусстве»: «Попадение в цель возможно только при
стрельбе в обратную сторону <...> стрельба в обратную сторону
требует в работе над стихом особо важные части произведения
отмечать словом, которое, „ни к селу ни к городу4'. Разрежение
творческого вещества производится в сторону случайную»491. В пику
«академической» традиции футуризм культивировал принцип
случайности, небрежности, алогичности.
В творчестве писателей-абсурдистов этот принцип стал
системообразующим, что отражено в названии одного из наиболее
значительных произведений в русской абсурдистской литературе —
цикла Д. Хармса «Случаи». «Что стоит за названием цикла? —
спрашивает А. А. Кобринский. — Слово „случай" отсылает к двум
основным значениям: это „то, что произошло, случилось" и „то,
что произошло случайно". Оба этих значения реализуются в цикле.
Миниатюры представляют собой, с одной стороны, как бы
выхваченное из реальности действие, без всяких предисловий или
объяснений — словно небольшой фрагмент, вырезанный из середины
489 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 450.
490 Терентьев И. Крученых грандиозарь / / Он же. Указ. соч. С. 222.
491 Терентьев И. Маршрут шаризны / / Он же. Указ. соч. С. 234.
208
фильма. С другой стороны, отсутствие всякой мотивации — почему
„вырезан" именно это фрагмент, а не тот, — актуализирует
значение случайного выбора». На примере первого «случая», «Голубая
тетрадь № 10», А. Кобринский демонстрирует, что «Хармс —
вместе со своим другом Введенским — стал родоначальником
литературы абсурда, которая представляет собой не тотальное отсутствие
смысла, а наоборот — иной, не укладывающийся в обыденную
логику смысл, разрушающий, как правило, устоявшиеся логические
связи»492.
Гротеск как абсурдистская тенденция
Содержательная контрастность, имманентно присущая гротескной
образности, обуславливает ее близость к абсурдизму. По мнению
Ю. Манна, основу гротеска составляет алогизм493, а Л. Пинский
видел в этом качестве парадокс494. Однако, как отмечает Л. Б. Мен-
глинова, «если парадокс предполагает лишь неожиданный ракурс
на образы вполне реальные и правдоподобные, то гротеск
требует деформации образов, выведения их за рамки возможного,
реального»495. Поэтому парадоксальность и алогичность не
являются первостепенными признаками гротеска, хотя они, безусловно,
присущи ему, что позволяет рассматривать гротеск в тесной связи
с абсурдом.
Л. Геллер предлагает разводить понятия абсурда и гротеска как
принадлежащие плану содержания и плану выражения
соответственно: в гротескно-абсурдистском тексте «принцип сдвига
проецируется с парадигматической оси, где происходит выбор форм
в их пространственной конфигурации-деформации (гротеск), на ось
синтагматическую, где выстраивается-нарушается их причинно-
следственная последовательность и /или зависимость (абсурд)»496.
При этом, как считает Геллер, гротеск обладает
позитивно-конструктивными свойствами, в отличие от «„деконструктивной"
негативности», присущей абсурду: «абсурд — чувство разлада, потеря
связности мира», «гротеск же — странная связность мира, нечто
492 Кобринский А. Даниил Хармс. М., 2009. С. 416-417.
193 Манн Ю. О гротеске в литературе. С. 17.
194 Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 120.
195 Менглинова Л. Б. Проблема гротеска в современном советском
литературоведении // Проблемы метода и жанра. Томск, 1990. Вып. 16. С. 282.
196 Геллер Л. Указ. соч. С. 93, 101-102.
209
вроде парадокса»49'.
Помимо алогизма, являющегося стержневым компонентом
абсурдизма, гротеск тесно связан с остранением. На эту связь указывал
еще Я. О. Зунделович: «Получающееся таким образом воссоздание
известного явления „остранняет" <...> его в сторону или
комедийной плоскостности, или, наоборот, трагической углубленности»498.
При «наивной точке зрения», свойственной остранению,
обыденное переживается как невероятное, а в гротесковых произведениях
невероятное преподносится в качестве обыденного. Опираясь на
статью Б. М. Эйхенбаума «Как сделана „Шинель" Гоголя», Ore
A. Ханзен-Лёве пишет: «Смонтированный таким образом заново
гротескный порядок обладает „своими законами, своими
пропорциями", которые остраняют законы реального мира, деформируя
их»499. Ю. Манн причислял остранение, наряду с алогизмом, к
«краеугольным признакам» гротеска500.
Остранение как форма художественной реализации
абсурда
Вводя в литературную теорию новое понятие — остранение —
B. Шкловский объявил его универсальным свойством любого
художественного творчества: «Я лично считаю, что остранение есть
почти везде, где есть образ». При этом ни в статье «Искусство как
прием», ни в более поздних работах литературоведа не появилось
сколько-нибудь строгого определения нового термина. Позднее
Шкловский скорее размывал его границы, связывая с этим
явлением широкий круг художественных элементов.
Одно из наиболее лаконичных и емких определений термина
«остранение» принадлежит О. Палеховой: «Остранение
означает устранение автоматизма восприятия художественного текста
за счет неординарности модели определенным образом
отраженной реальности в контексте доступных нормативных приемов
произведения»501. «В XX в. остранение, — пишет Г. В.
Якушева, — на предшествующих этапах выполнявшее роль „частного"
художественного приема, приобретает качество универсальности,
197 Там же. С. 102, 97.
498 Зунделович Я. Поэтика гротеска // Проблемы поэтики. М.; Л., 1925. С. 66.
499 Ханзен-Лёве Оге А. Русский формализм. М., 2001. С. 198.
500 Манн Ю. О гротеске в литературе. С. 69-70.
501 Палехова О. Остранение // Лексикон нонклассики. С. 331-332.
210
пародийно-скептического снижения общепризнанных эстетических
авторитетов, остраняя и сюжеты, и образы, и мотивы с помощью
иронического цитирования, коллажа, стилизации»502.
Вместе с тем, подчеркивает Ore А. Ханзен-Лёве,
«аподиктическое утверждение Шкловского „приемом искусства является
«остранение» вещей" <...> применимо лишь к неаффирмативному
типу искусства, которое в самом крайнем виде было представлено
как раз искусством русского авангарда»503. Не меньшую роль
сыграло остранение в культуре постмодернизма. Выявить
специфику модернистского и постмодернистского остранения помогает его
различная связь с такой важной для философской мысли XX века
категории, как отчуждение.
Г. Якушева определяет отчуждение как социально-философскую
категорию, выражающую «объективное превращение деятельности
человека и ее результатов в самостоятельную силу,
господствующую над ним самим и враждебную ему, способствующую
трансформации человека из активного субъекта в объект исторического
процесса». В результате «действительность предстает как мир
абсурда и алогизма», а искусство фиксирует «пессимизм и жизненную
смысловую утрату». С этим процессом, по мнению Якушевой, и
связано «внедрение в современное искусство принципа остранения»504.
В модернисткой литературе сильна онтологическая нагрузка
этого принципа. Представители таких знаковых направлений
модернизма, как экзистенциализм и абсурдизм, используют
остранение именно как выражение отчуждения человека, его отпадения
от Бога и потерянности в окружающей хаотической
действительности. При этом сам факт отчуждения является предметом острой
философской рефлексии как нечто, с одной стороны, неизбежное,
а с другой — экзистенциально невыносимое (яркий пример —
литературно-философские работы А. Камю).
Постмодернистская литература принимает концепцию мира как
хаоса уже не как проблему, а как данность. Потеря четкой системы
координат осознается большинством теоретиков постмодернизма
не с экзистенциальным ужасом, а с радостным приятием, как
наиболее соответствующая релятивистской модели действительности.
Поэтому и онтологическая нагрузка остранения в постмодернизме
если не исчезает вовсе, то существенно снижается. (Устраненный
502 Якушева Г. В. Остранение // Лит. энцикл. терминов и понятий. Стб. 704.
503 Ханзен Лёве Оге А. Указ. соч. С. 13-14.
504 Якушева Г. В. Отчуждение // Лит. энцикл. терминов и понятий. Стб. 707.
211
взгляд на человека и культуру получает широкое распространение,
что закрепляет принцип иронической игры цитатами.
Интересно отметить, что сам В. Шкловский был близок к
выделению этих видов остранения. «В контексте анализа понятия
„остраненный", — пишет О. Палехова, — В. Б. Шкловский
употреблял и термин „отстраненный", не делая существенного различия
между ними, считая, что оба написания логичны постольку,
поскольку искусство является монтажом жизни, а значит, возможна
вариативность декораций, даже случайность, когда читатель
поражается неожиданностью, странностью перемены, как бы сливаясь
с действием разыгрываемых сцен, отстраняясь от привычного,
затем происходит скачок в неожиданное, странное, и читатель теряет
заданную линию осмысления; остается только ощущение
внутренней связи происходящего»505.
В более поздних работах Шкловский отходит от радикализма
и формализма прежних лет. В книге «Тетива. О несходстве
сходного» (1970) литературовед вскрывает связь остранения в
произведениях Л. Толстого с отчуждением и абсурдом. Говоря о том,
что в «Воскресении» образ проститутки Катюши Масловой как бы
высвечивает, остраняет «проституированность» окружающего ее
мира, исследователь пишет: «Проститутка — наиболее униженный
человек в мире. Проститутка — героиня, главная героиня, человек,
на котором построена любовная история романа; она разрушила
весь окружающий ее мир»506. Построенный на остранении финал
«Холстомера» Шкловский истолковывает следующим образом:
«Вся человеческая жизнь в результате оказалась бессмысленным
кладбищем, в котором люди тщательно закапывали уложенные
в роскошные ящики гниющие трупы»507.
Абсурдистское мироощущение Сорокина
Владимир Сорокин неоднократно подчеркивал, что решающее
влияние на его творчество оказали детские травмы, как
психологические, так и физические508: «За перо берутся люди больные,
травмированные, не нашедшие контакта с миром. Здоровому человеку
505 Палехова О. Указ. соч. С. 332.
506 Шкловский В. Б. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970. С. 77.
507 Там же.
508 Сорокин В. «Насилие над человеком — это феномен, который меня всегда
притягивал...»: интервью.
212
к существующей картине мира нечего добавить — он просто
живет. Ему не надо выдумывать несуществующие миры — для него
и этот прекрасен. А человек, не нашедший с миром общего языка,
которого этот мир пугает, тянется к перу»509.
Тема чудовищности окружающего мира регулярно возникает
в интервью Сорокина: «Мое детство — это смесь прелестной
подмосковной природы, которая, на мой взгляд, вообще уникальна,
и агрессии. Агрессия исходила со стороны школы, уличных
хулиганов, родителей, а с другой стороны, природа — такая прелестная.
В этом мире я созрел и вырос»510. Если верить писателю, то
исходящую от действительности агрессию он ощутил, еще находясь
в чреве матери: «Моя мать, будучи беременной мною уже на 9-том
месяце, была вынуждена ходить на преддипломную практику на
завод „Борец". По ее словам, я тяжело переносил гул машин —
ворочался в животе. Вероятно, это было самым убойным
впечатлением от мира, в который меня вскоре выдавили. Все остальные
травмы только укрепили первую»511. Самым ярким впечатлением
детства для Сорокина стало посещение аэродрома: «Мне тогда
было года три. Я увидел эти ревущие чудовища, и у меня они
вызвали смесь ужаса и восторга. И такое отношение к машинам
сохранилось навсегда»512. «Я не знаю, с чем сравнить то ощущение,
когда я в первый раз увидел самолет, — рассказывал писатель. —
Чудовище, которое зарычало, стало подниматься... Со мной была
жуткая истерика. Я сразу описался...»513.
Если в ранних детских впечатлениях Сорокина монстрообразность
действительности воплощают машины, то вскоре эта роль перейдет
людям: «Я первый раз поехал на юг, в Крым. Мне было лет десять
или одиннадцать. Мы сняли домик. Утром я вышел в сад, где росли
роскошные персики, сорвал персик, начал есть и за соседним забором
услышал какие-то странные звуки. Я не мог их идентифицировать и
только потом понял, что это один человек бьет другого. И такой раз-
509 Сорокин В. «Россия — это снег, водка и кровь»: интервью // Аргументы
и факты. 2001. № 49. С. 23.
510 Сорокин В. «Самый замечательный читатель — это, конечно, в России»:
интервью // Соколов Б. Указ. соч. С. 69.
511 Сорокин В. «Процесс порождения текстов протекает у меня как
контролируемый приступ эпилепсии»: интервью. На заводе «Борец» происходит одна из
ключевых абсурдистских сцен романа «Сердца четырех».
512 Сорокин В. «Самый замечательный читатель — это, конечно, в России»:
интервью. С. 68.
513 Сорокин В. Сорокин-сан: интервью. С. 50.
213
говор — старческий, всхлипывающий, беспомощный голос спросил:
„За что ты бьешь меня?" — „Я тебя, сука, буду до тех пор бить, пока
не убью". Там жила какая-то семья и зять <...> бил старика. И вот
это сочетание роскошного персика, который течет по губам, и такого
разговора — я всегда чувствовал эти два полюса»514. «Это сочетание
персиков с невидимой, но ужасающей картиной насилия и есть одна
из моих литературных тем, — подчеркивал автор. — Меня всегда
привлекала полярность жестокости и человеческого унижения. Для
меня это живое место. Вообще, возможность насилия человека
человеком это настолько впечатляющий феномен, что он меня не только
постоянно возбуждает, но и стимулирует мое творчество»515.
По мнению И. В. Попова, страх перед жизненной реальностью
является одним из движущих факторов творчества Сорокина:
«Очевидно, что для Сорокина художественный текст — это
воображаемая реальность. Писателя пугает хаос реальной
действительности <...>, и оттого ему так близка классическая литература
и массовое искусство, представляющие реальность как четкость
и упорядоченность. С этой позиции абсурдно-насильственные
развязки его произведений можно интерпретировать как выражение
подсознательного страха потери идеального литературного мира,
провоцирующего эмоциональное переживание»516.
Рассуждая в схожем ключе, М. В. Смирнова конкретизирует,
что «основным творческим импульсом Сорокина» является «страх
власти тела»: «Сорокин — не циник и не монстр, а романтик,
устремленный к запредельному идеалу. Эмпирическая реальность,
а если говорить точнее — человеческая телесность, плоть
оказывается для Сорокина преградой на пути к этому идеалу и поэтому
является главным источником отвращения и страха для писателя.
<...> В большей части своих текстов Сорокин искусно и
последовательно варьирует один мотив — мотив разрушения, уничтожения
человеческого тела. Человек телесный, традиционно являвшийся
центром мироздания, оказывается самым страшным и
неприемлемым в художественном мире Сорокина»517.
514 Сорокин В. «Самый замечательный читатель — это, конечно, в России»:
интервью. С. 69-70.
515 Сорокин В. Литература как кладбище стилистических находок: интервью.
С. 124.
516 Попов И. В. Русский литературный дискурс в творчестве Владимира
Сорокина // Семиозис и культура. Вып. 2. Сыктывкар, 2006. С. 246-247.
517 Смирнова М. В. Страх власти тела в прозе В. Сорокина // Языки страха:
женская и мужская стратегии поведения. СПб., 2004. С. 196-201.
214
«Кажется, соприкосновение с материей и вообще со всем
материальным (в том числе и с текстом) у Сорокина вызывает
отвращение, — считает В. Купка. — Материя, какова бы она ни была,
предстает перед нами в омерзительном, безобразном своем проявлении.
Чтобы вызвать гадливость от созерцания и столкновения с материей,
в его текстах частыми атрибутами становятся такие снижающие
элементы, как моча, кал, сперма, менструальные выделения, испускание
газов и т. п.». В то же время, как считает исследователь, «принцип
снижения может стать путем к истинному возвышенному»518.
Здесь впору вспомнить о сложном переплетении в религиозном
мировоззрении писателя гностических и христианских взглядов.
«Видите ли, я всю жизнь чувствую жуткую несвободу, —
признавался Сорокин в интервью П. Вайлю и А. Генису. — Нас ведь
насильно вытолкнули в мир из утробы. За этим пошла череда
насилия, которая не оставляет выбора — человек обречен жить. Так
что смерть — величайшая надежда: есть конец, есть выход.
Писание — тоже выход. Пригов как-то сказал: „Пока я пишу, все
в порядке, но когда поднимаю голову — становится страшно". На
бумаге можно делать все, чтобы забыть ужас бытия. Литература
и есть транквилизатор, который позволяет забыться»519. «Тело —
это главный ГУЛАГ человечества, — отмечал Сорокин. — Ужасно,
но надо отмотать до конца по-честному, без побега»520.
Поэтому, несмотря на свою неприязнь к философии, Сорокин
неоднократно называл философов-экзистенциалистов в качестве
духовно близких ему мыслителей: «Мне близки Ортега-и-Гассет,
Кьеркегор, из русских — Шестов, Розанов. Их объединяет то, что
они высоко ставят экзистенциальный опыт субъекта»521. В
интервью журналу «Искусство кино» Сорокин отметил, что в
человеческом существовании «присутствует элемент заброшенности:
каждый вынужден проживать, проходить через время и пространство
и отвечать на вопрос „зачем?"»522. По словам писателя, он очень
518 Купка В. [Доклад] // Русское слово в центре Европы: сегодня и завтра.
Братислава, 2005. С. 54.
519 Сорокин В. Вести из онкологической клиники: интервью. С. 142-143.
520 Сорокин В. «Процесс порождения текстов протекает у меня как
контролируемый приступ эпилепсии»: интервью. Мужчина из сценария к фильму «4» называет
самоубийство «паллиативом», «вынужденным ходом», которые «в этой игре
недействительны» {Сорокин В. Четыре: киносценарий / / Он же. 4. С. 70).
521 Сорокин В. «Я всю жизнь больше всего доверял собственным ощущениям»:
интервью.
522 Сорокин В. Г., Сорокин В. В. Образ без подобия: интервью. С. 36.
215
хорошо понимает Хайдеггера, «который посвятил много страниц
разработке проблемы заброшенности человека в этот мир форм»523:
«Каждое утро, открывая глаза, я испытываю крайнее удивление от
того, что втиснут в это тело и опять просыпаюсь в этом мире,
которое постепенно перерастает в состояние удрученности»524. «У меня
нет любимых философов, но если брать личный экзистенциальный
опыт, то мне наиболее близок в этом плане Кьеркегор»525.
Характерно, что Сорокин упоминает философов, относимых к так
называемому религиозному экзистенциализму, избегая говорить о
творчестве экзистенциалистов-атеистов: А. Камю и Ж.-П. Сартра526.
Абсурдные образы и мотивы играют ключевую роль уже в
ранних произведениях Сорокина. Он называл творчество обэриутов
в числе своих главных эстетических ориентиров527, а первая книга
писателя, изданная в России при непосредственном участии
автора, завершалась цитатой из статьи 3. Зиника: «Сорокин, как ни
странно, продолжает давнюю традицию русского абсурдизма,
представленную прежде всего Обериутами, которые
противопоставляли дореволюционные клише новоречи молодого пролетарского
государства. Изгнанный из официальной литературы, абсурд как
литературное течение продолжал жить в русской литературе»528.
Отвечая на вопрос «Где ваше место в русской литературе?»,
Сорокин в 1992 году сказал: «Поближе к обериутам, к абсурду,
к Введенскому»529.
В интервью газете «Коммерсантъ», данном шесть лет спустя, на
вопрос «Что вы думаете по поводу цепляния за Серебряный век, за
акмеистов, которое так свойственно „шестидесятникам"?» Сорокин
523 Боязнь «мира форм» стала темой рассказа «Морфофобия» из сборника
«Первый субботник»: «Страшно. Смотрим вокруг: дома, люди, машины, деревья, дороги,
животные, насекомые. Что это? Зачем? Почему? Мир форм страшен. Он пугает
своим существованием. От него так сладко и горько прятаться в теплую женщину:
пу-сти, пу-сти, пу-сти назад, туда, где так спокойно спалось в мягкой маточке.
Пусти, пу-сти, пу-сти... <...> Стучимся, стучимся, стучимся. Совершаем половой акт.
Или просто — ебемся. Трахаемся» [I, 709].
524 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 123.
525 Сорокин В. «Литература есть сражение психических состояний писателя»:
интервью.
526 Впрочем, по мнению М. В. Самодуровой, в рассказе «Лошадиный суп»
присутствует сартровский код. См.: Самодурова М. В. Тошнота и ничто: Сартровский
код в рассказе В. Сорокина «Лошадиный суп» // Молодежь в XXI веке. Барнаул,
2004. С. 252-254.
527 Сорокин В. Текст как наркотик: интервью. С. 119.
528 Зиник 3. [О В. Сорокине] // Сорокин В. Сб. рассказов. Обл.
529 Сорокин В. Вести из онкологической клиники: интервью. С. 141.
216
ответил: «Безусловно, акмеизм для меня не самое сильное и яркое
явление в литературе XX века. Конечно, „обернуты" гораздо
интересней, но так получилось, что они физически и культурно погибли
и эта линия заглохла. „Шестидесятники" держатся за акмеизм,
потому что он отвечает их представлениям о высокой культуре. Есть
представление о том, что культура бывает высокая и низкая, и,
конечно, им Хармс поперек горла, потому что он говорит, что есть
только чистота внутреннего порядка, а она может быть и в
объявлении на заборе... Это довольно наивное представление, и оно
настолько в разрыве с западной культурой, где давно перешагнули
такие критерии, как высокое и низкое»530.
Иерархическому представлению о культуре Сорокин
противопоставил критерий «нерукотворности»: «Дело в том, что для меня
важно, чтобы текст был как бы нерукотворным, то есть чтобы за
ним не был виден автор. Мне Толстой нравится больше
Достоевского — когда читаешь Толстого, иногда кажется, что это не
человеческое письмо... Также я люблю бюрократические тексты,
профессиональные, созданные непонятно кем. И чистота внутреннего порядка
очень родственный критерий, у Хармса тоже часто вещи, „парящие
в воздухе", нерукотворные. Я люблю нерукотворность». Такое
представление о художественной значимости текста сближает Сорокина
с постмодернистами, также враждебно относящимися к делению
культуры на «высокую» и «низовую», как и к любым бинарным
оппозициям531. Примечательно, что это в своей основе релятивистское
представление писатель возводит не к постструктуралистской
философии, а к наиболее яркому представителю абсурдизма в русской
литературе — Даниилу Хармсу532.
В период «прощания с концептуализмом» Сорокин начинает
все чаще рассуждать об абсурде как константе «русской метафи-
530 Сорокин В. «Мы не встанем ни под каким памятником»: интервью.
531 Кроме того, в любви к текстам, созданным «непонятно кем», можно
усмотреть влияние концепции «смерти автора».
532 В качестве одного из героев Д. Хармс присутствует в «Голубом сале»:
— Ты знаешь, что Хармс своими глистами канареек кормит? — Сталин обвел
глазами пустынную Красную площадь.
— Мне ли эту срань не знать? — радостно ощерилась AAA.
— Что с ним делать?
— Пошли его на северо-восток! Там все его глисты враз повымерзнут
[III, 193].
В письмах Глогера появляется хармсовский окказионализм «тепель-тапель» из
«симфонии» «Начало очень хорошего летнего дня»: «А свиноматка Злотникофф
будет вечно помнить мой тепель-тапель» [III, 18].
217
зики», которую он стремится воплощать в своих произведениях.
«Моя проза связана с русским театром абсурда, и в этом смысле
я представляю русскую метафизику», — заявил Сорокин в
интервью «Известиям»533. Подробнее о том, что он вкладывает в понятие
«русская метафизика», писатель рассказал в беседе с поэтессой
А. Витухновской: «В России есть мощный магнит, который
удерживает меня. Он называется русской метафизикой. В этой
русской метафизике, помимо сакральности, притяжения места, есть
и много деструктивного и непредсказуемого. Все это вместе — то
есть магия географии, русская сакральность, анархия и деструктив-
ность — вот это все и образует для меня понятие „русская
метафизика44. И если бы я был, например, обычным человеком, который
просто живет, чтобы содержать семью, растить детей, накапливать
блага и испытывать комфорт, наверное, меня бы это и могло
отталкивать. Но я литератор. А для литератора это край Эльдорадо.
Для нас, как для литераторов, это место просто замечательное»534.
Кроме традиционной неустроенности, Сорокин называл в числе
характерных признаков «российского абсурда» неразличение
литературы и жизни, которое всегда питало его творчество: «В
России и шоферы такси, и чиновники, и политики, и интеллектуалы,
каждый человек представляет собой литературный персонаж. <...>
Вселенная СССР являлась театром абсурда. И мы до сих пор
находимся в зале этого театра»535. Поэтому, когда писатель узнал
о демонстрации против постановки оперы «Дети Розенталя»,
проведенной молодежной организацией «Идущие вместе», его «просто
оторопь взяла»: «Я понял, что оказался в своем тексте. Просто
попал вкакой-то свой рассказ сновиденческий, с примесью кошмаров.
Это даже не охота на ведьм, это такой специфический абсурд»536.
533 Сорокин В. Моя жена предпочитает Томаса Манна: интервью // Известия.
2002. № 29. С. 8.
534 Цит. по: Шамир И. Россия свободная // Русская страница Исраэля Ша-
мира. Б. г. URL: http://www.israelshamir.net/ru/ruartl43.htm (дата обращения:
01.10.2011).
535 Сорокин В. «Хомо путинус»: интервью [Электронный ресурс] // ИноСМИ.
Ru. 2007. 5 апр. URL: http://www.inosmi.ru/translation/233840.html (дата
обращения: 01.10.2011).
536 Сорокин В. «Пока не пришли ко мне домой и не вывели на улицу...»:
интервью.
218
Абсурдистские антипьесы Сорокина
Феномен абсурдизма нашел наиболее полное выражение в
драматической форме. Это верно и применительно к творчеству Сорокина:
в пьесах его «метод спрессовывается и проявляется с наибольшей
обнаженностью»537. По этой причине в сорокинской драматургии
ярче всего проявились постмодернистские черты его творчества.
Пьесы «Юбилей», «Дисморфомания» и «Dostoevsky-trip»,
составляющие своеобразный триптих, построены на известных, а не
стилизованных дискурсивных образцах (соответственно, Чехова, Шекспира
и Достоевского), которые последовательно демонтируются автором.
Готовые текстовые фрагменты занимают важное место и в других
пьесах Сорокина («Землянка», «С Новым годом»), тем или иным
образом подвергаясь стилистической деформации. Деконструкция
как форма работы с наличными дискурсами получила в этих
произведениях наиболее адекватное художественное воплощение.
Критическо-иронический, деконструктивно-деструктивный
характер своего драматического творчества подчеркивал и сам автор:
«Любая пьеса, построенная на классических принципах, — пьесы
Шекспира, пьесы Чехова и соцреалистические монструозные пьесы
типа „Заседания парткома" и „Сталеваров", например, у меня
всегда вызывали тотальную скуку. <...> Во время просмотра этих пьес,
еще мальчиком, когда нас водили во МХАТ, я начинал
фантазировать и думал, что бы я сделал, чтобы оживить эти пьесы. И
придумывал разрушительные ходы, которые оживляли бы ситуацию. Во
всех своих пьесах я продолжал воплощать этот принцип»538.
Идентичную характеристику своим пьесам Сорокин дал спустя почти
десять лет после приведенного высказывания: «И „Капитал", и мои
ранние пьесы были написаны как реакция на советскую жизнь и на
советский театр. Это попытка не то чтобы взорвать его, но вскрыть,
как запаянную консервную банку, где скопился спертый воздух»539.
Первым драматическим опытом Сорокина, вероятно, была
пьеса «Пельмени»540. Это произведение можно рассматривать в ка-
537 Шаповал С. «Чистота порядка» // Совр. драматургия. 1994. № 3. С. 54.
538 Сорокин В. «Жизнь — это... театр абсурда... В России материала для
литературы всегда было полно...»: интервью. С. 107-108.
539 Сорокин vs Бояков: интервью. С. 7.
540 В собрании сочинений в двух томах «Пельмени» датированы 1986 и 1996
годами, но официальный сайт относит начало работы над этой пьесой к 1984 году,
а окончание — к 1997-му.
219
честве эскиза драматических сочинений писателя 1980-х годов,
так как воплощенные в «Пельменях» абсурдистские приемы будут
разрабатываться Сорокиным в следующих пьесах. В «Землянку»
перейдут лишенные развития и информативности диалоги, в
«Доверие» — супрасинтаксическая заумь, в «Дисморфоманию», а затем
в «Dostoevsky-trip» — неожиданное перевоплощение персонажей.
«Пельмени» остаются единственной пьесой Сорокина,
существующей в двух значительно расходящихся редакциях. Завершив
первоначальный текст пьесы в 1986 году541, Сорокин вернулся к этому
произведению десять лет спустя, изменив концовку второй части
и заново написав третью542. Ни в первой, ни во второй редакции
пьеса не членится на акты, хотя в ней отчетливо выделяются три
части, маркированные сменой места действия.
«Пельмени» открываются натуралистической зарисовкой позд-
несоветского быта. Дежурный обмен репликами между отставным
прапорщиком и его женой во время изготовления пельменей
продолжает эксперименты Сорокина по имитации «живой», неолите-
ратуренной речи. Оставаясь стенографически достоверным,
диалог Ивановых местами вплотную приближается к абсурдистской
коммуникации:
ИВАНОВА (с силой месит тесто). Во как... во как... и во как...
ИВАНОВ (не отрываясь от газеты). А?
ИВАНОВА. Во как мнется.
ИВАНОВ. А что?
ИВАНОВА. Да на молоке-то во... как...
ИВАНОВ. На молоке?
ИВАНОВА. Ага... на молоке-то... воно оно как...
ИВАНОВ. А ты на молоке нынче?
ИВАНОВА. А как же...543
Атмосфера советского мещанства сгущается в сцене бытового
садизма, переходящей в абсурдный ритуал. В состоянии
алкогольного опьянения прапорщик, ранее плотоядно лепивший
«лысеньких» «новобранцев», заставляет жену участвовать в извращенно-
пародийной инсценировке приема в армию. «Я, Пробкова Спичка,
541 Сорокин В. Пельмени // Искусство кино. 1990. № 6. С. 158-170. Впервые
пьеса была опубликована в труднодоступном самиздатском альманахе «Эпсилон-
салон» (№ 11 за 1987 год).
542 Во второй редакции, ставшей основной, пьеса была впервые опубликована во
втором томе собрания сочинений в двух томах.
543 Сорокин В. Пельмени // Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. С. 498.
220
родилася в ведре, потом росла в старом месте, а после окончила
в сорок шестом году банку из-под говна. А потом работала возле
плинтуса в грязном углу, а в пятьдесят седьмом году переехала
в Пашкину кружку, где устроилася машинистом», — излагает
Иванова свою «автобиографию» «ровно, без запинки»544. О хорошем
знании героиней этого нелепого ритуала свидетельствует и процесс
дальнейшего экзаменования:
ИВАНОВ. Где Николай и Жорка?
ИВАНОВА. Они сидят на насесте.
ИВАНОВ (кивая). Так... это мы знаем. А вот... какая у нас погода?
ИВАНОВА. Погода с шишками545.
Выдержав «экзамен», Иванова приводится к «присяге», опустив
левую руку в ночной горшок с мочой мужа, а правую положив ему на
голову. Выкрикнув ряд бессвязных фраз, Иванов окатывает жену
мочой, завершая обряд «инициации».
Моральное и физическое унижение, которому подвергает жену
герой, с одной стороны, мотивировано ритуальной природой
происходящего: воинская присяга является рудиментом инициации,
нередко предполагавшей мучительные испытания. С другой стороны,
рукоприкладство Иванова можно рассматривать в качестве
парафраза армейских «неуставных отношений». По окончании ритуала
герой «без всяких признаков опьянения» приводит себя в порядок.
Внезапное протрезвление Иванова дискредитирует возможность
рационального объяснения произошедшего (сильное опьянение,
приведшее к помрачнению рассудка), переводя пьесу в
абсурдистское измерение.
Во второй части произведения Иванова появляется «в форме
полковника», но со «стрижкой как у рекрута» — полупародийная
инсценировка неожиданно оказывается легитимной. В этой
части «Пельменей» герои общаются между собой на причудливом
арго, впоследствии подробно разработанном Сорокиным в пьесе
«Доверие»:
ЧЕЛОВЕК В ОЧКАХ. Отлично (подходит к шкафу, открывает его,
достает черный дипломат, открывает, кладет в него носки). Все
будет о'кей, Лев, все. Только надо как можно побольше оттянуть по
механике, по детскому. Все будет хорошо. Я договорился, так что вам нечего
544 Там же. С. 506.
545 Там же.
221
беспокоиться. Главное — Витюша по густоте нормально, так что
беспокоиться нечего546.
Большей частью разговор идет о каких-то бумагах, которые
необходимо подписать, и в нем дважды возникает мотив пельменей.
«Я подпишусь, а через полгода, когда седьмой, пустят меня с
Борисом Иванычем в мясорубку?!» — негодует Иванова. «Я согласен
с замесом», — произносит Человек в очках после долгого
упрашивания Ивановых о подписи, и супруги с облегчением подписывают
документ. Этой фразы нет во второй редакции пьесы, в которой
просьбы Человека в очках остаются бесплодными.
Основное место в первоначальном варианте третьей части
занимает длинный монолог старика, по форме напоминающий поток
сознания. Герой долго и нудно жалуется на своего соседа, который
«промывает каждый день, ночью режет — и песни распевает». Чем
именно занят своевольный сосед, так и остается неясным:
зацикленный на его действиях, старик систематически опускает дополнения
в глагольных конструкциях. Такая манера общения затуманивает
смысл говоримого, заставляя предположить наличие
психического расстройства или маразма: «Он наплюет, сделает все что надо,
а мы должны вынимать, и ничего? Он наплюет, сделает все что
надо, а мы должны вынимать, класть все на место, опять возиться,
делать все за него? А если убьет?»547. Очевидна связь этого
монолога с письмами к Мартину Алексеевичу из романа «Норма»548.
Если в романе речь старика деградировала постепенно, от вполне
осмысленной к ряду букв «а», в данном случае она пребывает как
бы в периоде полураспада549.
Поток сознания маразматика, чиновничье арго, бытовая речь —
все эти речевые типы тщательно имитируются Сорокиным и
доводятся до абсурда. Степень абсурдизации оказывается различной,
достигая апогея в шифрованном общении военных чиновников.
При этом третья часть пьесы никак не связана с темой пельменей,
а вторая соотносится с ней формально. Соответствуя абсурдному
содержанию, этот прием придавал композиции произведения неу-
546 Там же. С. 508.
547 Там же.
548 «Не слушает, гнет свое, все отговорочки разные да смешки», — возмущается
старик из «Пельменей». «Я ведь пиздить про науку не умею я в деревне родился
а вы городской вы вон все анекдотики травите а не то что. Все шуточками
отшучивайтесь у вас это вон как», — пишет старик из «Нормы» [I, 245].
549 Сорокин вновь обратится к этому типу речи в рассказе «Сердечная просьба»
из сборника «4».
222
стойчивый характер. Вероятно, это стало одной из причин, по
которым Сорокин полностью переписал третью часть «Пельменей»,
перенеся время действия в постсоветскую эпоху. Во второй редакции
пьесы заметен сдвиг от стилистических экспериментов к
доминированию содержательного начала, что отражает общую эволюцию
поэтики Сорокина второй половины 1990-х —начала 2000-х годов.
Латентно присутствующий в первой части пьесы мотив
каннибализма (лепка и последующее поедание «новобранцев»
прапорщиком) буквально реализуется в третьей: «новый русский» Марк
и его любовница Наташа ужинают громадным пельменем из
Человека в очках, который оказывается отцом Наташи. Под
воздействием выпитого спиртного Наташа заставляет Марка участвовать
в абсурдном ритуале, во время которого банкир представляет себя
висящим в чулане Марком Сушеным, боящимся мышей.
Ритуальный характер происходящего акцентируется кощунственными
аллюзиями:
НАТАША. Куда рвутся мыши?
МАРК. Марку в ягодицы!
НАТАША. Кто поможет Марку Сушеному?
МАРК. Святая Преподобная Великомученица Варвара!
НАТАША. Как она поможет ему?
МАРК. Отгонит мышей, намочит ягодицы!
НАТАША. Как попросит ее Марк?
МАРК (делая странные движения). Помоги мне, Великомученица
Варвара, во имя Господа нашего!
Наташа поднимает платье, приспускает трусы, Марк приспускает брюки и,
причитая молитвы, ложится на пол, ягодицами вверх.
НАТАША (как бы отпугивая гениталиями невидимых мышей).
Изыдите вон, окаянные! Изыдите вон, окаянные! Изыдите вон, окаянные!
Затем Наташа мочится на ягодицы Марка.
МАРК. Аминь!550
Во второй редакции третьей части пьесы Сорокин создал
изнаночный вариант первой части: советская эпоха сменилась
постсоветской, неказистая кухня — роскошным рестораном, прапорщик
и его жена — банкиром и фотомоделью, воображаемое всевластие
военного — действительной вседозволенностью «нового
русского». Но нарративная структура первой части осталась неизменной.
В результате «Пельмени» приобрели целостный характер,
демонстрирующий непрерывность российской истории, преемственность
550 Сорокин В. Пельмени. С. 520 —521.
223
постсоветской эпохи по отношению к советской. Живя в
совершенно другое время, презирая своих родителей как представителей
«быдла», Марк и Наташа являются носителями того же самого аб-
сурдистско-ритуального сознания. Тема неизбывности магического
сознания людей, начатая еще в сборнике «Первый субботник»,
будет продолжена в пьесе «Капитал» на материале российской
действительности 2000-х годов.
Обратившись к театру, Сорокин перенес в него
сюрреалистическое сочетание условной природы происходящего с
натуралистической убедительностью описания, характерное для его прозы.
Игровой характер действия «Пельменей» выявляет сам принцип
членения пьесы, когда перемещение из одного помещения в другое ведет
к перевоплощению персонажей (домохозяйка Иванова становится
облеченным властью полковником) и сдвигу временных координат
(Человек в очках попадает из советской эпохи в постсоветскую).
Написанную годом позже «Землянку» можно считать
классическим образцом абсурдистской антипьесы. В полном соответствии
с художественными принципами драмы абсурда, действие в
«Землянке» строится как развертывание картины. Это обстоятельство
ускользнуло от многих рецензентов, истолковавших пьесу в
традиционном ключе.
После первой отечественной публикации «Землянки»551
появилась гневная отповедь К. А. Кокшеневой, оценившей ее как
«провокацию», опрокидывающую «всякое нормальное отношение к войне,
к человеку, к русской истории». Если опустить оскорбительные
выпады в адрес Сорокина, которыми статья К. Кокшеневой
наполнена сверх всякой меры, то исследовательница ставила ему в вину
изображение «примитивной реальности с уменьшением человека
до дебила с первичными чувствами», а также прием «искажения,
уничтожения, смешения и разрушения сложившегося смысла»552.
Иначе интерпретировал пьесу П. Руднев: «Главное содержание
„Землянки14 — мистическое чувство Победы, которую несут на
своих плечах странные люди с их странными разговорами и
странными боевыми листками. У русского солдата — такого невзрачного
и грубого, такого непобедного и некрасивого, будничного и
озабоченного вполне естественными желаниями, такого, каким его
изображает Сорокин, — презумпция победы, дарованная каким-
то мистическим вихревым актом, заговором, который зародился
11 Сорокин В. Землянка // Совр. драматургия. 1994. № 3. С. 54-68.
,2 Кокшенева К. Провокация // Лит. Россия. 1995. № 42. С. 10.
224
в этих еретических газетных письменах, начертанных ритуальным
языком-шифром»553.
Обе интерпретации имеют под собой веские основания.
«Землянке», несомненно, присущ мощный деконструктивно-деструктив-
ный пафос. Вполне в духе своего времени Сорокин пытается снять
с участников Великой Отечественной войны героический ореол,
обратившись к обыденной, бытовой стороне событий554. Однако
основная цель писателя состоит вовсе не в обессмысливании подвига
советских солдат, а в выражении абсурдности человеческого
бытия и наряду с этим — в создании абсурдистской «драмы языка»
(Л. Рубинштейн). Именно виртуозная стилистическая организация
представляет наибольший интерес в пьесе.
Главное сюжетное событие «Землянки» — чтение фронтового
листка. «Ну что, Леш, почитай газетку», — произносит первую
реплику в пьесе Волобуев. Едва начавшись, чтение газеты
прерывается из-за отсутствия одного из героев, и разговор офицеров
продолжается в реалистической стилистике. Заумь и абсурд, неожиданно
вторгающиеся в пьесу с первой псевдогазетной статьей,
деформируют дискурс военной драмы. «Сначала мороз поморозит, а потом мы
будем морозить так, что нам потом будут делать только на мороз.
Ну... то есть, ну, когда... (жестикулирует ложкой) морозят силь-
553 Руднев П. Указ. соч. С. 194-195.
554 На вторую половину 1980-х —начало 1990-х годов пришелся расцвет
«чернухи». Пафос дегероизации захватил в то время даже писателей-«традиционалистов»
вроде В. П. Астафьева («Печальный детектив», «Прокляты и убиты»). По мнению
Сорокина, достоверное описание событий Великой Отечественной войны «не по
плечу литературе»: «Как бы яростно ни писал про эту войну Астафьев — все равно
это не война. Это литература» (Акт о капитуляции как главное произведение
Победы // НГ Ex Libris. 2005. № 15. С. 2). Собственное же представление о
войне он составлял «из кинохроники и из устных воспоминаний очевидцев», подходя
к последним избирательно: «Мне кажется, что вообще та картина войны, которая
существует в коллективном народном сознании, в основном построена на сотнях
фальшивых советских фильмах и на подчищенных мемуарах. Это те розовые очки,
сквозь которые и принято смотреть на эту войну» [там же]. Иными словами,
предпочтение отдавалось негативным и страшным свидетельствам, позитивные же
воспоминания отфильтровывались на основании их близости официальной точке зрения.
По этой причине картины войны, эпизодически появляющиеся в произведениях
Сорокина, носят неизменно макабрический характер. Например, в романе «Лёд»
один из героев видит сон о блокаде Ленинграда: «Бона, у всех мертвых-то жопы
повырезаны! — хрипит замотанная в ком тряпья дворничиха. — А почему,
спрашивается? Банда! На Пряжке! Котлеты из мертвяков вертют на солидоле! И на толчке на
хлеб меняют!» [III, 695]. Этот сон является частичной реализацией идеи «написать
роман о каннибалах во время блокады Ленинграда» {Сорокин В. Чревовещатель:
интервью. С. 78).
225
но, то есть очень сильные подмораживания по правилам. Сильно их,
а?» — говорит Денисов555. Его реплика балансирует между
синтаксической заумью и естественной нескладностью разговорной речи.
Следующая статья вносит еще большую несуразицу в разговор:
РУБИНШТЕЙН. Вот надо как, чтобы разговор был проще.
ВОЛОБУЕВ. Забьем, сто раз сделаем победу (ест).
СОКОЛОВ. Ваня, а ты... это... они мне тогда послали. Посылали и
направили, ну, разное там... простое совсем... (жует хлеб).
ДЕНИСОВ. Ох, после щец в пот бросает (расстегивает полушубок).
СОКОЛОВ. Пот, ну пот, это, когда мы имеем... ну, разное там... как
вот Леша тут про мороз говорил. Мороз, Леша? Ты ешь, ешь.
Денисов кивает и молча ест.
ПУХОВ. Пот тоже нужен (не выпуская из левой руки газету, правой
хлебает щи).
ВОЛОБУЕВ. Пот поту рознь. Есть пот от тела, а есть, так сказать, пот
души (открывает другой котелок). О! Каша, еда наша. А ну-ка, а ну-ка,
у бабушки было три внука! Навались... (ест кашу)556.
Каждая реплика в этом полилоге развивает определенный мотив:
победы, пота, мороза, еды. Связь между высказываниями
приобретает формальный характер: герои как бы не слышат друг друга
и выговаривают в пустоту банальные фразы, не несущие новой
информации. Полная необязательность, бессмысленность их
рассуждений о поте и морозе создает атмосферу тягостного абсурда,
в которую органично вписываются заумные статьи.
Утрата причинно-следственных связей компенсируется
виртуозной лейтмотивной организацией пьесы, которая по ходу своего
развития начинает все более напоминать музыкальное произведение.
Количество фигурирующих в полилогах лейтмотивов возрастает
с каждым новым разговором, они варьируются в самых
неожиданных словесных конструкциях. На первый план выходит то один,
то другой мотив, они замысловато переплетаются между собой,
образуя сложнейшую полифоническую ткань:
РУБИНШТЕЙН. Ну а зачем так хуево-то? (Усмехается.) Лучше быть
простым плотником. Или мерзнуть как эти... ну, как бабы.
ПУХОВ (складывая газету). А тебе что — мерзнуть лучше?
РУБИНШТЕЙН. Нет, ну мороз — плохо, конечно. Я б лучше потом
обливался, чем так вот, как... как не знаю кто.
ВОЛОБУЕВ. Как там водичка?
555 Сорокин В. Землянка // Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. С. 463, 465.
556 Там же. С. 466.
226
ДЕНИСОВ (трогает котелок). Сейчас закипит, не боись.
СОКОЛОВ. Я знаю племена, которые любят мороз больше, чем жару.
Потеть ни хуя не любят.
ПУХОВ. Да?
СОКОЛОВ. Ага. Они потеть не любят ни хуя.
ВОЛОБУЕВ. А поебаться любят?
Все смеются.
ДЕНИСОВ. Главное — чтоб люди хорошо жили и питались.
ВОЛОБУЕВ. Кто спорит. Это как главное. А мороз не страшен, если
человек хорошо оделся и, там, поел разного.
РУБИНШТЕЙН. Пожрать — это как полжизни. Человек должен охуи-
тельно хорошо питаться.
СОКОЛОВ. И не потеть. А ебля может быть и не каждый день.
ВОЛОБУЕВ. Не каждый. Я могу и больше. Ну, там, если необходимо
есть и, там, когда делать...
РУБИНШТЕЙН. Дела — главное. Но иногда пот, потливость — людей
отпугивает. Пугает. Есть в этом элемент пугливости.
ВОЛОБУЕВ. Это дело каждого. Хули бояться. Мороз и пот надо уметь
контролировать.
ПУХОВ. Правильно. А немцы вон, говорят, мерзнут сильно.
СОКОЛОВ. Мерзнут, а как же. Они в Европе больше потели, а теперь
мерзнут.
Все смеются.
ВОЛОБУЕВ. Да. Немцы народ бывалый. Я их понимаю.
ПУХОВ. А чего, пот морозу как бы противник. Ведь человек в жизни
и потеть может столько, сколько мерз. А когда хуево и разное говно жизнь
портит, тогда и про пот вспоминают...
ДЕНИСОВ. Да.
РУБИНШТЕЙН. Да ну вас! Что, по-вашему, — человек хуево живет,
потому что потеет? Вон, под Харьковом какое окружение было.
СОКОЛОВ. Ну и что — окружение? Не в этом дело. Главное, что мы
имеем конкретную стратегию и пиздярить надо.
ВОЛОБУЕВ (бросая окурок в печку). Ну, пиздярить-то русский
солдат всегда умеет.
Все смеются.
ПУХОВ. Это уж — так, как всегда! Раз, два — и все!
РУБИНШТЕЙН. Главное, ребят, это питание.
ДЕНИСОВ. Питание должно быть разным. Зимой надо есть жирную
пищу.
ВОЛОБУЕВ. Кто спорит. Летом — полегче. Морковь, там, окрошку
покрошить. А зимой и сало нужно есть. Сало дает необходимый заряд. Чтобы
человек на хуй не свалился.557
Там же. С. 469-470.
227
Сталкивая несовместимые понятия, Сорокин искусно
объединяет их в абсурдистское целое. Художественное мастерство пьесы
контрастирует с ее до предела заниженной, обыденно-бытовой
тематикой. По точной характеристике А. Гениса, «Землянка» являет
собой «нонсенс обыденности»558.
По мнению исследователя, в этом произведении «драматическое
напряжение создают контрасты языковых пластов, столь же
безразличных к содержанию, как красный или желтый цвета на
полотнах Малевича»: «Вернувшись в литературу из живописи, Сорокин
перенес в текст художественные принципы соседнего, но отнюдь не
смежного искусства. Его палитру составляют разные стили,
заранее, как краски в тюбиках, приготовленные мировой литературой.
Сочиняя книгу, он заботится о распределении текстовых объемов,
сочетании стилевых пластов и уравновешенности композиции»559.
Однако сравнение драматической организации «Землянки» с
музыкальным произведением более корректно, так как мы имеем дело с
произведением, развивающимся во времени.
О. Буренина считает, абсурдистские тенденции в русской
культуре были непосредственно связаны с литературно-музыкальными
экспериментами символистов, и, в особенности, А. Белого.
Сопоставляя повествовательную организацию «Симфоний» с
произведениями Д. Хармса, Буренина приходит к выводу, что в обоих
случаях «художественная образность строится не на казуальной основе,
а путем обнаружения связей и отношений между разнородными
компонентами действительности»560. Б. Парамонов сравнил
«Землянку» с хрестоматийной пьесой С. Беккета «В ожидании Годо»561,
тем более что знаменитая заумная лексема встречается в тексте
произведения: «Я вам стихи читать начну, я расскажу вам, дети,
годо, как в голод девочку одну Ильич однажды встретил бодо»562.
Подобно классическим драмам абсурда, «Землянка» почти
полностью лишена сюжетного действия. Это абсурдистский
драматургический коллаж, организованный по ритмическому принципу.
Б. Боймерс связал ритмизованную композицию пьесы с феноме-
558 Генис А. Душа без тела [Электронный ресурс] // Радио Свобода. 2003.
URL: http://archive.svoboda.org/programs/OTB/2003/OBT.011603.asp (дата
обращения: 10.01.2011).
559 Там же.
560 Буренина О. В. Указ. соч. С. 93.
561 Парамонов Б. На обломках дискурса [Электронный ресурс] // Радио
Свобода. 2002. URL: http://archive.svoboda.org/programs/rq/2002/rq.072502.asp
(дата обращения: 01.10.2011).
562 Сорокин В. Землянка. С. 474.
228
ном ритуальности: «Сорокин разрушает дискурсивное могущество
языка, сводя текст к набору бессмысленных фрагментов, сползая
в мат. В этом лингвистическом хаосе находится постоянство,
новый порядок, обладающий ритмом ритуала с его постепенной
последовательностью движения»563.
Персонажи «Землянки» — не полнокровные художественные
образы, а безличные сюжетные функции. Открытый сюжет пьесы
разомкнут в пустоту: чтение статей из фиктивного фронтового листка
и беседы героев о поте и морозе могут продолжаться до
бесконечности, поэтому единственный способ завершить произведение —
уничтожить всех героев и само место действия: «Внезапно слышится
приближающийся вой тяжелой бомбы. Вой растет с каждой секундой,
наконец становится оглушительным, гремит взрыв с ослепительной
вспышкой. Сцена на несколько минут погружается в абсолютную
темноту. Постепенно откуда-то сверху начинает просачиваться
мертвенный голубовато-белый свет, позволяющий различить огромную,
во всю сцену, земляную воронку. Над свежей землей висит туман
из пара и дыма»564. Как пишет М. Коренева, «в мире абсурда, в этом
царстве „Ничто", где согласно определению, „ничего не происходит"
(ничего и не может произойти), т. е. ничего такого, что хотя бы
в малейшей степени повлияло на сущность земного удела,
неизбежно завершающегося смертью, которая обессмысливает в этой
единственно истинной и значимой в системе абсурда перспективе всякое
действие и деятельность, действие (в значении элемента
художественного текста) оказывается невозможным. Здесь оно переходит
в свою противоположность, становится бездействием»565.
Написанные в 1989 году, пьесы «Юбилей» и «Дисморфомания»
венчают корпус драматических сочинений Сорокина второй
половины 1980-х годов. В этом своеобразном диптихе писатель
обратился к традиции классической русской (А. П. Чехов) и зарубежной
(У. Шекспир) драматургии. В обоих случаях Сорокин выступил
полноценным деконструктивистским критиком, препарировав
действительно существующие, а не стилизованные тексты. В отличие
от цикла «Стихи и песни», манипуляция готовыми произведениями
не имеет политической и социально-критической подоплеки и
носит сугубо эстетический характер.
563 Боймерс Б. Театр как симуляция, или Виртуальная Шинель // Петерб.
театр, журн. 2000. № 21.
564 Сорокин В. Землянка. С. 484.
565 Коренева М. Указ. соч. С. 490.
229
Выше уже говорилось о негативном отношении Сорокина к
пропитанному «тотальной скукой» классическому театру. Стремясь
«оживить» его, писатель синтезирует несколько классических пьес,
преобразуя их в абсурдистские коллажи. В «Юбилее» в единое
целое срастаются все основные пьесы Чехова: «Иванов», «Чайка»,
«Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», а в «Дисморфомании»
осуществляется постановка «повести о Гамлете и Джульетте». Во
многом идентична композиционная структура этих произведений:
после прозаического вступления герои разыгрывают антипьесы,
находясь под воздействием странных веществ и повинуясь
приказам некоего голоса. Сорокин не просто использует прием «театра
в театре», но придает абсурдному характеру своих пьес
формальную мотивировку.
В написанной на закате перестройки пьесе «Юбилей»566
Сорокин создал гротескную пародию на попытки вычеркнуть советский
период из истории русской культуры под предлогом возрождения
классических традиций. Ключевая для писателя проблема
соотношения литературы и жизни, художественной реальности и
действительности получила в этой пьесе оригинальную трактовку
посредством введения мотивов клонирования классиков и оживления
литературных персонажей567. Используя прием реализованной
метафоры, Сорокин последовательно подрывает традицию
наивно-реалистического восприятия классической литературы как «учебника
жизни», доведенную соцреалистической эстетикой до абсурдного
конца.
«Юбилей» открывается речью директора «Чеховпротеиново-
го комбината имени А. Д. Сахарова», приуроченной к
десятилетию предприятия. В ней подробно описывается деятельность
комбината, который вместе с аналогичными учреждениями занимается
выработкой «Классического протеина», забивая и разделывая
клонов А. П. Чехова как скот. Получаемая в результате «чеховпроте-
иновая продукция» используется при постановках пьес классика.
Так, подготовка к спектаклю актрисы, исполняющей роль Нины
Заречной, включает в себя покрытие ее тела «сгущенным чехов-
протеином», «наложение на голову чп-пластырей», «вшивание под
566 Название отсылает к чеховской «шутке в одном действии» (ср. с «Чайкой»
Б. Акунина), хотя сходство между этими пьесами ограничено мотивом юбилея.
567 Мотив клонирования классиков ляжет в основу романа «Голубое сало» и
либретто к опере Л. Десятникова «Дети Розенталя» (2005), а мотив оживления
литературных персонажей — в основу пьесы «ConcretHbie».
230
кожу чп-клиньев» и т. д., вплоть до «одевания платья Нины
Заречной, сшитого из свежеснятой кожи А. П. Чеховых»568.
Подготовленные таким образом актеры помещаются в инкубатор, где под
воздействием введенного «чеховпротеина» происходит их полное
перерождение в чеховских персонажей.
Герои Чехова оживают и играют в абсурдистской драме,
которая составляет основную часть «Юбилея». Эта драма является
синтезом всех классических пьес Чехова, коллажом из реплик
разных персонажей. Несоответствие их слов друг другу производит
абсурдистский и местами комический эффект:
НИНА. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь
богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы... А меня тянет сюда к озеру,
как чайку... Мое сердце полно вами. (Оглядывается.)
ИВАНОВ. Не приставайте!
НИНА. Кажется, кто-то там...
ИВАНОВ. Мне жаль, что от вас водкой пахнет. Это противно.
НИНА. Это какое дерево?
ИВАНОВ. Это, наконец, невыносимо... Поймите, что это
издевательство...
НИНА. Отчего оно такое темное?
ИВАНОВ. Какие восемьдесят два рубля?569
При этом — в полном соответствии с принципами деконструк-
тивистского анализа — в тексте обнаруживаются неожиданные
смысловые связи:
ИВАНОВ. Тебе, Анюта, вредно стоять у открытого окна. Уйди,
пожалуйста... (Кричит.) Дядя, закрой окно!
Входит дядя Ваня. Он выспался после завтрака и имеет помятый
вид. Садится на стул, поправляет свой щегольской галстук.
ИВАНОВ. Я помню. Сегодня я буду у Лебедева и попрошу его
подождать. (Смотрит на часы.)
ДЯДЯ ВАНЯ (свистит). Сто лет. Профессор решил поселиться здесь.
ИВАНОВ (закрывая книгу). Что, доктор, скажете?
АСТРОВ. Да... В десять лет другим человеком стал. <...> У меня в
детстве была такая нянька.
ДЯДЯ ВАНЯ. А как она хороша! Во всю свою жизнь не видел женщины
красивее.
568 Сорокин В. Юбилей / / Он же. Капитал. С. 131.
569 Там же. С. 132.
231
ДЯДЯ ВАНЯ. В такую погоду хорошо повеситься...
НИНА (подумав, сквозь слезы). Нельзя!570
Обращение к творчеству Чехова, помимо его классического
статуса, имело еще одну важную причину. Констатируя известный
факт, М. Коренева пишет: «В определенном смысле драма
абсурда опирается на художественные открытия новой драмы в начале
XX в., в первую очередь Чехова, благодаря которым действие было
преобразовано в преимущественно внутреннее. Переместившись из
внешнего мира в пространство души, оно привело к взаимному
перераспределению значимости его отдельных элементов (снижение
роли сюжета, динамики, развития действия и т. д.»571. В «Юбилее»
Сорокин обыгрывает феномен «внутреннего действия», реализуя
эту метафору.
Действие абсурдистской постановки «Юбилея» разворачивается
во внутреннем мире драматурга — в буквальном смысле этого
выражения, так как все герои и декорации созданы из
внутренностей А. П. Чеховых. Посредством реализованной метафоры
Сорокин овеществляет мыслительные процессы: собственно, только
«внутри» Чехова и могли встретиться одновременно все его
персонажи. Поэтому по ходу драмы они время от времени кричат во
внутренние органы А. П. Чеховых, повинуясь приказу некоего голоса:
ДЯДЯ ВАНЯ (подходит к столу, берет легкие, опускается на
колени, кричит в легкие). Фурироно! Фурироно! Фурироно! Фурироно!
НИНА (подходит к столу, берет почку, опускается на колени,
кричит в почку). Упаратия! Упаратия! Упаратия! Упаратия! Упаратия!
ИВАНОВ (берет со стола желудок, опускается на колени, кричит
в желудок). Куропо! Куропо! Куропо! Куропо! Куропо! Куропо!572
Морфологическая заумь маркирует традиционную для драмы
абсурда ситуацию утраты взаимопонимания, которую предвосхитил
в своем творчестве Чехов. Однако в данном случае эта ситуация
обусловлена тем, что в рамках одного произведения оказались
персонажи из разных пьес, реплики которых не соответствуют друг
другу. Это делает невозможным наивно-реалистическое восприятие
их в качестве «живых людей». Слова Нины Заречной «В вашей
пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц» наполняются в «Юбилее»
иным смыслом. В результате иллюзия жизнеподобия пропадает,
570 Там же. С. 133, 135, 137.
571 Коренева М. Указ. соч. С. 489-490.
572 Сорокин В. Юбилей. С. 133.
232
и персонажи становятся тем, чем они и являются на самом деле:
последовательностью искусно подобранных реплик.
С точки зрения стилистической организации «Юбилей»
восходит к повести «Соловьиная роща» из сборника «Первый
субботник», в которой многочисленные осколки малоизвестных (или
стилизованных) текстов были виртуозно объединены автором в единое
абсурдистское целое:
— Ба! Мишка приехал! — пронзительно закричал выбежавший
звеньевой, глядя в отворяющуюся дверь.
Ребята побросали рваные снасти, изумленно привстали.
— Закройте к лешему, морозу напустите, — заворочался спросонья
Егорыч, кутаясь в линялую медвежью доху.
— Да щас прикрою, не бойсь, — пробасил Коробок, загорелыми
руками берясь за люк. — Это третья, наверное, свищ дала. Там сменщики
схалтурили, старыми электродами варили. Завтра переварить заставлю.
— Заставь, заставь, родимый, — умоляюще посмотрела тетя Настя. —
Она ведь не ровен час прокиснет! А весной падали, да кислухи
наглотаться, все одно, что яду испить, — смертоубийство, ей богу... — Она вытерла
тарелку и погасила свечу
II 711].
По сравнению с «Соловьиной рощей», «Юбилей» представляет
собой относительно простой драматургический коллаж. В «Дисмор-
фомании», апеллирующей к шекспировской драматургии, способы
манипуляции исходным текстом заметно усложнились. В качестве
актеров в этой пьесе выступают семь психически больных людей,
одержимых манией мнимого уродства. Абсурдный характер
инсценировки объясняется не только психическим расстройством больных,
но и «инъекцией чистого гноя», которую насильно делают актерам
медсестры. Аналог «чеховпротеина», «чистый гной» олицетворяет
происходящее в пьесе «гниение» шекспировского дискурса573.
Наряду с этим в «Дисморфомании» усложнился прием «театр
в театре»: сорокинские герои не просто играют шекспировских
персонажей — они играют шекспировских персонажей, которые
играют других шекспировских персонажей. Инсценировка
психотеатра открывается начальной сценой из «Гамлета», но словами Бер-
нардо, Франциско, Горацио и Марцелла говорят Тибальт, Горацио
и Кормилица. «Да здравствует Королева!» — восклицает Тибальт
в роли Бернардо, поменяв «Короля» на «Королеву». «Слуга стране,
573 «Кто-то назвал то, что делает Сорокин, „гниением стиля"», — писал Д. Ле-
кух в статье «Владимир Сорокин как побочный сын социалистического реализма»
(Стрелец. 1993. № 2).
233
подруга датской службы», — представляется Кормилица вместо
Горацио и Марцелла. Роль Призрака «исполняет» гигантский черный
червь, которого несут на белых носилках санитары574. «Кто ты, что
посягнул на этот час и этот бранный и хороший, прекрасный
облик», — торжественно обращается Горацио к слабо шевелящемуся
червю. Подобного рода абсурдные несоответствия проходят сквозь
всю постановку. Гамлет играет роль Ромео, а Джульетта — роль
Офелии. Сорокинская Кормилица, по контрасту с шекспировской
героиней, периодически вставляет в речь бранные слова и обороты:
«свиньи», «гады», «сволочь», «мать моя гадюка».
Причудливые изломы приобретает сюжет пьесы. Начавшись
с первой сцены первого акта «Гамлета», действие продолжается
первой сценой третьего акта «Ромео и Джульетты» (поединок
Меркуцио (у Сорокина Горацио) и Тибальта), затем следует третья
сцена первого акта «Ромео и Джульетты» (беседа синьоры Капулет-
ти, Джульетты и Кормилицы), за ней — пятая сцена того же акта
(маскарад). После свидания с Джульеттой (вторая сцена второго
акта «Ромео и Джульетты»), Гамлет неожиданно встречается с
черным червем (четвертая и пятая сцены первого акта «Гамлета»).
Монолог Призрака превращается в диалог, который разыгрывают
несущие червя санитары:
ПЕРВЫЙ САНИТАР. Идет молва, что умер он в саду.
ВТОРОЙ САНИТАР. Змеей ужаленный.
ПЕРВЫЙ САНИТАР. Так Дания обманута коварной.
ВТОРОЙ САНИТАР. Фальшивой басней о его кончине.
ПЕРВЫЙ САНИТАР. Но знай, о сын достойный.
ВТОРОЙ САНИТАР. Змей, поразивший твоего отца.
ПЕРВЫЙ САНИТАР. Надел его корону575.
После этого действие продолжается диалогом Гамлета и
Горацио, но теряет привязку к сценам шеспировских драм: Горацио
бессвязно рассуждает о своем ранении, а Гамлет — о полученном им
новом знании. При этом в их словах то и дело возникает мотив
непонимания. «Я немного не понимаю», — говорит Гамлет. «Я не
понимаю», — вторит ему Горацио. «Я немного не понимаю», —
повторяет Гамлет. «Все так вот, как подумаешь — не очень понятно», —
через некоторое время вновь говорит Гамлет. В контексте
постановки особое значение приобретают слова Марцелла «Подгнило что-то
574 Образ гигантского белого червя на белой простыне встречался в рассказе
«Кисет».
575 Сорокин В. Дисфорфомания / / Он же. Капитал. С. 189.
234
в Датском государстве», которые произносит Гамлет: «Все ведь
прогнило у нас в датском государстве. Все гниет и разлагается».
Своего пика «гниение стиля» достигает в финальной сцене
постановки, когда Джульетта возвращает Гамлету подаренные ей
«слова» и «предложения», «голая Кормилица с батоном ржаного
хлеба» произносит абсурдные монологи, избитые «Король и
Королева стоя мочатся на пол», а Тибальт вбегает, «неся в руках
металлический шар».
КОРМИЛИЦА. Маманя родила в кошелочку, а папаня в Москву,
столицу нашей родины, поехал и там обнюхал все обрубочки, все комочки
сумок. И сумочек. Ку-ку, маманичка, потненькая курочка моя!
ДЖУЛЬЕТТА. Я хотела давно сказать вам... знаете, у меня очень
красивые ножки.
ГОРАЦИО. Верить в склепы — наша рана. Как ранили, так и показал.
ГАМЛЕТ (отряхивает свой костюм). Я видел многих. Но люди, как
сказать, люди все-таки не совсем понимают. Они понимают жучков.
ДЖУЛЬЕТТА (приподнимает платье и показывает ноги). Смотрите!
ГАМЛЕТ. Это просто настолько верно, точно и как-то... уверенно.
КОРМИЛИЦА. Покажи стружечки старушечке! Покажи пупочек ку-
манечку!
ТИБАЛЬТ (бросает шар на пол, кричит). Потом! Потом! Отцы мои!
Потом! Матери мои! Любимые ветви! Сучья мои! Разлом! Разлом мой!
ГАМЛЕТ. Нет, нет. Уйти и спать, спать576.
Уходя, Гамлет «оказывается точно в таком же помещении, но
только меньшего размера». Наряду с уменьшением места действия
редуцируются реплики героев, что вновь заставляет вспомнить
«письма Мартина Алексеевича». Так повторяется пять раз, вплоть
до окончательного «разлома» текста:
КОРМИЛИЦА. Маманя.
ДЖУЛЬЕТТА. Я.
ГОРАЦИО. Верить.
ГАМЛЕТ (отряхивает свой костюм). Я.
ДЖУЛЬЕТТА (приподнимает платье и показывает ноги). Смотрите!
ГАМЛЕТ. Это.
КОРМИЛИЦА. Покажи.
ТИБАЛЬТ (выпускает шар из рук, кричит). Потом!
ГАМЛЕТ. Нет577.
Там же. С. 193.
Там же. С. 197.
235
На стилистическом уровне деконструкция выражается в
нарочитом «занижении» шекспировского дискурса, снятии
возвышенности и торжественности. Сорокин последовательно переводит стихи
в прозу и включает в реплики разговорные обороты, за счет чего
диалоги становятся более приближенными к современной речи.
У Шекспира:
— Что в точности подумать, я не знаю;
Но вообще я в этом вижу знак
Каких-то странных смут для государства.
У Сорокина:
— Ну, честно говоря, что точно думать, то есть что в точности
подумать, я не знаю. Но вообще я в этом вот таком появлении вижу знак,
знаки каких-то странных смут для государства578.
Имитируя речь душевнобольных, Сорокин дописывает и
переписывает реплики шекспировских персонажей, уснащая их
уточняющими и дополняющими словами и выражениями.
У Шекспира:
— Ох, да, цветок, уж подлинно цветок!
У Сорокина:
— Цветок! Цветок, уж подлинно — цветок! Цветок цветкам, а
может — и цветочек! Да только где уж, я уж знаю, что как цветок — он
лучше всех цветков!579
«Растягивание» фраз ведет к размыванию их смысла, которое
нередко дополняется использованием приема reductio ad absurdum.
Горацио сравнивает глубину своей раны не только с колодезем, но
также с шахтой и скважиной, а ширину — с церковными
воротами и Ленинским проспектом. Гамлет доводит до абсурда метафору
«волос стал бы прям, как меч»: «Но я хотел тебе рассказать, что
я видел такое, что мой волос бы мог превратиться в меч. Он бы так
напрягся, так, таким стал бы сильным, прямым, что его бы просто
не отличили от меча». Кормилица произносит переиначенную
пословицу «Снявши голову, по волосам не плачут»: «Снявши голос,
по волосам не плачут»580. В интервью журналу «ОМ» писатель
отметил, что он до сих пор не может понять смысл этой русской
пословицы581.
578 Там же. С. 177.
579 Там же. С. 182.
580 Там же. С. 191, 180.
581 Сорокин В. Неонорма: интервью // ОМ. 2005. № 99. С. 70. В «Дисмор-
236
К абсурдистским приемам, опробованным в «Юбилее» и «Дис-
морфомании», Сорокин вернется в 1997 году в пьесе «Dostoevsky-
trip». На этот раз буквальной реализации подверглась метафора
«литература как наркотик», которую Сорокин неоднократно
использовал в интервью582, а объектом деконструктивистского
анализа стал роман Ф. М. Достоевского «Идиот».
Роман «Сердца четырех»: апофеоз абсурда
Законченный в 1991 году, роман «Сердца четырех» стал самым
масштабным, сложным и многослойным абсурдистским произведением
Сорокина. По его словам, с окончанием этого романа «был
выработан некий пласт идей и надо было найти новое месторождение,
внедриться»583. Найденные прежде приемы абсурдизации текста
представлены в «Сердцах четырех» в концентрированном виде, что
делает роман удобной моделью для рассмотрения специфики соро-
кинского абсурдизма 1980-х годов. Преемственность по отношению
к предыдущему творчеству задается, прежде всего, плотной сетью
автореминисценций.
В начале романа главные герои совершают странный ритуал,
во время подготовки к которому Ребров надевает на спину
большой фанерный куб с находящимся внутри Штаубе [II, 736-737].
В абсурдистской концовке рассказа «Заседание завкома» Хохлов
выходит из-за кулис, неся на спине «большой куб, изготовленный
из полупрозрачного желеобразного материала» [I, 543]. В другом
эпизоде «Сердец четырех» Ребров делает Штаубе подарок:
«потрепанный скрипичный футляр», заключающий в себе «женскую
руку, грубо отрубленную по локоть» [II, 763]. В «Заседании
завкома» половина виолончельного футляра милиционера «доверху
заполнена червями», из-под массы которых «выглядывали останки
полусгнившей плоти» [I, 541]. В сцене дарения прочитывается еще
одна реминисценция, из рассказа «Деловое предложение». В нем
Коломиец дарит своему любовнику Авотину (оба героя гомосек-
фомании» эту пословицу повторяет больной К., который играет Короля (С. 161).
В «Дне опричника» пословицу вспоминает Комяга перед разорением усадьбы
столбового (Сорокин В. День опричника. С. 18).
582 Напр.: «Для меня творчество всегда было родом наркотика» (Сорокин В. Г.,
Сорокин В. В. Образ без подобия. С. 41); «Я-то пишу — просто как наркоман берет
шприц и „ширяется'4 (Сорокин В. В культуре для меня нет табу. С. 13).
583 Сорокин В. «Мы не встанем ни под каким памятником»: интервью.
237
суалисты) пластмассовую коробку, в которую втиснута «грубо
отрубленная часть мужского лица» [I, 607]. В обоих случаях подарок
вызывает восторженную реакцию: Штаубе целует руку Реброва,
а Коломиец бросается на шею Авотину. Сцену с отстриганием
губ у мертвой матери Сережи можно рассматривать как аллюзию
на миниатюру «В память о встрече» из седьмой части «Нормы»,
в которой деконструируется «Песенка» («Подари мне на
прощанье...») (1933) И. П. Уткина: герой в буквальном смысле
захватывает с собой материализовавшиеся поцелуи. С «Нормой» «Сердца
четырех» также связывает мотив «размягчения», «разжижжения»
репрессивного начала, воплощенный в образе «жидкой матери».
По мнению Сорокина, идеология посткоммунистической России
«разжиженная такая»: «Она как жидкая мать. Раньше она
ходила и била по голове всех палкой, а сейчас она в виде какого-то
холодца»584. Аналогичным образом в «Норме» «оттепель» привела
к размягчению «нормы». В плане насыщенности насилием «Сердца
четырех» продолжают линию поэмы в прозе «Месяц в Дахау»,
законченной годом ранее.
«Сердца четырех» можно назвать классическим
постмодернистским романом, так как Сорокин подрывает в нем сущностные
характеристики литературы как вида искусства, создавая иллюзию
коммуникативного акта. Сюжет романа строится по
линейно-кумулятивному принципу: он состоит из ряда действий,
преимущественно преступного характера, совершаемых четырьмя героями.
В дружественный союз входят возглавляющий его технократ Ре-
бров585, член олимпийской сборной СССР по биатлону Ольга,
одноногий «инвалид войны и труда» Штаубе и мальчик Сережа. Эта
четверка, отражающая половозрастную структуру общества,
занята в каком-то невероятно сложном и грандиозном предприятии,
предположительно оправдывающем любые жертвы. Не щадя ни
своего, ни чужого живота, главные герои настойчиво продвигаются
к осуществлению сверхчеловеческого проекта.
Однако в чем заключается столь страстно чаемая героями цель,
остается тайной вплоть до самого конца романа. «Ради чего все эти
муки, ради чего столько смертей?», — вопрошает Штаубе в начале
«Сердец четырех», рассказывая, как он пережил блокаду Ленингра-
584 Цит. по: Соколов Б. Прошедшее будущее Владимира Сорокина. С. 32.
585 И. Смирнов отмечал автобиографические черты в образе этого героя: «Один
из адресов Реброва — проезд Одоевского, в котором живет создатель романа
„Сердца четырех"» {Смирнов И. П. Видимый и невидимый миру юмор Сорокина).
238
да [II, 732]. Именно этим вопросом предстоит задаваться читателю
на протяжении всего произведения. Не случайно любимая игрушка
Сережи — это кубик Рубика, который он то и дело вертит в
руках. Чтение «Сердец четырех» сродни решению головоломки,
прохождению квеста, с той лишь разницей, что правильного решения
в данном случае не существует.
«По мере разворачивания событий, — пишет М. Бондаренко, —
накапливаются особого рода непроясненности в логике действий,
совершаемых персонажами, — точнее, возникают проблемы с целе-
полаганием <...>. Цель титанических усилий оказывается не
просто неназванной, сокрытой от читателей или имеющей мистически-
невыразимую природу, а отсутствует принципиально. В результате
читатель остается один на один со все более и более впадающим в
абсурд сюжетом (абсурдность возрастает с возрастанием
динамики), имеющим мощную векторную направленность (вперед и
вперед, через тернии к звездам), но не имеющим пункта назначения»586.
В финале романа истощенные и израненные герои, не помня себя
от радости, достигают цели, стоившей стольких жертв и страданий:
«Граненые стержни вошли в их головы, плечи, животы и ноги. За-
вращались резцы, опустились пневмобатареи, потек жидкий фреон,
головки прессов накрыли станины. Через 28 минут спрессованные
в кубики и замороженные сердца четырех провалились в роллер,
где были маркированы по принципу игральных костей. Через 3
минуты роллер выбросил их на ледяное поле, залитое жидкой
матерью. Сердца четырех остановились: 6, 2, 5, 5» [II, 861].
Эзотерическая концовка усиливает абсурдность сюжета, превращая роман
в герметичное, «замкнутое на себя» произведение.
Схожая модель повествования была ранее опробована
Сорокиным в романе «Очередь», герои которого стоят в бесконечной,
вневременной очереди за неизвестным товаром. «Действие в
„Очереди" завершено, несмотря на то, что его цель (покупка некоего
товара) не достигнута, — отмечает И. Смирнов. — Оно
закончено в себе, а не в своей целеположенности. Оно
самодостаточно, не имея своего смысла, каковой есть то, ради чего действие
предпринимается»587.
Стремясь выявить некую квинтэссенцию повествовательности,
«очищенный» от смысла нарратив, Сорокин обращается к традици-
586 Бондаренко М. Роман-аттракцион и катафатическая деконструкция //
Новое лит. обозрение. 2002. № 56. С. 242.
587 Смирнов И. П. Указ. соч.
239
ям развлекательной и соцреалистической литературы. На это
указывает заглавие произведения, одновременно отсылающее к
приключенческому роману Д. Лондона «Сердца трех» (1920) и
лирической кинокомедии К. К. Юдина «Сердца четырех» (1941). В обоих
случаях связь носит косвенный характер и маркирует скорее жан-
рово-стилевые каноны, чем конкретные произведения588.
Так, роман Сорокина ближе не
авантюрно-приключенческому жанру, но современным боевикам и триллерам (англ. crime
fiction — криминальный роман), о чем говорят такие черты, как
стремительное развитие действия, обилие насилия и жестокости,
последовательное нагнетание напряженности, неожиданные
повороты сюжета, сцены драк, перестрелок и погонь.
И боевик, и триллер имеют в качестве исходной модели
детектив: боевик явился развитием жанра «крутого» детектива,
выделившегося из детектива «классического», а триллер соединил
традиции готического и детективного романов. Сам детектив, в свою
очередь, можно считать развитием авантюрно-приключенческого
романа. Эта «память жанра» (M. М. Бахтин) актуализируется
Сорокиным с первых страниц «Сердец четырех»:
— Ara! А это что за дела? — старик показал палкой на зеленый
строительный вагончик, стоящий рядом с домом поддеревьями. Дверь вагончика
была приоткрыта. — Я, как старый флибустьер, пройти мимо не могу. За
мной, юнга! — махнул он авоськой и захромал к вагончику.
Олег двинулся следом.
— Дверь открыта, замка нет, свет не горит. Никак, побывали
краснокожие!
[Π, 733]589.
Обращение Сорокина к упомянутым жанрам в первую очередь
было вызвано возросшей популярностью массовой литературы
в России начала 1990-х годов. После кратковременного бума
«возвращенной литературы» центральное место в сфере читательских
предпочтений заняли развлекательные произведения разных жан-
588 О немногочисленных перекличках между тремя произведениями см.:
Поздняков К. С. Роман «Сердца четырех» Владимира Сорокина как начало нового этапа
в творчестве писателя. С. 28-32.
589 Сюжетной мотивировкой, обуславливающей появление в тексте элементов
приключенческого романа, служит заманивание Штаубе подростка Олега в
строительный вагончик. Разыгрываемая Штаубе ситуация абсурдна не только с точки
зрения хронотопа (индейцы побывали в советском строительном вагончике), но и
стиля: в речи ветерана алогично сочетаются отсылки к «пиратскому» (флибустьер),
«морскому» (юнга) и «индейскому» (краснокожие) романам.
240
ров. Интерес к массовой литературе был обусловлен не только
присущим Сорокину «нюхом на авторитетный дискурс»590, но и
логикой творческой эволюции автора. Несколько упрощая,
творчество Сорокина 1980-х годов можно представить как
последовательную работу с разнообразными дискурсами: социалистического
реализма («Первый субботник»), коллективной речи («Очередь»),
диссидентской прозы («Тридцатая любовь Марины»),
классического реализма («Роман»). В качестве ориентира из того или иного
литературного массива выбирались не лучшие произведения, а
«провинциальные», эпигонские, «массовые» их образцы («калужский»
соцреализм, «квазитургеневский» язык). Переход от усредненных
образцов (соц)реализма к собственно массовой литературе был
закономерным, так как она опирается на повествовательные
принципы, выработанные в русле реалистическо-натуралистической
эстетики. Развлекательная литература заполнила нишу, которую
прежде занимали популярные соцреалистические произведения, став
удобным объектом для поп-артирования в силу своего формульного
и во многом безличного характера.
«„Мыльная операи — вот апофеоз чистого, бескорыстного
высказывания, рассказывания ради одного только рассказывания, —
пишет Д. В. Бавильский. — Главное, что бы оно, рассказывание,
длилось, продолжалось, не заканчивалось. Так, теленовеллы не
имеют ни начала, ни конца — мы подключаемся на
определенном этапе, принимаем участие в этом ритуальном ежевечернем
убийстве времени, и все заканчивается для нас одним из извивов
сюжета»591. В «Сердцах четырех» Сорокин не только использует
множество типичных сюжетных ходов развлекательной
литературы, но и пародирует / деконструирует их.
Основной жанрообразующий признак детектива — наличие
тайны, загадочного происшествия, выяснению обстоятельств которого
подчинен сюжет произведения. Такой тайной становится в
«Сердцах четырех» смысл и значение предприятия, в котором заняты
главные герои. В детективном романе все части «головоломки»
должны рано или поздно сойтись в единое целое, и задача
писателя состоит в поддержании интриги повествования на
протяжении определенного времени. Стремясь создать «захватывающее»,
максимально напряженное действие, авторы детективов насыща-
590 Лейдерман Н. Л., Липовецкий M. Н. Указ. соч. С. 59.
591 Бавильский Д. Скотомизация // Соврем, рус. лит. с В. Курицыным.
1995. URL: http://www.guelman.ru/slava/writers/bavl.htm (дата обращения:
01.10.2011).
241
ют свои произведения непонятными событиями и таинственными
деталями, неожиданными поворотами сюжета, слабо связанными
между собой сюжетными линиями и тому подобными элементами.
Усложненные, «головоломные» сюжеты характерны, в частности,
для детективной прозы А. Кристи. Все перечисленные черты в
изобилии присутствуют в «Сердцах четырех». В классическом
детективе ощущение абсурдности нивелируется уверенностью читателя
во внутренней осмысленности всех событий. Эзотеризация
«спасительной» концовки становится простым и сильным приемом,
трансформирующим детективный роман в роман абсурда.
Создавая иллюзию невероятно насыщенного и титанически
напряженного действия, Сорокин обыгрывает сам феномен остросюжетно-
сти. Деконструкция этой ключевой составляющей развлекательной
литературы позволяет писателю поставить вопрос о сущности
литературы как таковой. Где начинается и где заканчивается сюжет
литературного произведения? До какой степени можно длить
действие? Каким образом литературные конструкции соотносимы с
реальностью? Анализируя «Сердца четырех», Д. Бавильский приводит
замечательную цитату из романа М. Кундеры «Бессмертие»: «Почти
все романы, когда-либо написанные, слишком подчинены правилам
единства действия. Тем самым я хочу сказать, что их основа —
единая цепь поступков и событий, причинно связанных. Эти романы
подобны узкой улочке, по которой кнутом прогоняют персонажей.
Драматическое напряжение истинное проклятье романа, поскольку
оно превращает все, даже самые прекрасные страницы, даже самые
неожиданные сцены и наблюдения в простой этап на пути к
развязке, в которой сосредоточен смысл всего предыдущего. Роман сгорает
в огне собственного напряжения как пучок соломы...»592.
Погоню за драматическим напряжением и обыгрывает Сорокин
в «Сердцах четырех», насыщая роман множеством ложных,
тупиковых сюжетных ходов, совершенно непродуктивных для
дальнейшего развития действия. За счет этого абсурдность происходящего,
его принципиальная недешифруемость становится ясной задолго до
финала произведения. Например, в одной из сцен романа
происходит знакомая по пьесе «Доверие» абсурдизация производственного
процесса. Действительно существующий московский завод «Борец»
по заказу Реброва переплавляет иглы для одноразовых шприцов.
Из нержавеющей стали, полученной при переплавке 6 160 000 игл
немецкой фирмы «Браун», изготовляют увеличенную в 10 000 раз
592 Цит. по: Бавильский Д. Указ соч.
242
личинку чесоточного клеща весом 1800 кг. Затем раскаленную
отливку погружают в гору сливочного масла во дворе одного из
московских универсамов. Грандиозный масштаб этого проекта может
конкурировать разве что с его карнавальной абсурдностью, так как
в дальнейшем повествовании отливка не играет никакой роли.
Кроме принципов организации действия, абсурдизации в
«Сердцах четырех» подвергается воспитательная функция криминальных
жанров, которая выворачивается наизнанку. Сюжет стереотипного
боевика подчинен восстановлению поруганной справедливости: зло
должно быть наказано ценой любого насилия. В своем романе
Сорокин освобождает насилие от цели: четверка творит злодеяния
якобы во имя высокой цели, но цель эта неясна, а жертвами героев
становятся ни в чем не повинные персонажи. Акты насилия,
совершаемые героями боевиков, имеют нравственное оправдание,
определяемое формулой «добро должно быть с кулаками». Злодеяния,
совершаемые четверкой, не имеют ни нравственного оправдания,
ни рационально-логического объяснения.
Парадоксальность происходящего усиливается за счет того, что
сами герои не считают совершаемые ими чудовищные убийства
злодеяниями. В их глазах эти преступления не только оправдываются
той предположительно высокой целью, к которой по изувеченным
трупам идет четверка, но и вообще пребывают в некоем
параллельном измерении. Так, после убийства родителей Сережи Ольга
рассказывает о визите к своей бабушке, которая умерла в
одиночестве, а ее тело сильно разложилось. «Да, это печальная история.
История человеческой черствости, равнодушия, убожества», —
говорит Ребров, только что убивший двух человек. А Штаубе даже
закрывает уши, чтобы не слышать о том, как выносили «червивую
бабушку»: «Ужасно, ужасно. И ведь никто не придет, не
позвонит. Какие все-таки люди стали. Боже мой!». «Убить родителей,
Сережа, величайший грех», — скажет позднее Штаубе, хотя оба
героя принимали в убийстве родителей Сережи непосредственное
участие [744-745, 827].
Ребров считает себя «по внутреннему складу человеком добрым
и благодушным», что не мешает ему хладнокровно задушить
собственную мать. Не добившись нужной информации от Воронцова,
у которого четверка ампутировала три конечности и содержит в
нечеловеческих условиях, Штаубе негодует, обращаясь к Реброву:
«Нельзя потворствовать негодяям, нельзя! Я старый человек,
Виктор Валентинович, я могу понять и простить многие человеческие
243
слабости, я христианин! Я могу простить невежество, хамство,
жестокость, даже — подлость! Но только не глумление над
человеческой душой! <...> Нравственность у этого типа (Воронцова —
Μ. Λί.) вообще отсутствует! Это мыслящее животное!» [II, 749,
751-752].
Кричащее несоответствие между пафосными рассуждениями
о нравственности и совершаемыми при этом зверскими
убийствами и пытками никак не устраняется автором. В романе возникают
как бы два измерения, две смежные реальности. В одной из них
четверка ведет обыденное, социально-приемлемое существование,
в другой — совершает преступления, воспринимая их как нечто
само собой разумеющееся. Сам автор назвал своих героев
«мутантами по метафизике»593.
Помимо массовой литературы, в «Сердцах четырех» ощутимо
влияние ее советского эквивалента — взятого в усредненном
варианте соцреализма. В первую очередь, речь идет о производственном
романе. По характеристике Е. Б. Скороспеловой, в этом жанре
«в сравнительно короткий срок выкристаллизовалась жесткая сю-
жетно-композиционная схема. Действие происходило на знаменитых
стройках первой пятилетки: Магнитке, Кузнецке, Комсомольске-
на-Амуре или на крупном предприятии, имеющем стратегическое
значение для района или для страны в целом. В произведении, как
правило, отсутствовал центральный персонаж, а композиционным
центром становилась группа — бригада, коллектив, фактором же,
движущим действие, — решение производственной задачи и
наряду с этим — укрощение человеческой стихии»594.
Ключевые сюжетные элементы типичного производственного
романа присутствуют в «Сердцах четырех» в перекодированном
виде. Как отметил Б. Соколов, это произведение «густо
насыщено пародийными реминисценциями соцреализма»595. Героическая
самоотверженность четверки соответствует традиционному для
производственного романа пафосу трудового энтузиазма и
всепоглощающей работы. Показательный пассаж присутствует в романе
А. Г. Малышкина «Люди из захолустья» (1938): «Работа обуяла
его, как лихорадка. Он работал до полуночи, разгибаясь только
на обед и не ощущая при этом ни тяготы, ни изнурения. А если
Сорокин В. «Мы не встанем ни под каким памятником»: интервью.
594 Скороспелова Е. Русская проза XX века. М., 2003. С. 276-277.
595 Соколов Б. Конец, рождающий начало и надежду / / Он же. Моя книга о
Владимире Сорокине. С. 63.
244
и ощущал, тягота эта была приятна и благодетельна, как
лекарство, она постепенно как бы очищала организм, восстанавливала
радость духа».
Не все авторы, подобно Малышкину, изображали трудовой
энтузиазм как безусловно положительную силу, облагораживающую
человека и действительность. В романе Ф. В. Гладкова «Цемент»,
заложившем основы жанра производственного романа, победная
поступь социалистического строительства рушит
взаимоотношения людей и коверкает их судьбы. «„Цемент" буквально заселен
людскими несчастьями: разрушена семья главных героев, ушло
тепло семейного очага, поругана любовь, мать с легкостью
оставляет малолетнюю дочь, которую голод заставляет собирать пищу
на свалке»596. Центральный в «Сердцах четырех» мотив смерти
и разрушения можно рассматривать в качестве параллели мотиву
страданий и несчастий в «Цементе». Сближают эти произведения
и сцены истерик, в которые время от времени впадают герои, не
в силах выдержать накал действия.
Еще одна параллель, которую можно провести между
«Цементом» и «Сердцами четырех», связана с «боевыми» сценами.
Заложив основы жанра производственного романа, «Цемент»
восходил к прозе о гражданской войне. «Гладков использовал в
своем романе художественные принципы, освоенные ранней прозой
для изображения героики гражданской войны, — пишет Скоро-
спелова, — но использовал их на материале будничном,
повседневном, героизировал ситуацию социального творчества»597. Как
и в случае с детективом, Сорокин актуализирует «память жанра»
производственного романа, насыщая действие «Сердец четырех»
перестрелками и погонями. В этой точке сходится влияние соцре-
алистической и массовой литературы, что выявляет их близость
друг другу.
Механизм, посредством которого Сорокин превращает
производственный роман в роман абсурда, аналогичен трансформации
детективного жанра. «Соблазн производственного романа в том,
что он превращается в абсурдный, стоит лишь убрать объект
производства, — пишет А. Генис. — Станок, изготовляющий
ненужные детали, — машина абсурда. Действие без мотивов разрывает
причинно-следственную связь, поэтому производственный роман,
596 Грознова Н. А. Гладков Федор Васильевич // Русские писатели. XX век.
М., 1998. Ч. 1. С. 363.
597 Скороспелова Е. Указ. соч. С. 276.
245
в котором неизвестно, что и зачем производят, принадлежит уже
не социалистическому, а магическому реализму»598.
В каноническом производственном романе судьба трудового
коллектива развивается в параллелизме с историей социалистической
стройки, а последняя, в свою очередь, предстает прототипической
моделью истории всей страны. Сорокинские герои стремятся не
к достижению всеобщего счастья, а к реализации личных амбиций,
ради которых они готовы на все. Подменяя трудовые подвиги
преступлениями, Сорокин ставит своих героев вне социума,
выворачивая наизнанку воспитательный пафос производственного романа.
По мнению М. Липовецкого, в «Сердцах четырех» происходит
«натурализация» соцреалистического мифа о «большой семье»599: «Как
и в соцреализме, социальная семья формируется на основе „общего
делаи, нередко противостоящего собственно родственным
отношениям. Вот почему у Сорокина необходимыми элементами
„испытаний", ведущих к успеху „общего дела", становится убийство и
расчленение родителей Сережи и перемалывание на мясорубке матери
Реброва („жидкая мать"). <...> Семейные связи создаются с
помощью убийства, насилия, сексуальных перверсий, издевательств,
поедания экскрементов и т. п.»600. Концентрация перверсивного
насилия и изощренной жестокости в «Сердцах четырех» столь
высока, что может спровоцировать у читателя, воспитанного на (соц)
реалистической литературе, нравственную панику.
«Сорокин подвергает деконструкции лежащую в основе жанра
(производственного романа — M. М.) оппозицию Человек /
Машина, показывая ложность как авангардной, так и соцреалистической
интерпретации, — пишет по этому поводу Генис. — В сорокинском
мире вообще не различается одушевленная и неодушевленная
материя. В книге ведутся интенсивные производственные процессы,
объектами которых в равной мере могут быть и люди и машины.
Поэтому текст можно считать как садистским, если считать, что
речь идет о живом, так и комическим, если считать героев
неживыми. Герои Сорокина — „немашины" и „нелюди" <...>. В финале
книги непонятный технологический процесс, превращающий тела
героев в „спрессованные кубики и замороженные сердца", как бы
замыкается на самом себе. Производство, описанию которого по-
598 Генис А. Страшный сон.
599 См. о нем: Кларк К. Сталинский миф о великой семье // Соцреалистиче-
ский канон. С. 785-796.
600 Лейдерман Н. Л., Липовецкий M. Н. Указ. соч. С. 58.
246
священ весь роман, ничего не производит. Оно существует без
всякой дополнительной, внешней цели и как раз в этом неотличимо от
жизни»601. Тем самым этический смысл происходящего
оказывается вдвойне дискредитированным. Мало того, что герои совершают
чудовищные злодеяния, так эти злодеяния еще и не подчинены
никакой, даже самой бесчеловечной цели — они абсурдны, то есть
находятся вне сферы рационального осмысления.
Следует отметить, что мотив героического преодоления
препятствий для достижения некоего идеала встречается не только в
производственном романе, но и в других жанрах соцреалистической
литературы. И. Смирнов видит в финале «Сердец четырех» прямую
полемику с идеологом соцреализма М. Горьким: «Сорокин
обессмысливает идею сверхчеловеческого подвига, весьма очевидным
образом полемизируя с Горьким: горящее сердце Данко,
вырванное им из груди, превращается в сорокинской пародии в ледяное
и мультиплицируется»602. В качестве отсылки к раннему
«романтическому» периоду в творчестве Горького можно рассматривать
пассаж про море («Если я люблю море и все, что похоже на море...»),
произносимый Воронцовым, тем более что незадолго до этого Шта-
убе рассказывает о своем плавании по Волге на теплоходе
«Максим Горький»603. В романе также есть отсылка к такому знаковому
соцреалистическому произведению, как повесть А. П. Гайдара
«Тимур и его команда»: «Ты у нас просто Тимур! — говорит Ольга,
обращаясь к Сереже. — Правда, без команды» [II, 745].
Повествовательные модели массовой и соцреалистической
литературы составляют верхний пласт осуществляемых Сорокиным
дискурсивных манипуляций. На более глубоком уровне можно
отметить близость «Сердец четырех» творчеству маркиза де Сада,
с которым писатель, по собственному признанию, познакомился
именно в начале 1990-х годов.604 На сходство сорокинского романа
601 Генис А. Треугольник: авангард, соцреализм, постмодернизм / / Он же.
Иван Петрович умер. М., 1999. С. 121-122.
602 Смирнов И. П. Указ. соч.
603 В пьесе Dostoevsky-trip герои, использующие литературу в качестве
наркотика, оценивают творчество Горького сугубо отрицательно: «Это кто там Горького
вспомнил? <...> При мне это говно не вспоминайте. Я полгода просидел на нем.
<...> Денег не было. Вот и сидел на говне» {Сорокин В. Dostoevsky-trip // Он же.
Капитал. С. 306). Сорокин считает Горького одним из самых переоцененных
писателей XX века {Сорокин В. Интервью // Time Out. 2007. № 10).
604 Сорокин В. «Самый замечательный читатель — это, конечно, в России»:
интервью. С. 75. В связи с этим вряд ли можно счесть случайностью
композиционное сходство между «Месяцем в Дахау» и «Ста двадцатью днями Содома»: в обоих
247
с произведениями де Сада обратил внимание Д. Бавильский,
процитировав статью Р. Барта «Сад-1»: «Есть у Сада романы, в которых
много путешествуют. Тема путешествия легко сопрягается с темой
инициации, однако хотя роман о Жюльетте и начинается с
ученичества, путешествие никогда не приводит у Сада ни к какому новому
знанию. Важно пройти не через ряд более или менее экзотических
случайностей, но через повторение одной и той же сущности, имя
которой — преступление (под этим словом будут пониматься
пытки или разврат). Итак, если садическое путешествие разнообразно,
то садическое пространство единственно неизменно: все эти
путешествия нужны только для того, чтобы запереться»605. Как
известно, в своем творчестве маркиз де Сад «деконструировал» роман
воспитания эпохи Просвещения, что и обусловило повышенный
интерес к его творчеству постмодернистов606. В «Сердцах четырех»
Сорокин поступает аналогичным образом, выворачивая наизнанку
жанрово-стилевые каноны массовой и соцреалистической
литературы, которым также присущ воспитательный пафос (особенно это
касается произведений соцреализма).
Виртуозное сращивание в «Сердцах четырех» нескольких
жанровых традиций607 в полной мере отвечает принципам
постмодернистской поэтики. «Многие художественные произведения,
созданные в стилистике постмодернизма, — пишет И. П. Ильин, —
отличаются прежде всего сознательной установкой на ироническое
сопоставление различных литературных стилей, жанровых форм
и художественных течений. При этом иронический модус
постмодернистского пастиша в первую очередь определяется негативным
пафосом, направленным против иллюзионизма масс-медиа и
массовой культуры»608.
Абсурдистские тенденции просматриваются в романе не только
на сюжетно-композиционном и жанровом уровне, но и на
стилистическом. Так, в одной из сцен некий генерал сначала обругивает
Ольгу крепким матом: «Ты думала, что ты умнее всех? А? Что,
случаях использована дневниковая форма повествования, а каждая запись
представляет собой перечень разнообразных пыток.
605 Цит. по: Бавильский Д. Скотомизация.
606 См.: Маркиз де Сад и XX век. М., 1992.
607 Помимо указанных дискурсов, в «Сердцах четырех» присутствуют черты
военного (рассказ Штаубе о блокаде Ленинграда), биографического (рассказ матери
Реброва) и фантастического (поездка в радиоактивную местность) романов.
608 Ильин И. П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М.,
1996. С. 223.
248
объебать? А? На мякине провести? Так? Нам можно, значит,
впихнуть, мы съедим? Да? Делайте, делайте, Петр Семеныч! Блядь!
Блядюга ебаная!». Спустя несколько страниц он же обращается
к ней с проникновенной речью, отсылающей к пьесе «Доверие»:
«Понимаешь, если нет доверия, нет уверенности, что на человека
можно положиться, тогда все теряет смысл. Все. Но, с другой
стороны, обидеть человека недоверием, держать его на дистанции, так
сказать, тоже может оттолкнуть. И оттолкнуть навсегда. Вот в чем
проблема» [II, 768, 771]. Неожиданная смена отношения к Ольге
не мотивирована никаким сюжетным событием. Сорокин
уравновешивает «внелитературный» (в лингвистическом смысле) обсценный
дискурс, данный в предельном выражении, его антиподом:
концентрированно «литературным» рассуждением, как будто списанным
из произведения позднего соцреализма. Гармоничная
дискурсивная конструкция вступает в конфликт с миметическим принципом,
обнажая фантомный характер действия и сугубо функциональную
роль участвующих в нем персонажей.
Подобного рода бинарные дискурсивные конструкции,
напоминающие стилистическую организацию «Первого субботника»
и «Романа», встречаются в «Сердцах четырех» неоднократно.
«Твари! Гады! Мрази помойные! Я бы размазал по стенам! Я свинцом
глотки заливал!» — истерично вопит Штаубе после прочтения книг
об А. А. Ахматовой. Вскоре выясняется, что столь бурную
эмоциональную реакцию спровоцировала не трагическая судьба поэтессы,
а одна цифра: Штаубе неверно прочел некий «норп», в
результате чего числовой ряд «78, 18, 61, 22» превратился в «73, 18, 61,
22». Указав ветерану на его ошибку, Ребров произносит панегирик
в честь Ахматовой, стилистически полностью противоположный
истеричным выкрикам Штаубе: «Анна Андреевна Ахматова —
великая русская поэтесса, честная, глубоко порядочная женщина,
пронесшая сквозь страшные годы большевизма свою чистую душу,
совершившая гражданский подвиг, прославившая русскую
интеллигенцию. Россия никогда не забудет этого» [II, 790].
Непосредственно перед этим Ребров зачитывает своим
подельникам отрывок из обращения ЦК ВКП(б) к партийным
организациям от 2 декабря 1934 года609, «скорректированный» вкраплением
609 В этом обращении, ставшем официальной реакцией на убийство С. М.
Кирова, обосновывалась необходимость масштабных партийных чисток. Оно было
включено в «Краткий курс истории ВКП(б)», став одним из одиозных политических
документов сталинской эпохи.
249
заумных лексем. В пьесе «Землянка» аналогичным образом декон-
струировалась советская поэзия. Вслед за советским
политическим дискурсом по контрасту следует дискурс православный,
также «скорректированный» введением непонятных сокращений. Как
и в «Землянке», неожиданное включение образчиков разных
дискурсов в повествовательную ткань призвано остранить сюжетное
действие, выведя читателя из состояния «загипнотизированности»
художественным текстом. В обоих случаях герои истолковывают
зачитываемые фрагменты неадекватно их смыслу: герои пьесы
воспринимают их как статьи из фронтового листка, а Штаубе говорит
о бессмысленности требования невозможного.
Автоматизм восприятия художественного текста разрушается
в «Сердцах четырех» и иными средствами. В сцене производства
«жидкой матери» натуралистическое описание разделывания трупа
внезапно начинает «заедать», подобно дефектной грампластинке:
«Ребров взял электронож, отрезал часть ягодицы, передал Ольге,
которая сразу же опустила мясо в электромясорубку, которая
перемолола мясо в фарш, который упал в заборник соковыжималки,
которая отжала из фарша сок, который стек в десятилитровый
бидон» [II, 800].
Описывая в конце романа динамичные перестрелки, Сорокин
последовательно повышает градус сюжетной напряженности, что
ведет к частичной потере смысловых связей: «Скоба схватил
пулемет за ствол, размахнулся, Штаубе трижды выстрелил в него из
пистолета, Скоба с криком упал с подиума, док бросился за бюст,
Ольга вцепилась в него (в дока или в бюст? — Μ. Λί.), Штаубе
запрыгал к бюсту, док выстрелил, очередь разорвала свитер у Штаубе
под мышкой, Штаубе выстрелил, падая, пуля попала доку в плечо
(Штаубе выстрелил, падая, или же пуля, падая, попала доку в
плечо? — Λί. Λί.), Ольга схватила его за рот, потянула вниз, док упал,
ударил ее автоматом, Штаубе дополз до бюста, выстрелил, пуля
оторвала у дока подбородок, задела ольгину руку, Штаубе схватил
дока за голову, стал бить об угол бюста» [II, 855].
В абсурд периодически впадает и речь главных героев. Прежде
всего, это достигается имитацией реальной речевой
коммуникации, нередко состоящей из полунамеков. В разговорах четверки то
и дело возникают упоминания неизвестных доселе лиц, событий,
высказываний: «Ольга Владимировна! Я уже три месяца бьюсь лбом
в стену. Я потерял: Голубовского, Лидию Моисеевну, Цветковых.
Мы потеряли блок. Генрих Иваныч сжег теплицы. Вы оставили
250
третье оборудование. Сережа о Денисе ничего не помнит и, я
полагаю, не вспомнит. А значит, получать круб, получать беленцы мы
будем вынуждены через Ленинград. Только через Ленинград. Вот
перечень наших потерь. А что же мы приобрели? Разрушенную,
разваленную до основания мастерскую? Никому не нужные связи?
Бессмысленные вычисления Наймана? Бесполезные шесть
миллионов?» [II, 755]. Имеющейся информации явно недостаточно для
того, чтобы составить представление об описываемых событиях.
Дальнейшее повествование не проясняет ситуации, хотя Штаубе
и описывает, как он сжигал некие теплицы.
Читатель оказывается в ситуации стороннего наблюдателя, не
посвященного в дела четверки, но получившего возможность
подслушать их разговоры. Противоречие между литературной,
целиком и полностью понятной, и реальной речью, в которой многое
ясно только самим говорящим, интересовало Сорокина с первых
произведений. Во второй главе книги на примере романа «Норма»
было показано, каким образом писатель создавал эффект
стенографической записи диалогов. В «Сердцах четырех» эта тенденция
достигла апогея: весь роман пронизан недоговоренностью.
Мелькающие в речи героев заумные лексемы усиливают
эффект неопределенности: «тропино», «знедо», «норп», «обтростон»,
«клэно» и др. Авторскими неологизмами обозначаются части
загадочных механизмов, с которыми постоянно имеет дело четверка.
Писатель делает их почти не отличимыми от реальных
технических терминов: «Ребров открыл ящик, снял ипрос, повернул рычаг
поперечной подачи и осторожно вытянул стержень №1 из паза.
<...> Ребров надел на стержень кольцо, вставил полукольцо,
оттянул пружину. Затвор щелкнул и встал на место. Ребров вставил
стержень в паз, закрепил рычагом, перевел рейку на 9, протянул
руку. Штаубе подал ему гнек, Ребров вставил его в шлицевой
замок и стал медленно поворачивать. <...> Ребров повернул гнек до
конца, тельмец соскочил с колодки, вошел в челночную капсулу.
Штаубе подал иглу. Ребров ввел ее в концевое отверстие, перевел
рейку на 2. Челночная капсула опустилась на параклит. Ребров тут
же повернул и вынул гнек» [II, 784-785]. Представить себе этот
таинственный механизм воочию так же невозможно, как вообразить
устройство, описанное в пьесе «Дисморфомания».
Кроме фонетико-морфологической зауми, в речи героев
встречаются элементы зауми супрасинтаксической. «18 и 6, — улыбнулся
Сережа. — Комки там бумажные на медведей. И булка». «Знаешь,
251
когда котенок найдет черепаху без панциря, он сначала понюхает,
а потом уж носом коснется, — говорит Ольга. — Или когда из-за
посуды дерутся: один топчется, топчется, машет шлангом с
металлической муфтой, а другой, хоть на керское наступил, но не упал,
а прыгнул и решетку выставил. Просто и надежно» [II, 799, 828].
Семантическая недостаточность остро ощущается в моменты
неожиданной гиперэмоциональной реакции персонажей:
Ольга вздрогнула, папироса выпала из ее пальцев. Она закрыла лицо
руками и всхлипнула.
— Что? Что такое? — наклонился к ней Штаубе.
— Не хочу я... не хочу... жуок... — простонала она.
— Да бросьте вы, — он положил ей руку на плечо, — вам — и
бояться?
— Я не боюсь! Я не хочу, чтобы Нина!
[II, 802].
Отдельного упоминания заслуживает регулярное употребление
непонятно что обозначающих чисел, в результате чего возникает
своего рода числовая заумь:
Ребров раскрыл книгу списков, нашел нужную страницу:
— 9, 46, 21, 82, 93, 42, 71, 76, 84, 36, 71, 12, 44, 47, 90, 65, 55, 36, 426.
Штаубе развел руками:
— Только вага, стри и воп.
[II, 761].
По мнению М. Вербицкого, роман Сорокина посвящен
«исследованию ритуала»: «Персонажи живут и действуют в соответствии
с каббалистической, нечеловеческой логикой, во имя непонятной
и непостижимой цели, поминутно направляемые причудливыми
гадательными обрядами»610. Магические процедуры неразрывно
связаны с таинственными математическими расчетами и манипуляцией
загадочными механизмами, что придает им квазинаучный характер:
Штаубе вынул из кармана кителя сегмент и передал. Ребров приложил
свой сегмент к сегменту Штаубе, нажал, соединяя замки. Красные
шкалы совпали на 8,3, черные на 8,7. Ребров взглянул на часы, посчитал на
микрокалькуляторе, сдвинул сегментные зубцы:
— 27, 10, 6.
— Ну и слава Богу! — Штаубе забрал у него сегмент. — Вы всегда
хотите прямо... что-то идеальное!
[И, 809].
610 Вербицкий М. Ведро живых вшей.
252
Рассмотрение происходящего как грандиозного ритуала,
разворачивающегося в пределах целой страны, является одним из
возможных объяснений, которое связывает оборванные сюжетные
концы. На правомерность такой интерпретации указывал сам автор:
«„Сердца четырех" — роман о некоем бегстве непонятно к чему,
попытка найти тот самый абсолют, который оказывается
игральными костями»611. А. Генис интерпретировал «Сердца четырех» в
гностическом ключе, как произведение, написанное «в своеобразном
жанре высокой метафизической пародии»: «„Сердца четырех" — не
роман абсурда. Он наполнен глубоким религиозным содержанием,
раскрыть которое Сорокину позволяет как раз та самая мерзость
человеческого тела, которую не устает описывать автор. <...>
Главный объект пародии Сорокина — сам человек в его земной
оболочке. Вот ее-то — грязную, смердящую, отвратительную — можно
безжалостно терзать и кромсать. <...> Своим романом Сорокин
ядовито спрашивает читателя: неужели вы и правда поверили, что
этот убогий фильм ужасов, называемый жизнью, есть подлинное
бытие? Вы всполошились при виде бойни, которую я тут учинил?
Где же ваша вера в вечную жизнь? в бессмертную душу? в чудо
преображения?»612.
Ритуальная природа событий отчасти искупала их абсурдность,
как это было в рассказе «Геологи» и пьесе «Пельмени». Расширяя
ритуал до границ целого романа, Сорокин подрывает сущностные
характеристики литературы как вида искусства, создавая иллюзию
коммуникативного акта. В «Сердцах четырех» писатель совместил
крайнюю степень художественного натурализма со столь же
предельной условностью происходящего, поставив под сомнение саму
возможность воссоздания действительности литературными
средствами.
611 Сорокин В. «Мы все отравлены литературой»: интервью.
612 Генис А. А. Чузнь и жидо / / Он же. Собр. соч.: в 3 т. Екатеринбург,
2003. Т. 2. С. 101, 104-105. Противопоставление «романа абсурда» и «глубокого
религиозного содержания» выглядит странно, учитывая, какую важную роль играет
категория абсурда в гностическом мировоззрении.
253
Абсурд жизненного бытия в «Трилогии»
«Трилогия», состоящая из романов «Путь Бро», «Лёд» и «23 000»,
создавалась Сорокиным в начале 2000-х годов. Это первое
произведение, которое сознательно писалось в новой, не
постмодернистской стилистике. Причины, побудившие писателя сменить
художественные приоритеты, и сам процесс отхода от
концептуалистской и постмодернистской парадигмы подробно рассматривались
во вводной главе книги. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что
зачатки новой художественной манеры прослеживаются в
творчестве Сорокина по крайней мере с середины 1990-х годов, а
принимая гностическую интерпретацию «Сердец четырех» — с начала
1990-х. И если, по выражению А. Неверова, в хронологически
первом романе «Трилогии» — «Лёд» — «наметилось движение в
сторону от наработанных схем»613, то оно стало проявлением изначально
присущих творчеству Сорокина потенций.
Генезис замысла: от «людей-пустышек»
к «мясным машинам»
Сорокин рассказывал, что идея «Льда» возникла у него, когда он
преподавал русскую литературу в Японии: «В Японии июль —
самый жаркий месяц. А я как раз шел по улице, и из бара выбросили
на улицу большое количество льда. Когда лед этот захрустел под
ногами, мне явилась идея романа. Это не умозрительная идея, не
метафора. Вот эта идея разбудить теплое при помощи холодного,
нечеловеческого — она возбуждала»614. Однако у замысла
«Трилогии» есть еще один и гораздо более важный источник —
размышления Сорокина об акции группы «Коллективные действия»
«Произведение изобразительного искусства — картина», которая
состоялась 24 октября 1987 года. В ней писатель подробно описывает
испытанное им психическое переживание — «наблюдение пустот».
Накануне акции Сорокин размышляет о противоречии
«внешней нормальности и адекватности» своих спутников странному
«пустому действию», которое они готовятся совершить. «Постепенно
613 Сорокин В. Прощай, концептуализм! Интервью. С. 49.
614 Сорокин В. «Я так понял... Что я не понял...»: интервью [Электронный
ресурс] // Газета.Ru. 2004. URL: http://www.gazeta.ru/2004/09/14/oa_133419.
shtml (дата обращения: 01.10.2011).
254
эти мысли стали складываться в стойкое представление о
пустотелости моих спутников, об их своеобразной „накаченности"
пустотой, — пишет Сорокин, отделяя себя от „пустых оболочек" других
участников акции. — Эти оболочки пили, ели, смеялись, говорили
на любые темы, дурачились, топили печку, сохраняя всю
функциональность человеческого поведения»615.
Вскоре пустота заполняет в представлении писателя весь мир:
«Я стал чувствовать, что <...> все кругом, все вещи, вся земля и
все небо имеют под своей поверхностью ту самую черную
подкладку абсолютной пустоты. <...> Весь видимый мир был накачан
пустотой! И я один живой, теплокровный человек лежал среди этого
пустого мира, пил водку и внимал происходящему»616. Избегнуть
всеобщей участи автору все же не удается: «Оглянувшись, я
убедился, что ничем не отличаюсь от окружающих людей-пустышек,
потому что я уже не вижу в них пустышек. Я наивно полагал, что
они живые! Но на самом деле просто я сам стал пустышкой и
примкнул к этому миру».
Завершается эта жутковатая картина на позитивной ноте. От
погружения в мир тотальной пустоты Сорокина спасает тепло —
и в прямом, и в переносном смысле слова: «Дома я залез в ванну
и час отогревался. Вошла жена с чаем и конфетой. И она, и чай,
и конфета — все было настоящим. Так я снова стал человеком»617.
Образ «людей-пустышек», «накачанных» пустотой и
имитирующих «всю функциональность человеческого поведения», практи-
615 Сорокин В. Об акции «Произведение изобразительного искусства —
картина» // Поездки за город. С. 704.
616 «Именно в его (А. П. Чехова — M. М.) творчестве вся эта пленка милых,
деликатных и трогательных отношений пытается накрыть, затянуть жуткий
подкожный хаос (с точки зрения — жуткий и разрушительный), стремящийся вылезти
наружу и дыхнуть, смыть своим диким дыханием тонкую, смирительную пленку
культуры», — писал Д. Пригов в послесловии к сборнику рассказов Сорокина 1992 года,
проводя параллели между Чеховым и Сорокиным (Пригов Д. А им казалось: в
Москву! в Москву! // Сорокин В. [Сб. рассказов]. С. 116). Сорокин разделяет этот
взгляд на творчество Чехова. Говоря о чеховских реминисценциях в фильме
«Москва», он отметил: «Чехов всегда описывал мир на вершине вулкана, когда герои
ходят по тонкой корке застывшей лавы, под которой клокочет русский ужас. Герои
Чехова это подсознательно чувствуют, но не понимают. Поэтому они живут, как во
сне: они ощущают, что надвигается что-то, что сотрет их личную историю. Герои
„Москвы" — это люди, тоже попавшие в мир, стирающий их личную историю.
Потому они живут каждый день как последний» (Сорокин В. Комментарий к фильму
«Москва»).
617 Сорокин В. Об акции «Произведение изобразительного искусства —
картина». С. 705-706.
255
чески идентичен образу «мясных машин» в «Трилогии», которых
люди Света также именуют «пустышками».
Понятие пустоты занимает важнейшее место в эстетике
московского концептуализма618. «Вот это соприкосновение, близость,
смежность, касание, вообще всякий контакт с пустотой и
составляет, как нам кажется, основную особенность русского
концептуализма», — писал И. Кабаков619. Лаконичное и емкое определение
концепта «пустое» принадлежит А. Монастырскому: «Изначальная
убежденность в амбивалентности, обратимости понятия „пустого":
оно есть и абсолютное „ничто", и абсолютная „полнота".
„Пустое" — не временная или пространственная пауза, а бесконечно
напряженное поле, содержащее в потенции все богатство
разнообразных смыслов и значений»620.
В первый период творчества, отмеченный сильным влиянием
концептуалистских идей, Сорокин редко обращался к концепту
«пустота» / «пустое». В качестве непосредственного воплощения
этого концепта в его произведениях 1980-х годов можно
рассматривать разве что пустые страницы в романе «Очередь», пятую и
шестую части романа «Норма», когда поверх достигнутого в
результате саморазрушения текста значимого отсутствия накладываются
псевдолозунги, и финал романа «Роман». Однако данный концепт
занимает важнейшее место в книге «Пир», причем Сорокин
сознательно возводит его к художественной практике концептуалистов.
В этом произведении концепт «пустота» /«пустое» воплощается
уже не на стилистическом, как в «Норме» и «Очереди», а на
аксиологическом уровне и становится ведущей темой книги.
«Жрать пустое место», — провозглашает Сорокин в
заключение своего эстетического манифеста «Жрать!», посвященного
Л. Рубинштейну [III, 580]621. Повар Ю в одноименном произведении
нашпиговывает «внутрисумчатых» животных «марсианским
воздухом» [III, 442-443]. В рассказе «Лошадиный суп» «Бурмистров при
первой встрече с Ольгой делает заказ официанту: „Мне, пожалуй-
618 См. о нем: Суродина Н. Р. Лингвокультурологическое поле концепта
«пустота» (на материале поэтического языка московских концептуалистов): дис. ... канд
филол. наук. Волгоград, 1999. 189 с; Липовецкий М. Паралогии: Трансформации
(пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М., 2008.
С. 243-267.
619 Цит. по: Лейдерман H. Л., Липовецкий M. Н. Указ. соч. С. 15.
620 Монастырский А. Указ. соч. С. 75.
621 Связь «Жрать!» со знаменитым стихотворением Д. Д. Бурлюка «Из Артюра
Рембо» («Каждый молод, молод, молод...») несомненна.
256
ста, ничего". Позже он сам превращается в официанта: „Он зашел
справа от Оли и стал осторожно наполнять ее тарелку"; но тарелка
наполняется невидимым: „Видимой еды на тарелке становилось все
меньше и меньше. Зато росла невидимая часть"»622.
Следуя желанию Бурмистрова — Лошадиного Супа, Ольга
поглощает идею, образ еды, питается воздухом, пустотой. При этом
она теряет способность к приему настоящей, материальной пищи,
которая начинает представляться ей мертвой: «Оля впервые в
жизни увидела пищу, которую едят люди. Вид этой пищи был страшен.
И что самое страшное — она была тяжела какой-то окончательной
смертельной тяжестью. Наливающийся белым свинцом кусок лоб-
стера дышал смертью. <...> Лежащее рядом киви наплывало тяжким
замшелым булыжником, поджаренный тост наползал могильной
плитой» [III, 477-478]. Неожиданное открытие героини «Лошадиного
супа» схоже с аналогичным случаем, произошедшим с Бро во время
экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита: «Сидя в кругу,
я пил чай из кружки и смотрел на едящих людей. Пища их казалась
мне уродливой. Впервые за всю свою недолгую жизнь я вдруг
разглядел, что едят люди. Они ели либо мертвое, либо переработанное,
измельченное, перемолотое, высушенное» [Трилогия, 70].
Во сне Ольга понимает, что пустота «и есть НАСТОЯЩАЯ
ПИЩА». Не в силах обходиться без «невидимой пищи», героиня
возвращается к Бурмистрову: «Едва за ним закрылась дверь, новый
приступ сладких слез снизошел на Олю. Она беззвучно плакала,
откинув голову на прохладную и мягкую кожу кресла» [III, 481,
484]. В «Трилогии» очищающий «сердечный плач», которому
предшествует вещий сон, посещает всех новообретенных людей Света.
Со смертью Лошадиного Супа жизнь теряет для Ольги всякий
смысл и вместе с тем ей открывается «истинная» сущность
действительности: «Умер, — сказала она, и весь мир сжался. Ей вдруг
стало все видно в мире. И все было тяжелое и мертвое. <...> В
голове у нее пела сухая пустота. <...> Мертвый мир обтекал Олю
и расступался равнодушной тяжкой водой» [III, 487-489].
Невидимое и несуществующее становится для героини рассказа реальнее
и важнее видимого и существующего, а невозможность обладания
пустотой приводит ее к смерти.
622 Мерлин В. Гурманы невидимого: от «Собачьего сердца» к «Лошадиному
супу» // Солнечное сплетение. — 2003. — № 5/6. Автор несколько неточно
цитирует текст «Лошадиного супа»: Бурмистров говорит «Мне ничего, пожалуйста»
[III, 452].
257
Обладая иной фабулой, посвященный А. Монастырскому623
рассказ «Аварон»624 перекликается с «Лошадиным супом» отдельными
мотивами и сюжетной структурой. Общей оказывается и
проблематика произведений, которая наполняется в «Авароне» религиозным
смыслом. Главный герой рассказа, тринадцатилетний мальчик Петя
Лурье, невидимкой проникает в сельскую церковь и мистическим
зрением наблюдает за процессом моления. Он видит молитвы
верующих, поглощаемые светящимся квадратом иконы, и собирает
куски молитвы юродивого Фроловича, не поместившиеся в поле
иконы. Находясь в церкви, Петя чувствует «слоистые
покалывания слов»: «Вокруг все изгибалось и дробилось радугами
теребящих слов, слипающихся в вязкое слоистое месиво» [III, 371].
Духовная реальность материализуется, становится для Пети видимой
и осязаемой.
Оказавшись на улице, герой обнаруживает, что его согнутые
руки, державшие остатки молитвы Фроловича, прижимают к груди
пустоту: «Петя ничего не чувствовал в руках». Это «ничто»,
однако, дает ему «силу, бодрость и нарастающий с каждым шагом
разрешающий покой». Куски молитвы вновь становятся осязаемыми
при встрече Пети с божественным Червем, обитающим в Мавзолее
Ленина: «Петя ощутил знакомое по церкви ничто в руках, —
обрезки молитвы Фроловича появились, он держал их» [III, 372, 377].
Если в церкви Петя имел дело с духовной реальностью, то в
Мавзолее он соприкасается с реальностью метафизической, хотя и
инфернального толка.
Столкнувшись с божественным, герой теряет интерес к
материальному миру, а вместе с ним и к жизни: «Цепь потянули. Петя
попятился назад, к ступеням, ведущим в тоннель. И вдруг
почувствовал страшную тоску, и понял, что этот мертвый старик с желтым
лицом не стоит мельчайшего узора на божественной коже Червя,
а этот Мавзолей, куда идут на поклонение миллионы, всего лишь
623 Художественную аллюзию на творческую деятельность Монастырского
содержит также рассказ «Машина», в котором описывается фантастическое
устройство, трансформирующее слова в еду. Одна из фраз, которую Машина переводит на
кулинарный язык, звучит как «Гнилой Буратино требует модного клея». Согласно
«Словарю терминов московской концептуальной школы», «гнилые буратино» — это
«население „миров и сфер непостоянства"» (С. 35). См. также: Деготь Е. Указ.
соч. С. 249.
624 Б. Соколов обратил внимание, что литературный источник этого рассказа —
подростковые дневники Ю. В. Трифонова {Соколов Б. Владимир Сорокин. Пир).
См.: Трифонов Ю. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов. 1998.
№ 5. С. 95-132.
258
мертвый дом из мертвых камней. Ужасная скорбь парализовала
Петю. Цепь тянула его назад, в мертвый мир. Но Петя не хотел
туда» [III, 378]. Со словами «Пусть сияет» герой умирает.
Тематика пустоты, дематериализации, соприкосновения с
невидимыми духовными и метафизическими началами проходит сквозь
всю книгу «Пир». Ее неизменно сопровождает тема мертвенности,
тяжести625, уродливости окружающего мира. Физическая
реальность предстает в «Пире» воплощением смерти и абсурда и
теряет всякую ценность. Место истины занимает пустота, которая —
в полном соответствии с определением Монастырского — может
оборачиваться духовной наполненностью.
В концовке «Пира» звучит поэза И. Северянина «Villa mon
repos» (1921):
Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи,
Мясо наелось рыбы и налилось вином.
И расплатившись с мясом, в полумясном экипаже,
Вдруг покатило к мясу в шляпе с большим пером.
Мясо ласкало мясо и отдавалось мясу,
И сотворяло мясо по прописям земным.
Мясо болело, гнило и превращалось в массу
Смрадного разложенья, свойственного мясным626.
Представление в поэзе людей в виде бессмысленных кусков мяса
перекидывает мостик к неогностической концепции «Трилогии».
Контраст отчужденного и непосредственного
мировосприятияв романе «Лёд»
Роман «Лёд» писался как самостоятельное произведение. Идея
создать на его основе «Трилогию» возникла у Сорокина после
завершения работы над текстом: «„Лед" оказался по отношению ко
мне очень коварной книгой. У меня никогда такого не было,
чтобы написанная книга меня не отпускала. После „Льда" я
начинал писать два романа. Были довольно достойные идеи, но они не
пошли. И я вернулся ко „Льду", потому что чувствовал, что это
живая история, она растет сама собой, и от автора требуется, по
625 Ср.: «Этот мир слишком тяжел. Ненадежность, иллюзорность, ни на что
нельзя опереться. Разве что на смерть» {Сорокин В. Вести из онкологичесокй
клиники: интервью. С. 143).
626 В интервью журналу Time Out Сорокин назвал Северянина своим любимым
поэтом (Time Out. 2007. № Ю).
259
сути, только записывать»627. В связи с этим «Лёд» инкапсулировал
основные тематические и стилистические тенденции, которые
будут детально разрабатываться Сорокиным в романах «Путь Бро»
и «23 000». Противостояние Братства Света и «мясных машин»,
составляющее основной конфликт «Трилогии», реализовано во
«Льде» как на уровне содержания, так и стилистики и композиции
романа.
Его первая часть явно писалась Сорокиным с опорой на
собственные произведения 1980-х —начала 1990-х годов. В начале
«Льда» мы встречаемся с тем же стремлением к созданию иллюзии
максимального соответствия действительности, что и в «Норме»,
«Тридцатой любви Марины», «Сердцах четырех». Сорокин
прибегает к доскональной фиксации действий персонажей, сопровождая ее
скрупулезным описанием окружающих реалий, имитирует живую,
неолитературенную речь, использует переход на психологическую
точку зрения персонажа, элементы киноэстетики. Конечно, с тех
пор стиль писателя эволюционировал. Заметно усилилось влияние
эстетики кинематографа, связанное с тем, что до и во время
написания романа Сорокин работал над киносценариями628. Приемы
визуализации прозы в первой части «Льда» более выражены, за
счет чего достигается отчужденный и отстраненный взгляд на
современную реальность.
Это проявляется в неразборчивой, перечислительной фиксации
бытовых деталей, похожей на описание кинокадра: «Фары
высветили: бетонный пол, кирпичные стены, ящики с
трансформаторами, катушки с подземным кабелем, дизель-компрессор, мешки
с цементом, бочку с битумом, сломанные носилки, три пакета из
под молока, лом, окурки, дохлую крысу, две кучи засохшего кала».
Влияние сценарного стиля также ощутимо в представлении
персонажей: «Уранов: 30 лет, высокий, узкоплечий, лицо худощавое,
умное, бежевый плащ. Рутман: 21 год, среднего роста, худая,
плоскогрудая, гибкая, лицо бледное, непримечательное, темно-синяя
куртка, черные кожаные штаны. Горбовец: 54 года, бородатый, не-
627 Сорокин В. «„Лед" не отпускает меня»: интервью // Моск. новости. 2004.
№ 35. С. 27.
628 Речь идет о сценариях к фильмам А. Е. Зельдовича «Москва» и И. В. Дыхо-
вичного «Копейка» (оба —2001): «В своих последних произведениях — „Голубом
сале" и „Льде" — я использовал опыт, полученный мною во время создания
киносценариев для „Москвы" и „Копейки" совместно с режиссерами этих фильмов»
(Сорокин ß. «Тоталитаризм — растение экзотическое и ядовитое, крайне редкое
и опасное»: интервью).
260
высокий, коренастый, жилистые крестьянские руки, грудь колесом,
грубое лицо, темно-желтая дубленка» [III, 603-604].
Характерная для первой части «Нормы» перечислительная
интонация в романе «Лед» переходит в парцеллированный стиль: «Мэр
вздрогнула, всхлипнула. Разжала руки. Лапин бессильно выпал из
ее объятий на пол. Конвульсивно дернулся. Разжал зубы. Со
всхлипом жадно втянул воздух. Сел. Открыл глаза. Тупо уставился на
ножку кровати. Щеки его пылали» [III, 616].
Переход на психологическую точку зрения персонажа
выражается в «ступенчатой» передаче мыслей и ощущений, имитирующей
реальную смену впечатлений: «Она протянула руку над Лапиным.
Белоснежный халат зашуршал. Лапин почувствовал запах ее
духов. Посмотрел на открытый ворот халата. Гладкая красивая шея.
Родинка над ключицей. Золотая тонкая цепочка» [III, 611]. При
этом в первой части «Льда» почти отсутствует проникновение во
внутренний мир персонажей.
Повествователь занимает равнодушную,
холодно-незаинтересованную позицию, занимаясь методичной и бесстрастной фиксацией
событий. Если в первой части «Нормы» за счет описания жизни
разных слоев населения создавалась более или менее объективная
картина времени, то в первой части «Льда» изображаемое носит
односторонний характер. Сорокин сосредоточивается на описании
жизни низов общества: наркоманов, проституток, преступников.
Беспощадный мир изображается при помощи адекватного ему
«жесткого» стиля. На эту черту указывал сам писатель: «Первая
(часть — M. М.) кому-то, возможно, напомнит „Сердца четырех4',
но написанные в еще более лаконичной и жесткой манере»629.
Современный мир — так, как он изображен в первой части «Льда», —
дан если и не с точки зрения Братства Света, то, по крайней мере,
близок к их рассмотрению людей как бездушных «мясных машин».
Крайняя дистанцированность автора от происходящего в еще
большей мере высвечивает жестокие и уродливые черты окружающей
реальности, превращая ее в царство абсурда.
Тем острее контраст первой части романа с
пронзительно-искренним повествованием, которым открывается вторая часть
произведения. Хотя действительность военного времени,
изображаемая автором, носит еще более жестокий характер, стиль первой
части «Льда» сменяется антиподом. Происходящее описывается
Сорокиным одновременно с «наивной» народной и детской точки
629 Сорокин В. «Я написал „Лед" вместе с собакой Саввой»: интервью.
261
зрения — выросшей в деревне восьмилетней Вари Самсиковой, за
счет чего достигается полностью непосредственный взгляд на мир.
«А мы хорошо ели, — описывает Самсикова свою жизнь в
деревне. — Лошадь держали, корову, двух свиней, гусей да курей. Сало
у нас всегда было. Маманя как, бывало, утром яишню зажарит на
большой сковороде — в сале все так и плавает! Хлебушко
возьмешь, как начнешь макать — страсть! А после — блины грешневые
с творогом. Намакаешься, молоком топленым запьешь — ух как
вкусно! Да и мед у нас был, на базаре покупали. И сапожки мне
отец на базаре купил, и куклу Принцессу, и четыре книжки, чтоб
читать училась» [III, 717].
После «пробуждения» взгляд Самсиковой на мир начинает
меняться, что выражается в стилистической трансформации, удачно
описанной О. Богдановой: «Постепенно преображающаяся
героиня <...> производит <...> одни и те же действия или следит за
действиями другого персонажа, но называет их (и вовлеченные в
действие предметы) разными словами: в первый раз — „Я
занавеску приподняла..." <...>, во второй — „Шторы с окна отдернула,
гляжу" <...>; или: в первый раз — „Уложил на кровать, одеялом
покрыл. Вскочил <...> дверь отпер и выбежал" <...>, во второй
раз — „Он встал, оделся. Уложил меня в постель, одеялом
накрыл. И ушел" <...>. „Шторы" в сравнении с „занавеской",
„постель" — с „кроватью", „накрыл" — с „покрыл" звучат более
литературно»630.
Окончательно стиль меняется после «сердечного плача». Из
рассказа Самсиковой исчезает неподдельная искренность и
детская восторженность, просторечная лексика, воспоминания о
деревенской жизни. Повествование становится более сдержанным,
местами холодно-равнодушным, более близким к письменной, чем
к устной речи, приобретает фрагментарный характер. Открытость
навстречу миру сменяется замкнутостью и незаинтересованностью.
Это сближает концовку второй части «Льда» с первой частью
произведения. Пользуясь терминологией Б. А. Успенского, авторская
точка зрения в данном случае является внутренней по отношению
к описываемому персонажу и внешней по отношению к самим
описываемым действиям631.
630 Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской
литературы (60-90-е годы XX — начало XXI века). СПб., 2004. С. 429.
631 Успенский Б. А. Поэтика композиции / / Он же. Семиотика искусства. М.,
1995. С. 168.
262
Показательно, как описывается пробуждение героев в первой
части произведения и в начале и концовке второй части:
Лапин очнулся в три часа дня. Он лежал в небольшой одноместной
палате. Белый потолок. Белые стены. Полупрозрачные белые занавески на
окне. На белом столике с гнутыми ножками ваза с веткой белых лилий.
Невключенный белый вентилятор.
Открыла глаза: вижу, как комната маленькая. И качается слегка.
Глянула — рядом со мной окно, а на нем занавеска. А в занавеске-то
прощелина, а там лес мелькает.
Я очнулась. Больничная палата. Потолок с шестью плафонами. Сестра
прикладывала мне что-то к лицу. Полотенце, смоченное горячей водой.
Запах спирта. След от укола на локтевом сгибе [III, 610, 728, 784].
Остраненное восприятие действительности
в романе «Путь Бро»
В романе «Путь Бро» внешняя точка зрения становится
центральным приемом изображения, позволяя создать масштабную
картину абсурдности мироздания. Хронологически «Путь Бро»
является приквелом «Льда», то есть содержит предысторию описанных
в этом романе событий. В окончательном тексте «Трилогии»
Сорокин поставил «Путь Бро» на первое место, так как
религиозная идеология Братства Света изложена в нем с максимальной
полнотой.
Роман выдержан в форме повествования от первого лица —
основателя братства Александра Снегирева. Психологическая
трансформация, через которую проходит Снегирев, найдя космический
лед, аналогична изменению мироощущения Вари Самсиковой
после «пробуждения» ее сердца. Вот как описал эту мутацию
Сорокин: «Превратившись из Саши Снегирева в Бро, герой начинает
видеть мир людей отстраненно и сугубо функционально. Люди для
него — всего лишь „мясные машины", существующие только для
продолжения рода. По мере перерождения героя мутирует и
эмоционально усыхает язык описания им окружающего мира»632.
Несмотря на явное сходство, процесс «перерождения»
происходит в «Пути Бро» иначе, чем во второй части «Льда». Отчуждение
главного героя от мира людей начинается задолго до того, как он
отправляется на поиски льда. Даже в начале произведения, при
описании детских лет, отсутствует характерное для Самсиковой радост-
632 Сорокин В. Меа culpa?
263
ное приятие мира. О своем детстве герой рассказывает в
спокойно-нейтральной манере, не схожей с непринужденной задорностью
рассказа Самсиковой. В отличие от последней, распахнутой
навстречу реальности, Снегирев замкнут в себе. Поэтому стилистическая
метаморфоза, хорошо ощутимая во второй части «Льда», почти не
чувствуется в «Пути Бро». За редкими исключениями, рассказ Бро
остается на всем протяжении повествования
равнодушно-нейтральным, а его мировоззренческая эволюция заключается во все большем
отстранении от мира людей. Не случайно Сорокин охарактеризовал
стиль романа как «плавно мутирующее языковое поле»633.
Отчужденность мотивирована в романе двояко: мистически
и психологически. С одной стороны, Снегирев — первый человек,
чье сердце пробудилось ото «сна», первый, кто осознал
неискоренимую порочность земного мироустройства, а потому он предстает
своеобразным пророком, а его биография напоминает житие. Уже
с детства герой предрасположен к тому сугубо функциональному
восприятию действительности, которое он приобретет
впоследствии. Рассказывая историю своей жизни, Снегирев не раз
подчеркивает необъяснимые изломы судьбы, ту роковую силу, которая
вела его ко льду. С другой стороны, он в силу естественных
психологических особенностей воспринимает действительность более
ранимо, чем Самсикова, а отдельные непонятные для ребенка
моменты шокируют его. Это подчеркивается частыми в «Пути Бро»
случаями наивного (остраненного) восприятия мира. В начале
второй части «Льда», напротив, нет случаев явного остранения:
события воспринимаются Самсиковой как естественные, в крайнем
случае, как странные, но никогда — как непонятно-шокирующие.
Рассказывая о своем детстве, Снегирев уделяет особое
внимание знакомству «с двумя верными спутниками человечества —
насилием и любовью». С первым Снегирев знакомится, наблюдая
массовую драку мужиков. Выросший в тепличной атмосфере
помещичьей семьи, он не понимает смысла происходящего. Оно
одновременно и интересует, и пугает его: «Люди в овраге делали что-то
очень важное. Делали тяжело. Но очень старались. Так старались,
что чуть не плакали. Они кряхтели, ругались и вскрикивали. И
словно что-то отдавали друг другу кулаками». Драка происходит
после окончания церковной службы в Вербное воскресенье.
Насилие в людской среде противопоставляется только что завершив-
633 Там же.
264
шемуся богослужению и царящему в природе умиротворению:
«Погода стояла весенняя, светило солнце, остатки снега хрустели под
ногами» [Трилогия, 16-17].
С затаенным ужасом наблюдая за схваткой мужиков, герой
впервые осознает свою отчужденность от окружающего мира,
чувствует себя одиноким и потерянным: «Я взял Настину руку. Настя
смотрела на драку как-то непонятно. Она словно перестала быть
сестрой. И стала далекой и взрослой. А я остался один. <...> На-
стина рука была горячей и чужой». Настя, до этого случая бывшая
едва ли не единственным членом семьи, с которым у героя
складывались полноценные отношения, отдаляется от него, становясь
частью чужого и пугающего мира взрослых: «Но я так и не понял,
что это за подарок. А Настя и другие взрослые — понимали. Но не
говорили. Мне вообще многое не говорили. Тайны мира я открывал
сам» [Трилогия, 18].
Со следующим «верным спутником человечества» Снегирев
знакомится, случайно подглядев за свиданием горничной и слуги. Как
и в ситуации с дракой, герой описывает увиденное с буквальностью
наивного восприятия: «Они стояли с ней на коленях и, обнявшись,
сосали друг другу рты. Я никогда не видел, чтобы люди так
делали. <...> Наконец рты их разошлись, и кудрявый худощавый Клим
стал расстегивать Марфушино платье. Это было совсем
непонятно. Я знал, что снимать платье с женщин может только доктор»
[Трилогия, 19-20].
Отдельно следует упомянуть о многочисленных в начале романа
случаях наивного восприятия ребенком языка взрослых. Новые для
Снегирева слова или непривычное словоупотребление выделяются
в тексте курсивом {«капитальные огнеметы», «он занимался уже
не только сахаром», «это считалось неуместным»). Иногда герой
воспринимает незнакомые слова и явления, образно
интерпретируя их: Дума кажется ему Пацюком из «Рождественской сказки»
Гоголя, а революция представляется в образе Снежной королевы.
В силу естественной неразвитости языкового сознания, главный
герой не понимает метафор, которые употребляет в речи его отец:
«Когда он кричал в телефон, до моего уха долетали диковинные
фразы: „американская резина еще возьмет нас за горло", „эшелон
с сухарями преступно забыт в пакгаузах", „мерзавцы из Земго-
ра Юго-Западного фронта режут меня без ножа", „шесть вагонов
мыльной стружки застряли на узловой" и так далее». Иногда
происходит обратный процесс: мальчик буквально понимает метафо-
265
ры. Именно так он воспринимает слова отца о том, что Милюков
и Родзянко «угробили» и «похоронили» Думу: «Я похолодел: Дума,
этот невидимый и могучий Пацюк, два года проживший с нами,
убита и закопана» . Буквальное понимание может приобретать
комические обертоны: «Неведомый „совдеп", со слов отца, засел
в Таврическом и первым делом выпил все вино и украл серебряные
ложки из ресторана. Революционные массы часто проплывали под
нашими окнами, о временном правительстве непрерывно говорили
все, даже кухарки, а хвосты за хлебом росли и росли» [Трилогия,
23, 29]. Так своеобразно преломляется в романе прием
реализованной метафоры.
Итак, уже с первых страниц в повествовании возникают
важнейшие для романа «Путь Бро» темы странного и пугающего мира
и непонятного языка, на котором говорят люди. Они естественно
вплетаются в художественную ткань произведения за счет того, что
автор смотрит на мир наивно-непосредственным взглядом ребенка634.
Это восприятие действительности ляжет в основу взрослого
мировоззрения героя. «Пробудившийся» Бро будет смотреть на мир
во многом так же, как маленький Саша Снегирев. До глубины души
потрясенный в детстве сценами насилия и любви, главный герой
понимает «всем своим маленьким существом, что и то, и другое —
очень важно для людей. Иначе бы они не делали это с такой
страстью и силой». «Музыка Вечной Гармонии», в которую сердцем
«вслушивается» Бро, говорит ему, что «у людей за всю их историю
было три основных занятия: рожать людей, убивать людей и
использовать окружающий мир» [Трилогия, 21, 84]. В той же
последовательности сменяются темы видений главного героя. В детстве
речь взрослых казалась Снегиреву «диковинной» из-за наличия
в ней непонятных слов и выражений и неразвитости языкового
сознания героя. Для «прозревшего» Бро восприятие человеческой
речи как убогой, уродливой и ненужной станет нормой.
В дальнейшем развитии темы отчуждения и остраненного
восприятия мира большую роль сыграл взрыв, которого чудом избежал
Снегирев: «Взрыв выбил из меня не только детство. Но и что-то
еще. Он словно отрезал от меня прошлое. А вместе с прошлым —
любовь к нему». Психологическое потрясение и гибель родных
631 Стилевая организация первых глав «Пути Бро» сложнее восприятия
действительности глазами ребенка, так как полного отождествления повествователя
с юным Александром Снегиревым не происходит. Тем не менее, установка на
наивное восприятие мира доминирует в начале произведения.
266
вполне естественно привели к замкнутости: «Надо сказать, что
взрыв не только отделил от меня прошлое. Он как бы остановил
меня. До него я был живым, общительным, смешливым и
непоседливым мальчиком. <...> После взрыва все изменилось: я стал
молчаливым, замкнутым, малоподвижным, задумчивым и
необщительным» [Трилогия, 36, 41].
То, что взрыв имеет важное значение в становлении
мировоззрения Снегирева, подчеркивается и стилистически. Плавное
течение повествования сменяет напряженный, отрывочный,
насыщенный парцелляциями стиль: «Меня сильно зазнобило, я зевнул со
стоном, во весь рот. И вдруг грохнуло совсем рядом. И зазвенели
стекла в домах. И лошадь всхрапнула и дернула. И моя
жестяная коробка с дорогим выскользнула из рук. И покатилась по
дорожной наледи». Появляется характерная для первой части «Льда»
ступенчатая манера передачи впечатлений с переходом на
психологическую точку зрения героя: «Это была нога в черном ботинке.
И с полосатым серо-сине-белым шерстяным носком. С модным
американским носком. Носком Эрнесткюбаидвадодона. Из носка
торчала розовая нога. И из ноги торчало. Что-то» [Трилогия, 34-35].
Наряду с психологической мотивировкой в романе
появляется тема мистической предназначенности главного героя, которая
начинается с мотива безразличия к жизни и полной покорности
судьбе. Словно роковая сила оберегает Снегирева в смутную
послереволюционную эпоху: «Все четыре года я куда-то постоянно
ехал, ехал и ехал. <...> Я не понимал, куда я еду и зачем. Но меня
везли. <...> Обо мне заботились. Меня передавали с рук на руки,
как словно дорогую вещь, навсегда потерянную хозяином.
Которую почему-то непременно нужно сохранить. Во всем этом было
какое-то чудо» [Трилогия, 37].
Равнодушие главного героя к происходящему вокруг нарастает.
Его не волнуют школьные дисциплины, он не испытывает интереса
к университетским дискуссиям. Отчуждаясь от живой жизни,
Снегирев все более ощущает сопричастность мертвому миру планет
и звезд. Непостоянной живой материи противопоставляются
мертвые тела, обладающие совершенной гармонией: «Бродя по Питеру,
я трогал камни. Мне нравилось класть руки на прохладный гранит.
От камней шел покой, которого не было в людях <...>, мир людей,
их страсти и устремления — все это казалось мелким, суетливым
и недолговечным. На это нельзя было опереться, как на камень.
<...> Мир планет и камней был богаче и интересней. Он был ве-
267
чен». В латентной форме эта тема присутствовала ранее: Снегирев
родился в отцовском кабинете, где стояли «массивные белые
конусы из крепчайшего рафинада», которые вошли в его память
«наравне с образами матери и отца» [Трилогия, 42, 10].
Все живое, незавершенное и недолговечное кажется людям
Света уродливым, так как оно лишено гармонии и совершенства,
свойственной мертвым телам. В романе «Лёд» присматривающая
за Лапиным медсестра рассказывает ему о случае в своей жизни,
после которого ее глаза из серых превратились в голубые, что
свидетельствует о возможной принадлежности к братству. «И отец
повел меня на свой завод, — говорит медсестра. — Показать какую-
то чудесную машину, которая собирала часы. И когда я ее увидела,
я просто окаменела от счастья. Она так работала, так потрясающе
работала! Не знаю, сколько я стояла: час, два... Пришла домой,
завалилась спать. А на следующее утро мои глаза поголубели»
[Трилогия, 247].
В отличие от сестры Харо, Бро чувствует от работающих
станков и механизмов «сильное раздражение и угнетение» [Трилогия,
43]. Герою ненавистен сам феномен движения, что является
одной из причин отождествления людей и машин, между которыми
Бро не видит никакой разницы. Особенно рельефно это проявилось
в остраненном стиле последних глав: «Мясные машины яростно
клубились. Они собирались. Рыли землю, плавили металл,
громоздили камни. И строили железные машины. Машины для убийства
мясных машин. Тысячи железных машин выстраивались в ряды и
цепочки. Они ползли по земле. Копились в каменных
пространствах. Их натирали специальным жиром. Из недр Земли
высасывали тяжелую кровь. И заливали в железные машины. Машины
питались тяжелой кровью Земли. Они рычали и ревели. И
готовились давить и убивать» [Трилогия, 205]. Глагол «ползти», который
обычно используется для характеристики живых существ,
применен в этом фрагменте к описанию машин, в то время как нефть
названа «кровью Земли».
Неискоренимой порочности «мясных машин»
противопоставляется «невинность» людей Света, а их мировоззрение
представляется как новый, непосредственный взгляд на мир. Идя к
вожделенному льду, Снегирев снимает с себя всю одежду: плывя по болоту,
он сравнивает себя с лягушкой, а когда карабкается на ледяную
глыбу — с ящерицей. Обретя лед, Бро ведет себя как первобытный
человек: «Я легко поднял массивный кусок, показал его бледному
268
утреннему небу. И закричал». Тема полного отказа от
человеческой цивилизации и культуры и «возвращения к истокам»
неоднократно возникает на страницах романа: «В небольшом, но
уютном каминном зале мы разожгли огонь, опустили шторы, сбросили
с себя убогие человеческие одежды, опустились на ковер и
замерли, обнявшись. <...> Глядя, как мы, голые, озаряемые сполохами
каминного пламени, с наслаждением едим фрукты, Иг любовался
нами» [Трилогия, 86, 135]635.
В другой сцене романа Бро и сестра Фер предстают новыми
Адамом и Евой: «Я пошел в столовую. Чтобы взять там пару яблок
и съесть. Там пахло пищей для мясных машин. Большая столовая
была полна мясных машин. Они энергично ели борщ, солонину
с перловой кашей, пили чай с сахаром. Я смотрел на них. Морды
их клубились. Они потели. Им было хорошо. Они напомнили мне
цех на механическом заводе. Мясные машины сидели и поглощали
пищу. Ложки стучали, зубы жевали. Это был цех по
переработке пищи. Вдруг я заметил сестру Фер. Она вошла в столовую.
И угрюмый мир мясных машин раздвинулся, Фер была ДРУГОЙ!
Я подошел к ней. Мое сердце заговорило с ней. И я увидел ее
всю. Всю ее жизнь. Фер поняла, что я вижу. Она взяла с подноса
яблоко и вложила мне в руку. Пальцы наши сжали яблоко. Оно
треснуло» [Трилогия, 185].
Общаясь сердцами, герои проникаются отвращением к
человеческому языку. Нежелание говорить посещает Снегирева еще до
соприкосновения с божественным льдом: «Глядя на языки пламени,
ползущие по сухим сучьям, я вспомнил свое прошлое. Оно
показалось мне призрачным и зыбким. И стояло передо мной застывшей
картиной под стеклом, словно гербарий в музее. И эта картина
не вызывала никаких чувств. Благополучное детство, налетевшая
как смерч революция, потеря семьи, скитания, учеба, одиночество
и сиротство — все навсегда застыло под стеклом. Все стало про-
635 Ср. с «Голубым салом»: «ГС — коллективный ханкун мудень, в котором
отсутствие любой гниды кладет под rezak весь проект. Понимая это, мы ВСЕ в 20.00
вышли наверх, разделись, составили большое кольцо и совершили старую добрую
самадхи Лта-на-дуг. Мандалу на снегу солдаты выложили синим песком. Полярная
ночь стояла чудесная: высокие звезды, северное сияние, безветрие» [III, 17].
«Путь Бро» можно рассматривать как вариацию на тему «естественного
человека». «Я только отчасти разделяю идеи Руссо, — отметил Сорокин. — Мы с ним
очень разные: он отослал своих детей в интернат — надо сказать, я этого не делал.
Потом он очень верил в просвещение, я же во многом сомневаюсь. Мне кажется,
что книги разъединяют людей» (Сорокин В. «Я литературный наркоман, но я еще
умею изготовлять эти наркотики»: интервью).
269
шлым. И отделилось от меня. Настоящим была только новая
радость моего сердца. Она была сильнее всего. <...> Я не ответил.
Мне ужасно не хотелось говорить. Каждое слово возвращало меня
в прошлое. Ответить Кулику „спасибо, со мной все в порядке"
означало вернуться назад, за стекло»™. Освободившись от
людского общества, Снегирев чувствует колоссальное облегчение:
«Ненавистный рой слов, словно гнус, преследовавший меня весь этот
месяц, рассеялся, уплыл вместе с людьми. Абсолютная тишина
мира потрясала» [Трилогия, 68-69, 79].
Как было показано в первой главе книги, слова «сердечного
языка», на котором общаются люди Света, схожи с футуристическим
заумным языком. В «Декларации слова как такового» А. Крученых
проводил прямую параллель между заумью и речью первочеловека:
«Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и,
как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно
слово лилия, захватанное и „изнасилованное". Поэтому я называю
лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена»637.
А. Немзер проницательно заметил, что стиль романа «Путь
Бро» плавно скользит от «„барских мемуаров" через пародийные
копии типовой прозы о 20-х годах и приключенческих саг
(поиски Тунгусского метеорита отдают „Затерянным миром" и „Землей
Санникова"), экскурсы в соцреалистический дискурс <...> к остра-
ненному повествованию последних глав, сделанных как бы под
Льва Толстого»638. Устные мемуары Бро в той же мере отражают
историю России первой половины XX века, в какой они отражают
историю русской литературы указанного периода. Внешняя точка
зрения является в романе не только следствием идеологической
позиции героя-рассказчика, но и позволяет автору соединить
различные стилевые пласты, служит композиционным приемом,
придающим роману целостность.
636 Несомненен автобиографический подтекст этой сцены. В интервью сайту
«Грани.Ру» Сорокин связал свой отстраненный и отчужденный взгляд на человека
и культуру с личными обстоятельствами: «В юности у меня был период — я
страшно заикался, практически не мог говорить. Оказался изолирован, как если бы жил
за стеклом, хотя был довольно живой, веселый мальчик, гораздо более подвижный,
чем сейчас, энергичный. Но вот эта дистанция между мной и миром сохранилась
навсегда, есть и сейчас. А литература создает некоторый щит между миром и мной»
{Сорокин В. «Литература создает некоторый щит между миром и мной»: интервью).
637 Крученых А. Декларация слова как такового / / Он же. К истории русского
футуризма. С. 287.
638 Немзер А. Хрен редьки не слаще // Время новостей. 2004. № 168. С. 10.
270
Благодаря использованию широкого спектра остраняющих
приемов Сорокину удалось создать в «Трилогии» масштабную картину
абсурдности жизненного бытия. В этом произведении мы
встречаемся дело с еще более радикальным неприятием действительности,
чем это было, скажем, в «Тошноте» Ж.-П. Сартра. Мир «мясных
машин» для людей Света — это даже не рвотное (А. Крученых,
«Смерть художника»), а просто ошибка, результат неверной
комбинации атомов. Сам писатель охарактеризовал «Путь Бро» (и,
очевидно, всю «Трилогию») как попытку «критики человечества с некой
новой точки зрения» и добавил: «Если говорить о наиболее близкой
мне идее, выраженной в романе, то это, безусловно, глубочайшее
разочарование в современном человеке и в цивилизации»639.
* * *
Вскоре после выхода романа «Лёд» был опубликован рассказ
«Хиросима», заостряющий заявленную в романе проблематику640.
«Хиросима» состоит из пяти прозаических миниатюр, объединенных
мотивом удушения. Душат друг друга бизнесмены и бомжи,
старухи и дети, мужчины-гомосексуалисты и имитирующие половой
акт пятилетние девочки. Душат в приступе пьяной радости и
ненависти, для усиления сексуального удовольствия и от
безысходности и нищеты, во время сексуальных игр и имитации превратно
понятого полового акта641. Человечество изображается Сорокиным
в апокалиптическом свете, как одержимое смертоносным
насилием, охватившем все социальные, профессиональные и
половозрастные группы населения.
Воплощением апокалипсиса становится ядерный взрыв, к
которому уже однажды привела неконтролируемая эскалация насилия:
«Это был невероятно просторный, пепельно-серый ландшафт,
озаряемый с темно-фиолетового неба огромной полной луной.
Несмотря на ночь, было светло как днем. Луна подробно освещала
невысокие руины выжженного города. <...> В руинах и пепле лежали
покалеченные взрывом люди. Некоторые стонали, некоторые были
639 Сорокин В. «Я не брат Света, я скорее мясная машина»: интервью. С. 13.
610 См.: Playboy. 2002. № И. С. 148-151.
611 О сексе как о насилии Сорокин говорил в интервью Л. Горалик: «Если мы
взглянем на секс глазами ребенка, то увидим, я думаю, только насилие —
угрожающее и совершенно непонятное, что страшнее всего. Отец душит мать? Может быть,
поэтому, собственно, и нет у нас языка для разговора о сексе — все колеблется
между удовольствием и болью, между насилием и наслаждением, разделить трудно»
{Сорокин В. «Литература создает некоторый щит между миром и мной»: интервью).
271
уже мертвы». В постапокалиптическом ландшафте появляется
мистический персонаж: «Посреди руин шла обнаженная женщина. От
ее белого, облитого лунным светом тела исходил завораживающий
покой. Она не принадлежала миру, по праху которого ступала».
Игнорируя людские стоны, женщина останавливается возле
смертельно раненной щенной суки и помогает ей родить пять щенков:
«Женщина взяла их на руки, приложила к своей груди. И слепые
щенки стали пить ее молоко»642.
А. Немзер с раздражением пишет об «ором орущем о своей
многозначительности и загадочности»643 финале «Хиросимы», хотя
смысл концовки этого рассказа аллегорически прозрачен. В период
работы над «Трилогией» Сорокин неоднократно говорил о том, что
считает животных более совершенными созданиями, чем людей.
По словам писателя, он написал «Лёд» под впечатлением от
общения со своей (ныне покойной) собакой Саввой644. Именно щенков,
а не спровоцировавших ядерную катастрофу людей, спасает в
конце произведения мистическая сила. Как отмечает А. Л. Зорин,
в лице Сорокина перед читателями предстал «быть может, самый
непримиримый критик мироздания и природы человека, которого
только знала русская литература»645.
Резюме главы
Абсурдная образность и мотивика играют ключевую роль уже
в ранних текстах Сорокина. В произведениях 1980-х годов
абсурдистский эффект возникал, в основном, за счет парадоксальных
лингвостилистических манипуляций и алогичных дискурсивных
переходов. В более позднем творчестве категория абсурда
приобретает для Сорокина не только эстетическое, но и философское
измерение, становится выражением начал, присущих, по его мнению,
самой действительности.
Наиболее отчетливое выражение категория абсурда нашла
в драматургии Сорокина, который создал уникальный по своей
самобытности и целостности абсурдистский театр в русской
литературе. В «Пельменях» Сорокин последовательно доводит до абсурда
разные речевые типы: поток сознания маразматика, чиновничье
арго, разговорно-бытовую речь. В «Землянке», в полном соответ-
642 Сорокин В. Хиросима / / Он же. 4. С. 48-49.
643 Немзер А. Клону — клоново // Время новостей. 2005. № 81. С. 10.
644 Сорокин В. «Я написал „Лед" вместе с собакой Саввой»: интервью.
645 Зорин А. О котлетах и мухах / / Он же. Где сидит фазан... М., 2003. С. 65.
272
ствии с принципами драмы абсурда, выстраивает действие как
развертывание картины. В «Юбилее» и «Дисморфомании» подвергает
деконструкции традиции классической русской (пьесы А. П.
Чехова) и зарубежной (драматургия У. Шекспира) драмы.
Роман «Сердца четырех» является самым масштабным,
сложным и многослойным абсурдистским произведением Сорокина.
«Сердца четырех» можно назвать классическим
постмодернистским романом, так как Сорокин подрывает в нем сущностные
характеристики литературы как вида искусства, создавая иллюзию
коммуникативного акта. Найденные прежде приемы абсурдизации
художественного текста представлены в этом произведении в
концентрированном виде, что делает его удобной моделью для
рассмотрения специфики сорокинского абсурда 1980-х годов.
Создававшаяся в начале 2000-х годов романная «Трилогия»
стала первым произведением, написанным Сорокиным в новой,
непостмодернистской стилистике. В романах-мифах «Трилогии»
категория абсурда приобрела онтологическое измерение. Опираясь
на гностические идеи и используя широкий спектр остраняющих
приемов, Сорокин создал масштабное повествование об
абсурдности жизненного бытия.
273
Заключение
На основании проведенного исследования можно сделать вывод,
что художественные феномены зауми, гротеска и абсурда
являются краеугольными камнями поэтики Владимира Сорокина. Анализ
аксиологических оснований его творчества показал, что обращение
к абсурдистскому эстетическому комплексу было
предопределено сложным спектром этических, историософских, литературных
и религиозных взглядов писателя. Исходной точкой становления
его абсурдистской поэтики, видимо, следует считать физические
и психологические травмы, перенесенные Сорокиным в детстве.
Они обусловили как само обращение к литературному творчеству,
так и восприятие человеческой жизни в качестве тягостной ноши
и болезненное внимание к проявлениям насилия.
Такое мироощущение привело, с одной стороны, к тяготению
к эстетике безобразного и хаотическим, несемантизированным
художественным формам. С другой стороны, оно же вызвало
пристальный интерес к величественным и монументальным формам
тоталитарной эстетики. «Есть два полюса — хаос и порядок, — сказал
писатель. — Меня оба они привлекают, как магнит. Меня качает
между жесткими и хаотическими структурами. В этом и спасение:
сегодня одно, завтра — другое»646. Именно в таком мировосприятии
коренится причина бинарной структуры его произведений.
Сорокин начинает писать в наивно-реалистической манере, но
вскоре рецептирует традицию позднего модернизма, активно
используя гротескно-абсурдистскую образность. Под воздействием
визуальных практик концептуализма, поп- и соц-арта писатель
вырабатывает собственную поэтику, не имеющую аналогов в русской
литературе. В основе творческого метода Сорокина лежит
дистанцированное отношение к литературе, восприятие художественного
произведения как предмета, с которым возможны любые
манипуляции. Эта установка вырывает литературное произведение из
этического контекста, делает невозможным восприятие литературы как
«учебника жизни», а автора превращает в искусного ремесленника.
Такое понимание задач искусства идет вразрез с традициями рус-
646 Сорокин В. Вести из онкологической клиники: интервью. С. 142. О
категориях порядка и беспорядка в понимании Сорокина см. его дневниковую запись
«Между»: Сноб. 2010. 24 марта. URL: http://www.snob.ru/selected/entry/15403.
274
ской классической литературы, но созвучно исканиям русского и
западноевропейского авангарда и постмодернизма.
Уникальная особенность творчества Сорокина состоит в том,
что он оригинальным образом связал постмодернистские игры
концептуалистов и поп-артистов с идеей русской философии об
ответственности русской классической литературы за события истории
России XX века. Основополагающая для постмодернизма борьба
с авторитарной» силой текста сохранила в произведениях
Сорокина свои исходные предпосылки и задачи. В то же время благодаря
писателю она приобрела национальную специфику, значительный
историко-культурный и нравственный смысл.
Сорокин принадлежит к числу наиболее самобытных
экспериментаторов с концептом заумного языка в русской литературе
XX века. Можно говорить не только о наследовании писателем
традиций русского кубофутуризма, но и об их оригинальном
развитии. Начиная с рассказа «Заплыв», использование разных видов
зауми, от фонетической до супрасинтаксической, станет одной из
констант его творческой манеры. При этом вплоть до романа «Лёд»
прослеживается тенденция объединения заумного дискурса с
имитацией соцреалистического стиля.
В «Норме» Сорокин сделал первые подступы к теме абсурдности
советской действительности в частности и русской жизни
вообще — теме, которая вскоре станет доминантной в его творчестве.
Обращение к зауми — этому, по характеристике В. П. Григорьева,
«предельно антинормализаторскому»647 стилю — было
закономерным. Заумь и абсурдизм, помимо их глубинной связи с тем, что
Сорокин позднее назовет «русской метафизикой», стали хорошим
подспорьем в творческой полемике с соцреализмом как стилем
предельно нормализаторским. Заумный язык занял не последнее место
среди тех «инструментов», которыми Сорокин разрушал «бетонную
стену под названием „советская литература"»648.
В романе «Голубое сало» автор, опираясь на авангардистские
традиции, предпринял удачную попытку конструирования
собственного варианта заумного языка. Писателю удалось органично
совместить диссонирующие стилистические и языковые пласты,
искусным образом создавая эффект ускользающего,
неопределенного смысла. Получившийся в результате «новорусский язык» стал
617 Григорьев В. Заумец и Главздравсмысел // Заумный футуризм и дадаизм
в русской культуре. С. 11.
618 Сорокин В. Доктор Сорокин: интервью. С. 88.
275
одним из самых интересных вариантов зауми, когда-либо
создавшихся в русской литературе. Сорокинская «новозаумь» выразила
дух конца XX века не в меньшей мере, чем футуристическая заумь
отвечала умонастроения начала столетия.
В «Трилогии» Сорокин использовал заумный язык в его
изначальной сакральной функции. В отличие от предыдущих
произведений писателя, в которых заумь фигурировала как язык сакрального
общения, в данном случае ее спорадические включения
обусловлены не столько стилистическими задачами, сколько
неомифологическим контекстом произведения.
Использование Сорокиным заумного языка в контексте соцре-
алистического дискурса можно считать частным случаем
экспериментирования с гротесковыми формами. При расширительном
толковании гротеска по принципу содержательной контрастности
его можно считать несущей конструкцией подавляющего
большинства произведений Сорокина. Для писателя типично стремление
к созданию правдоподобной, а иной раз максимально
приближенной к действительности художественной реальности, в которую
автор искусно вкрапляет фантастические мотивы, создавая
характерную для гротеска ситуацию неустойчивого равновесия между
жизнеподобием и вымыслом.
Желание приблизиться к телесной конкретности
изображаемого, отчужденный характер используемой Сорокиным гротескной
образности и особая актуальность для него «макабрического
гротеска» свидетельствуют об опоре писателя на гротеск
модернистского типа. Вместе с тем нередко встречающиеся в произведениях
Сорокина случаи искажения художественной логики, закрепленной
определенной литературной традицией (прежде всего, традицией
социалистического реализма) говорят о сильном влиянии на него
постмодернистских гротесковых форм. Совмещение
модернистского и постмодернистского гротеска позволяет писателю вести
творческую полемику с соцреализмом, не отрываясь от конкретики
советского времени.
В контексте анализируемой проблематики роман «Норма»
и сборник рассказов «Первый субботник» можно считать
произведениями, в которых осуществляется сложное взаимодействие
модернистских и постмодернистских гротесковых форм. Первая часть
«Нормы» представляет собой типичный вариант модернистского
гротеска, когда в максимально приближенное к жизненной
реальности повествование вплетается фантастический мотив. Седьмая
276
часть этого произведения ближе постмодернистскому гротеску, так
как в ней гротескному преломлению подвергаются популярные
образцы соцреалистической поэзии. Сложнее организовано
художественное пространство «Падежа», находящееся как бы на стыке
модернистских и постмодернистских гротесковых форм. С одной
стороны, сюжет этой повести может быть прочитан, по выражению
М. Липовецкого, как «фарсовый перефраз канонической модели
соцреалистического повествования». С другой стороны, Сорокин
стремится вскрыть в этой повести реальные противоречия
сталинского времени.
В сборнике «Первый субботник» произошло частичное
разрушение модернистских гротесковых черт, хотя они по-прежнему
проявляются в некоторых рассказах сборника. Главенствующее
положение в этом сборнике рассказов занял постмодернистский
гротеск. Ориентируясь на стилистическую палитру
соцреалистической литературы, Сорокин разнообразными методами достигает
впечатления недостоверности происходящего, искусно нарушая
художественную логику. Выход за пределы соцреализма, где-то
явный, а где-то лишь наметившийся, позволяет предположить, что
объектом деконструктивистского исследования в «Первом
субботнике» является не только соцреалистическая, но и реалистическая
поэтика. Клишированный характер наиболее ярких произведений
сборника задает соответствующий контекст восприятия, но «под
прицелом» Сорокина находится миметический принцип как
таковой, любая литература, стремящаяся к «воспроизведению жизни
в формах самой жизни», будь то подлинный миметизм реализма /
натурализма или проективный мимесис соцреализма.
В «Голубом сале» Сорокин создал некий антимир истории
русской культуры второй половины XX века, спрессовав ее в единый
пространственно-временной континуум. Гротескная образность
позволила писателю заострить основные закономерности культурного
процесса ушедшего столетия, воплотив их в фантасмагорических
картинах недалекого будущего и альтернативного прошлого.
Фантастический сюжет этого романа прочно укоренен в российской
действительности: образ «голубого сала» является
полуироническим эквивалентом русского литературоцентризма, стремления
обожествлять литературу, наделяя ее не свойственными ей
функциями и качествами.
Заумь и гротеск используются Сорокиным в качестве
художественных экспликантов категории абсурда. Абсурдистские
тенденции в русской литературе, связанные прежде всего с дея-
277
тельностью ОБЭРИУ, стали непосредственным развитием заумных
экспериментов кубофутуристов. Близость гротескной образности
к абсурдизму обуславливает имманентно присущая ей
содержательная контрастность. Тесное взаимодействие этих
художественных категорий в итературе XX века привело к тому, что гротеск
и абсурд стали отождествляться. Художественное мышление
Сорокина можно охарактеризовать как абсурдистское: убежденность
в чудовищности современного мира и глубокое разочарование в
человеке сопровождают его на всем протяжении творческого пути.
Наиболее полное выражение феномен абсурдизма нашел в
драматургии Сорокина и романе «Сердца четырех». Первые подступы
к воплощению в драматическом творчестве категории абсурда
Сорокин сделал в пьесе «Пельмени». Классическим образцом
абсурдистской антипьесы стала написанная вслед за этим «Землянка».
В полном соответствии с художественными принципами драмы
абсурда, действие в этой пьесе строится как развертывание картины.
Статичный сюжет, алогичные полилоги главных героев, заумный
характер вставных фрагментов подчинены выражению абсурдности
человеческого бытия. В пьесах «Юбилей» и «Дисморфомания»
Сорокин выступил в качестве деконструктивистского критика,
препарируя творческое наследие А. П. Чехова и У. Шекспира. Коллаж-
ный синтез разных произведений указанных авторов ведет к потере
смысловых и причинно-следственных связей, создавая
абсурдистский эффект.
Роман «Сердца четырех» стал наиболее масштабным, сложным
и многослойным абсурдистским произведением Сорокина.
Найденные прежде приемы абсурдизации художественного текста
представлены в этом произведении в концентрированном виде, что
делает его удобной моделью для рассмотрения специфики сорокинского
абсурда 1980-х годов. Абсурдистские тенденции просматриваются
в романе на сюжетно-композиционном, жанровом и
стилистическом уровнях. Парадоксальные лингвостилистические
манипуляции и алогичные дискурсивные переходы используются автором
для разрушения автоматизма восприятия художественного текста.
В «Трилогии» категория абсурда приобрела не только
художественные, но и онтологические основания. Стержневым
художественным принципом в этом произведении стало остранение,
которое используется автором для передачи предельно отчужденного
взгляда на мир. Используя мистическую мотивировку, Сорокин
создал грандиозную картину абсурдности жизненного бытия. Если
278
в ранних произведениях писатель прибегал к радикальной критике
языка, то в «Трилогии» столь же фундаментальной
«деконструкции» подверглась действительность как таковая, запечатлеваемая
с фактографической точностью.
Суммируя сказанное, можно с уверенностью заключить, что
Владимир Сорокин является не только центральной фигурой
русской постмодернистской литературы, но и крупнейшим в
отечественной словесности писателем-абсурдистом.
279
Список цитируемой литературы
Художественные тексты В. Г. Сорокина
1. Собр. соч.: в 3 т. — М.: Ад Маргинем, 2002. — Т. 1-3.
2. Собр. соч.: в 2 т. — M.: Ad Marginem, 1998. — T. 1-2.
3. Моноклон: авт. сб. — М.: Астрель, 2010. — 288 с.
4. Метель: [повесть]. — М.: ACT: Астрель, 2010. — 302 с.
5. Сахарный Кремль. — М.: Астрель: ACT, 2008. — 347 с.
6. Заплыв: ранние рассказы и повести. — М.: Астрель [и др.], 2007. —
315 с.
7. Капитал: полн. собр. пьес. — М.: Захаров, 2007. — 364 с.
8. День опричника: [повесть]. — М.: Захаров, 2006. — 222 с.
9. Трилогия: Путь Бро; Лёд; 23 000. — М.: Захаров, 2006. — 684 с.
10. Сахарный Кремль: [рассказ] // Известия: прил. «Неделя». —
2006. — 29-31 дек. — № 243. — С. Н12, Н29.
11. Русский рассказ XX века : антол. / сост., авт. предисл. и рис. на
обл. В. Сорокин. — М.: Захаров, 2005. — 554 с.
12. 4: [рассказы, сценарии, либретто]. — М.: Захаров, 2005. — 204 с.
13. Окружение: [рассказ; 1980] // Газета. — 2005. — 5 авг. —
№ 145. — С. 18.
14. Утро снайпера: [сб.]. — M.: Ad Marginem, 2002. — 360 с.
15. Хиросима: [рассказ] // Playboy. — 2002. — № 11. — С. 148-151.
16. Из книги «Концерт» // Новое лит. обозрение. — 1997. — № 7. —
С. 416-431.
17. Землянка: [пьеса] / предисл. С. Шаповала // Совр.
драматургия. — № 3 (июль-сент.). — С. 54-68.
18. [Сборник рассказов] / [оформ. авт. ; послесл. Д. Пригова ; с прил.
интервью авт.]. — М.: Русслит, 1992. — 126 с.
19. Пельмени: [пьеса] / предисл. Л. Рубинштейна // Искусство
кино. — 1990. — № 6. — С. 158-170.
20. Прощание с летом: [стих.] // За кадры нефтяников. —
1972. —20 сент. — № 28. — С. 2.
280
Публицистика и мемуары
21. Женя: [Памяти Е. Лапутина] // Новая юность. — 2005. —
№ 4. — С. 14-16.
22. Меа culpa?: Я недостаточно извращен для подобных
экспериментов // НГ Ex Libris. — 2005. — 14 апр. — № 13. — С. 5.
23. Об акции [группы «Коллективные действия»] «Произведение
изобразительного искусства — картина» // Поездки за город. — M.: Ad
Marginem, 1998. — С. 703-706.
Интервью В. Г. Сорокина
24. Обнять Метель: Вышла новая книга В. Сорокина / беседовала
Наталья Кочеткова // Известия. — 2010. —2-4 апр. — № 57. — С. 1,7.
25. «В Мавзолее должен лежать Иван Грозный» / беседовала Лиза
Новикова // Коммерсантъ. — 2008. — 22 авг. — № 149. — С. 14.
26. «В России вполне бы ужились высокие технологии и телесные
наказания на площадях» / беседовал Кирилл Решетников // Газета. —
2008. — 7 авг. — № 147. — С. 18-19.
27. «Водка, кровь и „Сахарный Кремль"» / беседовал Борис Соколов
[Электронный ресурс] // Грани.Ру. — 2008. — 16 апр. — URL: http://
www.grani.ru/Politics/Russia/rn.135701.html.
28. Сорокин В., Шептулин Н. Разговор о московском
концептуализме [Электронный ресурс] // Взгляд. — 2008. — 22-24 янв. — URL:
http://www.vz.rU/culture/2008/l /22/ 139376.html (ч. 1); http:/ /
www.vz.ru/culture/2008/1/23/139884.html (ч. 2); http://www.vz.ru/
culture/2008/1/24/140017.html (ч. 3).
29. «Россия опять становится страной гротеска» / беседовала Лиза
Новикова // Коммерсантъ. — 2008. — 18 янв. — № 5. — С. 15.
30. Писать и бояться невозможно / беседовала Майя Кучерская / /
Ведомости. — 2008. —11 янв. — № 3. — С. А08.
31. Двойное сознание — это Россия / беседовал Андрей
Архангельский // Огонек. — 2007-2008. — 31 дек. — 13 янв. — № 1-2. —
С. 56-58.
32. «Писатель — враг государства» [Электронный ресурс] // Time
Out. — 2007. — 15 окт. — URL: http://www.timeout.ru/journal/
feature/1737/.
33. «Русский абсурд внешне мутирует, хотя внутри не меняется
281
с XVI века» / беседовал Кирилл Решетников / / Газета. — 2007. —
21 марта. — № 50. — С. 26.
34. [Интервью] // Time Out. — 2007. — 12-18 марта. — № 10.
35. «Темная энергия общества»: [интервью нем. журналу Der Spiegel] /
беседовали Мартин Дерри и Маттиас Шепп / / Профиль. — 2007. —
5 февр. — № 4. — С. 88-89.
36. «Феодализм с высокими технологиями»: [интервью нем. газете Der
Standart] [Электронный ресурс] / беседовал Эдуард Штайнер / / Inopressa.—
2006. — И дек. — URL: http://web.archive.org/web/20070113015255/
http://www.inopressa.rU/standard/2006/l2/l 1 / 14:49:51 /sorokin (арх.
версия).
37. Россия возвращается во времена феодализма: [интервью фр. газете
Libération] [Электронный ресурс] / беседовала Лорен Мийо; пер.
Вероники Денисовой // HhoCMH.Ru. — 2006. — 27 нояб. — URL: http://
www.inosmi.ru/translation/231320.html.
38. «Мывсеотравленылитературой»[Электронныйресурс]//arba.ru.—
2006. — 18 нояб. — URL: http://www.arba.ru/art/849/7.
39. Собачье сердце / беседовал Илья Кормильцев // Rolling Stone. —
2006. — № 11. — С. 38-42.
40. «Лучше собаки друга нет» / беседовала Марина Суранова //
Собеседник. — 2006. — № 35. — С. 28.
41. «Я всю жизнь больше всего доверял собственным ощущениям» /
беседовал Борис Соколов // Культура. — 2006. — 31 авг. — 6 сент. —
№ 34. — С. 4.
42. «Перестройка у нас еще и не начиналась...» [Электронный ресурс] /
беседовал Дмитрий Бавильский // Взгляд. — 2006. — 29-30 авг. —
URL: http://www.vz.rU/culture/2006/8/29/46870.html (ч. 1); http://
www.vz.ru/culture/2006/8/30/47115.html (ч. 2).
43. «Мой „День опричника" — это купание авторского красного
коня» / беседовала Софья Широкова // Известия: прил. «Неделя». —
2006. — 25 авг. — № 155. — С. Hl, Н12.
44. «Я путешествую по моим внутренним литературным
провинциям» / беседовал Борис Орехов // Гипертекст. — Уфа, 2006. — № 6. —
С. 10-12.
45. «Я против того, чтобы литература учила жить» / беседовала
Марина Давыдова // Известия. — 2006. — 3 мая. — № 77. — С. 12, 10.
46. Мифотворец: Противостояние между Братьями Света и «Мясными
машинами» окончено / беседовал Антон Долин // Моск. новости. —
2005. — 23-29 дек. — № 49. — С. 25.
282
47. Неонорма / беседовала Оксана Пономарева // ОМ. — 2005. —
№ 99. — С. 66-71.
48. Спящий в ночи: Вольные заплывы Владимира Сорокина /
беседовала Елена Кутловская // НГ Антракт. — 2005. — 16 сент. — № 24. —
С. 13.
49. Доктор Сорокин / беседовал Игорь Гавриков // Лица. — 2005. —
№ 9. — С. 86-91.
50. «Почему я должен изживать комплексы» / беседовала Юлия Раха-
ева // Веч. Москва. — 2005. — 8 авг. — № 143. — С. 7.
51. «Я питаюсь энергией непредсказуемого» [Электронный ресурс] /
беседовал Борис Соколов // Грани.Ру. — 2005. — 5 авг. — URL: http://
www.grani.ru/Culture/Literature/rn.93025.html.
52. «Я в совок опять не хочу. И в андерграунд — тоже» / беседовала
Наталья Кочеткова // Известия. — 2005. — 5 авг. — № 136. — С. 14.
53. 100 вопросов за 15 минут // FHM. — 2005. — Июль.
54. «Пока не пришли ко мне домой и не вывели на улицу...»
[Электронный ресурс] / интервью израильского ТВ; мат. подгот. Наташа
Мозговая // mozgovaya. — 2005. — 11 апр. — URL: http:/ /mozgovaya.
livejournal.com/264485.html.
55. «Литератор — это не изготовитель конфет!» / беседовала Полина
Лимперт // Еврейское слово. — 2005. — 6-12 апр. — № 14. — С. 8.
56. «Россия остается любовницей тоталитаризма» [Электронный
ресурс] / беседовал Борис Соколов // Грани.Ру. — 2005. — 23 марта. —
URL: http://www.grani.ru/Culture/Literature/rn.86612.html.
57. Кому бы Сорокин Нобелевскую премию дал... / беседовал Дмитрий
Бавильский [Электронный ресурс] // Топос. — 2005. — 11, 14 марта. —
URL: http://www.topos.ru/article/3358 (ч. 1), http://www.topos.ru/
article/3361 (ч. 2).
58. «Многие будут плакать» [Электронный ресурс] / беседовала Майя
Кучерская / / Полит.ру. — 2005. — 9 марта. — URL: http://www.polit.ru/
culture/2005/03/09/sorokin.html.
59. По Большому / беседовала Лейла Гучмазова // Итоги. —
2005. — 8 марта. — № 10. — С. 63-65.
60. «„Лед" не отпускает меня» / беседовал Игорь Шевелев // Моск.
новости. — 2004. — 17-23 сент. — № 35. — С. 27.
61. «Я могу обороняться, но жить скандалом — не могу» / беседовала
Лиза Новикова // Коммерсант. — 2004. — 15 сент. — № 171. — С. 22.
62. «Я не брат Света, я скорее мясная машина» / беседовал Кирилл
Решетников // Газета. — 2004. — 15 сент. — № 170. — С. 1, 13.
283
63. «Я литературный наркоман, но я еще умею изготовлять эти
наркотики» / беседовала Наталья Кочеткова // Известия. — 2004. —
15 сент. — № 170. — С. 11-12.
64. «Я так понял... Что я не понял...» [Электронный ресурс] /
беседовала Ксения Рождественская // Газетами. — 2004. — 14 сент. — URL:
http://www.gazeta.ru/2004/09/l4/oa_133419.shtml.
65. «Альтруисты не пишут романов», или Тарантино русской
литературы / беседовала Валентина Серикова // Академия. — Киев, 2004. —
№ 1. — С. 8-12.
66. «Быть писателем в России всегда было опасно»: [интервью нем.
журналу Der Spiegel] [Электронный ресурс] / беседовал Даниэль-Дилан
Бёмер; пер. Владимира Синицы // HhoCMH.Ru. — 2003. — 13 окт. —
URL: http://www.inosmi.ru/translation/196241.html.
67. «В 14 лет я написал первый эротический рассказ» / беседовала
Елена Грибкова // МК-Бульвар. — 2003. — 22-28 сент. — № 13. —
С. 12-16.
68. На хвосте у Сорокина / беседовал Андрей Архангельский //
Огонек. — 2003. — 15-21 сент. — № 34. — С. 48-50.
69. Владимир Сорокин не хочет быть пророком, как Лев Толстой /
беседовал Андрей Зайцев / / НГ Религии. — 2003. — 2 июля. — № 11. — С. 6.
70. Любовь сильнее литературы / беседовала Татьяна Восковская //
Консерватор. — 2003. — 30 мая — 5 июня. — № 18. — С. 17.
71. «Процесс порождения текстов протекает у меня как
контролируемый приступ эпилепсии» [Электронный ресурс] / беседовал Денис
Иоффе // Топология Междустрочья. — 2003. — 16 апр. — URL: http://
www.epistopology.com / ioffe_sorokin.html.
72. Говори сердцем / беседовали Е. Власов и И. Власова //
Популярная психология. — 2003. — № 2. — С. 6-15.
73. «Литератор без мата — как пианист с девятью пальцами» /
беседовал Дмитрий Ткачев // МК-Бульвар. — 2002. — 25 мая.
74. «Тоталитаризм — растение экзотическое и ядовитое, крайне
редкое и опасное»: [интервью фр. газете El Pais] [Электронный ресурс] /
беседовали Пилар Бонэ и Родриго Фернандес; пер. Анны Гонсалес //
HhoCMH.Ru. — 2002. — 24 сент. — URL: http://www.inosmi.ru/
stories/02/07/ 18/3106/ 159243.html.
75. «Пациент должен умереть» / беседовал Олег Шишкин // ОМ. —
2002. — № 66.
76. Дух или тело / беседовал Борис Соколов // Алфавит. — 2002. —
29 июля — 4 авг. — № 32. — С. 6-7.
77. Убойное сало: «Я хотел наполнить русскую литературу говном» /
284
беседовала Оксана Семенова // МК-Воскресенье. — 2002. — 21-
27 июля. — № 28. — С. 4-5.
78. «Литература создает некоторый щит между миром и мной»
[Электронный ресурс] / беседовала Линор Горалик // Грани.Ру. — 2002. —
19 июля. — URL: http://www.grani.ru/Culture/rn.6389.html.
79. Прощай, концептуализм! / беседовал Александр Неверов //
Итоги. — 2002. — 18 марта. — № 11. — С. 49-51.
80. «Я написал „Лед44 вместе с собакой Саввой» [Электронный
ресурс] / беседовал Борис Соколов // Грани.Ру. — 2002. — 27 февр. —
URL: http://www.grani.ru/Culture/Literature/rn.6372.html.
81. «Моя жена предпочитает Томаса Манна» / беседовала Юлия Раха-
ева // Известия. — 2002. — 18 февр. — № 29. — С. 8.
82. «Россия — это снег, водка и кровь» / беседовала Юлия Шигаре-
ва // Аргументы и факты. — 2001. — 5 дек. — № 49. — С. 23.
83. «Мне нравится харкать против ветра» / беседовал Андрей Ванден-
ко // Коме, правда. — 2002. — 20-27 авг. — № 149. — С. 26-27.
84. «В этом фильме выживают только призраки» [Электронный
ресурс] / беседовали Татьяна Восковская и Сергей Тетерин //
Владимир Сорокин. — 2001. — Янв. — URL: http://web.archive.org/
web/20021206224401/moscow.film.ru/interview.htm (арх. версия).
85. Чревовещатель / беседовал Игорь Смирнов // Итоги. — 2000. —
21 нояб. — № 47. — С. 78-79.
86. Сорокин-сан / беседовала Майя Чаплыгина / / Огонек. —
2000. — Οκτ. — № 39. — С. 48-51.
87. «Я не Гитлер» / беседовал Александр Дельфин // Эксперт. —
2000. — 4 сент. — № 32. — С. 48-49.
88. «Литература есть сражение психических состояний писателя» /
беседовали Ольга и Александр Николаевы // Время МН. — 2000. —
31 авг. — № 141. — С. 7.
89. «Мне не грозят какие-либо премии»: И пусть умрут толстые
журналы / беседовал Алексей Беляков // НГ Ex Libris. — 1999. — 1 апр. —
№ 12. — С. 1.
90. «В культуре для меня нет табу...» / беседовал Сергей Шаповал //
Сорокин В. Собр. соч.: в 2 т. — M.: Ad Marginem, 1998. — T. 1. —
С. 7-20.
91. «Мы не встанем ни под каким памятником» / беседовал Михаил
Новиков // Коммерсантъ. — 1998. — 2 сент. — № 161. — С. 10.
92. «Насилие над человеком — это феномен, который меня всегда
притягивал...» [Электронный ресурс] / беседовала Татьяна Восковская //
285
Рус. журн. — 1998. — 3 апр. — URL: http://old.russ.ru/journal/inie/98-
04-03/voskov.htm.
93. Питерским читателям и писателям надо побольше ходить в кино /
беседовала Маруся Климова // Климова М. Парижские встречи. —
СПб.: Ретро, 2004. — С. 318-324.
94. Литература или кладбище стилистических находок / беседовала
Серафима Рол // Постмодернисты о посткультуре. — М.: ЛИА Р. Элини-
на, 1996. — С. 119-130.
95. «Самый замечательный читатель — это, конечно, в России» /
беседовал Борис Соколов // Соколов Б. Моя книга о Владимире
Сорокине. — М.: АИРО-XXI: Пробел-2000, 2005. — С. 68-77.
96. «Жизнь — это... театр абсурда... В России материала для
литературы всегда было полно...»: интервью // Соколов Б. Указ. соч. — С. 107—
108.
97. Сорокин В. Г., Сорокин В. В. Образ без подобия / беседовал Лев
Карахан; лит. запись Т. Иенсен // Искусство кино. — № 6. — С. 35-44.
98. Вести из онкологической клиники / беседовали Петр Вайль
и Александр Генис // Синтаксис. — 1992. — № 32. — С. 138-143.
99. Текст как наркотик / беседовала Татьяна Рассказова / /
Сорокин В. [Сб. рассказов]. — М.: Русслит, 1992. — С. 119-126.
100. О Евгении Харитонове [Электронный ресурс] / беседовала
Светлана Беляева-Конеген // Митин журнал. — 1990. — URL: http://
kolonna.mitin.com/archive/mj32/sorokin.shtml.
Высказывания
101. Бурнашев А. Тоталитаризм под микроскопом // Заполярная
правда. — 2008. —№ 69.
102. Акт о капитуляции как главное произведение Победы: Писатели
о Великой Отечественной / опрос подгот. А. Вознесенский // НГ Ех
Libris. — 2005. — 28 апр. — № 15. — С. 1-2.
103. [Комментарий к фильму «Москва»] [Электронный ресурс] //
Москва - фильм 2001. — URL: http://web.archive.org/web/20030125050553/
moscow.film.ru/sorokin.htm (арх. версия).
286
Критическая и научная литература
о творчестве В. Г. Сорокина
104. Аннинский Л. Песнь пепси в утробе поколения, которое смеясь
рассталось со своим будущим // Лит. учеба. — 2001. — Кн. 2. — С. 46-
60.
105. Бавильский Д. Скотомизация: Сорокалетию В. Сорокина
посвящается // Соврем, рус. лит. с В. Курицыным. — 1995. — URL: http://
www.guelman.ru/slava/writers/bavl.htm.
106. Басинский П. Авгиевы конюшни // Октябрь. — 1999. —
№ 11. — С. 189-190.
107. Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и
перераспределения власти в лит. — М. : Новое лит. обозрение, 2000. — С. 105-114.
108. Богданова О. В. Концептуалист писатель и художник Владимир
Сорокин: учеб.-метод, пособие. — СПб.: Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та,
2005. — 64 с.
109. Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной
русской литературы (60-90-е годы XX века — начало XXI века). — СПб.:
Филол. фак. СПбГУ, 2004. — С. 395-447.
НО. Боймерс Б. Театр как симуляция, или Виртуальная Шинель /
пер. с англ. Н. Мельникова // Петерб. театр, журн. — СПб., 2000. —
№ 21.
111. Бондаренко М. Роман-аттракцион и катафатическая
деконструкция // Новое лит. обозрение. — 2002. — № 56. — С. 241-248.
112. Бугославская О. В. Постмодернистский роман: принципы
литературоведческой интерпретации: «Роман» В. Сорокина и «Последний сон
разума» Д. Липскерова: дис. ... канд. филол. наук. — М., 2001. — 151 с.
113. Булатов Э. «Меня спрашивали: „Почему вы не лауреат
Сталинской премии?44» / беседовал Юрий Коваленко // Известия. — 2007. —
13 нояб. — № 207. — С. 9.
114. Вайль П. Консерватор Сорокин в конце века // Лит. газ. —
1995. — 1 февр. — № 5. — С. 4.
115. Вайль П., Генис А. Поэзия банальности и поэтика
непонятного // Звезда. — 1994. — № 4. — С. 189-192.
116. В гостях у циклопов [Электронный ресурс] // Полит.Ру. —
2005. — 17 апр. — URL: http://www.polit.ru/culture/2005/04/l7/
ciklopy.html.
117. Вербицкий М. Ведро живых вшей: Ритуал и постмодернизм
287
у В. Сорокина [Электронный ресурс] // Imperium. — 1998. — 25 июня. —
URL: http://imperium.lenin.ru/EOWN/eown6/sorokin-pm.html.
118. Вербицкий М. Предательство Владимира Сорокина [Электронный
ресурс] / / Imperium. — 1999. — 3 июня. — URL: http:/ /imperium.lenin.ru/
LENIN/ 151mdg/ 15.html.
119. Генис А. Душа без тела [Электронный ресурс] // Радио
Свобода. — 2002. — 16 янв. — URL: http://archive.svoboda.org/programs/
rq/2002/rq.012402.asp.
120. Генис А. Страшный сон [Электронный ресурс] // Радио
«Свобода». — 1999. — 27 июня. — URL: : http://archive.svoboda.org/programs/
OTB/l999/OBT.03.asp.
121. Генис А. Страшный сон как подсознание русской литературы //
Общая газ. — 1999. — 8 июля. — № 27. — С. 10.
122. Генис А. Советская метафизика // Он же. Вавилонская
башня. — М.: Независимая газ., 1997. — С. 98-105.
123. Генис А. Чузнь и жидо: В. Сорокин // Он же. Собр. соч.:
в 3 т. — Екатеринбург: У-Фактория, 2003. — Т. 2. — С. 98-109.
124. Гладильщиков Ю. Москва. Как много // Итоги. — 2000. —
17 окт. — № 42. — С. 68-69.
125. Голубков M. М. История русской литературной критики XX века
(1920-1990-е годы). — М.: Академия, 2008. — С. 330-337.
126. Голынко-Вольфсон Д. Владимир Сорокин: Классик 80-х —
в 90-е //Худож. журн. — 2000. — № 28/29. — С. 78-79.
127. Гройс Б. Русский роман как серийный убийца, или Поэтика
бюрократии // Новое лит. обозрение. — 1997. — № 27. — С. 432-444.
128. Деготь Е. Другое чтение других текстов: Моск. концептуализм
перед лицом идиоматического документа // Новое лит. обозрение. —
1996. — № 22. — С. 243-251.
129. Деготь Е. Террористический натурализм. — M.: Ad Marginem,
1997. — С. 52-57.
130. Дубаков Л. В. Эсхатологические мотивы «Розы Мира» Д.
Андреева в романе В. Сорокина «Голубое сало» // Альм, соврем, науки и
образования. — Тамбов, 2007. — № 3. — Ч. 3. — С. 75-77.
131. Ермолин Е. Письмо от Вовочки // Континент. — М.; Париж,
2003. — № 1. — С. 402-418.
132. Ерофеев В. Русские цветы зла // Он же. В лабиринте
проклятых вопросов: эссе. — М.: Союз фотохудожников России, 1996. — С. 248.
133. Зиник 3. [О В. Сорокине] // Сорокин В. [Сб. рассказов]. — М.:
Русслит, 1992. — Обл.
288
134. Зинцов О. Наш капитал вперед // Ведомости. — 2007. —
2 апр. — № 57. — С. А8.
135. Идлис Ю. Говорит и показывает // Новое лит. обозрение. —
2005. — № 75. — С. 323-326.
136. Капитал: [программа спектакля] / пьеса Владимир Сорокин,
постановка Эдуард Бояков, театр «Практика». — М., 2007. — 39 с.
137. Кичин В. Куранты бьют тринадцать [Электронный ресурс] //
Фильм.Ру. — 2000. — 19 окт. — URL: http://www.film.ru/article.asp
?id=1553.
138. Кокшенева К. А. Провокация // Лит. Россия. — 1995. —
20 окт. — № 42. — С. 10.
139. Костырко С. Чистое поле литературы // Новый мир. — 1992. —
№ 2. — С. 250-260.
140. Куклин И. Кошмары, ставшие классикой // НГ Ex Libris. —
2001. — 19 июля. — № 26. — С. 2.
141. Купка В. [Доклад] // Русское слово в центре Европы: сегодня и
завра. — Братислава, 2005. — С. 50-56.
142. Курицын В. Владимир Сорокин [Электронный ресурс] // Соврем,
рус.лит. с В. Курицыным. — [1999или2000]. — URL: http: //www.guelman.ru/
slava/ writers /sorokin.htm.
143. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. — М.: ОГИ,
2001. — С. 112-119.
144. Лаврова Л. Апофигей Кота Мурра // Дружба народов. —
1999. — № 10. — С. 207-210.
145. Латынина А. Рагу из прошлогоднего зайца // Лит. газ. —
2001. — № 10. — С. 11.
146. Латынина А. Сверхчеловек или нелюдь? // Новый мир. —
2006. — № 4. — С. 135-142.
147. Левшин //. Этико-эстетическое пространство Курносова-Сороки-
на // Новое лит. обозрение. — 1993. — № 2. — С. 283-288.
148. Лейдерман Н. Л., Липовецкий M. Н. Современная русская
литература: в 3 кн.: учеб. пособие. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — Кн. 3:
В конце века (1986-1900-е годы). — С. 54-61.
149. Лекух Д. Владимир Сорокин как побочный сын
социалистического реализма // Стрелец. — 1993. — № 2.
150. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского
дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. — М.: Новое лит.
обозрение, 2008. — XXVIII + 840 с.
151. Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм: Очерки историче-
289
ской поэтики: монография. — Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. —
С. 256-274.
152. Марусенков М. П. Образ сахарного Кремля в одноименном
рассказе В. Г. Сорокина // История русской литературы XX-XXI веков
в литературоведении, литературной критике и журналистике: материалы
XII Шешуковских чтений. — М.: Моск. пед. гос. ун-т, 2008. — С. 321-326.
153. Марусенков М. П. Раннее творчество В. Г. Сорокина в контексте
его зрелых художественных исканий / / Вестн. Рос. ун-та дружбы
народов. Сер. Литературоведение, журналистика. — 2008. — № 1. — С. 42-50.
154. Мерлин В. Гурманы невидимого: от «Собачьего сердца» к
«Лошадиному супу» // Солнечное сплетение. — 2003. — № 5/6. — С. 272-
280.
155. Недель А. Доска трансгрессий Владимира Сорокина: сорокиноти-
пы // Митин журнал. — 1998. — № 5/6. — С. 247-287.
156. Немзер А. Клону — клоново : В. Сорокин верен себе // Время
новостей. — 2005. — 13 мая. — № 81. — С. 10.
157. Немзер А. С. Не все то вздор, чего не знает Митрофанушка //
Он же. Замечательное десятилетие русской литературы. — М.: Захаров,
2003. — С. 397-399.
158. Немзер А. Хрен редьки не слаще: Издан еще один роман В.
Сорокина // Время новостей. — 2004. — 16 сент. — № 168. — С. 10.
159. Новиков М. Седло носорога под синим лазером: В. Сорокин
сильно клонировал рус. лит. // Коммерсантъ. — 1999. — 9 апр. — № 59. —
С. 9.
160. Огрызко В. Восставший из пепла // Лит. Россия. — 2005. —
2 сент. — № 35. — С. 13.
161. Парамонов Б. На обломках дискурса [Электронный ресурс] //
Радио Свобода. — 2002. — 25 июля. — URL: http://archive.svoboda.org/
programs/rq/2002/rq.072502.asp.
162. Парамонов Б. Чистое искусство Владимира Сорокина
[Электронный ресурс] // Радио «Свобода». — 2002. — 24 янв. — URL: http://
archive.svoboda.org/programs/rq/2002/rq.012402.asp.
163. Поздняков К. С. Роман «Сердца четырех» Владимира Сорокина
как начало нового этапа в творчестве писателя // Докл. семинара
докторантов и аспирантов каф. рус. и зарубеж. лит. — Самара: Самар. ун-т,
2002. — Вып. 1. — С. 25-34.
164. Попов И. В. Русский литературный дискурс в творчестве
Владимира Сорокина // Семиозис и культура: сб. науч. ст. — Вып. 2. —
Сыктывкар: Изд-во Коми пед. ин-та, 2006. — С. 242-247.
165. Потапов В. Бегущие от дыма: Соц-арт как зеркало и последняя
290
стадия соцреализма // Волга. — 1991. — № 9. — С. 29-34.
166. Призов Д. А. А им казалось: В Москву! В Москву! //
Сорокин В. [Сб. рассказов]. — М.: Русслит, 1992. — С. 116-118.
167. Рубинштейн Л. Порядок должен быть: [рец. на сб. «Пир»] //
Итоги. — 2001. — 13 марта. — № 10. — С. 62-63.
168. Рубинштейн Л. [Предисловие к пьесе «Пельмени»] //
Искусство кино. — 1990. — № 6. — С. 158.
169. Руднев В. П. Концептуализм / / Он же. Энцикл. слов, культуры
XX века. — М.: Аграф, 2001. — С. 191-196.
170. Руднев П. Театральные впечатления // Новый мир. — 2005. —
№ 11. — С. 193-197.
171. Рыклин М. Роман Владимира Сорокина: «норма», которую мы
съели // Коммерсантъ. — 1994. — 23 сент. — № 180. — С. 13.
172. Самодурова М. В. Тошнота и ничто: Сартровский код в рассказе
В. Сорокина «Лошадиный суп» // Молодежь в XXI веке: Материалы
Пятой краев, молодеж. науч.-практ. конф. —Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2004. — С. 252-254.
173. Сергеева О. Пелевин — Верников — Сорокин и Великая Русская
Литература // Урал. — 1998. — № 10. — С. 148-156.
174. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: учеб.
пособие. — 4-е изд., испр. — М.: Флинта: Наука, 2002. — С. 260-282,
407-410.
175. Смирнов И. П. Видимый и невидимый миру юмор Сорокина //
Место печати. — 1997. — № 10.
176. Смирнов И. П. Оскорбляющая невинность (о прозе Владимира
Сорокина и самопознании) // Место печати. — 1995. — № 7. — С. 125-
147.
177. Смирнова Д. Плохой хороший Сорокин [Электронный ресурс] //
Афиша. — 2001. — 1 янв. — URL: http://www.afisha.ru/review/
books/144641/.
178. Смирнова M. В. Страх власти тела в прозе В. Сорокина //
Языки страха: женская и мужская стратегии поведения. — СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2004. — С. 196-201.
179. Соколов Б. Моя книга о Владимире Сорокине. — М.: АИРО-ХХ1:
Пробел-2000, 2005. — 222 с.
180. Сонькин В. Попытка романа [Электронный ресурс] //
Рус. журн. — 1999. — 19 июля. — URL: http://old.russ.ru/krug/
kniga/ 99-07-16/ sonkin.htm.
181. Степанов А. Д. Об отношении к мертвым словам (Чехов и Соро-
291
кин) // Языки страха: женская и мужская стратегии поведения. — СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2004. — С. 221-235.
182. Хэнсген С. Образ врага и эстетические рефлексии тоталитарного
дискурса // Соцреалистический канон. — СПб.: Акад. проект, 2000. —
С. 830-837.
183. Шаповал С. «Чистота порядка»: [предисл. к пьесе
«Землянка»] // Совр. драматургия. — 1994. — № 3 (июль-сент.). — С. 54.
184. Шаталов А. Владимир Сорокин в поисках утраченного
времени // Дружба народов. — 1999. — № 10. — С. 203-207.
185. Шевцов В. Путь моралиста [Электронный ресурс] // Топос. —
2004. — 29 сент. — URL: http://www.topos.ru/article/2810/.
186. Эпштейн M. Н. Слово и молчание: метафизика русской
литературы. — М.: Высш. шк., 2006. — С. 185-190, 407, 502-503.
187. Räsänen S. Особенности национальной охоты на писателя: Лит.
борьба 2002 г. вокруг романа В. Сорокина «Голубое сало». — Helsinki,
2006. — 165 с. — URL: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/slavi/
pg/rasanen/osobenno.pdf.
Прочие художественные тексты
188. Андерсен Г.-Х. Новое платье короля // Он же. Собр. соч.:
в 4 т. — Т. 1. — М.: Вагриус, 2005.
189. Бердяев Н. А. Духи русской революции // Лит. учеба. —
1990. — Кн. 2. — С. 123-140.
190. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.:
Наука, 1990. — 220 с.
191. Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей // Он же. Собр.
соч.: в 6 т. — Т. 5. — М.: Терра, 1993. — 701 с.
192. Крученых А. Взорваль. — СПб., 1913. — 32 с.
193. Крученых А. К истории русского футуризма: воспоминания и
документы. — М.: Гилея, 2006. — 457 с.
194. Крученых А. Сдвигология русского стиха. — М., 1922. — 48 с.
195. Крученых А. Стихотворения, поэмы, романы, опера / сост., под-
гот, текста, вступ. ст. и примеч. С. Р. Красицкого. — СПб.: Акад. проект,
2001. — 477 с.
196. Крученых Α., Хлебников В. Слово как таковое // Литературные
манифесты: от символизма до «Октября». — М.: Аграф, 2001. — С. 137-
140.
292
197. Лившиц Б. К. Полутораглазый стрелец: стихотворения,
переводы, воспоминания / вступ. ст. А. Урбана; сост., подгот. текста и примеч.
П. Нерлера, А. Парниса и др. — Л.: Сов. писатель, 1989. —720 с.
198. Немцов В. Семь цветов радуги. — М.: ГИХЛ, 1950. — 468 с.
199. Платонов А. Котлован // Он же. Ювенильное море: Повести.
Роман. — М.: Современник, 1988.
200. Поездки за город: [группа] «Коллективные действия». — M.: Ad
Marginem, 1998. — 783 с.
201. Терентьев И. Собр. соч. / сост., подгот. текста, биогр.
справка, вступ. ст. и коммент. М. Марцадури и Т. Никольской. — Bologna:
Francesco, 1988. — 550 с.
202. Филановский Б. «Нормальное»: [аннотация, запись с
концерта, текст, партитура пьесы] [Электронный ресурс] // [Борис
Филановский]. — 2005. — URL: http://www.filanovsky.ru/ru/normal.html.
203. Хлебников В. Наша основа // Он же. Творения. — М.: Сов.
писатель, 1986.
204. Хлебников В., Крученых Α., Гуро Е. Трое. — СПб., 1913.
Прочая критическая и научная литература
205. Абсурд и вокруг: сб. ст. / отв. ред. Ольга Буренина. — М.: Яз.
слав, культуры, 2004. — 443 с.
206. Андреев Л. Г. Чем же закончилась история второго
тысячелетия? // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. — М.:
Высш. шк., 2001. — С. 292-334.
207. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ.
ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. — 615 с.
208. Бахтин Μ. М. К философии поступка // Он же. Собр. соч.:
в 7 т. / — Т. 1. — М.: Русское слово, 2003. — С. 7-68.
209. Бахтин Μ. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. — М.: Худож. лит., 1990. — 541 с.
210. Богомолов Н. А. «Дыр бул щыл» в контексте эпохи // Новое
лит. обозрение. — 2005. — № 72. — С. 172-192.
211. Бочаров С. Г. Литературная теория Константина Леонтьева //
Он же. Сюжеты русской литературы. — М.: Языки рус. культуры, 1999. —
С. 276-340.
212. Бродский И. «Никакой мелодрамы» / беседовал Виталий
Амурский // Он же. Размером подлинника. — Л.; Таллин, 1990. — С. 113-126.
293
213. Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в
русской литературе и культуре первой половины XX века. — СПб.: Алетейя,
2005. — 327 с.
214. Бухштаб Б. Философия «заумного языка» Хлебникова // Новое
лит. обозрение. — 2008. — № 89. — С. 44-92.
215. Васильев И. Е. Русский литературный авангард начала XX века
(группа «41°»): учеб. пособие. — Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 1995. —
87 с.
216. Виноградов В. В. Натуралистический гротеск: Сюжет и
композиция повести Гоголя «Нос» / / Он же. Поэтика русской литературы. — М.:
Наука, 1976. — С. 5-44.
217. В центре паутины. — М.: Терра, 1997. — 183 с.
218. Голубиная связь // Большая совет, энцикл. — М.: Сов. энцикл.,
1972. — 3-е изд. — Т. 7. — С. 40-41.
219. Голубков M. М. Когда началась современная литература? //
Современная филология: итоги и перспективы. — М.: Гос. ин-т рус. яз. им.
А. С. Пушкина, 2005. — С. 309-325.
220. Голубков M. М. Русская литература XX века: После раскола:
учеб. пособие для вузов. — М.: Аспект-Пресс, 2002. — 267 с.
221. Гречко В. Словотворчество в поэтике Хармса и
Введенского [Электронный ресурс] // Slavic Research Center. — 2003. — URL:
https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/93/02gre.pdf.
222. Гройс Б. Утопия и обмен: Стиль Сталин. О новом. Статьи. — М.:
Знак, 1993. — 373 с.
223. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. — М.:
Республика, 2002. — 559 с.
224. Добренко Е. Политэкономия соцреализма. — М.: Новое лит.
обозрение, 2007. — 585 с.
225. Добренко Е. Формовка советского писателя: Социал. и эстет,
истоки сов. лит. культуры. — СПб.: Акад. проект, 1999. — 557 с.
226. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / пер.
с φρ. Ф. Перовской. — СПб.: Акад. проект, 1995. — 471 с.
227. Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная
мистика. — СПб.: Аксиома, 1996. — XXXIX, 230 с.
228. Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / под ред. Л.
Магаротто, М. Марцадури, Д. Рицци. — Bern [etc.]: Peter Lang, 1991. —
448 с.
229. Зунделович Я. О. Поэтика гротеска: (К вопросу о характере
гоголевского творчества) // Проблемы поэтики. — М.; Л., 1925. — С. 7-79.
294
230. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия:
эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998. — 256 с.
231. Ильин И. П. Постструктурализм, деконструктивизм,
постмодернизм. — М.: Интрада, 1996. — 253 с.
232. Кобринский А. А. Даниил Хармс. — М.: Молодая гвардия,
2008. — 499 с.
233. Ковалев А. Семь чудес: Комар и Меламид // Артхроника. —
2010. — № 10. — С. 86-93.
234. Крусанов А. В. Русский авангард, 1907-1932: (Ист. обзор):
в 3 т. — Т. 2. — Кн. 2. — М.: Новое лит. обозрение, 2003. — 606 с.
235. Крученых А. Е. Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова,
Леонова, Бабеля, А. Веселого и др. — М.: Всерос. союз поэтов, 1925. — 59 с.
236. Лаптева О. А. Разговорная речь // Языкознание: большой эн-
цикл. слов. — М.: Сов. энцикл., 1998. — С. 407-408.
237. Левкиевская Е. Е. Заумь как разновидность ритуальной речи
славян // Славянские древности: этнолингвист. слов.: в 5 т. — Т. 2. — М.:
Междунар. отношения, 1999. — С. 279-282.
238. Лексикон нонклассики: Художественно-эстетическая культура
XX века / под ред. В. В. Бычкова. — М.: РОССПЭН, 2003. — 607 с.
239. Липовецкий M. Н. «Нет, ребята, все не так»: Гротеск в рус. лит.
1960-80-х гг. — Екатеринбург: АМБ, 2001. — 60 с.
240. Липовецкий M. Н. Русский постмодернизм: очерки ист.
поэтики. — Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. — 317 с.
241. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред.
А. Н. Николюкина. — М.: НПК «Интелвак», 2001. — 1600 стб.
242. Лосев А. Ф., Шестаков В. П. Гротеск // Они же. История
эстетических категорий. — М.: Искусство, 1965. — С. 360-369.
243. Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры // Он же. Избр. ст.:
в 3 т. — Таллинн: Александра, 1992. — Т. 1. — С. 377-380.
244. Манн Ю. В. Гротеск // Краткая лит. энцикл.: в 9 т. — Т. 2. —
М.: Сов. энцикл., 1964. — Стб. 399-402.
245. Манн Ю. О гротеске в литературе. — М.: Совет, писатель,
1966. — 181 с.
246. Марков В. Ф. История русского футуризма. — СПб.: Алетейя,
2000. — 414 с.
247. Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования, 1911-1998 /
сост. Вяч. Вс. Иванов и др. — М.: Языки рус. культуры, 2000. — 880 с.
248. Мирский Д. Романтизм // Лит. энцикл.: в 11 т. — Т. 10. — М.,
1937. — Стб. 35-36.
295
249. Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. —
М.: Худож. лит., 1977. — 358 с.
250. Никольская Т. Л. Авангард и окрестности. — СПб.: Изд-во
И. Лимбаха, 2002. — 319 с.
251. Паперный В. Культура Два. — [2-е изд., испр. и доп.]. — М.:
Новое лит. обозрение, 2006. — 407 с.
252. Песков А. М. «Русская идея» и «русская душа»: очерки русской
историософии. — М.: ОГИ, 2007. — 101 с.
253. Показы спектакля «Капитал» по пьесе Сорокина начнутся 31 мая
[Электронный ресурс] // РИА Новости. — 2007. — 21 мая. —URL:
http://www.rian.ru/culture/2007052l/65798153.html.
254. Проскурникова Т. Б. Французская антидрама (50-60-е годы). —
М.: Высш. шк., 1968. — 101 с.
255. Прохоров А. Русская модель управления. — М.: Изд-во Студии
Артемия Лебедева, 2011. — 464 с.
256. Радзинский Э. С. Сталин. — М.: Вагриус, 1997. — 637 с.
257. Ревзин И. И. Модели языка. — М.: Изд-во Акад. наук СССР,
1962. — 191 с.
258. Руднев В. П. Концептуализм // Энциклопедический словарь
культуры XX века. — М.: Аграф, 2001. — С. 191-196.
259. Сахно И. М. Русский авангард: Живописная теория и
поэтическая практика. — М.: Диалог-МГУ, 1999. — 351 с.
260. Скороспелова Е. Русская проза XX века: от А. Белого
(«Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). — М.: Теис, 2003. — 358 с.
261. Словарь терминов московской концептуальной школы / сост.
и авт. предисл. Андрей Монастырский. — M.: Ad Marginem, 1999. —
221 с.
262. Соцреалистический канон. — СПб.: Акад. проект, 2000. — 1036 с.
263. СС Адольфа Гитлера. —М.: Терра, 1997. — 191 с.
264. Сухопарое С. Алексей Крученых: Судьба будетлянина / ред.
и предисл. Вольфганга Казака. — München: Verlag Otto Sagner, 1992. —
162 с.
265. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб.
пособие. — М.: Аспект Пресс, 2001. — 331 с.
266. Флоренский П. А. Магичность слова / / Он же. У водоразделов
мысли. — М.: Правда, 1990. — С. 252-273.
267. Фуре В. Н. Ритуал // Новейший философский словарь. —
Минск: [Изд. В. М. Скакун], 1999. — С. 575.
268. Хализев В. Е. Теория литературы: учеб. — 4-е изд., испр.
296
и доп. — M.: Высш. шк., 2005. — 404 с.
269. Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. —
М.: ИМЛИ РАН, 2002. — 566 с.
270. Чередникова М. П. Смысл и «бессмыслица» считалок: (К
проблеме поэтики) // Русский фольклор. — СПб., 1996. — Т. 29. — С. 14-30.
271. Чернорицкая О. Л. Поэтика абсурда. — Т. 1. — Вологда, 2001. —
87 с.
272. Черняков А. Н. Заумь как лингвистический феномен //
Языкознание: современные подходы к традиционной проблематике. —
Калининград, 2001. — С. 190-202.
273. Шаламов В. Т. «Новая проза»: Из черновых записей 70-х годов /
публ. И. П. Сиротинской // Новый мир. — 1989. — № 12. — С. 3-71.
274. Шапошникова О. В. Гротеск и его разновидности: автореф.
дис. ... канд. филол. наук. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 24 с.
275. Шапошникова О. В. Гротеск и художественная условность / /
Вест. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. — 1982. — № 3. — С. 16-23.
276. Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания —
эссе (1914-1933). — М.: Сов. писатель, 1990. — 544 с.
277. Элиаде М. Аспекты мифа. — М.: Инвест-ППП, 1995. — 238 с.
278. Якобсон Р. Работы по поэтике. — М.: Прогресс, 1987. — 464 с.
279. Ямпольский М. Беспамятство как исток: (Читая Хармса). — М.:
Новое лит. обозрение, 1998. — 379 с.
280. Янечек Д. Стихотворный триптих А. Крученых «Дыр бул
щыл» / / Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе
XX века. — Грозный, 1991. — С. 35-41.
281. Esslin M. The theatre of the absurd. — N. Y., 1961. — 364 p.
282. Janecek G. A Zaum' Classification // Canadian-American Slavic
Studies. — Vancouver, 1986. — Vol. 20. —No. 1-2. — P. 37-54.
283. Janecek G. Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism. —
San Diego, 1996. — 427 p.
284. L'Avanguardia a Tiflis: studi, ricerche, cronache, testimonianze,
documenti / Luigi Magarotto, Marzio Marzaduri, Giovanna Pagani Cesa,
eds. — Venezia: [s. п.], 1982. — 323 p.
285. Nilsson N. Krucenych's Poem "Dyr bul cyl" // Scando-slavica. —
1986. — Vol. 24. — P. 139-148.
286. Ziegler R. Группа «4P» // Russian Literature. — 1985. —
Vol. XVII. — С 71-86.
297
Summary
This book is dedicated to the study of the absurd tendencies in the
works of Vladimir Sorokin, who throughout the past three decades has
been one of the key figures in contemporary Russian literature.
The focus of the research is targeted at three main constructs that
form Sorokin's artistic world: zaum, the grotesque and the absurd.
These absurd tendencies constitute a holistic aesthetic complex
which may be found throughout all stages of Sorokin's literary path.
It determines the uniqueness of the writer's creative method and is
representative in understanding his artistic thought.
Emphasis is placed on the content and semantic analysis of the
artistic texts. Understanding the noumenal value of Sorokin's creative
experiments (including experiments with zaum, usually interpreted as
purely formalistic) allows a critical attitude towards the deep-rooted
view of him as a radical postmodernist.
Analysis of the literary creations and testaments from the writer
himself allow the work of Sorokin to be divided into four main
periods which are connected with his overcoming certain artistic and
axiological complexes. Despite the undoubted originality, Sorokin's
creative evolution is a reflection of the general development of Russian
literature of the last quarter of the 20th century, with its transition
from late modernism to postmodernism and the further transformation
of the latter.
Sorokin's texts are examined in the book in close connection with
his ethical, historiosophical, literary and religious views, which had
a decisive influence in forming the artistic manners of the author.
Defining the axiological foundations of Sorokin's work demonstrates
that it was not linguostylistic games that were at the centre of his
attention, but rather the ontological problem of the existence of evil
and violence, closely linked in the writer's mind with the problem of
the relationship between artistic literature and the reality of life.
For this reason many of Sorokin's works are marked with an
uncompromising struggle with literary-centrism, "naturalization" of
artistic text and sacralization of the figure of the poet or the writer.
According to the author, it is the inability to differentiate living from
non-living, body from text that was one of the main sources of violence
298
in the 20th century. Deconstructing the genre and stylistic canons of
socialist realism, classical realism and classical modernism, Sorokin
manages to remove the "mystical web" from literary work. The main
means of desacralizing literary work was to use grotesque and absurd
poetics.
At the foundation of Sorokin's creative method, which was formed
under the influence of visual practices of conceptualism, pop art and
sots art, there lies a distanced attitude towards literature, the perception
of an artistic text as an object capable of being manipulated in any
way. This setup tears the literary work away from the ethical context
and makes it impossible to regard literature as a "textbook for life".
Such an understanding of the tasks of art goes against the traditions
of Russian classical literature, but hand in hand with the pursuits of
Russian and Western European avant-garde and postmodernism.
The unique feature of Sorokin's work is that, in a completely original
manner, he links postmodernist games with the Russian philosophical
idea of Russian classical literature as being responsible for the events
of Russia's 20th century history. The struggle with the "authoritarian"
power of text, which was the foundation for postmodernism, retained
its original characteristics and objectives in Sorokin's works. At the
same time, thanks to the writer it has acquired a national identity and
a historical, cultural and moral sense.
Sorokin is one of the most original experimentalists with the
concept of zaum language. Zaum is used by the writer throughout his
entire creative path in all typical (from phonetic to suprasyntactic) and
functional and thematic varieties (unknown language, sacral language,
pathological speech). Sorokin's masterpieces of zaum word creation
such as the short novel Letuchka (Briefing) in terms of the scale of the
conception and virtuosity of composition are comparable to the works
of the "classic" of zaum (Vladimir Markov) Ilya Zdanevich.
In the novel Norma (The Norm) and the collected works Pervy
Subbotnik (The First Saturday Workday), Sorokin made his first
approaches towards the theme of the absurdity of Soviet reality in
particular and of human life in general — a theme which was soon to
become dominant in his works. The reference to zaum — the style
characterised by Viktor Grigoriev as "extremely anti-normalizing", was
a logical step. Zaum and absurdism, aside from the deep connection
with what Sorokin later calls "Russian metaphysics", became a good
tool in the creative dispute with socio-realism as an extremely
normalizing style. Zaum language was not in last place amongst the
299
"tools" that Sorokin was using in his attempt to destroy the "concrete
wall that went by the name of Soviet literature".
One can talk not only the writer inheriting traditions of Russian
cubo-futurism, but also of the original development of such traditions.
The "new Russian language" which debuted in the novel Goluboye Salo
(Blue Lard) is an innovative artistic construct. The writer managed
to organically combine dissonant stylistic and language layers (unique
neologisms, barbarisms, archaisms, scientific terminology, new
idiomatic expressions, etc.) by creating the effect of an elusive and
vague sense. Sorokin's "new zaum" expressed the spirit of the end of
the 20th century no less than futuristic zaum responded to the mindset
at the beginning of the century.
Sorokin's use of zaum language in the context of socialist realistic
discourse may be considered as a private case of experimenting with
grotesque forms. It is typical for the writer to strive towards the
creation of an artistic reality that is believable and sometimes as close
as possible to real life, in which the author skillfully embeds fantastic
motifs, creating a characteristically grotesque situation of unstable
equilibrium between lifelikeness and fiction.
The endeavour to create the illusion of physical concreteness of
a portrayed image, the alienated character of grotesque imagery used
by Sorokin and the highly important relevance for him of "macabre
grotesque" are all indications of the writer's reliance on modernist
grotesque. Also, cases found frequently in Sorokin's works of distorting
artistic logic established by a certain literary tradition (primarily the
tradition of socialist realism) suggest the active use of postmodernist
grotesque forms.
Using the traditions of modernist and postmodernist grotesque,
Sorokin, in his novel Norma, created a grotesque model of Soviet
reality, revealing the "tragicomic contradictions between Soviet
mythology and reality" (Mark Lipovetsky). The first part of Norma is
a typical variant of modernist grotesque, when narrative as close as
is possible to real life is organically entwined into a fantastical motif.
The seventh part of this work is closer to postmodernist grotesque as
popular examples of socio-realistic poetry are subject to diffraction.
The artistic space of the novel Padezh (Cattle-plague), which is
located as it were at the junction of modernist and postmodernist
grotesque forms, is organised in a more complicated manner. On
the one hand the plot of this novel may be read, as in the words
of Lipovetsky as a "farcical paraphrasing of the canonical model of
300
socialist realistic narrative". On the other hand Sorokin strives to
conceal within this novel the real contradictions of the reality of
Stalinist times.
In the collected works Pervy Subbotnik there was a partial
breakdown of modernist grotesque characteristics, although as before
they have an impact on certain stories within the collection. However,
postmodernist grotesque assumed a dominant position in this collection
of tales. Focusing on the various styles of socio-realistic literature
Sorokin, in various ways, achieves the impression of the falsity of the
events taking place, deftly breaking down traditional artistic logic.
Going beyond the boundaries of socialist realism, sometimes
obviously and sometimes only a hint, allows one to assume that the
object of deconstructivist investigation in Pervy Subbotnik is not just
socialist realistic poetics, but realistic poetics also. The clichéd nature
of the most colourful works of the collection sets a corresponding
context for perception, but it is the mimetic principle per se that is
within Sorokin's "firing range", as well as any literature which strives
to "recreate life in the forms of life itself", be it authentic mimetism of
realism/naturalism or projective mimesis of socialist realism.
In Goluboye Salo Sorokin created an anti-world of the history of
Russian culture of the second half of the 20th century, condensing
it into a single space-time continuum. The use of grotesque imagery
enabled the writer to sharpen the main trends of the cultural process
of the last century bringing them to life in phantasmagoric scenes
of the not too distant future and an alternative past. The fantastical
plot of the novel is firmly rooted in real life in Russia: the image of
the "goluboye salo" (blue lard) is a semi-ironic equivalent of Russian
literary-centrism, an attempt to deify literature giving it extrinsic
functions and qualities. This novel was the final stage of an ambitious
deconstructivist project designed to expel the "demon of great Russian
literature, which laid claim to anything and everything".
Zaum and grotesque are used by Sorokin as artistic explications
of the absurd. Absurd tendencies in Russian literature, primarily
associated with the work of the OBERIU, were a direct development
of zaum experiments of cubo-futurists. The proximity of the grotesque
imagery to absurdism is characteristic of its inherent substantial
contrast. The close interaction of these artistic categories in the
literature of the 20th century led to the grotesque and the absurd
starting to be equated. Sorokin's artistic thought may legitimately be
described as absurdist: a conviction of the monstrosity of the modern
301
world and a profound disappointment in humankind accompany him
throughout his entire creative journey.
Sorokin made his first steps in realising absurd dramatic works in
his play Pelmeni (Ravioli). A classic example of an absurdist anti-play
was Zemlyanka (Dugout) which was written shortly afterwards. Fully
complying with the artistic principles of absurd drama the action in
this play is constructed like as in the evolution of a picture. The static
plot, the illogical polylogues of the protagonists, the zaum nature of
the inserted fragments may all be expressed as the absurdity of human
existence. In the plays Yubiley (Anniversary) and Dismorfomaniya
(Dismorfomania) Sorokin acted as a deconstructivist critic dissecting
the creative heritage of Chekhov and Shakespeare. The collage
synthesis of the works of these authors leads to a loss of notional and
cause and effect relationships thereby creating an absurd effect.
The novel Serdtsa Chetyrekh (The Hearts of Four) was Sorokin's
most ambitious, complex and multi-layered absurdist work. Absurdist
tendencies are seen in the novel on a narrative and compositional,
genre and stylistic level. Paradoxical linguostylistic manipulation and
illogical discourse transitions are used by the author in order to break
down the automaticity of perceiving the artistic text. In this work the
author achieved a truly extreme concentration of both absurdity as
well as cruelty, thus revealing the conventional nature of an artistic
statement and its independence from ethics.
In Trilogiya (Ice Trilogy) the category of the absurd acquired
substantial characteristics becoming an expression of the beginnings,
inherent in the author's view, of real life itself. The core method in
this work is defamiliarization, which is used by the author in order
to portray an extremely alienated view of the world. Using mystical
rationale, Sorokin created an impressive picture of the absurdity of
the modern world. In his early works he may have resorted to radical
critique of language, yet in Trilogiya it was real life itself that was
subjected to such fundamental "deconstruction" and this was rendered
by the author with factual precision.
In summation one can with all certainty conclude that Vladimir
Sorokin is not only a central figure in Russian postmodernist prose, but
also one of the most influential absurdist writers in Russian literature.
302
Содержание
Предисловие 5
Введение
Аксиологические основания творчества В. Г. Сорокина 8
Периодизация творческого пути 31
Заумь
Теоретическая преамбула 71
Рецепция «классической» зауми 83
Заумный язык будущего в романе «Голубое сало»
и книге «Пир» 124
Заумь как прием остранения в романной «Трилогии» .... 137
Гротеск
Теоретическая преамбула 142
Гротескная модель советской действительности
в романе «Норма» 150
Поп-артовский гротеск сборника «Первый субботник». ... 186
Роман «Голубое сало»: российская история
в кривом зеркале гротеска 195
Абсурд
Теоретическая преамбула 204
Абсурдистские антипьесы Сорокина 219
Роман «Сердца четырех»: апофеоз абсурда 237
Абсурд жизненного бытия в «Трилогии» 254
Заключение 274
Список цитируемой литературы 280
Summary 298
303
Максим Марусенков
Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина
Заумь, гротеск и абсурд
Главный редактор издательства И. А. Савкин
Дизайн обложки И. Н. Граве
Оригинал-макет Л. Г. Иванова
Корректор Д. А. Потапова
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (отдел реализации),
aletheia@peterstar.ru (редакция)
www.aletheia.spb.ru
Фирменные магазины «Историческая книга»:
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37
Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Гилея», Тверской б-р., д. 9. Тел. (495) 925-81-66
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин издательства «Совпадение».
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84
Подписано в печать 12.09.2011. Формат 60x88 Vis
Усл. печ. л. 18,57. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ №