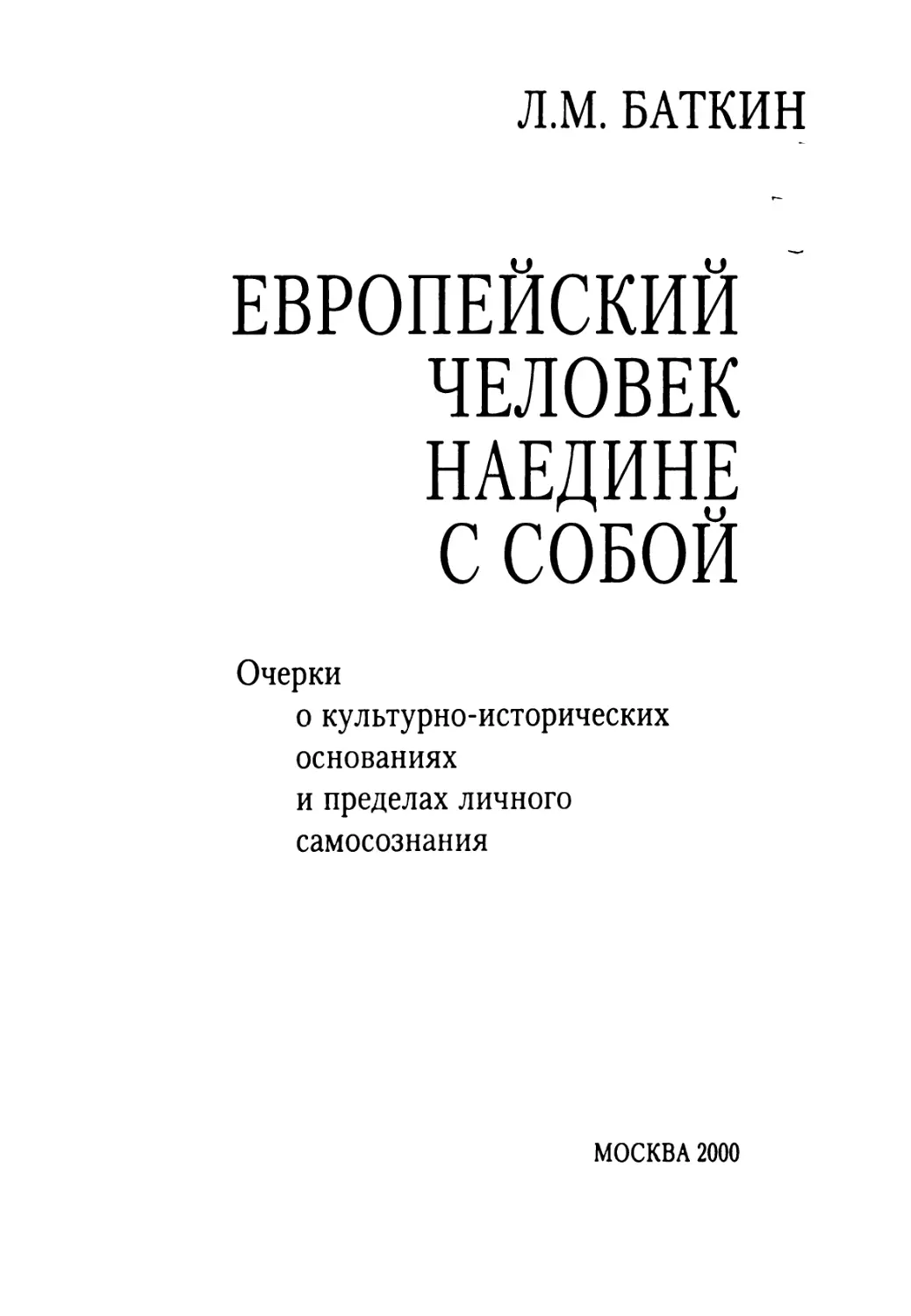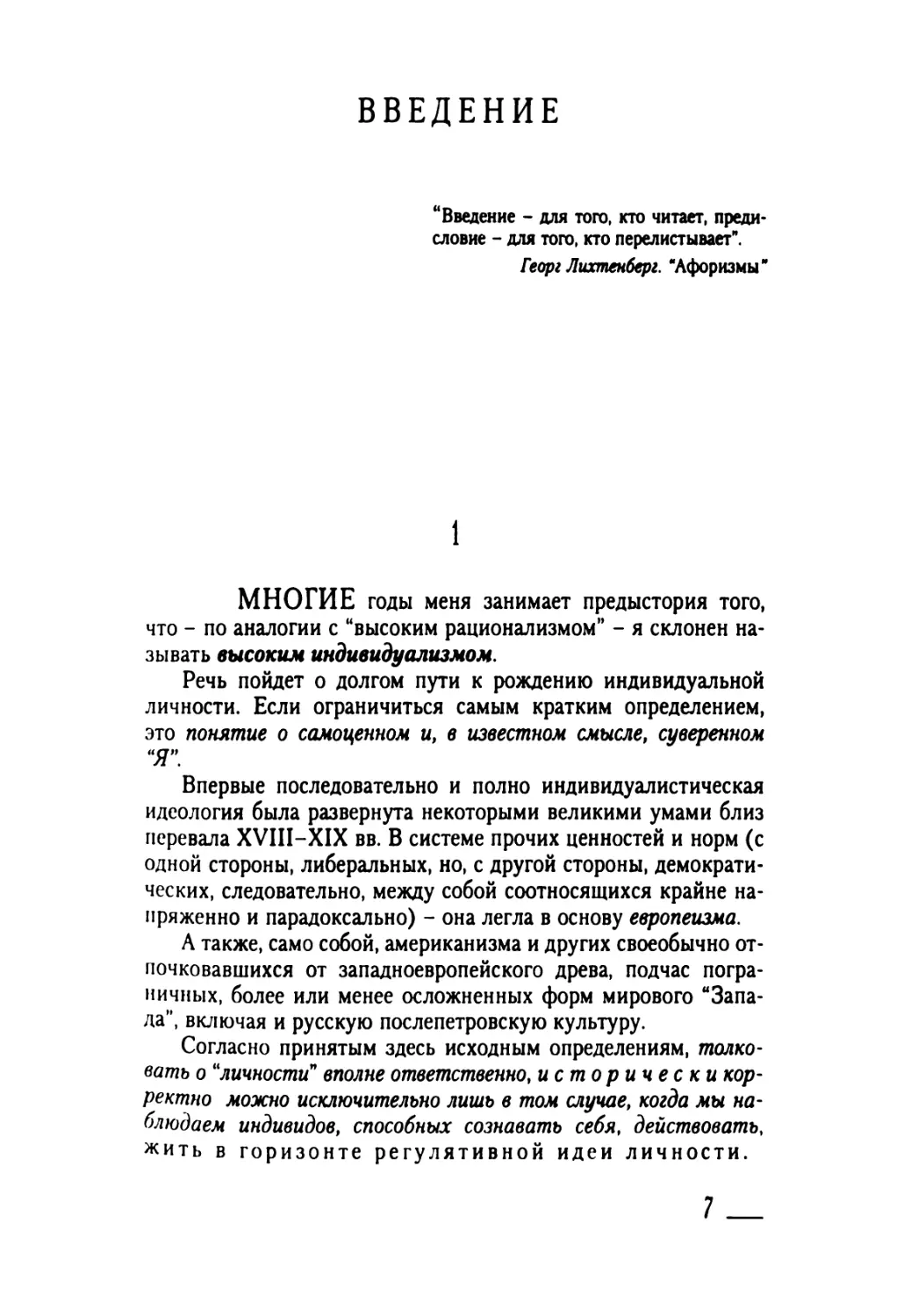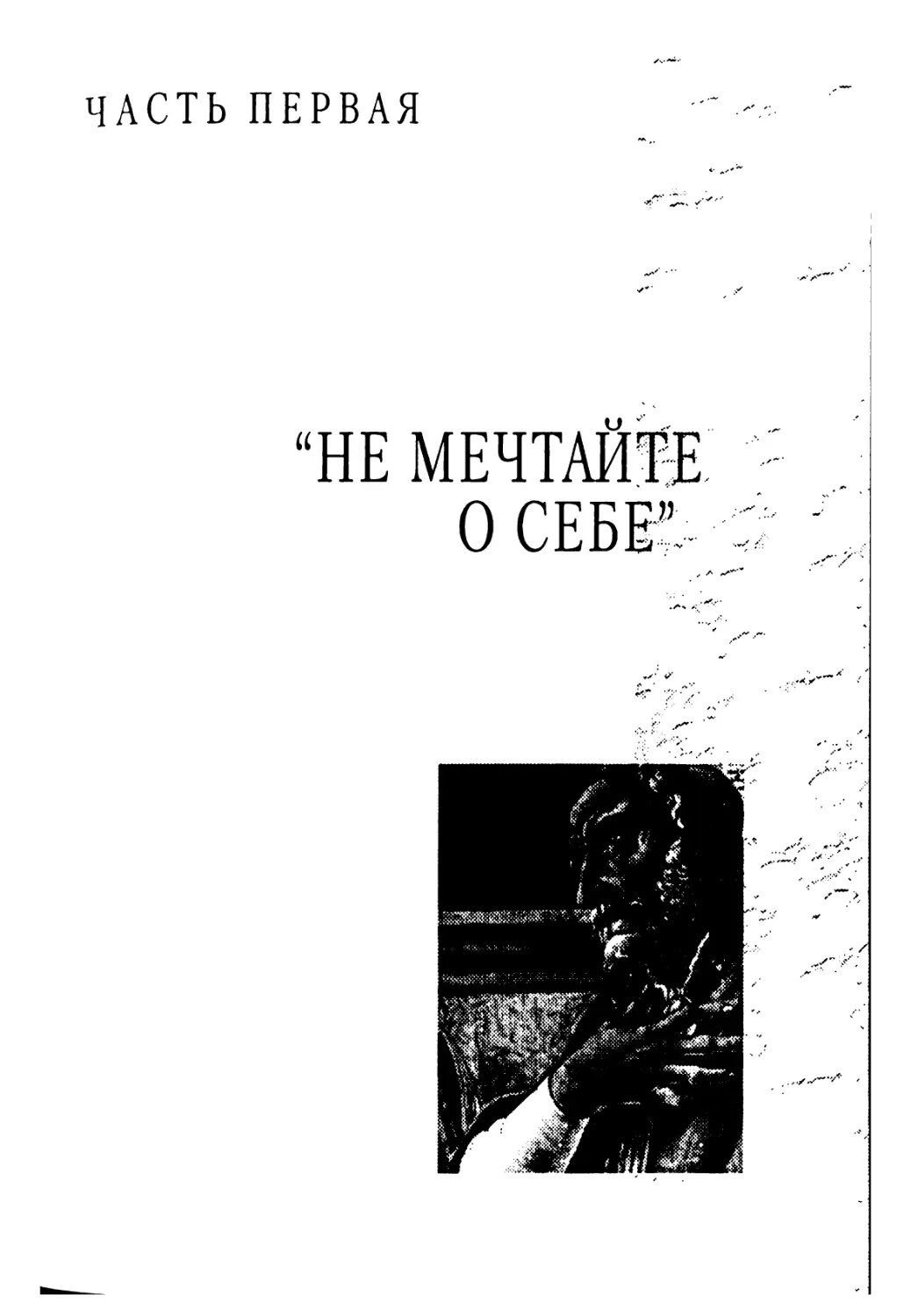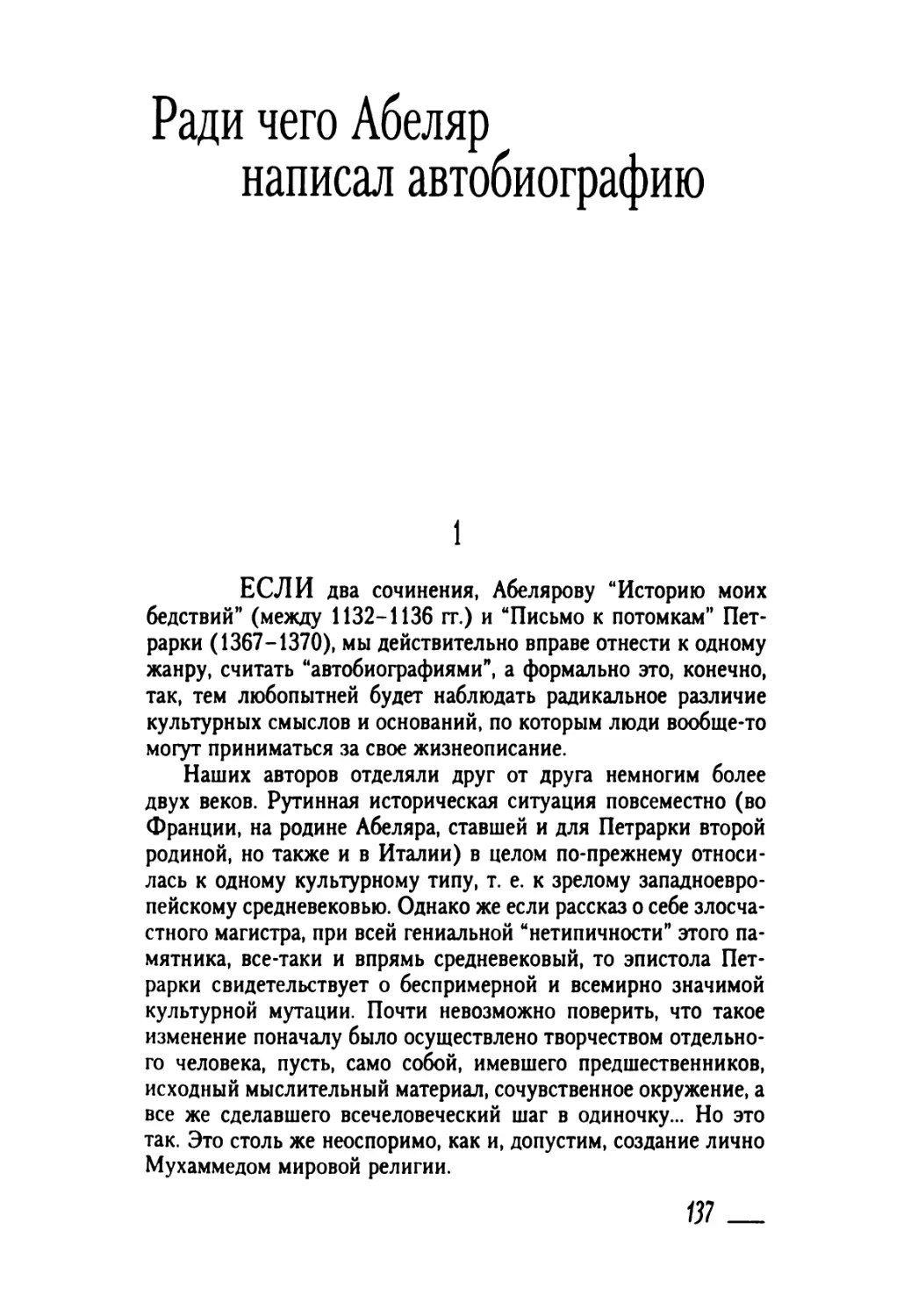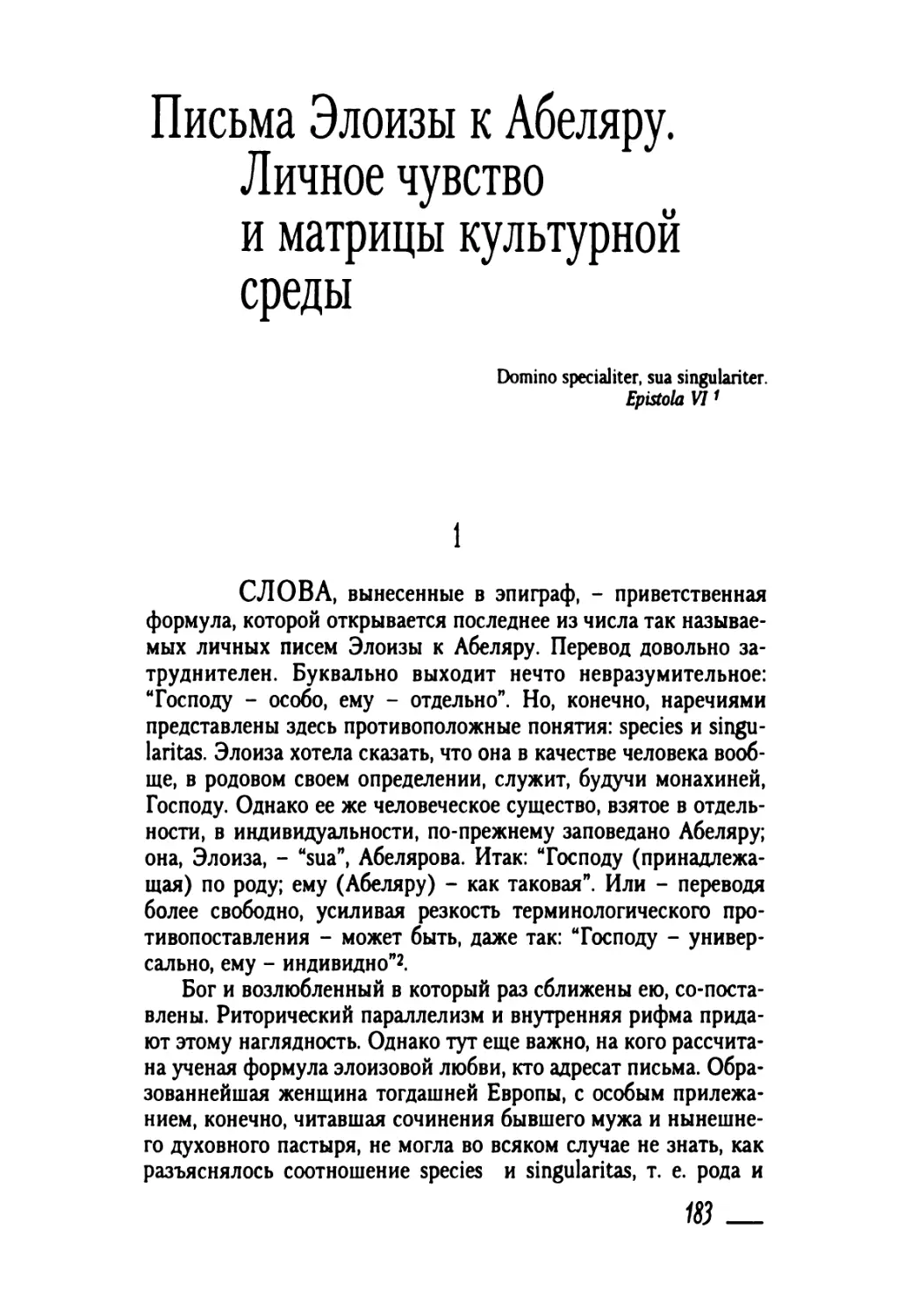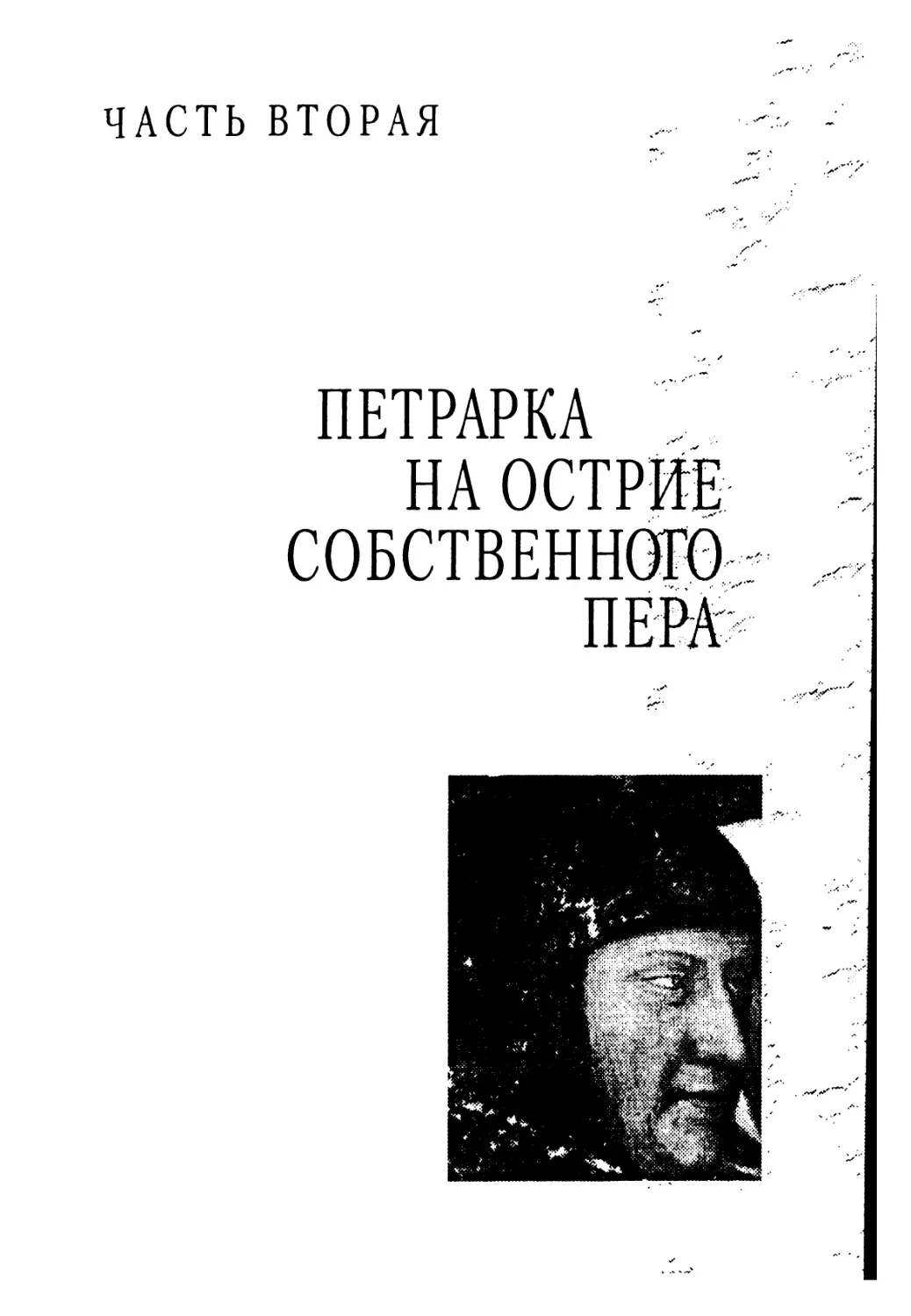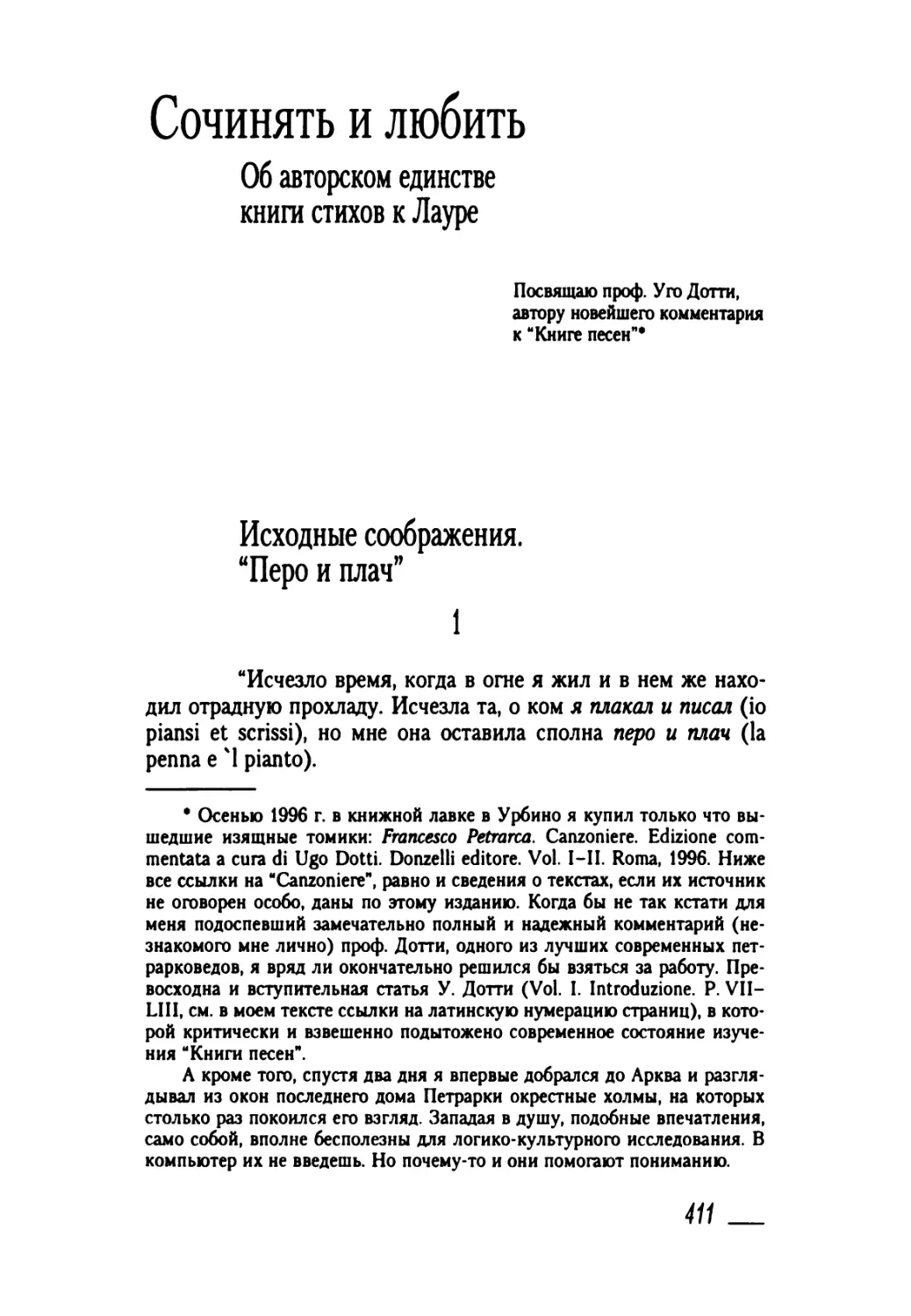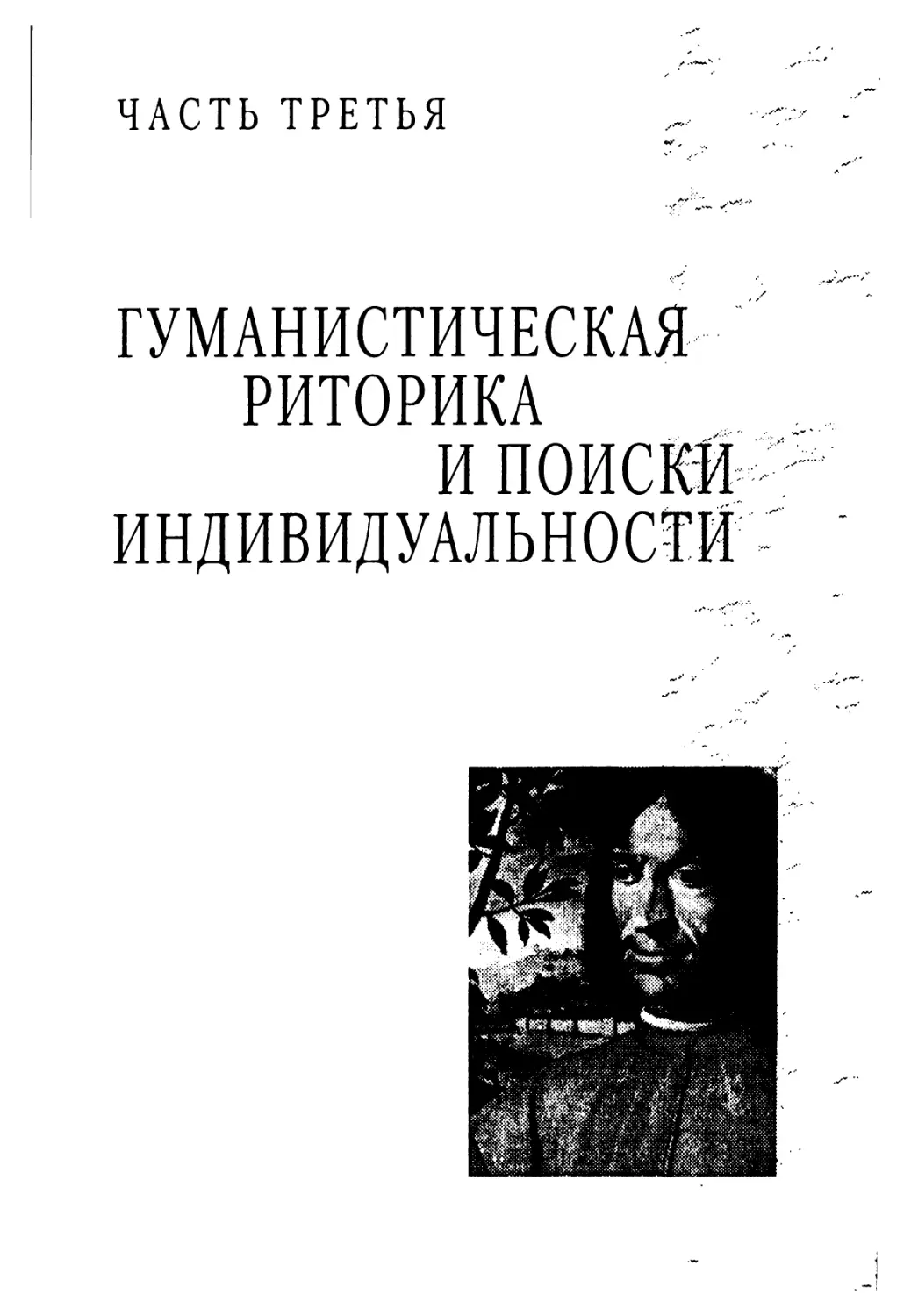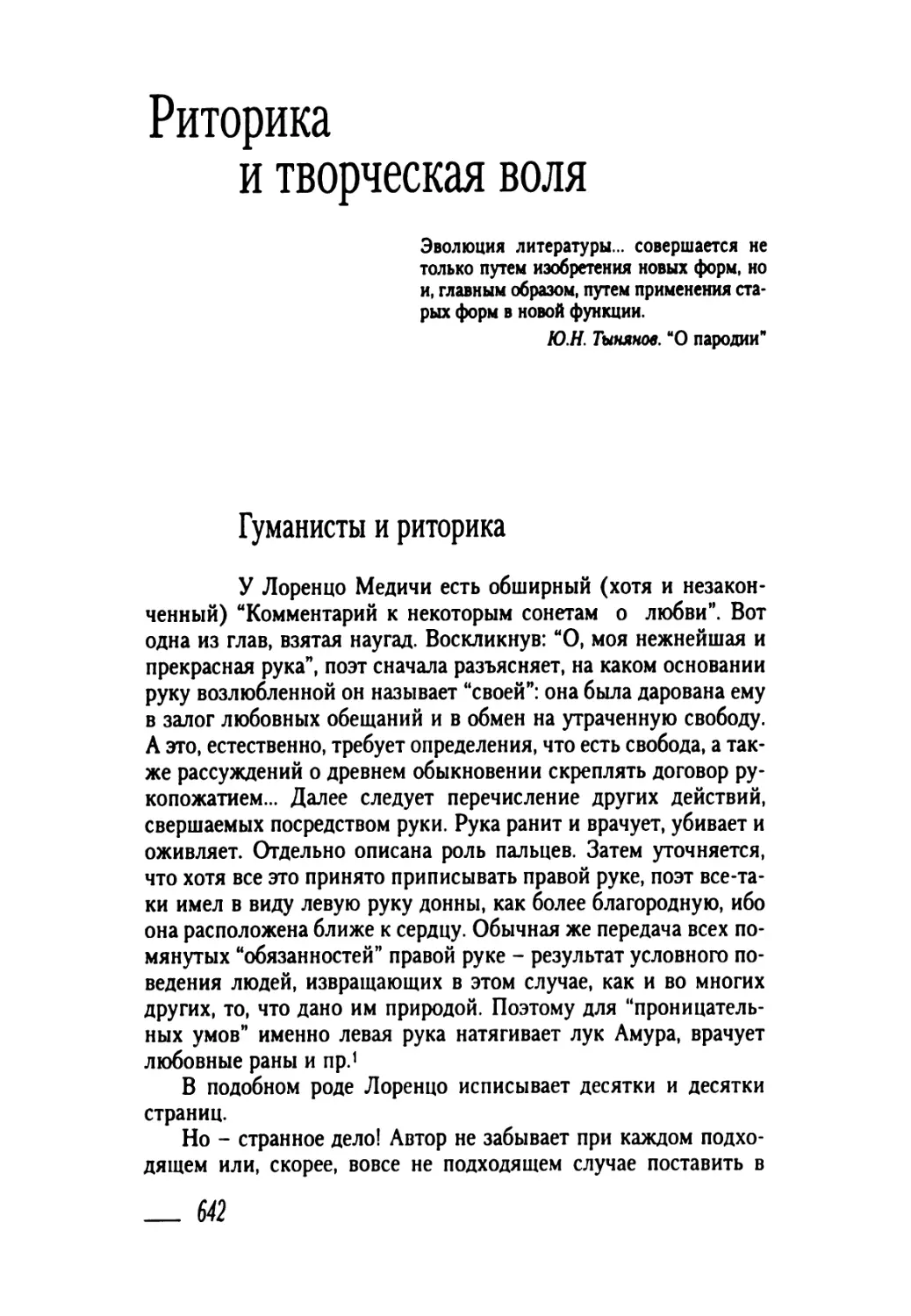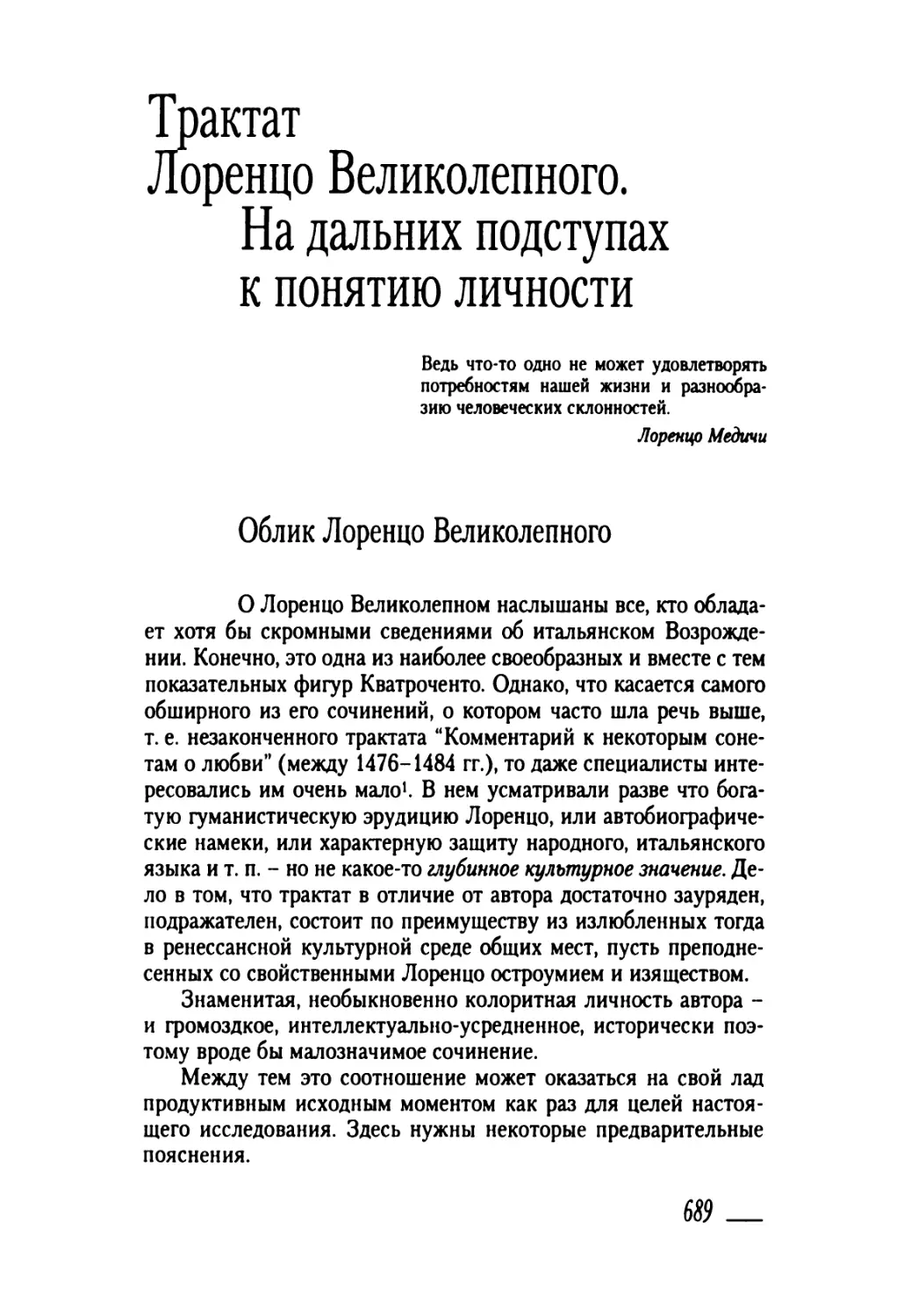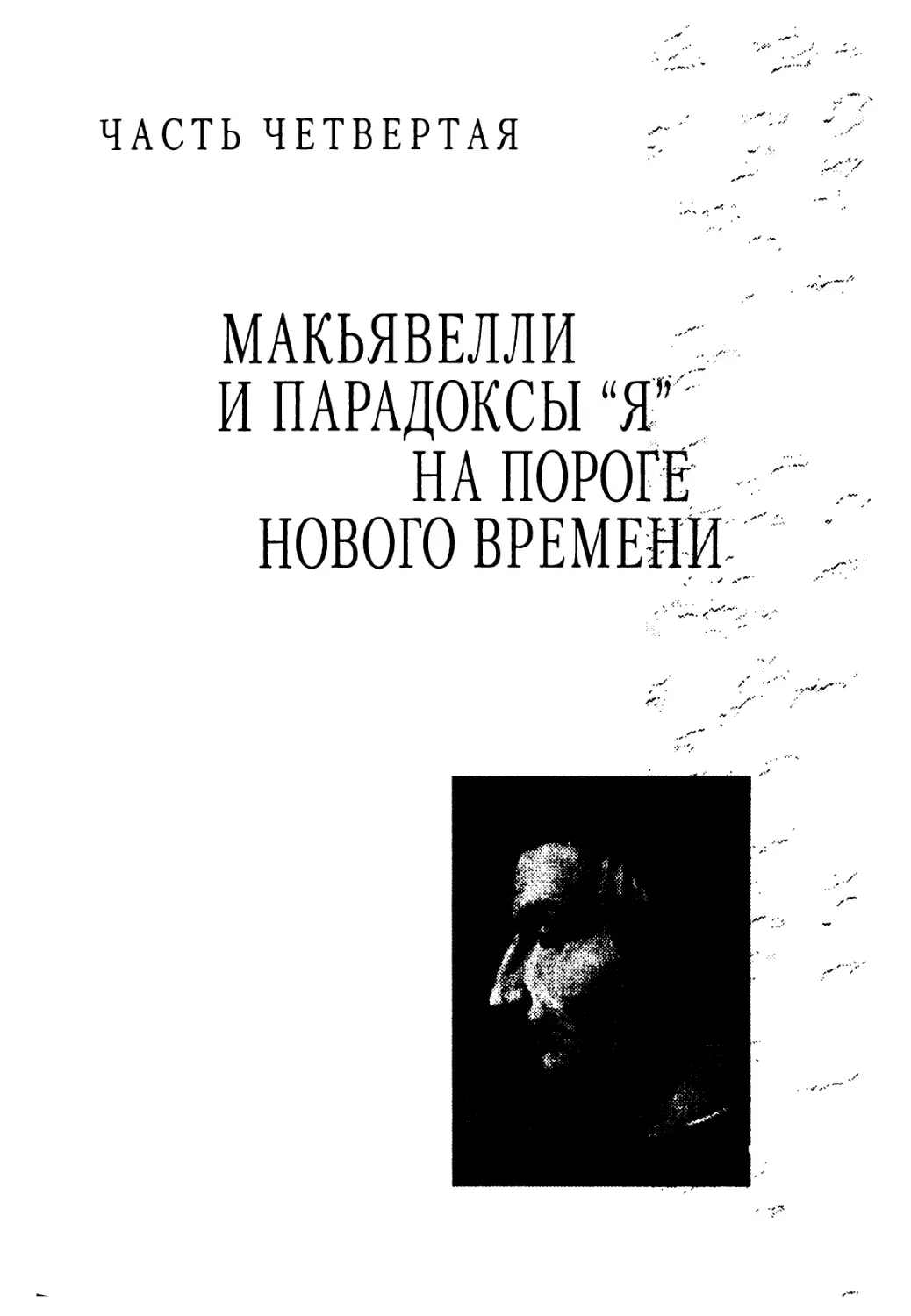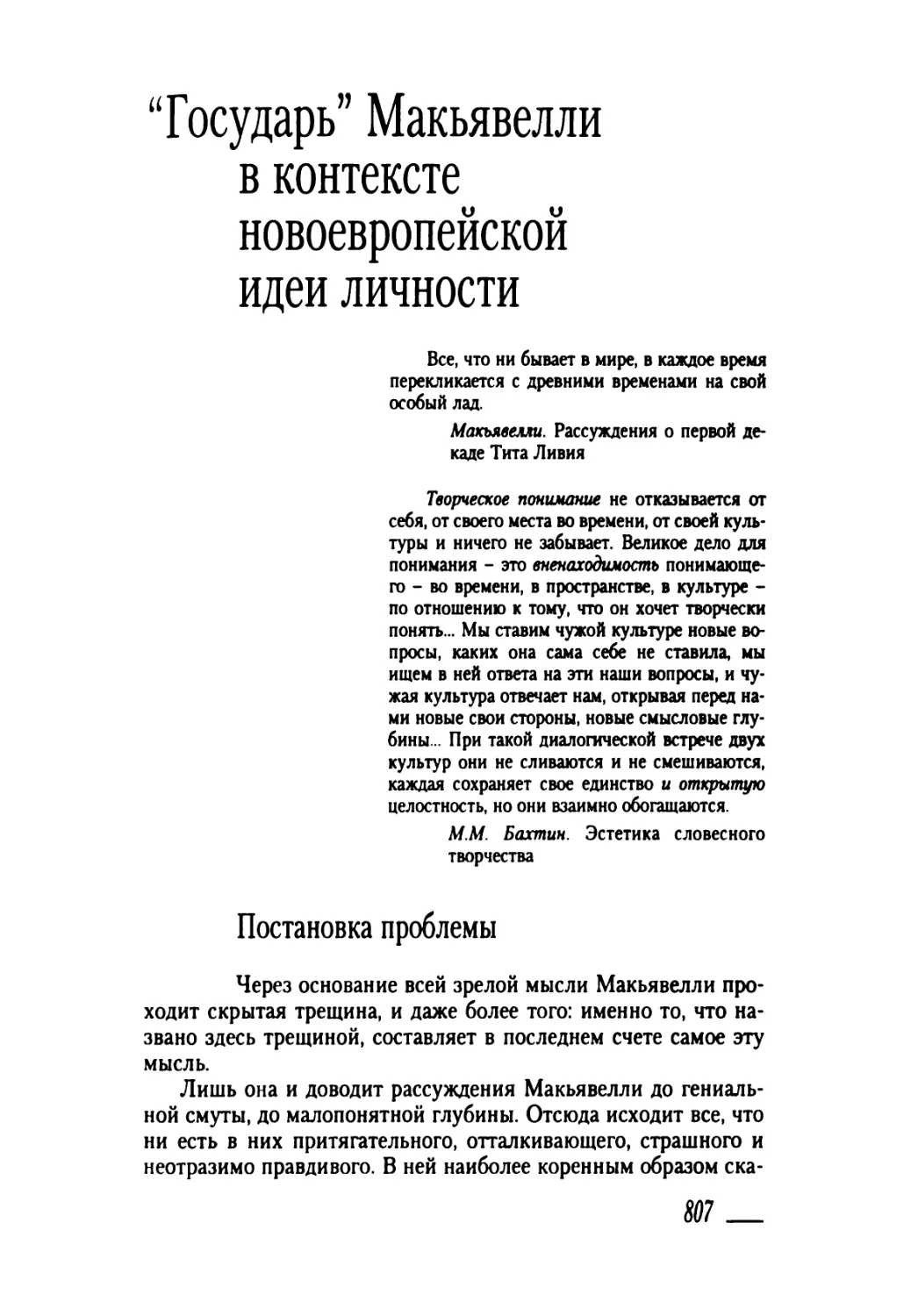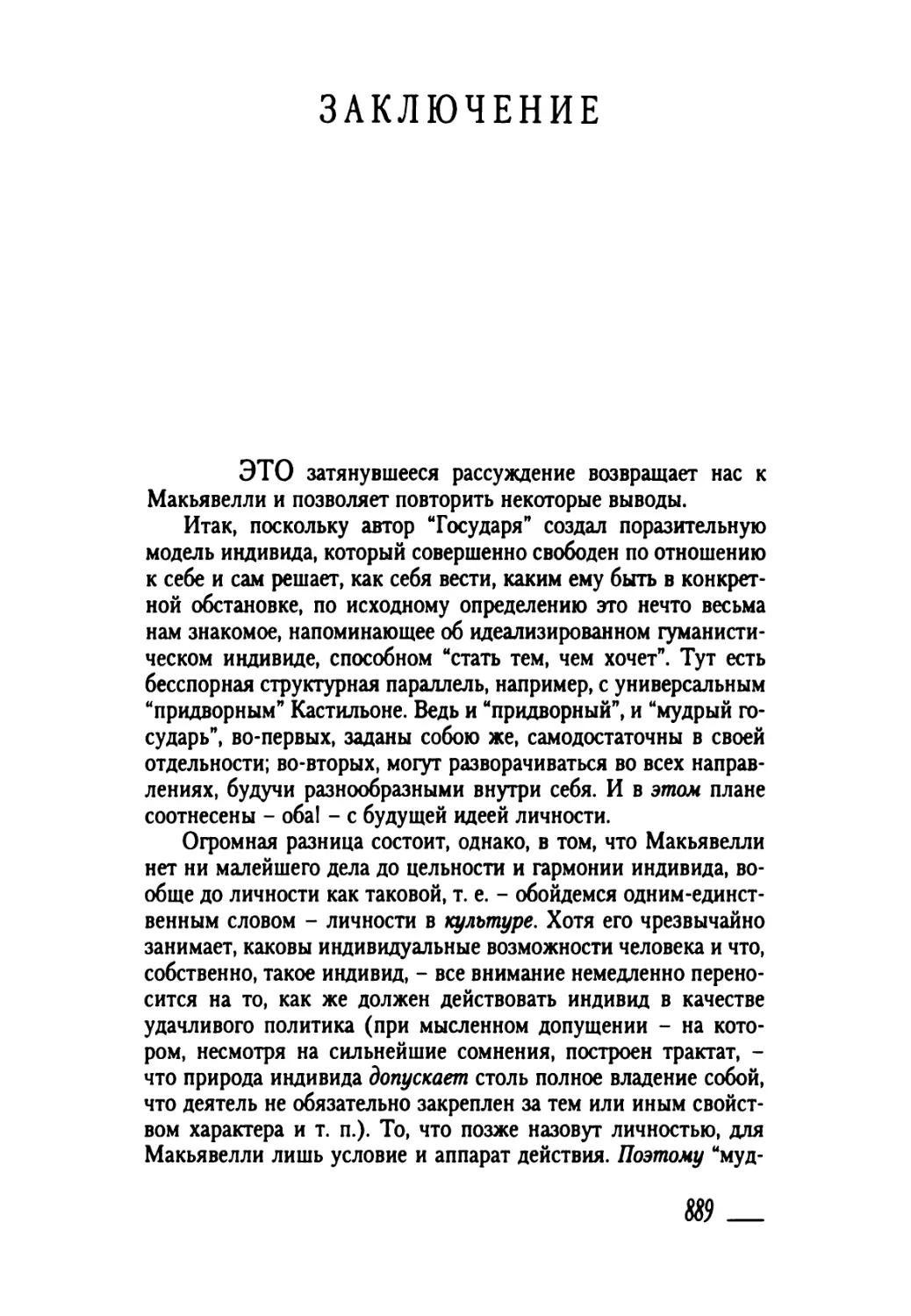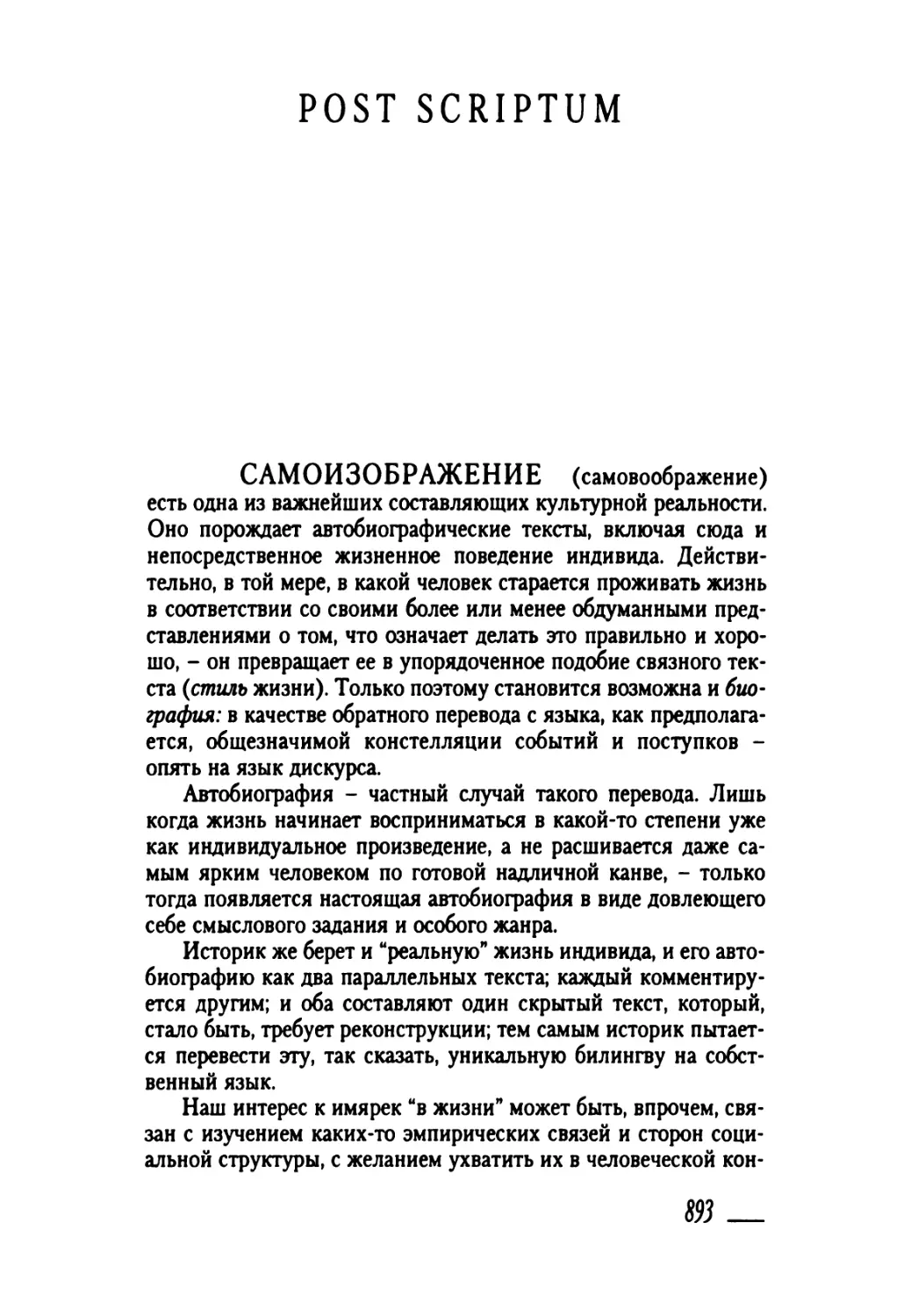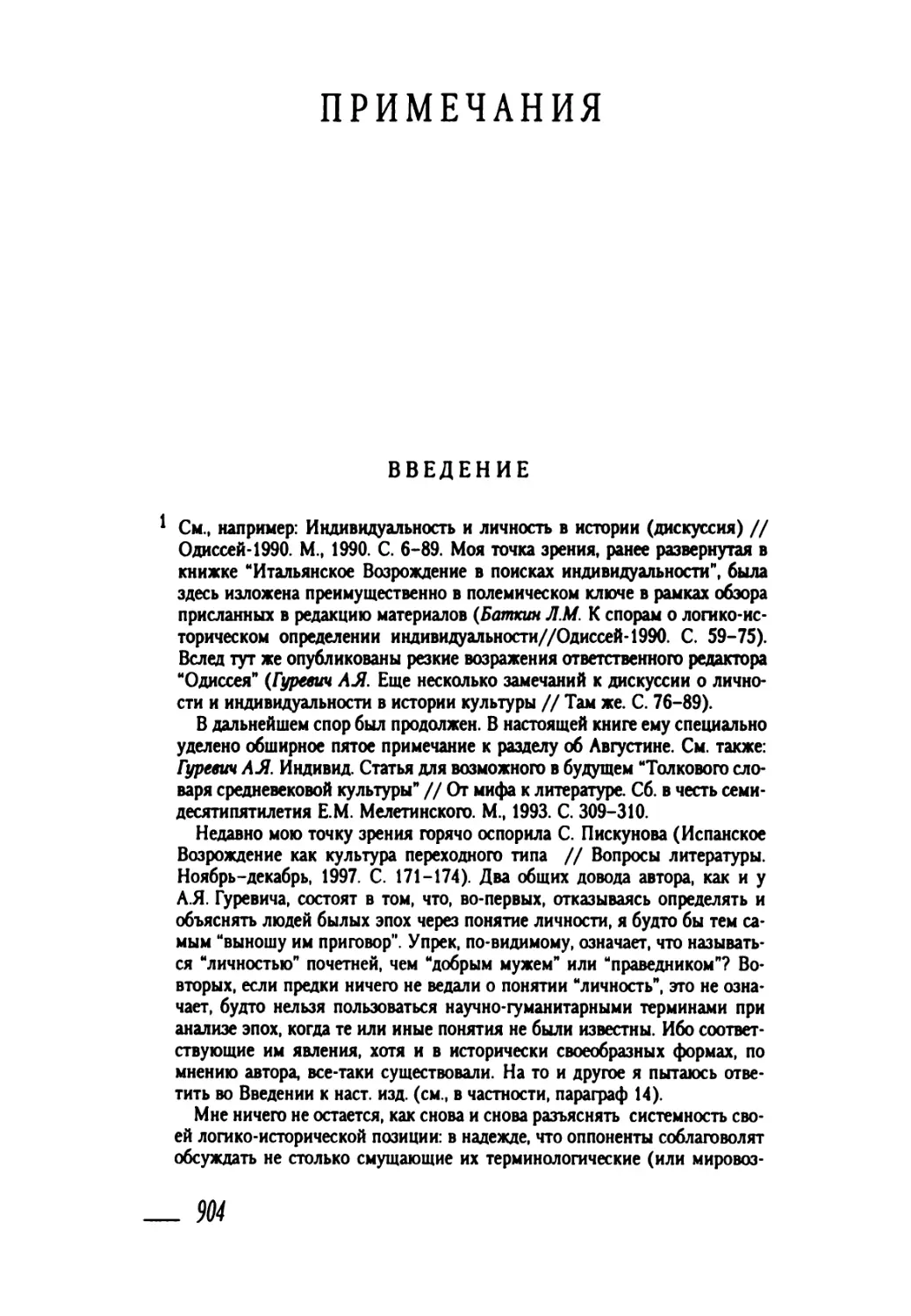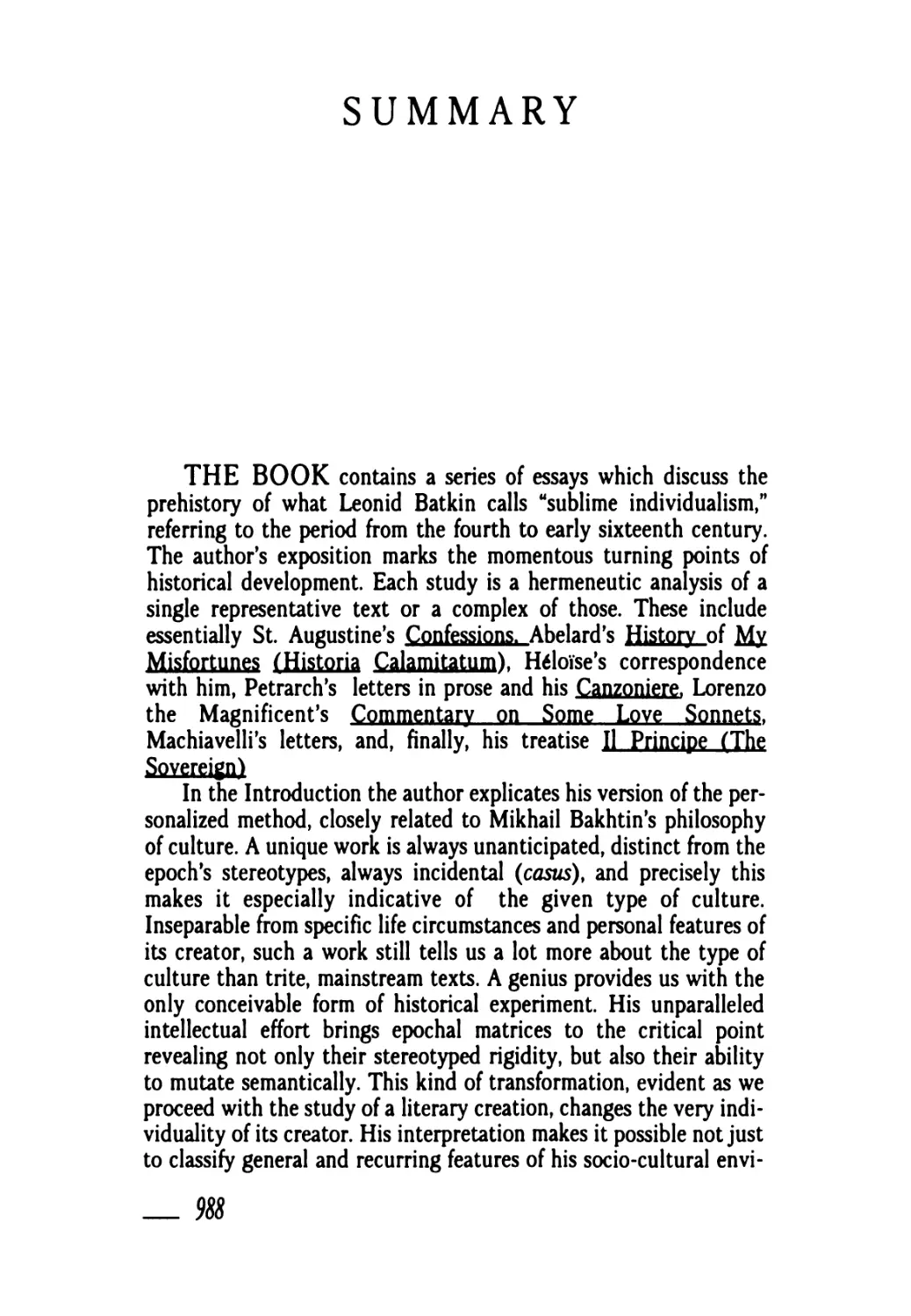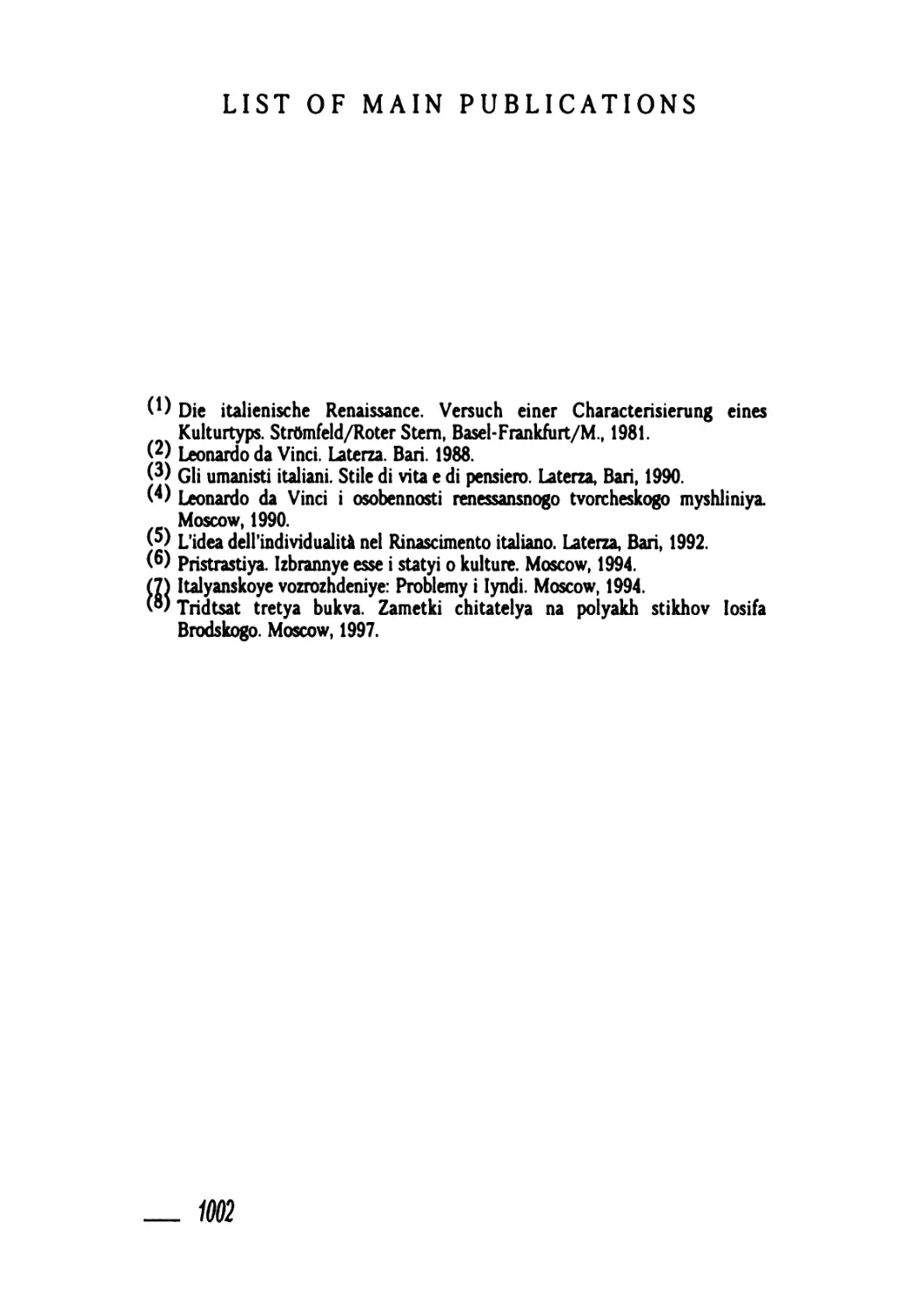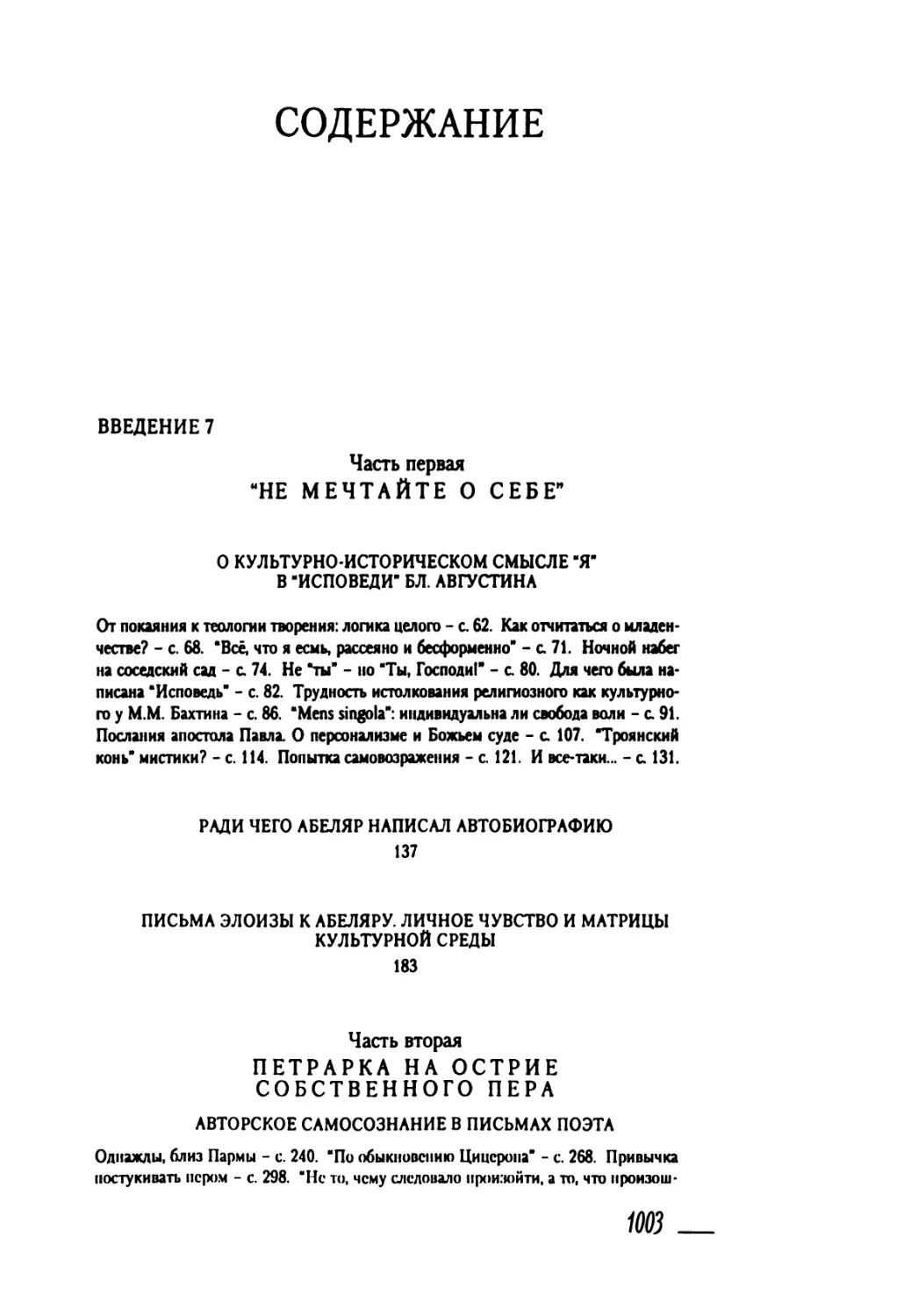Text
Л.М. БАТКИН
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЧЕЛОВЕК „
НАЕДИНЕ С СОЮИ
РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
инаитуг
высших
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕРИЯ
ИСТОРИЯ
И ПАМЯТЬ
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЧТЕНИЕ
I МЕГАПРОЕКТ .
"■tUfU д,ЩЯ noccuuw* л..а
*ля российских библиотек \
L.M. BATKIN
THE EUROPEAN
INDIVIDUAL
ALONE
WITH HIMSELF
Л.М. БАТКИН
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЧЕЛОВЕК
НАЕДИНЕ
С СОБОЙ
Очерки
о культурно-исторических
основаниях
и пределах личного
самосознания
МОСКВА 2000
Августин
Абеляр
Элоиза
Петрарка
Лоренцо Великолепный
Макьявелли
vi
- dU %!rt«t^<vL fcrnr
J ι
J^à. cita ft
V
<·**
ББК86.3
Б28
О Л.М. Баткин, 2000
О Российский государственный
ISBN 5-7281-0405-3 В"*"* У"·"*«*™-
ВВЕДЕНИЕ
"Введение - для того, кто читает,
предисловие - для того, кто перелистывает".
Георг Лихтенберг. "Афоризмы"
1
МНОГИЕ годы меня занимает предыстория того,
что - по аналогии с "высоким рационализмом" - я склонен
называть высоким индивидуализмом.
Речь пойдет о долгом пути к рождению индивидуальной
личности. Если ограничиться самым кратким определением,
это понятие о самоценном и, в известном смысле, суверенном
"Я".
Впервые последовательно и полно индивидуалистическая
идеология была развернута некоторыми великими умами близ
перевала XVIII-XIX вв. В системе прочих ценностей и норм (с
одной стороны, либеральных, но, с другой стороны,
демократических, следовательно, между собой соотносящихся крайне
напряженно и парадоксально) - она легла в основу европеизма.
А также, само собой, американизма и других своеобычно
отпочковавшихся от западноевропейского древа, подчас
пограничных, более или менее осложненных форм мирового
"Запала", включая и русскую послепетровскую культуру.
Согласно принятым здесь исходным определениям,
толковать о "личности" вполне ответственно, исторически
корректно можно исключительно лишь в том случае, когда мы
наблюдаем индивидов, способных сознавать себя, действовать,
жить в горизонте регулятивной идеи личности.
Введение
В качестве личности, т.е. собственной причины (causa sui),
индивид держит метафизический и нравственный ответ только
перед собою же. Это, конечно, не означает, будто он не признает
высших начал, оснований и образцов. Но не в качестве предна-
ходимых. Напротив, как личность человек отвечает не только
перед ними, но особенно за них. То есть за то, что сам же
вообразил, помыслил, утвердил - на свой страх и риск - в качестве
таковых начал, оснований, образцов. Это его выбор, его
убеждения, не более того. Но и не менее. И он достаточно отдает себе
в этом отчет. Признавая право других людей жить
соответственно столь же личным основаниям, возможно, совсем иным,
он присваивает таковое право и для себя.
Он исходит из себя. Иначе говоря, покидает себя ради
верности себе же. Чтобы "стать собою".
Ибо каждое "Я" не совпадает с собою на свой особенный
лад. На этом строится его относительная целостность. Миро-
чувствование и мировоззрение суть та индивидуально
выработанная, выстраданная сторона личности, которую человек
признает в себе важнейшей и несравненно большей, чем он.
2
Именно в горизонте идеи личности индивид всегда
"не как все" и - в пределе - уникален независимо от степени
личной яркости, от своего масштаба, значительного либо
самого скромного. Потому что новоевропейское "Я" принципиально
несводимо ни к каким группам и общностям.
Такое "Я" напрямую воплощает всеобщность в форме
особенного.
Оставаясь изнутри, т. е. β отношении себя же (в
свободном смысловом общении с собою и другими), неготовой,
неравной себе, - вовне личность выступает и воспринимается
как достаточно твердо очерченная индивидуальность.
В современной историко-культурной и философской
литературе определениям этих исходных понятий, как ни странно,
сопутствует фантастический разнобой. Все сказанное выше,
хотя известно, тем не менее не только не является
общепризнанным - что в порядке вещей - но нередко сталкивается с
разительным непониманием1.
_ 8
Введение
В этой ситуации подробные разъяснения, надеюсь, не
покажутся излишними.
3
Своеобразные люди встречались, конечно, всегда и
всюду. Надо предполагать - даже в палеолите, иначе мы до сих
пор там и оставались бы.
Однако это не означает, что во всякую эпоху такие люди
сами дорожили в себе - и общество в них - именно личной
оригинальностыо,»или хотя бы признавали ее естественным
человеческим свойством, или вообще замечали и знали, что это
такое.
Ни об одной культуре вплоть до нового времени вот уж
нельзя было бы сказать, что она прежде всего стремилась
уяснить и обосновать независимое достоинство особого
индивидуального мнения, вкуса, дарования, образа жизни. Словом - если
это не задевает такой же свободы других людей, -
самоценность отличия.
Напротив. Получив первые импульсы в итальянском
Возрождении, пройдя череду сложных превращений от XVII в. до
романтиков, эта либеральная идея сформировалась, как уже
было отмечено, с конца Просвещения и в прошлом столетии
стала торить себе дорогу, сначала лишь на европейской и
американской почве, затем и на всемирной, понемногу утрачивая
дерзкую непривычность.
Но и в 1859 г. Джон Миль все еще свидетельствует, что
мысли на сей счет Вильгельма фон Гумбольдта пока "вне
Германии" мало кто понимает2. "Вне Германии" к тому же явно
значило "вне немецкой ученой среды".
4
Идея "индивидуальности", как это ни кажется
странным, была неизвестна всем традиционалистским обществам,
включая греко-римскую античность. Само это слово, как и
слово "личность", появилось каких-то двести-триста лет тому
назад. Хотя языковые корни стары, как мир. Последнее мешает,
пожалуй, ощутить огромную семантическую разницу между
9_
Введение
individu, individual, Individuum и individualité, individuality,
Individualität!1 Дело в том, что специфическое и
революционизирующее представление об индивидуальности чаще всего
спутывают с представлением об индивидности, которое по
необходимости действительно было знакомо любой культуре,
поскольку отражает всегдашнюю биосоциальную данность.
Эта фундаментальная надысторическая данность заключена
попросту в том, что человечество состоит из людей. И потому,
во-первых, разумность, будучи возможной только в виде знания
вместе с другими, со-знания, со-вести, con-scientia,
одновременно есть знание (весть) лишь в голове отдельного человека. Она
продолжается за пределами отдельных сознаний,
перекатываясь через них и словно бы унося их в своем вечном потоке. Но
и всякая малая индивидная толика мировой разумности больше
своего целого, ибо вмещает его в себя и порой пытается
добавить к нему еще нечто - собою. Любая культура не могла не
задумываться над этой парадоксальностью сознания, над
соотношением в нем всеобщего духа и отъединенного, частичного
существования.
Во-вторых, человеческая природа, подобно, впрочем, всему
живому, неоднородна. Как между телами индивидов, между их
лицами, голосами, жестами и т. д. нет полного сходства, так и
души их, темпераменты, нравы и склонности предстают
похоже-непохожими. Пытались обозреть и упорядочить это
разнообразие, отнеся каждого человека к известной разновидности и
разряду. На манер "Характеров" Теофраста. Тем самым
удавалось не оставить никого единственным в своем роде и
объяснить своеобразие, сводя его к общему.
Эти два элементарных и первичных факта -
обособленность каждого человека и некоторое его отличие от других
особей, - а лучше, один, целостный факт единичности,
усугубленной особостью, - вот что от века являлось чем-то загадочным,
как вообще загадочно все элементарное и первичное.
Традиционалистского индивида на Западе, как и на
Востоке, томила, мучила, требовала прояснения самое ин-дивидность,
in-dividuitas, т. е. "неделимость" человека как ав[ы]-деленность",
как результат того, что он есть часть (доля) во вселенском
человечестве. Единство осуществляется в качестве множества.
"Индивид" - слово, которое определяет отдельного человека через
__ 10
Введение
его включенность в множество. И, стало быть, через его
случайность, несамостоятельность или, как выражались схоласты,
через акциденцию "вот этого человека", отличную от
общечеловеческой субстанции.
5
Существование корпускул человечества создавало
проблему для сознания людей, чья жизнь была неотделима от
рода, общины, конфессии, корпорации и т. п. и чья духовность
нуждалась в абсолютной точке отсчета. Индивидность
существования была, конечно, очевидностью - но очевидностью
пугающей - и, в некотором смысле, иллюзорной, как и всякое
множество по отношению к Единому. От мнимой психической
атомарности, от поверхности вещей мысль упорно сворачивала к
тому, что отдельный человек подлинен лишь постольку,
поскольку поставлен в общий ряд и в конечном счете сливается с
мировым субстанциональным началом. В этом плане истинно и
единственно индивиден лишь Космос или Бог.
Я сознаю, что подобными замечаниями многообразная
историческая реальность традиционализма описывается в самых
грубых чертах, без важнейших оттенков и оговорок. И все же:
при всех подробностях античных или иудео-христианских
социокультурных моделей, оказавшихся столь существенными на
переломе к новому времени, когда эти своеобразия были
исторически востребованы и когда, собственно, впервые возникли
"Запад" и "Восток", - до тех пор в традиционных обществах
(также и в европейском Средиземноморье) обособленность "я"
оценивалась отрицательно. "Я" воспринималось никак не само
по себе, но лишь в контексте причастности.
Альфой и омегой всякого индивида была социальная и
религиозная общность, к которой он принадлежал. Из надличной,
авторитарной и абсолютной инстанции выводилась - и к ней
возвращалась - всякая выделенность из толпы.
Ибо все это не означает, будто никто не выделялся или что
превосходство не поощрялось. Такого не могло бы быть даже
среди тибетских лам, мусульманских дервишей или
христианских пустынников. Однако они выделялись как раз служением
надличному, образцовой отрешенностью каждого V от себя.
11 _
Введение
Мы помним об олимпийских лаврах, об "агоне", сплошной
состязательности у древних эллинов. О римских "триумфах" и
прочих почестях выдающимся гражданам. Мы помним о
средневековых воинских, а позже и поэтических турнирах, об
эпическом прославлении Роланда и Зигфрида, наконец, о
церковных житиях и беатификациях, о юродивых и святых.
Но историка интересует история, а не антропология. То
есть не те закономерности человеческой психики, которые
предполагаются вынесенными за скобки всех эпох и которые
именно поэтому ничего не объясняют ни в одной эпохе. Речь
пойдет не о всегдашней способности индивида сознавать себя в
качестве такового и так или иначе выделяться среди себе
подобных. Но исключительно о том, каковы смысловые
основания, по которым это могло происходить.
Эти основания, разумеется, особенные для каждого
исторического типа личного самосознания. Но притом известно и
самое широкое различие между всеми традиционалистскими
моделями V, вместе взятыми, по отношению к
индивидуалистически-автономному самосознанию личности нового времени3.
6
Ведь можно чтить человека, стоящего первым в ряду,
а не вышедшего наособицу из ряда вон. Можно высоко ценить,
считать выдающимся некоего индивида, но вовсе не за то, что
делало бы его ни на кого не похожим и неподражаемым - и
ничего даже не подозревать о возможности подобной
бессмысленной ситуации.
Выделенность античного героя, атлета, полководца или
ритора, как и избранность средневекового праведника, есть вместе
с тем наибольшая степень включенности, нормативности,
максимальная воплощенность общепринятого.
Короче, образцовость.
Следовательно, нечто противоположное тому, что мы
понимаем под личностью.
Ведь как раз индивидуальному чужому опыту подражать
невозможно, по определению. Поэтому, как известно, в
новоевропейской культуре начали усматривать в подражании
необходимый, но обязательно снимаемый момент формирования ин-
_ 12
дивидуальной личности. Ну, а в подражательности не
преодоленной, не растворенной в данном Я - признак человеческой и
творческой незрелости. Всякое, в частности художественное,
достоинство теперь отождествляли с новизной, с "лица
необщим выраженьем".
Личная оригинальность способна вмещать в себя,
разумеется, сколько угодно знакомого, традиционного, давнего,
прочного, но непременно в своем повороте, в самобытном видении
мира. Так что даже и знакомое получает статус незнакомого. И вот
прежние мысли складываются так, как никогда еще не
складывались. Это уже другие мысли, потому что они пронизаны
некоей новой доминантой, сдвигающей с мест все помысленное
предшественниками. Прежние образы, прежняя поэтика
переплавляются новым воображением, ранее не встречавшимся под
солнцем. Словом, добавка небывалой компоненты (как
правило, сознательной) меняет хотя и не весь, конечно, состав
вещества культуры, но его смысловые задачи и функции. Традиция
потому и сохраняется, что прямо или косвенно отрицается. Или
ее не позволяет забыть полемика с ней, или она преображается,
попав в новую мыслительную и художественную систему4.
7
В этой книге будут рассмотрены некоторые давние и
трудные шаги европейской культуры на пути к идее
оригинальности и суверенности индивида - идее, с которой мы сжились
настолько, что едва ли отдаем себе отчет, в какой мере
оригинальна сама эта идея, насколько она исторически нова и почему
нелепо, вместе с тем, видеть в далеких цивилизациях ее
подготовку, какие-то ранние зачаточные формы новоевропейских
феноменов и понятий.
В первой фразе Введения было сказано о "предыстории"
индивидуализма. Ну, а теперь постараемся убрать из этого
подсобного и описательного слова какой бы то ни было
концептуальный привкус.
Вообще-то, к сожалению, и поныне нет ничего более
расхожего, чем взгляд на прошлое как нашу предысторию. Занятно,
что посредством столь явного эгоцентризма современность,
скорее, принижается, поскольку в качестве "высшей точки раз-
ö_
Введение
вития" культуры XIX и XX вв. теряют своеобразие. Что до
культур давних, которые желали бы возвысить, подтянув к веку
нынешнему, то при этом и они остаются недооцененными в
своей смысловой плотности, неповторимости, принципиальной
чуждости позднейшим духовным координатам.
Лучшее понимание этого помогло бы также тем людям, кто,
напротив, превращает традиционные ценности в
ностальгические утопии. Ищут в них - толкуемых, конечно, как
"общечеловеческие и вечные" - опору и укрытие от современных
кризисных и трагических исторических процессов, вина за которые
возлагается прежде всего на так называемый индивидуализм.
Заметим, что тот, кого подхватывают эти идеологические
поветрия и кто уповает на "соборность", собственно, не
собирается расставаться со своей личностью. Чудится, что все это
можно как-то совместить, что в средневековых далях это как-то
и совмещалось. Там индивидуальность была, но скромная, не
носилась с собой. Там самоформирующаяся личность была, но,
слава богу, сообразовывалась с абсолютными ориентирами. А
потом произошло, начиная с Возрождения, особенно же с конца
XIX в., грехопадение и изгнание из рая.
Допустим. Но возможно ли тому, кто познал от плода
европеизма, вернуться впрямь к традиционализму - пусть хотя бы
"в духе", в виде культурной модели? Ответ во многом зависит
от того, была ли "та" индивидуальность хотя и содержательно
иной, но именно индивидуальностью в нашем значении
термина. Была ли "та" личность личностью, а не чем-то вовсе другим.
Иными словами, в состоянии ли мы, со своей исторически
укорененной и принудительной формой самосознания,
взращенного под знаком "индивидуальности" и "личности", восстановить
соборность внутри себя. Достаточно ли для этого только
поменять местами идейные плюсы и минусы?
Да, я волен выбирать, и почему бы мне не прислушаться к
старозаветным и патриархальным воспоминаниям, если они,
по-моему, прекрасны. Но я не волен выбирать данный мне
исторически способ выбора. И если я лично - т. е. в качестве
современного человека, свободного в самоопределении - выбираю
соборность, стало быть, это никакая не соборность. Ведь
традиционалистский индивид ее не выбирал. Она была ему
предпослана. Он в ней и рождался, как рыба в воде. Напротив, нынеш-
— 14
Введение
ние толки о "соборности" это идеологический мираж, а не
естественный мир существования.
Случались и в незапамятные времена поразительные люди,
создавались уникальные тексты. Индивиды и тогда не
сводились к эпохальным матрицам сознания так, как слагаемые
сводятся к сумме или отдельное к общему, но так, как меридианы
стягиваются к полюсам. Соборность непреложно втаскивала
сознание индивида в общезначимость. Внутри сознания готовые
матрицы подчас могли сложно сталкиваться с личным
чувством, блужданием, искусом и выходить из этого столкновения
отчасти сдвинутыми. Однако внутри сознания духовная
тотальность уже наличествовала, омывая со всех сторон каждый
момент жизни человека, каждое его высказывание. Речь идет о
состоянии, которое немыслимо изобрести, нельзя примерить к
себе, находясь вне него. Как нельзя, водрузив на себя музейные
латы и опоясавшись старинным мечом, стать рыцарем.
Что же такое "соборность" того, кто взыскует ее за
компьютером? Это идеологический макет соборности. Это - в лучшем
случае - свидетельство консерватизма личных взглядов и...
следовательно, еще одно проявление отвергаемого плюрализма.
Ладно, пусть индивидуализм грешен. Но согрешить -
значит вкусить от древа познания, и вытолкнуть из сознания
познанное уже немыслимо. Ежели кто-то искренне желал бы
избыть лукавый исторический опыт последних 100 лет,
последних 500 лет, то ведь и такое ретроградное желание принадлежит
к индивидуалистическому опыту... но не к соборному. Не к
тому, который надеются якобы обрести.
8
Читатель не мог не заметить, что пока о личности и
индивидуальности говорилось через запятую, без внятного
различения этих понятий. Между тем они не совпадают по
смысловому вектору и окраске. Несколько ниже попытаюсь
оговорить, что же именно их, на мой взгляд, различает и как они
соотносятся.
Не случайно, однако, оба понятия прорастали в новое время
с известной синхронностью, а в обиходе смешиваются, словно
синонимы. Они различны, но родственны. Это разные логиче-
15 —
Введение
ские, культурные, социальные проекции одного и того же
радикально изменившегося отношения между индивидом и
обществом, индивидом и миром. Вот почему нет беды, если случается
употреблять два термина, не входя в их особые - но притом
исторически неразрывные, звучащие в одной тональности -
содержательные темы. Беды тем более не будет, что мы станем
держать нетождественность обоих терминов на уме. И, если
этого потребует существо историко-культурного материала,
выдвинем на первый план именно тонкости и различия,
оказавшиеся решающими.
Так, в разделе о Макьявелли, толкуя о проблемах
индивидуальной самодостаточности, независимости и силы,
раздумывая вслед за автором "Государя" над индивидом, который готов
действовать рационально и целесообразно, исходя притом "из
себя" ("da se"), - доведется заговорить о самостояньи личности.
И о тех противоречиях, без которых не может вообще-то
обойтись человек, стремящийся создать себя по собственной мерке.
Или, скажем иначе: поступать так, как он считает нужным, по
свободному внутреннему решению, обязательному лишь для
этого "Я".
Тогда-то под занавес книги соображения о понятии
личности - увиденной глазами историка культуры, а не философа, не
психолога, не социолога и т. д. - будут развернуты заново и
обстоятельней. И еще раз, с другими поворотами, см. об
автобиографизме и парадоксах современного "Я" в Постскриптуме к
этой книге5.
В данный же момент меня занимает нечто другое:
познавательные трудности применения анахронистических понятий.
Тут размежевание определений "индивидуальности" и
"личности" пока не столь важно. Насущней почувствовать и измерить
дистанцию, отделяющую современный ум, столь свойски
обращающийся с обоими словами, от эпох и культур, куда мы их по
необходимости вживляем. А они по той же необходимости
этими эпохами безусловно отторгаются: если брать прежние
культуры как таковые, конкретно-исторически, в хронологической и
пространственной закрепленности, в их отношении к себе. То
есть в бахтинском "малом времени".
_ 16
9
Мы-то привыкли, сказав "личность", тотчас же весомо
обозначить идею самосознания, пусть вызывающую научные
дискуссии, но все-таки для нас очевидную. Как и со всяким
фундаментальным для данной культуры понятием, происходит
то, что живущим внутри этой культуры оно кажется
изначальным и всевременным. Несмотря на то, что известно:
соответствующий термин появился сперва лишь в Западной Европе и не
ранее XVII в., в России был придуман Карамзиным, а,
допустим, в китайском языке нет иероглифа, которым его можно бы
адекватно выразить. В лучшем случае, исследователи
соглашаются, что каждому типу культуры было свойственно
собственное представление о личности (но именно о ней!), вынося,
таким образом, за общие скобки понятие, характерное лишь для
нашей культуры.
Так, впрочем, поступают и с понятиями "наука", или
"художественный реализм", или "интеллигенция" и пр. Обычно
добавляют, что в новое время возникла "современная личность"
(соответственно "современная наука" и т. д.). С таким же успехом мы
могли бы считать античные или средневековые ремесленные
корпорации специфическими историческими формами профсоюзов.
Профсоюзы же как таковые "современными профсоюзами".
Казалось бы, если в принципе есть согласие относительно
глубокого качественного различия между культурными
эпохами, а этот трюизм мало кто решится теперь оспаривать, то
остальное лишь спор о словах, вопрос о терминологической
конвенции. Но боюсь, расхождение глубже. Как писал Ионеско,
"главное это слова, остальное болтовня".
Действительно, термины слишком много значат в нашем
деле. Если, не обинуясь, толкуют об особой античной или
средневековой "личности", если, следовательно, сводят историческое
своеобразие к предикатам, не добираясь до логического
субъекта, то позволительно предположить, что уникальность
общественных структур и историко-культурных стилей мышления все
же не принята во внимание с должной решительностью и
последовательностью. Отчего бы разные вещи не называть
по-разному?
Введение
Неужели недостаточно существенно то, почему ни Эдип, ни
Антигона, ни Катон, ни Алексий человек Божий, ни Тристан,
ни Жанна д'Арк, ни даже Сократ и блаженный Августин ни в
коей мере не должны бы считаться "индивидуальностями" и
"личностями"?
Тогда спрашивают: а как же иначе уяснить то, чем они
ярчайшим образом были и что, несомненно, заставляет нас, если и
не называть мифопоэтических или реальных персонажей
мировой истории "личностями", все равно подходить к ним с этой
меркой, все-таки сопоставлять их в одной плоскости с
персонажами новейших времен, с индивидуальным существованием
людей нынешних.
10
Общая черта для любых культур состоит только в том,
что мы с необходимостью находим в каждой из них свой идеал
положения отдельного человека в мире.
То есть я настаивал бы на том, что всеисторическое
понятие, выносимое за скобки, в данном случае должно быть как
можно более нейтральным, семантически обесцвеченным, без
смыслового шлейфа определенной (нашей) культуры. И это,
конечно, понятие "отдельного человека", "индивида" в том или
ином отношении ко всеобщему.
Всеобщее и совершенное положение индивида древний грек
обозначал через понятие "добрый муж", или "герой", или
"мудрец". Для римлянина это "гражданин". Причем современные
языковые дубликаты или кальки не передают
труднопостижимого исторического смысла греческих и латинских слов.
Для индуса то был "атман": глубинное "я", сопричастное
лону сущего. Отдельная душа в череде перевоплощений
подвластна закону "кармы" и успокаивается в йоге, в нирване,
избавляясь от своей тягостной отдельности. Для китайца идеальный
индивид - скажем, безмолвный даосский учитель, стремящийся
через медитацию к слиянию с мировой целостностью. Или
деятельный "цзюньцзы", внимательно идущий по стопам предков.
Средневековый европеец пользовался в подобных случаях
представлением о "праведнике", или о "простеце", или, в более
частном повороте, о рыцаре с его "честью". Ренессансный гума-
_ 1S
Введение
нист называл это "универсальным" или "доблестным"
человеком.
А, к примеру, англичанин XVIII в. более или менее
обошелся бы понятием "джентльмен".
После Гёте и В. фон Гумбольдта, Дидро и Бюффона, Канта
и Фихте, после романтиков, идеалом впервые были осознаны
"индивидуальность" и "личность". Всемирно-историческая
переориентация, сопоставимая по значимости с "осевым
временем" возникновения древних цивилизаций, захватившая
Западную Европу XV-XVIII вв., потребовавшая творческих сил и
метаморфоз Возрождения, Реформации, Барокко,
Просвещения, - свершилась6.
То был переход не просто от одной традиционалистской
модели (так или иначе основывающей достоинство индивида на
включении в надындивидный Порядок и Путь) к другой
модели того же класса. Но переход к новому классу моделей. К
обоснованию "Я" из него же самого: "вот этого" не как части и
производного, но как непосредственного и актуального всеобщего.
Понятие самодостаточной Я-личности беспрецедентно.
Вместе с тем оно могло быть постепенно и трудно выработано
лишь из антично-христианской традиции. Никакого другого
мыслительного материала в распоряжении нарождавшегося
буржуазного общества, впрочем, не было. Бесспорно, эта
традиция, в отличие от индусской или китайской, содержала в себе
(как и европейские социальные структуры) возможности
наиболее последовательной индивидуации. Эти возможности - от
римского права до христианского персонализма - были
востребованы и преображены в новоевропейском будущем.
Но сама по себе средневековая европейская традиция,
скорее, ближе к "Востоку", чем к "западному человеку" Нового и
Новейшего времени, с его индивидуализмом. Такие вещи остро
сознавал, например, Герман Гессе.
и
Внутри традиционалистских систем мироотношения
сходство и различия между людьми расценивались в терминах
"примера" и "подражания". Та или иная особенность индивида
состояла, строго говоря, не в нем как таковом, но в общезначи-
19 —
Введение
мом пороке или добродетели. Она могла или даже должна была
быть отчуждена от "я", передана, воспроизведена, повторена.
Индивидная закрепленность и отличие поначалу были у греков,
как известно, опознаны в виде "персоны" ("личины"), т. е.
трагической маски родовой судьбы. Или же как природная метка
"характера", относящая человека к низшей (комической) сфере,
как принадлежность к известной человеческой разновидности,
забавно возобладавшая над принадлежностью к роду
человеческому.
Для средневековых умов обособленно-индивидное это
акциденция, т. е. нечто вторичное, частное, случайное, бренное и
тягостное в человеке. Первостепенно же, напротив, только то,
что причащает соборному и вечному. Величайшая тайна
Троицы в ортодоксальном христианском вероучении выражена в
понятии "ипостась" (или "персона"). Это мистика слиянной не-
слиянности. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой различаются
постольку, поскольку они суть одно. Помыслить Христа
самобытным было бы ересью. Максимум, так сказать,
индивидуального на сакральном и богословском уровне - ипостась. То есть:
это же как другое.
То, что в новое время сочли бы индивидуальным и
личностным, ранее, даже будучи замеченным, казалось или тщетой и
пагубой - в случае противопоставленности образцу, - или же
одобрительно виделось сосудом всеобщности, формой усилия,
направленного на спасение индивида от своей самости. Я
достигал апофеоза в Не-Я. Индивид усматривал свое высшее
достоинство в том, чтобы как можно меньше быть этим.
Конечно, путь к такой цели вел через необыкновенное
внутреннее сосредоточение и вслушивание, через величайшее
личное напряжение человеческих сил. Но того, кто отличился на
сем многотрудном пути, славили за осуществление преднайден-
ного и должного, за идеальное соответствие норме и, тем
самым, за ее превышение, но, уж конечно, не за оригинальность и
не за самодетерминацию.
Вот почему открытым остается вопрос, вправе ли мы
истолковывать ситуацию в терминах индивидуальности и
личности, даже если речь заходит о таких замечательных фигурах,
как, допустим, Франциск Ассизский или Жанна д'Арк. Во
всяком случае, называть их столь анахронистически язык, что ли,
_ 20
Введение
не поворачивается. Жанне куда легче было надеть мужское
платье, чем выступить в "индивидуальном" качестве. Много позже
ее официально признали "святой", и это, позволю заметить,
историчней.
12
Жил в Японии XV в. буддийский монах Иккю Сод-
зюн. С нашей современной точки зрения, его разностороннее
словесно-изобразительно-каллиграфическое творчество, его
роль в создании "сада камней" и обновленной чайной
церемонии, его трактаты и его поступки, само собой, немыслимы вне
понятия индивидуальности. Поражают бесконечные и резко
контрастные перипетии жизненного пути Иккю, на котором
случилось едва ли не все, что может случиться с человеком за
пределами воинского и хозяйственного поприща: одиночество
отшельника, юродивость и жизнь на виду у толпы,
медитативные просветления, плотские самозабвения с куртизанками,
власть иерарха, исключительная юность и ни с чем не
сопоставимая старость, принесшая первое глубокое любовное чувство
и дитя, плод этой привязанности.
Обо всем этом см. книгу Е.С. Штейнера, открывшую для
русского читателя Иккю, эксцентричность и пронзительная
личная окраска которого вне сомнений. Тем не менее так дело
обстоит с нынешней и только с нынешней точки зрения. Хотя
Иккю во многом озадачивал и своих современников, все же
эксцентричность его жизненного поведения и тЬорчества была
лишь выявлением дзенбуддистской или даже более широкой
китайско-японской духовной парадигмы.
То был конфуцианский идеал "у-во" (или "муга"
по-японски), т. е. Не-Я. Монах Иккю в чувственном упоении любви, в
медитации, в публичных выходках, вызывающих и
дидактических, на разные лады заведомо осуществлял не "себя" и не
"свое", но отказ от себя и своего. Каждый его шаг, каким бы
своенравным ни казался, нуждался в каноническом
осмыслении и мотивировался традиционно. Понятие оригинальности к
его несравненному облику определенно не подходит7.
Как?! Неужто даже он, Иккю Содзюн, рассмотренный
относительно японской средневековой культурной сферы, в своем
21 _
Введение
самом личном и уникальном не был индивидуальной
личностью? Нет, в конкретно-историческом плане не был.
Но кем же в таком случае?!
Что ж, он был муга.
13
Ведь содержательно не то, что люди делают, а с какой
целью, как и на каком основании они это делают. Способ
осознания и мотивации входит в объективную
историко-культурную суть, если под "объективным" понимать в данном случае
иноположенность субъекта. Более того, в этом вся суть.
Важно, повторим, не действие, а смысл его. Смысл же
неотделим от культурной формы. "Форма" тут все, она и есть
историческое содержание. Вне стилистики данного типа сознания и
логики данного типа мышления даже, например, любострастие,
честолюбие, желание походить на окружающих или, напротив,
желание выделиться, прочие "вечные страсти" - лишь
антропологические, т. е. социобиологические, уровни рассмотрения.
Во всяком случае, исторического смысла они лишены.
Такой смысл бытийствует только в качестве особенного.
Это не означает, разумеется, что между смыслами нет
преемственности или что самые разные смыслы не могут быть
сопоставлены, не в состоянии встретиться. Только во встречах
они и возможны, полагал М.М. Бахтин. Только так их различия
кристаллизуются, культурные неповторимости - отвердевают.
"Не сравнивай: живущий несравним..." Но ведь это сказано
поэтом нашего века. Такой взгляд на вещи тоже результат
развития особой культуры. Между тем, скажем, для риторической
культуры прошлого того, что несравнимо, просто нет, не
существует. Риторика - универсализующая культура сравнения. И
потому она... надличностна и надиндивидуальна.
Проблема формулируется следующим образом. Вообразим
себе личность в исторической ситуации, где отсутствуют,
вообще-то говоря, и подобная ценность, и само представление о
личности. Вправе ли мы усматривать, тем не менее, в
традиционалистском обществе существование людей, живших под знаком
идей "личности" и "индивидуальности"? И ежели нет, может
быть, они обретались в этом качестве онтологически,
"объективно"? вопреки структуре своего самосознания?
_ 22
14
Разумеется, проблему следует взять и в более общем
виде. В формулу можно подставить любой другой феномен.
Есть расхожий довод: ведь можем мы пользоваться терминами
"общество", "культура", "цивилизация" и тому подобными
абстракциями применительно к историческим состояниям, при
которых эти понятия были неизвестны. Так почему нельзя
употреблять термины "личность" и т. п.?
Этот довод, по-моему, отвести несложно.
Одно дело, понятия, которыми описываются некие
объектные состояния и структуры, пусть "тогда" в этих терминах их не
описывали. Например, только что помянутые "структура" и
"объективное", как и "общество", "цивилизация", "государство"
или "производительность труда", существовали издавна, хотя
соответствующие понятия выработаны сравнительно недавно.
В этом случае анахронизм оправдан: инструментально и
онтологически. Он не мешает, а помогает наблюдателю взять
особенные и неповторимые вещеподобные явления и объяснить их,
благодаря помещению на должное место в рамках универсалы-
зующего общего ряда.
Впрочем, я не имею права, к примеру, говорить вслед за
Допшем о "капитализме" в античности, ибо это термин, не
только заимствованный из другой эпохи, но и относящийся лишь к
специфическому типу экономики. Он во всех структурных и
динамических отношениях для античности инороден. Однако о
"производительности труда" или даже о "государстве" я
говорить все же вправе, хотя анахронистичность словоупотребления
и здесь очевидна. Это не противоречит задачам объектного
анализа. Напротив, широкое описательно-нейтральное понятие
совершенно необходимо для подведения данного объекта к его
особенному месту в общем всеисторическом ряду.
Совсем иное дело, понимание субъектных характеристик.
Совсем иной и нестерпимо рискованный груз мы навешиваем
на анахронистический термин, когда добиваемся понимания
инакового "Я".
Прежде всего потому, что на первый план выходит не
исследование Другого, как если бы он был вещью, но - снова
следую за М.М. Бахтиным - герменевтический "диалог" с Другим.
23 _
Введение
Истолкование неосуществимо вне щепетильного
прислушивания к Другому. Общего ряда нет. Ведь каждый участник
мысленного диалога - из ряда вон. В "большом времени"
происходит встреча неповторимо-особенных сознаний и логик, остра-
няющих и высвечивающих друг друга.
Ценностные установки индивида, семиотика его
жизненного поведения и речей, идейный горизонт и самотолкование того
или иного исторического субъекта относятся к сущности
субъекта.
Ведь это сущность, сознающая себя и говорящая.
Она отторгает чужеродные понятия как нестерпимое
насилие над собой.
Если классификационный термин, хотя и неизвестный
далекой эпохе, корректно соотносит объект исследования с более
обширной чередой объектов, не вторгаясь тем самым в его
особенную ткань, то подобная же процедура, но уже
применительно к субъектному существованию, искажает его исторический
модус. Означает экспроприацию чужого "голоса".
Употребление понятий индивидуальности и личности, по
меньшей мере, двусмысленно по отношению к людям, которые
жили в горизонте совершенно иных идей. Называя "личностью"
тип индивида, в смысловом мире которого это понятие не
просто отсутствовало, но, присутствуй оно, было бы враждебным и
непостижимым, не являем ли мы невольную ограниченность
своего слишком (или недостаточно?) современного ума.
15
Хорошо, возразят мне, это головная боль для
герменевтика и особенно для последователя Бахтина. Но отчего бы
культурантропологу, который подходит к субъекту не
"диалогически", а тоже вещно, объектно, остраненно, не воспользоваться
анахронистическими терминами? Отчего бы не включить
античного или средневекового индивида - конечно, с
надлежащими оговорками - во всеисторический описательный ряд?
В культурантропологическом плане неуместность
употребления понятий "личности" и "индивидуальности" при описании
человека Средневековья основана примерно на том же, что и
методологический запрет на понятие "капитализма" для харак-
_ 24
Введение
теристики феодальной или античной экономики. То есть дело в
непригодности данных терминов для описания функционально
и структурно инаковой реальности.
Эта реальность, как к ней методологически ни подходить,
есть не что иное, как способ социально-психологического бы-
тийствования и выделенное™ "я". Закрепляя за неким "я"
чуждое по отношению к нему понятие, мы тем самым вводим свой
характерный понятийный скальпель в обследуемую мозговую
ткань. Обойтись без этого немыслимо и незачем. Другого
способа исследования просто нет.
Но что же это мы? - умудряемся оставить свой инструмент
в голове, допустим, средневекового индивида, да еще и
настаиваем на том, что таково, де, наше исследовательское право.
Это все равно что объявить: скальпель внутри исследуемой
живой ткани относится к ней самой.
Вот что хотелось бы ответить на первый случай.
16
Однако более тонкий и парадоксальный ответ кажется
все же не столь простым. Он включает три плана рассмотрения,
которые в конечном счете тяготеют к совмещению в общем
фокусе. Но притом каждая оптика сохраняет собственное
основание.
Во-первых. Поскольку речь идет об исторически-конкретном
мире сознания, к реальностям этого мира можно отнести, как
уже было сказано, только то, что сознавалось.
"Индивидуальность", "личность" - как и все подобные категории, например,
"простец" или "муга" - это бытие отдельного человека в свете
представлений об "индивидуальности", "личности"... или о
"простеце", или о "муге". Если же в данной культуре нет ничего
подобного, нет такого слова о себе, значит, в рамках
непосредственного существования подобной культуры нет и феномена,
который этим словом мог бы обозначаться. Например, слова
"простец", или "праведник", или "муга" терминологически никак не
годились бы для изучения и объяснения современного индивида.
Во-вторых. Поскольку мы включаем средневековье и себя в
одно "большое время" и рассматриваем средневековых людей,
как если бы они были нашими современниками, т. е. берем их
25 —
Введение
установки как возможные и насущные моменты своего
нынешнего умственного окоёма, то личность и индивидуальность в
средние века, конечно же, существовала.
И, наконец, в третьих. Соналожение и взаимопронизывание
субъектных определений сразу и в "малом", и в "большом
времени" - вот, собственно, потребная парадоксальная полнота
исследования. Непрерывное движение от себя к Другому и
наоборот. Не решение двух задач по очереди, но их синтез.
Ведь диалог означает напряженность как "другости", так и
"вненаходимости". Историк, остро воспринимая и фиксируя
чужой смысл, не перестает при этом быть человеком своей
культуры. Он не в состоянии забыть собственные понятия и оценки,
более того, он острей, осмысленнней осознает во встрече с
чужой культурой их историчность. И наоборот: он способен
понять другость Другого именно потому, что по отношению к
нему сам выступает как Другой.
17
Таким образом, челночное движение исследователя
оправдано именно ради самого тщательного учета "намерений"
говорящего с ним произведения.
При этом важно принять во внимание также следующее.
Прошлые люди, которые ориентировались не на "я", а на "мы",
на готовые и освященные идейные, ритуальные, словесные и
прочие формы, пропускали их сквозь индивидный опыт и
многообразно-конкретные жизненные обстоятельства. В истории и
культуре действовали не сами готовые матричные формы
сознания, а более или менее послушные им люди. Вне этих форм
они были бы не в состоянии выразить себя. Вне традиционной
почвы они оказались бы безъязыкими и бессмысленными.
Однако индивид не обязательно пассивно погружался в
преднайденное тотальное мировосприятие. В отдельных случаях
сознание трудилось над этим мировосприятием, неприметно для
себя его преображая. Уникально-индивидное в соотношении с
эпохальной культурой всякий раз выступало как логически
предельный случай. Надличные установки превращались во
внутренние голоса индивида, в оформляющий и провоцирующий
момент личного обстояния (выражение раннего Бахтина).
_ 26
Введение
Так происходит испытание и преобразование самих матриц
коллективного сознания. Например, авторитета Библии,
требований исповеди, правил риторики и т. д. Умонастроенность
("ментальность") среды и времени перестает в критических
точках быть привычной, заданной, равной себе. Происходит словно
бы вспышка вольтовой дуги между нормой и казусом.
Клишированная цивилизационная матрица - например, средневековая
картина мира, определявшая всякое "я", - вдруг сдвигается в
казусном сознании и поведении.
С этим сопряжена сама возможность культурно-социальной
динамики. То есть, собственно, возможность истории.
Традиционалистское сознание менялось в индивидных
вспышках сознания, которые хоть на миг торжествовали над его
готовостью, самотождественностью, заданностью. Не это было
сознательной целью. Не к такому результату люди своего
времени стремились. Но подобные смыслы и результаты
исторически вполне реальны. Они заложены в соответствующих текстах
так же, как в Тамлете" или "Дон Кихоте" содержатся
неисчерпаемые возможности понимания, актуализуемые от эпохи к
эпохе.
В этом плане мы смеем и должны искать в прошлом
неповторимые индивидуальности (но только в этом плане). То есть
подходить к тексту как культурному, а не цивилизационному -
порождающему смысл, а не воспроизводящему готовое
значение.
С позиций вненаходимости поиски индивидуальности
естественны. Ведь теряют когда-нибудь и давно потеряли для нас
значение матрицы, длившиеся сотни и тысячи лет.
Преходящими оказались самые устойчивые жизненно-духовные формы. А
мгновения драматических смысловых преображений никогда
не теряют ни грана культурной значимости, не исчезают. В
далеком чужом духовном созидательном усилии мы получаем
непредусмотренный и остраняющий отклик на собственные
усилия.
Желая сосредоточиться на изучении структуры изменения
и притом полностью отдавая себе отчет в том, что современные
понятия неадекватны традиционалистскому субъекту, мы
приходим к древней или средневековой "личности" и
"индивидуальности" cum grano salis. Оказываемся способными кое в чем
27 _
Введение
понять этих людей иначе, благодаря преимуществам вненахо-
димости, т. е. исторического опыта, которым они не обладали.
Понять их "лучше", чем они сами себя понимали.
18
Следует, однако, всячески предостеречь против
упрощения коллизии между вненаходимостью нынешнего
исследователя и самооценкой не подозревающего о нем исторического
субъекта. Мало сказать, что "они" были "индивидуальностями"
лишь с нашей точки зрения. "Для нас", но не "для себя"? Не
совсем так.
"Они", не сознавая этого или сознавая лишь неизбывность
своей личной отдельности, были индивидуальностями также и
в тогдашнем своем историческом существовании.
Как?! - разве я не твердил до сих пор нечто иное?
Да, и продолжаю твердить.
Но все зависит не только от того, в каком времени мы
видим предков, - в "малом" или в "большом". Важный вопрос
состоит в том, насколько разгорожены, несовместимы оба
времени? Или они содержатся друг в друге?
Очевидно, так. Ведь у М.М. Бахтина различение двух
времен это не оппозиция вещных значений, а встреча и
метаморфоза разнозаряженных смыслов.
Прежде всего. Малость или великость надо понимать как
разные проекции культурного бытия, а не как разные
временное протяженности. Протяженностью вообще обладает только
замкнутое на себя "малое время", измеряемое хронологически.
Это такое время, в котором все происходит однократно, а затем,
в качестве исторически наличного и целого, исчезает.
"Малое" время это еремя генезиса и детерминации.
Именно такова его направленность и функция. Оно может
совпадать с быстропреходящей ситуацией, даже с казусом. Но
может и охватывать многие века.
Французский историк Ф. Бродель, как известно, настаивал,
что самые глубокие умонастроенности, лежащие в подоснове
человеческого поведения, сохраняют устойчивость в течение
"большой временной длительности" (longue durée). Но и
тысячелетнее средневековье в Европе, поскольку речь идет об общей
_ 28
Введение
цивилизационнои подоснове и ее детерминирующей функции,
это все же "малое время".
"Малое время" способно - в сравнительно "холодных"
обществах - обладать невероятной длительностью. Но если оно
все же когда-нибудь неизбежно заканчивается в своей
исторической данности, это происходит раз и навсегда. Пережитки
или "снятые" признаки лишь ярче подтверждают, что пора
наличной социально-культурной целостности ушла безвозвратно.
Феномены средневекового сознания в качестве наглухо
прикрепленных к своей эпохе, единожды возникших и сгинувших,
словом, в их самотождественности, принадлежат, если угодно, к
чрезвычайно долгому малому времени.
Но если мы рассматриваем это же средневековое время в
непрерывно расширяющемся историческом космосе, где былые
голоса никогда не смолкнут навсегда, окончательно и где в хор
вступают все новые голоса, - такое время, по Бахтину, не
потому "большое", что оно более протяженное. А потому, что в нем
вообще отсутствует всякая протяженность. Вместо
последовательно сменяющихся эпох - волнующаяся синхрония.
В любой точке "большого времени" возможно свертывание
всех прошлых и будущих смыслов, перефокусировка всей
всемирно-исторической смысловой сферы. В любом новом
настоящем мы способны встретиться одновременно с Чеховым,
Шекспиром, Софоклом. Тысячелетия здесь не дольше
десятилетий.
19
Итак.
"Они" жили в истории, где нас не было, до нас. В той
замкнутой на себя, до поры лишенной нас (своего будущего), давней
истории - "они", предоставленные себе, не были
индивидуальностями и личностями.
"Они" жили в истории, где есть уже и мы, в одной с нами
истории. В этой "большой", т. е. разомкнутой, истории они суть
индивидуальности и личности не только для нас, но также
некоторым образом для себя, хотя сознавали это лишь в виде
мучительного зазора между предустановленностью ценностей и
необходимостью для каждого индивида справиться со своим ка-
29 _
Введение
зусом. Принять вызов необычных обстоятельств и оставаться
притом верным общепринятым надличным ценностям.
Бог не зависел от средневековых людей, и все же от
каждого индивида зависело, будет ли Христос вновь и вновь
распинаем в повседневности человечьих дел или Он возрадуется, видя
спасение заблудшей души. В этом плане, вполне реальном для
верующих, для церкви, гибель Господа и Воскресение Его
зависели от того, на что индивид употребит свою свободную волю.
В грехе и покаянии, огорчая или радуя божество, индивид
проделывал некое усилие, интеллектуальное и духовное, которого
никто за него проделать не в состоянии. И тогда он
становился - в "большом времени" - своего рода индивидуальностью.
Конечно, не такой, как мы. И даже в такой степени не такой,
что "они" были индивидуальностями, не будучи ими. Но тем как
раз особенно интересны и насущны для нас. "Большое время",
т. е. время диалога, это преодоление малости (замкнутости на
себя) всех "малых времен".
Только в "большом времени" культуру, конечно, понять
нельзя.
Но и только в "малом" нельзя.
Культура это всегда столкновение, пограничность,
встречное преобразование "большого" и "малого времен".
20
Возбужденно проскакивая мимо "малого времени",
мимо там-находимости, мимо чужого самосознания, второпях
теряют и "большое время". Начиная со своей вненаходимости
сразу же, что называется, от порога, - лишаются ее
преимуществ, обессмысливают ее. С ребяческой безответственностью
сводят "большое время" невольно к нашему "малому". Сужают
неуступчивую и загадочную инаковость прошлого до нашего и
только нашего окоёма, где другости не существует всерьез.
Тогда, поглощенные собственными намерениями,
перестают считаться с намерениями и пределами толкуемого
произведения. Оказываются не в состоянии адекватно и убедительно
судить о нем. Не оставляют, как выражался Бахтин, последнего
слова за другим "Я".
Пустой соблазн и скучное игрище!
_ 30
Нет ничего, что было бы более скверным, с точки зрения
интерпретатора-шяоршсд, верного своему ремеслу.
21
Ну, а "мы" - мы входим ли в окоём прошлой культуры?
Нет, разумеется... поскольку у истории есть вектор,
ведомый нам лишь задним числом, и в наш опыт решительно не
входит та культура, которая будет через тысячу лет, через сто
лет, через десять лет, да что там - завтра. Наши предки тоже
обходились без знания и включения в себя последующей
культуры.
Да, разумеется... но уже в том значении, что последующее
выходит из прошлого, и мы не могли бы сейчас интересоваться
античной трагедией или заслушиваться Бахом, если бы
некоторым образом не были причастны им, не обнаруживали бы для
себя некое место, некую позицию изнутри "их" мира. И они, и
мы суть моменты единовременной человеческой культуры.
Соотнесенность по принципу "сначала были они, потом мы" -
необходимая, но недостаточная соотнесенность в мире смыслов,
сплошь синхронном, настоящем, актуальном. Или, если угодно,
сплошь неготовом, заветном, т. е. лишь имеющем быть.
Почему Мандельштам и писал о классике: "Вчерашний день
еще не родился <...> Итак, ни одного поэта еще не было. Мы
свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных
предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер"8.
Все это - "во-вторых".
22
Но, в-третьих: на объемность и чуткость понимания
мы смеем рассчитывать, только совмещая обе позиции. Тут-то
ися тонкость, вся трудность.
Прилагая по необходимости свой понятийный аппарат, мы
отдаем себе отчет в двусмысленности этой интеллектуальной
процедуры. Мы продолжаем видеть в былых
"индивидуальностях" и "личностях" также то, чем они были в собственных
глазах, внутри своих культурных систем. То есть сохраняем
чувство дистанции двояко. То вводим понятие личности; то убежда-
31 —
Введение
емся в анахронизме и - закавычиваем это понятие; то снова
снимаем кавычки. Мы по необходимости определяем "их"
самосознания и на их собственный, и на нынешний лад, хотя это
вещи несовместимые, причем проделываем это сознательно и
открыто. Вот, думаю, необходимое условие научно-гуманитарной
корректности.
Историку незачем, да и невозможно, "вчувствоваться" в
чужое существование до самозабвения. Если столь пластичное
вживание даже удается, то это лишь привлекательный и даже
обязательный момент истолкования! - момент, но еще не вся
полнота изучения.
Пусть историк по стилю своих дефиниций остается самим
собой. Но пусть одновременно считается с несговорчивостью
далеких собеседников. И - карты на стол! От читателя не
должно укрыться испытующее и многозначительное несоответствие.
Пряное ощущение анахронизма полезно, это один из
способов приблизиться к прошлому. Предложение (но не
навязывание) прошлому наших понятий оборачивается
экспериментальным и динамичным подходом. Мы перемещаемся на свои
границы с духовными мирами, скажем, Иккю Содзюна или
Франциска Ассизского. Тогда они, эти люди, раскрываются как
феномены культур, устроенных принципиально иначе, чем наша. Тогда
они же, благодаря остроте отличия, относятся к достоянию и
состоянию культуры XX в., с ее жадной готовностью к особенному
и чужому. Наконец, они суть точки соприкосновения и
непрерывного перехода от них к нам, от нас к ним, от них к нам...
Нота бене! - этот третий план, итоговый, на самом деле
ничего не итожит. Не "снимает" первых двух. Встречный переход
не размывает, не растушевывает, напротив, крайне заостряет
твердость и определенность двух встречающихся взглядов: из
прошлого и из настоящего.
Методологическая бинокулярность! - труднодостижимая
идеальная позиция, которая вновь и вновь распадается на
взгляд изнутри и взгляд извне, и опять рефлективным усилием
историка собирается воедино.
Вот теперь, кажется, удалось наконец довести до некоторой
досказанности теоретико-познавательную посылку этой
работы. То есть пояснить, почему Возрождение искало впервые,
— 32
Введение
Августин же и Средневековье были коренным образом
чужды и вовсе не ведали того, что некоторым образом, тем не
менее, было в культуре всегда.
23
Когда сочинял это введение, пробуя вослед М.М.
Бахтину выстроить из того, что мне известно об истории культуры,
довольно отвлеченные и, может быть, уже наскучившие
читателю рассуждения, - под руки попалась изрядно подзабытая
мною книга Юрия Карловича Олеши "Ни дня без строчки"9.
Стал перечитывать. И, как это бывает, особенно бросилось в
глаза именно то, на чем сам сосредоточен. Ведь Олеша на свой
лад делал то же, что и, скажем, Ренар в своих "Дневниках" или
Розанов в "Опавших листьях": о чем бы он ни писал, он писал о
себе. Все они - потомки Монтеня.
Олеша настаивает, что его книга "закруглена", хотя на вид
состоит "из отдельных кусков на разные темы". "...Если хотите,
это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и
дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже
фантастический".
В литературе до нового времени никто и подозревать не мог
бы о самой возможности такого сюжета.
"Исповедь" Августина совсем о другом, о пути человека к
истинному Богу. Впрочем, Руссо тоже написал свою
"Исповедь" о другом. Эта, как известно, уже совершенно светская
"исповедь", чуждая покаянию. Она отмечена цельностью и
плебейским достоинством. Это, пожалуй, первая - такого масштаба и
последовательности - апология частной жизни. Самолюбивая
откровенность Руссо причудливо соединяет философичную
серьезность и житейскую интимность, порой мелочную и
неприглядную.
Книга Руссо, хотя и неотделима уже от понятия об
индивидуальной личности, странным образом заключает все же
подспудный дидактический импульс. Ибо: для всех интересна и
поучительна жизнь великого человека, каков бы он ни был. Вот
главный мотив Руссо.
Отсюда оттенок неустрашимого, поражающего нас
эксгибиционизма. Естественность Руссо заставляет вспомнить, что он
2 - 345
33 —
Введение
и маркиз де Сад не только антиподы. Они, кроме того,
современники.
В совершенно новой саморефлексии Руссо парадоксально
отдаются эхом ментальные установки предшествующих
столетий. Собственное частное и неповторимое существование
обладает в его глазах значительностью и предстает в качестве
мученического жития индивидуалиста на правах странного exem-
plum'a. Но уже не может быть и речи о подражании. Это
беспримерный пример.
Ибо это автобиография, написанная "гением". Смотрите, не
лишен тайных пороков даже он, "лучший из людей". И
потому - это дидактика навыворот. Поучительно неподражаемое.
Дидро тогда же писал, что гений - не ум, не остроумие, не
чувствительность, не вкус... и даже не истина или ложь. Хотя
все это, очевидно, не запрещено находить у гения. Но существо
гениальности иное: "какая-то терпкость, неправильность".
Гений "удивляет самими своими ошибками". Он пренебрегает
общеупотребительными правилами во всем - и устанавливает их
заново для себя одного. "В практической деятельности гений
связан обстоятельствами, законами и обычаями не более, чем в
изящных искусствах - правилами хорошего вкуса и в
философии - методом". "Гений как бы изменяет самую природу вещей,
его своеобразие распространяется на все, к чему он ни
прикоснется ..."!0
Это предромантическое определение индивидуального
начала, беря за основу своеобразие, доводит его до абсолютной
независимости. Такое преувеличение было необходимо, чтобы
выразить нетрадиционное, неслыханное понятие. Человек как
индивидуальная личность - поистине сам по себе. Он приводит
обстоятельства, обычаи, правила вкуса, метод
философствования, даже природу вещей в соответствие с собою. Будучи
вполне индивидуальным, он уже тем самым гений! Он
парадоксалист, бросающий, подобно "племяннику Рамо", вызов всему
плоскому и обычному.
24
Та же потребность как-то освоиться с невероятным
ранее положением Я, с его свободой и одиночеством, с его оба-
_ 34
Введение
ятельным, и пугающим, и горделивым самостояньем, подарила
европейской культуре байроновского Манфреда и Каина,
лермонтовского Демона. "Демонизм" романтиков
свидетельствовал, конечно, равно и о необозримых, впервые открывшихся
возможностях индивида, высвободившегося из
традиционалистской связанности, и о трагических проблемах, сопряженных с
этими возможностями, - короче, о героической поре бури и
натиска индивидуализма.
Отзвуки величественного, но полного искусов и страданий,
восхождения индивидуалистической культуры будут
слышаться вплоть до ницшевского Заратустры - и продолжатся
тысячекратно в нашем веке, будь то миф о Сизифе у Камю, "человек
без свойств" у Музиля или Иосиф Прекрасный и доктор
Фаустус у Манна.
Демоническая "гениальность" или гениальный "демонизм"
менее всего поддаются решению в системе моралистических
уравнений. Уже начиная с "Гамлета", индивидуализм
возносится до уровня античной трагедии, хотя имеет мало с ней общего
по существу. Принятие принципа, согласно которому отдельно
стоящий человек значит бесконечно многое просто в качестве
такового, а не потому, что он есть частица чего-то огромного, не
в силу почетной причастности и пр., - это переворачивало мир,
просуществовавший тысячелетия. Все, включая
нравственность, предстояло обретать заново.
Это тектонический сдвиг мировой истории и культуры,
который можно было осознать лишь через атрибуты космичности
и вечности, через встречу Фауста с Мефистофелем, через
монологи лермонтовского падшего ангела.
25
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
35 —
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут...
Надежда есть - ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет...
Сколько торопливых упреков вызывали и продолжают
вызывать эти дерзкие слова, в которых видят вызов
необузданного, нестерпимого эгоцентризма. Некое бесовское "Я" открыто
презирает человечество и даже ставит "одну минуту" своей
рефлексии - подумать только! - неизмеримо выше всех "грядущих,
прошлых поколений". Какой, казалось бы, бесспорный
приговор выносит тем самым поэт "мрачному духу сомненья"...
только странно все же, что это, хотя бы отчасти, еще и гигантски
преображенный автопортрет собственного "мятежного" духа, не
дорожащего "покоем".
И вот уже полтора столетия в смущении спрашиваем себя:
что же нас, как и Тамару, так притягивает и завораживает в
Демоне, ежели он... и т. д. Кто он на самом деле, этот "дух
беспокойный, дух порочный", которого поэт заставляет остро пожалеть,
когда тот терпит поражение от посланца небесной канцелярии,
где все предрешено и расписано ("Узнай! давно ее мы ждали!").
Даже оставляя в стороне лермонтовскую поэтику, т. е.
соглашаясь оценивать монологи взвившегося из бездны адского
духа по мерке здравого смысла, надо бы принять кое-что во
внимание. Только наделив индивидуальное сознание, отпавшее
от привычного миропорядка, неограниченной полнотой
самодостаточности, - "Всем упоением, всей властью / Бессмертной
мысли и мечты"; "Все знать, все чувствовать, все видеть"; "Я
царь познанья и свободы" и т. п. - только вообразив
индивидуальность абсолютной, соразмерив ее отдельность со вселенной
("Один, как прежде, во вселенной..."), Лермонтов мог разыграть
на фоне патриархальных картин грузинского замка и
монастыря трагедию индивидуализма в ее всеобщем значении.
Космическая одиссея надмирного духа описана лишь для
того, чтобы представить себе Демона влюбившимся. То есть
_ %
Введение
вдруг соединить абсолют с мигом человеческого
существования. И поставить конкретно-индивидуальное - со "старым Гу-
далом", экзотическим бытом, брачным пиром, схваткой, убитым
женихом и т. п. - поставить любовь к Тамаре божеством в
центре мирового пространства и времени ("Что, без тебя, мне эта
вечность?.. / Обширный храм - без божества").
Демон - тот, кто может сказать о себе, что он обречен "...без
разделенья / И наслаждаться и страдать, / За зло похвал не
ожидать, / Ни за добро вознагражденья". Между тем поколения
существовали, именно "разделяя" свои наслаждения и
страдания с множеством себе подобных, творя добро и зло в
соответствии с общепринятой "похвалой и вознаграждением", с
надеждой на "правый суд", словом, в предустановленном жизненном
укладе. Демон предрекает Тамаре страшную, на его взгляд,
участь: "Увянуть молча в тесном круге / Ревнивой грубости
рабой". "Тесный круг", рабство, связанность "Я" - вот самое
ненавистное для Демона, вот почему он некогда отпал. Сам он
олицетворяет и предлагает Тамаре неограниченную,
головокружительную и манящую свободу - "пучину гордого познанья".
Как соединить свободу, без которой немыслима
индивидуальность Нового времени, с любовью, с "не полной радостью
земной", со свободно выбранным способом столь же
необходимого включения - уже на совсем новых началах - в общность
людей, в мировой порядок вещей?
26
Ответа поэма Лермонтова, естественно, не дает.
Трудности индивидуализма увидены горько и отчетливо. Но из
антиномии свободы и связанности нет пути назад. Так или иначе
индивидуальная независимость бесценна. Она обретает
предельную поэтическую и космическую возвышенность, даже
если цена ее - мучительная опустошенность. Это романтическая
констатация того, что положение вещей в духовном мире XIX в.
изменилось необратимо.
"Жить для себя, скучать собой" - томительная мука. Но в
том-то и дело, что "одна минута" небывалых мучений
совершенно свободного и одинокого духа делает
бессодержательными "тягостные лишения" всех тех, кто надеется на "правый суд",
37 _
Ьедение
кто измеряется не индивидуальной, а надличной, отчужденной
мерой. Если отнестись к словам "вольного сына эфира" без
поэтического снисхождения и позволить себе пренебречь тем, что
речь идет как-никак о гордыне Демона, сравнивающего себя со
смертными... все же, даже воспринимая все с неулыбчивым
морализмом, не мешает помнить следующее.
Дело обстоит не так, что некое надменное "Я" презирает
всех прочих людей, живущих вместе с ним в той же системе
историко-культурных координат. Напротив, это столкновение
прежней и новой систем координат.
В новой системе, надо признать, даже мучения
приковывают тем больше внимания, чем больше они отмечены
индивидуальностью. Жизнь и смерть потрясают отныне не
повторяемостью ("то участь всех", говорит Гертруда Гамлету), а
уникальностью.
Всякое человеческое существование не только единично и
подобно другим существованиям, но оно - единственное.
Каждый раз это неповторимая вселенная, соразмерная общей для
всех вселенной. Поэтому индивид огромен, как мир, и
бессмертен, как мир.
Если же он все-таки определенно умирает, это очень трудно
и даже невозможно вместить и разгадать.
В это трудно поверить.
27
Я думаю, что кажущиеся кое-кому шокирующими и
бесстыдными монологи Демона, основанные на его
онтологической исключительности, и эти чуть ли не "декадентские" слова
о личной, так сказать, "минуте непризнанных мучений", кото-
рые-де выше всей истории людей, - получают истинный смысл
в невольном комментарии к ним у Ю.К. Олеши.
Он рассказывает, и поразившее когда-то впечатление
дважды навязчиво стучится в книгу: "...я видел, как лежал, дыша
целой горой груди, раскинув руки, смертельно раненный,
умирающий бандит. Это было на Дерибасовской улице". "Этот
человек лежал на спине, раскинув руки, как сечевик у Гоголя,
невдалеке от ювелирного магазина, который он пытался ограбить. Он
был в синем. Грудь его вздымалась горой. Я так и не увидел
_ 18
Введение
конца. Ярко светило солнце, шла, толпилась толпа. Кончалась
его единственная, один раз данная ему жизнь, на миллионы, на
сотни миллионов, на миллионы миллионов лет, жизнь. Я
помню эту вздымающуюся гору груди, этот целый мир, эту целую
самостоятельную гигантскую вселенную, может быть, больше
нашей, больше всех миллионов - уже потому, может быть,
больше, что она отдельная, самостоятельная".
Демон сказал о своих мучениях примерно то же самое. И
Руссо, рассказывая о себе, хотя и считает постыдное,
непристойное, сокрытое именно тем, чем следует это считать с
моральной точки зрения, однако важней всего этого неповторимое
Я, внутри которого сплетается нечто вообще-то постыдное с
величием.
Природа разбила, пишет Руссо, ту форму, по которой она
его отлила.
Поэтому и возможна запредельно высокая точка отсчета.
Не со стороны обобщенных критериев похвалы и порицания, а
со стороны индивидуальной самодостаточной вселенной.
И Олеша потрясенно разглядывает себя - старого?! - в
зеркале. На свете сколько угодно стариков. Но невозможно
вообразить, что старик в зеркале - это Я.
"Вот какой фантастический сюжет".
Поразительно, что умер Толстой. Но точно так же
поразительна смерть бандита. "Это было на Дерибасовской"! Олеша
записывал: "Все-таки абсолютное убеждение, что я не умру.
Несмотря на то что рядом умирают - многие, многие, и молодые,
и мои сверстники, - несмотря на то что я стар, я ни на
мгновение не допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру? <...>
Может быть, я протяжен и бесконечен; может быть, я
вселенная?""
28
Индивидуалистическое "Я" имеет дело с миром без
посредников, на которых можно бы свалить ответственность.
Между мыслящим тростником и бесконечностью нет
самодельного, иллюзорного, но как-никак утешительного средостения
или укрытия. Смерть самодостаточного "Я" так же непредста-
вима, как гибель Вселенной.
3$_
Введение
Поэтому от индивидуализма до космизма один шаг.
Конечно, у Олеши мысль о бессмертии личного космоса, о
себе, который, "может быть", протяжен и бесконечен, как
вселенная, - эта мысль серьезна, но лишь в качестве
психологического самонаблюдения художника. Это только метафора. Она
приправлена грустной усмешкой.
Но ср. с неожиданным и драматическим интеллектуальным
сбоем в эссе Умберто Эко "Когда на сцену приходит другой"12.
29
Вообще-то автор отстаивает природное
самообоснование внерелигиозной этики. Он пишет: "... согласитесь, что если
бы Христос был не более чем героем возвышенной легенды, сам
тот факт, что подобная легенда могла быть замышлена и
возлюблена бесперыми двуногими, знающими лишь то, что они
ничего не знают, - это было бы не меньшее чудо (не менее
чудесная тайна), нежели тайна воплощения сына реального Бога.
Эта природная земная тайна способна вечно волновать и
облагораживать сердца тех, кто не верует".
Прекрасные и точные слова.
Индивидуалисту лучше, чем кому-либо, известно, вослед
Декарту и Паскалю, о пронзительной парадоксальности
человеческого существования. В отличие от остального сущего,
человек вынужден удостовериться разумно в своем существовании.
Но сама его разумность не удостоверена. Не обоснована ничем,
кроме себя же. Смысл, самостоятельно полагающий себя во
внеразумном мире, есть чудо и тайна.
Если обозначить непостижность для себя человеческого
пребывания в мире через нечто надмирное и назвать это чудо
Богом, земная тайна смыслопорождения будет умозрительно и
ритуально отделена от своего предмета и источника. Но
неверующий рационалист не соглашается считать действительно
радикальным решением проблемы такое уклонение и отсрочку.
Это как если набросить во избежание беспокойства плотную
ткань на говорящего попугая. Это молчание только отсрочка.
Человеческая тайна не перестает за божественной завесой быть
совершенно той же самой тайной, ничуть не менее великой и,
уж конечно, не разгаданной.
_ 40
Введение
Только теперь она переименована, перемещена за
мистическую завесу, трансцендирована - т. е. отодвинута, по сути, в
дурную бесконечность. Вместе того чтобы спрашивать, почему есть
природа и человек и почему они вот такие, придется спрашивать:
а почему есть Бог, какой он и по какой причине он такой? Но
причины у Бога нет. Ею мог бы быть разве что другой Бог, и т. д.
Абсолют беспричинен, таинствен: совершенно как человек.
Греки объясняли себя и мир богами, богов - Роком, Рок
уже был необъясним и беспредметен. Монотеист вынужден
остановиться на первой же ступени, ведущей вверх. Можно лишь
отвечать, что спрашивать дальше нельзя и что чересчур
умствовать грешно. Ибо к Богу нельзя подходить рационально.
Надобно верить.
Перестать спрашивать.
Заменить мышление медитацией.
30
Конечно, блажен, кто верует, тепло ему на свете.
Однако перестать спрашивать не значит получить ответ. Это
значит приучить себя обходиться не только без ответов, но даже и
без вопросов. От современного ума это требует самоотказа как
сугубо индивидуалистического иррационального выбора.
"Веруя" или "не веруя", никакое "Я" все равно не в силах
постичь, что такое жизнь и смерть разумного существа. Моя
смерть или смерть другого человека как "Я".
Но, обойдясь без мистического трансцензуса, мы кое-что
выигрываем. Мы хотя бы по-прежнему имеем дело
непосредственно с этим существом. Мы его видим, слышим и осязаем. Мы
остаемся внутри действительного чуда, т. е. внутри культуры и
истории людей, с их неповторимыми существованиями,
поступками, высказываниями.
Конечный разум не в состоянии выйти за свои пределы в
бесконечность абсолюта и рассмотреть наличный мир, как если
бы человек находился "снаружи". Мышление дано в мире и
мышление не может продолжаться в надмирности. Иначе
говоря, нет мышления за пределами мышления. Потому-то, по
Витгенштейну, последние вопросы немыслимы. Всякая логика тут
кончается. Нельзя спрашивать о том, на что нельзя ответить.
41 _
Введение
Остается чистая тайна. Молчание. Дело вкуса считать его
пустым или многозначительным.
Все это было бы неоспоримо, если бы логика была одной и
единственной. Однако исторически даны разные и спорящие
особенные логики. За пределами конечного разума всегда
обретается другой конечный разум. Исторически конкретный и
тоже конечный, но другой. Это то, что B.C. Библер называет
"полилогикой". Жизнеразность культур и принятых ими
логических начал создает не только возможность, но и необходимость
выхода мышления за свои пределы. Но не в бесконечность
абсолюта, а в другое мышление. В бесконечность реального или
воображаемого диалога.
Одновременно и по той же причине индивидуализм
возмещает общением суверенную отъединенность "Я". И углубляет
общение, именно благодаря неуступчивой самости, благодаря
одиночеству. (См. ниже у Вильгельма фон Гумбольдта.)
В частности, мысленным общением с другими культурными
типами индивидности мы преодолеваем изоляцию
(ограниченность) своей культуры и - понимая глубочайшие отличия
прошлых самосознаний от современного - углубляем связь с
прошлым. Обмениваемся с ним собою.
Мы не знаем относительно мира "почему". Мы убеждаемся
в некорректности, бессмысленности вопроса о причине, если
речь идет о мире, человеке, истории в целом. Тогда
таинственность и величие перемещаются в другую плоскость вопроша-
ния. Мы спрашиваем "что такое". Мы изумляемся "как". "Что
такое" и "как" замыкаются на себя и вбирают, растворяют в
себе "почему", которое остается в качестве метафизической
тревоги, сопутствующей последним вопросам.
Тревога не входит в формально-логический состав таких
вопросов, но она показательна. Это что-то вроде
подрагивающей стрелки манометра. Тревога подтверждает, что прибор воп-
рошания исправен, но ответы зашкаливают.
31
Однако обратимся к эссе Умберто Эко. Под занавес
автор, дрогнув перед сентенцией тургеневского Базарова (вряд
ли ему известной) о том, что "после меня лопух вырастет", стре-
_ 42
Введение
мится страшный этот "лопух" обойти. Иначе говоря, все же
растушевать разрыв между рационально укорененной и
последовательно-безнадежной позицией индивидуалиста и - "верой в
трансцендентное". Дабы, щемяще-простодушно признается
автор: "почерпнуть <...> смелость в ожидании смерти".
Однако последовательно-внерелигиозному индивидуалисту
незачем, отбросив метафизические костыли, искать равновесия.
Поздно. Смелость нужна в ситуации, где есть выбор. Но
излишне быть смелым, если выбора нет. Достаточно сохранить
хорошую мину при плохой игре. Упрямое достоинство и
выпрямленные плечи - вплоть до момента своего полного и
окончательного исчезновения.
В рассуждении знаменитого итальянца обнаруживается
очевидная прореха и слабость. Но и эта слабость хороша, ибо
она человечна. Именно в соединении силы объективного
знания о том, что "бога нет", и слабости Я в перспективе его
исчезновения - проступают величие и трагизм
культурно-психологического состояния индивидуалиста. Минуя бесполезные
софизмы "агностицизма".
Умственный salto mortale в рассуждениях Умберто Эко
презабавно обставлен стилистическими реквизитами. Они
нарочито оформлены как фантастическая мешанина.
Прислушаемся: "Великая и единая космическая субстанция".,, "в
электронике цепочки сообщений способны пересылаться с
одного физического носителя на другой, не утрачивая
невоспроизводимых параметров".,, "человек <...> жалчайшая из
тварей"... "Как знать, может <...> в каком-то там водовороте
Вселенной... наш персональный софтвер... неизбывное
страдание".
Мнимая "научность" хода высказывания и терминов,
старинная риторика, ироническое лукавство - словом,
персональный космический софтвер и неизбывное страдание -
предъявлены одновременно. Это выразительно и ставит в тупик. Ведь
мы хотели бы все же увериться, каково действительное
последнее слово автора.
Игра ли это или нечто большее? или отзвуки тайной
неуверенности? У маэстро все высказано почти дурашливо. Но все-
таки не менее, чем у Олеши, серьезно.
В эссе современного агностика проглядывает чаплиниада.
43 —
«Как знать, может смерть равна не имплозии, не
направленному внутрь взрыву, как принято считать, а взрыву,
направленному вовне, эксплозии, и не исключен отпечаток в каком-то там
непостижимо отдаленном водовороте Вселенной нашего
персонального софтвера (того, что некоторые именуют "душой") <...>
Там отпечатываются и наши воспоминания, и наши угрызения,
и, следовательно, неизбывное страдание или же, наоборот -
чувство покоя благодаря исполненному долгу и благодаря любви».
Не о том же самом задумывался Олеша? Хотя и ни на миг
не дурача себя и нас "научностью".
Постмодернист, отпавший в молодости от католицизма, как
мне кажется, не удерживается на уровне героического
стоицизма, который задан его "этичностью природы". Внерелигиозные
и притом "абсолютные постулаты" - по правде, тяжкая ноша
для любого рефлексирующего Я. Ведь "природная этика",
оставляя человека наедине с собой, обрекает его на одиночество или
на завесу болтовни, которая включает в себя что угодно, от
подавленного ночного животного ужаса до наукообразной "кос-
мичности".
Ибо сталкивает с Бесконечным.
Или с "пустотой", как это называл Иосиф Бродский.
И вот, посредством амальгамы словесных гримас и "внере-
лигиозной религиозности", Умберто Эко издевательски, и
доверчиво, и пафосно, и едва ли не самым жалким образом (ибо
принятая им посылка требовала бы беспощадной
последовательности) - приоткрывает то, что, по-видимому, таится в
створе между иронией и трагизмом обреченного Я. Трагизму - на
сей раз без особого интеллектуального изящества, но зато тем
искренней и достоверней - отчаянно противится рефлексия
нашего современника.
Ах, "идея чего-то вроде жизни после смерти"?
Умберто Эко слишком умен и не может не сознавать
убожества этой "идеи". Отсюда привкус иронии. Но "человеческое,
слишком человеческое", видимо, не дает ему вполне обойтись
без нее. Это, по признанию У. Эко, "робкая поблажка той
надежде, которая не покидает человека никогда".
С внерелигиозного Я сострижена теплая шерсть. Он гол. Он
тоже страшится смерти, но иначе и, пожалуй, куда жестче, чем
неиндивидуалистические предки. Но притом: неизбежна ли -
44
Введение
логически, исторически, психологически - подобная расплата
непоследовательностью за попытку Я, "дозревшего до степени
самосознания", обрести фундаментальные постулаты без
"гипотезы" о существовании Бога? Нет. Иначе культура последних
двух столетий в целом не состоялась бы.
По мне, все же, базаровский "лопух" выглядит безнадежней,
логичней и, следовательно, достойней.
32
Чтобы утвердиться индивидуалистической идее,
сначала эта идея явилась в понятии "гения". Или в облике
"демона". Понадобилось еще лет полтораста, и эта же идея, достигнув
зенита, обнажает последнее дно и довольствуется налетчиком,
умирающим посреди улицы. Любое Я - вселенная?
Так невероятно далеко ушла культура от
традиционалистских представлений о том, почему и как может выделиться из
толпы индивид. Ушла от античного понимания индивида как
"сомы", т. е. одушевленной телесности13. От толкования всякой
особенности индивидных нравов и склонностей через
систематику природно-человеческого, через "физиогномику",
дожившую в XVIII в. до сочинений Лафатера, тогда же высмеянных
Лихтенбергом14. Наконец, от поведения древнего киника или
средневекового юродивого, которое было из ряда вон
выпадающим - но лишь потому, что принадлежало собственному ритуа-
лизованному ряду, с весьма архаической подосновой15.
Но вот приходит Руссо и спокойно замечает: "Я один".
Дидро рассуждает о "гении".
А Лихтенберг отпускает грубоватую, но характерную
остроту: "После того, как создана теория, объясняющая
оригинальность ума изъянами в симметрии организма, я считал бы
целесообразным ударять слегка кулаком по голове всех
новорожденных детей и, не причиняя им вреда, нарушать симметрию их
мозга ..."к
Парадоксальным образом именно индивидуальность
становится в современной культуре наиболее общим и расхожим ее
выражением. Походить на другого индивида, с этой точки
зрения, можно, лишь будучи на него не похожим. То есть тоже
оригинальным и самодостаточным.
45 —
33
Итак, индивидуальная личность - идея, в которой
наиболее непосредственно выражает себя относящаяся к
отдельному человеку новая экономическая и политическая
реальность европейской истории. Это в значительной мере
социально-практическая категория, обнимающая все сферы жизни, от
государства до бытового разнообразия. Это категория, в
которой пафос единственности и оригинальности каждого
индивида прямо проистекает из идеи индивидуальной свободы. Так что
можно бы сказать, что праздником индивидуальности
следовало бы считать 14 июля - день взятия Бастилии.
Разумеется, содержание этой поначалу чисто буржуазной (в
духе "естественного права") либеральной идеи исторически
менялось - и продолжает меняться. Однако всемирный и
всеобщий смысл ее был хорошо уловлен в классических
формулировках Джона Милля.
"Нет никакого основания, почему бы существование всех
людей должно было быть устраиваемо на один манер или по
небольшому числу раз определенных образцов. Если только
человек имеет хотя бы самую посредственную долю здравого
смысла и опыта, то тот образ жизни, который он сам для себя
изберет, будет лучший, не потому чтобы был лучший сам по себе, а
потому, что он есть его собственный. <...>
Все, что уничтожает индивидуальность, есть деспотизм <...>
К сфере индивидуального принадлежит, во-первых,
свобода совести в самом обширном смысле этого слова, абсолютная
свобода мысли, чувства, мнения относительно всех
возможных предметов, и практических, и спекулятивных, и научных,
и теологических <...>. Во-вторых, сюда принадлежит свобода
выбора и преследования той или иной цели, свобода
устраивать свою жизнь сообразно со своим личным характером, по
своему личному усмотрению, к каким бы это ни вело
последствиям для меня лично, и если я не делаю вреда другим
людям...""
Милль с великолепной четкостью вскрывает социальную
подоплеку идей Гумбольдта. Однако у самого Гумбольдта - не
случайно, конечно, занявшегося "Идеями к опыту,
определяющему границы деятельности государства" в кровавом 1792 г., -
_ 46
Введение
принцип индивидуальности имел не только
социально-правовое значение, но был наполнен прежде всего
универсально-культурным смыслом.
34
иИндивидуальность"t т. е. единичность, доведенная до
единственности, и особость, дорастающая до общезначимой
оригинальности и суверенности, будучи взята со стороны
общественно-исторических оснований, утверждается через "свободу"
самоформирования. Она же, взятая со стороны культурной,
состоит в смысловом общении человека с другими и с самим
собой. То есть предстает в качестве "личности".
Как только возникает беспредпосылочный Я, иными
словами, своеобразие индивида признается самоценным жизненно-
духовным состоянием, человеку сразу же приходится
задумываться над новым его отношением к самому себе и ко
всеобщему. Существование индивида, как и встарь, требует высшего
обоснования. Но уже не через абсолютное, надличное,
тотальное Всеобщее, а через свое индивидуальное и особенное
всеобщее, через "Я-вселенную", на внутренней границе ее с другими
личными мирами.
35
Вместе с тем у Гумбольдта обе регулятивные идеи, в
сущности, переплетаются. Поскольку личность - это
культурная, нравственная, метафизическая субстанция
индивидуального "Я", Гумбольдт с необходимостью переходил, отстаивая
фундаментальную ценность оригинальности, на чистый язык
культуры. Вот несколько выписок из его замечательного трактата,
перекидывающего мостик в XX век.
"Истинная цель человека <...> есть высшее и наиболее
пропорциональное формирование его сил в единое целое".
Предпосылки такого формирования заключены в свободе и
многообразии жизненных ситуаций. Односторонность индивидуальности
возмещается через общение: "С помощью связей, возникающих
из глубин человеческой сущности, один человек должен
усвоить богатство другого". Различия между индивидами "должны
47 _
Введение
быть не слишком велики, чтобы стороны могли понимать друг
друга, но и не слишком незначительны, чтобы они могли
возбудить восхищение перед тем, чем владеет другой, и желание
воспринять и привнести это в себя. Эта сила и это многостороннее
различие объединяются в том, что называется оригинальностью;
следовательно, то, на чем в конечном счете покоится все
величие человека <...> есть своеобразие силы и формирования. Это
своеобразие достигается с помощью свободы деятельности и
многосторонности действующих, и оно же в свою очередь
создает их". "Истинный разум не может желать человеку никакого
другого состояния, кроме того, при котором <...> каждый
отдельный человек пользуется самой полной свободой, развивая
изнутри все свои своеобразные особенности..."
Гумбольдт пишет, что в этом смысле "всех крестьян и
ремесленников <...> можно было бы, пожалуй, сделать
художниками". То есть моделью свободы самоформирования для него
является "Я-художник". Мыслитель надеется на уменьшение
традиционной "потребности людей действовать
однообразными, скученными массами".
"У нас слишком часто обращается преимущественное
внимание на известное идеальное целое, в сравнении с которым
отдельные личности кажутся почти забытыми <...> Люди должны
объединяться не для того, чтобы утратить какие-либо черты
своего своеобразия, а для того, чтобы избавиться от все
исключающей изоляции; такое объединение не должно превращать
одно существо в другое, а должно как бы открывать путь от
одного к другому; то, чем располагает каждый для себя, ему
надлежит сравнивать с тем, что он обрел в других, и в соответствии
с ним видоизменять, но не подчинять ему <...> Поэтому
непрерывное стремление постигнуть глубочайшее своеобразие
другого, использовать его и, проникаясь величайшим уважением к
нему как к своеобразию свободного существа, воздействовать
на это своеобразие - причем уважение едва ли позволит
применить какое-либо иное средство, нежели раскрытие самого себя
и сравнение себя с ним как бы у него на глазах, - все это
является величайшим правилом человеческого общества".
Следует "иметь достаточное уважение к человечеству,
чтобы ни одного человека не считать полностью непригодным для
такого общения". И, наконец, о религиозности как всего лишь
_ 4S
Введение
частном случае такого индивидуального выбора, об отделении
нравственности от религии: "Ничто не делает утраты божества
столь безвредной для нравственности, как самостоятельность и
сила, которая сама собой удовлетворяется и сама собой
ограничивается. <...> Чем сильней чувство этой силы в человеке, тем
беспрепятственней он ищет внутреннего подчинения тому, что
руководило бы им и вело бы его; он остается верен
нравственности независимо от того, будут ли эти узы любовью и
поклонением богу или удовлетворением самосознания"18.
Кажется, на заре внерелигиозной этики Вильгельм фон
Гумбольдт рассуждал последовательней и крупней, чем Умбер-
то Эко.
36
Слушая этот голос, доносящийся из двухсотлетней
дали, эти простые слова, в которых нераздельно сплетены вновь
возникающие политические, нравственные и культурные
(хочется даже сказать "диалогические") идеалы, получаешь еще
одну возможность осознать, что такое европеизм в звездные часы
своей истории.
Часто, толкуя об "индивидуализме", имеют в виду его
бытовую и эгоистическую изнанку, таящуюся в нем угрозу. Но
угроза выпадения во внекультурный осадок, своя изнанка на
эмпирическом уровне есть, конечно, во всяком типе сознания и
поведения. Тогда, говоря о традиционалистских обществах,
можно бы сетовать на разрыв между повседневным поведением и
сакральной нормой или сводить соборность к обязательному
принижению индивида, к обязательному конформизму.
Впрочем, такой подход означал бы наше непонимание древних и
средневековых цивилизаций от Рима до Китая. Точно так же
толкование индивидуализма как буржуазного своеволия и
хищничества - подмена темы разговора.
Высокий индивидуализм в европейской истории восходит к
Декарту и Канту, Монтеню и Паскалю, Рембрандту и
Шекспиру. Новоевропейский индивидуализм не в меньшей степени, чем
традиционалистская соборность, устремлен к высшим
ценностям - там, где они определяют человеческую жизнь, т. е. в
сфере культурного самосознания. Однако отныне каждый мысля-
49 —
Введение
щий человек должен бы находить и выстраивать эти ценности в
незавершенном мире, среди множества чужих "правд", в
нескончаемой истории, протекающей через мою сиюминутность.
Последний смысл более не гарантирован никем и ничем, не
положен извне, не ниспослан сверху ни царем, ни богом, ни
героем. Не дарован в качестве вечного и абсолютного.
"Вечные ценности"? О, сколько вашей душе посильно и
угодно. Ведь отныне, даже если индивид избирает
конфессиональную позицию, он существует в мире, где нет тотальной,
привычной для всех, единой и обязательной позиции,
конфессиональной ли,внеконфессиональной.
В любом случае это личная позиция. Основанная на
уникальном человеческом существе, на его индивидуальной
суверенности.
Личность переплавляет в тигле своей внутренней свободы и
единственности всю преднайденную историю и культуру.
Маркс, критик Просвещения, был его наследником, был
европейцем, сказавшим как о чем-то само собою разумеющемся,
что "свободное развитие каждого есть условие свободного
развития всех".
При огромных различиях и даже противоположности евро-
пеистских концепций последнего столетия - от Ницше до Тей-
яра де Шардена, от Камю до Бахтина - со "свободным
развитием каждого", очевидно, согласился бы каждый из этих мало в
чем сходных мыслителей.
Как и с тем, что индивидуальная неповторимость налагает
на душу нечто противоположное самодовольству: трагическую
ответственность выбора.
Если у Вильгельма фон Гумбольдта, например, связь с
буржуазной почвой отмечена классической ясностью, то столь же
ясна и далеко идущая сублимация этой связи, неизмеримо
перерастающая свои первоначальные исторические условия и
причины. Принцип индивидуальности и принцип личности
только в культуре - и во всей совокупности жизненных
проявлений, поскольку они озаряются культурным смыслом, -
обретают всемирно-человеческие основания и созидают новую
социальность.
Здесь столкновение "индивидуализма" и "коллективизма"
окончательно теряет прежнее значение. Высшая коллектив-
_ 50
Введение
ность культурного общения (диалога) - свободное объединение
людей ради обмена собою.
Индивидуализм в этом понимании, скорее, все еще
программа. На третье тысячелетие.
37
С точки зрения НЕкультурантропологии и НЕсоци-
альной истории - для герменевтики и культурологии более
всего теоретически интересны как раз самые редкие случаи и
самые замечательные произведения. Причина этого, само собой,
не в стародавнем представлении о том, что в истории
любопытны и значимы лишь "великие люди", "герои" и т. п.
Однако дело в том, что данный тип личного самосознания,
испытав максимальный мыслительный риск и напряжение,
только на вершинах творчества достигает своей
логико-исторической предельности, своей критической массы.
Тогда эпохальный тип сознания, придя в движение из
глубины характерных для него "ментальных" матриц, расстается с
их готовостью и самотождественностью. Выявляется "замысел"
культуры, т. е. ее своеобразие и потенциал, а не только
наличное и чаще всего встречающееся.
В истории культуры только так вырабатываются заделы для
будущего. Продолжая, как принято выражаться, всецело
"принадлежать своему времени", тем интенсивней мировосприятие
индивида прорастает в "большое время". Оба времени заходят
друг в друга. Но об этом уже говорилось.
38
Часто считают, будто для данной культурной эпохи
показательны лишь самые клишированные, типичные, массо-
видные формы. Остальное же - пусть блестящие, но не
показательные исключения. Правда, непонятно, что делать с ними
историку. Пробуют свести их все-таки на типичное. Или же
подтвердить ими норму от противного.
Но что делать с особенным и неповторимым как таковым?
В чем собственная историко-познавательная ценность
уникального, можно ли вообще признать эту ценность при статистиче-
ски-обобщающем подходе?
51 —
Введение
Понятно, что для культурантрополога потребны серийные
или хотя бы однотипные источники.
Между тем феноменологическое богатство и
показательность для эпохи того, что было в ней наиболее
распространенным и обычным, теоретически едва ли не слишком бедны.
Обычное характеризует культурную эпоху в ограниченном
плане, хотя и более доступном для неподвижного описания. Дело в
том, что обычного недостаточно, чтобы понять "замысел"
данной культуры, т. е. заложенные в ней смысловые натяжения,
предельные значения и, следовательно, способности к
изменению.
Обычность и расхожесть суть истины "малого времени".
Чего, однако, заведомо нет в коллективной стереотипной
ментальное™, преднаходимои индивидом, детерминирующей
его сознание и поведение, - так это возможности
неисчерпаемых перетолкований. "Ментальность" на то и ментальность, что
лишена дара метаморфоз.
Но это, как оговорено выше, лишь в модусе наличного, при
совпадении с собой. В чрезвычайных же случаях великие души
и умы, также, само собой, неотъемлемые от своего времени,
выводят его из равновесия. Ставят свою культурную формацию в
непредвиденный ракурс. Они не просто представляют
(иллюстрируют, подтверждают) данную ментальность, но
драматически-лично сдвигают, испытуют, проблематизируют ее.
Чем исключительней - тем рефлективней, тем динамичней.
Тем больше в этом заложено глубинного исторического смысла.
К подобным прорывам способно только мышление, в
отличие от сознания (см. у B.C. Библера).
Конечно, необходимо изучать самое распространенное и
характерное для эпохи, чтобы реконструировать ее. Но для той же
цели, ради создания макромодели, не менее поучительно зайти
с совершенно иной стороны. Эвристически плодотворно
изучать также, напротив, то, что более или менее выламывается из
времени и взламывает его.
Замечательные персонажи исторически интересны вовсе не
в качестве исключений, оттеняющих нормативные вкусы и
правила. Это плоский подход.
Хотя гении, конечно, живы и сами по себе, в огромном над-
эпохальном масштабе.
_ 52
Введение
Но вот что наиболее методологически объемно и, так
сказать, высокотехнологично при изучении казуса. Именно
великолепная исключительность индивида, остраняющая его
ментальной* ь, "сама по себе интересная1* смысловая фокусировка
произведения позволяют исследователю увидеть культурную
эпоху в условиях своего рода экспериментального сдвига.
Парадоксальность, дремлющая в мыслительных матрицах - в том
числе, сравнительно "холодной" культуры, - доводится
гениями до критического (взрывного, как выражался Ю.М. Лотман)
состояния. Чем сгущенней яркая необычность, тем заманчивей
материал логико-исторической реконструкции.
39
Вот почему речь пойдет о самых что ни на есть
известных именах и о знаменитейших текстах. Они давно изучены
вдоль и поперек. Попробуем взять их, однако, может быть, с
несколько неожиданной стороны.
Раскрытие в работе наново далеких "Яи - будь то Августин,
или Элоиза, или Петрарка, и пр. - конечно, звучит смущающе и
может выглядеть как личная претензия. Но это, на самом деле,
изложенное в простых выражениях значение термина
"герменевтика". Это всего лишь суть того, чем занимается всякий
интерпретатор культурного текста. Это рабочее условие и
единственно возможный результат изучения того или иного автора в
режиме научно-гуманитарного диалога с ним. Если такая
реконструкция не убедительна, значит, исследование не
состоялось вовсе.
Настоящие очерки, как и все, что я делал с середины 70-х
годов, решающим образом обязаны философии гуманитарного
знания в трудах М.М. Бахтина. Перед читателем опыт ее
практического историко-культурного претворения.
На мой взгляд, лучшее в мировой литературе о Бахтине -
книга о нем B.C. Библера19. Бахтинское учение истолковано у
Библера с особым блеском и глубиной именно потому, что
автор не "бахтиновед". При всем уважении к публикаторам и
комментаторам Бахтина, среди которых есть поразительно
вдумчивые и осведомленные люди, все же наилучшим образом
существо учения Бахтина высветил оригинальный философ и логик,
53 —
Введение
который предложил собственный важный извод "диалогики"
культуры.
Библер исходит не из речевых высказываний, а из понятий,
не из сознания, а из мышления. Вступая уже с самим Бахтиным
в диалогическое соотношение, включающее согласие и спор,
Библер продолжает его теоретическую линию.
Что до настоящей книжки, то я и не бахтиновед, и не
философ. Мне поневоле приходится здесь, как и в других работах,
бегло касаться общих проблем гуманитаристики и
герменевтики, однако для меня наследие Бахтина это, повторяю, рабочий
инструментарий конкретных штудий. Я стал последователем
М.М. Бахтина к 1973 г. и продолжаю им оставаться,
попытавшись на основе его идей разработать собственную комплексную
методику историко-культурного исследования уникальных
текстов20.
40
В 1989 г. я опубликовал работу "Итальянское
Возрождение в поисках индивидуальности", из которой сюда
перенесено почти все, включая большую часть настоящего Введения.
Здесь это третья и четвертая части: о гуманистическом
"подражании", о Лоренцо Великолепном и о парадоксах понятия
индивида в "Государе" Макьявелли.
Затем я стал заниматься структурой "Я" у Петрарки. Но
вскоре почувствовал необходимость сперва отступить из
XIV века в XII, из раннеренессансной Италии в средневековую
Францию. Короче, обдумать автобиографию Абеляра и письма
к нему Элоизы как предшествующие Петрарке исторические
формы личного самосознания. И уж затем сопоставить с
Петраркой, который, между прочим, читал Абеляра и Элоизу, делая
выразительные пометки на полях присланной ему из Парижа
рукописи.
Однако следующим внутренне нужным шагом после
Абеляра и Элоизы мне показался уход в еще более отдаленную и
определяющую Средневековье ретроспективу: к "Исповеди"
блаженного Августина.
Разумеется, всякое подобное отступление и замедление
подступов к Петрарке немедленно приобретало
самодовлеющий интерес. Любое новое произведение, с уникальным смы-
_ 54
Введение
еловым устройством, требовало неизвестных заранее
методологических ходов, приемов изложения, логической оснастки:
специально для данного случая. В рамках моей ограниченной, хотя
и сквозной, историко-культурной задачи - уразумения
оснований и пределов личного самосознания - способ работы с
источником и соответственно композиция главы или части каждый
раз всецело продиктованы своеобразием материала.
Я подумывал было (и все во имя Петрарки!?) еще о
письмах Цицерона... Но проявил благоразумие и не решился.
Пришлось бы забираться в профессионально вовсе мною
неизведанную классическую античность.
Название книги, сознательно широковещательное,
поощряет к движению не только "назад" от Возрождения, но и
особенно "вперед". Между тем очерки доведены лишь до начала XVI в.
Но и тут одного Макьявелли, конечно, совершенно
недостаточно. Было бы важно, например, исследовать структуру Я-созна-
ния в письмах Микеланджело и Пьетро Аретино.
Далее хорошо бы, наращивая витки замысла, обратиться к
личной переписке, дневникам и мемуарам последующих
времен. От Монтеня и, скажем, "Записок" герцога Сен-Симона до,
конечно же, рубежной "Исповеди" Руссо. И далее... почему бы,
например, не к английским и немецким романтикам, не к
письмам Пушкина, Флобера, Тургенева, почему не к дневникам
Томаса Манна или Кафки?
Так следовало бы поступить, чтобы материал работы, пусть
все равно по необходимости крайне выборочный и к тому же
отражающий мои привязанности и прихоти, сколько-нибудь
соответствовал бы названию по хронологическому охвату.
Так я и двигался бы, от Цицерона к автобиографии Генри
Миллера и дневникам Пришвина, если бы в моем
распоряжении оставался достаточный запас сил и времени.
Но в итоге за проблемным названием, увы - только пунктир
нескольких имен и произведений: из истории европейского
Средиземноморья в интервале IV-XVI вв. Вместо систематической
истории европейского "Я" читатель обнаружит внутри обложки
лишь несколько своего рода пробных исследовательских шурфов.
Правда, дело не только в скромном количестве толкуемых
произведений и в отсутствии описательной полноты по поводу
какого бы то ни было из них. Но также, надеюсь, и в том, до ка-
55 —
Введение
кого теоретического горизонта удалось выбрать породу. До
каких смысловых пластов добраться.
В любом случае, это недостаточный и, наверно, не самый
лучший способ работы. Но вот уже четверть века предпочитаю
двигаться по цепочке небольших монографий, сосредоточенных
каждый раз на одном писателе или даже на одном
произведении, в котором предполагается свернутым всеобщий
исторический контекст.
Очерки написаны во внешне эссеистической и свободной
манере. Тем взыскательней это налагает, само собой, на меня
требования подспудной логической выверенное™, фактической
точности и - безусловной ответственности перед чужими
смысловыми мирами.
Пробуя замедленно вчитываться в произведение,
поражаешься тому, что открывается в нем в ответ на
спровоцированные им же концептуальные предположения. Затем я стараюсь
воссоздать смысловое целое: так, как если бы текст
высказывался сам.
При "субъектной" (но не "субъективной"!) манере разлагать
инаковый смысл, дабы затем собирать его целостность наново, с
Элоизой это осуществимо совсем не так, как с Абеляром. И
даже методические подступы к авторскому самосознанию "Кан-
цоньере" и характер изложения по необходимости иные, чем в
связи с письмами поэта. Это принципиально: при
интерпретации уникального произведения способ работы над ним заранее
неизвестен.
Когда наконец пришло время обратиться к Петрарке, раздел
о его эпистолярии занял предназначенное ему центральное
место в книге. Позже его дополнил мозаичный анализ авторского
"Я" в "Канцоньере".
Все вышеперечисленное печаталось в течение десяти лет в
сборниках, журналах или в виде препринтов. Только работа о
любовной лирике Петрарки публикуется в составе этой книги
впервые.
Я рассчитываю, что очерки истории европейского личного
самосознания, ранее разбросанные и недоступные читателю в
качестве целого, будучи теперь сбиты в продуманный цикл,
позволят нарастить (как это обычно происходит в подобных
случаях) более полный и емкий теоретический смысл.
_ %
41
Индивидуалистическое иЯп составляет наиболее
сложную подоплеку и наиболее проблемный итог движения
новоевропейской культуры к нашим дням.
Что до его "предыстории", то это термин, как уже
оговаривалось, условный. Будем с ним осторожны.
Новоевропейской личности предшествовали иные типы
"Я". Хотя индивидуализм отнюдь не случайно смог вырасти
именно из разрыхленной и обогащенной ими
антично-христианской почвы, тем не менее предшествующие формы
интроспекции, выявления и полагания "Я" обладали оригинальными
структурами. Истолковывать их необходимо, предполагая и
отыскивая в них самодовлеющие логико-культурные пружины.
Будучи несходными между собой, в принципе все эти
формы все же оставались на фундаменте традиционализма. А
притом они его меняли, сдвигали и создавали странные
возможности преодоления традиционализма: изнутри него же.
Но это происходило, скорее, впрок. Нетрадиционные черты
подобных форм не становились системными. Радикальным,
реальным и необратимым все это обернулось, как известно, лишь
начиная с Возрождения.
Формы личного самосознания, которыми предстоит
заняться, хотя генетически и предшествовали той, что нам,
нынешним, непосредственно знакома и внятна, - насущны для
современного мышления не только потому, что проясняют
происхождение индивидуалистического "Я", но скорее напротив:
поражающей инаковостью. Вдумываясь в них, мы получаем
возможность понять, где же начинаемся и кончаемся собственно мы.
Прошлым прочерчиваются границы рефлексии на современное
"Я". Одновременно эти границы диалогически раздвигаются,
включая в мышление нашу другость.
* * *
Я успел обсудить третью и четвертую части работы,
написанные еще в начале 80-х годов, с философом Линой
Борисовной Тумановой. Вскоре она была арестована за правозащитную
деятельность и безвременно погибла.
57 _
Введение
Дружить, беседовать с Линой было тонкой
интеллектуальной и сердечной радостью. В предварение книги об истоках
высокого индивидуализма хочу помянуть этого необыкновенного
человека, который опроверг слова Гамлета: "Thus con science
does make cowards of us all" - "Так раздумье делает
малодушными нас всех". О нет, не всех.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
"НЕ МЕЧТАШ
О СЕБЕ
,.,.•.•—ν*
's-:'y\
О культурно-историческом
смысле "Я"
в "Исповеди" бл. Августина
ВЕЛИКАЯ книга Аврелия Августина на тыщу лет
вперед послужила наиважнейшим образцом для каждого, кто
решился бы взяться за перо, чтобы поведать о собственной
жизни.
Впрочем, подобные опыты бывали встроены в сочинения,
относившиеся в целом к совсем иному роду (будь то, например,
во времена Абеляра хроника Гвиберта Ножанского или записки
аббата Сугерия об обители Сен-Дени). Конечно, сведения,
которые автор вдруг счел нужным сообщить о себе и своей семье,
всегда ценная редкость для медиевиста. Но до интимной
автобиографии и до самодовлеющей задачи исповеди отсюда еще
слишком далеко. Строго говоря, между Августином и Абеляром
за семь веков не было никого, кто мог бы стать с ними в этом
отношении рядом! - имею в виду отнюдь не масштаб
дарования, а хотя бы минимальную степень жанровой
последовательности и чистоты1.
Это требует какого-то объяснения.
Дух Августина витал над любым проявлением
средневекового автобиографизма. А все-таки целостный жанр "Исповеди"
остался невостребованным как таковой. Даже Абеляру не
пришло в голову упомянуть Августина как своего прямого
литературного предшественника.
61 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 'НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
С другой стороны. Когда Петрарка впервые дерзнул
некоторым образом сделать именно это, многозначительно
исповедуясь перед самим же Августином, - подражание послужило
весьма оригинальным приемом и помогло создать нечто отличное
от "Исповеди", гуманистически новое. Не удивительно, если
кое-что соответственно почти испарилось. И в том числе
автобиографическая конкретность! В этом плане диалог Петрарки
не выдерживает сравнения ни с Августином, ни с готически
предметным повествованием Абеляра. Характер и средства ин-
дивидуации тут совсем иные. Поэтому "Историю моих
бедствий" - в интересующем нас ракурсе, т. е. по каким смысловым
основаниям автор находит достойными общего интереса и
описания перипетии своей отдельной жизни и какими жанровыми
матрицами ему приходится для этой цели воспользоваться -
надобно сопоставлять у Петрарки отнюдь не с его "Secretum"
("Сокровенным").
От покаяния к теологии творения:
логика целого
"Необычайный и небывалый психологизм" Августина
нередко принято рассматривать как результат и подтверждение
"открытия" гиппонским епископом "уникальной, неповторимой
человеческой личности"2.
На деле же - ничего подобного! Ни "психологизма", ни
идеи "неповторимой личности".
Но понятно, почему утонченные дознания Аврелия
Августина о малейших движениях "внутреннего человека" в себе, о
затаенных побуждениях своего "сердца" - соблазняют
воспринимать их столь анахронистически. Напряженное
интонирование, напрямую следующее Давидовым "Псалмам" ("я" и "Ты"),
риторическая огранка - создают мощное впечатление
интимности и доверительности3. "Исповедь" исполнена, так сказать,
психоаналитической беспощадности к себе - а вместе с тем и
печального сочувствия к тому ребенку или молодому человеку,
каковым был сам же автор до крещения, до начала (в 33 года!)
Новой жизни во Христе.
— 62
О культурно-историческом смысле тЯяв "Исповеди" 6л. Августина
Человек проходит через "страдания, смуту и ошибки"
(I, XX, 31). Кажется, будто "запутанные извивы" отдельной
души (II, X, 18: "vestigium secretissimae unitatis") укладываются в
новоевропейский контур "психологизма", сопряжены с
индивидуальной "личностью". Ибо мы привыкли описывать подобные
вещи при помощи именно этих понятий.
Под психологизмом, однако же, следует разуметь не просто
возможность разглядеть за внешностью и поведением индивида
некие внутренние побуждения и страсти. (Такое, конечно, было
уже в мифе.) Побуждения эти неявные. Они требуют
специальной ("психологической") проницательности. Отсутствие
тождества внешнего и внутреннего, трудность и глубина
психологизма объясняются, в свою очередь, тем, что каждый человек
непохож на других. Он - особенный. И "психологизм" (в отличие от
древних представлений о "психее" и "характере") есть
проникновение прежде всего в индивидуальное, особенное. В
психологизме вся суть во внимании к подробностям (чужой или своей)
неповторимой душевной жизни, которая как раз этим, т. е.
"уникальностью", общеинтересна и ценна.
Далее. "Неповторимое" по определению нельзя раскрыть до
конца. Ведь оно есть субъект, который не может быть присвоен
другим субъектом (см. у Бахтина). На дне все равно остается
тайна, придающая значительность также тому, что разгадано.
Исчерпать тайну личности, докопаться до итога не дано даже в
отношении себя самого. Ибо "тайна" коренится в том, что
личность не равна себе, не окончательна и, продолжая жить,
"перерешает" себя.
Такова наработанная за последние два века смысловая аура
вокруг этих понятий. Пользуясь ими применительно, допустим,
к Августину, слишком трудно от нее избавиться. Если же
все-таки прибегать к анахронистичному словоупотреблению, надо бы
тем паче сосредоточиться на том, что речь идет "о личности" в
ином историческом значении и о каком-то другом, весьма
удивительном "психологизме", вовсе не похожем на наш психологизм.
Неповторимость личности? Однако у Августина свидетель-
ствование о себе, напротив, всецело основано на представлении
о неизменной тварной сущности и потому повторяемости того,
через что проходит всякий индивид. Интерес "я" к себе был
культурно (т. е. осмысленно) возможен лишь с точки зрения
S3 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
всеобщности. Личная судьба сознавалась в качестве набора
акциденций, сквозь которые светится субстанциональная природа
"такого существа". В нем - Бог, и оно - в Боге. Поскольку
христианский персонализм состоит в идее непосредственной связи
отдельной души с Провидением, самонаблюдения Августина не
психологичны: они онтологичны.
Потому-то странность для современного взгляда подобной
"автобиографии" поражает с первых же страниц. Ведь Августин
начинает ее со своего... беспамятного младенчества! Даже его
современникам, в 397 г., это могло дать повод к насмешкам (что
он мельком и отмечает).
Однако Августин - исповедовался. На виду у человечества,
включая предков и потомков, он разговаривал с Господом.
Взывал к "милосердию Твоему". Это грамматическое второе лицо
менее всего литературный прием. В нем глубочайшее существо
такого типа личного самосознания. Необыкновенная
суггестивность августинова "я" есть молитвенная рефлексия.
То есть личное - мыслимо и возможно - становится
предметом рефлексии, тем самым вообще возникает - благодаря
надличному модусу существования - в молитве. "Я" осознается
и обретает пластику, форму, глубину через божественное "Ты".
Все иные мысленные диалоги (с теми, кого Августин
вспоминает, с кем полемизирует, кого изобличает или жалеет, кем
восхищается, кого он читал и кто теперь его читает) - в данной
ситуации производное от этого диалога.
Конечно, в тексте разговор с Богом (исповедь) явлен и как
"беседа наедине с собой", "soliloquium". Тем не менее это беседа
не между "двумя Я", не "Августина с другим Августином". То
есть все же не "наедине с собой". И даже не со своей "совестью",
пусть понимаемой как ощущение Бога в душе индивида. Нет,
это прямая молитва. "Бог" здесь - это Бог.
Диалог с "Ты" глубоко мистичен, ибо реален.
Можно возразить: какая разница, если в итоге
эмпирический человек, со всей своей конкретной биографией,
становится "Я"... и остро переживает, обдумывает вот этого себя?
Но изощренность такого переживания еще не означает
автономии "я", даже наоборот. Поскольку индивид видит в себе
"раба Божьего", постольку "я" оказывается значимым. То есть
индивидное самосознание есть заострение всеобщности, актуа-
_ 64
О культурно историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
лизация сознания родового. Смысл "я" в Не-Я... смысл вне "Я"...
оттого и возникает проблематика "я".
"Личность" - секулярна, суверенна, causa sui. "Я"
Августина - сплошь религиозно, причастно, мистично.
Разница между таким (конечно же, глубочайшим!)
индивидом и новоевропейской личностью - "только" в смысловом,
культурном основании. Основание же - определяет все
остальное, начиная с жанровой конструкции и вплоть до мельчайших
душевных извивов, логики вопросов и ответов, возможности или
невозможности тех или иных характерно-бытовых, психических,
мыслительных черт, красок, подходов. Короче, это разница в
историческом способе существования и осознания индивидности.
Августин судит о себе не по горизонтали, т. е. не в
сопоставлении себя (особенного) с другими (тоже особенными) людьми.
Но по вертикали: в движении от себя как одного из малых сих -
к Творцу. "Noverim me, noverim te!" ("Познавая себя, познаю
тебя"). О личном - не из самодовлеющего интереса к личному. О
себе, но из любви к Нему, превозмогающей изначальное
несовершенство и греховность личного и находящей внутри "я"
силу, дабы, сколько дано, преодолеть это "я"...
Таким образом, перед нами, строго говоря, не
"автобиография". Автобиографизм тут лишен собственного смыслового
оправдания.
Описание жизни, которую мы сочтем индивидуальной и
самоценной, для автора "Исповеди" никак не цель, но только
повод. Только отблеск настоящей, мистической цели, уводящей от
случайностей жизненной истории человека к ее
субстанциональности. Проще сказать, к тому, что существует над личным
и вне временного.
Отсюда в сочинении гиппонского епископа - структура
целого. Августин, поведав в восьми книгах о том, каким он был до
обращения в Медиолануме, добавив к сему девятую книгу
преимущественно о матери и ее кончине в Остии, воспоминания
заканчивает. И... "я многое пропускаю, потому что очень
тороплюсь" (IX, VIII, 17). Торопится же он к главному, к тому, что
должно стать увенчанием труда.
Но сперва перевал: десятая книга... Не о том, каким именно
он был, но о том, кто вообще он есть. «Тогда я обратился сам к
себе: "Ты кто?" И ответил: "Человек"» (X, VI, 9).
3 - 345
65 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
Переход от "был" к "есть" возвещает завершение личной
исповеди как таковой и оттеняет ее подготовительную роль:
обращение к истинной вере и священству, отказ от прежних
заблуждений, слабостей, колебаний... очищение от биографии.
Ибо для Августина исповедоваться, каков он ныне, значит
говорить уже не о себе, а о том, что такое исповедь... не для
него одного, но для каждого... что такое - ощущать, помнить,
забывать, размышлять... что делать человеку со своим телом... как
способна душа возрадоваться о Господе и "сложить на Него
свою заботу", быть "выкупленной Его Кровью".
"Моя" душа... становится не моей.
Следовательно, автобиографизм - но таков ведь исходный
замысел! - окончательно возгоняется. Он курится, светлеет,
растворяется в небесах. Богатство самонаблюдений, сослужив
необходимую службу, подводит к своего рода краткому очерку
христианской антропологии. "Я", теперь уже без личной
примеси и остатка, оборачивается Человеком вообще.
А далее столь же логично разворачивается вероучительная
проповедь. "Да узнаю Тебя так, как Ты знаешь меня" (X, I, I).
Грядут три заключительные теологические книги "Исповеди".
Но разве не о них было сказано на первой же странице
сочинения, разве не ради них оно и предпринято?
4Надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе... Или,
чтобы познать Тебя, и надо "воззвать к Тебе"?.. Но как воззову
я к Богу моему?.. Когда я воззову к Нему, я призову Его в
самого себя. Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь
мой?.. Тесен дом души моей, чтобы Тебе войти туда: расширь
его. Он обваливается, обнови его... "От тайных грехов моих
очисти меня, Господи"... Верю и потому говорю: "Господи, Ты
знаешь"... И все-таки позволь мне говорить перед Тобой,
Милосердный, мне, "праху и пеплу"» (I, I—VI, 1-7).
Итак, все сочинение с поразительной цельностью, от
первого до последнего слова, изнутри всякого смысла, концептуально
устроено как движение от личной исповеди верующего к
проповеди размышляющего. От малой антроподицеи (т. е.
впечатлений и событий судьбы вот этого Аврелия Августина,
опознанных в качестве вех всечеловеческого странствия: кн. I—IX) - к
Большой Антроподицее. То есть к субстанции Человека, к его
греховности и его спасенности (кн. X).
_ se
О культурно-историческом смысле "Я"в "Исповеди" бл. Августина
А затем сие перетекает в credo, в раздумье о времени и
Вечности, о Бытии и Слове Божьем: в теодицею. "Вот и рассказал я
Тебе много: что мог и что хотел. Ты ведь первый захотел, чтобы
я исповедовался Тебе, Господу Богу моему" (XI, I, 1).
Авторство исповеди свершилось: во исполнение Его воли.
После чего оно слагается, заодно с самой рассказанной жизнью,
к Его престолу. И - довольно о себе. Условие - т. е.
расширение "дома души моей", его обновление, его очищение
раскаянием - выполнено.
Так довольно же! Исповедуясь и воззвав, молящийся
приуготовлен принять в себя и понять Господа Бога своего. Не
теряя более ни "капли времени", говорить только о Нем. "Давно
уже горит сердце мое размышлять о законе Твоем и тут
показать Тебе свое знание и свою неопытность..." (XI, II, 2).
Во вступительных главах X и XI книг, т. е. в момент
перехода от исповеди к вероучению, или, лучше, на их, так сказать,
стрелке, в самом важном месте композиции, где открыто
сливаются оба сквозных смысловых потока "Исповеди", - тут-то
Августин выводит наружу, разъясняет задачу своего сочинения:
"для чего я это делаю" и "в чем польза от исповеди моей" (мы
еще обратимся к этим рассуждениям).
Богословие в финале "Исповеди" - не какой-то привесок к
рассказу о своей жизни и душе. Напротив, это настоящий ключ
к августинову автобиографизму4.
Повторим: сочинение по поводу своей жизни - посвящено,
конечно, не ей как таковой. Это, как выразился Петрарка,
воспроизведший оценку всего Средневековья, образцовый pietatis
opus. Аврелий Августин пишет о себе: но не о "себе" он пишет.
Онтология, освобождаясь от набожно вменяемой индивиду, но
неизменно вспомогательной личной интроспекции, от того, что
мы торопимся именовать "психологизмом", от событийного
сора, от случайной слитности жизненных обстоятельств, природы
человека и его поступков, от рефлексии на "внутреннего
человека" в себе, - наконец-то беспримесным золотым самородком
выходит на поверхность. Приходит к толкованию первой Книги
Моисеевой. Для того ведь и был обращен взгляд внутрь, дабы в
себе обрести Господа. "Sursum corda"! "Да горе имеим сердца".
з·
67 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
Как отчитаться о младенчестве?
Теперь вернемся к началу "Исповеди". Из ее сквозной
логики и завершенной конструкции совершенно понятно,
почему Августин, который напоследок толкует семь дней Творения,
начинает личное покаяние с беспамятного и безличного - с
барахтания, смеха, плача, криков младенца. "Лицо" (persona)
человека, т. е. его отдельное существование, самоидентичность,
дано индивиду вместе с рождением. "Ибо и самую жизнь Ты
даровал мне (I, XX, 31)... И не стоил я того, чтобы Ты даровал мне
жизнь. И вот я существую по благости Твоей, существовавшей
прежде, чем Ты создал меня и то, из чего Ты создал меня. Ты
ведь не нуждался во мне, и я не такая величина, чтобы быть
Тебе в помощь, Господь мой и Бог мой" (XIII, 1,1). Это дар суще-
ствования, лежащий в основании всех прочих Твоих "даров".
Но не Я-самость. Именно "лицо" (франц. "personne", нем.
"Person" etc.), а не позднейшая "личность" ("personnalité",
"Personalität")*.
Отсюда: "Кто напомнит мне о грехе младенчества моего?"
Вопрошание сие лишь по человечьей мерке покажется кому-то
несообразным... но не Ему. "Может быть, и Ты посмеешься надо
мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня". Ибо: "Ни один
человек не знает, что есть в человеке, кроме духа человеческого,
живущего в нем". Но есть в человеке и то, чего сам он о себе не
знает. Зато Бог знает все о нем. Поэтому Августин должен
повиниться не только в известных ему собственных грехах, но и в
грехах беспамятных, покаяться во всем своем природном
существе, в изначальном отсутствии невинности: "Где, Боже мой,
где, Господи, я, раб Твой, где и когда был невинным?"
Надо бы начать отчет перед Господом с самого начала,
однако - как? И где это начало? "Что я хочу сказать, Господи, Боже
мой? - только то, что я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту -
сказать ли - мертвую жизнь или живую смерть? Не знаю". До
рождения - "был я где-нибудь, был кем-нибудь?"
"Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед
за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему
предшествовал только период, который я провел в утробе матери
моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных
_ 6S
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
женщин. А что было до того, Радость моя, Господь мой?.. Нет
здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний..." (I, VI,
9 и др.).
Августин полагает, что "младенцы невинны по телесной
слабости, а не по душе своей". Дитя уже изначально обуреваемо
дурными страстями, которые "нельзя видеть спокойно в
возрасте более старшем". Августин вынужден экстраполировать на
себя то, что относится ко всем младенцам. Очень показательно то,
что исповедь открывается вопросами о личной греховности до
сознания и о возможном "я" до рождения. Какое же это
"индивидуальное" Я?
Се - человек...
Но и каждый последующий жизненный шаг данного
персонифицированного "существа" состоит в амплификации: личное
обретает четкий контур в той мере, в какой оно расширяется до
родового и тем самым получает полнокровное конкретное
значение. Вот некое "я", по имени Аврелий, чувствует, думает,
обладает памятью и речью, жаждет дружбы, избегает боли и
презрения окружающих, заботится о своей сохранности,
идентифицирует себя, то есть сознает "след таинственного единства, из
которого я возник". "Такое существо" "заслуживает удивления
и похвалы". О себе ли рассуждает Августин?.. Но это лишь
повод. Нет, как выражался М.М. Бахтин, "биографического само-
довления жизни". Обратная редукция ко всеобщему столь же
очевидна в "Исповеди", как и обратная перспектива в
иконописи. Мал тот, кто на переднем плане рассказывает о прожитом...
весь смысл композиции - укрупнение в глубине.
Христианский персонализм - как и, допустим, буддистское,
совсем иного порядка, сосредоточение индивида вовнутрь, его
столь же личная медитация - глубочайшим образом пропитан
сакральной архаикой. Августин говорит: "я"... и перечисляет в
качестве определений этого "я" атрибуты всякого человека. "И
все это дары Бога моего"; "не сам я дал их себе; все это хорошо,
и все это - я". "Я" - "место, куда приходит Господь мой".
Значит, Я - не только и даже не столько "я"; а в уповании и
завершенности - и вовсе не "я"... но - Ты... "И не знает покоя сердце
наше, пока не успокоится в Тебе" (I, XX, 31; I, II, 2; I, 1).
По необходимости начав исповедь, задуманную как
тотальный отчет данного индивида, с момента появления его персоны
69 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
на свет, т. е. с дарования ему Господом существования,
Августин по необходимости же вынужден "пропустить** исповедь о
младенчестве при рассказе о "моей жизни, которой я живу в
этом мире": "Что мне до него (т. е. до младенчества), когда я не
могу отыскать никаких следов его?*' (I, VII, 12).
Эти колебания указывают на известное несовпадение и
корреляцию двух кругов всякого отдельного существования.
Исповедь есть единственно доступный для человеческого "лица"
малый круг, который лежит, однако, внутри несравненно
большего круга, неисповедимого и непостижимого. Я сознаю себя и
ответствен в пределах малого круга, но призван к ответу также (и
особенно) там, где это мое "я" уносится к иным пределам.
Большой круг - тот же индивид как не свой, в руке Божьей. Там -
иная, неведомая мера индивидного. Там неизвестное до
смертного часа разрешение судьбы. И то, что на земле называет себя
"я", становится подлинно бытийственным, лишь перестав быть
"прахом и пеплом", т. е. исчезнув, перейдя туда, где, собственно,
нет уже никаких обособленных и в чем-то несходных V.
Или скажем иначе: рефлексия "Я** считается
осуществленной, когда достигает абсолютной полноты, а это означает уже,
разумеется, что "я" пребывает не у себя - растворяется в Боге.
Что это - предстояние перед Ним после освобождения от
плоти? Или близкая к сему и готовящая к смерти
самоотрешенность, глубочайшая медитация?
Так или иначе: «я исповедуюсь и в том, что о себе знаю;
исповедуюсь и в том, чего о себе не знаю, ибо то, что я о себе знаю,
я знаю, озаренный Твоим светом, а то, чего о себе не знаю, я не
буду знать до тех пор, пока "потемки мои" не станут "как
полдень" пред лицом Твоим» (X, V, 7).
Такое "я" начинает отчет - неудивительно! - с грудного
беспамятного младенчества.
Оно начинает до себя; его рефлектирующая активность
содержит нечто от медиума; и оно окончательно узнает себя,
когда уже не само судит себя - за гранью земного
существования.
_ 70
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
"Всё, что я есмь, рассеяно и бесформенно"
Отсюда парадоксальность средневековой
конфессиональной личной самоидентификации.
"Иерусалим, матерь моя... Да не отвращусь от Тебя, пока Ты
не водворишь меня в покое ее, покое дорогой матери, где
находятся начатки духа моего, откуда все мое достоверное знание;
пока не соберешь меня, рассеянного, не преобразишь,
безобразного (или: соберешь все, что я есмь, из рассеяния и этой
бесформенности - colligas totum quod sum a dispersione et deformi-
tate hac), и не утвердишь в вечности, Боже мой, Милосердие
мое" (XII, XVI, 23; ср. К Римлянам, 8, 23).
То есть "я", "дух мой" - хотя и творение по образу и
подобию Божьему, но обретшее дар существования в виде грешного,
несовершенного индивида, не способного сохранить на земном
пути божественный замысел, образ и целостность. "Дух"
индивида "рассеян" и "без образа". Он, однако, знает о Боге. Отсюда
все достоверное в нем, этим он и жив. "Начатки" человеческого
духа, живущего во времени, даны его происхождением из
вечности - "дорогой матерью", небесным Иерусалимом. Но
определенности ("образа") и единства (собранности) "я" лишено,
пока не спасется. До смертного часа остается лишь молиться и
верить: "Да не отвращусь от Тебя". Не сам индивид, но Бог
"водворяет" его "в покое дорогой матери", возвращает душу к
исходному рубежу, по ту сторону времени. Это Бог "собирает"
индивида. Бог "преображает" в нем ветхого Адама. Бог
"утверждает в вечности". Тогда-то, следовательно, всякий отдельный
человеческий дух достигает полноты... возвращаясь к Богу и
переставая быть отдельным, быть "я"...
Пока же человек жив, он есть "я" - и должен, собственно, в
этом-то раскаиваться. "Я" означает: отъединенность и
раскаяние. Раскаяние же переводит индивида во вселенский,
общечеловеческий, сакральный план, избавляя его от себя и даруя ему
благую отрешенность, опустошенность, прозрачность,
анонимность. Монашеский постриг или приятие священства -
доведение требуемой от всякого христианина покаянности (самоотре-
ченности) до более высокого, постоянного, ритуального
пребывания в Церкви и Боге: смерть в миру, даже принятие другого
71 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
имени, обряд прижизненного исчезновения. Наконец, аскеза и
праведничество - окончательное забвение себя.
Раскаяние, требуя полнейшей откровенности, настаивая на
подробностях, означало вместе с тем взгляд на себя, как на
всякое "такое существо". Это суд над собой по совершенно внелич-
ной мере. Исповедь, в наибольшей степени концентрируя
индивида на себе, давая, казалось бы, максимум личного и
саморефлективного, была одновременно актом воцерковления, изъятия
и отчуждения от человека всего интимного: его, так сказать,
религиозным обобществлением. Избавление от излишне и
сомнительно личного требовало сосредоточиться на нем... Техника и
пафос исповеди - свидетельство отнюдь не того, что позже
было осознано как индивидуальность и личность, но, напротив,
духовная и социальная пропедевтика, дабы исключить
малейшие психические зачатки чего-то подобного. Это процедура
очищения души от чего бы то ни было подлинно и только
личного, которое могло бы затаиться в человеке, укорениться и
срастись с ним, отделиться от общего и т. п. Тем самым, однако,
это выделялось, фиксировалось... невольно и (исторически)
впрок.
Ни о чем внутреннем, сокровенном человек не смеет
сказать: "Это мое и только мое, личное". Христианский
персонализм освобождает от греховных поползновений быть собою, си-
речь от гордыни и тщеславия. Однако освободить человека от
собственного "я" можно, если только он сам захочет и сумеет
исцелиться. Конечно, с помощью церкви. Отсюда, если угодно,
принудительность интроспекции! - спасительность душевного
сокрушения, т. е. такого "психологизма", который радикально
избавил бы человека от принадлежащего только ему
внутреннего мира. Вникание в "мою жизнь" - способ увидеть свое "я"
отчужденно - как "прах и пепел", подобный любому другому
"праху и пеплу" - как существо единичное, отдельное, но...
абсолютно не особенное и уж никак не уникальное.
"Я" - не что иное, как "мой грех". "Меа culpa" -
исчерпывающая формула средневековой идеи индивида на месте будущей
идеи "личности". Она не отрицает, но перекрывает античное
"ingenium". Она - источник выделенности "я". Мыслить и
говорить о себе оказывалось культурно возможным ввиду
причастности индивида первородному греху и в чаянии личного спасения.
_ 72
О культурно-историческом смысле "Я"в "Исповеди" бл. Августина
Исповедь овнешняла (отменяла, опустошала, запрещала)
все интимное. Но только так интимное вообще могло
возникнуть! - через опустошение и недопущение. Ни в одном
таинстве, ни в одной церковной сакральной процедуре ритуал не
забирался так далеко в индивидное нутро. Надличное (ритуал,
догматика, техника исповеди, в частности) отнюдь не
ограничивало, как можно бы теперь вообразить, личную рефлективную
напряженность. Они возрастали прямо пропорционально. Они...
совпадали.
Неверно расхожее представление, будто некая полагаемая
заранее существующей... (но как и откуда?)... якобы актуальная
"индивидуальность" средневекового автора - выражалась в его
тексте или поступке. Наоборот, только в процессе
самовыражения, благодаря сочинению или действию, формировалась какая-
никакая индивидуальность. "Личное" осуществлялось через
ментальные матрицы, встречаясь с культурной формой. И если
средневековая "индивидуальность", какой мы ее в состоянии узнать,
представляется нам заслуживающей этих кавычек, обуженной,
стесненной в средствах выражения и т. п., то надобно сказать: она
именно такова и была, каковы эти средства. "Стеснения" были на
самом деле ее исторической плотью и реальностью.
Они ее не стесняли, а давали родиться - вот такой, а не
иной.
Так что "персона" соразмерна своей явленности. У нас нет
никаких причин подозревать за текстом (до текста)
существование чего-то внеконструктивного, еще чего-то сверх того, что
мы видим в нем действительно существовавшим. (Конечно,
если только сам текст не намекает на неполную выраженность в
нем "личности" автора... что означало бы, впрочем, сознание
личной нереализованности, "затекстовую" психологию внутри
того же текста... хорошо известно, что никакого "подтекста" не
бывает, это лишь метафора более тонких структур текста.)
Мир исповеди - единственный, тотальный, ценностный
мир, в котором индивид тогда смел сказать: "я". Чем
откровенней (интимней) самоанализ, тем уверенней он навылет минует
кающееся "я" - и докапывается до безличного в индивиде, до
всечеловеческого как такового. Автобиографизм Августина - не
цель, не довлеющий себе интерес, не смысл - но повод и
подступ к смыслу. То, что надлежит преодолеть.
73 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
I
"Да не в себе найду жизнь свою: я плохо жил собой,
смертью был я себе - в Тебе оживаю (поп ego vita mea sim; male vixi
ex me, mors mihi fui; in Te revivesco)" (XII, X, 10) - непрерывное
усилие самоотказа!
И лишь ради "Ты", во имя всеобщности, вытаскиваются на
свет Божий, становятся общеинтересными мельчайшие личные
подробности. Чем они незначительней, тем даже поучительней.
Ибо в этом урок смирения. Ничего не смеет простить себе
человек (как не смеет он быть судьей для другого человека).
"Опротивев себе и стеная, втайне ищу милосердия Твоего, пока не
восполнится ущербность моя и не исполнюсь я мира" (X,
XXXVIII, 63).
Ночной набег на соседский сад
Вторая книга "Исповеди" - своего рода августиново
"Отрочество" - построена преимущественно вокруг ночного
набега компании сорванцов на соседскую грушу. Сам этот эпизод
описан в трех фразах. Но на его осмысление отпущено семь
глав (II, III—X). Рассказ о краже груш неизменно поминается
всеми, кто отмечает ярко конкретный и трогательно личный
характер августиновой "Исповеди". Действительно, до
Августина - да и еще тысячу лет после него (пожалуй, до Руссо) -
никому не приходило в голову превращать некое незначительное
и тривиальное автобиографическое воспоминание в факт,
заслуживающий письменной фиксации, риторической
разработки, публичности перед человечеством!
Но дело, разумеется, вовсе не в том, что Августин будто бы
считал интересными и самоценными какие-то индивидуальные
краски, впечатления, подробности своей или чьей-то частной
жизни. Вот уж чего нет у него начисто. Придание важности даже
малому и обычному греху, неутаенность также и вроде бы пус-
тяшного проступка, из тех, что может обнаружить в своей
памяти каждый, давнишней "уличной забавы" шестнадцатилетнего
недоросля, - заданы условиями неумолимой и дотошной
христианской исповедальной откровенности. Ибо у человека нет
"частной", принадлежащей ему одному, интимной жизни. Великий
_ 74
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
ритор неожиданно использовал именно самый простой пример и
вставил в тщательно выстроенный дидактический контекст.
Вторая книга начинается словами: "Я хочу вспомнить
прошлые мерзости и плотскую испорченность души моей не
потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить Тебя, Боже мой".
Далее в двух главах речь идет о юношеской вспышке
сексуальности: о "колючей чаще моих похотей". Только моральное
покаяние, выставляющее все личное в виде назидательно общего,
позволяет вытянуть на свет сцену с отцом в бане, беспокойные
предупреждения матери, похабные разговоры со сверстниками,
наконец, кражу груш. От первого распутства - к воровству как
модели преступления вообще... Маленький и очень удобный эк-
земплум позволяет разобрать, почему человек совершает какое
бы то ни было преступление, даже почему он убивает! Аврелий
Августин, положим, никого в своей жизни не убивал и ничего
более не крал, кроме этих груш. Ну и что же? Преступен
каждый человек: история с грушами дает потребный для исповеди
опыт личного душевного состояния, который тут же деперсони-
фицируется. Эпизод использован в функции притчи. Но ведь
то же самое можно сказать обо всех конкретных моментах авгу-
стиновых воспоминаний. Личное, будучи засвеченным,
перестает быть только личным: нагое "я" одного из рабов Божьих
опять-таки отводится к Ты.
Выясняется, что есть грех как таковой - взятый вне
масштабов, конкретной причины и повода. Не тот грех, к которому
"толкают бедность или голод". Не тот, который совершают из-
за стремления достичь какого-либо "низшего", земного блага
или из-за боязни его потерять, будь то красивая женщина,
богатство, желание мести, страх и т. п. Августин признает
практическую реальность подобных мотивов; более того, блага,
связанные с имуществом, властью, свободой, красотой, наконец, -
обладают сладостью, а подчас "они прекрасны и почетны, хотя по
сравнению с высшими... презренны и низменны". Но человек
способен к преступлению в конечном счете из-за порочности
самой своей природы, а также потому, что не в силах одиноко
противостоять разврату окружающих, соблазняясь их
одобрением своего греха.
Так и было с этими несъедобными и ненужными
кислицами: "Причиной моей испорченности была ведь только моя ис-
75 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕВЕ9
порченность... я любил падение свое" (II, IV, 9); "я любил здесь
еще сообщество тех, с кем воровал", было "стыдно не быть
бесстыдным" (II, VIII—IX, 16-17). Итак, с одной стороны, люди
фешат обычно "ради чего-то", ради благ пусть и впрямь
привлекательных, хотя даже "полная сил жизнь", даже человечьи
"разум, память и чувства", "почести и слава", знание, нежность
или покой, простота и невинность, как и "красоты земли и
моря" - суть ничто вне Господа. Только в Нем благое "чисто и
беспримесно". Так что "все, кто удаляются от Тебя и
поднимаются против Тебя, уподобляются Тебе в искаженном виде". Но
люди, и в этом корень, фешат еще и ради феха, по слабости
своей. "О тлен, о ужас жизни, о глубина смерти! Может ли быть
любезно то, что запретно, и только потому, что оно запретно?"
(II, VI, 12-14).
А вот еще один эпизод.
<Великая бездна сам человек (grande profundum est ipse
homo), "чьи волосы сочтены" у Тебя, Господи, и не теряются у
Тебя, и, однако, волосы его легче счесть, чем его чувства и
движения его сердца» (IV, XIV, 22). Такова знаменитая формула
"психологизма" Августина. Но по поводу чего сказано сие?
Четвертая книга - о возрасте от 19 до 28 лет, когда "я жил в
заблуждении и вводил в заблуждение других", преподавая риторику
и увлекаясь поэзией или театром, предаваясь втайне
манихейству. "Позволь мне, молю Тебя, дай покружить сейчас памятью
по всем кружным дорогам заблуждения моего, исхоженным
мною... И что такое человек, любой человек, раз он человек?"
(IV, I, 1).
Тяга к астрологии, тесная дружба с не названным по имени
юношей, внезапная кончина которого вызвала у Августина
плач, отвращение к жизни и первый страх перед смертью. Ибо
"несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что
смертно...". Но "только тот не теряет ничего дорогого, кому все
дорого в Том, Кого нельзя потерять". Посему "да хвалит душа моя за
этот мир Тебя, Господь, всего создатель, но да не прилипает к
нему чувственной любовью" и пр. "Не суетись, душа моя: не дай
оглохнуть уху сердца от фохота суеты твоей. Слушай..." и т. д.
(IV, IV-XI).
В контексте подобных страстных наставлений о тщете
земных вещей и "любви к дольней красоте" - поминается ора-
_ 7S
О культурно-историческом смысле "Я* в "Исповеди"6л. Августина
тор Гиерий, которому когда-то хотел подражать молодой
Аврелий, дабы тоже снискать общую любовь. Но почему же,
хотя нравились ему и актеры, и цирковые наездники, хотя он
"сам расхваливал их и любил", однако для себя ценил лишь
"серьезные и важные хвалы", воздаваемые риторам? То есть
восхищаясь лицедеями, сам ни за что не хотел бы, чтобы им
восхищались за то же самое. "Значит, я люблю в человеке то,
что для меня в себе ненавистно, хотя и я человек?" Тут-то и
следуют эти знаменитые слова: "Великая бездна есть сам
человек" и пр.
Как видим: чем "психологичней" Августин, тем дальше от
себя в качестве "себя". «Тогда обратился я к себе и сказал: "Ты
кто?" И ответил: "Человек"*.
На своем примере - обо всех и о каждом.
Собственная жизнь понята как притча о Человеке. То, что
соблазнительно бы назвать религиозным лиризмом "Исповеди",
оказалось возможным благодаря архетипу исповедальной,
покаянной молитвенности, воплощено в безупречно
последовательную надличную жанровую конструкцию: это - по типу -
"интимность" псалмопевца Давида или Экклесиаста, это
житейская конкретность, как у евангелистов...
Августин вспоминает свое и о себе. Но значимо не то, что
могло бы отличать именно личный путь: напротив, его похоть
походила на всякую похоть, его суетность - на всякую
суетность, его страдания - на страдания прочих людей. И его
таинственное обращение к Господу в медиоланском садике тоже
возможно для всякого сокрушенного сердца.
«"Возьми, читай! Возьми, читай!" Я изменился в лице и
стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-
то игре нечто подобное? Нигде не доводилось мне этого
слышать* (VIII, XII, 29).
"Голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика или
девочки" - это голос "внутреннего человека" или галлюцинация?
Спорят, точно ли это было, так сказать, физическое
биографическое событие или сцена изображена согласно сакральным и
литературным канонам6. Но это "эстетический", т. е.
незаконный вопрос. Жизненная непосредственная реальность, и
реальность мистически настроенного сознания, и канонические
общие места совершенно совпадали.
77 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
Так было, ибо не могло быть иначе. "Мне голос был, он звал
утешно" (Ахматова)....
О таковом же обращении Августину поведал Понтициан,
наблюдавший сходный случай с одним человеком в Тревирах.
Это же вслед за Августином произошло с его другом Алипием...
Успех обращения был обеспечен не напряжением личной
воли или, если угодно, ее напряжением совсем особого рода.
Это отказ от своей воли и предание себя на волю Господа. Ибо
нельзя быть светом "не в Господе, а в самих себе (поп in
Domino, sed in se ipsis)" (VIII, Χ, 22). He своей силой, а Божьей
очищается человек. "Зачем опираешься на себя? В себе нет
опоры (quid in te stas et non in te stas). Бросайся к Нему, не бойся...
Он примет и исцелит тебя" (VIII, XI, 27).
Толковать о "личности" (Personalität), изображая Августина
этаким раннехристианским Руссо, можно, лишь изымая его
признания из назидательной и вероучительной рамы.
Перебирая самые проникновенные личные страницы
"Исповеди", - например, рассказ в девятой книге о жизни и
кончине матери, - мы убеждаемся, что даже слабость Моники в
девичестве к вину и то, как она ее преодолела с помощью грубо
разбранившей ее служанки, - это у Августина exemplum ради
морали ("Так друзья, льстя, развращают, а враги, браня, обычно
исправляют"). После чего следует торжественный агогический
смысл: "Ты же, Господи, правящий всем, что есть на небесах и
на земле, обращающий вспять для целей Своих водные пучины
и подчиняющий Себе буйный поток времени, Ты безумием
одной души исцелил другую. Если кто словом своим исправил
того, кого он хотел исправить, пусть он, после моего рассказа, не
приписывает этого исправления своим силам" (IX, VIII, 18). То
есть рассказ о том, как Моника, спускаясь в погреб за вином,
"прежде чем перелить это чистое вино в бутылку", имела в
юности обыкновение "краем губ чуть-чуть отхлебывать его", "вовсе
не по склонности к пьянству, а от избытка кипящих сил,
ищущих выхода в мимолетных проказах", и как, «прибавляя к этой
ежедневной капле ежедневно по капле - а "тот, кто
пренебрегает малым, постепенно падает", - она докатилась до того, что с
жадностью почти полными кубками стала поглощать
неразбавленное вино», - этот (очевидно, вполне реальный) эпизод есть
целиком привесок и повод к набожному поучению.
_ 7S
О культурно-историческом смысле "Я"в "Исповеди"бл. Августина
Таким привеском или поводом в конечном счете
оказывается в "Исповеди" сама исповедь... само августиново "я", любые
воспоминания, вся неутомимая рефлексия.
"Искушают нас эти искушения ежедневно, Господи,
непрерывно искушают". Трудней всего, трудней "плотских
удовольствий и пустого любопытства" или богатства - тщеславие. Ибо
проверить себя во всем остальном можно, отказавшись от этих
страстей, "чтобы испытать себя". "А неужели, чтобы проверить,
как на нас подействует отсутствие похвал, мы должны жить
дурной жизнью... И если похвала и должна быть и бывает
спутницей хорошей жизни и хороших дел, не следует отказываться
ни от такой спутницы, ни от самой хорошей жизни. А понять,
без чего обойдусь я спокойно или с трудом, я могу только при
отсутствии того, о чем шла речь... Не загадка ли я сам для себя?
И вот в Тебе, Истина, вижу я, что надлежит мне приходить в
беспокойство от похвал себе не ради себя, а ради пользы
ближнего. А бывает ли так, не знаю" и пр. (X, XXXVII, 60-62).
«Почему меня уязвляет больше оскорбление, брошенное
мне, чем нанесенное другому в моем присутствии и столь же
незаслуженно? И этого ли не знаю? Остается "обольщать самого
себя" и лгать перед Тобой языком и сердцем? Это безумие
удали от меня, Господи...»
Вся книга сработана из подобных же конструкций.
Августин, изобличая сердце свое, сердце человеческое, забирается
все глубже в себя и поражается, сколь уклончив и потаенен
грех, ежели искать его не только в поступках, но и в
побуждениях, часто неосознанных. "Не загадка ли я сам для себя?"
Велик соблазн усмотреть в подобных пассажах что-то вроде
психологического выделения, обособления, превращения "я"
как такового в центральный предмет размышления. Нетрудно,
однако, заметить, что разгадывание, раскрытие, разоблачение
"я" - есть врачевание от того, чтобы придавать себе какое-то
значение, отличать себя, находить опору в себе. "Я" - "загадка"
в том плане, что - нет в нем Истины.
Обозрев свою жизнь, Августин заключает: "Я обошел, где
мог, чувством своим внешний мир, вглядывался в жизнь,
оживляющую мое тело, и в эти самые внешние чувства мои. Оттуда
я вступил в тайники моей памяти, в эти просторы, с их
многообразием; они чудесным образом наполнены бесчисленными
79 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ0
сокровищами. Я смотрел и ужасался: я не мог ничего разобрать
без Тебя, но все это - не Ты... Во всем, однако, что я перебираю,
спрашивая Тебя, не нахожу я верного пристанища для души
моей; оно только в Тебе, где собирается воедино пребывающее в
рассеянии... И порою Ты допускаешь в глубине моей редкое
чувство неизведанной сладости; если бы пережить его во всей
полноте, то не знаю, что будет - этой жизнью это не будет. И я
падаю обратно сюда под горьким бременем; меня засасывает
обычное и держит меня: я сильно плачу, но и держит оно меня
сильно. Вот чего стоит груз привычки! Быть здесь я в силах, но
не хочу; там хочу, но не в силах: жалок обоюдно" (X, XL, 65).
"Загадка" человечьей души - знак тварности, существования
между горним и дольним.
Не V, но - "Ты, Господи!"
Таков поразительный мистический и риторический
круг, которым очерчено это антично-христианское V. Ему не
могли быть известны ни само ощущение, ни идея
индивидуальной личности, фокусируемой в круге, очерченном ею же и ею
же непрерывно расширяемом и смещаемом. Единство августи-
нова "я" понимается как изначально заданное Господом, но
пребывающее в рассеянии. И достигающее сосредоточенности и
подлинного осуществления - лишь по ту сторону самого себя, в
сладком предвкушении иной, вечной жизни, в "редком чувстве"
слияния с Ты.
То есть смысл этого парадоксального автобиографизма,
этих саморазоблачений и слез состоит в выходе за пределы
личного. Только этим удерживается интерес рассказа о себе.
Вместе с тем душеспасительная поучительность превращает
исповедь в общее место тем верней, чем она откровенней и
конкретней. Грань между чужой жизнью и жизнью любого из читателей
полностью стирается. Торжествует пафос тождества всех и
каждого.
Автобиографизм нового времени, напротив, сосредоточен
именно на грани между мной и миром и другими жизнями. На
этой грани - вся сложность, волнение, острота. Мы читаем чу-
_ so
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди* 6л. Августина
жие признания с острым любопытством к принципиальной
границе, на которой личность читающего встречается с личностью
рассказчика - они сплетаются, и удвояются, и смешиваются, но
лишь благодаря тому, что уникальны.
Нельзя ответить, что же именно тут (т. е. уже для
"культуры", а не для христианской медитации) важней: различие или
сходство. Одно отводит к другому и живет другим. "Я" - и
диалог с другим "я". Встреча особенных сознаний и мыслей.
Культурное понятие исповедальности (взамен
конфессионального понятия исповеди) берет исповедь в переносном,
экспрессивном, провокативном значении интимной искренности
как таковой. Она дает возможность "заглянуть в чужую душу",
сопоставляя с собственным личным опытом. Я убеждаюсь в
утешительной относительности своего экзистенциального
одиночества - и возвращаюсь, тем не менее, в себя, в собственное
неповторимое и в этом смысле безнадежно одинокое, этим зато
и живое "Я". Одиночество опровергается и подтверждается в
диалоге с другими "я", с человеческими итьГ.
У 6л. Августина - и затем еще тысячелетие - иначе... Не
"ты" - но Ты ("момент другости ценностно трансцендентен",
как выразился Бахтин). Петрарка напишет: «Всякий раз, когда
я читаю книги твоей "Исповеди", бываю взволнован двумя
противоположными чувствами, то есть упованием и страхом,
и, подчас не сдержав слез, полагаю, что читаю историю не
чужого, а моего собственного странствия (non alienam sed propri-
am mee peregrinationis historiam)»7. Впрочем, ясно, что только
так читали Августина и все другие, до Петрарки. Так
надлежало читать эту августинову книгу: как исповедь о тебе,
читающем. И каждому, кто был готов устремить взгляд в свою душу,
предстояло вслед за Августином, исповедующимся братом
своим во Христе, вновь и вновь воспроизводить ситуацию: "я
и Ты".
Мы ныне - неверующие или верующие, но равно
принадлежащие современной культуре, - понимая, конечно, религиозную
воспламененность "Исповеди", не в силах отказаться от того,
чтобы привычно и анахронистически восхищаться
"индивидуальным", "психологическим", "личностным" в таких-то и таких-
то эпизодах, фразах, интонациях... "Наше восприятие самоотчета
неизбежно будет склоняться к эстетизации его" (Бахтин). Тем
81 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙП О СЕБЕ9
самым мы не слышим истинного (исторического) Августина.
Мы погрешаем против требования и его религиозной
духовности... следовательно, и нашей культуры, требующей чуткости ко
всякой (в том числе исторической) "инаковости".
Для чего была написана "Исповедь"
Теперь нам, может быть, легче понять рассуждения
автора "Исповеди" о том, для чего он ее написал. И тем самым
непосредственно о том, как соотнесено его "я" со всеми другими
"верующими сынами человеческими".
«Зачем ищут услышать от меня, каков я, те, кто не желает
услышать от Тебя, каковы они? И откуда те, кто слышит от
меня самого обо мне самом, узнают, правду ли я говорю, когда ни
один человек не знает, что "делается в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем"? Если же они услышат о самих
себе от Тебя, они не смогут сказать: "Господь лжет". А
услышать от Тебя о себе - не значит ли узнать себя?... я, Господи,
исповедуюсь Тебе так, чтобы слышали люди... Изъясни же мне,
Врачеватель души моей, ради чего я это делаю... эта исповедь
будит тех, кто ее читает и слушает; она не дает сердцу застыть в
отчаянии и сказать: "Я не могу"... Пользу от исповеди в
прежнем я увидел и о ней сказал. Многие, однако, кто меня знает и
кто меня не знает, желают знать, каков я сейчас, вот в это самое
время, когда я пишу исповедь свою. Ухом своим они не могут
приникнуть к моему сердцу, где я таков, каков есть. Поэтому
они и хотят услышать мою исповедь... Но какой пользы ради
хотят они этого... Я покажу себя таким людям: пусть радуются о
добром во мне, сокрушаются о злом. Доброе во мне устроено
Тобою, это дар Твой; злое во мне - от проступков моих,
осужденных Тобою... Пусть из братских сердец, как из кадильниц,
возносятся пред лицо Твое гимны и рыдания... Вот в чем
польза от исповеди моей, не в повести о том, каким я был, а каков я
сейчас: да исповедую я это не только пред Тобой в тайном
"ликовании и трепете", в тайной скорби и надежде, но и перед
верующими сынами человеческими; они участвуют в радости
моей и делят смертную долю мою; они мои сограждане и спутни-
_ 82
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
ки в земном странствии, все равно, предшествовали они мне,
последуют ли за мною или сопровождают меня в моей жизни.
Это рабы Твои, братья мои, которых ты захотел сделать
сыновьями Своими и моими господами, служить которым
приказал мне, если я хочу жить с Тобою и в Тебе... Но "я не сужу о
себе сам": пусть, памятуя это, меня и слушают. Ты, Господи,
судишь меня, ибо "ни один человек не знает, что есть в человеке,
кроме духа человеческого, живущего в нем". Есть, однако, в
человеке нечто, чего не знает и сам дух человеческий, живущий в
человеке; ты же, Господи, создавший его, знаешь все, что в нем.
И хотя я ничтожен пред лицом Твоим и считаю себя "прахом и
пеплом", но я знаю о Тебе нечто, чего о себе не знаю... Итак, я
исповедуюсь и в том, что о себе знаю; исповедуюсь и в том,
чего о себе не знаю, ибо то, что я о себе знаю, я знаю, озаренный
Твоим светом, а то, чего о себе не знаю, я не буду знать до тех
пор, пока "потемки мои" не станут "как полдень" пред лицом
Твоим* (X, III-V, 3-7).
Итак.
1) Все люди, живущие одновременно с исповедующимся
имярек, умершие ранее, и те, кто еще не родился, суть
"сограждане и спутники в земном странствии". Они делят "смертную
долю" друг друга. Они участвуют в страданиях и радости
каждого из них. Все они - дети и рабы Господа, и в этом - братья,
и каждый из них должен служить другим, так что все они - и
господа каждого. Нет тут речи не только об "особенном" или
"индивидуальном", но даже об отдельном, отъединенном в
жизненном жребии любом из человеческих существ.
2) Вот почему судьба одного из них и то, каков он внутри
себя, есть безусловное и полное поучение для каждого из
остальных. Читать "Исповедь" Августина - значит
интересоваться не тем, каков Августин (это только помощь и средство), но
тем, каковы мы сами. Публичная исповедь душеспасительна не
только для говорящего, но и для слушающих; если они умеют
слушать, знают, для чего интересуются Августином.
3) Но, собственно, не от Августина они узнают о себе - им
это скажет сам Бог. Точно так же и Августин поведал о себе
лишь то, что живущий в нем "дух человеческий" знает,
"озаренный Твоим светом". Все, что знает о себе человек, дано ему
"пред лицом Твоим", это, хотя и внутреннее, скрытое от окру-
S3 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
жающих (in cubiculis clausis), но не личное, не ему самому
принадлежащее знание.
4) Знание о себе - меньше того, что человеку дано узнать о
Господе. То есть живущий в нем Бог больше, чем душа и
разумение индивида, и его индивидное человеческое целое - лишь
часть себя же самого. Посему и то, что известно о себе
человеку, и то, чего он о себе не ведает, - это все свойства творения
Божьего. Исповедоваться надлежит, следовательно, и в том,
чего о себе не знаешь: раскаиваться во всем (in toto), в себе
просто как сущем - а не только в том, что стало достоянием
твоего сознания.
Раскаяние носит всеобщий, онтологический и мистический
характер.
Вот я, Господи, ничтожен я пред Тобой. Прости меня и
помилуй не только за то-то и то-то, не за нечто конкретное,
осознанное мной, но и просто прости, вообще прости, за то, что я -
человек... "прах и пепел", "ничтожный пред лицом Твоим". Не я
сужу себя, но Ты, Господи, судишь меня: "пусть памятуя это,
меня и слушают". То есть исповедь - не только и не столько
моя исповедь, самооценка, но это целиком - предание себя в
руки Твои. Это не решение, а самоотрешение индивида. Говорю
"я" - но на самом деле это Ты говоришь.
"Я" отверзаю слух. Моя личная воля (всегда раздробленная,
неполная - VIII, VIII-X) дает о себе знать лишь в этом акте
повиновения, сокрушения, упадания на колени, добровольного
предания себя Твоей воле.
"Работаю над самим собой (laboro in me ipso)" - "что же
ближе ко мне, чем я сам (propinquiis me ipso mihi)?" - "И это
моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой (quid ergo
sum)?" - речь идет о парадоксе памяти. Я ищу в себе Бога,
значит, я знаю, что есть Бог? Но, если бы я знал это - не
искал бы. То есть я помню нечто, чего я не помню. "А как же я
найду Тебя, если я Тебя не помню?" Посему: "пренебрегу
памятью (т. е. собой! - Л. Б.), чтобы найти Тебя" (X, XVI, 25;
XVII, 26). Я помню Бога - и не помню; но узнаю, когда найду
Его (сиречь: "счастливую жизнь"). «Но ведь счастливая жизнь
- это радость, даруемая истиной, то есть Тобой, Господи, ибо
Ты "Истина"...* (X, XXIII, 33). "Найду" - значит "получу в
дар".
— 84
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
Слушающие чужую исповедь пусть памятуют, что это не
частное дело, не частная жизнь, не личные признания имярек,
но - Божье дело, но - всечеловеческая жизнь.
Это мистический акт, в котором инициатива, главная роль и
смысл - не у исповедующегося индивида. Это в конечном счете
не углубление в себя, а уход сквозь себя - к наивысшему. Дабы
"жить с Тобой и в Тебе". Что до свободы воли, то короче и
проще всего Августин истолковал ее в комментарии на стих
первого Псалма "in lege Domini fuit voluntas eius". "Одно - быть в
законе; иное - под законом. Тот, кто в законе, согласно закону
действует; тот, кто под законом, подпадает под действие закона.
Поэтому первый свободен, второй же - раб". Закон не писан
для того, кто <в нем, ибо тогда это закон "внутреннего
человека", коего питает "земля невидимая"; этот закон "постигается
умом... медитируется днем и ночью и должен быть понят без
посредничества: днем в радости, ночью в воздыханиях"*8.
Свобода человека состоит, следовательно, в добровольном
следовании Божьему повелению изнутри своего сознания.
Таково приятие возможной Благодати, тесно связанное с
литургическими таинствами. "Ты изменил мою душу верой и
таинством... благодатью Твоей силен всякий немощный,
осознавший через нее немощь свою" (X, II, 4).
Но итог неведом. "Надежда, которая видит, не есть
надежда" (XIII, XIII, 14). Так и остается кающийся в незнании о себе,
в "потемках моих" - до часа предстояния Господу.
"Кто это понимает, пусть восхвалит Тебя, и кто не
понимает, пусть восхвалит Тебя! О! на каких Ты высотах! И сердца
смиренных - дом Твой" (XI, XXXI, 41) - так высок и
непостижим Бог, что стирается разница между знанием и незнанием
человеческим. Всякое понимание о Нем и всякое непонимание
равно сходятся в смирении.
Глубоко личной должна быть, разумеется, по определению,
всякая исповедь. Но чем глубже она, тем более как раз
сливается со всеми другими исповедями. "Всякий... желающий сделать
своим то, что принадлежит всем, бывает отогнан от общего
достояния к своему, то есть от истины ко лжи, ибо кто "говорит
ложь, говорит свое"* (XII, XXV, 34). "Свое" есть ложь!
В самой последней личной глубине человек встречается со
всеми остальными человеками, дабы вместе предстать перед
S5 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
Ним. Отдельные голоса из глубины каждой из душ -
сливаются и устремляются к общему Небу, подобно благовонным
курениям во всех Божьих храмах на земле.
Таким образом, исповедь по сути своей есть выход
индивида из малости и отъединенности своего существования - к
жизни соборной, общей. "Пусть из братских сердец, как из
кадильниц, возносятся пред лицо Твое гимны и рыдания". Из всех "я"
складывается вселенский хор и вырывается вселенский стон.
Таковы историческое основание и смысловая мера
индивидного "я" в представлении Августина... что бы ни думали обо
всем этом мы, пользуясь преимуществами своей вненаходимо-
сти, спустя полторы тысячи лет, в горизонте всей протекшей до
Августина и после Августина истории.
Трудность истолкования религиозного
как культурного у М.М. Бахтина
М.М. Бахтин указывал на глубокое историческое и
системное различие между "самоотчетом-исповедью"
("образец... бл. Августин") - и "автобиографией".
Бахтин констатировал, что средние века "не знали
биографических ценностей" и что "своеобразные, внутренне
противоречивые, переходные формы от самоотчета-исповеди к
автобиографии" появляются лишь на исходе средневековья и в раннем
Возрождении. В исповеди "нет героя и нет автора", "это дух,
преодолевающий душу в своем становлении". В исповеди
"биографическое целое жизни со всеми ее событиями не довлеет
себе и не является ценностью (эта ценность жизни может быть
только художественной)" - и поэтому, между прочим, нет
"резкой, принципиальной грани между автобиографией и
биографией"*.
Бахтин не пользуется понятием "личность", но
противопоставляет два типа "отношения я к самому себе": религиозный и
эстетический. В "самоотчете-исповеди" устанавливаются два
"предела", две "стороны", находящиеся в очень напряженном
отношении. Но оба предела исключают, во всяком случае,
потребность в других людях, в учете их "оценивающих позиций",
_ 86
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
их голосов (т. е. во внутреннем диалоге как эстетическом и
"светско-культурном акте").
С одной стороны: тут "чистое, ценностно одинокое
отношение к себе самому". (И, следовательно, добавил бы я, тот
решающий момент, без которого нет личности: "именно акт
принципиального и актуального несовпадения с самим собой".)
"Однако, - продолжает Бахтин, - эта неуспокоенность и
незавершенность в себе - только... один из пределов, к которому он
(самоотчет-исповедь. - Л. Б.) стремится в своем конкретном
развитии. Отрицание здешнего оправдания переходит в нужду в
оправдании религиозном... в сплошь потусторонней милости и
благодати... это собственно исповедальный момент самоотчета-
исповеди".
На мой взгляд, поскольку тем самым центр смысловой
тяжести и существо самосознания в исповеди перемещаются
вовне "я" - "самоотчет" перестает быть таковым, устремляясь к
"отчету" о Боге. Божественное прощение и искупление
(которые беспричинны, неведомы для исповедующегося человека)
обретаются неизмеримо далеко за пределами его жизни и
сознания; это "абсолютно чистый дар (не по заслугам)... это
оправдание не имманентно самоотчету".
Стало быть, "несовпадение с самим собой" лишается сугубо
человеческого внутреннего характера (психологического,
эстетического или нравственно-ответственного). Оно переводится в
онтологический и мистический план.
Августин учит: "Бог зовет нас к тому, чтобы мы не были
только людьми" (Трактат на Евангелие от Иоанна, I, 4).
Речь в конце концов идет уже вообще не о "самом себе". (И,
стало быть, опять-таки хочется добавить, не о личности).
"Чистый одинокий самоотчет невозможен... чем глубже одиночество
(ценностное) с самим собой и, следовательно, покаяние и пре-
хождение себя, тем ясней и существенней отнесенность к Богу...
доверие к Богу - имманентный конститутивный момент
чистого самосознания и самовыражения. (Там, где преодолевается в
себе ценностное самодовление бытия-наличности,
преодолевается именно то, что закрывало Бога, там, где я абсолютно не
совпадаю с самим собой, открывается место для Бога.)"
Но Бога "закрывало" ведь именно мое "я"! - само вот это
обращенное на себя, разговаривающее с собой сознание... Во
Ä7_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
мне "открывается место для Бога", но потому нет больше
места... для "меня". Личность как будто бы наметилась? - и вот
нет ее.
...И Августин говорит: "Это свет, голос, аромат, пища,
объятия внутреннего моего человека - там, где душе моей сияет
свет, который не ограничен пространством, где звучит голос,
который время не заставит умолкнуть..." (X, VI, 8). То есть
"внутренний человек" это не человек, но - Бог в человеке. В
духе, в человеке, "in secretis cordis". Но не в самости его.
Все дело тут в бахтинском слове "абсолютно": "Я абсолютно
не совпадаю с самим собою". Позднейшая (культурная) личность
действительно не совпадает с собой, но... и совпадает. То есть "не
совпадает" относительно, внутри себя же. Если же "самоотчет"
"есть не что иное, как осуществление веры", если это не что иное,
как молитва, то молитвенное "самовыражение" гасит самое себя
(как "себя", т. е. в индивидуальной личностной конкретности).
Если "другой" - необходимый "конститутивный момент"
моего "я", то, напротив, Абсолютный Другой, решусь возразить,
не может быть (в конечном счете) таким моментом. Это
слишком экстравагантная и неподобающая роль для Господа - быть
моим (!?) "конститутивным моментом"... Меня, к тому же,
попросту уже нет (в ценностном отношении). Да ведь о том я и
молился! - чтобы "быть не только человеком". Цель и смысл
"самоотчета-исповеди" в его самопрекращении, самоотдаче, в
даровании всякому "я" (и "самоотчету") высшей бессмыслицы...
Ибо Божественный "смысл" таковым не является: он есть
предмет не понимания, а веры. Он неизреченный.
М.М. Бахтин, пожалуй, подходит вплотную к признанию,
что для личного самосознания Бог в роли "другого"
оказывается, скорее, испепеляющим, чем "конститутивным", моментом. И
что один (начальный) "предел" исповеди иссякает (обязан
иссякнуть, аннигилироваться) в другом
(мистически-завершающем) "пределе": так что между "сторонами" такого
самосознания нет равенства и симметрии.
Ибо: "Организующая сила я сменяется организующей
силой Бога". А если так, т. е. если я перестаю быть "организующей
силой" своего сознания, если происходит "преодоление земной
определенности, земного имени и уяснение имени, написанного
на небесах в книге жизни", память будущего, - то кого и что
_ 88
О культурно-историческом смысле МЯ* в "Исповеди" 6л. Августина
"организует" сила Бога? Не вот этого индивида, не имярек, не
его "самоотчет", не самосознание. Бог затопляет все это,
накрывает с головой. "Память будущего" жизни небесной - есть
беспамятство жизни земной.
Все-таки М.М. Бахтин, раздумывая над смысловой (и,
значит, по его же учению - культурной) природой исповеди, беря
исповедь (пусть не "культурную", не "художественную") в
качестве одной из форм историко-культурной, смысловой
типологии, неминуемо попадает в парадоксальное положение. То есть
рассуждает о вере, молитве, исповеди как человек, тонко
чувствующий все эти вещи изнутри их, рассуждает религиозно - и
одновременно реконструирует исторический ряд как
культуролог. Но мистика - по ту сторону подобных различений. Взятая
же рационально и культурно, пусть сколь угодно верно - она
уже не мистика. А, следовательно, взята не совсем верно и...
недостаточно культурологично?
Кажется, Бахтин знал и это. Он некоторым образом
отменяет весь предшествующий анализ "организующих моментов"
исповеди как особого произведения (пусть и "без автора и без
героя"...), говоря: на исповедь можно ответить только "своим
ответным поступком". То есть только собственной исповедью и
собственной молитвой о другом человеке... и о себе,
исповедующемся ("мы оба стоим друг против друга в Божьем мире").
"Анализ этого момента выходит за пределы нашей работы,
совершенно светской"...
Но светский анализ, например, августиновой "Исповеди" -
как и всякого произведения и всякого авторстцд - все же
возможен и необходим, что и демонстрирует М.М. Бахтин. Я могу
судить с культурной точки зрения о том, что само себя сознает
совершенно не "культурно", а сакрально: при условии, что такое
самосознание ("этот момент") чутко уловлено мной и
сохранено, прежде чем я воспользуюсь своей "вненаходимостью". Вне-
находимость, однако, позволяет мне увидеть религиозность
таким образом, что она - именно как таковая, в своей внекультур-
ности - приобретает новый, культурный смысл. Я способен
оценить ее как иное в отношении культуры, а следовательно, -
значимое и внутри культуры, как ее "иное".
Признание глубокой оппозиции "религия/культура" (и
соответственно "вера/самосознание личности") есть одновременно
S9 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
и результат светского анализа, и его условие. Говорить о
мистике культурно-исторически мы вправе, если, находясь вне ее,
понимаем ее смертельную серьезность. Она была фокусировкой
эпохального мышления. (Нынешняя "мистика" может быть уже
имитацией ее, чисто психологическим, социально
вырожденным, даже идеологическим явлением, суеверием - или же, в
религиозном, но и просвещенном, и культурном сознании, она от
каждого требует индивидуального выбора, индивидуального
воображения, т. е. это сегодня действительно глубоко религиозно,
как мне кажется, лишь будучи даже при соблюдении обрядности
сугубо личным делом, решением личности, ее образом мистики.)
То, что для самого исторически укорененного мистического
сознания мы, с этим своим анализом, ничего не значим,
бессмысленны - не только не смущает нас, не останавливает, но
как раз составляет весь особый интерес и прелесть анализа.
Указанная оппозиция в смысловом плане не симметрична.
"Мы" не нужны для верующего Августина (не
Августина-автора), но он нам необходим. Лишь тем самым и "мы" все-таки
способны пригодиться Августину-автору, помещая его в
инородный контекст, продлевая и углубляя в качестве
непредусмотренных читателей, в "большом времени". И получается так, что
изощренная и непреходящая культурность "Исповеди"
обеспечена как раз ее внекультурной (сакральной) тотальной
подоплекой.
Понятие культуры, по Бахтину, здесь, казалось бы,
раздваивается. Если культура - это мир смыслов, то религиозные,
мистические, сакральные и т. п. смыслы включены в историю
культуры точно так же, как и любые иные. Однако, рассматривая
подобные смыслы изнутри, сразу видишь, что для верующего
они неравноценны, неравноправны, иерархичны и восходят к
Абсолюту (как его толкует данная конфессия). Иначе говоря,
религия отторгает бахтинское понимание культуры, основанное
на личной укорененности "правды", никем и ничем не
отменяемой, принципиально равной всем иным "правдам" - не с точки
зрения "истинности" или "ложности", а в культурном качестве
особого самоценного голоса среди других голосов: как
высказывание данного субъекта.
С другой стороны, бахтинское понимание культуры, вполне
вмещающее, разумеется, и ее религиозные проявления (напри-
_ 90
О культурно-историческом смысле "Я* в "Исповеди" бл. Августина
мер, "Исповедь" бл. Августина), останавливается перед сакраль-
ностью вот в каком отношении. Историк и теоретик культуры
имеет дело с текстами, доступными анализу (Бахтин же,
собственно, не с "текстами", а с произведениями).
Культурологически можно говорить не о сознании вообще, но лишь о сознании
авторском, т. е. о человеке как творце высказываний. Но
именно для веры, для верующего, молитвенного сознания очень
важно молчание. Перед молчаливой медитацией "совершенно
светский" разбор М.М. Бахтина, конечно, сам смолкает,
останавливается.
Тут - внутреннее состояние индивида, о котором способен,
возможно, рассуждать теолог, относя его к Богу. Или психолог.
Или социолог. Но для историка культуры даже и контекст, в
том числе психологический, социальный или медитативный и
пр., всецело свернут в произведении. Это внутренняя диалогич-
ность любого высказывания. Контекст не вне или над
произведением, но лишь внутри него. Этим, очевидно, и объясняется
важная оговорка Бахтина.
Я не сомневаюсь, что Михаил Михайлович был верующим
человеком. Но к его работам - что он в данном случае оговорил
и сам - это не имело отношения. И на его
"металингвистическом" учении, вопреки нередким модным попыткам
имплантировать туда религиозность, никак не отразилось. Это
неотразимо показал B.C. Библер.
"Mens singola":
индивидуальна ли свобода воли
Трактат Августина "О свободе воли" изучен не менее
превосходно, чем "Исповедь", со всевозможных точек зрения.
Но мы опять-таки зададимся вопросом из разряда слишком
наивных, ответ на которые кажется самоочевидным и которые
поэтому ставить не принято.
А именно: о чьей свободе воли толкует бл. Августин?..
О свободе воли человека, разумеется... вот этого,
конкретного, отдельного человека. Да, но в каком значении и насколько
он может быть сочтен "отдельным"? О, это слишком просто.
91 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЯНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
Ведь у каждого свое тело, своя бессмертная душа, свое имя,
своя жизнь и свой грех, и свой конец на земле. И, наконец:
свобода "своего", т. е. личного, выбора, воли, решения.
Тем не менее. "Отдельного" - обязательно ли значит
"личного"? И "личного" всегда ли действительно значит
"индивидуального"? Иначе говоря, сугубо казусного, "неповторимого"?
Принадлежащего уникально устроенной внутри себя личности,
исходящего из нее, т. е. из способности индивида быть
внутренне свободным?
Все это более или менее предполагаем молча мы. Но не гип-
понский епископ.
Августин, безусловно, учил именно о ничем не
предопределенной, совершенно свободной воле и, следовательно, полной
ответственности индивида за свои поступки. Однако... что такое
для него самое индивидность? Где пределы различий и есть ли
особенное в психологической глубине человеческой особи?
Тут-то исходное представление Августина - о самом субъекте
свободы воли - фундаментально расходится с
новоевропейскими представлениями.
Итак, "рассмотрим человека как такового, упорядоченного в
себе самом (in se ipso)"10.
Августин сначала рассуждает о "телесных чувствах". В них
"поистине мое существует не иначе, как мое, а твое - как твое".
Его собеседник Эводий откликается: "Совершенно согласен,
что, несмотря на родовую общность, мы, однако, обладаем
чувствами по отдельности". Один человек может видеть или
слышать то, чего не видит и не слышит другой. И так же обстоит
дело с тем "внутренним чувством", которое воспринимает
непосредственные телесные ощущения и, делая их содержанием
сознания, передает разуму (II, V, 15): "Мое чувство чувствует то,
что во мне, а твое чувствует то, что в тебе" (II, V, 15). Разум у
каждого тоже, конечно, свой: например, "я понимаю нечто, а ты
понять не в силах". Эводий немедленно соглашается и с этим:
"Ведь очевидно, что отдельные рациональные умы усваивают
что-либо доступное нам каждый отдельно"(ibid).
Нет как будто ничего ясней! - "tibi tuus et mihi meus". "Тебе
твое, а мне мое".
Но... далее оказывается, что это наиболее верно и полно
относительно низших телесных ощущений. Вкушая и обоняя
_ 92
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
пусть даже одно и то же, каждый из нас присваивает свою
"часть" еды и вдыхает свою "часть" воздуха. И эти вещи не
остаются существовать сами по себе, а преобразуются внутри нас.
Нельзя что-либо съесть или понюхать вместо другого человека,
и прикоснуться к чему-либо мы тоже не можем одновременно и
в том же месте, что и другой человек: только по очереди.
Посему принцип "тебе твое, а мне мое" - как мы выразились бы,
личное начало - до конца осуществляется в обонянии, вкусе и
осязании. То есть как раз не в специфически-человеческом...
Конечно, зрение и слух, а также "внутреннее чувство" (по
Августину, присущее и животным), переводящее телесные
ощущения в сознание, - также свойственны человеку именно в
качестве индивида. Но он не присваивает увиденное и
услышанное; зримые вещи и звуки остаются сами собой, принадлежат
одинаково всем, пусть и каждому порознь.
"Самые эти наши ощущения мы ощущаем как свои и
отдельные, так что ни я не ощущаю твое ощущение, ни ты
мое..." - тем не менее увиденные мной или тобой звезды
светят всем. "Они не изменяются и не обращаются в наше
собственное и как бы частное (in nostrum proprium et quasi
privatim)".
Уже в этом месте беседы - ибо следующий же виток
рассуждения потребует относительно сего абсолютной четкости -
Августин считает нужным дать определения, резко развести личное и
общее. "Собственным и как бы частным надлежит разуметь то,
что один из нас присваивает себе и ощущает только в себе одном
(in se solus), в качестве относящегося именно к своей природе (ad
suam naturam proprie pertinet); что же до общего и как бы
публичного, то это то, в чем никто из ощущающих не ощущает
ничего своего, - пребывающее без искажения и изменения".
Эводий вторит: "Это так" (II, V, 19).
И сразу же речь заходит о разуме... Сперва о числах. "Семь
плюс три составляют десять не только сейчас, но всегда". Один
человек считает легко, другой с трудом, третий вовсе не
справляется со счетом, но сами-то числа пребывают истинными и
неизменными. "И общими для любого из рассуждающих" (II,
VIII, 20-21). Умственные различия между индивидами суть
различия по степени присутствия одной и той же, равной себе
способности: эти различия, так сказать, количественные, но не
93 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
содержат совершенно ничего личного по своей природе и
существу. Так и зрение бывает, как известно, более острым или
более слабым. Но все люди притом видят или могут увидеть одно
и то же. Все видящие - хотя и порознь - качественно
одинаковы. Так люди и разумеют: каждый, конечно, "посредством
своего отдельного ума", в остальном же - в содержательном
плане - оперируя с числами, "общее для всех и как бы публичное".
Охотно вместе с Эводием признав столь простые истины,
мы сегодня были бы склонны поставить здесь точку и не
переносить безличность (повторяемость) элементарных зрительных
или слуховых восприятий, счетных операций и т. п. - на
"субъективную" духовную жизнь личности, на особенный
эмоциональный, нравственный и мыслительный "внутренний мир"
того или иного человека.
Иначе Августин.
Еще бы! Ни в чем культурная инаковость не дает о себе
знать так головокружительно, как в понимании наипростейших
вещей.
"Считаешь ли ты, что люди судят каждый по своему
усмотрению и у каждого своя отдельная мудрость (или: знание,
разумение, sapientia)? Или же одна и та же мудрость одинаково
предстает перед всеми, и, чем более кто-либо становится ей
причастен, тем более он мудр?" Эводий возражает: я еще не
знаю, какого рода мудрость ты имеешь в виду... Людям ведь по-
разному представляется, что значит знать и поступать мудро...
Для воинов "sapienter" - это одно; для землепашцев - иное; для
тех, кто ловок в денежных делах, опять иное; а есть еще
мудрость правителей; иные же пренебрегают и презирают все эти
виды деятельности, отдавая силы лишь постижению истины,
дабы познать самих себя и Бога (semet ipsos deumque)... А есть
еще те, кто часть времени уделяют тому, а часть этому и
полагают, что пальму первенства относительно мудрости удерживают
они... А еще есть "бесчисленные секты"... (II, IX, 25).
Заметим, что "своя отдельная мудрость" есть разве что у тех
или иных разрядов людей; но это, конечно, не какая-то
индивидуальная мудрость. Однако и такие (так сказать, групповые)
различия Августин отводит. Что из того, что "разные люди
усматривают для себя высшее благо в наслаждении разными
вещами"? Все одинаково желают для себя блага, хотя и видят его
_ 94
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
"во многом и разном". Все равным образом взыскуют
"счастливой жизни", хотя часто не знают, в чем состоит "высшее благо",
подлинное счастье.
Но "высшее благо" и блаженство, стало быть, и мудрость -
"для всех одно".
Так в солнечном свете кто-то радуется горам, другой -
долине или холмам, третий - лесной свежести, четвертый -
волнующейся морской глади и пр. Но свет для всех один.
Точно так же: хотя "отдельные мудрые (singuli sapientes)
имеют каждый свою душу или же ум", но отнюдь не
собственную, отдельную мудрость.
Впрочем, это требует дополнительного рассуждения, так
как Эводий сомневается: пусть Высшее Благо для всех одно, но
мудрость, может быть, у каждого все же своя? (II, IX, 27).
Снова и снова Августин разъясняет. Ты своим умом
усматриваешь некую истину; и я, независимо от тебя, не зная твоих
мыслей на сей счет, вижу ту же истину; и кто-либо другой
обнаруживает ее же не твоим и не моим умом, но своим. Однако это
одна и та же истина. Интересно, какая же, к примеру. "Какая?
что нетленное лучше тленного, вечное - преходящего,
нерушимое - разрушающегося, ты это смог бы отрицать?" Эводий:
"Кто же сможет?" Августин: "Следовательно, может ли
кто-нибудь сказать, что эта истина - его собственная (suum proprium),
если она неизменно и с необходимостью предстает созерцанию
всех, кто способен созерцать?" Эводий: "Поистине никто не
назовет ее принадлежащей себе" (II, X, 28).
Истина и Мудрость, как и числа, основаны на "неизменных
правилах" (II, X-XI, 29-32). Разные люди, конечно, в разной
степени оказываются способными посредством своих умов
приблизиться к наивысшему, но это - Истина, которую никто не
вправе считать "моей", или "твоей", или чьей-либо еще ("поп
possis dicere tuam vel meam vel cuiusquam hominis"). To, что
человек Нового времени относит к "личности", - по Августину,
"никоим образом ты не назовешь относящимся к природе ума
кого-либо из нас (nequaquam dixeris ad mentis alicuius nostrum
pertinere naturam)". "Вот она, наша свобода, когда мы
исполняемся Истиной. И это сам Бог наш освобождает нас от смерти, то
есть от состояния во грехе". Это сама Истина, вочеловечив-
шись, говорит с людьми, "Истина освободит вас". Звуки небес-
95 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΊίΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
ной музыки доступны для всех, и никто, внимая, не удерживает
их только для себя (manere secum). Толпа слушающих готова
включить в себя любого из новоприбывших. Днем и ночью
истина светит и влечет людей со всего мира. Вот мудрый
(sapiens) - и вот невежда (insapiens). Я еще не этот, первый, но не
назвал бы себя и тем, вторым. Мне уже открылось нечто
относящееся к мудрости. Я на дороге к ней. Однако для этого
прежде всего требуется, чтобы человека "уже не тешило что-либо из
его частного (ut non jam privato suo gaudeat)", чтобы истина
утратила свой преходящий и относительный характер, "став
единой и той же для всех и навеки''. Такова цель. "Пока мы живы,
мы движемся к ней, мы - в пути" (И, XIII—XVI, 35-41).
Как ни просты и как ни всеобщи эти христианские (даже
антично-христианские) посылки, т. е. восхождение от многого,
рассеянного, разного к Единому, все же представление о
человеческом индивиде, как о существе, которое "не ниже ангелов"
потому, что в тварном мире только оно способно, благодаря
разумности, преодолеть свою злосчастную единичность,
отрешиться от "частного и собственного", от "моего", и
самозабвенно причаститься целому, - далеко не случайно, как мы сейчас
убедимся.
Августин поначалу обстоятельно втолковывает надличный,
мистический персонализм.
Именно в трактате о свободе воли это срабатывает самым
парадоксальным образом!
Без посылки об индивиде, у которого нет ни личной
истины, ни личной мудрости, ни личного счастья, но лишь меньшая
или большая способность познать всеобщую истину, надлич-
ную мудрость, единственное на всех счастье, - без подобной
посылки Августина можно бы заподозрить в софистике... Без
исходной мысли об индивиде, который, углубляясь в себя и
раскаиваясь, тем самым становится одним из паствы, отрешается
от себя как такового, внимает Истине - Христу в толпе
слушателей, "in multutudine audientium" - без этого Августину, как ни
странно, не на чем было бы поставить учение о свободе и
ответственности... как раз вот такого индивида...
Проследим хорошо известные контуры этого учения. Бог
сотворил все во благо, и следует восхвалить все сущее. Бог
наделил разумных индивидов свободой, ибо они действуют по
_ %
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
своей воле, и это тоже хорошо. Но воля бывает направлена
дурно, во зло. У зла, однако, нет никакой "формы", никакой
"природы". Зло - это умаление (defectus) добра, и, если добро
отсутствует полностью, то на его месте и нет ничего тварного - стало
быть, остается лишь Ничто (nihil), нуль, пустота... (И, XX, 54).
Тем не менее человек впадает в ничтожность по
собственному выбору, ибо сия пустота "в нашей власти". Недопустимо
переваливать вину за содеянное с самого грешника на "фатум"
или "фортуну": тогда все человеческие законы, порядки,
наказания, поощрения и т. д. оказались бы бессмысленными, рухнуло
бы "все, чем управляется род человеческий", исчезли бы
правосудие и мораль (Epist. CCXLVI)11.
Человек поднимается или падает по собственной
склонности и выбору, спонтанно (sponte). И поэтому каждый отвечает
за себя. Ничто не принуждает его падать, тут нет необходимого
природного движения, как, например, в падении камня (III, I—II,
1-2). Впрочем, благодать и правосудие Господа выше нашего
понимания, ибо вообще Бог выше разума. Посему грешники,
пронизанные "до мозга костей своей совести", твердят из
Псалма 40, 5: "Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою;
ибо согрешил я пред Тобою" (III, II, 5).
Но тут-то впервые звучит неприятный и непростой вопрос.
Бог знает заранее все, чему предстоит совершиться. "Так не
полагаешь ли ты, что такие вещи происходят по необходимости, а
не как захочет человек?" Поскольку то, что уже есть в
Провидении, не может случиться иначе... Не означает ли Божественное
Провидение, таким образом, и Предопределение?
Ответ гласит: то, что ты выберешь, выберешь ты. Не против
своей воли. Бог провидит именно твою волю, воля же не была
бы подлинной, если бы то, что тебе предстоит сделать, не было
в твоей власти. Божье Провидение ничуть не лишает человека
этой власти (potestas). Так что не потому я так решу, что это
необходимо из-за Провидения, но, наоборот: именно это
провидит Господь, потому что я решу так, а не иначе (III, III, 7-10).
Итак, мы грешим без принуждения со стороны чего-либо
высшего, низшего или равного нам, но "по собственной воле" (III,
IV, 9).
И все же, все же... На сей раз Эводия что-то во всем этом
смущает. И он непривычно упрямится. Каким образом может
4 - 345
97 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
не произойти что-либо, ежели Бог провидит, что как раз это и
произойдет? Как же не приписывать Создателю решительно
все, что относится к Его творению? Тогда не выходит ли, будто
Божье правосудие карает грехи, совершающиеся по
необходимости?
Рассуждение Августина пускается по новому кругу. И то,
что он говорит, выглядит достаточно поразительно (III, IV, 10).
Вдруг Августин предлагает Эводию поразмыслить, как
обстояло бы дело, если бы речь шла о "твоем" или "моем"
предвидении. То есть на место провидящего Бога подставляется - о,
конечно, только для наглядности? - провидящий человек...
Если бы ты заранее знал, что кто-то согрешит, разве не было бы
необходимым, чтобы грех совершился? А иначе как же сказать,
что то была "praescientia mea"? если бы я не знал нечто заранее
("nisi certa praescirem")? Коли случится иначе, то и не было
провидения... а коли так и произойдет, то не потому, что я это
предвидел, а - наоборот, предзнание было таковым, ибо так и
случилось... Точно так же: не потому с необходимостью должно
произойти то-то и то-то, что таково Провидение Бога, но
Провидение таково, поскольку должно произойти именно это, и
заметь, по свободной воле самого грешника... Тебя не заставляет
грешить Тот, Кто знает, что ты согрешишь, хотя, несомненно,
ты согрешишь, иначе не было бы Провидения...
И снова Августин повторяет, будто уговаривает не
достаточно понятливого Эводия, а себя - да так оно и есть,
поскольку "Эводий", хотя и реальный корреспондент епископа, тут
лишь голос в диалогическом произведении. Дело будто бы не в
том, что это - Бог. Или другой согрешит "по своей воле", или не
было предзнания. "Так и Бог (т. е. так же, как ты или я\ -
Л. £.), никого Он не принуждает ко греху, однако провидит о
тех, кто согрешил по собственной воле". Вот ты - не
принуждаешь прошлые события, хотя и знаешь о них? И Бог не
принуждает будущие поступки людей, хотя и знает о них. Это
провидение не превращает Его в "автора" того, что он провидит. Это ты,
ты сам, добровольно отступишь от блага, это ты станешь
злонамеренным, нечестивым, пагубным "автором" (malus auctor). A
Господь, следовательно, - "справедливым мстителем".
Что же до того, что Бог создал - нет, не зло, но грешников,
наделив их свободой уклоняться от блага, - то спотыкающийся
_ 98
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
конь все же выше в иерархии тварей, чем неуклонно падающий
камень, ибо камень лишен "собственного движения и
ощущения"; и тот, кто грешит по своей воле, выше того, кто не грешит,
не обладая свободой воли. И пьяница лучше самого
благородного вина. И грешная душа все же лучше в цепи творения, чем
ее тело. Лишь невежда спрашивает: "Что это? да как это?" -
"ведь все сотворено своим надлежащим образом (in ordine
suo)". Есть та или иная природа. И есть порочное извращение.
Богу нельзя поставить в вину, что среди его творений
существуют те, кто наделен свободой воли, но пользуется ею порочно-
После чего следует очень интересное размышление о
самоубийцах (III, V-VI, 15-18).
Поначалу может возникнуть впечатление, что все это -
чистейшая софистика!
Разве Августин не приравнивает (по логическому статусу)
обычное человеческое предвидение, которое, как известно, или
сбывается, или не сбывается, - к абсолютному всеведению
Бога? Ибо не подтвердившееся предвидение якобы не может быть
сочтено "предвидением"... и только безошибочное знание
будущего заслуживает называться "praescientia"... С таким же
успехом только врач, который излечивает всех больных, может быть
сочтен "врачом", только воин или атлет, побеждающий всех
противников и всегда, есть "воин" или "атлет"... В любом деле
неудача не означает, что человек не занимался именно этим
делом. Это же относится к предвидению, которое - по крайней
мере, среди людей - оказывается или оправдавшимся
полностью, или хотя бы приблизительно и частично, или
опровергнутым. Вот что, пожалуй, мог бы возразить Эводий? - будь он
несколько упрямей...
Я же со своей стороны рискнул бы еще добавить: если
стереть разницу между человеческим и Абсолютным
предвидением, исчезает его вероятностный характер. Между тем именно
та или иная степень вероятности осуществления любого
предсказания свидетельствует, что оно не равносильно
предопределенности. А то, что после восхода солнца наступит его закат
или что яблоня не родит грушу, т. е. природную
необходимость, вряд ли кто-либо вздумает "предсказывать". Так что,
скорее уж, стопроцентное "провидение" есть иносказание
необходимости.
4·
99 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
Конечно, вероятностный смысл предвидения человеческих
поступков не носит попросту статистического характера, но
особым образом связан со свободой воли. То, что, предвидя
чужое (или даже свое собственное!) решение, я могу и
ошибиться, - вот также подтверждение свободы, вносящей элемент
принципиальной непредсказуемости. Лишь в этом зазоре, лишь
благодаря рискованности, несовершенству нашей способности
предвидеть, гадательности и таинственности будущего -
осуществимо и реально предвидение как таковое. Лишь в
модальности возможного. И как раз поэтому, предвидя поведение
человека, я за него не отвечаю, я действительно не предопределяю
будущего. Ведь сам-то человек, который то ли согрешит, то ли
отринет грех, хотя бы отчасти свободен и от себя (природного,
психически сложившегося, бездумно-определенного и т. п.),
т. е. он истинно свободен.
Но абсолютность Провидения, с одной стороны, - не зря
сомневался Эводий (Августин?) - превращает его в нечто
трудно отличимое от предестинации. С другой же стороны, она,
абсолютность знаний о будущем, делает бессмысленной, словно
бы мнимой, борьбу человека с собой. Уж не смеется ли Небо
надо мной? Я мечусь, встречаюсь с соблазном, помышляю о
самоубийстве, собираюсь с духом, в конце концов совершаю
некий выбор. Поднимаюсь или падаю. Но все дело в том, что до
последнего мгновения я могу передумать. Или, согрешив,
раскаяться: хоть на смертном одре. Пока жив, я свободен, я по
определению непредсказуем, и, следовательно, тут совершенно
естественным, специфически человеческим делом выглядит
попытка провидеть...
Если же есть Провидение, которое все знает наперед и
непреложно, то я, со всей своей "свободой воли", я, сам не
знающий (в отличие от Бога), на что решусь, - все-таки закадрован
в готовой картине будущего. Я искренне разыгрываю внутри
себя колебания, я поступаю по собственному желанию, но так,
как актер добровольно декламирует текст некой пьесы. Правда,
он-то наивно думает, что импровизирует, что это его текст. И
так оно и есть по человеческой мерке, в земном измерении...
Только: "там" пьеса уже известна. Результат импровизации уже
записан. И по иной, высшей, вечной мерке, я делаю нечто
изначально предусмотренное в мировом распорядке.
_ 100
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
Когда Господь поспорил с Дьяволом об Иове, то он, будучи,
кажется, уверен в несокрушимом благочестии раба своего,
испытывал его терпение с явным перебором... и, когда несчастный
возроптал, восстал против Господа, это было определенным
сюрпризом, и весьма неприятным... собственно, Господь проспорил...
Ответный гнев и досада Его, с внерелигиозной точки зрения,
выглядят не очень-то справедливыми, но человечески понятными,
поскольку было задето прежде всего не Могущество и не Благость,
а Провидение... Зато бунтующий Иов показал, что человеческая
воля воистину свободна! Дальнейшее уже не так важно.
Говоря же вполне серьезно, у Августина все-таки нет
никаких софизмов: если признать некое условие. Свобода воли
человеческого "я" перестанет выглядеть мнимой, если мы поймем,
что такое у Августина само это "я".
Когда человек заглядывает в себя, предается умозрению, то
он видит "зеркало", а в зеркале своего ума - "образ Бога". Мы
не знаем, почему Бог может "оправдать нечестивца". Дело
человека - раскаиваться и молиться, но его обращение к Господу и
его преображение в Нем, хотя и требуют горячих помышлений
и доброй воли, но совершается сие не человеком, а в человеке.
"Есть нечто в человеке, о чем не ведает сам дух человека". Сам
по себе человек - лишь источник "деформации", разрушения в
нем образа и подобия Божьего из-за "мирских вожделений" (per
cupiditates saeculares). "Преобразуются же из Него, ex illo"
(К Римлянам, 12, 2). "Этот образ преобразуется Тем, Кем
образован. Ведь он не может преобразовать самого себя, а может
только обезобразить (Non enim reformare se ipsam potest, sicut
potuit deformare)" - De Trinitate, XIV, 16.22«.
Formari-deformare-reformari... В этой высшей несвободе,
именно в отсутствии будущего понятия личности (всего того,
что мы связываем с этим понятием), состоит тайна свободы
воли и ответственности индивида, как их разумеет Августин.
Первый псалом о "блаженном муже": "в законе Господа
воля его". Августин комментирует это так. "Одно дело быть в
законе (in lege), иное - под законом (sub lege). Тот, кто
существует в законе, действует (agit) согласно закону; тот, кто
существует под законом, подчиняется в действиях (agitur) согласно
закону. Следовательно, тот свободен, этот же - раб". Закон,
которому подчиняются, писаный. А закон, в котором живут, неписа-
101 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЯНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
ный, но умопостигаемый (mente conspicitur). "О законе Его
размышляет он день и ночь", сказано в псалме. "Днем в радости,
ночью в страдании", добавляет Августин. Предается медитации
"внутренний человек", т. е. тот, кого "питает земля невидимая".
"Гласом моим взываю ко Господу" - это уже третий псалом.
Августин поясняет: сие не телесный голос, но "голос сердца". Им
речет сам Господь "в уединенных покоях, то есть в потаенных
(глубинах) сердца".
Так мы приближаемся к ответу относительно значения "я" у
Августина. В законе Господа - моя смиренная свобода. И само
"я" индивида - это в его внутреннем, сокровенном, глас свыше.
Это "жилище Христа". "Христос говорит со мной не где-либо
вне, но в самом сердце, то есть в той опочивальне, где надлежит
молиться".
В четвертом псалме речется: "In расе... dormiam, et requi-
escam". Это сказано о земном счастье, о сне "в веселии сердца",
когда "хлеб и вино умножились" - о безопасном "сне" под
защитой Господа. Но ведь это же... формула блаженного успения?! -
"в мире покоюсь". Конечно же! Я жил, следовательно, "я спал и
увидел сон". Если сон и был хорошим, то насколько же лучше
умереть в Боге, опочить навсегда... в вечном сне. Пока же...
"Я спал и увидел сон".
Тогда Августин спрашивает: а вообще что такое "я"? что
значит "эго"?
И отвечает так: "Эго" положено, дабы означить, что смерть
принята как желанная, добровольно (positum est Ego ad signifi-
candum, quod voluntate mortem sustinuit)".
Ибо сказано (От Иоанна, 10, 17-18): "Потому любит Меня
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто
не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать
ее и власть имею опять принять ее...". Тем самым Христос
говорит: "Я не призываю будто бы вас, чтобы вы схватили и
умертвили меня; но я спал и увидел сон"13.
Августин прав, настаивая, что Божье Провидение ничуть не
отнимает у человека "спонтанности" и свободы воления и
действия. Только не нужно подставлять сюда новоевропейскую "я-
личность", служащую собственным основанием и отвечающую
перед собой. Не нужно привычно понимать под индивидом, о
котором думает Августин, прежде всего своеобразного, "непо-
_ 102
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
вторимого" человека, поступки которого могут быть
соответственно оценены лишь с учетом этого своеобразия, через чуткое и
бережное восприятие всех оттенков именно его душевного
склада, отношений, положения и т. д. - к чему так приучило нас
уже искусство XIX в. Нет, Августин не софист, ибо исходит из
"я-индивида", одного из человеков, наделенного отдельной
душой в отдельном теле, вызванного Господом к земному
существованию, занятого тем или иным человеческим занятием на
своем месте, короче, единичного, но отнюдь не индивидуально-
особенного человека.
Каждое "я" такое же, как и все, - не считая акциденций,
которые тоже, впрочем, попадают в тот или иной разряд
(возраста, рода занятий, природной склонности, ума, глупости и т. д.).
Мудрость, истина, благо - едины. Одни ближе, другие дальше
от оных, и каждый - "в пути". Это путь не к "себе", не к своей
самости и своей личности, это путь через себя и, посредством
этого, непременно от себя - к Богу. Человек свободен не в
смысле самоопределения и пр., но только в выборе между
Богом и "ничто". А так как выбрать "ничто" (например,
несуществование: покончить с собой) это вообще не значит выбрать что-
либо сущее (положительное), то, по сути, быть истинно
свободным, не извращая свободу - значит быть послушным в одном и
том же, и одинаково, и всегда; перед лицом верного для всех.
Ответ, как надлежит и не надлежит поступать, дан на вечные
времена для всей "толпы слушающих"; живущих ныне, предков
и потомков. Это "да" или "нет". "Да" обретают, только заглянув
в глубину своей души, оно дано "внутреннему человеку". Это
голос "сердца". Тем не менее индивидуальных ситуаций нет,
только индивидные. Акциденции строго отделены от
субстанции, грех есть грех, Высшее Благо - едино для человечества.
Для такого индивида - способного на чрезвычайную
тонкость и силу самосознания, но менее всего усматривающего его
предмет и самоценность в личном, напротив! - рассуждения
Августина о Провидении, оставляющем при человеке его
свободу и ответственность, безупречно убедительны. Строго говоря,
нравственный выбор здесь по форме; по существу же есть
только нормативная мораль. Поэтому свобода индивида не имеет
множества личных решений, возможно лишь одно правильное
решение. В этом смысле индивид не свободен. Никто не "прав
103 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙП О СЕБЕ'
по-своему". Это выбор... без выбора. Он может быть мучителен
и даже всегда требует крайнего напряжения душевных сил,
неусыпного бдения и пр. Но вместе с тем и предельно прост. Он
сложен, поскольку исповедь требует предельной
откровенности. Он прост, поскольку кроме полного раскаяния не
требуется ничего. В этой простоте, опустошенности личного и
открывается мистическая бездна. Личное благочестие, может быть, даже
подвиг смирения забирают всего человека, именно и
непременно всего.
В желанном пределе никакого "я" просто не остается. Чем
неотступней усилие верующего, тем однозначней Провидение.
Тем, так сказать, прозрачней его задача, тем... проще. Бог
заранее знает все "да" и все "нет". Все "вверх" и все "вниз". И
только. Провидение избавлено от художественно-индивидуальных,
"психологических" коллизий, когда - как мы это себе
представляем - нет бесспорных ответов, и даже дело не в ответах, не
столько в действиях-результатах, сколько в пульсации
самоценной и бесконечной внутри себя индивидуальной вселенной.
Потому-то Августин так легко снимает наиболее
трагическую проблему индивидуального сознания. (Но не, скажем,
античного, или средневекового японского, или христианского
индивидного сознания.) То есть проблему самоубийства (см. III,
VI-IX, 18-28). Он не видит здесь проблемы.
Самоубийство греховно, ибо сводится к ложной посылке, к
самообману. Более того, оно мнимо, некоторым образом его нет
вовсе... Если бы кто-то сказал: "Я предпочитаю лучше не
существовать, чем быть несчастным", то Августин ответит: "Лжешь!
Ибо ты и сейчас несчастен и хочешь не умереть, а только не
быть несчастным, жить же ты хочешь. Так возблагодари, что ты
наделен способностью хотеть и не лишишься жизни против
своей воли. Ты - тот, кто хочет, а несчастен ты вопреки
хотению. И если ты, неблагодарный, (будто бы) не хочешь
существовать, то будет справедливо, если ты и обратишься в то, во что
обратиться (на самом деле) не хочешь. Благодари же
Создателя, ибо он сделал так, чтобы ты, неблагодарный, имел то, что
хочешь" (т. е. жизнь).
Впрочем, никто из самоубийц не думает действительно
покончить с собой. Ибо люди могут жаждать никак не смерти, а
только покоя. Что ж, если это желание не быть несчастным "по-
_ 104
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
еле смерти", то сие в руце Божьей. Но, "если ты желаешь
избежать страданий, люби в себе само это желание быть. Ведь, если
ты возлюбишь бытийствование еще крепче и крепче, ты
станешь ближе к Тому, кто бытийствует в наивысшей степени, и
вознесешь благодарность, ибо и ты есть. Ведь, хотя ты и ниже
блаженных, но выше тех созданий, которые не способны даже
желать блаженства. Многие из этих последних, однако, также
хвалимы в сравнении с более жалкими. Впрочем, хвалы
достойны все они: уже за то, что существуют. И чем полней ты
полюбишь самое бытие, тем полней возжелаешь жизни вечной. И
будешь стремиться стать таким, чтобы чувства твои были не от
мира сего..."
Ибо преходящее бытийствует не вполне. Его нет в
прошлом, его не будет в грядущем. Начать быть для него уже
означает устремиться к небытию.
Итак, Августин делает вопрос о самоубийстве незначащим,
поскольку переворачивает и заменяет его другим единственно
значимым вопросом. Самоубийство - фех, поскольку всякое
даже несчастное существование есть нечто хорошее, будучи,
пусть и в малой степени, отблеском вечности. Тем самым
самоубийство оказывается "неблагодарностью" отнюдь не из-за
ценности личного существования, а наоборот - поскольку ценно не
оно, а жизнь вечная, к которой оно должно устремиться.
Получается, самоубийство дурно, ибо... любить следует то, что за
фобом! "Дар жизни", самый первый и главный Божий дар, и в
несчастье прекрасен как предвестие и залог наилучшего, сиречь
смерти, в качестве, в свой черед, залога жизни вечной.
Словом, торопясь к гробу, слишком уж не дорожа жизнью,
ты, следовательно, не дорожишь смертью... Смерть же надлежит
принимать лишь потому, что ее нет: самоубийца ведет себя так,
будто смерть существует, а ведь существует только смертная
жизнь - ступень к бессмертию.
"Абсурдно" говорить "хочу лучше не быть"; выбрать "не
быть", т. е. "ничто" (nihil), значит неправильно подойти к
самому выбору. "То, чего нет, не может быть лучше". Это вообще
никакой не выбор.
Посему о самоубийцах нечего и судить! - довольно-таки
неожиданный вывод из длинного рассуждения о них... Или они
угодили туда, где им лучше, и не нам пытаться понять, как они
105 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
удостоились сего. Или это не так; но все равно они ничего не
выбрали. Личное и свободное решение в предельном
выражении, таким образом, равносильно отсутствию какого бы то ни
было решения.
Те, кто хочет сравняться с ангелами и чуть ли не со
всемогущим Богом в этой своей утратившей всякую меру свободе, -
обуяны "своим тщеславием". И "не ангелам они хотят быть
равными, а себе" - "поп ideo volunt aequales esse angelis, sed sibi"
(III, IX, 28).
Личная свобода воли ложна, это - "гордыня" (superbia).
Подлинная же свобода - это воля к тому, чтобы отказаться от
своей воли. К Богу приходят "через врата смирения"14.
Еще тысячу лет все личное будут культурно осознавать и
оправдывать лишь как подмостки для анонимного и надлично-
го. Еще тысячу лет все ярко-личное должно будет так или
иначе обрабатывать и драматически сдвигать это эпохальное,
фундаментальное начало рефлексии индивида, смирение, дабы как-
то косвенно узаконить посредством него - и "себя", как-то
мерцающе, ненароком высвободить местечко для "я". В этом,
собственно, тотальный смысл (с ретроспективной, сегодняшней,
историко-культурной точки зрения, когда ищут истоки "нашей"
установки на личность через отличия от "их" внеличностного
Я), в этом, думаю, усматриваемый, благодаря нашей вненаходи-
мости, смысл наиглавнейшей добродетели в средневековом
христианстве - смирения.
Нет, для Августина и средневековья проблема "я" ни в коей
мере не потеснена, не обесцвечена, не "снята"! Она поставлена
не "хуже" и не "лучше", чем в индивидуализме нового времени.
Она столь же глубока. Она не менее пронзительно трагична.
Однако это не только иная проблема (с чем соглашаются,
по-видимому, все историки), но и проблема совсем иного "я":
похожего на "личность" не более, чем даоский, буддийский или
христианский пустынник на нынешнего художника или
ученого, уединившегося в кабинете и отключившего телефон.
_ m
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди0 6л, Августина
Послания апостола Павла.
О персонализме и Божьем суде
«И человек, хотя и духовный, не судит о беспокойной
толпе века сего. Ему ли "судить о внешних", когда он не знает,
кто уйдет отсюда в сладостную благодать Твою и кто останется
в горечи вечного нечестия?* (XIII, XXIII, 33).
Августин черпал понимание Божьей благодати и
предопределения (а значит, и пределов ответственности человека за
собственную судьбу) прежде всего в излюбленных им
апостольских посланиях Павла15.
С одной стороны, Павел не устает наставлять праведному
практическому устроению жизни, добронравию, добродетели.
"Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы" (К
Ефесянам, 5, 15-16). Страницы Посланий заполнены
совершенно конкретными социальными и бытовыми предписаниями.
"Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и
пред людьми" (Второе Коринфянам, 8, 21). "Зная, что каждый
получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли,
или свободный" (К Ефесянам, 6, 8).
Однако же... Хотя одно угодно, иное же неугодно Богу, одно
радует, иное же гневает Его, - правила истинно христианского
поведения, будучи непреложными и требуя от индивида
рвения, самодисциплины, тем не менее ровно ничего не значат для
его вечной погибели или спасения. Поступки и даже
помышления человека - лишь некий внешний слой (достойный хвалы
или порицания). Ни другие люди, ни он сам ничего не знают о
том, каков же он поистине - пред лицом Божьим (ср. Августин,
XIII, XXIII, 33).
Не потому не знают, что есть в душе человеческой некая
глубь, куда достигает только взгляд Господен. Но потому, что
хотя всякое деяние или умысел индивида подлежит
религиозно-моральной оценке, что-то значит, но сам индивид ничего не
значит. Ничего не решает и не меняет в своей участи,
предрешенной свыше.
"Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его тво-
107 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
рение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять" (К Ефесянам, 2,8-10). Как
плавно Павел, проповедуя, выстраивает в непрерывный ряд,
казалось бы, несовместимые "ибо"... с каким ровным дыханием!
И Августин, будто откликаясь: "Спаси меня... не по
заслугам моим, но по милосердию Твоему"16. Он верен Евангелию,
сохранившему надежду не добродетельному фарисею, а
кающемуся грешному мытарю.
Это представляется "противоречием", если не абсурдом,
нашему рациональному и правовому сознанию. Как же "созданы
на добрые дела", если спасение - "не от дел"? И если спасение
"через веру", то почему кто бы то ни был, сколь истово и слезно
он ни верует, столь же мало спасается верой, как и делами...
ведь до конца остается неведомым, та ли это вера, которую
примет Бог... Праведник и грешник уравнены загадочным
произволом предестинации.
Конечно, то, что мы теперь называем "личностью",
формально столь же неготово, неизвестно, и в любой момент может
быть перерешено, и некоторым образом окончательно решается
тоже лишь в смертный час. Но формальное сходство лишь
подчеркивает фундаментальную противоположность
существования в горизонте регулятивной идеи "личности" и - в горизонте
идеи "угодного Богу" индивида (который "зван" и... отвергнут
или "избран" неведомо почему).
Дело не в самой по себе неизвестности и даже не в
иррациональности избранничества или отвержения. Но в том, что все
это коренится не в человеке. Не индивид в целокупности своего
"я" иррационален. Не его личная жизнь "сложна", противится
резюмированию и т. п. Не в том дело!
Говоря условно: не "Запад" здесь, а "Восток". Не
"иррациональное" (т. е. все же полагаемое через ratio), но - мистичное.
То есть лежащее по ту сторону этих различений.
"Я" - раб своего Господина, может быть, этим все сказано?
Я обязан, само собой, быть хорошим, благонравным, верным
рабом. Однако у Господина нет никаких встречных обязательств
(которые появятся разве что в кальвинизме).
Более того, абсолютная воля Господа по отношению к рабам
Его на то и абсолютна, что не может быть ни измерена, ни
понята (как это попытался сделать погрязший в каузальности и мо-
_ m
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
ралистической прагматике бедный Иов...). А значит, ни
осуждена, ни одобрена. Ибо кто я такой, чтобы одобрять или разуметь
Господа Бога моего? Я должен лишь верить. Я могу лишь
любить, трепетать - и покорствовать.
Августин пишет о разнице между "сынами света и сынами
Божьими" среди людей и "сынами ночи и мрака". Мы
спасаемся надеждой, что "станем светом", но... «при этой неверности
человеческого знания, различить можешь только Ты один,
испытующий сердца наши, назвавший свет днем, а тьму ночью. Кто
сможет отделить нас, кроме Тебя? а что у нас есть, чего мы не
получили бы от Тебя, мы "сосуды в честь", сделанные из того
же материала, из которого и "сосуды в поношение"?* (XIII,
XIV, 15).
Легко обнаруживать в средневековом или предсредневеко-
вом индивиде и, уж конечно, в таком исключительном
человеке, как Августин, сколько угодно мотивов, граней, элементов
того, что в XIX в. стали называть "личностью"
(индивидуальной личностью, поскольку какая-то иная есть противоречие в
определении). Однако эти элементы никоим образом не
группировались в виде личности. Не оформлялись в целое через
самосознание личности. Не обретали секуляризованный модус
самодетерминации, т. е. ответственности не просто за себя,
но - перед собой.
В персонализме раннего христианства "я" вырывается из
природной - этнической, социальной, готовой, преднайден-
ной - общности (общины), дабы через обращение тут же стать
членом новой (вторичной) общины, составившейся из инди-
видно уверовавших "я". (Но в средние века, впрочем, каждый
человек - член паствы от рождения.) "Я" отделяется - и
принимает новое послушание уже по собственной воле. Это первое и
предварительное разделение. Отныне "я" может надеяться
заслужить спасение. Однако последующее и решающее
разделение, на взысканных овец и отвергнутых козлищ - вполне
таинственно ("я не могу измерить и узнать, сколько не хватает мне
до любви совершенной" - XIII, VIII, 9). Как и для раба
таинственна воля недосягаемого и невидимого Господина.
Абсолютна, т. е. неразличимо необходима (и потому как бы
случайна) кара. Неразличимо необходима (и потому как бы
случайна) милость. Не нам судить.
m _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
"Личность"? Она возникала здесь разве что в точке своего
наиболее полного исчезновения, своей решительной
невозможности: в бездонности смирения. В отказе от себя тенью
мелькало нечто вроде ее возможности? При самом утонченном и
поразительном богатстве личных переживаний эта мистическая и
онтологическая личность отличалась от того, что понимаем под
этим словом мы, принципиальной перевернутостью... То есть
это антипод "личности".
"Зачем опираешься на себя? В себе нет опоры. Бросайся к
Нему, не бойся, Он не отойдет, не позволит тебе упасть;
бросайся спокойно: Он примет и исцелит тебя" (VIII, XI, 27).
С одной стороны: "не все те Израильтяне, которые от
Израиля... То есть, не плотские дети суть дети Божий; но дети
обетования признаются за семя" (К Римлянам, 9, 6 и 8). Значит,
каждый человек оказывается в личных, а не родовых отношениях с
Господом.
Да, но с другой стороны: в этих личных отношениях ни
добрые дела индивида, ни благочестие не обеспечивают ровно
ничего, не включают в число "детей обетованных".
Двух сыновей зачала Ревекка от Исаака, и вот, «когда они
еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы
изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от
Призывающего, - сказано было ей: "больший будет в порабощении
у меньшего". Как и написано: "Иакова Я возлюбил, а Исава
возненавидел". Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.
Ибо Он говорит Моисею: "кого миловать, помилую; кого
жалеть, пожалею". Итак, помилование зависит не от желающего и
не от подвизающегося, но от Бога милующего... Итак, кого
хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: "за что
же еще обвиняет? ибо кто противостанет воле Его?" А ты кто,
человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему
(его): "зачем Ты меня так сделал?" Не властен ли горшечник
над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для
почетного употребления, а другой для низкого?.. Что же скажем?
Язычники, не искавшие праведности, получили праведность,
праведность от веры; а Израиль, искавший закона праведности,
не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не
в вере, а в делах закона; ибо преткнулись о камень
преткновения» (К Римлянам, 9).
_ 110
О культурно-историческом смысле "Я" е "Исповеди0 6л. Августина
Ήο, если по благодати, то не по делам; иначе благодать не
была бы уже благодатию" и пр. (И, 6).
Так бессмысленны и коллективные правила, и личное
рациональное действие.
Потому-то "нет различия между Иудеем и Еллином".
Если ветхозаветный Моисей пишет о праведности закона:
"исполнивший его человек жив будет им", - то христианская
"праведность от веры" требует: "не говори в сердце твоем: кто
взойдет на небо... или: кто сойдет в бездну?" Спасение от веры,
вера от слышания, а слышание от слова Божия... но никто не
может сказать о себе, что он хорошо услышал и подлинно
уверовал. "Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению". "Ты
держишься верою: не гордись, но бойся" (К Римлянам, 10, 2,
5-7;11,20).
Именно в этом контексте звучат знаменитые слова Павла о
том, что никто не смеет судить другого человека или
навязывать ему свои представления о должном. Не из "уважения к
личности", о которой апостолу ничего не известно, и не ввиду
законности различий между отдельными людьми. Хотя речь
идет именно об отдельных людях, различия эти принадлежат не
им как таковым. Это разница в обычаях племен и народов,
среди коих проповедует уверовавший Савл, вчерашний иудей,
идущий через несходные страны огромной империи.
Вот это место, где, казалось бы, как редко где в Новом
Завете, говорится об уважении и принятии личностных различий
между людьми, а на деле - совершенно об ином.
"Кто различает дни, для Господа различает; и кто не
различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест,
ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и
благодарит Бога.
Ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для
себя.
А живем ли - для Господа живем, умираем ли - для
Господа умираем. И потому, живем ли, или умираем, - всегда
Господни.
...Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу" (К
Римлянам, 14, 6-8, 12).
Замечательно, что современный ум склонен сразу же
воспринять эти слова Павла как относящиеся к индивидуальному
111 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тИЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
сознанию, толкующие о личностных различиях между
индивидами. Ничуть не бывало! - апостол Павел, разумеется, имел в
виду "всякое колено и всякий язык" - племенные, а не личные
различия, которые не должны бы препятствовать проповеди.
"Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе" (там же, 14,17). Речь идет об
обращении язычников. Павлу предстояло проповедовать и в
Иерусалиме, и в Риме, и в Испании. Различия людей из разных
"языков" надлежит перекрыть. Для этого следует не отвергать - не
"судить" - людей, сбегающихся слушать апостола, принимают
ли они или не принимают религиозные ограничения в еде.
"Ради пищи не разрушай дела Божия: все чисто...". Следует
уважать не постящихся ("нет ничего в самом себе нечистого;
только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто" - там же,
14,14), - но уважать и постящихся ("все чисто, но худо
человеку, который ест на соблазн"). Итак, вразумление, которое
звучит как требование уважать личность другого человека, на
самом деле относится ничуть не к личности, а к групповым,
традиционалистским, ритуальным обыкновениям разных народов,
которых надобно сплотить поверх этих привычек.
Тут же рядом мы находим другой пример того, как персона-
листические формулы, которые, если их изъять из контекста,
вполне годились бы для истолкования "в горизонте
личности", - на деле, конечно, бесконечно далеки от привычных для
нас смысловых горизонтов, глубоко архаичны. Августин
приводит слова Павла: "не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего...". Это звучало бы как формула
"самоформирования личности"... если бы у Павла далее не
следовало: "...обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной
мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более,
нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры,
какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много
членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого
члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные
дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры;
имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в
учении; увещатель ли, - увещевай; раздаватель ли, раздавай в про-
_ 112
О культурно-историческом смысле "Я" е "Исповеди" 6л. Августина
стоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель
ли, благотвори с радушием..." (ср. "amt", один из "даров Бога",
по Бертольду Регенсбургскому. - Л. £.). "Будьте единомыслен-
ны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе" (К Римлянам, 12, 2-8, 16).
Августин воспринял это всем сердцем. Даже потрясающую
личную исповедь, ее откровенность, ее выразительность он не
относит к собственной инициативе и достоинствам. «Говорить
буду безбоязненно и скажу правду, ибо Ты внушил мне сказать
то, что пожелал Ты выразить этими словами. Верю, что правду
я говорю только по внушению Твоему, ибо Ты один "Истина", а
"всякий человек - ложь". Поэтому "тот, кто говорит ложь, свое
говорит", чтобы сказать правду, мне надо говорить Твое* (XIII,
XXV, 38; ср.: К Римлянам, III, 4; От Иоанна, VIII, 44).
Вот это и запомним: "cum loquitur mendacium, ex propriis
loquitur". "Est autem Deus verax, omnis autem homo mendax".
Таков изначальный персонализм Нового Завета,
умаляющий всякого человека, но оставляющий наедине с Богом.
Различия между людьми не имеют смысла как таковые, ибо
никто не живет и не умирает "для себя". Нельзя судить чужое
"я", потому что его от-личие незначимо. Ведь непохожий на
тебя по своим племенным привычкам индивид - "чужой раб"
(как и ты для него). "Пред своим Господом стоит он или
падает". Каждый стоит перед общим Господином или падает -
отдельно. Не рабу судить о другом рабе. Посему: "Немощного в
вере принимайте без споров о мнениях".
Это, прежде всего, прагматика миссионера. Нечистую пищу
вкушает только тот, кто считает ее нечистой. Но ежели не
считает, то "все чисто". И, напротив, нельзя соблазнять пищей того,
для кого она нечиста. Различия в "законе" отодвигаются в
сторону, поскольку речь идет о причащении к вере, будь то эллины
или иудеи, язычники или обрезанные.
Прагматика тоже оправдана мистически. Это не
терпимость, а бесконечное смирение. Христос един для всех, и уже
уверовавших, и тех, кому предстоит уверовать. Бывший Савл
знает, что говорит.
Христианская проповедь взывает к личному сознанию, ибо
нет другого способа вытеснить из этого сознания "я", заместив
его пресветлым "Ты". Исповедь выделяет и обостряет ощуще-
w —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
ние "я" в качестве исходной точки на линии перехода от
безличного к надличному. "Я" должно быть неслыханно
сконцентрировано, развито - дабы можно было бы узреть его малость, его
ничтожность, выжечь его в себе, покончить с ним. Точка
перехода трепетно вспыхивает, ибо иначе - как погаснуть ей? Свет
V зажигается от Горнего Света и меркнет в Нем.
Рассуждая ретроспективно, мы вправе, конечно, сказать, что
христианский персонализм издалека готовит новоевропейскую
"личность". Хотя и весьма парадоксальным образом: через
нечто ей противоположное.
"Троянский конь" мистики?
В письме к Ф. Овербеку Ницше поделился своими
впечатлениями от августиновой "Исповеди". "Ах! Что за
матерый ритор! Насколько все это поразительно ложно! Как я
смеялся! Ну, хотя бы этот рассказ о мелкой краже, которую он
совершил в юности, по сути - о проделке школяра. Насколько это
психологически фальшиво! Или вот, когда он говорит о смерти
своего лучшего друга, с которым они составляли словно одну
душу: он рассказывает, что решился продолжить жить, чтобы
таким образом и его друг умер не совсем. Это - тошнотворная
ложь. Философская же ценность тут нулевая. Самый
вульгарный платонизм... Эта книга позволяет рассмотреть содержимое
желудка у христианства. Я занимался этим с
любознательностью лекаря либо чистого физиолога"17.
Брань Ницше обнаруживает неизмеримую пропасть
непонимания - а все-таки в каком-то, пусть отрицательном, плане
она не лишена поучительности. Попытка прочесть "Исповедь"
глазами человека конца XIX в., с его индивидуальным
"психологическим" опытом "Я-личности", и не могла обнаружить в
самонаблюдениях и покаянии Августина ничего, кроме фальши.
Вывод Ницше по-своему справедлив. Но он означает лишь, что
насквозь притчевую и вероучительную "Исповедь" совершенно
нельзя так читать, что личное, "психологическое" истолкование
исторически неадекватно. И в этом отношении предельно
чуждый Августину Ницше задевает действительную проблему едва
_ 114
О культурно-историческом смысле "Я" е "Исповеди" 6л. Августина
ли не лучше, чем те, кто восторгается "Исповедью" как
проникновением впервые в глубь психологии личности и т. п.
Несколько ранее Кьеркьегор атаковал Августина с
противоположной стороны: за формулу "верить, чтобы понимать"18.
"Нет! Вера - сущая сама по себе, она живет у себя же, и ей
нечего делать во всей вечности со знанием, как чем-то будто бы
сопоставимым с нею или высшим, нежели она". Кьеркьегору ав-
густинова вера кажется "излишне спокойной", т. е.
рассудительной, словно отзвук античного язычества. Он находит, что акт
веры у Августина недостаточно феноменологичен: вот оно, мое
бездонное личное состояние, при чем здесь какое-то "знание"?
Кьеркьегор, однако, странным образом сходится с Ницше,
поскольку тоже не желает принимать во внимание, что
мистицизм Августина основан отнюдь не на индивидуальной
экзистенции. (Между разумом и разумом возможен и неизбежен
диалог, вера же, по Кьеркьегору, у каждого - своя, одинокая,
замкнутая на себя же.) Мистицизм Августина архаичен. Это
(приходится повторить давным-давно подмеченное) -
состояние души не одинокого человека, не личностной самости, но
человека церковного, нового Псалмопевца, не выделяющего себя
из стада Божьих душ.
"Акт веры", по-видимому, для Кьеркьегора важней всего;
Бог есть предмет и содержание моей веры; его бытие
удостоверяется внутренним состоянием верующего. Поэтому вера
самодостаточна, а вопрос о знании оказывается избыточным.
Онтология сводится на индивидуальное самосознание. Не вера от
Бога, но Бог из веры, а это всегда именно "моя" вера. Такого
рода религиозность - что-то вроде птоломеевой вселенной, в
которой Солнце ходит вокруг Земли. Понятно, что Кьеркьегор,
превращая на современный лад отношения человека с Богом в
суверенное дело личности, должен был отвергнуть церковность
и назвал церковь "полицией Бога".
Для Августина же вера - это онтологический акт, в котором
решающим образом участвует сам Бог. Это Божья милость, это
элемент миропорядка. Уверовать значит быть готовым узнать.
Как ни важна вера, но важней, разумеется, сама Благодать - и
Тот, "Который в силах совершить больше, чем мы просим и
разумеем" (VIII, XII, 29). Тот, кто сказал: "Есмь Истина". Не
просто мистическое умонастроение, но абсолютное ("спокойное"!)
115 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
мистическое пребывание. Это Бытие, в которое вписан
индивид - и отсюда (из веры) необходимость (пусть
несовершенного) уразумения.
Я думаю, что культурологический анализ древнего
мистического сознания должен бы максимально посчитаться с тем,
что "Ты" для него - безусловная и, решусь выразиться неловко,
"объективная", онтологическая реальность.
Нет, сказать это - сказать все еще слишком мало и
невнятно. Реальность "Ты" абсолютна и тотальна настолько, что "я" (и
все личное, все "субъективное") в этом смысловом мире
возможно лишь в молитве. "Совесть", "внутренний человек",
"сердце" и утонченное мышление - всякое самосознание, вера,
разумение, "беседа наедине с собой" и пр. - получают, согласно
нашей терминологии, культурный статус в промежутке между
молитвами.
Наконец, авторство и произведение тоже окутаны этой
тотальной данностью сознания, сгущаются из ее воздуха. Любой,
пусть относительно автономный смысловой момент текста
дышит ею же - как эритроциты кислородом.
Это, конечно, разочаровывающе простая констатация: что
Бог для Августина - воистину Бог. (А не "вера в Бога".) Но мы
не смеем хоть на миг выпустить ее из виду по ходу
культурологического разбора19. « Господи! Ты нам прибежище в род и род.
Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и
вселенную, и от века и до века Ты - Бог. Ты возвращаешь человека в
тление и говоришь: "возвратитесь, сыны человеческие!" Ибо
пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний...* (Пс. 89,
1-5).
В замечательной книге "Михаил Михайлович Бахтин, или
Поэтика культуры" (М., 1991) B.C. Бибдер усматривает "идею
личности" во всех культурах, во всяком случае, западных,
начиная с античной. В той или иной исторической форме эта идея
проходит через особенные "перипетии", будь то античное
представление об "акмэ", или средневековая "идея жития, исповеди",
или новоеВропейский "образ индивидуальной жизни". Однако
всякий ρω « ,ю Библеру - это именно личность, понимаемая
как, во первых, ""олная мера ответственности и свободы",
"личная 0ТНетствен"0(:ть за свою... судьбу". Во-вторых, поскольку,
согласно Бахтину» "сознание по существу множественно", - лич-
___ 116
О культурно-историческом смысле "Я"в "Исповеди" 6л. Августина
ность есть совпадение, со-наложение, со-бытие в сознании
индивида не менее двух сознаний. То есть "личность" - это
мысленные (также психологические и т. д.) ножницы между тем, каким
человек видит себя "в трезвом, неподкупном свете дня" и каким
он хотел бы себя видеть, выстроить, перерешить. Это спор в нем
разных побуждений, мыслей, голосов. Что до исповеди, то в ней,
по B.C. Библеру, "индивид оказывается способным предрешить
навечно (идея свободы воли в единстве с идеей
предестинации...) свою судьбу": в ней "жизнь индивида сосредоточивает
истинно культурный, личный смысл" (с. 149).
Слишком очевидно, что в понимании "личности" вообще и
средневековой исповеди в частности я довольно существенно
расхожусь с построениями B.C. Библера, чья философия
культуры в целом мне дорога, близка и повлияла на
методологические постулаты моих конкретных исторических работ.
Конечно, B.C. Библер совершенно последователен, проводя
тезис о всевременном и вездесущем присутствии "личности" в
ее радикально разнящихся, переливающихся
культурно-исторических структурах. Ибо его трактовка этого понятия весьма
широка. Если человек спрашивает себя, каков он со стороны
высших и сознаваемых им критериев - добрый он или злой,
угодный Богу или нет, и т. п., - то вот уже и личность. То есть
это - несовпадение с собой эмпирического индивида, оценка им
себя с точки зрения возможного или должного, сомнение в себе
и пр., короче, соизмерение себя сегодняшнего со своим
прошлым и неведомым будущим - с собой "как таковым".
Вопросы и требования к себе есть внутренняя точка
отсчета, но она одновременно вынесена вовне. А внешнее - овнутре-
но, т. е. "чужая" речь, мысль, оценка впечатаны во мне, суть
мысленное "ты". Сознание с рефлексией - это вчленение двух
сознаний в одно. Несовпадение индивида с собой. А это и есть
условие самодетерминации. По Библеру, самодетерминация "я"
(-личность) так или иначе совершается в каждой культуре.
Религия тоже взята B.C. Библером, как если бы ("als ob")
она была "культурным феноменом". Тогда религиозная
"личность" - тоже особенный эстетический момент ("историческая
поэтика"), еще одна форма совпадения поэтики с
нравственностью. И только «этот живой, "экзистенциональный" (как
сказали бы в XX в.) смысл трагедий предестинации наиболее остро
117 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. вИЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
выражен в "Исповеди" Августина* (B.C. Библер. От наукоуче-
ния - к логике культуры. М., 1991. С. 329).
В связи с этим очень выразительно замечание B.C. Библера
о "сакральном". Философ метит, конечно, в нынешние мишени,
того заслуживающие: в пустую моду на "мистику", вполне,
кстати, светского, идеологического происхождения. Но... задето
Средневековье. «...Сакральность - это те линии, сгибы, в
которых "цивилизация" проникает в "культуру", приобретает
квазикультурные формы, имитирует свою культурную значимость...
свою определяющую (и уничтожающую всякую возможность
самодетерминации...) значимость для - против! - смысла
культуры. В формах (откровенной или светски преображенной) "са-
кральности" всемогущая детерминация извне и "из-нутра"
особенно опасна для культуры, оказывается троянским конем..>
(там же, с. 333).
Но тогда августинова "Исповедь" - разве не такой
троянский конь? Увы, вся "Исповедь", вся духовная напряженность,
весь смысл ее - для Августина - в том, что Господь всемогущ, и
Он решает. "Мне отмщение, и Аз воздам". Нужно найти в себе
силы, дабы отдаться на Его волю целиком. При риторической
изощренности, мыслительной тонкости, "литературности"
"Исповеди" - характер "я" в нем совсем не эстетический (тут мне
ближе подход М.М. Бахтина).
Если это "культура", то отнюдь не в противостоянии
раннехристианской "цивилизации". Личный смысл пережигает себя,
ищет укрытия в сакральном. Всюду виден поэтому "троянский
конь", ничего нет вне этого "коня".
Если же сакральное, внедряясь в каждый сгиб сознания и
жизни человека, есть "квазикультурная форма", "имитация",
уничтожение культуры - что ж, значит, в средневековье
"культуры" ("как сказали бы в XX веке")... не было. Если культура
немыслима вне личности. Если личность есть самодетерминация с
личностным же основанием: индивид, понятый как собственное
основание, через необходимую поэтому идею личности.
"Идеи личности", сиречь пафоса "самодетерминации", не
было и не могло быть даже у Августина (и... особенно у
Августина?).
B.C. Библер, конечно, "лучше понимает" Августина (по
Бахтину: пользуясь "преимуществами вненаходимости"), чем тот
_ m
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди9 6л. Августина
сам себя понимал. Однако же "лучшее" должно прежде всего
включать в себя (опять-таки, по Бахтину) и самопонимание
автора "Исповеди". "Большое время" не отменяет "малого
времени", но растет от него. Короче, мне недостает в схеме B.C. Биб-
лера исходного замедления - перед перемещением во "вненахо-
димость", в "контекст наших размышлений", в синхронизацию
всех смыслов через культурный диалог - замедления в
историческом мире Августина... одного Августина и только Августина.
"Да будет воля Твоя" - это что же, "самодетерминация"
личности? - для которой Бог, стало быть, лишь смысловой рычаг,
эстетический и нравственный знак моей самости, "совесть",
момент "личного смысла"? Пусть и особое Ты, но играющее в
"моем" (августиновом!) сознании, впрочем, ту же роль, что всякое
культурное "ты"? Поставим ли мы религиозное напряжение
Августина в ряд историко-культурных самодетерминаций, где
наблюдаем и Гамлета, и Фауста, и другие "образы индивидуальной
жизни"? Или не откажем Августину в сакральности без
кавычек,,, в контексте не наших, а его размышлений?
Бог Августина - действительный Бог, а не культурное Ты.
Это действительный (т. е. абсолютный и безусловный)
мистический отказ от немыслимой "самодетерминации". "Mali vixi ex
me"... "Опасно" для культуры или не опасно, но у Августина, на
мой взгляд, - сакральная культура (лишь с Нового времени это
станет почти оксюмороном). "Трагедия предестинации",
очевидно, не в зазоре между Провидением и моей свободой воли, а
в том, что я, как ни отказываюсь от себя и своего, все равно не
знаю и не узнаю до Страшного суда, дотянул ли аз
многогрешный до полного самоотрешения и как разрешит Господь мою
судьбу: спасен ли я.
Молюсь и стараюсь.
Но все так же ничтожен, как и в начале своих усилий, со
всей моей "хорошей жизнью" и заслуженными "похвалами"
мне.
Смирение! - глубинное незнание о себе и невозможность
без помощи Господа повелевать собой. Незнание и о Боге. Что
может знать раб о Господине своем? Само вот это "раб Божий",
подлинность веры, словом, сакральность, не вмещаются в
рационализирующую, гуманизирующую, эстетизирующую схему
B.C. Библера. Схема не оставляет раба Божьего Августина хоть
119 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙП О СЕБЕ'
на миг вне любезной нам "культуры" - сразу запуская на все
обороты вненаходимость. И потому религиозность справедливо
оценивается как "троянский конь" для этой схемы.
"Моя" ответственность за свое существование и свою
вечность? - да. Противостояние ее - предестинации, Страшному
суду? - нет... Как сие ни алогично, но я ответствен, хотя все
предрешено. "Свобода воли" дана, но это не будущая свобода
индивидуальной личности. Это свобода раба быть послушным
или плохим рабом... Чего, однако, нельзя, так это не быть рабом
Божьим. Логический узел тут ощутим - орешек для будущих
схоластов! "Смертная жизнь (индивидуальная жизнь)
равновесна вечности и, - пишет B.C. Библер, - предопределяет ее".
По апостолу Павлу или бл. Августину - нет, нет и нет! Не
равновесна моя жизнь Богу, она истаивает в его вечности, она
утопает в ней. И - ничегошеньки не "предопределяют" мои воля,
сознание, жизнь... хорош ли я либо плох, добродетелен или
скверен. "Я" греховен изначально. Не я искупаю, а Христос
искупил и - спасет ли меня? Не мое "перерешение", а его
Благодать. Благодать дается не за что-то, не зарабатывается - но
вымаливается и ниспосылается. Так что молю, чтоб заслужить
всегда незаслуженный и неизреченный Дар20.
Индивид исповеди живет не в горизонте личности, но в
горизонте онтологической сакральной ответственности, пусть и
переживаемой "из-нутра".
Я не способен прочесть Августина иначе.
Историк не торопится со своей концепцией, не сразу играет
эвристическими мышцами. Есть характерная робость историка
перед текстом, желание быть ему верным: слушать и услышать.
Однонаправленность исторического потока актом общения в
известном плане преодолевается... как если бы я и Августин
обменивались смыслами. Однако я остаюсь собой, читателем
конца XX в. Августин остается Августином. И дело не заходит все
же столь далеко, чтобы упоминаемую в "Исповеди" "работу над
собой" я решился бы поставить в один ряд с "самодетерминаци-
ей" индивидуальной культурной личности Нового времени.
Расколдовывая парадокс Бахтина (о том, что исповедь есть
произведение культуры, акт авторства и что она же
одновременно - некое мистическое молитвенное состояние, по ту
сторону культуры, сакральный акт, о котором неуместен светский
_ 120
О культурно-историческом смысле "Я* в "Исповеди" бл. Августина
анализ) - B.C. Библер уверенно превращает двойственность в
жесткую оппозицию. "Исповедь" всецело переносится в
культуру, а сакральное, которое вряд ли можно отрицать в ней,
сочтено незначащим для культуры или инородным - наконец, и
прямо враждебным ей.
М.М. Бахтин, по существу, был не так уж далек от
подобного взгляда на вещи, хотя у него интонация, ценностные контуры
заметно иные. В исповеди признается нечто большее, чем
культурное высказывание... но, не становясь на
таинственно-молитвенную или богословскую почву, мы вправе брать исповедь
только с культурной стороны. Так или иначе, сакральность,
густо обволакивающая текст, должна быть выведена за скобки
смыслового разбора? "Ты" - лишь голос в произведении
Августина, а не Бог над произведением?
Но, может быть, правильней утверждать, что, напротив,
перед нами феномен культуры как раз в той мере, в какой это
сакральный феномен. Вне сакрального, мистического,
религиозного тут просто-таки не существует ничего; даже мысли и
воспоминания Августина сами по себе (скажем, философские,
житейские, эмоциональные), могущие вообще-то быть изъятыми
из религиозного контекста и восприниматься ныне без него, -
все же погружены в исповедальное жанровое поле, лишены
какого-либо автономного смыслового статуса, прямо или
косвенно подсвечены мистикой conversionis, "обращения" - и богопоз-
нания. А потому per se не содержат ни одного атома "культуры"
или "личности".
Так - у самого Августина, в "Исповеди", взятой по
отношению к себе же.
Только проникнувшись этим сознанием неодолимо плотной
историчности, можно бы позволить себе "вненаходимость",
решиться прочесть Августина из нашего времени.
Попытка самовозражения
"Не мечтайте о себе"!
"Nolite esse prudentes apud vosmetipsos" (К Римлянам, 12,
16): так наиболее кратко, словами Апостола, о-пределено
личное самосознание Августина.
121 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
Тем не менее мы проявили бы историческую нечуткость,
если бы свели августинову "Исповедь" к парадигме апостольских
Посланий или Псалмов Давида. Более того: не переступая
сакральных, назидательных, жанровых пределов христианской
исповеди, Августин выходит на эти самые пределы. Августин
экспериментирует с ними. Благо он - первый; труд его
уникален, автор не следует жанровому канону, а создает его.
Он, Аврелий Августин, знает, что такое человек, лучше
всего из внутреннего опыта. Покаянная интроспекция заводит его
в бесконечные "извивы" собственных душевных состояний. И
хотя не они предмет самодовлеющего интереса, хотя важно не
то, что это его жизнь, и Августин проходит сквозь насыщенный
слой биографических воспоминаний, дабы обрести в них
трагическую онтологию человеческого существа, которое порывается
к Богу, но срывается вниз ("быть здесь я в силах, но не хочу;
там хочу, но не в силах") - а все же именно мистический
замысел "Исповеди" парадоксально провоцирует ее необыкновенно
конкретный, и личный, и домашний характер. Начиная,
например, с неостывших и к середине жизни переживаний из-за
нещадных побоев в детстве, этой стены непонимания между
ребенком и взрослыми, и кончая рассказом о жизни и последних
днях Моники, оплаканной с такой болью, - мы читаем (при
всей их, так сказать, стилизованности) некоторым образом
мемуары о частной жизни.
Как и, допустим, "Книга Экклесиаста" или "Записки у
изголовья" Сей Сенагон, признания Августина невольно
подталкивают нынешнего потрясенного читателя к модернизации, к
психологизированию, к умозаключениям в свойственном нам
стиле. Как раз то обстоятельство, что интимная напряженность
этой книги, ее утонченная мудрость возникают на твердом
основании сакральной вселенской парадигмы, - и придает
"психологизму" в наших глазах такую несравненную мощь!
Невозможно, казалось бы, сравнивать Августина с испове-
дальностью писателей Нового времени. Ясно, однако, что
качество, которое нам хотелось бы - опять-таки модернизируя -
назвать религиозным лиризмом "Исповеди", поражает так
сильно благодаря именно внеличной пропитке. Никакой Руссо
или Толстой, никакая мудрость Гамлета или Фауста, никакое
величие ответственной перед собой одинокой личности не да-
_ 122
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
ют того по-особому впечатляющего историко-культурного
результата, который возникает, так сказать, эпически: из
неполной отъединенное™ индивида от всеобщих и высших мировых
начал.
Только на таком перепутье оказался возможен августинов
эпос "внутреннего человека".
Со стороны социальной и культурно-исторической - это
фокус неких катаклизмов внутри традиции. Августин не
столько был античным ритором, сколько все еще оставался им. Он не
был христианином, но стал им. Этот еще достаточно молодой
человек писал свою "Исповедь", не подозревая, что он - один из
"отцов церкви"... Быть язычником, быть цицеронианцем, быть
платоником, быть астрологом, быть манихеем, быть пелагиан-
цем и т. д. - выглядело ничуть не менее известным и
привычным, чем последовать за св. Антонием в египетскую пустынь
или за св. Амвросием в Медиоланум. Прибыв к Амвросию,
Августин жадно и потрясенно узнает о правоверии как о своего
рода новости.
Перед молодым искателем истины и святости не было
никакой общепризнанной и обязательной нормы. Эта (будущая)
норма в пестром, многоразличном переходном
средиземноморском мире IV в. человеку не давалась, но создавалась; притом
не только догматически, но неизбежно и биографически.
Боэций, Кассиодор, Иероним, Августин делали выбор. Конечно,
это выбор между разными традиционалистскими установками;
но он совершался все же глубоко личным усилием и на личную
ответственность. Потому-то в зазоре бурно сталкивавшихся
коллективных ориентации индивид, не совпадая заведомо ни с
одной из них, пусть в конечном счете не выпадал из более или
менее архаического круга, но - отслаивался от него.
Он жаждал нового надежного, сакрального укрытия.
Личная рефлексия - напряженность отношения к себе - у
Августина составляет необходимый исходный импульс,
окраску, настроенность. "Я" - "загадка для себя". Известная
индивидуализация отношений с матерью, наложницей и пр. Это
заставляет нынешнего читателя остро ощутить (на деле весьма
проблематичную) близость к Августину, побуждает тут же
воображать эгоцентрическую культурную модель ("личность", т. е.
уникальное "я" и... все другое, общество, духовные ценности, ис-
т _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
тория и пр.). Но у Августина этот момент, по мере его
осмысления и выстраивания в системное и сознательное отношение к
миру, все более затухает, теряет интимность и
Субъективность", жаждет встроенное™ в Путь. То есть личное в итоге так
или иначе преодолевается.
Тем не менее B.C. Библер прав в том отношении, что
импульс личной судьбы, ответственности за себя, особой окраски
(самости, пусть тут же признающей необходимость
самоотречения), удивления по поводу себя, словно бы пробуждения
личности, - присутствует в истоке и как-то растекается или
обертонирует в системе произведения.
"Да, Господи, я работаю... над самим собой: я стал сам для
себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота" (X,
XVI, 25). "Велика сила памяти; не знаю, Господи, что-то
внушающее ужас есть в многообразии ее бесчисленных глубин. И это
моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой? какова природа
моя?" (X, XVII, 26).
Конечно, "природа моя" - это у Августина природа всякого
человека, человека вообще. Конечно, в десятой книге "Исповеди"
мы находим очерк христианской антропологии. Но ведь верно и
то, что премудрость эта пропущена Августином и выверена через
собственное "я". И что это принципиально для самого
вероучения. Интроспекция служит не только назидательным примером,
но непосредственным поводом и средством душеспасительного
рассуждения. "Где ни проходила Ты вместе со мной, Истина, уча,
чего остерегаться и к чему стремиться, когда я приносил Тебе
скудные домыслы свои, какие мог, и спрашивал совета!..
Рассмотрел я грехи мои, которыми болею... и воззвал к деснице Твоей
для спасения моего... Ты знаешь невежество мое и слабость мою:
научи меня и исцели меня" (X, XL-XLIII, 65-70).
То есть для христианина особым образом существен и
обратный ход: от общего к личному. Человек вообще, раб
Божий - это сейчас он, Аврелий Августин. И душа человеческая -
вот она, ведь в исповеди это всегда "моя" душа, которая
дивится себе самой и, раздваиваясь, не в силах совладать с собою же:
"Душа приказывает, чтобы душа захотела, и это одна и та же
душа, и, тем не менее, она этого не делает"21.
Пусть суверенной "личности" как установки, системы
взглядов, самосознания и философии индивидуализма не было и
_ 124
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" бл. Августина
быть не могло. Но какое-то исходное заострение, порыв,
интонация - бесспорны. Психология осмысляется пока онтологически,
личное - как порыв к Богу и т. п. А все-таки нечто... от
отдаленного будущего? ...в многосложном составе мысли и настроения у
Августина есть. Не случайно еще тысячу лет уровень личной
насыщенности "Исповеди" не будет достигнут последователями
Августина, поколениями кающихся, исповедующихся.
Если онтогенез есть повторение в свернутом виде
филогенеза, и, как известно, человеческий зародыш проходит стадии
рыбы, низших млекопитающих и пр., то здесь мы наблюдаем,
так сказать, перевернутый филогенез. То есть сначала
эмбрионально возникают наряду с готовыми матрицами личные
запросы, сначала странно проглядывает словно бы момент наиболее
далекого будущего... а затем, произведя свое стимулирующее,
провоцирующее действие, этот личный запрос перекрывается
эпохальными матрицами, однако же заметно сдвигая их.
Остается творческий привкус в произведении, в построении
своей судьбы и мироотношения - в целом уже надличных и пр.
Что-то остается... мерцающая догадка, возможность, которая
может реализоваться спустя века, благодаря вненаходимости.
Пусть это будет уже не строго исторический Августин, а
чей-то "мой Августин". Начиная с Петрарки. Следовательно,
по-другому исторический: в масштабе "большого времени".
"Мой Августин" не означает насилия над текстом, но -
разрастание в новые времена каких-то возможностей, в нем
заложенных, распускание неких смысловых почек, тогда не
заметных либо (что одно и то же) давших до поры совсем иные
побеги. Раннехристианский и средневековый индивид "в стаде", в
церковной пастве, есть одновременно одинокая душа пред
Господом. Таков центральный парадокс церковности. Разрешение
одинокого бремени, "взывания из бездны", через соборное,
хоровое, церковное причастие Христу - не данное, а взыскуемое.
Растворение во всеобщем требует личного покаяния и
очищения. В этом-то створе: "Я - загадка для себя". Конечно,
самопознание и молитва - подчиненный элемент сакральной системы.
Но... Чтобы сработала коллективная догматическая менталь-
ность, она не должна быть сразу системной и догматической.
Ведь к Истине надо прийти - через поучение, исповедь,
медитацию, сокрушенное "сердце". Здесь для ретроспективного ос-
125 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
мысления действительно брезжит - но не конституируется -
личность.
Августин (вслед за ним и все наиболее яркие личностные
протуберанцы, все маргинальные духовные казусы
Средневековья) укоренен в невероятных парадоксах Евангелия. Мистика
Богочеловека не подлежит рациональному расщеплению, при
котором выходит или монофизитство, или арианство (в Новое
время принимающее вид секуляризованной "истории" Христа в
стиле Э. Ренана как величайшей и глубоко трогательной
личности, даже романного героя). Однако в самой этой мистике есть
то, что уже две тысячи лет ставит в тупик, наводит на соблазны
умствования.
Иисус все знает наперед, но ведет себя так, как если бы не
знал. Он приближает к себе Иуду, чье предательство
провиденциально необходимо. Иуда (в меньшей мере, во внешнем
событийном слое, Каиффа или Пилат) в роли апостола и ученика
оказывается для теодицеи важней остальных сотрапезников
Христа на Тайной вечере. И - если Божеская и человеческая
природы в Христе не просто суммированы, но нераздельны, ибо
ортодоксально ни в одно мгновение не имеют перевеса один над
другим человек и Бог в земном Христе (оттого и -
непорочность Зачатия) - что означают тогда тоска и жалобы в саду
Гефсиманском? Желание "отвести от себя чашу сию" -
человеческое колебание в Боге? Или искушения в пустыне - зачем
они по отношению к Богу-Истине? Ведь Дьявол вроде не глуп.
Они не могли ведь относиться отдельно к человеку в Христе.
Вообще: что есть свобода воли у... Богочеловека, который не
выбирал и не мог выбирать, принести ли себя добровольно в
жертву, а для того и воплотился, чтобы свершилось неизбежное
и предназначенное Отцом, Сыном и Святым Духом... т. е.
Христом же. Как воля Бога может быть направлена на себя, как он
может что-либо велеть себе? кто тот, кому он велит, неужели
Он же? Из этих логических ловушек никогда не могла
выбраться христология; но эти ловушки суть вместе с тем - условие
Христа, и ответом, как и относительно единосущности Троицы,
служит - Тайна.
Религия, в основание которой положено сознательное
мистическое смешение предвечного, абсолютного и человеческой
слабости, добровольной жертвы, муки, - такая религия оказы-
_ 126
О культурно-историческом смысле ыЯяв "Исповеди" бл. Августина
вается опертой на соединении того, что свыше внеположно
личному, и личного усилия как условия растворения в общине
братьев и сестер во Христе. Это и называют христианским
персонализмом.
Персонализм (также и раннехристианский) не есть
существование ав горизонте личности", ведь он сакрален и надличен.
Однако в него (особенно в раннем христианстве, а позже скорее
в ересях?) впаян отказ от любой готовой социальной
коллективности - с необходимостью, значит, личный отказ! - ради
индивидного включения, по свободному выбору, в новую общину
единоверующих. Архаическое нормативное воздаяние "по
делам" сохраняется, но странно совмещается - и перекрывается -
решением загробной судьбы через таинственную милость и
благодать, для каждой души отдельно в молитвенном общении с
Господом.
Божественное "Ты" и смиренное "я" исторически
появляются гораздо раньше "Я-личности" и "ты-личности". Осознанно и
системно это так. Однако христианство (как и любая культура)
не вполне системно, не умещается в свою догматику, также и в
собственный опыт, в смысловую ойкумену, ворочается в ней.
Догматизм, а говоря иначе, нужда в единственно правильном
толковании, - источник ересей (вещи, в общем, неизвестной
людям античности). Ересь же в перспективе (будучи опять, как
в раннехристианские времена, принципиально маргинальным
выбором индивида) есть дорога к сугубо личной религиозности,
а наконец, и к внерелигиозной культурности.
Когда сознание не индивидуально со стороны оснований,
им самим за собой признанных, но и не носит больше
непосредственного ("природного") общинного характера... Когда
индивид выпадает из готовой системы социальных связей и
сознательно стремится войти в "тело Христово"... Когда, таким
образом, индивидуальная личность не родилась, но словно бы
может родиться... Когда (и хотя) она предстает перед нами не
актуальным состоянием человека, но своей возможностью (?),
самообузданием себя в себе, - тем самым дан динамический
преизбыток, который может быть ретроспективно понят как
именно личность по преимуществу.
Попробую выразиться несколько проще. Августин со своей
"Исповедью" в некотором роде есть картина самоутверждения
tf7_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕВЕ"
того в индивиде, что при позднейших исторических
обстоятельствах могло бы дать развертку личности. Пока что это
происходит, однако, через включение себя в свободно выбранное
коллективное тело, через найденное внутри себя мистическое и
соборное сознание.
Это не новоевропейская личность. Но это и не вполне
традиционалистский индивид.
В разломе двух традиционалистских эпох - пограничное и
потому столь выразительное положение индивида,
предоставленного вдруг самому себе, брошенного античностью и еще не
подобранного средневековьем.
И вот он ищет единственно истинный надличный Закон и
Путь.
Он выбирает, конечно, не индивидуальную свободу. А
новую благую зависимость в новой общине. Он находит Господа
своего. Но он его именно страстно ищет, выбирает, находит. В
этом религиозном странствии неимоверно разрастается та
сторона будущей личности, которая, не будучи достроена до
самообоснования, до индивидуальной "causa sui", не являясь еще
идеей и феноменом европейской личности, составляет зато ее
ранний источник, ее важнейший генетический импульс и - если
и когда горизонт личности исторически уже прояснен, виден,
актуализован - ее апофеоз.
Собственно, именно неосуществленность, отказ от себя в
духе посланий Павла, смирение, самопонимание Августина
через божественную онтологию и мировую антроподицею - это-
то и придает его личности (говоря условно) в наших глазах
такую мощь!
"Исповедь" - сгусток переходной культурной ситуации,
которая снова размягчится до такой же и гораздо-гораздо
большей степени лишь в XV-XVI вв., с тем чтобы уже никогда не
застывать.
Кажется, в общем, понятно, почему в средневековом
духовном мире никто не решился подражать Августину в полном
объеме. "Исповедь" стала одной из канонических книг
патристики. Соревноваться с ней, писать о своей жизни,
исповедовать и проповедовать, как блаженный Августин, было бы
немыслимой гордыней. Августин поведал, как он пришел к
обращению. Но в средние века люди были христианами уже от рож-
_ m
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
дения. Покаянный автобиографический рассказ и сердечное
сокрушение предполагали краткость, обозначали готовое,
сообщали бесспорное. Вторая трагическая и проблемная Исповедь
была невозможна и не нужна.
Жанр оказался представленным одной полной
авторитетной парадигмой, несколькими боковыми примерами (вроде Ие-
ронима) - и растворился в сознании многих столетий,
разошелся на частичные подражания, вставки, реминисценции, цитаты,
интонации и пр.
"Исповедь", очевидно, сказалась в многовековой
"психоаналитической" практике католических духовников.
Онтологическая подоплека августинова "психологизма", с
другой стороны, свелась к натуралистической казуистике пени-
тенциалиев.
Средневековье так или иначе жило в рассеянном свете авгу-
стиновой исповедальное™. И довольствовалось этими слабыми
рефлексами. Жажда поучительности переместилась из повести
о своей душе, о событиях собственной жизни - по
преимуществу в "примеры" случившегося с другими, в то, что передает
молва, особенно же - в описания мученических и святых судеб, в
жития, рассмотренные не изнутри, а извне и с почтительным
трепетом.
Августинова субъективность в дальнейшем обращалась в
массовой ментальности в анонимные стереотипы,
формализовалась, обесцвечивалась, хотя и не исчезала начисто. По
преимуществу ритуально-церковной, нормативной, внешней стороной
поворачивалось в средние века то, что у Августина (вообще в
раннем христианстве) было личным внутренним борением и
поиском: "Ты позволяешь любить Тебя и тосковать о Тебе: да
покраснею от стыда и отброшу себя, да изберу Тебя и только по
Твоей благости стану угоден Тебе и себе" (X, II, 2).
Впервые только под пером Абеляра была предпринята новая,
но совершенно иначе мотивированная и построенная попытка
"автобиографии", не случайно не вызвавшая у самого автора
необходимости ссылаться на Августина как на предшественника.
Если мы положим рядом "Исповедь" и "Историю моих
бедствий", то вторая - М.М. Бахтин совершенно прав! -
несравненно больше покажется похожей на автобиографию, как мы
это понимаем. Ибо, хотя установки исповеди и жития вплетены
5 - 345
129 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЯНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
в подоснову абелярова сочинения (наряду, впрочем, со
многими другими жанровыми мотивами), хотя Абеляр ищет общего
смысла перипетий своей жизни, а точнее, исходит из этого
данного заранее, уже готового смысла (так что остается лишь
приложить общезначимое и назидательное к случившемуся с ним
лично), - а все-таки соотношение между примером
("экземплумом") отдельной судьбы и ее моралите (душеспасительной
конструкцией) существенно сдвигается.
Если у Августина собственная биография есть лишь
отправной пункт, материал и повод для мыслей о человеке и Боге, для
антропологического и теологического трактата, то у Абеляра -
иначе. Соотношение - и смысловое, и композиционное, по
месту и объему - резко меняется. Экземплумом становится жизнь
индивида во всей ее конкретности, детальности, казусности,
наконец, исключительности. Автор хочет защитить себя и эту
свою изломанную жизнь. Исповедь переливается в инвективу
против недругов и хулителей, приобретает рискованные черты
самоапологии.
Мы следим за цепью происшествий, видим персонажей,
присутствуем здесь и там вместе со знаменитым и злосчастным
магистром: узнаем, как это было на самом деле. Пусть автор
выкраивает всевозможными жанровыми лекалами из своей
судьбы преднайденную мораль. Но - сюжетно, интонационно, по
смысловому заданию - рассказанный "пример" в немалой
степени довлеет себе, чуть не перевешивает мораль, обладает
словно бы и личным интересом (для которого нет еще культурного
оправдания). Он нуждается, конечно, по-прежнему в моралите;
однако еще больше, напротив, моралите окрашивается им.
Натяжение между личным казусом и всеобщей нормой
нарастает, становится критическим. Биографическая подробность
(резкая "натуралистическая" краска) и религиозная мораль
готически расслаиваются, прежде чем дидактически соединиться.
Казалось бы, в раннем Возрождении пластическая
автобиографическая характерность должна сразу же стать еще
выпуклей, красочней? Ничуть не бывало... Культурно-историческая
логика возникновения автобиографического сознания гораздо
изощренней и неожиданней.
Следующий шаг от Августина и Абеляра - к Петрарке.
_ 130
И всё-таки...
Должен сознаться, порой у меня возникает ощущение,
что я ломлюсь в открытые двери. Так легко возразить: ну,
конечно, Августин - не такая личность, как новоевропейская,
он - средневековая (или пред-средневековая) личность.
Но еще сильней и томительней все-таки другое мое
ощущение (как историка культуры и просто современного читателя):
что само существо того, что было "личностью" Августина,
понимание им и его временем, что такое отдельный человек, короче,
культурное существо дела настолько отличается от нашего, -
что позднейшие понятия, которыми мы пользуемся, лишь
видоизменяя и поворачивая их смысл применительно к давнему
прошлому, затемняют картину. Картина же эта, чем она
выразительней и наглядней и чем больше во многом напоминает наше
представление о внутреннем мире личности, - тем на самом
деле дальше от нас, таинственней. Так что лучше бы, испробовав
на излом при чтении Августина наши понятия, пусть даже
снабженные корректирующими предикатами, вовсе отставить
их в сторону.
Горизонт-то - иной... В горизонте не идеи индивидуальной
самости, не идеи личности, а совсем-совсем иной идеи жил
Аврелий Августин.
Кстати. Ссылка на то, что и ныне человек, глубоко
христиански верующий, относится к "себе" как бы вслед за апостолом
Павлом или по-августиновски, была бы ложной. По-августи-
новски... и, таким образом, "по-средневековому"? Или как в
позднеантичную эпоху, в смысловом горизонте отцов церкви?
Нет, конечно. А если нет, если современный верующий
одновременно знает (вмещает в своем же сознании) другие "модели"
того, что есть индивид, то - даже если он не примиряет в
рефлексии религиозный и мирской (в стиле XX в.) взгляд на
человека, т. е. не верует как-то по-современному... но пытается
настроить себя и вести себя на законченно религиозный лад, не
поддаваясь веку сему и не отступая в речах и повадках от
соответствующего древнего уклада (что даже для римского папы
или русского патриарха невозможно) - и в этом случае
мистическое отношение к себе было бы актом сугубо личного выбора.
5·
W —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
Выбора духовной позиции посреди мира, в котором никакая
позиция, даже и наиархаическая (и, может быть, в особенности
она), никак не может быть просто наличной и тотальной.
Иначе говоря, чтобы в наши дни отказаться от идеи
суверенной и автономной личности, хотя и наблюдая ее реализации
рядом и отлично зная о ней внутри себя - придется быть
личностью... которая решает не быть "личностью".
Но речь идет об эпохах, когда и не было, собственно, "атеиз-
ма" и не слыхивали об "индивидуализме", когда никто не жил
без Бога или без богов, только держались притом за разное. И
мистика встречалась столь же обыкновенно, как сегодня
безверие (поверхностное или, напротив, глубоко выстраданное), как
историческая и культурная внерелигиозность.
Мистика! - в ней-то все дело. Августин проницательно,
интимно, замечательно тонко думал о себе... да, но что значило
для него думать о себе, о своем V, что такое было тогда ао
себе", кто это V?
аЯ" было, прежде всего, мистическим. Личность нового
времени тоже бездонна, и поэтому формальных
(логико-психологических) совпадений в определениях (признаках) набирается
сколько угодно. Но у Августина - как мне видится - это
признаки, витающие вокруг другой бездонности.
Собственно, бездонным и загадочным оказывается вообще
не V, а если все же V, то лишь - отраженным светом.
"Личности" нет и не может быть, ибо, говоря о себе, о своей биографии
и пр., об извивах своей души, о свободе воли, о слабостях и
привязанностях своих и о преодолении их, о росте, созревании,
даже делании себя, - я рассказываю не о "себе" как таковом. Се -
бездонность Божьего промысла, умаление Божьего во мне и
нечаянная Его благодать.
Вот почему (прав Бахтин!) исповедь - это никакая не
автобиография. Но - покаяние, исповедание веры и молитва.
"Меня", если угодно, нет; во всяком случае нет вне сакрального;
истинно есть только Он; и в повествовании индивида о себе что-
либо значимое, какой бы то ни было смысл - от Него и о Нем.
А не обо мне. И вся рефлексия, и минимум две духовные
позиции во мне, спорящие в моей душе голоса, и мое решение и
перерешение своей судьбы - формальные признаки личности -
не во мне, не мое, не меня.
_ 132
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
Ибо в центре смысла и рассказа - не "я".
Разыгрывается онтологическая и всеобщая, а не просто
психологическая и частная драма. "Я" - это случайно данный
(Богом), но субстанционально всякий сын человеческий. Так что в
моем случае (и в любом другом) единственно интересен не "я".
Тут индивид - вроде медиума, через которого дает о себе знать
Высшая Сила. Моя жизнь именно очередной спиритический
сеанс - с предопределенным, хотя (потому!) и неведомым
исходом.
Жизнь человека мистична... как и единосущность трехипо-
стасности. Троица - не то, что можно понять, но то, что нужно
силиться понять. Веровать - и посильно вместить в ум. Так и...
обычный человек. Три свойства есть в людях, пишет Августин:
"конечно, совсем иное, чем Троица", но по аналогии, дабы
"понять", как мы "далеки от понимания". "Быть, знать, хотеть". И в
каждом из этих свойств - два других. То есть: "я есмь знающий
и хотящий; я знаю, что я есмь и что я хочу; и я хочу быть и
знать". И все три свойства суть "нераздельное единство -
жизнь". Так, возможно, троично и каждое Лицо Троицы (XIII,
XI, 12)...
Давно было известно, что последовательная мистика
означает - молчание. (Если я мог бы стать верующим человеком, то
единственно приемлемой счел бы апофатическую теологию.)
Но молчаливое молчание, но медитация, размышление и
постижение божества вне логики и слов - это пустое тождество.
Мистика, которая равна себе, мистичная мистика - уже не
мистика, а Ничто.
Переход от Ничто к Нечто (и значит, к дискурсу) никогда
не окончательный и не уверенный, сохраняющий внутри Нечто
головокружительную бесконечность, внутри сущего некую
полость, внутри слов неизреченность, короче, возвращающий к
молчанию - вот подлинная ("культурно" содержательная и
продуктивная, как сказали бы мы) мистика.
К настоящей мистике приходится относиться с надлежащей
серьезностью, как и к высокому "рацио". Они - так сказать, ис-
торико-феноменологические, смысловые закраины друг друга.
Однако симметрии (как и иерархии) здесь нет. И включать
мистику августинова "я" в глобальную логико-историческую
схему "разных эпохальных типов личности", как мне кажется, оз-
ш_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
начает: относиться к религиозной мистике времен ее
полнейшей органичности и, так сказать, духовно-социальной природ-
ности - все-таки недостаточно всерьез. Или, если угодно,
недостаточно всерьез (без полной и пронзительной доверчивости)
относиться к подсказкам историзма.
И вот, если уж насчет гениального Августина, как никто
персоналистического и помнящего о личной ответственности
перед Богом, автора несравненной "Исповеди", приходится
констатировать, что он, сколько бы ни было в его строе мысли и
высказываний интимного интонирования, индивидной яркости,
страсти, самонаблюдения и т. п., все же рассуждал и жил не в
горизонте и страдании ("патосе") идеи "личности", то я имею в
виду, что была совсем иная идея: есмь раб Господен.
Что до регулятивной идеи личности, то отсутствие ее в
древности и в средние века - достаточное объяснение, почему
люди не могли существовать в ее горизонте и почему без
анахронизма рассматривать историю этих людей в свете понятия
личности - не получается.
Я не в силах принять подмен и переносов известного рода,
как то: если налицо "вера" (во что бы то ни было!), фанатизм,
самоотверженное следование некой догме, мечте, учению и пр.,
то говорят, что перед нами превращенная форма той же
религиозности. Или иначе: что это будто бы миф и мифологизм.
(Например, "тоталитарные мифы", вообще "мифы XX в." и пр.). Но
миф - это именно миф. Это, простите, то, что изучал Леви-
Строс. Это вполне плотное историческое понятие, а не
метафора (по сути, в бытовом словоупотреблении). Это особенность, а
не общность всего и вся.
Сколько книг построено на этой экстраполяции, на слишком
легком соблазне зацепиться за что-то общее... (де, марксизм -
новая религия, "Партия" - новая церковь для верующих, и т. п.).
Это наблюдение не лишено, конечно, некоторых резонов, но
слишком лежит на поверхности, чтобы оказаться верным и
ухватить то, что только и нужно ухватывать историку, если он
желает уяснить тот или иной конкретный феномен. Становится
второстепенной, уходит в тень как раз особенность данного
феномена.
Впрочем, кому что интересно... Осел похож на лошадь, и вот
исследователь осла умно толкует о том, что это - маленькая уп-
_ 134
О культурно-историческом смысле "Я" в "Исповеди" 6л. Августина
рямая лошадь с длинными ушами. Идя дальше по пути
сближений, в поисках все более универсальных признаков, мы
объединим осла и лошадь - со свиньей или львом. И верно! -
млекопитающие. Так приходят к понятию животного и, наконец, к
понятию жизни. Правда, перечень отличий осла, скажем, от
инфузории гораздо более пространный, чем от лошади, а все-таки
во всем живом (включая, безусловно, человека) есть нечто
ослиное. Прекрасно! Но, может быть, установив - и это страшно
любопытно и важно - что все на свете похоже на все на свете
(хотя бы на уровне элементарных частиц), мы затем
потихоньку двинемся в обратном направлении? И уясним, наконец, что
же в ослята такого, что свойственно лишь этому святому
животному, что такое самое ослиность?
Неловко за случайную грубоватость пояснительного
сравнения, но - и в блаженном Августине хотелось бы понять
именно августиново. И кажется очевидным, что понятие "личность"
и пр. не дает ключа к автору "Исповеди", к его взгляду на то,
что есть отдельный человек, в чем основания и где пределы V:
словом, к историко-культурному типу личного самосознания.
Зато, вводя при чтении "Исповеди" это наше понятие (а
иначе и невозможно, мы никак не в состоянии - и незачем! -
"забыть" о нем, "вжиться" в иную культуру до самозабвения),
мы узнаем нечто новое и ценное об Августине, а также о нас, и
само понятие, которому чужда и противится "Исповедь", таким
образом, уточняется, разгорается, осмысляется ярче. Мы - как
смыслящие - меняемся. Меняется и Августин, попав в
ситуацию, где ему внемлют совершенно невообразимые аборигены в
конце XX в. Впрочем, я вновь, разумеется, пересказываю
Бахтина...
Некто Дарий просил гиппонского епископа прислать ему
"Confessiones". Августин присовокупил к испрашиваемой
рукописи эпистолу, в которой, между прочим, говорится:
"Итак, вот книги, которых ты пожелал, книги моей
исповеди. В них ты увидишь, каков я, чтобы не хвалить меня более,
чем я того стою; в них ты найдешь не то, что обо мне думают
другие, но что думаю я сам; в них ты рассмотришь меня и
узнаешь, что такое был я внутри себя и для себя самого (quid fuerim
in me ipso per me ipsum). И если тебе что-либо во мне
покажется заслуживающим похвалы, восхвали за это - вместе со
135 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЯНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
мной - Того, чьего одобрения внутри себя я хотел бы
снискать - но не меня самого. Ибо сказано: "Это Он возделывает
нас, но не мы сами возделываем себя" (Ipse fecit nos et non ipsi
nos). Мы же только разрушаем себя (или: теряем, ввергаем в
погибель, perdideramus nos). Но Тот, кто создает (нас), (Он же)
и воссоздает (qui fecit, refecit)... молись же за меня, чтоб не
умалялся, но восполнялся, молись, сын мой, молись..." (Epist.
CCXXXI). Историку нечего к этому добавить. Разве что:
"Amen".
Ради чего Абеляр
написал автобиографию
1
ЕСЛИ два сочинения, Абелярову "Историю моих
бедствий" (между 1132-1136 гг.) и "Письмо к потомкам"
Петрарки (1367-1370), мы действительно вправе отнести к одному
жанру, считать "автобиографиями", а формально это, конечно,
так, тем любопытней будет наблюдать радикальное различие
культурных смыслов и оснований, по которым люди вообще-то
могут приниматься за свое жизнеописание.
Наших авторов отделяли друг от друга немногим более
двух веков. Рутинная историческая ситуация повсеместно (во
Франции, на родине Абеляра, ставшей и для Петрарки второй
родиной, но также и в Италии) в целом по-прежнему
относилась к одному культурному типу, т. е. к зрелому
западноевропейскому средневековью. Однако же если рассказ о себе
злосчастного магистра, при всей гениальной "нетипичности" этого
памятника, все-таки и впрямь средневековый, то эпистола
Петрарки свидетельствует о беспримерной и всемирно значимой
культурной мутации. Почти невозможно поверить, что такое
изменение поначалу было осуществлено творчеством
отдельного человека, пусть, само собой, имевшего предшественников,
исходный мыслительный материал, сочувственное окружение, а
все же сделавшего всечеловеческий шаг в одиночку... Но это
так. Это столь же неоспоримо, как и, допустим, создание лично
Мухаммедом мировой религии.
137 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙП О СЕБЕ"
По всей Европе еще длился традиционный тип сознания, но
подошли сроки. И книжник, которого теперь принято
именовать "первым гуманистом", посвятил жизнь некоему
экспериментальному духовному усилию, служащему своего рода
герменевтическим ключом не только к начинавшемуся
Возрождению, но и ко всей последующей европейской культуре.
Поэтому сравнивать две эти автобиографии - задача
немногим более законная, чем сопоставление, скажем, "Дафниса и
Хлои" с "Избирательным сродством" или тем более "Красным и
черным", т. е. эллинистического "романа" и настоящего романа
Нового времени. Тут не столько долгая эволюция жанра,
сколько разные жанры.
Если жанр, подобно всякой вообще культурной форме, есть
не что иное, как явленный способ мироотношения (или "стиль",
или "логика", или "поэтика", как бы эту явленность ни
называть), если жанр - общепринятая, типовая, матричная
архитектоника думания и сознания, иначе говоря, некая духовная
содержательность, доведенная до твердой предопределенности,
тогда автобиографии Абеляра и Петрарки придется развести по
принципиально разнящимся культурно-жизненным мирам.
Они некоторым решающим образом оспаривают друг друга.
Предметом смыслового противостояния оказывается именно
существо жанра: его универсальные основания, его сверхзадача.
Когда индивид, начав с родителей, места и времени своего
рождения, принимается последовательно воссоздавать историю
своей жизни, перед нами, конечно, автобиография. Но еще не
жанр. Так же, как письмо от одного человека к другому еще не
жанр. Или повествование с любовной фабулой, с воинской
фабулой тоже не жанр. Это лишь вечные онтологические поводы
для жанровых образований.
2
Самоописание индивида - один из таких
антропологических, сверхисторических поводов, начиная с какой-нибудь
высеченной в камне устрашающей ритуальной царской
похвальбы (брюсовская стилизация: "Я, царь царей и царь Ассар-
гадон" и пр.) и кончая "Охранной грамотой" Пастернака.
Вокруг каждого сквозного для всех земель и эпох вечного повода,
138
Ради чего Абеляр написал автобиографию
социально-антропологической потребности - возникают,
устаревают, разлагаются, сменяются особенные жанры, в более
тесном, конкретно-историческом значении. С этой
(логико-культурной) точки зрения автобиографии Абеляра и Петрарки
различаются основаниями самой выделенное™ индивида -
субстанциональным оправданием автобиографизма как такового.
В качестве кого "Я" говорит о себе? Кто и для чего должен
его услышать? Какова его непосредственная, но также,
возможно, заложенная в исторической подоснове и ощущаемая в
качестве абсолютной цель? Из какого представления о наилучшем и
почетнейшем положении отдельного человека в мире исходит
автор? Какая регулятивная идея отношения между индивидом
и всеобщностью движет его пером? Как эту идею могли бы
истолковать мы, по необходимости сопоставляя с собственными
понятиями "личности" и "индивидуальности", с позднейшим
культурным опытом?
3
От ответов на такие будто бы отвлеченные вопросы
зависит понимание подлинной (со стороны сверхзадачи)
функции эмпирических и внешних элементов текста, будь то
композиция, шаблонные риторические приемы изложения, общие
места, или уровень конкретности при описании событий, или
личная окраска, - все то, что принято относить к "психологии"
автора. И вот жизнеописания Петрарки и Абеляра оказываются
при таком подходе поучительно непохожими также и в тех
пунктах (даже, пожалуй, именно в них), когда по видимости
совпадают. Это-то интереснее всего.
В самом деле, признаков близости между обоими
сочинениями вполне достаточно. Оттого, кстати, и нагляден культурный
сдвиг - если под "культурой" разуметь способность к
подобному сдвигу, к творческому переиначиванию, к самоизменению1.
4
Оба сочинения написаны в условно-эпистолярной
форме (у Абеляра это "утешительное письмо к другу", почти
наверняка воображаемому). В обоих случаях перед нами
жизнеописания книжников (litterati), хотя исключительные дарова-
Ш_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
ния каждого из авторов направлены на разные предметы,
поскольку логик и богослов Абеляр был у истоков схоластики, а
Петрарка относился уже к "диалектике" свысока, как к чему-то
варварскому и изжитому. Хотя круг латинской начитанности
поэта и ритора, в особенности же его вкусы и пристрастия, кое в
чем изменились, да и латынь, на которой писал Петрарка, тоже
существенно иная, все же оба с любовью припадали к Цицерону,
или Сенеке, или Овидию, или Вергилию, да и, разумеется, к
патристике, и подчас вспоминали одни и те же строчки. Между
прочим, иные тексты, которые Петрарке пришлось открывать
для своего века заново, во времена Абеляра еще не были
затеряны, например письма Цицерона. И Абеляр занимался греческим
и древнееврейским, которые для Петрарки так и остались за
семью печатями. В этом (формальном) плане нетрудно понять,
откуда в историографии возникло понятие "Ренессанса XII века."
Особенно замечательно то, что Петрарка и Абеляр
обозначают свое поприще отчасти в совпадающих выражениях, хотя и
вкладывая в эти античные топосы более или менее различное
содержание. Оба они сознают в себе, говоря словами Абеляра,
величайшую природную склонность "к словесности" ("ad litte-
ratorium disciplinam", "studium litterarum"), "одержимы
любовью к словесности" ("tanto litteras amore complexus est")2. Оба
автора преисполнены именно интеллектуальным (ученым,
сочинительским и наставническим) честолюбием, сознают свое
огромное превосходство над современниками. Это-то особое
честолюбие и заставило их писать о себе.
Оба взялись за автобиографию на склоне дней, отнюдь не
считая свою деятельность исчерпанной: Абеляр - в середине
шестого десятка, Петрарка - к 63 годам. Оба, наконец,
полагали, что, отдав в молодости дань греховной человеческой
природе, вправе настаивать на своей высокой моральной репутации.
5
В довершение, казалось бы, лежащей на поверхности
их общности: один из них был хорошо знаком с
автобиографическим опытом другого и, если их задачи лежали в пределах
того же жанра, должен бы посчитаться с ближайшим
предшественником. Известно, что Роберто деи Барди - друг, споспеше-
140
Ради чего Абеляр написал автобиографию
ствовавший в свое время предложению университета Сорбонны
о короновании поэта, предложению, инспирированному самим
Петраркой, дабы тем внушительнее отклонить его и
предпочесть для этой цели Парижу Рим, - так вот этот Роберто
прислал ему рукопись с Абеляровой исповедью (и перепиской с
Элоизой). На знаменитой рукописи, сохранившейся и
впоследствии вернувшейся в парижскую Национальную библиотеку
(под шифром Ms lat. 2923), спустя шесть с половиной веков
можно увидеть пометы, сделанные рукой Петрарки...
Он читал сочувственно и заинтересованно. Напротив фразы
о том, сколь мучительнее и унизительнее телесного увечья урон
для доброй славы из-за клеветы ("...plus ex detrimento famae
quam ex corporis crucior diminutione"), - маргиналия Петрарки:
"Proprie" ("именно так"). Абеляр упоминает, что вывалился при
езде из повозки и повредил себе шею; Петрарка помечает: "et
me nocte" ("и я ночью"; поэт упал с лошади 23 февраля 1345 г.).
А рядом с тем местом, где Абеляр повествует, как в Бретани,
бедствуя "на краю земли", вблизи океана, он часто молился
Господу словами псалма: "Взываю к Тебе от края земли в унынии
сердца моего", - Петрарка пишет: "efficaceter et pie"
("действенно и набожно")3.
б
На странице, где Абеляр рассказывает, как он
удалился в пустынь и там "проживал в уединении от людей с одним
клириком", и как основал молельню Параклет, и что за сим
воспоследовало, и почему философу подобает укрываться от шума
и людей, Петрарка неспроста помечает: "уединение". Он,
разумеется, припасал впечатления от прочитанного для собственных
замыслов. Позже поэт в трактате "Об уединенной жизни"
выделит и оценит именно это место. Вот упоминание у Петрарки об
Абеляре и его автобиографии: "Добавлю к именам многих
древних еще одного, не столь далекого от наших времен, о коем
иные, как я слышу, полагают - не знаю, правильно ли, - что был
он нетвердой веры, но это человек незаурядной одаренности по
имени Петр Абеляр. Как он сам подробно поминает в истории
своих бедствий, он, спасаясь от зависти, укрылся в глуши Труа в
поисках уединения. Однако туда со всех сторон к нему стека-
141 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
лось множество ученых людей, коих из многих городов
привлекла слава знаменитого учения этого отшельника - чтобы стать
его учениками. Поэтому он так и не обрел желанного покоя, и
его по-прежнему преследовали зависть и упорная ненависть"4.
Итак? Нет ничего проще, чем поставить автобиографии
обоих в один ряд как уникальные и вызывающие попытки
профессионального и личного самоутверждения, как памятники
средневекового и раннеренессансного европейского
"индивидуализма" XII и XIV в., которые вплоть до наших дней вряд ли
превзойдены по силе и дерзости.
Однако... ведь это произведения на самом деле
поразительно непохожие. То, что Бахтин называл "памятью жанра", тут
словно бы дает сбой. Внешне "психологически" сходный и
одинаково острый у обоих авторов эгоцентризм - или качество,
воспринимаемое так нами, - лишь способен затемнить
культурно-историческое отличие.
Кто-нибудь непременно спросит: а почему, собственно,
отличие важнее для историка, чем подобие? Ведь, что бы ни
говорилось (начиная с Риккерта и других неокантианцев), кроме
сугубо индивидуальных черт исторического феномена,
существует всегда и общее - хотя бы в том плане, который рассмотрен
в логике самого Абеляра... Причем чем дальше отодвинуться
хронологически или географически, тем больше всякие
различия сближаются, даже оптически совмещаются в одной точке,
как миры на звездном небе. Если смотреть, допустим, из
Японии тех же XII—XIV вв. или, напротив, из Европы XX в. -
разве Абеляр и Петрарка не накладываются друг на друга, не
совпадают в очевидно и объективно общем для обоих? И разве
возможность нахождения общего, сама процедура вынесения за
скобки не есть сертификат научности?
7
Для нашей науки дело все же обстоит заметно иначе.
Я, конечно, не способен сказать что-либо новое относительно
этой старинной и неизбывной эпистемологической коллизии.
Но известно, что чем выше уровень обобщения, чем
решительнее и больше оно покрывает времени и пространства, тем
бессодержательнее оказывается как раз с исторической точки зрения.
_ 142
Ради чего Абеляр написал автобиографию
Заветное стремление историка состоит все-таки в том, чтобы
как можно ближе, вплотную подойти к отдельному событию
или тексту и оценить его в индивидуальной полноте и
своеобразии. Однако это в свой черед означает не упустить
исторический окоём, в котором находит место этот конкретный
феномен. Если феномен не видится именно в горизонте эпохи, не
поставлен в некую широкую связь, то и своеобразие теряет
границы, обессмысливается, стирается. В свою очередь, любая
"эпоха" есть некое отношение многих своеобразий, формула такого
отношения или, как выразился бы Макс Вебер, "способ
упорядочивания эмпирической реальности". Так что - во всяком
случае если иметь в виду историко-культурную науку - речь не о
двух исследовательских задачах, но об одной и той же, впрочем,
парадоксально двоящейся.
"Средневековье", "Возрождение", "европейский
индивидуализм" и т. п. - выведенные нами из реальности, т. е., стало быть,
не принадлежащие ей непосредственно, условно-реальные
конструкции, необходимые для понимания, допустим, Абеляра или
Петрарки, "идеальные типы". Однако понять-то в конце концов
можно и важно только тех же Петрарку и Абеляра, только их
произведения: возвысившись через абстрактное к конкретному.
Понимание же сразу делает суммарные, обобщенные
оценки двух автобиографий, взятых вместе, через головы авторов -
неинтересными и, следовательно, неверными. В гуманитарной
сфере такое странное "следовательно" не прихоть, но оправдано
сутью и целью, изучением чужого (инакового) сознания.
Поскольку "неинтересно" лишь то, в чем нет смысла.
Смысл же всегда (см. у М.М. Бахтина) особенный и новый.
Ответы, заготовленные, как это часто бывает, историками
впрок, на самом деле никакие не ответы. Ведь они не
предполагают вопросов... В этой сфере пред-ъзятое с необходимостью
бес-смысленно.
8
Внимание современного читателя привлекает в
историко-культурном тексте при первом взгляде то, что выражено
весьма экзотично и красочно, но по психологическому
существу вместе с тем легко узнаваемо, близко. Или кажется таковым.
w_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
Вот два эпизода у Абеляра, из числа лучших в этом плане.
Во время собора в Суассоне к нему явился реймсский магистр
Альберик в сопровождении своих учеников и затеял спор по
поводу утверждения в трактате Абеляра о Троице, что, хотя Бог
родил Бога, и притом Бог един, все же это не означает, будто
Бог родил самого себя. «Я ему тотчас ответил: "Если желаете,
приведу насчет этого разумные основания (rationem proferam)".
"Нет нам дела, - говорит он, - до человеческого разумения и
ваших доводов (sensum vestmm), в таких вопросах решают
только слова авторитета". Я ему: "Перелистайте, говорю,
страницы книги и найдете авторитет"*. "Книга" (видимо, сборник
извлечений из отцов церкви) была под рукой, принесенная
Альбериком, и Абеляр тут же принялся искать нужное ему
место из трактата Августина, которое Альберик "то ли вовсе не
знал, то ли упустил, потому что интересовался лишь тем, что
могло бы послужить мне во вред. Богу было угодно, чтобы я
быстро нашел то, что хотел". И прочел вслух: "Кто полагает,
будто Бог способен породить самого себя, тот грубо
заблуждается" и пр. «Услышав это, его ученики, бывшие при сем, были
ошеломлены и залились краской. Сам же он, дабы как-нибудь
защититься: "Это надлежит, - сказал, - еще как следует
разобрать (bene, inquit, est intelligendum)V Тем самым
растерявшийся реймсский книжник окончательно подставился, и
Абеляр не замедлил этим воспользоваться: разве не сам же
Альберик требовал предъявить "только слова [авторитета], но не
доводы (verba tantum, non sensum requisisset)"? Впрочем, он,
Абеляр, готов доказать и по существу, что Альберик "впал в ересь,
согласно которой отец является собственным сыном". Альберик
пришел в ярость и с угрозами, что "меня в этом деле не спасут
ни мои доводы, ни авторитеты", ретировался (р. 193-194).
Рассказывая, Абеляр явно наслаждается, как Альберик
попался в собственную ловушку и как он его срезал своим
интеллектуальным перевесом: находчивостью, начитанностью и
памятью. Сразу виден человек блестящий, упорно рациональный,
самолюбивый.
9
Возможно, еще более замечателен с тачки зрения
индивидуальной психологической остроты и на наш нынешний
_ 144
Ради чего Абеляр написал автобиографию
вкус другой случай. После того как на Суассонском соборе
Абеляра заставили бросить собственными руками в огонь дорогое
ему и злополучное сочинение о Троице, заточили автора "в
монастырь святого Менарда, словно в тюрьму", а затем отослали в
прежний монастырь Сен-Дени, монахи которого давно
ненавидели нашего богослова, изобличавшего их нравы, произошло
следующее (р. 197-198).
"Миновало всего несколько месяцев, и судьба дала им
повод домогаться моей погибели. Ибо однажды мне при чтении
случайно попалось на глаза некое замечание Беды... что
Дионисий Ареопагит был скорее не афинским, а коринфским
епископом". Между тем в монастыре было принято считать, что его
основатель, святой Дионисий, поскольку якобы некогда занимал
епископскую кафедру в Афинах, и есть тот самый, знаменитый
Дионисий Ареопагит. "Когда я обнаружил свидетельство Беды,
которое опровергало нашу братию, то показал его, как бы шутя,
кое-кому из находившихся неподалеку монахов" (курсив мой. -
Л. Б.). Ничего себе шуточка! Те, натурально, вознегодовали и,
назвав Беду "самым лживым из писателей", объявили более
достоверным свидетелем местного аббата Хильдония, автора
жития св. Дионисия, который собирал на сей счет сведения в
Греции. Однако Абеляр заявил, что авторитет Беды, признанный
латинской церковью повсеместно, следует предпочесть
местному книгочею Хильдонию...
10
Разразился неизбежный скандал. Между прочим, дело
кончилось тем, что Абеляра решено было заточить и стеречь,
пока король не согласится наказать его за то, что, отрицая
патронат Ареопагита над монастырем Сен-Дени, он лишил все
королевство и лично короля особенной чести и славы... Абеляру
пришлось тайно бежать ночью... после чего он в конечном счете
поселился отшельником в Труа и основал молельню Параклет...
Так что эта выходка насчет Беды послужила толчком к одной
из важнейших перемен в жизни философа.
Любопытнее всего, что на обвинения монахов Сен-Дени
Абеляр отвечал (не без издевки): да ведь это вовсе не он (а
Беда) отрицает ("пес me hoc denegasse"). "И что за забота (или: и
145 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
не так уж это важно, пес multum curandum esse), был ли это
Ареопагит или кто другой, если только он удостоился Божьего
венчания".
Но если "что за забота", то какого черта Абеляру
понадобилось "как бы шутя" совать эту "случайно попавшуюся на глаза"
фразу Беды, ничего не значившую для интеллектуальных
интересов магистра, под нос монахам св. Дионисия, строившим на
эрудитской ошибке свои амбиции? Приходится признать, что
манера неудержимо бросать вызов и демонстрировать свое
превосходство над братьями во Христе была у этого человека, что
называется, в крови. И он, продолжая после уже вызванного им
скандала с удовольствием дразнить монахов, доводит этот
маленький триумф своей начитанности едва ли не до собственной
погибели: словно Иосиф Прекрасный, брошенный в яму
завистливыми братьями не то чтобы за дело... но и, по версии
Томаса Манна, не вовсе безвинно.
11
Помимо понятного желания и неожиданно
представившегося случая насолить монахам Сен-Дени, в этой истории
слишком заметен привкус своего рода ученой заносчивости.
Всю жизнь Абеляр отказывался идти на уступки там, где
логика и осведомленность не давали оснований отступать. Такие
уступки подорвали бы то, что было источником, само собой,
личной гордыни, но также относилось к его profession de foi, к над-
личному представлению об истине и вере. На этой
многозначительной взаимопронизанности личного и
социально-культурного нам и следует сосредоточиться.
Тут индивидуальная "психология" не то чтобы кончается,
но перетекает в эпохальные культурные матрицы, обретает в
них форму и подлинную реальность, сдвигает эти матрицы с
рутинных мест, придает им проблематичность - и, собственно,
сама рождается впервые в качестве психологии конкретного
исторического индивида.
12
Не составило бы труда прочитать автобиографию
Абеляра так, как если бы он явился впрямь в роли какого-то ман-
_ 146
Ради чего Абеляр написал автобиографию
новского Иосифа. Разве он не был тоже любимцем отца,
постаравшегося дать ему наилучшее образование? Разве не так же
легко давались ему науки, не привык и он с юности блистать и
первенствовать "в лоне Минервы", предоставив родным
братьям успехи хозяйственные и ратные? Разве зависть и клевета
одних не главный мотив и причина истории его бедствий? А
восхищение других не источник параллельного главного мотива
автобиографии, т. е. повсеместной славы Абеляра? "Высшее -
зависти цель, бурям открыты вершины", - цитирует он Овидия.
Его искушал и вел за собой высокий соблазн, чувство особого
превосходства и удачливости. В результате его жизнь - череда
беспримерных возвышений и унижений. Как Иосифа, хотя это
история совершенно иного рода, его сбросила в бездну встреча
с женщиной, для которой он был молод и прекрасен. Можно бы
довольно долго расшивать по этой канве.
Проблема, однако, в том, чтобы от неизбежно
поверхностных "психологических" впечатлений перейти к наблюдениям
историко-культурным.
Когда на Суассонском соборе от Абеляра потребовали,
чтобы он прочел вслух символ веры Афанасия - "что мог бы
равным образом сделать любой отрок", - магистр был глубоко
унижен (р. 196). "И чтобы я не вздумал отговориться незнанием
этих слов - как будто я не привык их твердить наизусть! -
было велено принести книгу". Абеляр вспоминает, что читал,
"вздыхая, всхлипывая и в слезах". Почему он плакал? Прежде
всего потому, что с ним обошлись как с еретиком. Далее,
конечно, потому, что его третировали как начинающего школяра.
13
Но и глубже? Было поругано его представление о том,
чего следует ждать от серьезного проповедника вроде него: сам
способ веровать. Ведь он-то "встал, чтобы исповедать и
изложить, како верую (ad profitendum et exponendam fidem meam),
чтобы выразить свои [набожные] чувства собственными
словами (verbis propriis)". Вместе с личной самооценкой оказались
задеты и необходимые, по мнению Абеляра, условия истинной
веры и неизбежно, следовательно, сама эта его вера, все вместе
и неразрывно.
Й7_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
Ибо - и с этого начинается, по сути, суассонский эпизод,
едва ли не центральный в "Истории моих бедствий", это его
смысловое обрамление, это ключ ко всему, что затем
произошло, - Абеляр сочинил "О божественном Единстве и
Троичности", желая "рассудить о самом основании нашей веры,
применив прежде всего уподобления, доступные человеческому
разумению". Ученики "требовали человеческих и философских
рацей и настоятельно просили того, что может быть понято, а
не только сказано; они говорили, что незачем приводить слова,
за коими не следует истолкование, и что нельзя во что-либо
уверовать, предварительно этого не уразумев, и смешно
проповедовать другим то, чего не в силах постичь ни слушатели, ни
сами проповедники. И Господу неугодно, чтобы поводырями
слепцов были слепцы" (р. 192).
Этот знаменитый рационализм Абеляра есть возгонка его
личных склонностей до уровня вполне общезначимой
установки, которая вскоре станет эпохальной. И напротив, такое
понимание веры - корень того, что мы склонны воспринимать как
индивидуальную психологическую окраску пережитой
Абеляром трагедии.
14
В наше время человек с таким складом ума, как у
нашего магистра, скорее всего, стал бы "ученым" - в том новом и
специфическом смысле, каковой это слово получило после
XVII в. В начале XII в. подобная одаренность, разумеется, с
несравненно большим трудом могла найти общественную
санкцию, и даже занятия философией и богословием не давали
подобному вызывающему интеллектуализму готового русла.
Человек, противопоставивший авторитетам, у которых в ответ на
любой вопрос отыскивались "Да" и "Нет", способность к
жесткому и независимому дискурсу, - подобный человек был
приуготовлен к трудной и необычной, т. е. "индивидуальной",
судьбе.
И вот ее формула: "поп esset rationi adversum licet consuetu-
dini incognitum" - "это не было бы противно разумению, хотя и
не заведено обычаем" (р. 202). Иначе говоря, индивидуальность
Абеляра была осуществима лишь в виде зарождающегося разу-
_ m
Ради чего Абеляр написал автобиографию
ма схоластики, в створе XII и XIII вв., на месте будущего
Латинского квартала, на почве вероисповедных диспутов, из
распри между "номиналистом" Росцелином и "реалистом" Гильо-
мом из Шампо, двумя учителями Абеляра.
15
Сентенция о разумении и обычае заключает рассказ
об основании Абеляром часовни Параклет - а ведь это особое
событие, в котором сошлись едва ли не все нити его биографии.
После злоключений в монастырях в Параклете он наконец-то
обрел нечто вроде своего монастыря: не только безопасное
убежище, но и общину учеников, и вероутешительную опору.
Пригласив затем переселиться в Параклет Элоизу с верными ей
сестрами во Христе, и подарив им молельню, и навещая там в
качестве духовника ту, которая была в миру его возлюбленной и
женой, Абеляр подвел таким образом черту под историей и
этого "бедствия". В Параклете завязаны в узел обе линии
воспоминаний - та, что сконцентрирована в парижской личной
катастрофе, и та, что связана прежде всего с осуждением на Суас-
сонском соборе и последующими преследованиями опального
монаха.
Надо сказать, что Абеляр не только совершенно
сознательно стремится соединить эти две линии и в своей жизни, и в
тексте автобиографии. Но и более того: только из их - довольно
странного на позднейший вкус - смешения, только из связи,
кажущейся автору вполне очевидной, между упоевавшей его в
молодости магистерской славой и романом с Элоизой, между
кастрацией и переходом к занятиям богословием, между
злодеянием Фульбера и обвинениями в ереси, между правоверным
пониманием никейского догмата об Едином Боге в Трех Лицах и
его, Абеляра, завидным способом преподавания - только из
всего этого вместе и нераздельно могла явиться задача
"Истории моих бедствий", ее сплошь дидактическая структура, ее
жанровая ткань. И, чтобы уяснить, как вообще была
исторически возможна индивидуальность Абеляра, где ее
логико-культурные основания и границы, надобно сперва принять в
качестве твердой посылки, что сюда относится не только то, что мы
склонны относить к индивидуальности, но решительно каждая
149 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
строка в "Утешительном письме к другу", целостный строй абе-
лярового сознания.
И уж конечно, такое важное обстоятельство, как
вызывающе непривычное название молельни: Параклет. Название было
поступком. И Абеляр сообщает, что "многие, услышавшие о
том, восприняли не без большого удивления, а кое-кто весьма
поносил за это" (р. 201). Ибо "Утешителем" обычно называли
Святого Духа, и дело выглядело так, что Абеляр посвятил храм
именно Духу, а между тем издревле храмы посвящали либо
Сыну, либо целокупной Троице.
16
Замечательно, как Абеляр отвечает на это обвинение.
Сначала он пишет, что оно совершенно ошибочно, поскольку
Параклет ("Утешитель") не есть то же самое, что Дух-Параклет.
Ибо, по речению апостольскому (из Второго послания к
Коринфянам), Бог-Отец есть "Бог всяческого утешения, который
утешит нас во всяком терзании нашем", а в Евангелии от Иоанна
"Утешителем" назван Христос. Следовательно, Параклет,
вообще-то говоря, означает любую из ипостасей.
Но... далее Абеляр вдруг принимается доказывать, что храм
может быть посвящен и отдельно Богу-Отцу, причем даже с
большим основанием, чем Христу, поскольку если Сын принес
себя в жертву Отцу и литургия в особенности обращена к Отцу,
то логично жертвенник посвящать тому, кому приносится
жертва, а не тому, кто приносится в жертву... Но еще оправданнее
ставить храм Святому Духу, т. е. именно тому лицу Троицы,
действию коего принадлежат благодать крещения и всякая
ниспосылаемая во храме благодать. Дорассуждавшись до этого
пункта, Абеляр, впрочем, повторяет сказанное в самом начале
этой краткой и насыщенной защитительной проповеди: он не
думал обо всем этом, когда называл молельню, освященную во
имя Троицы, Параклетом, он не собирался посвящать ее
специально какой-либо из ипостасей Троицы, а просто дал храму это
имя в память о ниспосланной ему в этом месте, на тихом берегу
Ардюссона, божественной благодати.
Очевидно, на самом деле Абеляр все же имел в виду нечто
неортодоксальное: то, что он отстаивает здесь с немалой схола-
_ 150
Ради чего Абеляр написал автобиографию
стической изощренностью. Он напирает с третьим лицом
Троицы, мало кому интересным в своей отвлеченности и
загадочности: не Деву, не Иисуса, даже не Бога-Отца, человечески
понятных и почитаемых, привычных, а именно наиболее теологичную
ипостась единого Бога берет в свои покровители этот
страстный "диалектик". А пожалуй, аргументация развернута также
из желания показать, каким рациональным способом можно
было бы обосновать посвящение храма Святому Духу, т. е. из,
так сказать, логического зуда. Итак, или название молельни
есть результат "концептуалистских" теологических построений
Абеляра, или оно вздох облегчения и умиления. Но притом в
любом случае монах не удержался от прекрасного повода
поспорить] Во всяком случае буквально из текста следует именно
последнее.
Тут-то мы и читаем в заключение всего эпизода: "...даже
если бы мы так поступили по причине, которую предполагают,
все же это не было бы противно разумению, хотя и не заведено
обычаем...".
17
Между прочим, в одном из поздних писем Абеляра к
Элоизе, где уже нет ни малейших отзвуков личных объяснений
между ними, но содержится его исповедание веры ("fidei confes-
sio"), где старый магистр отрекается от философии, оставаясь
при теологии (не с Аристотелем, а лишь с Христом... "не желаю
быть философом, ибо тогда я отринул бы Павла"), где Абеляр
вновь заявляет, что верует в Троицу "in personis" и в единого
Бога "in substantia", где он изобличает Ария, который, умаляя
Сына пред Отцом, устанавливал в Троице степени
божественности ("gradus in Trinitate"), - автор "клятвенно исповедует,
что Святой Дух во всем равен и со-субстанционален Отцу и
Сыну"5. Так что пассаж насчет допустимости посвящения
храма Святому Духу во всяком случае соответствовал и более
ранним и более поздним взглядам Абеляра относительно трехипо-
стасного единства божества - и в целом его логическому
учению.
В тех местах "Истории моих бедствий", которые написаны
в форме ученых рассуждений, т. е. в жанре трактата, а к чис-
151 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙП О СЕБЕ'
лу таких мест нужно отнести прежде всего большие куски
насчет несовместимости для философа любомудрия и семейной
жизни, насчет евнухов и пр., дважды Абеляр излагает
правильное понимание проблемы ипостасности. И тут тон трактата
скорее приближается к тону проповеди: Абеляр, толкуя
фундаментальное решение Никейского собора, наставляет в
правоверии.
Таинственный христианский символ веры, согласно коему
Бог един в трех Лицах, а Сын одновременно и вполне Бог, и
Человек, послужил, как известно, неисчерпаемым источником
соблазнов и ересей, и мистики, и умствований. Этот догмат был в
центре наиболее важных столкновений - с арианами и монофи-
зитами, - и, собственно, прежде всего именно он дал импульс
для появления реализма и номинализма, т. е. для зарождения
самой схоластики. Пожалуй, только в христианстве поэтому
изначально такой напряженной оказалась коллизия между
простодушной верой, непосредственным и доверчивым
созерцанием Истины и ее разумением, логическим дискурсом.
Знаменитая формула Тертуллиана превосходно выражала исходную
апорийность, гарантируя споры на тысячу лет.
Но схоластический рационализм, как и всякий иной, по
необходимости предполагал развитую личную способность к
разумению. Следовательно, христианский персонализм получает
уже в ранней схоластике (посредством, конечно, античной
риторической топики) многообещающее, почти
натуралистическое и в общем светское дополнение к своей ритуальной и мис-
тико-психологической первооснове.
Говоря об Ансельме Ланском (р. 180), Абеляр
противопоставляет (умственную) одаренность (ingenium) плюс "память"
(т. е. в данном случае начитанность, позволяющую легко
пускать в дело нужные ссылки), короче, способность выставлять
богатую аргументацию - пустоте и бездоказательности (ratione
vacuum), преподавательской рутине (longaevus usus). И,
рассказывая о том, как любовная страсть отвлекла его от философии,
Абеляр подчеркивает, что после бессонных ночей читал лекции
без умственного подъема, за счет старых запасов (nihil ex inge-
nio sed ex usu cuncta proferrem), "и всего лишь повторял то, что
было сочинено древними" (jam nisi recitator pristinorum essem
inventorum - p. 184). С другой стороны, его трактат о Троице
_ 152
Ради чего Абеляр написал автобиографию
"всем очень пришелся по душе и удовлетворил вопрошавших
на сей счет. Ибо вопросы эти представлялись крайне трудными,
и чем тяжелей они были, тем больше привлекала тонкость их
разрешения (solutionis... subtilitas - p. 192).
18
Избрав для своей первой лекции по богословию мало-
разработанную, трудную тему (о пророчествах Иезекииля), он
исходил из того, что для лекции о Писании достаточно самого
комментируемого текста и глосс к нему ("и ничего другого не
требуется"). И вот появляется еще один завистник-магистр,
уже на этом новом для Абеляра богословском поприще, и
повторяется та же, так сказать, методологическая контроверза...
"Я же с негодованием отвечал, что не в моем обыкновении
полагаться на то, как заведено, но на способность к разумению
(Indignatus autem respondi non esse meae consuetudinis per usum
proficere, sed per ingentum - p. 180).
Однако топос интеллектуальной изобретательности и
свежести, "ingenium" против "usus", это требование
доказательности, хотя и встречается у Абеляра постоянно (в том числе во
"Введении в теологию", в "Возражении несведущему в
диалектике", в "Диалоге между философом, иудеем и христианином",
в Прологе к "Да и Нет") и хотя именно упрямое логизирование
привело к осуждению Абеляра на соборах в Суассоне и Сансе,
все же это ничуть не переросло в проблему его, Абеляра,
авторской оригинальности (как произойдет у Петрарки). Такая
проблема создателю "Истории моих бедствий" осталась совершенно
неизвестна - и не могла быть известна.
Богословие научает спасению души (salus animae), и, так
сказать, качественность "sacrae lectionis" - залог спасения. То,
что мы охотно назвали бы интеллектуалистским
нонконформизмом Абеляра, всецело выросло из его приверженности
истинной вере, как он ее понимал. Известное и звучавшее на
первый взгляд здраво замечание Энгельса о том, что "у Абеляра
главное не сама теория, а сопротивление авторитету церкви"6,
основано с современной культурологической точки зрения на
ошибочном противопоставлении. То была борьба отнюдь не
ш_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
против авторитарного и догматического мышления, но за
рационализацию догм и углубление авторитаризма.
19
Мистик Бернар Клервоский обвинил Абеляра в
самонадеянных и непозволительных умствованиях, в претензии на
то, чтобы постичь Бога посредством жалкого человечьего
разума, привлекая для этого "измышления философов и
собственные новшества". "И ничто не остается от него скрытым, ни в
адских глубинах, ни во всевышних. И самому себе он
представляется великим, рассуждая о вере противно вере и свободно
бродя среди того, что выше его, среди чудесного и великого,
которое он исследует, измышляя ереси"7. В том же грехе, т. е. в
переносе "диалектических" приемов на область теологии, в
"непривычных новшествах" относительно слов и понятий, хором
обвиняли Абеляра и другие противники, например аббат Гильом.
Но, во-первых, это расхожее обвинение против любого
отклонения от догматов, от благой старины, обычая,
простодушной веры; это всегдашний и необходимый элемент любого
теологического столкновения, любого раскола. Предъявление
Абеляром права на просвещенное и рассудительное толкование
догматов, как и отрицание за ним и за кем бы то ни было
такого права, - это ведь с обеих сторон спор общих мест, И Бернар
тут на стороне одного топоса, а Абеляр или его последователь,
школяр Беренгарий, - на стороне другого.
Во-вторых, личные притязания Абеляра были осуждены не
просто как таковые, но за ересь, притом ересь издавна
известную. Бернар чуть не в каждом своем письме обвинял Абеляра в
следовании сразу трем ересям: Ария, Пелагия и Нестория. (Мы
помним, что Абеляр уличал в арианстве, напротив, своих
оппонентов.) Беренгарий же в "Апологии", конечно, не преминул
обвинить в привкусе ереси самого Бернара. Разумеется, никак не
право Абеляра рассуждать "по-своему" защищал
красноречивый Беренгарий и даже не вообще право рассуждать, но
истинность Абеляровых рассуждений с решающей и единственно
важной стороны, т. е. со стороны вероучительной. Ибо
Абеляр - "сокровищница разумения, труба веры, прибежище
Троицы". Для самого Абеляра, чье "святое письмо" к Элоизе об испо-
_ 154
Ради чего Абеляр написал автобиографию
ведании веры тут же цитирует Беренгарий, логическое
мастерство и "острота моего ума" есть достоинство постольку,
поскольку сим сбережется чистота правоверия8.
Все это слишком очевидно. Да, перед нами действительно
человек с независимым складом ума и характера,
прирожденный логик, однако эта (встречающаяся во все времена и в
любом обществе) негасимая искра подлинной самобытности
остается для современников - и для самого Абеляра, и для его
врагов - не то чтобы вовсе не замеченной, но значимой лишь как
средство то ли приближения, то ли уклонения от предвечной
тайны догмата.
20
Итак, следует помнить, что Абеляр не только не
считал возможным - как это ему приписывали - восставать против
решающей роли авторитетов для мышления и сам опирался
на апостолов, отцов церкви, древних философов, но, напротив,
желал избавить тех, кто обращается к авторитетам, от
сомнений, невежества и разброда. Роль авторитетов, дабы на них
можно было бы надежно полагаться, надлежало
рационализировать. Трактат "Да и Нет" был написан не для внесения смуты
в умы и не для соблазна малых сих, но чтобы предложить
способ такой смуты избегать. Абеляр отвергал тезис Бернара Клер-
воского "верить, а не рассуждать"; он предлагал рассуждать,
чтобы верить.
21
Прежде всего каноничен, незыблем, абсолютен
авторитет Писания, в котором следует относиться с полнейшим
доверием к каждому слову. Если же что-то в нем кажется
несообразным, то это либо ошибка переписчика, либо ошибается
толкователь, либо нам оказалось не под силу Писание понять.
Предполагать что-либо иное было бы ересью. Это же относится
в целом к посланиям апостолов, хотя уже у пророков и
апостолов, т. е. в тех местах Писания, которые не являются полностью
Божественным Откровением, но есть примесь также и
человеческого, может встретиться нечто подлежащее исправлению.
m —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
Тем паче у святых, у позднейших отцов церкви возможны
случайные ошибки или что-либо спорное. Авторы любых книг,
кроме Писания, будучи все-таки людьми, не наделены
абсолютным совершенством, каноничностью. Поэтому они подчас
противоречат друг другу, чего-то не знают, они высказывают
мнения и способны заблуждаться. Следовательно, их авторитет
вторичен по отношению к Писанию и основаниям веры,
допускает свободу читательского суждения, требует от нас вопроша-
ния, исследования, размышления. Все это Абеляр в Прологе к
"Да и Нет" подкрепляет великолепными и авторитетными
разъяснениями на сей счет Августина, Иеронима и др.
Дабы в случаях, когда авторитеты противоречат друг другу
или вызывают у читателя какие-либо сомнения, чтобы стать на
твердую почву, надлежит прежде всего исходить из иерархии
авторитетов, предпочитая более древние или более славные и
весомые. Далее принадлежность иных книг почитаемым
авторам апокрифична. Кроме того, указывает магистр Абеляр,
следует учитывать языковые семантические трудности,
многозначность слов, разницу в их употреблении, нередко
приспособленном к пониманию малообразованных людей, однако имеющих и
более утонченные значения. Не только одни и те же слова
употреблялись разными авторами в разных значениях, но и
некоторые суждения принадлежали вовсе не самим отцам церкви, а
цитируемым ими - ради эрудитской полноты - другим
писателям, в том числе языческим. И это неплохо, почему бы не
выслушать всех, ведь сам Господь в двенадцатилетнем возрасте,
хотя и обладал уже совершенной божественной мудростью,
воссел меж учителями и показал тем самым ценность вопроша-
ния...
Короче, соблюдая иерархию канонических и авторитетных
текстов, умея разобраться в спорных и сомнительных случаях,
мы только и сумеем пользоваться авторитетами как следует.
Разумное исследование - ценное и необходимое подспорье для
веры. Таковы сполохи католического будущего. "Новатор"
Абеляр, со своим провидческим схоластическим толкованием
соотношения между догмой и личным разумением, выступает
против "архаиста" Бернара Клервоского. Он, неоавторитарист,
терпит поражения - это бывает с новаторами, - но зрелая
средневековая догматика XII в. утвердит в качестве официальной
_ m
Ради чего Абеляр написал автобиографию
именно ту форму ученой, просвещенной авторитарности,
которую уже в первой половине XII в. начал отстаивать наш
магистр. (А мистицизм - Иоахима Флорского или Франциска
Ассизского - станет в свой черед духом низовой
оппозиционности, т. е. скоро все перевернется и едва ли не поменяется
местами.) Так и должно было, очевидно, произойти в быстро
урбанизирующейся Европе. Впрочем, пафос абелярова
вероисповедного рационализма - звено во внутрихристианском споре,
длившемся столько же - повторим еще раз, - сколько и само
христианство. В этом вечном споре рационализм и мистика -
универсальные то "Да" и "Нет", то "Нет" и "Да". Конечно, в
церковных обстоятельствах своего времени Абеляр говорил
вызывающее "Нет". А все-таки силу этому "Нет" придавало насыщавшее
его - иное - "Да".
22
Прежде чем продолжить обдумывание смыслового мы-
ра> открывающегося нам в абеляровой автобиографии, надо как
можно более ясно обозначить ту сквозную исследовательскую
задачу, которую я собираюсь постоянно держать в уме, то входя
в текст и двигаясь сообразно его неявной логике вслед
странным извивам и связкам, то выходя из текста, чтобы попытаться
окинуть его целое остраняющим нынешним взглядом.
Мы памятуем, что абелярова "История" в наивысшей
степени уникальна, что другого столь же "индивидуального", лично
окрашенного рассказа о своей жизни не сыщется за века и века,
между Августином и Петраркой. Это-то нам в данном случае и
надобно для понимания эпохи... и, если угодно, "средневекового
типа западноевропейской культуры".
Я пробую проделать нечто подобное на более чем близком
материале переписки между Элоизой и тем же Абеляром (см.
следующий раздел). Любопытно вот что (но, однако же,
совершенно естественно, неизбежно, и предположить можно было
заранее): если метод исследования остается тем же и проходит в
данной работе очередную проверку, то методика (как войти в
смысловую архитектонику источника, посредством каких
эвристических ходов и понятий ее реконструировать, как
"пересказать" произведение через выстраивающую его мыслительную
157 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
коллизию?) - методика будет настолько же не походить на
прежнюю, насколько внутренняя задача и жанр дидактической
автобиографии опального монаха отличались от не менее
уникальных любовных писем к нему жены-монахини.
23
Мы как бы говорим себе: а ну-ка посмотрим, куда и
как далеко мог бы зайти средневековый европеец в своем
предполагаемом индивидуальном качестве, если экспериментально
создать для этого исключительно благоприятные условия.
Допустим, он жил в достаточно уже развитой обстановке
северофранцузских городов и монастырей XII в., в Париже, в
наиболее культурной тогдашней среде, выделялся особенной личной
одаренностью и независимостью ума, и, наконец, его судьба
сложилась настолько необыкновенно, что сразу же поразила
современников и поражает до сих пор. Допустим, его звали
Петром Абеляром. Спрашивается: как осуществится в подобной
ситуации всегдашняя возможность для человеческой особи
выделиться и осознать себя, какая структура личного самосознания
проступит сквозь эпохальные матрицы мировосприятия и
жанровые стереотипы, заранее заготовленную историческую канву,
и что произойдет при этом с такими матрицами и
стереотипами, что мы сумеем узнать, несмотря на них (благодаря им?), о
конкретном "Я" и что это абелярово "Я" раскроет в них самих?
Что просветит вдруг в эпохально усредненном, общепринятом,
расхожем, готовом?
Конечно, мы вроде бы знаем заранее, что
"индивидуальность" Абеляра в роли средневекового теолога и
магистра-диалектика не была предусмотрена как таковая. Но тем интереснее.
До встречи с произведением мы ничего не знаем заранее.
Естественная оригинальность и личный выбор Абеляра должны
были каким-то образом обрести реальность в рамках, очерченных
догматической контроверзой, на путях между правоверием и
ересью. Каким же, собственно, образом? Ответ может крыться
лишь в смысловой архитектонике его автобиографии.
Для толкования текста не требуется ничего, кроме текста.
Как считал Абеляр: "Меня сильно удивляет, что ученым людям
для уразумения Святых книг недостаточно самих этих писаний
_ 158
Ради чего Абеляр написал автобиографию
или глосс к ним, поскольку они ведь не требуют иного
руководства" (Ut alio scilicet non egeant magisterio... - p. 180).
Ну а в общем плане: дело тут заведомо не в абеляровом
свободомыслии, сиречь ереси. Ересь не могла быть новой,
особенной, личной; все варианты отступления от закрепленного
церковью благочестия уже перебраны, состоялись, изобличены,
всякая еретическая "выдумка" есть поновление заблуждения,
уже бывшего в веках, и немедля закрепляется за каким-нибудь
Арием либо Несторием. Тем паче не может быть новым
правоверие. Ведь вся Истина уже дана в Писании. В этом пункте, в
надличной подоснове, "разумность" и "обычай" сходятся.
24
Но дух Божественного закона по необходимости
явлен в Слове, Откровение требует толкования, а великая его
тайна делает человечьи толкования нескончаемыми. Уже перво-
апостольские послания суть толкования, и они в свой черед
продолжены в патристике, и любое толкование с
необходимостью снова взыскует толкования... Известно, что церковь, желая
оставить последнее слово за собой, прервать эту череду,
пыталась - да ведь иного способа для этого нет - скрыть Писание от
верующих!
Абеляр энергично включился в предопределенную систему
восхождения к Откровению, в неизбежный - по человеческому
несовершенству - и вечный спор о Вечном, т. е. о том, что
спору вообще-то не подлежит. Толкование предполагает свободу
суждения, которое потребно католику для того, чтобы достичь
наконец-то истинного (т. е. догматического), где свобода
суждения излишня, твердеет, опустошается. Парадоксальность
католической свободы воли (и, в частности, свободы суждения),
дарованной человеку для того, чтобы он мог сам подчиниться
Божественному Промыслу или отпасть, выбрать между
смирением и соблазном, навсегда спастись или погибнуть, позволяет
тому, что много позже назовут "индивидуальностью" и
"личностью", давать о себе знать только при каком-то
биографическом, рефлективном, странном по определению изломе
"матричного" средневекового сознания, при испытании ментально-
сти на излом.
159 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 'НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
Каждый раз это происходит в форме казуса: вот в этом
жанре, в этом произведении, в этом событии и человеке. Чтобы в
индивиде, чье сознание запрограммировано эпохой, могли
вдруг приоткрыться, забрезжить некие действительно
оригинальные, личные склонности и черты, не вполне тождественные
коллективной ("соборной") ментальности, от нее более или
менее отклоняющиеся, нужно, чтобы матричные формы сознания
были доведены до экзистенциальной, ситуативной и
логической крайности. Только такая предельность делает отношения
между индивидным умом и эпохальным мировидением
критическими, проблематичными, испытующими.
25
Тогда внезапно становится видна о-граниченность
коллективной ментальности и вместе с тем высвечивается
индивид, который не совпадает попросту с этой ментальностью.
Между ним и теми готовыми цивилизационными формами
(например, жанровыми, риторическими, религиозными), вне
которых немыслимо его сознательное историческое существование,
образуется дразнящий возможностями промежуток, потребный
для культурного сдвига люфт. Мир эпохального (матричного)
сознания у своей границы наиболее выразительно сгущается... и
проблематизируется, т. е. (для историка, пытающегося
совместить пребывание внутри этой ситуации и наблюдение извне)
становится заметным, что ментальность есть не только
данность, но и смысл, способный к движению... уходящий от себя и
возвращающийся к себе изменившимся... не совсем, стало быть,
совпадающий с собой, переоткрываемый по ходу умственного
усилия (по ходу произведения)... короче, действительно
культурный смысл.
Если социально-антропологическое исследование
описывает бытование и устойчивое действие ментальных установок, их
системное наличие, то исследование культурологическое ищет в
них же внутренние трудности и смысловые возможности,
никогда вполне не совпадающие с тем, что закреплено социальной
рутиной. Но каким образом? Через изучение казуса, который
переводит матрицы цивилизационного сознания в состояние
некоторой экспериментальное™, неокончательности, колеба-
_ 160
Ради чего Абеляр написал автобиографию
ния и, следовательно, дает нам известное представление об их
динамических (собственно исторических?) характеристиках.
Социал-антрополог обнаруживает: вот как "это" совершалось,
работало в повторяющихся положениях. Вот ментальность как
механизм социальной практики. Культуролог же пытается
понять: как это могло совершаться и что в самом механизме
обеспечивало его переиначивание, какую-то степень открытости,
способность к развитию. Во всякой привычной и отлаженной
ментальной структуре позволительно предполагать невостребу-
емые обычно - и дающие о себе знать преимущественно в
особых случаях - смысловые потенции. Эти резервы
самоизменения приводятся в движение в широком социальном масштабе,
когда возникают стимулирующие внешние условия.
Любой "индивидуализм" в Европе XII в. - дремлющая
почка в органичной ткани надличного сознания. Даже при
уникальных обстоятельствах, в жизни яркого человека,
анахроничное понятие "индивидуализма" оборачивается на деле гранью и
границей мира общезначимых матриц традиционалистского
сознания. Индивидуальное усилие, конечно, не в состоянии
вырваться из этого мира (уразуметь себя в качестве такового,
стать суверенным и самоценным), но оно, тревожно ворочаясь,
придает традиционалистской ментальности некую странность,
заставляет туго натягиваться и вибрировать ее струны. Мы
получаем информацию об исторически определенной
ментальности, которую нельзя было бы получить иначе как из
уникального источника, от гениального человека. А вместе с тем
"информация" в этом случае лишь попутный результат
прислушивания и понимания того, что продолжает жить в (нашей)
культуре, вечно пребывает со-временным.
Освежив в памяти методологическую установку (см.
Введение, § 38), вернемся к чтению "Истории моих бедствий".
26
Первое, что сообщает о себе Абеляр, - это рассказ о
том, как юношей он предпочел майорату и ратным трофеям
победы в ученых диспутах: "praetuli disputationum", "superior in
disputando viderer". Для начала он одержал верх над своим
маститым наставником Гильомом из Шампо. Так стала возрастать
6 - 345
1S1 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
его "слава" (fama). Абеляр и в старости, говоря об этом,
принимает тон горделивый, хотя вместе с тем сокрушенный. Он
сознает свои былые, впрочем, явно не изжитые, сросшиеся с ним
гордыню и честолюбие суетными и греховными. Высокая
самооценка неразрывна с покаянием. Таков первый двойственный
мотив автобиографии ("о своей одаренности я возомнил более,
чем соответствовало силам моего возраста"). За "славой"
неотступно шла "зависть" (invidia) учителей и товарищей, а
неразлучно с "завистью" и "клевета" (calumnia). Это звучит у
Абеляра столь же часто и раскатисто, как в арии дона Базилио... «И,
чем более явно меня преследовала зависть, тем полней это
подтверждало мой авторитет, ибо, по словам поэта:
"Недоброжелательность наиболее жгучая - к наивысшему, ветра
обрушиваются на вершины"» (р. 179; Овидий. "Лекарство от любви").
Но вот что существенно. И "слава", и "зависть" тут
достаточно рутинного свойства. Сами по себе эти страсти были при
всей выразительности малоиндивидуальными. Абеляр сразу
включился в наличную (хотя исторически относительно
свежую) социально-культурную среду, в стереотипную ситуацию.
Соборные, монастырские и своего рода частные (работавшие по
разрешению церкви, "licentia docendi") публичные школы,
стекавшиеся в них клирики и миряне, диктовка лекций, диспуты,
переезды магистров со слушателями с места на место, короче,
самая тогда интеллектуально и социально подвижная, но уже
обзаведшаяся своей рутиной, репутациями, соперничеством,
интригами, громкими взаимными обвинениями - раннесхола-
стическая, предуниверситетская обстановка, более или менее
переплетенная с церковной и монашеской.
"Поэтому я, подобно перипатетикам, ездил по разным
провинциям, как только прослышу, что там преуспели в занятиях
этим искусством [диалектики], и повсюду участвовал в
диспутах. В конце концов я прибыл в Париж, где помянутая наука
давно была в ходу и всячески процветала" и пр. (р. 175-176).
"Слава" означала приток слушателей, влияние, доходы и
возможность стать во главе собственной школы (в качестве "sco-
larum regimen"). Абеляр обосновывается в Мелене, переносит
преподавание в Корбейль, близ Парижа ("дабы отсюда можно
было бы чаще вести нападения на диспутах"), подрывает
учеными занятиями здоровье, на несколько лет возвращается в
_ 162
Ради чего Абеляр написал автобиографию
Бретань, вновь появляется мво Франции", преподает при соборе
Парижской богоматери, потом опять в Мелене, потом
"раскинул свой школьный лагерь" на горе Св. Женевьевы, близ
Парижа, затем занялся богословием в Лане и т. д. Оттеснить
конкурентов помогали не только таланты, но и покровительство
церковных иерархов или светских сеньоров. Первые сорок лет
жизни не выделяют деятельность Абеляра из этого обычного круга,
в котором появляется еще один яркий, самолюбивый,
напористый и удачливый магистр.
"...Если спросите об исходе битвы, скажу лишь, что я не был
в ней побежден. Если я умолчал бы, о сем возглашает само дело
и его исход" (р. 179, цитата из Овидиевых "Метаморфоз",
парафраза из Цицерона).
27
Петрарка, положим, любил твердить те же строки. Но
заметим: если Абеляр был вписан в культурную ситуацию, то
Петрарка создаст ее собой. Итальянец будет считать себя
человеком античности, первым явившимся из века Цицерона в свой
темный век. Он сделал себя светочем учености риторической,
поэтической, моральной, но не схоластической и не
богословской, вдалеке от университетов, диспутов, церковных соборов.
Он каноник без обязанностей, он не преподает и не служит, он
вырабатывает новое социальное амплуа: ученого друга. Его
собеседники - это прежде всего его корреспонденты, среди коих
он числит, впрочем, Цицерона, Сенеку, Варрона или Горация.
Он превращает уединенность творческого существования из
словесного топоса в правило поведения. Конечно, он отлично
умеет ладить с сильными мира сего и пользоваться их
покровительством, но стремится создать в глазах других и
собственных глазах образ некой высокой жизненной независимости.
Ибо он всюду почетный гость или у себя дома, он просто
частное лицо - и это его, Петрарки, уникальная личная
особенность (см. ниже с. 259-264 и др.). Он тогда единственное (или
первое по времени появления и по авторитетности) частное
лицо новоевропейской истории. Его общества или писем от
него домогались государи, епископы и патриции только потому,
что он Петрарка.
6·
163 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
Судьба Абеляра внутри схолы и монастыря сложилась
необычно и трагически, но это все-таки судьба именно "внутри",
всецело предопределенная средой и эпохой. Петрарка прожил
вполне благополучно, но создал судьбу и среду специально для
себя, а эпоха затем принялась подражать ему. Ученики Абеляра
следовали его идеям, будь то школяры или еретики, как
Арнольд Брешианский; однако за произведением Абеляра,
которое (а не учение об универсалиях и Троице) преимущественно
обеспечило его славу в веках, за его "Утешительным письмом к
другу" не последовал никто, ибо оно есть личный казус,
подражать коему невозможно. Петрарке же будет подражать
множество образованных людей в течение трех и более столетий,
притом его любовным стихам и его... стилю культурного поведения.
То есть самое личное в нем как раз и оказалось предметом
всеобщего подражания.
Как ни гордился Абеляр блеском и славой своих лекций и
книг, он стремился сделать то же, что и другие магистры, - но
лучше. Он хотел рассуждать убедительнее, чем оппоненты, и
тем самым правовернее. Если эгоцентризм Петрарки был
рефлективным и потому насквозь проблематичным, то Абеляр
словно невольно сосредоточен на себе как добром католике и
проповеднике истинной веры, на которого возводят
напраслину. Защищаясь от преследователей - магистров, монахов,
церковников, - он отстаивал, разумеется, не право думать и жить
по-своему, не свою особость и, как мы бы выразились,
личность, но свое соответствие норме и даже образцовость в
качестве магистра, монаха, церковника... Нормативность включала
напряженное сознание личной греховности. Покаяние не
ослабляло, но усиливало защиту. Как мы увидим, в контексте
исповедальное™ то, что мы торопимся назвать эгоцентризмом и
даже индивидуализмом, получает канонический повод и
специфический смысл.
28
Настает черед раскрыть историю еще одного
бедствия - любовную историю, в которой были соблазн, страсть,
плотское наслаждение, сердечный восторг, конфликт между
всем этим и высшим призванием, похищение любимой, рожде-
_ m
Ради чего Абеляр написал автобиографию
ние сына, тайный брак, публичный позор, страшная расплата,
стыд и сокрушение, наконец, возвращение к милосердной
божественной благодати.
Но как поведать любовную историю о себе? Абеляр -
первый средневековый европеец, столкнувшийся с подобной
задачей. Он, как и следовало ожидать, решает ее при помощи
прежде всего Овидия: "Итак, с нами сделалось то же, что поэтическая
басня рассказывает о Марсе и Венере, застигнутых врасплох"
(р. 184). И он приступает повествовать о случившемся вчуже, в
размеренном тоне овидианской "фабулы" или же
нравоучительного экземплума - о себе и Элоизе, как о других, о неких
персонажах. "Так вот, жила в этом городе Париже некая девица, звали
же ее Элоизой, и была она племянницей одного каноника, по
имени Фульбер... Выглядела она не хуже других, но всех
превосходила знаниями и начитанностью. Поистине, поскольку среди
женщин это достоинство, т. е. начитанность и ученость,
встречается редко, оно делало девушку привлекательней и очень
известной во всем королевстве. Итак, разглядев все, что
обыкновенно влечет влюбленных, я счел ее наиболее подходящей для
любовной связи и считал, что достичь этого для меня будет
легко. Ведь был я тогда столь знаменит, и молод, и отличался
изящным сложением, что, кого бы из женщин ни удостоил любовью,
мог не опасаться отказа ни от одной" (р. 182-183).
Некоторых исследователей смущала рассудительная
практичность этого зачина, как кажется, не соответствующего
исключительному драматизму и глубине последующих
отношений, описываемых Абеляром9. Но он, конечно, лишь вторил
"Искусству любви": "Тот, кто хочет любить, пусть выберет
сначала предмет своей любви" и пр. (кн. 1, 4). Или: "Из тысячи
едва найдется одна, которая сумеет тебе противиться" (1, 38). Там
же о том, как проникнуть в дом ее (только вместо мужа здесь
дядя-каноник): "Самый простой и самый верный способ
обмануть человека - это прикинуться другом". Или: "Попадаются,
впрочем, и образованные женщины, но они очень редки". И о
приятности любовной переписки, и о сочинении стихов в
подарок возлюбленной, и о руках, тянущихся к груди, и об
изобретательности ласк - о, бесценный Овидий!
Возможно, средневекового читателя очаровывала в этой
недавней истории именно реализация древней книжной парадиг-
165 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
мы, и он едва ли замечал и, уж конечно, не придавал значения
тому, что прежде всего бросается в глаза читателю нынешнему
(напротив, плохо чувствующему богатство клише):
неповторимости конкретного казуса, откровенности, индивидуальным
подробностям, силе и подлинности личных переживаний
учителя и юной ученицы. Все это, начиная с замечания, что он,
Абеляр, был до тех пор не слишком искушен в сладострастии - в
свои-то 38 лет! - и вот 16-летняя Элоиза и недобравший в
жизни магистр в равной мере пылали, не пресыщаясь; и признание
(затем подтвержденное в переписке) о возбуждавших их
чувственность нежных ударах Абеляра, которые "были приятней
любого бальзама"; и особая атмосфера свиданий под видом уроков
диалектики; и сложный сюжет взаимоотношений с
дядей-каноником, и, конечно, точно переданное психологическое
состояние при заключительной катастрофе - все обнаруживает
настоящую индивидуальную любовь-страсть, хотя и у людей,
скованных традицией, прорывающих ее словно бы неожиданно для
себя и уясняющих происшедшее посредством риторических топо-
сов. Как-никак перед нами самая тонкая и образованная пара в
Европе.
Однако с культурологической точки зрения существеннее и
овидианства, и личной окраски повествования, этих лежащих
на поверхности черт, нечто иное. Между прочим, для
читательской молвы, начиная с "Романа о розе" Жана де Мена, именно
история безудержной страсти, тайной женитьбы и кастрации
составляет центральный эпизод абеляровой автобиографии. Но
это не так или не совсем так, ибо любовная история обдуманно
включена автором в куда более сложную и характерную
конструкцию.
29
Начнем с противопоставления плотской любви и
философствования. Абеляр замечает: "...чем более мной
овладевала эта похоть, тем меньше я мог высвободиться для
философских занятий и преподавания... И, поскольку я стал теперь
вести лекции небрежно и с прохладцей, уже ничего в них не было
от дарования, одна лишь привычка, и я лишь повторял
придуманное древними, а ежели случалось и самому придумывать
_ ш
Ради чего Абеляр написал автобиографию
стихи, то - любовные, а не о тайнах философии" (р. 184).
Ночные бодрствования с женщиной - дневные часы, отдаваемые
ученым занятиям и неполноценные не просто по причине, так
сказать, практической, физиологической и легко приходящей
нам на ум. Тогда-то памятовали античный топос непременного
для духовных трудов ночного бдения "до зари", при возженной
лампаде. Так что ночи любви - антитеза ночам в духе, ученым
или молитвенным. Абеляр изнутри рассказа о любви проводит
моралистическую оппозицию - и осуждение любви (не
мешающее ему вспоминать ее с упоением и трогательностью).
Далее. Абеляр пишет, что собирался вступить в брак с Эло-
изой, но она сама отговаривала его, так как брак несовместим с
сосредоточенностью и чистотой жизни философа. Потому-то
все знаменитые философы стремились покинуть мирскую
суету, бежали наслаждений, предпочитая отшельничество, любовь
к философии и к Богу. Вдруг посреди любовного сюжета,
занимая более четверти его площади и подводя почти вплотную к
развязке, т. е. к эпизоду оскопления, следуют выписки из
авторитетов, от Пифагора и Сенеки до Августина и св. Иеронима, о
необходимости безбрачия и воздержания...
Эта ученая вставка должна не столько оправдать отказ
Абеляра от женитьбы (во всяком случае, прилюдной), сколько
подкрепить дидактический характер рассказа. Вставка играет ту же
роль, что мораль вслед за "примером", поясняющая смысл
события. Биография индивида не может быть в XII в. интересна и
значима сама по себе как таковая. Смысл всегда приходит
извне. Казус становится понятным и полезным лишь благодаря
общему месту, в нем вновь и вновь торжествующему.
30
Раздумья Абеляра над случившимся с ним в доме
Фульбера выстраиваются в систему смысловых параллелизмов
и скрещений. Если сластолюбие несовместимо с
философствованием, то зато оно становится в один ряд с интеллектуальным
тщеславием и гордыней. Как вводится рассказ о любви в
автобиографию? Ему предшествует описание наибольших
триумфов магистра, когда он "снова процветал в Париже". Настал пик
его "славы" как философа и богослова, принесшей и деньги, и
167 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
влияние. Упоминаются несколько спокойных и благополучных
для него лет. Тем самым мы искусно приуготовлены к резкому
повороту абеляровой судьбы. Ведь, по слову Апостола, "Scientia
inflat" ("Знание преисполняет гордыни"), а благополучие сотво-
ряет с глупцами то же самое. И вот уже он, Абеляр, "почитал
себя наилучшим и единственным в мире философом", он "весь
погрузился в гордыню и сластолюбие" (totus in superbia atque
luxuria laborarem). Но божественная милость его спасла! -
"исцелив его, помимо его воли, от обеих болезней (utriusque morbi
rimedium), сначала от сластолюбия, а затем и от гордыни". Ибо
сперва он лишился средств удовлетворения похоти, а затем был
спасен "чрез унижение - сожжением той книги, которой
больше всего похвалялся" (р. 181-182).
Такова мораль, предваряющая сдвоенный смысловой центр
повествования; «я хочу ныне поведать тебе, каковы были на
деле обе истории (Абеляр еще раз предупреждает, что роман с
Элоизой и собор в Суассоне - это две дидактически
скрещивающиеся "истории", два параллельных и единосущных
спасительных "бедствия"; курсив мой. - ΛΓ. Б), дабы ты судил о них не по
слухам и в той последовательности, в какой они совершались*.
31
К обеим мучительным развязкам, сквозь обе истории,
рассказанные с наибольшей обстоятельностью, Абеляр
движется в свете сказанного им сразу же: "Превратная, как говорится,
фортуна, обласкав меня, тем удобней и легче нашла случай
после такого возвышения повергнуть в ничтожность, и
божественная милость ко мне, в величайшей гордыне забывшему о
воспринятой благодати, вновь снизошла чрез унижение" (р. 182).
Эта формула и открывает врата для пронзительно
достоверных деталей, эротической откровенности, для беспрецедентного
(но не имеющего, впрочем, и продолжений во всей мировой
литературе) признания о пережитом после насильственного
оскопления, для криков боли, беспощадных самооценок, но и для
живого припоминания восторгов славы и любви. Она же, как
мы вскоре убедимся, дает твердое основание для новой
уверенности в своем интеллекте, достоинстве - и гораздо, гораздо
выше того! - в своей правоте пред судом Божьим.
_ m
Ради чего Абеляр написал автобиографию
Если это и есть средневековая личность, то надо признать,
что, разумеется, не ощущение индивидуального и личного
придает тогда жизни человека форму, вносит в нее смысл. Смысл,
повторим, всегда извне. Единственно лишь внешнее, готовое,
отвлеченное способно объяснить и организовать биографию.
Гордыня, сластолюбие, зависть, клевета, греховная вина, кара за
нее, просветление, невинность, правоверие и - дай-то Бог -
возможность спасения, возвращение божественной благодати...
даже святость?
32
Мы-то склонны отделить индивидуальную окраску
абеляровой автобиографии от общих мест, бесчисленных цитат
или намеков на авторитетные тексты, назидательных
сентенций и пр. Но дидактические схемы и личные черты - это не
две фракции, которые можно было бы отделить друг от друга в
этом растворе. У Абеляра, как позже в готике, "натурализм", и
экспрессия, и отвлеченные схемы странно нераздельны.
Причем здесь сливает их в одно - и дает схеме стать трагически
личной, рождает то, что нам хотелось бы назвать
индивидуальной личностью Абеляра, - уязвленность преследуемого и
маргинального индивида, необыкновенно поэтому
сконцентрированного на общем. В этом плане не масштаб, не гений, не ум, а
судьба - вот главное в авторе этого сочинения. Сложись его
судьба все-таки спокойнее, абеляров концептуализм и т. п. мы
получили бы, но "Историю моих бедствий" - нет, но
выявление личного - нет.
После фрагмента о кастрации вновь звучит, окаймляя,
таким образом, всю историю романа с Элоизой, знакомый мотив:
какой громкой славой он, Абеляр, обладал, как легко и
постыдно унизил его случай, сколь справедлива Божья кара,
вырвавшая из его тела то, чем он грешил. И справедливо предал его
тот, кто ранее был сам им предан (р. 190). Это не мешает
Абеляру описывать происшедшее как жестокое злодейство - и
вскользь упомянуть, что подкупленный слуга и его сообщник
были изловлены, ослеплены и лишены гениталий.
Вслед за не менее подробным изложением второй
важнейшей истории (осуждения на Суассонском соборе) Абеляр воз-
169 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
вращается к сопоставлению двух главных бедствий. "Я
сравнивал то, что перенес ныне, с некогда испытанной телесной мукой
и считал себя несчастнейшим из всех людей11. Однако
высказанная ранее параллель - кара за сластолюбие и кара за
тщеславие - не возобновляется. Схема несколько перестраивается,
хотя состоит из прежних простых элементов. "То, прежнее,
предательство представлялось мне незначительным в сравнении с
новой несправедливостью, и я куда больше оплакивал ущерб для
своего имени (или: славы, fama), чем телесное увечье, ведь то я
претерпел из-за некой вины, тут же надо мной учинили насилие
по причине моего искреннего умысла и любви к нашей вере,
подвигнувших меня написать [сей трактат]" (р. 197).
33
Короче, моральная значимость оскопления на первый
взгляд как будто ослабевает. То была кара всего лишь телесная,
впрочем, заслуженная. Вместе с тем божественная целебность
новой кары забывается. Остается ее еще большая жестокость
и... совершенная незаслуженность. Более того, тема
несравненной "славы" Абеляра - "от моря и до моря"! - звучит еще
громче, чем в начальных эпизодах "Утешительного письма к другу".
Она заполняет собой защитительную речь на соборе Готфрида,
епископа Шартрского. Она теряет обертоны суетности и
гордыни; теперь, якобы по словам Готфрида, "учение этого человека,
каков он ни есть, и одаренность, явленная во всем, что бы он ни
изучал", сопрягаются с утверждением о его, Абеляра,
благочестии. Обвинения в противоположном не доказаны и ложны.
Они суть клевета (calumnia). Поэтому цитата из Горация
("молнии попадают в горные вершины") переводит
встречавшуюся нам вначале схожую цитату из Овидия в другой смысловой
регистр. Многозначительна и ссылка рядом на Иеронима, чью
судьбу, как выяснится в итоге, Абеляр считает сакральным
аналогом собственной судьбы... "Слава", "зависть", "клевета" -
решительно все клише, после того как Абеляр проводит
повествование о себе через оба фундаментальных бедствия,
преображаются, теряют оттенки покаянности и поучительного воздаяния
за излишнюю заносчивость, восстанавливают прямой и
однозначный смысл.
_ 170
Ради чего Абеляр написал автобиографию
Да что там! - рассказывая о своих переживаниях после су-
ассонского глумления, Абеляр позволяет себе произнести
молитвенный упрек блаженного Антония (который опять-таки
повторил, переиначив, слова Христа в саду Гефсиманском):
"Иисусе благий, где же Ты был?" (р. 196).
Что же, собственно, произошло по ходу жизненной судьбы
и ее самоописания? Что сместилось в акцентах? Что передумал
автор,сочиняя!
34
Были два упоения - славой и любовью. Были два
греха - гордыни и похоти. Последовали два надругательства над
несчастным, два унижения, две муки - сперва злодеяние в
ночи, затем сожжение любимого труда при всем Суассонском
соборе. Стали эти "бедствия" целебными и душеспасительными,
это Божья милость ниспослала их. Так оба переломных
жизненных эпизода окольцованы общей дидактической рамкой.
Вне такой рамки никакое индивидное, частное существование
не имело бы смысла и не могло бы быть рассказано.
Но кастрация послужила "лекарством" для души в двух
опять-таки отношениях, тесно сплетающихся и не только
спасающих от сластолюбия, но переворачивающих значение
жизнеописания в целом.
Понятно, что непосредственное воздействие этого лекарства
состояло в очищении любви. Абеляр ранее поведал о том, как
обнаружение Фульбером их романа, вызвав тоску влюбленных
при внезапной вынужденной разлуке, возвысило их чувства.
"Ни один из нас не роптал из-за себя, но сокрушался о том, что
постигло другого, ни один из нас не оплакивал свое несчастье,
но несчастье другого. Так разлучение тел усилило соитие душ
(copulatio animorum)" (p. 184). Автор не случайно прибегает к
этому обороту, напоминающему о более универсальной
христианской антитезе. Естественно, что случившееся с Абеляром
дало простор одухотворению любви, освободив соединение в духе
от плотских тенет. Когда со временем повествование
добирается до дарения Параклета со всем имуществом диакониссе Эло-
изе и ее верным, Абеляр же становится исповедником и
наставником сестры своей во Христе и ее монахинь, автор говорит,
171 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
что Дух-Утешитель истинно снизошел там на них. Элоиза
славилась благочестием, обитель наслаждалась покоем и
благополучием. Он же сам, Абеляр, часто бывая там, "укрывался у них,
как в некой спокойной гавани, и малость переводил дух"
(р. 209). В момент написания автобиографии именно утрата
этой возможности и сплетни о том, что приводило Абеляра в
Параклет к Элоизе, удручали его куда больше, чем более давние
воспоминания. И Абеляр отводит изрядный кусок текста под
маленький трактат о том, почему в его положении общение с
Элоизой вполне безгрешно. Да разве, впрочем, пророки,
апостолы и святые отцы, вовсе не изувеченные, не вели задушевные
беседы с женщинами, разве и сам Христос не был окружен
женщинами? И следуют ссылки на Писание, цитаты из Августина,
папы Льва IX, из послания апостола Павла и, конечно, из
любимого Иеронима...
35
Дело, однако, в том, что оскопление даровало также и
очищение славы. Отныне Абеляр будет преподавать не людям
богатым, "алча денег или похвал", а просвещать людей бедных.
Отныне он станет "предаваться ученым занятиям из любви к
Богу", ибо "Господом даден мне был талант, и Он требует
возвратить его с лихвой". "И в случившемся меня коснулась рука
Божья, и я постиг, что, избавившись от плотских соблазнов и
удалившись от докуки века сего, я высвободился для ученых
занятий и стал философом истинным, Божьим, а не мирским"
(р. 191). Далее Абеляр поясняет, что преподавание светских
наук он не оставил лишь потому, что, прививая людям вкус к
философии, он тем самым готовил их к высшему, чему и сам
после пострига теперь отдался по преимуществу. Это "истинная
философия", сиречь теология. "Поскольку же Господь наделил
меня, по-видимому, не меньшим даром вникать в писания
божественные, чем в светские", то слушатели из других школ
потекли к знаменитому монаху.
— m
36
Результатом явились "зависть и ненависть ко мне
других магистров11 (Unde maxime magistomm invidiam atque odium
adversum me concitavi) (p. 191). Так возобновляется хорошо
знакомый нам мотив. Но ныне низкая "зависть" других не
связана с собственной суетной надменностью. Он, Абеляр, чист и
со стороны нравственной, и со стороны догматической.
Нападки на его учение бездоказательны и ложны. "Слава" его уже
лишена тщеславия, она есть привлекательность правоверия, она
во славу Божью.
Молельня Параклет - тот хронотоп, в котором заново
встречаются две преображенные линии судьбы. Преображенная
слава магистра-отшельника: школа, в которой он научает
святым истинам. Преображенная любовь к Элоизе, его духовной
дочери и сестры во Христе.
Поэтому не только исходная схема двух "лекарств"
совершенно забывается Абеляром, когда он рассказывает о соборе в
Суассоне и сожжении книги, но и вообще покаянные
интонации первой части "Истории" - до ухода в монашество -
полностью исчезают во второй.
Исповедь, прострачивающая описание событий ("до"),
сменяется изображением того, кто был чист и потому претерпел
много ("после"). Защитительный голос автора крепнет и
возвышается, изобличает гонителей (магистров, богословов,
епископов, монахов), звучит все более патетически и наставительно,
ибо страдания сии за веру. Исповедь переливается в нечто
похожее на житие. Именно так: перед нами не автобиография, но
автоагиография.
37
Абеляр повторяет от своего имени вопрос блаженного
Антония о муках, им испытанных. Он сообщает, что по
прибытии его в Суассон народ чуть не побил его каменьями (как
пророка!). Он пишет, что враги преследовали его, как некогда
еретики блаженного Афанасия. Он замечает, что ненависть
французов заставила его удалиться на Запад, как ненависть римлян
прогнала святого Иеронима на Восток (р. 203). К нему, повто-
m —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
ряет Абеляр дважды, применимы слова апостола: "Извне удары,
изнутри страхи" (р. 204, 209). Та же клевета, что и против него,
возводилась против Иеронима (р. 206). Его пытались отравить,
как это случилось с блаженным Бенедиктом (р. 209). И
наконец, с необходимостью Абеляру остается напомнить слова
самого Господа в Евангелии от Иоанна: "Если мир вас ненавидит,
знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от
мира, то мир любил бы свое". Абеляр на этом обрывает цитату.
Но в Евангелии следует: "...а как вы не от мира, но Я избрал вас
от мира, потому ненавидит вас мир" (15, 18-19).
Что ж, в подоснове всякого жития, разумеется, Страсти
Христовы, повторяющиеся в каждом случае, когда христианин
страдает за веру.
Житие Абеляра, написанное им самим? Конечно, не
буквально так. Не это он имел в виду, не это приходило ему в
голову... но нечто около того, на средневековый лад парадоксальное.
Ни в коей мере не житие, ибо было бы это святотатственным и
нестерпимым, однако по образу и подобию жития. А это уже
совсем иное дело, ведь все средневековое мировосприятие есть
система уподоблений и разподоблений, такова его тотальная
мистичность; зеркала, отражающиеся в зеркалах. Об этом много
и прекрасно писал Томас Манн в "Иосифе".
Абеляр формулирует смысл своей "Истории" еще и так:
"Все, говорит Апостол, кто желает жить благочестиво во
Христе, будут гонимы". Затем он приводит три выдержки из
Иеронима на ту же тему. И заявляет: "Я считаю себя его
наследником, особенно ввиду поношений клеветников" (р. 211).
"Мы знаем, однако, что для любящих Бога все сообразуется
во благо" (это из Послания к Римлянам). А в Притчах сказано:
"Праведника (iustum) не опечалит ничто с ним случившееся". На
этом Абеляр, повторяя "Да будет воля Твоя", прощается с другом.
38
"Такова, о возлюбленнейший брат во Христе и
многолетний неизменный спутник, история моих бедствий..." (р. 210).
Теперь мы, кажется, готовы судить о том, какова же она с
историко-культурной точки зрения, т. е. о ее общей смысловой
задаче или (что почти то же самое) о жанровой природе10.
_ 174
Ради чего Абеляр написал автобиографию
Верны, конечно, расхожие указания на биографические
обстоятельства и практические цели, которыми задавался Абеляр,
но это не годится, чтобы объяснить культурный факт. Полезны,
как всегда, поиски литературных источников и образчиков,
которые могли на него повлиять, но они ничего не дают для
понимания уникальности "Истории моих бедствий".
Разочаровывают чисто психологические (или психиатрические) наблюдения
над монахом-скопцом, над одиноким и гонимым книжником,
над сознающим свою интеллектуальную мощь, крайне
самолюбивым и униженным магистром, над знаменитейшим
маргиналом, над человеком, сводящим на старости лет счеты с
совестью. Все подобные догадки тоже растворяют исторический
феномен Абеляра в банальностях и анахронизируют его. При
желании можно выделить "индивидуализм" - момент личной
яркости, себя в этом качестве остро сознающей и претендующей
на место в мире - и объединить таким манером Абеляра с
Августином, Петраркой и кем угодно. Пусть этим занимается тот,
кому история культуры видится так - в общем-то без истории.
Можно, слегка усложнив тот же подход, увидеть в Абеляре
ступень развития индивидуального самосознания - на пути к
Данте и Возрождению (т. е., что ни возьми, все предыстория).
Можно сказать, что мы имеем тут дело с исключением даже на фоне
культуры элитарной - и, следовательно, для изучения
распространенной эпохальной ментальное™ Абеляр дает не слишком
много, а то и вовсе ничего. И это справедливо, если ментально-
стью заниматься только феноменологически, как тем, что
наличествует.
Мы не должны, в сущности, оспаривать то или другое,
поскольку оно не имеет отношения к единственному, что нас
здесь интересует, а именно к произведению Абеляра.
Позволительно толковать о невероятном для XII в. всплеске личного
самосознания, темперамента, трагедийности и пр., и все будет
верно, хотя и не ново, однако нас-то волнует одно: каким
конструктивным способом это было προ-изведено, могло
воплотиться, состояться в тексте и навеки исходить из него.
Итак, жанр абеляровой "Истории" универсален, поскольку
обозначаются и переливаются друг в друга то ученый трактат,
то вероучительная проповедь, то инвектива, то любовная
новелла, то нечто вроде церковной хроники, зачин и концовка взяты
175 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
у эпистолы, более же всего значимы тут экземплум, исповедь и
житие. Ни на что не похожее так называемое содержание
оказалось возможным благодаря способу организации этого
содержания, из-за схождения в "Истории" чуть ли не всех известных
тогда жанровых установок. Все средневековые жанры толпятся
на сравнительно сжатом пространстве текста.
Прежде чем подумать о суммарном
культурно-историческом эффекте такой нечаянной встречи, задержимся на
некоторых отдельных смысловых доминантах абеляровой
автобиографии, которыми она с необходимостью обязана своим жанровым
подоплекам.
Текст открывается фразой: "Часто человеческие чувства
сильней возбуждаются либо смягчаются примерами (exempla),
чем словами" (р. 175). Случившееся с молодым магистром, будь
то связано с его учеными успехами и "славой" или любовной
страстью, всецело превращено в дидактические "примеры".
39
Это позволяет рассказывать о конкретном и сознавать
личное. Экземплум есть не столько общее (мораль),
проиллюстрированное конкретным, данное в форме казуса (как обычно
полагают - и это верное, но лишь первое и недостаточное
приближение), сколько частное, случайное, событийное в форме
общего. То есть происшедшее с неким индивидом, там-то и
тогда-то, может быть признано заслуживающим внимания и
описания никак не само по себе. Конечно, если речь идет о чем-то
редком и диковинном, вспыхивает любопытство, однако
средневековое любопытство отличалось особой жадностью и
простодушием ввиду не только бедности повседневного кругозора,
но в обязательном предположении, что всякое
экстраординарное событие есть знак чего-то иного и высшего.
Только всеобщее напрямую дает отдельному право на
существование в мире смыслов (особенное неизвестно
средневековому миру). Индивид как таковой есть ничто - тлен и
мнимость, - но всеобщее присваивает ему бытийственный статус,
превращает в нечто. На взгляд нынешнего читателя, казалось
бы: вот конкретные "бедствия" Абеляра, история его жизни, а
вот отвлеченные сентенции о гордыне и сластолюбии, о фило-
_ m
Ради чего Абеляр написал автобиографию
софах и безбрачии, о женщинах и евнухах, о благочестивых и
страдающих за веру и т. д. Первое мы привычно сопрягаем с
выразительным, индивидуальным, глубоко личностным, второе же
- с дидактически-нейтральным, привнесенным, сухим. Однако в
автобиографии монаха XII в., если и пытаться приложить к ней
наши понятия и мерки, все не так; все по меньшей мере
меняется местами. Иначе говоря, вне топосов и моралите магистерские
триумфы в Медоне, любовь к Элоизе, ночное надругательство,
клевета Альберика или преследования озверевших монахов в
Бретани и пр. оставались бы происшествиями всего лишь
житейскими, единичными, следовательно, мелкими, неясными,
лишенными конкретного смысла. Индивид был бы не в силах
говорить о себе, для этого отсутствовали культурные основания.
Иное дело - говорить о себе как о человеке, который грешил,
понес Божью кару, очистился через страдание, ушел от мира к
Богу, претерпел тяжкие и неправедные гонения, но по примеру
Святых Отцов устоял. И молит Господа: "Jesu bone, ubi eras?"
Перевод биографии в притчу и всего житейского в
житийное дает наконец-то событиям и душевным волнениям
настоящий смысловой ключ. Все конкретизируется! - ведь вне
смысла нет и конкретности. Всеобщее и есть самое личное - до
глубин потрясенного духа - под биографической кожурой. Оно
требует подробностей и подробностей, делая индивидное
культурно возможным.
40
Таков и всякий экземплум, хотя их примитивность и
сходство это подчас скрадывают. Все ли "примеры" как бы об
одном? Тогда зачем их такое множество, неужто интерес
повторов - только в закреплении, затверживании уже известного?
Конечно, нет. Очередной казус порождает ожидания и
предчувствия, и моралите - это ожидавшаяся неожиданность.
Нормативное и всеобщее должно вздрогнуть, очнуться в уме,
возникнуть сызнова11. Уникальный источник, дающий экземплум или
житие не в чистом виде, а легким контуром, в качестве исходной
возможности экземплума или жития% на размытых границах с
другими жанровыми (смыслообразующими) возможностями, -
абелярова жизнь, описанная им самим, выявляет отмеченное
177 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 'НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
выше в его предельной сути. Открытие индивидом на себе и
для себя надличного Закона, Суда и Благодати и есть
средневековая "личность".
Характерны, так сказать, электрические разряды,
пробегающие между крайней откровенностью, поражающей (даже нас)
обнаженностью личных подробностей, и сведением их на общее
место. Но они заданы требованиями исповеди - не
литературной, а католической. Мы думаем, читая Абеляра, об искренности
признаний - и ошибаемся. Позднейшая "искренность"
индивидуальна и психологична; она может, разумеется, выражаться в
определенности и неутаенности рассказываемого о себе, но
может быть и стыдливой, сдержанной, даже замкнутой; меру
определяет сам индивид (искренность культурно-индивидуальна).
41
У Абеляра перед нами нечто противоположное, не
искренность, а именно общепринятая при исповеди
откровенность. Он кается, обозревая свою жизнь, он исповедуется.
Откровенность же исповедующегося не психологична, а онтполо-
гична. Это не "копание в себе", а овнешнение личного,
превращение своего, частного, в известный и даже мировой грех.
В покаянии индивид бытийствует вдвойне: как тот, кто
сокрушается о содеянном, и как тот, кто вспоминает,
выворачивает себя наизнанку, высвечивает то, чем жил и услаждался,
становится в этот момент вновь и до глубины души грешником,
переиспытывает заново прелесть соблазнов - и потому полнее,
чем когда-либо, нуждается в покаянии. И вот бытийствует
одновременно в качестве грешащего и очищающегося.
Исповедь ставит индивида перед ним же самим. Он
обнажает свой грех, чтобы отринуть его. Поэтому так напрягаются
подробности, вдруг становящиеся поучительными и надличными,
и так вместе с тем трепещет всеобщее (нормативное), вдруг
становящееся личным. Эта онтологичность, эта откровенность
тяжела, без-мерна на нынешний вкус и меру (в отличие от всегда
душевно изящной чисто-культурной искренности).
Поскольку Абеляр исповедуется не по пенитенциалию, не
формально, и поскольку, более того, это, разумеется, отнюдь не
исповедь как таковая, но лишь ее опять-таки исходная устрем-
_ m
Ради чего Абеляр написал автобиографию
ленность, логика, настроение, интонация, да еще все это
обтекает совсем другие жанровые островки, смешивается с другими
интонациями и формулами, тут же переходит, напротив, в
самозащиту и оправдание, наконец, и в житие... постольку мы
получаем исключительный случай созерцать, нет, не что такое
средневековая исповедь, а что такое возмооюность исповеди как
сопряжения (смысловой встречи) наиболее личного с наиболее
надличным, человеческого греха с божественным
совершенством. Мы замечаем, следя за осколками жанров, как они
разрушаются и вос-создаются. Мы можем попробовать лучше
оценить внутренние парадоксы, ограничения и ресурсы исповеди в
качестве культурной формы и вместе с тем понять, как она
вязала и разрешала средневекового индивида.
42
Это же относится, впрочем, не только к тому или
иному выделяемому нами внутритекстовому жанровому контуру у
Абеляра, но к его произведению в целом, истолкованному как
summa summarum средневековой жанровой системы. С одной
стороны, это дает ей мгновенную подсветку, демонстрируя
именно целостность эпохальной ментальное™, ухватываемой
через одинокого индивида, "на краю земли11 (на ее, ментально-
сти, краю...). Необычный индивид - как концентрация цивили-
зационных матриц и конкретность их сцепления, как наглядная
возможность их логико-исторического сплава - и переплавки,
раскрывающей их для будущего.
С другой стороны, в точке скрещивания и толчеи всяких
жанров и общих мест, на их перекрестке, становится виден
индивид. И собственно, лишь так он был возможен.
Средневекового индивида обычно выглядывают в каких-то более или
менее случайных и колоритных проявлениях, в виде живого
казуса, в относительной способности выделиться, как-то стать
наособицу, чтобы мы могли его приметить в этой отдельности. И
всегда он оказывается все же связан с готовыми социальными и
ментальными формами, обстоятельствами, всегда обретается
внутри известного жанра. В случае же автобиографии Абеляра
все формы и обстоятельства, напротив, внутри него, из него
исходят и в него возвращаются. Так что именно отдельный чело-
m —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕт
век оказывается своеобразной summa summarum эпохальной
ментальности. Необычный индивид есть выведение наружу той
способности, которая на самом деле дремлет в логических и
риторических матрицах, в жанрах, в массовом сознании, в
исторически наличных и готовых феноменах - их способности быть
движущимися, смешивающимися, сталкивающимися,
озадачивающими, напрягающими души, меняющимися, странными,
короче, культурными12.
43
Было бы, очевидно, интересным сравнить "Историю
моих бедствий" с обычными, скажем, экземплумами или
житиями. Для этого понадобилось бы взять "нормальное"
композиционное соотношение в жанре увлекательной фабулы и
назидательных разъяснений, повторяющиеся схемы зачина,
перипетий, подготовки, неожиданной кульминации, а также известный
разброс казусов вокруг этих схем, т. е. отклонения к более или
менее индивидуализированным вариантам, клишированные
эмоциональные краски, лексемы и пр., интонацию
подразумеваемого рассказчика (эпическую позицию вне действия и
возможность мысленного включения в него, сочувствия и т. д.). И
посмотреть, что из всего этого набора использовано Абеляром, как
готовые формы у него ломаются, распираются непривычной
смысловой нагрузкой, как контаминируются элементы разных
жанров, насколько далеко оказывается возможным зайти в этом
личностном пережиге готовых смыслообразующих установок.
Или еще тоньше: как из уникальных обстоятельств абеляровой
судьбы, из его неординарного душевного склада, из одной
точки, из метаний "индивидной" души прорастают все знакомые
нам жанровые формы. То есть как сугубо личное оказывается
не только обреченным на готовое (на осознание себя через
непреложный культурный язык), но и как этот язык возникает
будто бы впервые, квази-индивидуально, тем самым
обнаруживая повышенный динамизм, жизненность, то исходное,
напряженное духовное усилие, которое в итоге застывает,
клишируется, повторяется в несчетных текстах.
Смысловая первичность - это стоит еще раз повторить -
дает о себе знать лишь благодаря тому, что Абеляр вынужден то
_ m
Ради чего Абеляр написал автобиографию
и дело менять и смешивать жанровые ориентации. Вместе с тем,
собственно, именно при каждом таком изгибе, на каждом таком
шве только и рождается то, что принято называть
средневековой "личностью" Абеляра или его "индивидуализмом".
(Анахронизм сей, по-моему, простителен и даже необходим, инстру-
ментален, но при условии, что он остро ощущается и
осмысливается.) На каждом шагу автор выбирает подходящую
парадигму, отсылку, знак, и мы в некотором замешательстве:
раскаивается ли Абеляр или гордится, проповедует или просто
рассказывает, жалуется или возвышается над страданием, переживает
все заново в воображении или использует как материал для
назидания? Поэтому он оригинален, ничего не помышляя и даже
не зная об оригинальности. Все страсти, все линии судьбы
стягиваются в огромную цельность "Истории", разнородные
элементы рассказа объединяются в смысловом фокусе, каковым
становятся "бедствия" как микроистория индивида в
соответствии с макроисторией человечества. Высокая
предназначенность, соблазны тщеславия и любострастия, грехопадение и
наказание свыше, очищение ради жизни не от мира сего,
правоверие, злобные гонения - словом, путь с высоты в бездну и
спасение на самом дне ее, муки и духовное торжество - путь к Богу.
Так становится интересной и возможной отдельная
человеческая жизнь.
44
Все, чем восторгаемся в абеляровой исповеди мы% -
вот это странное соединение непосредственности и
рассудочности, необыкновенных положений и чувств и схоластической
книжности, нескончаемых цитат, отвлеченностей - есть
результат неуклонного достраивания автором себя до родового
человека, до предвечного общего жребия. Отсюда всежанровая
ткань, по которой расшивает свою биографию Абеляр. Даже
столь необычное событие, как насильственная кастрация, дает
ему удачнейшую возможность завязать в один узел телесное и
духовное, два греха и разрешение от них обоих, восстановление
целомудрия в глубоком смысле этого старинного русского
слова, т. е. возвращение к цельной, ненарушенной мудрости, -
существования в Боге.
181 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
Абеляр сказал о себе все, что мог и должен был сказать. Мы
имеем дело с полнейшей смысловой и литературной
законченностью. Если тем не менее нас особенно волнует - но,
осмелимся предположить, и средневековых читателей отчасти смутно не
волновало ли на другой лад то же самое? - некоторая
недосказанность, некий проблемный остаток, то таков уж эффект этой
пограничной культурной ситуации. Она же даст о себе знать -
хотя посредством совершенно иной текстовой интриги,
требующей от историка иных методических приемов, - в письмах Эло-
изы, т. е. в ее прямом отклике на "Историю". Так или иначе, но
люди известной среды, воспитания, манеры думать и писать
вдруг напрягают до последнего предела все эти ресурсы. Так
возникает неповторимость. Душа страдает, стеснена и рвется
выговорить больше, чем это дано горизонтом цивилизации.
Этот горизонт никогда не может быть прорван, однако тем
самым нам представляется редкий случай взглянуть на него, а
притом и на рождение индивидного сознания в смысловых
зазорах текста - словом, оценить культурную неисчерпаемость
средневековья.
Абеляр и Элоиза высказались до наивозможного конца, и
как раз отсюда впечатление неокончательности, т. е. того, что
авторы богаче своих текстов. Для историка культуры, однако,
существеннее (предметнее, доказательнее) то, что в результате
тексты нетождественны себе, богаче своих авторов, содержат
гораздо больше, чем они сами были способны понять.
И уж, конечно, больше, чем способны понять мы. Ведь
Абеляра будут читать и толковать долго после нас, если не всегда.
Письма Элоизы к Абеляру.
Личное чувство
и матрицы культурной
среды
Domino specialiter, sua singulariter.
Epistola VI1
l
СЛОВА, вынесенные в эпиграф, - приветственная
формула, которой открывается последнее из числа так
называемых личных писем Элоизы к Абеляру. Перевод довольно
затруднителен. Буквально выходит нечто невразумительное:
"Господу - особо, ему - отдельно". Но, конечно, наречиями
представлены здесь противоположные понятия: species и
singularitas. Элоиза хотела сказать, что она в качестве человека
вообще, в родовом своем определении, служит, будучи монахиней,
Господу. Однако ее же человеческое существо, взятое в
отдельности, в индивидуальности, по-прежнему заповедано Абеляру;
она, Элоиза, - "sua", Абелярова. Итак: "Господу
(принадлежащая) по роду; ему (Абеляру) - как таковая". Или - переводя
более свободно, усиливая резкость терминологического
противопоставления - может быть, даже так: "Господу -
универсально, ему - индивидно"2.
Бог и возлюбленный в который раз сближены ею, со-поста-
влены. Риторический параллелизм и внутренняя рифма
придают этому наглядность. Однако тут еще важно, на кого
рассчитана ученая формула элоизовой любви, кто адресат письма.
Образованнейшая женщина тогдашней Европы, с особым
прилежанием, конечно, читавшая сочинения бывшего мужа и
нынешнего духовного пастыря, не могла во всяком случае не знать, как
разъяснялось соотношение species и singularitas, т. е. рода и
ш_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕКАЙТЕ О СЕБЕ'
конкретного индивида ("quod de uno solo praedicatur") в
номиналистической логике Абеляра3. Поэтому обращение к Абеляру
и эти два слова - "sua singulariter" - приобретают как раз в
контексте его учения необыкновенную емкость и
проникновенность. "Я - твоя в своей индивидности". Но он-то называл
"индивидную субстанцию рациональной природы" (naturae ratio-
nabilis individua substantia - определение Боэция)
самодостаточной "первой субстанцией"; "species" же - "второй
субстанцией", производной и обособляемой от первой только в "имени".
Тем самым Элоиза едва ли не дает окольно понять, что
своеобразные преимущественные права сохраняются за личным
чувством. Тут перенос смыслового объема: себя как вот этой
монахини Элоизы над собой же как монахиней.
Формально-риторическое равновесие попадает под вопрос.
Между тем в третьем письме Элоизы личная тема
истаивает. Оно начинается с того, что "безмерно скорбные слова" в
ответе Абеляра (см. Ер., V) побуждают ее придать хотя бы
эпистолам ту благоприличную непроницаемость, которую "не то
чтобы трудно, а прямо-таки невозможно выдержать в разговоре.
Ведь нет ничего, что было бы в нашей власти в меньшей
степени, чем (собственный) дух, так что мы скорее (лишь)
помышляем совладать с ним, чем в силах (действительно) повелевать
емуп (col. 213. Курсив здесь и далее мой. - Л. Б.). Мы запомним
этот своего рода постскриптум к письмам Элоизы.
Диакониса Параклета подчинилась энергичным внушениям
Абеляра. Далее она вопрошает о происхождении монашества, о
монастырском уставе и т. п. Она цитирует "Искусство любви"
Овидия лишь для того, чтобы подкрепить сомнение: нет ли
опасности в существовании сугубо женских общин? Она
просит Абеляра о вразумлении и устроении обители, им
опекаемой. "Ты реки нам, а мы да внемлем" (col. 226).
И собственно, только в приветствии Элоиза опять
обдуманно и неколебимо выговаривает то, что раздувало жар первых
писем. Прежде чем окончательно проститься со своей земной
любовью, точнее, замкнуть на сей счет уста, - Элоиза выражает
в терминах ранней схоластики ту коллизию сознания, которую
нам предстоит исследовать. "Specialiter" и "singulariter" в
последний раз двусмысленно разводят и сводят женскую
преданность и благочестивое обетование.
_ m
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
Все затухает, кроме красного угля двух, нет, не двух! а все-
таки именно вместе и нераздельно четырех неугасающих слов.
Domino specialiter, sua singulariter.
Больше Элоиза не проронит об этом ни звука.
2
Как подступиться нам спустя восемь с половиной
веков к письмам Элоизы, как понять?
Каждый, кто интересовался ими, прежде всего узнаёт - из
автобиографии Абеляра, из самой переписки и некоторых
других документов - внешнюю канву этой знаменитой истории.
Элоиза (ок. 1100-1164), племянница парижского каноника
Фульбера, уже в ранней юности отличалась редкими
("особенно среди женщин") способностями к наукам, так что о ней
прослышали "во всем королевстве". "Она, обличьем другим не
уступая, начитанностью далеко превосходила". Ей было лет
семнадцать, когда Фульбер пригласил прославленного магистра
Абеляра (1079-1142) давать ей уроки на дому. Абеляр пишет:
"Итак, под предлогом учения мы всецело предавались любви, и
усердие в занятиях было лишь способом для тайного
уединения. Книги оставались раскрытыми, но над ними больше
звучали слова о любви, чем о прочитанном; больше было поцелуев,
чем мудрых речений; руки охотней тянулись к груди, чем к
книгам; глаза чаще выражали любовь, чем следили за
написанным... Что дальше? Охваченные страстью, мы не упустили ни
одной из любовных ласк с добавлением и всего того
необычного, что могла придумать любовь"4.
Их трагический роман захватил, как принято считать,
1117-1119 гг. Они не избежали, как водится, огласки, а вскоре
Элоиза и забеременела. После чего Абеляр похитил
возлюбленную, увез к себе на родину, в Бретань, где она жила под кровом
его сестры, пока не разрешилась сыном Астралябием.
Разгневанному дяде Абеляр предложил искупить грех браком, но
непременно тайным, дабы не подорвать своей репутации и
деятельности на магистерском и, может быть, в будущем на
церковном поприще. Абеляр вспоминает, что против женитьбы -
несовместной, согласно тут же приводимым мнениям
языческих писателей и святых отцов, с любомудрием, со сосредото-
m _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
ценностью и достоинством философа - самоотверженно
возражала сама Элоиза (и она в первом письме подтверждает это).
Все же венчание состоялось, а так как Фульбер и его домашние,
вопреки данному обещанию, принялись повсюду рассказывать
об этом, Абеляр укрыл молодую жену в монастыре Аржентейль,
где она воспитывалась в детстве. Магистр своими руками
облачил ее в монашеское платье, но "без покрывала", т. е. без
пострига. Там он ее навещал; и "в святых стенах сих", "даже и в
дни страстей Господних", свидания их были такими же
жгучими (Ер., V, col. 205-206).
Однако родичи Элоизы решили, что Абеляр "грубо обманул
их и посвятил ее в монахини, желая совершенно от нее
отделаться" (с. 31). При помощи подкупленного слуги их люди
проникли ночью в спальню магистра и, схватив его спящим,
оскопили. Абеляр удалился в аббатство Сен-Дени, позже в иные
обители, отныне он - монах, вспоследствии пустынник близ
Труа, аббат в Бретани. Элоиза еще ранее него также приняла
постриг, стала затем настоятельницей в Аржентейле. Когда
Абеляр воздвиг молельню в честь св. Духа-Утешителя
(Параклет), он пригласил Элоизу и ее монахинь перебраться на
отведенные для Параклета земли; папа Иннокентий II утвердил
дарение; так подле нового храма был основан и новый монастырь.
Брат Абеляр и сестра Элоиза в ту пору виделись часто, вызывая
сплетни и нападки, на ученое опровержение которых в его
автобиографии отведено несколько страниц.
После отъезда Абеляра в Бретань несколько лет они не
встречались. В 1132-1135 гг. была написана "История моих
бедствий". Элоиза ее прочитала, и началась известная нам
переписка. Аббатисе Параклета было тогда, следовательно, около
тридцати пяти лет.
Но во снах она продолжала видеть себя юной
возлюбленной, в Париже. "И в самом деле, любовные наслаждения,
которым мы некогда обоюдно предавались, были для меня
настолько приятными, что не могут ни утратить прелести, ни хоть
сколько-нибудь изгладиться из моей памяти" (с. 85-86). В
монастырском уединении, склонясь над эпистолами, Элоиза
заново переживала события и чувства по крайней мере
пятнадцатилетней давности.
_ m
3
Это общепонятные чувства - для современного
читателя, казалось бы, точно так же, как и в XII столетии. Вместе с тем
ясно даже на самый поверхностный взгляд: таких любовных
писем никто не сочинил бы ни в новое время, ни хотя бы в эпоху
Возрождения. Это совершенно средневековые тексты, ныне
весьма диковинные и даже возможные, как мы увидим далее, именно
в своем веке, но не, скажем, в XIII. Это любовные послания,
требующие обширного историко-культурного комментария,
изобилующие ссылками на Священное Писание и авторитетных
авторов, богословской аргументацией, риторическими фигурами и
топосами, снабженные в латинском оригинале метрической
периодичностью, ритмизованными окончаниями фраз ("курсуса-
ми"), изысканными созвучиями, так что даже там, где нет или
почти нет средневековой предметности, где все как будто
понятно каждому и не требует никакого комментария, где звучит голос
измученной женщины, молящий далекого друга об утешении, -
все равно, разве смысл не зависит и не становится незнакомым
для нас, исторически-экзотическим, уже по одному тому, как он
звучит, как, следовательно, устроено сознание Элоизы?
Non utique ab alio,
sed a teipso,
ut qui solus es in causa dolendi,
solus sis in gratia consolandi
Solus quippe es
qui me contristare,
qui me laetificare,
seu consolari valeas.
Et solus es
qui plurimum id mihi debeas (etc.)
(Ep., II, col. 184.
Разбивка моя. - Л. Б.)
И никак не от другого,
но от тебя самого,
ведь ты один есть источник огорчения,
ты один будь податель утешения.
Ибо ты один способен
заставить меня тосковать,
до _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
заставить меня ликовать
и утешиться.
И ты один должен
более всех для меня о сём
позаботиться (и т. д.).
Было бы непозволительным пытаться вырвать из сплошной
ткани писем Элоизы какие-то куски индивидуального и
непосредственного чувства и воспринимать их вне этой ткани. Во-
первых, легко ошибиться, как будет показано ниже, в том
отношении, что самые интимные, самые искренние и
эмоциональные признания Элоизы могли черпать силы, дабы стать
таковыми, как раз в риторических, книжных ходах сознания, в
опосредовании через общезначимые религиозные установки. Во-вторых,
такие ходы и установки следовало бы, в свой черед, взять не в
отвлеченности, не "вообще", а сращенными с уникальным
смысловым движением писем Элоизы, чтобы выяснить, каким же
образом общие места средневекового мировосприятия
участвовали в этом движении и притом насыщались особенным,
сдвигались, преобразовывались.
4
Когда историк культуры видит перед собой
совершенно особый казус, вроде любовных писем Элоизы, когда
духовная напряженность подобного текста выводит его из ряда вон,
делает слишком индивидуализированным и вроде бы
непоказательным для средневековой эпохи, - тогда чаще всего
предпринимается одна из двух попыток прочтения, внешне
противоположных, на деле же имеющих методологическую точку схода.
Во-первых. Можно рассудить, что уникальный случай
ничего не дает для изучения подлинной, глубинной, устойчивой
исторической реальности, т. е. коллективной средневековой умо-
настроенности (ментальности). Разве что любое неповторимое
произведение мы возвратим в общий ряд, сведем к
интеллектуальным, социально-психологическим, словесным
обыкновениям эпохи. С этой точки зрения познавательная поучительность
писем Элоизы совпадает именно с готовыми матрицами
средневекового сознания, а поразительные интимные признания
настоятельницы монашеской общины Параклета - некое отклоне-
_ m
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
ние и случайность. Тогда интерес к необычной фигуре Элоизы
как таковой был бы достаточно старомодным, эстетизирован-
ным и, в сущности, не способным дать научные результаты.
Индивидуальное в традиционалистской культуре выразительно,
но бессильно, лишь оттеняет господство риторических
условностей, морально-религиозных норм и т. д. По отношению к
"горизонтальным" характеристикам французского XII века, даже в
пределах образованной элиты, все особенное в письмах Элоизы
выглядит при таком взгляде на вещи изолированным, хотя и
красочным эпизодом.
Во-вторых. Можно сделать акцент на индивидуальных
элементах переписки, сопрягая их не с эпохальной рутиной, а с
надэпохальным, "вертикальным" контекстом. Этот метод
состоит в психологизации (или, напротив, формализации) материала
в поисках "вечных страстей" (или инвариантных литературных
мотивов и топосов, или иных, скажем, психоаналитических
признаков), повторяющихся всегда и везде. Во всяком случае
любовное чувство Элоизы с этой точки зрения с XII веком и
даже со Средневековьем никак исключительно не связано.
Оба взгляда, впрочем, сходятся в том, что для истолкования
культурного текста потребно его рассечение на разнозначимые
слои. Или: письма берутся со стороны их строго исторической
закрепленности и обусловленности. Они интересны для
исследователя-историка (а не для "просто читателя", это резко
разводится!) постольку, поскольку детерминированы. Тогда
индивидуально-смысловое оказывается только добавкой, оболочкой
исторически-сущностного. Все личные, казусные,
выбивающиеся черты должны быть сведены к матрице; если это не удается,
они остаются иррелевантными, замыкаясь на себя же.
Или: конкретно-исторические формы самосознания и
поведения понимаются как преходящая оболочка, добавка к
универсально-человеческому положению и чувству Элоизы. Сквозь
локальное и несмотря на него, мы пробиваемся к личному - и
вечному.
Так или иначе, предметом анализа не становится
беспокойное усилие индивидуальной рефлексии. Личное
рассматривается в отрыве от культурного опосредования. Поэтому неясно,
как с ним быть, куда пристроить его уникальность, откуда
вообще она берется. Словесно-мыслительные структуры произ-
до_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
ведения кажутся не создаваемыми, а лишь заданными. Точно
так же и личное воспринимается как нечто существующее до
текста, а затем с ним смешивающееся. В эту логическую щель
проваливается самое сокровенное: встреча индивидуального
духа и прежней культуры, творящая их обоих наново.
Свойственный данному тексту особенный способ смыслопорождения
теряется.
5
Со своей стороны, мы попробуем этот способ и
сделать предметом наблюдений.
Сознание Элоизы, разумеется, отнюдь не однородно, не
цельно, но и не механически-агрегатно, а едино - как, впрочем,
любое культурное сознание, - и письма открывают (если
открывают) свой последний смысл лишь не дробящему их, не
мешающему высшей связности, всеохватному толкованию.
Поэтому так трудно к ним приблизиться.
Зажмурят один глаз - и видят в элоизовых посланиях то,
что свойственно не им одним, то, что можно спокойно заменить
понятиями, допустим, "средневековой риторической эпистолы",
или "ранней латинской прозы", или "образованности так
называемого века Овидия" (т. е. XII в.), или "северофранцузской
религиозности у истоков схоластики и готики" и т. п. В лучшем
случае пишут о религиозно-дидактическом характере
переписки, об отклонениях Элоизы от норм монашеского чувствования
и поведения, спорят, насколько полным было ее "обращение"
под воздействием ответов Абеляра.
Зажмурят другой глаз - картинка сдвигается - и замечают
прежде всего подлинность, небывалую откровенность личного
переживания, неусмиренную чувственность, изъяснения
страсти, слова тоски и вечной преданности, хотя и задрапированные
в архаическую и чуждую нам стилистику. Словно бы поверх
условностей и ограничений, поверх своей эпохи, вопреки ее
формам доносится всечеловеческий язык любви, трогавший Жана
де Мена, Петрарку, XVII век, романтиков, глубоко трогающий
и нас... такой же, как и наш язык, разве что более прямой,
наивный, чистый по смыслу.
Итак, производится редукция либо к эпохально-общему, к
усредненному средневековому сознанию, либо к всемирному
_ 190
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
"личному", вне истории. Текст деперсонализируется. Конечно,
Элоиза - "средневековый человек", а если угодно, и "любящая
женщина" вообще. Но стереоскопического видения не
получается в научной и полунаучной литературе об Элоизе, т. е. не
находится понимания, каким именно конкретным способом ярко
индивидуальное соединилось в ее письмах с тем, что называют
средневековой ментальностью, и как это-то и было
приращением всечеловеческого. Или, иначе говоря: какова мера
непосредственного самовыражения и культурного опосредования. Или
еще иначе: каковы характер и пределы индивидуальности в
европейской средневековой культуре судя по письмам Элоизы,
истолкованным как уникальный фокус этого типа культуры.
6
Но в состоянии ли и вправе ли мы судить? Две
эпистолы, составляющие мировую славу Элоизы, заметно
выделяются среди всех и без того редкостных сочинений
средневековых женщин. Более того. Необычные обстоятельства,
человеческий масштаб и одаренность автора делают эти тексты наиболее
индивидуальными в своем роде за всю историю европейского
средневековья. Автобиография самого Абеляра несопоставимо
многогранней, однако и в ней мы не найдем такой глубины и
распахнутости интимного. Но тогда насколько и в каком плане
письма несравненной Элоизы исторически показательны?
Постараемся постепенно отдать себе отчет также и в этом.
Вот парадоксальная трудность культурологического
подхода. Чтобы ответить на поставленные вопросы широкого
исторического значения, проникнуть в тип культурного сознания, -
придется сосредоточиться на произведении, отмеченном в
целом свойственным только ему своеобразием, и подбирать к
нему какой-то специальный ключ...
Между тем в последние десятилетия переписку Элоизы
исследуют главным образом со стороны ее аутентичности5. (Свое
отношение к текстологическим гипотезам и спорам я выскажу
ниже.) Берут переписку со стороны истории церковных
институций, или риторических структур, или конфессиональной
этики (учение Абеляра о грехе) и т. д. Но не ради
культурно-содержательного смысла.
191 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
То есть эти письма продолжают тщательно изучать, но,
кажется, больше не читают.
Не такова ли, впрочем, судьба и многих других
классических текстов? Видимо, считается, что было бы странным
искать в их изъезженном вдоль и поперек прямом содержании
что-то новое, незамеченное ранее. Открытий тут ожидают лишь
при условии архивных находок или включения в инодисципли-
нарный контекст, в некий общий ряд, куда эти тексты раньше
не помещали, - но не в результате смещения
логико-культурного угла зрения, не с тем, чтобы предметом исследовательской
интерпретации стала бы внутренняя самоотнесенность
произведения, его неоднозначность, нетождественность себе же:
скрытая историческая логика смыслопорождения.
7
Перед нами продуманные до мельчайших деталей,
изощренные сочинения в тогдашнем вкусе, соответствующие
требованиям риторики с первой же вступительной фразы.
Формула приветственного вступления (salutatio) - важный
элемент средневекового искусства составления писем (ars dicta-
minis). Во-первых, обращением устанавливалось иерархическое
отношение между отправителем и адресатом, причем первым
должно было быть поставлено имя того, кто признавался
высшим из них двоих. Во-вторых, это был знак, предлагающий
известный характер и окраску взаимоотношений, отчасти, может
быть, и предваряющий содержание письма; обращение взывало
к ответной благорасположенности (captatio benivolentiae). Во
времена Элоизы риторические функции обращения, как и
прочих частей эпистолы, еще не формализовались в той мере, в
какой это произойдет в XIII в.; оно, подобно прочим элементам
письма, нуждалось в "нахождении" (inventio), a не просто
заимствовалось из готового набора, как это будет в позднейших
письмовниках6.
Первое письмо Элоизы начинается так: "Господину своему,
а впрочем (или, вернее же, immo), отцу; супругу своему, а
впрочем, брату; служанка его, а впрочем, дочь; его супруга, а
впрочем, сестра: Абеляру Элоиза" (р. 68). Играя "фигурами" -
уподоблениями, противопоставлениями, созвучиями, параллелиз-
_ 192
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
мами, - с великолепной риторической "краткостью" (brevitas)
обходясь без глаголов и прилагательных, Элоиза уже в зачине
письма дает образчик словесно-мыслительного схематизма и
украшенности. И вместе с тем вступительная формула полна
обостренно-личного значения, в ней свернуто все напряжение
дальнейшей переписки.
Дважды определен здесь Абеляр: как господин и супруг. И
дважды переопределен: как отец и брат. Каждое определение
оказывается не окончательным, опровергается следующим. В
итоге получаются оксюморонные уподобления: Абеляр - отец,
муж и брат одновременно. Затем это же повторяется, но уже
через самоопределение отправительницы. Она и дочь, и жена, и
сестра сразу.
Значимо и то, что на первое место всякий раз -
четырежды - поставлено взаимное положение Абеляра и Элоизы во
время парижских событий: в эпистолярной формуле, как и в
иконе, существенно местническое сознание. Элоиза обращается
прежде всего к возлюбленному мужу. Но всякий же раз - через
гибкий союз "immo" - возлюбленный тут же обращается в
духовного пастыря и монаха. Приветствие Элоизы - своего рода
эмфаза, предельно сжатое риторическое выражение
раздвоенно-мучительного духовного состояния, состояния сугубо
индивидуального. Ибо муж и жена могли, конечно, вместе принять
монашеский сан, стать не супругами, а "сестрой" и "братом". В
те времена это случалось. Так поступили, например, в 1113 г.
пожилые родители Абеляра. Но сейчас, разумеется, ситуация
была совсем иная и особенная.
Оксюморонность, соединение несоединимого - в
глубочайшей природе средневекового риторического мышления. В этом
верх доступного для него драматизма, излишне
орнаментального на наш вкус, но по-своему истинного. В письмах Элоизы
тоже сколько угодно примеров вроде: "о, inclementem clementiam!
о, infortunatam fortunaml" - и т. п. Это бывало и всего лишь
полуформальным приемом красноречия, но впоследствии из этого
вырастет целый жанр, увенчанный знаменитым вийоновским
"Состязанием в Блуа" ("От жажды умираю над ручьем" - и
далее сплошной оксюморон).
Прием перерастает в новые мироощущение и поэтику
также в сонетах Петрарки. Петраркизм XIV-XVI вв. состоял в бес-
7 - 345
m —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
конечном варьировании мотива светлой муки, т. е. в
полусознательном обмирщении пафоса страстей Христовых. За этим не
было ничего кощунственного. Чутко соблюдался такт.
Католицизм всегда умел исподволь окрашивать собой и включаться в
созидание вполне светской культуры. Внесению в
чувственность почти мистической экзальтации исторически
предшествовало, напротив, внесение в мистическую экзальтацию
чувственности, которое - как, например, в "Песнопении хора
девственниц'* ровесницы Элоизы и тоже бенедиктинской аббатисы
Хильдегарды на Рейне - было задано "наличной системой
символов", прежде всего "Песни Песней", и "трансформировало"
эту систему7.
Другой ствол от того же корня - близившийся мир
труверов. Через сто с лишним лет у Жана де Мена, переведшего на
северофранцузский язык восхитившие его письма Элоизы,
завершится куртуазное соединение Розы и Креста, трагически
переосмысленное в блоковской "странной песне" ("Сердцу закон
непреложный - Радость-Страданье одно!" Как может страданье
радостью быть? "Радость, о, Радость-Страданье, боль
неизведанных ран").
Можно думать, что особенное тяготение средневековой
риторики к оксюморону имело в конечном счете своей подоплекой
христологию, сам дух Нового Завета, в котором мессия - Царь
Иудейский на осляти, царь и нищий, во всевременном
торжестве и в одиноком смятении и унижении. Сцена в саду Гефсиман-
ском, и "блаженны нищие духом", и Лазарь в струпьях на ложе
Авраамовом, и обращение Савла - все сплошь, так сказать, ок-
сюморонное мышление (не лишенное и архаической
подосновы), расположенное к тайне, но и к ее же наглядной, даже
схематической явленности. Таков единственный Бог в виде
Троицы. Таково непорочное зачатие. Христос есть воплощенный и
непостижимый, трагический и ободряющий оксюморон
богочеловека. Абеляр, между прочим, в соответствии с решениями
Халкидонского собора очень настаивал на персоналистической
нераздельности, хотя и двойственной, природы Христа8. Догма
все это скрепила и, пожалуй, дала специфическую подсветку
способу высказывания.
Вот почему вступительная фраза Элоизы выдержана, стало
быть, в стиле донельзя традиционном, и средневековый книж-
_ 194
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
ник, обратив к ней слух, должен был сразу же почувствовать
себя дома9. С точки зрения матриц сознания формула
приветствия была риторически и сакрально приуготовлена для Элоизы
прежде, нежели она взялась за перо. (Ср. с легендой о папе
Григории I, использованной в "Избраннике" Томаса Манна.)
8
Однако ведь эта формула заново изобретена,
обдумана, более того, выстрадана ею и заключает неповторимо
индивидуальный смысл. Судьба распорядилась так, что внутреннее
существование настоятельницы Параклета стало немыслимым
соединением несоединимого. Прошлое, о котором полагалось
забыть, Элоиза греховно удерживала и налагала на настоящее.
Она, еще не старая женщина, по-прежнему сознавала себя
женой злосчастного Абеляра, все еще жаждала любви, но притом
ни на минуту не переставала быть глубоко набожной
монахиней, пишущей монаху. Внешне это сказывается, в частности, в
переходах, порывистых и обдуманных, от V к "мы" и снова к
"я". "Мы" - девы монастырской обители, "я" - их диакониса,
для которой Абеляр не только духовный пастырь.
"Недавно некто доставил мне, о возлюбленнейший,
утешительное послание ваше к другу... Я начала читать с тем
большим увлечением, чем более преданно люблю писавшего... Я
полагаю, что никто не может читать или слышать об этом без слез.
(Подготавливается переход к "мы". - Л. Б.) Во мне же чтение
возбуждало скорбь тем более сильную, чем подробней писал ты
об отдельных событиях... Поэтому в страхе за твою жизнь все
мы равно приходим в отчаяние..." (с. 63-64). С этой фразы
Элоиза надолго отказывается от единственного числа, она
обращается от имени "рабынь Христовых и твоих", она умоляет чаще
писать "нам", духовным "дочерям" - его, строителя скинии, -
"единственного создателя этой монашеской общины"
(с. 64-65). Так что Абеляр оказывается "единственным"
("unice") одновременно по меньшей мере в двух
сталкивающихся значениях. (В дальнейшем мы уясним себе также третье -
высшее и мистическое - значение этой единственности.)
"Но оставим всех других в стороне. Подумай о том, сколь
великий долг лежит на тебе предо мной лично: ведь тот долг,
7·
195 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙП О СЕБЕ"
которым ты обязался вообще перед всеми женщинами
(обители), ты должен еще ревностней заплатить мне, твоей
единственной". Ибо, "как всем известно, ты связан со мною таинством
брака; и это налагает на тебя тем больший долг, что, как это
всем очевидно, я всегда любила тебя безмерной любовью"
(с. 66-67). И далее до конца письма "мы" забыто, отставлено,
Элоиза говорит только о себе и от себя, и слова ее поистине
поразительны. "Будучи юной девушкой, я обратилась к суровой
монашеской жизни не ради благочестивого обета, а лишь по
твоему приказанию... Ибо душа моя была не со мной, а с тобой!
Даже и теперь, если она не с тобой, то ее нет нигде: поистине
без тебя моя душа никак существовать не может. Но, умоляю
тебя, сделай так, чтобы ей было с тобой хорошо...10 Умоляю
тебя, вспомни, что я для тебя сделала, и подумай о том, чем ты
мне обязан. Пока я наслаждалась с тобой плотской страстью
(carnali fruer voluptate), многие недоумевали: движет ли мною
любовь или похоть (utrum id amore, vel libidine agerem). Ныне
же конец являет, что побуждало меня в начале. Ведь я
отреклась совершенно от всех удовольствий, лишь бы повиноваться
твоей воле. Я не сохранила ничего, кроме желания быть теперь
целиком твоей" (с. 70-71; р. 72-73).
"О, если бы, мой любимый, твоя любовь была не столь
уверена во мне, она была бы заботливей. Но ныне чем менее ты
сомневаешься во мне, тем больше я принуждена сносить твое
пренебрежение".
Конечно, можно понять, почему Петрарка записывает тут
на полях: "Feminee" ("По-женски"). А мы, вчитываясь в
латинские ритмы - "Memento, obsecro, quae fecerim..." - мы почти
готовы твердить цветаевское: «О, вопль женщин всех времен:
"Мой милый, что тебе я сделала?"*.
9
Это все же не так. Не всех времен, но совершенно
особенного времени, причем даже не средневековья, а именно
первой половины XII в. в Северной Франции11.
Раскроется это перед нами не сразу. Пока напомню лишь
лежащее на поверхности - ну, хотя бы концовку первого
письма, итожащую смысл всех упреков и молений. "Итак, самим Бо-
_ 196
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
гом, коему ты посвятил себя, заклинаю тебя каким угодно
способом вернуть мне свое присутствие, написать что-либо
утешительное, - хотя бы с тем намерением, чтобы, ободренная, я
могла ревностней отдаться божественному служению. Прежде,
когда ты домогался меня ради нечистых наслаждений (turpes
olim voluptates), ты писал мне чаще12, и у всех на устах были
песни, в которых ты то и дело поминал свою Элоизу. Мое имя
звучало повсюду на площадях и в каждом доме. Так насколько
же теперь праведней увлекать меня к Богу, чем тогда к
плотской страсти (libidinem)?" (p. 73). Дело обстоит вовсе не так,
будто Элоиза вдруг под конец спохватывается и принужденно
сглаживает звучавшую ранее страсть. Ее благочестие постоянно
и, разумеется, искренне. Вместе с тем - Петрарка прав! -
женское чувство даже и в этом богобоязненном пассаже остается
живым. Набожность и любовное воспоминание, покаяние и
верность прошлому, риторика и непосредственность каким-то
(еще неясным нам) органическим спосойбом согласованы.
Элоиза лучше, чем мы, умеет осознать в таинственном единстве,
оправить формулой salutatio, связать несоединимые моменты
своей душевной жизни. Она видит в Абеляре супруга и пастыря
вместе: помнит и принимает то и другое.
Абеляр же в ответном послании (Ер., HI, col. 188-192;
р. 73-77) чуть ли не каждой фразой дает ей понять, что
необходимо забыть о первом и помнить только о втором, т. е.
относиться к нему лишь так, как подобает монахине относиться к
монаху. Поэтому он начинает с однозначной приветственной
формулы, которая есть не что иное, как ласковое, но суровое
возражение на ее оксюморонную формулу: "Элоизе, возлюблен-
нейшей сестре его во Христе, Абеляр, брат ее во Христе". Таким
образом, из сплетающихся определений, использованных Элои-
зой, оставлено только одно, необходимое и законное. Первые
слова следующего за сим текста: "После обращения нашего от
мира к Богу..." Затем Абеляр дает понять о требованиях
благоразумия, неотъемлемого от пастырской ответственности
Элоизы и вполне оправдывающего его, Абеляра, молчание
("tuac.prudentiae imputandum est"). Он долго не писал ей,
поскольку полагался на хорошо известную благую попечитель-
ность аббатисы Параклета, способной самостоятельно
наставить своих духовных дочерей "и словами, и примерами заблуж-
197 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
дений (exemplis errantes)". Он был, следовательно, вправе
предполагать, что Элоиза не нуждается в его утешениях и
увещеваниях. Из этого рассуждения ясно как божий день, что у них не
может быть иных оснований для переписки...
Каждым дидактико-риторическим ходом Абеляр косвенно
укоряет Элоизу; не проникнув в ригористический смысловой
напор его ответа, нельзя понять взрыва страсти и покаяния,
который последует во втором письме Элоизы. Ибо это живой
диалог, в котором собеседники не повторяются, а всякий раз
выстраивают ответные высказывания.
Из двух голосов (мотивировок), составляющих драматизм
упреков Элоизы, Абеляр поначалу демонстративно соглашается
расслышать только тот, который обусловлен ее саном ("sub
abbatissa prioratum"). Позже, отвечая на второе письмо, он уже
не сможет попросту уклониться от обсуждения их личных
отношений, их прошлого; вот тогда он сменит тон, заговорит
впрямую. А пока аббат Абеляр осведомляется, в чем,
собственно, должно состоять испрашиваемое наставление в вере для
диаконисы Элоизы... и для пасомых ею. "... Укажи, о чем ты
хочешь, чтобы я написал тебе, и я напишу об этом, как надоумит
Господь".
Правда, и Элоиза обращалась к нему также от имени сестер,
от лица общины; но настойчиво оговаривала особый долг по
отношению к ней того, кто был ее супругом и повелел некогда в
качестве "единственного обладателя как моего тела, так и моей
души" постричься - "сменить как одеяние, так и душу (animum
immutarem)". До конца "сменить душу" она не в силах и не
желает. "Я" в эпистоле Элоизы то сливается с "мы", то с обдуманной
резкостью отделяется и противопоставляется. Абеляр же,
отвечая, непреклонно растворяет "ты" в конфессиональном "вы".
Действительно, далее сказано: "Благодарение Богу, который
вдохнул в сердца ваши сострадание ко мне... сделал вас
участницами моих терзаний... призрел меня возношением молитв
ваших..." Этот переход к плюралису был предусмотрен формулой
его salutatio. И даже когда Абеляр снова продолжает писать
"ты", а не "вы", в этом "ты" - бедная Элоиза! - заключено все то
же "вы", ибо какие-либо личные отношения, которые не были
бы одновременно и религиозными, отклоняются, немыслимы
даже применительно к воспоминаниям: "сестра, в миру некогда
m
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
дорогая, ныне же во Христе дражайшая" (с. 72-73). Значит, и
некогда в миру, в событиях пятнадцатилетней давности, Элоиза
видится Абеляру сестрой, притом менее дорогой, чем теперь.
Еще раз вспомним, что Элоиза чувствует себя "супругой, а
впрочем, сестрой". Для Абеляра же не существует никакого "а
впрочем". Она - сестра ему в духе ныне и присно.
Об ином же разве что глухо: возноси по псалтырю мольбы
"за великие и многие наши прегрешения". Далее, с учеными
ссылками, подробно: о силе молитвы, всякой молитвы,
особливо из уст женщины-праведницы, тем паче целой женской
общины. "О, если бы сам Господь-Бог внушил тебе и святой общине
твоих сестер твердую надежду в молениях ваших и оградил
жизнь мою для вас..." (с. 75). Далее о воскрешениях из мертвых
в Евангелии и в Книгах пророков: "И эти воскрешения
совершены были по ходатайству немногих. Сохранения же жизни
нашей легко достигнет многоустное моление вашего благочестия...
И если даже оставить сейчас в стороне (Ut autem... nunc
omittam) пресвятую вашу общину, в которой столько верных девиц
и вдов неустанно служат Господу, - обращусь к тебе одной (ad
te unam veniam), ибо не сомневаюсь, что праведность твоя
многого заслужила перед Богом..." (р. 75).
Последнее - это, конечно, прямая отповедь на уже
приводившееся соответствующее место в письме Элоизы: "Но
оставлю других в стороне (Atque ut ceteras omittam). Подумай, сколь
великий долг лежит на тебе передо мной лично..." Лишь в
хоровой молитве сестер о спасении его души Абеляр готов
различить индивидуальный голос Элоизы. Он призывает ее твердо
ограничить личное между ними покаянным молитвенным
заступничеством. "Помни же всегда в молитвах твоих того, кто
твой (супруг) по роду (твоему) (eius qui specialiter est tuus); и
бодрствуй в молитве тем больше, чем более истинным ты это
полагаешь; пусть тем самым молитва будет лучше принята тем,
к кому она должна быть обращена".
"Итак, умоляя, я требую и, требуя, умоляю" - о чем же? О
добавлении к молитвам, возносимым монахинями Параклета в
его, Абеляра, спасение, еще одной, особой молитвы. Он тут же
вписывает сочиненный им текст. А в заключение письма
завещает похоронить его останки в ограде дорогой ему обители,
просит сестер молиться о нем и после смерти его. "Прощай,
199 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
будь здорова, пусть будут здоровы и сестры. Но Христа ради
прошу, не забывайте меня". Множественное число в концовке -
опять-таки эхо приветствия.
10
Продолжая то, что замедленное чтение позволяет
выявить как спор приветственных формул, Элои-
за в своем втором послании начинает так: "Своему
единственному после Христа и его единственная во Христе". А это значит,
что она опять греховно сопоставляет Абеляра с Христом, свою
любовь к Христу и любовь к Абеляру (хотя, разумеется, и
после Христа), к Абеляру после Христа, а не во Христе (как он
согласен любить ее). Опять она смешивает эти две любви. Хочет
быть для возлюбленного мужа пусть и во Христе, и
монахиней - но "единственной"!
Я сказал, что обращение Абеляра было ласковым, но и
суровым возражением. В чем же видимая ласковость? Не столько в
словах "возлюбленнейшей (dilectissimae) сестре", сколько в том,
что имя Элоизы поставлено Абеляром перед собственным
именем. (Хотя "при письменном обращении к низшим впереди
пишутся имена тех, кто выше по достоинству".) Элоиза сразу
ухватывается за этот необычный знак благоволения, явно пытаясь
истолковать его (вопреки содержанию абеляровой эпистолы), так
сказать, в свою пользу, как знак личной нежности. "Удивляюсь я,
о мой единственный, что ты, вопреки принятому в письмах
обыкновению... вздумал в самом приветственном заголовке поставить
мое имя впереди своего, поставить женщину впереди мужчины,
жену впереди мужа, рабыню впереди хозяина, монахиню впереди
монаха и священника, диаконису впереди аббата!" (с. 80). Так
Элоиза настаивает на горькой смысловой двузначности
предыдущего своего обращения. Они оба монахи, оба настоятели; но еще
и по-прежнему мужчина и женщина, муж и жена, и она, Элоиза,
словно в той прежней жизни - все еще рабыня его...
Абеляр отвечает на это уже приветствием второй своей
эпистолы к Элоизе: "Невесте Христовой - его же раб (Sponsae
Christi servus eiuslem)".
Опять монахиня-адресат помянута прежде монаха
отправителя. Но теперь письмо отчасти посвящено разъяснению благо-
_ 200
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
честивой на то причины. Ведь сказано в Псалме 44: "Стала
царица одесную тебя". Ибо у той, что угодна Господу в женах, есть
пресветлая благодать быть "невестой Христовой".
Четырехкратным славословящим отголоском приветствия заключает Абеляр
эпистолу: "Здравствуй во Христе, невеста Христова, во Христе
здравствуй и живи Христом. Аминь" (р. 82-83, 94).
Значит, напрасно Элоиза нежно и смиренно отклоняла
обращение Абеляра, в котором имя ее было поставлено впереди
его имени. Напрасно сочла это обнадеживающим "нарушением
природного порядка вещей". Абеляр возносит Элоизу, да, но не
как Элоизу, он любит в ней уж никак не жену, не свою "рабу",
но рабу и невесту Божью. Не натуральным, а сакральным
порядком вещей обосновывает он свою почтительность, в
которой, оказывается, нет ничего личного, нет ласки, нет памяти о
парижских днях.
11
Тогда-то Элоиза в третий и последний раз (конечно, в
ответ на абелярово "кто твой (супруг) по роду (твоему)") ставит
на своем: "Господу принадлежащая по роду, тебе как таковая".
Но личная переписка обрывается. Элоиза задает вопросы
касательно монастырского устава и душеустроения
("Problemata"), Абеляр шлет письмо "Об изучении
словесности", шлет свое "Исповедание веры" и т. д. (уже обращается к
Элоизе следующим манером: "К девам Параклетским" Ad vir-
gines Paracletenses)... Ничто более в этой переписке, впрочем
очень интересной в плане изучения абеляровой мысли, не
напоминает, как интимно она начиналась.
Вот какие соображения можно бы считать
предварительным выводом из сделанных наблюдений. Каждое слово обду-
мывалось Элоизой под знаком непосредственного чувства, в
беспримерном личном положении. Средневековые идейные
матрицы, риторическая ткань, и в частности формульная
значительность приветствий, ничуть не исключали индивидуального
самосознания, реальных переживаний этих людей. И более
того. Риторика и религиозность как раз и позволили Элоизе
сделать свое положение предметом осознания.
Их брак насильственно расторгнут. Она тогда не хотела
пострига. Стала монахиней не из любви к Господу. Но ныне
20/_
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
кого, собственно, любит мать Элоиза? Ныне - кто для нее
Абеляр? Что такое она сама в последнем счете, в душевной
глубине?
Неизреченное есть ложь. И только став мыслью -
изреченной, риторически законченной, душа Элоизы узнает о себе.
Тут личное целиком изведено в риторическое и
недействительно без него, однако риторика тем самым становится
неравной себе, чем-то большим, иным, чем риторика. Это инструмент
спора с Абеляром, но, как мы увидим, и с собой. Риторическая
рассудительность, силлогистическая овнешненность, раскры-
тость, общезначимость лишь момент некоего более емкого,
колеблющегося, неустойчивого, загадочного духовного мира,
главное же, мира не просто заданного эпохально-общим, уже
известным, а возникающего по мере возникновения текста и
ранее неизвестного.
12
Пока все же непонятно, как могла Элоиза
одновременно и сознавать слишком очевидную греховность не изжитой
земной страсти, сокрушенно каяться - и тут же упрекать
Абеляра, что он "предал забвению нежные чувства, явившиеся
поводом для нашего пострижения", и странным образом требовать
именно во имя этих чувств от того же Абеляра пастырского
ободрения. Такого ободрения, которое состояло бы вовсе не в
забвении, не в преодолении нежных чувств, но... в их
подтверждении. Дабы... "ободренная, я могла ревностней отдаться
божественному служению" (с. 71)1 Он, Абеляр, должен писать ей
не только как духовник, но и как друг сердечный,
единственный, ничего не забывая из былых услад... и этим-то "праведней
увлекать к Богу".
Кажется, в ее риторических периодах в этом решающем
отношении нет ни малейшей рассудительности и ясности! Ведь
Элоиза не только кается (во второй эпистоле), но и
по-прежнему мечтает о прошлом, и молит о любви, как если бы любовь и
была ей исповеданием и прощением божьим. Молит от имени
не только своей греховности, но и ради своей набожности.
Жаждет абеляровой любви и как Элоиза, и как настоятельница
чистой обители.
_ 202
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
Голова идет кругом. Да уж не мерещится ли нам эта
алогичная логика, вот так перечисляющая через запятую основания
долга Абеляра перед "твоей единственной": "уважение к Богу,
любовь ко мне, примеры святых отцов..." и то, что она, Элоиза,
"старалась о доставлении наслаждений не себе, а тебе, и об
исполнении не своих, а твоих желаний", и ей "всегда было
приятней называться твоей подругой", а не "более священным и
прочным наименованием супруги" (с. 66-67).
Не ради искупления прежних отношений, но благодаря им
Элоиза считает, что заслуживает особенной любви Абеляра к
ней и во Христе: она его "единственная во Христе".
Это настолько органично для писем Элоизы, что никакими
ссылками на "женскую непоследовательность", "противоречия"
и т. п., конечно, не разъясняется. Чтобы так смешивать
любовное влечение с набожностью, надо было иметь для этого в
своем распоряжении чрезвычайные культурные средства.
У Элоизы были такие средства.
13
Это прежде всего библейская "Песнь Песней", как ее
понимали в Западной Европе в первой половине XII в.
С моей точки зрения, оба письма Элоизы пронизаны
мотивами этой книги Ветхого Завета. Обращение к ней вообще-то
неудивительно. Топика для выражения любовной страсти и
томления могла быть позаимствована в эпистолах того времени в
принципе откуда угодно, из всего круга тогдашней
образованности, в том числе из текстов, с позднейшей точки зрения менее
всего для этого подходящих. Например, из Книги Иова, из
Псалмов и т. п. Но ежели влюбленные располагали какими-то
наиболее прямыми и очевидными источниками словесных
изъявлений, то в этой роли выступала, разумеется, кроме Овидия,
"Песнь Песней".
Впрочем, в любовном письмовнике, переписанном в
семидесятые годы XV в. аббатом монастыря в Клерво Жаном де
Вепри, но по использованному в нем материалу восходящем как
раз ко временам Абеляра и Элоизы, в эпистолярных образчиках
от лица мужчины Овидий использован 34 раза, от лица
женщины 18 раз, однако "Песнь Песней" может быть узнана в муж-
m —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
ских письмах лишь 6 раз (включая повторы), в женских -
4 раза13.
Элоиза, напротив, вспоминает из римлян Сенеку, Лукана,
Горация, Цицерона, но не автора "Искусства любви" и
"Метаморфоз". Зато полным-полно реминисценций из "Песни
Песней". Правда, эти цитаты и переклички большей частью носят
достаточно скрытый и косвенный характер, отчего они и не
были до сих пор отмечены исследователями. Некоторые из
случаев, которые будут указаны ниже, могут показаться не
вполне убедительными. Но вчитаемся в парафразы "Песни
Песней", беря их вместе, как некий смысловой пласт. Тогда
каждый отзвук библейской книги отзовется во всех прочих
отзвуках того же ряда, они взаимно усиливаюся и создают в
своей совокупности впечатление несомненной ауры элоизовых
писем.
1) "Моего собственного виноградника я не стерегла" (П. П.,
1.5)
Противопоставление чужого и своего виноградника
составляет центральную часть первого письма Элоизы. Если в
"Песни" Суламифь, поставленная братьями сторожить их
виноградники (custodem in vineis), своего не стерегла, то здесь ситуация
более сложная: это Абеляр должен бы позаботиться об ее,
Элоизы, винограднике, который он сам "во имя святое насадил
наново", т. е. о монашеской общине Параклета, и в первую очередь
о настоятельнице оной, с которой был некогда связан
супружеством и любовью. "Все, что здесь есть, - твое творение". Он же,
напротив, "орошает" "чужой виноградник, который не насаждал
(alienae vineam quam non plantasti)", то бишь монастырь Гильда-
зия Рюиского в Бретани.
Разумеется, мотив "виноградника", пусть излюбленный в
"Песни Песней", употреблен в значении риторического общего
места. Все же если вставить его в дальнейший контекст письма
и счесть значимым, то получится следующее: "виноградник"
Элоизы - это и она сама, и ее обитель; это и ее сердце, и
Параклет, равно принадлежащие Абеляру. Она без его духовной
поддержки не в силах "устеречь" от греха свои помыслы, как и
свою паству, а он ее оставил, не откликается, даже на письма
так скуп (in verbis avarum sustineo). Сквозь первое послание
Элоизы проходит библейский мотив: vocavi et non respondit
204
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
mihi. "Я искала его и не находила его; звала его, и он не
отзывался мне" (П. П., V, 6).
2) "Друг мой похож на серну или на молодого оленя" (П. П.,
II, 9. Ср. также VIII, 14).
Hinnuloque cervorum: олень, который еще не нашел пары, не
заматерел, "олений лошак". Это не единственное прямое
указание на возраст возлюбленного Суламифи. Вот еще: "Что яблонь
между лесными деревьями, то возлюбленный мой между
юношами (inter filios)" (П. П., II, 3). Соломон хотя и старше
Суламифи, но тоже юн, его красота в безупречном раннем расцвете.
"О, ты прекрасен, возлюбленный мой" (I, 15).
Она - filia, он - filius. Во все времена читателям было
понятно, что это рассказ о молодой любви. Когда Данте
разъясняет в "Пире", какова телесная красота "юности" (adolescienzia),
т. е. возраста до 25 лет, в согласии с Альбертом Великим, - он
принимается комментировать текст, в котором сказано: Έ sua
persona adorna"14. Данте переводит так, конечно: "et faciès tua
decora" (Cant. Cant., II, 14). Более зрелый возраст, "молодость",
от 25 до 45 лет, обозначался словом juventas. "Арка" молодости,
достигнув высшей срединной точки тридцати пяти лет,
клонится вниз. Данте полагает поэтому важным, что Христос умер и
воскрес до этой возрастной кульминации (см.: Convivio, lib. IV,
cap. XXIV, 6). Наконец, согласно этимологии Исидора Севиль-
ского, которого не могла не знать Элоиза, третья молодость
(juventas) длится до 28 лет, четвертая же - до 50.
Между тем Элоиза, к нашему изумлению, пишет,
вспоминая Абеляра времен их романа: "Какие только душевные и
телесные блага не украшали твоей юности?". Именно так: "tuam...
adolescentiam". Однако Абеляру в момент встречи с Элоизой
было не менее 38 лет... Это можно бы отнести к ниспадающей
половине зрелости или к четвертой juventas, но уж никак не к
adolescentia15. He странно ли?
Ничего странного нет, если только у Элоизы на уме "Песнь
Песней". Тогда Абеляр, замещающий Соломона, само собой,
должен быть безупречно юным и прекрасным.
3) "На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа
моя; искала я его и не нашла его" (П. П., III, 1). «Я сплю, а
сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который
стучится: "Открой мне, сестра моя, возлюбленная моя..."* (V, 2).
205 —
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ9
"...Внутренность моя взволновалась от него" (V, 4). Не по этой
ли канве расшивает Элоиза самые искренние признания?
Сравним: "Настолько сладки были для меня любовные
наслаждения (amantium voluptates), которым мы обоюдно
предавались, что они едва ли могут изгладиться из памяти. Где бы я
ни была, они возникают перед моими глазами и порождают
желания. Даже и во сне не щадят меня эти видения. Даже во
время торжественной мессы, когда молитвы должны быть
особенно чистыми, непристойные призраки этих наслаждений уловля-
ют злосчастную мою душу, так что я более предаюсь этим
гнусностям, чем молитве. И, хотя должна бы сокрушаться о
содеянном, более вздыхаю об упущенном. Не только то, чем мы
занимались, но всякое место и время этих занятий и сам ты - все
так врезалось в душу, что я мысленно снова все свершаю с
тобою и даже во сне не нахожу покоя от этого. Мое душевное
беспокойство обнаруживается в непроизвольных движениях и
нечаянно вырывающихся словах" (р. 80-81).
Здесь нет тоже буквальных заимствований. Однако же есть
чувственное томление в ночной тиши, поиски отсутствующего
возлюбленного на ложе сна, есть напряженная интонация Су-
ламифи, одержимость любовью, неподвластной рассудку. И
едва ли за этим не слышится: "Ego dormio, et cor meum vigilat" -
или: "venter meus intremuit". Для женских признаний, для
исступленных порывов и воздыханий от первого лица у Элоизы
не могло быть иного литературного источника. Между тем
автобиографическая подлинность эпистолярных мотивов никак
не исключала необходимости авторитетных образцов16.
4) "Но единственная - она, голубица моя, чистая моя"
(П. П., VI, 9). Этому в Библии, как известно, предшествует:
"Есть шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девиц без
числа". Суламифь - единственная для царя среди "дщерей
Иерусалимских". Не царица, а больше, чем царица. Она одна из
всех избранная, она одна - возлюбленная. "Возлюбленный мой
принадлежит мне, а я ему" (II, 16).
Элоиза желает того же: "Я ничего не сохранила для себя
самой, только то, чтобы и ныне быть прежде всего твоей (tuam
nunc praecipue fieri)" (p. 73). Она напоминает, что навсегда
избрана им: "Поразмысли, ведь то обетование, которое обязывает
тебя перед всеми женщинами и (созданной тобою общины), ты
206
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
должен еще обетованней отнести ко мне, твоей единственной
(uniae tuae devotius solvas)" (p. 70). Часто Элоиза называет
Абеляра, как в йПесни Песней", "dilecte", "dilectissime", но особенно
подчеркнуто, вынося это и в заключительную формулу первого
письма, и в приветственную формулу второго, -
"единственным". "Vale, unice". А себя, вслед за Суламифью, -
"единственной" (unica).
5) Ценность избранничества подчеркнута в "Песни Песней"
необыкновенностью юноши-царя. "Чем возлюбленный твой
лучше других возлюбленных?.. Возлюбленный мой... лучше
десяти тысяч других" (V, 9-10).
Об этом же Элоиза: "Кто даже из царей или философов мог
сравниться с тобой в славе?" и т. п. Откуда само сравнение с
"царями и философами"? Петрарка предположил, что Элоиза
пишет "о славе Петра" в ослеплении им: "любовь делает
свидетельство подозрительным" (Ed. of M., p. 71). Но это не
любовные или так называемые риторические преувеличения, а нечто
точно заданное гипостазированием Абеляра в Соломона. Сула-
мифи могли бы, конечно, позавидовать "шестьдесят цариц
(reginae)" - не потому ли и Элоиза пишет столь
фантастично? - "Не было такой царицы или иной могущественной жены
(Quae regina vel praepotens femina), которая не позавидовала бы
моим радостям или супружеству" (р. 71).
Абеляр в "Истории моих бедствий" весьма скромно
оценивает свои успехи у женщин, объясняя это поглощенностью
учеными занятиями: он не посещал благородных дам и редко
беседовал с мирянками (р. 182). Элоиза же восклицает: "кто не
спешил взглянуть на тебя?", "какая замужняя женщина или
девушка не томилась по тебе в твое отсутствие и не пылала страстью
в твоем присутствии?". Решительно все женщины "вздыхали от
любви к тебе" - и "многие женщины", слышав абеляровы песни,
воспевавшие "нашу любовь, возгорелись завистью к ней, Элои-
зе (et multarum in me feminarum accendit invidiam)".
Петрарка и в этом месте принадлежавшего ему кодекса,
хранящегося ныне в Парижской национальной библиотеке, сделал
маргинальную помету: "по-женски (muliebriter)" (Ed. of M.,
p. 72). То есть первый гуманист оценивал лишь буквально все
поразившие его места. Однако они имеют, пожалуй, также аго-
гический смысл. Место о зависти женщин - об избранничестве
207 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
в любви - звучит, бесспорно, "по-женски", да, но еще и
по-библейски.
В "Песни Песней" - не менее, чем в письмах Элоизы - как-
то загадочно смешиваются "я" и "мы": "мы побежим за тобою;
царь ввел меня в чертоги свои, - будем восхищаться и
радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино;
достойно любят тебя!" (П. П., 1,3). Суламифь постоянно словно
бы перекликается с хором "дщерей Сионских", объясняя и
отстаивая свое избранничество: "Не смотрите на меня, что я
смугла»; "Дщери Иерусалимские! черна я, но красива"; "Заклинаю
вас, дщери Иерусалимские... не будите и не тревожьте
возлюбленной, доколе ей угодно" (1,4-5; III, 5) и т. п.
В "Песни" сказано: "поэтому девицы любят тебя (ideo ado-
lescentulae dilixerunt te)" (I, 2). He потому ли и по Абеляру
должны были томиться все дщери Галлии, и Элоиза
предпочтена им всем, и возлюбленный ее несравнен в славе своей?
"Приятны" были, вспоминает Элоиза, и "сладостны" (suavitate) его
любовные песни "по словам и напеву" (р. 72). Это, конечно,
тоже не прямые цитаты из "Песни Песней". Но все соответствует
духу, тону и фразеологии библейской книги. "Уста его сладость
(suavissimus), и весь он - любезность. Вот кто возлюбленный
мой и вот кто друг мой11 (П. П., V, 16).
6) Элоиза напоминает забывшему ее Абеляру о связавших
их таинствах брака, напоминает не раз и, безусловно, очень
дорожит этим. Тем не менее она пишет: "Бог свидетель, что я
никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого; я желала
иметь только тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не
стремилась ни к брачному союзу, ни к получению подарков... И хотя
наименование супруги представляется более священным и
прочным, мне всегда слаще было называться твоей подругой
(amicae vocabulum) или, если ты не оскорбишься, - (даже)
твоей наложницей, отдающейся тебе (concubinae vel scorti)".
Элоиза прибавляет, что, если бы император Август предложил ей
супружество и власть над миром, "мне показалось бы дороже и
почетней прозываться твоей любовницей, чем его
императрицей (carius mihi et dignius videretur tua dici meretrix quam illius
imperatrix)". И далее, в пояснение: "Пусть не считает себя
непродажной та женщина, которая охотней идет за богатого, чем
за бедного, и больше ищет в муже не его самого, но (выгоду)
_ 208
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
для себя". Такая "более заслуживает платы, чем любви (или:
благодати, quam gratia)" (p. 70-71).
14
Перед нами едва ли не самый знаменитый пассаж эло-
изовых писем, поныне приковывающий внимание
исследователей своей безоглядной страстью: как будто бы в нарушение
всяких, тем паче христианских приличий17. Именно это место
пожелал восхищенно пересказать в "Романе о Розе" Жан де Мен:
аббатиса Параклета "сама говорит и пишет, не стыдясь этого,
своему другу, которого так любит, что называет своим отцом и
господином, такие дивные слова, которые многие люди сочли
бы признаком безумия... Я предпочла бы, говорит она, и Бог
мне в том свидетель, прозываться твоей девкой (ta putain), чем
короноваться императрицей"18.
Опять куртуазный автор XIII в., кажется, не смог понять
монахиню XII в. Дело в том, что amicae vocabulum - не что
иное, как обычное обращение Соломона к Суламифи: arnica mea
(Cant. Cant., II, 10; IV, 1; VI, 3). Элоиза готова лучше быть даже
одной из тех concubinae царя Иерусалимского, о которых
говорится в "Песни Песней", чем супругой римского цезаря.
Странным образом это могло для тогдашнего ума означать не любо-
страстие (таково лишь буквальное толкование), но - спасение
души. Ибо сказано: "Если бы кто давал все богатство дома
своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением" (П. П.,
VIII, 7). Трудно ошибиться: риторической амплификацией
именно этой сентенции "Песни Песней" обосновывает Элоиза
отказ от "владения всем земным кругом".
Она предпочла бы принадлежать Абеляру, вот что она
говорит. Но только ли это? "Он ввел меня в дом пира, и знамя его
надо мною любовь" (П. П., II, 4). В тексте Вульгаты: ordinavit in
me charitatem. "Большие реки не могут потушить любви" (VIII,
7). В тексте Вульгаты "любовь" выражена через charitas. У
Элоизы же, в свой черед, синонимичны: dilectio и gratia. Если ее
противопоставление подразумевает Соломона и Августа,
Иерусалим и Рим, любовь "Песни Песней", которая "сильна, как
смерть", и обладание земными богатствами и властью, то это
шокировавшее уже в XIII в. место эпистолы, эта пылкая жен-
209 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
екая преданность и самозабвение звучат в полный унисон с
мелодией священной книги.
А могло ли, собственно, спросим себя, быть иначе? Как
набожная и досточтимая мать-настоятельница оказалась бы
способна попросту написать духовнику, что ей слаще было быть
его возлюбленной, даже наложницей, чем супругой Августа,
чем его же, абеляровой, супругой? Каким образом это
заявление, расходившееся в монастырских списках, ничуть тогда не
повредило ее весьма высокой репутации в глазах церкви?
Иное дело, если тут ни слова не сказано в простоте. То есть
попробуем предположить, что Элоиза играла на хорошо
известных струнах Ветхого Завета. Она вспоминала (р. 70) о
"безмерной любви" (immoderate amore), о любви, "обратившейся в
безумие" (in tantam insaniam). Ее откровенность, однако,
вдохновлялась Соломоном, "пасущим между лилиями", и Суламифью,
бегающей ночью по городу в поисках любимого, избитой
стражами, изнемогающей от желания. Тогда речения Элоизы, хотя
и не переставали быть двусмысленными, даже вызывающими -
потребовав ответного увещания Абеляра, - но вызывающими
никак не в том буквальном плане, который наивно воспроизвел
автор "Романа о Розе", а некоем несравненно более сложном,
даже головокружительном значении, выяснением которого нам
предстоит сейчас заняться.
15
Итак, согласимся, что Элоиза то и дело смешивала
своего возлюбленного с царем Соломоном.
Ну и что же?
Помимо того, что этому пока, возможно, недостает
фактического обоснования, мы еще нимало не приблизились к
пониманию сквозного и глубинного смысла переписки. Наша цель
состоит ведь не в том, чтобы добавить в комментарий еще одну
текстологическую параллель. И уж тем более не в том, чтобы
дать лишний повод усомниться в индивидуальной
биографической реальности переживаний Элоизы и присоединиться к тем,
кто считает эти письма всего лишь искусным риторическим
сочинением, чисто литературной выдумкой. Я никоим образом
так не считаю. Но и противоположная точка зрения, сводящая-
_ 210
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
ся к человеческой, психологической документальности,
достоверности писем Элоизы, также выглядит с
культурно-исторической стороны бессодержательной. Как уже было сказано, эта
контроверза упрощает действительную проблему, уводит от
нее.
Недостающее фактическое и вместе с тем
логико-культурное звено мы, надо думать, находим во втором ответе Абеляра
(col. 199-212; р. 82-94). Дело в том, что его основная часть - в
защиту и разъяснение обращения "Sponsae Christi" -
начинается с толкования именно "Песни Песней"! Более того, все это
послание некоторым образом есть такое толкование в применении
специально к положению Элоизы. Нельзя не поставить этого в
связь с соответствующими реминисценциями в обеих
эпистолах настоятельницы Параклета. Абеляр их, конечно, расслышал
и оценил вполне - и, решив наконец отвечать без обиняков,
метит прежде всего в этот наиболее принципиальный пункт.
Он замечает, что хотел бы обойтись без встречных упреков;
он надеется, что Элоиза тем охотней примет к сердцу его
мольбы, чем внимательней будет к рациональным доводам (Meas
rationabilius factas intellexeris"). Он пишет "не столько в свое
оправдание, сколько ради ее поучения (pro doctrina) и
ободрения". Действительно, к себе Абеляр беспощаден, хорошо,
впрочем, памятуя, что "унижающий себя возвысится" (От Луки,
XVIII, 14 - р. 87). Он вспоминает, что, когда Элоиза, принимая
мужа в дни пасхи в монастырской келье Аржентейля,
отказывала ему из благочестия в ласках, он будто бы хлыстом
"принуждал ее к согласию" и они осквернили святое место сие и дни
Страстей Господних. Это он, когда Элоиза забеременела, укрыл
ее у себя на родине под обманным монашеским одеянием.
Абеляр неистово принимает грех на себя, противопоставляя словам
Элоизы об ее "безмерной любви" слова о "безмерном своем
вожделении" (р. 89). Жгучее отвращение к плоти, которым
проникнуто послание Абеляра, не только придает энергию
призывам к покаянию, но и служит своего рода логическим
обертоном к основной мысли, вдохновляющейся "Песнью Песней".
В "Песни Песней" повторяется формула: "ищу того, кого
любит душа моя" (III, 2-3), "ты, которого любит душа моя"
(1,6). Элоиза превратила эту формулу в свой лейтмотив и в
свое оправдание. И вот Абеляр вразумляет новую Суламифь,
211 _
ЧАаЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
что значит библейское "любит душа моя". В "Песни Песней"
рефреном звучит: "сестра моя, невеста" (IV, 9; IV, 12; V, 1). И
Абеляр pro doctrina вносит ясность: с кем на самом деле
обручена Суламифь-Элоиза.
16
Послушаем же. Он, Абеляр, ставит в обращении
первым имя Элоизы ("несмотря на эпистолярные обыкновения... и
даже вопреки природному порядку вещей"), поскольку следует
за псалмопевцем: "Стала царица одесную Тебя" (ПС, 44, 10) -
и за словом Иеронима, писавшего: "ведь госпожой должен я
называть невесту Господа моего". "Черна я, но красива", -
приводит Абеляр речение "эфиопки" в "Песни Песней". "Каковыми
словами вообще описывается созерцательная душа, особо
именуемая невестой Христовой". Черна она тленной своей плотью;
внутри же красива и бела, как зубы или кости, скрываемые
телом. Эту-то благочестивую душу - Суламифь - вводит
Соломон, т. е. Христос, в чертоги свои, в царскую опочивальню, т. е.
в тайну и покой созерцания, и на ложе, о коем в другом месте
сказано: "На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа
моя". Толкование Абеляра: "Красива, потому и любит; черна,
потому и (приходится) вести ее. Красива - значит, прекрасна
своими добродетелями, за которые и любит ее жених; черна -
значит, претерпевает страдания из-за своей телесности".
"Согласно некой метафоре, означает сие невесту в духе". "Ложе" и
"опочивальню" надлежит понимать в соответствии с
евангельским текстом: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою
(по Вульгате: in cubiculum tuum) и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, который втайне" (От Матф., VI, 6. Здесь, как
и в других случаях, я пользуюсь синодальным переводом. -
Л. Б.). "Метафора" наилучшим образом осуществляется в
смирении и уединении принятых от мира в "небесную
опочивальню": в монашестве (р. 84-86).
Далее Абеляр обстоятельно разъясняет Элоизе, что
оскопление избавило его от того, чем он грешил, и явилось божьей
милостью ко благу их обоих. Это тот случай, когда "железо
ранит тело, но спасает душу". "Двое повинны, одному наказание".
Соглашаясь в отношении себя с упреками Элоизы, но распро-
_ 212
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
страняя их существо на характеристику нарижского романа
вообще и, следовательно, косвенно все-таки возвращая упреки,
обессмысливая столь важное для Элоизы противопоставление
любви и вожделения, полнейшей бескорыстности сердечного
чувства и корыстной чувственности, Абеляр пишет: "Любовь
моя, которая ввергла нас обоих в грех, не любовью должна
называться, а вожделением (concupiscentia)". И он принимается
славословить евнухов вслед за философом Оригеном и
пророком Исайей (р. 89-90).
По схеме Элоизы (мы к этому еще вернемся): "Я никогда не
искала в тебе, и Богу это ведомо, ничего, кроме тебя самого,
вожделея лишь тебя, а не чего-либо твоего (Nihil umquam... in te
nisi te requisivi, te pure non tua concupiscens)" (p. 70). Такова
любовь "Песни Песней"! "... Я старалась об удовлетворении не
своих желаний, а твоих, не о своих, а о твоих наслаждениях"
(р. 71). "Тебя же сводила со мной не дружба, но скорее
вожделение, не любовь, но скорее похоть" (р. 72).
По схеме Абеляра: да, это так, он не любил истинно, но
лишь предавался любострастию, однако всякое земное чувство
есть такая же мнимость. Когда же вослед их мирскому браку
свершилось высшее обручение - постриг, "проклятие Евы ты
обратила в благословение Марии". Смотри же, "вот кто теперь
жених твой и всей церкви". Тот, кто отдал за тебя в муках
жизнь свою. "Чего ищет в тебе, говорю, кроме тебя самой (Quid
in te... quaerit nisi teipsam)?" Это, как видим, точная и
полемическая перефразировка слов Элоизы. "Истинный твой
возлюбленный (amicus), который тебя саму, а не твоего желает
(teipsam, non tua desiderat)... Это он тебя любит воистину, не я".
Такова любовь "Песни Песней"... Абеляр усматривает в "Песни
Песней" тоже сакральную санкцию любви - но какой любви? К
Христу и во Христе: "unguenta, sed meliora, spiritualia quidem,
non corporalia" (p. 91). "To, что является твоим, я и себе не
считаю чужим. Твой же - Христос, ибо ты стала невестой его. И
ныне... я, которого ты знала некогда своим господином, - я раб
твой" (р. 93).
Во всем этом присутствует некий таинственный элемент.
Нагнетание риторических противопоставлений, собственно,
призвано убедить Элоизу, что не с ним, Абеляром, а с Христом
ей надлежит соотносить не телесные, а духовные ароматы "Пес-
213 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. тНЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
ни Песней" (р. 91: "haec enim requirit aromata qui non suscepit
ilia"; cp. Cant. Cant., VI, 1: "ad areolam aromatum"). "Оплакивай
своего спасителя, а не развратителя, избавителя, а не
соблазнителя, умершего за тебя Господа, а не живого раба... Молю, да
будет не ко мне вся твоя верность, все сострадание, все раскаяние"
(р. 92). Вот кто Соломон твой, твердит супруг-аббат "Это он
тебя любит воистину, не я". Что же, теологический комментарий
Абеляра к "Песни Песней" и все построение его письма
предполагают, следовательно, со стороны Элоизы немыслимое
смешение и подмену? Именно так. В чувство к Соломону-Абеляру
несчастная монахиня внесла тот жар, освященный библейским
повествованием, который душа ее была обязана возносить к
одному Господу.
Таким образом, адресат Элоизы не только двоился в ее
глазах, но и мистически утраивался. Он - ее возлюбленный и муж.
Он - основатель общины Параклета и духовный пастырь. Он,
наконец, - библейский царь Соломон, т. е. Христос, жених
небесный.
17
Ведь толкование Абеляра не отличается
оригинальностью. Его общий смысл должен был быть превосходно известен
ученой диаконисе и ранее - хотя бы по знаменитым в ту пору
комментариям Оригена, св. Амвросия, Беды Достопочтенного.
«Чаще всех других библейских книг в монастырях,
особенно в XII веке, комментировали "Песнь Песней"*19. В глоссах Го-
нория Августодунского (умер после 1130 г.) и некоторых
других "Песнь" понималась как иносказание о непорочном зачатии,
соответственно Соломон - как святой Дух, а под Суламифью
разумелась дева Мария. В глоссах неизвестного автора
примерно того же времени под Соломоном предлагалось понимать
Иисуса, а под Суламифью - церковь, невесту Христову и
восприемницу его искупительной благодати. Эта версия наиболее
традиционная. Самое известное сочинение в этом роде было
написано спустя несколько лет после писем Элоизы - это
"Проповеди на Песнь Песней" Бернара Клервоского. Между прочим,
против Бернара тут же ополчился ученик Абеляра школяр Бе-
ренгарий20. Он полагал, что "предки наши полностью и доста-
_ 214
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
точно пролили свет на сокровенные места этой книги", так что
'тайна ее божественного понимания" "исследована
досконально" и Бернар лишь повторяет чужие мысли. Беренгарий
высмеивает (ссылаясь на отцов церкви и ... на "Поэтическое
искусство" Горация) то, что Бернар ввел в комментарий к рассказу о
радостях "брачного союза Христа и церкви" совершенно
неуместные мрачные описания похорон и плач о покойном брате. И
тем самым нелепо обратил брачную песнь в "трагедию" или в
"элегию". Школяр рассуждает о том, что плотское
совокупление, вопреки блаженному Иерониму, не есть зло, хотя
воздержание и есть благо; что брак - благо в сравнении с внебрачным
вожделением, каковое, "конечно, является злом", - хотя и не
абсолютное благо, которое есть лишь любовь к богу, и т. д.
Словом, Элоиза писала свои эпистолы к Абеляру в
духовной обстановке, привычно насыщенной толкованиями "Песни"
и спорами о любви телесной (amor camalis) и любви духовной
(amor spiritualis). Ни для кого это не было в такой степени, как
для Элоизы, интимной и саморефлективной, а не общей
проблемой. Традиционные для душеспасительной литературы
борения духа - так называемые "passiones amini" - она словно бы
открыла для себя, пережила впервые. Она попыталась
переработать расхожие представления в собственный и необычный
ответ, который как раз этой исключительностью, этой
чрезвычайной внутренней сложностью внезапно остраняет и освещает для
нас весь церковно-культурный мир западноевропейского
средневековья (или по крайней мере XII в.).
18
Прежде чем еще раз в заключение вглядеться во
внутренний мир Элоизы, в смысловую конструкцию ее посланий,
полезно сравнить их с уже упоминавшимся любовным
письмовником, опубликованным и тщательно исследованным
Эвальдом Кёнсгеном. Волей случая мы располагаем
бесподобным по полноте текстом для характеристики современного
Элоизе и близкого к ней по уровню образованности, но
некоего усредненного состояния умов "двух влюбленных".
Публикатор вынужден осторожно оставить в стороне некоторые
вопросы, для разрешения которых это собрание извлечений из более
215 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ΉΕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
чем ста писем не дает прочных оснований. Мы не знаем,
документальные ли это выдержки или искусственные образчики, а
в случае аутентичности - действительно ли в уцелевшем
позднем списке за анонимными обозначениями "V" (Vir) и "М"
(Mulier) скрываются лишь двое конкретных партнеров, а не
большее их число. Часто эти "Мужчина" и "Женщина" (сорок
девять писем) не проявляются ни в реалиях, ни грамматически
(шестьдесят семь писем), так что нет уверенности, где пишет
Он и где - Она. Эти то пространные, то краткие, почти
формульные извлечения лишены признаков диалога. Лишь в трех-
четырех случаях в них можно расслышать что-то вроде
отклика корреспонденту (S. 77). Локализовать их почти невозможно,
хотя в нескольких местах вроде бы мелькают указания на то,
что это переписка между способной ученицей (philosophie
discipula) и каким-то известным магистром (М 49, V 50). Он
пишет ей: "Твое дарование, твое словесное искусство
преступают пределы возраста и пола и уже начинают приобретать
мужскую основательность" (V 50). "Он" - flos cleri и consors poe-
tarum (M 66, 21). "Она" - gemma tocius Gallie, "украшение всей
Галлии" (V 89). Словно смутные тени Абеляра и Элоизы на
заре их любви (S. 86-88, 103). Однако, кроме этих
соблазнительных, но случайных риторических параллелей, - ничего более
определенного.
Некоторые установленные Э. Кёнсгеном различия в топике,
цитатных пристрастиях и стилистике между "V" и "М", по его
справедливому предположению, могут быть истолкованы как
ролевые: Она более сдержанна и скромно-набожна, чем Он
(S. 78-83). В сенсационном письмовнике нет ни какой-либо
событийной линии, ни хотя бы изменений содержания и тона; тем
более нет и следа каких-либо пограничных ситуаций, нет
разлуки, нет и брака - ничего конкретного. Перед нами совершенно
однородное собрание изысканных перлов любовного
красноречия, лишенного индивидуации. Исследователь неохотно, но
объективно признает, что со всем, ч,то нам известно о романе
Абеляра и Элоизы, все это вяжется плохо. Если и допустить,
что знаменитые парижские любовники могли писать друг другу
в подобном роде в 1117-1118 гг., - тогда они были вместе и
переписки не вели. А как только перед родами Элоизы им
пришлось расстаться, письма должны были тем более принять со-
_ 21$
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
вершенно другой характер. По мнению Кёнсгена, можно лишь
утверждать, что "М" и "Vй были некой парой, как и Абеляр и
Элоизаф 97-103).
Для Кёнсгена, учитывая интригующий подзаголовок его
книги ("Письма Абеляра и Элоизы?"), вывод едва ли не звучит
разочаровывающе. Для целей нашего собственного
исследования это отнюдь не так. Напротив, мы располагаем,
следовательно, тем достоверным литературно-бытовым фоном, с которым
можно сопоставить и на котором выделяются письма Элоизы.
С любопытством мы читаем бесконечно варьирующиеся
ласковые словечки и риторические пассажи вроде следующих.
Он: "Нет мне никакого света, кроме как от тебя, без тебя я во
мраке, я обессилен, я мертв..." Она: "Ничто не может исцелить
меня от любви, ты ведь единственный, кто способен врачевать
меня". Он: "Знай же, что любовь есть вещь всеобщая (res
universalis), однако же состоящая в тесном согласии (двоих), и я
смело утверждаю, что она царит только в нас, то есть нашла
приют во мне и в тебе. Нас двое, но в любви мы едины,
нераздельны, искренни, ибо нет ничего слаже и успокоительней, чем
то, что свершается совместно; мы в одном и том же
утверждаемся, одно отрицаем, и так во всем. Это легко доказывается тем,
что ты часто предвосхищаешь мои мысли; то, что я только
собираюсь написать тебе, ты предугадываешь, и - не помнишь ли? -
ты это же пишешь мне сама". Она: "Хотя сейчас зима, грудь моя
согрета любовным жаром" (V 22, M 21, V 24, M 18).
Время от времени попадаются общие места, которые
напоминают об Элоизе или которые могли бы быть вставлены в ее
письма. Но у Элоизы и такие места, и даже изобилующие в
письмовнике "dilecte", "unice" и т. д. приобретают иную окраску. Дело
никак не в меньшей литературности - у Элоизы она еще
изощренней - и даже не только в богатстве реалий, не только в
неповторимой ситуации, в нестандартности любовной диалектики. Конечно,
все это у Элоизы совершенно несопоставимо со стертостью
письмовника. У "двух возлюбленных" редкие крохи реалий -
целиком, вплоть до самой мелкой, подобранные и отмеченные
публикатором - указывают расхожую тогдашнюю меру экспрессии и
лиризма, которые, по существу, не были ни личной экспрессией,
ни лиризмом, а сводились к готовым формулам и к более или
менее явным цитатам. Прорыв у Элоизы в индивидуальное самосо-
217 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
знание основывался, однако, не на добавке частного и
конкретного, сколько бы мы ни обнаруживали таких вещей, выбивающихся
из обезличенной риторической ткани. В этом случае письма
Элоизы остались бы памятником вполне маргинальным, не
прикосновенным к ядру средневекового мировосприятия.
19
Прорыв мог состояться лишь благодаря слиянию
частного с интимно и неожиданно преображенной
всеобщностью.
В письмовнике есть немалый по тем временам запас
образованности от Цицерона до Псалтыри, риторических оборотов,
благоприличных и ученых изъявлений любовного томления, - есть
запас цивилизованного общего, но не присутствие всеобщего.
"Здравствуй, пресветлая моя звезда, благороднейшая моя
прелесть и единственное мое утешение" и т. п. (V 4) - идет ли речь о
любви плотской или духовной? В мужских письмах часто именно
о первой: "О, сколь исполнена сладости твоя грудь, о, какой
совершенной красотой ты блистаешь, о, тело, такое сочное, о,
невыразимый запах твой, обнажи то, что скрыто, раскрой то, что
сберегаешь потаенным" и пр. (V. 26). Но и Она, говоря, например:
"... когда тебя нет рядом, меня волнуют мимолетные напевы,
свежесть дерев и я изнемогаю от любви" (М 25), - Она прибегает к
знаменитым словам Суламифи, чтобы выразить, хотя и скромнее,
чем Он, опять-таки вполне мирские чувства. Использованный в
начале того же письма парафраз Цицерона о том, как "сходство
наших нравов и занятий" сближает и способствует дружбе (amici-
cias здесь, разумеется, можно перевести и как "любовь" или
"сердечная склонность"), указует, напротив, на amor spiritualis.
Э. Кёнсген полагает, что письмовник воспроизводит "обе крайние
возможности на противоположных концах теоретической шкалы,
где на одной стороне значится Amor carnalis, а на другой - Amor
spiritualis" (S. 88). То высказывается необходимость скрывать
отношения, боязнь злословия и скандала. То чувство мотивировано
"скромностью" и "добродетельностью" любимого (любимой). Но
все-таки и в этом случае спиритуальность не возвышается до
Amor Dei, упоминаемой разве что формально (S. 89-90).
Таким образом, в любовной эпистоле XII в., как она
представлена на уровне риторических образцов, полюса средневеко-
_ 21$
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
вого мироотношения заметно сглажены, сближены,
опустошены. Плоть зовет, но не терзает, вожделения выражены на языке
ученого этикета, в душераздирающем покаянии нет смысла, и
набожность так же изящна и обыденна, как остальное. В
письмовнике, из которого должен был черпать каждый, разумеется,
не место для напряженности, для резкого разведения двух
Любовей, земной и небесной, для их экстатического смешения, для
втягивания в личное чувство всей эпохальной культуры в ее
всеобщности, т. е. всей глубокой монашеской духовности, всей ис-
поведальности, покаянности, молитвенной проникновенности,
преданности Христу и упования на спасение через Него.
Но это есть у Элоизы. Прорыв к индивидуальному иначе
был бы немыслим. Индивидуальное самосознание не имело
тогда, естественно, никакого собственного основания, стержня,
идеи. Оно жило лишь исповедью и верой, т. е. суровым отказом
от своей частности и самости. Соответственно оно было
способно все-таки обостриться и даже укрепиться в этой интимной и
вообще-то греховной самости, лишь не минуя, не обходя
всеобщности Христа, но каким-то образом присваивая ее.
В борении взаимоисключающих ощущений, на тончайшей
грани, где вдруг встречаются биографически-личное и
всеобщее, где они странно перетекают друг в друга, трагически
вспыхивает максимальная индивидуация, возможная в
средневековой ситуации. Индивидуальность Элоизы существует не до
текста, не в виде бытовой психологичекой данности. Правильней
было бы сказать, что ее индивидуальность сама возникает и
оформляется по ходу смыслового движения текста, из
предельного, культурного усилия. Элоиза, конечно, тщательно
обдумывает каждое слово - по правилам artis dictaminis и по
внушению непосредственного чувства. Она творит эти письма. Но
результат получается непредвиденный. Письма творят Элоизу.
20
Когда Элоиза в начале первого письма замечает, что
Абелярова "История моих бедствий" "почти вся исполнена
желчи и полыни", то это, конечно, реминисценция из Евангелия
(От Матф., XXVII, 34, 48), т. е. подразумевается питье, которое
воин дал испить Распятому. Это согласуется с идущими вслед
219 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
словами относительно "твоих, о единственный, непрестанных
страданий". Среди всех латинских синонимов "страдания" Эло-
иза отбирает именно cruces - крестные муки.
Вообще-то подобным ассоциациям можно бы и не
придавать особого значения, для XII в. это естественно
напрашивающееся общее место. Сам Абеляр, когда просит, чтобы прах его
был погребен в Параклете, считает, что женская обитель -
лучшее место для христианского погребения, ибо именно женщины
"позаботились о могиле Господа Иисуса Христа" и "оплакали
смерть жениха" (р. 77). Поскольку этого же он ожидает для
себя, получается характерная подстановка, которая, впрочем,
правомерна.
Думая об Абеляре, монахиня Элоиза, безусловно, памятует
и Христа. Неудивительно, что мысли ее путаются. Но в какие
духовные дали заводит эта не то чтобы нарочитая, но и не
случайная путаница, никак не сводящаяся к риторическим
приемам изложения!
Даже помимо семантики "Песни Песней" эпистолы Элоизы
заключают содержательную коллизию, внутри которой все
отдельные, могущие показаться заурядными и тихими смысловые
переклички и подмены сходятся в новый пронзительный
смысл.
О некой грешнице в Евангелии от Луки (VII, 47) сказано:
"... прощаются грехи ей многие за то, что она возлюбила много".
Элоиза же полагает, что заслужила у своего духовника и
супруга в особенности безмерной любовью (р. 70 - amore
immoderate). Он - "единственный после Бога" (post Deum solus)
основатель общины Параклета (р. 69); "когда я по твоему повелению
сразу же сменила и одежду, и душу, я показала тем самым, что
ты единственный владетель и тела моего, и души" (р. 70);
"обратившись юной женщиной к суровой монашеской жизни, я
поступила так не ради религиозного благочестия, но лишь но
твоему приказу (non religionis devotio sed tua... jussio). И, ежели я
ничего тем не заслужила от тебя, рассуди, сколь тщетно мое
подвижничество (labor). Я не должна ожидать за это награды от
Бога, потому что меня побудила так поступить совсем не
любовь к нему. Это ты посвятил себя Богу, а я уж вслед за тобой и
даже упредила тебя в постриге" (р. 72). "Я отреклась ведь от
всех наслаждений, лишь бы покориться твоей воле" (р. 73).
_ 220
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
Все это, впрочем, говорится в обоснование права на
ответную со стороны Абеляра благостыню духовной любви, на
встречу или хотя бы письмо с ласковым ободрением, подвигающим к
монастырскому служению.
Элоиза здесь, в скинии, только ради него, Абеляра. Это ему
заповедана ее душа: "Но и ныне особенно если душа моя не с
тобой, то ее нет нигде". Диакониса не может не сознавать, не
противопоставлять такое вынужденное, длящееся уже
пятнадцать лет монашество истинному благочестию. Она решается на
признание: "Бог ведает, что я ведь точно так же, ничуть не
сомневаясь, по твоей воле последовала бы за тобой или упредила
бы тебя, даже если бы ты поспешил во владения Вулкана"
(р. 72-73). То есть в монастырь ли, в ад ли...
Но в первой эпистоле Элоиза вряд ли кается и словно бы не
считает свои чувства препятствием для ревностного
исполнения религиозного обета. Эпистола заканчивается просьбой к
Абеляру "увлекать ее к Богу". Противопоставление земной
любви и набожности отзывается и успокаивается подменой: она
молит Абеляра за свою истерзанную душу (ut tecum bene sit
age, obsecro) и описывает то, что их навсегда связывало, будто
она - ему принадлежащая монахиня... Ему "после Христа";
ему - а не Христу; ему как Христу, вместо Него21.
Во второй эпистоле Элоиза вновь твердит: "Во всю жизнь,
Бог тому свидетель, что бы ни происходило, я больше боюсь
обидеть тебя, чем Бога; больше жажду угодить тебе, чем ему. Я
стала монахиней не ради божественной любви, а по твоей воле"
(р. 82).
Упреки забывшему ее супругу - "подумай же о том,
насколько ты несправедлив", - консонируют с упреками Богу.
Чистота и бескорыстие ее чувств не оценены по достоинству
Абеляром, который лишь вожделел к ней; Бог же щадил их,
пока они предавались прелюбодеянию, и покарал, когда они
искупили грех, вступили в брак, разлучились и вели более
праведную жизнь. Бог тоже почему-то пожелал, чтобы "все правила
справедливости были опрокинуты" (р. 79). "О, если праведно
так говорить, Бог жесток ко мне во всем! О немилосердное
милосердие! " (р. 78). Выходит, оба они к ней жестоки. И она,
словно Иов, любит и ропщет против них обоих.
221 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
21
А ведь ее просьбы к обоим так скромны и сходны. От
Абеляра она "требует малого и очень легкого для него" (р. 73).
И от Господа Элоиза "не ищет победного венца". Лишь бы
избежать вечной гибели. "В каком бы уголке неба ни поместил меня
Бог, мне этого будет достаточно" (р. 82).
Но, чтобы укрепиться в благочестии, ей необходима
молитвенная поддержка Абеляра. "Не уклоняйся от помощи", "не дай
мне погибнуть". Ее "награда в будущей жизни", оказывается,
зависит... от Абеляра (р. 81 - nihil habitura remunerationis in
futuro... obsecro... ne mihi cesses orando subvenire etc.).
Мучаясь чувственными воспоминаниями, Элоиза находит
свое оправдание в том, что это изначально - по крайней мере с
ее стороны - потребность сердца. Некогда ей, правда, было
сладко и радостно угождать (интимнейший намек!), "как ты и
сам знаешь, не своим наслаждениям и желаниям, а твоим"
(р. 71). Amor carnalis возвышалась, следовательно, до
бескорыстия и духовности. Как формулирует это сама Элоиза, ссылаясь
на одно место из трактата Цицерона "Об изобретении": "не
столько телесное воздержание, сколько душевное целомудрие"
(р. 71 - animorum pudicitia). A теперь она страдает и грешит,
ибо слаба, еще молода и в отличие от Абеляра не исцелена
единожды и навсегда по божьей милости от плотских искушений
(р. 81). Раскаиваясь только в этом, Элоиза, однако, ни словом
не отрекается от жизни сердца, от своего права на
всепоглощающее личное чувство к Абеляру.
Это беспрецедентное отстаивание средневековой
монахиней женской страсти стало возможным только потому, что
Элоиза придала своей любви к Абеляру иерархический статус
Amor spiritualis, т. е., собственно, любви к жениху небесному.
Индивидуальная одухотворенность возникла в промежуточной
зоне, богатой смысловыми модуляциями, непрерывными
переходами в обоих направлениях, от биографически-конкретного
к агогическому и от агогического к сугубо интимному. Прежде
всего именно отсюда причудливая и колеблющаяся атмосфера
писем.
В культурном сознании нет ничего, что не было бы "в слове
явлено". Язык библейской сублимации послужил индивидуаль-
_ 222
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
ному казусу Элоизы, был ею наложен на личные переживания,
столь непривычные, искавшие выхода, оформления. Язык, в
частности, "Песни Песней", но и вообще весь арсенал тогдашней
религиозной риторики в результате перестал под пером Элоизы
быть самотождественным, анонимным, нормативным. Точнее
же, сохраняя традиционную весомость и значительность,
литературный язык эпохи одновременно изливался в
неповторимость элоизовой духовной ситуации и наполнялся этой
неповторимостью. У нас на глазах стереотипы смещаются,
оказываются смыслотворящими.
22
Элоиза и мечется, и самоутверждается на опасной,
волнующей грани сакрального и профанного, ее собственная
позиция, как мы сейчас еще раз увидим, оказывается
напряженными поисками такой позиции. У нее не одна, а несколько
совершенно разных точек отсчета, и она не в силах остановиться
на чем-либо одном. Все это проникает друг в друга; к
духовнику она обращается как любовница, к мужу как духовная дочь и
к ним обоим словно она - Суламифь, трепещущая на ложе в
ожидании Соломона-Христа. Отголоски неизжитой страсти
отдают монашеской экзальтацией, набожность же выглядит
странно, покаяние переходит в упоение любовью, любовь
затихает в молитве, в буднях Параклета для Элоизы ничуть не
"довлеет дневи злоба его".
После стольких лет реальность чувства все еще не
испарилась, но экстремальное, почти невероятное превращение
любовника в сурового скопца-исповедника создало отдаление от
самой себя, уход всего существования в память, в разлуку, в
сплошную вынужденную рефлексию, высвобожденную из
поступков, решений, событий, которым больше не бывать. Эта
трагическая высвобожденность из реальности, тем не менее
продолжавшей быть стократно и единственно реальной,
развязывала неслыханную для эпохи силу осознанного и
выговоренного индивидуального чувства.
Смешение возлюбленного и Христа не есть, конечно, идея
Элоизы, не доведено до силлогистики - тогда оно было бы
абсурдным... но как раз в недосказанности, в стихии намека и дву-
223 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
смысленности возникает мистическая (или полумистическая)
настойчивость писем.
Абеляр это прекрасно почувствовал и потребовал
канонической определенности. Не меня люби, а Его.
23
Во второй эпистоле Элоиза, казалось бы, бурно
исповедуется и кается - однако ведь самым странным образом.
Странность, пожалуй, не в признаниях, откровенность
которых поражает нас даже сейчас (может быть, лучше сказать -
особенно сейчас, когда такие вещи воспринимаются как
глубоко частное дело каждого). Хотя описание томлений плоти,
непотребных снов наяву, преследующих Элоизу эротических
воспоминаний звучит достаточно необычно от первого лица,
из уст самой вопиющей грешницы, однако же этот житийный
мотив искушений и борения с ними, риторическая
выраженность, прямодушная точность в их передаче вполне
соответствовали требованиям исповеди. Саморазоблачения были
необходимы Элоизе для просьб о духовной помощи: Абеляр писал,
что уверен в*се благочестии, но вот какова она в
действительности. "Не считай меня здоровой и не лишай меня лекарств...
ибо нет мне от тебя никакого подспорья против моей
невоздержанности" (р. 81-82). Все правомерно, поскольку
монахиня исповедуется духовнику. Все, впрочем, получает и
фантастическую подсветку, поскольку этот же духовник - ее
совратитель и сообщник во грехе и жалуется она ему на страсть к
нему же.
Существенней, однако, то, что Элоизе приходится прежде
всего раскаиваться в своей нераскаянности... так что неясно,
поставлена ли точка во внутреннем споре и может ли такая точка
вообще быть поставлена.
Элоиза сначала пишет о скорби и слезах, в которые ее
повергли распоряжения Абеляра на случай его скорой гибели. аНа
что же мне надеяться, если потеряю тебя? И для чего мне
продолжать это земное странствие, где нет мне утешения, кроме
тебя, да и это утешение - только в том, что ты жив, ибо все
прочие радости от тебя для меня запретны и мне не дано даже
воспользоваться твоим присутствием, чтобы хоть сколько-нибудь
_ 224
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
укрепиться" (с. 87; р. 78). Далее она рассуждает о том, что ни
одна женщина не бывала так счастлива, как она, и никто не
впадал в такое же несчастье. "Чем больше я думаю о том, что
потеряла, тем большие сожаления снедают меня" (р. 79). Далее - о
несправедливости божьей кары, обрушившейся на Абеляра, на
них обоих.
Эта "скорбь об утраченном" (dolor amissorum) менее всего
похожа на покаяние.
Тем не менее покаяние внезапно начинается, круто
набирает силу - если только что Элоиза оплакивала и проклинала
оскопление любимого как величайшую беду и злодеяние (in tanti
sceleris), причиной коего она, несчастная, оказалась, то через
несколько страниц мы уже читаем о той же "телесной ране" как о
"благодати чрез Господа нашего Иисуса Христа", исцелившей -
увы, одного только Абеляра! - от искушений и душевных ран22.
24
Элоиза, несомненно, говорит искренне в обоих случаях.
От слов о себе как о виновнице злодеяния мысль ее делает
неизбежный скачок к общему месту: "О, великий, как всегда,
вред от женщин для великих людей!". После двух цитат из
Ветхого Завета о том, что женщина - погибель и горше погибели
для мужчин, рассуждение соскальзывает на избитый путь.
Разумеется, следует напоминание о Еве, лишившей своего мужа
рая, и т. п. Теперь Элоиза объявляет, что их брак,
последовавший за прелюбодеянием, хотя и был благом, но дьявол решил
использовать само благо во зло. Ее любовь стала орудием
несправедливого наказания. Она в том неповинна. И все-таки
повинна, и даже более, чем Абеляр. Все произошло именно из-за
нее. "Я не в силах придумать, каким покаянием умилостивить
Бога" (р. 80).
Ибо - тут-то самое важное - она гневит его еще больше,
ведь она одновременно возмущается его несправедливостью, ее
тело по-прежнему пылает, а "ум сохраняет все то же желание
грешить". Покаяние ее поверхностно, сознается Элоиза. "Ведь
легко всякому, исповедуясь, обвинять себя в грехах и даже
внешне истязать плоть. Но наитруднейшее - отвратить от
стремления к наибольшим наслаждениям сам дух" (с. 85; р. 80).
S - 345
225 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
"Истинное покаяние" редко, ибо то, что обвиняет язык по
приговору рассудка (per mentis judicium), должно быть
подкреплено и заключать собственную кару в сердечном сокрушении, в
особой "горести души" (Loquar in amaritudine animae meae -
Job,X,l).
Итак, Элоиза, продолжая любить Абеляра, не в состоянии
ощутить "горесть истинного покаяния" (amaritudo verae poeni-
tentiae). Но разве, поскольку она исповедуется и в этом, не
становится ее покаяние все же истинным, не доходит ли до
последней глубины? То есть именно в знании о невозможности
безусловной победы? Это очень по-христиански. Элоиза признает,
что продолжает грешить в помыслах своих, однако важно, что
она это признает - и считает своей неизбывной греховностью.
Она приводит слова св. Амвросия: "Я нашел, что легче
встретить сохранивших невинность, чем способных раскаяться". И,
описав свои вожделения, говорит вслед за апостолом Павлом:
"Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?"
(К римлянам, VII, 24).
Да, но Элоиза именно вслед за такой мольбой не только
вновь поминает не остывший "пыл молодости и опыт
приятнейших наслаждений", но и пишет, что поныне больше хочет
угодить любимому, чем Богу. "Меня считают целомудренной
те, кто не распознал во мне лицемерия". Она ведет себя в
строгом соответствии с орденским уставом; может быть, это до
известной степени и хорошо, но не имеет настоящей цены в
глазах Того, что "испытывает сердце и нутро и видит сокрытое"
(р. 81).
25
Это очень серьезно - о том, что Элоиза называет
"simulate mea". Давно замечено, что, противопоставляя действия
(exterioris opens exempla) и намерение (intentio), находя, что
грех и добродетель состоят не во внешних поступках, а только в
умысле, в сознании, Элоиза тем самым следует эстетическому
учению Абеляра23.
"Я многим повинна (nocens) и во многом, как ты знаешь,
невинна (innocens). Ведь преступны не результаты поступков, но
двигавшие ими чувства. Суду подлежит не то, как действуют,
226
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
но с каким умыслом действуют" (р. 72). Ее же вела и ее
оправдывает любовь.
От личного чувства Элоиза во всяком случае отказываться
и не думает. Она хотела бы и сохранить внерелигиозное
отношение к Абеляру, и укрепиться в благочестии. Последним как
будто заканчивается эпистола. Но укрепить ее в душевной
чистоте и покое может - как это безысходно! - лишь поддержка
любимого. Пусть только он не хвалит ее: "твоя похвала чем
приятней для меня, тем опасней". Пусть Абеляр поддержит ее
слабеющий дух, но на победу она не надеется. Или, возможно,
не желает ее? Нужно хотя бы избежать поражения.
Элоизово "Я" кричит тем громче, чем ясней для нее
требования долга. И чем больше она упорствует в любви, тем
сокрушенней и трогательней ее покаяние. Она не в силах жить без
Абеляра в мыслях своих, и она, конечно, не в силах жить без
набожного упования. Ее индивидуальность возникает на
последнем пределе средневековой ментальности и обозначает эту
предельность собой. А именно: исповедь Элоизы достигает
наивысшей полноты, когда оказывается невозможной - в форме этой
невозможности. Душа жаждет и не может примириться с Богом
только в одном: она трагически не в состоянии отказаться от
себя, от судьбы и души Элоизы24.
Очистительное покаяние индивида требует в конечном
счете очищения от самой индивидности. Надо стать человеком без
биографии, стать просто христианином, смиренным и
анонимным (у Тютчева: "Душа готова, как Мария, к ногам Христа
навек прильнуть"). Выясняется, что для влюбленной монахини
это немыслимо. И вот тут-то, в испытующей смысловой
ситуации очертания индивидуальности вдруг словно бы впервые
прорисовываются, проступают сквозь эпохальную матрицу
одновременно благодаря и вопреки ей.
26
Люблю тебя, ангел-хранитель во мгле,
Во мгле, что со мною всегда на земле.
За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.
За то, что связала нас тайна и ночь,
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.
8·
227 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы - муж и жена\
Это было написано в 1906 г.: своего рода постскриптум к
"Стихам о Прекрасной Даме", в которых среди прочего
слышатся, по-моему, также припоминания переписки великих
любовников. Дело, конечно, не в каких-то текстуальных совпадениях
(хотя я и не смог удержаться, чтобы не выделить курсивом
несколько слов, будто нарочно взятых из хорошо знакомой нам
приветственной формулы), а в том, что Блок многое строит на
средневековой духовной теме, ставшей у Элоизы глубоко
индивидуальной, т. е. на борении и взаимонасыщении amor
spiritual is и amor carnalis. "Мой любимый, мой князь, мой жених... //
Ах, бессмертье мое растопчи, - // Я огонь для тебя сберегу. //
Робко пламя церковной свечи // У заутрени бледной зажгу. //
В церкви станешь ты, бледен лицом, // И к царице небесной
придешь, - // Колыхнусь восковым огоньком, // Дам почуять
знакомую дрожь... // Над тобой - как свеча - я тиха, // Пред
тобой - как цветок - я нежна. // Жду тебя, моего жениха, //
Все невеста - и вечно жена".
Если задаться целью проследить параллели и отклики
переписки Элоизы с Абеляром - ее "судьбу в веках", нетрудно,
начав с Гвидо Гвиницелли, Данте, Петрарки, дойти до Метерлин-
ка, Блока, ранней Ахматовой... Наверно, можно бы пытаться
включить Элоизу во всемирно-культурный контекст через
некие общие тематические, лексические и символические
элементы. Такие продолжения и подобия не выдуманные. Так что в
этом была бы известная правда.
В настоящей работе предложен, однако, принципиально
иной путь25. Нас интересовало не цивилизационное общее, но -
культурное всеобщее, которое общим лишь стирается,
нивелируется. Голос Элоизы обретает всечеловечность только в
качестве неповторимого голоса. Если бы выявить и вытянуть в ряд,
начав Ветхим Заветом и кончив Блоком, надэпохальные
мотивы, они увели бы нас, во всяком случае, от понимания и Блока,
и Элоизы. Слишком важно то простое обстоятельство, что
Блок - не Абеляр, а его Прекрасная Дама - ничуть не Элоиза.
Утонченный литературный символизм Блока имел столь же
мало родственного со средневековой способностью жить внут-
_ 228
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
ри мистерии почти буквально и повседневно, находить в
библейской экзегетике непосредственное разъяснение своего
индивидного существования.
27
Любой мотив наполняется предметной и смысловой
конкретностью, переходит из нейтральных запасов традиции в
материал собственно культурного преобразования, только
будучи обведен контуром исторически особенного.
Но где следует провести этот контур, каков объем и
характер выделяемой им реальности? Подразумеваем ли мы в данном
случае свойства средневекового католического сознания?
Или - более узко и точно - состояние образованных умов в
Северной Франции начала XII в.? Не совсем так, потому что тогда
мы свели бы письма Элоизы тоже к общему. Правда, к такому
общему, которое закреплено в своей эпохе и словно бы
обладает исторической индивидуальностью. Тем не менее способ
анализа по-прежнему подразумевал бы не раскрытие своеобразия
писем, а подведение их в виде части под некое целое. Тексты
были бы рассмотрены извне, как поле приложения предзадан-
ных, безличных мыслительных установок, а своеобразие
приобрело бы вид отклонения от этих установок, чего-то
необязательного, психологической случайности, волнующей воображение,
но не имеющей научного историко-культурного значения.
Сколь ни устойчив, ни протяжен подспудный ментальный
пласт, определяющий социальное поведение, пусть длится
веками, но когда-нибудь, в качестве исторического, он
прекращается. И вместе с ним навсегда прекращаются детерминированные
им феномены сознания. Средневековая ментальность остается в
средневековье. Она не может быть актуализована как
принадлежность современной мировой культуры.
Нас здесь занимала, напротив, вечно новая средневековость
писем Элоизы. Предметом изучения стало, выражаясь в духе
М.М. Бахтина, событие текста.
Неповторимость Элоизы возникла отнюдь не в результате
отщепленности от эпохальной ситуации. Напротив, всякая
неповторимость возможна и объяснима только в плотной
соотнесенности с конкретно-исторической ментальностью. Но куль-
229 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ'
турное сознание не просто погружено в ментальность, не
воспроизводит, не удваивает, а обрабатывает ее, претворяет.
Исторически принудительные духовные установки потребны для
прорастания индивидуальности Элоизы, для оформления ее
личного душевного опыта, вне такой почвы безъязыкого и
бессмысленного.
Личное существует не в натуральном виде, но через
внедрение в эпохальные формы и борение с ними. Психология
пере-стает выглядеть обесцвеченной, отвлеченной "просто"
психологией. Это тотальность мировосприятия, то, что старые
философы называли Духом: перебродившее в индивиде. Над-
личные матрицы превращаются во внутренние голоса, в
оформляющий и провоцирующий момент личного обстояния
(выражение раннего Бахтина). Если при исследовании
ментальное™ потребны выборки, вытяжки из возможно большего
числа текстов, то произведение, рассматриваемое в качестве
уникального, содержит весь эпохальный контекст свернутым
внутри себя.
Индивидуальность Элоизы, кристаллизуясь из общего
исторического раствора, в своем отношении к эпохе являет некий
предельный случай.
28
Мы не в силах "общаться" с эпохой через
усредненные, отвлеченные характеристики, как и через единичные
факты, иллюстрирующие концепт эпохи. Гуманитарное общение
осуществимо только на уровне особенных, предельных случаев.
Причем речь идет не о нашей сугубо эмоциональной,
эстетической впечатлительности, но именно о более жестком
культурологическом понимании.
Понимании казуса? - или также эпохи в целом? Того и
другого вместе и друг посредством друга. Дело в том, что
уникальность духовного мира Элоизы дает возможность ее среде и
времени выказать свой последний, пограничный, способный к
подвижке смысл. Происходит испытывание риторических и
сакральных установок, авторитета Библии, житийности, исповеди
и т. д. Всякий подобный (так увиденный) историко-культурный
эпизод есть неоценимый эксперимент над эпохальной менталь-
_ 230
Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и матрицы культурной среды
ностью. Нет другого способа остранить ментальность и
представить в качестве логической идеализации, а не просто
эмпирической наличности, и тем самым сделать ее доступной для более
углубленного теоретического построения.
Благодаря феномену Элоизы мы кое-что узнаем о том,
каковы основания, характер и пределы индивидуальности в
западноевропейской культуре XII в., а вместе с тем и какова
вообще эта культура внутри себя же, в виде собственной
возможности, т. е. не в своих повторах, не в расхожих, застывших,
матричных формах, из которых нет выхода в будущее, - но в
качестве открытой, пластичной, способной к непредсказуемым
поворотам и развитию.
После писем Элоизы, как и после всякого культурного
текста, мы находим западноевропейскую культуру некоторым
образом изменившейся26.
Взаимное преобразование и рождение умственной матрицы
из уникального произведения (как именно его матрицы) и
уникального из матрицы - событие, как мы могли убедиться,
отмеченное потаенным драматизмом. Средневековая
предопределенность в данном случае не затопляет собой тихое, покорное
сознание, а сталкивается с "Я" - но изнутри этого "Я", его
развивая; с другой стороны, казус придает самой норме
проблематичность. Все это и есть культурный текст. Он движется и
меняется, воздействуя на себя же, - это сложное смысловое
образование, т. е. образование смысла по мере движения текста.
Готовые формы мешают индивидуальности, но они же дают ей
стать - по способу обращения с ними. Они способствуют, уже
не совпадая с собой в форме единственности, возникновению
смысловой избыточности, обеспечивающей бессмертие
произведения. Особость текста вспыхивает на его границах со всеми
другими со-эпохальными текстами, и, более того, чем глубже,
бесконечней эта конкретная историческая предельность, тем
необходимей выход на просторы мировой культуры. Ведь
всемирное суть неисчислимые и неисчерпаемые особенные
сознания с приращением всемирного через каждое новое особенное.
О чем письма Элоизы в "общечеловеческой"
формулировке? О том, совместима ли встреча в духе с плотской любовью.
Элоиза ищет необыкновенные для средневековья и потому
необыкновенно средневековые ответы. Все дальнейшие продол-
231 _
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. "НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ*
жения элоизовых мотивов оказываются возможными, конечно,
только в виде модернизаций. Ведь продолжать в культуре
нельзя. Продолжения в ней всегда оборачиваются
преображениями и преодолениями. Перейдя в культурный образ, письма
Элоизы пребывают вечно, но как? - в откликах на некогда
просиявшее неповторимое духовное мгновение."Все невеста - и
вечно жена".
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПЕТРАРКА ;
НА ОСТРИ
СОБСТВЕННОГО
,··~ у"4"'· ч.
Авторское самосознание
в письмах поэта
О ФРАНЧЕСКО Петрарке принято утверждать,
что он сильнее, чем кто-либо - во всяком случае, в его
времена - сосредоточен на себе. Что он был не только первым
"индивидуалистом" Нового времени, но и гораздо более того -
поразительно законченным эгоцентриком.
В каком-то смысле это правильно.
Еще говорят, что Петрарка был наделен редким душевным
изяществом, целостной и глубокой человечностью. Это тоже
сущая правда)
Но также, что все его личные признания - сплошная
"литература", риторический артефакт, тщательно отфильтрованное
самоописание взамен реальной биографии. Что перед нами не
эмпирическое, а некое идеальное и образцовое "Я". Короче, что
в рассказанном им о себе ничего нельзя принимать доверчиво и
буквально, брать за чистую монету.
О, разумеется, верно и это.
В основании споров о Петрарке по-прежнему, начиная с Де
Санктиса, лежит неоспоримое впечатление крайней
литературности, деланности его творчества. Петрарка обдуманно ставит в
центр некое "я", но... совершенно стилизует себя. Сквозь эту
завесу впрямь трудно разглядеть биографическую подлинность -
так сказать, "Петрарку в жизни", о котором к тому же мало что
235 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
известно помимо столь обстоятельного самоизображения,
драпированного all'antica. Петрарка наводил туман вокруг фактов
и мотивов личного порядка, что-то выдумывал.
Однако этому противостоит совсем иное, не менее
основательное впечатление: полнейшей искренности, даже
непосредственности того же автора, в тех же риторически выверенных
сочинениях...
Прежде всего за счет, конечно, замечательно гибкой, живой
интонации, ритмически и синтаксически убедительно
выстроенного общения с друзьями и самим собой. Но неужто одними
стилистическими средствами Петрарка достигал такой
неподдельной личной смысловой подсветки? Притом в латинской
прозе еще полней, чем в итальянских любовных стихах.
Суждения достойные, но сводящиеся на цитаты и общие
места, странным образом приобретают у него поэтому
напряженность, свежесть. Несмотря на отсутствие или стертость
внешнего и характерного, очаровывает пластичность секуляр-
ного "внутреннего человека". В этом отношении (как и едва ли
не вообще) особенно эпистолярий составляет вершину
творчества поэта.
Итак, спор располагается на оси между двумя полюсами,
где сгущаются оценки. "Писатель" - и "человек".
"Книжность" - или "жизненность и гуманизм"? "Стилизация" (и
даже "поддельность") - или "искренность и подлинность" пет-
рарковского "я"? Соответственно одни исследователи всерьез
берут идеи и мастерство первого писателя-профессионала в
новоевропейском значении этого слова, притом уличая порой
Петрарку в зазоре между сочинительством и жизнью или
просто оставляя этот вопрос в стороне. Другие же с негодованием
отвергают взгляд, согласно которому перед нами всего лишь
"писатель", с воодушевлением подчеркивают органичность и
полноту самовыражения его человеческой личности, т. е.
воспринимают умственный и психологический автопортрет поэта
как своего рода срисовывание с натуры, вне проблемы
литературной стилизации.
В конце концов невольно скользит по поверхности и тот,
кто увлеченно любуется благородством умственной осанки
Петрарки, и тот, кто разоблачает его самовлюбленность,
напускной характер словесных жестов. Почитатель и разоблачитель
_ 236
Авторское самосознание в письмах поэта
равным образом не добираются до исторического состава
логико-культурной проблемы.
Петрарка сбивает с толку.
Никакие готовые мерки и понятия о том, что такое
средневековая, но также что такое новоевропейская личность - и даже
ренессансная? - к Петрарке не идут. Это чрезвычайно трудный
для понимания писатель. Рядом с ним, пожалуй, даже
гениальный Данте прозрачно ясен...
Петрарковеды XX века старались снять анахронистическое
противопоставление литературности и человеческой
подлинности. Осознаны в качестве отличия Петрарки (задавшего тем
самым парадигму для ренессансного гуманизма) "побуждение
перевести всякое душевное движение в литературные формы"
(Р. Феди), "постоянное отождествление жизни со страстью к
литературе", способность «предписывать жизни литературу в
качестве замысла и высшей цели <...> Употребляя
применительно к Петрарке слово "литература", мы придаем ему новое и
необычное значение, более широкое и интенсивное <...>
Литература это в Петрарке особая форма его ума, живое средоточие
и, я бы сказал, сердце его личности» (Н. Сапеньо). Если "по
отдельным элементам" Петрарка оформляет черты и события
личной жизни через античные литературные прецеденты, то
жизнь поэта "в ее итоге и полноте - это совершенно его
собственное произведение" (У. Боско)1.
Все же остается, кажется, не выясненным, при помощи
каких логико-культурных средств стал возможен парадокс такого
отождествления.
Известно, что Петрарка сумел через латинских auctores
прийти к формовке собственной жизни и собственного Я. Он
не только перенес прочитанные книги в свой интимный мир,
оказался пропитан ими - что было бы, в общем, делом
достаточно естественным и обычным, - но извлек из "литературы",
смешав ее с повседневной былью, исходное личное
самосознание. То есть его (воспользуемся более поздним понятием)
личность, хотя и была сформирована чтением и
сочинительством, - определила принципиально новый подход к чтению и
сочинительству.
Его культурное "Я" превратилось из следствия в причину.
Вычитанное, придуманное о себе в подражание - оказалось жиз·
237 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
пенно-психологической реальностью. Эта реальность,
появившись, поставила себя в центр своего книжного мира и
некоторым образом преобразила этот мир. Через подражание (а как
могло быть иначе?) произошел, тем не менее, смысловой
прорыв: к такому самоутверждению Я-автора, которое открыло
дальнейшее новоевропейское умственное движение.
В сказанном нет ничего, что не было бы известным.
Однако вполне ли ясно, не что произошло, а как могло это
произойти? Через какое, спрашивается, особое смысловое устроение
хотя бы некоторых произведений? - ключевых, как мы убедимся,
для понимания новых представлений Петрарки об
индивидуальном авторстве.
Чтобы попытаться в предварительном порядке лучше
обозначить свои намерения, приведу еще одну длинную выдержку
из Уго Боско. "Итак, в нем (Петрарке) всегда крайне трудно
развести то, что он делает и что он говорит под прямым или
косвенным воздействием книг, т. е. античной классики <... > И
речи не может быть о неискренности, тем более о всего лишь
эстетизации; для него это впрямь идеал жизни <... > и искусства.
Пусть Петрарка часто приходит к нему не прямо из личного
опыта, а находит на страницах своей библиотеки <... > однако
это так глубоко проникает в его сознание, что становится чем-
то совершенно его собственным и, кажется, не имеет иного
источника, кроме самого же Петрарки. И жизнь, и искусство,
дабы сбыться, должны быть пропущены сквозь фильтр
литературы, который придает безусловную печать благородства им
обоим. Ну, а уж далее они (т. е. жизнь и словесность. - Л. Б.) идут
своими путями, по-петрарковски автономными".
Нельзя не согласиться с подобными общими
соображениями. Выстраивая себя и свою жизнь по античным образцам,
Петрарка перешагивает через нашу дилемму "искренности" и
"литературности". У него "для каждой жизненной подробности
находился античный прецедент". У. Боско напоминает: когда в
"Сокровенном" Августин замечает, что если бы Франциск
облысел, то, конечно, не преминул бы сослаться на Цезаря,
Петрарка отводит возможную самоиронию, с жаром отвечая:
"Несомненно, это так. Кто же более знаменитый мог бы прийти тут
на ум? Если не ошибаюсь, великое утешение иметь таких
сотоварищей, и потому сознаюсь тебе, что мне приятно употреблять
_ 23S
Авторское самосознание в письмах поэта
такие примеры, вводя их в повседневный обиход. Если бы ты
упрекнул меня, что боюсь вспышек молний, то <... > я ответил
бы, что Цезарь Август страдал тем же недостатком. Если бы ты
сказал и если бы я действительно был слепым, то защищался
бы примерами Аппия и Гомера, царя поэтов; что крив - я
сослался бы на Ганнибала; что глух - на Марка Красса..."2.
Но на этой констатации проницательные оценки
останавливаются - перед самым порогом логико-культурной проблемы.
Почему, когда Петрарка облачался в одежды античного
писателя, насыщал свои тексты реминисценциями, намеками, центо-
нами, когда он безудержно стилизовал, - в итоге являлись
действительная жизненность и сила, а не чисто головная
конструкция, не эпигонство? Пишут, что Петрарка, подражая, был
настолько поглощен страстью к "литературе", что искренне
воображал себя иным, лепил образ своего нового "я". От реального
"я" (какого? как нам выпарить его из текстов?) переходил к V
поэтическому, на свой лад тоже неподдельному, жизненному.
Но не попробовать ли проделать анализ в противоположном
направлении? Начав сразу с текстов, с того, как построены,
движутся и мотивированы внутри себя письма Петрарки, в герое
эпистолярия - не проследить ли автора, т. е. способ
предъявлять и отстаивать свое личное авторство, сознавать себя
оригинальным, быть автором по преимуществу.
Автором в тексте, автором текста? - разумеется, но в
результате также автором и до сочинительства, за пределами
сочинения, автором своей жизни, обладателем суверенного "Я".
Индивид по имени Петрарка непосредственно и прежде всего,
конечно, писатель. Это человек, который даже по ночам
склоняется над бумагой с заостренным каламом в руке. Но все дело в
том, что пишет он в остром осознании авторства. И даже, как
никто до него, во многом ради этого осознания.
Мы увидим: тут-то и сходятся "литература" и "жизнь".
Притом первая, хотя и отзываясь на социально-психологический
запрос второй, через усилие и пафос личного авторства
порождает, претворяет вторую.
Реально-жизненное "Я" προ-изводится через произведение.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Однажды, близ Пармы
Знаменитое неоконченное письмо "Потомству"
обнаружили падуанские друзья Петрарки, разбиравшие в Арква его
бумаги после смерти. Петрарка собирался увенчать им, судя по
приведенной переписчиком фразе из автографа, весь эпистоля-
рий: «Заканчивается XVII книга Стариковских писем. Аминь.
В оригинале засим следует: "Начинается XVIII книга.
Потомству. О ходе его [ученых] занятий"*3.
Это единственное произведение поэта, задуманное в
качестве самоцельного описания своей жизни. В отличие от так
называемой исповеди Петрарки, т. е. "Сокровенного", а также и от
письма к Гвидо Сетте, только послание "Потомству" может
быть названо автобиографией в достаточно точном жанровом
значении этого позднейшего термина - собственно, первой
автобиографией как таковой в истории культуры4.
Вместе с тем смысловой состав личного Я здесь выглядит
до крайности непростым и озадачивающим.
В зачине Петрарка обещает удовлетворить
любознательность будущего читателя: "И вот, может быть, ты пожелаешь
знать, что за человек я был* (quid hominis fuerit)..."5.
В самую точку. Спустя 600 лет мы впрямь этого очень
желаем. Знать, что за человек был, допустим, Шекспир, было бы
невероятно любопытно, но ведь не обязательно. Знать же о
Петрарке - "человеке" необходимо потому, что это относится к
предмету и существу самих его (по крайней мере, наиболее
значительных) сочинений. Здесь кроется некая проблема
исторической поэтики.
Но... Кто рассчитывал бы найти в письме потомкам вослед
объявленному Петраркой намерению какие-либо
непосредственные и живые подробности, что-нибудь индивидуально
окрашенное, - того, как известно, ждет, в общем, полное разочарование.
По первому впечатлению трудно вообразить изложение,
более сознательно сглаженное, сведенное на общие места в
античном ли, в христианско-средневековом ли роде. Да, разумеется,
это разочаровывает лишь сегодня, по гораздо более поздним
•В текстах Петрарки здесь и далее разрядка моя. - Л. Б.
_ 240
Авторское самосознание в письмах поэта
меркам и на наш вкус... Однако ведь находим же вроде бы то
самое, что ищем, столь любезную нам неповторимую пластику
личной судьбы, яркую казусность, психологическую точность -
у Аврелия Августина или у Абеляра? Хотя они-то писали
ввиду надличных целей и соображений, сочиняли, по сути - не
автобиографии. А вот у певца Лауры...
Между прочим. Не только имя Лауры не названо, это-то не
удивительно, ведь Петрарка вообще назвал его впрямую в
латинской прозе лишь однажды, в письме к Джакомо Колонна.
Но тут всей истории великого чувства уделена одна проходная
фраза. "В молодости я страдал от жгучей, но единственной и
благопристойной любви, и страдал бы еще долго, если уже
остывавший огонь не загасила бы жестокая, но полезная смерть
(mors acerba sed utilis)" (p. 872).
Боже мой, "полезная смерть" Лауры!..
То есть послужившая укреплению поэта в вящей
добродетели.
В перечне сочиненного им - по несколько иной причине,
но столь же обдуманно - не упомянут очень дорогой Петрарке
и в первую очередь связываемый нами с его именем сборник
любовных стихов к Лауре, "Canzoniere". Итальянские стихи не
отвечали жанровому замыслу письма в будущее. Ведь его
писал человек, считавший себя собратом и в некотором смысле
современником Цицерона, а потому, например, ронявший
вскользь, что, де, настоящее название Фландрии - Кампин-
ская Нуния, "отдаленная область бельгийской Галлии",
которую "теперь в просторечии неправильно называют
нижней Германией"...6
Петрарка намеревался, не обходя обычной набожной
дидактики, создать о себе историческую биографию на античный лад
в духе Светония, или Валерия Максима, или подобно тому, как
он сам сочинял тогда же, незадолго до кончины, жизнеописание
Цезаря для оставшейся тоже незавершенной книги "О
достославных мужах" (De viris illustribus).
Формально это наблюдение не вызывает возражений7.
Полагалось повести рассказ с происхождения, телесного и
морального облика достославного мужа. Так, по правилам
жанра, Петрарка и поступил. Не преминул притом упомянуть о
ремесле историка известное: "человеческая молва многоразлич-
241 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
на", ее ведут не истина (veritas), но прихоть (voluntas), люди "не
соблюдают меры ни в хвале, ни в хуле".
Дело надо понимать так, что уж он-то, Петрарка, взявшись
быть собственным историком, не отклонится от истины. Меру
соблюсти сумеет. Далее, действительно, в самохарактеристиках
он демонстративно, с риторической симметрией и
монотонностью, избегает, как будто, крайностей...
Но тут начинаются неожиданности.
* · ·
"Был же я один из вашего же стада, смертный человечишка
(mortalis homuncio), не слишком высокого и не подлого
происхождения, из древней - как говорит о себе Цезарь Август -
семьи, наделенный притом от природы неплохим и совестливым
нравом, если бы только не повредили скверные привычки".
Утверждают, что это изъявление подобающего христианину
смирения - в паре с антикизированным памятованием. По
схеме: homuncio/vir illustris8. Попробуем, однако, не рассыпать
текст Петрарки на общие места, каждое из которых в
отдельности несет печать происхождения, инерционно отводит к ряду
готовых значений. Откажемся толковать письмо как простую
сумму таких значений, не меняющую смысл всякого из них в
результате перестановок или приращений. Но примемся
рассматривать его как произведение, т. е. как динамическое смысловое
поле, в котором любое слово отзывается эхом во всех остальных
словах, заставляя переосмысливать их содержательность - и
само изменяя значение под напряжением этого общего поля.
Смысл произведения как целого и всякой из его частей есть
процесс, подвигающийся к относительному (открытому) итогу.
Сам итог поэтому процессуален.
Окончательных слов нет, ибо - "последние (из них) станут
первыми"... Иначе говоря: смысл формирует себя. Смысл
преобразуется по ходу высказывания, не только подвигаясь от фразы к
фразе вперед, расширяясь, прирастая, - но и будучи обратимым.
Он не равен себе уже потому, что добавленное способно, в
принципе, перестраивать и перестраивать все сказанное (по-
мысленное) ранее, наворачивать на прямые и готовые значения
какие-то свежие, непредусмотренные, не до конца проясненные,
_ 242
Авторское самосознание в письмах поэта
не обязательно открыто выговоренные смыслы. (Так ведь не
только в поэзии, но в любом культурном дискурсе.)
Поэтому и понимающее чтение движется не только от
начала к продолжению, но и от продолжения - вспять, то и дело
обнаруживая эти направленные в обе стороны преображения
смысловой архитектоники (но с ней - и сознания автора!).
Меняется узор целого, ибо мотивы и элементы текста играют друг
с другом. Они взаимно высвечиваются и сопрягаются,
накапливая совместный целостный контекст.
* * *
Итак, он, Петрарка, не высокого происхождения, но и не
подлого, не дурного нрава, но и не безупречного: "человечиш-
ка", "один из вашего же стада", человек как человек, такой же,
как все. "Золотая середина"? Допустим. Но сразу же с важным
акцентом на неотличимости от всяких-прочих. На середине не
столько взысканной, золотой, сколько расхожей.
Далее следует: "в молодости я был не слишком силен, но
весьма ловок", "внешностью обладал не похвалюсь, что
замечательной, но в молодые годы я мог нравиться", "цвет кожи был
между белым и смуглым", "зрение долго оставалось острым, но
после 60-ти, вопреки надежде, ослабело, и пришлось, к моему
огорчению, прибегнуть к помощи очков" (единственная
конкретная деталь автопортрета). "Я был всегда очень здоровым,
старость же сокрушила тело, наведя обычную череду
болезней".
Ничего определенного. Именно "обычная череда" (solita
acie). Этого человека - в отличие, кстати сказать, от его
современников, составителей "домашних хроник" Донато Веллути,
Джованни Морелли, Бонаккорсо Питти - в упор не разглядеть.
'Юность меня завлекла, молодость развратила, старость же
исправила; и я убедился на опыте в истинности того, о чем
раньше долгое время только читал: т. е. что юность и плотское
наслаждение - все суета. Ведь Зиждитель возрастов и времен
установил на этой земле для несчастных смертных,
наполненных пустотой (или: раздутых из ничего, de nihilo tumidos),
чтобы они сбивались с пути: дабы позже, вспоминая об этом, могли
бы познать себя от грехов своих".
243 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Уго Дотти в примечании называет автопортретную часть
письма "К потомкам" "самой интересной" (р. 871). Но, если даже
согласиться с этим (а я ниже попытаюсь обосновать, какая,
совсем иная, часть эпистолы заслуживает такой оценки), - уж никак
не счесть ее интересной напрямую. В приведенных самооценках
если и есть что-либо любопытное, так это установка автора на то,
чтобы растушевать свою индивидность, отдельность, убрать
интерес к Петрарке-человеку, свести на человека вообще. И не
потому, конечно, что тогдашний сочинитель не был в состоянии
сообщить о себе ничего, кроме общих мест, даже для его времен
слишком уж общих (если не обращать внимания на некоторое
лексическое щегольство, например, Conditor вместо Dominus).
Однако пока Петрарка считает нужным характеризовать
себя вот так: из ничего, de nihilo.
Моральное тестирование по отношению к стандартному
набору грехов - добавляет к "ничто" немногое. Богатств он не то
что бы ни за что не желал, но презирал их, отвращаясь от забот
и трудов, которые неотделимы от стремления к богатству.
Нелюбовь к пышности, отсутствие гордыни. А что до гневливости,
то она "частенько вредила мне самому и никогда другим".
Наконец, о похоти: "я мог бы сказать, что не знавал ее, и хотел бы так
сказать, но, сказав так, солгал бы". К ней склоняли его "огнь
возраста и телосложения". Но в душе он всегда проклинал эту
свою низость и, слава Богу, после сорокалетия, будучи еще
крепок телесно, никогда больше не разглядывал женщин.
Между прочим, 40 лет - конец акмэ, согласно аристотели-
кам. Кроме того, дочь Петрарки, Франческа, о которой он,
разумеется, не роняет ни звука в автобиографии, писавшейся как
раз тогда, когда дочь вместе с внучкой и зятем поселилась
рядом с поэтом в Арква, под Падуей, - так вот, Франческа
родилась в 1343 г. Это второй и последний его внебрачный ребенок,
вслед за сыном Джованни; имена матерей неизвестны. Так что
"сорокалетие", 1344 г. - ближайшая к появлению на свет
Франчески дата, наделенная сверх житейского правдоподобия
подобающей закругленностью и топосностью.
Все говорится со значением и как надлежит... Фразу,
подразумевающую чувство к Лауре, тоже не выделить из этой
риторической амплификации, многосмысленной развертки
исходного утверждения: "один из вашего же стада". В результате после
_ 244
Авторское самосознание в письмах поэта
первых двух страниц мы знаем о Петрарке немногим больше,
чем до начала эпистолы.
Ах, да! еще в том же духе: "ума я был скорее ровного, чем
острого (ingenio fui equo potius quam acuto)" (p. 874). Итак... что
же за человек он был?
"Nee... пес", "поп... secT, "inter", "equum", "solita"...
Словом, ничего особенного и резкого. Ничего
значительного. Если угодно: обычный человек. А если апофатически
усилить этот изначально заданный акцент, то человек Петрарка...
никакой.
"Никто", как ответил циклопу Улисс.
• * *
Такой акцент, надо сознаться, выглядит несколько
произвольно, если исходить лишь из непосредственного содержания
этих двух страниц, с их рутинными общими местами. Было бы
натяжкой извлекать его также из какого бы то ни было иного
отдельно взятого места "Posteritati". Но на него наводит их
перекличка, достаточно неожиданный смысловой резонанс, в
который они входят. Его определенно подсказывает - и его же
вытягивает себе в подмогу из разных своих компонентов -
смысловая конструкция целого.
"Я родился в Ареццо, в изгнании..." "Время моей жизни
было то ли по воле фортуны, то ли по собственной моей воле,
распределено до сей поры так..." Инчиза, Пиза, Авиньон ("в
Трансальпийской Галлии", поясняет Петрарка, будто живет во
времена Цезаря), затем школа в Карпентра, затем университеты Мон-
пелье и Болоньи.
Далее он вернулся из Болоньи "домой"... И слово "домой"
тут же обыгрывается как обмолвка: "Домом я называю это
авиньонское изгнание, в котором пребывал с последних детских
лет, ведь сила привычки почти не уступает природе" (р. 878).
Петрарка, в отличие от Данте, не был и вовсе не ощущал
себя в ссылке. Но он делает "exilium" литературным знаком своего
существования.
Его изгнанничество принципиально. У него нет
прирожденного или постоянного места проживания. У него, Петрарки,
словно не может быть дома. И вместе с тем он повсюду у себя
245 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
дома. Его дом и не тут, и не там. Но из него, поэта... так сказать,
ex-illo... вот его exiliuml Поэт - экстерриториален.
Зато всюду его пребывание желанно. У кардинала Джован-
ни Колонна многие годы он был принят настолько
"по-отцовски" или "по-братски", что "поистине был в собственном доме и
у себя (imo mecum et propria mea in domo fui)" (p. 880). И, уж
конечно, Петрарка надолго прижился по-домашнему в
уединении Воклюза, "куда переместил свои книги и самого себя".
Вместе с тем на службе у Колонна, как и во всю прошлую и
последующую жизнь, он непрестанно разъезжал: папская
курия, Германия, Бельгия, Гасконь, "другие края Галлии",
конечно, Париж, Рим... Первое долгое путешествие по Италии в
1341-1342 гг.; опять Воклюз; уже в сентябре 1343 г. поэт вновь
в Парме и снял "стоящий поодаль наособицу тихий дом,
который впоследствии я купил, и теперь он мой..." (р. 886). Затем
Петрарка поселился в Вероне; затем опять два года в Воклюзе;
и опять два года в Парме и Вероне... а затем Падуя и... "снова
вернулся в Галлию" (как окажется, с тем, чтобы вскоре
покинуть ее уже навсегда).
На последнем возвращении в Прованс эпистола
обрывается. Но сочинялась-то она, как считают, в 1367-1368 и 1371-
1372 гг., т. е. после последнего упомянутого в автобиографии
события спустя целых двадцать лет, отнюдь не менее
скитальческих. Впрочем, и не менее удобных для поэта в отношении
всегда налаженного и размеренного домашнего обихода...
Петрарка испытывал потребность как-то обдумать и внести
общую идею в эту череду своих уютов, в это постоянство
переездов. Не случайно в письме к Ван Кемпену он "сравнивал свои
блуждания с Улиссовыми (Ulixeos errores erroribus meis confer)"
(Fam., 1,1:21).
Поэт пишет, что еще до рождения стал изгнанником... А
потом - "vel fortuna vel ν о 1 υ η t a s m e a, то ли по прихоти
фортуны, то ли по собственному желанию". Так чего же он желал?
В объяснение охоты к перемене мест сперва сказано о "жадном
юношеском любопытстве", о "сильной страсти и усердии в том,
чтобы повидать мир (multa videndi ardor ас Studium)" (p. 880).
"Было усладительно для меня разобраться, что верного и что
фантастического во всех россказнях о Париже". Ну, а "увидеть
Рим я жаждал с детства".
_ 24S
Авторское самосознание в письмах поэта
Однако несколькими строками ниже Петрарка вдруг
объявляет, что "испытывал отвращение и ненависть ко всем городам,
особливо же к докучнейшему из них", т. е. к Авиньону. И что
это отвращение "было от природы свойственным его душе",
стремившейся ни к чему иному, как к уединенному приюту. Так
мотивирован переезд в сельскую обитель Воклюза.
Но в конце концов приходится каким-то образом
объяснить, почему и с этим благословенным местом он предпочел
расстаться и почему вдруг вернулся туда напоследок летом
1351 г. И почему до конца дней нигде так и не осел
окончательно.
Тогда Петрарка, используя из набора общих мест еще одно,
третье по счету, пишет: "...не столько из желания вновь
повидать то, что видал уже тысячекратно (речь о Воклюзе. - Л. 5.),
сколько в попытке, как это делают больные, унять душевную
тоску посредством перемены мест" (р. 888)9.
От избытка молодых сил и любопытства... по причине
любви к ученому уединению... из-за томления духа... Но так ли,
иначе ли-loci mutatione, "переменой мест" мечена его
судьба. И это - последние слова. На них письмо прерывается.
Где же был действительный или наиважнейший "дом
Петрарки"? У родителей в Авиньоне? В милом Воклюзе, который
он навсегда оставил еще весной 1353 г.? В Парме, Вероне,
Венеции, где проживал годами? Или в Арква, где умер? Петрарка не
закреплен в пространстве и усматривает в этом существенную
личную черту. Говорит о себе попросту: "stare nescius". "He
знающий, что значит оставаться на месте".
Итак, да ведают потомки, что Петрарка был такой же, как и
все. А также, что проживал он повсюду. Один мотив
окликается другим мотивом, и сдвигается, и входит с ним в резонанс.
Топосы "середины" поэтому приобретают какой-то
неопределенный, опустошенный, отрицательный смысл.
Не такой, не иной - и почти никакой.
Не тут, не там - и нигде особенно. Ведь "кто везде - тот
нигде" (Сенека).
Ухватиться за что-либо трудно. Текст ответствует нам
лукаво, как Улисс хозяину пещеры.
Не только человек-Никто, но и человек-Нигде.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
* · ·
В этом контексте иначе поворачивается еще один, впрямь
оригинальный и знаменитый, мотив самохарактеристики.
"Посреди многих занятий я с особенным усердием
предавался изучению древности, потому что мне всегда не нравился
век нынешний. И, если бы привязанность к дорогим мне людям
не внушала иного, я только бы и желал родиться в каком
угодно веке, а этот постараться забыть, постоянно силясь духом
перенестись в другие времена" (р. 874).
Вот самая первая реплика того, что мы называем
Возрождением. Однако ведь в своем непосредственном и наибуквальном
значении она означает, что Петрарка не закреплен также и во
времени.
Поэт преподносит это тоже как "voluntas mea": в качестве
особой личной черты, собственного от-личия. Не в своем веке,
как и не в родном или вообще каком-либо определенном доме,
он живет. Но - qualibetl "В каком угодно".
Таково уж, оказывается, его "я". Накатываются энергичные
формы первого лица: incubui unice... optaverim... nisus animo me
inserere.
...Странный, все-таки, этот человечишка. С каждым
поворотом мнимой "золотой середины" ее лишенность всякой
положительности, ее опустошенность, не только получает
подтверждение, но и становится все интимней, драматичней, глубже... и
уводит в своей глубине - к некой иной определенности. Не
актуальной и обыденной, а - лишь возможной. Такая личная
определенность не дана, а задана.
Он, Петрарка, существует в нынешнем веке, но это как раз
совершенно не интересно и его никак не характеризует. Вот где
ему случалось находиться и вот что за человек он был. И тоже
решительно ничего замечательного.
Ежели, тем не менее, все это заслуживает упоминания и
любознательного внимания потомков, то ведь не само по себе, а по
причине, лежащей за пределами бытовой биографии. Эта
причина объявлена Петраркой с первых же слов эпистолы, она на
виду; она безошибочно была понята, кратко и исчерпывающе
сформулирована первым переписчиком "Стариковского": "De
successibus studiorum suorum". Казалось бы, тут и толковать не-
_ 248
Авторское самосознание в письмах поэта
чего. Но по сути она очень не проста, связана сетью тонких
смысловых капилляров со всеми элементами текста. И к
действительному пониманию оснований, по которым Петрарка
решил рассказать потомкам о своей жизни, к уяснению
необычной проблемности того, что сразу же декларировано в начале,
приходится продвигаться неторопливо, "с конца", через весь
последующий ход и полный содержательный объем эпистолы.
* * *
Четвертый вступительный мотив, тесно изнутри связанный
с вышепомянутыми и логически их оплетающий, уже вплотную
подводящий к существу автобиографизма Петрарки, к
единственному смысловому заданию эпистолы, - это мысль о личной
свободе.
Будучи свободен от места и от века сего, также от
собственных особых физических или моральных примет, Петрарка с
достоинством подчеркивает свою свободу и в прямом значении
слова, т. е. социальную независимость.
Так ли оно было на самом деле или не так (скажем, не
совсем так), как поэт изображает, - для нас, в общем-то,
малозначимо.
Пусть биографы проверяют каждое свидетельство
Петрарки, ловя его на неточностях и преувеличениях. Пусть "в жизни"
было иначе. К этому еще вернемся. Пока замечу только, что
Петрарка, если что-то опускает или выдумывает, рискуя быть
разоблаченным в новейших исследованиях, то он, во всяком
случае, никого не собирается обманывать (см. ниже с. 317-361).
Ведь Петрарка исходит из обдуманного представления о том,
что и как в его жизни могло бы послужить предметом интереса
для потомков.
Столь привычная для нас со времен Гёте оппозиция
Dichtung und Wahrheit, "поэзии и правды", ему незнакома. Он
ни за что не позволил бы себе разочаровать нас и написать
лишнее, т. е. случайное и, значит, неверное. Он изображает себя,
поэта, таким, каким должен быть, с его точки зрения, поэт. Каким
он убежденно видел свое существование в качестве подлинного.
Подобная точка зрения была, разумеется, целиком
укоренена в античных и христианских топосах. Однако, как мы сможем
249 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
убедиться, в эпистолярии Петрарки с этими общими местами
происходят всякие удивительные вещи, благодаря
примешиванию к ним катализирующего личного авторского усилия. Так
что, совершенно оставаясь, как будто, в поле авторитетных для
Петрарки книжных реминисценций, цитат и топосов, мы имеем
дело именно с его культурной инициативой, все-таки с его
точкой зрения.
Так вот как, стало быть, он считал необходимым жить
такому человеку, как Петрарка... И, следовательно, вот как он жил -
во всяком случае, старался сознавать себя и сознавал.
Жизнь Петрарки - его, может быть, самое значительное
сочинение. Письмо к потомкам, которое нас сейчас занимает, -
пересказ этого сочинения. А те факты, которые, допустим, с его
рассказом расходятся, - их и не было в жизни постольку,
поскольку жизнь сознавалась и творилась как произведение.
Ведь в готовый текст всякий автор не вставляет многого из
набросков и черновиков. Иные из них можно выбросить за
ненадобностью. Они незначимы.
Они выпадают из стиля. Автор и знает, и не желает знать,
искренне и обдуманно забывает о них.
Непригодившиеся факты таковыми не являются.
Поэтому Петрарка, чтобы поведать о себе, просеивает себя.
Собственно, точно так же поступают в любой другой культуре,
включая и нашу современную; эпохальное различие, даже если
оно фундаментально, - только в критериях.
♦ * ♦
...По возвращении из Болоньи в Авиньон двадцати лет от
роду, рассказывает Петрарка, "я начал приобретать известность, а
высокие лица - домогаться близости со мной (familiaritas mea).
Ныне я уже, признаться, не ведаю, почему - и дивлюсь этому;
тогда же я ничему не удивлялся, ибо, как это бывает в молодости,
казался себе в высшей степени достойным любых почестей". "Я
был приглашен... сиятельной и знатной семьей Колонна", и -
"[как это выглядит в свете всего дальнейшего,] ныне уж не ведаю,
заслуженно ли, но в ту пору, конечно же, [еще] нет" - "мне были
оказаны почести просвещенным и несравненным мужем Джако
мо Колонна..." А позже при его брате, кардинале Джованни Ко-
_ 250
Авторское самосознание в письмах поэта
л он на, он, Петрарка, ощущал зависимость "не от господина, а как
бы от отца, или даже еще иначе - был с ним, как с возлюбленным
братом, будто находился в собственном доме и у себя". Наконец,
в Риме глава семьи, "великодушный родитель их Стефано
Колонна, равный любому из мужей древности, принял меня и
приблизил к себе таким образом, что ни в чем, сказал бы я, не делал
различий между мной и кем-либо из своих сыновей. Любовь и
привязанность ко мне этого выдающегося человека оставались
неизменными до конца его дней, а во мне это живо поныне и
умрет только вместе со мной" (р. 878-880).
Известно, что Петрарка пользовался покровительством
Колонна с 1330 до 1347 г. Обязанности его были весьма
необременительны. Он иногда отправлял мессу в роли домашнего
капеллана, принимал на себя отдельные дипломатические поручения.
Когда Петрарка с 1337 г. обосновался в Воклюзе, служба его
стала практически номинальной. Довел дело до гнева этого
могущественного семейства и разрыва, до необходимости для себя
устраиваться как-то иначе, по сути, он сам. Причина была
достаточно фантастической: отношение Петрарки к движению
Кола ди Риенцо, которого он вообразил наследником свободы и
славы великого Рима, человеком, подобным древним
римлянам... как и он сам, Петрарка.
Мнимо-политический "развод" с Джованни Колонна
(отзвук сего, восьмая эклога "Буколик", называется "Divortium")
явился наглядным доказательством, что
культурно-исторический феномен, несколько неосторожно называемый "мифами
Петрарки" ("миф о Лауре", "миф об уединенной жизни", «миф о
незаконченности "Африки"* и т. д.), обладал чрезвычайно
плотной реальностью и был способен на чаше вполне практических
весов перевешивать реальности житейские... В конце концов,
мы обязаны признать, что именно ради мифа о Риме Петрарке
пришлось покинуть навсегда "Галлию", расстаться с уютным и
ненаглядным Воклюзом.
Но эту причину, как и вообще разрыв с Колонна, он
обходит молчанием. Предпочитает вспоминать своих сиятельных
друзей тепло и приподнято. Подчеркивает изначальное
равенство отношений. Тем не менее, именно сюда введен рассказ о
том, как он, наскучив городской жизнью, однажды "набрел на
совсем небольшую, но уединенную и ласкающую взгляд доли-
251 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ну, называемую Закрытой, у истока Сорги, царицы всех
[здешних] ручьев". Далее следует описание независимой творческой
жизни в тихой сельской обители. Оно логично перетекает в
обширный эпизод увенчания Петрарки лавром первейшего из
поэтов от имени "senatus populusque Romanus" на римском
Капитолии 8 апреля 1341 г.
В этот эпизод вплетены взаимоотношения с королем
Неаполя Робертом Анжуйским, которого Петрарка называет
"высочайшим и государем, и философом, который был более славен
знанием словесности, нежели троном (поп regno quam Uteris),
единственным в нашем веке не только правителем, но и другом
учености и добродетели".
Исключительно по указанной причине - так желает думать
поэт, поэтому нам неуместно сомневаться... - он, прежде чем
решиться принять лавровый венец от римлян, избрал Роберта
своим судьей в этом деле. Тот три дня подряд, заявляет
Петрарка, обстоятельно экзаменовал его, объявил достойным
коронования, предложил для этого Неаполь. Но Петрарка предпочел
Неаполю, как и ранее парижской Сорбонне, конечно же - Рим.
Роберт познакомился с незаконченной и необнародованной
«этой моей "Африкой"*. Пришел в такой восторг, что просил
посвятить поэму ему... Что ж, Петрарка "не мог, конечно, да и
не хотел отказывать". Вот так.
Словом, "каким я ему показался и как был им принят, сам
удивляюсь поныне, и ты, читатель, тоже удивишься, когда
узнаешь" (р. 884).
Не только полное достоинство и равенство обладателя
короны поэтов с прочими венценосцами, но и более того.
"...Я был на зависть удачливо взыскан близкими отноше-
ними и дружбой государей и королей. Однако многих из них
я, хотя и глубоко любя, избегал: настолько во мне была
укоренена любовь к свободе (tantum fuit michi insitus amor liber-
tatis), что я при малейших признаках чего-то с ней
несовместного всячески старался от этого уклониться. Многие государи
моего времени меня любили и лелеяли, а за что, не знаю, это
уж их дело. И, таким образом, когда я бывал с ними, то это,
скорее, они бывали со мной; и от могущества их для меня не
проистекало никакой докуки, одни только многие удобства"
(р. 874)ю.
_ 252
Авторское самосознание в письмах поэта
Отчасти не отсюда ли некоторые внешне необъяснимые
переезды Петрарки в Италии? Похоже, он опасался слишком уж
прирасти к какому бы то ни было очередному покровительству.
Набрав со временем шесть церковных пребенд, среди коих
наиболее известна та, что сделала его каноником в Падуе, но
полное священство так и не приняв, т. е. сохранив свободу
также в отношении клира, - Петрарка бывал в разные времена
почтенным, постоянным, подчас многолетним гостем синьоров
Милана (Висконти), Пармы (Корреджо), Падуи (Каррара),
дожей и сената Венеции... Его жаловали не только Роберт
Анжуйский, но и король Франции Иоанн II, император Карл IV, папы
Клемент VI, Иннокентий VI и Урбан V...
Опустим же достоверные выкладки биографов о том, сколь
зато осторожным и дипломатичным постоянно приходилось
быть Петрарке. Что из того?
Обойдем пока и неудачу при попытке занять место в
авиньонской курии. Похоже, его культурно-историческая судьба не
возжелала допустить, чтобы он стал всего лишь очередным
апостолическим секретарем.
Он остался человеком без должности и места. (То есть того,
что веком раньше Бертольд Регенсбургский называл "amt": в
качестве одного из пяти "даров", получаемых человеком от
рождения, закрепленных за ним от Господа.)
Петрарка был по своему социальному положению в общем
первым в истории "просто" писателем... Первым
прославленным и благополучным автором-профессионалом. Впрямь
относительно независимым.
Это - завоеванный им совершенно особый личный статус.
Какой? Статус частного лица...
* * *
Отдадим себе отчет в том, что лишь один Петрарка во всей
тогдашней Европе являлся, так сказать, частным лицом11. Как
раз поэтому было бы исторически нелепо и непродуктивно
докапываться, насколько он действительно пользовался
независимостью - или воображал ее, или это всего лишь "литературный"
артефакт. В подобных условиях, в XIV в. (да и, конечно, еще
много позже: собственно, до кануна гражданского общества, т. е.
253 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
до эпохи французских энциклопедистов), быть в собственных
глазах и в глазах окружающих просто и только сочинителем,
только автором того-то и того-то, превратить свое авторство и
личное призвание в нечто социально действительное,
самодостаточное и пр. - возможно было преимущественно в формах
культурного воображения. И... его, т. е. такого воображения, все-
таки, социокультурной реальности. Поскольку мы, как-никак,
толкуем об истории культуры, не стоит излишне буквально,
натуралистически сталкивать реальное и воображаемое.
Вместе с тем. То, что выдумал Петрарка и выдал за себя и
что принималось серьезно им самим и в его кругу, - а значит, и
было поэтом Петраркой, - не могло бы никому прийти в голову
еще недавно. Даже Данте, которого он однажды видел в детстве.
Данте был горд, признался, как горек для него хлеб
изгнания, знал о себе и то, какой он превосходный поэт. Однако
гордость его была более традиционной. Самосознание Данте, очень
личное, все же уходило корнями в почву коммуны,
обошедшейся с ним так жестоко. Он был кем угодно - одним из числа
"добрых мужей", пополанов Флоренции, членом старшего цеха и
одним из приоров 1302 г., гибеллином, визионером, ученым
писателем, поэтом - но не исключительно профессионалом "stu-
diorum humanitatis" и не... частным лицом, пусть в несколько
условном, культурно-игровом, опережающем значении этого
понятия применительно к Петрарке.
Приближалась, однако, иная эпоха. Понадобились совсем
иные фантазии сравнительно с дантовыми. Но, чтобы оказалось
возможным - уже в следующем столетии - появление
элитарной социальной группы "ораторов", гуманистов, к которой
индивид мог принадлежать лишь неформально, в результате
своего выбора, излюбленной направленности чтения и мыслей,
личного усердия, одаренности и соответствующего признания
других лиц, интеллектуально близких к тому же12, - кто-то
должен был первым спроектировать потребное для этого новое Я.
Это сделал Петрарка.
Он сотворил, выдумал, вылепил себя - из словесности, из
латинских текстов, - не из чего иного это и нельзя было бы
сотворить. Топосы любви к свободе и уединенной жизни ради
чтения древних и сочинительства - рекомбинируются в нечто
до крайности оригинальное. Под пером Петрарки начинает на
_ 254
Авторское самосознание в письмах поэта
века кристаллизоваться новый топос - русскому читателю
ставший известным, конечно, главным образом от Пушкина...
«Ты - царь. Живи один...
Как же это совместимо? Разве царь может жить "один"?* -
лукаво недоумевал Абрам Терц13.
Может, если его венец - лавровый.
Поэт - один, и он - царь. Его публичное одиночество
торжественно. В качестве сочинителя Петрарка, явно держа на уме
Вергилия или Сенеку, ощущает свое особое достоинство, со-по-
ставимое с царским. Вот откуда странные, вскользь - словно бы
так и надо! - упоминания о Цезаре Августе. Он, де, Петрарка,
тоже происхождения не знатного, но древнего; он не считает
нужным, в отличие от Августа, заботиться о красноречии в
повседневных, "домашних" беседах14.
Восхваляя ученое и поэтическое уединение, традиционно
связывая его с высоким "досугом", otium'oM, Петрарка, однако,
понимал этот досуг как самое стоящее дело на свете. Как нечто
совпадающее для него, пишущего, с общественно значимым
занятием и положением. По сути, отождествлял otium с
negotium'oM15.
Этим он открыл ренессансную и новоевропейскую
перспективу. В этом он разнился не только от средневекового клирика,
университетского лектора, придворного поэта и т. д., но и от
античного учителя-ритора, либо судебного оратора, либо поэта
или историка, сознававшего себя, однако же, прежде всего
членом гражданской общины (civitas). Положение в ней и личная
карьера зависели от участия в публичной жизни, от
официального дела индивида, а не от его домашних, пусть
наиутонченных, досугов. При самой вдохновенной увлеченности
сочинительством, также и в случае широкой влиятельности своих в
нем успехов, все-таки античный римский автор противополагал
подобные вещи в качестве "досуга" - "делу" (даже если ставил
их на службу "делу"). Это так наглядно, например, в письмах
Цицерона Аттику!
Столь же явственно искреннее и совершенное
непонимание Петраркой такого, реально "гражданского", соотношения
между писательскими досугами и, скажем так, политическими
деловыми буднями - у того же почитаемого им превыше всех
Цицерона.
255 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
И вот он направляет своему любимцу послание, полное
показательных и забавных упреков. "О, вечно беспокойный и
терзаемый тревогой <...> чего же ты добивался бесчисленными
спорами и совершенно бесплодным соперничеством? Куда ты
забросил приличествующий твоим и годам, и занятиям, и
достатку спокойный досуг?.. Ах, насколько было бы лучше, тем
более философу, состариться в спокойной деревне <...> не иметь
никаких фасций, не ловить никаких триумфов, не возмущаться
никакими Каталинами..."16 Так наш поэт обращает целый град
общих мест, выуженных, впрочем, как раз из текстов
адресата, - против него же.
Нечего сказать, подходящие советы для - Цицерона!..
Но в этом, на наш нынешний взгляд, "неисторическом"
(хотя не лишенном осторожной и вполне свойственной Петрарке
практической трезвости) отношении к великому
политическому неудачнику - мол, отчего Цицерону бы не "состариться в
спокойной деревне", "раз свобода уже умерщвлена, а
республика погребена и оплакана"? - зато проступает продуманное и
глубокое сознание своего собственного предназначения. Своей
судьбы воклюзского как бы отшельника, сумевшего сделать
себя именно в этом качестве стоящим на виду у всего
человечества.
"...Я осудил твою жизнь, не одаренность, не язык (non inge-
nium, non linguam)" (Fam., XIV, 4). Что до жизни самого
Петрарки, то она, по сути, как раз есть не что иное, как язык... т. е.
она - развертка помянутой специфической языковой и
душевной одаренности. Она, его жизнь, чужда оппозиции vita/ingeni-
um, которую Петрарка усматривает у Цицерона относительно
Эпикура и которую он, пусть с риторическими оговорками,
применяет к самому Цицерону.
Жизнь писателя как такового всецело сводится, по
Петрарке, "к этой, какой ни на есть, способности инамерению
писать (scribendi facultatem ас propositum)" (там же).
♦ * ♦
Вот почему он ни от кого и ни от чего зависеть - не должен!
Он свободен от своих покровителей. Не он ищет быть с
государями, а - они с ним... Он желает уединения, чтобы не рассеи-
_ 256
Авторское самосознание в письмах поэта
ваться; хотя всегда рад принять ученых и достойных друзей.
Даже предлагал Боккаччо (в трудную для того пору)
поселиться у себя постоянно.
Все исходные индивидные самоопределения Петрарки - в
качестве полученных от природы или социальных, отвоеванных
им, - это отрицательные определения. Все четыре свободы - от
личных особенностей, от места, от времени, от внешних
обстоятельств - именно свободы "от". Сами по себе они еще не
выделяют "из вашего же стада" достославного описателя
собственной жизни. Или выделяют как-то странно... почти
бессодержательно. Свято место делается пусто.
Но пусто оно, конечно, не остается. Происходит
риторическое корчевание, подсечно-огневая расчистка умственной
почвы под принципиально новую роль для индивида.
Или выразимся так. Заготавливается - ну да, из готовых и
тщательно разминаемых топосов - некая глиняная пустотная
форма для отливки...
Чем же засевает этот пал, чем наполняет эту форму
Петрарка? То есть вообще-то понятно чем. Но - как?
О себе, о проживаемой жизни рассказывает Я-автор. Но
как удается Петрарке впервые столь тесно соединить их - т. е.
Я и автора? Придать сочинительству необычайно личную
значимость и окраску? Как это устроено и подтверждено изнутри
текста, каким образом сам автор интимно "вплетен" (textus) в
словесную ткань, сам стал своим "текстом"? Ибо если бы дело
обстояло иначе, то Петрарка был бы не в состоянии усмотреть
реальную индивидную конкретность - на кончике своего пера.
Если Я действительно полагает себя через авторство, через
эти вот se ri bend i facultatem ас propositum,To
следует искать тому свидетельства не просто в заявлениях на
сей счет (хотя и они в случае Петрарки замечательно новы,
любопытны, показательны), - но в содержательном, предметном,
речевом, интонационном составе произведения.
Φ Φ Φ
Петрарка начинает адресуемую читателю-потомку
автобиографию следующими словами: "Может быть, тебе доведется
услышать что-нибудь обо мне, хоть и сомнительно, чтобы не-
<>- 345
257 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
значительное и слишком темное имя дошло до дальних мест и
времен. Иты, возможно, пожелал бы узнать, что за человек я
был и при каких обстоятельствах были написаны мои
сочинения, особенно те, слава которых дойдет до тебя, или те, что
станут ведомы тебе лишь по названиям" (р. 870).
Уже второе слово - "tibi". И дальше Петрарка, собственно,
пишет не собирательному и отвлеченному "потомству", а
словно бы каждому читателю в отдельности. Это придает эпистоле
тон дружеского и личного обращения. Дважды нам встретится
еще: "любезнейший читатель (carissime lector)" и "ты, читатель,
думаю, удивишься, когда узнаешь об этом" (р. 878,884).
Поэтому лучше бы называть письмо не так, как велит рукописный
извод; но - "Читателю-потомку"...
Ср. в русской поэзии у Баратынского: "И, как нашел я
друга в поколеньи, читателя найду в потомстве я". Или... у
Маяковского: "как живой, с живыми говоря". Но ни до Петрарки, ни,
кажется, и после него, никто никогда не обращался к читателю-
потомку в жанре частного письма. Словно бы к неизвестному
другу... Это позволило привнести в интонацию
доверительность, оркестровать автобиографию в духе всего остального пе-
трарковского эпистолярия.
Не менее оригинальной затеей Петрарки (и он это вполне
сознавал: "dissimilitudo materie"! - Fam., XXIV, 2) было
оформление посланий к древним писателям в виде таких же частных
писем, ничем по жанру не отличающихся от эпистол,
обращенных к живым и реальным корреспондентам. С положенным
subscripts, с инсценировкой общения - предполагаемой
реакции древних, ответных вопросов. Так и здесь: "ты захочешь
узнать", "ты удивишься". Поэт конструирует и будущее, и
прошлое (ощущая их оттого лишь острей в качестве таковых) как
сплошь настоящее: через квазиобщение между "я" и "ты".
Обращение в далекое прошлое или будущее подано, как реально
отправленное письмо. Потому и само время - измерение частное,
личное.
Это -время писателей и читателей.
Хотя Петрарка сочинял "Posteritati" несколько лет,
отставлял в сторону и возвращался, почему же он не смог завершить
сравнительно скромное по размерам произведение? - случай
для поэта все-таки чрезвычайный. Ведь огромную и трудную
_ 25S
Авторское самосознание в письмах поэта
"Африку" он как-никак дописал, лишь считал недостаточно
отшлифованной и не обнародовал; собрание же биографий "De
vins..." было замыслом громоздким и поздним.
Но что могло заставить Петрарку остановиться, растянув
это на годы, посреди эпистолы} Очень на него не похоже. Во
всяком случае, умственный склад поэта был таков, что
незаконченность (ср. с историей "Африки") его беспокоила. Поэтому
здесь она дополнительно указывает на особую важность,
которую поэт придавал этой эпистоле - самой ответственной из
всех, что ему доводилось писать.
Поскольку письмо датируется именно 1351 г., так что сразу
вслед за этим пришлось бы поведать о плачевных житейских
хлопотах в папской курии Авиньона, касаться же этой темы,
равно и обойти ее, было бы для автора самой тягостной
автобиографической трудностью (см. ниже) - это мне кажется
довольно веским объяснением. Но есть и соображения более
широкого свойства.
Примем также в расчет беспрецедентность, уникальность,
неизвестность подобного жанра: автобиографии как письма в
будущее. И особенно вот что. Если исповедь возможна и
желательна во всякое время, на каждой отметке жизненного пути,
означая не то, что этот путь закончен, а то, что нужно быть
готовым сейчас и впредь, во всякий час, закончить его, предстать
пред Господом... Если бытовые автобиографии (т. е. "домашние
хроники" XIV в., где йя" внутри густой семейной, деловой и
политической фактуры) тоже легко поддаются окончанию, будучи
исчерпаны и оборваны в любой произвольной точке, до которой
сейчас добралась жизнь рассказчика... Если, далее, Данте
поведал в "Новой жизни" законченную в себе историю любви
(смерть Беатриче - личный, поэтический и сакральный финал),
Абеляр же - иисторию моих бедствий" со сложным, но также
ситуационным заданием, в защиту от гонителей, в ответ
ненавистникам... т. е., если в обеих историях о себе биографический
материал исчерпывающе укладывался в жанровый замысел,
пусть неординарный или многослойный - совсем иное в
данном случае, в "Posteritati"... Как подытожить и закончить
адресованный потомкам самоотчет Я?
Ведь эта удивительная эпистола есть именно итоговый,
окончательный и притом вполне конкретный рассказ о писателе
9·
259 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Петрарке. Однако и то, что пока не написано, или не завершено,
или не вполне отделано, не обнародовано, тоже должно бы быть
сюда включено и как-то сказаться в устроении текста. Между
тем образчиком могло служить только античное посмертное
закругленно-поучительное описание чьей-либо жизни. В
биографии достославного мужа Франческо Петрарки, с этой
классической и риторической точки зрения, определенно недоставало
того, чем кончается всякая правильная биография.
Ну да! недоставало кончины героя. Для замысла Петрарки в
этом могла состоять немалая литературная трудность...
ЙВ самом деле, прежде всего посмотри-ка, кто те, чьи
сочинения осыпают похвалами; поищи-ка их авторов; и конечно,
они давно обратились в прах. Ты хочешь, чтобы восхваляли и
твои сочинения? - так умри же. Любование человеком
начинает жить, когда сам он умирает, конец жизни это начало славы;
если слава приходит раньше, это вещь редкая и
исключительная. Скажу больше: пока жив кто-либо из твоих современников,
тебе не снискать полностью того, чего жаждешь. Вот когда все
они тоже сойдут в могилу, появятся те, кто способен судить без
гнева и зависти" (Fam., I, 2: 3-4).
Если автобиография Петрарки - антикизированное и
вместе с тем необычно преображенное по предметному смыслу
повествование, то закончить ее равно мешали в наложении друг
на друга как традиционность матрицы, так и новизна задания.
Ибо: если подразумевается реальный, биографический
комментарий к завершенному Я-автору, то как быть с ним живущим,
незавершенным? Например, как быть хотя бы с той же
двусмысленностью насчет "Африки", вроде написанной, но вроде и
недописанной? То ли пригодна она к отправке в будущее, то ли
нет. О главном сочинении в эпистоле поведано немало, но, как
увидим, в странном ракурсе, заметно уводя от него как итога -
к нему как намерению, обещанию, и наконец, особенно как
состоянию и знаку творческого подъема.
Одно дело заготовить, скажем, латинскую эпитафию
самому себе; другое - написать взамен (и столь же итогово)
автобиографию. Обозреть себя, Петрарку, во всех конкретностях и со
стороны, как бы за гранью смертных дней и трудов. А между
тем труд писательской жизни не исчерпан. Перу еще скрипеть.
И точка обзора для итогового отчета - отчасти впереди...
_ 260
Авторское самосознание в письмах поэта
Впрочем, хотя жанр, штучно изобретаемый поэтом, легко
наталкивает на подобные домыслы относительно внутренних
смысловых помех к дописыванию "Posteritati", - это все-таки
только наши домыслы. Может быть, они уместны лишь с
позиций "вненаходимости" (см. у М.М. Бахтина), лишь в свете
более позднего понятия "личности".
Что же до сомнения, дойдет ли его, Петрарки, "темное имя"
до будущего читателя, то тут не только обычное риторическое
изъявление скромности. Ситуация, при которой одни
сочинения сохранились, а о том, что существовали и другие, известно
лишь по названиям, - да ведь это столь хорошо знакомая
Петрарке и волнующая его судьба творений древних (см.,
например, второе письмо к Цицерону: Fam., XXIV, 4). А это означает,
что поэт измеряет расстояние, которое отделяет его самого от
воображаемого получателя сего послания, - этак полутора
тысячелетиями?..
Запросто. Именно что-то в этом роде.
Петрарка пишет древним, пишет потомкам, и мера
временной протяженности одна. Причем в некотором осязаемом
значении прошлое и будущее конгруэнтны настоящему. Так что
выходит: в глазах поэта, мы, нынешние, еще не самые далекие
получатели эпистолы.
Он смотрит поверх и наших голов - вдаль.
Велик замах этого автора. Велика, вопреки ритуальной
скромности, дерзость этого Я, для которого только авторство -
и суть, и основание, и причина, по которым он говорит о себе, о
личном, рассказывает историю своей жизни.
Опустошенность самохарактеристики вне и помимо
главного, т. е. того, что события биографии не что иное, как
"обстоятельства, при которых были написаны мои
сочинения", - соразмерна масштабу авторских притязаний.
Итак: "De successibus studiamm suum", вот цель и
содержание автобиографии по аннотации переписчика. И я ловлю себя
на том, что готов вложить в уста автора эпистолы слова... опять
Маяковского. "Я поэт, этим и интересен"...
Анахронистическое отождествление Я с авторством, личной
биографии с творчеством? Да... по крайней мере, подступы к
сему. И поэтому: перед нами "первый гуманист". Сколько
веревочке ни виться, начало-то ее - в эпистолярии Петрарки.
261 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
* * *
О Воклюзе: «Я переместил туда себя со всеми своими
книгами в возрасте 34 лет. Было бы долгой историей, если бы я
принялся рассказывать обо всем, чем я там занимался (или: что
я там осуществил, exerim) в течение многих-многих лет. Говоря
же в целом, именно там были или написаны, или начаты, или
задуманы почти все мои книжицы, и было этих начинаний
столь много, что они занимают и отягощают меня до сих пор.
Ведь дух мой, подобно телу, был скорее гибок, чем силен, так
что многое, задуманное с легкостью, я не осуществил из-за
трудностей осуществления. Сам вид этой местности подвиг
меня взяться за деревенское (или: неотесанное, непритязательное,
silvestre) сочинение, "Буколические песнопенияи, а также
написать две книги "Об уединенной жизни"...»
Ниже сказано: «Там, когда я бродил по взгорьям, в некий
шестой день праздничной великой седьмерицы (похоже,
Петрарка предпочитает оборот "sexta quadam feria maioris hebdo-
made" вместо Страстной пятницы из стилистических, антикизи-
рующих соображений. - Л. Б.) мной овладело неотступное
намерение сочинить героическую поэму о Сципионе
Африканском (Старшем), чье дивное имя было мне дорого с ранних лет.
Но это произведение, которое я озаглавил по его имени
"Африкой" и которое - уж не знаю, благодаря мне или ему (т. е.
достоинствам автора или самого героя. - Л. Б.), многих влекло еще
прежде, чем можно было с ним ознакомиться, - эту книгу,
начатую мной тогда с большим усердием, затем из-за разных иных,
отвлекавших меня забот я отставил» (р. 882).
Еще двумя страницами ниже следует то место, которое я
считал бы в эпистоле наиболее любопытным и ключевым.
* * *
Итак, Петрарка приезжает в гости к тиранам Корреджо и
поселяется в Парме. "Parmam veni", - извещает он, как нам
мнится, тоном Цезаря... Тем паче, вслед не замедлит быть
отмеченным и что он "увидел", и как "победил".
_ 262
Авторское самосознание в письмах поэта
.Памятуя о возданной мне почести (ранее было поведано
о короновании на Капитолии. - Л. Б.) и беспокоясь, не
оказаться бы недостойным ее, однажды я забрел на холм, круто
вздымающийся по ту сторону реки Энцы, ближе к Регию, и
дошел до местности, прозываемой Тихим Лесом. Внезапно
пораженный необыкновенностью тамошних мест (subito loci
specie percusso), я стал исправлять отставленную "Африку" и,
ощутив уснувший, казалось бы, душевный жар, в тот же день
кое-что написал, писал непрерывно и во все последующие
дни. Затем вернулся в Парму, сыскал стоявший там
наособицу тихий дом (позже я его купил, так что теперь он мой) и с
таким подъемом довел это сочинение в короткое время до
конца, что сам до сих пор поражаюсь. После чего я
возвратился к водам Сорги, к [своему] трансальпийскому
одиночеству...» (р. 886).
Как странно, что, читая "Posteritati", проскакивают мимо
этого поразительнейшего места (извлекая из него лишь
сообщение, что поэму Петрарка все-таки дописал)17. Это незамечание
объясняется традиционным характером вопросов к тексту: т. е.
сугубо литературоведческой и биографической, но не
культурологической установкой.
Между тем... Тут ведь не привычная гордость автора своим
сочинением как результатом. Тут напряженный интерес к
самому процессу сочинения. Его трудность, помехи, долгий перерыв,
внезапный жаркий подъем, обусловивший безостановочность,
интенсивность дальнейшей работы над этой вещью. И,
соответственно, запавшие в память удивительно краткие сроки ее
окончания. С потомками Петрарке следовало говорить о поэме,
разумеется, именно как о готовой, sub specie aeternitatis;
что-либо иное было бы бессмыслицей. Но он не может скрыть
непростых обстоятельств, притом внутреннего, творческого порядка,
которыми была богата история ее создания.
Он делится - внимание! - этой, как мы сказали бы,
профессиональной кухней в качестве известия самой высокой
значимости. И не с ближайшим другом (как Цицерон мимоходом со
своим Аттиком), но с читателем, которому, видите ли, важно
будет узнать обо всем этом через сотни и сотни лет!
В трогательных подробностях о том, как ему сперва не
писалось, а потом, в Парме, писалось так славно, - Петрарка, может
263 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
показаться, впрямь ближе к XX столетию, чем к своим
современникам.
Так в нынешней писательской среде сообщают с
характерной невероятной серьезностью (в ответ на заурядное "как
жизнь?"): "пишется7"не пишется". Здесь главный нерв
индивидуального существования писателя.
* * *
"Авторство" в чистом виде, как ясизненное состояние Эго.
Иначе говоря, напряженное отношение к себе через
осознание интимной существенности самого процесса сочинения. И,
таким образом: новое Я-сознание.
Во-первых, авторство в традиционном плане - т. е.
приносящий славу результат благого усилия...
Во-вторых, авторство как процесс Ведь это мое усилие,
описываемое в будничных и одновременно высоких конкретностях,
изнутри... Вдруг (исторически внове) ощущаемая
значительность именно личного усилия.
В третьих, отсюда повышенная энергия "я" - в связи с как
будто бы привычными, вытягиваемыми из античных текстов
топосами насчет достоинства поэзии. "Я" писателя становится
для себя предметом самодостаточного и волнующего интереса...
Решающая роль именно среднего члена, т. е. творческого
акта, в этой мыслительной связке: в промежутке между
сочинением и "Я"«.
Как ни заслуживает внимания историков (и очень хорошо
изучена!) ревностно разрабатываемая Петраркой, а затем
гуманистами идея о высоком положении поэзии среди прочих
человеческих занятий, - в логико-культурном плане (а не в более
узком плане идеологической оснастки) прежде всего
конструктивно и ново отношение автора к тексту как трудному и
родному детищу, как своему про-изведению.
Позже это же будет перенесено на живопись, на ваяние, на
архитектуру... Появятся знаменитые детальные описания уже
не, скажем, некой статуи, но того, каким образом автор ее
мастерил.
Именно из Я-авторства возникает пафос личного делания.
Захватывающий (предполагаемый также в читателе) и самодов-
_ 264
Авторское самосознание в письмах поэта
леющий интерес к процессуальное™, изобретательности
сочинительского свершения. Технологичность выходит на первый
план. Притом, в отличие от средневековой рецептурное™,
совпадая с талантом и самоутверждением автора. С жизнестрои-
тельной разверткой Я как такового.
До... Робинзона Крузо? - был, допустим, Бенвенуто Челли-
ни, который "сражался с этими превратными
обстоятельствами", не покладал рук с не меньшими терпением и
находчивостью. Преодолевая усталость и лихорадку, не ведая уныния,
яростно отливал своего "Персея". Поведал об этом деловито,
обстоятельно, увлеченно, вкусно - сам себе Дефо.
В борении с материалом, а еще и с ветром, дождем, огнем
Челлини полагался только на себя. Экспериментально
уединенный остров во все время работы - это его мастерская. А его
Пятница - это "мой дорогой Бернардино", "некий Бернардино
Маннеллини из Муджелло, которого я у себя воспитывал
несколько лет", да еще с десяток подручных19.
Рассказ об отливке Персея, в свой черед, не пророс ли
исторически (объективно) из маленького, почти неприметного для
глаза читателя, эпизода в "Posteritati"?
Однако в эпистоле Петрарки этот скромный эпизод
остается, в общем, единственным, изолированным, сам нуждается в
объяснении. Откуда мог бы взяться предполагаемый мною
смысл и пафос?
Уточним: все-таки обнаруживается и еще один вроде бы
созвучный пассаж. "Речь моя, как некоторые считают, ясная и
мощная - ну, а по мне, так хрупкая и темная. Впрочем, в
обычных беседах (in comuni sermone) с друзьями или домашними я
никогда не забочусь о красноречии; и удивляюсь, что эта забота
владела [при подобных же обстоятельствах] Августом Цезарем.
Там же, где сам предмет, либо место, либо слушатель, как
кажется, требует вести речь иначе, я немножко подбираюсь (или:
становлюсь несколько строже, paulo annisus sum). He знаю уж,
что из этого получается, хотя о суждении некоторых я сказал.
По мне же, если живу достойно, то и неважно, как умею
говорить. Искать громкой молвы о себе по причине одного лишь
словесного блеска - было бы тщеславием" (р. 874-876).
Сквозь моралистическое нормативное общее место, от души
принимаемое Петраркой, просвечивает различение двух родов
265 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
красноречия, повседневного и высокого. Между прочим,
различение, в котором поэт заинтересован с такой личной
напряженностью, достаточно загадочно, двусмысленно, коли ясность и
сила во втором случае действительно требуют от говорящего
лишь слегка - "paulo"! - повысить уровень элоквенции... Тут у
Петрарки и принципиальная для него мысль, и некая игра.
Ключа к ней в пределах текста, которым пока ограничен наш
разбор, не сыскать. Но очень любопытна и должна быть взята
на заметку эта озабоченность тем, как у него, Петрарки,
получается переход из одного стилевого регистра в другой. Всего три
слова о динамике авторства, беглое самонаблюдение. Еле
слышный обертон к рассказу о том, как легко и чудно сочинялось
ему в Парме.
* * *
В риторически сглаженном письме к читателю-потомку
рассказ о сочинении "Африки" остается особенным и
поразительным.
Своеобразный главный смысловой выступ!
В "Posteritati" речь с подобающе скромной горделивостью
идет о Я-авторе. О том, как государи искали близости с ним,
как Роберт Анжуйский был от него в восторге и просил
посвятить "Африку", ну и т. д. Много нетривиальных смысловых ак-
f центов... Но замечательно уже то, что предметом самоописания
оказалась жизнь сочинителя как такового.
Это первая сугубо писательская автобиография. Очевидно,
отсюда и потребность в риторическом оправдании через форму
послания к потомству. Но дан преимущественно внешний -
событийный, статусный и топосный - слой жизнеописания. Все
личное более или менее усреднено, обесцвечено, опустошено.
И только в эпизоде о творческой истории "Африки" мы
сверх сведений о трудах и днях писателя получаем также нечто
иное, очень личное: об отношениях между автором и его
произведением. Тут уже не только внешняя (социальная ли,
идеологическая ли, духовная ли, в данном плане неважно!) значимость
авторства. Но - капризность вдохновения, интимность романа
между сочинителем и сочинением. То есть именно то
единственное, что способно превратить автора из традиционного и
_ 266
Авторское самосознание в письмах поэта
усердного послушника своего текста, - из сказителя либо
ритора как своего рода медиума, выполняющего сверхличное
смысловое задание, некую сакральную или полусакральную
миссию (будь то церковная, летописная, ср. с пушкинским
Пименом, на самый же малый случай ради пользы и поучения
сыновей) - то единственное, что способно превратить автора просто
в ...автора.
Тут не приоткрывается ли каким-то краешком
складывающаяся новая установка: на самоценность авторства как
жизненного занятия, на сочинительство как нечто лично значительное
и захватывающее само по себе?
Однако же - пусть догадка и верна - на чем могло
конструктивно держаться такое внутренне напряженно-личное
отношение к тексту?
Что до апологии "поэзии" и "поэта" или, что то же самое,
"ораторов" и элоквенции, предпринятой Петраркой ("quanta vis
esset eloquii" - Sen., II, 3), а вслед за ним гуманистами, то,
повторяю, как она ни важна и ни показательна, все же это лишь
передвижка соответствующих топосов на более высокий
иерархический ценностный уровень. Это ход скорее идеологический,
из области социально-культурной и предметной20.
Между тем с логико-культурной точки зрения: если роль
автора впрямь рефлективно подвинулась в сторону Я-автора, то
окрашенное в более личные тона отношение Петрарки к своему
сочинительству, на которое как будто указывает
заинтересовавший нас эпизод в "Posteritati", должно бы найти обоснование и
разъяснение изнутри самого текста. То есть в характере его
энергетического смыслового устройства, в его тонких
движениях, в качестве корневого замысла и системы. Однако эпистола к
потомству никакого дополнительного материала к сему,
кажется, не дает.
Проблеснувший намек, при всей его выразительности,
ничем более не подкреплен. Мы узнаем о том, как трудно
подвигалась поэма, как увлеченно дописывал ее Петрарка. Именно в
этом пункте риторически заглаженный и загадочно
опустошенный автопортрет приобретает наибольшую конкретную,
личную плотность. Но дальше ничего не расслышать. К
положительности, пластичности, зримости идеи Я-автора, к ее, что ли,
платоновскому эйдосу - пробиться не удается. Между тем хоте-
267 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
лось бы прикоснуться к тому, как авторское "Я" Петрарки не
только оповещает о себе в тексте, но и - в тексте рождается.
Что (или, лучше, кто) стоит за автобиографией Петрарки?
За интригующим эпизодом о днях в Парме? На все
нахлынувшие вопросы письмо "Потомству" отвечает молчанием. Еще
раз: эпистола необычна. Но более разжигает наше культурно-
историческое любопытство, чем удовлетворяет его.
"По обыкновению Цицерона"
Ответ можно сыскать лишь при исследовании
характера петрарковского эпистолярия, взятого в целом.
Конечно, и в его трактатах, особенно же в диалоге
"Сокровенное", и в сонетах к Лауре - более или менее повсюду -
содержится важный материал также о самом авторе. О личном
самосознании Петрарки. Но всякий такой материал приобретает
для историка культурно-психологическую ценность, пожалуй,
преимущественно в виде дополнения к эпистолярию: вокруг
него да около.
Полагалось бы взять всего Петрарку. А наиболее подробно
и свежо - весь эпистолярий. Хорошо бы развернуто обосновать
ту концепцию, которую я сейчас собираюсь дать всего лишь в
виде концентрированного наброска.
• * * *
От самого последнего (по замыслу) письма Петрарки,
своего рода эпилога, перейдем к письму самому первому. То есть к
вводной эпистоле из тома "Повседневных", играющей, впрочем,
роль пролога ко всему эпистолярию, включая и незаконченную
книгу "Писем о делах стариковских".
Послание к "моему Сократу", фламандцу Ван Кемпену,
представляет своего рода жанровую раму к прочим письмам.
Тут разъясняются их характер и стиль... при каких
обстоятельствах поэту пришло в голову отобрать и составить их
собрание... для кого, и для чего, и с оглядкой на какие высокие
образцы. Ниже все эти принципиальные мотивы будут в эписто-
_ 26S
Авторское самосознание в письмах поэта
лярии многократно повторяться, варьироваться, расширяться
во все стороны. Главное же, получать яркое наглядное
воплощение. А также переливаться в другие, родственные по
самоощущению, мотивы сочинительства вообще и эпистолярного в
особенности. Однако поэтика оригинального жанрового замысла
(и вместе с тем поэтика Эго-центрического мировидения, Я-ав-
торства) отчетливо обозначена уже здесь.
Начнем с известного и, несомненно, ключевого места,
которое вызывает недоумение у серьезных литературоведов и до сих
пор так и не нашло убедительного разъяснения в
историографии.
Петрарка, поясняя, каким образом он редактировал
эпистолы для сборника, в частности, сообщает: «Я также убрал
многое, относящееся к повседневным заботам и, возможно, не
лишенное интереса тогда, когда это писалось, а теперь уже
докучное даже для самого любопытного читателя, - памятуя, как
смеялся над такими вещами Сенека в отношении Цицерона.
Хотя в своих письмах я следую вообще-то скорее
обыкновению Цицерона (Ciceronis... morem), чем
Сенеки. Ведь Сенека собрал в письма чуть ли не всю
моральную философию из собственных книг; Цицерон же в книгах
действует как философ, а в письмах толкует о повседневном, о
новостях и разных толках своего времени (familiaria et res novas
ас varios illius seculi rumores). Как относится к подобному
Сенека, это уж его дело; но что до меня, то, признаюсь, читать [Ци-
цероновы эпистолы] было очень приятно; я находил в них
отдохновение от тех трудных вещей, которые услаждают лишь
вперемешку с другими, сами же по себе утомительны для ума.
Итак, ты обнаружишь здесь многое, написанное к друзьям,
в том числе к тебе, накоротке (familiariter), то о делах
публичных и приватных, то о наших печалях - материи, более чем
частой-иопрочихвещах,подходящих к случаю (quas
casus obvias fecit). Я стремился едва ли не только
к одному:чтобы друзья узнавал и осостоянии
моего духа (animi mei status), да еще о доходивших до меня
новостях. Мне служило опорой то, что об этом говорит Цицерон в
первом письме к брату: "назначение писем в том, чтобы
получатель стал осведомленней в тех делах, о которых ранее не знал".
Тем самым я нашел и повод для названия..>
269 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОЮ ПЕРА
Можно бы назвать просто "эпистолы"; так поступали
древние, да и сам он, Петрарка, так назвал стихотворные послания к
друзьям. Однако же не желал повторяться. И ему... «пришлось
по вкусу новое название: "Книга о делах повседневных". То есть
такая, в которой очень мало изысканного, зато много
написанного обыденно и об обыденных вещах (fami-
liariter deque rebus familiaribus); хотя иногда, если этого требует
тема, простое и безыскусное изложение (simplex et inelaborata
narratio) уснащается моралистическими вставками, как это
делал и сам Цицерон* (Fam., I, 1: 32, 35-36).
* * *
Что же озадачивает историков литературы (и не без
причины)? Да то, что в действительности эпистолы Петрарки, по
общему мнению, устроены на манер эпистол Сенеки "к Луцилию",
а вовсе не Цицерона!21 Вот в чем странная загвоздка...
В 1345 г., работая в епископальной библиотеке Вероны,
Франческо Петрарка обнаружил неизвестные в его время
"Письма к Аттику" Цицерона. Поэт был поражен особенно тем,
что великий ритор писал их не для публичных целей, а по
"домашним поводам" и в связи со злобой дня. При всех
содержательных и литературных достоинствах, они сочинялись
действительно по случаю и непосредственному побуждению,
предназначались быть прочитанными только одним конкретным
человеком, очень близким Цицерону, поэтому носили
доверительный, необыкновенно личный характер.
# В 1351 г. Петрарка принялся составлять книгу собственных
писем. Но это тщательно отделанные рассуждения и рассказы
на всякие темы в эпистолярном жанре, скорее наподобие
"Моральных писем" Сенеки. Почему же Петрарка особенно
настаивал на том, что они соответствуют "обыкновению Цицерона"?
"Моральные письма" Сенеки очень мало походили на
письма в обычном домашнем и деловом роде, какие писали и тогда.
Это, как известно, литературные диатрибы, сочинения из
области этической философии, хотя и риторически оформленные в
эпистолярном жанре22. От трактата их отличают прежде всего
отсутствие внешней систематичности и особая гибкость,
живость интонации; от диалога - еще и характер личного обраще-
_ 270
Авторское самосознание в письмах поэта
ния автора-отправителя к адресату, с "обыгрыванием живого
присутствия оппонирующего автору слушателя (читателя)"23.
Мы теперь определили бы эту свободную форму, пожалуй,
как эссе?
Но чего в письмах Сенеки почти нет, так это жизненной
конкретности авторского "я". Редкие намеки на подобную
личную конкретность - суть всего лишь условные знаки и имеют
целью как раз понизить ее ценностный статус: "текучее
разнообразие жизни входит в письма как некий негативный фон для
незыблемой нормы..."24.
С.А. Ошеров, опираясь на теорию "литературного факта" у
Ю. Тынянова, указывал, что сенековское письмо "становится
жанром литературы, когда нужно подчеркнуть
неофициальность, интимность высказывания в противовес закрепленным в
литературе высоким жанрам". Но притом Ошеров был склонен
подчеркивать в "риторическом одеянии" наставительных
"Писем" свойство, которое он называл "разомкнутостью". « Прежде
всего, подобно подлинным письмам, они разомкнуты в жизнь:
Сенека заботливо и искусно стилизует это свойство. Он как бы
и не собирается рассуждать, а только сообщает другу о себе: о
своей болезни, об очередной поездке, встрече с тем или иным
знакомым. Так главным примером в системе нравственных
правил становится сам "отправитель писем", а это придает
увещаниям убедительность пережитого опыта.
Иногда Сенека отвечает на вопросы Луцилия, - и это
позволяет ему без видимой логической связи с предыдущим ввести
новую тему. Точно так же естественно входит в письмо любое
жизненное событие <...> И любое может стать поводом,
отправной точкой для рассужденья*25.
Совершенно справедливо. В какой-то мере, хотя бы в
некоторых эпистолах Сенеки, такой оттенок есть. Тем
замечательней различие между "Письмами к Луцилию" и обнаруженным
Петраркой эпистолярием Цицерона. Различие, которое было
сразу же им схвачено и совершенно поразило поэта.
Коротко говоря: соотношение между личным письмом и
литературным фактом у каждого из этих двух авторов перед
лицом другого зеркально перевернуто. Сенека стилизовал свои
литературные поучения под подлинные письма. Цицерон же,
напротив, писал настоящие письма, деловые: и вместе с тем ин-
271 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
тимные, и не только, как у Петрарки, по интонации, а по
существу, обычно отнюдь не предназначенные для кого-либо, кроме
очень доверенного адресата. Но притом на высоком
литературном уровне! Гениальный ритор привычно вносил в них
мастерство и блеск. Словно между делом, превращал стихийную
интенсивность своего "я" в настоящую литературу.
Так что не риторика и дидактика стилизовали себя под
письмо, а наоборот: личное письмо вторгалось в риторическую
речь и мышление. И взламывало их.
В античной культуре "письма" Сенеки опирались на некую
эллинистическую традицию (эти тексты Эпикура и др. до нас
не дошли), хотя и торили новые пути. Однако случай с
Цицероном был чем-то уже совершенно особым и несравненным.
Римляне (тот же Цицеронов Аттик) писали, конечно, живые и
прелюбопытные письма. Дружеские, семейные, житейские, также и
тайные политические. Но - в пределах расхожей фамильярной
стилистики: по существу, внеличной. "Я" в них общепринятое,
социально-характерное, обращенное вовне, а не в глубь себя.
"Я" при всей яркости оставалось на периферии римского
мировосприятия, будучи производным от "цивильного" и
"фамильного" начал. Римское "Я" - принадлежность не
индивидуального воображения, а готовых форм жизни и коллективного
сознания (ментальности). Оно очень мало рефлектировало на себя.
Короче, выражаясь на наш современный лад, более или менее
докультурно. Эмпирическое "я" и литература все-таки еще
разведены в разные стороны.
У Цицерона, словно нечаянно, полыхнула некая иная
возможность. Впрочем, по необходимости маргинальная (как и,
скажем, интимная лирика Катулла?).
"Я" не имело в античности своего независимого культурно-
психологического основания, собственной "идеи". И потому
приватная повседневность у Цицерона богато восполнена
риторикой и моралистикой...
Что же наш Петрарка?
* * *
Практически он (конечно, правы утверждающие это)
следовал в общем за Сенекой. Он был не готов, не в силах безусловно
— 272
Авторское самосознание в письмах поэта
принять слишком уж откровенные, безоглядно-личные Цицеро-
новы письма.
В молодости от него, Петрарки, "никогда не слышали жалоб
на изгнания, болезни, судебные приговоры, голосования в ко-
мициях, потрясения какого-то форума, как и по поводу
родительского дома, потерянного состояния, поруганной славы,
упущенного наследства, не поступивших платежей, разлуки с
друзьями..."
Это камешки в Цицеронов огород. Под нормативным углом
зрения, со стороны моралистической топики - увы, сколь
неподобающе слаб в отношении всего этого Цицерон! "Прибавь
сюда сварливые письма против известнейших лиц, когда он
легкомысленно бранит и поносит тех, кого совсем незадолго до этого
расхваливал". Петрарка утверждает, будто он сам испытал не
менее "тяжкие и долгие преследования судьбы"; но держался
иначе, с надлежащим мужеством, и даже ободрял других. А до
жалоб и стонов опустился только в старости. Да и то не из-за
собственных невзгод, а потому, что нехорошо было бы
оставаться невозмутимым, когда "пали в одночасье почти все друзья, да
и мир умирает". Ныне же к нему вернулась стойкость духа и
пр.: тут он ссылается на трагедию Сенеки "Октавия" (один из
источников этого потока общих мест?). "Чего, в самом деле,
бояться тому, кто столько раз схватывался со смертью?
Побежденным спасенье одно - не надеяться на
спасенье". (Последнее - уже из Вергилия...)
"Теперь, - заключает Петрарка, обращаясь к другу, - ты
знаешь нынешнее состояние моей души (presentem animi mei
status)". Но... ведь это и есть назначение всякого личного
письма!..
Итак, Петрарка полагает, что совсем не похож на
Цицерона? "Вот каким был в своих несчастьях этот муж, и вот каким
был я в своих", - резюмирует он не без откровенной похвальбы.
"Насколько я наслаждаюсь его стилем (stilo delector),
настолько же часто бываю задет смыслом высказываний". Но это не
мешает поэту (и уже, пожалуй, независимо от всяких топосов)
заявить, что, "рассердившись", он забыл о разрыве во времени и
сочинил свое "обидное" письмо Цицерону, "словно другу-
современнику, в силу близости (familiaritate)
моего и его природного склада (ingenio)".
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
* * *
Да мыслимо ли все это как-то совместить? Морализируя и
вроде бы вполне соглашаясь с Сенекой в оценке неприлично
душевно-распахнутого, мелочно-приватного содержания писем
Цицерона, с их пересудами и жалобами, - Петрарка вместе с
тем тут же отклоняет такую оценку. "Как относится к
подобному Сенека, это уж его дело..." Но он, Петрарка, как раз желает
писать настоящие эпистолы: т. е. familiariter, в манере
Цицерона. (А не всего лишь - вставим мы - стилизованные под
письма философские наставления Сенеки.)
Так. Но что им движет? "Stilo delector"? Однако в понятие
"стиля" Петрарка явно включает жанровую природу сугубо
личной переписки и - в связи с этим - некое внутреннее сродство
их, с Цицероном, натур. "Стиль" здесь означает не только
риторическую искусность и усладу. Стиль здесь больше, чем стиль.
Выскажу сразу же ключевое предположение. Не есть ли для
поэта "familiariter" не что иное, как возможность выведения
наружу, материализации, самовыражения и, следовательно,
самопостроения нового "я"? "Близость душевного склада" Цицерона
и Петрарки не толкует ли последний как именно акцентуацию
личной окраски писем? Напряженность авторского Я - как
смысловое ядро эпистолярного "стиля"?
Петрарка в общем следует за Сенекой. Но завороженно и
неслучайно оглядывается на Цицерона. Скоро мы увидим, что
реально (конструктивно) означала и к чему привела эта оглядка.
Демонстративная отсылка к Цицерону при оценке
Петраркой своего эпистолярного стиля носила знаковый характер. Ее
подкрепляет сетка соответствующих литературных помет,
пусть подчас боковых.
Эти стилизованные знаки - манифестация личного
характера писем - должны были дать читателям ключ. Они
принципиально оконтуривали жанр. Их роль несравненно больше
буквального объема, который они заполняют. Желание быть Я-автором
заметно обгоняет тексты. Но оно в них все же выговорено,
властно овнешнено - и поэтому придает даже "сенековским" опытам
Петрарки новое измерение, вытягивает за собой весь корпус эпи-
столярия. Только благодаря этому, став фактом поэтики,
окончательно становится и культурно-психологическим фактом.
274
* * *
Цицерон умел писать письма так, что мы не без изумления
почти готовы видеть - хотя бы в некоторых из них - письма в
новоевропейском, т. е. индивидуальном и душевно-интимном,
значении этого понятия. "Письма", сопрягаемые нами с
понятием "личности".
Может ли человек выскочить за пределы своей культуры,
своей эпохи? И да, и нет. Так дельфины иногда выскакивают из
воды и на миг зависают в невесомости...
То был один из тех странных казусов - значимых
ретроспективно, сбивающих с исторического толка, мнимо (или
реально?) "прецедентных", но актуально уходивших в песок,
тупиковых - одно из тех исключений, на которые столь богата история
античной культуры.
Петрарка же, положим, этого еще не умел. Как, впрочем, и
вся его эпоха. Как целая череда эпох (пожалуй, до писем
Макьявелли и Микеланджело?). Не умел писать такие письма. Зато
он обдуманно хотел бы уметь писать именно в подобном роде.
Он впервые отнесся к этому, как к культурной задаче.
Непосредственность, казусность личной окраски писем
Цицерона (хотя и тонко им стилистически отшлифованных) уже
по одному этому не могла бы позволить ей, такой окраске,
послужить культурной парадигмой...
Даже Сенека ничего не смог тут понять. Посмеивался над
переполненностью цицероновых писем политической злобой
дня, над замыканием интимного общения на себя, над странной
самодостаточностью этого общения. Марку Туллию, видите ли,
хотелось, чтобы Аттик написал ему даже не о каком-то
определенном и важном предмете, а... просто написал.
О чем-нибудь!26
Было важно услышать издалека голос дружеского "ты". То
есть, на худой конец, получить просто лишь знак его. Просьба о
письме "ни о чем" - оголенная обозначенное™ другого Я как
такового. А тем самым, и своего Я.
275 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
* * *
...У Петрарки не выходит из головы эта порывистая
просьба, однажды излетевшая из-под пера Цицерона. Как и
насмешливое замечание Сенеки по поводу означенного места.
Тут обнажается какой-то решающий для Петрарки
смысловой нерв.
Он часто и словоохотливо вмешивается в расхождение двух
величайших древних авторитетов насчет того, что уместно и что
неуместно для частного письма. Он первый придает такое
огромное значение этому, казалось бы, мимолетному и
пустяковому эпизоду. Демонстративно обращает к Боккаччо коротенькую
эпистолу, написанную "о том, что нет ничего, о чем можно было
бы написать" (Fam., XII, 10).
"Чтобы ты не счел себя забытым, я сделал все, дабы
что-нибудь написать тебе с этим нарочным, но <...> долго перебирая,
не придумал ничего, о чем стоило бы написать, кроме именно
вот этого, что нет ничего нового, о чем я мог бы написать <...>
Что есть у меня определенного, кроме того, что в любом случае
помирать придется? Пусть меня осудит Сенека, который за
подобное же осуждает Цицерона..."
Так Петрарка, как бы в роли Аттика, выполнил просьбу
Цицерона, разыграв ситуацию за них обоих и освежив ее не на
словах, а, так сказать, на деле...
Даже если сия эпистола была бы, подобно некоторым
другим, присочинена задним числом, т. е. даже если решить, что
"Иоанн из Чертальдо" не получал ее (датированную 1 апреля
1352 г.), - в любом случае, важно, что этот многозначительный
литературный жест преподан в форме жизненного поступка.
Но, если такое письмо и впрямь было направлено другу
Боккаччо, то, значит, поступок оформлен в виде литературного
жеста... Так или иначе, они суть одно.
Кстати, это замечание приложимо и к знаменитому письму
о восхождении на Ванту, заподозренному в гораздо более
поздней датировке; и к письму из "Повседневных", адресованному
Луке Кристиани, которое в 1975 г. разоблачал Марио Мартелли
(см. ниже). Спрашивается: возможно ли, а главное, стоит ли
различать у Петрарки "жизнь" и "сочинение", если он их так
старательно и безнадежно перепутывал?
_ 27S
Авторское самосознание в письмах поэта
Полагаю, что обязательно стоит... но лишь ради того, чтобы
выяснить сам факт такого перепутывания в качестве
содержательного и значимого для понимания "Я" Петрарки. Биография
писателя важна в качестве того, что так или иначе
переплавлено в его творчестве. Но не как готовый код к творчеству. Скорее
уж наоборот.
* * *
Мотив самоценности "домашней" речи преломлен также в
письме к кардиналу Джованни Колонна: с хронологией и
подробностями поездки, с восторгами относительно Кёльна и его
римских древностей, с описанием купания при закатном солнце
множества женщин в Рейне на праздник Ивана Купала, с
упоминанием о недостроенном великолепном соборе и пр.
Важна, однако, не столько сама по себе личная
окрашенность путевых заметок, с эмоциональными риторическими
перебивками и перескоками с пятого на десятое, - важней
нарочитость, сознательное выдерживание именно такого стиля.
Какого же?
Спустя пять веков, пожалуй, сказали бы: "рапсодического".
Сам поэт с удовольствием осознает это свойство как
избыточность и нескромность личной впечатлительности,
заставляющие, просто потому что это показалось интересным ему,
Петрарке, "описывать все подряд". Подобный стиль, т. е. "я" как
внутренняя форма письма, как его прихотливый эйдос, -
осмысляется Петраркой в качестве содержания!
«Сейчас мне подумалось вдруг, благой отче, что я и
переступил границы скромности, и наговорил больше, чем
необходимо (plura collegisse quam necesse erat). Признаю то и другое,
но ведь необходимей всего для меня выполнять твои
повеления, а последнее из них, при моем отъезде, заключалось в том
<...> чтобы я сообщал обо всем в письмах так же, как привык
тебе рассказывать при встречах, не берег бы перья, не
заботился бы о краткости и красоте слога, не отбирал бы лишь самое
яркое, но описывал все подряд. Одним словом, ты сказал, если
воспользоваться выражением Цицерона: "Пиши все, что
подвернется на язык". Я обещал так и поступить, и
частыми дорожными письмами, по-моему, это исполнил. Если бы
277 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ты велел вести речь о более возвышенных материях, я мог бы
попробовать; однако полагаю, что письма сочиняют (epistole
officium) не для того, чтобы показать благородство пишущего, а
для того, чтобы [о чем-то] известить читающего. Захотим
показать себя, выставим это в книгах, в письмах же будем [просто]
беседовать* (Fam., I, 5).
Цицерон и впрямь "беседовал"; Петрарка же пускается в
жанровые выкладки, на наш слух, наивные и неуклюжие, о том,
что в письмах надобно беседовать... Ясно, чьи письма
естественней, интимней, феноменологически ближе к тому, что стали
понимать под письмами в Новое время. Да, Цицероновы. Но чьи
письма более исторически новы, активны, существенны, с точки
зрения культурной инициативы?
Феноменология, которую опознают и расценивают в некоем
ее необычном качестве лишь задним числом, с позиций
другого типа культуры, может выглядеть фантастически богатой,
непревзойденно выразительной. Такова, например,
"импрессионистичное™" китайской поэзии Танской эпохи или японских хок-
ку, таковы сбивающие с толку квазипсихологизм и квазисубъ
ективность "Записок у изголовья" Сёй Сёнагон или
"экзистенциализм" Экклесиаста... Их неисчерпаемые смысловые
потенции разворачиваются и обновляются в последующие времена.
Сперва они на века становятся каноническими; в новейшее
же время - вдохновляюще дерзкими, модернистскими (кстати
говоря, как и загадочно хтоническая, дорефлективная, пред-
культурная пелена мифа над Хаосом). Но на собственной,
традиционалистской почве они или архаичны уже настолько, что
для нашего уха звучат современно... или новы и потому
неизбежно маргинальны.
Между тем для эвристической культурной роли, для
непосредственно ситуативной порождающей функции, для
действительно новой нормы, жанровой модели - нужна сознательная
проблемность, потребно конструирование.
Стихийно-обостренное личное начало писем Цицерона
осталось исторически не востребованным (до дальней ренессанс-
ной поры). Напротив: сугубо опосредованная книжными
реминисценциями, литературностью, от начала до конца
стилизованная, сконструированная, и в этом плане - ну да,
разумеется! - искусственная новизна личной окраски в письмах Петрар-
_ 27S
Авторское самосознание в письмах поэта
ки, благодаря именно этим качествам, смогла стать на полтора
века культурной парадигмой.
Небывалое реально-историческое ренессансное Я возникло
потому, что было не просто эмпирическим, житейским,
частичным, т. е. существующим вне системного мироотношения; оно
явилось результатом напряженного рефлективного усилия.
Оно далось Петрарке, а затем ренессансным гуманистам и
художникам, лишь через состояние и сознание авторства, через Я-
автора.
В культуре вообразить себя другим - т. е. вообразить
обдуманно, символически, в знаковом материале и продуктивно,
через про-изведение! - не значит ли стать действительно
другим} А как, собственно, дано им стать иначе?
* * *
Вернемся к заявлению Петрарки, что в эпистолярии он
ближе к обыкновению Цицерона, чем Сенеки. Поэт мотивирует
обдуманно и обстоятельно. Систематизируем его доводы.
Во-первых. Ему ближе Цицерон ввиду цели писем.
Он, Петрарка, тоже "говорит о повседневных вещах,
упоминает новости и разнообразные толки своего времени". В
письмах пишут нечто, подходящее к случаю. Их, как учит Цицерон,
вообще-то пишут для того, чтобы сообщить корреспонденту
что-либо, о чем тот еще не знает или знает недостаточно.
Любопытно, что эту истину, нам кажущуюся до забавного
тривиальной - относительно информативного и вместе с тем частного
характера дружеской переписки, - поэт выписывает из
Цицерона как значительную и вовсе не тривиальную...
Но разве итальянцы в XIV в., как и в иные века, не писали
именно таких писем? Само собой. Однако Петрарка стремится
превратить житейскую, практическую установку в установку
высокой литературы; т. е. возвысить частное и казусное
эпистолярное "я" до полновесного жанрового (и тем самым
мировоззренческого) статуса.
Во-вторых. Ему ближе Цицерон ввиду стиля писем.
А именно: стиля "домашнего", "простого и безыскусного",
не заботящегося о красноречии, доверительного,
"непричесанного и непринужденного (horridula atque improvide)". Это, ко-
279 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
нечно, отнюдь не точное самоописание. Это
культурно-риторический образ такого стиля (на самом деле, весьма и весьма
ухоженного!).
Он освящен авторитетом самого Цицерона. Поэтому
"простой и безыскусный" стиль весьма искусен. Он тоже высок,
хотя иначе и скромней, чем собственно высокое красноречие,
принятое для более важных и публичных поводов. Так пусть же
смолкнут наглые невежды, хулители эпистолярного стиля
Петрарки! Формально признавая (конечно, вполне искренне)
иерархию жанров, а значит, и стилей (эпистолы - это "мои
безделки", или "мои пустяки", nugas meas... между прочим,
словечко взято из Катулла...) - Петрарка тут же принимается ревниво
отстаивать достоинство и совершенство речи, которая только
что была объявлена мв среднем, домашнем и обыденном роде
(hoc mediocre domesticum et familiäre dicendi genus)". Да ведь в
собственно высоком роде (oratoria dicendi) нынче почти никто
уже, мол, и не пишет (ср.: Farn., XIII, 5).
"Familiariter" - у Петрарки ключевое слово. Тут сходятся
стиль, предмет и смысл эпистолярия, природа и характер
сочинительства подобного рода, его настоящий интерес.
Ибо, в-третьих, не так уж, по правде, незначительна, отнюдь
не лишена в глазах поэта высокого и общеинтересного значения,
так сказать, сверхтема писем, их сквозное содержание. Эта тема
и это содержание - он сам, Франческо Петрарка, "состояние
моего духа". Ему ближе Цицерон ввиду смысла писем.
Как из твоих писем, Цицерон, "я узнал, каков ты для себя
самого" (Farn., XXIV, 3: "quis tu tibi esses agnovi") - так и
собственные письма суть "портрет моего ума и отображение
прирожденного душевного склада (animi mei effigiem atque ingenii
simulacrum)" (Farn., I, 1).
И, наконец, в-четвертых. В переписке "я часто не
похож на себя самого". Ибо душевное состояние
отправителя всякий раз соотнесено с возрастом, положением,
характером, нынешним душевным состоянием адресата.
"Разнообразие людей бесконечно (infinite sunt varietates hominum)".
Письмо, стало быть, есть совершенно конкретный момент общения
двоих. Трудность каждого письма, в итоге, двояка: раскрыть
себя, но и "поразмыслить, каков тот, кому собираешься писать, а
также, с каким чувством им будет прочитано то, что ты пи-
_ 280
Авторское самосознание в письмах поэта
шешь". Поэтому в письме Я-автор психологически (как сказали
бы мы) объемен и подвижен. Не закреплен раз и навсегда в
одной точке на шкале человеческого разнообразия.
"Я" - разный также и внутри себя, способен меняться.
Вот каковы заявленные Петраркой мотивы. Вот почему он
считает себя ближе по характеру эпистолярия скорее к
Цицерону.
"От Франческо - привет его Цицерону. Я долго и
настойчиво искал твои письма и нашел там, где менее всего думал найти,
жадно их прочел. Я услышал тебя, о Марк Туллий! -
говорящего о многом, о многом сожалеющего, на многое смотрящего
иначе, нежели прежде. И, если раньше давно мне было ведомо,
каким наставником ты был для других, то теперь я узнал, каков
ты для себя самого".
* * *
К тому, что было сказано, вообще ко всей предлагаемой
концепции, существует серьезная корректива. Но здесь я в
состоянии лишь упомянуть о ней.
В петрарковском эпистолярии не менее важной моделью
"Я" как предмета рефлексии послужила "Исповедь" бл.
Августина.
Как известно, для Петрарки это самое драгоценное
сочинение гиппонского епископа. Именно его он, если верить
эпистоле, взял с собой при восхождении в Альпах - и раскрыл на
вершине Ванту...
То был заветный манускрипт, который около 1333 г. поэт
получил в подарок от Дионисия, почтенного монаха-теолога из
августинского ордена. Как Петрарка рассказывает уже в 1374 г.,
незадолго до кончины в свой черед передаривая другому
августинцу, молодому Луиджи Марсильи, испещренный пометками
и крайне прохудившийся экземпляр, столь дорогой сердцу, но
ставший неразборчивым для ослабевшего зрения
("состарившийся вместе со мной"), - поэт никогда, также и в несчетных
путешествиях, не расставался с ним. Когда его накрыли
морские волны близ Ниццы и он чуть не утонул, и тогда
"Исповедь" была при нем: "Христос спас от опасности нас обоих".
"Этот томик был мне мил и своим содержанием, и своим авто-
281 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ром, и малым размером, удобным для перевозки <...> так что
из-за постоянного использования он стал продолжением моей
руки, они казались неотделимыми друг от друга" (Sen., XV, 7.
Ср.: Fam., IV, 1).
Августинизм Петрарки - тема самостоятельная,
породившая множество исследований. Для нас она была бы важна лишь
с одной, но очень существенной стороны - не вероисповедной,
не этической, вообще не какой-либо конкретно-идейной, а со
стороны жанрово-стилевой конструкции, и потребовала бы
обширных дополнительных выписок и разборов.
"Исповедь" побудила автора "Сокровенного" избрать
именно Августина своим собеседником и дидактом. Но там,
несмотря на значительную новизну замысла, некоторых
выразительных частностей, особенно же интонационной живости,
придающей риторским голосам участников беседы как бы личные
тембры и поэтому отчасти уравнивающей их, - все-таки в целом
предметное содержание и структура следуют канону
нравоучительного диалога: духовного отца и преподавателя с учеником-
послушником. И хотя Петрарка старается подражать свободной
манере "Исповеди", но "Сокровенное", не лишенное
автобиографической подсветки, неизмеримо уступает гениальной августи-
новой исповеди, не став, как уже говорилось, и светской
автобиографией.
Настоящее претворение пластики августинового "Я",
притом в смелом и небывалом роде, получилось у Петрарки не в
"Secretum", a в эпистолярии. Здесь оно абсолютно органично
как раз потому, что парадоксально соединилось с подражанием
Цицерону. Решающий момент для возникновения
индивидуально и светски проработанного личного самосознания, а
значит, и ранее неизвестных смысловых оправданий
автобиографизма состоит в том, что Петрарка своеобразно соединил двух
своих столь разных поводырей.
Он заместил исповедальную сакральность Августина - Ци-
цероновой позицией частного лица, толкующего решительно
обо всем, что взбредет на ум, что занимает его в данную минуту.
С мнимой небрежностью "скромного, домашнего и обыденного
рода говорения", с этой как бы случайностью, непричесанно-
стью, непринужденностью "вдруг" вырывающихся признаний и
впечатлений...
_ 2S2
Авторское самосознание в письмах поэта
И он поставил на место деловых, политических и семейных,
действительно "повседневных" поводов писем Цицерона - Ав-
густиново раздумье о "внутреннем человеке" в себе, коренные
заботы личной духовной жизни. К этому сводится причина его
упреков Цицерону и ощущение большего достоинства
собственного эпистолярного поведения.
Результат двойного фильтра (действие одного из них все же
несравненно более понятно) был таков: не только жизнь
представала совершенно олитературенной, психология -
сублимированной, но и, напротив, риторическая литературность,
окрашивая в сознании автора его поведение и образ жизни,
перетекала в реальность, превращалась в истину личного
существования.
Ибо вырабатывалась новая опора такого существования: не
через общинную (в Риме "гражданскую") или сакральную
причастность, а через причастность, как мы сказали бы сейчас,
культурную. То есть через идею авторства.
Образ Я как автора, который Петрарка формировал из
материи своей жизни и книг, подправляя одно другим, смешивая
до неразличимости, отливая в "портрет моей души и
изображение моего склада ума", - стал действительным автором, Фран-
ческо Петраркой...
Как оказалось возможным такое? - отвердевание
вычитанного и воображаемого Я в качестве подлинного, исходного?
обращение следствия в культурную причину, автора-книжника в
causa sui? "стиля" - выдержанного и отделанного до
классицистической безупречности и, значит, до блестящей
сглаженности - в данного индивида, с особенным самосознанием?
А вот именно благодаря этому стремлению к стилевой
абсолютности, законченной однородности, сглаженности, высокой
литературности, а потому и непроницаемости для
эмпирически-житейских побуждений, интересов, поступков.
Петрарка часто ускользал от себя же бытового. Это было не
обманом или самообманом, а "стилистическим освобождением"
(М. Мартелли)27.
В Петрарке стиль становился (а не "был") человеком.
Книжность обретала психологическую повседневную
достоверность изнутри себя же, через сдвиг риторики Цицерона и
Августина. Это прорыв от риторского ("гражданского" ли, испове-
2Ю _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
дального ли) "Я" к самовыражению как суверенной цели, к Я в
новоевропейской, хотя и далекой пока, перспективе.
* * *
Хорошо, пусть за фразой о близости к "цицеронову
обыкновению" стоит целая обдуманная и демонстративная программа
эпистолярного поведения. Но пока по-прежнему непонятно, что
же делать с тем бесспорным обстоятельством, что Петрарка не
только сочинял свои письма сразу же в качестве литературных
и назидательных, рассчитанных на публикацию, но и затем,
шлифуя их для сборника, убирал, как сам тут же разъясняет,
все излишне частное и конкретное. Вымарывал какие-то имена,
житейские подробности. Зато делал речь более ученой,
утонченно-книжной. То есть придавал еще больше обобщенности, в
духе Сенеки; и еще меньше личной непосредственности,
сиюминутной казусности, в духе Цицерона28.
Приглядимся, однако, посредством "замедленного чтения" к
смысловой архитектонике хотя бы - для начала - уже самого
этого вводного письма к "Сократу", первоначально от 13 января
1350 г. (Ниже перевод В.В. Бибихина с некоторыми
внесенными мною изменениями.)
Первый ход. "Роясь в давно обтянутых уже паутиной
ящиках, я среди облака пыли развернул полусъеденные тлением
письмена..."
Оказывается, этот бумажный хлам - копии некогда
отправленных писем. "...Я сперва почувствовал было сильнейшее
желание спалить разом все и избежать тем скучного труда разборки..."
Это не совсем игра, не только риторическая игра. Здесь, как
и в "Сокровенном", есть также истинное смысловое
напряжение. "Я" не может ведь быть самоценным. Оно не смеет вдруг
выйти, не обинуясь, на передний литературный план. Тем паче,
вне исповедального, покаянного контекста - собственное
тленное Я лишь случайно, лишь как-то исподволь и невзначай,
вправе занять мое, автора, внимание - как и моих читателей.
Итак, для начала: да не сжечь ли мне эти приватные и,
следовательно, ненужные письма? Такова теза в завязке письма.
Второй ход. «..Потом, когда за одними мыслями потянулись
другие, я сказал себе: "А что тебе мешает <...> припоми-
_ 2S4
Авторское самосознание в письмах поэта
нать заботы и тревоги своей юности?" Это соображение взяло
верх; вспоминать о том, что и в какое время я думал, показалось
мне хоть и не возвышенным, но по крайней мере не
неприятным делом». И он, повествует Петрарка, мол, засел за разборку
старых писем. Такова антитеза в завязке письма..
Далее следует разработка обоих заявленных
сталкивающихся мотивов.
Поэт с любопытством созерцает "невероятно пеструю и
путаную картину" своих давнишних переживаний. Кое-что
казалось уже ему самому малопонятным: "из-за перемены не
столько в облике бумаг, сколько в направлении моего собственного
ума". "Другое пробуждало не лишенную странной сладости
память об укатившем в небытие времени". Занятна была и разно-
стильность эпистол, среди коих немало стихотворных. "Так или
иначе, эта свалка всевозможных разностей (va ri a ru m rerum
tanta colluvio) задала мне работы на несколько дней..."
С другой стороны: существуют "более важные начинания
(fundamenta)". Поэта ждет "другой труд... более славный
(preclarior)". В общем-то, Петрарка так, традиционно, и смотрит
на свое писательское дело. Или все же как-то иначе?.. Ведь
притом надобно возвысить и сочинительство менее "славное"
(постоянно держа в уме эпистолярий Цицерона!). То есть:
безыскусное искусство?
Не так уж легко рождалась в уме Петрарки - по сути,
именно эта - в будущем коренная для всего итальянского
Возрождения эстетическая и вместе с тем этическая максима (ср. с
"фацией" у Кастильоне) - формула личного авторства. В которой
"безыскусность", хотя она-то и требует особых усилий, есть
свойство "домашности". Свидетельство естественности,
жизненной подлинности пишущего Я (в дальнейшем - также Я
живописующего или ваяющего).
Петрарка описывает некое колебание, спор с самим собой.
И вот третий смысловой ход: "...хотя немалое увлечение и
присущая нам любовь к собственным поделкам удерживали
меня, победила забота о более важных начинаниях, которые я
отложил, тогда как они у меня на руках, и многие их от меня
ожидают" (речь, конечно, об "Африке"?).
Третий ход возвращает нас к первому (к тезе): "Что тут
долго говорить? Ты услышишь вещь, может быть, невероят-
285 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ную, однако так все и было (incredibilem forte rem audies,
veram tarnen)". Будто бы он, Петрарка, сжег тысячу или более
писем!..
Как?1 Значит, все-таки: горите, горите, личные письма?
Но неспроста об этом сказано, как о поступке
"невероятном". И еще, что он "передавал их на исправление Вулкану <...>
не без некоторого воздыхания"... Так что третий ход возвращает
нас и ко второму (к антитезе). Ибо: "что же стыдиться
признания в слабости?"
В итоге сожжение писем, как тут же обнаруживается, -
всего лишь обманная развязка рассказа (и проблемы).
Положим, если бы не чудесная находка в епископской
библиотеке Вероны... кто знает? Но, накрепко держа уже в уме Ци-
цероновы письма, Петрарка искусно прибегает к приему
фабульной и смысловой задержки.
Итак, четвертый (и последний) ход экспозиции. "Впрочем,
они еще горели, когда я заметил, что в углу валяется еще
небольшое количество бумаг; отчасти случайно сохранившиеся,
отчасти когда-то переписанные моими помощниками, они
устояли против всепобеждающего тлена!"
Вот и настоящая развязка.
Вместе с письмами устояло против тлена, спасено от огня и
авторское Я...
Так уже сам замысел составления эпистолярия преподнесен
как некое происшествие, выхваченное из повседневного хода
жизни нашего книжника. Оно свершается в интерьере его
писательского кабинета (scrittoio). Оно представлено как глубоко
личная коллизия. Изображены (т. е. воображены): борьба
побуждений, внезапный и почти импульсивный поступок, наконец,
вмешательство случая.
Петрарка, отстранившись от себя, приняв скромный вид
свидетеля и протоколиста, - решает за свою авторскую, т. е.
личную, судьбу. Заставляет читателя наблюдать, как вот сейчас,
в это мгновение, догорают бумаги ("illis ardentibus"). И тут же,
следуя за взглядом поэта, читатель переводит собственный
взгляд туда, где в углу лежит ранее незамеченный и, де, только
потому уцелевший еще один "малый ворох (раиса)".
Именно письма из этого вороха - "либо сохраненные скорее
по случаю, чем обдуманно, либо когда-то переписанные домаш-
_ 2SS
Авторское самосознание в письмах поэта
ними", - избежавшие огня еще более случайно, - они-то,
изволите видеть, и угодили в эпистолярий...
Да можно ли представить обстоятельства, более
непроизвольные, более непосредственные?.. Но эти-то письма и
составляют историю души Петрарки.
* * *
"Я сказал, что малый ворох; опасаюсь, однако, читателю он
покажется изрядным, а переписчику - и вовсе непомерным".
Да уж!.. Том достаточно увесист.
Петрарка поясняет также: к этим эпистолам "я был
снисходительней, согласился оставить им жизнь, приняв во внимание
не их достоинства, а свое удобство: ведь они не нуждались ни в
какой доработке (nihil enim negotii preferebant)".
Между тем ниже, как мы помним, поэт, как ни в чем не
бывало, разъясняет, почему и что именно в них надлежало
тщательно исправлять... трудясь над эпистолярием чуть ли не до
конца дней!
А вообще-то: "поверь мне, они сгорели бы вместе со всеми
остальными", если бы не давнишнее обещание передать письма
друзьям. И вот, швыряя все бумаги в огонь, он лишь потому не
схватил и эти, что вдруг ему представилось, как двое друзей,
словно бы удерживая с двух сторон его за руки, уговаривают
"не сжигать в одном огне и свое обещание, и их надежды".
Гм... "сгорели бы"?
Ну, разумеется. Чего стоят какие-то там "мои безделки",
притом перед лицом неизбежной и уже скорой смерти (о ней в
самых первых строках письма).
Впрочем: ты, Сократ, "их перечтешь не только благосклонно,
но и жадно". То есть точно так же "avido animo perleges", как сам
Петрарка поглощал эпистолярий Цицерона ("avidissimi perlegi").
Хотя «нелегко осмелиться сказать вслед за Апулеем:
"Слушай же, читатель, останешься доволен"*, - Петрарка, как
видим, именно это и говорит....
Однако: "Не все ли равно, какова форма, если судить о ней
будет только любящий друг?"
"Только друг" - тогда при чем тут "читатель"? "Все равно,
какова форма" - тогда почему же "читатель останется доволен"?
2S7 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Впрочем, тут же о том, каков "ровный и умеренный род
речи" в письмах у Цицерона и что такое этот сообразный
дружескому общению "домашний и повседневный стиль". И о своих
недоброжелателях, несправедливых судьях эпистолярия
Петрарки.
Предназначенные лишь для друга? Да, но еще и... для
"всех"! ("Sed non omnes tales iudices habebo;neque
enim aut idem omnes sentiunt aut similiter amant omnes <...>
Quomodo autem omnibus placerem...")
* * *
Вот уж dictum sapienti sat est! Что сказано, то сказано, для
умного читателя достаточно. Многозначительно колышется
смысл, с постоянной тайной оглядкой на себя. С иронически-
умышленными перевертышами, с игровыми противо-речиями.
С их взаимным великолепным незамечанием.
Каждое изъявление авторской скромности перетекает в
инвективу против "наглой дерзости" критиков ("Сложив руки и
сидя на берегу, легко судить вкривь и вкось об искусстве
рулевого"). И каждый такой отпор отводит к новым и новым
разъяснениям о том, что содержание частной переписки взыскует
особой искусной безыскусности.
Нескончаемы отблески глядящихся друг в друга
риторических зеркал.
Игра - что в книгу вошли те письма, которые случайно не
сгорели...
Игра - что таких писем немного...
Игра - что они не были тоже брошены в огонь, ради
давнишнего обещания подарить прозаические эпистолы Ван Кем-
пену...
Игра - что они пощажены еще и потому, что не требовали
отделки, "не грозили мне никакой работой"...
Игра - что эпистолярий предназначен для глаз лишь
одного друга (вот как - Цицерон писал только для Аттика?)...
Ну, и так далее.
Все игра! - но ни в малейшей степени не бутафория,
которая закрывала бы подлинные обстоятельства написания и
намерения автора. Ведь каждый из этих "ложных" литературных хо-
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
дов немедленно уравновешивается другими ходами, тоже
литературными, но указующими уже на прямую сторону дела.
Задушевно-личные конкретные и живописные мотивы
"разоблачаются". Однако не зачеркиваются, и автор тут же прибегает к
ним вновь.
Петрарка тонко улыбается. Он знает, что друзья и
почитатели будут в восторге. Всё поймут, оценят по достоинству.
Он сам готов поверить каждому повороту изложения.
Фантазия лишь дополняет действительность. Если было и не так, не
совсем так, то ведь некий отбор для эпистолярия впрямь
требовался... и камин при этом, наверно, горел?.. Все так и могло
произойти. Точней: так должно бы произойти, дабы письма
оказались написанными не в расчете на публику, но для себя одного
и для далекого друга, всегда вдруг и невзначай. Дабы
подтвердились вдохновляющая новизна и серьезность такого
понимания целей эпистолярия.
Без игры такая серьезность была бы невозможной. Именно
риторическое обыгрывание подтверждает ее, придает
объемность, делает убедительной. Ведь Петрарка - повторю еще и
еще раз - играет не во что иное, как в случайность,
непосредственность, спонтанность, словом, в сугубо личный характер
писем. Он хочет быть особенно в этом отношении вторым
Цицероном. Он соревнуется с римлянином в "домашности" стиля;
но, как и тот, не в ущерб утонченности. О, совсем напротив! А
вместе с тем избегает (немыслимых все-таки, по представлению
Петрарки, для Геликона, для высокой словесности) цицеронова
житейского сора, "малодушных", т. е. слишком откровенных,
жалоб. Избегает денежных либо политических и вообще
слишком уж практических материй. Толкует, подобно Августину,
исключительно о своей душе. Но все же, подобно Цицерону,
оттеняет это какой-нибудь тщательно стилизованной бытовой
деталью, рассказом о приключившемся с ним забавном случае,
часто подшучивает над собой.
Петрарка воображает себя словно бы не-ритором. Хотя и
при помощи исключительно риторических средств.
Выстраивает себя в роли частного лица, ведущего скромный и
уединенный образ жизни, всего только друга своих друзей, "домашнего"
человека, который днем и ночью сгорает страстью
сочинительства, ardor scribendi. И постоянно переполнен "новостями о се-
10 - 345
289 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
бе". Жаждет поделиться ими. Потолковать о том, что занимает
душу в данную минуту.
Но... собственно, кто же станет отрицать, что во многом
именно таким образом дело с Петраркой и обстояло?.. Вместе с
тем лишь на бумаге он мог уяснить это для себя и для других.
Так интеллектуально и психологически насыщенные, а притом
интимно-личные письма - оказываются прежде всего трудной
литературной задачей. Это высокий род сочинения, пусть и не
самый высокий, "не требующий никакой ораторской силы речи,
да мне она и не надобна, не очень-то я преисполнен ею, а если
бы она и забила ключом, то здесь это не к месту <...> ты
дружески прочтешь написанное тем языком, которым мы все
пользуемся обычно, подходящим и сообразным содержанию (his quibus
in comuni sermone utimur, aptum accomodatumque sententiis)".
Петрарка затеял необычную игру. Он впрямь пишет личные
письма. Однако с оглядкой на вечность. На словесность.
На высокую словесность, но на такую, где в центре он сам,
"домашний, повседневный". Где Франческо такой... какой он
"на самом деле"?
Да. Потому что он - auctor, писатель. Вот кто он на самом
деле. Писательство - вот его дело и вот его жизнь.
* * ♦
Письмо "к Сократу" (с ним и весь эпистолярий) начинается
с полуслова. Будто читатель вошел в комнату на середине
разговора и слышит: "Quid vero nunc agimus, frater? Что же нам
теперь делать, брат? Вот, уже почти всё испытали, и никакого
покоя. Когда его дождемся? где будем искать? Время, как
говорится, утекло между пальцев..."
Возникает эффект интимности, непосредственности, почти
внутренней речи.
А по ходу письма автор вдруг останавливается и окликает
себя, пишущего, словно со стороны: "Но куда я несусь, забыв, о
чем собрался говорить?" Риторически выверенная
сбивчивость... Опять эффект сиюминутного, импровизационного
говорения.
И еще в концовке: "Как мне приятна была эта беседа с
тобой, с удовольствием и чуть ли не умышленно затянутая мною!
_ 290
Авторское самосознание в письмах поэта
<...> она заставила тебя пробыть здесь со мной до сумерек,
тогда как за перо я взялся поутру. Но вот уже конец и дню, и
письму".
Положим, Петрарка шлифовал эту нечаянно затянувшуюся
беседу пятнадцать лет... Нужно было притом сохранить и
отшлифовать особенно тон и обстоятельства подлинного частного
письма, набросанного нынче, в один присест, прерванного
далеко заполночь, перед самым рассветом - прерванного так же по-
свойски, непринужденно, так же на полуслове, как и начато.
Утонченные риторические средства использованы, чтобы
создать впечатление словно бы отсутствия риторики. Пусть все
будет "просто и безыскусно"... "Nulla hic equidem magna vis dicen-
di, право же, тут нет никакой великой силы речи".
Действительно, "великая сила" неуместна, если смысл речи
в том, что "я" доверительно говорит с "ты". И одновременно с
самим собою. Говорит о себе. Выговаривает, выказывает себя.
И, таким образом, посредством эпистолярного конструирования
впервые видит себя, сотворяет образ Я... и становится этим Я
в культурно-психологической реальности.
* * *
Есть еще одно место в разбираемом письме, которое тоже
вызывает недоумение литературоведов.
Оно - подчеркнем - следует сразу же после рассуждений о
предпочтительности в эпистолярном жанре "обыкновения
Цицерона" и о том, почему этой книге писем дано такое название,
и в чем состоят достоинства "домашнего" стиля, позволяющего
писать "обыденно и об обыденных вещах". Далее в двух резких
фразах сказано об "укусах цензоров", которые, "не написав сами
ничего, что заслуживало бы обсуждения, судят о дарованиях
других". И наконец вот он, этот спорный пассаж:
"Огради же от наглецов непричесанные и неосторожно
выпущенные нами из рук листки, да хоть припрячь их где-нибудь
в своих тайниках. Напротив, когда к тебе придет - пусть не та
Минерва [работы] Фидия, о которой говорит Цицерон, а уж
какое ни есть изображение моей души, слепок
моего ума, отделанный мною с большим усердием, - вот тогда,
ежели я когда-либо это завершу (буквально: доведу до
завершают
291 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ющего прикосновения руки, su pre mu m illi manum imposuero),
ты сможешь спокойно выставить его на любом видном месте".
Что же это за "слепок"? Какое такое сочинение поэт
надеется прислать когда-нибудь Ван Кемпену взамен своих писем,
которые пока лучше бы припрятать?
Русский переводчик указывает на неясность и отсылает к
предположению некоторых исследователей, что Петрарка тут
намекает на письмо "Потомству"29.
Мне дело представляется иначе, притом в высшей степени
ясным.
Ограничусь его герменевтической стороной. То есть тем
смыслом, который выговорен в самом тексте и может быть
понят. Вместо (или кроме) того, чтобы пытаться что-то
разглядеть за написанным, сквозь него, - сохраним привычку просто
читать текст как смысловое целое (как произведение).
Мог ли Петрарка, начавший сочинять письмо "Потомству",
по-видимому, в 1367-1368 гг., а "Книгу писем о делах
повседневных" отдавший переписчикам (в последней, четвертой
редакции) в 1366 г., - могли он в эпистоле 1351 г. уже иметь в
виду "Posterität!"?
И вообще, мог ли Петрарка прибегнуть, да еще в контексте
разбираемого письма во хвалу "домашнего стиля", к
противопоставлению своих "повседневных" эпистол, которые лучше бы
спрятать, дабы уберечь от несправедливой критики, - и какого-
то иного, будущего сочинения, за которое в этом отношении
уже не придется опасаться?
В.В. Бибихин указывает, что у петрарковской скрытой
цитаты (ср.: Цицерон. Об ораторе. II, 17) есть к тому же "сложное
и ироническое звучание на фоне опущенной части цицероновой
фразы, где сказано, что судебный оратор, в блестящей речи
умеющий переубедить даже недоброжелателей и тем самым как бы
равняющийся искусством с Фидием, рискнувшим выставить
свою Афину Пал л аду на Акрополе, уже не станет корпеть над
отделкой мелочей"30.
Это так. Но какое именно "сложное звучание" придано
собственной мысли Петрарки использованным им местом из
Цицерона?
С одной стороны, личный эпистолярий вслед за блестящей
речью судебного ритора поставлен в очень высокий ряд (при-
_ 292
Авторское самосознание в письмах поэта
равней в некотором отношении к статуе Фидия). С другой
стороны, эпистолярий, подобно статуе (и как судебная речь), не
нуждается в мелочной отделке. Ибо он -"уж какое ни
есть (qualemcunque) изображение моей души, слепок моего
ума..."
Сложность заключена в совмещении обеих установок.
Думаю, что относительно обещанного в будущем "animi mei
effigiem atque ingenii simulacrum" не только не подразумевается
письмо "Потомству", но и вообще тут нет намека (оставшегося
понятным одному Ван Кемпену?) на некое якобы совсем другое
сочинение. Не принижается тем самым и не обессмысливается
замысел эпистолярия. Напротив! Разве цель его, как сказано, не
состоит как раз в том, чтобы выразить "animi mei status"... или
же дать "animi mei effigiem"?..
Разве смысл обеих формул не идентичен?
Петрарка, говоря о том сочинении, которое надеется
прислать со временем Ван Кемпену, имел в виду... сам же
открываемый этим посланием эпистолярий.
Ход его мысли последователен и определенен.
Сперва: поведав, как случайно уцелели от огня "остатки"
писем, прозаическая часть которых (т. е. именно те, что
включены в "Повседневные") была в свое время обещана Ван Кемпену,
порассуждав об их стиле и о том, что они не понравятся
читателям из числа ненавистников поэта, - Петрарка в связи с
последним обстоятельством заговаривает об условиях хранения
эпистол (в их первоначальных версиях) у "моего Сократа".
"Ненависти <...> я не заслуживаю и, конечно, не боюсь. Но может
статься, что ты пожелаешь д е ρ ж а т ь мои безделки при
себе, перечитывать их сам <...> В этом
случае ты поступишь так, как мне хотелось бы;
потому что и твоя просьба оказалась бы выполненной, и моя
слава в безопасности (fama mea tuta erit)".
Затем: уже ближе к концу эпистолы, поэт возвращается к
той же теме. Договаривает до конца о своих опасениях и
пожеланиях. Он, Петрарка, писал друзьям в манере Цицерона
("simplex et inelaborata narratio"), и вот бездарности судят вкривь и
вкось о том, что он "неосторожно выпустил из рук". Опять
Петрарка беспокоится о "безопасности" для его славы ("solo silentio
tuta est"). Опять просит Ван Кемпена держать эпистолы пока
293 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
при себе, до поры не обнародовать их. "Защитить их против этой
наглости".
Подожди, просит Петрарка, пока я не завершу - "если
когда-нибудь завершу" - усердную отделку ("molto michi
studio dedolatum")... этих же п и с е м ? Конечно.
Вот тогда и выставляй их спокойно на всеобщее обозрение.
Будущее сочинение, которое Петрарка во вступительном
письме обещает прислать "Сократу", - это "Книга писем о делах
повседневных" в ее окончательной редакции. Поэт собирается
усердно отделать самое неотделанность, довести до
совершенства самое домашность и, так сказать, "dedolare" самое "inelabora-
tum" - устранив только, как мы уже узнали, повторы,
устаревшие и ныне никому не интересные подробности, и пр. ("помня,
за что Сенека смеялся над Цицероном").
Выше об эпистолах было сказано также: "вот, уже в
пожилом возрасте, собираю их и привожу в форму книги". Эта книга
станет, конечно, более совершенным и потому неуязвимым для
"цензоров" изображением души возмужавшего автора. Подобно
риторам и военачальникам, "я более слабое укрою в середине, а
передовые и последние ряды книги укреплю мужественными
суждениями..."
Тут, как и в обсуждаемом спорном месте, речь идет об
одном и том же будущем событии (ср.: "когда к тебе придет...
слепок моего ума"). Тут тоже говорится, что эпистолярный труд, в
отличие от прочих, "не обещает никакого
окончания'^ "завершится только тогда, когда ты услышишь о моем
упокоении и избавлении от всех жизненных трудов" (ср.: "е с -
ли я когда-нибудь завершу его...").
Итак. Просьба к "Сократу", выраженная дважды, вполне
логична. Петрарка намеревается отделать "стиль" "писем о делах
повседневных", но, тем не менее, сохранить за ними знак
непритязательности, непосредственности, свидетельствования о
душевной жизни автора, о складе его ума. Словом, знак личной
подлинности писем, "по обыкновению Цицерона". А не
наставлений моральной философии, всего лишь стилизованных под
письма, "по обыкновению Сенеки".
...Петрарка тоже, разумеется, стилизует. Он приступает к
этому немедленно, уже во вступительной эпистоле, в искусно-
_ 294
Авторское самосознание в письмах поэта
доверительном признании относительно брошенных в огонь, но
частью все-таки, якобы случайно, уцелевших писем.
Он прибегает к стилизации в тех приемах, которые должны
создавать впечатление то порывистости и непроизвольности
речи, то некой затекстовой личной ситуации, переливающейся в
текст. Кроме письма - его предмета, рассуждений, книжных
реминисценций и т. д., - мы должны разглядеть и самого
пишущего. Вот он сбивается с темы и окликает, останавливает себя...
вот в комнате темнеет... пора заканчивать.
Подобные приемы, разумеется, тоже совершенно книжны,
явственно отдают письмами Цицерона. После Петрарки они
превратятся в излюбленные эпистолярные клише всех
итальянских гуманистов XIV-XV вв.
Наш поэт, однако, и тут был первым. Необыкновенно
высоко оценил выразительность сделанных вскользь замечаний
Цицерона об обстоятельствах, при которых, часто второпях или по
ночам, писались и отправлялись письма; как и потребность на
расстоянии в доверительных сообщениях от друга, в обмене
тайных дум, в личных излияниях. Петрарка превратил все это в
обдуманную систему литературных знаков конкретности и
сиюминутности самовыражения, в код, обозначающий интимность
и достоверность пишущего "я".
Отсюда непременные реминисценции: "Гонец торопит, и
мне не стыдно, что я так бегло все написал"; "Много писать не
дает позднее время, мешает дремота <...> Там уж как
получится, а сейчас пишу, наполовину задремав и словно сквозь сон
<...> знаю, что <...> даль разлуки <...> не мешает благородной
дружбе, и где бы мы ни были, мы будем вместе"; "для писем
друзей <...> дается одна коротенькая ночь; вестник грозился
прийти с зарей <...> при случае попробую написать тебе
подробней. Что касается этой ночи, посмотрю, не удастся ли мне и
усталые глаза обмануть недолгим сном, и в немногих словах
охватить длинные мысли <...> вижу тебя отсутствующего, слышу
молчащего" и т. п.31
Петрарка тоже стилизует. Но цель его при этом -
обрисовать, вообразить, придумать, короче, создать собственное Я.
295 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
* * *
Могут возразить: но почему потребовалось создавать себя
при помощи целой системы стилизаторских приемов? Отчего
это "Я" такое герметически-книжное?
Потому что мы в XIV веке.
Достаточно вспомнить самое мощное из всего личного, что
было на много веков окрест - Дантово Я. У этого гениального
предренессансного Я было все, до чего никогда не дотянуться
ренессансному Петрарке; кроме одного: оно ни в чем и никогда
не бывало интимным, частным, "домашним". Данте даже в
любви к Беатриче был целиком развернут к миру всечеловеческих
и сакральных универсалий, а не "просто" на себя, в поисках
того, что много позже оформится в виде индивидуальной
личности.
Средневековое Я не могло быть самоценным и в тех
случаях, когда выходило в тексте на первый план, - в исповеди или
эпистоле. Личное Я, индивид как таковой, вправе был взойти
на подиум, занять собой внимание читателя, лишь при
совершенно чрезвычайных и назидательно значимых моральных и
вероисповедных обстоятельствах - следовательно, занимая
внимание все-таки не собой, а своим примером, "экземплу-
мом"... "Я" как таковое попадает в сферу публичного (и
собственного) внимания лишь маргинально, казусно, ненароком.
"Акцидентально", а не "субстанционально".
Вот почему Петрарка с удивительной чуткостью именно
оттуда - из подчеркнуто случайных обстоятельств времени и
места написания, из бесконечного опевания темы своего авторства
как личной причуды, как усладительной болезни, из хождений
вокруг да около, из вечного рассеянного "не знаю, о чем
писать", из спохватываний, и окликаний, и урезониваний самого
себя, из интонаций беседы наедине с корреспондентом, думания
вслух, короче, из будто боковых, маргинальных подробностей
текста, из Эго-периферии риторического жанрового мира
эпистолы - начинает движение к его центру.
Непродуктивно расценивать возникающий в результате
Эго-центризм поэтики эпистолярия как нечто "искусственное",
а не живое, не подлинно индивидуальное. Такое усилие -
писать и жить, словно поэт родился в античности, - явилось в ка-
_ 2%
Авторское самосознание в письмах поэта
честве небывалого, уникального. Оно и есть реальное Я. Хотя,
конечно, пока в индивидуальной роли парадоксально выступает
все еще некая (пусть и новая) образцовость.
Литературная имитация здесь своего рода технология
самопорождения Я. Петрарка создал - именно в эпистолярии -
ранее неизвестные смысловые оправдания автобиографизма. На
чем мог поначалу держаться интерес светского "Я" к себе, что
сделало вдруг законным напряженность и публичность такого
интереса, предполагаемого даже в далеких потомках, которым
будет очень важно узнать о характере и жизни Франческо?
Лишь одно: "Я" есть тот, кто написал "то-то" и "то-то".
Для Петрарки человечество состоит из писателей и
читателей. Индивиды, переписываясь также и через века, в сплошном
настоящем, реальны благодаря авторству. Человек становится
"Я" в публичном одиночестве кабинета и библиотеки.
Чтобы Петрарка был в состоянии сочинить себя, чтобы,
начитавшись, как Дон Кихот, он мог как-то начать сходить с
традиционного ума, - вот для этого и было необходимо отработать
неслыханную парадигматичность личного авторства, его
интонационную, композиционную, фабульную (с
автобиографическими эпизодами-"историями"), идейную и эмоциональную
оснастку. Приложить гербовую печать Я-автора в наичистейшем
виде, т. е. без остатка растворяющего в себе натурального и
характерного человека. Притом до такой степени, чтобы этим-то и
выделиться, в этом-то оттиске и быть характерно-личным.
Создать из себя автора "по идее"; вывести на сцену
персонаж Автора как такового; и сделать его, тем самым,
определением своего вот этого Я. Впоследствии подобной стилизации,
такому подражанию Цицерону можно было уже, в свою очередь,
только подражать. Этому, в большей или меньшей степени, и
подражали до середины XVI в. Все же человек, который
изобрел парадигму Автора, слил эту роль со своей особенной
судьбой, исторически мог появиться только единожды. Это
неповторимый феномен Петрарки.
297 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Привычка постукивать пером
Одна из замечательных и показательных эпистол
Петрарки - "Филиппу, епископу Кавейонскому, о невообразимом
беге времени" (Farn., XXIV, 1).
В начале письма и в конце его - искусное возвращение под
занавес эпистолярия к одному из самых первых писем
"Повседневных", тридцатилетней давности. Обдуманное
окольцовывание книги. Автобиографические припоминания, попытка
подведения итогов, самохарактеристики, что-то вроде беглой
заготовки для будущего письма "Потомству".
Богатый коллаж цитат на заданную тему, "цветочков,
сорванных на лугах" Вергилия, Горация, Цицерона, Ювенала,
Сенеки, Августина и Псалмов. Блеск зрелого риторического
мастерства, изысканной классической латыни. И неподдельная
искренность человека, переживающего старение. Общие места, но
очень личное их интонирование: "И что же ты думаешь? Вот:
все, что тогда только воображалось, уже наступило. Вижу
теперь, как уходит жизнь, уходит настолько стремительно, что я
почти не в силах это осознать; хоть и несравненна быстрота
ума, но жизнь все равно уходит еще быстрее. Чувствую, как
каждые день, час, минута подталкивают меня к концу; ежедневно
приближаюсь к смерти и, более того - а ведь это начиналось
уже тогда, когда, казалось, я был юным, - умираю впрямую
<...> со мной произошло почти все, чему должно было
произойти, а того, что еще предстоит, почти не осталось; да и это,
думаю, происходит к а к раз теперь, когда я говорю с
тобой (nunc dum tecum loquor agitur)".
Петрарка в этом случае, как и во многих других, вводит в
эпистолы особое время - словно бы совпадающее с реальной
длительностью самого процесса сочинения, одномоментное
ему, - так сказать, tempus scribendi, tempus auctoris. Скоро мы
увидим, как это "dum tecum loquor" далее отзовется в письме к
епископу Филиппу, мощно проступит в других письмах.
Это время - введенный в текст знак личного существования
автора за границами текста, внетекстовой действительности
"я".
"Я сам себе нравился, любил себя; а теперь что сказать?
Возненавидел. Нет, лгу: никто никогда свою плоть не ненави-
_ 2%
Авторское самосознание в письмах поэта
дел. Скажу так: не люблю себя, - да и то, насколько верно это,
не знаю. Смело сказал бы вот как: не люблю свой грех и не
люблю свои нравы, кроме измененных к лучшему и исправленных.
Да что ж я колеблюсь? Ненавижу и грех, и злые нравы, и себя
самого такого; знаю ведь от Августина, что никому не стать,
каким он хочет, если не ненавидеть себя, каков есть..." (перевод
В.В. Бибихина).
Но, прежде чем продолжить выписку и привести пассаж,
ради которого я остановился именно на этом письме, самое
время снова задаться некоторыми предварительными вопросами
уже знакомого методологического свойства.
* * *
Казалось бы: вот открыто пульсирует, говорит о себе,
распахивается авторское "я". Петрарка "знает от Августина" и он
знает от Цицерона, как это делается. Четырьмя кругами
расходится придирчивая, самовоспитующая, покаянная рефлексия,
каждый раз опровергая или уточняя самонаблюдение. Душа
порывается, согласно евангельскому завету и святоотеческому
наставлению, измениться. Дабы человек, "каков он есть", стал бы
таким, "каким он хочет быть".
Тем не менее, хотя у современного читателя возникает
ощущение искренности автора, может быть, даже пронзительной
искренности, - в конце концов, это всего лишь наше
впечатление, дело вкуса. Зато вполне доказательно, что Петрарка, как
всегда, черпает из книг. Его интроспекция несет определяющий
отпечаток готовой топики, риторической техники.
Невозможно поэтому сказать, где же кончается одно и
начинается другое. "Реальное" ("жизненное") петрарково Я напрочь
запечатано "литературностью". Иное дело, что сама такая
оппозиция - несравненно более позднего происхождения. И по
отношению к поэту XIV в. незаконен сам наш навязчивый вопрос:
а где тут "настоящий" Петрарка... каким он был "на самом
деле"?
Ответа на такой вопрос нет, да и не может быть. Если
критически настроенному литературоведу удается установить
факты, которые поэт замалчивает, заподозрить более
приземленные, житейские мотивы тех или иных его поступков - на деле,
299 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
само по себе это ничего или почти ничего не дает для
понимания петраркового V. В подобных "психологических" и
"практических" (по сути, вневременных и элементарных)
мотивациях - недостает именно Я как концепта. То есть нет цвета
времени. Нет конкретной историко-культурной содержательности
данного индивида.
Поэтому сплетни об "истинных" мотивах поведения поэта,
даже будучи правдоподобными, увы, остаются сплетнями. Они
ставят Петрарку на доступную нам бытовую и, так сказать,
натуралистическую почву. Но ни на йоту не приближают к
пониманию рабочих установок его Я-сознания (в том числе и
высших подсознательных установок, того внутреннего
"цензорского" комплекса, который Фрейд называл "Ichideal"). Остается
неясным, какова познавательная значимость эмпирически
сырого, исторически-нейтрального, предполагаемого за текстом
"я" вне его дальнейшей метаморфозы, самопреображения.
Реально-культурное Я неосуществимо и невозможно без
вербализации, выведения в текст. Без своего про-изведения32.
Поэтому профессионально плоскими кажутся любители
разоблачать, допустим, самовлюбленность или хвастовство
Абеляра или Петрарки, осмелившихся сознавать и называть свою
истинную цену. Как, впрочем, и защитники их душевной
чистоты и достоинства. Это не идет к делу.
Для нас "искренность", "документальность",
"достоверность" и т. п. включены в нашу собственную эпохальную
культурную установку. Они сознаются как существенные
достоинства при восприятии и оценке чьего-либо высказывания.
Повторяю, в европеистском сознании XIX-XX вв. сами эти
установки на как бы докультурную, внекультурную "правду самой
жизни" тоже суть культурные ценности. (Как и руссоистское
или толстовское "опрощение" было весьма утонченной формой
культурного переживания.) Что до, скажем, Петрарки и его
эпохи - противопоставление "действительного" Я и
"литературного" Я исторически не адекватно. И, следовательно,
непродуктивно, обрекает историка на банальное морализирование.
Каков же выход? В том, чтобы искать зарождающееся ренес-
сансное "Я" исключительно внутри произведения. Иного
способа в распоряжении историка нет. Искать "реальное Я" внутри
литературы: в устроении текста, в словесной выраженности.
_ 300
Авторское самосознание в письмах поэта
Здесь мы возвращаемся, однако, к исходной трудности при
изучении всякого более-менее традиционалистского авторского
Я. Она обусловлена - и в случае Петрарки - огромной
степенью погруженности в образцовые тексты, в риторическую
топику. То есть авторитетностью подражания вплоть до конца
XVIII в.33 Письма Петрарки побуждают исследовать самый
первый шаг перехода, который растянется на столетия: к
сознательно индивидуализированной Я-личности, которая
достоверна лишь постольку, поскольку ей удается выказать по-своему и
свое.
Однако, на первый взгляд, относительно Петрарки нелегко
утверждать что-либо подобное с достаточной вневкусовой
определенностью и доказательностью.
Поиски "реального Я" в произведении, т. е. внутри "Я
литературного", предполагают некое неравенство авторского Я
самому себе. Иначе говоря: такое смысловое раздвоение, при
котором автор не только выступает в непосредственном качестве
говорящего, не только совпадает с текстом. Но и каким-то
образом (прежде всего через мгновенно узнаваемый
индивидуальный стиль) включает в текст знак своего личного
существования по ту сторону текста: до говорения, сверх или помимо
непосредственного творческого результата.
Или прямо обнаруживает себя и даже остраненно
разглядывает в роли автора. Или (и) тем самым наоборот: ход не от
сложившегося индивидуального психического Я к произведению, а от
переживания и конструирования авторства - к новому Я.
Как раз это и происходит в эпистолярии Петрарки.
• * *
Продолжу выписку из письма к епископу Филиппу.
"Вот, дошел до этого места письма,
раздумывал, что еще сказать или чего не
говорить, и по привычке постукивал меж тем
перевернутым пером по неисписанной бумаге
(Esse ad hunc locum epystole perveneram delibiransque quid
dicerem amplius seu quid non dicerem, hec inter, ut assoiet,
papirum vacuam inverso calamo feriebam). Само это действие
дало материю для размышления: в такт ударам ускользает время,
301 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
и я заодно с ним ускользаю, проваливаюсь, гасну и в прямом
смысле слова умираю. Мы непрестанно умираем, я - пока это
пишу, ты - пока будешь читать, другие - пока будут слушать
или пока будут не слушать; я тоже буду умирать, пока ты
будешь это читать, ты умираешь, пока я это пишу, мы оба
умираем, все умираем, всегда умираем..." (ЭФ, с. 225).
Смело это придумано! Мы находим не только готовый
текст, но и - паузу неготовости в нем: текст паузы, насыщенную
смыслом остановку, эллипсис. Мы слышим говорящее
молчание. Этот текст в тексте - не что иное, как знак затекстовой
реальности сочинителя. Сквозь его просвет вдруг заметен на миг
сам Я-автор. Существующий, хотя и в роли автора, но отдельно
от сочинения.
Точнее: накануне сочинения.
Не тот "я", который высказывается, а тот "я", который
только собирается высказаться, еще не решив, о чем и как. Не "я"
как риторическое и грамматическое первое лицо, от имени
которого ведется речь, не как субъект литературной речи, но - "я",
так сказать, ав жизни".
Мы видим его задумчиво постукивающим ручкой калама,
склонясь над пока еще (буквально) "пустой (vacua)
бумагой". Это плодотворная, порождающая "пустота" - как еще не
заполненность, еще не решенность, как манящая возможность34.
"Меж тем (hec inter)" - значит, видим автора именно вот
сейчас, когда он "дошел до этого места письма". "По привычке
(ut assolet)" - значит, видим таким, каков он обычно.
* * *
Разумеется, он, тем не менее, дан нам лишь в тексте и как
текст. "Обычно" (в "жизни") он не таков. Но ведь в "жизни" вне
символически организованной системы поведения его тоже, по
сути, нет. Сдвиг "реального человека" к "автору" и сама их
нетождественность есть условие и мера реальности того и другого.
Тот и другой - "человек" и "автор" - не изначальные
неподвижные сущности, а момент перехода и взаимного оборачивания.
Автор не "умирает" в тексте, не аннигилируется, не
устраняется самодовлеющим "письмом" (Р. Барт), поскольку ландшафт
"письма" - пересеченный, и его перепады, переходы, пригорки
_ 302
Авторское самосознание в письмах поэта
и впадины обнаруживают, что ни говори, намерения автора.
Его - реального автора, а не безличного грамматического V -
более или менее сознательные поползновения, усилия, приемы,
увертки; также и зазор между всем этим и рутинностью
("автоматизмом") речи дает возможность его обнаружить.
Неоспоримое самодвижение речевого потока не "устраняет автора",
напротив: помогает издалека разглядеть голову пловца, то
уходящую под воду риторики, то вновь выныривающую из вечных
волн "письма". Всякий конкретный казус "письма" это картина
не волн, а заплыва. (Ср. ниже примеч. 46.)
Например: эпистолярный заплыв Петрарки отличается
прежде всего тем, что он, безусловно, сознает авторство как
возможность авторства.
Иначе говоря, как дело личной инициативы, замысла,
выбора и риска. С тем смысловым избытком, который и есть "Я", не
тождественный своему сочинению. Ведь, кроме высказанного,
есть еще то, что могло быть высказано, но осталось в голове
автора, недоступно нам, дает о себе знать лишь загадочным
постукиванием пера, белизной неисписанного листа.
Так обостряется - а лучше сказать, так возникает, так
формируется - личное самосознание.
• * *
Но каким образом потенциальный автор (Я как таковой),
мимолетно явленный в эллипсисе, превращается в авторское
"я" риторического произведения - и обратно? Почему Петрарке
удается столь естественно включить в сочинение неожиданный
взгляд со стороны на себя же, продолжающего тем временем
сочинять? ввести в текст остраняющий автора эпизод?
Вспомним: мысль о реальном времени сочинительства как
вместе с тем времени умирания - уже была высказана ранее.
Это "nunc dum tecum loquor" ("как раз теперь, когда я говорю с
тобой"), будучи повторено с амплификацией, с расширением и
красочной наглядностью ("dum scribo... dum leges") - в итоге,
организует письмо в целом.
Основная часть открывается именно этим мотивом,
который в кульминационном эпизоде, сразу после "постукивания
перевернутым пером", провоцирует бурное и волнующее траур-
303 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ное crescendo: "мы оба умираем, все умираем, всегда умираем";
"я - пока это пишу, ты - пока будешь читать, другие - пока
будут слушать или π о к а не будут слушать..." То есть
время течет само по себе. Тем временем сочинители пишут,
читатели читают... но и живут, а значит, и умирают в нем.
Таково время Я-автора.
Оно заполнено писательскими трудами и одновременно -
"пустое", как бумага. Оно сжимается до мгновений задумчивого
постукивания пером, а вместе с тем - охватывает "тридцать
лет" (письмо начинается словами, именно так его
исчисляющими, конкретно и автобиографически, ибо Петрарка мысленно
возвращается к давнишней эпистоле на близкую тему,
обращенной к юристу Раймондо Суперано: ср. Fam., I, 3).
Припоминание позволяет переплести традиционные
античные и христианские мотивы скоротечности человеческой жизни
с автобиографической ретроспективой. Вот каким я был
некогда, вот что писал в юности о "летучей стремительности едва
начавшейся жизни", когда судил о сем по книгам. И вот как
ныне, на закате дней, "когда все мои предчувствия сбылись", мне
доводится испытать приближение смерти на самом себе. Это
дает повод запустить надлежащую книжную эрудицию в виде
конструктивно оголенного приема.
Риторическое искусство предполагало умение расцветить
изложение, прослоив его учеными цитатами. Но Петрарка
вспоминает, как усердно он некогда обращал внимание при чтении
древних на соответствующие места. Сообщает, что в
"оставшихся у меня с тех времен книгах" сохранились сделанные еще
тогда напротив этих мест "пометы моей рукой". И... тут же
попросту приводит обширный набор выписок. Без комментариев: "и в
другом месте... и еще... И тот же Флакк говорил мне... и еще
раз... и опять... и еще... и снова..."
Такой демонстративно-школярский прием, оправдываемый
оглядкой на рвение молодого читателя, коим поэт был, когда
некогда писал старцу Раймондо, - неизбежно ироничен. То есть
создает некую дистанцию между состарившимся автором и
давнишними старательными выписками, инвентарем цитат.
Петрарке этот-то эффект и надобен!
Например, переписав на едином дыхании шесть мест из
Горация, он затем вдруг роняет (бормочет себе под нос): "Nimis
_ 304
Авторское самосознание в письмах поэта
apud Flaccum тогог". "Слишком уж я задерживаюсь на
Горации"... В этот момент Петрарка словно бы вдруг тоже
останавливается, перестает сочинять. Переворачивает калам,
машинально им постукивает...
Наружу риторически выведен фрагмент внутренней речи.
А несколько ниже, после еще одного "букета" в том же роде,
собранного на сей раз на Цицероновом лугу: "Прочих опускаю.
Ведь хлопотное это занятие выписывать из всех и обо всем по
отдельности, и подходит оно, скорее, мальчику, чем старику".
Так Петрарка и остается внутри риторики, и отстраняется
от нее. Так он играет со своим традиционным инструментарием
и, тем самым, не совпадает с ним35. Так тысячекратно избитое
общее место artis moriendi о скоротечности жизни, о том, что
жить значит умирать - подано как интимное переживание и
осмысление вот этих самых минут, когда сочиняется эпистола. А
значит - как подобающая частному письму "новость... и
прежде всего о себе (novarum... precipue mearum)".
"Не то, чему следовало произойти,
а то, что произошло".
Хлопоты в Авиньоне
Два Петрарки или все-таки один?
Тема о том, каким человеком был Петрарка на самом деле и
правда ли то, что он сообщает о себе, неотвязно преследует нас
именно потому, что в этом, казалось бы, простейшем пункте
обнаруживается все огромное различие ренессансной культуры -
и культуры современной. Петрарковский способ думать
сталкивается с нашим собственным.
Для облегчения рассуждений на эту тему полезно обсудить
уже упомянутую выше острую статью Марио Мартелли
"Петрарка: психология и стиль" (см. примеч. 27). Она составляет
"Введение" к лежащему передо мной изданию Петрарки,
которое воспроизводит лучшую по сей день критическую редакцию
"Familiarium rerum...", осуществленную более полувека назад
Витторио Росси и Умберто Боско.
Мартелли беспощаден к личным качествам нашего поэта.
305 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Его обвинительный акт начинается так: "Изгнанник, но
вполне состоятельный; поборник скромного жизненного удела,
но завсегдатай государей, готовый поселиться при самых
многолюдных дворах Италии и Европы, - как человек, Петрарка на
протяжении веков снискал мало симпатий, притом менее всего
по мере приближения ко временам
новейшим " (р. XV). Вот именно, вот именно... Мартелли цитирует
Уго Фосколо, который уже противопоставлял Петрарке
громадную цельность поведения и трагическую судьбу Данте.
Писал, что даже прах последнего преследовался. Папа проклял
Данте, велел извлечь останки из могилы и развеять по ветру. А
вот после кончины Петрарки венецианский сенат издал
специальное постановление, защищавшее его имущество от
расхищения, и оно было распродано в качестве реликвий.
Что ж, для гонимого карбонария и романтического поэта
такой ход мысли был, можно сказать, неизбежным, легко
предугадываемым. Ясно, чья фигура из этих двоих должна была
импонировать автору "Моих тюрем". Ясно также, что
почтительность современников, включая и власть предержащих,
относительное благополучие - отвратительная и непоправимая
провинность Петрарки... увы, и в наших глазах?
Зато ни преданному Боккаччо, ни Леонардо Бруни, ни Ло-
ренцо Великолепному и никому на протяжении XIV-XVII вв.
такое противопоставление двух "флорентийских светочей" не
приходило и просто не могло прийти в голову.
Петрарка, как мы видели в "Posterität!", считал себя
изгнанником в значении топосном (особой участи поэта "подобно
Улиссу"), а не политическом и буквальном. Он никогда не
жаловался на бедность, описывал себя также и в этом отношении
человеком середины. Не богач, но человек состоятельный,
охотно помогал деньгами друзьям. Он вовсе не жил "при самых
многолюдных дворах": если быть более точным, то - начиная с
Воклюза и до Арква - он обычно пребывал где-то рядом.
Рядом! - под их сенью, но в отдалении... Вполне трезво и, если
угодно, своекорыстно пуще всего дорожил своим спокойствием,
удобными условиями для сосредоточенной работы.
Но М. Мартелли в претензиях к "психологии" Петрарки
заходит гораздо дальше. Оказывается, Петрарка "всю жизнь - это
попытки и при Колонна, и при Висконти, и (впрочем, не удав-
_ 306
Авторское самосознание в письмах поэта
шиеся) при императорском дворе - с упорной настойчивостью
стремился сделать карьеру на службе у потентатов <...> не
пренебрегал никаким случаем, чтобы удовлетворить суетные
амбиции, которые были в нем столь сильны, и без колебаний ставил
на службу им (что можно бы документировать шаг за шагом)
принципы и идеи, страсти и чувства". Особенно после
коронования на римском Капитолии "он будет готов использовать
любое обстоятельство, которое покажется подходящим, чтобы
подняться по мирской лестнице: каждый его жест, каждый его
поступок, каждое его сочинение, стоит заглянуть хоть немного
глубже отполированной поверхности, замутнены, связаны с
вполне определенными его нуждами и личными интересами, с
нечистой подноготной".
Так, по мнению Мартелли, Петрарка был привержен
предприятию Кола ди Риенцо будто бы лишь до тех пор, пока у
него не появились виды на устройство при авиньонской курии; и
он вновь, хотя не слишком определенно, стал поддерживать
римского трибуна, когда папское благоволение уменьшилось.
"Большие темы петрарковской идеологии рождались и
развивались в зависимости от вполне определенных биографических
обстоятельств"; например, инвективу против врачей он сочинил
после столкновения в 1352 г. с лекарем, которого приблизил к
себе Клемент VI, а против астрологов - когда один из них в
1354 г. посмел прервать публичную речь Петрарки. Такие
эпизоды он маскировал в эпистолах, перенося даты написания,
замалчивая, и пр. "Из таких историй и сложена жизнь Петрарки".
Его сочинения "возникают на границе между идеологией и
личными чувствами" и т. п. Поэт всегда кадил тем сильным мира
сего, при коих состоял, - от Колонна до венецианских дожей, от
неаполитанского короля до ломбардских тиранов; изобличал же
тех, кто был неугоден очередному синьору, у которого он жил,
или же с кем не поладил сам.
"Бесчисленные капитуляции" Петрарки... Напускное
смирение и тут же еще большая самореклама... "Петрарка, особенно в
сборниках писем, слишком часто фальшивит, так что нередко
становится трудным не сорвать мысленно его золоченую
мантию, наложив на него печать лицемера" (p. XV-XVIII). "Если
бы это зависело от того, насколько искренен Петрарка, нечего
было бы и надеяться на его спасение" (р. XXI).
307 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Бедный Петрарка. Что ж, в таком случае остается уповать
лишь на милость Божью к этому оппортунисту, никогда не
упускавшему из виду своих выгод...
Перед нами наглядный пример полярности в оценках
личности Петрарки. Эти оценки почти никогда не знают середины
(в отличие от самого поэта). В последние двести лет - надо
предположить, тому должна же быть какая-то глубокая
причина? - они колеблются от привычного благоговейного и
довольно-таки скучного академического культа до
анахронистического презрительного морального осуждения. Кого-кого, а
профессора Марио Мартелли никто в излишнем пиетете к Франческо
Петрарке не упрекнет.
Чтобы свести на грубое подстраивание ак практическим
интересам момента" то несомненное и любопытное свойство пет-
рарковского эпистолярия, которое Уго Дотти более осторожно
и задумчиво назвал "утонченной мистификацией истины", -
автор статьи о "психологии и стиле" Петрарки принялся за
анализ некоторых текстов, стараясь реконструировать
маскируемую ими жизненную реальность.
Последуем же за М. Мартелли. Взвесим его аргументы, а
вместе с тем и сами почитаем некоторые из писем Петрарки,
использованных критиком. Отвлекусь от собственной логико-
культурной исследовательской линии, чтобы затем -
задумавшись над двусмысленным соотношением между сочинением и
жизнью автора уже не со стороны сочинения, но, как
настаивает Мартелли, со стороны жизни, - продолжить свой путь.
• * ·
Помимо всего прочего, статья М. Мартелли не лишена
односторонности, запальчивых преувеличений; комментарию к
некоторым фактам недостает, на мой взгляд, историчности. Но
возможные возражения с обычной историко-биографической
стороны против столь резких общих оценок поведения Петрарки -
отдельная задача, углубляться в которую мне здесь незачем.
Гораздо интересней и поучительней текстуальные анализы
Мартелли, которые как раз особенных прямых возражений не
вызывают. То есть возьмем те случаи, когда действительно
Петрарка отчасти "мутит воду собственной биографии"... хотя за
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
этим не стоит, собственно, ничего такого, чего тогда полагалось
стыдиться. Возьмем пассажи, когда он замалчивает нечто
противоречащее высокой самооценке, приукрашает обыденные
обстоятельства и практические мотивы своего поведения, выводя
зато вперед писательские замыслы, душевные состояния,
моральную топику.
Так, Петрарка сталкивает два смысловых ряда: глубокую
радость ученого уединения в тиши Воклюза - и нравы
авиньонского "Вавилона", с его наводящими уныние и отвращение
интригами, жертвой коих стал он сам.
Вот этот эпизод, разобранный у Мартелли наиболее
обстоятельно (см. p. XVII-XXXI)36.
27 июня 1351 г. Петрарка добрался из Италии в Воклюз, но
вскоре по прибытии заручился рекомендательными письмами от
епископа Кавейона к неким двум влиятельным кардиналам и
уже в конце августа явился в Авиньон, в "Римскую курию,
которая такова лишь по имени". Зачем? - очевидно, рассчитывая
получить место апостолического секретаря (Мартелли: ас планами
блестящего и почетного устройства"). Но из этого ничего не
вышло, кроме пустых двухлетних хлопот и оскорбительного отказа.
Впоследствии он, по мнению критика, нарочито превратно
истолковал случившееся в эпистоле к Франческо Нелли (Fam.,
XIII, 5), приору флорентийского монастыря Св. Апостолов,
одному из самых близких ему корреспондентов (Нелли будет
посвящен том "Стариковских"). Выходило, будто единственной
причиной, по которой Петрарка направился во Францию, были
привязанность и благоволение к нему друзей, которым он дал
себя уговорить: anil aliud quam Caritas amicorum". "Я приехал не из
жадности, не в надежде на что-либо, но влекомый лишь
привязанностью (sed caritate tractus)". Из эпистолы мохсно заключить,
что "друзьями", которые его "зазывали наперебой" служить в
курии ("me certatim evocabant"), были вышеупомянутые князья
церкви. В действительности, резонно пишет Мартелли, коли так,
то "приглашение двух кардиналов <...> не должно было быть
таким уж настоятельным, если (как мы видели и как Петрарка сам
сказал, может быть, запамятовав об этом) он счел необходимым
быть им представленным своим другом, епископом Кавейоном".
Вместе с тем, считает Мартелли, совсем иную версию целей
путешествия во Францию Петрарка изобразил в эпистоле к Лу-
w —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ке Кристиани (Fam., XI, 12). По мнению критика, эта эпистола
"поддельна" (или была переработана позже): поэт пометил ее
датой более ранней, чем происшедшее с ним в папской курии.
Тут уже отрицается "Caritas amicorum" в качестве причины; зато
присочинена очередная апология сельской жизни в Воклюзе,
дабы задним числом опять-таки оправдать затянувшуюся
карьерную поездку.
И до авиньонских усилий, и после их провала Петрарка,
следовательно, скрывал от корреспондентов, каковы были
настоящие первоначальные побуждения, которые заставили его
летом 1351 г. отправиться в Прованс. Уезжая, он сообщил Бок-
каччо, что управится там за несколько недель и вернется в
Италию к осени. Но в письме (будто бы от 19 июля 1349 г.) к Луке
Кристиани, напротив, заявлял, что пробудет в Провансе года
два... как оно в аккурат и вышло (Петрарка окончательно
возвратился в Италию в июне 1353 г.). Что в особенности и
заставляет предположить позднейшую вставку в эпистолярий. Мар-
телли делает вывод, что письма к Нелли и Кристиани -
обдуманные акции по сокрытию неприглядных фактов и подмене их
риторикой. Петрарка приехал в Авиньон не потому, что
уступил просьбе друзей. Тем паче, он объявился в Провансе не ради
работы в воклюзской тиши. Ему просто хотелось заполучить
престижную и выгодную должность. Его, однако, держали на
расстоянии; затем и вовсе дали от ворот поворот. Вот тогда он и
принялся "мутить воду" в эпистолярных изысках, подменять
события, выдавать сочиненное за правду, короче, создавать
возвышенный образ того события, которое не содержало
решительно ничего возвышенного.
Между прочим, добавляет М. Мартелли, "уж обойдем, что
Петрарка, говоря, будто у него не осталось родных, которых
надо было бы поддерживать и помогать, забывает, что у него есть
двое детей, по крайней мере один из которых (сын Джованни)
находился именно там, в Авиньоне"37.
И вот в результате появляется длинный рассказ Петрарки в
эпистоле к Ф. Нелли о том, что его сочли во всех отношениях
подходящим человеком для отправления должности
апостолического секретаря, за исключением лишь одного
обстоятельства, смущавшего, как ни странно - но ему сообщили за верное -
папу и коллегию кардиналов. А именно: "мой слог более при-
_ 310
Авторское самосознание в письмах поэта
поднят, чем это предполагает смиренность римского престола".
Ему дали на пробу составить некую бумагу для папской
канцелярии, попросив писать попроще, доказать, что "умеет летать и
поближе к земле". Тогда, сообщает Петрарка, он обрадовался
представившейся счастливой возможности отряхнуть прах
курии со своих ног и - воспарил так, как привык, как считал
единственно достойным. Его стиль забраковали. И он, слава
Богу, освободился от авиньонской докуки...
М. Мартелли задается вопросом: должны ли мы верить
этому свидетельству post eventum больше, чем всем прочим
свидетельствам Петрарки? И отвечает в уже принятом им тоне: "если
бы не считалось обязательным отзываться о таком выдающемся
человеке с почтительностью, пришлось бы подумать о слишком
дешевой сказочке, вроде эзоповой. Ни с того, ни с сего, он сразу
же вслед за сим углубляется в некую дискуссию о разных
стилях, требуя признания не только законности, но и совершенной
необходимости употреблять именно тот стиль, который
употреблял он во время испытательной проверки".
Далее М. Мартелли разбирает еще кое-какие подробности
из эпистол уже 1353 г., чтобы доказать, что поэт после провала,
даже и после письма к Нелли, в котором так горячо подводил
черту под авиньонским искусом, все еще сохранил кое-какие
надежды. Их подпитывали обещания кардинала Ги де Булонь.
И только поэтому Петрарка еще в общей сложности целый год
не решался покинуть Воклюз!
Когда поэт, торжественно оповестив друзей, что наконец во-
вращается в Италию, двинулся, было, в путь, стоял ноябрь
1352 г. Но неожиданно для всех уже через два дня он вдруг
повернул назад. По небезосновательному мнению критика,
Петрарка выставил в письмах тому же Франческо Нелли и
флорентийскому грамматику Дзаноби да Страда надуманные
объяснения причин этого странного возвращения: его, де, остановили
сообщения о вооруженных стычках среди альпийских горцев и
небывалая буря с проливным дождем, грозившим сохранности
книг в его багаже. То был знак Божий, и он счел необходимым
покориться (Fam., XV, 2-3). После чего оставался в Провансе
еще несколько месяцев.
Но достаточно. Выводы М. Мартелли относительно
"противоречий и искажений истины" в письмах Петрарки вокруг двух
311 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
авиньонских лет звучат так: "Если Петрарка мог бы вычеркнуть
этот эпизод из своей жизни <...> но бывают факты, которые
нельзя скрыть, и таким был, вне сомнения, авиньонский
провал. Однако, если подобную вещь невозможно было утаить,
требовалось снабдить ее почетной версией. И эта версия была
такой: его просили, сбивали с толку, понуждали друзья и не-дру-
зья, наконец он ввязался в эти ненужные хлопоты и,
подвергнутый экзамену <...> намеренно пошел на то, чтобы провалиться
<...> эта версия, в которую слишком трудно поверить (хотя
отчасти и соответствующая фактам, по крайней мере внешне, ибо
Петрарка никогда ничего не принимал без того, чтобы сперва от
этого не отказаться), окрашена в <...> письме к Нелли
красками, которые являют собой нечто среднее между самым
изощренным лицемерием и самой гротескной наивностью" (р. XXI).
* * *
Проф. Мартелли прав почти во всех частностях, хотя и
проходит мимо сложности смысла эпистолы к Нелли, взятого в целом.
Но что-то ему мешает поставить на этом точку, что-то
царапает. Все же: невероятное лицемерие Петрарки? или
невероятная наивность? ведь "среднее" здесь невозможно. Мартелли
делает очень точное и обескураживающее наблюдение: "то, что
поражает, так это факт, что именно в те моменты, когда он
наиболее решительно стремится скрыть правду, тем сильней это
побуждает его обращаться к знаменитым темам, на которых
основан его автопортрет" (ibid.).
Что это могло бы значить?
Статья М. Мартелли распадается на две части, это даже
обозначено внешне - усиленным отступом. Если первые сорок
страниц потрачены на ядовитое изобличение Петрарки, то на
семи последних критик пытается решить, что же делать с
добытыми наблюдениями. Как все-таки соотнести "психологию" со
"стилем"? Ведь получается, что "стиль" - т. е. поэтика и
творчество автора эпистолярия - всего лишь знак обмана или...
самообмана?
Да-да, именно последнее - начинает критик попытку
самовозражения под занавес. "Суть Петрарки, думаю, состоит
именно в потребности освободить себя от себя самого,
_ 312
Авторское самосознание в письмах поэта
укрыть от собственных не менее, чем от
чужих, глаз реальность собственной личности.
Но, хотя на это и направлена подавляющая часть его эпистоля-
рия, - довольно неожиданно заключает М. Мартелли, - тяжко
ошибется тот, кто припишет этот факт патетике и недостойной
суетности, пороку тщеславия или, хуже того, моральной
ничтожности". Подобный подход, признает критик, или дает
слишком бедные результаты, или заставляет повернуться
спиной к историко-психологической проблеме.
Поэтому итоговая концепция М. Мартелли такова
(см. p. XLI и ел.). Лингвистическая и внешне-эрудитская
новизна творчества Петрарки имела, как известно, более глубокое
измерение. "Он глубоко почувствовал конец всего прежнего
мира" и предложил через антологическое использование "аис-
tores" - "новый тип человека". "Этого идеального человека, с
которым - но лишь на словах, ограничиваясь при этом иногда
констатацией расхождений между идеализацией и
повседневной практикой, - он постоянно стремился отождествить себя,
неслучайно не удается обнаружить в реальности: таково прежде
всего историческое, а не моральное суждение". Идеал
расходился с реальным Петраркой. Но это отражало разрыв между
новой культурой - и действительностью, "эпохой". Такой
показательный разрыв - затянувшийся, между прочим, до наших
дней (I) - есть "абсолютный центр, с которым увязан весь его
стилистический опыт". "Драма Петрарки" состояла в разрыве
"человека идеального и человека реального".
Так "психологическая материя" ставила предел
"стилистическому освобождению". На высотах стиля, в латинских
сочинениях, но также и в итальянских стихах о Лауре, - т. е. когда
Петрарка разрабатывает свои самые излюбленные темы идеального
образа жизни и поведения, - "он наименее искренен и как
человек, и как поэт, и как писатель. Нельзя, как это делают
некоторые литературоведы, обходить аутентичную психологическую
реальность Петрарки". Нельзя потому, что тогда останется не
понятым и "стиль": напряжение между несовместимыми
полюсами "психологии и стиля". Он был "совестью" своего времени,
но вовсе не в обычном смысле; он бывал искренен, но совсем
иной и по-иному глубокой искренностью: именно в тех случаях,
когда все же признавал, что не достиг желанного классического
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
идеала. И что его "идеальный вождь" - например Сципион, -
как выражается М. Мартелли, "фронтально противостоит
своему суетному воину". Вне этого разрыва и противостояния
невозможна правильная оценка и добытых Петраркой замкнутых
на себя сугубо литературных результатов, значения
"экспрессивных абсолютов" в творчестве на обоих языках. Критик
усматривает такой, "абсолютный сам по себе стилистический результат",
величественный и самоценный итог - в "Canzoniere" и в
"Senilium" (последних противопоставляя "Повседневным" также
в отношении большей человеческой цельности).
Исследование Петрарки, заканчивает проф. Мартелли,
должно отталкиваться от "Повседневных"; "но не для того - и в
этом существо настоящих страниц - чтобы обрести в них
окончательный итог, а чтобы установить конкретные данные,
которые служат подножием двум лучшим памятникам Петрарки"
(т. е. сонетам к Лауре и "Стариковским письмам").
* * *
Следует с удовольствием признать: Мартелли вошел in
médias res интересующей нас трудности. Но как раз поэтому
наиболее выпукло проступает коренное различие между его ис-
торико-биографическим подходом и обосновываемым здесь
подходом логико-культурным. Критик описывает два
несоизмеримых и сталкивающихся уровня - реальная, жизненная
"психология" versus идеальный "стиль" (т. е. культура).
Высказывает убежденность, что то и другое вместе, взятое в
противоборстве, собственно, как раз и есть феномен Петрарки.
В предварительном и наглядном приближении это так. Но
вывод достигается все-таки ценой разъятия
культурно-психологической реальности произведения. Она рассечена
исследователем на две совершенно разные, непересекающиеся
плоскости. Это: утаиваемый поэтом его действительный,
"человеческий" облик - и его же условный, идеализованный,
"сочинительский" стиль, в котором Франческо некоторым образом
даже искренен, когда... признает свою неадекватность ему. По
Мартелли, эпоха Петрарки и он как человек эпохи вступили в
конфликт с нормативными требованиями начатого самим же
Петраркой культурного переворота.
_ 314
Авторское самосознание в письмах поэма
Мне это не кажется достаточно убедительным ответом. Тем
более, что пришлось бы распространить его едва ли не на всех
гуманистов и художников, признать все Возрождение точно
таким же внеисторическим артефактом, в отличие от
"психологии", составляющей, напротив, факт исторический и
действительный. Пришлось бы усмотреть вообще в культуре некое
чисто стилистическое или идеологическое облако, положим, не
лишенное своей внутренней органики, "экспрессивной
абсолютности", но лишь скрывающее от глаз неприглядную
реальность жизни гуманистов. "В жизни" они были озабочены
карьерой и деньгами, искали покровительства сильных мира сего,
соперничали при княжеских дворах, шумно и подчас некрасиво
ссорились, писали друг на друга инвективы, и т. д.38
А "эпоха"... что же, эпоха оставалась тем временем прежней?
Или все-таки гуманизм и Возрождение что-то меняли в ней, в
историческом содержании чьих-то человеческих жизней, пусть
пока немногих, в психологическом составе реального индивида,
в структуре мышления?
Чтобы сделать следующий шаг и дать, как хотелось бы
надеяться, более цельные и сложные историко-культурные
ответы, необходимо прежде всего попытаться иначе поставить
вопросы.
* * *
Если в текстах эпистолярия (как правило, тем
единственным, чем располагает исследователь биографии Петрарки)
порой вылезает обычная житейская подоплека, то ведь как раз
благодаря попыткам автора подставить на ее место
классические античные (с христианской подсветкой) темы и мотивы.
М. Мартелли хорошо использовал это. Проницательно заметил,
что такие темы сгущаются именно вокруг действительных
биографических коллизий. Иначе говоря, в самых болевых точках
судьбы и личности Петрарки.
Но критик выстроил обе предполагаемые плоскости -
"идеальную" и "реальную" - в параллель. Изобразил их не
пересекающимися и не вступающими в амальгаму.
Противостоящими друг другу как бы лишь извне, и Петрарка где-то между
ними.
315 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Между тем, существуя как-никак внутри одного и того же
произведения, они своей конфликтностью (и попытками ее
снятия) создают единое смысловое пространство. Плоскости
пересекаются. Повседневность заходит в книжность, книжность
накладывается на повседневность. В результате они не
отрицают и не сглаживают, а, напротив, провоцируют, встряхивают,
освежают, актуализуют друг друга.
Их противоречие и противомыслие (или, если угодно
настаивать, дву-смысленность) - собственно, и есть рефлексия
Петрарки на себя, его внутренняя жизнь, его душа. Все это вместе,
неразрывно - и есть "действительный" Петрарка, "Петрарка в
жизни". Его борение с собой, самовоспитание, конструирование
новой модели поведения. Попытки казаться (как признает
М. Мартелли, прежде всего самому себе) крупней и лучше, чем
он есть. А значит: не совпадать с самим собой, значит, и быть -
действительно быть таким и этаким, с трудом пытаться свести в
себе концы с концами.
Письма Петрарки, с их стилевой заглаженностью, оттого
такие личные, такие искренние даже (или особенно?..) в тех
случаях, когда он утаивает (перетолковывает) некие факты. Эти
послания прямо-таки распирает постоянное психологическое и
мыслительное усилие, напряжение, движение к себе.
К "себе"? - или к литературной безукоризненности, к "безы-
скусности" высокого стиля, к идеальным схемам? Но
"литература" - ведь она-то уже была до Петрарки. Она покоилась в
заветных манускриптах с сочинениями Цицерона, Сенеки, Августина.
Двигаться к ней, по-настоящему (т. е. "изобретательно",
"по-своему") подражать ей - никак нельзя было бы, минуя "себя".
Весь фокус в том и состоял, чтобы иметь душевные силы и
право вдруг сесть и отправить письмо Цицерону или Титу
Ливию. Или Горацию, но уже в стихах. В том, чтобы жить
литературой.
Это не просто слова. Петрарка стилизовал также и свои
отношения с друзьями и государями, свои поступки, домашний
уклад, осанку - стилизовал самое жизнь. Уходил от себя к
античным "auctores", дабы, не на шутку став одним из них,
возвращаться к себе преображенным.
Или, повторим недоверчиво еще и еще раз, все же как бы
преображенным? Ах, не так уж это важно.
_ 316
Авторское самосознание в письмах поэта
Это как раз тот случай, когда "движение все, а результат
ничто"... Когда результат заключен как раз в новом типе, окраске
и личном пафосе движения. Когда сама сознательная
способность к такому усилию, к индивидуальному движению, и есть
эскиз будущей новоевропейской "личности".
Причем у первого истока, в виде нераспустившейся почки, в
своей пока еще сущей незавершенности, проективности,
эскизности, идея личности (до артикулированного понятия которой
оставалось целых четыре столетия) - немыслимая (о, как
счастливо и кстати!) как раз без этих свойств неготовости -
ретроспективно высвечивается в Петрарке с какой-то особой
рельефностью, неслучайной прелестью.
Потому и нет резона вычислять "психологию" нашего поэта
на уровне житейского здравого смысла; мол, к чему
сочинительство приводило или же вовсе не приводило "в
действительности". Бессмысленно вычитать из Петрарки-человека
Петрарку-автора с его новым риторическим "стилем", а значит, то, что
более всего заполняло его труды и дни, составляло его страсть,
его вполне практический интерес, его достоинство, его
тщеславие и похвальбу, его духовную высоту, его взволнованную
горделивую самооценку, его бессонницы, его молитвы. Как не
стоит и вычитать из Автора "человека".
Это одно и то же.
То есть, конечно, это не одно и то же. "Человек" лишь часть
(или, лучше, пересоздание, переформулировка) "автора",
"автор" лишь часть "человека". Отчего и возникает напряжение в
мозговой сети, вспыхивает разряд, и тогда становится видно,
что перед нами нечто не цельное, но живое: и в этом смысле
все-таки одно. Одно-единственное Не-То-Же-Самое.
Главное же (для наших попыток понять): все это есть в
произведении, более того, все это и есть произведение.
Осуществлено в виде его смыслового устройства и стилистики. Может и
должно быть вычитано из него. В результате целостного
герменевтического разбора.
Два смысловых пласта - "то, что произошло", и "то, чему
следовало произойти" - асимметричны. Они стягиваются ко
второму из них, сочинительскому. Составляют вместе
литературное пространство произведения (косвенно включая в него и
то, что скрыто автором - как вскоре мы поймем, по
необходимости - из первого пласта).
317 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Окружность жизни как закраины текста. И окружность
ученой книжности как строительного материала для "Я"; а это Я
уже, собственно, сам текст; однако лишь с формальной стороны,
в виде набора риторических приемов, моралистических топосов
и пр. Короче, взятый в качестве готового. Именно в качестве
текста.
Но есть еще, так сказать, общий сегмент двух окружностей.
Жизнь вытаскивается за ушко да на солнышко литературного
сознания; литература оказывается для индивида способом
поглядеть на себя со стороны. Впрочем, со стороны своего иного,
следовательно, изнутри себя же. Как раз в общем сегменте
проступает порождающая функция текста.
Тут сия метафора начинает хромать слишком сильно, ибо в
большей или меньшей степени на деле весь текст есть этот
"сегмент", как и вся (также и утаиваемая) личная жизнь автора!
В тексте, рассматриваемом под этим углом зрения,
оказывается, нет никаких инертных элементов. Нет ни слова, где не
искрили бы, сопрягаясь: "то, что произошло", и "то, чему
следовало произойти".
Текст, увиденный как сплошной смысл, напряженно
обращенный на себя - иначе говоря, как встреча по меньшей мере
двух смыслов (см. у М.М. Бахтина), - есть произведение.
Не только всё (включая реальную "психологию" поэта) есть
в произведении и всё есть произведение, претворено в "стиль",
но и более того: ничего этого нет вне произведения. Не только в
том элементарном значении, что, лишь читая Петрарку, мы в
состоянии узнать и толковать, каким он был "на самом деле",
и т. п. Но и в том глубочайшем отношении, что Петрарка
становился действительным Петраркой (как бы мы, плохо ли,
хорошо ли, ни судили-рядили об этом человеке) - только с книгами,
пером и чернилами под рукой.
Вне-речевая, не-о-смысленная (в том числе, не осмысленная
через переиначивание и замалчивание фактов) жизнь
невозможна. Во всяком случае, в качестве историко-культурной и
психологической реальности (по определению).'
Петрарка создавал текст, но и текст создавал Петрарку.
Вся настоящая работа - об этом.
Взять хотя бы то же письмо к Франческо Нелли...
_ 318
* * *
Сперва, однако, коротко о положении дел, которое привело
Петрарку в 1351 г. в Авиньон.
Незадолго до этого были: взлет и жалкое падение Кола ди
Риенци, приковавшие к себе воображение поэта; яростные
сонеты (CXXXVI-CXXXVIII) и VI—VIII эклоги против
авиньонской курии и Клемента VI (вопреки М. Мартелли, эта
изобличительная линия иссякла не потому, что папа вроде бы сменил
гнев на милость, а потому, что сон о Кола развеялся, Петрарка
очнулся и на некоторое время попытался, так сказать,
примириться с действительностью); наконец, впечатления чумы,
потеря некоторых близких друзей, известие о смерти Лауры нало-
жились на "развод" с Колонна, а затем и на кончину кардинала
Джованни (3 июля 1348 г.).
Таким образом, посреди непривычно драматических для
Петрарки обстоятельств кончался огромный кусок жизни,
связанный с покровительством этой семьи. Больше нельзя было
без особых забот оставаться в Воклюзе.
(Между прочим, любовь к своему тихому сельскому дому
заметно усилилась в письмах Петрарки, окрашиваясь в
ностальгические и пронзительные тона, именно после того, как он
покинул его вынужденно, потом вернулся, но в конце концов
пришлось оставить Воклюз навсегда и... затем уж Петрарка
неизбежно остыл к Воклюзу.)
Нужно было, приближаясь к пятидесятилетию, увы,
устраивать жизнь сызнова.
Доходы от каноникатов обеспечивали довольно безбедное
существование (третий и четвертый, в Парме и Падуе, были
получены в 1346 и 1349 гг. от Клемента VI особенно
своевременно...). Но приходилось все-таки решать главное: где жить
впредь и на каких условиях. Каким будет теперь его
положение? В качестве чьего гостя?
То, что Петрарка справедливо считал своей бесценной
свободой и в чем я пытаюсь усмотреть первый в истории статус
писателя как частного лица, - следует все же понимать,
разумеется, cum grano salis. Это ведь не могло означать тогда
возможности обойтись не только без места в сословной иерархии (ср. с
Данте: сперва член "старшего" цеха и полноправный горожа-
w —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
нин, а уж затем эмигрант без источников дохода, уважаемый, но
злосчастный, приживал при княжеских дворах), обойтись не
только без конкретной службы (скажем, на содержании у
коммуны или в качестве чьего-либо придворного и т. п.), - но и
вовсе безо всякого высокого покровительства и защиты.
Так что участь гостя (пусть, в основном, и
предоставленного самому себе) была Петрарке задана в любом случае. Рабочее
уединение необходимо было совместить наново с публичной
ролью ученого поэта, мэтра, античного мудреца, а притом
христианина, с географически удобным обиходом дружеского
общения, с кругом морального наставничества и влияния, во
славу Италии, не только заочного. Потребно было гнездо, из
которого Петрарка мог бы по-прежнему разыгрывать эту
вычитанную (лучше сказать: вчитанную), воображенную высокую роль,
с которой он успел совершенно срастись.
Остаться в Воклюзе надолго, навсегда, но уже без
поддержки Джованни Колонна, без других разъехавшихся из Авиньона
друзей, близ папской курии, ставшей вовсе чужой? Решительно
невозможно. Новый патрон поэта кардинал Ги де Булонь
советовал, однако же, примирительное устройство в самом
Авиньоне. Клемент VI, которого Петрарка весьма прозрачно упрекал и
поучал по ходу эпопеи Ди Риенци, наверняка, был от этого не в
восторге; но повел себя в отношении грезящего наяву
знаменитого книжника со снисходительной и, возможно, расчетливой
широтой. В 1346-1347 гг. поэт отказался от должности
папского секретаря (в будущем он откажется еще дважды от
аналогичного предложения уже Иннокентия VI). Но ныне приходилось
не на шутку призадуматься.
Или лучше обосноваться на родине, поближе к Цицерону и
Вергилию? Но, опять-таки, где и как? В Парме, во Флоренции,
в Падуе, в Мантуе, в Милане? Петрарка перебирал варианты. В
каждом были свои плюсы, но и серьезные минусы. Он
колебался еще с весны 1349 г. А пока колесил по Италии.
Он звал переехать к нему то ли в Парму, то ли в Падую, то
ли в иное подходящее место, своего "Сократа", Ван Кемпена
(Fam., IX, 2). Двое других авиньонских друзей, Лука Кристиани
и Майнардо Аккурсио, оказавшихся в сходном шатком
положении - и попавших, первый, очевидно, в Рим, второй во
Флоренцию, - предложили собраться всем вместе, пригласив и Ван
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
Кемпена, жить независимо вчетвером! Где? - да хотя бы и в
Парме. Петрарка отвечал грустно и трезво. Позднее пришло
составленное в более чем лестных выражениях официальное
приглашение из Флоренции - лектором в только что открывшийся
университет коммуны. Боккаччо, явно приложивший к этому
руку, горячо уговаривал...
И вдруг Петрарка, находясь в Падуе, получает письмо от
папы Клемента. Это приглашение в курию. Правда, с неясной
конкретной перспективой. В любом случае, как он писал
впоследствии Нелли, отказать самому папе в приезде вряд ли было
возможно. И вот Петрарка, вежливо отклонив призыв
флорентийской синьории (Fam., XI, 5), собирается в дорогу...
Что его ожидает в курии, он, возможно, впрямь пока точно
не знает и сам. Во всяком случае, от души (можно ли
сомневаться в этом?) радуется, что вскоре опять увидит Воклюз.
Милую Valle Clausa, Закрытую Долину. Извещая тамошнего
епископа Кавейона, своего друга Филиппа, о скором прибытии,
Петрарка отводит половину коротенькой эпистолы на
восьмистишие о Воклюзе. Оно начинается со слов: "Нет места в целом
мире благодатней и пригодней для моих занятий, чем Закрытая
Долина". А заканчивается так: "Хочу дожить до глубокой
старости в Закрытой Долине, и умереть хочу - пусть опережу тебя -
в Закрытой Долине" (Fam., XI, 4).
Ни звука об Авиньоне как причине и цели поездки.
Впрочем, почему же? - тут содержится некий намек и
откладывание делового разговора до встречи. Как сильно он,
Петрарка, жаждет встречи с Филиппом, "ты скоро сам увидишь,
пока же опускаю [разъяснение] всех тех
обстоятельств, которые ведут к этому (omissis
omnibus quibus ad ilium pervenitur), - места и времени в обрез,
гонцу недосуг, вокруг шумят, все служит помехой".
С Боккаччо, письмо которому было отправлено с полпути,
он изъясняется несколько пространней. Но о практической
сути поездки все равно умалчивает. То ли потому, что о ней
впрямь еще рано было бы говорить иначе, чем гадательно,
поэту это неприятно, и он словно подстилает соломку на случай
неудачи. То ли потому, что объяснять свои конкретные
надежды было бы для него особенно затруднительно именно в письме
блестящему молодому другу, только что сильно огорченному
отказом Петрарки от флорентийского приглашения.
N - 345 321
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
То ли, наконец, - и это, по-моему, самое существенное - в
композиционном, стилевом и духовном контексте эпистолярия
как автопортрета авиньонский эпизод должен был и мог быть
истолкован вообще как-то иначе. Позже, когда уже произошло
"то, что произошло", т. е. в письме к Нелли от 9 августа 1352 г.,
к которому мы неспешно пробираемся, Петрарка этим и
займется. Но до поры - собственно, о чем тут было говорить? Как
говорить, чтобы это укладывалось в "animi mei effigiem atque
ingenii simulacrum"?
Вспомним еще раз. Это не литературные сочинения ав
эпистолярной форме". Это настоящие, действительно отосланные,
письма к друзьям. Но не на обычный лад, не деловые. Чтобы,
тем не менее, стать в середине XIV столетия личными, они
должны были быть более чем личными. Демонстративно
стилизованные в качестве личных, они, так сказать, Личные с
большой буквы. Они преподносят иЯ" отправителя (familiariterl) как
общеинтересный предмет. А поскольку речь идет не просто о
новостях, заботах, расчетах и т. п. (как чаще всего у Цицерона),
но это исключительно и целиком сообщения о "нынешнем
состоянии моей души", - то даже в первых версиях, т. е. до
окончательного отбора и шлифовки для книги эпистолярия, они уже
сочинялись с установкой на нечто раздумчивое,
высокопоучительное, непреходящее. Именно так всегда оборачивается -
непременно должна оборачиваться - казусность, сиюминутность
происходящего с ним, Петраркой.
Короче, частное письмо у Петрарки есть совершенно
особенный слитный жизненно-литературный (или внелитератур-
но-литературный) жанр. Что-то вроде дневника в письмах (как
это произойдет через столетия), который пишется для друзей,
как для себя (это всегда soliloquium), и для себя, как для друзей.
Притом у Петрарки - и для всех читателей, на века.
Вместе с тем, несмотря на некоторые параллели, это
совершенно не похоже на исповедь. Отличается от книг Августина
или Абеляра с их наиконкретными признаниями, со
сверхлитературной мистериозной откровенностью. Хотя время от времени
в письмах Петрарки наступает и покаянный момент. Происходит
некое событие, появляется повод, возникает потребность
выразить недовольство собой, звучит стилевой регистр самоупреков.
Раскаяние перед Богом ли? - скорее и гораздо отчетливей перед
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
собою же, перед более высоким внутренним Альтер-Эго. А стало
быть, перед "авторами"... излюбленными античными друзьями.
Когда настает один из подобных духовно необходимых и
литературно подобающих моментов эпистолярного самоотчета -
подсказанный вполне реальными очередными биографическими
обстоятельствами, но и очень точно выбранный композиционно,
как-то увязанный со всеми предыдущими письмами о поездке в
Прованс, - вот тогда в книге "Повседневных" и появляется
письмо к Нелли, энергично разоблаченное М. Мартелли.
* * *
А пока вот что он сообщает Боккаччо "относительно
намерения пишущего сие перебраться через Альпы", вот что было
уместно, своевременно написать тогда, из Вероны в июне
1351 г., притом, разумеется, в качестве автора "Повседневных"
(Fam., XI, 6).
Петрарка начинает со слов: "Я бы сказал, что почти похоже
на правду то, что можно прочесть в сказаниях о деве, которую
любил Феб и которая, спасаясь от него бегством, оцепенела и
обратилась в древо; пока она думает, будто ноги легко касаются
земли, они вдруг вцепились в нее корнями". Так случилось и с
ним, Петраркой, - "а я и не знал этого - вместо проворных и
послушных ног подчас у меня крепко удерживающее
корневище (tenacissimas... radices)". Он направляется из Италии в
Прованс, но не выдерживает намеченных сроков путешествия.
Например, собирался выехать из Падуи 18 апреля, но "выехал, а
лучше сказать, был поистине вырван оттуда (imo vero divulsus
sum)", лишь 4 мая; предполагал пробыть в Вероне 2-3 дня, а
задержался на целый месяц и т. д.
Мотив трудного и неохотного расставания с Италией, как
выяснится задним числом, подготавливает будущую эпистолу к
Нелли. Он просит Боккаччо не ждать теперь письма прежде,
чем он доберется до "своего заальпийского поместья". "А сколь
долго я там пробуду? - что ж, и с а м ход дела, и наши
намерения (ipsa que res et consilia nostra)
зависят от Фортуны, которая их вращает..."
(Опять, как и в письме епископу Филиппу, Петрарка
намекает на некие практические обстоятельства, которые он решил,
11·
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
однако... после машинального постукивания тупым концом
калама?., оставить за краем страницы.)
"...Но что до меня [лично] - полагаю, это известно не
только такому близкому моему другу, как ты, но даже и всем на
свете (vulgo etiam), - то, по зрелому и взвешенному рассмотрению,
я желал бы, если свыше будет дано, в этом поместье и дожить
то, что осталось".
("Свыше" - значит "Небом"? это обычный фразеологизм?
Или "ex alto" в контексте ситуации и письма может означать
одновременно "Romanum Pontificem", о котором ниже Петрарка
заводит горькие речи?)
"Потому что, если в подобном [сельском] месте и недостает
многого из того, к чему нас склоняет жажда удовольствий
(voluptas) и чем изобилуют города, зато здесь есть то, чего
лишен город и что я ценю более всего: свобода, досуг, тишина,
уединение. Только две вещи мне при этом не по душе:
отдаленность от Италии, к которой меня естественным образом тянет,
и близость, совсем под боком, этого западного Вавилона,
который хуже всего и подобен Эребу [загробному царству],
враждебен моей натуре и отталкивает меня. Тем не менее, я вынес бы
и то, и другое, горечь возмещая сладостью (т. е. разлуку с
Италией и неприятные впечатления Авиньона смягчая радостями
Воклюза. - Л. Б.). Но есть, впрочем, и кое-что еще, о
чем лучше промолчать..."
Буквально: кое-что еще, что "не ложится под перо". Или: не
укладывается в стиль"! - "sed alia quedam sunt que refugiunt
stilum" - да уж не каламбурит ли Петрарка, чтобы тонко
навести нас на след?..
"...О чем лучше промолчать и из-за чего я пожелал бы себе
пробыть здесь на самом деле совсем недолго, если только не
произойдет, может быть, нечто новое, я уж и не гадаю, что
именно. Но что я знаю [точно], так это то, что все может
случиться с человеком, существом слабым, одним словом,
смертным, а значит, злосчастным. Поэтому неизвестно, как
сложатся обстоятельства (latet ergo rerum exitus),
известно лишь, чего хочет сейчас душа, и я не хотел бы оставлять
в неведении об этом последнем тебя и всех наших".
Далее: о том, что апостолическому престолу следовало бы
быть на берегах Тибра, а не Роны, то бишь в Риме, а не в Авинь-
_ 324
Авторское самосознание в письмах поэта
онс; но раз уж Петрарка не может увидеть Его Святейшество
там, где следовало бы и хотел бы его увидеть, что ж, поэт
намерен ехать к нему туда, где его на деле можно найти. В том наша
не вина, а Фортуна; мы лишь пассажиры этого корабля. Ну, а
заодно поэт надеется свидеться с немногими оставшимися там
дорогими друзьями.
Таким образом, Петрарка не скрывает, что направляется к
папе Клементу VI, но не уточняет зачем. Он "пожелал бы себе
пробыть здесь на самом деле совсем недолго (illic moram profec-
to brevissimam augor)" - где это "здесь"? Сперва шла речь о
возвращении в Воклюз... затем о близости Авиньона и
необходимости направиться туда. Совокупно с прочим - разве это не
намек, что какие-то новости могут сильно задержать его в
Авиньоне, хотя и столь чуждом возвышенной натуре поэта? Не хочет
ли Петрарка дать понять, что, вполне допуская это, он
одновременно надеется на то, что приглашение папы к этому не
приведет и что он не останется при курии надолго? Трудно ответить.
Нечто намеренно затуманено, но и выговорено. Оставлено
между строк. Писать об этом прямо пока не след.
Так требует "стиль". Таковы принятые (разрабатываемые
им по ходу дела) правила эпистолярного поведения. Все очень
лично - как у Цицерона, - но без мелочных расчетов, дел,
жалоб и пр., в чем он упрекал великого римлянина в письмах к
нему (как и в эпистоле к "Сократу") и что не умещалось в
представления самого Петрарки о том, как следует писать
личные письма (хотя бы и о "повседневном", в "домашнем стиле",
в доверительной заочной беседе с другом). Он, Петрарка,
подражая Цицерону по степени формальной явленности и
плотной существенности реально-личного, считал притом
обязательным держаться Сенеки и Августина при отборе материала
из собственной жизни. Сквозная тема эпистолярия - "Я", а не
просто наличное "я"; это светская эпопея души (хотя и души
христианина).
В умолчаниях и намеках эпистол к епископу Филиппу и
особенно к Боккаччо заметны колебания. Искусно
прикрываемая неуверенность в принятом решении, в его соответствии
высокой самооценке. И тогда Петрарка принимается
стилистически обыгрывать самое недосказанность. Возникают мотивы
личной вины и колеса Фортуны: вот то, что более всего мило
325 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
душе, но есть и то, что продиктовано обстоятельствами, коих
лучше не касаться вовсе. Реальная проблема краешком
высовывается и тут же скрывается.
Петрарка ведет какое-то предварительное объяснение с
самим собой, пока очень приглушенное и отодвигаемое
ожиданием того, что же ему реально предложат в курии.
С легкой душой можно было писать только о встрече с Вок-
люзом... Прогулки, чтение, ученые "труды в досуге" - вот что
достойно человека, который заявлял, что хотел бы родиться в
античности. Петрарка любит "вышеупомянутое свое поместье
(prefatum mrum nostrum)" с нежностью и гордостью, столь же
"топосными", сколь и "искренними".
Итак, он побывает у папы, навестит друзей. А затем, "когда
скажет всем последнее прости", его вновь будет ждать Воклюз,
что "в пятнадцати милях" от Авиньона. Далее следуют общие
места относительно прелестей Закрытой Долины, "светлого и
певучего ручья Сорги" и пр. - и вполне конкретное замечание о
необходимости поработать до конца лета среди "разных книг,
молчаливых и заброшенных, четыре года остававшихся под
присмотром деревенского стража" (т. е. местного крестьянина
Раймона Моне). Осенью же он рассчитывает возвратиться в
Италию...
Тут нет ни капли фальши. Как-никак, в последующие два
года он впрямь проведет большую часть времени в Воклюзе.
Будет там, как всегда, много и успешно работать. Фальшь,
усмотренная Мартелли (или "мистификация", по более
дружелюбному замечанию У. Дотти), состояла не в том, что эти
традиционные для поэта мотивы были слишком условными,
головными, чисто "литературными" - нет, конечно. Не будем все же
забывать, что Петрарка дышал сочинительством, сознавал, что
этим дышит; разве это не величайшая реальность его
повседневного существования и психологии?
Но "фальшь" действительно состояла в том, что прямую
причину поездки он в этих письмах замалчивал. А когда
впервые открыто заговорил о ней в эпистоле к Нелли, то
стилизовал, приукрасил положение дел, описал - по крайней мере, на
современный взгляд - неправдиво.
Такая правда, впрочем, выглядела бы корявой и лишней-
неправдивой с иной и более высокой точки зрения, для Петрар-
_ m
Авторское самосознание в письмах пота
ки вполне реальной и наисущественной. Она не укладывалась в
эпистолярий, продуманный до последнего словечка, в
писательское самосознание.
И вот ведь какая заковыка: что дурного могло быть, по
моральной мерке времени, в попытках такой карьеры для
добропорядочного католика, да еще и неродовитого? Зачем бы
Петрарке скрывать желание стать доверенным секретарем
Римского Понтифика? По мерке эпохи - решительно ничего дурного.
Но тут столкновение культурно-жизненных парадигм.
Между средневековой умонастроенностью, расхожей завидной
версией судьбы - и новым способом думать и жить,
"поэтическим" (т. е. Эго-центрическим) самоощущением.
Небывалым самоощущением.
Между прочим, многие гуманисты XV в., как известно,
должности апостолического секретаря отнюдь не стеснялись...
(Может быть, именно потому, что статус и достоинство этой
неформальной социальной группы, пропуск в которую был
возможен только благодаря личной одаренности, образованности,
virtn - уже устоялись?) А вот первопроходец, Петрарка,
скрывал такое свое желание от других и, кажется, от себя. Не устояв
перед традиционным планом поведения и к тому же потерпев
неудачу, он почувствовал себя униженным как бы вдвойне.
В итоге, в текст эпистолярия мог вписаться только
горделивый отказ от службы у кого бы то ни было. А уж тем более в
презренном Вавилоне на Роне. Петрарка захотел увидеть
происшедшее с ним в ином свете. Будто сначала он дал уговорить
себя друзьям, очень скоро пожалел, тем более что его впутали в
интриги, в конце же концов - он задумал провал и был рад ему,
чтобы сохранить свободу.
Увы, на деле было не совсем так. Или совсем не так.
Следовательно, М. Мартелли прав.
Вместе с тем: да разве Петрарка не разрывался
действительно между ненасытным своим сочинительством, необходимостью
беречь время и силы для ученых писательских занятий (кто же
может сомневаться в том, что у Петрарки это и стало главной
потребностью) и другим честолюбием, перспективой другой
карьеры? И что же - факт остается фактом - разве после всех
этих попыток, неудач, колебаний Петрарка стал секретарем
папы... или хотя бы, как Боккаччо, университетским лектором?
327 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Почему, кстати говоря, у столь дипломатичного и расчетливого
конформиста, у человека, впрямь умевшего ладить со всеми и
добиваться удобств для себя, - внешняя, официальная,
накатанная по обычной тогдашней колее карьера так и не получилась?
Во всю его жизнь. Коронование поэтическим лавром в Риме
само по себе ведь не давало фиксированного социального статуса...
Каноник Франческо Петрарка навсегда остался частным
лицом. Как прикажете иначе называть его странное почетное
проживание - под чьим-то покровительством, но наособицу -
что в Воклюзе в лучшую пору жизни, что в тихом доме на
окраине Пармы, что под старость в Венеции рядом с дворцом дожей,
что перед смертью в Арква?..
Однако психологически это не далось (и не могло бы
даться) сразу и легко, не обошлось без раздвоенности. Особенно в
эпизоде 1351-1353 гг.
Собственно, Петрарка обошел (отчасти за исключением
письма к Ф. Нелли, но и там не признавая этого безусловно и
вполне) только одно, зато важное обстоятельство: он не стал
бы, конечно, терять попусту год, целых два года в авиньонских
хлопотах, если бы сам не захотел места в курии. В остальном
написанное им на сей счет содержит следы внутренней борьбы
и проникнуто стремлением превратить поражение на
традиционном поприще в моральную победу над собой, увидеть в этом
счастливую развязку.
Все эти его мысленные усилия, умолчания, беспокойство,
желание сохранить лицо, самоупреки, жажда катарсиса - что ж,
разве они менее достоверны, реальны, жизненны, чем
переговоры в курии?
Так и было. Следовательно, М. Мартелли неправ.
Скажу резче, парадоксальней. Не есть ли ложь Петрарки
вместе с тем лучшая его правда? Эта "неискренность" - не она
ли и составляет подвиг жизни поэта?
Вытаскивание себя за волосы из наличной оболочки
ветхого (средневекового) Адама к новой (античной) Вести.
К ренессансной свободе.
Воображаемой свободе? В большой степени это, конечно,
верно. Но верно и то, что всякая личная свобода поначалу
всегда нуждается прежде всего в незаурядном воображении.
Невозможна без него.
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
Будучи вполне искренним и откровенным в любви к
поэтической и философской свободе, "практические" мотивы уже
тем самым оттесняя в тень, Петрарка помогал родиться в себе
новому человеку, с новыми (также и практическими...)
мотивами. Укреплялся в себе через образ идеального авторства как
самоцели.
Если и ложь (Мартелли: "самообман"), то, поистине, во
спасение самосознания. Дабы перерасти себя, сделаться больше
самого себя.
И - никакого "лицемерия". "Гротескная наивность"? Что ж,
пожалуйста. Если хотите, называйте это так.
* * *
Вчитаемся в письмо к Нелли, не то что бы оставив в
стороне недостоверные детали и полуправду, нет! - но включив их в
описанную поэтом весьма драматическую коллизию.
Воспримем-ка смысл эпистолы цельно. Пусть кинокамера возьмет
долгий панорамный кадр. Тогда нас поразит не литературщина, а
нечто совсем иное.
Петрарка начинает со слов: «П ослушай, что за
плачевное дело и π о с м е ш и щ е ; меня позвали, и я явился
в курию <...> ничего не зная о том, как собираются со мной
поступить, зная достоверно разве только то, что являться туда мне
не следовало бы никогда. "Так что же, - спросишь ты, - тебя
туда, в таком случае, понесло?" На самом деле, не что иное, как
привязанность друзей; ведь сам я восновном давно
покончил с корыстными желаниями (ego enim magna ex
parte iandudum cupiditatibus finem fecit)..>
В конце концов: разве вещи не названы сразу же своими
именами? Он был позван и отправился в курию, дело шло о
выгоде, о какой-либо прибыльной должности... Автор лишь
категорически отрицает, что первопричина поступка крылась в нем
самом. Собственно, свою вину он тоже (как увидим еще ясней
ниже) признает, но заявляет, что все-таки корыстолюбие не в
его натуре, особливо же с возрастом. По крайней мере, "magna
ex parte" - "в большой части", "в основном" - он освободился от
этого. Как же это с ним приключилось, как он мог уступить
авиньонскому искусу?
329 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
4Ведь теперь я озабочен больше тем, чтобы уклоняться от
даров фортуны и расточать, а не тем, чтобы преумножать их; с
курией у меня по-настоящему ничего общего (nil penitus
comune); если я и был склонен к корыстолюбию (cupiditatis
inerat), то оно во мне испарилось; ведь когда к нему
добавляется еще и надежда, это часто удерживает нас в ненавистном
месте. Надежда вместе с к о ρ ы с τ ь ю образует такие
оковы, что побежденный человеческий дух, похищенный из-
под власти разума, претерпевает много горького и
недостойного. Меня повлекла туда не корысть, не какая-то
надежда, а, как я уже сказал, дружеские отношения (caritas); я
знал, куда направляюсь, но не ведал зачем, хотя ведь помнил
же сказанное Сенекой: "Постыдно не самому идти, а дать
увести себя" (non ire sed ferri - В.В. Бибихин перевел свободней и
выразительней: "не поступать, а уступать"), и посреди
круговерти событий в изумлении [вопрошать себя]: "Да как я тут
очутился?"*
Практический мотив пребывания в Авиньоне назван. Куда
уж прямее. CupiditasI - притом в самом буквальном, узком,
меркантильном смысле. SpesI - надежда именно на это самое.
"Все изо всей мочи старались, чтобы я стал богатым, но
занятым и озабоченным..."
Среди условий плодотворного сочинительства есть то, что
позже Лоренцо Валла, также следуя античной топике,
обозначал, как vacuitas animi, особая счастливая "пустота", высвобож-
денность души. Надо полагать, что это общее место было
известно Петрарке из собственного опыта, а не только из книг...
Эта дилемма (имеющая и практическую, и моральную, и реф-
лективно-идейную стороны) риторическими средствами
оглашается, но к риторике, к "литературе" не сводится.
Петрарке очень хотелось бы думать и уверить других, что
это друзья-покровители сбили его с толку, увели с разумного и
единственно достойного для такого человека, как он, пути.
Побудили отклониться от выработанного и ставшего для него
естественным способа поведения. Охотно можно согласиться, что
поэт опять подстилает для себя соломку. Однако это-то и
позволяло ему не только не выйти из "стиля", остаться в пределах
классической топики и правил эпистолярного поведения, но
осмыслить подлинный внутренний конфликт. И пытаться подтя-
_ 330
Авторское самосознание в письмах поэта
путь свое поведение к реальности более высокого и
непривычного порядка.
Что-то вроде секуляризованной исповедальности. Роспись
в античном роде, хотя и не без традиционно-христианской
растушевки. Он выясняет отношения с собой - или с Цицероном и
Сенекой, что почти одно и то же...
Сколько же драгоценного времени было загублено! Эта
густая сеть интриг вокруг него, уговоры друзей. Пустые, пустые
хлопоты. Он поддавался - "один против многих" - "часто
негодуя, почти со слезами". Против него были "настойчивые
действия, и мнения, и просьбы многих друзей; расхожее мне-
н и е (opinio vulgi) всегда пригибает к земле". Его ласково
принял Верховный Понтифик - "и сказал мне много такого, из
чего было совершенно ясно, что и он на стороне не моей
свободы, а расхожего мнения..."
Теперь Петрарка оглядывается назад. Эк его угораздило!
Он стыдится себя. Он с жаром раскаивается в том, что
поступил вопреки своей более истинной и глубокой сути. Он
признает и заявляет, что оказался ниже самого себя.
"...Ведьесли бы я был тем, чем жажду стать,
и силюсь и, по правде говоря, на это
надеюсь - можно всем пренебречь, лишь бы спасти душевный
покой (si iam essem quod et fieri cupio et nitor et ut verum fatear,
adhuc spero, sperni omnia poterant, sola ut quies animi salva esset).
Однако выслушай не то, чему следовало произойти, а то, что
произошло".
Так он выводит наружу эпохальную трещину - по слову
совсем другого поэта, прошедшую через его собственное сердце -
между традиционной жизненной дорожкой, ничуть не
зазорной, напротив, считавшейся вполне естественной и
достойной, - и тем совершенно необычным местом интеллектуала в
обществе, которое завоевывал Петрарка, увы, не без
компромиссов и срывов.
Но которое он, похоже, все-таки завоевал.
В этом своем изумительном и беспрецедентном в средние
века тоне, всего лишь благодаря хорошо зачиненному перу и
"пустой", пока не исписанной бумаге, Петрарка у нас на глазах
тут же превращается из искателя почетной должности в
свободного автора дружеской эпистолы.
331 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Он обращает поражение в победу, житейское
разочарование - в самоутверждение на основе новых ценностей. Можно
бы сказать, что некоторое сокрытие или, точней,
приукрашивание своего поведения есть ясно осознанная им - как раз
благодаря этому - вина и проблема.
Проблема самосовершенствования, но уже на иной лад, чем
у Августина или даже в собственном "Сокровенном". Вот, что с
ним произошло, когда он дал уговорить себя... гм, "друзьям"-
кардиналам? или более приземленному и податливому Альтер-
Эго, я бы сказал, более традиционному индивиду в себе?
Зато его идеальное Я уже знает, "чему следовало бы
произойти", чтобы древние auctores остались им довольны.
* * *
И тут начинается вторая часть письма.
Критик считает, что Петрарка пускается в рассуждения о
трех стилях ни к селу, ни к городу. Между тем этот переход - в
связи с историей о том, как слог Франческо оказался слишком
хорош для куриального делопроизводства, - очень органичен и
важен. Так, значит, вот как и почему, в конечном счете, ему
отказали.
Или усомнимся, и то был лишь предлог?
Автобиографическая новелла все же правдива в
главном. Ему устроили проверку. Неважно, если и здесь Петрарка
что-то опустил или сдвинул. Важно то, что вся долгая
авиньонская интрига осознана - находит великолепную, осмысленную,
глубокую развязку - как столкновение между двумя
представлениями о стиле!
Его классическая латынь, его цицеронианская стилистика,
видите ли, их не устроила! А он ничего никогда не писал и не
согласился бы писать ниже низшего из трех законных
классических литературных стилей, считая подобное (расхожую,
"кухонную", средневековую латынь) чем-то вообще бесстильным,
недопустимым (ср. с письмом Ван Кемпену).
Могут ли те, кто считает Петрарку конформистом,
упрекнуть его хоть в одном случае такой, стилистической, уступки
"общественному мнению" (opinio vulgaris)?
То-то.
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
Было так либо иначе, нарочно или (что, разумеется,
правдоподобней) невольно поэт не выдержал канцелярской
проверки - все равно, è ben trovato. Едко иронизирует он над
непросвещенными вкусами папы и... своего покровителя в Авиньоне,
кардинала Талейрана (Fam., XIII, 6: 30-35; XIV, 1: 1, об этом
письме см. ниже).
Действительно, если Петрарка мог бы войти в роль
папского писца, то лишь таким образом, чтобы не выходить при этом
из собственной роли. Но время пап, ценителей
гуманистической словесности, а то и пап-гуманистов, было еще далеко
впереди. Оно начнется лет через сто.
Трудно удержаться, чтобы - имея в виду известное
замечание А. Синявского насчет его отношений с советской властью -
не сказать: у Петрарки вышли "стилистические расхождения" с
авиньонской курией. "...Dicebatur quod michi altior stilus esset
quam romane sedis humilitas postularet, шли толки, что мой
стиль возвышенней, чем это предполагается смиренностью
римского престола".
Сперва "меня сочли пригодным для ведения тайной
переписки Его Святейшества, для того и вызывали". Так что
относительно практической цели своего последнего пребывания в
Провансе Петрарка не так уж темнит. А от ворот поворот ему
дали, стремится подытожить поэт, главным образом, потому,
что его слог и талант - не про них, не про князей церкви...
Для нас любопытен и такой совершенно петрарковский,
крайне значимый штрих: претензии к чрезмерной пышности
его слога нелепы, он-то хорошо знает за собой, сколь скромно в
нем многое, и стиль в том числе ("etiam in oratione"). Притом
Петрарка указывает именно на введенный им в оборот
"скромный" стиль эпистолярия, как на свою заслугу ("Ego quidem, me
iudice, si epistolam scribens apte versor in humili, bene est"). "Что
им от меня надо? конечно, то, чего они требуют, чтобы я этим
пользовался, и что они называют стилем - это вообще не стиль
(quem ipsi stilum nominant, non est stilus)".
По-моему, даже если интрига против Петрарки в курии
имела другую бытовую подкладку - по крупному историко-
культурному счету, он рассказал о конфликте верно и точно.
Разработав в письме к Нелли нелегкий сюжет из
собственной жизни, Петрарка перевел его в чисто писательскую плос-
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
кость. Он оказался, видите ли, слишком автором - если
позволено так выразиться, - чтобы служить при папе в Авиньоне.
"Вот и хорошо. Зато я свободен <...> и если от меня также
впредь будут требовать соблюдения подобных условий, значит,
я всегда буду свободен <...> а ведь свобода тем слаще, чем
достойней причина, по которой она добыта..."
Стать таким, каким он "хочет стать", обрести свободу -
значит сочинять на должном уровне и вольно - так, как ему
нравится. "Вот счастье! вот права..." - согласится наш Пушкин, не
подозревая об этом, с Петраркой.
Петрарка выкраивает из материала всего того, что было
пережито им в Авиньоне, важный урок. Подвигается к выводу:
надобно быть сочинителем и только. Он хочет мысленно замкнуть
жизнь на сочинительство как самоцель. Но тем самым замкнуть
жизненные токи на "Я".
Не служить. Или разве что услужать дружески, из добрых
отношений. Или еще иначе: выпестовать в сознании образ
жизни как не-служения, идеал личной свободы. Нет смысла
изобличать Петрарку в том, что он не мог воплотить этот идеал в
своем поведении до конца и безупречно.
"Чего же более? если бы писал кому-нибудь другому, я так
не разгорячился бы. Но ведь пишу сейчас своему Франческо,
пишу себе же. Я хочу, чтобы мой читатель, кто бы он ни был,
помышлял только обо мне самом - не о свадьбе моей дочери, не
о заночевавшем у меня друге, не о происках моих врагов, не о
моем судебном процессе, не о моем доме, хозяйстве, или
урожае, или сокровище (Петрарка в очередной раз ревниво
соразмеряет свое понимание "повседневного" с Цицероновым. -
Л. £.), - я хочу, чтобы он, пока меня читает, был только со мной
самим <...> Если такое условие кому-то не подходит, пусть
воздержится от бесполезного для него чтения..."
Черт возьми! - это что же, Петрарка предвидел, что нас
могут заинтересовать его планы и неприятности в курии, его
"психология", а не он сам?
* * *
Тем не менее правомерно поставить вопрос о двойном
сознании Петрарки.
_ 334
Авторское самосознание в письмах поэта
Разумеется, не в каком-нибудь оруэлловском значении:
когда одно из сознаний индивида не знает, не желает и не
способно знать о другом его же сознании, когда два сознания в
человеке не беседуют друг с другом, а "говорят одновременно",
наподобие персонажей старых пьес.
Но скорее уж в том смысле, в каком сколько-нибудь
развитое сознание - всегда двойное, тройное и т. д.; т. е., скажем,
индивид знает, как он поступил, но знает также, как он
намеревался поступить, или как полагалось бы поступить, и как может
выглядеть его поступок, и как ему задним числом хотелось бы,
чтоб он выглядел. Человек всегда стоит перед выбором между
наличным и должным, собой эмпирическим и собой
воображаемым, желаемым, каким-то другим - собою несбывшимся или,
может быть, будущим. Перед выбором между разными
мотивациями и резонами, интересами и необходимостями, между
непосредственной пользой и сублимацией желаний -
опосредованных общепринятой нормой, или культурным идеалом, или
затаенным личным мечтанием.
Впрочем, все сие пока что слишком известно и общо. Это
вроде, например, привычной, нормальной раздвоенности
христианского сознания между смирением и нескромным желанием
вечного спасения, примиряемыми в амбивалентном акте
покаяния. ("Я хуже всех, я великий грешник!" - но, следовательно, у
меня есть некий особый шанс на неисповедимую благодать Бо-
жию. Как избежать в покаянии, а значит, и в самой греховности,
соблазна гордыни? "Не согрешишь, не покаешься; не покаешься,
не спасешься" - очень глубокая максима, вовсе не циническая, а
ортодоксально-парадоксальная, мистическая.) Это пока еще
обычная рефлективная раздвоенность, вроде знаменитой держа-
винской строки: "Я - раб, я - царь, я - червь, я - бог!".
Двойное сознание может быть истолковано как
соотношение нормы и отступления от нормы: в цивилизационной
статике. Между прочим, верный признак такого, "нормального",
раздвоения - его предусмотренность самой нормой. Таков,
допустим, заготовленный исчерпывающий перечень прегрешений в
вопроснике пенитенциалия, своего рода пособия
средневекового исповедника.
В случае Петрарки двойное сознание выступает как совсем
иной феномен: в точке исторической "бифуркации", в культур-
ной динамике.
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Когда поэт кается в том, что уступил соблазну выгодной
должности за счет своего душевного покоя, уединения и
свободы, - мол, именно свободой ради любимых книг и
сочинительства он на самом деле дорожит более всего, но вот, поддался
уговорам и посулам, и т. п., и пр., - каков исторический смысл
этих громких жалоб в письме к Нелли на друзей и на себя
самого, впавшего в грех "cupiditatis"?
Его родного брата, францисканца Герардо, который "ради
Христа отверг все остальное", от подобных желаний избавил
монастырь. Но покаяние самого Франческо, который бурно
осуждает неразумное корыстолюбие, "золотое ярмо (iugum
aureum)", "протестуя против того, что [тем самым] у меня
похитят свободу и досуг, eripi michi libertatem atque otium", - нечто
совсем другое, не предусмотренное ни в одном пенитенциалии...
Христианский (по форме) мотив получает античное
обоснование и очень странное развитие. Здесь нет места для разбора
еще одной эпистолы, следующей сразу же вслед за этой, -
важно, что она тоже к Ф. Нелли, т. е. это как бы продолжение
предыдущей. И в ней окончательная расстановка точек над всеми i:
дополнительный ключ к рассказу об авиньонском эпизоде. Тут
Петрарка обстоятельно рассуждает, что такое настоящая
словесность и настоящий поэт, какая это невероятная редкость (о чем
можно прочесть в "Ораторе" у Цицерона). Нынешняя чернь
папской курии, облаченная в кардинальские мантии, включая сюда
и его нового высокородного покровителя, впрочем, неплохого и
почтенного человека, - не имеет об этом ни малейшего понятия.
Чем искренней и красноречивей Петрарка изобличает
cupiditatem, добычей коей чуть было не стал, тем больше
сгущаются те самые умолчания, те отступления от буквальной
достоверности, в которых его справедливо подозревает современный
критик. Выложить все, как на исповеди, о своих практических
намерениях и расчетах, отбросив литературные покровы, -
значило бы разрушить оба смысловых полюса изложения. То есть,
как идеальную модель поведения, так и недостойное
отклонение от нее. Ибо провинность перед Музами, перед античными
"авторами", которую знает и признает за собой поэт, - это его
слабость как античного же поэта и мудреца.
Свое достоинство и свою недостойность Петрарка сознает в
новой системе координат. Поэтому должен быть стилизован не
_ ш
Авторское самосознание в письмах поэта
только идеал, но и отступление от идеала. Последнее раздуто и
потому одновременно скрыто. Дело в том, что вместо
знакомого христианского греха "алчности" подставлена другая вина,
кажется, для Петрарки более интересная и важная. И необычная.
Это вина перед самим собой как поэтом, перед тем, каков он по
исконной своей "натуре". Это отступление от себя\
Вот, собственно, "то, что произошло".
А что до оценки в традиционной моральной плоскости этих
планов устройства в курии, то он их приписывает
исключительно "друзьям" не потому, что сознает, что повел себя в общем
мнении некрасиво. Он вовсе так не считал и ему нечего было
стыдиться, с точки зрения общепринятой морали. Напротив, в
"opinio vulgaris" - начиная, как мы отлично помним, с мнения
папы Урбана! - подобные хлопоты считались благопристойным
делом. Примерно так же, как все и вся вокруг Петрарки
принимали за "поэзию", замечает он саркастически, способность более
или менее грамотно связать несколько слов. И в то же время
Вергилия, т. е. его, Петрарки, друга (а заодно поэтому и самого
Петрарку), держали не за поэта, а за чернокнижника (Fam.,
XIII, 6).
Петрарка устыдился своего расхожего "я". Идеальный же
полюс изображенной Петраркой душевной драмы и борения
("то, чему следовало произойти") - тоже Я, но не эмпирический
и оступающийся по слабости "я". Это Я-автор, иначе говоря:
проект петрарковской личности.
* · *
Задаваясь вопросом, "каким Петрарка был в
действительности", невозможно не учитывать, что в литературных зрачках
младенчества Нового времени действительность видится
перевернутой. В этом отношении Петрарка, как затем и
Возрождение в целом, продолжает по своему мировоззренческому
схематизму быть средневековым человеком, но радикально изменяет
(набожно секуляризует?) предметное содержание
"перевернутости".
В средние века: реальность это не дольнее, не то, что зримо
вокруг и наличествует, - нет, реальность это горнее, субстанция
высшего порядка. В послепетрарковской ренессансной культу-
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ре: реальность это высший порядок, прозреваемый, возможный
и наличествующий именно в том, что зримо вокруг, - в
природе, в "человеке универсальном". Идеал истолкован не как
необходимость стремиться к внеземному, но как возможность
идеально бытийствовать на земле.
Петрарка сознает себя идущим нехоженой современниками,
заросшей за тыщу лет, древней тропой. Его двойное сознание не
что иное, как столкновение в этом авторе человека
средневекового - по всем условиям окружающей жизни и наличной
психики - с "возрожденной" моделью поведения (конечно, ни в
коей мере не внехристианской, но странной,
антично-христианской... позже ее назовут "гуманистической").
Существенно, что:
1) и "действительность" (или "психология"), и "литература"
(или "стиль") могли совместиться в эпистолярии только через
литературное, стилевое целое (образ Я-автора); и сам
психологический конфликт между ними тоже мог состояться, лишь
будучи выражен в антикизирующем "стиле";
2) эта психологическая, но возникшая лишь благодаря
стилизации, расщелина открыла выход к новой реальной
психологии, к новому историческому Я; коллизия "я и Бог" (или: я как
наличный и грешный - и я как отказавшийся от себя и
возродившийся в Господе к жизни вечной) начинает на ренессанс-
ный лад подменяться коллизией "я и Я" (т. е. я имярек - и я
"герой", см., например, у Марсилио Фичино39).
Если отнестись со всей серьезностью к тому
общеизвестному факту, что Петрарка принялся за новое культурное делание,
то нужно поверить поэту в перемене не просто тех или иных
"взглядов" (идеологии), но самого мыслительного и
психического пространства, в котором развернуто понимание
отдельного человеческого существования.
Для Петрарки дорого, что он может быть "домашним",
"повседневным" - и притом оставаться возвышенным, чего часто
не скажешь об авторе эпистол к Аттику - что он тут может пе-
рецицеронить самого Цицерона! Было бы невозможно
сознаться Луке Кристиани (и себе), что он вернулся через четыре дня
в Воклюз, потому что колебался, не заденет ли его отъезд
кардинала Ги де Булонь и не упустит ли он оставшегося шанса
добиться чего-то в курии, и т. п.
_ m
Авторское самосознание $ письмах поэта
Кстати: если впрямь именно подобные расчеты заставили
его вернуться, то зачем Петрарка, торжественно
распрощавшись со всеми, вообще двинулся в путь? По правде,
затруднительно истолковать эти действия практически. Хотя и его
объяснения звучат неубедительно. Мы никогда не узнаем, что же
"реально" было у него на душе. Реально - письмо к Кристиани.
Или, например, письмо к кардиналу Талейрану, датированное
"октябрьскими календами" и отправленное из Воклюза в
1352 г., т. е. в гуще занимающей нас ситуации.
* * *
"Кардиналу Талейрану, епископу Альбано, о трудностях и
опасностях более высокого образа жизни.
Ты повелеваешь мне сделать стиль ясным; это
представляется во всех отношениях разумным суждением; одно лишь
промеж нас не вполне улажено, ты называешь ясным более
приземленный стиль, по мне же он тем ясней, чем выше, лишь бы не
был окутан облаками. Конечно, ты [а не я] отец, ты господин,
ты учитель, и ты меня, а не я тебя, должен наставлять
достойным нравам. Посему я буду придерживаться этого наилучшим
образом, если заведу разговор о самой обычной жизни людей..."
(Farn., XIV, 1).
Странная, малопонятная фраза! ибо Петрарка вслед за ней
тут же принимает именно на себя роль "магистра". Но не хочет
ли он сказать, что в том, что касается не богословия и
схоластики, а "обычной жизни людей" и "моральной философии", роль
наставника переходит от церковника к поэту?
«...Ведь когда стиль устремляется по запутанным путям
рациональной философии, либо по таинственным путям
философии натуральной, то и незачем удивляться, что умы, занятые
[повседневными] заботами, с трудом могут уследить за ним. Но
вот когда стиль выбирается из подобных ущелий на простор
речей о [философии] моральной, какой же ум окажется настолько
туп, чтобы затрудниться понять, выслушивая от других то, что
все и так знают про себя, замечают в окружающих, убедились в
этом по собственному опыту, чему полно примеров перед
глазами и в памяти? Ведь я веду речь о вещах, которые никто и
никогда не может и не сможет обговорить в достаточной степени,
w —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
точнее же, о которых всякий говорит-то достаточно, но никто в
такой же мере не осмысливает. Вот и получается огромное
несходство складных слов - и действий; когда, как молвит
Цицерон, "жизнь удивительно опровергает речи". Поэтому с чего же
мне начать, как не с того, что в наибольшей степени
соотносилось бы с твоей жизнью, преславный отче, и моей тоже - дабы
ты понял, что я, несмотря на внутреннюю угнетенность
многими заботами (multis implicitum et obsessum curis), однако, часто
в душе своей обращаюсь к тебе», и пр.
Далее эпистола перетекает в некое пространное и довольно
неясное по целям и поводам душеспасительное назидание,
связь которого с контроверзой насчет "ясности" стиля, его
обыденности или возвышенности, ухватить с первого взгляда
нелегко... Но сквозь общие места проступает несколько мотивов,
имеющих прямое отношение к эпистолярному поведению
Петрарки и к осознанию им ситуации 1351-1353 гг..
Первый мотив: "что бы ты ни сделал один, известным это
станет всем; вот наказание знаменитых мужей; у них нет ничего
укромного, все выходит наружу <...> все выставлено на общее
обозрение (omnia effundit in publicum) <...> Спрашиваешь, что
я по этому поводу посоветую? Да что же, кроме того, чтобы
жить всегда так, словно ты живешь на виду у людей (in publico
vivas), делать все так, словно на тебя все смотрят, мыслить так,
словно помысленное тобой просвечивается, и дом твой -
зрелище для народа (populi theatrum)... на каждом шагу заботиться
не только о том, что ты говоришь или делаешь, но и что об этом
толкуют и передают люди..."
Несомненно, сам Петрарка всегда ежечасно ощущал себя
именно пребывающим на мировых подмостках. Эта же
доминанта поведения ("театральная", но притом культурно и
психологически интериоризованная, переживаемая глубоко изнутри)
прослеживается во всей дальнейшей гуманистической
традиции.
Второй мотив: важные решения следует принимать втайне
и в молчании, обнародуя, как это делал римский сенат, только
после успешного исхода. Зачем распространяться о том, что
может никогда не состояться? Так, между прочим, Петрарка и вел
себя до поры в переписке с друзьями, пока не наступила
развязка авиньонских хлопот.
_ 340
Авторское самосознание в письмах поэта
Третий мотив (внешне всего лишь варьирующий тему
тягостности человеческого существования в земной юдоли): "горечи
в этом много больше, чем сладости <...> у каждого в свидетелях
его страданий и забот - собственная совесть, и, сверх тайных и
явных несчастий, сколько есть еще тайных побуждений,
сколько ударов, сколько язв, никакое перо не могло бы перечислить
их все <...> Я знаю <...> о пламенных порывах души твоей, о ее
прекраснейших попечениях: это занятия словесностью,
упражнения ума, любовь к умеренности, набожные чувства, жажда
уединения. Но судьба расходится с твоим
желанием (fortuna tua propositumque discordant); τ ο, как
приходится действовать, это далеко не то, что
пошло бы тебе на пользу и было бы в
радость. Вот при таких-то обстоятельствах думаю о твоих
душевных страданиях, и я способен оценить смуту в твоей груди,
потому что она сопоставима с моими
собственными волнениями (ex meorum fluctuum comparatione dime-
tior)".
(О том, какова была его собственная душевная смута, "рго-
cella pectoris", Петрарка и поведал несколькими неделями
раньше, 9 августа 1352 г., в письме к Франческо Нелли.)
Наконец, четвертый мотив: "Если спрашиваешь о лекарстве,
одно у меня есть; если уж не дано жить так, как
ты желаешь (или: быть внешне таким, каким желаешь),
будь внутренне таким, каким должен (extranon
datur esse quod cupis, intus esto quod debes)".
Таков ключ самого Петрарки к этой злополучной
авиньонской истории. Он считает, что есть не одна, а две реальности:
extra и intus. Вторая для него явно существенней и, в случае их
расхождения, служит лекарством от первой.
* * *
Среди могущественных благодетелей, которые советовали
поэту добиваться секретарской должности при папской курии,
однако же разошлись с ним в "стилистических" вопросах, -
был, как видим, кардинал Талейран. Не об этом ли "большом
Друге <...> который есть у меня в Вавилоне", идет речь также в
следующем письме к Нелли, от 10 августа? - где Петрарка в
341 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
том же почтительно-язвительном тоне рассказывает, как ему
пришлось с превеликим трудом втолковывать "одному из
немногих, князю из князей [церкви], красе пресветлой Римской
коллегии кардиналов", в чем состоят смысл и назначение
поэзии (Fam., XIII, 6: 30-35).
Не он ли, кстати, этот могущественный "делатель пап, что
больше, чем быть самим папой" - и устроил Петрарке
секретарскую проверку? «Ежедневно он просит, чтобы я что-нибудь
написал для него, и всегда присовокупляет к сему, чтобы я
написал "ясно" и в то же время - хотя это плохо сообразуется с
"ясностью" - чтобы вставил цитаты из поэтов, которыми он начал
под моим влиянием интересоваться: не потому, что они его
увлекают, но чтобы воспользоваться их произведениями в своих
видах и скрасить поэтическими выражениями то официальное
красноречие (civilem facundiam), которым отменно владеет. Но
это очень нелегкая вещь. Ведь я понимаю, что он приучен к
плоским оборотам легистов, а все сказанное по-другому считает
"темным"; и все-таки от меня требует сказать это для него по-
другому, потому что сам так сказать не может <...> Удивления
достойно, что этот человек <...> ставший кардиналом, не
обладая ученостью <...> от природы столь способный и понятливый
<...> только в словесности туговат и страшится всякого не
своего, т. е. не официального и не варварского, стиля, часто
причитая: "Пиши так, чтобы я тебя мог понять, как понимаю тексты
законников"* ("Своему Сократу", Fam., XIV, 2).
"Большой друг"? "Magnum amicum", замечает Петрарка, это
"если я прибегну к тому древнему и простому
обыкновению высказываться (prisco et ingenio loquendi
more), посредством которого Цицерон называет близким себе
великого Помпея, а Плиний Младший приветствует своего Вес-
пасиана. Ибо, если нужно употребить современный род
речи, раболепный и льстивый, то у меня [не большой друг,
но] исключительный и высокочтимый патрон (nam si moderno
servili atque adulatorio sermonis génère utendum est, habeo singu-
larem verendumque dominum)" (Fam., XIII, 6).
Поведение Петрарки, его отношения с курией, включая и
новых покровителей, по своей культурной складке явно не
дотягивавших до кардинала Джованни Колонна, неприятности в
Авиньоне - короче, вся социальная и биографическая колли-
_ 342
Авторское самосознание в письмах поэта
зия, в тенетах которой бился тогда поэт, осознаются им и
кристаллизуются в столкновении ioquendi m oris". To есть
разных культурных языков, наглядно воплощенных в оборотах:
"magnus amicus" и "verendus dominus"...
Две стилистики речи в качестве двух стилистик жизни. И
наоборот.
Искренность для Петрарки - филологическая проблема.
* * *
Как же было возможно иначе, чем в эпистолах к Нелли и
др., - как прямей, как точней и конкретней - рассказать о том,
что подозревает за Петраркой современный исследователь,
дабы сии признания не разрушили бы стиля, поэтики жизни
и поведения, улеглись бы в обдуманное целое
"Повседневных", не стали бы - в противном случае - саморазрушением
поэта?
Разве и тогда это по-прежнему были бы страницы Петрарки
и "действительный" Петрарка - а не, допустим, "Исповедь"
Руссо? Чтобы оставаться действительным, Петрарка и должен был
кое-что "утаивать" (т. е. стилизовать). Ради возможности
продолжить - не только эпистолярий, но также и то, во что он хотел
бы превратить себя, свое существование. Продолжить жить.
Потому что кто он? Еще и еще раз: автор. Вне авторства
Петрарки просто нет на свете, и не ищите. Дело состояло не в том,
чтобы "идеализировать" себя - это, так сказать, неизбежный
побочный продукт его литературного производства, - а в том,
чтобы создать себя как особенного индивида
Петрарка - автор своей античности и, тем самым, своего
рефлектирующего "я". Его Я существует благодаря энергии
индивидуального сочинительства, "Франческо" это Писатель.
(Заглавная буква указывает здесь не столько на возвышенность
понятия, сколько на имя собственное.)
Психология (культурная логика) авторства перекрывает
как "чистую" психологию, с ее житейскими слабостями и
заботами, так и "чистый" стиль. Разрыв между первым и вторым не
создает потребности в идеализации и самообмане, "психология"
не провоцирует таким образом "стиль" (как полагает М. Мар-
телли). Все гораздо тоньше.
343 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
И одно, и другое участвует в порождении новой Я-поэтики.
Понимая это, М. Мартелли выдвигает тезис, что поскольку
Петрарка пытается перевести нелестную для него бытовую
реальность в условно-литературный план, то это стремление к
идеализации есть и особый род искренности, оно серьезно
постольку, поскольку дает "стилистический результат". Забывать, как
это делают многие литературоведы, что Петрарка все врал о
себе, по Мартелли, не следует потому, что тогда останется
непонятной подоплека и напряженность идеализации.
Однако и этого, по моему разумению, все еще недостаточно.
Остается неясным, что же тут у Петрарки нового и
оригинального? В традиционной нормативной поэтике - в риторике
вообще, или, например, в итальянском "сладостном стиле" XIII в.,
или у провансальских трубадуров - такой разрыв между
"реальной психологией" и "стилем" тоже был нормой, не так ли?
Но не был "разрывом". Потому что никому не вздумается
предъявлять к риторике и топике такие вопросы - насчет
индивидуальной психологической аутентичности, искренности,
соответствия автору "в жизни".
Хороший ритор всегда искренен - как ритор, в пределах
своего риторического задания. Быть "искренним" - значит с
этим заданием справиться, и более ничего.
Откуда же наш новый критерий применительно к Петрарке,
и особенно к нему? Откуда эта потребность разобраться: да не
выдумывает ли он о себе, не скрывает ли правду?.. Критик
догадывается, что тут некая новая поэтика. И какая-то
необыкновенная роль "стиля". Но сводит дело к эпохальному разрыву
между идеальной гуманистической нормой и психологической
эмпирией - хотя такой разрыв никак не меньше (да нет, куда
больше1) может быть отмечен по отношению к
традиционалистской риторике.
Петрарка мог не врать о себе. Мог врать. Не в этом дело.
Ведь "врал" он, как с недоумением замечает М. Мартелли, уж
как-то слишком простодушно и явно, ибо тут же почему-то и
проговаривался.
Не в этом дело. Петрарка в любом случае - так ли было "в
жизни" или не так - себя выдумывает. Совершенно поглощен
самим этим состоянием выдумывания (авторства).
344
Авторское самосознание в письмах поэта
Рефлектирует прежде всего на это состояние. Потому что
только через него остро ощущает свою непривычно пьянящую
личную отдельность, жизненность.
Он приватизирует античность. Он делает "авторов" своими
интимными друзьями и превращает риторические средства в
способ самовыражения. То есть ведет себя так, будто открыл их
впервые, и выдвигает в связи с этим теорию "подражания" как
своенравного "изобретения".
Его "Я" - бабочка, вылетающая из безличного
тысячелетнего кокона риторики.
Петрарка стилизует свое "Я", поэтому оно пока лишено
характерности (у Абеляра или Данте конкретно-личное куда как
гуще, пластичней, характерней, но еще лишено внутренней
формы, не выступает в качестве концепта). Хотя стилизация
Петрарки по необходимости еще заглаженно-безличная, зато
самое личное, уникальное в нем - предельно активная
авторская позиция, без которой стилизация (в отличие от
подражания) вообще немыслима. Непрерывное, неутомимое,
неутолимое интонирование "Я". Форма высказывания от этого первого
лица, пусть битком набитого реминисценциями, цитатами,
общими местами, стилистически безукоризненно
отшлифованного, непроницаемого, поэтому пустого, предельно и
сосредоточенно формального - но как раз поэтому неисчерпаемого, и
завораживающего, и неповторимого в мировой культуре.
Я, я, я... Бескорыстно-отвлеченное, идеальное, бесстрашное.
"Просто" Я, голое Я - как принцип личной ответственности за
текст, как его абсолютный первотолчок. Великий формализм
авторства. Обещание относительно шести последующих веков
европейской культуры.
• * *
Еще кое-что насчет "двойного сознания»" Петрарки, его
искренности или неискренности и тому подобных вещей. Из
письма брату Герардо "о сложном разнообразии и разброде в
человеческих занятиях и действиях" (подписано: "И июня, в
уединении", предположительно в 1352 г., т. е. в разгар
занимающего нас периода в жизни Петрарки. - Повседн., X, 5, пер.
В.В. Бибихина).
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Более всего, - пишет Франческо, - "поражает взаимный
раздор между желаниями одного и того же человека <... > кто
из нас хочет одного и того же сегодня и вчера, кто хочет
вечером того, что хотел утром? День ведь тоже дробится на часы,
часы на минуты, и у человека ты найдешь больше воль, чем
минут. Этому вот крайне дивлюсь..."
О том же, напоминает Петрарка, свидетельствует и
Августин. «Один и тот же человек расходится с собой в отношении
одной и той же вещи в один и тот же момент времени. Обычное
безумие! Всегда хотеть идти и никогда так и не приходить, это
все равно, что хотеть одновременно и идти, и стоять, - вот ведь
что значит хотеть жить и не хотеть умереть, хотя в псалме
написано: "Кто из людей будет жить и не увидит смерти?" ...Жизни
этой хотим, а смерть, границу жизни, проклинаем! Поистине
противоположные стремления, поистине взаимоуничтожающие
желания - не только потому, что, как говорит Цицерон,
которому почему-то я здесь доверяю больше, чем католическим
свидетелям, наша так называемая жизнь есть смерть, так что, выходит,
именно смерть мы и ненавидим, и любим. Прямо о нас слова
комика: "Хочу - не хочу, не хочу - хочу (Volo nolo, nolo volo)>.
Спустя пять месяцев Петрарка тронется наконец-то в путь.
Скорей, в Италию! И через два дня вдруг отправится назад в
Воклюз, премного удивив друзей в Провансе, с которыми
только что попрощался, и друзей в Италии, которым была обещана
долгожданная встреча.
Мы помним, как он объясняет это своему "Олимпию", т. е.
Луке Кристиани (Fam., XI, 12).
* · ·
Перечитаем также и это письмо, чтобы покончить с
комментариями к авиньонской эпопее Петрарки.
Повторяю, проф. Мартелли прав: слишком трудно
поверить, будто 19 июля 1351 г., только-только добравшись до Вок-
люза и собираясь в Авиньон, Петрарка был в состоянии -
притом вопреки намекам в почти одновременных письмах к
епископу Филиппу и Боккаччо - сочинить такую эпистолу.
Дескать, он прибыл в Воклюз, именно в Воклюз и только в Воклюз.
"Меня привлекла сюда не надежда на что-либо (слу-
_ 346
Авторское самосознание в письмах поэта
шайте, слушайте! - Л. Б.), не необходимость, не желание
удовольствий, разве что самых простых, деревенских, и даже не
дружеская близость, которая среди прочих мирских причин
наиболее достойная".
(Какие уж там авиньонские "друзья"! - о двух кардиналах
ни звука - очевидно, это написано не раньше 1353 г., когда у
поэта не осталось иллюзий. - "Те друзья, которые у меня здесь,
да разве есть среди них хоть один, который бы понимал, что
означает слово дружба?")
Ах, его привела сюда только невыразимая прелесть здешних
мест, с которой не совладать рассудку, - воспоминания,
которые давно уже тайно и нежно подступали к сердцу. Холмы,
скалы, леса, где он бывал счастлив в былые годы. "Поскольку тебе
известно, как я дорожу покоем, знай, что я не променял бы его
ни на что". Он приехал в свою уединенную обитель, к
"сладкозвучной Сорге", ради того, "чтобы кое-какие сочиненьица,
которые здесь с Божьей помощью начал, здесь с Его же помощью и
завершить".
На это понадобится "года два". Как, не несколько недель
(ср. с письмом к Боккаччо, отосланным за считанные дни до
даты, значащейся под письмом к Кристиани), а года два?!
Впрочем, поглядим, тут же добавляет Петрарка, стоит ли строить
планы не только на двухлетие вперед, но и на следующий день.
Покидая Италию, он думал и сообщал в письмах друзьям, что
вернется осенью; однако человеческим намерениям
свойственно быстро меняться из-за обстоятельств, "советов друзей" и пр.
Эпистола, собственно, посвящена этой теме: "о
переменчивости намерений". Она с этого начинается - "Сколь
переменчивы и сколь разнообразны желания смертных, и сколь
ненадежны поэтому любые намерения, особенно те, что далеки от
разумности, - ты рассудишь об этом хотя бы из моего опыта (ех
те)". Тот же мотив проходит до конца письма, переплетаясь с
мотивом блаженного сельского уединения и сочинительства.
Иначе говоря. В письме к Нелли поэт пытался осмыслить
"то, что произошло", и смягчить удар, неверность своей
самооценке, так что та эпистола построена на столкновении
собственного поведения, каково оно реально - ну, почти реально, - и
поведения должного... на покаянии слабого Петрарки перед
другим Петраркой, который вровень с древними. Хэппи-энд,
347 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
торжество совершенства, т. е. лучшего в нем, над неплохим, но
слишком слабым и несовершенным, за коим угадывается
падение, желание низких благ. Зато в письме к Кристиани
мысленно проигрывается "то, чему следовало произойти", идеальный
вариант личного поведения и судьбы.
И что же? Петрарка впрямь провел два года в Воклюзе...
правда, за вычетом времени, проведенного тогда же в Авиньоне.
Он впрямь много, как всегда, сочинял там. Все так и
произойдет, как он пометил датой 19 июля и чему следовало
произойти... правда, если не считать всего иного, что тоже произойдет.
Рефлективная канва включала в себя то и это. И
преображение - весьма драматическое - происшедшего в письме к Нелли,
и воображение - вот каким прекрасным это могло бы
оказаться! - в письме к Кристиани. Где, впрочем, настойчивые
повторы о том, сколь неразумны желания людей и сколь
непоследовательны их намерения, сознательно отбрасывают смутную
тень на разворачиваемую поэтом идиллическую проекцию его
жизни в 1351-1353 гг.
А теперь возьмем все эти письма так, как Петрарка счел
нужным расставить их в окончательной редакции эпистоля-
рия - вместе. Боккаччо он пишет одно, Кристиани несколько
другое, Нелли совсем третье. А в умолчаниях и намеках
повсюду слышится вроде бы и что-то еще. Какая-то
неокончательность любого самоизображения. Он что, не видел
противоречий? Не мог убрать зазоров? Видел и не видел, не хотел
расстаться ни с одной из версий. Видимо, важней всего для него
сама эта способность воображать и с большим или меньшим
успехом подстраивать свою жизнь под литературу.
Однако для этого, прежде всего, требовалось само
смысловое поле действия - т. е. четко обозначенное, ощущаемое,
плотное "Я".
Вот я как таковой, друзья мои, со всеми сиюминутными
"состояниями души". Вот Я - в своем времени и месте, но также в
античном времени, а место действия - то же. Вот Я, реальный и
живой, как реален Сенека, как живы Цицерон или Августин,
которые могли тоже падать, но и летали так высоко над землей.
На пересечении нынешнего и античного времен в общем
италийском пространстве - хронотоп Петрарки. Идеальный и
одновременно действительный.
_ 348
Авторское самосознание в письмах поэта
Однако, прежде чем достичь конгруэнтности двух
реальностей, непосредственной и литературной, активно и обоюдно
менявших друг друга, - требовалось, повторяю, прежде всего
создать подходящее для этого новое смысловое поле. В нем уже не
прежний риторический автор с условно-литературным "я". Но
такой Я-автор, который приходит в текст из внетекстовой
действительности, проходит текст насквозь и вновь возвращается к
себе. Требовалось, иначе говоря, создать внутри произведения
целостную личную реальность. Это "Я", которое соединяет того,
кто пишет, и того, кто живет - будучи одним и тем же Я, хотя и
не тождественным себе.
Возвратимся к попытке выяснить, каким же образом
Петрарка научился достигать этого конструктивно. То есть через
какую смысловую компоновку текста.
• * ·
Но сперва хочется вдогонку этой главе привести
соображение, высказанное через много десятилетий после описанных
событий Леонардо Бруни в "Жизни мессера Франческо
Петрарки" - впрочем, по другому, но сходному и еще более
значительному поводу.
Уже самому Петрарке приходилось отклонять подозрение,
что Лауру он придумал. Или же присочинил всепоглощающую
любовь к ней. Однако и в XV в. подозрения не развеялись.
Флорентийский гуманист, возражая Фомам неверующим,
настаивает, что Петрарка "действительно испытывал этот огонь".
Хотя "некоторые думали, что он скорее выдумал [ее], чтобы
иметь предмет для писания (più tosto fingesse per haver sogetto
da scrivere), тем не менее мы не должны пытаться
узнать больше того, что он написал об этом во
многих местах, т. е. что он жарко ее любил"40.
Сказано весьма неглупо.
Историки выяснили, что Лаура де Нов - если это та самая
Лаура - была женой Уго де Сада с 1325 г. и умерла в Авиньоне
от чумы в 1348 г. Петрарка утверждал, будто это произошло в
такой же точно пасхальный день и час, когда он в церкви
впервые увидел и полюбил Лауру. "Это было в первом часу шестого
апреля, когда я был раньше пленен, а ныне, несчастный, отпу-
349 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
щен". Замечательна следующая строка: "come Fortuna va can-
giando stile!" ("как Фортуна меняет стиль!" - Trionfo della
Morte, 133-135). Реальные события встречи с Лаурой и ее
кончины показательно оцениваются нашим сочинителем в термине
"стиль". Вместе с тем дано ученое уточнение: тогда, в 1327 г.,
Солнце уже переходило из созвездия Овна в созвездие Быка, и
взошла утренняя Аврора (Trionfo d'amore, 1-6).
И все. Больше ровно ничего мы об этой женщине и о любви
поэта не знаем. Документов нет. Никаких деталей Петрарка не
сообщает. Если у Данте все же рассказано о "даме-ширме", об
обиде Беатриче, не ответившей при встрече на поклон, и еще
кое-что, - то у Петрарки ничего конкретного. Лишь возгонка
любовных воздыханий и меланхолии.
Что до астрономической точности дат, то это знак
природной подлинности любви (так отмечают появление кометы или
солнечное затмение). Это чисто литературное доказательство
достоверности и значительности всего остального,
напоминающее о "Новой жизни" Данте.
Собственно, чувство к Лауре в качестве "жизненного" факта
нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Что отвечал Петрарка,
задетый "шутливой эпистолой" епископа Джакомо Колонна?
«Итак, что ты говоришь? Что я выдумал драгоценное имя
Лауры, дабы иметь, о ком мне говорить, и дабы многие говорили бы
обо мне; что на самом деле в душе моей никакой Лауры нет,
разве что, может быть, это поэтический лавр, о котором я давно
мечтаю <...> а что до живой Лауры, которой я будто пленен, то
это все рукоделие, стихотворная выдумка, притворные вздохи.
Насчет этого хотел бы я, чтоб ты не шутил и чтоб впрямь все
было притворством, а не исступлением. Но, поверь мне, никому
без большого труда не притвориться надолго, а так трудиться,
чтобы выглядеть больным, [само по себе уже] есть величайшая
болезнь. Добавь, что мы можем вполне удачно подражать
движениям больных, но настоящую бледность подделать мы не
можем. Тебе известны моя бледность, мои страдания <...> не
собираешься же ты посмеяться над моей болезнью с той твоей
сократовской веселостью, что зовется иронией <...> Но погоди
<...> как говорит Цицерон, "время ранит, время и лечит"; и
против этой выдуманной, как ты говоришь, Лауры мне, может
быть, поможет выдуманный мною же Августин. Много и серь-
_ 350
Авторское самосознание в письмах поэта
езно читая, много размышляя, стану старцем прежде, чем
состарюсь» (Fam., II, 9: 18-20).
"Августин" - персонаж "Моего сокровенного", но за ним
реальный Августин; получается, Петрарка заявляет, что Лаура
столь же реальна, хотя и пресуществлена вымыслом.
Совершенно в том же роде он был задет обвинением, будто что-то
"выдумал" в "Африке" о Сципионе. Всякий вопрос о подлинности им
сочиненного есть вопрос о происшедшем в истории или в его,
поэта, душе. Но всякий вопрос об истинности происшедшего
вместе с тем обращен исключительно на то, что происходит в
сочинении.
Итак, "проблему Лауры" приходится полностью вывести из
биографии в обычном "человеческом" смысле и перевести в
план писательской биографии. Нет действительности, которая
не была бы протащена сквозь сочинительство. Для такой
ситуации антитеза "человеческое/литературное" чужда.
Бессмысленно задаваться вопросом "было или не было", ведь для сознания
Петрарки БЫЛО только то, что существует в СОЧИНЕНИИ.
А чего он не числит за собой, о чем не пишет автор, то
культурно "иррелевантно", не имеет отношения к вопросу об
истинности, искренности и т. п.
Почему же Петрарке важно сказать, что он действительно
любит невыдуманную Лауру? Почему он задет подозрением в
стопроцентной литературности своей страсти, но отвечает,
разумеется, не фактами, не деталями, а риторическими ходами,
отвечает литературно же? Потому что в пределах своего
существования в качестве Я-автора он отстаивает подлинность
всего, что включено в эти пределы. Я сочиняю, следовательно, я
существую. Это не "выдумка", это я и моя жизнь.
Да, но все-таки: была ли Лаура и любовь к ней?.. Вопрос
некорректен, на что справедливо и указал Леонардо Аретино. Он
поставлен таким образом, что ответа иметь не может. Мы же
только добавим: был бы Франческо Петрарка тем человеком и
поэтом, каким он действительно был, без любви к Лауре?
351 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Прерванное письмо
и отплывающий корабль
"Стариковское" письмо к Франческо Бруни от 9
апреля 1363 г. характерно озаглавлено: "О том, сколько труда и
опасности в писании, однако писать надо (scribendum
tarnen), и как"41.
Поэт жил тогда (в 1362-1368 гг.) гостем Венецианской
республики, совсем рядом с дворцом дожей, на набережной Дельи
Скьявони, т. е. в устье Canal Grande, оживленнейшем месте
торговой гавани.
Перед этим палаццо можно постоять и сейчас-
После вступительной части, содержащей малоинтересные
поздравления адресату, получившему место секретаря при
апостолической курии (которое двадцатью годами раньше был
непрочь, по-видимому, занять сам Петрарка), и после
восхваления папы Урбана V - автор принимается рассуждать о
трудностях сочинительства.
Исходный, нередкий у Петрарки и крайне принципиальный
для него тезис: всегдашняя возможность новизны (см. у
Сенеки). Можно комбинировать и поворачивать по-своему то, о чем
писали древние. "...Сплети с древними [сочинениями] новое;
если сделаешь это должным образом, [труд] получит собственную
цену (suum pretium invenient). Вздорно доверять только
старине: сочинявшие тогда тоже были людьми". Человеческий опыт,
все искусства, философия, поэзия, история, богословие
умножаются и совершенствуются, а посему: "Нет настолько
отделанной, настолько законченной вещи, чтобы к ней ничего нельзя
было прибавить".
Третий раздел письма посвящен внутренней технике
сочинительства и взаимоотношениям с избранным дружеским
кругом ценителей. Самый любопытный для нас мотив этой
краткой artis scribendi состоит в резко подчеркнутом раздвоении
авторского сознания.
А именно: сперва оно двоится на замысел и исполнение.
Затем: на готовый, но предварительный, подлежащий еще
шлифовке текст, и беспощадно взыскательное отстранение от
него.
_ 352
Авторское самосознание в письмах поэта
"Сначала один думай про себя (solus in silentio
meditare), прячь продуманное в тайниках памяти за семью
замками, молчаливо и внимательно перебирай все по порядку и,
ничем не соблазняясь, испытывай. Потом пусть
[продуманное] понемножку и осторожно выносится на свет к
речи и под перо (oris ad lumen et ad calamum <...>
prodeant), и пусть в р е м я от времени
приостанавливается (vicissimque subsistant), τ о словно обдумыва-
ется [что-то] подобное, то попадает под
сомнение, то наполняется уверенностью (et
dubitare videantur, et fidere). Сомнение делает речь
осмотрительной, взвешенной, скупой и умеренной, а уверенность -
бодрой, цветущей, величавой, изысканной. Когда мысли отстоятся
в цельный кусок устного или письменного слова, произнеси его
так, чтобы слышать себя, как если бы ты был не
творцом (conditor - вспомним, что этим же словом в письме
"Потомству" Петрарка называет Бога. - Л. Б.), а судьей, призови в
советники слух и душу, осмысли то, что намереваешься сказать,
как если бы это прочел тебе твой враг <...> И мы преуспеем тем
больше, чем более будем справедливыми и честными судьями
вещей, придуманных нами же, меньше всего при этом думая об
авторе, меньше всего любя их лишь за то, что они наши. Ведь
как безобразный и неопрятный сын не становится более
достойным любви оттого, что это сын, так и стиль не становится
лучше оттого, что он наш <...> не увлекайся потоком своей
речи <...> выслушай ее из уст другого, и покажется тебе,
что она принадлежит не твоему, а чужому
уму (alterius ad os transfer, alio fuisse tibi videaris ingenio) <...>
И в суждениях, и в стиле ты сможешь достичь многого, если не
станешь отчаиваться, и это [только] ты сам (haec tu solus) или
же в небольшом кругу близких..."
В интервале между автором, молча думающим до текста, до
сочинительства, и автором, наконец-то взявшимся за перо, а
также между автором уже написанного - и им же, слушающим
себя, испытующим себя словно бы со стороны, вчуже - как раз в
этом пространстве напряженного рефлективного опыта
формируется новое Я-сознание.
«Так вещи, родившиеся по-домашнему растрепанными,
затем выходят на свет безукоризненно прибранными <...> пока
12 - 345
353 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
это не обратится в привычку и это будет для тебя уже не труд,
а наслаждение. Не тебя, друг, это я себя самого учу, обращаюсь
к тебе, а наставляю себя, поучаюсь, прислушиваясь к себе же...
"Опыт, - говорит Аристотель, - создает искусство", и ни одно
искусство не станет этого отрицать, особенно то, которое у меня
сейчас перед глазами, имею в виду искусство мореходное"*.
Признаться, неожиданный и весьма формальный перескок
от сентенции Аристотеля! Зачем он понадобился?
Следующий, четвертый, раздел невелик: это ученый пассаж
о мореплавателях древности и хвала неслыханно возросшему
искусству венецианских корабельщиков (более опытных
сравнительно с античными греками и римлянами),
географическому размаху, объемам и разнообразию современной торговли.
Все это оказывается, в свой черед, лишь связкой и подступом к
самому интересному и совершенно дивному
кульминационному месту письма (тема которого - не забудем! - "о том... что
писать надо").
* * *
Вот оно.
"Заставлю тебя еще часок не поспать вместе со мной. Пока
я писал тебе все это, тяжелый ото сна, за окном стояла грозовая
ночь, по небу неслись тучи; когда усталое перо подобралось к
этому месту, вдруг (cunque ad hunc locum fessus
calamus pervenisset, tantus subito...) до ушей
донесся громкий крик моряков. Встаю, узнав
привычный сигнал, спешу в верхнюю часть дома,
выходящую к порту, смотрю - Боже благий, что за
зрелище! Какой ужас, божественный, потрясающий,
завораживающий! Здесь перед устьем, удерживаемые канатами у
мраморной стенки, зимовали несколько кораблей, равные своей
громадой высокому дому, который отвело для моих нужд
здешнее свободное и щедрое государство, и заметно возвышающиеся
вершинами парусных мачт над обеими башнями по его углам.
Больший из них в этот самый час, когда тучами застит звезды,
порывы ветра сотрясают стены и крышу, а море адски гудит о
чем-то своем, ринулся в путь - дай Бог, чтобы счастливый!
...Признаться, я пожалел их и подумал, что не зря поэты зовут
— Ш
Авторское самосознание в письмах поэта
моряков несчастными. Когда во мраке уже нельзя
было следить за ними глазами, я вернулся к
перу с потрясенной душой, одно только перебирая
про себя в уме: увы, как драгоценна и вместе как дешева для
людей жизнь. Вот, друг, я сплел рассказ (fabulam peregi),
для письма не необходимый, но мне
приятный; обстоятельства и минута послали мне
его без малейшего усилия с моей стороны
(или: к нему подвели почти сами предмет и момент изложения,
quam quaesitum minime res ас tempus obtulerant), однако он
относится к тому, о чем я начал говорить. Если, стало быть, опыт
(experientia) делает искусство, то упражнение (usus) - его,
искусство, оживляет, питает и совершенствует...и
Следует цитата из Афрания, в которой сопряжены
"упражнение" (узус) и "память" (т. е. для Петрарки - знание
образцовых сочинений древних) в качестве слагаемых
Софии-Мудрости. А дальше: "И ты тоже испытывай (experire) настолько
часто, чтоб то, что было опытом, стало бы упражнением (quod fuit
experientia, usus sit), что было крепкой памятью, затем принесло
бы тебе прекрасный приплод..."
Бесспорно, эта оппозиция двух опытов - того, что
унаследовано, и того, что означает собственную смелую
изобретательность автора, его живой узус, - призвана здесь оправдать
именно неожиданно введенную в текст вроде бы постороннюю
"фабулу" (или "историю"), жизненный эпизод, личное впечатление,
что так вообще любит делать в эпистолярии Петрарка. Эрудит-
ский, готовый опыт должен прийти в движение и перетечь в
совершенно непринужденный, авторский, новый опыт.
После вольного отступления о прерванном письме и
отплывающем корабле - так понятно бешенство заключительного
раздела эпистолы, относительно невежественных и лживых
людей, осмеливающихся судить "обо мне и о моем даровании". Да
что они понимают в писательском мастерстве как (правильном,
но свободном) узусе!
"Это моя роковая, так сказать, и давняя чума. Многие судят
обо мне, которых я не знаю, и не хочу знать, и не считаю
достойными, чтобы я их знал".
Но прежде чем произнести эту отповедь, автор еще раз
бросает взгляд со стороны на себя, пишущего сейчас письмо, дела-
12·
355 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ет последний мазок. "Утомленные глаза, отяжелевшая рука,
нагоняющий сон предрассветный сумеречный час просят конца, и
только недремлющий ум уклоняется от него, желая насытиться
нашей беседой. Вот еще на что мне сейчас подвертывается
случай ответить (Наес me, ut ad quod modo respondeam adigit)...n,
и пр.
Ну да. Он обожает щеголять этим своим обдуманно
небрежным: к случаю, попутно, кстати, между прочим, вдруг и т. п. В
такие моменты его голос начинает звучать особенно живо и
обольстительно. Он чувствует себя самим собой, свободным,
удивительно похожим на любимых "авторов".
* * *
Теза - вослед за Сенекой - о всегдашней возможности
новизны, благодаря примешиванию к старому нового, получает
блестящее подтверждение. Реминисценции из писем Цицерона
в виде упоминаний об обстоятельствах и часе написания
(обычно в сумерках или за полночь, при светильнике, когда
приходится превозмогать усталость и сон) - самая важная для
Петрарки в "обыкновении Цицерона" черта. А именно: она
удостоверяет непосредственность, естественность, окказиональность
эпистолярного авторства, всегда прикрепленного к данному
конкретному моменту личного существования. Эта черта не только
сознательно и обстоятельно обыгрывается, укрупняется, но и
приобретает совершенно новое качество.
Течение реального времени, в котором авторствует и
поэтому живет остро сознающий себя Я - tempus scribendi как
tempus vivendi, - уже не просто фиксируется через
внутритекстовый знак, в смысловом просвете текста. Но вырывается
сквозь расщелину эллипсиса, разливается широко и вольно,
приобретает вполне самостоятельную важность, вровень с
исходным чисто литературным поводом и предметом эпистолы.
"Auetor Franciscus" (Farn., XVIII, 16) не ограничивается тем,
что смотрит на себя, сочиняющего, со стороны. Не только
обдумывает, постукивая пером, что бы еще этакое написать, не
только отгоняет дремоту и т. д.
Вот он пишет и поглядывает в окно. Там - ночь, тучи,
порывы ветра, гроза. Доносятся знакомые команды к отплытию.
_ 356
Авторское самосознание в письмах поэта
Он встает. Он торопится наверх, чтобы поглядеть, как судно,
пришвартованное под окнами, будет сниматься с якоря.
Стало быть, незаконченное письмо остается лежать в его
кабинете. Сочинитель наглядно отделяется от сочинения.
Это проделано так. Сначала отвлеченная вневременность
дискурса переводится через "когда" и "вдруг" в реальное,
жестко обозначенное время сочинительства. "Когда усталое перо
добралось до этого места <...> вдруг <...> громкий крик..."
"Усталость" переводит внимание с рукописи на писца. А крик
матросов - с писца на внешнюю жизненную ситуацию.
Рукопись (которую мы ныне читаем!) в нижней комнате,
автор же стоит на верхнем этаже, провожает взглядом
исчезающий в ночи корабль. Думает о тех, кому предстоит долгий и
опасный путь к берегам Танаиса или даже в Индию. Наконец,
спускается, снова возвращается к перу.
Весь эпизод, лишенный необходимости с точки зрения
риторической разработки избранной темы, подан прежде всего
как сам по себе захватывающий (прошу прощения за
анахронизм) "кусок жизни". Он преподнесен в виде как бы нечаянной
интермедии. Конечно, внешне это оправдано сравнением
писательского и... мореходного "искусств". Но вставка непомерно
разрастается. Служебная роль синкресиса явно превзойдена его
ненужностью, точнее же, самоценностью сиюминутного
личного переживания. Риторический каркас формально сохранен, но
взломан изнутри; притом сознательно.
* * *
Ибо эпистолярный стиль должен быть прежде всего
"домашним" и "безыскусным". Его спонтанность, избыточность,
необязательность особенно ценны, ибо свидетельствуют о
подлинности Я. Формуют эту подлинность. "Вот, друг, я сплел
рассказ, для письма не необходимый, но мне приятный;
обстоятельства и минута послали мне его без малейшего усилия с
моей стороны..."
(О, бесценный Цицерон! "Eternum vale, mi Cicero".)
Сочинение - внутри частной жизни, погружено в ее
перипетии. Но и частная жизнь реальна только внутри
сочинительства. Письмо непринужденно толкует о сегодняшних новостях, о
357 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
"нынешнем состоянии моей души". Вот почему Петрарка
утверждает и вот что означает это озадачивающее, напрашивающееся
на возражения филологов, замечание: "magna ex parte Ciceronis
potius quam Senece morem sequor".
"Я" внутри произведения, но и произведение внутри Я,
проживающего свою быстротекущую жизнь.
Произведение не равно себе.
Ибо его обдуманная риторическая конструкция включает в
себя также то, что продиктовано "обстоятельствами и минутой",
возникло словно бы "без усилия" со стороны автора.
Не станем задаваться праздным вопросом, так ли это было
"на самом деле"... не есть ли сие именно изощренная
литературная выдумка... ведь "импровизация" подлежала многолетней
шлифовке... Не в этом суть.
Пусть. Не импровизация, а образ импровизации. Не
непосредственность, а конструирование непосредственности.
Тем принципиальней новая парадигма авторства!
Вот, значит, какова она - будучи развернута, косвенно
выказана через самодвижение письма.
Я-автор по-прежнему традиционен постольку, поскольку
всякий личный жизненный опыт - уединения, старости,
болезней, мыслей о смерти - всецело приуготовлен чтением
авторитетных текстов, отливается в формы книжности. На все есть
свои экземплумы, образчики, готовые топосы. И Петрарка
высыпает целые вороха их, превосходно знакомых ему с юности,
когда пишет о том, как быстро убегает жизнь, "особенно
перевалив за середину".
Но: этот же Я-автор, во-первых, относится к своей книжной
учености с необычно акцентированной непринужденностью и
свободой. Отсюда и иронически обыгранная снисходительность
по отношению к своему давнишнему молодому школярству.
Во-вторых. Поскольку автор в качестве реального
отправителя письма, со своими сочинительскими намерениями,
обдумываниями, настроениями, обстоятельствами сочинения
данной эпистолы, нарочито выделен в тексте за скобки, - то и
противопоставление (а не только сопоставление) книжности и
личного жизненного опыта перестает быть всего лишь
очередным общим местом. Оно подкреплено конструктивно и
экспрессивно.
_ 35S
Авторское самосознание в письмах поэта
В итоге соотношение книжного и личного в письме
переворачивается. Рассуждения на общеизвестную тему, со всеми все-
непременными выписками и сентенциями, оказываются
встроенными в интимный опыт автора. Они присваиваются им,
удостоверяются от собственного лица.
Вместе с тем, само это лицо, т. е. человек, которого зовут
Франческо Петрарка, существует производно от своего
произведения. Эпистола выводит наружу конкретный ход
сочинительства и материализует сопутствующее ему душевное
состояние ("presens animi mei habitus"!).
Автор тоже, следовательно, не равен себе.
Мы обнаруживаем писателя одновременно внутри текста и
вне текста, и в этой непривычной смысловой растяжке, в
переходах из текста вовне, в случайные условия написания, в
сопутствующие и синхронные оному всякие "вдруг", а затем тут же
обратно, в условную длительность дискурса, - в этих-то
переходах и возникает личный смысл. Рождается Я как результат (а,
уж скорее, потом и как условие) авторства.
Перо снова скрипит по бумаге, но уже невозможно упустить
из виду, что только что оно было перевернуто, отложено в
сторону, вовсе оставлено. Сочинение значительней всего как
приступ к сочинению, как вмещенный в него канун его, как
сочиняющее и сочиняемое Ego.
мЯ-в-тексте" пишет о себе, как о "Я-накануне-текстаи, как о
том, кто еще только собирается писать и вот обдумывает, каким
образом получше это сделать. Наконец, пишет и о "Я-помимо-
авторстваи, который прерывает работу и, будто забыв о
сочинении, проживает какую-то частицу жизни.
Но затем опять... пишет.
Теперь он уже пишет о том, как перестал писать... почему
отвлекся и чем был взволнован. Утверждается во всем этом - в
личных впечатлениях, в себе как непосредственно живущем -
когда возвращается к себе как пишущему.
* * *
Нельзя не обратить внимание на то, что могут, пожалуй,
счесть бессодержательностью, или игровой условностью, или
сугубой книжной искусственностью идеи Я-автора у Петрарки.
w _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Действительно. Интенсивность переживания этой идеи не
означает, что в такой же мере велика непосредственная
оригинальность петрарковской речи. Это, как не раз отмечалось, даже
в гораздо большей степени традиционная речь, готовое слово,
чем, например, у Данте.
Сознания и неотступных мыслей - скажем так: мысленного
переживания - относительно личной творческой инициативы,
выпуклой выделенности судьбы, удивительных свойств своей
сочинительской психологии, стало быть, и относительно
особенного жизненного Я, своего присутствия в мире, - всего этого в
эпистолярии Петрарки явно и гораздо больше, чем
действительной инициативы, новизны, действительно уникального Я и т. д.
Более того: мысленное переживание "моего состояния
души", проработка идеи личного авторства, замыкается на себя.
Все это сосредоточивается преимущественно в (якобы
случайных) разрывах композиции, а вслед за тем в как бы спохватыва-
ниях, в авторских отступлениях, в пометах "обстоятельств и
минуты", в рассуждениях о назначении и стиле дружеской
переписки, в расставляемых знаках непроизвольности,
прихотливости, необязательности, - короче, через щедрое интонирование
свободы автора. Сочинитель вправе писать о чем угодно, о чем
ему вдруг вздумалось. Также и "ни о чем". Ты, друг мой,
спросишь, почему я приплел сюда рассказ, для темы эпистолы вовсе
не "необходимый", риторически не заданный? - да просто
потому, что так "мне приятно"...
Согласимся, что напряженность авторского Я у Петрарки
стилизована. Что стилизация мотива личного авторства -
своего рода подражательный орнамент, рефлексия на письма
Цицерона. Что его "Я-авторство" не что-то стихийное и
непосредственно-действительное, не жизнь поэта, прорвавшаяся в речь,
а... литературная форма?
Однако же именно в формальном заострении, в имитации
такого авторского состояния как наиважнейшего и состояло
замечательное, подлинное новшество Петрарки. Так почему же
оно не "действительное"? почему не "содержательное"?
Рад поводу повториться. Невероятный формализм
авторства - вот великое открытие автора эпистолярия. Вот первый
шаг к жизненности новоевропейского суверенного личного Я.
Причем: содержательность формально и орнаментально обозна-
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
ценного Я тем более богата, что перенос внимания на внешний
контур превращает "изображение моей души, слепок моего
ума", в лрвЭ-положение такого "изображения", в
многозначительный намек на возлюжность такого "слепка". Словом, в
личное Я не столько раскрывшееся, сколько жаждущее раскрыться.
Нельзя не помнить, что в русло, намеченное формализмом
Я-автора у Петрарки, устремится затем схематизм ренессанс-
ной идеи творческого индивида - как возможности стать таким
индивидом, "выковать себя по собственному желанию" (Пико
делла Мирандола) и, благодаря своей "доблести", развернуться
в "универсального человека".
Сказанное никоим образом, разумеется, не означает, будто у
Петрарки содержательность в прямом и предметном
значении - Бог, религия, этика, любовь, красота, мудрость,
добродетель, терзания "внутреннего человека", желание уравновесить
христианство и античность, Августина и Цицерона - только
некая начинка для литературных опытов. Петрарка прежде всего
"писатель", но вовсе не в таком бедном и бесплодном значении.
Перед нами человек высокой духовной серьезности и
ответственности. Однако проблема личного авторства создает для него
особую смысловую фокусировку при обсуждении любых
проблем.
Любые проблемы протягиваются сквозь игольное ушко Я-
авторства.
Петрарка по-прежнему пребывает внутри и во власти
готового, авторитетного слова, но впервые воспринимает его в виде
напряженной проблемы, а не данности. Он, Петрарка, обязан
сам отобрать, взвесить, опознать это слово в качестве такового.
Собирая пчелиный взяток с разных цветов (столь любимый им,
а впоследствии всеми гуманистами, топос Сенеки!) - автор
должен быть способен переиначить, парафразировать,
пропустить чужое сквозь себя. И наконец оформить как совершенно
свое... Такова всячески развиваемая Петраркой идея
неподражательного подражания42.
С позднейшей точки зрения, коллаж цитат, реминисценции,
непрерывные примерки чужого на себя, парафраза, тотальная
книжность - нечто противоположное интимному
самовыражению. Но, независимо от меры оригинальности (? - нашей
меры) - а у Петрарки она, очевидно, куда менее высока, чем у
w_
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Абеляра или в "Цветочках" Франциска Ассизского, не говоря
уж о Данте - есть ведь еще и мера переживания
оригинальности... То есть: не (предполагаемая) "объективная" доля
новизны, не (предполагаемый) объем "подлинного" авторства, а сама
установка на авторство. Изменение смысловой ауры,
сознательных задач сочинительства.
На пересечении всевозможных духовных проблем, взятых
вполне искренне и серьезно, Петрарка обнаруживал и
переживал - себя, в качестве пишущего об этих проблемах. А это
(открытие возможности переживать свою оригинальность) давало
и - по-иному, но ничуть не менее высокую, чем у Данте, -
объективную меру самой оригинальности...
Можно бы сказать, что это химическая присадка, которая
преобразует качество сплава β целом. В ней и состоит
несравненный содержательный сдвиг в истории культуры. Вне ее
непонятны или же изрядно дистиллированы, пресны "взгляды"
Петрарки, его предгуманистическая идеология... как и его
"реальный" человеческий облик, поведение, нрав... как и поэтика
Петрарки, рассмотренная лишь в традиционном эрудитском и
филологическом плане.
Авторитетные слова и пред-лежащие ценности нуждались в
сочетании, согласовании, наконец, во взаимопроникновении.
Они требовали нетрадиционного синтеза. И поэт его находит,
это так. Но притом находит таким образом и лишь потому, что
готовые слова и ценности начинают выглядеть словно бы
сочиненными им самим, Франческо Петраркой.
Они авторизуются.
Великая имитация "Я" вживляется в повседневное
самосознание Петрарки. И всецело опертая, казалось бы, на прошлое -
устремляется в будущее, разливается в нем половодьем,
добираясь и до нашего современного порога.
Со временем личное авторство, становясь все более
привычным, будет гораздо оригинальней, непринужденней,
самозабвенней обращаться на свой предмет: на мир, ждущий
художественного и понятийного претворения. И одновременно - тем
самым - смелей выражать индивидуальность творца.
Но уже никогда, пожалуй, авторство не будет переживаться
с такой напряженной и удивленной остраненностью - в виде
чистой идеи и самодовления авторства - как у Петрарки. Не
_ 362
Авторское самосознание в письмах поэта
только до него, но, наверно, и после него, никогда в подобной
степени не будет явлено авторство как таковое. Никогда
больше не будет столь остр и содержателен формализм авторства.
Впрочем, в дальнейшем - когда личная органика
сочинительства станет социально и психологически естественным
состоянием, когда оно будет занято предметом сочинения больше,
чем самим собой, - в чистом, форсированном переживании
авторства уже не будет такой исторической нужды.
Ведь у Петрарки формализм "Я" именно своей
формальностью отчетливей всего оконтуривает проблему, дотоле
незнакомую. Формализм здесь выступает как проявление своей
противоположности. То есть истинным содержанием и пафосом
стилизаторства оказывается вовсе не узколитературная забота, но
забота о самом индивиде, о существенности объявленного
авторского Я.
Отсюда (впоследствии) истоки самообоснования
индивидуальной личности: возлагаемой ею на себя трагической
ответственности за все мировые ценности, за своего Бога или за свое
героическое безбожие.
А пока что Петрарка затевает дерзкую литературную игру в
Я-автора. Она совпадает с насущным личным запросом. В
сплошь олитературенном эпистолярии главное содержание и
попечение не книжность, а книжник, не литература, а
литератор. Врастание сочинительства в интимность индивида. А
следовательно, его самоизменение.
Сочинитель сочиняет сочинительское "я". Он стремится
привести в соответствие с ним свои домашние обыкновения и
публичный статус, встречи и переписку с друзьями, свои мысли
и настроения, свои молитвы, отношение к времени и вечности.
Жить значит сочинять
Если наблюдения верны и новое культурное "Я"
Петрарки становится исторически возможным только в створе
между "писать" и "жить", то мы должны быть готовы не слишком
удивиться, узнав, что эти магдебургские полушария мощно
притягиваются друг к другу. И что в пределе - жить значило
для Петрарки писать. Писать - и значило жить.
%з —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
С этого он начинает эпистолярий (в письме к Ван Кемпе-
ну), с тем чтобы затем продеть эту же нить сквозь всю книгу:
"Scribendi enim michi vivendique unus, ut auguror, finis est". "Ведь
моему писательству, как и моей жизни, надеюсь, конец
наступит одновременно".
Тут не один только риторический топос, не просто
восхваление сочинительства как занятия высокого, почтенного,
упоительного. В самой глубокой подоплеке отождествления жизни
с авторством и, таким образом, самозамыкания эпистолярия,
обращения писательства в собственную тему и цель - в этом,
как уже не раз говорилось, сочинение с пером в руке себя в
жизни, своего "Я". Общее место осмыслено и подано не как
общее место, а как именно его, Петрарки, сугубо личный и
особый случай.
В письме к Пандольфо Малатесте (Sen., XIII, 9) поэт
рассказывает, как он занедужил и чуть было не помер, однако,
выслушав распоряжения врачей, велел делать все как раз наоборот...
"Но что я тяну?" - доктора, придя на утро, попали впросак. Они
предполагали, может быть, увидеть прах поэта, но "застали меня
пишущим (scribentur invenerunt) и, удивившись, не нашли
ничего лучшего, чем сказать, что я - человек удивительный".
"Застать пишущим" - это в данном случае не эвфемизм от
"застать в живых", а синонимический оборот совершенно в пет-
рарковском вкусе.
"Ну, если я и удивителен, то насколько же они сами
удивительней! а уж те, кто им верит, не только удивительны, но и
вовсе поразительны".
* * *
"Я задумал расширить теснину жизни, и ты спросишь,
посредством какого искусства этого можно добиться. Ведь время
торопится, ничем не сдержать его бег..." Посреди пространных и
довольно избитых общих риторических пассажей на эту и
подобные темы поэт продолжает, однако: "Так что же я делаю,
чтобы, как и задумал, продлить время жизни? Расскажу тебе
<...> Все дело в том, как его растрачивать <...> Часто встаю
полусонный - глаза еще смежены, но ум пробудился -
беспокойство гонит меня из постели; не вижу [из-за закрытых век] све-
_ m
Авторское самосознание в письмах пота
тильника, который привык держать по ночам горящим, и
нахожу наощупь, словно в темноте, слугу, спящего поблизости,
чтобы он его возжег. Бывает со мною и так (ну, что ты смеешься):
раскрыв наконец глаза и увидев свет, гашу его, чтобы слуга,
придя и убедившись, что я побеспокоил его зря, про себя не
посмеялся бы над моими нелепыми причудами и не вообразил бы,
я уж не знаю что. Вот каков я; и, хотя достойно сожаления, что
веду себя нелепо, но самой решимости не стыжусь <... > Лучше
уж досыпать по утрам, чем ложиться с вечера..." Для человека
ученого похвальней всего сбережение времени ("in studioso
temporis parcitate"). He более восьми часов на все про все,
кроме занятий. Шесть часов на сон, два на остальное. "Август
спал семь часов <...> но и их не полностью, так как часто сон
перебивали беспокойные мысли". Он же, Петрарка, положил
себе спать не более шести часов.
"Нет для смертных преград", молвит Гораций. И верно: что-
то может оказаться невозможным для вялой души, но для
доблести ничего недоступного нет.
Так начинается "героический энтузиазм" Возрождения.
"...Добавлю, что, ради этого сбережения времени, я вслед за
Августом, пока меня стригут и бреют, имею привычку читать,
или писать, или слушать чтецов, или диктовать писцам; и
даже - не помню, чтоб доводилось прочесть подобное о
ком-либо, - имею обыкновение заниматься тем же самым за ужином и
во время поездок верхом. Ты изумишься, но часто я таким
образом, сидя на коне, одновременно достигал завершения и пути, и
стихотворения. А когда я вдали от человеческих толп, в одном
из моих Геликонов, то, если не отвлекает уважение к гостю,
всегда среди деревенской снеди - перо, и ни одна моя трапеза не
обходится без табличек для заметок (sine pugillaribus tabellis -
т. е. в переводе с античного на современный Петрарке, без
бумаги. - Л. Б.). Часто вскакиваю и посреди ночи, светильник затух,
но прежде всего хватаю калам из-под подушки и, покуда не
утекла мысль, записываю в темноте, а потом, когда рассветет, с
трудом разбираю. Вот мои заботы. Возможно, другим я
покажусь тщеславным; но ты из этой доверительной беседы узнаешь
мою жизнь и душу, поймешь, что я..." и пр. (Fam., XXI, 12).
Поймем и мы. "Так ли в точности было все на деле", как в
этом стилизованном рассказе, впрочем, не лишенном редких
%5 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОЮ ПЕРА
для Петрарки бытовых деталей? - вопрос почти незначимый,
наивный. Возможно, это зарисовки с действительности -
почему бы и нет? - но для историка культуры важней, в конечном
счете, то, что этот человек, размышляющий и сочиняющий
днем и ночью, во время верховой езды, еды, бритья, человек,
даже во сне не расстающийся с пером под подушкой, - именно
таким выглядит в собственных глазах, таким хочет быть и
остаться в памяти человечества. Вот его "философские обыкновения
(philosophicus mos)" (Fam., XXI, 13: 1). Вот как он "учится
умирать (disco mon)" (Farn., XXI, 12: 29), вот его странная ars
moriendi. Исторически важней всего то, что он весь без
остатка - сочинитель. Человек с пером под подушкой.
«Когда начну почивать и медлить, тотчас же и умру. Я сам
знаю свои силы: для иных трудов не гожусь, к этим привычен.
Читать и писать, вот это - мое <...> легок для меня этот труд, в
нем даже сладкое отдохновение... Нет ноши легче, чем перо, нет
приятней <...> мне надлежит изо всех сил стараться, если я
ничто - стать хоть чем-то, если я что-то - стать больше, а если я
велик - что, конечно же, не так, - надо становиться еще более
великим и величайшим... "Я, говорил [император Максимин],
чем более стану велик, тем больше буду работать". Достойные
слова... И, если скоро придет мой конец <...> я хотел бы,
признаться, чтобы смерть застала меня, как говорится, изжившим
жизнь до конца. Но, поскольку я не надеюсь на это, желаю,
чтобы смерть застала меня читающим и пишущим или же, если
будет угодно Христу, слезно молящимся* (Sen., XVII, 2).
* * ·
Эпистола аббату Петру о "неизлечимой болезни
писательства (insanabili scribendi morbo)" начинается в высшей степени
знаменательными пассажами, литературный источник и жизне-
строительный смысл которых уже не составляет для нас
новости и загадки (Farn., XIII, 7; ср. ЭФ, с. 136-141).
"Удивительная, что и говорить, вещь: я жажду писать, а о
чем написать и кому, не знаю; и все же - жестокое
наслаждение! - бумага, перо, чернила и ночные бдения милей для меня,
чем сон и покой. Чего уж более? терзаюсь всегда и тоскую, если
только не пишу. Вот и еще одна перепутанность: устаю от отды-
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
ха, отдыхаю за работой. Душа моя, суровая и скалистая - будто
рожденная, подумаешь ты, из Девкалионовых камней - едва
только погрузится целиком в пергаменные листы, едва утрудит
ими пальцы и глаза, как больше не замечает ни холода, ни
жары <...> когда же по необходимости приходится отвлечься,
сперва начинает изводиться, затем вовсе заболевает от
передышки <...> Что делать, если я не в силах ни перестать писать,
ни вытерпеть отдых? Напишу тебе не для того, чтобы сообщить
нечто значительное, а потому, что у меня нет никого из
близких, кто был бы более, чем ты, охоч до новостей, особенно
касающихся меня, более проницателен в отношении вещей
таинственных, более понятлив в отношении вещей сложных и более
разборчив в отношении вещей невероятных. Итак, ты уже кое-
что узнал о моем состоянии и душевных муках..."
Далеко же ушел Петрарка от мимолетной просьбы
Цицерона к Аттику писать и в том случае, когда писать не о чем: "обо
всем, что взбредет на ум"...
Сенеку это место задело явной нелепостью. Разве ритор не
нуждается прежде всего в подобающем поводе?
Петрарка тоже, конечно, насквозь риторичен, если иметь в
виду речевую технику. Но, не уставая мысленно возвращаться к
контроверзе Сенеки против Цицерона, он придает словам
последнего смысл неожиданный и, более того, принципиальный,
жизнестроительный.
У Цицерона - эмоциональное и практическое замечание,
вызванное заинтересованностью опального деятеля в
непрерывности известий из Рима от доверенного друга. Петрарка же не
друга просит, а сам желает писать, писать, писать... хоть кому-
нибудь и о чем-нибудь. Он объявляет эту жгучую потребность
существом своей натуры, особенностью, выделяющей именно
его, Петрарку. И далее превращает раздумья и рассказы о том,
как именно он сочиняет - или, что то же самое, как он не может
не сочинять, - в предмет сочинительства... Письма Петрарки в
огромной степени сводятся к рефлексии на эти же письма, на
себя как их автора и, наконец, на сочинительство вообще, с
неутомимой разработкой топоса "quietis michi loco fuerit dulci
labor" (Fam., 1,1). To есть: "заменой отдохновению был мне
сладостный труд" (или "трудность", "страда", "страдание": в
полисемии слова labor - такой же, как и в русском языке - и в его
367 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
связке со словом "сладостный" важно расслышать оксюморон,
характерный и для любовной поэзии Петрарки).
Известно, что много позже это завораживающее кружение,
погоня за собственным хвостом, станет для искусства одним из
наиважнейших сюжетов. Ср. с темой "художник в своей
мастерской" или "художник и его модель" в новоевропейской
живописи; или же с разыгрыванием спектакля внутри спектакля
(начиная с "Гамлета"); или с мотивом "снимается кино" в кино.
Понятно, что особенно в лирической поэзии творческий
процесс должен был превратиться в неиссякаемый и
самодовлеющий предмет интереса. Поэт застает себя за работой, в
момент вдохновения, или в его предчувствии, или же когда оно
медлит. Не устает описывать и переживать себя в качестве
поэта. Торжественное публичное обращение к Музе низводится в
субъектную задушевность, в повседневность личного
существования.
Понять этот мнимый нарциссизм несложно. Лирик
стремится уловить мир сквозь "Я" - и "Яи как особый мир. Но
именно состояние авторства оказывается едва ли не особенно
интимным. А вместе с тем и наиболее таинственно всеобщим,
космичным. В акте творчества художник преодолевает отъеди-
ненность Я от мира. Но и в такой же степени ощущает
величайшую реальность, жизненность своей индивидуальной личности.
У этой будущей культурно-психологической установки, у
могучей реки из тысяч стихов, посвященных исключительно
тому, как пишутся стихи, есть исторический родник. Конечно,
вряд ли многие авторы помнят или хотя бы знают о нем. Но -
какая разница? Это эпистолярий Петрарки. Как, впрочем, и его
"Книга песен" (см. далее).
* * *
В подтверждение сказанного о поразившей его "scribendi
cacoethas insanabile, quod ait Satyricus", т. е. "неизлечимой
злокачественной болезни писательства, как сказал Сатирик", -
Петрарка тут же вставляет в письмо к аббату Петру некую
очередную "историю", которая, будучи своего рода поучительным эк-
земплумом к сентенции Ювенала, "ввергнет тебя в еще большее
изумление".
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
Эта fabella простодушна, лукава, прелестна и заслуживает
того, чтобы быть приведенной здесь целиком. Хотя и нет
ручательств в ее полной медицинской биографической точности.
«У меня был друг, с которым меня связывала величайшая
степень самой возвышенной близости.
В то время я погрузился в свою "Африку" - с таким
необычным жаром, каким не сжигает Африку даже Солнце, когда
оно вступает в созвездие Льва. Я принялся за труд, который
уже давно был у меня на руках и который, если есть для меня
какая-то надежда на спасение, один лишь может, думаю, то ли
смягчить, то ли вовсе избавить от жажды, иссушающей грудь.
Этот друг, увидев, как я безмерно надрываюсь над работой,
неожиданно завел со мной разговор и попросил о некой
малости, для него приятной, для меня же пустяшной. Когда я
согласился - не ведая, в чем дело, но будучи не в силах в чем-либо
отказать ему и зная, что всякая его просьба может быть
продиктована лишь истинной дружественностью, - он сказал: "Дай-ка
мне ключи от твоего шкафа". Когда же я, недоумевая, дал их
ему, он тотчас сложил туда все мои книги и письменные
принадлежности, тщательно запер и сказал, уходя: "Назначаю тебе
десять дней вакансий и сим повелеваю, чтобы на протяжении
всего этого времени ты ничего не читал и не писал". Я понял
игру. И остался - для него с виду отдыхающим, а в собственном
ощущении увечным. Что же, по-твоему, произошло дальше?
Тот день тянулся дольше года, я затосковал; на другой день с
утра до вечера болела голова; забрезжил третий день, и я
почувствовал, что подступает лихорадка. Друг пришел, понял, в чем
дело, и вернул ключи; тут я сразу же выздоровел, а он, после
того как увидел, что я, по его выражению, подкрепляюсь работой,
больше не обращался ко мне с такими просьбами».
* * *
Далее Петрарка принимается рассуждать о том, что
"болезнь писательства" не только неизлечима, но и заразна. Этот
ход - насчет "contagiosus morbus" - позволяет ему, как ни
странно, не только и не столько подчеркнуть
распространенность "болезни", сколько еще уверенней и горделивей
присвоить склонность к писательству в качестве прежде всего своей
личной особенности...
W —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
"Как ты думаешь, скольких людей я, тот самый, кто сейчас
беседует с тобой, заразил этой болезнью? у всех нас на памяти,
что пишущие подобным образом (hoc) прежде встречались
редко; теперь же нет никого, кто не писал бы, и редко встречаются
такие, кто пишет в ином роде (aliud) <...> В отношении
современников немалая часть вины, как думает кое-кто, лежит на мне.
Я не раз это слышал от многих; но лишь после случившегося
уразумел, что если и смогу добиться когда-нибудь желанного
излечения от иных душевных болезней - то уж никак не от этой,
тут надежды нет. Это так же верно, как и то, что наконец-то
открылось мне по тысяче признаков и просто-таки сразило: ибо,
когда всего только стараюсь [сочиняя] облегчить свое состояние
(prodesse michi studeo), тем самым временем я незаметно
наношу ущерб и себе, и равным образом многим другим людям".
Затем он рассказывает еще одну байку. < Однажды ко мне
приходит сокрушенный старец, отец семейства, и говорит, чуть
не плача: "Я так всегда чтил твое имя, и вот, посмотри, чем ты
мне отплатил: в тебе причина гибели моего единственного
сына". Я остолбенел и залился краской <...> но затем, придя в
себя, спросил, в чем дело, ведь я, отвечаю, не знаком ни с ним, ни
с его сыном. "Какое имеет значение, - говорит старик, - что ты
его не знаешь? зато он-то тебя знает прекрасно. И вот, в то
время как я, изрядно издержавшись, отдал его обучиться
гражданскому праву, теперь он заявляет, что предпочел бы идти по
твоим стопам. Так я лишился великих надежд, а из него, полагаю,
не выйдет ни юриста, ни поэта"».
("По стопам" Петрарки тут следует разуметь в двойном
значении: ведь когда-то сам Франческо, и тоже по воле своего отца,
отправился в университет учиться праву.)
Тогда ответ старика заставил рассмеяться поэта и тех, кто
присутствовал при разговоре. Сейчас же, продолжает автор
письма "о неизлечимой болезни писательства", он склонен
считать дело нешуточным. «Эта и подобные жалобы не лишены
справедливости. Потому что раньше в таких семьях сыновья
имели обыкновение браться за перо, лишь беспокоясь о пользе
своей и друзей, будь то заботы семейные, либо торговые, либо
речи на шумном форуме; ныне же все мы заняты одним, ныне
поистине, как молвит Флакк [Гораций]: "Мы, умея и не умея
[это делать], все равно сочиняем стихи (Scribimus indocti doc-
tique poemata passim)"».
_ m
Далее Петрарка учиняет нечто вовсе фантастическое.
Из горациевой сентенции, не означающей - как он,
конечно, прекрасно понимает - ровным счетом ничего, кроме того,
что для правильного сочинения стихов необходима ars poetica;
из словечка Ювенала о "scribendi cacoethas"; из камней Девка-
лиона и Пирры, разбрасываемых, как известно, на Парнасе, -
Петрарка сооружает панораму якобы совершенно повального
увлечения сочинением стихов по всей Италии и далее -
"поверит ли кто-либо?" - в самой папской курии, в Галлии и даже в
Греции, Тевтонии, Британии. На его, Петрарки, голову
ежедневно сыплются - не продохнуть! - послания и поэмы "изо
всех уголков этого нашего земного круга".
"Чем, ты думаешь, заняты юристы, чем врачи? Они уже
знать не знают Юстиниана и Эскулапа; они не слышат
клиентов и стонущих больных; ведь их оглушили имена Гомера и
Вергилия, и они под шум Аонийского источника бродят в
лесистых долинах Кирры.
Но что же это я говорю о меньших дивах [если есть и более
поразительные]? Каретники, суконщики, землепашцы,
побросав плуги и другие инструменты своих ремесел, судачат о
Музах и Аполлоне. Невозможно сказать, насколько широко уже
распространилась эта чума, еще недавно поражавшая
немногих".
Причина в том, что поэзия так сладка... это, конечно, по-
прежнему удел лишь избранных душ, она взыскует высокой
отрешенности от всего и невозможна без редкого природного
дарования, ни в одном из искусств обучение не значит так мало,
так что "на многолюдных площадях все поэты, но никого не
увидишь близ Геликона". Но как же велико очарование поэзии,
ежели она увлекает и людей заурядных, и суетных, и алчных,
так что они забывают из-за нее о сделках и деньгах!
Петрарка славит Мантую, Падую, Верону, Виченцу,
Неаполь - разумеется, под их античными названиями. В Италии
сочинительство в новом (т. е. антикизирующем) роде удается
куда лучше, чем "новым стадам стихотворцев", которые широко
разбрелись и в заальпийских странах. Итак, если верить автору,
мир или, во всяком случае, его родина преобразились. "Промеж
371 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
всей тщеты нашего века, промеж столького загубленного
времени, единственное, с чем я могу поздравить свое отечество, так
это <...> с появлением нескольких счастливых молодых
поэтических талантов (если только меня не вводит в заблуждение
любовь [к ним]), которым довелось не напрасно испить от
Кастальского ключа <...> Но именно в связи с этим..."
И тут Петрарка добирается наконец-то до главной сути
письма, в очередной раз затеянного как бы невзначай, как бы
"ни о чем" (вспомним из его начала: "я жажду писать, а о чем
написать и кому, не знаю").
"Но именно в связи с этим (qua in re) душу мою, как уже
сказал, терзает совесть. Ведь по большей части едва
ли не я один (quasi magna parte unus ego) вскормил их
безумства и навредил собственным примером <...> Поделом же
мне, расплачиваюсь за эти свои преступления; вот уже и дома
мне не по себе, и выходить на люди не решаюсь, потому что
теперь со всех сторон на меня сбегаются эти одержимые, они
завладевают мною, расспрашивают, подают советы, спорят,
бранятся, говорят такое, чего никогда не приходилось
выслушивать ни мантуанскому пастуху, ни меонийскому старцу (т. е.
Вергилию и Гомеру. - Л. Б.). Удивляюсь, смеюсь, огорчаюсь,
негодую - а в конце концов и боюсь, как бы за все это не
схватили меня магистраты и не отдали под суд, обвинив в
разложении республики".
Так автор эпистолы ставит себя в средоточие безудержной
риторической гиперболы. Это лично он, Петрарка, заразил всю
Европу сочинительской чумой!
Заметим: фокус вовсе не просто в том, что Петрарка
хвастает или хочет подчеркнуть свою, между прочим, действительную
историческую заслугу. Рассуждение о том, сколь неизлечима
болезнь писательства, не только оказывается от начала до
конца Эго-центричным, сплошь о себе, но и более того: занятие,
которому, по его примеру, ныне предается весь мир, есть не что
иное, как развертка вовне его внутреннего душевного опыта.
Глубоко личные склад ума и способ жить, эта именно ему,
Петрарке, столь выразительно присущая особенность, которую
не сразу сумел оценить даже близкий друг, вздумавший
спрятать от него калам и чернила, - сполна втягивают в себя и
античные реминисценции, и умонастроение века.
_ 372
Авторское самосознание в письмах поэта
Короче, ИЯ" обретает свойство всеобщности.
Личное состояние Петрарки (эта лихорадка, которой он
чуть не заболевает, будучи ненадолго лишен возможности
сочинять) предстает интенсивно переживаемым средоточием,
источником, причиной и бытовой конкретностью высокой болезни
писательства вообще - иначе говоря, состоянием мира!
Таков "семиозис", который позволяет ему превратить мир в
"Я", а "Я" - в мир. Вот почему и вот каким образом чистый
формализм авторства сознается Петраркой в качестве
необыкновенного интимного потрясения.
В этой смысловой точке авторство освобождается от
внешних, дидактических задач. Сам процесс писания - вот что
насущно. Не просто страсть к писательству, а превращение ее в
само-для-себя-содержание. Превращение индивида в целом, в
его телесной, душевной, домашней, публичной сути и любых
подробностях - в своего рода орган всемирного писательства.
Вот почему, чем изощренней стилизация, чем откровенней
и улыбчивей литературная игра Петрарки, тем она серьезней.
* * *
Последний длинный пассаж письма к аббату Петру,
возвращая к его памятному началу, заканчивается словами: < Но что
это меня заносит? только что я говорил, что писать мне
решительно не о чем, но, как видишь, наплел целую эпистолу из
сущих пустяков; говорил, что не знаю, кому бы написать, и вот ты
оказываешься для этих пустяков самым подходящим
читателем. Если спросишь почему, то одну причину я уже высказал
(см. выше: "у меня нет никого из близких, кто был бы более
охоч до новостей, особенно касающихся меня". - Л. £.)»
добавлю теперь другую. И это для того - переходя наконец от шуток
к серьезному, - чтобы ты охотней простил меня, что я,
донимаемый и преследуемый стихами и поэтами со всего мира, не
отвечал до сих пор иначе, чем самим своим поведением, на
отправленные с дороги тобой и нашим общим господином письма, в
которых я усмотрел безусловные признаки его милости и твоей
любви. Я последовал полученным от вас наставлениям и
советам и, так как ваше авторитетное мнение застигло меня
накануне отъезда, - я, доверившись, задержался, томительно выжидал,
зя_
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
сколько мог. Причем, Бог свидетель, вовсе не потому, что был
обнадежен этими письмами <...> я ведь почти ни на что не
надеюсь, и ты знаешь, почему: я почти ничего и не желаю <...> Но
я задержался потому, что рассчитывал еще раз, прежде чем
уеду, взглянуть на почтенное обличье этого прекрасного и
превосходного мужа, не говоря уж о тебе, с которым сейчас
беседую; впоследствии мне доведется, судя по всему, долго и
горестно поститься без этого. Пока я поджидал там, где меня
застали письма, прошло два месяца, и я, истосковавшись в конце
концов в курии, признаться, не выдержал и отступил - но не
далее, чем сюда, где у истока Сорги уединение и благотворная
перемена обстановки исцеляют меня от авиньонских напастей.
Итак, там я нахожусь и сейчас, буду поджидать вас, сколько
придется, - т. е. там, где провел в юности много лет. Не знаю,
каким образом никто вокруг от соприкосновения со мной не
стал поэтом. То ли здешний воздух мало располагает души к
приятию чужестранных впечатлений, то ли укромная и
заслуживающая своего наименования Закрытая Долина не
пропускает посторонних веяний. Правда, одному крестьянину, моему
управляющему, человеку уже немолодому, начинает "сниться
двуглавый Парнас", по слову Персия. Если зараза распространится,
то не миновать того, что пастухи, рыбаки, охотники, пахари и
сами их быки примутся мычать стихами, пережевывать только
стихи. Живи, не забывай обо мне и будь здоров*.
Остается пояснить, что Петрарка, говоря о том, что
послушно задержался на два лишних месяца в Авиньоне, имеет в виду
письма от кардинала Ги де Булонь и аббата Петра.
Возможная дата эпистолы - ноябрь 1352 г.
Таким образом, перечитывая это послание, полное
красочной живости, шутливости, горделивого напора, - несомненно,
из числа наиболее программных в эпистолярии, с точки зрения
петрарковской концепции авторства, - мы заодно получаем
повод в последний раз рассеянно оглянуться на злополучный
авиньонский эпизод, когда у поэта сорвались расчеты
устроиться при курии. И слава Богу. Какая удача для истории!
_ 374
Ум Петрарки
и безумие Дон Кихота
Хотя Петрарка блестяще справился с почти
невероятной задачей и сочинил свою личность, свою подлинную
жизнь - можно сказать, сработал их из чернил, на кончике
пера, - это совершенно не означает, будто подобные усилия были
олимпийски безоблачны. Они не могли быть избавлены от
умственного и психологического риска, от затаенного страшного
напряжения, которое подчас давало знать о себе в невольной
гримасе, мучительной неуклюжести словесного жеста.
Стилизация "Я" доставалась нелегко.
Между прочим, это же относится ко всему последующему
опыту итальянских гуманистов.
Дело в том, что Возрождение - это, как известно, не
обычное традиционалистское подражание авторитетным образцам, а
подражание им с ясным сознанием дистанции и различия.
Великое возвращение - но через голову целого тысячелетия,
поверх "среднего века" (собственно, своего "века"), понятого как
упадок искусств и разрыв времен. С другой стороны, древним
риторам и поэтам осталось неизвестным Откровение, так что
надо было каким-то образом совместить свое христианство - с
их язычеством... Это, хотя и неизбежно придало Возрождению
преимущественно светский характер, зато в отношение к
светскому (античному) "достоинству человека" привнесло некую
сакральную приподнятость.
Короче, впервые дело шло о подражании такой древности,
которая одновременно была как бы и своей, и не своей.
"Своей" - в необычном, сконструированном наново
отношении (а не так, как, скажем, еретики и даже протестанты
возвращались к Евангелию: двигались, не сходя притом с места,
изнутри наличной культуры).
"Не своей" - также в весьма необычном отношении,
поскольку авторитетных и ранее, во все тысячелетие, древних
авторов изымали из рутинного обихода, с тем чтобы тут же
переоткрыть. Вдруг, протерев глаза, их торжественно и дружески
вводили под руки в свой круг опять-таки словно впервые: в ка-
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
честве далеких, непростительно забытых и лишь теперь
"возвращающихся на родину**.
Дело шло не о продолжении, но о благородном
"соревновании" с древними. Их "возрождение** сознательно
предпринималось ради того, чтобы выразить свою modernitas, себя самих.
Imitatio непременно понималась как inventio!
А значит, впервые в мировой истории совершалась именно
стилизация. Причем - в первый и последний раз - в масштабе
всей культурной эпохи, для которой "возрождение" Античности
стало универсальным майевтическим средством.
Поэтому стилизация могла осуществиться лишь в качестве
тотальной (не в пример позднейшим стилизациям, решавшим
частные внутрикультурные, например, всего лишь эстетические
задачи). Гуманисты будут "подражать" ("изобретать"), отнюдь
не ограничиваясь литературой. Они распространят ее топику на
свои застолья, виллы, нравы, переписку и т. д. Они попытаются
стилизовать жизнь, т. е. себя самих.
Иногда это будет приводить к довольно-таки странному
эффекту: на наш вкус, нелепому и комическому.
А как у "первого гуманиста"? Безусловно, тоже.
Менее всего я хотел бы создать впечатление культурного
благополучия Петрарки. Впрочем, "культурное
благополучие" - неуклюжий оксюморон. Такого и не бывает.
Культура (смыслопорождение) трагична по определению.
(Как Мюнхгаузен, если бы он пытался впрямь приподнять себя
за волосы.)
Иное дело, что это далеко не всегда бросается в глаза.
А если мы и замечаем что-то странное, неладное, поначалу
это способно вызвать разве что снисходительную улыбку.
Возражая против разведения в Петрарке по разным углам
"литературы" и "жизни", не соглашаясь ни с теми
исследователями, которые разоблачают в его личных признаниях неправду
(стилизаторский вымысел писательства), ни с теми, кто горячо
и наивно отвергает обвинения против благородного поэта в
"писательстве", - настаивая на том, что совершенно
стилизованный Я-автор в письмах Петрарки все же не менее реален, чем
он сам, и более того, "он сам" (в том числе также и в житейском,
практическом, психологическом плане) это никто иной, как
сочинитель, - приходится все же усматривать некие предельные,
_ 376
Авторское самосознание в письмах поэта
над пропастью, силовые натяжения внутри личного авторского
сознания Петрарки.
Иногда даже кажется, что на грани тихого безумия.
Не в медицинском, конечно, смысле.
* * *
Перед нами два письма к одному адресату - Нерию Моран-
ду из Форли. Оба помечены одним днем, 15 октября 1359 г.
Возможно, первоначально это было даже одно непомерно
длинное письмо, и поэтому Петрарка, редактируя эпистолярий,
разбил его на два (Fam., XXI, 10-11).
Из первого часто цитируют знаменитое: "Ты знаешь давно,
что среди всех писателей каких бы то ни было народов и времен
я - сходясь в этом, как и во многом, с тобой - особенно
дивлюсь и люблю Цицерона. И отнюдь не опасаюсь, что стану
менее христианином, если буду цицеронианцем (Neque enim vere-
ог ne parum cristianus sim, si ciceronianus fuero)".
Далее поэт рассуждает о том, что Цицерон никогда не писал
ничего противного Христу; его нельзя считать неверным, а уж
тем более враждебным христианству. "Христос - наш Бог,
Цицерон же - кесарь нашей речи (nostri ρ г i η с е ρ s eloquii):
различие признаю, противоположность отрицаю". Если бы
Цицерон не умер незадолго до Боговоплощения - о, как нам не
оплакать такого жребия! - он стал бы самым красноречивым
апостолом истинной веры...
Далее Петрарка задается вопросом, почему же Христос не
захотел сделать, чтобы так и произошло? На то Его воля, и о
сем судить не нам; однако же Иисус не искал мирской мудрости
и красноречия. Он убеждал не риторическим искусством, а
"светом нагой истины". Его избранниками становились не
мудрецы, а нищие духом. Он обращал мудрость мира сего - в
"глупость" (т. е. в нищету духа); и он спасал верующих через
глупость... переведем-ка точней, не столь буквально - "через
немудрящую простоту проповеди (per stultitiam predicationis)"! A
иначе то была бы не истина небесная, а всего лишь - "земная
сила слова и человеческое искусство". Ведь "в словесной
мудрости, как говорит Апостол, скрадываются крестные муки
Христа".
377 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Собственно, в этих достаточно рискованных рассуждениях
Петрарка пытается объяснить, почему божественное Евангелие,
с дорогой ему, классической и риторической, точки зрения, -
плохая литература... Или даже антилитература. Почему оно
столь вызывающе не красноречиво, не искусно и не умно - в
том нормативном плане, в каком красноречив, искусен, умен
Цицерон. Почему Вульгата написана на такой латыни, на какой
ни Цицерон, ни сам Петрарка ни за что писать не стали бы.
"Цицерону - цицероново, Богу богово": вот как, собственно,
примиряет Петрарка "terrena vis" ("земную силу" своего
обожаемого ритора) - и религию, которой поэт предан, "nude lumen
veritatis". Между прочим, формула, согласно которой
Цицерон - царь человеческого духа, "принцепс", объясняет один из
упорных лейтмотивов самооценки Петрарки, столь любившего
уподоблять себя Августу.
Исследователи идей Петрарки, разумеется, очень много
занимались всем этим. Нас же сейчас интересует нечто совсем
другое. Рассуждениям о Цицероне и Христе отдана половина
первого письма к Нерию из Форли, которая подготавливает
следующую и основную его часть: историю в причудливом,
мягко говоря, роде. С очередной fabula, о коей Петрарка здесь
поведал, связана объявленная тема письма: поздравление Нерия с
выздоровлением и, "сверх того, подробно насчет
[приключившегося] с ним (Петраркой) некоего случая,
характерного для него и злосчастного (multa insuper de acerrimo et
proprio quodam casu suo)w.
И вот каков этот "случай".
«Послушай же, как этот муж, о котором я вел речь, столь
любимый и столь почитаемый мною с юности, - каким образом
Цицерон посмеялся надо мной (или: позабавился на мой счет,
mecum luserit). Есть у меня увесистый том его писем, которые я
в свое время переписал собственноручно, поскольку экземпляр
был слишком труден для переписчиков (ср.: Fam., XVIII, 12). Я
занимался этим тогда не на пользу здоровью, однако телесный
недуг и утомительность работы были превозможены великой
любовью, и наслаждением, и желанием иметь эту книгу у себя.
Чтобы она всегда была у меня под рукой, я обычно - ты это
видел сам - ставил ее у входа в библиотеку, прислонив к
дверному косяку. Я очень часто вхожу сюда, задумавшись о чем-то, и
_ 37S
Авторское самосознание в письмах поэта
случилось так, что полой тоги нечаянно задел означенную
книгу; она упала и слегка зашибла мне левую голень, чуть повыше
лодыжки. Подымаю ееишутливо говорю: "В чем дело, мой
Цицерон, почему ты меня бьешь?** Он молчит, но на
следующий же день, когда я снова вхожу в библиотеку, ударяет опять,
а я опять возвращаю его на место и с той же шуткой. Ну,
что тебе сказать! - он ранил меня еще и еще, словно бы негодуя,
что помещен приземленно, и я водрузил его повыше; но из-за
повторяющихся ударов по одному и тому же месту кожа
оказалась содранной, образовалась заметная язва; я, впрочем, не
обращал на это внимания, более помышляя не о самом этом деле,
а о том, кто был его виновником; итак, я не стал ни
воздерживаться от купаний, ни сокращать верховую езду или пешие
прогулки. Ты ждешь развязки? Постепенно рана распухла, будто
обиженная моим небрежением, затем вокруг нее все приобрело
невообразимый цвет, распухло и налилось гноем. Боль была
такая, что тут уж какие шутки, я потерял покой и сон,
поэтому пренебрегать этим далее было бы не силой духа, а
слабоумием; мне поневоле пришлось позвать врачей, которые много
дней хлопочут над раной, которую более не сочтешь
з а б а в н о й ; это не лишено мучительности для меня и, как они
считают, опасности для пораженной ноги. Впрочем, ты знаешь,
сколько веры я придаю их прогнозам, как неблагоприятным,
так и положительным; однако меня донимают частыми
припарками, я лишен обычной пищи и вынужден соблюдать
непривычный покой для тела..>
Похоже, Петрарка все это не выдумал. Слишком уж густые
подробности. Но в эпистолярий сей "случай** включен -
разумеется, как и все остальные - неспроста. Именно для него,
Петрарки, "характерный** ("proprius**). И поэт старается выжать из
него все, что только можно.
"Что произошло** и "чему следовало произойти** так удачно
тут заходят паз в паз!
Действительно ли Петрарка "шутит**, рассказывая о том, как
Цицеронов эпистолярий (да нет же! - сам Цицерон) ударял его
и как он вопрошал Цицерона: "За что**? В общем, конечно,
шутит. Но как натужно! Петрарка вновь и вновь твердит: "iocans",
"cum iocis**... а затем: "non iocos tantum", "non amplius ludicro vul-
neri".
379 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
"Шучу, шучу" - так приговаривают, когда не очень-то
шутят. Он, кажется, доволен, что, по крайней мере, рана оказалась
нешуточной. Иначе "случай" потерял бы многозначительность.
* * *
Это еще не все. Далее Петрарка пускается в ученые
рассуждения относительно того, имеют ли свою судьбу отдельные
члены тела и почему пострадала именно голень... Изволите ли
видеть, слуга, ходящий за хворающим Петраркой, "имеет
обыкновение то и дело называть в шутку [голень] флейтой судьбы
(fortunarum tibiam)". Вот так слуга! - знающий, словно
прирожденный римлянин, омоним tibia.
Гм, а почему именно левая голень? С ней у Франческо
были, впрочем, всякие неприятности с детства. Для простонародья
левое - знак дурного и зловещего.
Но у "греков и нас" (из контекста "мы" - это римляне!)
при гадании по внутренностям птиц левое как раз к счастью,
ибо то, что для нас слева, то - для богов справа. И у поэта
Стация: "гром громыхает слева" - это расценено как доброе
предзнаменование. "В этом моем случае, о котором я говорю более,
чем того требует дело", т. е. в случае с петрарковой голенью,
античная тождественность удачного и левого превосходно
подтверждается. Поэт, похоже, в полном восторге от своей раны.
"Так возлюбленный мой Цицерон, который ранил мне некогда
сердце, - теперь ранил голень".
Но и это еще не все. Следующее письмо к Нерию
начинается со слов: "Ты прочел уже достаточно о мельчайших
подробностях моей жизни; достаточно пространной
была история о Цицероновой ране (ciceroniani vul-
neris... historia). Но дабы ты не думал, будто только Цицерона
обожают неизвестные ему люди, выслушай-ка еще одну
историю. Ты, правда, уже давно знаком с нею, но пусть она заново
наполнит восхищением душу".
О второй "истории" речь у нас еще впереди. А пока
отметим, что для Петрарки первая "история", следовательно, тесно
связана со второй, призвана подготовить следующий рассказ и
перетекает в него. Тем самым подтверждается - если тут
вообще могли возникнуть хоть какие-то сомнения - высокая значи-
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
тельность и торжественность истории с нагноением голени:
"animum admiratione perfundat"! Носитель замечательной "Ци-
цероновой раны" окончательно принимает под врачебными
припарками позу триумфатора.
Ушибленный античностью поэт положительно счастлив.
Словно ему недоставало только этого прямого физического
контакта с нею. Какое трогательное и жалкое желание!
Так и Дон Кихот в эпизоде с самобичеванием во славу
Дульцинеи Тобозской будет добиваться подлинности - через боль -
своего воображаемого, книжного существования! Цицерон для
влюбленного Петрарки - в этом смысле, его Дульцинея-
Огромный том Цицероновых писем, в подражание которым
Петрарка полжизни шлифовал собственный эпистолярий,
оказывается замещением живого Цицерона. Великий ритор, можно
бы сказать, воочию появляется в библиотеке. И вот какую
шуточку он отмачивает.
Эта рана - да ей цены нет! Это знак избранничества. Это
ренессансный стигмат Петрарки...
Психоаналитик, наверно, счел бы "случай" сном наяву. Без
труда усмотрел бы в нем не соматическую, а психическую
травму. И был бы, пожалуй, на этот раз некоторым образом прав.
Культурный невроз Петрарки не случаен. Это плата за
почти чудовищное, неслыханное усилие: вообразить себя почти
буквально другом античных "авторов", перенестись мысленно
туда, к ним. И более того - превратив писательский кабинет и
библиотеку в продолжение античного пространства,
одновременно превратить свою жизнь в продолжение библиотеки.
"Флейта судьбы"? Как тяжело шутит, как варварски, однако
же, вдруг глядится наш утонченный поэт.
Разве мог бы подобным неуклюжим образом вести себя сам
его возлюбленный Цицерон? - например, с эллинами, у
которых столь охотно научался. Но Цицерон не стоял перед такого
рода непосредственной беспрецедентной задачей: придумать
свою культуру и заодно себя.
Через окно петрарковского фаблио, неуклюжего и
грубоватого (хотя и в новом, эрудитском вкусе), густым дымом валит и
щиплет глаза изгнанное в дверь Средневековье.
381 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
* * *
Живет в Бергамо, - рассказывает вслед за тем Петрарка, -
"мой преданнейший друг и удивительный человек", золотых
дел мастер Энрико Капра. (Конечно, поэт не в силах не
обыграть тут же фамилию "Сарга" - "коза" - и не щегольнуть
цитатой из Варрона.) Почтенный горожанин, Энрико преуспел в
своем ремесле, "к словесности только тянется, но ума он
острого, жаль, что в свое время не получил образования". "И вот этот
уже немолодой человек, услышав однажды мое имя и
привлеченный его славой, тотчас же загорелся неудержимым
желанием свести со мною дружбу. Слишком долго было бы
рассказывать, какими средствами ему удалось достичь своего
смиреннейшего упования, сколько ему понадобилось преданности и
благородных обольщений, чтобы снискать расположение мое и
всех моих друзей; и как он, живя далеко, стал мне по-свойски и
горячо близок (familiariter atque ardenter). И, хотя я никогда его
не видел в лицо, но уже знал его имя и душевные склонности
<...> Что же ты думаешь? - неужто я захотел бы отказать ему в
том, в чем не отказал бы никакой варвар, никакое дикое
животное? Покоренный приманками верной и неизменной
услужливости, я полностью расположился к нему..."
Тот, придя от благоволения прирученного Петрарки в
неописуемую радость, "внезапно превратился в совершенно
другого человека (totus in virum alterum repente converti)". Бергам-
ский ювелир "не поколебался истратить в мою честь
первейшую часть состояния, развесив по всем углам своего дома знак,
имя, изображение нового друга"; другую же часть состояния он
пустил на переписку сочинений Петрарки мв каком бы то ни
было стиле", и покоренный его энтузиазмом поэт стал охотно
посылать ему сочинения, в чем подчас отказывал людям более
именитым.
Энрико кончил тем, что мало-помалу забросил свое
ремесло, сменил заботу о семейных делах на "literarum Studium". Я не
знаю, замечает Петрарка, каковы его успехи в столь позднем
учении, но он был достоин их уже по жаркому усердию.
Поведение и привычки ювелира стали совсем другими, и он "почти
во всем, чем был раньше, столь переменился, что это всех
изумляло и поражало". В конце концов, разве зрелый возраст поме-
_ №
Авторское самосознание в письмах поэта
шал Платону заняться философией и разве Катон не взялся за
греческий в старости?..
"Может быть, точно так же и этот мой [бергамец] окажется
достоин быть упомянутым в каком-либо из моих сочинений", -
с важностью замечает Петрарка.
С одной стороны, все это, если угодно, достаточно серьезно,
поскольку предвещает ренессансную уверенность в
"героических" возможностях человека возвыситься и перемениться,
исключительно благодаря собственным личным усилиям.
Эпистола выстраивает, в сущности, некую наивную параллель
высокому автодидактизму, активному стилизаторскому началу в
жизни самого поэта.
С другой же стороны: "история" Энрико невольно набухает
комикой. Нельзя, конечно, не вспомнить по этому поводу
известную новеллу Франко Саккетти (написанную в те же годы)
о богатом римском ремесленнике-книгочее, слегка
свихнувшемся на Тите Ливии и древнем Риме43. Или первую главу "Дон
Кихота"? - в которой "вышеупомянутый идальго <...> почти
совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и так
далеко зашли его любознательность и помешательство на этих
книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин
пахотной земли..."
Но все рассказанное Петраркой об Энрико Капра еще куда
ни шло - если бы не заключительная, важнейшая часть
эпистолы. Именно ради нее Петрарка завел речь и к ней он переходит,
молвив: "Все это тебе давно отлично известно, но надобно,
чтобы рассказанное стало известно и другим. А вот продолжения
ты и сам не знаешь".
Петрарка рассказывает следующее. "Этот человек, который
таким был по отношению к себе и ко мне, уже давно стал
просить и домогаться, чтобы я удостоил посещением и его, и
домашний очаг его, всего только на один день, дабы, как он сам
выражался, сделать его счастливым и навек знаменитым. Я не
без труда годами оттягивал исполнение желания этого
человека..."
Но вот однажды, оказавшись сравнительно неподалеку,
поэт решил уступить "заклинаниям и слезам" почитателя. Хотя
друзья из числа людей более высокого положения и считали
"недостойным" для Петрарки такое "смирение".
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
"Humilitas"?.. попутно едва ли не просвечивает - невольная
и неизбежная - евангельская реминисценция о посещении
Христом домов простых людей: Петра в Капернауме, Симона в
Вифании, мытаря Левия или Марфы и Марии. "В какой бы
город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем
достоин <...> И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него..."
(Мф., 10. 11-13).
Далее Петрарка разворачивает беспримерную сцену въезда
царя поэтов в город Бергамо и ночевки в жилище одного из
малых сих. Автор считает необходимым указать историческую
дату сего: "Veni ergo Pergamum III Idus Octobris ad vesperam".
Тоном Цезаря: "Итак, я прибыл в Бергамо в третьи Иды октября,
на закате". Хозяин и его приятели встретили поэта за
пределами городских стен. Они сопровождали его, развлекая
разговорами, а притом трепеща, как бы поэт не передумал. Среди
толпы был и кое-кто из нобилей, заинтригованных прозелитским
пылом Энрико.
В самом городе Петрарку радостно приветствовали другие
друзья. Навстречу ему вышли правитель провинции,
военачальник, именитые горожане; его зазывали во дворец
городского совета и в самые богатые дома. Опять бедняга Энрико очень
боялся, не отклонился бы Петрарка от намеченного.
"Но я поступил так, как считал достойным для себя, и
остановился (буквально: descendi, снизошел) со спутниками в доме
более скромного друга. Там все было подготовлено
великолепно; ужин не как у ремесленника, даже не как у философа, но -
царский; золоченая опочивальня, пурпурное ложе, на котором
никто другой еще не возлежал и впредь возлежать не будет, в
чем хозяин поклялся свято; обилие книг, достойное не того, чьи
занятия связаны с механическим искусством, а человека
ученого и превеликого любителя словесности. Я провел там ночь. И
никогда, думаю, ни для одного хозяина ночлег гостя не был
более радостным. Он был от радости просто вне себя, так что
стали даже бояться, чтоб он вдруг не захворал, или не сошел с ума,
или - такие случаи нередко бывали в старину - и вовсе не
помер. А на следующий день я отбыл, спасаясь от почестей и
стечения людей; сам правитель и множество других провожали
меня на большее расстояние, чем хотелось бы; и, чуть не силой
вырвавшись вечером из объятий дражайшего хозяина, я к еле-
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
дующей ночи вернулся в свою сельщину. Я не хотел, мой Не-
рий, чтоб все сие осталось неведомым тебе, но вот теперь ты
знаешь. На этом ночной эпистоле приходит конец; ибо ведь я,
поглощенный написанием ее, досиделся почти до рассвета, и
вот самая сонливая часть ночи склоняет меня, утомленного, к
отдыху на заре".
В subscriptio значится: "Писано деревенским (т. е.
"безыскусным". - Л. Б.) пером, Октябрьские Иды, перед рассветом".
* * *
К этому, право, как-то трудно подобраться с разумным и
взвешенным истолкованием.
Когда Петрарка был помоложе, 1 сентября 1340 г. он
отправил кардиналу Джованни Колонна эпистолу, содержавшую
"удивительную, но краткую историю" (Fam., IV, 4). Он
рассказывал, как - будто бы в один и тот же день - к нему доставили
послание от римского Сената, усиленно упрашивавшего поэта
принять венчание лавром на Капитолии; и таковое же
приглашение, с не менее серьезными доводами, прибыло от Роберто
деи Барди, канцлера Сорбонны, с просьбой о короновании в
Париже. Петрарка восклицал, что колеблется на распутье, не
зная, обратиться ли ему "на восток" или "на запад". "Почему бы
мне не считать это для себя столь же почетным, как некогда
случилось с могущественнейшим царем Африки Сифаксом,
которого одновременно склоняли к дружбе два величайших
города мира, Рим и Карфаген? Разумеется, те воздавали должное
его царству и богатствам, в моем же случае - только мне
самому (hoc michi); его - посланцы увидели гордо восседающим на
троне, среди золота и драгоценностей, в окружении стражи; а
меня - утром нашли одиноко бродящим по лесу, вечером же
прогуливающимся по лугам у берегов Сорги".
Р.И. Хлодовский пишет: "Впоследствии такой тонко
чувствующий поэзию ученый, как Аттилио Момильяно, ужаснется
нехристианскому тщеславию Петрарки, якобы проявившемуся
в этом сравнении, и сердито упрекнет его за ходульность и
театральность. Однако он вряд ли окажется прав. В 40-е годы XIV
столетия античные образы еще не выродились в манерную
риторичность. Патетика Петрарки была полемически задорна, ис-
13 - 345
3S5 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
кренне и по-настоящему поэтична. Ее порождал радостный
пафос открытия нового мира <...> Петрарка, конечно, понимал,
что, бурно радуясь обещанным ему лаврам, он* отходит от
принципов современной ему религиозно-аскетической морали.
Однако это мало его смущало. Он чувствовал, что на его стороне
время"44.
В искренности патетичного петраркового самовосхваления,
действительно, не усомнишься. Как и в том, что он был бы не в
силах обойтись по любому и особенно этому поводу без
античных литературных декораций. Но возразить M ом ил ья но насчет
нелепостей тщеславия и ходульности все же не так-то легко.
Петрарке уже 55 лет. Его зазывают не сенат или
университет, не Рим и Париж, не "два величайших города мира", а
простодушный провинциальный обожатель, безвестный
ремесленник, который превратил, если верить поэту, свой дом в нечто
вроде молельни в честь Петрарки. Автор на этот раз не
прибегает всего лишь к пышному риторическому сравнению, а
торопится поведать urbi et orbi конкретный эпизод из своей
биографии. И что же? - он разукрашивает его таким пышным
колоритом, что царя Сифакса можно бы считать окончательно
посрамленным.
Попробуем представить себе все это в деталях, на которых
особенно настаивает рассказчик. Зажиточный золотых дел
мастер был в состоянии предложить Петрарке, очевидно, недурное
ложе. Но почему спальня видится как "золоченая", ложе - как
"царское", притом изготовленное, как божится хозяин, для
одноразового использования августейшим гостем...
Кто же в этой "истории" - неважно, надлежит понимать ее
буквально или с поэтическим допуском, - явно не в себе? Эн-
рико Капра или прежде всего он сам, Франческо Петрарка?
Мне лично недостает тут для полноты картины служанки
Мариторнес и, конечно, Санчо. Вспоминается прибытие Дон
Кихота на постоялый двор, хозяин которого оказался тоже
записным книгочеем, любителем рыцарских романов из заветного
"старого сундучка, застегнутого на цепочку" ("слушать про это
я готов день и ночь" - "Дон Кихот", часть I, гл. XXXII). Внимая
восторженным речам трактирщика о доне Сиронхиле
Фракийском, Доротея роняет: "Еще немного - и наш хозяин станет
вторым Дон Кихотом". Собственно, Санчо, оставивший ради
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
книжных фантазий семью и "обычные свои занятия", тоже едва
ли не находится в отдаленном родстве с ремесленником из Бер-
гамо.
Хозяйка постоялого двора обещает славному идальго
"приготовить царское ложе". Ночью (как все помнят), пока
собравшиеся с величайшим вниманием выслушивали бесконечную
вставную повесть "о безрассудно-любопытном", Дон Кихот
принял бурдюки с вином за великанов. Тут мое сравнение
начинает хромать слишком уж сильно, его пора отбросить.
Петрарка вообразил великаном словесности самого себя.
Тут он, разумеется, близок к истине.
Да, но не забудем еще и о "флейте судьбы"... Предыдущая
история "Цицероновой раны" в паре с этой новой все-таки
наводит на ум Рыцаря Львов. Дон Кихота также с огромным
почетом принимал настоящий герцог. А Санчо был губернатором
острова. Сам восседал натуральным Сифаксом.
• * *
Говоря же серьезно, эпистолу о ночлеге, коим поэт удостоил
ювелира, невозможно переварить, оставаясь в рамках обычного
психологического или идеологического подхода. Петрарка ведь
не был напыщенным и глуповатым человеком, начисто
лишенным чувства юмора. И письмо сие, с другой стороны, не было
чем-то вроде того благородного сдвига по фазе, который, судя
по описанию поэта, произошел с бергамским горожанином.
Однако возникает впечатление, что желание привести
реальную повседневность существования своего "Я",
"мельчайшие подробности жизни, rerum mearum minutias", в
необходимое соответствие с величавыми образами литературной
рефлексии - и с ее, т. е. личной жизни, общей "сочинительской",
авторской концепцией - вызывало у Петрарки сильнейшее
напряжение совершенно особого, культурного и жизнестроитель-
ного порядка.
Письма к Нерию едва ли не уникальны по степени явленно-
сти этого напряжения. Отсюда несколько лихорадочная и
смешная, на первый взгляд, напыщенность, странная ослабленность
самоконтроля, топорность похвальбы. Куда только деваются
стилистический такт, способность Петрарки слышать себя?
13·
387 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
На деле, так вдруг выплескивается ситуация, скорее,
драматическая. В конце концов, мы уже не раз слышали от поэта те
же, разве что более приглушенные, ноты - например, когда
Петрарка рассуждал, что это "он один" заразил всю Италию и
Европу болезнью сочинительства. И рассказывал, как некий
старец прилюдно упрекнул его в том, что Петрарка повинен в
"гибели" его сына, забросившего юриспруденцию ради
словесности - точно так же, как Капра забросил ювелирное ремесло.
Или припомним еще одну эпистолу (Франческо Бруни от
28 мая 1362: ЭФ, с. 268-271; по базельскому изданию 1581 г.
это Sen., I, 5). "Думал сдержать перо, но несусь куда-то и <...>
не могу успокоиться, не вставить в это письмо одну довольно-
таки длинную историю (longuisculam historiam)". Она - о том,
как чтил Петрарку кондотьер Пандольфо, который нанял
живописца и послал его в далекий край к Петрарке, с которым еще
не был знаком, дабы ему "за немалые деньги" был сделан и
доставлен портрет поэта. А спустя долгое время Пандольфо,
прибыв по срочным делам в Милан, "все-таки не нашел себе дела
первоочередней и важней, чем взглянуть на человека, чье
изображение уже видел <...> сколько раз и как запросто (familiari-
ter) приходил ко мне знаменитый человек и полководец <...>
ему было приятней увидеть меня среди книг, как он говорил,
словно на собственном троне (sede velut in propria)".
Помимо вновь и вновь возникающего мотива
царственности поэта, занятно также, что еще одна "довольно-таки длинная
история" в хорошо знакомом нам самохвальном роде вставлена
в письмо, озаглавленное: "против непомерно высокой оценки со
стороны друзей".
Поэт укоряет Ф. Бруни за то, что тот из любви к нему,
Петрарке, превозносит его "выше людей, которыми, дай Бог, чтоб я
был хотя бы достоин восхищаться", и "украшает славными
титулами, выше величайших". "Ты меня Оратором, ты меня
Историком, ты меня Философом, ты меня Поэтом, ты меня даже
Теологом делаешь <...> Я далек от того, как ты меня
оцениваешь - и по сути, и в собственных глазах. Во мне нет ничего из
того, что ты мне приписываешь. Так что же я такое? Школяр, и
даже не школяр, а одинокий лесной житель (sylvicola, soliva-
gus), привыкший выкрикивать уж не знаю какую ерунду и -
что уже верх самонадеянности и дерзости - под недосягаемым
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
лавром берущийся за непрочное перо. И работа кипит, не
столько обогащая словесность, сколько счастливо услаждая
занятиями ею".
"Я добросовестно сказал, что я такое и чем не являюсь, ты
же насчет этого верь мне больше, чем кому бы то ни было:
никто не знает меня глубже, и, как бы я ни любил себя, все-таки
еще и люблю истину, в этой части известную мне настолько,
что..." и т. д. и т. п.
Как вам понравится эта игра в скромность, это напыщенное
глаголание, этот маскарад?..
Но ведь как раз они свидетельствуют, что Петрарка в
подобных пассажах не притворствует, как и не хвастает. То и
другое случается в бытовом обиходе, на сугубо психологическом
уровне, но здесь - риторический обиход и эрудитский топос-
ный уровень. Эта игра, как всякая игра, рассчитана лишь на тех,
кто знаком с ее правилами. Литературная игра делает
скромность не напускной, а условной. Изобличать Петрарку в
лицемерии поэтому слишком нелепо... Он не мог бы предположить,
что кому-либо придет в голову воспринимать все эти
классические общие места напрямую, буквально. Он был вправе
рассчитывать на понимание. Аркадийские топосы - его поэтические
регалии, знаки ритуального величания. Не больше... но и никак
не меньше.
Поэт с "деревенским пером" - кто же он, если не
бесхитростный певец, оглашающий леса звуками непритязательных
песен? Маска не обман, это, изъясняясь семиотически,
"означающее". Буколические топосы ставят автора вровень с Вергилием,
Горацием и другими. Он абсолютно искренен. Он ничуть не
скромничает. Напротив...
А попробуй только задеть Петрарку действительно
нелестными замечаниями - в какую ярость он мгновенно приходит!
(см., например, Sen., II, 1).
Необходимо, однако, и в этом случае помнить: Петрарка
исторически просто был вынужден постоянно сохранять некую
античную "царскую" - литературную, но ведь и не только
литературную - осанку.
Если бы Петрарка был действительно "индивидуалистом",
если бы мы были вправе говорить о существовании в XIV в. (да
и позже, в "полном", Высоком Ренессансе, "il pieno
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Rinascimento") идеи "индивидуальности0, как она
проклюнулась у Монтеня и вызрела лишь к последней трети XVIII в., -
не понадобилось бы этой осанки, донкихотских выходок, не
было бы помянутой исторической принудительности. Но наш
поэт был, так сказать, ренессансным протоиндивидуалистом в
первом поколении.
Поэтому Петрарка не мог не драпироваться в "тогу", рядом
с томом Цицерона. Применительно к "мельчайшим
подробностям0 существования, в затейливых "фабулах0 из будней поэта,
эта ситуация in statu nascendi порой могла оборачиваться... как
бы легкой сумасшедшинкой.
Вот мы ныне и улыбаемся - не без некоторой
растерянности и замешательства.
* * *
Культурный запрос был настолько нов и грандиозен, от
него в такой решающей степени зависели самосознание, труд,
существенность "Я", словом, вся жизнь, - что "тщеславие0
оказывается мелкой, негодной, бессодержательной меркой для
исчисления этого бытия поэта и человека на последнем пределе
интеллектуально и экзистенциально возможного, вообразимого.
Цель - подчас донельзя рискованная, на грани вкуса и
правдивости - "серьезной игры" (ludum serium) Петрарки
состояла в том, чтобы выработать образ себя. В постоянном
мысленном соперничестве с Цицероном или Вергилием. Дело,
повторим, не в вульгарном тщеславии. Даже тщеславие может
иметь культурную значительность, трагедийную подоплеку.
Петрарке приходилось обосновывать правомочность личного
самоутверждения - это и есть безусловная истина его "Я".
Необходимо было постоянно подбрасывать письма в тот
камин, который он поминает в послании "моему Сократу0.
Поддерживать огненное ощущение своего уникального авторства.
Одно лишь это могло сделать жизнь Петрарки наполненной и
его самого чем-то реальным в собственных глазах.
Он страстно протестует против переданного ему
отнесшимся к этому серьезно и несколько напуганным Боккаччо
наставления, сделанного перед смертью неким монахом-визионером
Пьетро из Сьены: что надлежит им обоим, т. е. и самому Бок-
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
каччо, и Петрарке, ради спасения души оставить литературные
занятия... Вергилием был дан другой совет относительно долга
добродетели ввиду недолговечности человеческого срока - но
"он дан поэтом, а тебе ведь запрещено все поэтическое",
саркастически замечает Петрарка.
Ладно, он, Петрарка, уважает пророчествующих во Христе,
хотя надо бы еще удостовериться, что Христос на стороне
вещавшего. Ладно, добро бы угрозы усопшего монаха были
обращены к неграмотным старикам. Тогда можно было бы сказать:
"Ты стареешь, смерть уже недалече, так возделывай же то, чем
жива душа, не ко времени и горек вкус писательского дела для
стариков, если оно для них ново и непривычно, и лишь для тех,
кто с ним состарился, нет ничего слаже (age res animae...
amammque negotium I i t e г а г u m, si novum atque insolitum
proponatur, sin una senuerint, nil dulcius)". "Ни зов добродетели,
ни помышления о близкой смерти не должны удерживать нас
от занятий словесностью (ab uteris deterrendi). Ибо если эти
занятия заронены в благую душу, то они и пробуждают в ней
любовь к добродетели, и удаляют или смягчают страх смерти"
(ЭФ, с. 263; по базельскому изданию: Sen., 1,4).
В другом письме к Боккаччо, в который уж раз неистово
защищая от недоброжелателей свой "стиль", Петрарка с
удовольствием вспоминал о неаполитанце Барбато да Сульмоне. "Муж
ненасытнейший ко всякой словесности, особенно же
исходившей из-под моего пера, он не требовал от моих сочинений ни
значительности содержания, ни благозвучия слов, ни чего-либо
еще, кроме одного: чтобы они были подписаны мною (aliud nisi
an mee sint). Но даже и этого ему не требовалось, потому что он
умел превосходно распознавать их нюхом на расстоянии" (Sen.,
II, 1).
Авторство было для Петрарки универсальной (не
литературной, а литературно-жизненной) проблемой. Иначе говоря:
проблемой наличного самоощущения. Следовательно,
принципиально не разрешимой раз и навсегда, а лишь каждодневно и
еженощно решаемой. С ней приходилось сталкиваться из
эпистолы в эпистолу. Вновь и вновь подтверждать свои особые
личные права, скрепляя их гербовыми печатями цитат и
реминисценций, свидетельствами жизненных "историй",
демонстративностью неких авторских поступков.
391 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Приору монастыря св. Апостолов Франческо Нери он
пишет из Воклюза в 1352 г., что "люди больше заботятся о стиле,
чем о жизни", а вот для него, Петрарки, это одна и та же забота.
"О, если бы ты знал, каким я сейчас охвачен порывом, каким
жаром говорения (dicendi calor) горю, чтоб рассудить об этом
обстоятельно и полно. Но это все вещи, гораздо более
обширные и туманные, чем могло бы охватить в данный момент мое
перо, да и на основании твоего шутливого и краткого письма я
нагородил уже достаточно". В заключение же: Нери выразил
желание значиться среди учеников Петрарки - а тот отвечает
торжественным дарованием старому корреспонденту
"соучастия не только во всех моих трудах и помышлениях, отчизне и
имени, но и в моей славе, если она у меня есть" (Fam., XVI, 14).
Генуэзскому архидьякону Гвидо Сетте, "гордящемуся тем,
что я включил твое имя в свои письма (nomen tuum in epystolis
meis poni)", Петрарка ответствует: "дело не в моих заслугах, а в
твоей снисходительности ко мне, также и не в том, что мое
суждение столь уж авторитетно (me ingeniosum arbitror), a в том,
что ты дружествен ко мне". Ведь нам любезней портрет
некрасивого друга, чем красивого врага, в этом исходят не из сути
дела, но из собственного чувства (ссылка на Сенеку). "Ищут не
более прекрасного, а своего" (ссылка на Вергилия). "Вот и ты,
значит, больше хочешь, чтобы твое имя значилось в сочинениях
друзей, чем людей ученых".
Далее следует, однако, еще одна - на первый взгляд,
довольно неожиданная после предыдущих заходов - цитата из
Вергилия: царь Эвандр приглашает Энея в свой "скромный
дворец": Сюда, говорит, приходил победитель блестящий, Алкей, /
Был он гостем этого царства. То есть, поясняет Петрарка: "Он
как бы хочет этим сказать: "Не пренебрегай моей скудостью и
не презирай кров, который был удостоен
посещением Геркулеса". Я подтверждаю то же самое,
когда обращаюсь к тебе и ко всем другим друзьям, чьи имена
вставляю в свои писания. Стерпите, прошу вас, и не
погнушайтесь, если это место, куда я помещаю вас, не соответствует
вашей славе, если мои грубые и неприглядные речи пугают ваши
уши и глаза; никто не сомневается, что вы заслуживаете
лучшего приюта, что мои способности - не по вашим заслугам.
Однако я помещаю вас не туда, куда следовало бы, а туда, куда в си-
_ m
Авторское самосознание в письмах поэта
лах; необъятна любовь, но тесно жилище; если бы я был
Цицероном, поместил бы вас в Цицероновы
письма, ныне помещаю в свои; в другие не могу,
если бы и захотел; впрочем, знаю, что для вас не сиятельность
хозяина важна, а его дружба. Однако, дабы возместить темноту
жилища блеском сотоварищей, помещаю вас туда же, куда и
вождей, куда королей, куда цезарей, куда понтификов и, наконец, -
это, по-моему, выше - куда я поместил философов и поэтов, а
также - и это превыше всего - добрых мужей" (Fam., XIX, 8).
Но выше наивысшего, конечно, оказывается сам "хозяин", у
которого все они, начиная с Геркулеса, в гостях - автор,
который выступает в качестве организатора этой вселенской
встречи и подлинного демиурга этого мира. Включение имен
корреспондентов в эпистолярий Петрарки - обдуманный акт их
приобщения к величию и славе.
* * *
Он такой царственный, такой, вроде бы, самоуверенный.
Наставляет монархов и князей церкви, поучает
корреспондентов по всей Европе, но...
Боже мой, какой же он при этом уязвимый, какой...
стеклянный! - достаточно бросить в него камень, чтобы этот мир
разлетелся вдребезги. Достаточно просто не принять условия
его игры - и все, Петрарки нет. Не так уж это весело.
"Если бы я был Цицероном../'!
Тут мне становится стыдно отпущенных ранее острот.
Ибо невещественную реальность своего избранничества и
вненормативный солидный личный статус Петрарка создает из
воздуха, почти из ничего. Он ведь не из писателей, которые
живут в мире, где уже заготовлено место для таких писателей -
так что остается добиться успеха в своем личном случае.
Петрарка, напротив, впервые домогается от мира признания для
автора как такового, как человека с исключительно писательским
способом жизни и мирочувствия. Отсюда и его невероятно
болезненная реакция на любую критику.
Он действительно иногда актерствовал без меры, почти
нестерпимо для нашего слуха, исступленно. Входил в роль
Автора - "до гибели всерьез0.
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Конечно, почва была отчасти подготовлена. Неслучайно у
него сразу же появилось столько почитателей, друзей,
единомышленников. Кардиналы и монархи, флорентийские
республиканцы и тираны Северной Италии, книжники и кондотьеры.
Особливо же высокообразованные молодые итальянцы
потянулись к нему.
В отличие от Данте, он торжествовал уже при жизни. Стал
победителем.
И все же: почему его признала "Европа"? Говорят: эпоха
созрела... Это так, но - для чего и для кого она, собственно,
созрела? Ведь Петрарка преподнес в виде своей персоны нечто
дотоле ей неизвестное - уж не хотим ли мы сказать, что именно к
этому, т. е. к неизвестному, была "готова эпоха"?
Положим, "эпоху" (и себя самого?) еще надо было приучить
к Петрарке. Внушить, вменить ей (и себе?) - себя.
Что ж удивляться странным "историям", вроде посещения
дома Капры или "Цицероновой раны"?
О тщеславии Петрарки, с точки зрения
историко-культурной, толковать слишком плоско, несообразно, неинтересно.
Лучше полуусловное сравнение с Дон Кихотом.
Дело в том, что при достижении особого масштаба и при
известных культурных обстоятельствах эгоцентризм перерастает
себя и становится величественным, любопытным и внемораль-
ным, как явление природы. Как, скажем, наводнение.
Петрарка всех ближних и дальних превращал в участников
своего необычного спектакля. В том же самом письме к
"грамматику" (т. е. комментатору классических авторов) Дзаноби да
Страда, где он пытался объяснить свое внезапное возвращение
в Воклюз небывалым ливнем и опасными вестями, -
искренним и бесспорным было, во всяком случае, настойчивое
сведение жизни поэта к ее всеобщему, понятому как личный
смысл (как его, Петрарки, особое интимное состояние и
судьба).
«Так поневоле я возвратился к истоку Сорги спустя
немного дней после того, как оттуда отбыл <...> Если спросишь, что
поделываю здесь - "что ж, живу"». Всего по двум словам ("Vivo
equidem..." - см. En., Ill, 15) корреспонденту предлагается
догадаться, что это - конечно, Вергилий... «Ты ждешь, чтобы я
закончил стих: "и жизнь провожу меж всевозможных напастей"
_ 394
Авторское самосознание в письмах поэта
("... vitamque extrema per omnia duco"). Ничуть не бывало. Ведь
я живу хорошо, и здравствую, и радуюсь, и пренебрегаю
тем, что многих других удручает».
"Пренебрегать0 - приходилось, превращая нужду в
добродетель... Поэт пишет, что многие резоны этого решения
вернуться лучше обойти молчанием (некий, якобы убеждавший
его, слуга "multa etiam addidit commitenda silentio"). Он
сообщает, что, когда дни напролет обследует окрестности вдоль обоих
берегов Сорги, по пути ему не встречается ни души и не
сопровождает никто, "если не считать моих забот, с
каждым таким днем становящихся менее острыми и
мучительными". И что он намерен оставаться в Воклюзе, не трогаясь ни в
курию, ни в Италию, пока не услышит о каких-то новых
обстоятельствах ("neque nisi aliud audiero").
Следовательно, Петрарка, умалчивая о своих авиньонских
неприятностях, все же не исключает полностью из эпистолы
какой-то их неразборчивый, глухой отзвук.
Зато в первой же фразе письма - меланхолические слова
Горация. Затем многозначительно возникает имя Вергилия.
Затем упоминается Эней. И, наконец, изысканное обыгрывание
вергилиевой строки позволяет свести житейские заботы
Петрарки к еле слышному намеку.
Цитата из "Энеиды" - "что ж, живу..." - задает потребную
иную точку отсчета.
"Вот моя жизнь: встаю среди ночи, выхожу из дому с
первыми лучами солнца, но и в полях точно так же, как дома, учусь,
думаю, читаю, пишу, стараюсь, сколько могу, удалять от глаз
дремоту, от тела - расслабленность, от души - чувственные
желания, от действий - вялость0 и пр.
Изначально запущен верный камертон, и он помогает
Петрарке заключить письмо безупречно точной смысловой
метаморфозой: "Я, как уже сказал, нахожусь у истока Сорги и, если
уж так возжелала фортуна, не ищу никакого другого места и не
стану искать, пока, по своему обыкновению, она не отвернет
свой лик. А между тем, я мысленно устанавливаю
для себя Рим -здесь, Афины - здесь, и саму
родину -здесь (hic michi Romam, hic Athenas, hic patriam
ipsam mente constituo). Здесь я собираю всех друзей, которые у
меня есть или были, не только тех, с кем знаком в повседневном
395 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
обиходе, но и тех, кто скончался за много веков до меня и кого
знаю, благодаря лишь словесности, но чьими деяниями и
духом, или жизнью и нравами, или языком и талантом я
восхищаюсь; изо всех мест и изо всех веков я часто собираю их в эту
узкую долину и беседую с ними куда ненасытней, чем с теми, кто
считает, будто жив, лишь потому, что, выдохнув из себя какую-
нибудь гниль, видит облачко пара в ледяном воздухе. Так я,
свободный и безмятежный, брожу в сопровождении стольких
спутников [и все-таки] один; нахожусь там, где хочу; остаюсь,
сколько могу, наедине с собой (mecum sum)..." (Fam., XV, 3).
Это что - "литература" или "реальная жизнь" Петрарки?
Наведение тени на плетень или сущая правда?
Очевидна некорректность вопроса.
А может быть, так? - тень, по необходимости
отбрасываемая правдой. Тень, в которой нуждалась правда существования
поэта, дабы удостоверить собой, что Петрарка "вполне живой"
(подобно тому, как души Ада, увидев отбрасываемую Данте
тень, убеждались, что поэт "bene и vivo").
Мы получаем возможность наблюдать, как из описания
путевых происшествий, из экивоков и умолчаний, почти из
ничего - возникает эпистола, в которой, однако же, все истинно, все
значительно и судьбоносно.
Ибо Петрарка сам себе античность.
Там, где сейчас он находится, - там и стоять Риму и
Афинам.
* * *
В кратком письме к Дзаноби да Страда (Fam., XIII, 10:
специально "в оправдание одной из предыдущих эпистол") поэт
отвечает на упрек корреспондента, что в послании к Никколо
Аччайуоли и Джованни Барилли (Fam., XII, 16: 26) Петрарка,
перечисляя знаменитые дружеские пары, упустил Ниса и Эври-
ала из "Энеиды".
"Тебе неприятно, о друг, заметить в моих сочинениях
(буквально "во мне". - Л. Б.) нечто несовершенное, так пусть ты
будешь избавлен от этого: имею в виду лишь несовершенства
значительные (de imperfectione notabili), прочих же предостаточно
не только во мне, но и в тех, кого все считают
совершеннейшими [писателями], ведь полного совершенства не бывает..."
_ m
Авторское самосознание $ письмах поэта
Так вот, он умолчал об этой дружеской паре у Вергилия "не
случайно, а намеренно, и узнай почему: прежде всего потому,
что я и не собирался рассматривать и перебирать все примеры;
хотел не только этого не делать, но и, напротив, воспламенить
благородные души к подражанию крайней редкостью
примеров..." Ведь Цицерон в диалоге "Лелий", не приводя имен,
писал, что "из всех времен примеров истинной дружбы можно
насчитать только три или четыре0. А Петрарка называл в том
письме целых шесть таких пар. Притом недолгая дружба Ниса
и Эвриала закончилась скорой смертью одного из них, так что
счастливой приметой здесь остается только то, что их воспел
Вергилий...
Далее Петрарка тут же приводит еще... восемь античных
примеров. И заканчивает замечанием, что незачем поминать
общеизвестное, ибо тогда "я водил бы беспомощным пером по
выцветшему пергаменту и превратился бы из подражателя
[древних] просто в их обезьяну0.
...Никак нельзя было допустить, будто он, Петрарка, чего-то
мог не прочесть из римских авторов, не знает, не помнит. Будто
по этой части "во мне" обнаружено сколько-нибудь
"значительное несовершенство0. Потому что, если бы, допустим,
неполнота эрудитского перечня дружб была не обдуманной, не
рассчитанной, а невольным упущением, - тогда неполным,
недостоверным оказалось бы и его, Петрарки, собственное
существование как человека, лишь волей случая занесенного из
античности в сей век. А неудачный пример дружеской пары, с
несчастливой развязкой либо просто слишком избитый, нанес бы
прямой урон двум флорентийцам, в назидание которым он
приводил лишь замечательные и редкостные имена таких пар.
Жизнь, следовательно, понимается Петраркой в виде
самого непосредственного продолжения литературных образцов.
Как вкусно, и запросто, и фамильярно (familiariter!)
звучат у него эти латинские перечни, в каком тоне Петрарка по
обыкновению толкует об античных персонажах, словно о
своих давнишних знакомых! Все свежо, все наяву. Прочитанное
реально. Более того, только оно и реально. Именно поэтому в
своей сверхлитературной достоверности и жизнестроитель-
ном качестве, оно - запойная страсть. Как это будет и у Дон
Кихота.
w —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
С тем самоочевидным (но не единственным, конечно)
различием, что Петрарка совмещает в себе автора и героя. Точней,
его герой это и есть автор. Обе позиции, изнутри и извне -
взгляд того, о ком рассказывается, и того, кто рассказывает, -
совмещены всецело изнутри. Как если бы роман был написан
не Сервантесом, а самим Дон Кихотом... и, значит, уже не
трогательным безумцем, а ответственным демиургом единственно
возможного (авторского) мира45.
Петрарка-автор не скрывается за материалом и стилем. Он
добивается их однородности, окончательности, готовости,
поскольку самоидентичность его "Я" утверждается
исключительно через стиль. Абсолютная литературность Петрарки - ничем
не нарушаемая воображаемость, ни в чем не отступающая от
себя "искусственность" (искусность, сконструированность) -
только и могла обеспечить жизненность фигуры (- "стиля")
Петрарки для последующих трех столетий.
Литературность пресуществилась в плоть и кровь
биографии. Хлеб риторики, вино поэзии - в истинность и
заразительность особенного индивида. "Литературный факт" полностью
возвратился (обратился) в "жизнь". Возрождение античности,
это беспримерно смелое культурное начинание, стало
возможным, как ни парадоксально, благодаря мощной средневековой
матрице: в такой умственной среде, где авторитетные тексты
традиционно были всем и вся.
Начиналось с переакцентировки, расширения, секулярной
подмены системы авторитетных текстов. Новая система сразу же
предусматривала "соревнование" с античными авторами;
следовательно, высвобождала место для самочинного Я-автора; а потому
(особенно в дальней барочной и романтической перспективе)
начинала торить дорогу к не-догматическому, не:иерархическому,
не-авторитарному авторитету новизны и личной инициативы.
Идея Тынянова об имманентном литературном процессе
(на отлете от быта, биографий и пр.) не опровергается в случае
Петрарки, но переворачивается и существенно уточняется.
Если для сознания индивида не существует ничего подлинного и
значимого вне литературы - то и не остается решительно
никакой "литературы"? Тогда, напротив, нет ничего, кроме "жизни".
Душевной жизни писателя (самоформирования "Я" через
сочинительство). Жизни как произведения46.
_ 398
• * *
В одном из "Стариковских" (II, 4 - ниже по изданию
1581 г.) Петрарка обсуждает вопрос: "Что хуже: когда
похищают из его писаний или когда ему приписывают чужое".
Оказывается, пусть ответить на это нелегко, но все-таки хуже второе.
Поэт был крайне неприятно поражен, получив от "своего
Лелия" (Лелло ди Пьетро деи Тозетги) эпистолу с похвалами
"некоему сочинению на вольгаре, под которым стояло мое имя".
Притом отдельные его части "принадлежат не мне, а другому".
Какая "двусмысленность"! "Уж какой я ни есть, но обо мне
надобно говорить по поводу моих же [сочинений], ведь этого
требует сама суть дела". Конечно, подкидывая писателю чужое, не
восполняют этим то, что унесли у него. "...Определенный дух и
лицо у меня нельзя унести, в них запечатлен я, и чужое они
отвергают (constanti animo vultuque mea non esse feruntur, meque
pressum aliéna respuere) <...> Итак, никто у меня не украдет мое,
никто мне не навяжет своего или еще чьего-либо..." Но,
конечно, скверно и то, и это.
Так что напрасно надеются, что, если подложить "подлые
яйца под щедрую несушку, они облагородятся. Но, коли уж это
случается, согласимся, что подобные авторы свои сочинения
любят больше, чем свое имя (ipsis authoribus sua plus opera,
quam suum nomen amantibus)".
Петрарка тоже больше всего на свете любил свои
сочинения, но это потому, что только через "стиль" он мог ощутить
реальность собственного "духа и лица". И в этом смысле, далеко
выходящем за пределы обычного авторского тщеславия, свое
"имя" он любил тоже больше всего. Nomen и opera были
нераздельны.
* * *
Неудивительно, что для Петрарки едва ли не самой трудной
писательской проблемой (и, вместе с тем, психологической
проблемой самоидентификации Я) становится то, что он, насквозь
пропитанный античными "авторами" и привыкший
выговаривать самое личное их словами, должен, тем не менее, быть и
выглядеть в собственных глазах и в глазах окружающих самим со-
399 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
бою и... значит, не повторять попросту древних, не
переписывать из них дословно и (что хуже всего) неосознанно.
Иначе говоря, наиболее трудная внутренняя проблема для
Петрарки (выходящая за пределы средневековой ментально-
сти) - это проблема границы между своим и чужим словом.
Между законной реминисценцией или цитатой - и кражей.
Между откровенным обыгрыванием чужого текста, которое
усваивает, одомашнивает его, превращает в свой, этим лишь
возвышает ученого автора, - и беспомощным плагиатом.
"Читал у Вергилия, у Флакка, у Северина, у Туллия;
читал не единожды, но тысячу раз, не бегло, а тщательно, всем
умом напряженно вникал в них (immoratus sum);
поглощенное поутру переваривал к вечеру, и то, что впивал [еще]
отроком, затвердил с годами. Все это засело во мне столь
привычно не только в памяти, но и проникло до мозга костей, и
нераздельно соединилось с моим природным складом ума
(unumque cum ingenio facta sunt meo); так что, если бы я даже
не перечитывал во всю оставшуюся жизнь, все равно это
останется при мне, укоренившись в самой укромной части души
(actis in intima animi parte radicibus). Но между тем забываю,
кто автор, ведь долгое употребление и постоянное владение
словно заставляют приписывать все себе, и вот я,
заполненный до отказа множеством [подобных сентенций], уже не
знаю, чьи они, даже не припомню, мои ли, чужие ли. Поэтому
я и скажу, что больше всего подводит именно самое знакомое,
и, когда что-либо, может быть, припоминается в силу
привычки, случается подчас так, что уму, захваченному и страстно
устремленному на другое, такие вещи представляются не
только моими собственными, но и, что тебя удивит,
новыми (non tantum ut propria sed... ut nova se offerant).
Хотя что это я говорю насчет намерения удивить тебя? дело
может обстоять скорее так, что ты по необходимости знаешь
нечто подобное, как предполагаю, из собственного опыта. На
выявление таких оплошностей у меня уходит немало труда"
(Farn., XXII, 2).
Ни Боккаччо, к которому обращено письмо, и никого
впрямь ничуть не может удивить сказанное Петраркой. Это-то
как раз выглядит психологически естественным. Это
убедительно также и для сегодняшнего взгляда.
_ 400
Авторское самосознание в письмах поэта
Кое-что удивительное, однако, действительно произойдет...
но лишь под самый занавес эпистолы.
А пока следуют знаменитые пассажи, столько раз
вызывавшие у историков искушение воспринять их в готовом
"индивидуалистическом" ключе, который принято считать подходящим,
чтобы открыть (сделать понятным для нас) Возрождение.
Призывая в свидетели Аполлона и Христа (I), Петрарка
заявляет: «Я не жаден до какого бы то ни было добра и не склонен
присваивать чужое, будь то имущество или плоды ума. Если у
меня обнаружат что-либо, вопреки тому, что говорю, то это или
из тех сочинений, которые я не читал, и проистекает из-за
близости умов (similitudo facit ingeniorum) <...> или это одна из тех
ошибок по забывчивости, о которых здесь идет речь.
Признаться, я готов с воодушевлением украшать чужими речениями и
увещеваниями свою жизнь, но не стиль; разве что упомянув имя
автора или обозначив изменения (mutatione insigni - запомним
этот термин и... насторожимся. - Л. £.), дабы в подражание
пчелам из многого и разного содеять нечто одно. Вообще же я
больше предпочитаю, чтобы мой стиль [принадлежал] мне (meus
michi stilus sit) <...> созданный по мерке моего собственного ума
(ad mensuram ingenii mei factus) <...> Гистриону подходит
всякая одежда, но писателю - не всякий стиль; каждому надлежит
создать и пользоваться своим стилем (поп omnis scribentem
stilus; suus cuique formandus servandusque est), дабы не
посмеялись, что мы разрядились в чужое <...> И вполне естественно,
чтобы у каждого было свое лицо и жесты, точно так же голос и
речь были чем-то его собственным (quiddam suum ас proprium)...
"Ну, и что же ты строишь из себя", - спросит кто-нибудь... Что?
Я тот, кто намерен идти по дороге отцов, но не след в след; я тот,
кто хотел бы время от времени пользоваться их трудами, но не
украдкой, а в виде открытого дарения (ргесапо); однако, когда
можно, предпочел бы опираться на собственные труды. Меня
радует сходство, но не совпадение, да и сходство пусть не будет
чрезмерным <...> я из тех, кто лучше вовсе обойдется без
предводителя, чем быть вынужденным следовать за ним во всем.
Хочу такого вождя, который меня увлекает за собой, но не
приказывает; пусть, помимо вождя, будут и свои глаза, будет свое
мнение, будет свобода; пусть ничто не мешает мне ни ступать, куда
хочу, ни что-то обходить, ни стремиться к небывалому...»
401 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Этот монолог замечательно потакает мыслительным
"индивидуалистическим" стереотипам современного читателя и
опасно притупляет чувство дистанции. Казалось бы - да так оно, β
конечном счете, и есть! - Петрарка, который всем был обязан
античным "авторам", но который жаждет с их помощью
освободиться и от них, впервые возглашает тем самым принцип
суверенного личного авторства. А ведь это тот основополагающий
принцип, который разрастется во всю последующую
новоевропейскую культуру.
Но... перед нами Петрарка, а не "вся последующая
новоевропейская культура". Нас занимает конкретное и особенное
творческое событие - "здесь и сейчас" в истории культуры, а не
ее универсалии; крупный план и фокусировка на четкость, а не
размытое "обобщение" с такого неимоверного расстояния, под
таким широким углом, когда уже скрадываются отдельные
художники и произведения, смысловая реальность исторического
процесса жертвуется в угоду результату, "конечному счету",
всегда более или менее схематичному, условному,
сомнительному, не сходящемуся.
* * *
И вот Франческо под конец эпистолы припасает для Бок-
каччо и - что гораздо поучительней и забавней - для нас
наглядную иллюстрацию к тому, как же именно он понимает свою
личную авторскую свободу (дабы "мой стиль был моим"...). Мы
получаем возможность войти в его кабинет и подглядывать из-
за плеча за работой Петрарки.
Он просит молодого друга, которому ранее послал свою
десятую эклогу "Буколик", внести в текст, в связи с
обнаружившимися погрешностями, необходимые изменения.
В одном месте у него сказано: "solio sublimis acerno"
("Вознесенный на троне кленовом"). А это слишком напоминает
Вергилия, из VII книги "божественного труда" (на самом деле VIII,
178): "solioque invitât acerno" ("И на трон приглашает
кленовый"). Петрарку смущает полное совпадение в полустишии
двух слов, первого и последнего. Поэтому лучше поставить тут
так: tte sede verendus acerna" ("И, почтённый престолом
кленовым"). Существительное заменено синонимом. В
прилагательном теперь другая флексия.
_ 402
Авторское самосознание в письмах поэта
Далее. У Петрарки значится: "Quid enim non carmina pos-
sunt?" ("Ведь что не подвластно песням?"). Ему это что-то
напоминало и он ломал голову, пока не сообразил, что так же
кончается строка у Овидия в "Метаморфозах". Поэтому лучше
пусть это место звучит так: "Quid enim vim carminis equet?"
("Ведь что с силой песни сравнится?").
Петрарка нешуточно озабочен своим авторским
своеобразием. Выработкой только ему одному принадлежащего "стиля".
Но вот как это, значит, выглядит на практике!..
Боюсь, что нам опять трудно удержаться от кривой улыбки.
Не напоминает ли эта озабоченная и странная правка что-то
вроде истории с "Цицероновой раной"?
* * *
Принято считать Петрарку верхом книжной памятливости,
литературной рафинированности.
И все это, конечно, правильно.
Но нужно еще сказать о культурном варварстве Петрарки.
"Культурном" - т. е. в особом плане ("варварстве" как
обязательной закраине культуры). В связи с извлечением
гармонии из хаоса - первой из трех задач, которые, по словам
Блока в предсмертной речи, стоят перед поэтом.
Мировой хаос, с которым имел дело Петрарка и который он
желал бы укротить, - это его библиотека. Груды готовых слов,
толпа древних "авторов", гул их голосов. Без них не мог бы
появиться Петрарка, в них он восхищенно и напряженно
вслушивался всю жизнь. Однако сквозь гул античности безумно
трудно прорезать свой собственный голос. Свой личный "стиль"!
Как, вникая в книги, всецело подчинить их своему ingeni-
um'y? Тоже стать "автором"? А без этого - он не соревнователь,
не друг, не собеседник, а всего лишь "обезьяна" древних. Слуга
пыльных фолиантов, заложник хаоса.
Труден первый шаг.
Разве эти рассуждения, терзания, старания не переписать
ненароком несколько слов из Вергилия или Овидия
буквально - не варварство? Это успокоение сочинительской совести,
после того как будет заменено словечко-другое (или ты, Бок-
каччо, поправь по своему усмотрению) - разве не верх просто-
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
душия и дикости (с точки зрения нашей, но и, пожалуй, всякой
иной культуры)? Не варварство?
Извне оно выглядит именно так; однако изнутри -
конструктивно и... оригинально. Римляне не стеснялись отнимать
риторические и поэтические сокровища напрямую у греков,
победительно доставляли в столицу мира вместе с прочими трофеями,
выставляли вместе с чужими богами; средневековые книжники
не имели, в общем, представления о "чужом" слове, полагая его
ничьим, а верную сентенцию - принадлежащей всем; новое и
новейшее время взыскует авторской независимости, дорожит
новизной... вплоть до дикарского эпатажа.
Конечно, у каждой культуры - собственное "варварство",
свой особенный "хаос", который подтопляет ее берега и
составляет помеху, но в то же время предпосылку - изнанку и
почву - угрозу и предмет вожделения - короче, плотную материю
для пере-создания.
Для Петрарки такой материей была непомерная
литературность, тотальная реминисцентность его мышления и речи. В
ней состояла его опора и одновременно препятствие на пути к
Я-автору.
Через два века Монтень будет наслаждаться своим
приватным Я, судить о том и сем в качестве такого Я, размышлять о
себе как уже сущем и лишь осознаваемом, углубляемом через
рефлексию.
Петрарка же никаким готовым "Я" не располагает. Ему еще
надо как-то вообразить, создать его. И увериться, что он, Фран-
ческо, хотя и лишен особых внешних отличий и примет ("один
из вашего же стада") - но это он и только он. И предъявить
миру сочинения, свой "стиль", в качестве верительной грамоты
"Я".
Быть "автором" и, следовательно, тем самым создать себя.
Или, лучше, выразимся так: для того, чтобы создать себя -
стать автором.
Позже все гуманисты конца Треченто и всего Кватроченто
примутся подражать ему. С первой трети Кватроченто, в
сущности, и художники. Но уже меньше заботясь о том, что так
терзало Петрарку. Уверенней, куда менее варварски, не на таком
отчаянном мыслительном, стилевом,
социально-психологическом пределе. Пространство для нового культурного сознания
_ 404
Авторское самосознание в письмах поэта
застолблено, и в течение полутора-двух веков его нужно будет
осваивать.
Петрарка же торопился врыть столбы.
Отсюда выделяющее его даже на ренессансном фоне
самоутверждение. Эго-центризм в наивозможно чистом виде. Тут
поэт, разумеется, предтеча всего Возрождения, похож на всю
эпоху (или эпоха на него). Но все-таки в ренессансной
культуре, пожалуй, никто и никогда не будет исторически уникализи-
рован в такой степени, как Петрарка, выполнением именно этой
задачи!
Нет смысла толковать об "индивидуализме" Петрарки -
даже и в ренессансном, весьма своеобразном повороте, вообще-то
говоря, анахронистичного для этого типа культуры, гораздо
более позднего понятия. Ибо у Петрарки - и много позже, до
последней трети XVIII в. - нет ни сложившейся идеи, ни
социального космоса "индивидуальности".
Но на том месте, где такая идея имеет быть, Петрарка
впервые прочерчивает ее незаполненный контур.
Контурная карта индивидуальности?
Потом будут в нарастающей со временем степени такие-то и
такие-то авторы, отличающиеся тем-то и тем-то, ее заполнять. А
Петрарка - прежде всего "просто" автор. Он писатель, так
сказать, авторски озабоченный. Он заслужил это как имя
собственное, Francesco Autore... Едва ли не единственный в этом своем
особом роде за всю историю мировой культуры. Весь ушедший
в собственный образ: Я как автора.
Было бы притом нелепо и немыслимо пытаться лишить его
творчество содержательных, предметных, идейных и
литературных предикатов. Их изучением всегда было и будет
преимущественно занято петрарковедение. А все-таки самое уникальное
и занимательное в Петрарке, в его мыслительной и речевой
работе не то, что он автор с такими-то темами, идеями, жанрами,
литературными источниками и т. д. Но - "scribendi tantus
ardor" ("великий жар писательства"), сверхмотив ("схематизм",
сказал бы Кант) авторства как такового, как внутренней формы
дискурса. При обнажении свидетельствующих об авторстве и о
признании окружающими Я-автора стилизаторских приемов и
"историй". То есть при предельно заостренном формализме
новой культурной установки.
405 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
И в этом-то Петрарка, как и каждый первопроходец - дик,
странен, смехотворен, трогателен, грандиозен!
* * *
8 июня 1374 г. Петрарка отправил из Арква свое последнее
письмо. Оно адресовано "Джованни из Чертальдо" и замыкает
незаконченный "стариковский" эпистолярий (Sen., XVII, 4; см.
в ЭФ, с. 310-311).
Поэт возмущался тем, что предыдущие два его послания к
Боккаччо не дошли, будучи якобы кем-то перехвачены "в ци-
зальпийской Галлии". Но кем? Понять из эпистолы, несмотря
на некоторую пространность и накал жалобы, невозможно.
У нас нет никаких данных и трудно поверить, будто
эпистолы Петрарки - сочиненные не "для сведения", а "для
развлечения", утонченно-литературные, письма на цицероновской
латыни, письма человека, отнюдь не занятого политической
борьбой, - кому-то могли понадобиться, кроме его друзей...
Зато в свое время было чего остерегаться Цицерону.
Конспиративные письма к Аттику могли перехватывать, и ритор
сетовал на это, просил друга тоже быть осторожным.
Закрадывается догадка, не вздумал ли Петрарка еще раз обыграть свой
излюбленный эпистолярный образец. Не стилизует ли он опять.
"Меня больше всех выводит из себя их бесстыдство, оно часто
мешает мне писать, часто заставляет жалеть о написанном, ведь
свобода государства идет ко дну..." Стоп, стоп! свобода,
собственно, какого "государства" идет ко дну? Какие политические
противники Петрарки и в каком таком государстве занимаются
перлюстрацией или даже перехватом его писем?
С кем он опять спутал себя, мучаясь старческой хворью,
живя и сочиняя в этом небольшом, но прекрасном палаццо в
Арква, во владениях падуанской тирании Каррара?
Дальше стилизаторский ход использован неожиданно,
повернут весьма драматически.
« Разумеется, к этой досаде прибавляется возраст, усталость
почти от всего в мире и не просто пресыщение писанием, но
отвращение к нему. Все вместе заставляет меня в том, что
касается этого стиля посланий (т. е. цицеронова "домашнего",
"повседневного" стиля с выражением "нынешних состояний души". -
_ 406
Авторское самосознание в письмах поэта
Л. />.), окончательно распроститься и с тобой, друг, и со всеми,
кому обычно пишу, - и чтобы эти легкомысленные поделки
больше не мешали работе над лучшим родом сочинений, и
чтобы наши письма не попадали в никчемные руки мошенников;
хоть так огражу себя от оскорблений. Если когда понадобится
списаться с тобой или с другими, буду писать для сведения, не
для развлечения. Помню, в одном из писем этого рода я обещал,
что впредь буду писать короче, потому что подгоняет нехватка
клонящегося к концу времени. Я не смог выполнить обещание,
и легко понять, что молчание с друзьями намного легче, чем
краткость слов: ведь стоит однажды начать, и захватывает такая
жажда взаимной беседы, что было бы легче не начинать, чем
сдерживать порыв начатой речи. Но я обещал! Так разве не
достаточно выполнит обещание тот, кто сделает больше
обещанного? Обещая, я, видно, забыл Катоновы слова, получившие
широкую известность благодаря Цицерону: "старость по
природе склонна к разговорчивости"».
Итак, последнее письмо эпистолярия - отдаленное и,
конечно, сознательное эхо вводного письма из "Повседневных", "к
Сократу". Тогда, почти четверть века назад, Петрарка
обдумывал и обосновывал приступ к эпистолярию, написанному в
особом стиле непосредственных и усладительных дружеских
излияний, "по обыкновению Цицерона". Теперь же он объявляет,
что более в этом стиле писать не будет. И, как нарочно, также и
это обосновывает ссылкой на Цицерона... Как и тогда,
эпистолярный стиль возвышаем, хотя формально поставлен ниже
некоего более высокого рода сочинений, для которого поэт желал
бы сберечь оставшиеся сроки и силы.
Но этому доводу явно противоречит другой: насчет
пресыщения и отвращения к писанию.
Нам трудно поверить своим ушам! "Отвращение" к
писанию, особенно к писанию дружеских эпистол - у Петрарки?! У
человека, который твердил, что "перестанет писать тогда же,
когда перестанет жить (scribendi enim michi vivendique unus, ut
auguror, finis est)". И что, более того, именно для дела
неустанного сочинения и шлифовки книги писем - "любовь к друзьям
не предвещает какого-либо окончания (nullum finem amicorum
Caritas spondet)" (Fam., I, 1: 44-45).
407 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Но ведь это письмо, напоминаю, действительно стало
последним. Если датировка верна, всего через сорок дней, в ночь с 18 на
19 июля 1374 г., Петрарка скончался. Сбылось им сказанное
когда-то: "unus... finis est". "Один конец писательству и жизни".
После сентенции Катона, приведенной поэтом по
Цицерону, следует еще одна фраза. Это уже самые-самые последние
известные нам слова из всех слов, написанных Петраркой. В
конце эпистолы и жизни: "Прощайте, друзья, прощайте, письма
(valete, amici, valete, epistole)".
Если даже фраза была добавлена переписчиком после
смерти Петрарки в падуанский извод "Стариковских" (чего не
исключает У. Дотти) - это ничего не меняет - ее мог и должен
был, скорей всего, приписать сам Петрарка. Она совершенно
отвечает стилю и смыслу эпистолярия в целом и этого письма в
частности.
Но понятно, почему выдающийся современный биограф
Петрарки допускает, что ее вставил друг-переписчик. Слишком
уж картинно, слишком провидчески и поразительно звучат
четыре прощальных слова.
Откуда Петрарка мог знать, что это письмо - последнее?
Точнее: почему он его решил написать как последнее и почему
оно действительно стало таковым? Из текста видно, поэт
исходил не из уверенности в том, что смерть уже на пороге. Ведь он
собирается что-то сочинять в более высоком жанре - не "О
достославных мужах" ли? - и обещает присылать сообщения в
более деловом роде. Это избавляет историка от соблазна игры на
"вещем" предчувствии. Петрарка понимал, что срок исчислен и
близок. Но, как всякий человек, не знал его точно, еще
надеялся жить.
Вот только: "отвращение к писанию"... вот только: что
больше он не будет писать личных эпистол...
Слишком трудно отделаться от уверенности совсем не
мистического, но, если угодно, культурно-психологического
порядка. Выговорив это, Петрарка - именно такой сочинитель, каким
мы его узнали и пытались здесь понять, - тем самым простился
с собой. Словно бы принял последнее причастие.
"Дальнейшее - молчанье".
• · ·
"The rest is silence. [Dies]". He понять ли "молчание" как
прекращение гуманистической "словесности", речи в качестве
сгустка человечности и личного достоинства? А уж поэтому и
как прекращение жизни? Так мог выразиться только последний
человек Возрождения и первый человек Нового времени.
"Я умираю, Горацио <...> если б у меня еще было время -
но этот малый, конвойный по имени Смерть, неукоснителен
при задержаньи - о 1 а то бы я сказал вам (О, I could
tell you) - но все кончено, Горацио, я умираю - ты жив, так
поведай обо мне и о моем деле тем, кто не знает".
Горацио отвечает: "Этому не бывать, ведь я скорее
древний Римлянин, чем Датчанин. Здесь есть еще
немного яда".
Замечательно, что Шекспир (не подозревая, конечно, об
этом) заставляет Горацио произнести парафразу знаменитого
самоопределения Петрарки из письма читателю-потомку.
Так одна и та же формула культурного заклинания звучит
при самом первом поднятии и при самом последнем опускании
занавеса над ренессансной исторической сценой. Острота и
достоинство личного "я" исходно возникают через ощущение себя
"скорее древним римлянином".
И еще одно. Давно замечено, и у меня тоже был случай
повторить, что у Петрарки, когда он рассказывает о себе,
подозрительно много всяких хронологических округлений,
многозначительных совпадений в датах. Например, если верить поэту,
Лаура умерла в тот самый месяц и тот же пасхальный день, 8
апреля, когда он ее впервые увидел в авиньонской церкви. Или:
он задумал "Африку" опять-таки в пасхальную пятницу. И тому
подобное.
Пусть это дань символизирующей литературности, пусть
игра воображения. Хорошо. Но Петрарка сумел умереть в
аккурат через семьдесят лет после своего рождения, т. е. на
тогдашнем топосном рубеже предпоследнего и последнего возрастов,
"старости" и "дряхлости". Как и Сократ. И, что еще удачней, он
умер почти в день своего рождения - подобно, если верить
легенде, Платону.
409 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Он и в смерти оказался "таким античным" (выражение,
которое спустя почти столетье применит Веспасиано Бистиччи,
чтобы выразить восхищение обликом и повадками Никколо
Николли).
Дата смерти - последнее литературное достижение поэта.
Никто не посмеет сказать, что и собственную смерть он
просто выдумал, что и тут "настоящий Петрарка" не был похож
на самоописание и самооценку. Правда, Петрарка все-таки не
дотянул до 20 июля 1374 г. немногим более суток. Но этот
незначительный зазор лишь устраняет из его биографии
сомнительность чрезмерной литературной шлифовки. Лишь делает
искусство... безыскусней. И риторическое тождество поэзии и
правды - достоверней. Петрарка умер "не точно так же", как
Платон или Сократ, а "почти так же". Замечательно похоже по
срокам.
Похоже, но все-таки, следовательно, и по-своему, в согласии
с собственным "стилем". Это не украдено ненароком, не
буквальная цитата, не перепев по рассеянности. Но умело чуть-
чуть подправленное и, стало быть, если следовать поэтике
Петрарки, личное и независимое заимствование...
А за несколько недель до этого: "Прощайте, друзья,
прощайте, письма".
Шучу ли я? Право, не знаю. Петрарка, как это случается
иногда с поэтами, скончался в полном соответствии со своей
поэтикой.
Сочинять и любить
Об авторском единстве
книги стихов к Лауре
Посвящаю проф. У го Дотти,
автору новейшего комментария
к "Книге песен"·
Исходные соображения.
"Перо и плач"
1
"Исчезло время, когда в огне я жил и в нем же
находил отрадную прохладу. Исчезла та, о ком я плакал и писал (io
piansi et scrissi), но мне она оставила сполна перо и плач (1а
penna e Ί pian to).
* Осенью 1996 г. в книжной лавке в Урбино я купил только что
вышедшие изящные томики: Francesco Petrarca. Canzoniere. Edizione com-
mentata a cura di Ugo Dotti. Donzelli editore. Vol. I—II. Roma, 1996. Ниже
все ссылки на "Canzoniere", равно и сведения о текстах, если их источник
не оговорен особо, даны по этому изданию. Когда бы не так кстати для
меня подоспевший замечательно полный и надежный комментарий
(незнакомого мне лично) проф. Дотти, одного из лучших современных пет-
рарковедов, я вряд ли окончательно решился бы взяться за работу.
Превосходна и вступительная статья У. Дотти (Vol. I. Introduzione. P. VII—
LUI, см. в моем тексте ссылки на латинскую нумерацию страниц), в
которой критически и взвешенно подытожено современное состояние
изучения "Книги песен".
А кроме того, спустя два дня я впервые добрался до Арква и
разглядывал из окон последнего дома Петрарки окрестные холмы, на которых
столько раз покоился его взгляд. Западая в душу, подобные впечатления,
само собой, вполне бесполезны для логико-культурного исследования. В
компьютер их не введешь. Но почему-то и они помогают пониманию.
411 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Исчезнул облик милый и святой, но, исчезая, запечатлелись
в сердце нежные глаза. Моим когда-то это сердце было, теперь
же, отделившись от меня, сокрылось за прекрасною завесой.
Оно с ней под землей погребено и с ней же торжествует в
небесах, где ныне лавром почтена ее безупречная чистота.
Вот так и я, избавившись от смертной оболочки, которая
силком меня удерживает здесь, мог с ними быть бы. С ней и с
моим сердцем. Без воздыханий (fuor de4 sospir4), средь
блаженных душ*.
Мотивы сонета 313 столь же традиционны, сколь и трудны
в своей изощренной выстроенности для точного перевода.
Трижды меланхолично прокатывается "passato è", открывая
первый, третий, пятый стихи, а затем через герундий их модуляция
возносится к небесам. Там теперь его сердце. Там поэт обрел бы
рядом с Лаурой райское успокоение.
Однако "воздыхания" в словаре "сладостного стиля" и
Петрарки это и постоянное состояние влюбленного, и
одновременно непременный синоним "стихов" ("in sospiri е чп rime" - 252).
Поэт, стало быть, предрекал конец вместе с жизнью не только
сердечным сокрушениям, но и любовным стихам. Автор под
занавес обдуманно готовил читателя к исчерпанию книги (см.
шестую главу).
Тем важней сохранить при переводе первого кватрена рифму,
наделенную весомостью эпитафии: "vissi/scrissi" ("жил/писал").
И, конечно, простоту хиазма, т. е. крестообразной
риторической перестановки ключевых слов, посредством которой
Петрарка отвечает - куда существенней, чем общими местами о
сердце, последовавшем за Лаурой, - на важный вопрос: теперь,
когда Лаура умерла, что делать поэту?
Да то же, собственно, что прежде. "Плакать", т. е. "любить"
и... писать об этом стихи. "То я плачу, то пою (Or piango or
canto)". Разве что с поправкой: не "плакать и писать", а, в
другом порядке, писать и плакать. "Перо и плач". Петрарка
завязывает два слова накрест узелком.
Хотя, положим, и при жизни Лауры все начиналось с "жара
писательства" (ardor scribendi). Перо всегда у Франческо
вначале.
•Здесь и далее в текстах Петрарки выделено мной. - Л. Б.
_ 412
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Ну, а любовный жар, ardor amandi? Любовь неподдельна,
ибо ведь это ее раздувают меха сочинительства.
Петрарка причисляет себя к череде тех, "кто о любви
говорит или пишет", т. е. прежде всего к литературной среде стиль-
новистов и их почитателей (309:11). Вот его - гм1 -
референтная группа.
В сонете 309 сугубо писательская основа любви к Лауре и,
более того, всего существования Петрарки обозначена наиболее
развернуто и, так сказать, технологически:
"INGEGNO, TEMPO, PENNE, CARTE Ε xNCHIOSTRI".
Всю нижеследующую работу о единстве "Книги песен"
можно бы считать непомерно разросшейся сноской к этому
стиху... пожалуй, ключевому.
Ибо он наиболее тесно соотносится с размышлениями и
заботой о личном призвании и самоосуществлении. "Ведь даже
если все мы стремимся к одному последнему пределу, не всем
полезно следовать по жизни одним путем, каждый должен
основательно подумать, каким сотворила его природа и каким он
должен сделать себя сам (qualem eum natura, qualem ipse se
fecerit, "De vita solitaria", I, 3)1.
2
Итак. "Любовь, которая сразу же раскрепостила мой
язык [для песнопений], затем тыщу раз тщетно обращала на
них талант, время, перья, бумагу и чернила.
Мои стихи еще не достигли высшего совершенства,
внутренне я это сознаю. Но ведь то же самое всегда испытывал
каждый, кто о любви говорит либо пишет" (309:6-11).
Петрарка обретал особое "Я" с помощью бумаги и чернил.
Таким сотворила его природа и таким он исторически должен
был сделать себя сам.
Все остальное в этом "Я" - отношение к древним и новым
авторам, к Риму, к друзьям, к Воклюзу и другим местам, где
ему случалось жить и сочинять, любовные чувства, окраска его
религиозных, моральных или политических предпочтений -
решительно все действительно личное исходило именно из
авторского самосознания. В открытую или исподволь
опосредовалось страстью к писательству.
413 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Так в жизни Петрарки возник радикально новый способ
самоидентификации.
Прежние были традиционно основаны на социальной и
психологической причастности индивида к надличным
общностям и статусам. Однако явившаяся в раннеренессансной
культурной обстановке потребность в утверждении известной
самоценности "Я" давала о себе знать в днем и ночью снедавшем
Петрарку "жаре писательства".
У автора "Книги песен" поражает не забота о единстве
масштабного литературного построения и не поразительная воля к
осуществлению на протяжении целой жизни однажды
возникшего замысла. Даже в последнем почти ничего необычного еще
нет. Исторически абсолютно новым и необычным было
сочетание этого с тем решающим обстоятельством, что материалом
для подобного единства книги служили пополнявшиеся
десятилетиями "фрагменты" автобиографического "Я".
Конечно, "Я" Петрарки всякий раз все же более или менее
ориентировалось на античные и на средневековые стильновист-
ские образцы. Однако же оно было или - что с точки зрения
конкретной технологии выработки идеи индивидуальной
личности гораздо показательней - расценивалось поэтом в качестве
уникального.
С текстологической стороны в черновиках книги более
всего беспрецедентно предвосхищение - в маргиналиях - своего
рода рабочего писательского дневника. Установлено (см. ниже),
что автор вникал в повседневный ход и ритм своей работы, в
детали компоновки и перекомпоновки, как в нечто само по себе
крайне важное для него и даже общезначимое.
Уже внешний вид рукописей фиксирует сочинительство
как жизненное состояние.
з
Рефлексия на себя как на сочинителя вообще
решающее, системообразующее начало свободного самоопределения
Петрарки. Оно в этой функциональной значимости зарождается
впервые, поэтому появляется пока лишь в качестве совершенно
формального, но тем более отчетливого и знакового контура.
Все это, надеюсь, удалось достаточно убедительно показать
при исследовании писем поэта.
_ 414
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Стала видна культурно-историческая логика порождения
нового личного самосознания.
От "Я-автора", как от искры зажигания, запускается "Я" в
целом. Удивительная смысловая сцепка!
Индивид выстраивает (если угодно, придумывает) себя в
качестве писателя по преимуществу, который на равных
соревнуется с древними. Тем самым, однако, стираются границы
между воображаемым и реальным, между словом и фактом, между
сочинением и жизнью - границы, очевидные и парадоксальные
для нас, но не для Петрарки.
Быть Поэтом, коронованным лавром на Капитолии,
значило, согласно риторической топике, быть древним ("античным").
А стало быть, по самооценке Петрарки в эпистоле аК
потомкам", напрочь выломиться из своего поврежденного века к
наивысшей образцовости. Потому-то в логико-культурном,
идейном, социальном и просто эмоциональном плане оказалась
возможной столь напряженная рефлексия на свое "Я" не в
узколитературном, а во всеобщем значении.
Сочинительство подводило основу под самостояние
Петрарки или под культурный образ такого самостояния, что в
данном случае одно и то же. Активная мыслительная форма
энергично внедрялась в материю жизни этого странного каноника,
знаменитого и независимого исключительно благодаря столь
лелеемой им идее индивида как Автора.
Впоследствии она будет переформулирована в виде
специфически переходных ренессансных идей "универсального
человека" и "достоинства человека". Только спустя четыре-пять
столетий удастся разработать вполне очищенные от инерции
традиционализма новоевропейские понятия "индивидуальности" и
"личности".
Экстравагантное усилие нашего поэта соответствовало
запросам, зревшим в образованном обществе. Поэтому у
Петрарки всегда находилось так много почтительных покровителей,
корреспондентов, ученых друзей. Сопутствовал неожиданно-
ошеломительный успех.
4
Однако повторяю: утверждение о системообразующей
роли Я-автора в рефлексии и знаковом поведении Петрарки до
415 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
сих пор основывалось мною только на разборах эпистолярия
поэта.
Если это утверждение верно, то подобным же образом
должно обстоять дело и в его интимной лирике, не так ли?
Где же, помимо приватной переписки, если не в пылких
мольбах, восторгах и жалобах влюбленного Франческо, где как
не в его "любовном жаре" (ardor amandi), мы вправе
предположить столь же мощно заявленную личную подоплеку.
До обескураживающего столкновения с тем, что какая бы то
ни было действительная конкретность "Я" в любовных стихах
Петрарки или отсутствует, или окольна, - это предположение
звучит чуть ли не тавтологично.
В самом деле, по знаменитой сентенции Гвидо Гвиницелли,
любовь обретается в благородном сердце. Что ж толковать о "Я"
Петрарки вне его прославленной любви? Не будь стихов на
жизнь и смерть Лауры, - которые, правда, мало знакомы даже
просвещенным людям (во всяком случае, за пределами
Италии), но о которых зато наслышаны-то все, - кто ныне вообще
числил бы имя Франческо Петрарки в ряду первостепенных
имен человечества?
Но, если задаваться исследовательскими целями, вот какое
соображение в этом отношении куда серьезней.
У Петрарки есть одно-единственное произведение, пусть в
связи с абсолютно иной традицией и на ином языке, но все же
генетически и структурно совершенно сопоставимое с
"Повседневными" и "Стариковскими". Только два рода сочинений, эпи-
столярий и "Книга песен", растягиваясь на каркасе его
существования, взаимно накладываются. Только два замысла
соизмеримы с судьбой поэта в качестве сегментированных и вместе с
тем расчетливо сведенных в целое культурно-жизненных
свидетельств.
Латинские письма и итальянские стихи чрезвычайно далеко
отстоят друг от друга по темам, жанру и пр. Но у них общее
сверхжанровое смысловое задание. Они сходятся по
композиционной и содержательной подоплеке, а соответственно, и по
длительности написания, обусловленной в этих двух случаях не
только характерно-петрарковским пафосом литературного
совершенства, соревнования с великими римскими писателями и,
как следствие, нескончаемого редактирования (как это было с
_ 416
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
"Африкой" и пр.). Но и, так сказать, экзистенциальным
существом дела.
Это два наиболее своеобразных начинания Петрарки. Два
его самых непосредственно-личных и поэтому самых
неподражаемых подражания. Он не мог перестать писать друзьям,
покуда был жив. Продолжать эпистолярий значило существовать
в качестве античного "автора". Но точно так же он сочинял
сонеты к Лауре при ее жизни и после кончины, пока продолжал
любить или воображать, что любит. Ибо полагал душу свою
живой и достойной лишь в присутствии этого возвышающего
чувства. Между тем единственной действительностью любви к
Лауре было сочинение стихов о ней. Жар любви лишь
постольку, поскольку пылает как жар сочинительства,
засвидетельствован в своей подлинности и вечности.
5
Параллелизм писем и лирики сводится к тому, что
пафос редактирования совпадает с историей "Я". Материал по
определению таков, что предусматривает пожизненное, так
сказать, редактирование автором себя. Петрарка в "Книге песен"
возглашает и обдумывает разницу между начальным, зрелым и,
наконец, поминальным состояниями текстов ("вздохов") и,
стало быть, своей любви. Более того, автор превращает рефлексию
на перемены в уровне, звучании и смысле стихов к Лауре - в
сквозную тему книги, ее организующую. Наше внимание будет
приковано к воплощающим эту тему многочисленным
СТИХАМ О СТИХАХ.
Далее.
И эпистолярий, и "Канцоньере" это сборники, искусно
организованные задним числом. Оба корпуса литературных
высказываний о "состоянии моей души" делались по разным поводам
на протяжении всей зрелой части жизни, и завершить их в
принципе можно было лишь вместе с собою.
"Повседневные", напомню, Петрарка писал с 1351 по 1366 г.
Эпистолярий же в целом, т. е. вместе со "Стариковскими",
продолжал до конца дней, так и оставив оборванным. Что до
"Книги песен", задуманной и начатой в качестве именно книги в
1342 г., то поэт сочинял ее тоже преимущественно до исхода
60-х, а вообще-то до смерти.
14- 345
417 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Далее.
Эпистолы сочинены в "среднем стиле", коему Петрарка
стремится, опираясь на авторитет Цицерона, приписать
достоинство "непричесанности", т. е. якобы безыскусности и,
следовательно, личной подлинности. Тем самым иерархия стилей,
хотя и по-прежнему, разумеется, признается, но открыто пробле-
матизируется.
Точно так же обстоит дело с положением любовной лирики
на вольгаре. Оно колеблется в уме Петрарки между
традиционной второсортностью "народного языка" относительно
классической латыни и... фантастическим риторическим возвышением
"вздохов" в честь Лауры до почетнейшего Гомерова и Вергилиева
уровня (см. ниже).
В обоих случаях приподымание литературного статуса
"среднего стиля" неслыханно смело мотивировано
самоценностью внутренней жизни "Я".
Далее.
Идея целого, понятого как не только литературное
произведение, но и, сверх того, как верный отпечаток истории души,
привела Петрарку к необходимости дать вводный программный
сонет. Подобно тому, как точно так же понадобилась вводная
эпистола для эпистолярия. Следовало также предупредить
читателей о переменах в "Я" и в стиле стихов (соответственно, в
характере писем), которым надлежит свершаться, когда вянет
легкомысленная младость и на автора нисходит высшая
умудренность.
Вводного сонета оказалось, впрочем, недостаточно, чтобы
выдержать многообразную смысловую нагрузку. Поэтому в
начале "Книги песен" мы обнаруживаем целую россыпь вводных
стихотворений, подкрепляющих замысел сборника.
И наконец. Подготовить и поставить последнюю точку в
книге лирики (как и окончить эпистолярий) было делом еще
более затруднительным. Ведь сама возможность завершения
противоречила замыслу. Посему требовалось обосновать его с
той высшей значительностью, истоки которой находятся за
пределами самой книги - и ее санкционируют.
Здесь Петрарка поражает смысловыми "изобретениями".
Если послания к друзьям, сочиненные в подражание Цицерону,
поэт придумал завершить в "Повседневных" перепиской с са-
_ 418
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
мим Цицероном и другими античными авторами, а в
"Стариковских" решил отправить в финале письмо к
читателю-потомку, то послания к донне Лауре увенчаны обращением к Деве
Марии, этой, по выражению У. Дотти, «высшей парадигме,
которая влечет к себе и сопровождает все "благородные" чувства
влюбленного* (р. XXVII).
Правда, это не в пример более традиционный ход, чем
эпистолы древним. Зато ему предшествуют сложные и, так
сказать, глубоко эшелонированные риторические маневры на тему
исчерпания легкого и сладостного стиля стихов к Лауре,
который был так естествен, когда он, Франческо, впервые ее
встретил, когда он был все еще молод, наконец, когда она
была жива.
Нас будет занимать следующее. Каким образом Петрарка
через рефлективную развертку своего авторского "Я" разрешает
проблемы развития, единства и убедительного завершения
"Книги песен".
б
Биографический фон лирического замысла составили
два обстоятельства.
В апреле 1341 г. в страстную пятницу состоялась церемония
на Капитолии. В примерно таком же, почти
тридцатисемилетнем, возрасте Данте, земную жизнь пройдя до середины,
отправился в мистическое загробное странствование. Для Петрарки
этот возрастной перевал стал вершиной публичного признания.
Во вторую половину жизни оставалось озаботиться тем, чтобы
подтвердить заслуженность римского лаврового венца.
С другой стороны, вскоре после коронации последовал
знаменитый религиозный кризис Петрарки. Он сочинил
"Сокровенное". В исповедальном диалоге с "Августином" нашла
первое выражение рефлексия Петрарки на свои чувства к Лауре. И
сразу здесь же он принялся осмысливать свою честолюбивую
писательскую манию.
Так впервые встретились Лаура и лавр.
В "Сокровенном" Августин высказывает в завершение
спора прелюбопытное компромиссное предложение: ладно, пусть
Франческо, раз уж он все равно не в силах отказаться от этого,
14·
419 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
не оставляет честолюбивого сочинительства. Но пусть все-таки
превыше ставит благочестие.
О двойственности морально-религиозного сознания
Петрарки, пытавшегося совместить Августина с Цицероном,
написано много проницательных работ. Однако главное для всей
последующей творческой судьбы Петрарки - это не остро
обозначившееся замешательство традиционной набожности и не
начавшиеся тогда же поиски Петраркой идеологического
равновесия между воспеванием Лауры, самоупоением сочинительства
и страхом Божьим.
Кажется, главным в духовном переломе 1341-1342 и
последующих годов был приход поэта к полнозвучной авторской
рефлексии. Заодно то был специфически-петрарковский способ
разрешения религиозно-моральной коллизии.
Неслучайно поэт сразу же после "кризиса", мысленных
бесед с Августином и на следующий год после коронования на
Капитолии приступил к созданию беспрецедентной "Книги песен".
Отношение к себе, к Лауре и к поэзии предстояло
реализовать в писательской практике. Идейное равновесие обернулось
проблемой стихотворного качества и уровня. Оно решалось
композиционно: зачинами, движением от первой части ко
второй, обоснованием финала и т. п. Речь шла о некоем новом
странно-высоком, хотя и "среднем", стиле. Красота и
добродетели Лауры осмыслялись как предмет, требующий прославления
в особом "смешанном" жанре.
Короче, истоком и ядром самосознания Петрарки, подобно
тому как параллельно это же совершалось в эпистолярии, стал
Я-автор.
7
Поскольку выводы работы над эпистолярием вышли
далеко за пределы исследованного материала, меня тревожило
желание проверить их на "Книге песен". Пока не проделан
параллельный анализ любовной лирики, предложенная
аргументация, что ни говори, недостаточна для оценки творчества
Петрарки в целом.
Надобно, однако, сознаться, что подобная проверка
поначалу представлялась мне вряд ли достижимой. Хорошо известен
_ 420
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
непомерный стилистический и предметный герметизм "Книги
песен". В нее, в отличие от эпистол, практически совсем не
доносятся ни гул наружного мира, ни даже голос "реального"
Франческо.
Разве этот голос не превращен в вовсе стилизованный,
предварительно выработанный "новым сладостным стилем",
хотя и освеженный Петраркой, голос идеальной любви? Разве он
не предопределен традиционной, т. е. абсолютной,
условностью? Пускай в сочетании, если следовать за рассуждениями Де
Санктиса, с живым поэтическим чувством, - однако же в
замкнутом на себя литературном пространстве.
Я опасался, что из попытки перейти от эпистол к сонетам и
канцонам не получится ничего путного и убедительного в
плане изучения того, каким именно образом новое "Я" Петрарки
вырастало из рефлексии на авторство. А все остальное
относительно "Канцоньере", кажется, уже изучено.
Настал, однако, момент, когда, положив перед собой текст с
введением и комментариями Уго Дотти, я сказал себе: "Отчего
бы не попробовать? Самое худшее, что может случиться, я не
совладаю с задачей и публиковать окажется нечего. В любом
случае предстоит провести несколько месяцев над стихами
Петрарки. Не так уж плохо".
8
Но как все-таки под намеченным углом зрения
методически подступиться к литературно отутюженной,
пропитанной парафразами и реминисценциями от Вергилия до Данте,
сплошь состоящей из общих мест и риторических ходов "Книге
песен"? То есть каким способом выявить в слишком
неподатливом для этой цели материале нарождение
индивидуализированного Я-автора?
Этот же вопрос можно переформулировать более
нейтрально и просто. Как обстоит дело с литературным и смысловым
единством "Книги песен"? Можно ли в ее внутренней форме
проследить какую-либо динамику, меняются ли стилистика и
смысл по мере движения от начала книги к ее завершению.
Хорошо пишет об этой трудности Уго Дотти:
"...Выстроить единство некоего внутреннего автопортрета,
если он основан на идеальном любовном опыте и в высшей сте-
421 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
пени соткан из намеков, это нечто совсем иное, нежели строить
или реконструировать картину событий, личных и
исторических, органически увязанную с настоящим". В эпистолярии -
куда как более «... весомый материал, состоящий не из одних
чувств и порываний, анализов "Я" и разборов своей внутренней
жизни, но из конкретных биографических фактов, суждений о
человеческой исторической, в том числе политической,
деятельности, описаний происходящего и определений
собственного отношения, часто с полемическими акцентами. Взгляд,
одним словом, распространяется на целый мир, и не только на
настоящее, но и на прошлое. Совсем иным делом кажется,
напротив, придание определенности колеблющемуся внутреннему
профилю. Петрарка сперва раскладывает его на разные и даже
противоположные составляющие, а затем сводит их и добивается
"мира" между ними, неизменно желанного, но никогда не
достигаемого вполне. А это значит, что реальная архитектура петрар-
ковой книги должна быть усмотрена не столько как результат
того или иного "проекта", а скорее - как это, впрочем, давно
признано в серьезном литературоведении - в своем
лингвистическом отпечатке и в той формальной гармонии, которая всегда
чаровала в "Канцоньере" читателей всех веков и стран, в качестве
высшего образца современной лирической поэзии* (р. XI- XII).
Приговор, стало быть, таков. "Книга песен", несмотря на все
усилия Петрарки, осталась лишена сюжетного, событийного
или какого-либо иного композиционного единства. Единства как
отпечатка авторского замысла, по общему мнению, в ней нет.
Можно говорить только о единстве на уровне поэтического
языка. Причем как раз потому, что он на всем протяжении
книги остается неизменным. Тщательно отделанная статика, вот,
собственно, то, что только и скрепляет "Canzoniere".
Эти выводы, "давно признанные в серьезном
литературоведении", сами по себе действительно неоспоримы2.
9
Название, изначально данное Петраркой (Rerum vul-
garium fragmenta, "Из сочинений на вольгаре"), весьма
продумано. Оно указывает на соединение стихов разнохарактерных,
разрозненных, а притом подразумевает некоторую цельность,
_ 422
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
обусловленную отбором. Что до закрепившегося знаменитого
названия "Canzoniere", то оно впервые появилось, очевидно, в
издании 1516 г. (см. р. VII). RVF - о любви, и не только о
любви, составленная самим сочинителем, - это, по сути, авторское
"Избранное" на "вольгаре". Что уже само по себе было
свершением беспрецедентным и лишь спустя века станет обычнейшим
делом.
По поводу целостности "Канцоньере" и способов
развертывания сборника хотелось бы, не вступая в спор с
устоявшимися оценками, взглянуть на дело под нетрадиционным, т. е. не
литературоведческим и не лингвистическим, а
логико-культурным углом зрения.
Единство лирического сборника Петрарки видится иначе,
если рассматривать его как воплощение сквозного и
непрерывного авторского самосознания, лежащего в основе также и
композиционных усилий.
Попробую обосновать в этой работе два тезиса. Понимаю,
что рискованно формулировать концепцию до предъявления
результатов исследования. Странное предварительное резюме,
вне замедленной проводки через материал, пока что прозвучит
неизбежно отвлеченно и сомнительно. Зато читатель будет
заранее знать, куда клонятся несколько причудливые изгибы
поневоле мозаичного изложения. И получит возможность
придирчиво сверять каждый последующий шаг с тем, что сейчас
будет заявлено.
10
Во-первых.
Думаю, Петрарка все же сумел добиться вполне реального
композиционного и смыслового единства "Книги песен",
благодаря повышенной и сквозной, более последовательной, чем это
было когда бы то ни было заведено до него, акцентировке
внутри сочинения авторских намерений и самооценок. Такое sui
generis единство совпадает с установкой на единство.
Скрепляется рефлексией на единство.
Иначе говоря, источник и одновременно результат -
цельность книги - это жизненно-литературное "Я", формируемое
по ходу сочинительства. Так в эпистолярии; так и в лирике.
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
"Я" не существует до текста. Оно не просто выражает себя в
тексте, оно посредством него возникает.
"Я", оказываясь основным культурным (смысловым)
следствием произведения, вместе с тем становится его осознанной
причиной.
И во-вторых, в том же логическом ключе: неподвижность
языковой и стилевой гармонии "Книги песен" менее
существенна в культурно-историческом отношении, чем высказанное в
стихах мнение автора, уверяющего нас, будто стиль книги
менялся соответственно возрасту и состоянию души любящего.
и
То есть, в данном случае и с этой точки зрения,
замысел и намерения как таковые гораздо значимей, чем
достигнутый результат. Они сами и есть наиважнейший
содержательный результат.
Для того чтобы проверить это утверждение, на первый
взгляд слишком сильное, надобно удостовериться, что
"субъективные" намерения и "ошибочные" самооценки поэта все же не
просто декларированы. Формализм авторства составляет
изнутри стихов их же настойчивый мотив и предмет,
соперничающий с объявленной любовной темой, и то выделяясь и
расходясь, то сливаясь с нею.
В "Книге песен" двойная смысловая доминанта. Стихи о
любви - и СТИХИ О СТИХАХ. Они-то и явятся
преимущественным материалом предстоящих разборов.
Отсюда знаменитая двойчатка "Лаура/лавр".
Ее решающая важность для книги общеизвестна. Она
толкуется в связи с мифом об Аполлоне и Дафне как
любовь/поэтическая слава. Такое значение верно. Однако под ним залегает, как
мы увидим, более оригинальный и всеобщий смысловой пласт.
В исповедальном контексте "Сокровенного" беседа
традиционно текла по поводу двух греховных помех на пути к
благочестивой моральной чистоте. Занятие поэзией, как и земная
любовь, есть соблазн, ибо отвлекает от небесного и питает,
вопреки набожному смирению, мирское честолюбие. Отсюда
"лавр" как риторический знак славы. Однако в трактате, и еще
_ 424
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
выразительней в "Книге песен", слава в грядущих поколениях -
ЛАВР - это метонимия величия самой поэзии. Это символ Муз
и Геликона.
Дальше - больше. Необоримая потребность сочинять
выступает у автора "Канцоньере" как свойство, неотделимое от его
врожденного личного дара (ingegno). Автор не в силах
совладать с этой страстью, он унесет ее с собой в могилу и т. п.
Поэтому постоянное описание или упоминание ЛАВРА в связке с
ЛАУРОЙ дву-смысленно. Значения скрещиваются,
соотношение их переворачивается.
Физическое замещение Лауры лавром - по исходному
смыслу тоже мифопоэтическое, вослед овидиевым "Метаморфозам"
(р. XXXII etc.). Однако лавр также оказывается замещением
самого поэта. "Дафнианский" мотив перерастает историю страсти
Аполлона к нимфе, становясь мотивом сочинительства. Ибо
лавр пленителен не только потому, что созвучен имени Лауры,
он не только развернутая в буквальном соответствии с мифом
метафора любимой донны и вечной любви.
У этого деревца собственная топика.
Неувядающая лавровая листва самоценна как знак
бессмертного авторства.
Мы увидим, как изнутри и взамен темы любви происходит
подстановка и подмена ее темой творчества. Триумф авторства,
а не любовные муки, приравнивает, как пишет Петрарка, поэта
к императорам.
В итоге, лавр в "Книге песен" мысленно консонирует с
Римом. Он указует и на Лауру, и на ее певца как человека,
живущего и сознающего себя рядом с древними. "Лавр" на калсдом шагу
напоминает читателю не только о Лауре, но, конечно же, и о
достославном венчании автора на Капитолии. Лаура и лавр -
неразрывно сплетенные реквизиты писательской автобиографии.
Так 1327 год встречается с 1341-м.
12
Неудивительно, что Петрарке поэтому необходимо,
чтобы все самое важное по этим обеим линиям (смерть Лауры
тоже, написание "Африки" тоже) происходило в один день, в
425 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Страстную пятницу. Лавр означает вечно зеленеющую в веках
поэзию "Канцоньере".
В конечном счете, это знак существования и достоинства
авторского Я. Способного так писать о своей любви! и, значит,
так любить!
"Лавр", будучи знаком одновременно и прекрасной донны, и
поэтического мастерства автора, помогает произвести
решающую для замысла и конструкции "Канцоньере" смысловую
инверсию. То, что Я любит и поэтому пишет о любви, вполне
традиционно. Но совершенно ново то, что именно в рефлексии на
свое сочинительство влюбленный поэт обретает
самоидентичность. Петрарка в "Канцоньере", как и в эпистолярии,
сосредоточивается на себе как пишущем.
А это обратным ходом распространяется на весь его
литературно-жизненный мир и вдыхает в сочиненную страсть
небывалую тонкость. Реальность Я-автора накладывает отпечаток
подлинности на высказывания Я-влюбленного.
Когда епископ Джакомо Колонна полушутливо заподозрил
Франческо в том, что никакой Лауры нет и не было, что
любовные стихи с этим именем сочинялись ради рифмы, игры с laurea
и авторского честолюбия, и когда в точности то же мнение
позже высказал Боккаччо, то огромная доля истины в этом,
конечно, была.
В заинтересованном и обдуманном ответе Петрарка, тем не
менее, настаивает на реальности Лауры и своего чувства к ней.
Но его ответ не может быть сведен к автобиографическому
фактическому свидетельствованию (Fam. 11:9, 18, 22). Петрарка
разъяснял, что литературно-жизненная ситуация гораздо
сложней антитезы, была ли на самом деле любовь к Лауре или это
поэтическая фикция. (Я касался этих страниц в связи с эписто-
лярием. Ниже еще предстоит обратиться к ответу Петрарки в
третий раз и с наибольшей обстоятельностью.)
Поэт не фокусничает, не притворяется, не придумывает
несуществующего. Однако верно и то, что описываемое им
относится к существованию в особом модусе, поэтическом.
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
13
Изготовясь в канцоне 71 описать ее глаза, поэт
начинает с того, что краткость жизни может сделать эту задачу
невыполнимой. Поэтому "талант страшится высокого начинания,
и я не слишком верю в его успех (Pingegno paventa a léalta
impresa, / né di lui, né di lei molto mi fido ...)".
Между прочим, рассуждая о трудности темы канцоны, в
первых стихах ее автор не роняет до поры ни слова о том, в чем
же, собственно, эта тема будет состоять. Поэт держит ее на уме
до седьмой строки. С тем, чтобы, наконец-то указав ее, тут же
риторически молвить в строке восьмой: "il mio debile stile", "мой
слабый стиль".
"Боль, почему ты сбиваешь меня с пути и побуждаешь
говорить то, о чем я не хочу говорить?"
Текут параллельно и пересекаются две темы. Вот то, что я
чувствую. А вот то, как я пишу о своих чувствах. Хорошо ли
пишу, достойны ли несравненной донны мои стихи?
"Канцона, ты не успокоила меня, но лишь разожгла
желание высказать то, что влечет и уносит меня к себе самому (anzi
m'infiammi / a dir di quel ch'a me stesso m'invola). Поэтому не
сомневайся, что ты не останешься в одиночестве". Неминуемы
еще две канцоны о глазах Лауры.
Автор сочиняет, желая высказать то, что обуревает его. Но
то, что он сочиняет, лишь разжигает потребность в новом и
новом высказывании.
Петрарка рассуждает, не смог бы кто-либо другой написать
лучше. Или дело не в этом, поскольку "невероятная красота"
Лауры вообще превышает возможности поэтического слова
(71:19-21). То есть автор явно не в состоянии говорить о глазах
Лауры, не отвлекаясь на, так сказать, профессиональную тему.
Он выражает традиционную надежду, что его стихи заслужат
одобрение там, где оно ему всего дороже, т. е. у самой донны.
Но это не мешает тут же заявить нечто совсем иное.
"...Слова и сочинения изливаются из меня сработанными так, что я
надеюсь, они меня обессмертят... ибо плоть-то умирает (escon di
me si4 fatte allor chYspero / farmi immortal, perché la carne
muoia" (71:94-96).
Опять проглядывает оголенный главный нерв книги.
427 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ППТАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
14
Плененные изысканностью выпеваемого любовного
чувства, мы то и дело принуждены выслушивать подобные
авторские самооценки. Лавр это Лаура, да, но Лаура - это лавр.
"И я берусь за новые и новые листы бумаги (onds го рги carta
vergo)"- 72:78.
Следующая канцона триптиха о глазах Лауры из всех трех
наиболее насыщена рефлексией поэтического высказывания на
себя самое (поэтому несколько ниже придется поговорить о
73-й канцоне особо). Едва ли менее, чем чувством к Лауре,
Петрарка всецело поглощен своей способностью выразить это
чувство и воспеть Лауру в стихах, качество которых не должно
уступать ничему из прежней поэзии, хотя бы и античной.
Известно, что весь "Канцоньере" подсвечивается этой
двусмысленностью. Я-любящий осуществляет свое чувство и себя
только в качестве Я-пишущего. Книга открывается строками о
"вздохах"-стихах. "Послушайте в стихах звучание тех вздохов",
и т. д. Затем это одно из наиболее часто повторяемых слов.
"Вздохи" дойдут до Лауры. То есть: донна прочтет эти стихи
благосклонно.
Стихи суть данность любви. Это то, с чего начинается
чувство. И то, с чем оно остается за гробовой доской. Дама
недоступна, она всегда вдалеке. Но следы ее шагов близ дома поэта,
вдоль берегов Сорги, можно увидеть в воображении. Вот Лаура
и вовсе на небесах. Но стихи - стихи всегда здесь и сейчас,
неразлучно с влюбленным автором.
Принцип, вообще-то заявленный еще трубадурами, -
любить значит "рассуждать о любви" - до Петрарки никогда не
был выявлен с такой рефлективной четкостью и в таком объеме.
Петрарка выстроил вокруг старинной идеи ragionar d'Amore
всю "Книгу песен". Это, пожалуй, не менее значительная тема
его лирики, чем сама любовь. Впрочем, как правило, Петрарка
обе темы объединяет. Притом поэт сумел сплавить
отвлеченный топос "ragionar d'Amore" со снедавшей на удивление
современников именно его, Петрарку, лихорадочной врожденной
личной сочинительской страстью.
_ m
15
Сонет 61 самый известный сонет у Петрарки и
действительно из числа прекраснейших.
Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!
(Перевод Е. Солоновича)
Благословение самой любви выговорено в кватренах. А в
терцинах дано благословение стихам о любви.
«Благословенны будьте бесчисленные слова (букв.: "звуки",
"voci"), которые я расточал, называя имя моей донны, и вздохи,
и слезы, и страсть. Благословенны будьте все стихи (букв.:
"[исписанные] листы", "carte"), / которыми я стяжал ей славу>.
Не мог бы Франческо в конечном счете сказать: "Я люблю
Лауру, ибо пишу стихи к ней"? Нет, разумеется, так он никогда
выразиться не мог бы. Это было бы совершенно немыслимым
анахронизмом до... может быть, до Гейне? Это означало бы
романтическую иронию, усмешку над собой, остранение
любовного пафоса.
Но в свете последующего культурного опыта мы вправе
усмотреть в лирической книге Петрарки именно такую потенцию.
Такова свернутая до поры смысловая пружина в тот
исторический момент, когда поэзия "сладостного стиля" лишается
спиритуалистической санкции.
Конечно, и Данте писал о себе: "Спешите почтить
величайшего поэта". Все же "Новая жизнь" держится мистическим
порывом. Лишь начиная с Петрарки, ситуация становится
окончательно и всецело литературной.
Однако как раз "литературность" - напряженность и
самоупоение профессионального авторства - в данном случае
способствует рождению беспрецедентного "Я".
429 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
16
Канцона 73, последняя из трех канцон "о глазах"
Лауры, начинается словами:
"Если уж моя судьба в том, что пылкая страсть, которая
принудила всегда и непрестанно вздыхать, заставляет меня
писать стихи, - так пусть же Любовь, захватившая меня, будет
поводырем, научит распознавать дорогу и обратит свой пыл в
мерность моих стихов (le mie rime contempre). Но не так, чтобы
сердце изныло от избытка нежности (soverchia dolcezza). Вот
чего я боюсь, потому что внутри себя ощущаю то, чего не
постичь стороннему взгляду.
Ибо [поэтическая] речь меня воспламеняет и будоражит,
несмотря на даровитые старания. Отчего я теряюсь и дрожу.
Иногда происходит вот что: я обнаруживаю, что жаркие усилия
ума [не смягчают страсть, но, напротив] приводят ум в
расстройство. Я просто-таки расплавляюсь при звуках
[собственных] слов (anzi mi stniggo al suon de le parole), подобно тому как
человеческая [фигура, вырубленная] изо льда тает под солнцем.
Сперва я думал, что, сочиняя стихи (parlando) о своем
горячем чувстве, найду [за этим занятием] какую-то краткую
передышку, какое-то успокоение. Эта надежда заставила решиться
обдумать то, что я ощущал в себе: вдруг меня на время
отпустит, и я рассеюсь. Но, однако, предмет моих [поэтических]
затей такой высокий, а чувство, переносящее меня [мысленно к
Ней], когда я продолжаю петь о любви, такое сильное, - что
рассудок мой гибнет, он более не держит меня в узде, он не в
силах противиться".
Мотив сочинения любовных стихов занимает первые
тридцать строк канцоны. Он подсвечен собственно любовным
мотивом "моей нежной погибели", переплетается с ним и
подготавливает егочдальнейшее уже самостоятельное звучание.
Во второй части канцоны (31-78), после слов "Я говорю",
поэт принимается воспевать глаза любимой. "Никогда не смог
бы вообразить, тем более поведать о том, что могут сотворить с
моим сердцем эти ласковые очи. Все другие радости жизни
блекнут рядом с этой, все другие красоты отступают перед ней"
и т. п.
_ 430
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
В финале тема любовного отчаяния, однако, опять
возвращает тему сочинительства. "Я несчастен, не бывать никогда и
никак тому, чего я жажду всечасно. Я живу безнадежным
желанием. О, если бы только спали путы, которыми Амур связывает
мой язык, тогда я набрался бы смелости сказать о ней слова
столь новые (или: столь небывалые), что они исторгли бы
слезы у тех, кто их услышал бы. Но сердечные раны заставляют
меня лишь сокрушаться и отворачиваться, я не в силах
смотреть в ее глаза, кровь куда-то отхлынет, и вот я бледнею, я уже
сам не свой. Мне кажется, что Амур разит и убивает меня".
И посылка. "Канцона, я чувствую, что перо уже устало от
долгих и нежных бесед с ней, но не устают говорить со мной
мои мысли".
"Со.НеГ, как сообщает комментатор, по мнению одних,
указывает на Лауру, по мнению других, на само "перо"
(по-итальянски в женском роде, реппа). Если так, то вряд ли Петрарка
допустил синтаксическую небрежность. Сознательная
двусмысленность была совершенно в духе общего раздвоенного смысла
канцоны и всего сборника, одновременно обращенного к Лауре
и на себя как писателя.
Сочинение стихов, согласно канону, призвано умерить
невыносимый избыток нежного чувства. Стихи должны
гармонизовать любовь, давая выход любовному пылу. Мы не раз
встречаем у Петрарки это общее место (например, 23:4 и 50:57). Но
ведь здесь поэт жалуется, что, напротив, сочинение любовных
стихов лишь пуще распаляет его страсть.
Это на самом деле необычный и вызывающий антитопос.
Сочинение любовных стихов как горючее для самого чувства?
Вот почему снова и снова возникающий вопрос, которым и
нам придется заняться, была ли Лаура и так ли уж реальна эта
самая знаменитая любовь, с историко-культурной точки зрения
неуместен. Лаура была. Если она литературный артефакт, что
ж, точно таким же артефактом следует признать Франческо,
т. е. сознающее и воображающее себя "Я" Петрарки.
17
В заключение канцоны автор заявляет, что его перо
устало. Так обозначена смысловая дистанция между "я" и со-
431 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
чинительством. "Я" сочиняет - и любит. Пишет - и формирует
свою, как мы теперь выразились бы, личную жизнь.
Сочинителем в Петрарке не исчерпывается его "Я". Но притом "Я"
рождается в горизонте авторства, под скрип пера.
Девять раз, не считая заключительной терцины, в канцоне
звучат слова, обозначающие сочинительство: dir (2), le mie rime
(6), Ί dir (10), al suon de le parole (14), parlando al mio ardente
desire (17), ragionar (20), Pamorose note (22), io dica / Amor (27-
28), dir parole <...> sî nove (83).
(Праздная реплика в сторону. Каким это, спрашивается,
образом Петрарка имел случай видеть ледяные фигуры? Или он
прочитал о них у кого-то из античных авторов?)
18
"Канцона, одна из твоих сестер только что была до
тебя, а другая, чувствую, в том же приюте вот-вот появится. И я
берусь за новые листы бумаги (ond'io più carta vergof (72:76-
78).
Петрарка часто разговаривает со своими стихами. В
частности, обращение в "посылке" к канцоне само по себе
обязательный и тривиальный жанровый ход. Но у Петрарки он
выполняет функцию, выводящую за пределы риторики. Он позволяет
усилить и удвоить "Я" - в роли пишущего и в роли любящего.
Любопытно, как четко Петрарка различает то, что мы назвали
бы непосредственным переживанием, и то же переживание в
качестве предмета и материала стихов. Он пишет о стихах
только что сочиненных, а затем и о тех, которые еще предстоит
сочинить.
В этом психологическом и временном интервале изнутри
текста проглядывает затекстовый автор. Поэт поминает о
"СЕБЕ САМОМ", ME STESSO. Голос влюбленного, в последний
раз обмакнувшего перо для канцоны 72, звучит накануне
нового сочинения. Словно бы в тот миг, когда он изготовился
перевернуть сшитые листы рукописи, чтобы начать с чистой
страницы.
Посылка 71-й канцоны получает подробную развертку
(амплификацию) в 73-й канцоне. Стихи, когда их пишешь,
волнуют воображение и заставляют терять голову. Вновь поэт напо-
_ 432
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
минает о своем затекстовом существовании. Теперь словно в
чаду сочинительства. Автор жалуется, что, сочиняя, он
забывает, что он сочинитель. Отделяется от себя, пишущего. В
качестве писателя ему надлежало бы обратить свой дар на то, чтобы
уложить влюбленность в подобающие литературные мерки. Ан
нет! ум его, видите ли, мутится.
Так Я-влюбленный и Я-автор в качестве причины и
следствия меняются местами. Я пишу, желая высказать то, что
обуревает меня, но то, что я пишу, разжигает мою страсть.
Рефлексию на такую обратную связь поэзии с любовью
Петрарка делает, в свой черед, интимной темой. Влюбленный поэт
играет со своими стихами, как кошка с собственным хвостом.
19
И еще, из сонета 74.
"...Петь о лице, и волосах, и прекрасных глазах, всегда о
них я толкую (ond'io sempre ragiono), язык и слова постоянно
наготове (поп е mancata omai la lingua e Ί suono), дабы днем и
ночью твердить ваше имя <...> И всегда под рукою чернила и
бумага, которую я заполняю вами (et onde vien Penchiostro,
onde le carte / chY vo empiendo di voi). A если не получится
написать, как следовало бы, то повинна в этом [сводящая с ума]
Любовь, а вовсе не недостача искусного мастерства (colpa
d'Amor, non gia defecto d'arte)". Опять и опять: быть
влюбленным значит хвататься за чернила и бумагу, которые всегда под
рукой. И сознавать свое мастерство. Если я не сумел сказать о
ваших прекрасных глазах и волосах так, как они заслуживают,
то не потому, что я недостаточно искусный автор. А потому, что
слишком горю любовью.
Разумеется, и это всего лишь очередной литературный ход.
Петрарка действует исключительно в пределах риторики. Иное
дело, каким образом ему удается использовать ее средства в
сильном личном повороте. Подлинно личное здесь состоит не в
избытке любовного безумства, якобы мешающего поэтическому
качеству. А, напротив, в обворожительной уверенности автора
относительно своей искусности.
"Дай чернил и бумаги", писал наш Бродский, для которого
то и другое, как и "перо", суть обычная метонимия "песни", со-
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
чинительства, творческого дара. Что значит "обычная"? Мы
знаем, что эти топосы изобретены отнюдь не Бродским. Но и не
Петраркой. Они были заимствованы Петраркой у римских
поэтов. То есть им сегодня 2000 лет и более.
Подобные общие места не просто кочуют из одной
поэтической эпохи в другую. Происходят диковинные смысловые
метаморфозы. Общие места всякий раз попадают в новый
культурный контекст. В случае Петрарки они работали с огромной
эвристической нагрузкой. Они способствовали зачатию
индивидуалистического самосознания Я-автора.
20
Может быть, стоит лишний (?) раз напомнить
методологические максимы, из которых я, как и раньше, буду
исходить. Глубоко разработанные М.М. Бахтиным, они известны
тем, кто думал над его трудами.
Любое произведение не равно себе. Прежде всего потому,
что в нем много разнородных исходных элементов, подчас
почти несовместимых, однако сходящихся - более или менее
уникально ("казусно") - в многослойной структуре. Главное же,
произведение есть инициатива προ-изводящего ума,
увидевшего себя в непривычном положении и силящегося выразить
некий пороговый смысл.
Тогда-то внутри традиции происходит сдвиг. Прежние
матричные элементы высказывания (поведения), взятые по
отдельности, формально остаются как будто теми же. Тем паче, если
они преднайдены индивидом на традиционалистской основе.
Но их синтагматика уже иная. В итоге смещаются смысловые
функции внешне одинаковых культурных компонентов. Об
этом блестяще писал Тынянов.
Системно-функциональные исторические перемены делают
необоснованными довольно частые старания исследователей,
исходя из "ментальной" преемственности, из инерционности
сознания, из действительного или мнимого сходства отдельных
элементов в прежних и новых культурных текстах и кодах,
сблизить всё и вся.
Приходится, в частности, возражать против объединения
через понятия "риторики" или риторической сверхэпохи ("эо-
_ 434
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
на") функционально совершенно разных исторических явлений
(см. ниже, часть III).
Установить сближения и сходства почти всегда нетрудно.
Однако пафос истории как повтора, продолжения, сохранения
неподвижной сути при внешних модификациях - это, по моему
убеждению, в итоге подход не историчный.
Для историка сей соблазн тем более опасен, что в нем есть
немалая доля истины, сбивающая с толку. Марк Блок в
"Ремесле историка" иронизировал по поводу "эмбриогенического
наваждения", когда определенная черта объясняется не ее ролью и
местом в современной системе общественных отношений, а тем,
каково ее происхождение.
Между тем, все дело в том, как срабатывает тот или иной
формальный элемент в новом системном контексте.
История есть изменение системных конфигураций.
Так, в истории культуры, т. е. в истории смысловых миров,
понимание каждого из них упирается, при сколь угодно
очевидных сходствах и повторах, в его отличие от всех прочих
смыслов. В его особенное.
Для объяснения объектных (вещных) структур и тем более
для понимания другого субъекта важней всего пафос особенного.
Культурно-особенное соотносимо не с обезличенным
"общим", выносимым за скобки из многоразличных своеобразий.
Оно есть не что иное, как непосредственность всеобщего смысла.
Культурно-всеобщее осуществляется лишь в качестве
ЭТОГО. Иначе говоря, это всеобщее, с которым в каждом случае
совпадает особенное. Будучи всеобщим, всякий особенный
субъектный смысл продолжается в бесконечности своих
метаморфоз, развертывается в нескончаемых "диалогах", во
встречных толкованиях.
Придерживаясь различения между объектным "общим" и
субъектным "всеобщим", я опираюсь, помимо Бахтина, на
логико-культурную концепцию B.C. Библера.
Будучи фокусом, собирающим и преломляющим
разнонаправленные лучи историко-культурной ситуации, произведение
уже тем самым ее сдвигает. Впрочем, автор сознает содеянное
им лишь отчасти и обычно заходит много дальше, чем
предполагает. Даже дальше, чем способны разглядеть ближайшие
последующие поколения в рамках того же типа культуры.
435 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Ибо смысловое усилие обладает мощной избыточностью,
необходимой для достижения какой бы то ни было культурной
цели. Отсюда мерцающий, переменчивый, навсегда остающийся
"неготовым" субъектный "смысл".
Напротив, если бы мы трактовали некое высказывание как
"текст" (а не произведение), т. е. беря его наподобие вещного
объекта, то из него полагалось бы вытянуть единственно верное
"значение". То, что хотели бы верифицировать жестко,
формализованно, т. е. на естественно-научный, а не "всего лишь"
общенаучный, сиречь научно-гуманитарный лад, - должно быть,
конечно, избавлено от расплывчатого, вечно спорного,
досадного избытка.
Зато в субъектном (культурно-смысловом) плане избыток
принципиально неизбежен и плодотворен. Неичерпаемы его
вненаходимые и непредвиденные отклики в накапливающихся
по ходу истории контекстах.
Толковать произведение значит добиваться логической
доводки того, что в нем высказано, хотя и не выказано;
содержится скорее интуитивно, чем в последовательном намерении;
скорее в намерении, чем в полном итоге; и скорее в исторической
ретроспективе, чем актуально.
На всем этом я и стою, не могу иначе. Правомерность иных
подходов притом не только "вежливо" признаю, но
действительно ценю и своекорыстно заинтересован в их
правомерности. Ведь лишь на границе с жестко-объектным исследованием
возникает возможность гуманитарности по преимуществу - и
ярко вспыхивает гений Бахтина.
21
"Книга песен" принадлежит "риторической эпохе", как,
впрочем, все, что будет создано поэтами в течение еще примерно
четырех столетий. Мы слишком ясно ощущаем и дорожим
исторической органикой, или, скажем проще, старинностью лирики
Петрарки. Однако тем острей она может и должна быть
прочитана в контексте нашего индивидуалистического опыта.
Было бы культурно-безнравственно, бессмысленно, и мы не
смеем приписывать Петрарке себя и свое. Но вместе с тем вне
нашего опыта слово Петрарки мертво. И, как ни странно, лише-
_ m
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
но именно собственной неповторимой значительности.
"Музейное" консервирующее прочтение было бы внеисторичным.
Поскольку история культуры это не Петрарка, взятый описательно
"как таковой". Но это и не мы и наше время, эгоцентрично и
своевольно судящее и рядящее о Петрарке. Для экзегезы
потребен обоюдный диалогический резонанс.
Это то, что происходит между Петраркой и нами.
В "Канцоньере" сочинитель то и дело выходит сам на
авансцену и скрепляет реальность "Я", любящего Лауру, печатью
рефлексии на свое сочинительство.
Я - автор, следовательно, существую.
Вот почему результатом литературной работы Петрарки
можно бы считать не степень сбитости лирического сюжета,
пригнанности 366 стихотворений друг к другу» не уровень
готового единства текста. А уровень выраженности замысла
подобного единства. Произведение заявлено поэтом как отпечаток его
особого "Я".
В книге на первый план выдвинут ПРОЕКТ АВТОРСКОЙ
КНИГИ.
Твержу еще и еще раз: дело не в том, удалось ли Петрарке
осуществить это усилие, не оказалось ли оно совершенно
формальным. Конечно же, оказалось.
Но: чем формальней, тем выразительней.
Ибо тем чище иЯп прочерчено как сугубая знаковость.
В логико-культурном отношении новое Я Петрарки
возникает и концентрируется в форме запроса индивида на такое Я.
Это беспрецедентное усилие Я-автора самоценно. Изнутри
лирического высказывания оно составляет его существенную
предметную составляющую. Мы наблюдаем волю к единству
книги, а тем самым к самоутверждению авторского Я. И
наоборот! Рефлексия на собственное сочинение, на степень его
единства, на то, изменяются ли внутри него "Я" и стиль - любящее
"Я" как стиль, - вот ключ к своеобразию книги.
Лирическая книга стала купелью Я, не бывшего до нее.
22
Но разве Петрарка не сочинял в готовом русле
книжной традиции "нового сладостного стиля", провансальских тру-
437 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
бадуров, также и римских поэтов любви? Соответствующие
риторические клише и топосы изучены вдоль и поперек.
Мы же сосредоточимся на ретроспективе.
Она схематически состоит в том, что соотношение "двух Я",
реально-жизненного и писательского, в XIV в., в исходной
ситуации, когда и Я-автор, и вообще автономное "Я" только
нарождаются, - это соотношение нуждается в парадоксальных
коррективах.
Да, Петрарка - и в этом он все еще средневековый человек,
а вослед за ним отчасти таково и ренессансное сознание
вообще - сакраментально зависит от готовых мыслительных и
словесных образцов. Он не в состоянии и шагу ступить без
Цицерона, Августина и Вергилия, без античных auctores, a в "Кан-
цоньере" и без Данте и пр.
Однако зависимость его от них уже странная. Поэт
определяет круг излюбленных именно им авторов и сочинений. Он
объявляет о своих личных предпочтениях. Он вступает с этими
авторами в задушевно окрашенную беседу, вплетает их
сентенции в собственные размышления, интонирует и парафразирует
готовые риторические формулы и общие места применительно к
"состояниям собственной души". Наконец, он в высшей степени
заботится о том, чтобы ничего не повторять буквально и
стремится насытить свое подражание "изобретением", личной
сочинительской инициативой, дабы сознавать себя поистине
"новым" автором, наравне с древними и словно бы одним из них.
Петрарка придает традиционному культу дамы сердца
окраску заметно более личную, чем у его предшественников, притом
личную и конкретную прежде всего опять-таки в плане
писательского самосознания3.
23
Часто писали, что Петрарка связывал надежды на
славу в грядущих поколениях главным образом с мучительно
дававшейся ему латинской эпической поэмой "Африка", о которой
образованные потомки, подобно современникам Петрарки,
будут разве что наслышаны по названию, но не станут читать. И
что бессмертие поэту принесли, напротив, любовные сонеты,
которые он писал между делом и считал второстепенным жанром.
_ 438
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
В этом есть доля истины, связанная с традиционной
риторической поэтикой, которую поэт разделял, хотя и старался
подправить по-своему. Но в целом, разумеется, это не так.
Петрарка не клал яиц в одну корзинку и в постоянных мечтаниях о
нетленности своих сочинений полагался едва ли не на каждый
исписанный им лист: и на "Африку", и на прозаические
эпистолы, и на стихотворные послания, и на "Сокровенное", и на
трактаты, и на "Эклоги", и на "Буколики", и на "Жизнеописания
достославных мужей", и на "Триумфы".
И на "Rerum vulgarium fragmenta" тоже. Притом далеко не в
последнюю очередь.
Недвусмысленно высказался по этому поводу в седьмом
сонете. "LA MAGNANIMA TUA IMPRESA" - вот что такое
"Книга песен" в глазах самого Петрарки. "Твое великое начинание"...
Сочинение, которое, "я надеюсь, обессмертит меня ("fspero/
farmi immortal..." - 71:95-96).
В "Канцоньере" там и сям разбросаны соображения автора
о том, что представляют собой его стихи к Лауре в контексте
традиционной латинской поэтики. Одной из моих задач будет
свести эти замечания вместе как презанятную попытку
Петрарки, оставаясь внешне в границах риторики, теоретически
осознать и утвердить личную новизну своей итальянской
лирики.
Из истории создания
"Книги песен"
1
Начну с краткого обзора сведений, добытых
несколькими поколениями петрарковедов и прежде всего Эрнстом
Уилкинсом.
Уилкинс довел до кульминации текстологическую работу
своих предшественников. С тех пор в этом направлении добыто
мало существенно нового4.
"Книга песен" не была "сделана", подобно дантовой "Новой
жизни", единым разовым усилием. Но речь не идет и о простом
постепенном накапливании стихов. Сборник был результатом
439 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
однажды принятого решения, отбора и тщательной
организации материала.
К созданию беспрецедентной книги Петрарка приступил в
1342-м и продолжал до конца дней. Американский
исследователь проделал тщательный анализ прижизненных рукописей и
автографов, хранящихся в Ватиканской библиотеке и др. На
основе их состава, почерков, маргиналий Уилкинс выяснил
структуру, хронологию и характер изменений в тексте, сочинявшемся
тридцать два года, и установил историю девяти редакций.
Э. Уилкинс принципиально ограничивался
верифицируемым описанием того, как складывался текст. Он успешно
избежал каких-либо оценочных толкований, лежащих в сфере уже
собственно гуманитарного знания и потому по необходимости
менее строгих. Его занимало состояние рукописей, а не
исторические сдвиги в лирической поэтике Петрарки и не парадоксы
смыслового мира "Книги песен". Он не касался
логико-культурных проблем.
Меня же только они и занимают.
Текстологические данные, давая твердую исходную опору и
будучи при историко-культурном анализе вспомогательными,
могут заключать в себе и нечто выходящее за их специальные
пределы. В данном случае они сразу же чрезвычайно ярко и
наглядно ведут к отношениям между поэтом и его произведением.
Уже при ознакомлении с составом рукописей, в особенности с
маргиналиями, озадачивают степень и характер рефлексии
автора на собственные композиционные и стилистические усилия.
2
Петрарка впервые увидел Лауру в авиньонской
церкви Санта Кьяра, когда ему было неполных 24 года. Возможно,
он писал стихи на вольгаре и раньше, но они до нас не дошли.
Поначалу Петрарка поступал, как другие стильновисты, т. е.
по мере накопления стихотворений, написанных на отдельных
листах (подчас уже частично исписанных чем-то другим), затем
перебеливал и соединял вместе, "не пытаясь расположить их в
художественно мотивированном порядке".
В самом раннем черновом автографе - 20 листов,
исписанных с двух сторон - мы обнаруживаем 57 текстов, которые впо-
_ 440
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
следствии так или иначе войдут в "Канцоньере"5. В том числе
многие из стихотворений целиком, обычно они отчеркнуты
сбоку или перечеркнуты наискось (очевидно, после
перебеливания). Остальное - фрагменты, подчас это единственный
начальный стих. Кое-что набросано в отвергнутой позже
редакции (например, важный сонет 188).
С другой стороны, кодекс Vat.lat.3196 содержит пять
сонетов и (целиком или частично) четыре канцоны и баллады,
которые Петрарка включать в RVF не станет вовсе. Тут же
встречаются тексты сонетов, полученных Петраркой от Сенуччо Дель
Бене, Дьетисальви, Джакомо Колонна, отрывок одного из
"Повседневных" и даже полностью два "Триумфа".
Сравнительно с нумерацией стихов в будущей книге, здесь
они находятся в полнейшем беспорядке. Так, на первом же
листе - опус, которому впоследствии будет присвоен номер 322, на
одиннадцатом листе опусы 45, 49, 35, 23... В рукописи
встречаются стихи от самых ранних в "Книге песен" до самых поздних
(если верить нумерации). Ко времени заполнения черновой
"рукописи набросков" были написаны также стихи на
отдельных листах, ныне утерянных. Всего, по предположению Уил-
кинса, таких было около сотни.
Но пока - ни малейших признаков обдуманной обширной
лирической композиции.
3
Между тем именно стихи к Лауре быстро принесли
Петрарке известность. Поэтому в некий момент он начал
создавать сборник стихов, избранных и упорядоченных "на основе
определенной художественной концепции".
Над отчеркнутым справа и слева сонетом "Аполлон, если
жива еще чудная страсть" ("Apollo, s'ancor vive il bel desio", опус
34-й по окончательной нумерации) в рукописи значится: "ceptu
tr(a)scribj et incep. ab hoc loco 1342. Aug21, hora 6" - "Принялся
переписывать и начал отсюда 21 августа 1342 года, в шесть утра".
Это означает: в первой редакции книги как целого Петрарка
открывал ее именно этим сонетом.
Уилкинс считает, что, за исключением номера 1-го
(который тогда еще не был написан), в первой полусотне номеров,
441 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
стало быть, с точки зрения поэта, не нашлось ничего более
подходящего для зачина (р. 337).
Петрарка перебеливал сам, или же под его руководством это
делали копиисты. Более интенсивная работа над стихами к
Лауре развернулась под конец пребывания в Воклюзе, особенно
после 1348 г., т. е. после смерти Лауры. Вторая редакция "Кан-
цоньере" существенно отличается по композиции от первой.
Затем изменения состояли главным образом в приращении новых
стихов к концу каждой из двух частей сборника, "хотя в
некоторых отношениях различия между редакциями носили
несколько более сложный характер".
После первого сильного молодого впечатления от облика
Лауры сразу возникло желание избрать ее своей Прекрасной
Дамой. Но в авиньонский период и даже в последующие пять
лет даль "Книги песен" сквозь магический кристалл отнюдь еще
не проступала...
В течение первых пятнадцати лет великой любви поэт
сделал лишь немногим более четверти общего объема стихов к
Лауре!
Дело пошло куда живее после того, как исходные
впечатления с неизбежностью потускнели. И Франческо начинал
потихоньку стареть. Как, впрочем, и Лаура.
После переселения в 1337 г. из Авиньона в Воклюз, когда
тем самым Петрарка, как неожиданно пышно выражается Уил-
кинс, "взял в руки поводья своей жизни" (р. 34), Лаура впредь в
основном пребывала в пространственном отдалении от своего
певца. Между прочим, в том же 1337 г. у поэта родился сын
Джованни от неизвестной нам женщины.
Лишь спустя еще пять лет созрели мироощущение и
писательское самосознание Петрарки.
В 40-х годах пришла пора для честолюбивых пожизненных
литературных проектов. Пора для "Африки", позже для эписто-
лярия. А несколькими годами ранее "Повседневного" - пора
для того, что потомки назовут "Канцоньере".
4
Итак, рано утром 21 августа 1342 г. Петрарка
приступил к работе над лирической книгой.
_ 442
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Он взялся за соответствующую часть кодекса 1336 г.,
отчеркнул 14 любовных стихотворений, затем переписал их,
приступив, таким образом, к отбору и компоновке будущего
сборника. Некоторые "наброски" в упомянутой рукописи были
снабжены волнистым значком, указывавшим на их
непригодность для переработки. Впрочем, впоследствии поэт
использовал еще некоторые из них.
Таким образом, документально подтверждается, что
замечание в сонете 293 (к которому ниже мы обратимся обстоятельно)
насчет позже уже не удовлетворявшего автора уровня многих
из ранних сонетов - не просто риторический ход. Оно
достоверно. После того как за многие годы поэт смог удостовериться
в растущем успехе любовных стихов, это впрямь побудило его,
всесторонне продумывая и обосновывая притязательный
литературный статус своих сочинений на вольгаре, писать их "чаще
и взысканней" ("più spesse e più rare").
Оба упущения - и по части количества, и в отношении
тщательности - поэт восполнял задним числом. В сонете 293
Петрарка, естественно, умалчивает о том, что к циклу на жизнь
Лауры было подключено немало стихов, сделанных гораздо позже
ее кончины. В завершающей редакции "Канцоньере" в
конечном счете их окажется столько, сколько, по-видимому,
потребовала "нумерология" Петрарки (ровно столько, сколько дней в
году, 365+1). 317 сонетов, 29 канцон, 9 сестин, 7 баллад, 4
мадригала.
Но, может быть, это случайное совпадение.
5
Важнейший из вопросов новейшей критики
"Канцон ьере" - о комплексной структуре "книги фрагментов" (liber
fragmentorum), их объединяющей. От Н. Сапеньо до М. Санта-
гаты и У. Дотти дискутируется соотношение между идеальным,
т. е. замышлявшимся Петраркой, результатом и реально
осуществленной архитектоникой книги.
Бесспорно некое ситуационное сцепление между
религиозным кризисом поэта в 1341-1342 гг., христианской темой
"перемены жизни" (mutatio vitae), сочинением диалогов
"Сокровенного" и, наконец, приступом к собранию лирики на вольгаре.
443 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Но должен ли был "Канцоньере", по предположениям
Петрарки, продолжить и восполнить исповедь? - такова идея Марко
Сантагаты. Дотти справедливо, на мой взгляд, против нее
возражает, допуская ее разве что только применительно к тому, что
Сантагата, в отличие от Уилкинса, считает "первой" редакцией,
так называемой "Корреджо". Во всяком случае, впоследствии
этот мотив развеивается, вплоть до полного исчезновения во
второй и окончательной (по Сантагате) "ватиканской"
редакции (р. VIII).
Далее. Содержится ли в связи со всем этим намек на
зреющий замысел "книги фрагментов" в одной из заключительных
фраз Франческо из "Исповеди" (III, р. 194)? "Adero michi ipse
quantum potero, et sparsa anime fragmenta recolligam" ("Я приду к
себе самому, насколько только смогу, и соединю разрозненные
фрагменты души"). Сантагата даже вынес "фрагменты души" в
название своей книги о "Канцоньере". Уго Дотти, напротив,
считает, что тут высказан лишь некий самый общий
моралистический смысл и нет прямого литературного коннотата в виде
замысла "Rerum vulgarium fragmenta".
Мне кажется, однако, что, хотя действительно связывать
напрямую "фрагменты" в этой фразе с "фрагментами" в
наименовании, вскоре данном Петраркой книге стихов к Лауре, у нас
нет права, но нет и возможности отрицать параллель между
разрозненностью стихов и душевным рассеянием. То и другое
суть слабость и изъян, которые должны быть преодолены, в
обоих случаях поэт обещает привести "фрагменты" к
желанному единству. В одном случае следует собраться с духом и
обрести цельность вместе с равновесием между страстью к
сочинительству и заботой о вечном спасении. В другом случае нужно
восстановить эту же личную цельность (если угодно,
самоидентичность "Я"), пронизав ею стихи на вольгаре.
У. Дотти замечает по поводу смысловой переклички между
тремя вступительными автобиографическим текстами -
вводной эпистолой "Повседневных", таковой же к латинским
письмам (послание к Барбато), наконец, вступительным сонетом
"Канцоньере", - что о схождениях оных "было сказано все, что
только можно сказать".
Наверно, так. С моей точки зрения, эти выбросы на
поверхность прямой авторской рефлексии перекрываются универсаль-
444
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
ным для Петрарки планом пересоздания себя. Это и следует
сказать прежде всего. "Сокровенное" также вписывается в этот
план. Хотя пока что спор с самим собой осуществляется в
рамках достаточно традиционной морали, а не через
парадоксальное и небывалое самопорождение Я-автора, как это произойдет
в лирике и в эпистолярии.
Дотти превосходно сформулировал: в Петрарке границы
между "Быть" и "Хотеть быть" пронизаны той
двусмысленностью, в которой, "как все знают, состоит тайное очарование его
лирического пафоса" (р. IX)
6
Работа поэта над сборником приобрела, вновь
повторим за Уилкинсом и др., новую и особую интенсивность после
1348 г. По Европе катилась чума, описанная в "Декамероне".
Петрарка получил известие из Авиньона от Ван Кемпена, что
Лаура умерла. Тут же или вскоре он сделал латинскую запись
на первом листе принадлежавшего ему кодекса Вергилия,
напротив фронтисписа кисти Симоне Мартини.
Вот эта маргиналия.
"Лауру, известную своими добродетелями и издавна
прославляемую в моих песнях, я впервые увидел во времена
своей первой молодости, 6 апреля 1327 года, в церкви св. Клары в
Авиньоне, в первый утренний час. И в том же городе, в том же
месяце апреле, и в тот же шестой день, и в тот же первый
утренний час, году же в 1348-м, светоч ее отлетел от этого света.
Я же тогда по случаю находился в Вероне, увы! ничего не
ведая о своей судьбе. Горестное известие пришло ко мне в
Парму в письме моего Лодовико, утром 19 мая означенного года.
Ее тело было предано погребению на францисканском
кладбище на закате того же [пасхального] дня. Я убежден, что душа
ее вернулась на небо, которое ее ниспослало, как и душа
[Сципиона] Африканского, по словам Сенеки. Мне было трудно
записать это известие из-за ранящей памяти о потере, но все же
с какой-то горькой нежностью заношу его на страницу,
которая часто бывает у меня перед глазами, дабы сокрушаться,
вновь и вновь видя эти слова и раздумывая о быстром беге
времени. Ибо нет более ничего в этой жизни, что могло бы до-
445 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ставить мне отраду. Теперь, когда разрушено самое сильное из
того, чем я был связан с этим местом, настал подходящий
момент бежать из Вавилона. И это, по неизреченной милости
Божьей, будет для меня легко, стоит мне только помыслить
зрело и неуклонно о бесполезных хлопотах, и о тщетных
надеждах, и о непредвиденных событиях в прошлом" (W.,
р. 107-108).
Эта запись в духе солилоквиума, т. е. "беседы наедине с
собой", заслуживает того, чтобы мы были готовы - само собой,
анахронистически - назвать ее дневниковой. Она искренна и звучит
интимно. Однако помещение ее в драгоценный кодекс с
"Энеидой" Вергилия - своего рода знаковый жест. Как и упоминание
о Сципионе Африканском, т. е. герое собственной поэмы.
Таковое же поразительное помещение Лауры в один ряд со
Сципионом - а также с вергилиевым Энеем! - мы находим в
самом "Канцоньере". Это означает, что для Петрарки даже в
связи со смертью реальной Лауры необходимо было прежде
всего напомнить о том, что она в его судьбе рифмуется с
лавром. И, значит, с древним Римом. Он торжественно заносит
запись об этом печальном событии в Вергилиев кодекс. И не
только для того, как он пишет сам, чтобы сия запись часто
попадалась ему на глаза. Но чтобы таким образом подчеркнуть
право соразмерять себя с Мантуанцем также в связи со стихами
на вольгаре, поставить "Книгу песен" рядом с "Африкой". Поэт
видит в Лауре не только свою Прекрасную Даму, но и залог
величия и всевременной образцовости своей поэзии.
Кроме того. Только ли к себе он обращался? Только ли для
себя одного вписывал маргиналию в священный для него и,
конечно, прекрасно известный его друзьям кодекс? Смысловая
аура маргиналии, в которой Петрарка с наибольшей возможной
для него конкретностью сообщает о встрече с Лаурой и о том,
как он узнал об ее кончине, - обращена к себе и вместе с тем,
кажется, не только к себе. Слишком уж демонстративны и
многозначительны место записи, самый тон ее и смысл.
Так это будет происходить и со многими позднейшими
дневниками Нового времени, которые заводились формально
"для себя", но часто с одновременным подсознательным либо
сознательным расчетом на тех, кто их, возможно, когда-нибудь
прочитает.
_ 446
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Собственно, таковы же и эпистолы Петрарки. Он, как
впоследствии все гуманисты, сочинял их с "домашней"
доверительностью для адресата... а также для всех, включая далеких
потомков. Привычная для нас антитеза приватного и публичного,
интимного и литературного, как и "реального" и
"придуманного", в конечном счете не подходит ни для единого слова,
вышедшего из-под пера Петрарки.
За исключением разве что рабочих пометок в черновиках
(см. несколько ниже). Хотя даже в них Петрарка не заносит
ничего такого, что не могло бы при случае быть им с важностью
вынесено на публику.
Между прочим. Комментаторы установили, что на самом
деле пасхальная пятница приходилась в этом году на десятое
апреля. Так что Лаура, если умерла в эту пятницу, то уж не
того же самого сакраментального для Петрарки числа, 6 апреля,
когда он ее впервые встретил, и когда был венчан в Риме, и
когда закончил "Африку".
Но разве она могла умереть 10-го? Это было бы лишено
смысла.
7
"Вторая форма" книги была создана в 1347-1350 гг.
Это также засвидетельствовано в рукописи 3196. Над первым
наброском будущего номера 268 начертано: "Переписано, не по
порядку, но на другой бумаге, утром 28 ноября".
А над наброском части номера 23:
"Спустя многие годы, утром 3 апреля 1350 года. Поскольку
в течение трех дней напролет я был занят доводкой стихов на
вольгаре (ad supremam manum vulgarium), мне показалось
нужным, дабы столько забот не было зря, переписать также и это
сочинение в должном порядке (visum est et hanc in ordine tran-
scribere). Но сперва надобно отобрать из других бумаг".
Есть и другие маргиналии о времени той или иной
единичной переделки. Их бывало несколько по отношению к одному и
тому же опусу. Всего же пятнадцать переработок девяти
отдельных номеров было выполнено именно в 47-50 гг., не
раньше и не позже. Отсюда и датировка Уилкинсом второй
редакции (р. 340-341). Почти все 263 номера первого раздела книги
447 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
были до 1351 г. уже написаны. Как и часть второго раздела. Но
что-то еще нуждалось в шлифовке, прежде чем быть
переписанными ив надлежащем порядке" ("in ordine"). A насчет каких-то
других опусов предстояло вообще решить, включать их или не
включать. Важно, что вводный сонет (т. е. номер 1 в последней
редакции книги), как и будущий номер 264 (большая канцона,
вводная ко второй части, однако сделанная до смерти Лауры),
были написаны, как считает Уилкинс, соглашаясь с Кьорболи, в
одно время. Скорее всего, в Воклюзе в 1347 г. (р. 342-343).
Так замысел и рамки композиции стали существенно
проясняться для автора. Затем лет на десять работа над RVF затихает.
8
Третья редакция (так называемая "Pre-Chigi" или
"Correggio") относится к 1356-1358 гг. (р. 343-348). Уилкинс
устанавливает это также на основании маргиналий в исходной
рукописи 3196.
Вот некоторые из них.
"Переписано в соответствии с надлежащим порядком (in
ordine) 6 ноября 1356 года, на утренней заре".
Или: "Переписано и вставлено в надлежащем порядке
спустя многие и многие годы, с некоторыми изменениями, 10
ноября, в четверг вечером, в Милане".
Или: "Переписано и вставлено в надлежащем порядке, с кое-
какими изменениями, 11 ноября 1356 года, в пятницу вечером".
Или на оборотной стороне 15-го листа кодекса 3196 две
пометки по-итальянски. Первая: "это добавляю сейчас, в четверг,
19 октября 1368, после восхода солнца". Вторая: "переписал на
другой лист спустя двадцать два года, 22 октября 1368, в
воскресенье, после того как сделал такие исправления и
добавления, чтобы придать законченность (per completarlo), а в
понедельник, на рассвете, переписал все вместе в пергаменный
кодекс" (см.: Дотти, р. 579).
Или: "Эти два сочинения переписаны соответственно
надлежащему порядку спустя тысячу лет, 29 ноября 1357 года, в
среду, в третьем часу, когда мне хотелось их совершенно
закончить, чтобы впредь не держать больше в голове (volo his omnino
finem dare, ne unquam amplius me teneant). И, как я полагаю,
_ m
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
Джероламо уже принялся за перебеливание первой тетради на
пергамен для синьора Аццо [ди Корреджо], с тем чтобы затем
то же самое сделать и для меня".
Есть и другие пометки о том, у кого находятся копии того
или иного стихотворения. Ко времени редакции "Корреджо"
было готово из числа вошедших в окончательную редакцию
около половины: 142 стихотворения первой части и примерно
29 стихотворений второй.
Общие принципы переработки, отмечаемые Э. Уилкинсом:
сохранение, в целом, "жизненной последовательности", дабы
производить на читателя впечатление автобиографической
конкретности; поиск тематического разнообразия; притом очень
усилившаяся забота о метрическом разнообразии и
чередовании (р. 344-345).
9
Однако современного читателя поражает, конечно,
совсем иное. О самих стихах позже. Но взять хотя бы
приведенные черновые маргиналии. Мы можем с достаточной степенью
определенности считать, что, в отличие от записи о смерти
Лауры, уж они-то были сделаны Петраркой впрямь наедине с
собой. Это зарубки для памяти, что-то вроде действительно
писательского дневника.
В нем наглядно выделяются два момента.
Во-первых. Кто же до Петрарки с такой невероятной
скрупулезностью, с упоминанием времени дня, с точностью иногда
до часа (т. е. наименьшей единицы времени, доступной тогда
измерению) - кто другой вот так, из года в год,
хронометрировал процесс составления и редактирования сборника стихов?
Кому могло прийти в голову обозначать момент появления на
свет стихотворения, его переделки и перебеливания, словно это
важнейшие события жизни? Что ж, таковыми они и были для
Я-автора. В результате мы узнаем, не только в какой день
какого месяца, но и в каком часу этого дня Петрарка обращался к
сочинению "Канцоньере".
Петрарка упоминает, что данный опус перебеливался
"глубокой ночью" или что работу пришлось прервать, "ибо был зван
к ужину" (sed vocor ad coenam")6. Манера поминать время дня,
15 - 345
449 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
когда сие сочинялось, явно взята из эпистолярных цицерониан-
ских обыкновений, которые ввел в гуманистический оборот тот
же Петрарка. Однако же в эпистолах Цицерона подобные
пометы призваны были сообщить адресату действительные
обстоятельства, при которых письмо было сочинено и отправлено.
Петрарке же в эпистолярии они потребны, дабы стилизовать
"повседневность", домашность, подчеркнуть сиюминутность и
непритязательность набросанных вдруг на бумагу дружеских
изъявлений.
Летящие мгновения земной жизни оказывались
значимыми, лишь будучи самоценными сгустками "Я".
В поэтическом черновике хронологическая маргиналия
вела к тому же психологическому результату, но
противоположным путем. Тут, напротив, фиксация точного дня и часа,
случайных обстоятельств сочинения налагала на текст печать
непреходящего, вечного. Помета, сделанная совсем не на
публику, вне какого бы то ни было стилизаторского умысла, "для
себя", тем не менее с чрезвычайной торжественной важностью
вырывала мгновение личного творческого свершения из потока
времени.
Петрарка, как и затем гуманисты, строго говоря, не
оставался наедине с собой без того, чтобы не ощущать себя
одновременно на публичном историческом подиуме. Поскольку он
всегда сознавал "античную" значимость своего поведения, всякое
его действие есть слово, а всякое слово есть жест. С точки
зрения позднейшего вкуса, поэт постоянно позирует. Однако в
историко-культурном плане это совершенно не так. Это никоим
образом не позирование.
Таково оно только по внешнему рисунку, но не по
глубинному смысловому заданию. Понятно, что жест и поза даны
готовыми. Они - как, например, в иконографии - предсуществу-
ют в заведомом и неукоснительном наборе, избавляя индивида
от личной инициативы и органики. Они из ритуального кода.
Они, скажем так, конформные, расхожие и потому понятные.
Между тем Петрарка ежедневно и еженощно вынужден был
обдумывать, воображать, изобретать свое подобие древним.
Поэт искал тем самым свою небывалую позу.
Но что значит "своя поза"? Это почти оксюморон. Это не
поза, а путь к себе.
_ 450
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
И в связи с этим, во-вторых. Как остро волнует сочинителя
то обстоятельство, что, вот, это он, Франческо, когда-то написал
некий сонет, а теперь, "спустя многие и многие годы", "спустя
тысячу лет" (I), он же придал ему окончательную форму.
Петрарку впечатляет, несомненно, непрерывность,
протяженность, идентичность своего "Я". Удивительно, что нынче, в
старости, он продолжает работать над тем же сонетом, что и в
молодости. Именно авторство, точней, возможность
саморедактирования, дарит поэту, как мы теперь склонны были бы
выразиться, ощущение единства личности во временной проекции, в
горизонте всей жизни.
10
Четвертая редакция ("Киджи") датируется между
8 октября 1359 и 5 декабря 1366 г. Начиная с этой рукописи,
видно деление стихов к Лауре на две части, хотя и оставленные
без названий. Возможно, четвертая редакция сочинялась в два
этапа, сначала это была часть первая, заключавшаяся тогда
будущим номером 165. Затем часть вторая, заканчивавшаяся
номером 304 (р. 349-352).
В рукописи Киджи значится многозначительный заголовок:
"Francisci Petrarce de Florentia Rome nuper laureati fragmento-
rum liber" (p. 339). Так Петрарка открыто связывает книгу
итальянских "фрагментов" со своим поэтическим титулом
"римского лауреата". Тем самым - весьма выразительно! - в
название "книги фрагментов" вынесено не имя "Лауры", но -
"ЛАВР".
И
Начиная особенно с пятой редакции, каждая из
остальных была на разных этапах "издательской активности"
Петрарки одним из последовательных моментов одной и той же,
хотя и развивающейся, формы книги. Иными словами, к
середине 60-х годов принципиальная композиция и характер сборника
сложились.
Пятая редакция 1366-1367 гг. - это "рукопись Джованни"
(Мальпагини да Равенна), любимого переписчика, с которым
15·
451 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
поэт обращался, как с сыном (см: "Стариковские", V, 5). Затем
произошел разрыв с Джованни, которому вдруг опостылело его
занятие. Скриптор объявил об уходе от Петрарки и желании
"изведать мир", т. е. отправиться путешествовать. Дальнейшие
изменения будут куда более скромными, так что можно бы
сказать "пятая и последующие редакции". Уилкинс прослеживает
их по рукописи Vat.Lat.3195, более поздней, чем 3196.
После того как Джованни прервал работу, поэту пришлось
постепенно переписывать собственноручно. Это шестая
редакция, "Пред-Малатестовская".
Седьмая и восьмая содержали очень мало приращений,
были промежуточными на пути к заключительной, девятой, т. е. к
тому, что осталось после смерти поэта (р. 355).
12
Замечателен следующий эпизод. За пять лет до
смерти Петрарка взял в руки лист пятый из кодекса 3196 и взгляд
его упал на сонет, который в итоговом тексте идет под номером
211. Там стоит значок, указывающий, что поэт в 1342 г. решил
исключить этот сонет из книги. Но теперь Петрарка его тут же
переделал и переписал в новую рукопись (т. е. в 3195). А над
первым наброском в рукописи 3196 оставил маргиналию, из
которой мы и узнаем все вышеизложенное.
Вот она.
"Странное дело: это сочинение было записано и затем
отвергнуто, вычеркнуто. Прошло много лет, и вот я, случайно
перечтя его, оправдал и перебелил в том же виде, вставив в
композицию книги (in ordine). Этому не помешала пометка об
исключении. 22 июня 1369 года, пятница, в двадцать третьем
часу".
Что впрямь удивительно для нас, так само это рвущееся из-
под пера поэта удивление.
"Странное дело"! "Minim"!
Экспрессивное самонаблюдение над тем, каким же
своевольным бывает его собственное авторское "Я". И опять всене-
пременное указание времени, с точностью до часа.
Спустя пять дней Петрарка опять произвел
дополнительную небольшую правку и датирует ее так: "27 июня на заре". С
_ 452
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
припиской: "добавил еще кое-что, изменив окончание, и на этом
уже всё" (W., р. 364).
13
4 января 1373 г. поэт направил в ответ на просьбу
Пандольфо Малатеста перебеленную копию книги (это и есть
седьмая редакция) с письмом, включенным в "Разные письма".
Вот "самые важные пункты письма", в которых Петрарка сам
подытоживает историю редактирования Книги (см.: W., р. 365—
367).
Я, пишет поэт, посылаю тебе через твоего посланца свои
"безделицы на народном языке" (nugellas meas volgares) и хотел
бы, чтобы они были достойны находиться у тебя под рукой и
перед глазами, оцениваемые тобою. Я не сомневаюсь, что ты с
радостью поместишь их в свою библиотеку.
И далее. иНа пестроте ранних стихов сказались тревоги и
безумие любви, некогда поначалу мне свойственные. Возрастом
объясняется и неотесанность стиля, ибо большую часть того,
что ты читаешь, я написал в юности (In primis opusculi vari-
etatem instabilis furor amantium de quo statim in principio agitur;
ruditatem stili etas excuset, nam que leges magna ex parte ado-
lescens scripsi). А если этих извинений мало, то меня извиняет
авторитетность твоей просьбы прислать стихи, ведь я не мог
тебе отказать".
Петрарка просит также прощения, если адресату покажется,
что перебелено грубым почерком: с переписчиками стало худо,
мало кто желает заниматься этим трудом. А если рукопись к
тому же придет с опозданием, то виною тут опять-таки лень
переписчиков да превратности войны. Что до возможных описок,
то, продолжает Петрарка, его оправдывает постоянная
занятость, из-за которой он вынужден был передоверить
корректуру. Хотя вслед за другими все же бегло просмотрел рукопись
"своими слабыми глазами".
Далее. "У меня при себе много и других стихов на вольгаре
в этом роде, на листах, обветшавших от времени настолько, что
их едва можно разобрать. И когда выдается тот или другой
свободный день, я имею обыкновение извлекать из этих листов то
нынче одно, то в иной раз иное сочинение, и работаю над ним
453 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ради собственного развлечения (pro quodam diverticulo labo-
rum). Однако это бывает лишь изредка, поэтому я
распорядился, чтобы [на этот случай] в конце обеих частей оставили
достаточно пустого места; так что, если что-нибудь мне придет в
голову (et si quidquam occurret) [и книга пополнится новыми
стихами], я вышлю их тебе, но, впрочем, уже отдельно, на
бумаге".
Это письмо Петрарка затем решил включить в
"Стариковские" (XIII, 11), кое-что подправив и добавив.
14
В частности, вот наиболее любопытное для нас новое
замечание.
"Признаюсь тебе, что теперь, когда я состарился, меня
удручает, если я вижу в ходу мои юношеские пустяки на вольгаре
(vulgari iuveniles ineptias). Я хотел бы, чтоб они оставались
неизвестными не только другим, но и мне самому. Потому что,
хотя стиль их обнаруживает некую одаренность, достаточную с
учетом возраста, однако она не соответствует достоинству
старости. Но что же я могу поделать? Все эти стихи уже давно и
широко распространены, люди их читают охотней, чем более
серьезные вещи, которые я написал впоследствии при более
зрелом состоянии духа. Итак, каким же образом я могу отказать
тебе, столь чтимому мною мужу, настоятельно
испрашивавшему [эти стихи]. Я посылаю то, чем, вопреки моему желанию,
располагает публика и что она растаскивает (или: раздирает) по
частям (vulgus habet, et lacérât)".
Петрарку раздражало не то, что читатели дорожат его
любовными стихами на родном языке, а то, что стихи становились
известными по отдельности, притом в первоначальном, еще не
отшлифованном виде. Между тем как многолетние усилия
поэта, пополнявшего и дорабатывавшего "Канцоньере", относились
не просто к тем или иным новым и старым опусам, но именно к
"Книге песен" как сложной композиции целого.
Коллизия, в общем, поразительно та же самая, что и во
вступительном письме "Повседневных" к Ван Кемпену, где
проведен тот же мотив! - противопоставление нынешнего
несовершенного вида известных адресату эпистол и их будущего безу-
_ 454
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
пречного свода, который когда-нибудь будет окончательно
скомпонован, отшлифован, прислан адресату, и тогда уж его
можно будет с честью предъявить всем читателям.
Поэт полагал, что посылает Пандольфо Малатеста не что
иное, как единую книгу, в наиболее подвинутой к тому времени
редакции. Он знает, что стихи хороши, что "безделицы" на
вольгаре весьма повышены в литературном статусе, благодаря
таланту автора. Он, как мы уже вспоминали, признавался в
293-м сонете, что если бы сразу предвидел их популярность, то
отделывал бы тщательней уже сразу при написании, в
молодости. Стало быть, сожаления о том, что эти любовные стихи
читают более охотно, чем иные его, Петрарки, опусы, достаточно
серьезны. Поскольку его же латинские произведения по языку
и жанру формально выше любых итальянских стихов.
Отчасти же эти сожаления обычная риторическая игра.
Ведь извинения по части их стиля и пр. звучат в самохвальном
контексте. Петрарка уверен, что адресат отнесется к новому
кодексу для своей библиотеки с радостью и почтением. Он,
Петрарка, продолжает работать в свое удовольствие над "Книгой
песен" и во благовремении пришлет Малатесте
дополнительные опусы.
Похоже, что для авторского сознания впрямь существовал
некий разрыв между популярностью любовных стихов, издавна
беспорядочно расходившихся по Италии, и захватившим
Петрарку с 1342 г. куда более сложным и новаторским
писательским замыслом. Желанием создать корпус этих же стихов, но
уже как продуманной единой книги7.
Именно в этом смысле популярность разрозненных и, к
тому же, до поры недостаточно отредактированных сонетов и
канцон действительно могла огорчать поэта.
Остальное общие места.
15
Восьмая редакция (начало 1373 г.) отличалась от
предыдущей лишь тем, что была изъята баллада "Мне часто на ум
приходит женщина" ("Donna mi vene spesso ne la mente"),
которая раньше шла для Малатесты между 242 и 243 номерами (а
еще раньше после или до номера 122). Как полагает Уилкинс,
455 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
это было сделано из-за возможного подозрения читателей, что
речь в ней не о Лауре.
В течение 1373 и первых месяцев 1374 г. Петрарка
продолжал сочинять дополнения на отдельных листах. Поэт вернулся
также к доработке рукописи 3195 (W., р. 372-375).
В первую часть он вставил номер 239. А вскоре 240 и 241.
Он переписал в окончательном виде номер 199 на место,
которое сохранялось для него. Убрав упомянутую балладу, он
переписал на ее место номер 121. Он переписал также номера
242-245 и еще одно сочинение, которое затем, впрочем,
вымарал и заменил другим. Он поместил номер 228 в
предназначенное для него место. Наконец, он переписал, без особых пауз в
работе, номера 247-255.
Что до второй части, то Петрарка на излете отпущенного
ему жизненного срока сделал добавления и к ней. Это была, в
частности, канцона 366. Петрарка переписал новые номера в
отдельную тетрадь и включил тетрадь внутрь кодекса. Он сделал
эту большую вставку новых пьес во вторую часть в какой-то
момент между 4 января и 18 июля 1374 г. Вписывать что-либо
после номера 366 на свободное место было уже запретно.
Поэтому, если в редакции "пред-Мал атеста" (т. е. шестой, 1367-
1371 гг.) четыре сонета перед заключительной канцоной были
другими (нынешние 351-354 стояли на месте 362-365), то
теперь, согласно маргинальной нумерации ("последней воле
поэта"), номера 359-361 перенесены на позиции 363-365. В итоге
вышло "глубоко религиозное заключение" для всей книги
(р. 379).
Между тем фраза в письме к Пандольфо о "свободном
месте" после каждой из двух частей показывает, что тогда вопрос о
том, как закончить книгу, еще был для поэта открытым. Теперь
же он мог заботиться во второй части лишь о нумерации или
наводить чернилами инициалы. Однако работа над первой
частью продолжалась, он даже вставил новые пустые листы в
конец ее. Значит, Петрарка намеревался сочинять еще какие-то
опусы для "Книги песен"? Этого он, во всяком случае, не
сделал. Может быть, не успел. По мнению Уилкинса, мы вправе
поэтому считать первую часть книги "в некотором смысле
незаконченной". Ведь толкование цифры "366" как числа дней в
году это лишь догадка. "Нет никаких доказательств, содержатель-
_ 456
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
ных либо формальных, что Петрарка считал номер 263
завершающим сочинением первой части или что он когда-либо
старался довести число сочинений в книге именно до 366".
Зато заметно, что поэт ломал голову над порядком
заключительных трех десятков стихотворений второй части. Похоже, он
так и не успел прийти к удовлетворяющему его решению
(р. 376-377).
О приемах построения "Книги песен"
через авторскую рефлексию.
От вступления к началу второй части
1
Малость формы сонетов или канцон усугублялась
отдельностью, рассыпанностью, "фрагментарностью"
стихотворений, что можно было постараться отчасти возместить, сведя их
в книгу. Однако пуще всего скромность литературного статуса
была задана, казалось бы, полнейшей невозможностью отнести
любовные - и к тому же итальянские - стихи к "высокому
стилю". Последнее требовало бы не только латинского языка, но и
торжественно-значительного сюжета и слога.
Таким образом, в лирике перед Петраркой возникла
примерно та же, что и с эпистолами (хотя латинскими, но
"повседневными", "непричесанными"), проблема разрыва между
общепринятым статусом сочинений известного рода и
необыкновенно высокой самооценкой авторского "Я".
В исстари заведенной иерархии словесных жанров
любовные стихи на "народном языке" заведомо считались
"безделицами", пустяками. Даже сладостный стиль, разумеется, никому не
пришло бы в голову ставить рядом с Вергилием или Горацием.
Вместе с тем - и как раз поэтому - потенциально такие стихи
зато легче было бы считать чем-то сугубо индивидным,
частным и, значит, личным. Всецело и только моим.
Я не собираюсь рассматривать мозаичное построение
"Canzoniere" исчерпывающе и тотально. Тогда нужно было бы
проследить все сквозные мотивы, все группировки двух-трех и
457 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
более стихотворений вокруг определенных тем, т. е. своего рода
микроразделы, а также все переклички и повторы ключевых
лексем, повторяющиеся риторические фигуры и, наконец,
соотношение жанрово-метрических матриц, включая сюда строфику и
системы рифмовки. Огромный опыт наблюдений, накопленный
петрарковедением, включает проработку этих параметров, хотя
и не исчерпывающую.
Однако, как уже говорилось, в их свете композиционное
единство книги выглядит все же слабым, если не вовсе
отсутствует.
Я ограничусь лишь одним ракурсом рассмотрения, может
быть, еще недооцененным. Автор то и дело сам заговаривает о
характере своих любовных стихов, мысленно беря их как
жизненно-литературное целое. Стиль сборника, как считает сам
Петрарка, меняется по мере возмужания и старения поэта.
Особенно же, разумеется, после кончины Лауры.
В книге, по существу, не один, а несколько зачинов, которые
призваны разъяснить целое.
И не одна, а несколько концовок, которые должны
мотивировать, почему книга о любви, не могущей кончиться со
смертью Лауры, сама, тем не менее, приходит к исчерпанию.
Сложен, нарочито размыт и переход ко второй части.
Короче, поэт протягивает сквозь "Книгу песен" нить
всякого рода общих соображений и рассуждений о ее поэтике. Они
уже тем самым скрепляют, выстраивают сборник, хотя бы
только внешне и формально.
Назовем это рефлективными приемами композиции.
Сосредоточимся на них.
2
"О вы, что слышите в разрозненных стихах (in rime
sparse) звуки тех вздохов, которыми я вскармливал сердце в
пору заблуждений ранней молодости (in sul primo giovenile
еггоге). Я был тогда отчасти другим человеком сравнительно с
тем, каков я ныне (quancTera in parte altr'uom da quel chYsono),
и сочинял стихи в разнообразном стиле (del vario stile) <...>"
(1:1-5).
_ 458
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
В обращении к читателям в первом же кватрене первого
сонета "Книги песен" сразу - как изначальное и главное -
выражено неравенство пишущего "Я" самому себе.
Ибо есть два Я.
Тот, кто некогда воздыхал, сочиняя "разрозненные стихи".
И тот, кто ныне, отредактировав и расположив сии стихи в
продуманном порядке, предлагает их вниманию читателей.
Но, в таком случае, каков, собственно, заведомо единый и
единственный Автор сборника, - тот Я, который в итоге
изъясняется в предлагаемых вниманию читателей стихах?
С одной стороны. "Звучат вздохи, которыми жило мое
сердце в пору его первого молодого кружения" (прибегаю к менее
буквалистской версии подстрочника). Автор желает сохранить
в них свежесть и прелесть чувства, как если бы продолжал
испытывать его в прежнем виде. Это Я принадлежит времени
любви. Притом поэт совмещает память сердца с данным тут же,
с высоты зрелого возраста, догматическим определением
земной любви как errore: т. е. заблуждение, кружение, ошибку.
Может быть, в молодости простительную.
С другой стороны. Крайне важно, что сочинитель стихов-
вздохов был "другим человеком" сравнительно с тем, "каков
ныне". Он глядит на себя тогдашнего, молодого, пылко
влюбленного, глазами "другого человека", который, впрочем, нынче
вечером или на утренней заре, "через тыщу лет", оттачивает,
тщательно сводит в книгу давнишние "безделицы", вписывает
новые сонеты и канцоны.
Петрарка подчеркивает, что стал "другим" по отношению к
высказывающемуся Я, т. е. по отношению к самому себе.
"Время любви" (tempus amandi) не совпадает с окончательным
"временем сочинения" (tempus scribendi).
Пока длится работа над "Книгой песен", все былое оживает
в "Я" сущем. Но Автор состарился, отжил, переменился.
з
Однако и это не так - или не все. Петрарка пишет:
"другим человеком" он стал ОТЧАСТИ ("in parte"). A это
значит, что отчасти он - все тот же.
459 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Вступительный сонет был написан не ранее 1347 г.,
вероятней же всего, лишь в 1350 г. (мнение Ф. Рико, разделяемое
У. Дотти). Молодость давно миновала. Уже и Лауры нет на
белом свете. Петрарке около 46 лет.
Но продолжают и продолжают сочиняться стихи о великой
любви. Их значительная часть пока не создана, она впереди, и
соответственно "Я" влюбленного тоже во многом впереди.
Целостное личное самоощущение Петрарки с нарастающей силой
становится возможным только в створе жизни и авторства.
Петрарка следует за двумя формулами Данте (см.: Дотти,
р. 2-5). Одна из них: "Вы, способные рассуждать о Любви (Voi
che savete ragionar d'Amore)". И другая: "не уразуметь ее тому,
кто не испытал на себе" (che 'ntender non la puö chi no la prova)".
Именно со-наложение слезного любовного опыта и
писательской способности "ragionar d'amore" задает сложную (в
частности, временную) структуру "Я" в "Канцоньере".
"Рассуждать о любви" значит для Петрарки вместе с тем
рассуждать о том, чего стоят эти рассуждения на шкале
поэтических ценностей. Каковы стихи к Лауре sub specie aeternitatis,
с точки зрения потомков и вечности. Прежде всего, к какому их
надлежит относить стилю и роду. А вослед за этим: удалось ли
автору достичь в означенных роде и стиле образцового, т. е.
древнего, уровня.
"...стихи в разнообразном стиле, в них я плачу и рассуждаю,
и мечусь меж суетными надеждами и столь же суетной
скорбью. У того, кто опытом постиг, что такое любовь, я надеюсь
найти если не прощенье, то состраданье.
Но теперь я прекрасно вижу, что для всего честного народа
долгое время был притчей во языцех, а потому мне часто
стыдно за самого себя.
Плодом моих блужданий стали стыд, и покаяние, и ясное
сознание того, что столь прельщающее нас на этом свете -
лишь кратковременный сон".
4
Нет, в сущности, ничего более странного, чем
подобное вступление к сборнику любовных стихов.
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
В самом деле. Петрарка начинает сонет с приподнятого
обращения к читателям. Да внемлют они собранным в книге
"разрозненным" стихам-вздохам! Те, кто испытал на себе тщету
любовных надежд и терзаний, пусть отнесутся к поэту с состраданием.
Но тут же автор добавляет, что теперь видит, насколько ему
следует стыдиться этих стихов. И заканчивает покаянным и
набожным осуждением земной любви как "кратковременного сна".
Разве такая концовка сонета не перечеркивает весь зачин книги?
Нет. Поэт осуждает обольщения земной любви с тем, чтобы
тут же, со следующих сонетов, приняться их воспевать. Всей
"Книгой песен" Петрарка опровергает набожное опровержение. А
впрочем, нередко, как это происходит, например, в 264-й канцоне,
т. е. в начале второй части, и особенно в конце книги в целом,
автор проникновенно возвращается к благочестивому сокрушению.
Меня, однако, занимает не дидактический спор поэта с
самим собой, не идейные параллели с "Сокровенным", давным-
давно изученные.
Мне интересно в данном случае лишь то, как в "Книге
песен" время любить соотносится со временем сочинять, и Я-Лю-
бящий - с Я-Сочиняющим.
5
Что до "разнообразного стиля", то Петрарка
возвращается к этой самооценке и исчерпывающе поясняет ее лишь под
конец книги.
В 332-й сестине, которая есть не что иное, как комментарий
к "моему любовному стилю" и объяснение, почему после
смерти Лауры стиль не мог не измениться, предопределяя тем
самым необходимость закончить книгу (см. ниже), - под занавес
будет сказано с немалой гордостью:
"В царстве Амура не сыскать такого разнообразного стиля,
который ныне настолько же печален, насколько когда-то был
радостным (Non à 1 regno d'Amore si vario stile, / ch'è tanto or
tristo quanto mai fu lieto)".
Возвращение в 332-м опусе к формуле опуса 1
присоединяет к определению стиля книги еще и указание на конкретный
смысл и распределение "разнообразия" между легким и
радостным молодым началом и скорбным поминальным тоном второй
461 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
части. Петрарка таким образом желал бы указать на
контрастное единство композиции.
Но формульный повтор и сам по себе помогает собиранию
"разрозненных стихов". Он закольцовывает книгу.
Ведь мы сразу опознаем, приближаясь к финалу,
самооценку в зачине книги, убеждаясь в неуклонности авторской
рефлексии и воли. И наоборот. Это эффект обруча: как если бы поэт
во вступительном сонете уже охватывал мысленным взором
архитектонику целого.
Тем более, что последняя неусеченная строфа сестины
начинается с обращения к читателям, которое звучит, как эхо
первой строки первого сонета.
Там: "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono", etc. Здесь: "О
voi che sospirate a miglior4 notti, / ch'ascoltate cTAmore о dite in
rime..." - "О вы, что вздыхаете в чаянии лучших ночей, вы, что
слушаете стихи о любви или сами слагаете в рифму..."
Дословный повтор, разумеется, сознателен. Именно
подобными средствами, а не фабульно, Петрарка добивается
впечатления, что, несмотря на "разрозненность", перед нами единое
творение. Оно едино, потому что его последовательно
пронизывают судьба и голос Автора.
6
Следующие пять сонетов тоже написаны не просто
задним числом, а много лет спустя, после смерти Лауры (1348-
1349 или 1349-1350). В них, как полагается для начала
повествования, надлежало поведать о первой встрече и приступе
любви (primiero assalto), о месте, где это случилось, затем назвать
имя донны или намекнуть на него.
Несмотря на то что tempus scribendi начальных сонетов на
добрую треть жизни отстоит от "первого нападения" Амура, как
только мы переходим ко второму опусу, в нем звучит голос
непосредственного чувства. Мы явственно - и сейчас же -
слышим обещанные молодые "звуки вздохов". "Время сочинения"
автор употребляет на то, чтобы вернуть "время любви".
Петрарка не "вспоминает" его, а делает вновь актуальным.
Хотя все глаголы вплоть до последнего четырнадцатого стиха
даны в прошедшем времени, но это прошлое, которое не
прошло. Оно длится в вечном настоящем.
_ 462
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
Поэт рассказывает о скрытном и внезапном нападении
Амура на "мою добродетель". Добродетель пыталась уберечь зрение
и сердце поэта, укрывшись на высокой и труднодоступной
скале разума, и пр.
Кропотливый комментарий Дотти, как всегда, способен
привести толкователя в растерянность. Во втором сонете, как и
на каждом шагу "Канцоньере", сплетено превеликое множество
стильновистских стереотипов и классических литературных
нитей. Тогда что же в нем нового? Что тут истолковывать,
ежели чуть не на каждое слово находится прецедент у Овидия, у
Горация, у Цицерона, у Данте и т. д.?
Но вдруг в последней строке время любви и время
сочинения перетекают друг в друга. Мы узнаем, что поэту, когда он
встретил Лауру, в тот миг не удалось "...благоразумно укрыться
от терзаний, так что сегодня мне и хотелось бы помочь себе, да
нету мочи (oggi vorrebbe, et non pö, aitarme)".
7
"Сегодня"?!
Лаура умерла, но Петрарка заговаривает об этом напрямую
не ранее 268-й канцоны. Через сочинительство вновь и вновь
перед читателем "Книги песен" является чувствительное "Я".
Вновь и вновь по-прежнему, словно в молодости, нет ему
заслона от той же стрелы Амура. Нигде в первой части книги
покаяние, если оно и звучит вообще, не бывает пространным, как это
происходит с началом второй части.
Понятно, что все любовные стихи в истории литературы, от
элегий Овидия и Проперция до "Стихов о Прекрасной Даме"
или "Сонетов к Марии Стюарт", всегда сочинялись и
сочиняются post hoc. Самое обычное дело писать о том, как "я вас
любил", и тем самым переживать чувство вторично, переплавляя
его нескончаемость в завершенность сочинения,
отрывающегося от автора и его жизни.
У Петрарки автобиографическая и писательская ситуация в
высшей степени заостряется традиционным христианским
морализмом. Не только отдаленность во времени, но и
религиозная идеология, роют ров между "тогда" и "сейчас".
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Однако тем более принудительной оказывается роль
литературного воображения и риторических двусмысленностей. Тем
неизбежней любовное чувство вытягивает Я-автор. Поэт
сочиняет "сегодня", как если бы он испытывал то же, что и
"тогда''. Благодаря tempus scribendi, продлевается tempus amandi.
А ведь только что было сказано, будто ему очень стыдно за
прежние пылкие стихи и что он стал почти другим человеком.
Так неужто сквозь игольное ушко этого "почти" смог
проскользнуть весь неуклюже-целостный верблюжий караван
"Канцоньере"?
8
Когда Франческо впервые увидел в церкви Лауру, в
день Распятия с утра было сумрачно, словно солнце померкло
(в соответствии с рассказом евангелиста).
"Тогда-то я и был пленен. Не остерегся, и меня сразили
ваши прекрасные глаза, донна.
В такой день казалось мне ненужным искать убежища от
ударов Амура, поэтому я шел [туда] уверенно и беспечно. И вот
посреди всеобщей скорби начались мои собственные несчастья
(onde i miei guai / nel commune dolor s'incominciaro).
Амур застиг меня совершенно безоружным <...>" (3:3-9).
Петрарка привязал первую встречу с Лаурой к сакральной дате,
и что же? Оплакивание Христа не смогло помешать ему
разглядеть Лауру и влюбиться в нее.
Заключительный ход сонета еще более удивителен.
"По-моему, ему (Амуру) не сделало чести то, что он ранил
меня своей стрелой, когда я был в таком состоянии. А Вам,
вооруженной, он даже не явил свой лук".
Лаура была защищена своей безукоризненной
непорочностью, да, но, кроме того, ведь и она тоже в тот день оплакивала
вместе со всеми Христа. Так набожно ли, последовательно ли,
пеняя Амуру, который застал поэта врасплох в святую
мученическую пятницу, тут же упрекать его в том, что Амур и не
подумал пустить стрелу в Лауру?
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
9
Влюбленность, на наш современный вкус,
кощунственно смешивается с пасхальной печалью.
Но некая параллель между Дамой сердца и Мадонной или
даже Христом вполне укладывается в традиционные общие
места, восходящие еще к трубадурам.
Ср. с четвертым сонетом, где место рождения Лауры
вплетено в похвалу христианскому смирению, "humilitas". Христос,
родившись не в Риме, а в Иудее, тем самым возвысил эту
страну. Так же и "столь прекрасная донна" осчастливила своим
рождением природу и месторасположение "скромного городка".
Петрарке, разумеется, никакое кощунство в голову не могло
прийти. Особенно у Данте, но отчасти у стильновистов вообще,
как известно, есть мистический замес в любовных излияниях.
Но Петрарка уже не нуждается в мощной сакральной
мотивировке. Его "обожествление" Лауры скорее обычный способ
восторженного риторического говорения.
И все же. Любовь, дабы сублимироваться, стать глубоким
чувством к Ней, и у Петрарки по-прежнему должна была по
необходимости балансировать на кромке между земным и
неземным. Между личным переживанием и христианским "общим
чувством". (Это, между прочим, прекрасно понял и воспроизвел
в "Рыцаре бедном" наш Пушкин.)
Так средневековое сердце училось любить (иными словами,
воображать себя любящим).
Кажется, учиться чувственной любви никому и ни в какую
эпоху не приходилось? Хотя приемы ее описания, конечно,
потребовали от римской поэзии великих литературных
изобретений.
Однако спустя полторы тысячи лет путь к оформлению
индивидуального личного чувства парадоксально пролегал через
противоположный - по необходимости, религиозный - полюс
всеобщности.
Индивидуальное чувство, которое в античности намечается
лишь в редчайших случаях и скорее в качестве мучительного и
маргинального исключения (как у Катулла), ныне вырастает из
эмоциональной почвы христианского персонализма. Надличная
одухотворенность насыщала личное чувство и делало его инди-
465 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
видуальным при условии волнующе-двусмысленных
подстановок и самоотречений. К Невесте или Жениху Небесному
объяснялись в любви со странной страстностью. В поклонение
Прекрасной Даме вносили трепетное смирение.
Начиная с двенадцатого века, фантастическая
контаминация набожности и влюбленности создает для "Я" новую
самоценную ситуацию. Ретроспективно это предвестие
новоевропейского лирического тонуса.
Но как вообразить и удержать рискованный баланс между
чувственным и спиритуальным? Это было авантюрой, всецело
лежащей на авторской ответственности.
Если единственно возможный путь к интимной
окрашенности чувства пролегал через религиозную экзальтацию, то
Петрарка сделал первый шаг к любовной лирике в позднейшем
значении. Как? Взамен социальной дистанции между рыцарем
и Госпожей у трубадуров, взамен мистической личной
подсветки у Данте, - Петрарка, сумев сохранить возвышенный строй
чувств, притом чрезвычайно усилил личную акцентировку тем,
что вывел Я-автора прямо в текст. Мы постоянно слышим этот
семантический подголосок, в конкретной и напряженной
реальности которого усомниться невозможно. Она-то, реальность
писательского самоутверждения, и поддерживает голос Я-влюб-
ленного. Отсюда огорчавшая романтика Де Санктиса
"искусственность" и "литературность" Петрарки сравнительно даже с
его предшественниками-стильновистами, работавшими в
рамках жесткой словесной традиции.
Конечно, люди и тогда влюблялись ДО писательства.
Возможно, так это произошло в некий утренний час и с молодым
Петраркой. Но неслучайно, что как у Данте нет ни слова о жене
Джемме Донати, так у Петрарки ни намека на женщин, от
которых он прижил детей. Чувства, которые невозможно было
сделать предметом сочинения, неотрефлексированные, культурно
незначимые, оставались и жизненно незначимыми. Как если бы
их в действительности не существовало.
Не вступая в немыслимый конфликт с догмой и
эпохальным мирочувствованием, сделать предметом сочинения
позволительно было только нереализованную любовь.
Иначе говоря, любовь "чистую", т. е. по необходимости - за
отсутствием иных, сословных или сакральных, возгонок - лю-
_ 46S
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
бовь сугубо книжную, почти бесплотную, очерченную более
или менее условным контуром. Но по той же причине
авторской фантазийности воображаемая влюбленность становится
волнующе-личной.
Стихи к Лауре, разочаровывая нас полнейшей
риторической и топоснои зачищенностью, пресностью, отвлеченностью,
тем не менее одновременно очаровывают тонким, еле слышным,
оттого и неповторимым ароматом истинного чувства.
Что же тут могло быть истинным? На фоне "Новой жизни"
или после жалоб Овидия, Катулла, Проперция? А вот именно
предельная сублимация сквозь напряженно-писательский
фильтр. Экспериментальное придумывание данным "Я" то ли
наново испытанных когда-то, то ли ныне стекающих с острия
пера томления и тоски.
Поэтому читатель словно не замечает безумного смешения
времени любить и времени писать.
В самых вроде бы сиюминутных стихах, с неподдельным
кружением сердца - сочинительская изощренность, отстраненность
Автора. И в самых литературно-абстрактных стихах - со дна
подымается еле слышный и волнующий аромат кружения сердца.
10
В пятом сонете, как и во втором, длящееся настоящее.
"Когда я вздыхаю и зову вас, и восславляю имя, которое
начертала Любовь в моем сердце, начинают слышаться звуки его
первых нежных слогов".
Имя донны впервые появляется в виде своего рода шарады.
Первый слог - LAUdando, второй слог - REal, и наконец -
"молчи (TAci), кричит последний слог, ибо воздать ей хвалу
тебе не по силам, пусть за это возьмутся те, кто тебя
превосходит". Выходит: LAURETA, "Лаурета".
Далее Петрарка молвит: "Так само слово научает
восхвалять и чтить, хотя б и другие стали звать ваше имя. Разве что
Аполлон, может быть, не стерпел бы, чтоб смертный язык
дерзновенно заговорил о ее вечнозеленых ветвях".
Первый намек на решающее созвучие!
Уго Дотти, как и все комментаторы, отмечает, что Петрарка
опознает в аполлоническом "лавре", в который обратилась пре-
467 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
следуемая Кифаредом нимфа, имя "Лауры": «любовь в первой
части "Канцоньере" связана с поэтическим лавром и,
следовательно, со славой поэта* (р. 13).
Преимущественно в первой, да. Но все же не только в
первой части. Вторая часть начинается 264-й канцоной, в которой
Петрарка рассказывает, как неотступно даже во сне преследует
его желание поэтической славы. В сонете 269 "Г verde lauro". В
270:65 - "lauro о mirto". В 291:7 - "dolce alloro". В 313:13 Лаура
на небесах изукрашена лавром ("ornata de Palloro"). В 318:9
поэт вспоминает "тот живой лавр (Quel vivo lauro)".
Прямая игра с созвучием имени донны и лавра после
кончины "живого лавра" в общем должна была быть оставлена. Но
отнюдь не прекращается рефлексия на поэтическую славу, на
"стиль" и композицию книги (см. ниже разборы: 270:37-38,
273:5-6, 313:3-4, 318:6, 337:9-10, целиком 293-й сонет, и т. д.).
При двусмысленном отождествлении ЛАУРЫ и ЛАВРА, в
который она обращается и которым вместе с тем увенчан
влюбленный поэт, внимание то и дело переключается. Петрарка
славит Лауру и этим же именем кодируется его другая, притом
сильнейшая страсть: к сочинительству.
и
В следующем, шестом, сонете поэт говорит, что
жаждет приблизиться к "лавру" (т. е. к Лауре) также ради самого
растения (т. е. приблизиться не к Лауре, вне контекста дафни-
ческого мифа). Ибо поэтический лавр дорог и сам по себе.
"Беспутно и безумно мое желание следовать за той,
которая обращается в бегство и, будучи легка и свободна от силков
Любви, улетает, обгоняя моего неповоротливого скакуна,
который тем меньше повинуется мне, чем больше я пытаюсь
направить его на верную дорогу. Мне его не пришпорить и не
свернуть. Ведь природа Любви такова, что делает его
непокорным.
Но когда наконец мне удается его обуздать и я беру над ним
верх, зато мне становится так скверно, что мертвеет душа.
Мне б только лавр снискать (sol per venir al lauro). Хотя
листы его терпки на вкус и, будучи приложены к любовным
ранам, скорей растравляют их, чем исцеляют".
_ m
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
Каждая строка - парафраз то из Ювенала, то из Овидия, то
из Данте, то из Даниеля (см. комментарий Дотти). Тема:
подмена любовного неистовства поэтической стройностью и
славой сочинителя, которая, впрочем, не излечивает любовной
муки, наоборот (вспомним канцону 73). А если излечивает, то на
душе становится пусто.
Вот что любопытно и, пожалуй, отличает Петрарку от всех,
кому он следует. Дочитав до шестого сонета, уже начинаешь
задаваться вопросом: не посвящена ли книга в такой же мере теме
творчества, как и собственно любви. Не потому ли Петрарка и
ухватывается за созвучие "Лаура/лавр", проводя этот прием
сквозь стихи на жизнь Лауры.
Ни у кого из стильновистов имя и облик донны не консони-
ровали и не совпадали с лавром. Просто потому что их донны
носили другие имена? Все-таки это слишком наивный ответ.
Если бы петраркову Лауру звали иначе, ее имя надо было бы
выдумать. Никакое другое для "Канцоньере" не подошло бы.
Поскольку соналожение любви и сочинительства - смысловая
и композиционная ось книги. Ее сверхтема.
Благодаря мощному и постоянному акценту на мыслях о
личном поэтическом призвании, Петрарка отжимает любовные то-
посы таким образом, что на их дне обнаруживается нечто новое.
Стильновисты твердили, что тот, кто любит, пишет об этом
стихи. Чувство безрассудно и нестройно, не подчиняется узде и
шпорам, стихотворство же - это обдуманность. "Я" мучается и
теряет себя в любви. Но вновь обретает "себя самого" (me stes-
so) и попутно сердечное утешение - в поэтической речи. Так
рифмованные "вздохи", или "звуки" (note), совпадают с
глубокой первичностью "Я".
Книга, собственно, об этом. Зарифмованность любви и
славы, даруемой Лауре и Франческо сочинительством,
фундаментальна.
"Там, на небесах, должна быть почтена венком [лавровым] и
пальмовыми ветвями Та, что столь известна миру и
прославлена (al mondo si famosa et chiara) своей великой добродетелью и
неистовством моей любви (1 furor mio)" (295:12-14).
Когда не станет ни Лауры, ни поэта, лавр останется
вечнозеленым. Любовь относится, так сказать, к материи "Я",
писательское же усилие придает этой материи форму.
469 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Очевидна полная параллель с идеей эпистолярия. Там
материя это "состояние моей души" в каждый данный момент. Оно
уловляется и отливается в цицеронианский "домашний" и
"безыскусный" стиль. Здесь же это одно-единственное состояние
души, зато с бесчисленными переливами и переменами. Оно
отливается в стихах, "безыскусных", "неотделанных", но
составляющих нечто целое - подобно свободно развевающимся, хотя и
прихваченным обручем, золотистым волосы Лауры ("negletto
ad arte, e 'nnanellato et hirto" - 270:61-62).
Шестой сонет в достаточной степени программен, чтобы
позволить нам считать его вторым вступлением к книге.
12
В седьмом сонете тоже о лавре. И даже только о нем.
О Лауре автор сейчас не тоскует и не поминает.
"Чревоугодие, сон и досужие перья изгоняют из жизни
всякую добродетель, отчего, словно сбившись с путей своих, наша
природа погрязает в [дурных] обыкновениях.
И если гаснет благой небесный светоч, который направляет
[букв.: придает форму] человеческой жизни и наделяет ее всем
чудесным, то кто же заставит Геликон истекать рекой?
Кто станет жаждать лавра и мирта? Толпа довольствуется
бедным и жалким знанием, устремляясь за низкой поживой.
На иных путях ты сыщешь немногих товарищей, о,
благородный дух! Тем более прошу тебя: не оставляй своего
великого начинания".
Пожалуй, это третье вступление, притом наиважнейшее.
Ключ к замыслу "Книги песен".
Петрарку нимало не беспокоит, он попросту обходит то
обстоятельство, что они на вольгаре. Потому что знает, что
читатели расслышат сквозь них латынь и восхитятся его
способностью говорить словами Вергилия, Овидия, Цицерона, Ювенала
и др. по-итальянски. Часто это, по сути, дословные и точные
переводы, их неизменно фиксируют комментаторы, в том
числе, конечно, и проф. Дотти. Переводить латинских классиков
на итальянский ни Петрарке, ни позже гуманистам не могло
бы, конечно, прийти в голову. Когда Петрарке однажды
захотелось, он, напротив, перевел новеллу своего друга Боккаччо с
_ 470
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
итальянского на латинский, повышая в ранге. В этом была
логика.
А что до переводов из античных авторов на итальянский,
тогда никому не пришло бы в голову этим заниматься.
Петрарку можно бы условно считать первым таким переводчиком,
поскольку сквозь его вольгаре просвечивают Вергилий, Овидий,
Гораций и др., иногда это сравнимо с точным и гибким
переводом. Скрытые переводные вкрапления, парафразы,
реминисценции исторически гораздо старше переводов. В XV в. стали
иногда переводить с латыни себя, но это иное дело. Нам сейчас
решительно невозможно вообразить, с каким, наверно,
наслаждением читатели Петрарки, помнившие знаменитые речения
латинских писателей в оригинале, должны были узнавать их в
современных итальянских одеждах.
Не беспокоит поэта и то, что седьмой сонет разительно
противоречит первому, который, впрочем, и сам себе
противоречил. Та же игра, что в эпистолярии: формально признается
скромность жанра, но тем замечательней в нем
самоутверждение "благородного духа". Это честолюбивый дух высокого
авторства на Геликоне. Он-то и способен заставить излиться
рекой источник Гипокрены.
"Великое начинание" - то, что перед читателем легла книга
итальянских любовных стихов.
И я бы сказал, что из книги, как она была измышлена
Петраркой, рождается сама его любовь. Воздыхающее "Я", чистое,
но все равно греховное, мучающееся, но и просветленное, и
пр. - начертано Я-автором в унисон "благородному духу".
Ср. у Данте: "Из любви к тебе возвысился над повседневной
былью" (Inf., Ill, 103-105: "<...> Beatrice, loda di Dio vera, / che
non soccorsi quei che t'amo tanto, / ch'usci per te délia volgare
schiera?").
Но Данте возвысился в набожном смысле (106: "non odi tu
la pietà del suo pianto?"). И лишь в одном знаменитом месте (о
стильновистах и "о том, кто из гнезда спугнет их вместе") -
звучит откровенный обертон авторства.
Комментатор отмечает, что у Петрарки в седьмом сонете
тема любви перебивается гуманистическим мотивом (р. 17).
Я бы добавил, что это мотив не боковой, а ключевой для
любящего "Я". В том смысле, что таковое "Я" есть лишь
производное от Авторства.
471 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
13
Сочинять! Вектор самопорождения "Я" отсюда. А это
значит: пропитывание себя античной поэзией плюс Данте,
трубадуры и пр. - обработка ее мотивов на вольгаре - создание
собственного топосного мира, обдуманного и завершенного -
бессобытийная история любви с варьированием нескольких
мотивов - развертывание "Я" из сочинения книги.
Сочинять! то есть одновременно и рефлектировать на свою
личную писательскую силу, и воображать себя любящим. Тем
самым действительно становиться способным испытывать
нечто личное также по любовной части.
Любить! Из эвфонии литературных "вздохов" рождается,
как Венера из морской пены, искренность, подлинность.
Индивидуальное чувство как возможность.
Переводчики же седьмой сонет обычно пропускают. Он
ведь дидактичен, суховат и толкует не о любви.
14
Десятый сонет был написан задолго до
возникновения замысла книги и обращен не то к Стефано Колонна
Старшему, не то к его сыну Джакомо. Как это вяжется с любовью к
Лауре? Например, со следующей далее балладой о том, что
любовные страдания подобны умиранию? На первый взгляд,
почти никак. Это сонет в честь "славного столпа", на котором
зиждятся надежды и "великое имя Рима". Однако меж
обычных стильновистских мотивов впервые задав мотив colonna,
Петрарка глядит далеко вперед как автор столь обширной
композиции. Он устанавливает тем самым перекличку между
началом первой части, ее концом и, далее, началом второй
части (см. ниже).
Где "колонна", там и "лавр".
Впрочем, в этом сонете лавр не упомянут, оставшись в
эллипсисе. Зато живописуется "прекрасная соседняя гора, с
которой спускаются и на которую поднимаются, слагая стихи (рое-
tando)". Соловей ночи напролет жалуется и плачет, омрачая
сердце любовными мыслями. Так почему же тебя нет с нами,
синьор мой?
_ 472
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
И очень густая сеть реминисценций из библейской "Книги
Исхода", Вергилия, более всего из Горация, аллюзия на миф о
Прокне и Филумеле, и пр. "Сонет противопоставляет
утомительным заботам властителя душевную ясность и простоту
поэта, и деревню - городу, и замкнутый мир великих мира сего,
открытый и дружественный мир обычных людей"... т. е.
обитателей Аркадии. "Почтительное и теплое отношение к
знаменитому семейству, которое оказало ему покровительство - но вместе
с тем без отказа от того, чтобы выразить ощущения своей
независимости и свободы" (Дотти, р. 25).
15
Что до любви к Лауре, она вплетена во все это эрудит-
ское великолепие лишь легким пасторальным намеком.
Отметим заодно знаменитый тринадцатый сонет, один из
самых непосредственных и прелестных. И в нем, разумеется,
сплошной парафраз. Но - на иной лад - тоже перекличка со
второй частью (отзвуки "Сокровенного", любовь как путь к
небесам).
Как телу жить в разлуке с душой, т. е. с любимой донной
(сонет пятнадцатый)? Благодаря "привилегии влюбленных,
которые свободны от всех свойств, которыми связаны прочие
люди". Влюбленный может жить в разлуке, ибо способен видеть и
слышать любимого(-ую) словно наяву. Как вергилиева Дидона:
"ilium absens absentem auditque videtque" (Эн. IV, 83; Дотти,
p. 35).
Комментатор делает обоснованный акцент на "потребности
(Петрарки) в грандиозной архитектуре" ради сотворения своего
образа как "фигуры мудреца", отрешенного от мира,
обращенного к свету небес (р. X). Профессора Дотти занимает высшая
религиозно-дидактическая цель авторского усилия.
Для меня же в данном случае интересен не идеологический
и топосный эффект, а лишь само это усилие. Не готовая
риторическая ткань, а любые стыки и швы композиции, т. е. следы
индивидуального рабочего процесса. Знаки родовых мучений
нового "Я".
Рефлексия поэта на себя не как идеального мудреца, а как
демиурга "Canzoniere".
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
16
"Если мне [до сих пор] не дано быть увенчанным
благородной листвой, которую не задевает гнев небес, когда гремит
великий Юпитер, и которой обычно украшают того, кто слагает
стихи, - хотя я и был другом ваших божеств, которых низкий
век предал забвенью, - но эта несправедливость Любви уже
давно отталкивает от меня ту, что взрастила первые оливы.
Ибо так не спекаются даже пески Эфиопии от самого
жгучего солнечного жара, как я горю негодованием, лишившись
столь желанной вещи, мне причитающейся по праву.
Поищите же другой источник, потому что мой иссох и
источает только капли слез". Сонет 24 - ответ на сонет перуджинца
Страмаццо. Почему он, Петрарка, столь верный Музам, до сих
пор не увенчан венцом царя поэтов? Не потому ли, что любовь
к Лауре отвлекла его от более достойного занятия, чем
сочинение любовных стихов? Да нет, скорее потому, что любовь
осталась безответной, и дар его зачах из-за любовных слез.
Любовь "несправедлива". Однако смысл этой "ingiuria"
переносится на сюжет нижеследующей терцины, ключевой для
сонета. "Несправедливо" то, что Минерва возжелала лишить его
лаврового венца.
Обмен подобными посланиями мог произойти, разумеется,
лишь до апреля 1341 г. Но выразительная риторическая игра в
этом негодующем сонете весьма усилена тем, что сонет навсегда
включен в состав книги после того, как коронация автора как
раз состоялась, и это было превосходно ведомо всем читателям.
Опять в разгоне "Книги песен" наряду с любовной темой,
сплетаясь с ней, но порой едва ли не отодвигая ее на второй план,
вперед выходит осевой мотив: чего стою Я как автор?!
Убедительно ли подкреплена значимость Франческо Петрарки
поэтическим уровнем и статусом "Книги фрагментов на вольгаре"?
17
"Стыдясь порой, что до сих пор ваша красота, донна,
мной не воссоздана в стихах [ее достойных], я обращаюсь
мысленно к тому времени, когда увидел вас впервые. Никогда более
не встречал никакую другую, которая так мне понравилась бы.
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Но не мне поднять эту ношу, не моему рашпилю
отшлифовать ее, ибо дарование, которому ведомы [скромные] пределы
его сил, даже принявшись за дело, вдруг леденеет.
Столько раз я уже открывал рот, чтоб заговорить, голос
застревал на полпути в груди: какой звук мог бы подняться до
такой выси?
Столько раз я уже принимался писать стихи, но и перо, и
рука, и разумение терпели поражение при первой же попытке".
Дотти справедливо напоминает о сходных топосах в данто-
вой "Новой жизни" (18:9,19:4-6). Комментатор сонета 20
отмечает также реминисценции из Овидия, Проперция, особенно из
"Поэтического искусства" Горация.
Однако у Петрарки традиционный мотив - как автору
совладать с непосильно высоким предметом песнопения? -
оказывается на композиционной оси. Этот сонет - одно из многих
подобных самодостаточных рефлективных звеньев общего
построения книги. Петрарка продвигает композицию в решающей
степени за счет того, что время от времени принимается
обсуждать характер, жанр, стиль и уровень своих лирических усилий.
Что и говорить, Петрарка, как никто, брал у всех.
Распространяя сплошную реминисценцию на всю доступную ему
античную и средневековую любовную лирику на латинском и двух
новых языках, он превратил себя в сгущение и высшую точку
всех риторических топосов, всей традиционной силлогистики
сладостных терзаний.
Именно в этой точке он достиг слитности личного "Я" и
всеобщности. Все подчинялось экспериментальному авторскому
замыслу и воле, тут же обдумываемым. В непрерывной
писательской самооглядке и состояло главное изобретение "Книги песен".
18
"Мне запрещены живые речи с Вами, вот почему
кричу при помощи бумаги и чернил. Я уже не принадлежу себе,
нет. И если умру, это станет уроном лишь для Вас" (23:98-100).
(То есть: в этом случае Вы потеряете певца, который дарит Вам
бессмертие. "Я весьма полагал, что заслуживал бы в Ваших
глазах стать, благодаря этому, достойным благоволения, и это
придавало мне смелость", 101-103.)
475 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Поразительно кажущееся нам и сегодня современным
ощущение любовного несчастья как потери человеком самого себя.
И одновременно боль - залог обретения себя. Ибо любить
значит хвататься за бумагу и чернила.
19
"Любовь рыдала - и я порой с ней вместе (ведь
никогда я с ней не расставался), - глядя на то, как странно и
жестоко душа Ваша разделывалась с нею. Теперь же Бог опять
любовь на путь благой направил, и я, сердцем к небу обратясь и
простирая руки, благодарю Того, кто благодатно по милости
своей внимает человеческой мольбе о подлинном. И, если Вы,
вернувшись к песням о любви, ныне отворачиваетесь от
желанной красоты, изведав ее рытвины и провалы, то знайте, что
правый путь тернист. Очень трудно карабкаться вверх, но человеку
надлежит опираться на истинное благо".
В сонете 25 одна из попыток, в духе дольче стиль нуово,
представить тождество - в последнем счете - любви к Лауре и
любви к Высшему благу. Это, как и раскаяние в любви к
творению (главный довод "Августина" в "Сокровенном"), своего рода
смысловые качели между любовью чистейшей, смиренной,
почти набожной, но - к женщине. То есть любовью все же
греховной, ибо земной. Но греховной не с точки зрения десяти
заповедей, а только в наивысшем евангельском и неоплатоническом
смысле. Ибо нельзя заменять любовью к ТВОРЕНИЮ любовь
к ТВОРЦУ.
Ясно, что эта позиция раскаяния/оправдания обретает
плотность лишь при мгновенных удержаниях на одном из
взлетов смысловых качелей. Но она размывается безостановочным
их раскачиванием.
20
"Вы все, кто в стихах воспевает Любовь, воздайте
честь доброму мастеру любовных речений (Et tutti voi ch'Amor
laudate in rima / al buon testor degli amorosi detti rendete honor),
хоть он сначала и сбился [из-за любви] с правого пути.
_ 476
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Ведь в царстве избранных славней других тот дух, который
[к Благу] обратился, и более он почитаем, чем девяносто девять
остальных, бывших совершенными [изначально]".
Вот они, помянутые качели. Если 25-й сонет от земной люб-
ви зовет к небесной, то 26-й, вторя первому стиху книги,
обращен к собратьям по литературному цеху и восстанавливает в
правах если не земную любовь, то, во всяком случае, любовную
поэзию. Правда, ради вящего избранничества того, кто, воспев
любовь, возвысится затем (но и тем самым?) к благочестию.
Для нас, под избранным углом зрения, важней этого
знаменитого поэтически-условного спора с самим собой, по правде,
достаточно дидактически-элементарного и скучноватого, - то, что
Любовь замещается сочинением СТИХОВ О ЛЮБВИ. Любовь
греховна и заслуживает упрека, но совсем иное дело "в стихах
воспевать Любовь". Авторство, т. е. со-творение себя, любящего,
посредством пера, бумаги и чернил, - достойно лишь хвалы.
21
Мы помним, что в первой редакции роль вступления
выполнял сонет 34. Это обращение к Аполлону!
Вот оно.
"Аполлон, если все еще жива в тебе прекрасная страсть,
которой ты пламенел к фессалийским волнам, и спустя столько
лет ты еще не забыл возлюбленные золотистые волосы, <...>
так защити ныне от ночной стужи почитаемую и святую листву,
которой пленен был сначала ты, потом и я. <...> И мы увидим
с тобой, изумленные оба, как наша донна сидит средь травы и
руками-ветвями тень сама создает для себя же".
Первоначально это, видимо, была молитва о выздоровлении
Лауры. Будучи поставлен в положение вступительного
стихотворения, сонет особенно обыгрывал двусмысленность
отождествления Лауры и Лавра. Любовь Аполлона к Дафне, дочери
Пенея, т. е. бога фессалийской реки, это идеальный образец
любви автора - к Лауре? или тоже к лавру, сиречь к
поэтической лире? Тождество Лауры и Дафны заходит так далеко, что
он, Франческо Петрарка, "вместе" с Аполлоном восторгается
лавром, который сам себе служит отрадною тенью. "Наша
донна", не колеблясь, говорит поэт солнечному божеству, водяще-
477 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
му хоровод Муз. Что же остается от Лауры де Нов, ежели она -
"наша донна"? В связке Лаура/лавр речь о духе и свете поэзии,
которая составляет собственную отраду.
Это не только честолюбие как греховная слабость
пишущего, но нечто большее: творческое самоупоение и
самоутверждение "Я".
Потому Петрарка и задумывал первоначально начать книгу
стихов с аполлонического сонета о неувядающем лавре.
22
И, наконец, последний, 263-й сонет из стихов на
жизнь Лауры.
"Arbor victoriosa triumphale, / honor d'imperatori et di poeti
<...>" "О, древо победителей и триумфаторов, почет
императоров и поэтов, сколько ты принесло мне мучительных и
радостных дней в этой моей недолгой смертной жизни!"
Так что же, спрашивается, явилось источником помянутых
мук и радостей? Лавр, о котором заведена столь торжественная
речь, или донна, которую замещает лавр и на которую тут же
речь переходит? О чем сонет, о Лауре или о поэтическом
подвиге во славу ее красы и добродетели? Конечно же, о Лауре, но,
если можно так выразиться, исключительно в рассуждении
римского лаврового венца, коим был почтен Франческо
Петрарка. Высока и самоценна заслуга поэта, сподобившегося
воспеть "прекрасное сокровище чистоты".
"Это истинная донна, которой ничто не важно, кроме чести,
что всех благ превыше. Ни Амор ее не одолеет, ни..." и пр.
Стихи на жизнь Лауры, таким образом, завершаются
двусмысленно. Мотив Лаура/лавр в очередной раз дает перевес
лавру. Любовная хвала замыкается на хвале поэзии и даруемой
ею славе.
Конечно, многозначительно то, что сонет о лавре Петрарка
ставит в завершение первой части, т. е. на одну из ключевых
смысловых позиций при компоновке книги в целом. Концовка
подкрепляет зачин. Голос Я-автора симметрично окаймляет
основную часть книги.
Вторую же часть, как уже упоминалось, открывает
дидактическая канцона, в которой мы находим пространный монолог
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
опять-таки о снедавшей Петрарку всю жизнь неотвязной
сочинительской страсти. Причем об этом соблазне автор, как и
"Августин" в "Сокровенном", настроен говорить более
снисходительно, нежели о соблазне земной любви.
23
Годами Петрарка вставлял новые группы стихов,
менял их порядок, и пр. Этот порядок часто не соответствовал
времени сочинения. Ранние стихи занимали более продвинутое
место, а написанные в старости или, во всяком случае, после
смерти Лауры, вставлялись в часть первую "на жизнь Лауры".
Петрарка сам разделил книгу на две части. Хотя это явствует
лишь из особенностей рукописей и указаний переписчикам
(р. 380 е seg.). Авторских названий у частей нет (это строго
отражено в издании Дотти).
Но почему в номерах 264-266, да и, пожалуй, в 267-м
сонете, т. е. в первых четырех стихотворениях второй части, Лаура
представлена еще как живая?
Одни считают, что вторая часть связана не столько с
внешним фактом смерти Лауры, сколько с моральным переворотом
1342 г. Другие - что три стихотворения были написаны между
датой смерти и днем, когда Петрарка получил известие об этом.
Уилкинс справедливо считает эту догадку натянутой и
особенно не соответствующей номеру 266. Исследователь предлагает
собственный достаточно неожиданный ответ (р. 383-384).
Деление на две части было введено Петраркой не после того, как
он узнал о смерти Лауры, а раньше. Номер 264 был написан,
возможно, еще в 1347 г. В нем выражен главный, т. е.
покаянный, моральный конфликт в сознании поэта. Поэтому смерть
Лауры лишь утвердила поэта в намерении начать вторую часть
именно с этого конфликта.
Я не в силах, однако, понять, как Петрарка мог бы
задумать при жизни возлюбленной ту часть книги, которая прежде
всего переполнена поминальной скорбью. Для выделения
второго раздела не было до 1348 г. главной сюжетной основы,
траурной. Поэтому радикальное предположение Уилкинса
кажется мне не менее натянутым, чем те, против которых он
возражает.
479 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Гораздо проще было бы считать, что деление книги
произведено автором спустя некоторое время после смерти Лауры,
когда накопился материал. Но, конечно, структура второй части
не могла быть построена только вокруг самого факта смерти и
сопутствующего ему слезного сокрушения. Ей следовало сразу
придать религиозно-поучительный смысл.
Потому столь уместен программный номер 264. Вместе с
номером 366, т. е. молитвой к Пресвятой Деве, он обдуманно
обрамляет раздел на смерть Лауры. Начало второго раздела и
конец книги расчетливо симметричны по смыслу. Петрарка
вводит, благодаря номерам 264-267, духовную напряженность.
Между любовью земной и любовью небесной возникает некий
промежуток, словно бы в предчувствии кончины Лауры.
Начиная с сонета 246 и вплоть до сонета 254 включительно,
это позднейшие вставки к девятой редакции. Искусная
подготовка к стихам на смерть Лауры, крешендо тревожных
предчувствий, а в 254-м уже и ужасной неизвестности, жива ли она.
Другие стихи, заключающие часть на жизнь Лауры, были
написаны ранее.
После сонета 263, своего рода петрарковского "Памятника",
следующая часть открывается сосредоточенной беседой с
самим собой и покаянным crescendo. Смерть Лауры вкупе с
продолжающейся и за ее гробом любовью окончательно очищает
чувство от всего плотского. "Полезная" смерть Лауры
(вспомним письмо "К потомкам"!) улегчает набожное раскаяние в
слишком земном чувстве. Это раскаяние - подходящий зачин
для оплакивания ушедшей из мира красоты и в ожидании
встречи на небесах.
"Брожу в задумчивости, и мне на ум находит такое сильное
сострадание к самому себе, что часто заставляет плакать не о
том, о чем привычно плакать для меня. Потому что видя, как
каждый день приближает к концу, тысячекратно воздыхаю и
молюсь Господу, чтоб дал те крылья, с помощью которых наша
душа из смертной темницы воспаряет к небу <...>"
Так Петрарка загодя готовит разгон для всей скорбной
части. Иначе получился бы резкий разрыв слишком разных по
смыслу "плачей": о неприступности возлюбленной - и об
исчезновении из этого мира несравненной красоты, о чаянии
небесного блаженства близ Лауры.
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Автор, напротив, обеспечил плавный обоюдонаправленный
переход между любовью земной и любовью вечной.
24
Петрарка сочинил 264-ю канцону не ранее 1349-го и
не поздней 1358 г. Как замечает У. Дотти, эта вещь
«представляет в семи торжественных станцах, по 18 стихов в каждой,
поэтический эквивалент третьей книги "Сокровенного"» (р. 717).
Две мысли приходят побеседовать с Франческо. Одна
мысль - о тщете любовных чар и мук сравнительно с вечным
небесным блаженством. Другая мысль - о неодолимости
сочинительской страсти.
"Некая мысль посетила мой ум и так говорит мне: - Ну, к
чему ты стремишься? откуда ты помощи ждешь? <...> вырви из
своего сердца все корни блаженств, которые никогда не смогут
сделать нас счастливыми и лишь мешают перевести дыхание.
Если душа твоя уставала так долго, если ты забывался той
ложной, мимолетной сладостью, которой только и может
одарить людей этот мир-предатель, - так на что же еще ты смеешь
надеяться там, где нет ни счастья тихого, ни прочного покоя?
<...> Ты издавна знаешь, сколько отрады твоим глазам
дарует облик той, которая - как ты все-таки хотел бы - уж лучше
родилась бы позже, чтоб не страдать тебе.
Так вспомни же, ты не можешь не помнить ее образа, каким
он впервые запал в твое сердце. Это пламя, наверно, не смогла
бы зажечь никакая другая женщина. Но она разожгла его. И
если обманчивый жар длился столькие годы в ожиданьи некоего
счастливого дня, которого нам не видать, пока не спасем свои
души <...> и если ваши [человечьи] желанья так рады даже
муке своей и утоляются мгновенным взглядом, словом, напевом, -
то какой же должна быть услада ТАМ, коли эта столь велика?
Так возвысься сейчас к более блаженной надежде, взирая на
бессмертное и прекрасное небо, которое кружится вкруг тебя.
<...> Но вот другая мысль, милая и проникновенная, с
беспокойной и усладительной осязаемостью весомо поселяется в
душе и полнит сердце желанием, питает его надеждой. Она живет
только громкой и бессмертной славой (sol per fama gloriosa et
alma), и ей нет дела, что я то застываю, то горю, то бледнею, то
16 - 345
4S1 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
исхудал. Если же я эту мысль сумею осилить, то затем лишь
пуще она возрождается (piu forte rinasce). Это мысль о лавре,
который во снах меня обвивает и день ото дня во мне
разрастается, так что боюсь, лишь могила погребет нас обоих. Я не смогу
забрать с собой эту страсть, после того как душа расстанется с
телом. Но, если латинянин и грек станут говорить обо мне и
после смерти, это как [нестихающий] ветер. Вот почему я всегда
боюсь собирать воедино то, что может в миг единый исчезнуть
навек. Я хотел бы заключить в объятия истину, пренебрегши
тенями. Но другая, любовная страсть, которой я полон, о, как
она гасит все, что возникает с ней рядом. И я отчасти теряю
время, когда пишу о любви, о себе самом не заботясь", и пр.
Так "лодка" его души медлит к спасению, ее задерживают
"два препятствия (duo nodi)" (81-90 и ел.).
Два этих греха, впрочем, тянут поэта в РАЗНЫЕ стороны.
Ибо любовные стихи отвлекают от сочинительства в более
высоких жанрах, очевидно, вроде "Африки" и других латинских
проектов Петрарки. "Свет прекрасных очей нежно губит меня
своим чистым жаром и привязывает так, что уже ничто мне
иное не мило, никакому дарованию или силе не одолеть эти узы
(nullo ingegno о forza valme)".
Мысль о том, что любовь, побуждающая воспевать Лауру на
вольгаре, тем самым отвлекает от более достойных (конечно,
латинских) сочинений, как мы знаем, встречается у Петрарки и
в других стихах. Мы помним также, что это не мешает
Петрарке в иных случаях утверждать, что именно любовь и желание
быть достойным Лауры подвигали его на подобные труды.
Наконец, поэт неоднократно возвышает свое положение как
автора стихов к Лауре до уровня Гомера и Вергилия. Если можно
так выразиться, тактика риторического самовозвышения Я-ав-
тора меняется, цель остается той же.
Конечно, предзначение писателя должно вместе с любовью
отступить перед благочестием, и поэт обращается к Творцу с
молением об этом. Набожный поэт не может не испытывать "стыда
и скорби" по поводу любых склонностей, которые так или иначе
все же привязывают душу к миру (u,n diversi modi/ legano 4
mondo"). Но это не мешает ему, нарушая формальное равенство
"двух препятствий", сетовать на то, что одна мирская слабость
служит помехой для другой, для высшего призвания поэта.
_ 482
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Итога нет, если не считать итогом самое раздвоенность:
"Канцона, вот в каком состоянии я пребываю...".
25
Мало отметить очевидную связь этой риторики с
увещеваниями Августина в "Сокровенном". Душеспасительные
общие места расступаются, чтобы высвободить место в сознании
поэта... нет, не столько для любви к Лауре, сколько для любви к
сочинительству и славе. Ибо имя его останется на устах у
просвещенных народов. Петрарка прямо заявляет, что рядом с
любовной страстью не остается места ни для чего иного, а значит,
не только для набожной заботы о царстве небесном, но и для
высокого писательского честолюбия. Хоть "Амур меня и
ободряет, что никогда не собьется с дороги чести тот, кто слишком
ей верен".
Поэзия, в отличие от любви, остается ничуть не
приниженной и не опровергнутой, за исключением разве что
формального соединения обоих грехов, как и в "Сокровенном", в одной
отягощенной ими "лодке".
Если первая часть книги любовных стихов заканчивается
обращением к "триумфальному лавру", то вторая часть
открывается канцоной, где симметрия любви и авторского
честолюбия, Лауры и лавра, опять-таки открыто нарушается.
Подчеркну еще раз, что идея самоценной сочинительской
страсти вырывается вперед в стихотворениях, которые
занимают в книге наиболее композиционно значимые положения.
Смысловая иерархия - с точки зрения и композиции, и
предмета покаяния - выстраивается такая. Спасение души
несравненно выше бренной любви: об этом основная часть
канцоны. Что до поэтической славы, то, хотя жажда ее - одно из двух
греховных препятствий к набожному умонастроению, этот nodo
остается в стороне и на особом положении.
Петрарка находит, в отличие от любви, сильные слова в
защиту Я-авторства.
Две "мысли", о спасении души и о поэтическом
избранничестве, не отвергают напрямую друг друга. Душе поэта близки
они обе. И обе, так или иначе, выше любовной страсти.
16·
m _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
26
Что же раньше, петь или плакать?
Сонет 229:1-2. "Я пел, а теперь плачу, и слезы мне не
меньше сладости приносят, чем пенье принесло, ибо дело в
причине, а не в результате: я имею в виду, что мои чувства жаждут
ведь только высокости. А потому я одинаково переношу любое
обращение, и суровость, и поступки, приносящие боль, и
скромные, и любезные <...> Пусть Амор, мадонна, мир и моя фортуна
обращаются со мной, как обычно, я не думаю, чтобы мог бы
когда-либо не испытывать счастья".
Сонет 230:1-2. иЯплакал, а теперь пою..".
Этот хиазм уже в стихах на жизнь Лауры подготавливает,
как мы увидим, важный способ, к которому прибегнет
Петрарка, чтобы обосновать и оправдать завершение книги. То есть то
обстоятельство, что пора перестать воспевать Лауру, -
обстоятельство, оказавшееся крайне затруднительным для автора,
многажды повторявшего, что его любовь к Лауре не остынет и
за гробом, что любовь эта вечная, что...
Впрочем, то, как Петрарка выстраивает вторую часть,
предусмотрительно ведя читателя к завершению книги о любви, -
это отдельная тема, настолько богатая по материалу, что я
предпочитаю прервать пока разбор рефлективных приемов
выстраивания "Книги песен". Отложим это до последней главы.
Стихи о стихах
1
Заглянув в начало "Книги песен" и отчасти также в
переход от первой части ко второй, мы увидели, как Петрарка
разгоняет сочинение при помощи нескольких исходных
риторических ходов. Теперь проследим, как поэт поддерживает
огонь литературной рефлексии в дальнейшем. На протяжении
всего корпуса стихов на жизнь Лауры автор выговаривает
новые важные мысли о том, каковы его стихи. Эти смысловые
линии оказываются заодно дополнительными скрепами единства
_ 484
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
сборника. Притом центральный мотив Лауры/лавра
продолжается и обогащается обертонами.
Уго Дотти не может не привести по поводу этой двойчатки
замечательную и памятную выдержку из речи Августина в
"Сокровенном" (III, 7:1-5). Августин совестит Франческо: ты весь
отдался любви к ней, ты то и дело обливаешься слезами. Ты
заказал ее портрет - "может быть, из опасения, что иначе глаза
просохнут?" Наконец, ты обезумел в такой степени, что
бредишь уже одним ее именем. "И вот почему ты полюбил лавр
Цезаря и поэтов! Ведь это ее имя <...> и ты не сочинил ни
одного стихотворения, в коем не упоминался бы лавр, как если бы ты
жил на берегах Пенея <...> И посему, поскольку ты не мог бы
надеяться на лавр цезарский, ты принялся стремиться к лавру
поэтическому, который тебе сулили бы заслуги, коих ты
снискал своими учеными занятиями. И вот ты принялся за них с
той же безмерностью, с которой ты любил ее".
Дотти указывает конкретные места из "Канцоньере",
которые подтверждают обвинительную речь Августина. Любовь
Петрарки к поэтической славе, согласно этой схеме, затверженной
самим поэтом, проистекала из любви к Лауре. Схема
соответствовала топике сладостного стиля.
Связь любви и поэтической славы, замечает по этому
поводу комментатор, составляет "человеческую и моральную
проблематику, хотя известную и до Петрарки, но никогда не
выражавшуюся с такой определенностью" (р. XXXVI). Игра на
созвучии имени донны и лавра, подсказанная дафническим
мифом, явилась "стратегическим изобретением (как теперь
принято говорить)" - центральным пунктом, "своего рода
идеологическим манифестом" Петрарки. В большой канцоне о
метаморфозах Петрарка подключил свою любовь к античной мифопоэ-
тической традиции.
Соглашаясь со всем этим, решусь добавить, что тем самым
Петрарка, на деле шедший, как, впрочем, и все стильновисты,
напротив, от поэзии к любви, впервые поставил это скрытое
обстоятельство в центр любовных рассуждений столь откровенно
и личностно.
Конечно, для начала нельзя было не возгласить, будто
исходным было страстное чувство к Лауре, обратившейся в Лавр.
Попробуем, однако, одновременно взглянуть на дело иначе - и
485 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
перевернуть смысловую связку "Лаура/лавр". Ведь такую
переакцентировку, как уже говорилось выше, можно вычитать из
самой "Книги песен".
Писательская страсть как абсолютно сознательный
стержень действительной жизни Петрарки, страсть к сочинению
вообще и любовных стихов в частности, - притом авторское
самосознание, введенное внутрь текстов, в смысловое ядро
лирической книги, и, более того, ставшее способом ее построения, - не
это ли и придало сердечным мукам лирического "я"
своеобразную биографическую конкретность и достоверность? Все это
уже было мною высказано и аргументировано в
предварительном порядке. Однако требует дополнительного материала,
проверки и обдумывания.
2
"Донна, более прекрасная, чем солнце, и
ослепительней его, и столь же извечная, своею славной красотой сделала
меня ее поклонником, когда я был еще совсем юным. Она
заполонила и помыслы мои, и желания, и речи (хоть в мире мало
что встречается реже, чем она), и тысячью путей всегда влекла
меня вперед, возвышенная и неотразимая. Только из-за нее я
вернулся [в Авиньон] и стал иным, чем был <...> это любовь к
ней меня подвигла со временем на величайшие труды; таковы
они, что если я желанной гавани достигну, то, надеюсь,
прославившись. И после погребенья жить буду очень долго".
Далее следует беседа с "этой моей донной", которая
восхваляет свою сестру-близнеца, Добродетель.
Итак, 119-я канцона, подобно прочим, воспевает
"прекрасную донну", которая своей блистающей красотой измладу
покорила Франческо. Во имя ее он возвысился: став тем, кем он
стал. Словесные ходы звучат в соответствии с тем, что
Петрарка всегда писал о любви к Лауре.
Тут читатель попадает в изящную ловушку.
Риторическая игра состоит в том, что в контексте всей
книги любовных песен с первых строф канцоны вообще-то трудно
заподозрить, будто речь может идти о чем-либо ином, кроме
любви поэта к Лауре. Лишь замечание во втором стихе, что
возраст донны столь же древен, сколь и возраст Солнца ("d'altret-
_ 4S6
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
tanta etade"), звучит странно и предупреждает, что эта
ослепительная донна не Лаура. Кроме того, в Авиньон поэт вернулся
после смерти отца, бросив учение в Болонье, и лишь потом
встретил Лауру.
В остальном же... Отступим хотя бы на три предыдущих
опуса.
Разве, например, 116-й сонет не начинается так: "Я
переполнен столь несказанной нежностью с того дня, когда мои глаза
почерпнули ее в прекрасном лице, что охотно смежил бы их навек,
лишь бы никогда не смотреть на менее совершенную красоту"?
Разве в 117-м сонете не говорится о восхищенных вздохах
и взглядах, которые поэт бросает из своего Воклюза в сторону
Авиньона, где живет Лаура?
Разве в сонете 118-м не сказано: "Остался позади
шестнадцатый год, как я вздыхаю, жизнь моя клонится уже к концу
<...> горечь моя сладка, и благодатен гнет, и жизнь тяжка, но я
прошу, чтобы ее прервала жестокая Фортуна [лишь потому],
что боюсь, чтоб прежде Смерть не смежила прекрасные глаза,
которые побуждают меня сочинять (parlar mi fanno)".
И разве не о том же: "- Мадонна, - сказал я, - уже давно
моя любовь принадлежит вам", и т.д. (119:39 и ел.).
Но выясняется, что пленительная красавица из 119-й
канцоны, которой давно принадлежит любовь Франческо, тем не
менее, не Лаура.
Это донна Слава!
Правда, далее Слава говорит автору о Любви, которая
владеет "твоим умом" (119:54). Однако и это не о любви к Лауре,
но, как замечает Дотти, о спиритуальной Любви "в более
широком смысле".
Забавно, что Петрарка, охваченный пылом своей самой
сильной страсти, писательской, и беседуя с поэтической
Славой, пользуется совершенно той же любовной топикой и
лексикой.
Например: "Эта моя донна много лет увлекала меня,
упоенного жарким молодым влечением (Qu es ta mia donna mi meno
molt'anni / pien di vaghezza giovenil ardendo)".
Или: "... я чувствую сейчас себя таким воспламененным, что
в этом состоянии не в силах хотеть иль не хотеть чего-либо
иного [кроме того, что угодно иль неугодно вам] (i'sento or si
с_
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
infiammato, / ond'a me in questo stato / altro volere о disvoler m'è
tolto)".
Почему же он так пылает особенно сейчас? Потому что все
еще переполнен впечатлениями при венчании лавром на
Капитолии (26-30).
Вот она, "дама-ширма" Петрарки, вот его "дама из окна",
вместе взятые. Донна Слава для поэта сладостна и желанна
ничуть не меньше, чем благосклонность Лауры.
Лаура могла бы обидеться и, как Беатриче, не ответить на
поклон.
з
В прекрасных глазах Лауры, пишет поэт, я читаю то,
что скрыто от других, и "отсюда черпаю все, что бы я ни
говорил, все, что бы ни писал о Любви (quant'io parlo d'Amore, et
quantЧо scrivo)" (сонет 151).
Но вот мадонна Слава наконец-то говорит о некоей другой
донне: «Ты увидишь ее, и знак того, что это именно она, будет
то, что она сделает твои глаза еще более счастливыми [чем при
виде меня]. Я хотел было сказать "Да это невозможно", как она:
"Смотри же" - и слегка вскидывает взор к уединенному месту -
там донна, которая немногим являлась во все века. Я сразу
склонил пристыженное лицо, ощутив внутри себя новый и
больший жар».
Начитавшись сонетов к Лауре, в которых поэт то, например,
сравнивает ее с Еленой Прекрасной (намекая тем самым на
"Илиаду" и на себя как поэта, чей предмет не менее высок, чем у
Гомера!), то повторяет, что Лаура несравненна в веках, читатель
вправе опять-таки вообразить, что уж на сей раз
Прекраснейшая, могущая возобладать даже над жаждой поэтического
бессмертия, это дама, которая живет в Авиньоне. Но нет, на сей раз
речь о Добродетели. О virtù в смешанном римско-христианском
значении. О, если угодно, будущей ренессансной Доблести.
Опять-таки поэт обращает к ней речи, почти дословно
повторяющие те, что он возносил к Лауре в 61-м сонете. "Блажен
Господь, и день благословенен, в котором Вы родились, мир
собой украсив, и время, когда я Вас увидеть смог...".
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Затем Добродетель взмахивает крылами и продолжает свой
полет. А донна Слава, прежде чем по окончании беседы тоже
покинуть поэта, молвит:
«"Я удаляюсь, но ты этого не страшись" - и она, сплетя
гирлянду из вечнозеленого лавра, собственноручно увенчала ею
мою голову*.
Таким образом, донна Поэзия и донна Лаура обнаруживают
замечательное тождество. У той и другой одна и та же эмблема
и знак присутствия: листья лавра.
4
Сонет 103 воспевает победу Колонна над Орсини при
Сан Чезарео в 1333 г., сравнивая ее с победой Ганнибала под
Каннами. В конце Петрарка торжественно возглашает:
"следуйте прямой дорогой за зовом Вашей фортуны, которая может
принести Вам спустя тысячи и тысячи лет после смерти честь и
славу в этом мир".
Это - о славе воинской.
Но, разумеется, сентенция приложима и к славе
поэтической. Из общих мест о славе и лавре, который то замещает
Лауру, то сопрягается с любовью к ней, следует то, что стихи к
Лауре принесут и донне, и автору вечную "честь и славу".
Сонет 104 к Пандольфо Малатеста продолжает тему. Что
может обессмертить смертного? Будь то даже Цезарь или
Сципион Африканский - только бронза или мрамор. Но особенно
поэзия. Это общее место гуманизма и Возрождения, как
справедливо напоминает комментатор.
"Я пишу на бумаге то, что мне подсказывает сердце, и вот
ваше имя навеки прославлено, ибо сделать это лучше нельзя
было бы никаким другим образом, даже если высечь
изображение живого человека из мрамора.
Вы думаете, Цезарь, или Марчелло, или Паоло, или
Африканец могли бы стать такими знаменитыми, если бы их никогда
не отливали в бронзе и не высекали из камня?
Пандольфо мой, подобные творения - стрелы, которым
предназначено лететь очень далеко. Но ведь наш труд это и есть
то, что приносит людям бессмертную славу."
489 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Для Петрарки, который, выводя на почетное место
риторику и поэзию, всего только переоткрыл для себя античный топос,
это было свежей личной новостью.
Поэтому у Петрарки Я-автор стал ткацкой основой для
всего, что вообще составляет и наполняет его "Я". Он пел Лауру,
любил или воображал, что любит, и, сочиняя о любви, сочинял
самое любовь, а вместе с ней свое писательское предназначение
и самосознание, целокупную автобиографию.
5
Какая река ему милее всех рек в мире?
Это "не Тезин, По, Вар, Арно, Адидже и Тибр". И не еще
восемнадцать рек, вплоть до Тифа, Эфрата, Нила и Ганга,
звучный перечень которых составляет кватрен 148-го сонета.
Для поэта средоточие мира - Воклюз, и дороже всего,
конечно, журчание Сорги: "прекрасной реки, которая всечасно
плачет вместе со мной и с деревцем, которое я украшаю и
прославляю в стихах".
А что за деревце, любимое им больше любого другого? Это
не плющ, не ель, не сосна, не бук или можжевельник. Но,
конечно же, лавр. Вот, что "смягчает огонь, который терзает
печальное сердце. Вот подмога, которую я нахожу против нападений
Амура <...> Прекрасный лавр поднимается у прохладной реки,
и тот, кто взрастил его, записывает изящные и высокие мысли в
отрадной тени, под плеск воды".
Мотив сердечных терзаний проходит вскользь и стороной,
пропуская вперед мотив поэтического вдохновения в тиши Во-
клюза, насыщенный реминисценциями из буколик Горация и
Вергилия.
Мы видим поэта "взращивающим прекрасный лавр" на
берегу Сорги. Что это значит? Что он влюблен. Ведь Лаура и лавр
нераздельны. Но одновременно это попросту значит, что он
сочиняет стихи. Об этом, собственно, прежде всего он и сообщает.
Поэтому о себе в третьем лице: как о Поэте, "который...", и пр.
Он пишет о том, что он ПИШЕТ. Упивается самим
состоянием и процессом сочинительства. Отзывается о стиле своих
стихов: "pensier' leggiadri et alti <...> scriva". "Записывает мысли
[о любви] радостные и высокие".
_ 490
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
В переводе А. Эппеля литературная самооценка, к
сожалению, выпала. Взамен ее - "шум влаги", избыточно
дублирующий "плеск вод". Но последняя строка хороша, и пафос
авторского состояния воспроизведен в целом изящно и точно.
Расти ж, мой Лавр, над шумом тихой влаги,
Садовник твой, укрывшись в тень твою,
В лад плеску вод поверит мысль бумаге.
6
После кончины Лауры все то же.
<...Где б ни присел я, охваченный любовным раздумьем, и
где бы ни писал (là Vio seggia d'amor pensoso et scriva), вижу и
слышу Ее, явленную нам небом и сокрытую землей. И кажется
мне, она жива и отвечает издалека на мои вздохи: "Ну, что ты
убиваешься до срока - мне молвит с состраданьем - и к чему из
глаз печальных скорбною рекой ты слезы льешь? не плачь же
обо мне"...» (сонет 279).
Мысли о Лауре неотрывны от scrivere. От скрипа пера по
бумаге.
7
Сонет 49-0 соотношении "моего языка",
выговаривающего слова любви, и самого чувства.
"Хоть я, насколько мог, старался ни словом не солгать и
очень чтил тебя, неблагодарный мой язык, но ты, однако, меня
не почитал, ввергая в гнев и стыд.
Ибо, чем больше я в тебе нуждался, чтоб милостей у милой
испросить, тем больше леденел ты. И, если ты слагаешь стих,
несовершенен он, как у того, кто грезит".
Влюбленный обращается к поэту в себе. Поэзия служит
ходатаем и посредником между сочинителем и любимой. Опять
впрямую сказано о зависимости любящего Я от его же
поэтического дара. Опять автор стихов оценивает их смысл и качество.
8
Даже там, где поэт говорит о любви, а не
рефлектирует на сочинительство, мотив последнего часто так или иначе
491 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
проходит обертоном. Так, на протяжении 75-го сонета Петрарка
успевает упомянуть о "желании языка следовать за
единственным нежным помышлением, которое владеет душой". Он
говорит о прекрасных глазах Лауры. Но также о том, что он "не
устает говорить о них".
В сонете 77 Петрарка заводит речь о заказанном им (ныне,
увы, утраченном) небольшом портрете (или миниатюре) с
изображением Лауры, кисти Симоне Мартини, который работал в
Авиньоне в 1333-1344 гг. Упоминается Поликлет и
обсуждается проблема изображения средствами искусства идеальной
красоты (Лауры, разумеется).
О том же сонет 78. И опять: "ragioniar", "i detti miei"... 0,
если бы Симоне мог дать своему образу разум и голос. И
неожиданное, но вполне логичное обращение к Пигмалиону:
"Пигмалион, как же ты должен был радоваться и восхвалять свой
образ (l'imagine sua), если тысячу раз получал от него то, что я
хотел бы получить хоть один раз".
То есть услышать, как портрет Лауры заговорит.
Уго Дотти почему-то считает этот пассаж "откровенно
двусмысленным" и содержащим "эротическую ноту, которая
кажется весьма очевидной". Он замечает: комментаторы, особенно
в XVI в., всегда обходили этот эротизм и "предпочитали,
исходя из общего идеализующего контекста, толковать" то, что
хотел бы получить Петрарка от Лауры, как ласковые речи донны.
Но ведь сам Петрарка отвергает эротическое толкование,
объявляя, что для него "низко" то, что "другим дороже всего".
Изображенной "фигуре" недостает именно "голоса и разумения
(voce e intellecto)". Так что не отвлеченные соображения, а
прямой текст указывает: дело идет о том, что с прекрасным
изображением кисти Мартини, в отличие от Галатеи, нельзя было
разговаривать.
Любопытно, что Петрарка делает замечание - через
опосредующее звено в виде портрета Мартини - о Лауре как "о своем
образе".
Что же, он сознавал, что Лаура некоторым образом его
творение? что он ее Пигмалион?!
_ 492
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
9
"Плывя по Тирренскому морю, слева, на берегу, там,
где ветер гонит волны и разбивает их о берег, я вдруг увидел ту
горделивую листву, ради которой надобно бы исписать кипы
бумаги ('n tante carte scriva)".
Это сонет 67. Итак, Франческо видит на побережье заросли
лавра. Они наводят его на мысль о золотистых волосах Лауры.
"Любовь, кипящая в душе", побуждает приблизиться к лавру, и
он сходит в прибрежную воду. Даже не сходит, а падает в нее,
словно неживой ("поп gia come persona viva"). Вслед за этим он
видит себя в полном одиночестве среди холмов и рощ.
Испытывает стыд за свое любовное отчаяние. Для просветления
"благородного сердца" не требуется ничего, кроме внутреннего толчка.
Далее такой ход: в этот момент ему, Петрарке, который
ранее был в слезах, понравилось, ощутив некое душевное
равновесие, увлажнить морской водой ноги и осушить глаза. Такая
перемена психологического состояния обозначена не без
усмешки в свой адрес, весьма неожиданной и примечательной:
"переместить стиль от глаз к ногам (aver cangiato stile / dagli
occhi à piè)".
10
Канцона 105 также начинается с того, что поэт больше
не желает писать в прежней манере.
"Отныне я больше не хочу петь так, как привык (Mai non
vo' più cantar com'io soleva), ведь она не внимала мне, и я
чувствовал себя пристыженным. При всех красотах [слога] можно
оказаться докучливым. Вечные вздохи ни к чему не приводят.
Уже вверху, на Альпах, лежит повсюду снег [т. е.: мои волосы
поседели], близок день урочный, и я к нему готов".
Рефлексия на характер собственных стихов есть
одновременно раздумье о любви вообще и о Лауре.
"...Мне отрадно в любимой донне то, что, хотя она выглядит
гордой и недосягаемой, неприязненности и надменности в ней
нет".
Все же нужно переменить тон и окраску стихов. Сделать их
сдержанней и внятней. "Пусть, кто может, ощутит в моих [сти-
493 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
хах] то, что я сам в себе так хорошо ощущаю". Этот отправной
пункт рассуждения подкрепляется сентенциями, вроде: "Амур
правит своим царством, не берясь за меч. Кто сбился с дороги,
пусть возвращается назад, у кого нет гостиницы для ночлега,
пусть расположится на траве, у кого нет золотой чаши или же
он ее утратил, пусть утоляет жажду из прекрасного стекла".
Или: «"Люби того, кто любит тебя", эта поговорка сложена
древними», и пр.
И снова: "Может быть, не каждый читатель поймет [эту
канцону]".
Это отчасти риторический ход. Петрарка пишет о
необходимости сдержать любовные жалобы и стать рассудительней,
чтобы быть расслышанным Лаурой. Действительно, канцона
проникнута настроением примиренности со своим любовным
жребием. Хотя в последующих стихах возобновляются все те же
вздохи и жалобы (сонет 107 и ел.).
Комментаторы отмечают несколько темный и загадочный
характер канцоны, умышленно бессвязные смысловые
переходы, версификационные эксперименты, в частности, "настоящую
метрическую монструозность" (Дотти, р. 313). Петрарка же
замечает: "в сердце моем заключено больше того, что я заношу на
бумагу (nel cor via più che 'η carta scrivo)".
Таким образом, мы вправе отметить, что и это стихи о
сочинении стихов. О том, как рифмованные строки соотносятся с
непосредственным чувством. Между прочим, ни у кого из стильно-
вистов не встретишь так часто слово "бумага", carta. Возможно,
для Петрарки соприкосновение пера с бумагой было самым
сильным физическим и экзистенциальным переживанием?
Без подобных ходов, в которых Франческо словно
отделяется от любовных стихов и выказывает себя уже не столько
влюбленным, сколько автором, рассуждающим о свойствах и
достоинствах своих писаний, вообще нельзя представить RVF.
и
Вот сонет 203 с обычными любовными мольбами и
упреками. Но в секстете Петрарка характерным и естественней-
шим для себя образом переводит речь на поэтическое
бессмертие Лауры и ее певца.
_ 494
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
"Увы, любовью я горю, но мне она не верит. Да, верит
всякий, только не она. А я хотел бы, чтоб сильнее всех других или
даже лишь она одна поверила. Но не похоже, что верит мне она,
хотя и видит все воочию.
О, бесконечная красота и такая недоверчивость, да разве
Вы, мадонна, не видите огонь сердечный в моих глазах? <...>
Этот мой жар, который не спадает, и хвалы в вашу честь,
рассыпанные в моих стихах (i vostri onori, in mie rime diffusi) -
да им в ответ, возможно, могли бы зажечься тысячи других
женщин!
Я вижу наперед (Г veggio nel pensier), о мой нежный
пламень, [что и тогда, когда] язык мой охладеет, два прекрасных
глаза, [уже тоже] смеженные, будут продолжать сверкать [в
моих стихах] и после [смерти] нас [обоих]".
Опять два мотива.
Первый: безответная любовь к Лауре, не верящей в его пыл.
Получается, однако же, что на нее не производят впечаления
стихи. Ведь это в них, ив моих стихах", рассыпаны хвалы Лауре
(10). Только благодаря им сердечный огонь Франческо
известен донне. Стихи же таковы, что способны бы внушить доверие
"любому человеку" (2). Но, увы, не донне.
Таким образом, сквозь любовный мотив прорастает мотив
бессмертного поэтического достоинства. Сила стихов
обеспечена претворенной в них любовью. Любовь же доказуется силой
стихов. Стало быть, обе темы, основная и побочная, сплетаются,
и часто первая перекрывается второй.
Обсуждается все же в конечном счете именно поэтическая
сила и подлинность "Книги песен". Очевидно, в этом на фоне
стильновистской традиции наиболее оригинальная черта и это
же - постоянные знаки присутствия Автора рядом с текстом -
придает книге единство.
12
«Давно и не раз мне говорил Амур: "Пиши, пиши о
том, что видел, золотыми чернилами [in lettre d'oro, m. е.
высоким слогом]. Я заставляю тех, кто верен мне, бледнеть (disco-
loro) и в миг единый умирать и оживать.
495 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Когда-то было так, что за собою это знал и ты, и был одним
из тех, кто пел любовь на вольгаре. Затем предался ты труду
иному, бежал меня, но я опять тебя настиг. <...>
Может быть, тебе никогда не осушить лица. Ведь я
насыщаюсь слезами, и ты это знаешь"».
Уго Дотти указывает вслед за одним из своих
предшественников, что первая строка - итальянский парафраз овидиева
стиха (Ille mihi prima dubitanti scribere, dixit/"scribe").
Комментатор припоминает к тому же из Апокалипсиса голос с небес:
"пиши!"
Амур поминает о "любовном хоре" поэтов, писавших на
вольгаре, Петрарка относит и себя к этому ряду. "Затем
предался ты труду иному" - надо полагать, латинской "Африке" или
же "De viris illustribus". Однако поэт не перестал любить Лауру,
о чем свидетельствует то, что он продолжает сочинять и
любовные стихи, в частности, сам этот 93-й сонет, в котором к Фран-
ческо обращается Амур.
Так Петрарка изнутри "Канцоньере" соотносит любовную
лирику со своими латинскими трудами, подчеркивая
неуклонность и высокость обеих линий творчества. Хотя, как принято
считать, сонет был сочинен в 1339-1340 гг., т. е. еще до
возникновения замысла сборника, но в итоге "поставлен на надлежащее
место". Опять стихи о стихах. Опять Я-автор замыкается на себе.
Лицо его орошено слезами, ибо таким должно быть лицо
влюбленного согласно поэтическому кодексу. "Mi pasco di
lagrime"? Да ведь это у Вергилия, как отметили комментаторы,
в 10-й буколике сказано, что Амур насыщается слезами. По
поводу же слов Амура "и ты это знаешь", Уго Дотти делает
отсылку к сонету 134-му, где уже не Амур, а сам автор говорит:
"Pascomi dolor". "Насыщаюсь скорбью".
"Канцоньере" полон таких самоотсылок, повторов,
перекличек. Это замкнутая стилистическая система с
традиционными основаниями и элементами, однако впервые
выстроенная с такой продуманностью и в таком масштабе. Это
конструкция, которая превращает абстракцию Влюбленного - в
некоего Я, реального в большей степени, чем у
предшественников Петрарки.
Любовь говорит: "пиши". Но влюбленное "Я" и сочиняющее
"Я" в качестве причины и следствия на самом деле меняются
_ 496
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
местами. "Я" пишет и, следовательно, любит. Жизнь сердца
сосредоточивается и даже зарождается на кончике пера.
"Амур растягивает тончайшую, расшитую золотом и
жемчугами, сеть [красоты Лауры] в траве под ветвью вечнозеленого
древа, которое я так люблю, хотя оно наводит на меня скорее
грусть, чем радость" (сонет 181).
13
"Но вы, прекрасные глаза, пронзаете меня такой
мукой, что от нее не защитят ни шлем, ни щит; вы видите, как
беззащитен я и внешне, и потаенно <...>
О, если бы я смог так же хорошо заточить в стихах мои
мысли, как заточаю их в глубине сердца, дабы мой дух перестал
быть бесчувственным к [внешнему] миру, чтобы я никогда не
терзался жалостью [к самому себе]. (Cosl potess' io ben chiudere
in versi / i miei pensier\ come nel cor gli chiudo, / ch'animo al
mondo non fu mai si crudo / chï non facessi per pietà dolersi.)
Но..." и т. д. (сонет 95).
Согласно привычному мнению, сочинять стихи о своих
любовных терзаниях значит более или менее смягчать их. Или -
если несколько уступить соблазну модернизации - во всяком
случае, избавляться от той сосредоточенности на страсти и
тоске, которая делает влюбленного, как выразился бы Стендаль,
эготистом, не замечающим мира.
Надо превращать навязчивые мысли в благозвучные слова.
Надо замещать любовь стихами о любви. Это возвращает душе
утраченную свободу.
Сонет 102: "если иной раз я смеюсь или пою, то делаю это
потому, что таков единственный способ скрыть« горестные
рыдания".
Но в контексте "Книги песен" общее место приобретает
новый смысл. Поскольку Петрарка сосредоточен на себе как на
авторе ничуть не меньше, чем на выказываемой им любви, дело
поворачивается так, что - припомним еще раз канцону 73 -
поэт пуще прежнего теряет голову от собственных излияний.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
14
Формула Гвидо Кавальканти (27:1): "Донна просит
меня, и поэтому я хочу говорить". Петрарка вторит, подводя
станцу к прямому цитированию этого стиха. Каждая
десятистрочная строфа кончается цитатой - из Арно Даниэля (как
полагал Петрарка), из Кавальканти, из "Каменных стихов" Данте,
из Чино да Пистойа, из себя самого.
Канцона устроена так, что любовное чувство, и стихи о нем
других поэтов, и собственные вариации на чужие строки, и
отклик донны - сплетены в одно рассуждение.
«Если бы я мог сделать так, чтобы нечто нежное,
написанное мной, усладило ее святые очи, я узнал бы блаженство
большее, чем другие влюбленные. Но еще блаженней я был бы, если
бы мог сказать, ничуть не погрешая против правды: "Донна
попросила меня, и поэтому я написал".
Но она не должна снисходить к нашим [несовершенным]
речениям <...> поэтому писать для меня - тяжкая задача...».
15
Первая половина 125-й канцоны посвящена
обсуждению прежнего и нынешнего характера стихов автора "Канцонь-
ере".
"Мысль, которая разрушает меня, столь колюча и
неотступна, что она и в стихах одета в соответствующие цвета <...> ведь
во мне нет ни одной частицы, которая не обратилась бы в огонь
и пламя.
Поскольку Любовь преследует меня до потери рассудка, я
пишу шершавые стихи, без покровов нежности. Ибо не всегда
кора ветвей в цветах, в листве, и тогда ветвь не выказывает
вовне, на что способна по своей природе" (125:1-3, 12-19).
"О, легкие и нежные стихи, я сочинял вас при первом
нападении Любви, и не знавал оружия иного; а теперь найдет ли на
меня когда-нибудь (вдохновение), которое сумело бы рассечь
затверделое сердце, дабы я смог, как бывало, хотя бы излить
себя в слове? Ибо в сердце есть, мнится мне, некто, кто
постоянно воображает мадонну и говорит о ней; но желать извлечь ее
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
оттуда (в стихах, подобных нынешним) для меня уже
недостаточно, и мне кажется, что я гибну" (125:27-37).
Затем - нежный и летучий облик Лауры в третьей и
особенно в последней станце, по словам Уго Дотти, самой
прекрасной в этой канцоне. Эта станца восхищала Леопарди.
Концепция первой части канцоны, по Де Санктису: "Почему я не могу
выразить то, что я чувствую?" Концепция второй части, в
которой Петрарка ищет повсюду следы Лауры, но не знает, где
ступали ее ножки: "Чем меньше я обладаю реальностью и чем
больше воображением, тем меньше я знаю и больше воображаю.
Именно потому, что я не знаю, где ступала Лаура, я могу
вообразить ее в любой местности" (цит. по комментарию).
"Блаженный дух, каков же ты сам, если делаешь такими
блаженными других?"
И заключительная терцина - обязательное обращение к
своей канцоне - "О, моя бедняжка, какая ты неотесанная!
Думаю, ты и сама это знаешь. Так оставайся в этих лесах [где тебя
сочинил я]".
Так дух Лауры витает промеж первыми станцами и
посылкой. Возлюбленная воображена сквозь поэтику якобы
"неотесанного" и "шершавого" или "сурового", "жесткого", то бишь,
пасторального слога собственной канцоны.
По словам Де Санктиса, "поэтическая рефлексия", т. е.
стихи о характере этих же стихов, превращается в описание
состояния, в котором пребывает душа влюбленного. От рефлексии
на стихи к рефлексии на любовь - как на то, что объясняет
муки слова. В этой канцоне и вообще у Петрарки "концепция это
не истина, которую поэт ищет и находит, а само искомое и
находимое в качестве предпосылки."
Очевидно, Де Санктис имеет в виду, что искомые
определения любви выступают в качестве обоснования поэзии. Я не в
силах выразить ту нежность, что живет в моем сердце. Это
потому, что оно слишком страдает. Поэтому мои стихи такие-то и
такие-то.
Наблюдения Де Санктиса могут быть, однако, поставлены в
историчный логико-культурный контекст. Петрарка, сочиняя,
сосредоточен на своем сочинительстве. Дело не просто в том,
что Лаура является ему в воображении. Описывается не
история любви и не возлюбленная, но "Я", мечтающее о любви. По-
499 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
эт постоянно задается вопросом, почему воспевает свою любовь
так, а не иначе (как в юности). Да потому, поясняет поэт, что я
испытываю то-то и то-то. И вот, вслушиваясь, вдумываясь в
характер своих стихов, узнаю о том, как люблю и каков я ныне.
Само любящее "Я" является на свет, таким образом, из
состояния сочинительства и из рефлексии на плоды оного.
16
Прелестен сонет 92 на смерть мессера Чино да Пис-
тойя, которого оплакивают Любовь и Поэзия.
"Плачьте, донны, и с вами пусть плачет Амур; плачьте,
влюбленные во всех краях, ведь умер тот, кто сделал все,
покуда жил, чтобы воздать хвалу вам в мире.
Что до меня, то я молю свою пронзительную скорбь, чтоб
вызванные ею слезы не стали помехой для нее же. Да будут
вздохи печали настолько благородны, насколько это нужно,
чтобы не помешать [в словах] излиться сердцу.
Так плачьте же стихи на родном языке, плачьте и латинские
стихи, потому что только что покинул нас певец любви, мессер
Чино.
Пистойя, плачь! И вы, ее враждующие граждане, которые
потеряли столь благожелательного соседа. Да возрадуется небо,
куда он вознесся".
Сонет любопытен тем, что оплакивается смерть поэта,
воспевавшего любовь и влюбленных, и Петрарка в некрологе
получает случай высказать свой взгляд на значимость такого поэта.
А ведь он сам в качестве автора "Канцоньере" был знаменитым
певцом любви. Стало быть, сонет содержит и нечто вроде
очередной самооценки.
"Он пел любовь, любви послушный". Эта знаменитая
формула, разумеется, как это часто у Пушкина бывает, топосна, и в
ней поздним отголоском угадывается изначальная
нерасторжимость самого чувства и его риторической выраженности.
Любить значит петь любовь. И наоборот.
"Невыразимых" чувств когда-то не существовало, как и
самого романтического представления о "невыразимости". В
традиционалистских ситуациях к личному чувству шли от
готовых культурно-социальных матриц и, соответственно, от
_ 500
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
словесной формульности. Так было у римлян. Так было, хотя
и в новых сословных или спиритуалистических поворотах, у
трубадуров, у стильновистов. Это воспринято и перенесено
Петраркой из античной и средневековой словесности в
новую. Но с мощным характерным и обдуманным акцентом
именно на взаимооборачиваемости любви и ее словесного
выражения. Новое в Петрарке: поэтический дар, позволяя
любить и совпадая с любовью, создает с нею и личность самого
автора.
Римляне умели прорывать или разнообразить
литературные матрицы, благодаря изощренности и личной
избирательности чувственной страсти.
В XII—XIII вв. "литературность", сравнительно с римской
поэзией, заметно усилилась. Только Данте стоит особняком.
Зато совершенствовались и возможности индивидуации
чувства. Во-первых, благодаря верификационной
виртуозности. Поэт, подобно средневековому ремесленнику, держась
традиции, старался выказать себя через свои мастерство и
причуды. Во-вторых, у стильновистов и далее у Данте происходила
спиритуалистическая мистификация любовного переживания.
Все это таило в себе возможности появления на культурной
сцене более личного "Я". То есть усиленной рефлексии
индивида в раннеренессансной ситуации на себя как такового,
отдельного и особенного.
17
Постоянные обращения к себе же, непрерывный соли-
локвиум - этого не было и у Данте. См., например, 150, 242.
"Что ты делаешь, душа? что думаешь?" и пр.: весь 273 сонет
обращение к себе.
Или: "Дайте покой мне, о мои мучительные мысли <...> И
ты, мое сердце, ты все такое же, каким было всегда, ты неверно
лишь мне одному, что ж ты с такой готовностью и легкостью
впускаешь в себя моих недругов? Это в тебя шлет тайных
посыльных Амур, это в тебе справляет Фортуна свое торжество, а
Смерть одним ударом дарует беспамятство..." (сонет 274).
И снова: "Глаза мои, наше солнце погасло... уши мои... ноги
мои..." (275).
501 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
18
Любовь "возвысила мой стиль над ним самим (alzava
il mio stile sopra di se), куда ему иначе не взобраться бы"
(канцона 270:37-38).
Настойчивая мысль о неравенстве стиля "Книги песен"
самому себе. Этот стиль выше самого себя! То есть, будучи
элегическим, принадлежа Эвтерпе, он, благодаря возвышенности
предмета песнопения, становится также "трагическим", как у
Гомера и Вергилия, принадлежит также Мельпомене.
Собственно, возвышение стиля "над самим собой" это
переформулировка мысли о "смешанном стиле (stil <...> misto)" из
сонета 186 (см. ниже).
Игра на созвучии сразу и сознательно перерастает в
переименование Лауры, гипостазирование ее в Лавр. Обращение же
к ней как к Лавру заходит много дальше дафнианского мифа.
Тут дело уже не в том, что листья лавра, в коего обращается
недоступная возлюбленная, оставляют возможность писать о
Ней и увенчиваться если не любовью, то поэтическим
триумфом. Коронование на Капитолии лавровым венком самое
важное, хотя и обычно умалчиваемое, событие любви Петрарки.
Поэтому, по меньшей мере, самоценно обращение к Лавру как
таковому, а не к Лавру-Лауре.
19
У Чино да Пистойя есть канцона "На смерть Данте", в
которой говорится: "О, сладостный язык, коим ты, уснащая его
латинскими оборотами, доставлял удовольствие каждому, кто
тебя услышал бы (Ah dolce lingua, che con tuoi latini/facei con-
tento ciascun che t'udia..." - CLXIV:22-23).
Ср.: Рай, XVII, 34-35: "Но он ответствовал ясными словами
и с латинской точностью" (Ma per chiare parole e con preciso
Latin rispuose). Или в одном из сонетов Данте (129:2, р.740):
"Ваша речь, такая сладостная и латинская (I) (la voce vostra sî
dolce e latina)".
"Латинская речь", т.е. некое приближение к ней, для стиль-
новистов есть высшая оценка точности и красоты стихов на
вольгаре.
_ 502
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
У Петрарки это общее место, звучавшее у Данте и Чино да
Пистойя с такой трогательной непосредственностью, стало
программой, требовавшей обоснования.
В центр "Книги песен" выдвигаются размышления о том,
чего стоят итальянские стихи к Лауре у автора, желающего
стоять в одном ряду с величайшими древними.
Приходилось обосновывать "латинское" качество этих
стихов.
20
Сонет 60 опять целиком о Лауре как лавре.
Лаура то и дело предстает перед мысленным взором
сочинителя как вечнозеленая купа лавра.
"Благородное древо, много лет я так сильно любил его. И,
хотя прекрасные ветви оставались к этому равнодушны, зато
они дали под сенью своей расцвести моему слабому дару, в
страданиях он возмужал.
Но, обезопасив себя от подобных ударов и побудив
непреклонное древо ласковей стать, я вновь обратил все свои мысли
к тому, чего жаждал вначале, и опять постоянно твержу о
печальных невзгодах.
Что же молвить тому, кто дышит любовью, если в новых
моих стихах обрел он надежду, но из-за донны опять утратил ее?
[Вот что, пожалуй.] Больше поэт никогда лавром венчаться
не станет, Юпитер не защитит [от молний] его, а Солнце,
разгневавшись, иссушит всю зеленую купу".
В сонете характерная двусмысленность и основанное на ней
сплетение двух мотивов. "Лавр" означает Лауру и лавр это то,
чем венчают поэта. Лавр-Лаура не отвечает любовной мольбе.
Лавр поэта куда благосклонней. Притом мы должны все время
помнить, что "мысли" и "стихи" слова-синонимы. Здесь
семантический пульт, на котором суждения о своей любви и о своем
сочинительстве самым естественным и легчайшим образом
риторически переключаются друг на друга.
В центре одной из содержательных схем традиционный
стильновистский влюбленный; другую же линию ведет
рефлексирующий Я-автор.
Первая схема. После многолетних стихотворных
воздыханий Франческо, его Лаура, впечатленная все более изысканны-
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ми песнопениями, стала вести себя куда как более приветливо.
Так что влюбленному впору было почувствовать себя
уверенней и отставить терзания. Он стал писать "новые стихи",
проникнутые надеждой. Но, увы, донна по-прежнему не отвечала
любовью на любовь, так что приходится снова и снова писать
печальные стихи. В заключительной терцине шутливая угроза,
что Лауре придется в облике лавра понести расплату за
надменность.
Но сонет прочитывается также совершенно иначе. Годами
сочиняя стихи к Лауре, автор сумел взрастить свой
поэтический дар. Мастерство его расцвело и смягчило Лауру,
предполагаемого первого читателя и оценщика его стихов.
Сочинителю впору почувствовать себя уверенней, позабыв о муках,
остающихся, однако же, непременной принадлежностью любовной
темы. Так что ему приходится продолжать вздыхать и
жаловаться в традиционном прежнем тоне.
Игра заключительной терцины состоит в том, что за Лауру
может будто бы расплатиться поэтический лавр: солнце его
засушит, и поэту он "больше" не достанется. Так поэт находит
повод напомнить, что некогда уже был им увенчан. Сохранение
права на него отчетливо и горделиво подтверждено в первом
кватрене, где сказано о расцветшем таланте автора. Так что,
хотя Лаура, как полагается, по-прежнему недоступна, зато победа
над лавром как таковым неоспорима. И он пребудет
вечнозеленым. Собственно, смысл сонета в этом и состоит.
Шутливая терцина подтверждает - от обратного -
неколебимое достоинство поэта.
"Я буду петь о любви столь сладостно и на новый лад" (Ed io
ne canterö si dolce e nuovo <...> (151:9).
21
"Я видел юную донну под зеленым лавром. Она белей
и холодней, чем снег, которого долгие годы не касались
солнечные лучи. И ее речи, и прекрасное лицо, и волосы меня
пленили так, что всегда у меня перед глазами, и так будет всегда, где
бы я ни был, на горе иль долу.
Мои мысли о ней развеются лишь тогда, когда на лавре не
окажется зеленых листьев [т. е.: когда мои стихи умрут]. Ког-
_ 504
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
да станет бесстрастным мое сердце и высохнут глаза, вот тогда
мы увидим, что заледенел огонь и запылал снег. Хотел бы я
дожидаться этого дня, даже если до него больше лет, чем волос на
моей голове.
Однако время летит, годы бегут, смерть возьмет и меня в
негаданный час, с темными ли еще или уже седыми волосами.
Но и тогда я останусь под сенью этого лавра, солнце будет
таким же горячим и так же холоден снег. Пока не придет
последний день и не закроет глаза также ей.
Таких прекрасных глаз не видел ни наш век, ни самые
древние времена. Они растопили меня, как солнце снег, и вот
Любовь мчит слезную реку к подножью жестокого лавра, с его
алмазными ветвями и золотом волос.
Боюсь, скорее я постарею и покроюсь сединой, чем
милостиво обратит на меня свой взгляд мой идол, изваянный из
живого лавра <...> вот уже семь лет, как я брожу, вздыхая
днем и ночью <...> и, может быть, это увлажнит
состраданием глаза того, кто родится через тысячу лет, если сможет
столько прожить возделанный тщательно лавр (di tal che
nascerà dopo milPanni / se tanto viver po ben colto lauro)" (Cec-
тина 30).
"L'idolo mio, scolpito in vivo lauro" - одна из отличных
формул для характеристики "Книги песен".
Лавр "живой", ведь это обращенная в него Лаура. Но он
особенно живой потому, что будет зеленеть и через тысячу лет.
Ибо ben colto. Любовь возделана мастером. Речь не просто о
Лауре и о любви, а о том, что они обратились в поэзию. "Живой
лавр" это Rerum vulgarium fragmenta.
Реальность и вечность любви под гарантией поэтического
труда. Соответственно Я-влюбленный реален и даже вечен в
качестве автора. Пестрота состава сборника, нехватка внешнего
единства лишь подтверждают это. "Книга песен" держится
лавром, а не Лаурой. Культурно-психологическое событие
знаменитой книги состоит не столько в силе непосредственного
лирического чувства, сколько в первом появлении, от трубадуров
до Данте, наряду с любовной темой, РАВНОПРАВНОЙ темы
сочинительства.
Новшество означало важный шаг к появлению
индивидуального "Я", которое совпадает с пафосом личного авторства.
% —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
22
"Нежные речи и сладостные взгляды, которые ты
описал и обрисовал один за другим, погребены под землей <...>
(Le soavi parole е i dolci sguardi / ch'ad un ad un descritti et dip-
inti ai, / son levati de terra...)" (сонет 273).
Речи и взгляды Лауры? Это лишь то, что оприходовано в
стихах Петрарки. Сверх этого никакой Лауры нет.
Я сам изваял свое чувство, ибо пишу и буду до конца своих
дней писать о Ней. Я искусный автор, поэтому моя любовь так
сильна и переживет века.
В тени "моего дорогого лавра" достойно восседают "мой
господин", Амур, и "моя богиня", Лаура. Любовь в тени поэзии
Петрарки. "Я свил в этом благодатном растении гнездо для
утонченных мыслей" (337:9-10)
Чувство безрассудно и нестройно, не подчиняется узде и
шпорам. Стихотворство же - обдуманный приход к себе. "Я"
теряет себя в любви, но обретает в поэтической рефлексии на нее.
Так что рифмованные "вздохи", "звуки" совпадают с
первичностью "Я". Любовь, даже самая чистая и высокая, все же
греховна, ибо относится к миру дольнему. А поэзия? Тут идейные
колебания Петрарки и в "Сокровенном", и в "Канцоньере"
выглядят более компромиссными.
Зарифмованность любви и сочинительства
фундаментальна. Когда не станет на земле Лауры, лавр вечно останется
зеленым. Любовь относится к материи "Я", авторское усилие
придает материи форму.
Параллель с идеей эпистолярия. Там материей служит
"состояние моей души" в каждый данный момент, и оно
отливается навеки в цицеронианском "домашнем" стиле: В любви же это
равносущее состояние "Я", всепоглощающее, с нескончаемыми
вариациями. Оно отливается в "народном языке", сквозь
который просвечивает античность.
23
Сонет 145 - сплошь восходящий, на одном
синтаксическом дыхании, пассаж. С шестью повторяющимися зачинами
строк, первой и третьей в кватренах, первых в терцинах:
_ 5%
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
"Ponmi..." ("окажись я..."). Что бы с мной ни произошло, буду
любить свою Лауру.
С удовольствием привожу легкий и точный перевод Е. Со-
лоновича:
И там, где никогда не тает снег,
И там, где жухнет лист, едва родится,
И там, где солнечная колесница
Свой начинает и кончает бег;
И в благоденстве, и не зная нег,
Прозрачен воздух, иль туман клубится,
И долог день, или недолго длится,
Сегодня, завтра, навсегда, навек;
И в небесах, и в дьявольской пучине,
Бесплотный дух или во плоть одет,
И на вершинах горных, и в трясине;
И все равно, во славе или нет, -
Останусь прежний, тот же, что и ныне,
Вздыхая вот уже пятнадцать лет.
Только маленькое уточнение. Уго Дотти, толкуя "il mio
sospir" в соответствии со всей традицией пасторальной топики,
напоминает, что это: "моя песнь, полная вздохов". Последняя
строка означает не просто то, что Франческо вот уже пятнадцать
лет как влюблен, но и особенно то, что он "сочиняет любовные
стихи вот уже пятнадцать лет". Последняя терцина резюмирует
единственную простую мысль сонета: где бы я ни был и что бы
со мною ни сталось, я продолжу писать свои стихи к Лауре.
Тогда становится осмысленной прямая связь между 12-м
стихом, о славе, и стихом заключительным. Славу принесет
(или не принесет) сочинение стихов. Собственно, весь сонет
опять именно, если угодно, о лавре. Что не мешает ему быть
заодно и любовным. Впрочем, Лаура лишь подразумевается,
поскольку речь о любовных стихах-вздохах.
Замечательно, что словами о СЛАВЕ смысловое нарастание
увенчивается.
И какое нарастание!
В первом кватрене: ...где бы я ни был, на юге, севере, в
умеренных широтах, на западе или на востоке.
507 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Во втором кватрене: ...что бы ни принесла мне фортуна.
В первой терцине: ...буду ль я по-прежнему в смертной
оболочке или стану свободным от нее духом. Будь то на небе или в
аду!
И вот наконец кульминация смыслового крешендо. Это
выше, чем жизнь и смерть и даже чем ад или рай! Снискаю ли я
этим славу или нет, все равно, всегда буду, как и прежде,
слагать любовные песни.
В очередной раз подтверждается. Петрарка не потому писал
стихи к Лауре, что любил ее, но, скорее, он любил ее всю жизнь
потому и в том смысле, что всю жизнь писал и шлифовал "Кан-
цоньере".
В заключение вот несколько иная (с раскрытием свернутых
значений) версия подстрочного перевода.
"Окажись я там, где солнце выжигает цветы и травы, или
там, где его побеждают льды и снега, окажись я там, где ход
солнечной колесницы умерен и легок, или там, где она
выкатывается, или куда она удаляется на покой;
окажись я обойден или взыскан фортуной, в ясном
ласкающем воздухе либо в сумрачном и гнетущем, окажись я в ночи,
средь длинного летнего дня или недолгого зимнего, в зрелых
летах или в ущербных;
окажись я на небе, или в земле, или в адской бездне, на
вершине холма, в низинах и болотах, духом, свободным от тела
либо еще стесненным плотью;
окажись я в безвестности или же прославленным: буду
таким же, каким и был, стану жить, как -жил, спустя и
пятнадцать лет продолжая писать свои песни, полные вздохов".
24
"Dolce" встречается у Петрарки сотни раз и может
восприниматься ухом вчуже, как некий раздражительно
"итальянский" засахаренный штамп. На самом деле, это слово, хотя и
означает, в общем, "сладостный" или "нежный", именно
благодаря готовой и самой по себе бесцветной семантике, чутко
отсвечивает и поблескивает в зависимости от контекста.
Например, с первой же строки сестины 142 ("A la dolce ombra de le
belle fronde") это слово, предопределяя все дальнейшее движе-
5ÛS
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
ние стихотворения, означает спасение от жгучего любовного
томления под прохладной сенью поэзии.
"В успокоительной тени прекрасной листвы я укрылся,
чтобы избежать безжалостного огня, чей жар настигал меня здесь, на
земле, исходя с третьего неба. Уже с холмов согнала снег заря
любви, что обновляет ход времени (l'aura amorosa che rinova il
tempo), и зацвели на склонах травы и дерева. Дотоле мир не знал
таких ветвей изящных, и ветер никогда еще не шевелил таких
зеленых листьев, как те, что мне явила памятная первая весна. Она
была такой, что я, страшась сжигающих лучей, искал прибежища,
нет, не в тени холмов, но у растения, взысканного небесами. Лавр
защитил меня тогда от третьего из них, поэтому я много раз
искал его ветвей прекрасных, как только стал бродить по лесам и
холмам. И никогда я не встречал деревьев, столь же почитаемых
высшим светилом, которые не менялись бы в течение года".
У го Дотти отмечает, что значение этих аллегорических
пассажей несколько темное. Толковали их по-разному. Сам
комментатор полагает, что лавр тут, как обычно, замещает Лауру и
что, скорее всего, эти строки означают: высокая поэтическая
любовь уберегла поэта от лучей "плотской Венеры*.
Но возможен и другой, параллельный или даже основной
смысл. Когда поэт встретил впервые Лауру, любовь сделала его
поэтом (приверженцем лавра). Ощутив огнь любви, он сразу же
стал блуждать по лесам и холмам: обязательное буколическое
общее место, указующее на пастуха, оглашающего леса и долы
звуками своих песнопений. Это топос с двойным значением:
любви и поэзии. Поэт ищет спасения от беспокойного
любовного пыла под прохладной сенью вечнозеленого лавра, т. е. в
сочинительстве.
Таким образом, смыслообразующая связка лавр/Лаура (т. е.
поэзия/любовь) через миф об Аполлоне и Дафне содержит не
только взаимный переход и аллегорическое тождество, но и
оппозицию. Писать любовные стихи и любить - нераздельно, но и
неслиянно.
Писать значит придумывать себя вместе с любовью,
разворачивая богатство подвижных, сталкивающихся, оксюморонных
определений собственного иЯ".
Петрарка, усвоив топику нового сладостного стиля и
соединив с бесчисленными античными реминисценциями, превратил
509 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
ее в тщательно разработанную систему риторического
любовного высказывания, которая впоследствии застынет на три или
четыре столетия в виде европейского "петраркизма".
Однако у самого Петрарки топика личного чувства
находится еще в расплавленном, творческом состоянии.
25
Сонет 146 начинается с обычного восхваления
высоких добродетелей и красоты той "благородной души, ради
которой я исписываю столько бумаги (tante carte vergo)". A в
терцинах, и в этом-то заключается особая тема сонета, автор думает о
тех, кто способен читать на вольгаре и, следовательно, оценить
его книгу.
"Если бы мои стихи могли бы достичь отдаленных краев и
быть там понятыми, я бы наполнил Вашим именем Фулу и
Бактр, Танаис и [горы] Атласа, Олимп и Геркулесовы столбы.
Но так как я не могу отправить их во все четыре стороны
света, пусть их услышат в прекрасном краю, который разделен
Апеннинами и окружен морем и Альпами" (146:9-14).
То есть в Италии.
Но разве его донна живет не в Авиньоне? И разве Петрарка
не отдает частую дань топосу, согласно которому у стихов
единственная цель: достичь слуха и взгляда донны?
О да, но здесь совсем иной мотив. Петрарка задается
авторским самоутверждением и под этим углом зрения заговаривает
если не обо всем мире, то о стране, где живут его
потенциальные читатели. Стихи сочиняются для всего света, но, раз уж
они написаны по-итальянски и поймут их только в Италии,
пусть их услышат именно там.
26
Итак, мы вправе усмотреть в нарочито
двусмысленных строках снова мотив предпочтения лавра, сирень
писательства, всему прочему, что зеленеет и цветет в природе с
приходом весны.
"Поскольку от времени к времени года все тверже я
следовал зову, который мне слышался с неба, и, плененный сладост-
_ 510
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
ным и ясным светом, всегда вновь обращался к тем первым
побегам [лавра], как только на земле оживали деревья и солнце
покрывало зеленью склоны холмов. Но леса, скалы, луга, реки и
склоны, все, что тварно, все-таки бывает побеждено и изменено
ходом времени. Поэтому прошу прощения у этих [лавровых]
куп, ежели я после стольких лет решил покинуть и эти
манящие ветви, как только начал прозревать [истинный] свет".
Даже лавр, будучи земным и тварным, не вечен. Отчетливое
"gPinvescati rami" уместно по отношению к соблазну любви и
вместе с тем сочинительской славы певца Лауры.
"Настолько увлек меня вначале сладостный свет, что я с
наслаждением одолел крутые склоны, дабы приблизиться к
любимым ветвям. А теперь краткость земной жизни, и место, и
время указуют мне иную дорогу, к небу, дабы познать плоды, а не
только цветы и листву.
Иной любви, иной листвы и иного света, иного
восхождения к небу через иные склоны ищу я, ибо время пришло. Для
иных ветвей".
Не ветвей лавра, но деревянных Крестовин. От поэтической
славы, от возлюбленного лавра, от поэзии чистой земной
любви - к вечному спасению, к божественному свету.
27
"Возможно, кое-кому покажется, что в похвалах той,
кого я боготворю на земле, мой стиль заходит слишком далеко
(errante sia Ί mio stile), поскольку превозносит ее выше всякой
другой [донны] по благородству, святости, мудрости,
изяществу, достоинству и красоте.
А по мне, так наоборот; и я боюсь, чтобы она не презрела
мою речь как слишком бедную (non abbia a shifo il mio dir troppo
umile). Она достойна гораздо более высокой и тонкой речи
(degna d'assaipiù alto etpiù sottile), a кто этому не верит, пусть
придет поглядеть на нее.
И тогда он молвит наверняка, что ее воспеть - задача,
которая обессилила бы Афины, Арпино, Мантую и Смирну, и одну,
и другую лиру [т. е. Демосфена, Цицерона, Виргилия и Гомера,
далее, видимо, намек на Пиндара и Горация, т. е. на греческую
лиру и лиру римскую - см.: Дотти, р. 665]. Смертный язык не
511 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
может сравняться с ее божественностью. И то, что Амур
подвигнул на это именно меня, дело не выбора, а жребия".
Сонет 247 был сочинен, очевидно, -после смерти Лауры, а
поставлен на окончательное нынешнее место, в сердцевину
книги, лишь незадолго перед смертью поэта, в 1373-1374 гг. Он
целиком посвящен обсуждению того, способен ли уровень его,
Петрарки, стихов к Лауре удовлетворить непомерной высоте
задачи. Попутно Петрарка, как это было постоянно заведено у
него, делает смиренную разметку своего таланта и стиля -
однако же по весьма фантастической, на наш вкус, но тогда
единственно оправданной и естественной риторической шкале. То
есть в сопоставлении с величайшими античными писателями.
28
Достаточно хотя бы только четырех заключительных
сонетов на жизнь Лауры. Петрарка вписал их в книгу незадолго
до кончины.
В сонете 260 Лаура успешно выдерживает сравнение с
Еленой Прекрасной, лишившей Грецию мира и погубившей Трою.
Тем самым предмет песнопений Петрарки возвышен до
"Илиады". Заодно безупречная высота Лауры подкреплена
четырехкратным сравнением: с Лукрецией, с Поликсеной (дочерью
Приама, которую любил Ахилл), с Изифилой, царицей
Лемноса, и Аргией, дочерью царя Адраста. Всемерно, так сказать, ан-
тикизируя Лауру, поэт не просто предается, как можно бы
подумать, обычному эрудитскому красноречию. Одновременно он
обдумывает некую нелегкую для традиционной поэтики
идейную задачу.
Его риторика движется напролом, не пренебрегая притом
расчетливыми тонкостями. Поэт с повторами и вариациями
формулирует в "Книге песен" обосновывающую ее
микропоэтику. Выглядит это презанятно.
29
Автор "Книги песен" должен заниматься только тем,
что в полной мере было бы достойно поэта, венчанного лавром
на Капитолии. Но как поднять иерархический литературный
статус стихов к Лауре?
_ 512
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Для оценки поэтической значительности существовали два
критерия. Во-первых, потребен поистине прекрасный и
героический предмет воспевания. У Гомера и Вергилия был такой
предмет. Во-вторых, высокий предмет требует столь же
высокого стиля. Вот как у Гомера и Вергилия.
Первое условие удовлетворяется прямо и просто. Петрарка
объявляет Лауру светочем столь необычайных во веки веков
добродетели и красоты, что Вергилий и Гомер, знай они ее,
написали бы знаменитые поэмы именно о Лауре. Лаура потеснила
бы Энея, Ахиллеса, Улисса. Совершенство "полубожества"
Лауры это такая же данность, как и в отношении Энея и др. Поэт
вставляет Лауру в незыблемый, высокий, бесспорный ряд. Так
что в отношении предмета поэтического вдохновения у
Петрарки все сразу оказывается в полном порядке.
"Вскармливаю ум столь благородной пищей, что не
завидую Юпитеру, с его амврозией и нектаром, ибо, только взирая
[на нее], я уже забываюсь душой, и не нужна мне какая бы то
ни было иная сладость, пью до дна воды Леты". И т.п. (сонет
195).
Дальше еще лучше и любопытней. Лаура ставится вровень с
полководцем Сципионом Африканским. Но тогда получается,
что именно он, Петрарка, избрал наиболее благую часть. Ведь
только он один, Петрарка, одновременно певец их обоих. Не
Гомер и не Вергилий.
30
Вот этот 186-й сонет. Ввиду его важности для нашей
темы, приведу его сначала в оригинале, затем в хорошем
переводе Абрама Эфроса. И наконец в подстрочнике.
Кстати, насчет переводов. На примере, скажем, сонета 111 в
пер. Вяч. Иванова и сонета 113 в пер. Е. Солоновича видна
обычная и вряд ли разрешимая - разве что на уровне
Мандельштама - дилемма.
Или стремиться передать ученый "темный стиль", который
Петрарка унаследовал от предшественников и претворил с
непривычно личностной акцентировкой. Эта риторическая
затрудненность спорящей с собой, ворочающейся души иногда
превосходно получалась у Вяч. Иванова.
17 - 345
513 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Или стараться, подобно Маршаку в сонетах Шекспира,
сгладить характерную и глубокую затрудненность, зато
воспроизвести виртуозно справляющееся с ней легкое перо поэта:
очарование, приближающее Петрарку к нашему вкусу. Совместить
в переводе то и другое, как это было у самого Петрарки, почти
невозможно.
Солонович, насколько я понимаю, ставил перед собой
прежде всего вторую задачу. Притом избегая чрезмерной "маршаков-
ской" модернизации, торжественной и звучной, но все же
производящей впечатление некой надэпохальной нейтральности и
расхожести. Эфросовские же переводы прежде всего заботятся
об исторической точности и часто сознательно стилистически
корявы. Поэтому им не пришлось, что называется, "стать
явлением русской поэзии". Зато Эфрос был крайне внимателен к
оттенкам, важным для смыслового анализа. А к тому же порой,
и 186-й сонет тому примером, его переводы бывали вовсе не
лишены изящества.
Se Virgilio et Homero avessin visto / quel sole il quai vegg'io
con gli occhi miei, / tutte lor forze in dar fama a costei / avrian
posto, et tun stil colïaltro mis to. // di che sarebbe Enea turbato et
tristo, / Achille, Ulixe et gli altri semidei, / et quel che resse anni
cinquantasei / si bene il mondo, et quel ch'ancise Egisto. // Quel
fiore anticho di vertuti et d'arme / corne semblante Stella ebbe con
questo / novo fior d'onestate et di bellezzel // Ennio di quel cantô
ruvido carme, / di quest' altro io: et oh pur non molesto / gli sia il
mio ingegno, e Ί mio lodar non sprezzel
Когда б Вергилий и Гомер видали
Благое солнце, льющее мне свет, -
Каким восторгом был бы гимн согрет,
Где гений свой они в одно смешали!
Тогда б Эней задумался в печали
Ахилл, Улисс, и прочих славных цвет,
И тот, кем Рим жил пятьдесят шесть лет,
И тот, чью кровь пролить Эгисту дали.
С древнейшим цветом чести и побед
Наследственно похож своей судьбою
Новейший цвет красы и дел благих:
_ 514
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Тот в грубых песнях Эннием воспет,
А этот - мной: да внемлет с добротою
Моим стихам и не отвергнет их18
Теперь подстрочник. "Если бы Вергилий и Гомер смогли
увидеть то солнце, которое я вижу собственными глазами, они
приложили бы все свои силы, чтобы прославить ее, [пришлось
бы им] СМЕШАТЬ ОДИН СТИЛЬ С ДРУГИМ. И тогда Энней
был бы встревожен и опечален, а также Ахилл, Улисс и другие
полубоги, и тот, кто пятьдесят шесть лет так славно правил
миром, и тот, кого убил Эгист [т. е. и Август, и Агамемнон]. А
(Сципион Африканский), цвет древней доблести и бранной
славы, оказался бы под одной звездой с этим новым цветом
благородства и красоты! Энний в своем неуклюжем песнопении
воспел тот цвет, а я в своем - этот. И все-таки, о! пусть талант
мой не покажется ей докучным и да не пренебрежет она моей
хвалой!"
31
Поразительно!
Эней, Ахилл, Улисс, император Август, Сципион Старший...
и Лаура. Вергилий, Гомер, Энний... и он, Петрарка.
Дама сердца включена в ряд славнейших героев, воспетых
античными поэтами. Лаура затмила бы их. И сам автор,
естественно, получает, таким образом, право числить себя среди этих
поэтов. Если бы Гомер и Вергилий знали о Лауре, т. е. если бы
их существования не разошлись с Лаурой во времени, то
авторы "Илиады", "Одиссеи" и "Энеиды" приложили бы все силы,
чтобы ее восславить. Надобно сказать, что уже один этот мотив
поэтики "Канцоньере" - поставление Лауры в один ряд с
героями античной истории и поэзии - выводит пафос "Книги
песен" за пределы стильновистской идеологии.
Притом возлюбленная никак не отличена от других
"полубожеств". Упомянуты ее "доброчестие и краса" как "новый
цвет" тех же качеств, которые по отношению к Сципиону
обозначены как "добродетель и ратный подвиг". Более того,
сердечное чувство к ней указано разве что посредством риторических
обиняков во второй строке и еще в полутора последних
строках.
17·
515 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Этот странный сонет растушевывает то, что поэт воспевает
СВОЮ любимую, вообще, что это любовные стихи и, уж само
собой, то, что они на вольгаре. Поэзия призвана славить
доблести полубожеств. Петрарка обозначает цель и достоинства
"Книги песен" через те же критерии, как если бы речь шла об
"Африке".
Но главная изюминка в умолчании об "Африке". Между
тем, когда Петрарка избрал Сципиона Старшего своим героем,
он тем самым бросил вызов - на поле латинского эпоса! -
"Анналам" Энния, посвященным тому же персонажу.
Около 1366-1367 гг. Петрарка задним числом пополнил
186-м и 187-м сонетами (о втором см. несколько ниже) шестую
редакцию "Книги песен".
Петрарка дает понять, что, воспевая ту, которая достойней
протагонистов Вергилия и Гомера, он, пусть и в рамках,
ограниченных возможностями RVF, вступил в соревнование с
древними.
Но почему Петрарка не касается прямо обстоятельства,
которое было превосходно ведомо любому его читателю? Ему
выпал почетный жребий стать певцом как Сципиона, так и
Лауры.
Это умолчание чрезвычайно многозначительно и
торжественно. За ним кроется, так сказать, теоретическая интрига.
Мы вскоре к нему вернемся.
Но сперва пора подключить к разбору следующий, 187-й
сонет, продолжающий тему.
32
<Александр прибыл к знаменитой могиле отважного
Ахилла и, вздохнув, сказал: "О, счастливец, что за звонкую
трубу ты нашел, и в каком высоком духе он написал о тебе (di te si
alto scrisse!)!"
Но эта чистая и белоснежная голубка - не знаю, жила ли
когда-либо в мире подобная ей, - в моем слабом стиле воспета
совсем не так, как она заслуживает (nel mio stil fraie assai poco
rimbomba). Так что их судьбы [т. е Ахилла и Лауры!]
сложились у каждого по-разному.
_ 516
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Ибо она была бы в высшей степени достойна того, чтобы
Гомер, или Орфей, или пастух, который некогда составил славу
Мантуи, воспевали бы всегда ее одну.
Но расположение звезд этому помешало, и одна лишь злая
и несправедливая судьба повинна в том, что воспевать это
прекрасное имя выпало на долю того, кто, хотя и боготворит ее, но,
возможно, слишком немощен, чтобы ее славословить (forse
scema sue lode parlando)».
Право, недурно звучит здесь это "возможно".
Оно ведь означает: возможно, Лауре повезло с Петраркой
не меньше, чем Ахиллу с Гомером.
зз
Но в каком жанре? Для воспевания Лауры
требовались максимальная возвышенность, приподнятость, героич-
ность, т. е. эпические свойства. Но и элегическая
проникновенность тоже.
Тогда в принципе достойный Лауры жанр - именно смесь
жанров, эпоса и элегии.
Именно таков ответ Петрарки.
"При падении дерева, словно грубо разбуженного, когда его
срубили или вырвал ураган, - оно раскидывает свою пышную
листву по земле и показывает солнцу жалкое корневище.
Погляди же, вот другое дерево, которое Амур избрал
предметом [моих стихов], во мне соединив Каллиопу и Эвтерпу
(subiecto in me Calliope et Euterpe). Оно сразило мое сердце и
поселилось с ним так, как плющ, обвивший стену или ствол.
Тот лавр живой, где привычно вили гнезда высокие мысли
и мои горячие вздохи, притом не задевая никогда листвы
ветвей прекрасных, - на небеса перенесен. Но в верном своем
жилище оставил корни. И вот есть тот, кто печальными стихами
звать продолжает. Но некому ответить" (сонет 318).
Петрарка утверждает, что книга написана под знаком двух
Муз, Каллиопы и Эвтерпы. Кажется, он не мог вычитать что-
либо подобное из античных поэтик.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
34
Соответственно смесь "высокого" и "среднего" стилей.
Это тоже нечто новое: "смешанный стиль"! Как мы помним,
уже в первом сонете Петрарка возвещает, что его любовные
стихи написаны в "разном стиле". А в канцоне 270, что любовь
позволила его стилю "возвыситься над собою самим". Все это,
по-видимому, близко по смыслу. Петрарка видел в своей
поэзии на вольгаре некий необычный "стиль" (жанр): соединение
нового сладостного стиля с высотой античной героики. Между
прочим, по убедительным наблюдениям Е. Рабинович,
"Африка" интересна введением, напротив, в латинскую эпическую
поэму сильного лирического элемента, т. е. тоже нетрадиционным
"смешением".
Действительно, поэт ставит свою итальянскую любовную
лирику и латинскую "Африку" на одну доску по крайней мере в
отношении высоты "полубогов", в них воспетых. Только он
сумел восславить обоих, и Сципиона, и Лауру! Что до Ахилла и
Энея, то Гомер и Вергилий предпочли бы им Лауру, если бы
знали ее.
Насчет размеров своего дарования Петрарка, кажется, не
слишком беспокоится. При обдумывании и отстаивании
высоты авторской задачи и предопределенных ею творческих
результатов оставалась, однако же, одна загвоздка, в общем, та же,
что и в отношении "домашнего" стиля эпистолярия. Ведь
существовала проблема жанровой, стилистической и языковой
иерархии. Любовные стихи, да еще на вольгаре, это сочинения
все же заведомо не в высоком стиле.
Но автор находит остроумный довод. И подает его
окольным путем. Сципиона Африканского воспел, из римских
поэтов, Энний в "Анналах". Но, как принято было считать еще в
древности, это была хотя и классическая латинская поэзия, но
не самого удачного качества. Петрарка об этом упоминает и
искусно использует. С такой латынью, все же не вергилиевой,
почему бы и не сопоставить свой итальянский "Канцоньере"?
Лукаво оставив в эллипсисе некое пропущенное логическое звено,
т. е. "Африку". Петрарка явно убежден, что сумел превзойти
Энния, пусть так и не счел свою "Африку" вполне готовой к
обнародованию.
_ 518
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Уравнивая Лауру с Африканцем, тем самым Петрарка
ставит себя как певца Лауры рядом с собою же как автором
"Африки" уже по меньшей мере в отношении предмета песнопения.
А что до стиля, то стиль должен был соответствовать теме. В
этом уравнении автор подставляет на место неупоминаемой
"Африки" относительно слабые, но как-никак латинские и
эпические "Анналы".
Тем самым косвенно облегчается скачок через пропасть
между двумя стилями. Промежуток заполняется Эннием.
Намечена мысленная прогрессия: стихи к Лауре, "Анналы", "Африка".
Он, Петрарка, "возможно", недостаточно силен как певец
Лауры, недостоин ее совершенства. Вот как и стихи Энния не
дотягиваются до уровня Сципиона. Риторическое изъявление
неуверенности в своих силах - между прочим, сравнительно с
Гомером и Вергилием! - вместе с тем обеспечивает Петрарке
как певцу Лауры по меньшей мере литературный статус не
менее достойный, чем у Энния, певца Сципиона. А в скрытой
части рассуждения: если он, Петрарка, воспел Сципиона лучше,
чем Энний, то что же мешает предположить, что поэт сумел
возвыситься и до почетной роли певца Лауры, выпавшей ему по
прихоти судеб. Если его, Петрарки, "Африка" выше латинской
версификации Энния, то его "вольгаре", возможно, ничуть не
ниже того, что написали бы о Лауре Гомер и Вергилий. "Книга
Песен" подтягивается - и по уровню предмета, и эвентуально
по "стилю" - к древним auctores. Как и в случае с "Письмами о
делах повседневных", Петрарка сознает себя автором,
непривычным образом поднимающим планку9.
Все это многосмысленное построение как нельзя лучше
обнаруживает исходный импульс написания "Канцоньере".
Петрарка, как всегда поглощенный заботой о самоутверждении
авторского "Я", в очередной раз рефлектирует по поводу
характера и уровня стихов к Лауре. Что бы ни думать по поводу его
увлечения Лаурой де Нов, - во всяком случае, когда старый поэт,
работая спустя почти двадцать лет после смерти Лауры над
завершающей редакцией "Канцоньере", вставляет в стихи на
жизнь Лауры сонеты относительно значимости этих стихов для
его литературной репутации, - речь может идти никак не о
влюбленном "Я", а только о Я-авторе.
519 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
35
В контексте 186-187 сонетов выраженная в
заключение традиционная надежда, что стихи достойны Лауры и
смягчат ее сердце, приобретает особенный смысл. Патетическая
просьба к Лауре оценить стихи к ней звучит так, как если бы
Лаура была не жестокосердной возлюбленной, а
взыскательным литературным критиком и ценителем.
Что до "смешанного стиля", то, кроме ключа, данного
упоминанием Эвтерпы и Каллиопы, правильно также простое
толкование Абрама Эфроса: это вызывающее представление
Петрарки о смешении (соединении) в нем возможностей двух
древних гениев.
Ключевые слов: "il mio ingegno". Петрарка избирает Лауру и
свою любовь в качестве точки приложения авторской воли -
как и в "Африке", и в эпистолярии. Через авторство
застолблено пространство для жизни сердца. Любовь тут еще
риторическая, но приватизированная. Наподобие пустотной фюрмы,
которая изваяна для последующей отливки.
"Моя Италия", политика, Колонна и пр. столь естественно
включены в контур любовной книги, потому что это, вместе с
Лаурой, которую поэт столь непринужденно сравнивает со
знаменитым античным полководцем, изводы более универсальной
темы: Рима и доблести.
Петрарка антикизировал свое чувство и тем самым сделал
его современным.
36
Итак, сонет 187, как и предыдущий, содержит
достаточно странную поэтику. Лаура была для него биографической
реальностью чуть не в том же или сопоставимом смысле, что и
протагонист "Африки". Нам о Сципионе Африканском
известно несравненно больше, чем о Лауре де Нов. Однако и в данном
случае важен не исторический Сципион. Ну да, был такой
Сципион Старший. Но в судьбе Петрарке его роль сводится к тому,
что поэт всю жизнь хотел довести "Африку" - и с ней себя как
автора оной - до окончательного совершенства. Так и с Лаурой.
Да, кто-то был и что-то было, какой-то повод для фантазий о
_ 520
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
своей высокой и обреченной любви. Это действительно личная
проблема, но проблема писательского самовыражения.
Опять любовные стихи на вольгаре сравниваются с
"Илиадой". Никак не меньше. И никаких различений касательно
жанра и стиля! Единая шкала отсчета поэтического величия! Ни
Овидий, ни Проперций и, уж тем более, Данте и др.
недостаточны для Петрарки в качестве точки отсчета. Сопоставление идет
только с Гомером и Вергилием просто потому, что
самосознание поэта нуждается в наивысших авторитетах.
37
188-й сонет третий подряд с тем же мотивом,
выраженным более таинственно. "Великий лавр" был еще молодым
побегом, и его любило Солнце (Аполлон?), когда Адам увидел Еву.
Тут смешаны грехопадение Адама и миф о Дафне. Любовь к
лавру (поэзии) превращает грехопадение Адама в источник Поэзии.
Сонет 248 клонит к тому же.
Тот, кто воочию узнает, каково совершенство Лауры, -
"скажет тогда, что стихи мои словно немые, талант ослеплен ее
невыносимым светом. Но, если кому-либо доведется говорить о ней
впоследствии [т. е. уже не застав Лауру в живых], ему останется
только плакать (allor dira che mie rime son mute, / Pingegno offeso
dal soverchio lume; ma se più tarda, avrà da pianger sempre)".
Дотти делает акцент на "потребности в грандиозной
архитектуре" ради сотворения своего образа как "фигуры мудреца",
отрешенного от мира и взирающего изнутри к разуму и свету
небесному (р. X). Дотти интересует духовная цель авторского
усилия. Для меня же важны не идеологический и топосный
результаты, а любые прямые следы и клочки трудного чисто
авторского усилия. То есть рефлексия на себя в процессе
самопересоздания. Идеальный образ поэта-мудреца - то, что
достигается талантом сочинителя. Этот любящий - Я. Это воображено
мною, сочинено мною и наконец стало мною. Топосы
стягиваются к Автору, который любит Ее. Все, что было ранее
сочинено в мире, захвачено притяжением "Я". В этой личной точке все
топосы пересекаются, переплавляются, рождаются заново.
Это еще не индивидуальная любовь. Но это ее
логико-культурная возможность.
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Любовь к Лауре -
реальная или вымышленная?
1
"В тысяча триста двадцать седьмом году, ровно в
первый утренний час, шестого апреля, я вошел в лабиринт и
[доселе] не вижу, как выйти" (211:12-14).
Тому, кто хотел бы, заговорив о Лауре как историческом
персонаже, ограничиться достоверными сведениями, придется,
повторив то, чем ограничился сам поэт, обойтись несколькими
словами. Так и поступил положительный Э. Уилкинс. "6 апреля
1327 г. в церкви св. Клары он увидел девушку, идентичность
которой поныне остается неизвестной" (р. 23). И всё.
Исследователь не сомневается в реальности Лауры,
ссылаясь на ответ Петрарки епископу Джакомо Колонна. Он
полагает, что ответ был дан "со всей силой искренности". Однако нет
чего-либо конкретного, что можно было бы к нему добавить.
Лаура ли это де Нов, и т.д., и т.п.? Вполне возможно.
«Возникает любопытство, отчасти законное, отчасти же
обывательское, разузнать, как "на самом деле" обстояло со знаменитой
любовью; это любопытство длится уже века, и ему суждено
сохраняться, пока у "Rime" будут читатели*10.
О дате и месте смерти Лауры мы знаем из упомянутой
выше маргинальной записи самого Петрарки, сделанной в
принадлежавшем ему миланском кодексе сочинений Вергилия. Она
выглядит убедительно, хотя приурочение к тому же
пасхальному дню, когда двадцать одним годом ранее он впервые увидел
Лауру, могло быть результатом поэтической "нумерологии".
Исследователи Петрарки доверяют помянутой записи. Во
всяком случае, в самом существовании некоей Лауры, в
знакомстве с нею и влюбленном восхищении молодого Петрарки
сомнений нет. Хотя биографам нечего сказать относительно силы,
длительности, истинных перипетий и масштаба этого
увлечения "в жизни" Франческо.
Однако, как в любой стильновистской культурной
ситуации, как и с дантовой Беатриче - это не имеет серьезного
значения.
_ 522
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Лаура была важнейшим персонажем в жизни поэта
Петрарки, даже если свою мучительную и сладостную любовь к ней он
более или менее выдумал. И особенно, если выдумал.
Разве Петрарка не выдумал с помощью неустанного чтения
и сочинительства также свое собственное "Я", неравное себе,
литературно-идеальное и реально-жизненное вместе.
2
Повторив еще раз этот тезис, могущий показаться
вычурным, на деле же простой и даже не слишком новый,
просмотрим под указанным углом зрения наиболее "конкретные"
эпизоды "Книги песен", т. е. такие, которые имеют вид рассказов о
действительно случившемся.
И поэт, и его читатели, конечно, прекрасно сознавали
игровую и условно-риторическую сторону влюбленности в Лауру.
Притом независимо от того, в каком отношении тут могли бы
находиться жизненная реальность и литература.
Любовь, о которой можно писать стихи-вздохи, совершенно
формульна. Страсть к Лауре вписана в поэтическую традицию
и духовный обиход той среды, которую воспитали стильнови-
сты. Это "серьезная игра".
Это, как выразились бы мы сегодня, языковая и культурная
система, в которой осуществляет себя петрарковская самость
(Self).
Петрарка счел нужным включить в "Повседневные" ответ
"на некую шутливую эпистолу" Джакомо Колонна (Fam.., II,
9), датированный 21 декабря 1336 г. Я об этом уже писал, но
присмотримся к знаменитому ответу внимательней, чем
раньше.
Поэт всячески и многократно подчеркивает, что друг,
конечно, решил подшутить над ним. Он, Франческо, приступив к
чтению в самом спокойном, "полусонном" состоянии, затем
возбудился, развеселился и, перечитывая, много смеялся. Шутки
шутками, однако Джакомо, сразу же заявляет автор, с первых
слов впадает в противоречие со своими забавными
намерениями и пишет что-то не то. А именно, что Петрарке еще в юности
удавалось дурачить мир и что фантазии насчет Лауры, стало
быть, от природной склонности, от поэтического дара, а не
отзвук действительно испытанного.
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Ты, отвечает на это Петрарка, не мог бы похвалить меня
сильней! Каждый, кто "живет с открытыми глазами", знает,
сколь горька сладость жизни и как много в мире
обманчивого. "Мы не желаем познать самих себя, вопреки совету
Аполлона <...> Все пороки скрываются под личинами, и
варварская грубость предпочитает красивые одеяния. Добавим к
сему то, что хотя и услаждает, но быстро пройдет, уже
проходит, убегает".
И т. д., и т. п. Моралистические и грустные общие места,
монолог на тему суеты сует и всяческой суеты с ссылками на
Нуму Помпилия, Публия Африканского.
Вот каков мир. И если кто-либо сумел бы одурачить
читателей, талантливо изобразив его более привлекательным, чем есть
на самом деле, хотя и сознавая про себя, что это не так, - что бы
ты сказал об этом? Только где же сыскать такого человека и
какими качествами, какой зрелой натурой, каким умением он
должен был бы обладать.
Но ты, однако же, приписываешь все это мне, коли не
шутишь!
"Что ж, если нынче это и не соответствует истине, я молил
бы Господа, чтобы он дал мне научиться этому у тех, кого уже
нет в живых, прежде чем я сам умру. Но посмотри, как далеко
ты заходишь в своей шутке. Ты говоришь, что многие,
благодаря моим вымыслам (fictionibus meis), придерживаются
относительно меня самых высоких мнений. Я готов признать, что
некоторые знаменитые люди владели подобным искусством,
даровито являя свои истинные достоинства почитателям <...> но
такое искусство мне [пока] не дано, мне тут [еще] нечего
показывать. Хотя я знаю, что кто-то вложил в меня с колыбели этот
тщетный дар судьбы. Я стал известней, чем того хотел бы, и мне
ведомо, что обо мне толкуют много чего: и хорошего, и дурного.
Меня это не огорчает и не приводит в восторг, потому что я
знаю, что людская молва всегда лжива".
Что-то слишком уж серьезно отвечает Петрарка, если цель
его - отшутиться. И не заходит ли сам Петрарка дальше своего
исходного намерения возразить насчет придуманности Лауры?
В общем, автор полагает, что мастерство поэтического вымысла
почетно, хотя подобных похвал он то ли еще не заслуживает, то
ли равнодушен к ним, то ли, напротив, мечтает о них и гордит-
_ 524
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
ся репутацией создателя прекрасных видимостей. Последнее
все же явно преобладает.
Далее Петрарка пишет, что, следовательно, он, по
утверждению Дж. Колонна, ввел своими поэтическими выдумками в
заблуждение не только толпу, но и небо. Ибо предавался -
неужто с мнимым жаром? - Августину, не оставляя притом в
забвении языческих философов и писателей. Следует обширное
рассуждение о совместимости изучения Августина с чтением
Платона и Цицерона. "Августин знает сам, истинной или
ложной любовью я люблю его".
На место "Августина" можно подставить здесь и далее
"Лауру". Для Петрарки важна принципиальная близость ситуаций.
Но в чем она состоит? Зачем Петрарке понадобился тут еще
и Августин? Ключом служит фраза (см. ниже) о "придуманном
мною же Августине". Ведь Августин тоже, подобно Лауре, и
реальное лицо, и персонаж "Сокровенного". Существовал ли этот
персонаж и подлинны ли беседы с ним автора? И да, и нет, но в
глубине и по сути - да.
Для Петрарки вопрос об истинности и вымысле в любовных
стихах решается отнюдь не эмпирически, но с точки зрения он-
тично-средневековой поэтики.
Очевидно, вопрос решается по аналогии с "выдуманными"
речами исторических героев. В высшем смысле, они
действительны.
"Я поражен новыми твоими остротами": ибо как же тогда
отнестись к тому, что рассказывает [о себе в "Исповеди" или
говорит Петрарке в "Сокровенном"?] Августин. Можно ли
усматривать в этих душевных состояниях и наставлениях "нечто
вроде сна"?
"Ты поступил бы правильней, если бы стал утверждать, что,
когда я перечитываю [Августина - опять-таки в его или в
собственной исповеди?], вся моя жизнь представляется ничем
иным, как легким сном и мимолетнейшим видением (levé som-
nium fugacissimumque fantasma). При этом чтении я иногда
пробуждаюсь, как из глубочайшего сна. Но под яремом своей
смертности глаза снова смыкаются. А затем я вновь
возвращаюсь к яви - и снова, и снова засыпаю. Мои желания текут, мои
побуждения расходятся в разные стороны и, расходясь, терзают
меня. Так внутренний человек борется с внешним человеком...".
525 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Внимание! Сейчас от этих христианско-платонических то-
посов о том, что жизнь есть тяжелый сон, истина же - сон иной,
мимолетный, или, если угодно, пробуждение, - "внешний
человек" погружен в тягостные сны, зато "внутренний человек",
медитируя, видит сны небесные и прекрасные, - тут-то Петрарка
переходит к непосредственному предмету письма, в данный
момент более всего интересующего его, как и нас.
Так кто такая Лаура, в каком из двух снов она привиделась
поэту?
Прежде чем перейти к сути дела, Петрарке требуется еще
одна цитата, из "Энеиды" (6:365, 370-371); в ауре намеков еще
и "Тускуланские беседы", и "Книга Иова".
Освободи меня от этих бед, о, непобедимый <...>
Молю, дай мне длань и поверх волн с собою
Перенеси, дабы я обрел покой хотя бы в смерти.
После всего этого нетрудно предугадать, что ответ
относительно Лауры должен разочаровать биографов и - в
соответствии с метафизической игрой вокруг "fictio" и "somnium" - будет
скорее новым риторическим вопросом, чем положительным
ответом.
"Но ничто не бывает неотвязней и увертливей, чем шутки;
куда бы ты ни обратился, они тебя преследуют. Ну, что это
такое ты говоришь? будто я измыслил для собственного удобства
особенное имя Лауры, чтобы иметь возможность говорить о ней
и чтобы многие заговорили в связи с ним обо мне. И что на
самом деле никакой Лауры в моем сердце нет, за исключением
разве что того поэтического лавра (nisi illam forte poeticam),
которого я жажду, как о том свидетельствуют мои долгие и
неустанные труды. А живая Лаура, облик которой мне якобы
видится, - все это рукоделие, поэтические выдумки и притворные
воздыхания (de hac autem spirante Laurea, cuius forma captus
videor, manufacta esse omnia, ficta carmina, simulata suspiria). 0,
как я хотел бы, чтобы по этой части все действительно
сводилось к твоей шутке, о, если бы это было впрямь притворством, а
не исступлением! Но, поверь мне, никто не сможет так
притворяться дольше одного дня, да и то с превеликим трудом.
Стараться же походить на больного неограниченно долго значит
вот уж действительно быть больным".
_ 526
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
И далее: можно вести себя как больной, но ведь никак
нельзя симулировать бледность. "Моя бледность, мои страдания
тебе известны, поэтому я скорее усматриваю в твоих словах ту
сократическую веселость, которую называют иронией и в которой
ты не уступишь самому Сократу, чем насмешку над моим
недугом. Но погоди-ка, эта язва со временем созреет, и со мной
произойдет то, о чем пишет Цицерон: "Время ранит, время и
исцеляет". И против придуманной, как ты ее называешь, Лауры,
возможно, пособит придуманный мною же Августин (atque adver-
sus hanc simulatum, ut tu vocas, Lauream, simulatus ille michi
etiam Augustinus forte priofuerit). Ибо, читая и раздумывая обо
многих серьезных вещах, я стану старцем прежде, чем
состарюсь".
3
Итак?
Во-первых. О самой Лауре Петрарка не заикается ни
единым словом, не сообщает о ней ни-че-го! Лишь настаивает, что
ее и свое чувство к ней он не измыслил.
Во-вторых, в качестве единственного бесспорного
"практического" доказательства, которое невозможно подделать, поэт
упоминает о своей постоянной "бледности", свойственной
влюбленным. Конечно, это литературная игра, и, если мы хотим
воспринять слова Петрарки адекватно, нам следовало бы
улыбнуться. Любовная бледность на протяжении десятка лет?
Кстати, в письме "К потомкам" Петрарка сообщает, что
природный цвет его кожи был между белым и смуглым, т.е. сошел
бы за бледный. Автор, несомненно, изволит шутить в духе той
же "сократической веселости", откликаясь на стиль и тон
корреспондента.
В-третьих, Петрарка ни звуком не возражает против
замечаний о снедавшей его с юности жажде поэтических лавров.
В-четвертых, поэт не только вполне принимает, но и
высочайшим образом оценивает приписываемую ему способность
"дурачить мир" посредством созданий поэтического воображения.
"Fictio" очень высокая категория в смысловом мире Петрарки.
В-пятых, Петрарка относит истинность, в которую
включена и любовь к Лауре, к проявлениям "внутреннего человека".
527 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Воображаемое, идеальное, небесное и святое - суть нечто
истинное сверх наличного и нечто реальное по ту сторону
реальности. Поэзия не отменяет реальности низменных и тягостных
снов, в которые мы погружены в земном существовании, но
прорывает земную завесу проблесками высшей истины.
Поэтому на метафизическом уровне поэтические "сны и призраки"
(somnium fantasmaque) наделяются печатью трансцендентной
подлинности.
Наконец, в-шестых, и это, пожалуй, главное.
В "Сокровенном" Августин упрекает Франческо в любви к
Лауре, и Петрарка изящно ставит Лауру и Августина в один
ряд "simulati", т. е. хотя и сочиненного, но истинного. Ключевые
слова письма: "simulatus <...> etiam Augustinus", etc. To есть
реальность существования и жизненная насущность для
Петрарки выведенного им в диалогах Августина не позволяет
усомниться в реальности и насущности возникающего там же образа
Лауры, от любви к которой предостерегает поэта Августин.
Немыслимо было бы вложить в уста создателя "Исповеди"
сокрушение о душе Петрарки на основании приписываемого чувства
к какой-то несуществующей Лауре. Уже потому, что все речи
Августина - в том числе сочиненного - не могут содержать ни
слова неправды. И еще потому, что в "Сокровенном" все
синхронно и сходится в единой истинности - существования и
смыслы Августина, Лауры, самого сочинителя, одержимого
сочинительством.
Лаура существовала, и Петрарка испытывал описанные им
чувства, хотя это относится к миру небесных снов. Реальность
такой любви нельзя насмешливо отрицать, сводя ее к
честолюбивому вымыслу. Но невозможно и отстаивать на уровне, как
мы теперь сказали бы, житейском. Лаура и любовь к ней
витают на грани двух миров, двух снов, земного и небесного,
реального и вымышленного, автобиографии и поэзии.
Петрарка ни за что не позволил бы загнать себя в угол
нашими "позитивными" допросами. Он желал сохранить
двусмысленность и открытость жизненно-литературной ситуации:
не слишком утверждая ее конкретную фактичность,
отшучиваясь, сводя оборону к риторическим редутам, но и не разрушая
обаяние сочиненной им о самом себе легенды признаниями в
эстетическом расчете.
_ 528
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Петрарка не в состоянии был бы жить без волнующего и
прекрасного видения, посещавшего его. Сны были
убедительней тягостной яви, которая снится нам чаще. Ибо речь не
только об авторском замысле, но о чем-то несравненно более
существенном: о замысле Я-автора. Об экзистенциальном
самопостроении и самовосприятии Петрарки.
4
Канцона 37 (97-106, 113-120) - вот, пожалуй, предел
телесного очарования и конкретности, доступных для пера
Петрарки при изображении Лауры.
"О! - чтобы плакалось мне еще сладостней - эти тонкие
белые кисти, и благородные руки, и как она движется,
кротко-горделивая, и как мило сердится, горделиво-застенчивая, и как
прекрасна юная грудь, башня высокой души (intellectus), - все это
далеко от меня, за горным воинственным краем. И не знаю, могу
ли надеяться вновь поглядеть на нее, пусть потом я умру <...>
Канцона, если в прекрасном краю ты встретишь нашу
донну, то думаю и уверен, что ты увидишь ее такой же, какой вижу
я. Она протянет прекрасную руку к тебе, потому что сам я
слишком далеко. Не касайся руки; но, поклонясь до земли,
скажи, что прибуду к ней так быстро, как только смогу, - либо
[уже как] дух бестелесный, либо как человек из плоти и крови".
Грудь как башня "интеллекта"? О, да это, оказывается, из
Овидия... И дальше калька из него же. А все же перед нами
одно из самых непосредственных изъявлений сердечного чувства
Петрарки.
Вот что происходит в этих трогательных стихах. В
мысленном разговоре участвуют трое. Во-первых, Я, который
изнемогает от любви и воображает Ее. Во-вторых, Она, которая,
получив канцону, захочет прочесть ее: протянет руку к бумаге,
чтобы выслушать то, что автор препоручает Канцоне, словно
гонцу. В-третьих, стало быть, среди участников разговора еще и
сама Канцона.
Она воплощает и замещает автора. "Я" беседует со своим
сочинением о "нашей донне", как если бы стихи уже дошли до
Лауры. Лишь благодаря канцоне, т. е. через авторское "Я",
происходит встреча с Лаурой. В концовке самосознание Я-сочини-
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
теля и самосознание Я-влюбленного сплетаются с максимально
доступной Петрарке степенью живости, зримости - тем, что Де
Санктис называл у него "поэзией" в оппозиции к "литературе".
Два "Я" обдуманно разведены и поставлены в демиургиче-
скую связь. Но вдруг они наглядно сходятся лицом к лицу во
внутреннем диалоге.
Любить петрарковский индивид может в качестве отрефлек-
тированного "Я", страдая и наслаждаясь своим переживанием
божественной всеобщности земной Красоты, Любви, Лауры, -
короче, лишь будучи автором стихов, обращающих Лауру в лавр.
5
В сонете 39 упоминание о том, что он пытался
уклониться от встречи с источником горчайших душевных мук. С
Лаурой? Но Кардуччи утверждал, что речь идет о кардинале
Колонна. Затем комментаторы все же вернулись к Лауре, имея
в виду мотив, заимствованный Петраркой из одного сонета Да-
ванцати. В стиховой ткани "Канцоньере" всякий намек на
какое-либо конкретное происшествие столь инороден, что
литературоведам часто неясно, как к нему отнестись.
В сонете 123 Лаура, "как мне показалось, сказала про
себя" - ибо слегка побледнела и опустила взгляд - "Мой верный
друг покинет ли меня?" И опять неизвестно, стоит ли
простодушно принимать за биографический штрих, за живое
впечатление после мимолетной встречи, внезапную бледность,
опущенные глаза и немой вопрос Лауры. Или же это очередной
ход поэтической фантазии?
Сонет 245 также из числа предсмертных сочинений.
Предполагают, сонет посвящен поэту Сеннуччо дель Бене, который и
есть "старый и мудрый любовник", в некое первомайское утро
преподнесший «двум молодым влюбленным <...> две свежих
розы, таких, словно накануне они были сорваны в раю. И, разделив
их между ними, он, так смеясь и так грустно вздыхая, что даже
самое грубое сердце было бы тронуто, тут же сопроводил
прекрасный дар ласковым реченьем: "Подобной пары, кажется мне,
нет под солнцем". И, обняв обоих, удалился. А у двоих
преобразились лица, до сих пор их сердца веселеют и вздрагивают от
воспоминания. О, счастливое красноречие, о, радостный день!"*
_ 530
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Однако биографическое толкование этого общего места,
восходящего к провансальской и сицилийской лирике, еще
более затруднено тем обстоятельством, что сонет был написан,
по-видимому, спустя четверть века после смерти Лауры...
Отсюда споры о нем петрарковедов на протяжении
последних ста лет: в диапазоне от догадки, что под осчастливленными
влюбленными надлежит разуметь Франческо и Лауру, до
самоновейшего предположения, будто "un amante antiquo et
saggio" - сам Петрарка, который на жизненном закате
благословляет некую юную чету (Дотти справедливо считает это
толкование "малоубедительным", р. 661).
6
Если Петрарка поет о лодке с двенадцатью женами, то
это не значит, что он однажды увидел такую лодку и пр. (сонет
225, характер "видения", см. стих 12-й). Жалобы в сестине 237:
"Ни один человек никогда в подлунном мире не сносил столько
мучений, сколько я <...> У меня не было ни единой спокойной
ночи, я воздыхал утром и вечером, после того как Амур сделал
меня жителем лесов". Но это пасторальные реминисценции из
древних.
Сонет 241 намекает ли на действительную болезнь Лауры?
Сонет 238 - о том, как некто, лицо высокого ранга,
публично поцеловал Лауру в знак почтения к ее красоте. "Этот
поцелуй обрадовал всех женщин, а меня нежный и странный
поступок исполнил завистью". Неужто реальный эпизод? Может
быть. Ведь такие событийные детали у Петрарки крайне редки.
Канцона 50:57 содержит знакомое нам общее место: "изливая
[любовную боль] в словах, я немного приглушаю ее".
"Канцона, если бы ты была со мной с утра до вечера, я
сделал бы тебя такой же, как я сам. Ты не захотела бы
показываться на людях, и тебя так мало заботили бы мнения других, что
тебе достаточно было бы бродить по холмам - как и мне ничего
не надо, кроме огня, высекаемого мною из живого камня, в
котором вся моя опора". Епископ Джакомо Колонна, наверно, нашел
бы способ сострить по поводу этой посылки. Но возникает
впечатление, что автору, который бродит по тропинкам Воклюза и
шевелит губами, не до шуток.
531 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
7
52-й мадригал (октава: две терцины и двустишие).
"Когда влюбленному в Диану вдруг привелось ее узреть совсем
нагой среди студеных вод, он воспылал не больше, чем я, когда
увидел, как жестокая пастушка стирала в горном ручье
тончайшее покрывало: под лучами зари развевались золотистые
волосы, обычно прикрытые, - такое тут со мною стало, что солнце
уже плавило небеса, а я еще весь дрожал от любовной стужи".
Джакомо да Болонья положил это на музыку.
Вот одно из редких в "Книге песен"
пронзительно-конкретных визуальных впечатлений. И... даже небывалый для
Петрарки эротический обертон. Поскольку освобожденные от шали и
развевающиеся волосы ассоциируются с наготой купающейся
Дианы, а сам Франческо прямо-таки воображает себя
нескромно подглядывающим Актеоном. Благодаря реминисценции из
Овидиевых "Метаморфоз", предельная невинность
подсмотренного - всего только отблеск зари на непокрытых волосах - тем
верней пронизывает топос любовным ознобом.
8
В сонете 16 некий старик покидает близких и
отправляется паломником в Рим, дабы увидеть там "Веронику".
Имеется в виду ткань в соборе св. Петра, коей женщина по имени
Вероника вытерла лицо Христа на пути к Голгофе, и на холсте
запечатлелся Его лик. "Так и я, моя донна, ищу в лицах других
женщин Вашу истинную и желанную форму". Этот ход привел
в замешательство Де Санктиса, который назвал его "поздней и
натянутой добавкой". Дотти отчасти соглашается, но Де Санк-
тис, по его мнению, не учитывает, что "риторика" позволяет
поэту прийти к "утонченности". Галимберти, со своей стороны,
настаивает на неоплатонической органичности сонета.
Поражает, однако, вот что. Насколько же издалека, эрудит-
скими и литературными ходами, через описание старого
паломника и, вослед Данте, через плащаницу Вероники, через ученое
сочетание христианства и неоплатонизма (отпечаток Высшего
на ткани), Петрарка приходит к открытию: можно увидеть
какие-то черты любимой в других женщинах.
_ 532
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Путь от эрудитской риторики к психологическому штриху,
ставшему впоследствии совершенно тривиальным. Но
сохраняющему, в наших глазах, тонкость, пожалуй, именно благодаря
старинной затрудненности и окольности этого простого
наблюдения, остраняющей и превращающей его в свежий порыв.
Вопрос о лирической непосредственности Петрарки,
впрочем, непрост, поскольку мы неизбежно привносим собственные
вкусы и критерии. И предпочитаем, скажем, жалобное начало
сонета 58: "Щека, которая уже от слез устала ..." Между тем см.
ниже о семантической нагрузке "усталости" для
композиционного кода "Книги песен".
9
Сонет 96 в превосходном переводе Е. Солоновича. Я
позволил себе лишь убрать заглавные начертания букв в начале
каждой строки
Я так устал без устали вздыхать,
измученный тщетою ожиданья,
что ненавидеть начал упованья
и о былой свободе помышлять.
Но образ милый не пускает вспять
и требует, как прежде, послушанья,
и мне покоя не дают страданья -
впервые мной испытанным под стать.
Когда возникла на пути преграда,
мне собственных не слушаться бы глаз:
опасно быть душе рабыней взгляда.
Чужая воля ей теперь указ.
Свобода в прошлом. Так душе и надо.
Хотя она ошиблась только раз.
"Я" заглядывает "внутрь себя", сознает свою несвободу,
мучительную зависимость от взгляда "прекрасных очей". При всей
топосности такого рода замечаний, сама их густота и повторы,
продуманная монотонность изящно-заунывных жалоб уже
переводит их в некое новое, личное качество.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
10
Все выговаривается, выстраивается в сочетании с
рефлексией не только на свое чувство, но на способы и уровень его
поэтического выражения.
Следующий сонет, 97, тоже об утрате "прекрасной
свободы". Вот "в каком я был состоянии", "узда рассудка здесь
ничего не стоит", "рука не смогла бы воспевать на бумаге (in carte)
имя какой-либо иной персоны".
Сознание авторства равнозначно ощущению своего Я
вообще.
Нам свойственно на основании новоевропейского и
современного культурно-психологического опыта усматривать во
всякой "литературности", претендующей на самовыражение, в
сведении Я на игру с общими местами и реминисценциями, в
поэтических условностях, и пр. - наиочевидный признак
безжизненности, неподлинности чувства.
Мы не готовы к другой постановке вопроса: а не может ли
случиться так, что, наоборот, рефлексия на свою способность
быть автором чудных стихов побуждает человека сознавать
себя способным любить в качестве Я, более того, вообще быть Я.
Притом мы склонны оставлять в стороне вопрос: уже
присутствовала ли в сознании индивида идея самодостаточного Я?
Существовало ли к середине XIV в. "в жизни" (т. е. в
культурном сознании) впрямь безоговорочно "личное" и в этом плане
рефлективно проработанное Я - как causa sui? Способное, в
частности, и к индивидуальной любви?
Не задумываясь над этим или же исходя априори из
представления, что "человеческие чувства во все времена были
одинаковыми" (стало быть, внеисторическими), мы обычно
предполагаем такое "Я" якобы существовавшим всегда.
Между тем до Петрарки его не было. И даже в лице самого
Петрарки мы застаем индивида, который живет, поступает,
думает в горизонте лишь проектируемого собственного Я. Вот
почему исторически интересно не то, что Петрарка выражал
чувства к Лауре столь литературно и что само существование
Лауры даже друзья ставили под сомнение, между тем она
действительно проживала в Авиньоне, была замужем, рожала, умерла в
1348 г.
_ 534
11
Но значимо совсем не это.
И даже не то, до какой степени Петрарка вообразил и всю
жизнь тщательно стилизовал бессмертную платоническую
любовь к Прекрасной Даме. В этом он, в конце концов, лишь шел
вослед своим предшественникам, от трубадуров до стильнови-
стов и Данте11.
А значимо то, что именно у Петрарки общие места
любовного поклонения, страдания, упования и пр. потекли в русле
конструирования идеи нового Я.
Хотя чувство Петрарки риторическое, литературное и чем
более оно искусно "придуманное", тем жизненно-подлинней сам
виртуозный, ученый и талантливый придумщик.
Причем это у Петрарки осознанно. Этим у Петрарки
определено все, композиция и смысловая структура как "Канцонье-
ре" в целом, так и изрядного множества входящих в сборник
стихов по отдельности: в виде прямо заявленного в них мотива
самоценности личного сочинительства. Благодаря неразрывной
связке ая люблю" и "я пишу", "Лауры" и "лавра", - что без
акцента на структуропорождающей функции авторства само по
себе избитая констатация, - тут-то "Я", общее для обоих членов
оппозиции "люблю/пою любовь", выходит на первый план.
Поэт пишет о любви то, что ему "подсказывает сердце". Так по
традиционной схеме и по обычной логике. Однако
одновременно дело поворачивается иначе.
Следующий герменевтический шаг может показаться
убедительным лишь после отработки концепции на материале эпи-
столярия.
Петрарка конструирует отвлеченное "Я". Оно почти
начисто лишено неповторимо-личных, жизненных красок. Перед
нами предельно стилистически зашлифованная любовь. С
повторами и варьированием ограниченного круга риторических
фигур и топосов. Так в иконах вместо позднейшего цвета - золото
фона. Не многокрасочность, а интенсивный свет, неразложен-
ный спектр белизны.
Но как раз поэтому единственная выделяющаяся и
светящаяся конкретность и особенность "Книги песен" - само
неотступное присутствие автора. Благодаря максимальному фор-
535 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
мализму "Я" и обесцвеченности предмета воздыханий, тем
рельефней проступает острота чистой субъектности.
Ибо переживается не столько любовь, сколько способность
ее переживать.
Возможность сказать о любви в горизонте остро
сознаваемого авторского Я оказывается источником личного чувства (а
не наоборот). Эта способность порождает Я в жизни: как
ТОГО, КТО ПИШЕТ И ЛЮБИТ.
12
Через подобным образом акцентированное СЛОВО
Петрарка далеко продвинул культурную способность
индивидного Я формировать в себе и разворачивать вовне утонченное
богатство интимных состояний души.
Вообще-то в любовной лирической поэзии Нового времени
в излияниях своего личного чувства, обращенного к Ней,
реальной, вот этой, - всегда будут два "Я". Любящее и пишущее.
Непосредственное и литературное. Влюбленный и автор.
Разумеется, два "Я" смешиваются, меняются местами.
Ведь в словесном произведении "литературно" решительно
все. Текстуальное V это подлежащее речевого высказывания.
Но заподлицо - тот, кто "вздыхал" до и после высказывания,
будучи его автором.
Так же и наоборот: высказывание существует внутри
реальности, не сводимой ни к наличному, ни к воображаемому. Ни к
так называемым фактам: т. е. к отношениям и событиям, что
находятся вне текстов или, во всяком случае, не сводятся к ним.
Ни к текстам: т. е. тому, что придает реальности смысл,
очеловечивает, культивирует, изобретает и верифицирует ее в глазах
участников и потомков.
Реальность не сводится ни к наличному, ни к
воображаемому.
В полномерной реальности факт и высказывание образуют
сферу взаимного перетекания наличного и воображаемого,
обусловленности и свободы. В реальности в высшем значении -
один и тот же человек любит и воображает себя любящим,
откликается на ход политических событий, пропускает сквозь себя
религиозную, моральную и литературную традицию. Наконец,
_ 516
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
высказывается - если это ему даровано. Сочиняет не только то,
что им рассказано, но и самого себя в качестве рассказчика.
В способе перехода от непосредственных отношений и
ощущений к любовным речам... к стихам... на границе двух неслиян-
ных и нераздельных реальностей, служащих закраинами друг
для друга, соответственно и для "двух Я" - в этом способе и на
этой проницаемой границе мы угадываем историко-культурную
особенность открывающегося нам писателя.
13
Схематично обрисованное выше новоевропейское
соотношение "двух Я", реально-жизненного и писательского,
равно уже наличествующих, - в XIV веке, в исходной ситуации
Петрарки, когда и "Я-автор", и вообще независимое от надлич-
но-всеобщего "Я", только нарождаются, это соотношение
нуждается в парадоксальных коррективах.
Петрарка - тут он все еще средневековый человек, а вослед
за ним отчасти таково и ренессансное сознание вообще -
зависит от готовых мыслительных и словесных образцов. Он не в
состоянии и шагу ступить без Цицерона, Августина и
Вергилия, без античных auctores, a в "Канцоньере" и без Данте и пр.
Однако зависимость его необычная, странная и даже - на
эпохальном фоне - просто-таки вызывающая. Поэт определяет
круг наиболее излюбленных им авторов и сочинений. Он
объявляет о личных предпочтениях. Он вступает с этими
авторами в интимно окрашенный диалог, вплоть до писем,
адресованных им в античность. Он вплетает их сентенции в
собственные размышления, интонирует и парафразирует любые
готовые риторические формулы и общие места применительно к
состояниям собственной души. Притом он в высшей степени
заботится о том, чтобы ничего не повторять буквально. Он
стремится сопроводить свое подражание "изобретением",
некой подчас минимальной сочинительской инициативой. Он
полагает, этого довольно, чтобы сознавать себя и быть
поистине "новым", оригинальным автором, наравне с древними,
словно одним из них.
Хотя для Петрарки, как и для стильновистов, любить это
по-прежнему не что иное, как петь любовь, однако "петь" стано-
537 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
вится невероятно острым самоощущением. Оно создает такое
авторское "Я", которое излучает, определяет, создает вместе с
собою жизненный и эмоциональный горизонт индивида.
14
Это поэтика отсутствия, говорит Уго Дотти. То есть
поэтика разлуки, воспоминаний об отсутствующей
возлюбленной, наконец памятования усопшей.
Конечно. Но это означает, что любимая присутствует
исключительно в качестве МОЕГО переживания. Она
"отсутствует", но негативное определение можно переформулировать и
положительно как изобретение своего душевного мира и
самоутверждение авторского "Я".
Сонет 277 - "страсть живет, хотя надежда мертва".
"Воображаемая вожатая (Immaginata guida) направляет мою жизнь,
потому что истинная под землей, вернее же - на небесах".
Дотти толкует о "поэтике воспоминания". Это верно. Но
сам Петрарка определяет свою возлюбленную несколько
точней: как ВООБРАЖАЕМУЮ. Это принципиально всегда
"воображаемая вожатая". То ли реально существующая, то ли лишь
изредка встречаемая, или напрочь отсутствующая, или
умершая, неважно. В любом случае она "воображаемая". Ее глаза, ее
волосы, ее руки, ее повадка, ее голос, ее душа, вся она - предмет
сводящего с ума внутреннего зрения.
Лаура отсутствует, но, мнится, она всегда рядом. Ее следы
поэт обнаруживает на берегах Сорги. Она здесь, в Воклюзе, где
и после ее смерти Франческо тоскует о ней.
Я предпочел бы говорить не о "поэтике отсутствия" и не о
"поэтике воспоминания", поскольку это, кажется, значило бы
анахронистически прилагать к любви и поэтике Петрарки
романтическую мерку.
Это поэтика, как выражался Августин, "мечтания о себе".
Лаура "отсутствует" - что проф. Дотти, собственно, и имеет
в виду - изначально и абсолютно. То есть "отсутствие" отнюдь
не означает разлуки. Напротив, это условие пронзающего
видения. Свое любовное видение Петрарка обрабатывает на
прочной основе литературных матриц. Играя с ними, относясь к
ним, как к материалу собственного существования, Петрарка
_ 538
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
создает на границе готового, общего, известного мира и стиля -
свой личный мир и стиль.
Так, благодаря невероятной интенсивности,
рефлективности, целостности авторства как образа жизни, поэт познает свое
"Я" в качестве возможного.
"О, прелестные обыкновения и достойные их последствия,
один действует речами, другая взглядом, я - ей славу, она мне -
добродетель" (сонет 289).
15
Перед нами огромный корпус любовных стихов с
квазибиографической конкретностью и хронологической
последовательностью. Есть имена, есть точные даты написания некоторых
стихов, но событий, собственно, только два - встреча и смерть.
Это сфера личного, вынесенного за пределы и чувственного,
и событийного. Это тоска и пр. в совершенно сублимированном
виде. Далее, это присвоение всего мира литературы, прежде
всего римской, как владений "Я". Ничего, кроме пера. Любовь на
кончике пера.
Но странным образом это-то и делает "Я" неслыханно
довлеющим себе.
У Данте контур некой "истории", включающей знаменитый
рассказ о даме-ширме и о Беатриче, которая не ответила на
поклон. И даже вовсе уж выпадающей из мистического плана
книги и странно нарушающей ее единство - "истории" с
утешительницей после смерти Беатриче, "дамой из окна". С этим
не вяжутся схоластические комментарии к стихам. Отсюда - из
непоследовательности единства - завораживающая
подлинность "Новой жизни". В ней "жизнь" и мистическое
преображение оной вдруг встречаются неподдельно случайно, как Данте и
Беатриче у моста через Арно. И расходятся. Мистика не
замечает поклона бытовой реальности. У Данте история любви
достоверней, чем у Петрарки. Но именно поэтому она не может быть
выстроена вокруг дантова я, готически раздвоенного на
мистическое парение и натуральную подробность.
Петрарка же достигает полной стерильности и невесомости.
Никакой истории нет. Зато единственное, что остается
несомненным и достоверным, это субъектный авторский голос.
539 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Книга не о любви, а о том, что любовь есть и любви нет,
Лаура есть и Лауры нет. Вся любовь вместе с Я вибрирует в зоне
перехода от литературы и к литературе. Это полнейшая
свобода, это живой сон, и любовь в нем блещет, не нуждаясь ни в
чем, кроме бумаги и чернил. Чем меньше реальности, тем она
в и рту ал ьн ей! Ее подтверждает каждый возобновляющийся
звук.
На мой взгляд, Уго Дотти в сравнительно-культурном
плане недостаточно исторически строг. Вряд ли стоит проводить
параллель с Леопарди, с романтическим культом воспоминания
и т. п., тем более с "непроизвольным припоминанием" у
Пруста (!?).
Тут иное.
Припоминать-то Петрарке, собственно, решительно нечего.
Зато впоследствии все влюбленные смогут воспользоваться
матрицами петрарковых "вздохов".
"Поэтика отсутствия", по Дотти, составляет важнейшую
особенность "Канцоньере", но ведь это как раз то, что не
отличает Петрарку от предшественников. Это, разумеется, одна из
основных черт "нового сладостного стиля". Влюбленный
только и думает о своей благородной донне; он рисует ее облик в
уме\ это и значит "видеть ее издалека19. Петрарка, целиком
приняв поэтику отсутствия, возмещаемого любовным
воображением, идет, однако, гораздо дальше.
Ибо это чувства именно его, Петрарки. Речь не о некоей
донне, а о той Лауре, которую он впервые увидел в 23 года. Он
мечтает о ней, бродя по берегам Сорги, в милом своем Воклюзе,
где ему всегда так хорошо думалось и писалось. И он не устает
размышлять о том, как именно любовь совпадает с его
сочинительским Я.
16
"Если это не любовь, тогда что же я чувствую? Но,
если это любовь, я теряюсь в догадках, что же она такое и какова?
Если это благо, то почему мне так до смерти тяжко? Если это
грех, то почему во всякой муке услада? Если я пылаю по
собственной охоте, то к чему слезы и жалобы? Если же эта беда не в
моей воле, то что пользы в слезах и жалобах? О, живая поги-
_ 540
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
бель, о, упоительная беда, как ты можешь забрать надо мной
такую власть, если я тебе не повинуюсь? А если я не повинуюсь,
то и мучаюсь [стало быть лишь] по великому недоразумению
<...> Я и сам не знаю, чего хочу, меня знобит среди лета,
бросает в жар среди зимы" (сонет 132).
Петрарка разрабатывает систему оксюморонов, которая
стала важнейшим признаком "петраркизма" XVI-XVII вв.
Петрарка продолжил традицию провансальских трубадуров, но
придал "игре антитез" характер эмблематический (см.: Дотти,
р. 413).
Безысходные противоречия любовного чувства превращают
самоидентичность "Я" в проблему. В любви, ведя себя и
чувствуя алогично, "Я" перестает совпадать с собой, выходит из
статической и рассудительной самотождественности и
превращается... ну, конечно же, еще не в "индивидуальную личность", не
поддающуюся резюмированию. Однако же тут задел для такой
личности на новоевропейское будущее.
Пока же это общий для всех влюбленных набор
взаимоисключающих определений одного и того же состояния "сладкой
муки" и т. п. Ср. то же самое в "Состязании в Блуа", у Вийона и
др. Поэтому конструктивным для появления протоиндивидуа-
листического "Я" кажется не сам по себе набор антитез, а то, что
такое состояние души предстает как проблема словесного
описания. То есть это удвоенная трудность: и для любящего, и для
пишущего о любви.
Алогичный язык описания, однажды возникнув и требуя вся-
кий раз от автора особой изощренности и новой фантазии,
становится самодостаточным событием существования данного Я-
автора. Роль Петрарки в истории любовной лирики не в том,
что он открыл все эти оксюмороны любовной страсти, хотя он и
чрезвычайно обогатил соответствующую топику личного
чувства. Роль его в том, что он осознал свой поэтический дар,
изобретательность и новизну находимых им определений в качестве
конститутивного признака личной, своей любви.
Петрарка пишет так - таков его синтаксис, такова
глагольная экспрессия первого лица, - будто это происходит с ним
одним во всей вселенной.
Что приближает его, если не к недоступной Лауре, то к
лавру. Ни у кого до Петрарки эта риторическая установка на прон-
541 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ- ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
зительную сплошную оксюморонность рефлексирующего на
себя индивида не была реализована с такой последовательностью
и масштабом.
17
"Не нахожу покоя и нет сил противиться; и боюсь, и
надеюсь; и горю, и обращаюсь в лед; и взлетаю превыше небес,
и хоронюсь под землей; и пусты объятия мои, и обхватывают
весь мир. Мне не выйти из темницы, хотя меня никто не
держит, я в плену не по ее воле, но петли не развязать; Амур меня
не убивает, но и не защищает, не оставляет в живых, но и не
спасает. Я вижу безглазый, кричу безъязыкий; и жажду
погибнуть, и помощь зову; и себя самого ненавижу, и люблю не себя.
Печаль насыщает меня, но, плача, смеюсь. И смерть, и жизнь
равно мне постыли; донна, это из-за вас я таков".
Ср. с блестящим переводом 134-го сонета у Е. Солоновича.
И мира нет, и сил бороться нет,
И, упованья примирив и страхи,
Парю над миром и лежу во прахе,
Держу в пустых объятьях целый свет.
Храню любви непрошенный обет,
Отвергнут милой, но всегда в рубахе
Смирительной, и голова на плахе,
Но медлит смерть - я жив для новых бед.
Безгласный - вопию, незрячий - вижу,
И смерть зову, отчаянья не пряча,
И состраданья жажду - но, увы!..
Влюблен. Себя при этом ненавижу,
Живу печалью, улыбаюсь, плача, -
Всему виной не кто иной, как вы.
18
Сонет 91 создан на смерть некой донны, которую
любил младший и дорогой брат Петрарки Герардо (ср.
Повседневные, X, 3, 21 и 24). Через два года после этого испытавший
душевное потрясение Герардо постригся монахом-чертозинцем.
_ 542
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Этот сонет - один из многих опусов, посвященных не Лауре, -
несомненно отбрасывает любопытный отблеск на поэтику
книги. Дело в том, что любовь Герардо была вполне "настоящая", а
не литературная. И вот Франческо сочиняет сонет на смерть
неизвестной нам молодой красавицы, о которой Петрарка
пишет, как и о Лауре, что она была нежна и очаровательна в
движениях, и, "как я надеюсь, вознеслась к небу". "Время похитило
оба ключа от твоего сердца, коими она владела".
Тем самым впервые появляется тема смерти, своего рода
затакт к стихам на смерть Лауры. Реальность Лауры словно
косвенно подтверждается реальностью иной женщины, поскольку
стихи о той и о другой идут в одном потоке.
19
"Мне, сидевшему наедине со своими прекрасными
любовными помышлениями, явилась донна, чей облик пленил мое
сердце. И я, дабы почтить ее, благоговейно склонил бледное
чело".
Так начинается сонет 111. Тут Петрарка еще подражает дан-
товой "Новой жизни", и слышатся вполне традиционные топо-
сы любовной лирики стильновистов.
"Я затрепетал; она прошла мимо с некими [приветливыми]
словами; мне не хватило сил ни разобрать их [толком], ни
выдержать нежно лучащийся взгляд. И вот теперь я настолько
полон разными радостными ощущениями и все перебираю в уме
эту спасительную встречу, что боли нет и никогда уже не будет
впредь".
Однако далее, в сонете 112, очаровательные строки о
любимой оправлены в письмо к другу. "Сеннуччо, хочу, чтобы ты
знал, что происходит со мною и что у меня за жизнь (i'vo che
sapi in quai maniera / tractato sono, et quai vita è la mia). Сгораю
и терзаюсь, как обычно. С зарей (Гаига, т. е. Laura) душа моя
переворачивается (или: при пробуждении я уже сам не свой), и
однако же, остаюсь таким же, каким и был".
Ср. сонет к другу 156:1-4.иПоскольку вы, может быть, еще
желали бы услышать новости обо мне, вот я, прийдя на эту
древнюю медвежью гору (Перуджу?), и пишу вам о погоде и о
своем состоянии (de Гаеге е di mio stato vi scrivo)".
w _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Таким образом, любовные переживания приобретают
смысл, как мы бы выразились, в связи с проблемой
самосознания и самоидентификации Я: "что со мной", "какова моя
жизнь", "меняюсь ли я или остаюсь прежним". Друг должен
знать, "каким манером ныне трактовать меня".
Впрочем, лишь первые два стиха содержат обращение к
Сеннуччо и хорошо знакомую нам по эпистолярию Петрарки
цицеронианскую формулу о том, для чего вообще пишутся
дружеские письма.
Затем нарастают мотивы, обращенные за пределы
собственно любовной темы, к жизни поэта как таковой. В этом
отношении прелюбопытно крешендо от 112-го к 114-му сонету. Потом
диминуэндо вплоть до сонета 117 включительно. Эти шесть
пьес - один из фрагментов "Книги песен", со своей автономной
структурой. Но композиционные пропорции и игра смыслов
принципиально важны для понимания сборника в целом,
вписывающего любовь в образ повседневного существования
поэта, а это существование - в идеальную любовь.
Тут очень показателен второй сонет к Сеннуччо. В сонете
сообщается о возвращении в Воклюз (1342 г.). Мотивам этого
важного шага отдано уже шесть стихов. Затем еще в двух
сказано, что, почувствовав себя в безопасности от городских
тревог, он не только не забыл о Лауре, но его чувство здесь
утишилось и углубилось. В терцинах обе темы, Воклюза и любви,
переплетаются. В целом о сонете ИЗ можно сказать, что они в
нем уравновешены.
"Сюда [т. е. в Воклюз], где [без Вас] я живу лишь в
половину (mezzo son), Сеннуччо мой, но да смогу именно здесь вновь
обрести цельность [т. е. здесь бы нам и свидеться, cosl ci foss'io
intero, на радость также Вам] - сюда я прибыл, убегая от грозы
и урагана, которые внезапно нагнали скверную погоду [намек
на Авиньон]. Здесь я в безопасности. И хочу сказать Вам,
почему я не боюсь молний, как обычно, и почему утешился, хотя
страсть во мне не угасла ничуть, она все так же пылает. Едва
прибыв в это царство любви, я увидел как [над Воклюзом]
занимается чистая и нежная заря [l'aura, сиречь Laura], и воздух
светлеет, и гонит грозы прочь. Таково действие любви; там, где
она повелевает, разгорается огонь надежды и гаснет страх. Так
_ щ
Сочинять и любить. 06 авторском единстве книги стихов к Лауре
что же со мной сталось бы, если бы я смог [здесь к тому же]
встретить взор ее очей?"
Вослед поэт помещает сонет 114, где автобиографические
мотивы, с перепевами из античной топики, развернуты еще
полней. Все адекватно, как отмечает комментатор,
соответствующим реминисценциям из Сенеки и автопортретным
характеристикам Петрарки в эпистолярии. За исключением того, что в
латинских письмах, живописующих радости одинокой жизни
поэта в Воклюзе, о Лауре и любви, разумеется, ни слова. Там
Петрарка не смешивает жанры.
В "Канцоньере" же, безусловно, смешивает.
Я-влюбленный, хотя и выходит на первый план, но
немыслим без, так сказать, второй ведуты, без Я-автора, последний же
описывает свой уединенный образ жизни так, как вычитывает
его у римских autores.
На долю любовного чувства оставлена заключительная
терцина.
20
И вот наконец в сонете 114 любовный мотив
оказывается лишь частностью жизненной панорамы, лишь нитью
автобиографической ткани.
Первые три строки - инвектива против "нечестивого
Вавилона", т. е. Авиньона и папской курии.
Затем: "Я бежал, чтобы продлить свои дни. Здесь я живу
одиноко; и, в зависимости от подсказок Амура, то пишу
итальянские или латинские стихи, то собираю травы и цветы,
беседую с самим собой. И это мне утешно. Мне нет дела ни до
толпы, ни до Фортуны, ни даже до самого себя, если это излишне и
касается низменных вещей. Меня не одолевает беспокойство ни
изнутри души, ни извне. И только двух людей я мысленно
призываю: хотел бы, чтоб одна навела мне на сердце тишину и
покой, а другой пусть будет на ногах и здоров, как бывало".
Так в книге любовных песен на жизнь Лауры наступает и
такой момент, когда Я-сочинитель сосредоточен на себе, на
своей жизни в уединении Воклюза, а на долю Лауры достаются
полтора стиха из четырнадцати.
18 - 345
545 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
21
Далее сонет 115 выдержан опять, однако, в стиле
самых обычных галантно-условных изысканностей.
Реминисценции из Овидия и Данте, Лаура и Амур вновь забирают все
пространство стихотворения без остатка. Уго Дотти отмечает, что
неслучайно именно такие вещи Петрарки особенно нравились
сечентистам. Этот сонет был отмечен Тассони.
Но тема Лаура-лавр проведена через мизансцену видения. В
центре Амур и Она, по бокам автор и "Солнце", т. е. Аполлон,
влюбленный в Дафну, обратившуюся в лавр.
В сонете 116 после любовных кватренов о дне встречи с
Лаурой, "когда мои глаза вобрали в себя несказанную нежность ее
прекрасного лица", мотив Воклюза опять возвращается, хотя и
в более скромном объеме. Теперь он забирает четыре стиха (9-
12): "В долине, со всех сторон закрытой, я нахожу прибежище
своим вздохам, я здесь один, и рядом лишь Амур, задумчивый и
медлительный. Здесь женщин нет, одни ключи и скалы".
После чего переход к заключительным двум строкам о том,
что в безлюдье Воклюза любить это значит вспоминать и
напрягать воображение: "я обретаю образ того дня, когда
мысленно его воображаю, и вот его я вижу (et l'imagine trovo di quel
giorno / che 41 pensier mio figura, ovunque io sguardo".
Эта формула вообще хорошо передает соотношение у
Петрарки непосредственного чувства и поэтической фантазии. Уго
Дотти называет это "поэтикой воспоминания". Однако по
совокупности всех литературных и культурно-психологических
условий это, может быть, правильней было бы назвать поэтикой и
пафосом авторства. То есть конструирования через
переживание сочинения стихов - и личного чувства, и самого "Я", его
испытывающего.
Наконец, сонет 117. "Если бы скала, которая замыкает эту
долину и тем самым дает ей название, по свойственной ей
прямой натуре повернулась бы к Риму, оставив Вавилон за
плечами, моим вздохам было бы легче добираться туда, где живет
моя надежда", и пр. Теме Воклюза непосредственно достается
лишь первый кватрен. Но весь сонет построен по мысленной
оси Воклюз-"Вавилон" (т. е. Авиньон). В заключительной
терцине поэт хотел бы подняться на вершину замыкающей долину
_ 546
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
горы, чтобы оглянуться в сторону Авиньона, т. е. города, где
живет Лаура.
"Прекрасные глаза, которые заставляют меня говорить" -
это уже в 118-м сонете, который был написан 6 апреля 1343 г.,
ибо начинается так: "Остались позади 16 лет моих воздыханий".
Позади 16 лет, в течение которых Петрарка писал стихи к
Лауре, и эта строка, в сущности, означает также:
"Прекрасные стихи, которые заставляют меня любить".
22
С XIX в. (собственно, начиная с романтиков)
предполагается, что поэт, прежде всего лирический, действительно
пережил то, о чем имеет сугубо реальные автобиографические
основания для высказывания. Живое "Я" предполагается уже
самим фактом сочинения. За которым признается (или от
которого, во всяком случае, требуется) искренность и подлинность.
Ибо иначе зачем же и приниматься за стихи?
"Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?"
В позднейшей культуре подлинности индивидуального
самовыражения противостояла "литературщина" как ругательное
обозначение ходульности, общих мест и бездарности. Хорошая
поэзия, согласно новоевропейскому взгляду, это когда
свойственная именно данному поэту техника (или поэтика)
превращает экзистенциальное "Я" в "лирическое Я".
Поэтому в терминах, например, Де Санктиса "поэзия" и
'литература" всегда антонимы. Этот неоромантический и
внеисторический подход мешал чуткости великого критика. Он
любил Петрарку, но судил его не по законам, самим Петраркой
над собой признанным.
Между новоевропейскими двумя "Я" (человеком и поэтом в
нем) нет, как уже говорилось, отношений причины и следствия.
Или, если угодно, оба суть причины и оба суть следствия друг
друга. В каждом случае это взаимное перетекание "жизни" и
"поэзии" совершается неповторимо-целостным образом.
18·
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
23
Есть общий для всего творческого сознания Петрарки
принцип движения: от авторского самосознания в качестве
исходной общей матрицы ( - Я как Поэт, продолжающий череду
древних) к конкретным задачам самопостроения личного
литературного "Я".
Сонет 151 - в ее прекрасных глазах я читаю то, что скрыто
от других, и "отсюда черпаю, что бы я ни говорил о Любви, и
что бы ни писал (quant'io parlo d'Amore, et quant'io scrivo)".
Четыре сонета (155-158) о том, что поэт видел, как плакала
Лаура. "Я видел" повторено не раз, настойчиво. Но все же
трудно предположить, что Петрарка действительно видел ее слезы.
Ни повода для слез, ни каких-либо обстоятельств и деталей...
"Я видел, как плакали два прекрасных светоча, которые
тысячекратно вызывали зависть солнца, и я слышал слова, которые
были произнесены меж вздохов и которые могли бы сдвинуть
горы и остановить реки".
Такова еще одна тема для поэтического воображения и
риторики. "Ибо, то, чем любуюсь я, кажется снами, тенями и
маревом (che quant'io miro par sogni, ombre et fumi)" (сонет 156).
Поэтический "сон" или быль?
С одной стороны:
"Тот навсегда печальный и достойный день оставил в
сердце столь живой ее образ, что никогда не достанет дарования и
стиля описать это. Но часто он приходит вновь на память.
Движения, украшенные всяческим благородством, и горькие
нежные жалобы, которые я слышал, заставляют усомниться, была
ли то смертная женщина или богиня, что озарила небеса".
Кажется, "дарование и стиль" поэта все же справились с
невыполнимой риторической задачей... Следует добавить, что,
согласно изысканиям комментаторов, в этом 157-м сонете две
реминисценции из "Энеиды".
С другой стороны, в сонете 155:
"Мадонна плакала. Мой господин, Амур, возжелал, чтоб я
увидел это и услышал ее жалобы, дабы мои терзания и желание
успокоить пронизали меня до мозга и костей. Плач тот
сладостный Амур нарисовал мне и изваял, и нежные слова мне в
сердце начертал, как вырезал алмазом..."
_ 548
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Этот мотив, т. е. что плач Лауры во мне запечатлен -
"нарисован", "изваян", "написан" - Амуром, в некий день захотевшим,
чтоб я увидел и услышал плачущую донну, - повторяется в
каждом из четырех сонетов на указанную тему.
Создается двусмысленность. Конечно же, обдуманная. Поэт
настойчиво повторяет, что видел и слышал слезы и жалобы
Лауры, и одновременно твердит, что это Амур захотел дать ему
возможность увидеть и услышать, словно во сне, то, что описать
поэту не под силу.
Тем цветистей и гиперболизированней Петрарка
преподносит иее святые вздохи". "Амур и Истина подтверждают: то, что я
увидел, несравненно, других таких красот нет в мире, никто под
звездами их никогда не видел. Столь жалобных и нежных слов
не слыхивали досель, и слез таких прекрасных, излившихся из
столь прекрасных глаз, солнце не видало никогда".
Так размывается граница между тем, что нам
заблагорассудилось бы назвать "реальностью" этой любви - и литературой,
поэтическим сном, риторической изобретательностью. "Едва
только мой взгляд застывает или блуждает, я, чтоб совладать с
тревогой, тут же нахожу, как нарисовать прекрасную донну
таким образом, чтобы мои желанья не стали слишком спелыми".
24
Петрарка любил Лауру, потому что стремился на
вольгаре превзойти Данте, не говоря обо всех прочих. И кое в
чем превзошел-таки.
Ай да Франческо!
Повезло этой Лауре де Нов.
25
После очередной серии любовных сонетов (159-165),
по поводу которых комментаторы имеют основание вспомнить
Данте девять раз, Овидия три раза, Вергилия четыре раза,
Горация четыре раза, Стация два раза и еще шестерых авторов, -
вдруг сонет 166.
"Если бы я не покидал грота (на Парнасе), где Аполлон стал
вдохновенным пророком, тогда свой (латинский) поэт был бы,
549 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
возможно, и у Флоренции, а не только у Вероны, или Мантуи,
или Арунки.
[То есть Петрарка ставит себя в ряд с Катуллом, Вергилием
и Луцилием]
Но так как мои земли более не орошаются водами из этой
скалы (т. е. ключом Касталии), то и надлежит, чтобы я следовал
влиянию другой планеты, скашивая изогнутым серпом с моего
поля репейники и сухие прутья.
["Lappole" означает также "безделицы, пустяки".] Олива
засыхает, ведь не к ней течет вода с Парнаса, благодаря которой в
былые времена она цвела когда-то. В несчастье этом лишь моя
бина, она совсем меня лишит добрых плодов, если Юпитер
вечный меня не одарит благодатным дождем".
Так Петрарка обсуждает самый существенный литературно-
теоретический вопрос, относящийся к его любви. Отчего бы
ему, хотя и признающему превосходство латинской
словесности, не собрать поэтическую жатву на поле итальянской поэзии.
Но не засохнет ли тем временем его дар латинского автора? В
том будет лишь его "вина". Риторическая игра вокруг
Кастальского ключа увенчивается намеком на то, что поэт не
собирается забрасывать свои более ученые труды.
Этот сонет следует целиком отнести к высказываниям
Петрарки о поэтике. Тем не менее он превосходно вписывается в
книгу любовной лирики.
В сонете 167 ему поет Амур. Комментатор замечает, что это
совершенно то же, как если бы пела Лаура (р. 88). Однако в
168-м сонете: "Амур посылает мне нежную мысль, что он
издавна тайный посредник между нами двумя". Вряд ли Петрарка
когда-либо слышал пение Лауры. "Поет" Амур, т. е. сам
вдохновленный им поэт: u..Amort che tal arte m'insegni" (167:6).
Постоянно бодрствующее авторское Я посреди всех этих
стилистических самооценок дает Петрарке возможность
осознать себя также и относительно совсем иных личных материй с
необычайной непосредственностью:
"Пусть будет, что будет. Но старею уже не я один. Хоть с
возрастом желания все те же, только боюсь, что жизнь на
исходе" (сонет 168).
_ 550
26
"Вскармливаю ум столь благородной пищей, что не
завидую Юпитеру, с его амврозией и нектаром, ибо, только лишь
взирая [на Нее], я уже забываюсь душой. И не нужна мне какая
бы то ни было иная сладость, пью до дна воды Летып. Это об
облике, речах и голосе Лауры. Но "все это вместе <...> являет,
что в состоянии сделать в этой жизни искусство, талант, и
Природа, и Небо" (сонет 195).
Три сонета (191-193) посвящены мотиву красоты и
обаяния Лауры как интеллектуальной пищи (см.: Дотти, с. 540-
541).
"Искусство, талант (arte, ingegno)" - как источники
совершенства Лауры, служащей пищей и дарующей усладу "уму"?
Видя и слыша Ее, я это "записываю в сердце fn cor describo)",
замечает Петрарка. А затем и на бумагу (тоже обычный его ход).
Мы в кругу определений, отнесенных к Лауре, однако
характерных для тех, кого заслуженно увенчивают лавром. "Искусство"
(сонеты 192, 5; 193,14) - это относится непосредственно в
данном случае к волосам Лауры и ко всему ее облику; "талант", по
мнению комментатора, это "Амур". Но те же источники
вскармливают поэзию. И тоже: Природа и Небо. Рефлексы красоты
Лауры отсвечивают на самом сочинении Петрарки. Это они суть
интеллектуальная пища. Вполне обдуманная игра понятий: речь
о Лауре, но от любви исходят амврозия и нектар стихов.
27
Сонеты 194 и 196-198 составляют в "Канцоньере"
группу, в которой идет игра с созвучием "Гаига/ Laura".
Вот обычный переход в первом кватрене. "Когда веет
благородный ветерок, холмы яснеют и оживлены цветы в лесу
тенистом. Я в дуновеньи узнаю нежнейший дух ее, посредством
коего мне суждено взойти к страданию и славе (per cui conven che
эп репа е 'nfamapoggi)".
Дуновение ветерка - благородный дух Лауры - означает
неизбежность и любовных мук, и поэтической славы. К тому и
другому надлежит "взойти". В мотиве подъема к высшему то и
другое смешивается. Дальше речь идет о смерти из-за любви к
551 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Лауре ("périr mi dà Ί ciel per questa luce"). "Погибель мне
дарует небо". В смысловом сплаве с "восхождением" и "славой"
любовная погибель едва ли не означает посмертного бессмертия в
памяти читателей.
Э.Уилкинс показал, что сонеты 194 и 197 следует
датировать концом 60-х годов. И примерно тогда же, когда Петрарка
переделывал 196-й сонет и вписывал два новых в шестую
редакцию "Канцоньере", он сочинял "Письмо к потомкам". Лаура
умерла двадцатью годами ранее. Это не мешало поэту говорить:
"Ищу мое солнце и надеюсь увидеть его сегодня" (7).
Продолжалось восхождение к славе посредством "Канцоньере". Так что
с необходимостью он продолжает гореть любовью. "Потому что
вдали от нее я таю, а вблизи сгораю".
В старости, как, впрочем, и в молодости, Лаура -
вечнозеленый лавр. Поэтому любовь поэта сохраняла свежесть и
притягательность.
Года идут. Я все бледнее цветом,
Все больше похожу на старика,
Но так же к листьям тянется рука,
Что и зимою зелены и летом.
(Перевод Е. Солоновича)
"Небесный ветерок (L'aura celeste), который в том зеленом
лавре дышит, что дал Амуру ранить сердце Аполлона", и пр.
(сонет 197). Снова и снова он обыгрывает мотив мифа о Дафне.
Без лавра, можно сказать, Лаура была бы нереальна.
Однако, благодаря психологическим возможностям,
открываемым авторским "Я" в рефлексии на себя, Лаура становится
реальностью в жизни Петрарки.
28
"Когда на заре столь нежный ветерок (Гаига) движет
цветы к новому времени (дня) и птички начинают свои песни
(собственно, "стихи": i versi) - так нежно мысли внутри моей
души заставляют меня ощутить ту, кто владеет ими всеми, и
мне надлежит вернуться к моим стихам (собственно, "звукам"
или ''песням": le mie note)", и пр. (239).
_ 552
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Сестина построена на шести рифмах, из которых две - versi
и note - повторяются в 39 стихах тринадцать раз."Птички"
распевают стихи, а поэт поет, как птица. Любовь побуждает к
стихам, выражается в стихах. "Людей и богов обычно побеждает
сила Амура, как об этом можно прочесть в прозе и в стихах".
Заканчивается же сестина такой терциной: "У меня в сетях
лишь один ветерок, и цветы во льду, и стихами я пытаюсь
впечатлить глухую и бесчувственную душу, которая не дорожит ни
силой Амура, ни силой поэтических звуков".
Дотти отмечает, что "note", равно и "versi", суть то же, что
"sospiri amorosi, любовные воздыхания" (р. 646, п. 6,12). Это
античное общее место. Дотти указывает вслед за Даниелло, что
сестина пронизана парафразами из Второй буколики Вергилия
и шестой песни "Энеиды", также из Овидия и Данте.
Но и наоборот. Притом здесь употреблено для
итальянских стихов (повышая их статус) вместо "rime" слово, которым
Петрарка обычно пользовался для обозначения стихов
латинских.
Дальнейшие номера, начиная с сонета 246 и вплоть до
сонета 254 включительно, это вставки к девятой редакции. Все
они - искусная подготовка к стихам на смерть Лауры,
крешендо тревожных предчувствий, а в 254-м уже и ужасной
неизвестности, жива ли она.
Другие стихи, заключающие раздел на жизнь Лауры, были
написаны ранее.
29
В 1343 г. ему было около сорока и он впервые сочинил
199-й сонет о волнении, испытанном, когда Лаура сняла
перчатку. Он увидел ее руку, ее пальцы, на мгновение взял перчатку,
облегавшую их, и затрепетал.
Вместо того чтобы задаваться вопросом, да случался ли с
поэтом когда-либо подобный эпизод на самом деле, и т. п.,
лучше (вслед за Романо, Уилкинсом, Дотти и всеми, кто держал
перед собой Vat.lat. 3196) прочесть итальянскую приписку,
сделанную автором на полях сонета.
"19 мая 1368 года, в пятницу, после того как в долгой
бессоннице прошли первые часы ночи, я наконец поднялся, и вот
554 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
мне попадает в руки это стариннейшее мое сочинение,
написанное 25-ю годами ранее".
Он принимается его редактировать (см.: Дотти, р. 552-553).
А заодно сочиняет еще два сонета на ту же тему. Петрарке было
тогда уже почти 64 года.
Девятая строка ранее звучала так: "Biancho soave саго е
dolce guanto". To есть: "Белая, нежная, дорогая и сладостная
перчатка". А теперь:и Candido leggiadretto et саго guanto". Стих
стал гораздо более плавным и изысканным, перевитым
ассонансами и аллитерациями, с раскатами на "А" и "О", с опорами на
"D", "R" и аТ". Соответственно любовное чувство сохраняет
свежесть вровень поэтическому воображению.
' Прекрасная рука! Разжалась ты
И держишь сердце на ладони тесной...
(Перевод Е. Солоновича)
30
Три стихотворения "о перчатке" не обязательно
описывают - и даже почти наверняка не описывают - некий
реальный эпизод и связанные с ним сердечные восторги. Важно не
это. Но важно и ново то, что Петрарка посреди ночной
бессонницы неЧолько вдруг встает, достает свой манускрипт и
принимается работать над давним-предавним текстом, причем
настолько сознает значительность такого своего поведения, что
считает нужным тут же сделать на полях соответствующую
запись.
Поскольку Петрарка, встав к рукописи посреди ночи, в этот
момент писал для себя - вот неожиданное доказательство, уже
из "жизни", того, что авторская саморефлексия сопровождала
его постоянно. Конечно, эта прелестная реплика ориентируется
на парадигму поведения, достойного для римского "оратора", и
в этом смысле словно вычитана у Цицерона. Конечно, Петрарка
даже наедине с собой сознавал себя на исторической сцене и -
конкретно - вполне был бы способен представить, что и эта
пометка после его смерти предстанет почтительному вниманию
друзей, которые будут разбирать его архив. А все же
невозможно отрицать необычную интимность обращенной к себе же реп-
_ 554
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
лики на полях, как, впрочем, и в других маргиналиях
Петрарки - например, при чтении писем Элоизы. Какое
напряженнейшее внимание к своей внутренней жизни, к собственным
впечатлениям!
Не отсюда ли петрарковский опыт освоения риторической
традиции любовных песен? проникновение этой же
интимности в лирику?
Сознание Петрарки глубочайшим образом авторское, это и
есть фундаментальный, системопорождающий факт его
социального и личного существования. Отсюда возможность
претворения риторики и книжности в явлениях частной жизни поэта.
Авторское "Я" провоцирует то, что мы привыкли называть
"личностью". Так, после встречи в церкви с женщиной,
пленившей воображение молодого человека, рождается если не
индивидуальная любовь как реальное событие, то способность
пережить нечто подобное в поэтическом плане: на скрещении с
культурными матрицами, в творческом споре с впечатлениями
литературными.
Чем более это чистая литература, и ничего кроме
литературы, тем более существенно то, что поражает Петрарку в
самом себе и чем он в себе дорожит. Я хочу предположить, что
то же самое, что побуждает его сделать примечательную
ночную запись, дневниковую по языковой форме и интонации. И
чем существенней для него личная изобретательная и
увлеченная писательская инициатива, - тем более этот же пафос
Петрарки наполняет его любовные стихи непривычно-личным
лиризмом.
Чем литературней, тем индивидуальней и жизненней.
Риторика не остается тождественной себе, в готовом и над-
личном состоянии. Конец "риторической эпохи" наступит еще
весьма нескоро, спустя столетия, но ведь когда-то должно было
обозначиться начало конца.
На остранение риторики, на игру с нею, на ее
индивидуальное присвоение работало то обстоятельство, что уже и античная
риторика всегда менялась в зависимости от тех или иных
содержательных историко-культурных функций. Так что некая
"риторика вообще" как самотождественная система на все времена
есть методологическая абстракция (см. подробно в третьей
части).
555 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Стихи "Канцоньере" создают восторги и делают реальным
эпизод, например, со снятой с руки прекрасной донны
перчаткой. Ею на миг (якобы?) мог завладеть, нежно волнуясь,
влюбленный поэт. И тут же он был вынужден вернуть ее Лауре.
Стихи создают утонченную реальность, по крайней мере,
для будущих впечатлительных "Я" и для будущих любовных
историй.
"О, превратности дел человеческих! Ведь то, что похитил я,
приходится вернуть".
Топос о том, что земная человеческая жизнь полна
превратностей, что Фортуна своевольна и неверна, в таком куртуазно-
игривом контексте, к тому же преподносимом как некий
личный случай, - вместе с риторической величавостью теряет
отчасти и некоторую долю своей топосности. Чем больше
Петрарка 'и здесь сохраняет на лице мину серьезности, тем заметней,
что он шутит с общим местом. Он превращает его в нарочито-
пышную декорацию для любовных шалостей. Зато нечто о
частной жизни некоего индивида просвечивает - пока что как
возможность такой жизни - именно в зазоре между милым
незатейливым поводом сонетов "о перчатке" и пущенной при этом в
ход риторикой.
31
Принудительная - ввиду тогдашней незаменимости
риторики - тотальность, сплошность этого приема показывала
риторику вчуже, превращала в предмет игры и тем самым
обнаруживала ее, в принципе, заменимость. Делала риторику
антириторической по жанровому смысловому заданию.
«Моя удача и Амур так осчастливили меня прекрасной
шелковой, расшитой золотом перчаткой, что был я почти уж на
верху блаженства, сказав себе: "Чью руку облегала?" Мне
никогда на ум бы не пришло, что в тот же день я стану
одновременно богачем и бедняком, и что меня сразят и гнев, и скорбь? что
преисполнюсь я стыдом, любовным позором, что мне не
удержать покрепче своей добычи благородной, как это было б
нужно, и что не выстою против единой просьбы ангельской.
О, убежав, я крыльев не сложил к ее ногам, тем отплатив, по
крайней мере, руке, которая из глаз моих исторгла столько
слез* (сонет 201).
_ 556
32
"От мысли к мысли и с холма на холм меня ведет
Амур. Каждая хоженая тропа, как я изведал, несовместима со
спокойной жизнью. Но если я на уединенной речной отмели
или у родника, или если меж двух холмов тенистая долина -
приходит в себя душа, загнанная заботами. <...> Бродя по
высоким горам и дремучим лесам, я обретаю некий покой. Всякое
обитаемое место в моих глазах смертельный недруг.
С каждым шагом рождается новая мысль о моей донне, и
это часто в игру обращает страдание, которое я испытываю из-
за нее (А ciascun passo nasce un pensier novo / de la mia donna,
che sovente in gioco / gira 1 tormento chl porto per lei <...>"
(Канцона 129:17-19).
Комментатор щедро цитирует страницу из Де Санктиса,
посвященную этой канцоне и особенно поразившему его
замечанию Петрарки о том, что стихотворством страдание обращается
в игру. Великий критик оценил психологическую тонкость
непрерывных переходов - вдали от любимой, которая доступна
лишь воображению - от отчаяния к любовной надежде.
Добавим, что это живость воображения человека, который,
как не упустил отметить Уго Дотти, держит в памяти или перед
глазами Овидия: "in saxo frigida sedi; / quamque lapis sedes, tam
lapis ipsa fui (на камне холодном сидел я; и чем дольше на
камне сидел, тем больше сам был камнем)".
Петрарка парафразирует Овидия. Сидя на камне,
влюбленный сам каменеет от любовной муки. Но и более того: он
"мертвый камень на камне живом". Петрарка изобретает
собственный риторический ход, перекрывающий экспрессию античного
автора. В сравнении с несчастным влюбленным даже камень
жив, в сравнении даже с камнем он мертв.
Тут у меня опять возникает незаконная ассоциация с
Иосифом Бродским. Перенеся на "камень" его рассуждения в
"Похвале стулу", получим примерно такой силлогизм. Обычный
камень равен себе, ничто не грозит его вещественности, он
неживой, и естественно, что он не умирает, его было бы нельзя
считать мертвым. Поэтому правильней назвать "живым" его, чем
того, кто чувствует себя умирающим от любви. Сидящий на камне
бледный и оцепеневший влюбленный - вот поистине "мертвый
557 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
камень". Окаменеть, превратиться в "камень", означает
метаморфозу и приход напрямую к идее каменности. То есть, с
платоновской точки зрения, к тому, что более каменно, чем камень.
Но вернемся к Петрарке. Фраза о мертвом камне на камне
живом на деле не столь сложна, но эффектно обращает
любовные муки в словесную игру. Необычное риторическое
сравнение, однако же, наилучшим образом обеспечивает рефлексию
любящего. Изобретательность поэтического воображения
подставляет себя на место непосредственного чувства. Но тем
самым позволяет приобщенному к античной словесности Я-авто-
ру подобное чувство в себе сотворить и достоверно, т. е.
литературно, пережить: "на манер человека, который думает, и плачет,
и пишет (in guisa d'uom che pensi et pianga et scriva - 52)"
иЯ воспел бы любовь настолько по-новому (Io canterei d'amor
sî novamente)", что Лаура была бы потрясена (сонет 131). Как
если бы она была не недоступным предметом воздыханий, а
взыскательным литературным ценителем.
33
Чем литературней, тем индивидуальней, и наоборот?
Поясню еще раз, что это значит. Петрарка (вслед за ним
многие) мог подойти к литературе, только отнесясь к auctores с
величайшей серьезностью, трепетностью, свободой, на равных,
со способностью писать дружеские письма Вергилию или
Цицерону. В его отношениях с собственной библиотекой ярче
всего сказывалась личное "Я", которое было необходимым и
сознательным модусом чтения и сочинительства.
А с другой стороны, это "Я" было немыслимо вне
библиотеки, вне авторства, вне личного знакомства с Цицероном и др.12
Взаимозависимость и взаимопронизанность готовой
матрицы, общего места, риторических правил - и авторской
инициативы, "Я", постоянно рефлектирующего на себя в этом плане.
"Я-авторп это исходная жизненная, социальная,
психологическая реальность. Но это же и наиболее "далекий от жизни",
т. е. культурный, артефакт. Это в наибольшей степени "всего
лишь литература".
Из нее, однако, в результате личного мыслительного и
эмоционального усилия вырастает новое аЯ" в целом, в разных
_ 55S
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
проекциях, в том числе в виде образа себя как пылко и
пожизненно влюбленного.
иЯп как возможность Я.
34
Как Петрарка обживает традицию и топику любовной
лирики, как он, будучи им совершенно верен, тем не менее
индивидуализирует ее?
За вычетом примеси некоторого количества неизбежных
христианских общих мест, слабого эха соответствующих
пассажей из "Моего сокровенного", эта совершенно светская любовь
издалека - любовь вообще. Она почти лишена какой-либо из
окрасок тех литературных традиций, с которыми автор
внимательнейшим образом считался. То есть она не
куртуазно-сословная, не спиритуалистическая, не мистическая. Она
практически бесфабульна. Она не прикреплена ни к чему
стилистически определенному. Она великолепно эклектична (что в данном
случае значит: свободна) по своим текстуальным источникам,
черпая решительно отовсюду. Чаще всего у Данте. Как
известно, Петрарка ревниво скрывал и отрицал эту зависимость. И, в
общем, был прав, у него главное - другое.
Крайняя словесная и смысловая сглаженность "Канцонье-
ре" сработала своеобразно и неожиданно. Лаура - прекрасная
женщина вообще, и автор - влюбленный вообще, и стихи его -
это весьма абстрактная, статичная, зато удивительно
разработанная в неутомимых вариациях, лирика воздыханий,
томлений, мечтаний, упреков, жалоб, мольбы о сострадании,
умилений, преклонений, короче, гиперболизированного и потому
выглядящего подчас очень непосредственно и убедительно
состояния неувядающей влюбленности.
"Любовь вообще" у Петрарки такова, что он не только
использует, комбинирует по-своему, переакцентирует прежнюю
топику, латинскую, итальянскую, провансальскую, и создает,
тем не менее, свой, более систематический и отныне уже
навсегда именно петрарковский язык любви. В дальнейшем можно
было уже не обращаться непосредственно к источникам
Петрарки, он их некоторым образом собрал, сконденсировал,
добавил свое и передал эти новые матрицы потомкам. У него это
559 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
проделано впервые и свежо, затем язык "Канцоньере" легко
обратится в клише. Это то, чему европейская поэзия
впоследствии скажет "замри" и что впрямь замрет на два столетия: в виде
петраркизма.
Но у Петрарки, повторим, "любовь вообще", высказанная с
такой последовательностью, разработанностью, с такой
замечательной монотонностью, - прозвучала личным монологом. Как
именно его, Петрарки, авторски убедительная, любовь.
Композиция "Канцоньере", включая в себя, кроме
любовных стихов, послания к друзьям по разным поводам, некрологи,
политические оды и инвективы, религиозные стихи, наконец,
стихи о стихах, о замысле и характере "Канцоньере", - не имеет
никакого объединяющего 366 опусов обруча, кроме Я-автора,
Франческо Петрарки.
Сама идея редактирования как средства достижения
совершенного результата и как нескончаемого пожизненного
процесса есть, следовательно, невозможность для автора оторваться от
своего сочинительского делания, поставить точку и, тем самым,
перестать быть автором!
Автор это не просто тот, кто создал свое произведение, но
это тот, кто его создает. Кто существует накануне и во время
его сотворения. И значит, это тот, кто всегда пребывает в
состоянии сочинительства: живет в качестве автора.
Отсюда столь повышенная непосредственная рефлексия на
свое не только влюбленное, но сочиняющее "Я". Основная моя
задача в данной работе: проследить случаи такой рефлексии,
явной и отчасти подспудной, в их смысловом и формальном
разнообразии и переливах.
"Душа, ты, что столько разных вещей видишь, слышишь, и
читаешь, и говоришь, и пишешь, и мыслишь: глаза мои жаждой
томишь и, помимо чувств прочих, ты к сердцу слова
устремляешь, высокие и святые" (204:1-4).
35
«О, сладость [ее] гнева, сладость размолвки и сладость
примирения, сладость утраты, сладость томленья и сладость
тревоги, сладость речей [ее], и сладко на них отзываться, то
сладко они ветерком остужают, то сладко переполняют. Душа,
_ 560
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
не жалуйся, молча страдай и умягчай сладкую горечь, что
терзает тебя, сладкой честью быть захваченным любовью к той,
которой сказал я: "Ты одна мне мила". Может, когда-нибудь скажет
кто-то, вздыхая и побледнев от зависти сладкой: "О, как
претерпел из-за столь прекрасной любви тот [поэт] в свое время". А
другой: "О, Фортуна, ты враг моих глаз, почему я ее не увидел?
почему не родилась она позже или же я вовремя почему не
родился?"* (сонет 205).
Перед нами еще один замечательный образчик смыслового
хода, соединяющего Я-влюбленного и Я-автора.
Сначала в кватренах мы получаем плотный смысловой ряд
вокруг "дольче", этого, как уже отмечалось, главного слова в
"Книге песен". Оно, постоянный эпитет в быстрой перемене и
столкновении чувств, обвивает то радости любви-преклонения
перед недосягаемой мадонной, то любовные тревоги и жалобы.
Оно поочередно оказывается то в упоительном согласии с
определяемым душевным состоянием, то в оксюморонном
положении, - соединяя, таким образом, эмоциональные полюса
("живя, от любви умираю, но лишь умиранием этим живу").
"Dolce" в поэтике Петрарки приобретает такую
универсальность, что в этом сонете игра с ним превращает dolce, можно бы
сказать, из прилагательного или наречия в существительное. Из
повторяющегося предиката разных сердечных отношений и
состояний - в центральный сквозной предмет высказывания.
И что же дальше, после нагнетания в кватренах
характерной любовной топики Петрарки? И после увенчивающего эту
часть сонета перевода из Овидия, присваемого автором как свое
личное признание в любви к Лауре?
Терцины сразу переносят нас в будущее, к потомкам, к тем,
кто узнает когда-нибудь о несравненной Лауре и беспримерной
любви к ней поэта. Именно поэта, поскольку понятно, что
узнать об этом люди смогут только из стихов к Лауре и что их
высказывания, предполагаемые Петраркой едва ли не на века
вперед, это заведомо и исключительно высказывания его будущих
читателей}.
Таким образом, на отношение влюбленный/Лаура
накладывается отношение автор/потомки-читатели. Это
санкционирование сказанного о любви со стороны поэтического
бессмертия. Впрочем, читатели будут когда-нибудь толковать не о дос-
56/
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
тоинствах стихов (кои в контексте такой переклички через
века подразумеваются сами собой), а о величии и усладе таких
любовных страданий, о счастье жить в одно время с Лаурой и
видеть ее. Не только Я-влюбленный превращается в Я-автора,
но и авторство обратным ходом возвращает к мыслям о любви,
вызывает ее гулкое эхо в "большом времени", как выражался
Бахтин.
36
Кстати, это одна из навязчивых идей Петрарки: о
встрече или невстрече в одном времени. Он рассуждал, как мы
помним, о том, что Гомер или Вергилий, родившись на много
столетий раньше, увы, не могли стать певцами Лауры. И точно
так же будущий читатель жалуется на прихоть Фортуны,
заносящей человека не в тот век. Но он, Франческо Петрарка, тоже
сожалевший в письме "К потомкам", что угодил не в свое время,
не в античность, - в "Канцоньере" сознает себя баловнем
судьбы, родившимся "в свое время (al suo tempo)", ибо именно ему
выпало стать певцом Лауры.
Время у Петрарки (если вынести за скобки неизбежные
христианско-дидактические общие места насчет бренности
земного человеческого существования и т. п.) - это авторское
время. В нем прошлое помечено великими писательскими
именами, а будущее - некими неведомыми читателями. Я-автор знает
только то, что были другие авторы, перед которыми он
благоговеет и с которыми, однако же, помышляет соревноваться; а еще
будут их и его читатели.
Автор стихов к Лауре и автор своей любви к ней видит
себя, таким образом, в створе времен.
37
Лауре передали о Франческо, будто он любит другую.
"Если бы я действительно когда-либо сказал это (S'i Ί dissi mai
<...>", то пусть возненавидела бы меня та, любовью к которой я
жив и без которой я умер бы".
S'I Ί dissi... если бы я сказал. Страшные и гибельные
последствия слова.
_ 562
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
"Ma s'io nol dissi..." - но если я не сказал этого, то как же она,
и пр. Тогда дурно с ее стороны быть жестокой с тем, кто... и пр.
Отрицание не поступка, а слова как поступка.
"Я не сказал ничего подобного никогда и сказать не мог бы
ни за золото, ни за города или замки. Итак, да восторжествует
истина и усидит в седле, а побежденная ложь пусть рухнет на
землю. Ты знаешь, Амур, все, что внутри меня, и, если спросит
она, скажи то, что должен сказать". Слово - якобы сказанное,
но на деле не сказанное и не могущее быть сказанным - залог и
доказательство любви. Дотти в комментарии, напоминая, что
это типичная сирвентеза, защитительная речь против
обвинений, скептически относится к попыткам заподозрить здесь
некий автобиографический факт, обиду Лауры и пр.
Традиционный жанровый ход попадает, однако, в общий
контекст крайне повышенной значимости слова.
"Я смертью своей насыщаюсь и живу в пламени, странная
пища у саламандры чудесной, но чуда здесь нет: так угодно
Амуру" (40-42).
38
Дотти называет "знаменитым" сонет 234. "О,
комнатка, которая уже была мне пристанищем в часы дневные бурных
гроз, и если нету сил не плакать по ночам, то днем сюда я
прячу их стыдливо.
О, ложе скромное, которое меня покоит и утешает в
стольких страданьях <...> Бегу сюда и укрываю мое сокровенное и
мою отраду, но более всего меня самого и мои мысли, которые,
когда им следую, порой меня уносят высоко.
Хотя толпа враждебна мне и ненавистна, я ею дорожу (как
мог бы вообразить такое?), когда хочу укрыться: так я страшусь
остаться наедине с собой".
Заключительная терцина в переводе Е. Солоновича: МИ в
страхе одиночества бросаюсь / К толпе презренной, давнему
врагу, / За помощью - чтоб рядом был хоть кто-то." Терцина
значима на фоне знаменитого топоса Горация о ненависти
поэта к профанной толпе, Петрарка здесь именно поэт, который
мучается любовью и тоской, а потому колеблется между
жаждой одиночества и боязнью его.
563 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Де Санктис обратил внимание на этот сонет, столь
необычно "романтический"; Альфьери подражал мотиву "комнатки", в
которой хочет укрыться поэт (см.: Дотти, р. 635).
39
Сонет 289. "О, прелестные обыкновения и достойные
их последствия, один действует речами, другая взглядом, я
приношу ей славу, она мне - добродетель".
Сонет 259. "Всегда искал я жизни одинокой (и это рекам
ведомо, и селам, и лесам), чтобы бежать умов глухих и темных,
что уклонились от дороги к небу... К руке, которой я пишу, она
была на этот раз благосклонна, и, может быть, я не был
недостоин. То видел только Амур и знают лишь мадонна и я".
Комментатор предполагает, что рука поэта встретилась с
рукой мадонны. Мне же любопытно упоминание о руке как о
той, что сейчас записывает вот эти стихи..
Вот точка роста предновоевропейской Я-личности.
Придумывание жизни МОЕГО сердца с помощью
пропускания через себя всего прочитанного, от Горация и Проперция
до Данте, оригинально у Петрарки потому, что это непривычно
сознательный умысел.
40
"Долина, что полна моими жалобами. Река, которую
мои слезы часто делают более полноводной. Лесные звери,
порхающие птицы и рыбы меж зеленых берегов. И в жарком ясном
воздухе [тают] мои вздохи. Укромная тропинка, которая теперь
такая горькая. Амур ведет привычно по холмам, которые меня
радовали, а ныне наводят тоску. Я вижу вас такими же, что и
прежде. Но себя не узнаю. Увы, ранее жизнерадостный, я
превратился в прибежище бесконечной скорби. Здесь я встречал
свое счастье. Но следы его той же тропинкой ныне уводят в
нагие небеса. Там дух, оставивший в земле прекрасную оболочку"
(сонет 301).
Мечтания о Лауре, как уже не раз говорилось, часто
вставлены в оправу Воклюза.
_ 564
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Уже тем самым им придается модус реальности. Они
становятся листками из своего рода дневника писателя. И это один
из самых существенных и оригинальных моментов поэтики
Петрарки.
Дело в двойственности Воклюза. С одной стороны, сплошь
пасторальная топика. Классически-античный приют поэта. С
другой стороны, для Петрарки Воклюз впрямь самое
подходящее место и реальный образ жизни. Именно у берегов Сорги он,
как нигде и никогда, кроме, может быть, последних лет в Арква,
обрел возможность не расставаться с творческой тишиной и
сосредоточенностью. Литературность образов Воклюза не мешает
им одновременно быть достоверностью его трудов и дней.
И этот отсвет обдуманно отбрасывается на образ самой
Лауры. Следы ее ножек на тропах Воклюза воображаемые. Но, по
меньшей мере, сам Воклюз это явь. Хотя и опосредованная
литературно. В результате грань между реальным и
вымышленным размывается, как и таковая же грань между Воклюзом и
присутствием в ней Лауры.
Если Воклюз настоящий и Петрарка, сочиняющий в нем,
настоящий, то и Лаура настоящая в той же мере и в том же
смысле. Воклюз был бы неполон, нереален без Лауры.
Что за пастораль без пастушки, что за Геликон без любви?
"Амур, ты был со мной в благие времена у этих вод,
дружных с нашими помыслами, и ты, перебирая былое, все
рассуждал со мной и с рекою. Цветы, ветви, травы, тени, пещеры,
волны, нежные дуновения, закрытые долины, высокие холмы и
солнечные пляжи..." (сонет 303).
Сердечные излияния поэта, благодаря их закрепленности в
пространстве и времени за Воклюзом, наделены подлинностью.
Топосы совпали с практическим устроением жизни
Петрарки. Еще и еще раз приходится вспомнить, что замысел "Кан-
цоньере" - как и "Африки", и многих других основных
начинаний Петрарки - возник в Воклюзе.
41
Например, в сонете 281, сочиненном в годы
последнего пребывания в Воклюзе, поэт изображает себя "избегающим
других и, если это я мог бы, от себя самого, укрывающимся в
565 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
моем милом приюте", бродящим "средь лесистых и тенистых
мест" Воклюза, "омывающим слезами травы и грудь, оглашая
воздыханиями окрестный воздух", - все, как и положено
буколическому персонажу.
Петрарка вспоминает и оплакивает свою любовь, и вообще-
то, казалось бы, сочиняет обычный пасторальный сонет.
Но притом: античные общие места прикреплены к вполне
реальному дому в долине Прованса, где струится речушка Сор-
га. Он любил рассказывать в эпистолах друзьям, как славно ему
думается и пишется здесь. Достаточно сказать aal mio dolce
ricetto", "del più chiaro fondo di Sorga esca / et pongasi a sedere in
su la riva", - и сразу топика помечается в пространстве и
времени именными знаками существования Петрарки, и никого
иного. "Она выходит из прозрачнейшей глубины Сорги и
усаживается на берегу; я вижу ее, как живую женщину, вот на свежей
траве она перебирает цветы, и вид ее показывает, что ей жаль
меня".
Или: "Так я начинаю вновь обретать твои прекрасные черты
в том же краю, где и раньше привычно они обитали, там, где я
многие годы пел о тебе. (Cosîcomincio a ritrovar presenti / le tue
belezze à suoi usati soggiorni, / la* 've cantando andai di te
molfanni) <...> А теперь, как видишь, оплакиваю тебя. Нет, не
тебя я оплакиваю, но потерю самого себя".
Опять милый Воклюз, и продолжается душевная жизнь,
продолжается сочинительство. Я, Петрарка, пишу о Лауре
стихи и после ее кончины, пишу их там же, где писал о ней живой.
В Воклюзе он всегда чувствовал себя независимей и ближе
к древним авторам, следовательно, более адекватным
представлениям о себе, которые он всегда вынашивал. Здесь его образ
жизни в наибольшей степени соответствовал классическому
идеалу поэта. Здесь он поэтому, как нигде, был автором по
преимуществу.
Итак, Петрарка поразительно свободно стилизует личное
реальное существование. Он превращает его и свое Я (если
использовать известный термин М.М. Бахтина в несколько
странном повороте) в приватный хронотоп литературных любовных
мотивов. Хронотоп его сочинений - это Воклюз, т. е. Я здесь и
сейчас.
_ 566
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
42
И сам поэт, и его читатели, надо полагать, очень остро
воспринимали подобную стилизацию: непринужденное сонало-
жение современного места и времени, современного индивида,
наконец, живого вольгаре - и античности. А поэтому, пусть в
риторических приемах ничего и не менялось (за исключением
того, что древние не знали ни сонетной строфики, ни рифм) -
топосы переставали быть равными себе. Петрарка изящно
играл с ними, но главное-то в том, что менялась их
содержательная функция. Топика становилась демонстративно личной. Не
столько подключала сочинительство к авторитетной традиции,
сколько делала Петрарку ее автором, как если бы она
рождалась сызнова.
Старательное, подчеркнутое, беспрерывное интонирование
того, что все слова исходят из глубины его "Я", приходят на ум
впервые, ибо таков его личный жребий. Вот что поразило
современников и ренессансных потомков и вот что принесло
Петрарке репутацию поэта, превзошедшего Данте и сравнявшегося
с древними.
Между тем, то была всего лишь, конечно, имитация
интимности, общие места. Но сама способность к тому, чтобы
почувствовать возможность органического переноса и растворения
литературы в пейзаже милого Воклюза и в собственном
душевном интерьере, подобная способность отмечена подлинностью.
Сделать первый шаг к собственному автономному Я было бы
немыслимо иначе, чем через подражание, заходящее много
дальше привычного. То есть через парадоксальное присвоение и
преображение готовых словесных форм.
Как часто в этом дорогом краю,
От всех скрываясь, - от себя бы скрыться! -
Я на траву, вздыхая, слезы лью,
Заплачу - не могу остановиться!
Как часто я ищу любовь мою
И, призывая Смерть, не устаю
В глухих местах, где страх в душе родится,
К моей отраде думами стремиться!
567 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
То златокудрой нимфою она
Из Сорги на моих глазах выходит,
Там, где всего прозрачней глубина,
То вижу - по траве живая бродит,
И жалость на лице отражена
Ко мне, кто дни в тоске по ней проводит.
(Перевод Ε. Солоновича)
43
Ср. сонет 306: опять воклюзский пасторальный фон,
на нем "следы" Лауры в смысле воспоминаний о ней... или о
прежних стихах. Теперь же: "Ее не нахожу я. Но ее следы
святые я вижу обращенными лишь к горнему, вдали от топей
Стикса и Аверна".
Или: "Взгляни на высокую скалу, у которой рождается Сор-
га, и ты увидишь того, кто, одиноко [блуждая] средь трав и вод,
живет памятью о тебе и печалью. А что до мест, где твоя
усыпальница и где родилась наша любовь (dove nacque / il nostro
amor), я хочу, чтоб ты их покинула и оставила, чтобы не видеть
в своих согражданах то, что тебе немило" (сонет 305:9-14).
Нимало не обинуясь, Петрарка называет любовь "нашей",
вопреки всем традиционным жалобам на неприступность
Прекрасной Дамы. Да, раньше он считал ее нежный облик
неблагосклонным, суровым к нему, это ранило сердце. Но теперь, после
ее кончины, "ложное мнение от сердца удалено". Лаура с небес
взирает ласково - "и слушает мои вздохи" (т. е. стихи). (Такое,
на мой взгляд, наиболее достоверное толкование второго кват-
рена - вслед за Цингарелли, см.: Дотти, р. 806.)
Петрарка удостоверяет это удивительнейшее определение,
"наша любовь", не историей отношений, а переменой
собственных чувств, вписанных в существование сочинителя. Далее
"вздохи" близ Сорги и антиавиньонские инвективы вдруг
впервые и тесно сходятся в последней терцине. Петрарка просит
Лауру оставить Авиньону только свою могилу и порвать с этим
местом какую-либо иную, душевную связь. Он неколебимо
превращает покойную донну в свою гражданскую и
моралистическую сообщницу. Будто бы Лаура относится к жителям города,
_ 5SS
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
где она провела всю жизнь, так же неприязненно, как он, Фран-
ческо. Эта неожиданная выдумка звучит, пожалуй, еще более
эгоцентрично и фантастически, чем "наша" любовь.
Однако как раз вследствие подобных невероятных
риторических ходов Петрарка достигает своей цели.
Его Галатея оживает.
Пусть мы ничего не знаем об отношениях Петрарки и
Лауры. Но Воклюз и Авиньон привязывают Лауру к
действительной и конкретной жизни Петрарки как поэта, заодно и как
ритора, изобличающего папский "Вавилон".
Вот заключительные терцины в переводе Е. Солоновича:
"Взгляни на Соргу, на ее исток - / меж вод и трав блуждает
одиноко, / кто память о тебе не превозмог. // Но не смотри на
город, где до срока / ты умерла, где ты вошла в мой слог, / -
пусть ненавистного избегнет око".
44
Читателю, конечно, давно стало ясно, что название
этой главы - провоцирующее. Любовь к Лауре реальна или
вымышлена? - постановка вопроса намеренно поверхностная.
Наивно было бы ломиться в открытые двери и доказывать, что -
ну да, вымышленная, совершенно литературная. Но и
ограничиться последним значило бы высказать в
историко-культурном плане нечто пустое. Надеюсь, выше удалось показать, что
вопрос о реальности Лауры и чувств Петрарки этой
констатацией не перечеркивается, но ставится.
Бывают исторические ситуации, в которых реальность
искусством совсем не отражается, т. е. не преломляется и не
пересоздается, а создается "из ничего" - словно конденсируется из
культурного пара. Не в обычном смысле "второй
действительности", не потому, что условности искусства всегда "реальны по-
своему" и не потому, что "искусство выше жизни", и тому
подобное. Культура может сотворять то, что одновременно, именно
благодаря ей, входит в состав жизни, в ее смысловые основания,
формируя новые поступки, образы жизни, события и людей.
Казалось любопытным проследить, каким же конкретным
образом Петрарка, вообразив Лауру и себя, сделал любовь к
Лауре реальной. Или почти реальной. Или более чем реальной?
569 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Ведь мы не слишком преувеличим, если скажем, что будущие
европейские любови, все наши нынешние собственные
индивидуальные любови, были бы типологически невозможны, в
частности, без петрарковской Лауры.
Так какому-либо типу работающих устройств
предшествуют идея, эскиз и модель. Любовь к Лауре реальна в той мере, в
какой "Книга песен" - удачный эскиз нового Я.
45
Петрарка вводит в книгу на жизнь и смерть Лауры
стихи вообще-то о чем угодно! В диапазоне от антиавиньонских
выпадов (сонеты 136-138) до впечатлений от поездки к
монашескую обитель Монтрьё к брату Герардо, постригшемуся там
(сонет 139); от послания другу при посылке фруктов (сонет 9)
до призыва к крестовому походу (канцона 28) - все вплетено в
непрерывность книги стихов о Прекрасной Донне.
Скажем, неожиданный сонет 232 против гнева как порока,
который принижает даже Александра Великого и др., вплоть до
Аякса. Главный источник Петрарки здесь, как указывает Дотти,
Ό гневе" Сенеки, слышатся также Цицерон, Плиний Старший,
Стаций, Гораций.
Таким образом, в "Книгу песен" входят даже и стихи столь
отвлеченно-дидактические, как этот сонет.
Как ни странно, не-любовные темы имеют важное значение
для единства книги и для убедительности центральной
любовной темы.
Авторское "Я" способно ставить в один ряд и перемежать,
как ни в чем не бывало, самонаблюдения влюбленного любыми
другими его интересами и сюжетами. Автор оказывается
любящим и Лауру, и "мою Италию", и древнюю римскую доблесть.
Это не мешает лирическому характеру книги. Напротив, лишь
способствует преодолению условностей литературной любви.
Авторское "Я" становится объемным и не сводимым к стильно-
вистским канонам.
Если бы "Канцоньере" был ограничен любовными темами и
топикой, Петрарка не почувствовал бы себя до такой степени
соревнующимся с Данте. "Канцоньере" - вызов поэзии Данте в
целом, а не только соперничество с "Новой жизнью".
_ 570
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
"Книга песен" - камерная "Комедия" Петрарки.
И это вопреки сужению масштаба, несопоставимого с
Данте. При очевидном обеднении, так сказать, тембрального
диапазона. У Данте любовная история, переходящая в мистическое
озарение, душеспасительное загробное странствие, вся история
и вся политика, вся богословская ученость, вся иерархия
вселенной.
Зато у Петрарки известная пестрота тем и мотивов
объединена не органически-фабульно, но прихотливой субъектно-
стью сочинителя. Его обдуманным решением. И только.
В этом-то вся новизна!
Никак нельзя было бы сказать, как Пушкин относительно
"Комедии", что уже один план "Книги песен" гениален. Но
такой план все же существует, притом не автор следует ему, но он
следует автору. Страстность Данте едва умещается в пределах
распираемого ею метафизического миропорядка, в который, тем
не менее, целиком вписано его Я, захваченное всем на свете. А
голос Петрарки впервые звучит, прежде всего захваченный -
как-то проглядывающими сквозь проколы риторического
кружева - возможностями сотворения особого личного стиля и
судьбы. Благодаря существенности именно писательского Я,
целостность книги удерживается интонационно и
семантически - отношением к Лауре, к жизни и смерти, к церкви и
политике, к Италии - вот этого человека, автора, Петрарки.
Сужение и обеднение предметного материала
(сравнительно с Данте) означало вместе с тем многозначительный
культурный прорыв. Несмотря на все набожные импликации, перед
нами вполне светская книга. "Просто лирика", без тематических
ограничений и жанровых перегородок.
46
Попробую сформулировать эти соображения еще раз,
более развернуто. Разумеется, и у Данте в "Комедии"
бесчисленные мотивы, богословские, политические, моральные, изредка
также и личные, сходятся в грандиозном "Я". Однако это Я,
ведомое Вергилием и Беатриче по кругам потустороннего мира,
без самодостаточности индивида как такового. Это, хотя и
выраженное на последнем историческом пределе, средневековое Я.
571 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
Интерес коренился не в частном существовании и
собственном внутреннем мире. Равно и не в рефлексии на литературное
мастерство, хотя Данте вполне сознавал мощь своего
поэтического дара. Но дантово "Я" явилось не столько рассказать о
состоянии собственной души, сколько свидетельствовать о
состоянии мира. "Я" считало себя вправе заявить о себе лишь в
связи с надличными и мистическими вселенскими целями.
У Данте при всей мощи Я, неизмеримо превышающего по
смысловому объему и экспрессии то, что дает в этом отношении
Петрарка, - это Я, хотя и заявляет о себе с первой же строки, в
основе своей не писательское, не авторское. Ни с чем не
сравнимая личная страстность Данте - лишь подсветка (лекторская,
профетическая, моралистическая, политическая и пр.), но не
предмет и смысловое задание "Комедии".
"Я" соотнесено с тотальностью и само тотально. Поэтому
оно объединяет поэму только формально-фабульно, как в
любом "видении". Объединяет же ее глубинно - топография
загробных миров, высший душеспасительный план поэмы, логика
восхождения всечеловеческого индивида к Высшему Свету.
Неизбывные трудности с определением жанра "Комедии",
как известно, вызваны именно ее тотальностью. Рассказывает
индивид, понятый как "сумма суммарум". Жанр "Комедии"
колеблется в диапазоне между видением, исповедью и суммой.
Других поэм в этом сверхжанре в истории мировой литературы
никогда не существовало.
47
Как вяжется сонет 10 к Стефано Колонна Старшему с
любовью к Лауре? Он движется по следующей схеме. "Славный
столп", на который опираются надежды и "великое имя Рима";
отсюда пейзаж, "прекрасная соседняя гора, с которой
спускаются и на которую поднимаются, слагая стихи (poetando)";
соловей ночи напролет жалуется и плачет, омрачая сердце
любовными мыслями; так почему же тебя нет с нами, синьор мой? И
сеть реминисценций из Библии, Горация, Вергилия. Прокна и
Филомела. Личное чувство вплетено намеком во все это шитье.
Ответ другу, падуанскому врачу, ученому антиквару и
поэту Джованни Донди по поводу столкновения между Падуей и
_ 572
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Венецией был написан, по мнению одного из критиков, в 1372-
1373 гг. и вставлен в середину "Книги песен" в девятой
редакции. Сонет 244 смешивает политическую тему с любовной
топикой.
Серия сонетов, где Лаура является поэту во сне или в
воспоминаниях (282-286), продолжена сонетом 287 - на смерть
Сеннуччо дель Бене осенью 1349 г. Певец любви Сеннуччо
должен оказаться на третьем из девяти небес, т. е. на небе Венеры.
Петрарка воспользовался возможностью обозначить кое-кого
из тех, кого он сознает предшественниками своей любовной
поэзии. "Но очень прошу тебя, чтобы ты в третьей сфере
приветствовал Гуиттоне [д'Ареццо], и мессера Чино [да Пистойя], и
Данте, и нашего Франческино [дельи Альбицци], и всех прочих
из этой стаи".
А что же Лаура? Ах, привет и Лауре. "Моей донне ты мог
бы поистине сказать, что я живу в бесчисленных слезах".
48
Почему, скажем, сонет 27 о несостоявшемся
крестовом походе 1333 г., обращенный, по-видимому, к графу Орсо
делл'Ангиллара, не выбивается из сборника любовных песен,
как и канцона "Италия моя"? Хотя бы потому, конечно, что
именно этот граф, в качестве римского сенатора, возложил на
голову Петрарки лавровый венец. Гражданские стихи Петрарки
так или иначе отводят к античным мотивам, античные мотивы
роятся вокруг Петрарки как "автора", и этот автор, воспевая
Лауру, ощущает себя древнеримским почти эпическим гением,
где-то неподалеку от Вергилия.
Он создает Лауру по тем же саморефлективным основаниям,
что и другое свое создание, столь же реального для биографии
Петрарки и столь же вымышленного - "римского трибуна" Кола
ди Риенцо. В большой канцоне сходятся неразлучно все
мотивы - Италии, Римской империи, Цезаря Августа, Лауры - и
певца их всех. Появляющийся с неизбежностью ЛАВР
обозначает не только Поэзию, но и римскую имперскую славу, Христа,
Любовь к прекраснейшей и чистейшей донне - одновременно.
Столь фантастическая связка характерна для автора, который не
отделяет любовных стихов от, скажем, "Африки". И свою Лауру
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
слегка путает со своим Сципионом Африканским. Сонет 40
адресован то ли епископу Джакомо Колонна, то ли кардиналу
Джованни Колонна. Так или иначе адресат в этот момент
находился в Риме. Смысл сонета, по мнению комментаторов,
сводится к просьбе прислать рукопись "Декад" Тита Ливия.
А как такой сонет мог быть - на поверхностный взгляд, ни
с того, ни с сего - включен в любовный цикл на жизнь Лауры?
О, естественнейшим образом. Автор любовных стихов сочиняет
их попутно с другими опусами, в данном случае с начатым в
конце 30-х годов циклом биографий Ό знаменитых мужах".
Для Петрарки это разные линии внутренне слитного
писательского и жизненного порыва. К Риму и Лауре.
49
Канцона 28, очевидно, обращена к Джованни Колонна
ди Галликано. Но читатель, не предупрежденный
комментаторами, вправе простодушно воспринять уже первые строки, как -
в продолжение любовной темы - подразумевающие Лауру!
"О, ожидаемая на небе блаженная и прекрасная душа,
которая явится туда в нашем человеческом (телесном) облике
(букв.: "одетая в наше человеческое"), но менее нагруженная
им, чем другие <...> уже развернувшись своей ладьей от
слепого мира, дабы направиться в лучшую гавань..."
Между тем канцона политическая. Она, как и предыдущий
сонет, развивает тему крестового похода в Иерусалим под
водительством Филиппа VI Валуа. Обозревает чуть ли не весь
известный тогда круг земель, от Красного моря до Скандинавии.
Сплетает штандарты Арагона, Англии, Адамов грех, Ромула,
"вечную справедливость". Притом учение Христово называется
"учением святейшего Геликона", а Господь - "бессмертным
Аполлоном". То есть Христос и Музы странно смешиваются.
Петрарка просит Дж. Колонна проповедовать крестовый поход,
называя сие "элоквенцией" и тут же упоминая Орфея. Имени
Эвридики (т. е. в данном случае Лауры) нет, но оно витает на
размытой смысловой границе. А еще следуют "великий
Август", персы и Ксеркс, победы при Саламине и Марафоне и
прочий греко-римский инвентарь, притом заодно со "славным
сыном Марии".
_ 574
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
"Ты, канцона, увидишь Италию и достойную реку (т. е.
Тибр), увидеть кои мне мешает не море, не горы, не реки, но
одна лишь Любовь, чей высокий светоч меня удерживает там, где
более всего меня же испепеляет, ибо привычка стала второй
природой. Итак, канцона, ступай и не теряй из виду своих
подруг, ибо не только в женском обличьи обитает Любовь, из-за
которой смеются и плачут".
Так в конце концов в перспективу крестового похода
включается Лаура. А далее Петрарка помещает сугубо любовную
канцону 29, выдержанную в провансальской традиции. В ней
воспевается рождение Лауры, как если бы оно было
сакральным событием. Санкционирует любовь по вселенскому обводу.
Я-автор придумал и выстроил свой причудливо смешанный
антично-христианский мир именно так. Лауру соединил со
всем другим, что его волнует. Получился личный дневник
души, пылающей любовью к Лауре, да, но и к Господу, к Риму, к
античности, к поэзии, к славе, к лавру, к Лауре - круг
замыкается.
50
Канцона 53 посвящена римскому сенатору (1337-
1338) Бозоне да Губбьо. Описаны упадок и жалкая участь Рима
(и с ним Италии)13. Призыв к возрождению Вечного города.
Ну, а Лаура? В первой строке помянут "благородный дух" ее, и
достаточно.
Как осмыслить соединение стихов на жизнь и на смерть
Лауры со стихами о Риме? Он - римлянин в обоих случаях, ибо,
любя по-итальянски с просвечивающими сквозь стихи
латынью, он римлянин как один из "auctores".
Известно, что 128-ая канцона была написана Петраркой в
Парме, осажденной в декабре 1344 г. войсками одной из двух
коалиций, на которые разделились ломбардские синьории.
23 февраля 1345 г. Петрарка сумел выбраться из Пармы, решив
направиться в Прованс.
Италия - "самый прекрасный край" (56). Знаменитое
обращение к Италии звучит - именно в контексте лирических
воздыханий и рефлексий - с неслыханной ранее личной
подкладкой. "Италия МОЯ!" Кажется, ранее ни у кого не было такого
575 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
сквозного интонирования через "Я" по отношению к стране (у
Данте разве что к Флоренции). Притом именно через
осознанное "Я" сочинителя: "parlar", ai miei sospir", "la mia lingua".
"Италия моя! Хоть речь не может исцелить смертельные
раны, которые я так часто вижу на твоем прекрасном теле, мне
хочется, по крайней мере, чтоб мои стоны были такими, словно их
хотели бы издать Тибр, и Арно, и По, где я сейчас и нахожусь в
тоске суровой. И я взываю к Тебе, небесный повелитель <...>
сделай так, чтоб истина Твоя, каков уж я ни есть, в моих стихах
отозвалась - qual io mi sia, per la mia lingua s'oda" (А. Эфрос: "И
пусть твое вещанье / Я, недостойный, родине глаголю").
Или: "На мой взгляд (al mio parer), хуже быть предметом
издевки, чем поражение претерпеть".
Или (вопросы, которыми следовало бы задаться и
итальянским государям): "Не по этой ли земле впервые я ступал
младенцем? Не здесь ли мое гнездо, где я был вспоен так ласково?
Не это ли отчизна, которой я вверился, родина мать,
благословенная и пресвятая, где покоятся оба родителя моих".
Или строки, которые спустя почти два века процитирует
Макьявелли в завершение "Государя":
"... Pantico valore / ne Pitalici cor* non e anchor morto".
"Древняя доблесть еще жива в итальянских сердцах".
Как закончить рассказ
о бесконечной любви
1
"Пока сердце грызли любовные черви и оно сгорало в
любовном пламени, я искал рассеянные следы пугливой дичи
меж безлюдных холмов и пещер. И смел я петь о том, как горек
мне Амур и как она ко мне жестока. Но в молодости скуден
был мой дар и редки стихи, еще незрелые для новых мыслей.
Огонь тот мертв, над ним скромное мраморное надгробье. Но,
если бы и она, и моя любовь с теченьем лет до старости
дожили, как это случалось с другими влюбленными и поэтами, и я
бы продолжал совершенствоваться, то овладел бы оружьем
_ 576
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
стихотворным. А ныне я безоружен, стиль мой поседел, и мне
ли, прибегая к нему, разжалобить камни? и оплакать сладость
любви (di rime armato, ond'oggi mi disarmo, / con stil canuto
avrei fatto parlando / romper le piètre? et pianger di dolcezza)"
(сонет 304).
Отождествляя себя, поседевшего, и свой поэтический дар,
свой "стиль", Петрарка подготавливает прощание с "Канцонье-
реи размышлениями о том, что значит петь любовь спустя
десятилетия после смерти Лауры. В каком стиле?
"Стиль поседел".
Это становится так или иначе лейтмотивом.
2
"Глаза, о которых я говорил столь горячо, и кисти, и
руки, и ноги, и лицо, которые меня разлучили с самим собой и
сделали не таким, как другие люди (et fatto singular da Taltra
gente) <...> Теперь конец моей любовной песне: иссох родник
привычного дарования (de Г usa to ingegno), и [звуки] моей
цитры обратились в рыдание".
292-й сонет в миланской редакции 1356-1358 гг. заключал
вторую часть, а с ней, стало быть, и книгу в целом.
Прощание с Лаурой означает здесь прощание с любовной
темой, конец "привычного" песенного строя, перенастройку
"цитры". Смертью Лауры предопределено завершение "Кан-
цоньере". Но, собственно, почему?
Ведь сердце поэта по-прежнему переполнено любовью. В
этом смысле ничего измениться не может. Стихи к Лауре
сочинялись спустя и десять, и двадцать пять лет после скорбной
вести. Любовь за гробовой доской столь же трепетна и
бесконечна, что и в день первой встречи. Любовь, заверяет поэт,
пребудет неизменной по ту сторону и его собственного земного
существования.
Поэтому Петрарке не так-то просто оправдать и придумать
завершение книги.
Он прибегает к своеобразному риторическому приему.
Заметим, самотолкование целиком сводится на поэтику жанра.
Петрарка ссылается на обстоятельства сугубо стилистические.
Речь, как мы теперь выразились бы, о непроизвольном и непо-
19 - 345
577 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
правимом творческом кризисе, который обусловлен
непомерностью любви и печали.
Поразительно, с каким упорством и обдуманностью автор
проводит этот мотив. История любви напоследок опять
предстает как история сочинительства.
Петрарка поясняет, что ранее пел красоту Лауры, теперь
осталось только ее оплакивать.
Это звучит, казалось бы, очень просто. Однако в системе
риторических намеков и повторов на самом деле ничто не
бывает сказано спроста. Ищи реминисценций, топосов, скрытых
силлогизмов.
Сонет написан ради последней терцины, и она нарочито
неясна.
То ли сочинение стихов о Лауре придется продолжить уже
в совсем иной тональности и стилистике, ибо страстные
излияния сменяются траурной скорбью. То ли поэт отныне вообще не
в силах сочинять стихи к Лауре: стихотворство требует
светлого благозвучия, звонкости, прозрачности и гармонической
меры, а не безудержных глухих рыданий.
Ну, что за сплошной плач взамен поэзии?!
Петрарка в окончательной версии "Книги песен"
расчетливо использует оба хода.
Первый из них, это когда автор часто рассуждает о
воображаемой содержательной и стилистической перемене внутри
книги, и особенно после смерти донны. О перенастройке тона
и самой фонетики. "Звуки цитры моей обратились в
рыданье".
Поэт держит притом на уме и, как мы увидим, в
дальнейшем наращивает второй ход, призванный подготовить читателя
уже к полному прекращению книги. Источник любовных песен
иссяк, голос охрип от плача, перо устало.
И все это помимо религиозно-дидактической
необходимости прекратить неуместное оплакивание Лауры, чья душа
обрела посмертное блаженство. Более того, доводы от поэтики идут
в разрез с доводами набожными.
Любопытная фраза о том, что из-за любви поэт стал сам не
свой и выделился из толпы обычных людей, заставляет
вспомнить Данте - "того, который настолько тебя полюбил, что,
благодаря тебе, выделился из обычной толпы (quel che t'amö tanto,
_ 57S
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
I ch'usci per te délia volgare schiera - Inf., II, 104-105). Петрарка
в очередной раз перепевает Данте.
Но, по дантовскому смыслу этой формулы (равно и
заключительных песен "Чистилища"), любовь к Беатриче выделила
поэта потому, что вознесла к "новой жизни", к божественному
свету. И в конце концов побудила отправиться в мистическое
загробное странствование: последние слова "Новой жизни", как
известно, торжественно намекают на приступ к "Комедии", тем
самым обещая и вынося основной смысл "книжицы" - вовне.
Петрарка же, сильно приглушая мотив своего будущего
присоединения к Лауре на небесах, привносит совсем иной
акцент, в духе гуманистических штудий. Любовь выделила поэта
из обыденного человеческого ряда постольку, поскольку
подвигла к неустанным ученым трудам, а в самой "Книге песен"
сделала его соперником Гомера и Вергилия. Тут нет и не может
быть прорыва изнутри любовной темы к некоей будущей
главной книге, которая послужит продолжением "Канцоньере". Нет
переосмысления любви через сферы метафизические, надлите-
ратурные. Лирический сборник Петрарки, напротив, замкнут на
себя.
Это мир "Я". Отсюда трудность придания ему итоговое™.
И по той же причине трудно мотивировать прекращение книги.
Приглядимся, как последовательные смысловые движения
подготавливают концовку и выстраивают внутреннюю форму
книги из стилевых соображений и самооценок.
3
Дата написания следующего 293-го сонета неизвестна.
Однако он превосходно поставлен в окончательной редакции,
производя впечатление, будто создан в продолжение сонета
предыдущего, в пару к нему. Он тоже всецело состоит в
рефлексии сочинителя на "Книгу песен". Но сказанное в нем более
профессионально-конкретно, потому и более значительно.
Выше я его уже поминал, но вскользь. Между тем это один из
самых любопытных автокомментариев к книге как целому. И
очередной важный ключ к ее финалу.
"Если бы я мог подумать, что столь ценимыми станут мои
звучные вздохи в стихах, я, как только начал воздыхать, стал бы
19·
579 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
сочинять их гораздо чаще и в более изысканном стиле. (S'io
avesse pensato che si саге / fossin le voci de sospir' miei in rima, /
fatte l'avrei, dal sospirar mio prima, / in numéro più spesse, in stil
più rare.)
Умерла та, что заставляла меня говорить, была высшим
средоточием моих мыслей, и я не могу [сочинять так, как раньше].
У меня более нет столь тонкого напильника, чтобы
отшлифовать суровые и горькие стихи, сделав их вновь прозрачными и
светлыми.
И, конечно, [хотя] любое мое сочинение в те времена
писалось лишь для того, чтобы как-то смягчить горести сердца, а не
ради славы [хотя славу оно приносило].
Мне хочется плакать, но почестей этим слезам не ищу,
хотя и желал бы [по-прежнему] нравиться [читателям]. Но о ее
высокой душе я устало молчу (tacito stanco), она зовет меня за
собой".
В первом кватрене слышна смысловая перекличка со
вступительным сонетом. Окольцовывая, таким образом, сборник,
Петрарка вновь рассуждает о соотношении любви и
сочинительства.
Поэт не пренебрегает топосами Чино да Пистойя и Данте
(см. комментарий проф. Дотти). Благородная донна, или
Любовь, "заставили меня говорить". Что ж, весьма натурально и
традиционно.
Однако сперва певец Лауры заявляет, что писал бы
любовные стихи изначально "гораздо чаще и в более изысканном
стиле", если сразу же после встречи с красавицей мог бы
представить, какой их ждет успех.
Так топос о любви, побуждающей воспевать донну,
переворачивается. Мотивировка побудительных мотивов
сочинительства выглядит уже совешенно иначе: разработка столь богатой
поэтической жилы в русле нового сладостного стиля самоценна
для репутации автора.
Петрарка, по сути, пишет следующее. Он признается, что не
сразу оценил литературную ситуацию по достоинству. В
молодости нужно было бы гораздо чаще воспевать красоту Лауру и
тщательней отделывать жалобы на сердечные страдания. Дабы
чаще производить впечатление на публику. Это деловитое
замечание способно показаться излишне циничным или простодуш-
_ 580
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
ным. Но лишь в глазах тех читателей, которые, будучи
справедливо растроганы искренними терзаниями Петрарки, упустили
бы из виду, что это голос Я-автора.
Любовные вздохи, жалобы и восторги Петрарки не потому
столь хороши, что воспроизводят сильные непосредственные
переживания, а потому, что в них торжествует величайшая
авторская захваченное™. Литературная разработка возможности
утонченных сердечных переживаний заготавливает такую
возможность впрок для будущего, т. е. все более и более
самодостаточного индивида. Стихи потому и прелестны, что искусно и
свободно используют полный набор риторических приемов, то-
посов и пр.
Если правильно оценить новизну и силу писательской
рефлексии на то, что действительно выделило Петрарку среди
других людей и составило смысл его личного существования, то
признание в 293-м сонете мы, конечно, не сочтем ни циничным,
ни странным, ни самоироническим. Это значило бы воспринять
поэтику Петрарки анахронистически, вне историко-культурной
ситуации.
А ведь он правдив, раздумывая в книге над историей ее
создания. Взять хотя бы то, что, знай он заранее об успехе, сочинял
бы (букв, "делал бы") любовные стихи "в гораздо большем
числе"1 и сразу отделывал бы взыскательней. Как мы помним, это
совершенно подтверждается анализом численного
распределения стихов по времени сочинения: до приступа к книге лирики
в 1342 г. и после; до смерти Лауры и после.
Вот первый в ренессансной предыстории Нового времени
голос профессионального писателя.
Разумеется, тем не менее одновременно это риторический
ход. Читателю, которому были ведомы правила игры,
надлежало и принять сослагательное наклонение, и дополнить его про
себя изъявительным. Ибо Петрарка не упускал отделывать
написанные некогда стихи, которые он оценивает столь сурово, и
пополнял количество молодых стихов задним числом.
Так же, с большой крупицей соли, с характерной
двусмысленностью, следует понимать и прочие замечания. О написании
стихов на жизнь Лауры не ради славы; о стиле "Канцоньере"
как недостаточно изысканном; о том, что стихи на смерть
Лауры якобы слишком горькие, чтоб усладить слух читателей... хо-
581 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
тя хотелось бы, чтоб и они нравились... О том, что он писал их
"не ради славы", так как рассчитывать на это уже не смеет.
Все это риторика. Но не в том плоском смысле, что "на
самом деле" Петрарка думал наоборот. Нет, дело обстоит иначе и
сложней.
Петрарка, повторяю, абсолютно автобиографически
точен, - так, словно он давал интервью Эрнсту Уилкинсу, своему
замечательному будущему исследователю. The Making of the
"Canzoniere" так и разворачивалось.
Как всегда, поражает, что Петрарка, который испытывал
жгучий интерес к своим черновикам и потребность вести своего
рода дневник авторских усилий, в самих стихах придает
напряженную значимость хронологии, процессу сочинения, его стадиям.
Пройдет полтора века, и черта, у Петрарки впервые
выдавшая ренессансное мышление, явит себя с предельной полнотой
и чудовищной избыточностью в записных тетрадях Леонардо
да Винчи.
4
Итак, Петрарка ничего не придумал в этой
промежуточной концовке книги (точнее, одной из таких концовок).
Только не договорил.
Писал он действительно не просто ради славы, но прежде
всего ради радости писать. А радость в "ogni mio studio" была
неотделима от поэтической игры воображения. "Doloroso core",
придуманная любовь до гроба - неутолимое и упоевающее,
сладкое и горестное чувство - еще бы она не потрясала автора
стихов! Стихи постоянно подпитывали боль, служили ее
источником и, вместе с тем, усладой, полнейшим утешением.
О, "ради славы" - это было бы слишком примитивно и
традиционно для человека, который отождествил свое "Я" с
сочинительством ради сочинительства.
Но "не ради славы" вместе с тем самый обычный
риторический прием: косвенное утверждение чего-либо посредством
демонстративного отрицания, отнюдь не рассчитанного на
согласие читателя и тут же дезавуируемого.
Пожелание насчет более изысканного стиля стихов на
жизнь Лауры тоже совмещает в себе разные смысловые оттен-
_ 582
Сочинять и любить. Об авторском единстсе книги стихов к Лауре
ки. Во-первых, это признание общепринятой иерархии стилей,
в которой лирико-героическая и латинская "Африка" должна
бы принести автору наибольшее уважение потомков.
Во-вторых, это указание на то, что, тем не менее, "стилю" лирических
стихов тоже, благодаря таланту автора, доступны
изощренность, "редкостность", высота.
Как и в рассуждениях Петрарки относительно эпистолярия,
догма насчет трех стилей принимается со смелыми оговорками,
ее смягчающими и расшатывающими.
Наконец, ежели поэт по-прежнему хочет нравиться
читателям, то почему бы ему не ждать почестей также по поводу
траурной части книги? Замечание о "суровых и горьких" словах
взамен прежних, "прозрачных и светлых", - опять-таки
рефлексивный комментарий к подобающему изменению тональности
книги под занавес.
5
"Поистине мы пыль и тень (по замечанию Дотти,
букв, перевод из Горация), поистине страсть слепа и
разнузданна, поистине надежда лжива" (294:12-14).
Петрарке нужно поставить содержательную и
композиционную точку. Оправдать расставание с книгой. Он "устал", т. е
его перо устало (ср. 297:14, "questa stanca penna"). Лаура
призывает его к себе.
В мотиве усталости взаимно переливаются друг в друга
многие смыслы. Само собой, тут очевидный христианский
душеспасительный смысл. Усталость бренного тела, усталость
бессмертной души от земного странствия. Далее усталость от
скорби и слез, постылость жизни после кончины Лауры.
Но также и личное изобретение Петрарки: авторский мотив
плача вместо стихов, который готовится очень издалека. В
посылке 73-й канцоны, весьма существенной для понимания
систематической поэтики Петрарки, впервые сказано: "... I'sento già
stancar la penna / del lungo et dolce ragionar со Hei, / ma non di
parlar meco i pensier' mei". То есть: "я чувствую, что перо мое уже
устало долго и нежно взывать к ней, но мысли мои не устали
беседовать со мной". Стихи традиционно посылаются и
обращаются к донне, дабы снискать ласковое благоволение. Но Петрарка
заявляет, что любовные "мысли" (синоним "стихов") это, как мы
5Ö_
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
теперь выразились бы, его внутренняя душевная жизнь. Перо
устало тосковать и молить, но оно по-прежнему неустанно,
когда поэт поглощен солилоквиумом. Он пишет для себя.
Начало следующего, 74-го сонета подхватывает,
обыгрывает, переворачивает заключение 73-й канцоны.
"Я уже устал думать о Вас, хотя мысли мои [стихи] и не
устают к Вам взывать, я все еще жив, а то бы смог избежать
воздыханий столь тяжких. <...> Вот почему извожу чернила, вот
почему столько бумаги заполняю я Вами. И если в этом не
преуспел я, то виною Амур, а не просчеты искусства (non già defec-
to d'arte)".
Или в канцоне 105, тоже посвященной рассуждениям о том,
как соотносятся глубокие чувства и тонкие словесные
плетения, в которых они выражены и которые, "может быть, понятны
не всякому читателю":
"Я больше не хочу петь так, как привык, ведь она меня не
разумела, и это было для меня насмешкой <...> Кто сбился с
дороги, вернись назад, у кого нет ночлега, прикорни на траве" и т. п.
"Перебирая в памяти былые годы, я и смолкаю, и
продолжаю стенать (et vo contando gli anni, et taccio et grido)" (105:79).
В первой части канцоны сперва это усталость сердца и пера
от любовной тоски и безответности. Не сменить ли тон или не
бросить ли вовсе перо?
Потом приходит другая усталость, от оплакивания Лауры.
Оказывается, поэтический голос утратил прозрачность и
звучность, стал слишком жестким, охрип от рыданий.
Так не пора ли заканчивать книгу?
В целом, как было сказано выше, 292-й и особенно 293-й
сонеты подобны попытке послесловия к "Канцоньере" от автора.
Но будет и второе послесловие, уже окончательное.
6
Вернемся к вопросу о странном начале второй части,
где в последних редакциях "стихов на смерть Лауры" только в
268-й канцоне наконец-то выговорено: "Что делать мне? какой
совет подашь, Амур? Мне умереть бы сейчас самое время, я
зажился больше, чем хотел бы. Мадонна мертва, и с ней мое
сердце ..."
_ №
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
В предыдущем 267-м сонете, написанном, очевидно, после
получения Петраркой горестного известия из Авиньона, поэт
издает горестные возгласы, но так, словно Лауре лишь
угрожает смерть. "Вы наполняли меня надеждой и страстью, когда я
отдалялся от высочайшей радости живой, но ветер уносил мои
слова" (т. е. стихи). Она названа "живой"! А еще - "царственной
душой, самой достойной императорского трона, если бы не
сошла к нам слишком поздно" (7-8). Если бы в мире, который
она застала, еще существовал достойный ее римский
императорский трон.
В едва ли не самом известном сонете на смерть Лауры, по
обыкновению, означенной в виде лавра, равным образом
оплакана и смерть Джованни Колонна (3 июля 1348 г.). И даже
сначала обыграна фамилия кардинала, а вослед имя Лауры.
"Колонна" и "лавр". "Смерть, ты лишила меня моего двойного
сокровища (il mio doppio thesauro)" (269:5).
"Rotta e l'alta colonna e Ί verde lauro / che facean ombra al
mio stanco pensero", и т. д. То есть: "Рухнула и высокая колонна,
и зеленый лавр, в тени которых укрывалась моя усталая
мысль". "Mio stanco pensero" означает, как всегда, "мои стихи",
"усталую" Музу. "О, наша жизнь, с виду она так прекрасна, но
в одно утро легко утрачивается то, что приобреталось так
трудно в течение многих лет".
Сочинитель, таким образом, не сводится к влюбленному.
Его печаль не совпадает с традиционной печалью над гробом
красавицы. Ибо автор закреплен в своей особой
биографической ситуации. Это в его душе десятилетиями параллельно
укоренялись привязанность к другу-кардиналу и культ прекрасной
дамы. "Я" включает в себя "два сокровища", тем самым оно
объемней и живей обычного певца в сладостном стиле.
Введением к посмертным стихам стали два опуса, где на
первый план выдвигается не Лаура, не любовь, а сам
сочинитель, который кается в земной любви, признается в
неудержимости и преобладании в нем поэтического честолюбия,
соединяет в сердце своем Джованни Колонна и Лауру.
% —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
7
Изобретательно и занятно компонует свою
лирическую книгу старый Петрарка.
К примеру, 266-й сонет - третий опус "на смерть Лауры" -
сочиненный в 1345 г. и отредактированный в 1366 г. - это
типичное послание "по случаю" к кардиналу Колонна, с
извинениями по поводу очередной задержки с возвращением поэта в
Авиньон.
Вот так сюрприз!
"Мой дорогой синьор, все мои помышленья тянутся
преданно к вам, чтоб увидеть [того,] кого [мысленно] вижу всечасно.
Но фортуна моя (что она может худшее учинить?) держит меня
под уздцы, и вертит, и гонит [по свету]".
Впрочем, если первый кватрен и сонет в целом посвящены
другу, то уже второй кватрен содержит трогательное признание
в безотчетности иных, любовных переживаний. Терцины же
соединяют в сердце и стихах любимую и друга.
Неслучайно Петрарка спустя двадцать лет решает
поставить дружеское послание, некогда направленное живехонькому
адресату, посреди стихов, всецело ориентирующихся на
траурный 1348 год. 266-й сонет тем расчетливей подготавливает
прощальный, 269-й, что тема "двух светочей" (впоследствии "двух
сокровищ") появляется сперва вне какой-либо связи с
кончиной обоих.
"И вот из-за нежной страсти, которую вдохнул в меня Амур,
я на краю могилы, и это во мне безотчетно. Тщетно взываю к
двум своим светочам, днем и ночью вздыхаю о них, где бы я ни
был. Преданность синьору, любовь к донне (Carità di signore,
amor di donna), вот сопряженные со многими печалями путы,
коими связан я [тем сильней], что это ведь сам я себя заключил
в них. Зеленый лавр, благородная колонна, я вас в сердце ношу:
пятнадцать лет одну [т. е. "колонну"], восемнадцать лет другого
[т. е. "лавр"], и уже никогда этого мне не избыть".
Комбинацию преданности господину и любви к госпоже
Петрарка нашел готовой в традиции трубадуров. Поэту
достаточно было изменить акценты. Carità di signore - формула не
вассала, а друга, держащегося с почтением и достоинством.
Кардинал Колонна и Лаура живут в одном городе, Авиньоне,
_ 5S6
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
поэт на равном удалении от обоих, послание непринужденно
совмещает оба чувства.
Риторически обыграть имена тем легче, что и лавр, и
колонна - знаки вечности и славы. Лишь у одного Петрарки "лавр"
напоминает также о любовном томлении. "Лавр" звучит здесь,
как и во многих других случаях, не только как игра с именем
Лауры. И даже не только как знак славы певца любви. Но -
соседствуя с "колонной" - как обертон всей судьбы поэта.
При переработке сонета 23 года спустя и Он, и Она давно
мертвы, их унесла одна и та же чумная смерть в страшном
1348 г. Стало еще оправданней помянуть их обоих вместе. И,
нарочито указав в самом тексте датировку написания, поэт
тем не менее ставит сонет в начало мемориальной части "Кан-
цоньере".
Но притом сохраняет первоначальный непринужденный и
трогательный тон обращения к двум живым еще "светочам"
души. Так или иначе, привязанность к дорогому другу и
покровителю, привязанность к прекрасной даме сердца уравнены,
совершенно симметричны, поставлены в один ряд. "Un lauro
verde, una gentil colomna, / quindeci Tuna, et Paltro diciotto anni
/ portato ö in seno, et già mai non mi scinsi".
Отношения с Джованни Колонна были лишены той степени
поэтической условности, которая смущает в обращениях к
Лауре. Епископ Джакомо, полушутливо сомневавшийся в
реальности Лауры, уж в реальности своего брата-кардинала усомниться
не мог бы. Так что соединение одного "светоча" с другим
"светочем" придает существованию Лауры дополнительную
достоверность. С другой стороны, сугубая литературность упоминаний о
невыносимых любовных страданиях и воздыханиях поэта этим
же ходом выявлена откровенней.
Опять-таки наиболее наглядной скрепой поэтической ткани,
исходной предметной данностью приходится считать самого
автора. На первый план выдвигается не Лаура, не любовь, а
сочинитель, который кается в земной любви и признается в
неудержимости своего поэтического честолюбия. Это он, Франческо
Петрарка, соединяет в сердце своем Джованни Колонна и Лауру.
Только он волен свести в стихах по случаю "лавр" и "колонну", а
затем, подхватив 12-й стих 266-го сонета в начальном стихе
269-го сонета и прибегнув к хиазму, оплакать "колонну" и "лавр".
587 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
"Рухнули и высокая колонна, и зеленый лавр, которые
дарили тень моей усталой мысли (Rotta e Гака colonna e Ί verde
lauro / che facean ombra al mio stanco pènsero)".
Каждое слово здесь предельно многозначительно. Слово
"усталость" станет одним из лейтмотивов второй части.
Необычно то, что 269-й сонет - не только, по существу,
первый, но и самый известный сонет на смерть Лауры - этот же
сонет оплакивает и смерть Джованни Колонна. "Смерть лишила
меня моего двойного сокровища (il mio doppio thesauro)" (5).
Таким образом автор не растворяется в более или менее
условном влюбленном. Его "Я" обретает суверенную реальность,
ибо, включая в себя "двойное сокровище", становится тем
самым конкретней, достоверней, объемней традиционного
мотива оплакивания возлюбленной. Ведь единственный момент,
объединяющий столь разные поводы скорби, это имярек, поэт
Петрарка, скорбящий о возлюбленной и друге.
8
А что мы находим промеж двух сонетов к кардиналу
Колонна?
Это 267-й сонет, в котором своего рода мрачным
предчувствием звучит пятикратное "увы". Правда, пока еще по поводу
высокости "прекрасного лица", "ласкового взгляда", "нежного
смеха" и пр., невыразимых посредством какого бы то ни было
поэтического дара, который поневоле при виде Лауры
оказывается слишком грубым, диким, невзрачным ("ogni aspro ingegno
et fero / facevi umile..."). Как обычно, внутри стихов к Лауре -
стихи о стихах.
Между прочим, в седьмой строке помянута "империя", с тем
чтобы откликнуться эхом в "императорах" из траурного сонета.
Это, далее, канцона 268. В станцы канцоны автор вставляет
слово "колонна" (268:48-50), отнесенное пока к умершей
Лауре. Она была "опорой моей жизни" ("колонной"), во первых,
потому что поэт мог видеть ее, а во-вторых, "своим светлым
именем, которое так сладостно отзывалось в моем сердце". Лаура -
"колонна", ибо она "лавр". Петрарка на протяжении нескольких
стихотворений ставит оба слова в параллель и добивается
впечатления взаимозаменяемости.
_ 588
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
Без упоминания лавра, как сказал в "Сокровенном"
Августин, и впрямь у Петрарки дело не обходится даже в
похоронном плаче. Не упускает он заметить также, что "никакой
талант не смог бы передать словами его горестное состояние".
"Ingegno", "parole" - обязательные знаки для рефлективного
набора.
9
Это индивидуальное авторское сознание in statu
nascendi. Оно парадоксально возникает - что, впрочем, только
и делает его возникновение эмпирически возможным - в лоне
традиции, вообще-то такое напряженно-личное
самоопределение исключавшей.
Не смешивать с обычной осанкой сочинителя, который
знал, что его опус обеспечивает ему достохвальное место в
почтенном ряду. Писательская личная горделивость существовала,
разумеется, всегда. Да и вообще до Петрарки и Нового времени
литература не исключала Я-автора во многих конкретных
случаях - конечно же, нет! Но не знала авторства как
доминирующей и системной установки литературного и жизненного
поведения, как основания социально-психологической выделенно-
сти и сосредоточенности данного Я на себе.
Я-авторство утверждается в самосознании Петрарки тем
радикальней, чем более оно ощущает себя внедренным в готовые
авторитетные литературные формы. Чем дальше оно, на первый
взгляд, от себя, тем ближе в конечном счете к себе.
Петрарка создавал не столько действительно
индивидуально-непосредственные и обаятельно-особенные стихи - этого в
"Канцоньере", на более поздний вкус, почти нет, - сколько
косвенно набрасывал контуры такой поэзии для будущего. Каким
образом? Через общую компоновку книги, цементируемую
Автором вопреки ее "фрагментарности". Через личностное
интонирование общих мест и демонстративную писательскую
изобретательность.
Петраркисты будут ему формально подражать в течение
двух или двух с половиной веков, транслируя этот замысел
интимной лирики сквозь Новое время. Но и страшно забалтывая,
выхолащивая свежесть культурной инициативы Петрарки. Его
589 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОЮ ПЕРА
эгоцентрическое наитие будет осуществлено практически лишь
в последние два столетия. Пустотные формы для отливки,
заготовленные Петраркой, заполнились новейшей
индивидуализированной лирикой.
Он работает с жанром, имеющим, если вести счет от
провансальских трубадуров, более чем двухсотлетнюю историю.
Он озабочен и бесконечно меняет, совершенствует
архитектонику "Канцоньере" как целого. Вставляет новые стихи в
прежнюю композицию спустя подчас десятилетия. На каждом шагу
поглощен реминисценциями из античной и новой любовной, и
не только любовной, поэзии. Изысканно и причудливо
скрещивает их между собой в оксюморонах.
И по этой части он не первый, но до него столь богато
разработанной системы описания интимных переживаний -
сублимированных, хотя и не заключавших ничего
мистического, - просто не было. Так что она заслуженно получила
впоследствии название "петраркизма". Подобно тому, как уже
открытый континент будет заслуженно назван именем Америго
Веспуччи.
10
Из сонета 298, который был создан, очевидно,
достаточно поздно, в конце пятидесятых годов, и послан другу "Ле-
лию", Анджело Тозетти.
Quand'io mi volgo indietro a mirar gli anni
ch'ànno fuggendo i miei pensieri sparsi,
et spento Ί foco ove agghiacciando io arsi...
Перевести это можно так: "Когда я оборачиваюсь, чтобы
вглядеться в годы, через которые все бежали и бежали мои
разрозненные мысли и которые [в конце концов] погасили огонь, во
льду которого я горел ..."
С огнем любви, угасшим после смерти Лауры, а то и
раньше, по мере того, как оба старели, - с этим-то все ясно. В
сонете 315-м мы обнаружим на сей счет замечательные признания.
Петрарка рассуждает о том, что с годами его чувства настолько
остыли, стали вовсе чистыми и благоразумными, так что, если
_ 590
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
бы не смерть Лауры, они уже могли бы просто тихонько
беседовать. "Как старые друзья", выразились бы мы.
Вот редкое подтверждение, что в этой платонической любви
тоже была своя нисходящая динамика.
Но существенней иное. Что за бег "разрозненных мыслей"?
Почему Петрарка начинает очередную прощальную
ретроспективу своей любви с воспоминания об этих, на первый взгляд,
странно охарактеризованных "мыслях"?
Конечно, поэт не хочет сказать, что думал о Лауре от случая
к случаю. "Мысли" здесь, как и всегда, синоним "стихов"; равно
как и "вздохи". А стихи "Канцоньере" Петрарка во
вступительном сонете, как мы знаем, назвал этим же словом:
"разрозненные", rime sparse.
Эта столь важная для поэтики Петрарки формула обладает
смысловой аурой, к которой полезно присмотреться.
В сонете 90 непринужденно развеваются освобожденные от
покрывала, "разбросанные" золотистые волосы Лауры. Ветерок
играет ими и "закручивает в тысячи нежных сплетений"
("Erano i capei d'oro а Гаига sparst / che 'η mille dolci nodi gli
awolgea <...>). Разрозненность складывается в образ сложного
единства. Единое впечатление прекрасной золотистой копны
волос при том, что каждый волосок волен виться сам по себе.
Петрарка, следуя за древними, любил и повторял этот образ
(см.: Дотти, р. 276).
Это же определение отнесено к глазам Лауры: "О, розы,
разбросанные (rose sparse) средь нежных хлопьев живого снега"
(146:5-6).
Это же о звездном небосклоне ("stelle in cielo sparte" -
308:10).
Это же о едином многоцветье ("fior' di color mille / sparsi" -
192:9-10).
Это же о "рассеянном пепле" былого любовного жара
("сепеге sparso" -320:14).
Каждый раз - образ особого единства поверх отдельности,
пестроты и фрагментарности.
Все это, безусловно, откладывается в поэтической памяти,
когда Петрарка опять заводит речь о том, что книга составлена
из сочинений, написанных в разное время и по разным поводам.
Оглядываться назад и вспоминать любовь значит обозревать
свои любовные стихи.
591 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОЮ ПЕРА
И
Сонет 304 - следующий опыт прощания с любовью
сквозь призму автобиографического писательского
самосознания.
"Покуда сердце снедали любовные страсти и пламенем
любви я был охвачен, тогда искал я на уединенных и
отшельнических холмах рассеянные следы (le vestigia sparse) гордой тени".
Влюбленный поэт некогда писал в Воклюзе стихи о Лауре,
которая была еще жива. Vestigia, pensieri, rime, как и свободно
струящиеся волосы любимой, получают от автора сборника
нечто вроде постоянного эпитета, который их, разделяя,
соединяет: sparse.
Ср.: "в молодости дар мой и стихи были бедны для мыслей
новых, неокрепших (Pingegno et le rime erano scarse / in quella
etate ai pensier' novi e 'nfermi)".
Так Петрарка настойчиво и четко повторяет (а по времени
написания - очевидно, в 1350 г. - предваряет) данную в 293-м
сонете критическую оценку начального периода сочинения
любовных стихов, пока он не приступил в 38 лет к работе над
"Канцоньере".
Риторический и вместе с тем вполне реальный критерий
самооценки предопределил пожизненную шлифовку сборника.
Сила и зрелость чувств поверяется силой и зрелостью стихов.
История любви это история роста поэтической искусности.
12
"Я думал, что весьма умело (assai destro) удерживался
на крыльях [моего дарования], не их [собственной] силой, но
силой того, кто меня окрылил и поддерживает [в полете], дабы
воспел я прекрасные узы, от которых меня избавила Смерть и
которыми вяжет Любовь.
Но нахожу на поверку слишком вялой и слабой эту малую
ветвь, которую клонит к земле слишком великий вес. И сказал
я [себе]: - Ждет паденье того, кто взбирается слишком высоко,
не дано человеку свершить неугодное небу.
Никогда не сможет талантливое перо (penna d'ingegno),
даже владея высоким стилем и языком (stil grave e lingua), туда
_ 592
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
досягнуть, куда взлетела Природа, выткав основу моего
сладостного [стиля] (tessendo il mio dolce ritegno).
Это за нею Амур следовал, с попечением чудным украшая
те узы, которых я не был достоин даже узреть. Но такой уж
выпал мне жребий" (307).
В который раз стихи о любви в "Канцоньере" целиком
сводятся на оценку своего труда.
Поэт, кажется, вполне удовлетворен им. Настолько, что
Петрарка относит сделанное им к "высокому стилю и языку".
Приравнивает итальянские "безделицы" к латинской классике!
Но в человеческих ли силах свершить такое и достичь
совершенства? Разве он, Петрарка, каким бы ни было его
искусство, его "перо", "крылья" его дарования, мог бы без соизволения
свыше совладать со столь великой темой? Он, который был
недостоин даже лицезреть Лауру?
Риторическое оправдание торопится традиционно
разделить творческий триумф с Природой, с Любовью, заботливо
водившей пером поэта.
Природа и любовь - благословение и стимул авторства,
самого притягательного и сильного из всех целей и чувств,
владевших сердцем Петрарки.
13
"Та, из-за которой я променял Арно на Соргу" (308:1).
Довольно сильно сказано! - если учесть, что родители
переехали в Авиньон, когда Франческо был младенцем. Когда же он
перебрался в Воклюз, то променял на него отнюдь не Флоренцию,
но оставив как раз тот город, в котором жила Лаура.
Но вот она умерла и...
"С тех пор я многажды напрасно пенял веку, который явил
ее высокие красоты. Я рисовал их, воспевая своим пером,
любил и дорожил ими, хотя мой стиль (col mio stile) был не в
силах сполна воплотить красоту ее облика.
Ее достоинства были присущи ей одной и больше никому,
они в ней сияли, как звезды, рассыпанные в небе; я все же
дерзал обрисовывать (ombreggiare) то одно из них, то другое. Но
теперь, когда передо мной [задача описывать] только
божественную душу светлого и недолговечного солнца, побывавшего в
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
мире, на это [мне] недостает дерзости, таланта и искусства (ivi
manca / Wir, ïingegno et Vartëf.
Удивительно, что сонеты, которые были сочинены
предположительно в последний воклюзский период (1351-1353) и
один за другим упрямо разворачивают главную пружину
единства "Канцоньере", впоследствии были помещены автором
ближе к завершающим страницам сборника. То есть рефлексию на
свои авторские возможности и результаты Петрарка
сознательно сгущает и смещает к финалу. Это должно послужить
смысловыми и композиционными скрепами сборника.
Кажется не самым важным, что же именно он пишет и как
оглядывается на свои стихи к Лауре.
Риторические схемы, варьируясь, то настаивают на том, что
у книги есть своя история: первые лирические опыты были еще
слабы, мастерство пришло к нему много позже.
То подчеркивают, что хотя поэт овладел высоким стилем и
считает свои песнопения достойными предмета, заслуга должна
быть отнесена не к природному дарованию и мастерству самим
по себе, а к вдохновлявшей его Любви.
То скромно оговаривают, что все же передать всю красу и
достоинства Лауры его перу (подразумевается, вообще
человеческому перу) было не под силу.
То указывают, что после смерти Лауры поэтическая задача
стала куда как невыполнимей. Ведь теперь следовало писать
не о глазах или волосах, а только о душе Лауры. А уж на это
недостанет ни искусности, ни лирической "дерзости" (ср.
308:11).
14
"Дерзость" или "дерзновение", Tardir" - не менее
важная и частая категория, употребляемая Петраркой в этих
бесконечных рассуждениях о "моем стиле", чем "ingegno" и
"arte".
Ибо автор всегда сознает смелость художественных задач,
им перед собой поставленных.
Вспомним. Он раздумывает о том, в каком жанре поет свою
любовь. И поминает Каллиопу и Эвтерпу, т. е. то, что мы
назвали бы эпосом и лирикой, вместе. Он пытается сопоставить себя
_ 594
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
с Гомером, Вергилием. Но одновременно также с былыми
певцами любви, которые обретаются там, где должна находиться и
душа Лауры. На небе Венеры, в "третьей сфере".
15
309-й сонет содержит еще одну микропоэтику "Книги
песен". Напомню, что с него я начинал эту работу.
"Высокое и новое чудо, которое наши времена явили миру,
остаться в нем не пожелало. Небу было угодно лишь показать
его нам и вновь отобрать, дабы украсить им свои звездные
своды.
И оно возжелало, чтоб я живописал и показал его тем, кто
не видел. Амур с самого начала развязал мой язык и затем
тысячекратно побуждал воссоздать ее облик. Я безуспешно
положил на это свой талант, время, перья, бумагу и чернила.
Я не достиг еще высшего совершенства в стихах и про себя
сознаю это; это же испытал на опыте каждый, кто вплоть до
нынешних дней говорил и писал о любви. (Non son al sommo
anchor giunte le rime: / in me il conosco; et proval ben chiunque /
e 'nfin a qui, che cTamor parli о scriva.) Кто способен размыслить
об этом, тот, молча признав высокость, побеждающую любой
стиль, лишь вздохнет: - Сколь блаженны глаза, что ее видали
живо".
Опять риторика Петрарки, условно скрывая его истинные
авторские самооценки, тем выразительней и безусловней
одновременно их раскрывает.
Условна "безуспешность" (indarno) тысячекратных
писательских усилий.
Безусловен не лишенный пафоса и, кажется,
исчерпывающий перечень жизненных (талант и время), равно и
технических средств поэта (перья, бумага и чернила).
Условна последняя терцина, где сказано: совершенство
Лауры таково, что его не в силах достойно воссоздать никакой
"стиль".
Безусловно, пожалуй, только то, что он, Петрарка, не
считает, что достиг мыслимой вершины поэтического совершенства.
Действительно, иначе зачем было бы продолжать работу над
книгой. Кроме того, Петрарка попутно замечает, что вершины
595 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
не достиг никто из его предшественников в этом жанре. То есть
во всяком случае, чье бы то ни было превосходство над собой,
будь то Овидия или Данте, наш поэт не признал бы.
Как всегда, чем скромней он судит о своих трудах, тем выше
оказываются критерии и тем горделивей самооценка.
16
Сонет 315 (его хорошо перевел Вяч. Иванов) - одно
из существенных свидетельств некой слитной динамики
чувства и сочинительства.
"Вся моя цветущая и зеленая младость прошла в огне,
который тогда был нестерпим и сжигал мое сердце. Но вот я достиг
поры, когда на убыль жизнь идет и близится к концу.
Тогда мой дорогой недруг начала мало-помалу
освобождаться от своей недоверчивости, и ее нежная скромность
принялась обращать в игру мои горькие страдания. Уже
приближался тот возраст, когда Любовь ладит с Целомудрием, и
влюбленным позволительно сесть рядом и поведать друг другу, что с
ними случилось.
Но Смерть возревновала к этому счастливому состоянию,
на которое я начинал надеяться, и, враждебно вооружась,
отрезала путь к нему на середине моей жизни".
Здесь, как и в последующих двух сонетах, Петрарка
признается, что огнь желаний, который сжигал и разрушал его в
молодости, - в связи с Лаурой, как ему угодно было утверждать, -
во всяком случае, позже готов был утратить свою нестерпи-
мость и превратиться в галантную привязанность. В
риторическую привычку, сказали бы мы.
И Франческо, и Лауре перевалило за сорок. Что могло бы
им помешать, с улыбкой отнесясь к прежним поэтическим
выходкам Петрарки, "обратить их в игру" ("rivolgeva in gtoco mie
pene"l)? И тихо побеседовать при встрече.
Если бы не ее смерть.
17
Сонет 316:9-14. "Уже недолго было ждать, чтоб
возраст и седина изменили и нравы. Так что не было бы ничего
_ 5%
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
предосудительного в том, чтоб побеседовать нам о моем
злосчастье. С какими учтивыми вздохами я ей рассказал бы о своих
долгих мученьях, которые ныне, я уверен, с неба видит она и
все еще огорчается вместе со мною".
Косвенно Петрарка готов признать возможность
истолкования любовного пыла "Канцоньере" как некой "игры"! -
разумеется, литературной. Ах, каким интересным могло бы стать
изысканное обсуждение его стихов с предметом оных, с самой Лаурой.
Замечательные повороты темы "Канцоньере"!
Протекшие годы, его возраст и, наконец, особенно кончина
Лауры позволяют совместить в запоздалом признании
идеальную верность даме сердца и единственную наидостоверную
реальность поэтических опытов о любви.
"Спокойную гавань Амур указал мне после долгой и
пасмурной бури средь зрелого почтенного возраста, который снимает с
людей пороки, одевая в добродетель и честь. <...> Ведь теперь
изменились мы оба - и наши лица, и волосы" (317:1-4,14).
Очередной риторический ход, как обычно, дает читателю
некий смысловой люфт. Мы ничуть не позволим себе грубо
усомниться в том, что терзания Петрарки стали гармонически-
условными лишь с возрастом, а прежде пыл любви к Лауре был
нестерпимым. Иначе с реальностью чувства исчезла бы и "игра"
в него! Но появляется все же способ придать этим признаниям
обратную силу. И подойти к знаменитой любви с точки зрения
чисто поэтической. Без биографической дотошности, но в плане
экспрессивно-психологической убедительности.
Невинно обсудить, притом с самой возлюбленной в роли
первого читателя, свои чувства - значит отнестись к ним, как
истинным в особом смысле. Они выразительны, они искусно и
свежо высказаны, потому-то любовные страдания поэта
способны побудить Лауру ("незаинтересованно", как сказал бы Кант)
сочувствовать им. С другой стороны, подлинность не мешает
признать их "игрой" - решающее слово сказано! Притом самим
поэтом.
"Le mie lungfie fatiche": тоже звучит двусмысленно. "Fatiche"
в качестве любовных "страданий"? или также как авторские
"труды".
Игра Петрарки более чем серьезна. Это жизнь сердца,
взятая как воображаемая, экспериментально-возможная - и, следо-
597 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
вательно, в исторической перспективе готовая оказаться
индивидуально-конкретной, казусно-действительной.
18
Трогателен стих, которым Петрарка заключает 318-й
сонет: "Еще жив тот, кто зовет, но некому ответить".
Однако непосредственно перед этим значатся два слова,
которые, на наш нынешний вкус, едва ли не начисто убирают
трогательную непосредственность, которую мы поспешили
расслышать, потому что до нее охочи; зато снова вводят мотив, самый
существенный для Петрарки. "Тот, кто зовет", не просто
любящий, это сочинитель. И зовет он "в величавых и скорбных
выражениях", т. е. "зовет" значит "слагает стихи": <...> con gravi
accenti / è anchor che chiami".
Собственно, весь сонет только об этом. Ибо - опять -
говорить о Лауре значит говорить о лавре, т. е. о своих поэтических
занятиях.
Смысловая схема такая. Лавр пал, словно подкошенный
топором или ветром, его корни вывернуты на солнце, его листья
рассеяны по земле. Это значит: Лаура умерла. Но это также
значит: кончилась долгая полоса сочинения стихов на жизнь
Лауры. Поэтическая лира перестроена на новый лад, и
Петрарка не устает риторически формулировать новую задачу. Ныне
Амур избрал иной предмет для поэтических усилий, "иное
растение" (un'altra ch'Amor obiecto scelse), "вверив его во мне
Каллиопе и Эвтерпе" (subiecto in me Calliope et Euterpe). "Тот
живой лавр, в котором имели обыкновение свивать гнездо /
[мои] высокие мысли, тот лавр, чью прекрасную листву
никогда не волновали мои горячие вздохи, перенесся на небо. Но он
оставил корни в своем верном жилище" (т. е. в сердце поэта).
"Так что жив еще тот, кто зовет в величавых и скорбных
выражениях..."
Если ограничиться только последним стихом - это, как
заметил бы Де Санктис, чистейшая "поэзия". Простые и сильные
слова осиротевшей любви. Если же читать все с начала и
вместе, это риторическое рассуждение автора о Музах, которые "во
мне". Это не только сплошь "литература", с обнаруженными
комментаторами реминисценциями из Горация, Вергилия, Дан-
_ 598
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
те. Это к тому же "литература" не столько вокруг любви,
сколько вокруг литературы же.
Впрочем, только так в историко-психологическом контексте
эпохи, на непреложной основе литературных матриц, Петрарка
мог торить дорогу к поэтической непосредственности, к живому
чувству любовной потери и одиночества.
Положение, с учетом свойств нашего современного
восприятия, достаточно сложное. Нельзя, читая "Канцоньере",
слишком торопиться к выделению чистого "лиризма" в позднейшем
вкусе. Нельзя и слишком разочаровываться, находя холодок в
рассудочных рефлективных ходах, в риторических словесных
конструкциях. То и другое было бы подходом
анахронистическим.
Оригинальность поэзии Петрарки, очевидно, можно
ощутить наиболее адекватно лишь в створе между тем и другим.
Когда из замысловатого и тяжеловатого сонетного построения,
из размышляющего о ходе своей авторской работы эрудитского
"Я" неожиданно вырывается:
"Еще жив тот, кто зовет, но некому ответить".
19
Сонет 322 к епископу Джакомо Колонна был написан
между 1351 и 1365 гг. (см.: Дотти, р. 841), однако это отклик на
более давнее событие. Когда Петрарку короновали на
Капитолии, епископ поздравил его в "изящнейшем песнопении" (Пов-
седн., IV, 13:3), прислав сонет "Если части моего тела
разрушены". На автографе сохранилась приписка Петрарки: "мой ответ
много позже". В ответном сонете подразумевается кончина
адресата в сентябре 1341 г.
"Никогда мои глаза не останутся сухими, а душа спокойной,
при виде этих стихов. Кажется, что сама Любовь в них
сверкает и что их собственноручно сочинила Благость. Дух, которого
не сокрушила и юдоль земная, ты теперь на небесах вкушаешь
столь полный покой, что и [мой] стиль возвращаешь к
забытому [изяществу] стихов, от которого его увела Смерть. Я в
нежном возрасте намеревался тебе явить другой труд, и неужто
какая-то злая планета позавидовала этому, о мое благородное
сокровище? Кто преждевременно скрывает тебя от меня и запре-
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
щает видеть тебя? Но тебя видит мое сердце и чтит мое слово
(со la lingua), и в тебе, о сладостный вздох (dolce sospir), найдет
ли душа успокоение?"
Итак, Петрарка вставляет меж стихов на смерть Лауры
послание к покойному другу и, собственно, все содержание сонета
322 сводится к осмыслению и оправданию этого отклонения.
Стихи Джакомо Колонна при перечитывании вновь восхитили
его, Петрарку, ибо полны сочувствия, блеска, душевного покоя.
Они побуждают и его самого вернуться в этом ответном сонете
к ясному и изящному стилю прежних стихов, от которого его
увела Смерть (Лауры, конечно). Впрочем, тогда, "в нежном
возрасте", "я думал показать тебе другой труд". Речь об "Африке".
В заключительной терцине "сладостный вздох" означает не что
иное, как "сладостный стиль", каковым он был у Петрарки
якобы только в первой части сборника. Dolce sospir - это общее
место относительно стихов влюбленного и это самопределение
сонета к Джакомо ("слова в честь тебя"). "Душевное успокоение",
относясь к памяти о Джакомо, одновременно указывает на сам
сонет как на своего рода стилистическую передышку посреди
"хриплых" стенаний и криков.
Кроме того, Петрарка вряд ли случайно отвечает именно на
сонет, связанный с возложением на него в Риме лаврового
венца. И поминает "Африку". Демонстрируя, что его "стиль" не
потерял способности быть ясным и изящным и характеризуя
322-й сонет, как контрастное отступление от нового печального
стиля, поэт, автор вновь ставит вопрос о композиционно
предопределенном изменении языка книги.
Опять голова Петрарки занята соображениями о своем
писательском пути. Он расставляет в корпусе RVF стихи о стихах,
которые должны, осмысливая изменения в настроении и
звучании стихов (действительные или воображаемые и
декларируемые), придать книге единство.
20
Сонет 326:11: "et ft' al mondo de' buon' sempre in
memoria". Лаура навсегда останется в памяти добрых людей.
Конечно, благодаря поэту? "В этом своем торжестве ваше сердце, о,
новый ангел, там, наверху, будет побеждено моим поклонением,
_ 600
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
подобно тому как здесь, на земле, мое сердце было побеждено
вашей красотой".
Сонет 327:12-14. "И если я недаром верил в слово, / Для
всех умов возвышенных святая, / Ты будешь вечной в памяти
людской" (Перевод Е. Солоновича).
Сонет 329 о той же перестройке смысла и тональности
книги после смерти Лауры.
"...Сколько надежд унесено ветром! (Дотти отмечает вслед
за Кастельветро, что это перевод из Овидия.) Ибо на небесах
уже решено иначе, [чем мне мечталось) - погасить благодатный
мой светоч, которым я жил, и все то, что было написано в ее
сладостно-горьком облике. Но перед моими глазами стояла
завеса, не дававшая мне увидеть то, что я видел. Вот почему моя
жизнь внезапно стала гораздо печальней".
То есть некогда он смотрел, но не разумел.
Опять и опять появляется слово "усталость". Тут два
риторических плана, один прямой и очевидный, другой изощренный
и скрытый. "Усталая душа", "я устал" или "моя уставшая
жизнь" (331:16). Но это также "усталое перо"! Знак исчерпания
замысла и приближения к концу книги.
"Никогда мне не нравилась эта смертная жизнь (и это
хорошо известно Амуру, с которым я часто говорил об этом), если
бы только не она, которая была светочем ее и моим. После того
как на земле она умерла и возродился на небе тот дух, которым
я жил, - последовать за ним (если это было бы мне дозволено),
вот мое высшее желание" (329:25-30).
Петрарка может прочесть в облике мадонны то, что
собственноручно написано Амуром. Это можно понять
умозрительно, но и прямо: именно "прочесть" при встрече.
"Собственноручно Амур начертал слова благодати <...> Если бы мне
недостало моего слабого разумения <...> / я смог бы прекрасно
прочесть это на лице мадонны (avrei ben lecto)" и пр.
Писать и читать - метафора переносит на любовь то, чем
занимается поэт. И он словно бы обменивается стихами с
Лаурой, сочиняя за нее!
"Канцона, если человек обретает покой в своей любви,
скажи ему: - Умри же, пока тебе хорошо, чтобы смерть, когда
придет ей должное время, стала не скорбью, а прибежищем. Тот,
кто может умереть счастливым, пускай не медлит".
601 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
21
Но наиболее развернутое обоснование плачевных
изменений, свершившихся в содержании и стиле стихов на смерть
Лауры, Петрарка дает в 332-й сестине.
Посмотрим, как автор готовит нас к завершению книги.
"Моя благословенная судьба и счастливая жизнь, светлые
дни и спокойные ночи, и нежные слова, и сладостный стиль,
который обычно звучал в латинских и итальянских стихах (Ί
dolce stile che solea resonare in versi e 'n rime), внезапно
обратился в скорбь и слезы <...> Мои тяжелые вздохи не
укладываются в стихи, и моя жестокая мука превозмогает всякий стиль
(I miei gravi sospir' non vanno in rime / e Ί mio duro martir vince
ogni stile). <...> К чему же свелся мой любовный стиль? К чему
пришли стихи, к чему пришли созвучья, которым задумчиво и
радостно внимали благородные сердца [читателей]? Где
рассуждения о любви [которым они предавались] ночами? Нынче я
уже не говорю, не размышляю, а только плачу. Раньше мне
было дано, благодаря влюбленности, плакать так сладостно, что
это скрашивало нежностью самый горестный стиль. Я грезил о
ней ночи напролет, теперь же плач горше смерти и никогда не
обнадежит чистый и радостный взгляд, этот высокий предмет
моих незатейливых стихов.
Амур подал ясный знак моим стихам, когда обратил их к
прекрасным очам, а теперь он превратил стихи в рыдание, и
тяжко вспоминать радостные времена. Вот почему я вместе с
чувствами изменил и стиль <...> Сон бежит от меня
тягостными ночами, а привычные звуки избегают охрипших стихов,
которые способны толковать только о смерти, так что мое пение
обращается [просто] в плач.
Никто никогда не жил раньше радостнее, чем я, никто не
проводит теперь грустней и ночи, и дни, й это двойное
страдание удваивает стиль, который исторгает из сердца столь
слезные стихи...".
Тут надобно напомнить, что "двойная сестина" состоит из
двенадцати строф, которые в стихотворении держатся всего на
шести рифмах, расставленных в разной последовательности,
притом каждая расстановка рифм повторяется дважды.
Например, в первой и седьмой строфах, где и говорится об "удвоении
_ 602
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
стиха" (lieto - notti - stile - rime - pianto - Morte), затем во
второй и восьмой, в третьей и девятой и т. п.
Среди шести рифм две это "stile" и "rime". Так что мы
должны быть готовы встретить в каждой строфе рефлексию на
изменения в "Канцоньере" после смерти Лауры.
Раньше: "<...> Изысканные мысли я сплетал в стихи, Амур
мой слабый стиль возвысил. А ныне мой стиль столь жалостен,
что мог бы вызволить у смерти мою Лауру, как Орфей свою Эв-
ридику, и без стихов..."
Миф об Орфее и Эвридике в глазах Петрарки и его
современников символизировал силу поэзии. В таком случае, что
означает "senza rime"? Согласно Дотти, тут возможны два
толкования. Или "rime" значит "рифмы", т. е. Орфей не рифмовал свои
песнопения. Или, по Цингарелли, поскольку "слабый стиль"
Петрарки мог бы свершить то, чего добился своими чудными
песнями Орфей, дело именно в "жалостности", а не в качестве стихов.
Первое толкование, т. е. замечание о частности, которое
принижает вольгаре, явно отступает перед вторым, поскольку второе
соответствует одному из рефлективных лейтмотивов книги.
Так или иначе, мы продолжаем убеждаться, что сестина
сосредоточена на самооценке изменений в стиле книги после
смерти Лауры ("doloroso stile", "mutato sft'fe", "mie stanche rime").
Сестина заканчивается обращением к тем, кто читает или
сам сочиняет любовные стихи ("О voi <...> eh' ascoltate
d'Amore о dite in rime"). "Молитесь, чтобы Смерть меня не
сделала еще более глухим, избавив от несчастий и положив конец
стенаньям. Да переменится лишь раз тот прежний стиль,
который наводит тоску на каждого, а мне мог доставить такую
радость. Доставить радость, да, но лишь на одну ночь или на
очень мало ночей. И я прошу в [нынешнем] суровом стиле, в
заунывных стихах, чтобы плач мой был бы оборван смертью".
Тормозящее и завершающее книгу стихотворение. Но
книга, тем не менее, продолжает плавный и торжественный спуск в
соответствии с авторским риторическим планом, который
уточняется до последних дней жизни Петрарки.
22
Сонет 336: "Знай, что в тысяча триста сорок восьмом
году, шестого апреля, в первый утренний час, блаженная душа
603 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
покинула тело" - о том, как ему сообщили о смерти Лауры, и он
сперва не хотел поверить.
В так называемой "канцоне видений" (325) вдруг
происходит некое смешение Лауры с... Христом (см. комментарий
У. Дотти). Кажется, Петрарка пытается внести в книгу под
занавес мистический элемент, как в дантовой "Новой жизни". Но
попробуем выделить в последних трех с лишним десятках
опусов "Книги песен" наиболее оригинальную линию авторской
рефлексии, проследив мотивы стихов о стихах.
Петрарка вновь и вновь рассуждает о том, как непоправимо
изменился его "стиль".
Ах, эти душераздирающие, плачущие, стонущие, жалостные
стихи, разве могут они по-прежнему доставлять удовольствие
читателям? Но снова "изменить стиль" и вернуться к прежнему
изощренному светлому изяществу он не в силах. Это, конечно,
невозможно. Отчего дальнейшее сочинение стихов,
оплакивающих Лауру, становится излишним.
"Так ступайте, печальные стихи, к неумолимому каменному
надгробью" (333).
Сонет 339 - "Узнай, что это небо мне глаза открыло,
что [лишь ученый] труд и Амур мне дали крылья для полета
(studio et Amor m'alzaron Tali) <...> стиль не может
продвинуться дальше, чем позволяет природный талант (stilo oltra l'inge-
gno non si stende)".
Сонет 344 - "Плачу и пою, писать стихи иначе я больше не
умею (поп so piu' mutar verso), лишь впитываю в душу днем и
ночью печаль и выход ей даю в речах (per la lingua) и в
льющихся из глаз слезах".
Пожалуй, ключевой глагол заключительной части "Кан-
цоньере" это "MUTARE": по отношению к il verso, lo stilo, le
rime.
Снова4 и снова мы убеждаемся, что "изменение" стиля и
характера любовных стихов - важный предмет самих стихов.
Религиозная сторона ничуть не мешает этому мотиву быть
оправданием близящегося завершения славословий Лауре в плане
поэтики.
23
_ ш
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
24
"В этом своем торжестве ваше сердце, о, ангел новый,
там вверху будет побеждено моим поклонением, как здесь, на
земле, мое сердце было побеждено вашей красотой." Торжество
Лауры на земле состоит в том, что душа ее навсегда останется в
памяти добрых людей ("et fi al mondo de buon' sempre in
memoria" (326:11).
Благодаря поэту?
Конечно.
"И если я недаром верил в слово, / Для всех умов
возвышенных святая, / Ты будешь вечной в памяти людской"
(перевод Е. Солоновича).
Подстрочник: "И, если мои стихи чего-нибудь стоят (et se
mie rime alcuna cosa ponno), ты будешь чтима благородными
умами, и твое имя будут здесь помнить вечно" (327:12-14).
25
Сонет 329 о той же перестройке смысла и тональности
стихов после смерти Лауры. "...Сколько надежд унесено ветром!
(Кстати, Дотти отмечает вслед за Кастельветро, что это перевод
из Овидия.) Ибо на небесах уже решено иначе, [чем мне
мечталось] - погасить благодатный мой светоч, которым я жил, и все
то, что было написано в ее сладостно-горьком облике. Но перед
моими глазами стояла завеса, не дававшая мне увидеть то, что я
видел, вот почему моя жизнь внезапно стала гораздо
печальней". Он видел глазами, но не увидел умом.
26
"Заставили любовь и скорбь, чтоб речь моя не шла
путем, которым ей, упившись жалобами, идти не след бы". Надо
радоваться смерти Лауры, а не скорбеть. Она на небе. Смерть
ее - это счастье. Поэт хочет тоже присоединиться к ней "и
увидеть там моего Господа и мою донну.
Зачем говорить о той, которую я пел, сгорая от любви, то,
что, будь это правдой, было бы нечестивым. Мое преступное со-
605 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
стояние должна бы очень успокоить эта блаженная, пусть
сердце утешится, видя, что она в такой близости к Тому, кого при
жизни всегда носила в сердце" и пр. (345).
То же самое опусы 346-349.
27
Сочинительская тактика Петрарки в стихах на смерть
Лауры:
Он не может писать по-старому, а новые стихи - это уже
сплошной плач, не пора ли завязывать? - изменение стиля и
прощание с любовью.
Его стихи уже достигли высокого стиля и прославят навеки
Лауру - дело сделано.
Надо не плакать, а радоваться и ждать смерти, чтоб быть с
Богом и Лаурой.
Любовь была заблуждением, надо славить высшее, и в
заключение поэт обращается не к Амуру, а к Деве Марии.
Стилистика, впрочем, верна себе до конца. Деву он славит в
тех же выражениях и даже извиняется однажды за это.
Сонет 354:2 - io stile stancho et fraie", "усталый и слабый
стиль". Тут опять-таки двойной смысл: усталости от земного
существования ("фрале" значит также "бренный"), "il mio stanco
riposo" (356:1), поэт изнемог от печали и слез; но и мотив, что
стихи превращаются просто в плач, становятся, как сказали бы мы
сегодня, слишком монотонными, приходится повторяться и пр.
Все то же. Теперь его стихи лишены прежней сладостности,
и пр. Таким образом, осмысляется не просто фабульно, что
книга делится на два раздела. "Усталость" стиля означает его
исчерпанность.
Параллельно высказываются также иные мотивы, по
которым книгу надо заканчивать. Нечестиво слишком оплакивать
смерть Лауры, чья душа покоится близ Бога (357-358). Она
зовет его к себе, а он зовет смерть.
Обращение к Амуру: "Помоги мне, синьор, чтоб мои речи
удостоились ее похвал". Тот отвечает: "достаточно того, что
<...> ты пишешь, плача (tu piangendo scrivi)" (354:14).
Перелом - и еще два завершения. Но еще не конец. Как в
позднейшей музыке, эффект предварительных окончаний, об-
_ m
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лаур
манывающих и еще более напрягающих ожидания слушателей.
Это канцоны 359 и 360.
Лишь после них следуют пять покаянных сонетов и
действительно заключительная молитвенная канцона к Деве Марии.
28
В канцоне 359 он ложится в постель, "чтоб дать покой
своей усталой жизни (a la mia vita stanca)". Здесь отмечают
наибольшее сближение Лауры с Беатриче, здесь Петрарка наиболее
зависим от Данте.
Лаура в дальнейшей беседе с ним во сне: "Из ясного неба
эмпирея, из тех святых краев я удалилась и пришла сюда
только для того, чтобы тебе соболезновать". Петрарка благодарит ее
и спрашивает: "Но откуда ты узнала о моем состоянии?" Из-за
"волн плача", которые доходят до небес и беспокоят там Лауру.
Она говорит ему: если бы ты любил меня так, как показываешь,
ты не стал бы слишком печалиться. "Тебе не нравится, что я
ушла из этой жалкой жизни и пришла к жизни лучшей." «Я
отвечаю: "Оплакиваю лишь себя самого, ведь я остался в
потемках и мученьях"*. Он не сомневается, что Лаура на небесах. "Но
что я, несчастный и одинокий, еще могу, если не плакать
постоянно, ведь я без тебя ничто" (34-35).
Лаура отвечает: "следуй за мной, если ты действительно так
меня любишь, и наконец-то собери что-либо с ветвей этих
деревьев".
Петрарка спрашивает, что же это за два дерева?
«И она: "Ты сам себе ответил на это своим пером, ты, чье
перо в такой чести. Пальма это победа, ведь я, будучи еще
молодой, победила весь мир и себя самое; лавр же означает триумф,
которого я не достойна"* (47-51).
Петрарка интересуется, по-прежнему ли у Лауры те
золотистые волосы пышной копной, которые до сих пор пленяют его
сердце. Лаура наставительно отвечает, что не нужно
заблуждаться вместе с глупцами и говорить, уподобляясь им. Ибо ведь
"дух бесплотен". Но тем не менее: "Радуйся, я еще прекрасней
прежнего. И вытирает руками от слез мое лицо. После чего она
удаляется, и с нею сон".
607 _
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
29
Канцона 360 подытоживает, как отмечал еще Кроче,
"Канцоньере" и вместе с тем начинает покаянный финал. Это
традиционная "пря": поэт спорит с Амуром, предстоя перед
донной. Сначала обстоятельные самообвинения Франческо.
Затем Амур отвечает.
"Этот человек в юности был отдан учиться искусству
продавать слова и даже ложь, притом не видно, чтоб он этого
стыдился. Когда же мои услады отвлекли его от этой докуки, тут-то он
жалуется на меня <...> Сладкую жизнь, которую я ему дал, он
называет ничтожной. Он добился некоторой славы только
благодаря мне, ибо его ум возвысился до высот, которых сам
никогда не достиг бы. Он знает, что Атрид, и высокий Ахилл, и
Ганнибал - все любили на вашей земле, и особенно явственно
первый из них. Те пренебрегали доблестью и фортуной, каждый
соответственно влиянию своих звезд, и впадали в низкую
любовь к наложницам. А этому довелось из тысяч избранных,
великолепных женщин избрать одну, равной которой не видели
под Луной" и пр.
И горделивое резюме своего поэтического жребия и самой
"Книги песен":
"Я так мощно поддержал его крылья в полете, что доннам и
кавалерам нравились его стихи. Я позволил ему взлететь так
высоко, что среди самых горячих любителей поэзии заблистало
его имя, и кое-где его сочинения принялись собирать с
удовольствием. А кем бы он был без меня? может быть, неотесанным
судебным болтуном, человеком толпы. Это я возвысил его и
очистил от будней тем, чему научился он в моей школе -
благодаря той, что в мире была вне сравнений.
(Si l'avea sotto Tali mie condutto,
ch'a donne et cavalier* piacea il suo dire;
et si alto salire
11 feci, che trà caldi ingegni ferve
il suo nome et de suoi detti conserve
si fanno con diletto in alcun loco;
ch' or saria forse un roco
mormorador di corti, un huom del vulgo:
_ 60S
1 Γ exalto et divulgo,
per quel ch'elli 'mparô ne la mia scola,
et da colei che fu nel mondo sola)
Этими приподнятыми словами о славе и достоинстве
жребия поэта, в сущности, и заканчивается "Книга песен".
Итак, у нее несколько смысловых и композиционных
развязок, как и не одно начало у книги в целом и у второй ее части.
Для нас особенно важно данное завершение. Амур указывает не
только на нравственные и набожные долги ему Петрарки, но и
на авторский долг поэта, который стал славен, благодаря книге
любовных стихов к Лауре.
30
Разрешу себе еще один повтор, испытывая
потребность в переформулированиях. Ренессанс не простой переход
от традиционалистских культурных форм и вопреки им к
новоевропейской мутации. Ренессансная переходность
осуществилась как движение изнутри традиционных представлений,
ценностей, общих мест. Как смысловой и структурный сдвиг
традиционализма. Отсюда вся ускользающая тонкость
разборов, избыточность оценок, а заодно томительная потребность
историка культуры что-то "досказать".
Петрарка "первый гуманист" постольку, поскольку он
первым создал логико-культурную парадигму подобного сдвига.
Благодаря бесконечному погружению в римских auctores,
включению себя в их число, приживлению себя к античности, -
потому-то его архимедовым рычагом и послужила рефлексия
на себя как Я-автора.
31
"Книгу песен" внешне заключает канцона 366,
написанная, как предполагают, в конце 60-х годов, и
присутствующая уже в шестой редакции. В рукописи приписка Петрарки:
"in fine libri ponatur" - "поставить в конец книги" (Уилкинс
1951, р. 177).
Кардуччи сказал, что перед нами "одновременно лауда,
гимн и элегия". Уго Дотти признает выразительность этого
20 - 345
m —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
замечания, но явно не придает ему строгого жанрового
значения.
Это своего рода эпилог, который, как и полагается, вынесен
за пределы любовной темы "Канцоньере". В молитве к Деве
Марии автор помышляет только о святом, и Лаура в ней лишь
повод для покаянного воспоминания (111-117): "Медуза и мое
заблуждение обратили меня в камень, истекающий
бесполезными слезами. О, Дева, ты наполняешь мое сердце слезами
святыми и благочестивыми, пусть же хотя бы последнее рыдание
будет набожным...".
"Дева, я очищаюсь и обращаю во имя твое и мысли, и
талант, и стиль, речи и сердце, слезы и вздохи. Направь меня на
лучший путь и снизойди к моим изменившимся желаниям
(Vergine, î sacro et purgo / al tuo nome et pennen e 'ngegno et stile,
/ la lingua e%l cor, le lagrime e i sospiri. / Scorgimi al miglior guado,
/ et prendi in grado i cangiati desiri)".
Как же мала земная смертная любовь в сравнении с
любовью к Богу (366:121-123)!
Хотя Петрарка выговаривает все эти христианские общие
места искренне, как и подобает глубоко верующему, для меня
существенна не "идеологическая" сторона финала. При том, что
такой финал не столько усиливает, сколько снимает прежний
оттенок спиритуализации Лауры (ср. с 325-й "канцоной
видений"). Это отмежевание любви к Лауре как совершенно
земного удела от стильновистов и тем более от Данте.
Любопытно, что Петрарка сразу же решил поставить такую
канцону в конец книги. Хотя он и впредь продолжал писать
любовные стихи, но вставлял их в другие места композиции. То
есть: в набожной концовке есть и сугубо писательский расчет.
Поставить самую последнюю точку, оборвать плач по Лауре,
одновременно не умаляя его, можно только другим плачем,
"святыми слезами" покаяния. "Дева в земле, и это ввергло в
скорбь мое сердце, но и когда она была жива, [тоже] заставляла
меня плакать. За тысячью своих [сердечных] бед я не понял
еще одной [возможной] беды. Дабы ее понять, надо было, чтоб
случилось то, что случилось. А ведь всякое иное ее поведение
было бы для меня - погибелью, а для нее - позором".
"Дева, сколько слез я уже пролил, сколько было
обманчивых надежд и напрасных молений, лишь на вящую муку мою и
_ 610
Сочинять и любить. Об авторском единстве книги стихов к Лауре
тяжкий ущерб. С тех пор, как я родился на берегах Арно и
странствовал то в одном, то в другом краю, моя жизнь была
ничем иным, как заблуждением. Красота смертной женщины, ее
движения и слова, заполонили всю мою душу. Дева святая и
благодатная, не медли же, ведь этот год, может быть, уже
последний для меня" (79-88).
32
Перед этим пять покаянных сонетов, готовящих
последнюю канцону. Но сочинялись-то они в разное время! И
сперва они шли под номерами 357-361, т. е. после них
сочинялись и другие опусы, но вставлялись в другие части книги. Она
все росла, а финал соответственно отодвигался.
Открывает эту серию сонет 361, который включен в книгу
только для заключительной редакции 1373-1374 гг. Дата
первоначального написания неизвестна (Дотти, с. 957).
Поразительный довод в пользу предположения, что с
возрастом тема стала требовать все большего напряжения от
стареющего автора, заключен в самих стихах.
«Часто мне говорит мое нелживое зеркало, усталая душа, да
и вид, который уж не тот, да и тело, утратившее ловкость и
силу: "Не скрывай больше, каков ты: ты ведь стар. Подчиниться
во всем Природе было бы лучшим, к этому принуждают годы,
которые на ее стороне". И тогда внезапно, как вода заливает
огонь, пробуждаюсь от долгого тяжкого сна. И вижу с такой
ясностью, что наша жизнь пролетает и что побыть на земле
нельзя более, чем единожды. И вот в сердце звучат слова о Ней.
Ныне она уже рассталась со своим прекрасным обличьем. Но в
свое время на этом свете она была несравненна и, если не
заблуждаюсь, затмила славой всех других».
Сонеты 362 и 363 (со сходным содержанием), по Уилкинсу,
следует отнести к Парме, конец 1347 - лето 1351 (р. 352). В
первом из них поэт сообщает: он так часто мысленно бывает с
Лаурой, пребывающей на небесах, что как-то ему показалось,
будто она ему сказала: "Друг, вот теперь я тебя люблю и теперь
одобряю тебя, ибо ты переменил свои обыкновения и саму
кожу". Франческо просит забрать его душу к ней и к Господу.
Лаура отвечает, что, если такова его участь, а она предрешена, то
20·
611 —
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРА
пусть свершится хотя бы и "через двадцать или тридцать лет;
тебе кажется, что задержка была бы слишком велика, однако
это не много".
Жизненные сроки им были угаданы поразительно точно.
Гораздо позже Петрарка подключил все эти опусы к еще
двум покаянным, увенчав канцоной 366.
Вышло славно: с нарастанием финального тона. Меня более
всего тут занимает последовательная композиционная воля
автора вопреки большим временном перерывам.
Ведь следующий сонет 364 написан лишь спустя лет десять:
как указано в нем самом, 6 апреля 1358 г.
"Амур держал меня в огне двадцать один год, я радостно
сгорал и в печали был исполнен надеждой. После того как
мадонна вместе с собой и мое сердце унесла на небо, я проплакал
еще десять лет. А теперь я устал ..."
Устал любить? Да...
Но, может быть, устал писать о любви.
Очередная концовка сборника.
Десятилетие после смерти Лауры не повод ли задуматься
над тем, что "книгу фрагментов" пора завершать? Раздумья над
старостью, скудеющим чувством, усталостью опять вводятся
внутрь книги, поддерживая ноту неустанной личной рефлексии.
Сонет 345 - "Заставили любовь и скорбь, чтоб речь моя не
шла путем, которым ей, упившись жалобами, идти не след бы".
Надо бы радоваться смерти Лауры, а не скорбеть. Она на небе.
Смерть ее - это счастье. Поэт хочет тоже присоединиться к ней,
йи увидеть там моего Господа и мою донну" и пр.
"Зачем говорить о той, которую я пел, сгорая от любви, то,
что, будь это правдой, было бы нечестивым. Мое преступное
состояние должна бы очень успокоить эта блаженная, пусть
сердце утешится, видя, что она в такой близости к Тому, кого при
жизни всегда носила в сердце" и пр.
Это тоже, конечно, концовка. В том же духе.
33
Но мы накрепко запомнили и другую. "Если мои
стихи чего-то стоят (et se mie rime alcuna cosa ponno), ты будешь
чтима благородными умами, и будут помнить вечно твое имя в
этом мире" (327).
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ
РИТОРИКА
И ПОИСКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
. /*f'~
Странности
ренессансной идеи
'подражания"древним
Ложь, что мысли повторяются. Каждая
мысль нова, потому что ее окружает и
оформливает новое.
Александр Блок
Письмо Петрарки к Боккаччо
В 1306 г. Петрарка посвятил письмо к Джованни
Боккаччо тому, что "никакое сочинение нельзя отделать настолько,
чтобы в нем не осталось ни единого изъяна". В подтверждение
этого ностальгического тезиса, вынесенного в заголовок, старый
поэт рассказывает некую историйку из собственного недавнего
опыта. Эпизод полон для него волнующего интеллектуального
драматизма, напряженной поучительности. Поэтому, если
вчитаться в письмо Петрарки, кое-что, нужно полагать, прояснится
и для нас. А именно: в чем состояла для гуманистов проблема
"подражания" древним.
Античным авторам подражали, само собой, и до Петрарки, в
течение тысячи лет более или менее подражали всегда.
Однако - что уже крайне симптоматично и существенно -
сознательной культурной проблемой "imitatio" стало лишь к середине
XIV в., с началом итальянского Возрождения: и в эпистоле, о
которой пойдет речь, это происходит, можно сказать,
прямо-таки у нас на глазах1.
У него, Петрарки, вот уже два года служит секретарем
скромный и весьма способный юноша, помогающий разбирать
бумаги и переписывающий его основной эпистолярий, "Книги о
делах домашних" ("Familiarium rerum libri"), ясным и четким
почерком, о преимуществах коего перед прежней вычурной
каллиграфической манерой Петрарка не упускает обронить по-
615 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
путно несколько фраз. Юноша не только поразил однажды
патрона тем, что за 11 дней выучил наизусть, без запинки, все
12 буколических эклог Петрарки. Но и сам секретарь пробует
силы в латинской поэзии, причем, по мнению привязавшегося
к нему Петрарки, многообещающе. Правда, по незрелости лет у
него не всегда находится, что сказать. "Но то, что он хочет
сказать, говорит изящно и достойно". Чего молодому человеку
пока недостает, так это оригинальности или - как нам теперь
назвать? - творческой индивидуальности, что ли. Впрочем, по
формулировке самого Петрарки: «Он, как я надеюсь, закалит
дух и стиль и сумеет выплавить из многого - единое, свое
собственное, не скажу избежит подражания, но скроет его таким
образом, чтобы выглядеть ни на кого не похожим, но пусть
кажется, что он извлек из древних писателей и "принес в Лаци-
ум" нечто новое*2.
Уже от порога Петрарка успел выразить мысль достаточно
странную, не так ли? - по крайней мере, с точки зрения иной,
будущей системы представлений. У нынешнего читателя сразу
возникает неизбежное недоумение. Пожалуй, мы несколько
поторопились заговорить об "индивидуальности" - не только
потому, что слово это будет неизвестно еще и два столетия
спустя, но особенно потому, что в понятия "своего собственного",
"ни на кого не похожего" и "нового" основатель итальянского
гуманизма явно вкладывал какой-то двоящийся, неадекватный
буквальному значению, не совпадающий с собою же смысл.
Из этих понятий выходило, что сделать античное не вполне
узнаваемым - значит создать новое; чтобы стать оригинальным
поэтом, нужно уметь мастерски скрыть подражательность;
"казаться", "выглядеть" самостоятельным - совершенно то же,
что и действительно им быть.
Юноша более всего и, конечно, справедливо восторгается
несравненным Вергилием. «Плененный этой любовью и
обольщением, он часто вставляет в свои стихи отрывки из него; я же,
с радостью наблюдая, как он мужает рядом, хочу, чтобы он стал
таким, каким я и сам жажду быть, и доверительно, отечески его
предупреждаю, пусть подумает над тем, что делает: тот, кто
подражает, должен постараться написать похожее, но не то же
самое, и этому сходству надлежит быть не таким, какое бывает
между портретом и человеком, изображенным на портрете, ко-
_ 616
Странности ренессансной идеи "подражания" древним
гда, чем похожей, тем похвальней для художника, - а таким,
как между сыном и отцом. Ведь между ними часто большая
разница в членах, однако некая тень, которую наши живописцы
называют "воздухом", заметная в лице и в глазах, создает
сходство, так что при виде сына тотчас на память приходит отец, хотя
ведь, если бы свести дело к измерению, все оказалось бы
разным; я уж не знаю, какая тайная сила дает здесь себя
почувствовать. Так и нам следует заботиться, чтобы при некоем
подобии многое было непохожим и чтобы само это подобие было бы
неявным и открывалось бы лишь молчаливому
умопостижению, поскольку его, скорее, можно уразуметь, чем высказать.
Итак, должно пользоваться чужим дарованием и красками, но
воздержаться от заимствования слов; ведь в одном случае
подобие таится, в другом же - бросается в глаза; в одном случае оно
делает поэтов, в другом - обезьян*3.
Таков этот достаточно известный пассаж о "подражании".
Перед нами, можно сказать, логический отправной пункт ре-
нессансных поисков культурного самоопределения индивида
по отношению к античной традиции. Творческий деятель ее
"возрождал", вскармливал ею себя; но именно себя, дабы, в
конечном счете, посредством подражания выйти за пределы
подражательности, так что средство парадоксально применялось
ради цели, ему противоположной. Но не так, чтобы эта вдруг
замеченная противоположность попросту разводила средство и
цель в разные стороны; тогда, собственно, никакого парадокса
и не было бы, а только противоречие. Напротив, чтобы
подлинно подражать античности, требовались "свое собственное" и
"новое", которые давали о себе знать как раз в уровне и
глубине усвоения классического наследия. Нужно было сначала
"закалить дух и стиль". Иметь, что высказать. То есть цель -
"свое собственное" - была вместе с тем средством
осуществления того, что было средством для нее. Оригинальность и
подражание, цель и средство менялись местами. Иначе говоря, они
совпадали - тончайше смешивались, сплавлялись - и тем не
менее оставались насыщены напряженно
противоборствующими, разнонаправленными смыслами.
В письме Петрарки далее следует сравнение - из Сенеки -
сочинителя с пчелой, которая "из многих и разных" цветов
извлекает "единое", притом ииное и лучшее". Это сравнение не слу-
617 _
часть третья, гуманистическая риторика и поиски индивидуальности
чайно станет затем одним из самых любимых и показательных
общих мест в идейном инвентаре гуманистов Кватроченто.
Попробуем выделить в рассуждении о сходстве "между
сыном и отцом" наиболее важные мыслительные оттенки и ходы.
И додумать их в плане исторической культурологии.
Во-первых. Ясно, что столь бурно доказывать
недопустимость дословного переписывания у других авторов можно было
только перед лицом пока еще привычной для окружающих
средневековой схоластической ситуации, когда граница,
отделяющая свой текст от чужого, принципиально представлялась
малосущественной. Это не значит, что средневековый писатель о
такой границе вовсе ничего не подозревал или что подобная
ситуация обязательно исключала авторское самолюбие. Но это
значит, что такое самолюбие не могло основываться на идее
личного творчества и самовыражения. Даже на деле
высказываясь по-новому или ставя прежнее в новую связь,
средневековый сочинитель проводил анонимную или (что в данном
случае одно и то же) всеобщую истину. Личное достижение
автора, как и христианский "персонализм" в целом, в том и
состояло, чтобы добиться наибольшей адекватности абсолюту и,
значит, наибольшей и более всего ценимой надличностности,
торжествующе уверенной смиренномудрое™. Мысли и слова
восходили прямо или косвенно к единому, божественному
источнику. У них был, в конечном счете, лишь один хозяин. В этом
смысле понятия авторства не существовало. Верную мысль
естественно было выписать и вставить в свой текст без ссылки.
"Общее место" принадлежало всем и каждому, его нельзя было
украсть, а только перенести. Цитата, не выделенная в качестве
таковой, ничуть не присваивалась и не скрывалась, она, словно
бродячий монах, сама находила новый ночлег. Предметом
законной гордости писателя было то, что позже сочли бы
компиляцией или даже плагиатом. Ссылка имела, конечно, важное
значение или для того, чтобы подчеркнуть авторитетность пер-
вотекста, с которым стремился породниться новый текст, или в
полемике с мнением оппонента. Слово воспринималось как
чужое, только будучи чуждым. Чаще всего - еретическим,
греховным, непременно ложным. Согласие же стирало границу и
дистанцию между чужим и своим. В том числе между собой и
древностью.
_ m
Странности ренессансной идеи "подражания я древним
Все это, впрочем, теперь понятно медиевистам. Давно
отказались от анахронистических критериев и усмотрели в
средневековом "плагиате" вовсе не плагиат, а систему ценностей,
отличную от нашей. Соответственно и первая ренессансная
реакция, с патетическими призывами Петрарки не заимствовать
целых кусков из Вергилия, кажется легко объяснимой. Хотя
звучит для нашего уха поразительно наивно - именно потому, что
поэт ратует за то, что впоследствии стало слишком принятым.
Заявления о недопустимости плагиата производят впечатление
исторически-характерного, но элементарного штриха
возникающего ренессансного мышления. (Правда, у Петрарки эта идея
тут же смещается в гораздо более интересный и
парадоксальный срез, однако об этом - несколько ниже.)
Во-вторых. Более содержательно и сложно выглядит пет-
рарковский способ толковать новизну. (Как всегда, проще
выделить и понять страшно далекое, экзотическое, чем
сравнительно близкое и как бы похожее на нас, но все-таки глубоко
иное.) Петрарка хочет такой современной поэзии, которая
напоминала бы об античной, но ее повторением никак не была бы.
Нужно сочинять нечто похожее, но не то же самое, а свое.
Тогда остается разъяснить только две вещи: на чем же при
столь своеобразном подражании будет основываться сходство с
великими образцами и на чем - несходство с ними? Петрарка
напряженно нащупывает загвоздку, но ему плохо даются
ответы на оба вопроса, которые неизбежно сходятся в один вопрос.
Что это за такое странное сходство-несходство?
Поэт с силой подчеркивает небуквальность, неуловимость
"сыновнего" уподобления древним. Он вынужден ссылаться на
что-то невыразимое словами при всей наглядной очевидности -
вроде того сугубо зрительного ощущения сходства, которое
известно живописцам (аег), помимо и даже вопреки любым
измерениям. "...Я уж и не знаю, какая тайная сила дает здесь себя
почувствовать". Нужных понятий у Петрарки - да и у всей
последующей ренессансной рефлексии - нет под руками (т. е. ни
понятия "личности" творца, ни понятия "стилизации" как
возможной формы осуществления оригинальных творческих
намерений). Не будем и мы торопиться их вводить, гораздо
существенней - для понимания особого типа культуры
Возрождения - проследить, как Петрарка без них обходится.
619 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Итак, "подражание" тем эффективней, чем более оно
(сознательно!) скрыто. Таинственное, не поддающееся измерению
сходство разительно спорит с точно измеряемым несходством?
Да. Однако ведь то и другое, и сходство и несходство - "сына" и
"отца", автора-гуманиста и античного автора, нового
произведения и того, которому берутся подражать, - сходство и
несходство обоих стилей, обоих индивидов накладываются друг на
друга, итожатся в целостном восприятии. "Сын" потому и сын
своего отца - но не сам "отец", - что и похож и не похож на него
одновременно. Раздумывая над письмом Петрарки, мы вправе -
в двухсотлетней ренессансной ретроспективе - утверждать, что
неизмеримость (таинственность) "сходного" затрагивает,
значит, и "несходное". Более того. В последнем счете таинственно
особенно несходство. Ибо отношение "сына" и "отца" - лишь
частный случай универсального отношения разнообразия (vari-
etas), где своеобычное одно отводит к своебычному другому и
где вместе предполагаются и сопоставимость (возможность
перехода, продолжения перечня) и нетождественность
сопоставляемого. Забегая далеко вперед (к учению Фичино о красоте и,
главным образом, к "Придворному" Кастильоне), разве не будет
исторически корректным угадать в этом "я уж и не знаю, какая
тайная сила" у Петрарки, в желанном и неизъяснимом
сходстве-несходстве между Вергилием и, пусть идущим по стопам
римлянина, но оригинальным новым талантом, - завязь
будущей идеи индивидуальной "грации"?..
Конечно, в раздумьях Петрарки ренессансная позиция
только намечена и, возможно, ее еще нельзя счесть вполне
ренессансной. "Должно пользоваться чужим дарованием и красками,
но воздержаться от заимствования слов" - вот и все, чем
Петрарка в состоянии завершить рассуждение. А этого маловато, и
толковать можно по-разному. Если, чтобы быть поэтом, а не
обезьяной, достаточно не списывать у древних дословно, то не
значит ли это: подражая античности, выражать по-своему, без
бесхитростных заимствований, тот же "дух и стиль"? Если так,
решение оказалось бы в конце концов изрядно традиционным.
Проблема внесения в мир чего-то подлинно нового еще не
обрисовалась в XIV в. вполне рельефно.
Но она возникла! Мы убеждаемся в этом с тем большей
силой, что, продолжая чтение письма к Боккаччо, вдруг обнару-
_ 620
Странности ренессансной идеи "подражания я древним
живаем Петрарку - нет, это он сам (и не без доли иронии)
обнаруживает себя! - в ситуации, прямо скажем,
трагикомической, при которой ни о каком внесении в поэзию желанной
новизны говорить вроде бы не приходится.
Петрарка частенько наставлял своего молодого друга в
вышеописанном смысле, и тот почтительно внимал речам маэстро.
Но однажды, «когда я по обыкновению давал ему советы, он
ответил так: "Я, конечно, понимаю, - молвил он, - и допускаю,
что дело обстоит именно, как ты говоришь, но пользоваться
чужим (хотя и мало, и редко) я позволил себе по примеру многих,
между прочим, и по твоему примеру". И я на это, изумленно:
"Если когда-либо, сынок, ты и нашел такое в моих стихах, то
знай, что это получилось не умышленно, а по ошибке. Ведь у
поэтов тысячекратно бывает, что у одного из них использовано
выражение другого. Однако я, когда сочиняю, ни за чем не
слежу и не тружусь так тщательно и ничто не оказывается более
тяжким, чем избежать повторений уже написанного - и мною и
особенно моими предшественниками. Но где же это место, из
которого ты заключил, опираясь на меня самого, о
позволительности заимствований?" - "Да в шестой, - говорит, - эклоге
твоих "Буколик", где, поближе к финалу, один стих завершается
так: "atque intonat ore"%.
Петрарка продолжает: "Я обомлел. Когда он
продекламировал, я ведь узнал то, чего не заметил, когда писал. Это было
окончание стиха Вергилия из шестой книги его божественного
труда. Мне захотелось сообщить тебе об этом не с тем, чтобы
улучшить это место каким-либо исправлением, стихотворение
ведь уже широко известно и распространено, но чтобы и ты
упрекнул себя, что другой тебя опередил и раньше указал на мой
промах, и если, может быть, ты его до сих пор не замечал, то
теперь знай о нем. А еще тем самым подтверждается - не только
в отношении меня, человека пусть и ученого, но грешащего
многими недостатками и по части словесности, и по части
дарования, однако и в отношении самого что ни на есть
образованного и знающего мужа, - что человеческим замыслам всегда
многого не хватает до совершенства, которое удел лишь Того,
кому мы обязаны нашими умеренными знаниями и возможно-
•"И истошно кричит" (лат.).
621 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
стями. И наконец, проси и ты вместе со мной Вергилия, пусть
воспримет снисходительно и без раздражения он, часто
похищавший многое у Гомера, Энния, Лукреция, ежели и я пусть не
похитил, но нечаянно унес кое-какую мелочь у него".
Придумал ли (что вполне возможно) или не придумал
Петрарка всю эту колоритную историю - какова, все-таки, ее мораль?
Он, Петрарка, "обомлел". "Obstupui..." И мы готовы, было,
поверить, потому что идея неподражательного подражания и
пафос индивидуального самоутверждения писателя - все это у
Петрарки, конечно, вполне искренне, предельно серьезно. И то,
что он заботливо избегает повторений и что это трудно. И
сокрушенно шутливое замечание, из которого можно - в таком
контексте - заключить, что обойтись вовсе без плагиата по
силам только Господу...
Но... сколько шума из-за трех слов, совпадающих с
половиной строки из "Энеиды", из-за крохотной, почти неуловимой
даже для знатоков, классической реминисценции! Чего тут
больше - осуждаемого прямого заимствования слов или
восхваляемой "скрытости" "подражания"? Разве подобные
реминисценции, скрытые цитаты не были в ходу и у Петрарки, и
потом у лучших поэтов Кватроченто? Возникает подозрение, что
Петрарка играет в эпистоле со своим замечательным (и,
конечно, великолепно понимающим его) корреспондентом и с нами,
глупыми. Что он на деле немало гордится утонченной ученой
инкрустацией, именно ее "скрытостью", такой, что и сам Бок-
каччо до сих пор не распознал Вергилиев стих. Но возможно,
Петрарка рассказал сущую правду - и впрямь вставил сей стих
машинально, ведь он насквозь пропитан античной
словесностью. Так или иначе, сознателен или инстинктивен подобный
прием, в любом случае в нем для гуманиста не должно быть
ничего зазорного. Наоборот, ведь органическое владение
классическим наследием как раз и дает ему право по-свойски (fami-
liariter) входить в общество древних собеседников, вживаться в
него до культурной галлюцинации, сочинять письма, как
поступал Петрарка, адресованные великим мужам древности и -
удивительное дело! - именно посредством этого испытывать
невиданное пробуждение личного самосознания.
Но вот последняя фраза эпистолы все, кажется, ставит на
место. "Подражание", напоминает автор, было обычной, обяза-
_ 622
Странности ренессансной идеи "подражания"древним
тельной вещью и для Вергилия; он, Петрарка, даже менее
повинен в заимствованиях, чем великий творец "Энеиды" и
"Буколик". Концовка вскрывает в рассказе о том, как было
разоблачено нечаянное текстуальное совпадение и как "обомлел" поэт,
некую назидательную риторическую условность. Уж не был ли
смысл рассказа до поры до времени лукаво перевернут?
Хотя... перечитаем письмо сызнова, с начала до конца.
Несмотря на признаки высокой игры, нарочитой
преувеличенности, несмотря на последнюю фразу с ее
улыбчиво-примирительной интонацией - мы снова ошибемся, если решим, что эта
фраза попросту узаконивает подражительность. Письмо в
целом совсем о другом: как сочинителю выразить "свое
собственное" и "новое". Еще точней: автор не мыслит свое культурное
существование вне подражания античности, но и ни за что на
свете не согласился бы отказаться от духовной и литературной
независимости. В эпистоле сопрягаются и спорят обе идеи,
каждая обессмысливается в отсутствие другой. Петрарка хорошо
понимает, что две установки выглядят несовместимыми. Но
совместить их для него жизненно необходимо. Он пытается
нащупать некий теоретический выход. Надо подражать, но
неподражательно, следуя не букве, а духу, выражая свое и по-своему.
Однако на почве идеи "подражания" это неизбежно остается
трудной и всякий раз двусмысленной задачей. Как распознать
умышленное или невольное присвоение чуждого поэтического
оборота, каков критерий достаточной "скрытости" сходства, где
проходит грань между воровством и творческой обработкой?
Короче, как быть гуманисту, если плагиат недопустим, но
реминисценция обязательна?
То, что справедливо показалось нам слишком очевидным и
элементарным моментом отталкивания от средневековой
культуры, становится глубоким парадоксом, будучи взято как
момент отношения ренессансной культуры к себе самой.
Пока будет длиться Возрождение, будет продолжаться и
обдумывание того, как разрешить парадокс, его не разрушая (ибо
это значило бы разрушить существо "Возрождения"), т. е. как
совместить следование античным образцам и творческую
изобретательность, "imitatio" и "inventio".
623 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИЮРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
"Изобретение"
через "подражание"
Что, собственно, эти люди сами имели в виду,
действительно возвращение к античности или нечто новое? Мы
спрашиваем: повторение или новизна? Для нас ясно, как божий
день, что это противоположные понятия. Были ли они
противоположны также для гуманистов XIV-XV вв.? Все подобные
сюжеты в последнем счете упираются в проблему типа культуры,
т. е. своеобразия Ренессанса в сопоставлении с античной,
средневековой и новоевропейской цивилизациями.
Итальянским гуманистам было ничуть не проще, чем нам
теперь, разобраться в собственных понятиях, сформировать их
(и вместе с ними себя), переосмыслить на необычный лад архе-
типические формулы "возрождения" (rinascentia), "обновления"
(renovatio), "золотого века" (aurea aetas). На это ушло почти два
века. Зато гуманистам удалось, внешне оставаясь в пределах
антично-христианской мыслительной традиции, ее исподволь
перестраивая и подменяя, почти незаметно для себя выработать
уникальное понимание хода исторических времен, природного
"разнообразия", индивидуальной личности, причем важно
подчеркнуть, что все три эти предмета обладали сквозной историо-
логической структурой.
Далось это, повторяю, с громадным усилием, поскольку
исходная посылка Возрождения, столь революционизировавшего
культуру, по необходимости была традиционалистской! То, что
авторитет языческой, светской древности очень быстро
сравнялся с авторитетом Писания и патристики, конечно, серьезное, но
не решающее обстоятельство, ибо секуляризация принципа
"подражания" сама по себе еще не подрывала его наиболее
глубокой подосновы, восходящей в конечном счете к архаике. (Тем
более что при этом тексты и писатели античности оценивались в
привычном сакральном тоне, цицеронианство ничуть не
противоречило в глазах этих людей набожности, и Эрмолао Барбаро
воскликнет: "Я знаю только двух богов, Христа и словесность".)
Тот же Петрарка упрекал свой "бесславный век" за
"пренебрежение к древности, нашей матери, создательнице всех почтенных
искусств"4. Филиппо Виллани, желая превознести Салютати, не
_ 624
Странностиренессансной идеи "подражания" древним
мог найти более лестного определения, чем назвать его
"обезьяной Цицерона"5. (Лишь через сто лет Полициано употребит тот
же "топос" уже не в похвалу, а в осуждение...) А сам Салютати в
1378 г. в письме к Дзонарини предпринимает симптоматичную
попытку как-то прорваться сквозь средневековое понимание
повторения6. Как разуметь возвещенное в шестой эклоге
Вергилия, а также Сивиллой Кумской и в первой главе Экклесиаста
поновление времен? Не буквально, не так, будто люди вернутся
к первоначальному состоянию, Адам будет вновь вылеплен из
глины и Ева вновь сделана из ребра... Природа не повторяет
своих созданий, хотя и проводит все сызнова - через рождение,
созревание, старение, смерть и новое рождение. "То же самое
можно с очевидностью усмотреть в ходе человеческих дел, если
внимательно пролистать страницы истории; хотя ничто не
возвращается таким же (non eadem redeant), однако мы повседневно
видим, как обновляется образ прошлого". В каждом из шести
христианских "возрастов" осуществлялись "великие творения"
или "люди были чудесно предназначены для великих и чудных
целей, что равнозначно творению". "Итак, разве ты теперь не
видишь, что, при известной переменчивости событий, в каждом
возрасте повторялись сходные вещи". Сходные, но не те же
самые, другие... Один лишь бог пребывает постоянным. И
божественно постоянным - человеческое творчество] Салютати, как и
Петрарка, брался за перо вовсе не для того, чтобы
присоединиться к представлению о вечном круговороте, но только внутри
традиционной мировоззренческой формулы он мог надеяться
найти доводы против "чисто фаталистической ротации"7. Только
исходя из сходства в истории "чудесных" свершений, он был в
состоянии неожиданно сделать звучащее как будто знакомо для
новоевропейского слуха, но в действительности причудливое в
таком идейном контексте заключение: "Не суди об иных
временах по законам нашего времени"8.
Ауриспа, рассказывая Гуарино об Антонио Панормите,
заявлял: "Если бы не было тебя, он не имел бы равных в
гуманистических занятиях среди ныне живущих: так велика сила и так
велика сладостность его таланта! Если наш век приближается в
латинских сочинениях к веку цицероновского красноречия, то это
заслуга его таланта". Далее Ауриспа "без колебаний" сравнивал
Панормиту с Овидием. Даже при жизни Августа и Мецената Па-
625 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
нормита, "по моему мнению, выделялся бы как превосходный
поэт". Настолько, «по мнению Ауриспы, неаполитанец, так
сказать, "обантичнился" ("antiquabitur")... Поверь мне, Гуарино! V
Это написано в начальную пору Кватроченто, когда тот же
Гуарино, желая похвалить некоего моденского епископа,
находил, что тот "кажется как бы рожденным в ином веке и
воскресшим в наше время"9. Еще не исчезло ощущение, что
возвышение до уровня античности касается отдельных людей, но не
нынешнего века в целом, и что поэтому гуманисты и поэты,
сумевшие достаточно "обантичниться", занесены судьбой не в свое
время. Салютати был убежден, что Петрарке трудно найти
равных даже в античности; но это не мешало и ему оплакивать
современные "кораблекрушение словесности" и "изгнание всякой
учености". Позже сочли собственный век "золотым" и даже
стали, сберегая благоговение к античности, поглядывать на нее с
независимым достоинством. Но лишь потому, что считали себя,
так сказать, более "античными", чем сама античность. Измеряли
и соотносили себя с идеальным прошлым.
Таков, однако, принцип любого мифологизированного
восприятия истории. Ренессанс, стало быть, в меру следования
этому принципу лежал внутри общего контура, охватывающего все
доновоевропейские добуржуазные типы культуры, чуждые
идеям линейного времени и прогресса. По мнению А. Дюпрона,
Ренессанс был "философией великого возвращения". Совсем на
иной лад, чем в античности или в средневековом христианстве,
мифологическая по происхождению идея "возвращения к
истокам" "в последний раз в истории мысли Нового времени
выразилась в ренессансной эйфории". Но что же такого было ныне
спрятано в этой идее, отчего она и явилась с необходимостью "в
последний раз", приведя к собственному полному отрицанию?10
Хотя речи о преимуществах "нынешнего века" перед
античностью зазвучали довольно рано, но до XVI в. эти
преимущества могли иметь в глазах современников облик новизны только в
некоторых частных случаях, а не в тотальном и эпохальном
смысле. Когда же примерно со второй трети XVI в. постепенно
распространилось мнение о неоспоримом превосходстве над
античностью нынешней эпохи в целом, оно основывалось уже на
совершенно ином и небывалом ракурсе сопоставления, на
открытии Нового Света и технических достижениях (в морепла-
_ 626
Странности ренессансной идеи подражания " древним
вании, книгопечатании, артиллерии и т. д.). Но как раз в это
время (можно сказать "поэтому") ренессансный способ
мышления переживал закатную пору. В XV же и в начале XVI в.
итальянцы довольствовались сознанием, что с честью
выдерживают или даже выигрывают состязания с древними, проникая в
тайную мудрость их учений, блистая красноречием на их же
родных языках и являя "талант" и "доблесть" той же или более
высокой выделки в новых "изобретениях". Вопрос "кто выше?"
не мог не возникать, но был лишен драматизма, не умалял
авторитета Античности или самоуважения Ренессанса - по той
крайне существенной причине, что два "золотых века", прежний
и нынешний, понимались как два различных, но не совершенно
различных века. Отчасти это был как бы один и тот же "век",
одно состояние человечества, одно растение, когда-то цветшее,
завядшее и снова давшее цвет, одна бессмертная и неизменная
человеческая субстанция. Но ежели не высказывать мысли и не
изобретать формы, которые не приходили в головы древним, то,
полагали тогда, "подражания" и "возрождения" как раз и не
получится. Ибо возродить было необходимо самою творческую
мощь человеческой природы.
Нельзя оспаривать, что сознательное "состязание"
Ренессанса с Античностью шло словно бы в общей плоскости, при
одинаковых качественных критериях, под знаком единой шкалы
ценностей. Будто эпохи и живущие в них люди - музыканты,
соревнующиеся посредством одного и того же инструмента в
богатстве и виртуозности вариаций на заданную тему: кто сумеет лучше
и по-своему раскрыть некую разнообразную сущность.
Но только в этом пункте нашего рассмотрения мы
переходим от сравнительно легких и известных констатации к более
трудной проблеме. Сформулируем ее еще раз: каким же
все-таки образом ренессансная ориентация на прошлое, на
"преклонение и любовь к античности" (antiquitatis veneratio et Caritas) и,
значит, на абсолютность, замкнутость космоса и истории - тем
не менее заключала в себе (именно в себе, а не рядом, не
помимо принципа возрождения) также самоотрицание, возможность
вырваться из авторитарно-мифологического круга11. Как
ухитрялись примирить учебу и волю к творчеству, как, живя в мире
классических текстов, ощутить этот мир одновременно родным
и чужим, дабы жить все же и в собственном, сегодняшнем ми-
627 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ре? Уже одно то, что цель эпохального и личного
самоопределения неотступно стояла перед ренессансным автором, вносило в
усвоение уроков древних необычную проблемность.
Например, Полициано ищет выход прежде всего в том,
чтобы не связывать себя никаким единственным и абсолютным
образцом, он хочет воспринимать античную литературу в виде
разнообразия, обессмысливающего ранжировку, так что,
скажем, позднелатинские писатели при сравнении с Цицероном и
Вергилием выглядят, в общем, не худшими, а просто инымип.
Ведь и по Цицерону свои достоинства были у азиатских
риторов и свои - у родосских. Подражать надо не одному, а
многим, как пчела, собирающая мед, перелетая с цветка на цветок.
"...И впрямь. Поскольку природа любого человека не бывает
вполне совершенной, нужно держать перед глазами
достоинства многих, чтобы нечто взять у каждого..." Поэтому нельзя
останавливаться и на тех писателях, которых выделяет здесь он,
Полициано. "...И вас, молодые таланты, я хотел бы убедить, чтобы
вы не удовлетворялись только теми, кого я излагаю, но
устремлялись бы и к другим хорошим авторам..."
Такой плюрализм образцов, каждый из которых в
отдельности относителен и недостаточен, но любой по-своему не
уступает прочим, создает условие некой независимости, поскольку
нормой оказывается не тот или этот образец, но, скорее, переход
от одного образца (жанра, стиля) к другому. В нескончаемом
переходе, в движении посреди разнообразного наследия
древности, так сказать, в промежутке между почитаемыми, но
несхожими текстами высвобождается пространство для
утверждения новой индивидуальности13.
"...Так как нас услаждают разные перемены блюд и траву
украшают нежные и разные цветы, то часто и я измышляю
благозвучные любовные истории, воспевая ласковую подругу в
безыскусных стихах. То мне нравится играть под покровом
сжатой эпиграммы, то радуюсь, когда настрою лиру на нежный лад.
Многократно восхищаюсь красноречием великого Цицерона, но
порой прибегаю и к бессвязной речи (succedunt verba soluta
mihi). Ибо ведь, Фонцио, я способен и к дружелюбной
эпистоле, и к разным родам сочинения, где потребно обилие выдумок,
или же мое перо тянется к спокойным, уравновешенным
наставлениям и благочестивым речам"14.
_ 62$
Странностиренессаисной идеи "подражания*древним
Кроме разности образцов, расковывать должна была и
разность предметов, о которых ведется повествование ("tantae
rerum varietas"). Так, Стаций дал тому пример в своих "Лесах",
где его стиль "повсеместно удовлетворял многообразию
материала" (р. 872). К жанру "лесов" Полициано или Медичи влекла
именно содержавшаяся в нем - в потенции - иварьетап% т. е.
пестрота сюжетов ("argumentorum multiplicitas"), калейдоскоп
всяческих "сведений о местностях, происшествиях, историях и
нравах", наконец, "разнообразие словесного мастерства"
("dicendi varium artificium"). Оба флорентийских поэта довели
до предела открытость формы. Отнюдь не случайно, что и
"Комментарий" Лоренцо, и его "Леса любви", и "Станцы"
Полициано остались недописанными. Как, впрочем, и поэма Боярдо,
и великое создание Ариосто и пр. Их внутренняя цельность
вряд ли от этого пострадала, ведь незаконченность логически
предусмотрена категорией "разнообразия".
С поэтикой варьета органически связан идеал, который
Полициано обозначает понятием "беглости" или особой
"небрежности" ("celeritas"). Разумеется, и речи не может быть о
буквальном толковании этого словечка. Красноречие нуждается в
"подобающей и великолепной возделанности", но "излишнее
усердие часто вредит совершенству" (р. 876). Традиционные
примеры Полициано очень характерно извлечены
исключительно из живописи и скульптуры. Апеллес ставил себе в
заслугу "умение оторвать кисть от картины" ("manum de tabula sciret
tollere"), a вот скульптор Каллимах "не знал конца своим
стараниям", и его работы были отделаны, но лишены грации
(р. 874). "Gratia" - то же, что и "celeritas", это хорошо известное
(обычно по трактату Кастильоне), важнейшее для поэтики
Возрождения требование некой естественной непринужденности,
непосредственности, спонтанности, точнее же - эффекта
таковой, искусной безыскусное™, умело спрятанных следов работы
и пота. Не потому ли ренессансные итальянцы так настаивали
на том, что "грация" отнюдь не сводилась к изяществу, вообще
к "эстетическому" вкусу, но прежде всего наглядно
свидетельствовала о подлинности творческой воли? То есть была свойством
не того, что изображено, а того, кто изображал или писал -
напряженно взыскуемым и труднее всего дававшимся свойством
авторства. Иначе говоря, была внутренней свободой и в отно-
629 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
шении к античным образцам, и в отношении к собственному
сочинению, нескованностью ими и собой. Еще иначе: "грация"
давала неуловимый, но явный контур зарождающейся
новоевропейской индивидуальной личности. Ее "сфумато"!
Как это для нас ни диковинно, гуманист пытался именно в
кущах риторики взрастить то, что позже будут называть
личностью.
Из эпистолы Анджело Полициано к Паоло Кортезе:
4Насколько я понял, ты одобряешь лишь того, кто
воспроизводит Цицерона. Мне же кажется гораздо почтенней облик
быка или льва, чем обезьяны, хотя она и более сходна с
человеком. Как сказал Сенека, те, кого считают наиболее
выдающимися в красноречии, непохожи друг на друга... Гораций осуждал
подражателей, которые - подражатели и не более. Мне же
сдается, что те, кто сочиняет подражательно, подобны попугаю или
сороке, говорящим то, чего они не понимают. Ведь пишущим
так недостает сил и жизни, недостает энергии, недостает
чувства, недостает таланта, они недвижимы, они спят, они
похрапывают. Тут нет ничего истинного, ничего основательного, ничего
действенного. "Ты не выражаешь, - скажет мне кто-нибудь, -
Цицерона". Ну и что же? Я ведь не Цицерон. Себя-то, думаю, я
выражаю (me tamen, ut opinior, exprimo)»15.
Полициано зрело формулирует то, к чему двигался
гуманизм, начиная с Петрарки, и что станет внутренним законом
Высокого Возрождения. В данном случае перед нами, правда,
"только" некая программа, "только" установка на новое слово, а
не ее реализация. Но ценностная установка уже сама по себе
есть нечто вполне реальное. Если такая, бесспорно,
исторически особая и - хотя бы в перспективе -
антитрадиционалистская установка погружена в классическую риторику, оперта на
воскрешаемую ради нее древнюю традицию, можно ожидать,
что это не осталось без последствий и для новой установки, и
для традиции. Ведь возникла духовно-конфликтная, т. е.
творческая, ситуация.
Я люблю и ценю тебя, продолжает Полициано, но как раз
поэтому я восстаю против предрассудка, по вине которого
"ничто тебя не услаждает, что было бы вполне твоим (quod tuum
plane sit; курсив мой. - Л. f>.), и ты никогда не отрываешь глаз
от Цицерона". Поэтому он, Полициано, жалеет время, потрачен-
_ 630
Странности ренессансной идеи "подражания"древним
ное на чтение эпистолярия Кортезе. Стиль подлинно ученых
людей, погруженных в тщательное изучение классиков, должен
быть не слепком с чужих книг, а "как бы оплодотворен скрытой
эрудицией, многообразным чтением, долгими трудами".
Действительно, смелая и причудливая задача! - пойти в
услужение, чтобы стать свободным.
Открытие принципа
стилизации
Возникает напряженность между риторическим
приемом как таковым и попыткой придать факту его использования
некую уникальную, свежую, творческую значимость.
Частая декларативность этой попытки не равносильна ее
мнимости. (Тем более что дело никак не сводилось к
декларациям творческой независимости.) Введение в текст
акцентированных знаков современного и личного авторства уже вставляло
этот выдержанный в античном стиле текст как бы в смысловую
рамку, особым образом закавычивало его. Такая акцентировка
была призвана напомнить, что между автором и его
риторическим подходом нет полного совпадения, но есть будоражащая
связь. Этот подход (жанр, стиль и т. д.) - именно в силу
последовательной и тщательной ученой имитации - должен был
восприниматься как не прирожденный, не адекватный жизненной
реальности автора, но изобретательно присвоенный им. Текст
понимался не как античное чужое слово, но и не как просто
слово нынешнее, свое. Это было свое слово, сознательно
переодетое чужим, и чужое - проникновенно пережитое, как свое.
Культурное действие разыгрывалось на обдуманно
сохраняемой и преодолеваемой дистанции. Античные жанры - будь то
эпистола, диалог, пастораль, эпиграмма и даже плохо давшаяся
гуманистам в руки латинская комедия - ныне использовались в
экспериментальных целях. Литературное творчество на
"народном" языке (volgare), с середины XV в. ставшее программным
требованием (разумеется, при столь же программном
сохранении двуязычия), особенно обострило и выявило всю
ситуацию - небывалое дотоле единство остранения от античности и
вживания в античность. Ведь это означало писать на латинский
631 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
лад по-итальянски! Вскоре начались неизбежные споры о мере
пуризма в итальянском языке, ибо и язык в целом под перьями
гуманистов стилизовался.
Вот, конечно, необходимый термин. Люди культуры
Возрождения им не пользовались, как они не пользовались и
термином "личность". Они не обсуждали проблем личности, но их
интересовало "разнообразие". Они не обсуждали проблем
"стилизации", но в центре их внимания было свободное подражание
для достижения собственных целей, самовыявление
посредством хорошо рассчитанной парафразы.
Это не было ни эпигонством, ни следованием древнему
канону, принимаемому без обсуждения, ни приписыванием текста
анонимом авторитетному автору, ни бессознательной подменой,
искажением, варваризацией античных структур в западном и
византийском средневековье. Это было чем-то принципиально
отличным от всего перечисленного, а именно стилизацией.
За такое сознательное подделывание под инаковую
культуру итальянских гуманистов впоследствии будет принято
упрекать в "искусственности", "холодности" и пр. Между тем
стилизаторство послужило удачнейшим историческим выходом из
традиционалистского средневековья, в нем - конструктивная
связь "открытия античности" с обоснованием суверенного
индивидуального творчества. Нетрудно заметить, что ренессанс-
ное придумывание "под античность" во многом отличалось
также и от того, чем была стилизация позже, чем стала она в XIX -
XX вв. Но так или иначе, Возрождение воспользовалось ею, по-
видимому, впервые в истории мировой культуры,
оттолкнувшись от античности ради собственного стремительного взлета.
А затем уже новоевропейская культура вообще перестала быть
традиционалистской.
Если считать риторику игрой, так сказать, первого порядка,
то у гуманиста она - в качестве элемента (пусть сколь угодно
почтенного) - включена в игру второго порядка. Риторика не
равна здесь себе, потому что автор не исчерпывается ею. Автор
обретает историческую дистанцию и - в принципе - свободу в
обращении с общими местами. Подражание античности
означает ее диалогизацию. Начиная уже с писем Петрарки, возникает
двусмысленное совпадение подражания и самовыражения16.
Рядом с инстанцией общего места, то прячась, то выглядывая
_ 632
Странности ренессансной идеи "подражания * древним
из-за него, утверждается инстанция авторской
индивидуальности. Общие места присваиваются, вплетаются в подчеркнуто
личное высказывание, как если бы они были не общими
местами, как если бы они импровизировались здесь и сейчас.
Риторика, с ее традиционным материалом и приемами, сама
становится предметом разыгрывания: в роли одновременно и
"античной", далекой, и как бы домашней, рождающейся заново. Чем
усердней эти люди "беседовали с древними", переодевались
(мысленно или даже буквально) в подобие римской тоги,
воображали себя жителями Аркадии и т. п., тем острей они
переживали своеобразие своего исторического положения, смелость
личных культурных инициатив.
Римляне, перенимавшие мудрость у греков, средневековые
авторы, использовавшие сочинения древних язычников, менее
всего мучились этим, не замечали здесь проблемы
самовыражения. В отличие от всех других методов употребления прежнего
культурного материала, стилизация немыслима без рефлексии,
т. е. только она в данном случае и заслуживает названия "метод".
В "Камальдульских диспутах" Кристофоро Ландино есть
примечательный пассаж, вложенный, между прочим, - вряд ли
случайно - в уста его ученика Лоренцо Медичи... Разговор идет
о соотношении между "Энеидой" и "Комедией". Лоренцо
замечает, что не все из того, что он сейчас приводит, надо
приписывать действительно ему ("я не опускаю и постороннего по
отношению к замыслу речи"). "Но на деле я противопоставляю свое
мнение всем остальным, подводя, однако, к этому своими
словами исподволь. Я ведь с раннего детства... усвоил произведение
флорентийского поэта как родное, так что в нем мало сыскалось
бы мест, которые я, если бы потребовалось, не мог бы с
легкостью воспроизвести. Но что я, мальчик, был в состоянии
уразуметь из слов божественного певца? А теперь, когда я схватываю
в уме все богатство высказанного им содержания, я следую за
его гением с величайшим восхищением. И пусть в ткань его
изложения вплетено, бесспорно, немного пряжи, заимствованной у
Вергилия, все-таки в целом это достаточно далеко от Вергилия.
Насколько я теперь понимаю, часто и нас Ландино имеет
обыкновение увещевать при помощи наставлений Цицерона, кое в
чем тщательно и обдуманно подражая ему. И тем не менее это
вовсе не ведет к тому, чтобы мы становились теми самыми, ко-
№
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
му мы подражаем, но - лишь сходными с ними, причем так,
чтобы само это сходство обнаруживалось с трудом, разве что
образованными людьми"*7. Так уточнялась мысль Петрарки.
Нельзя не подивиться, как и в других подобных случаях,
например у Полициано или у Пико делла Мирандолы (о чем
еще пойдет речь), остроте и точной выявленное™ этого столь
нового культурного переживания.
Даже только в этом месте у Ландино есть уже все основные
компоненты идеи стилизации18. Во-первых, "мы" - совсем не
"они" и не должны становиться попросту "ими". Во-вторых, мы
тем не менее хотим походить на них, тактично вплетая их речь
в нашу собственную, создавая нечто в их духе, осмотрительно и
тщательно. Но, в-третьих, это сходство должно быть "скрытым".
Иными словами, ему не следует быть лобовым подражанием,
списыванием, но - тонкой парафразой, заметить которую
способен лишь образованный читатель. "Скрытость" подражания
означает, что не образец распоряжается мной, а я свободно
распоряжаюсь образцом и выстраиваю с его помощью нечто такое,
что сходно с ним и не сходно, напоминает о нем, но
осуществляет мой собственный замысел.
В 1484 г. Джованни Пико делла Мирандола обратился к
Лоренцо с эпистолой, в которой доказывал: "Нет никого из
старых писателей, которых ты намного не превосходил бы в этом
роде сочинительства" (в стихах на "вольгаре")19. Он, Пико,
утверждает, и вовсе не для того, чтобы сделать ему, Медичи,
приятное, что эта поэзия выше, чем поэзия Петрарки и Данте. Что
же Пико видит в терцинах и октавах Лоренцо такого, чего
решительно не в состоянии увидеть в них мы? Опуская
подробную аргументацию молодого философа (кстати, тоже недурно
писавшего любовные сонеты по-итальянски), отмечу самое
поразительное в ней.
В отличие от Петрарки, который для Пико автор слишком
бедный содержанием, банальный, а потому, при всей
сладостности и элегантности стиля, нередко впадающий в безвкусицу,
смешивающий нежное и резкое, разукрашивающий словами
расхожие сентенции, склонный к показному и чрезмерному, - у
Лоренцо "нет ничего лишнего и ничего упущенного". То есть
Пико отдает предпочтение предельно закругленному,
нормативному стилю Лоренцо перед чересчур варварским, на его слух,
_ 634
Странностиренессансной идеи 'подражания"древним
Петраркой? Так-то так, но заметим, что в общих местах и, так
сказать, в риторичности он винит именно Петрарку! Все,
кажется, ставится вверх ногами: это, видите ли, у Лоренцо есть
непосредственность, это Лоренцо далек от аффектированности!
Разумеется, Лоренцо - выше, ибо нормативнее. Однако класси-
цистская стилизованность Лоренцо не только не мешает Пико
насладиться индивидуальностью поэта - она как раз и дает
такое ощущение: "Эти твои острые, тонкие и, одним словом, Ло-
ренцовы сентенции". Итак, твои стихи - нечто образцовое. И
одновременно, и как раз поэтому: они индивидуальны, они - твои.
Послушаем Пико внимательно. "...В твоих стихах любовные
шалости перемешаны с философской серьезностью так, что они
заимствуют у нее достоинство, а она у них - изящество и
веселость, и обе стороны в этом сочетании сохраняют присущие им
свойства и взаимно ими обмениваются, равно обретая то, что
ранее принадлежало либо тому, либо этому". Значит, к эклогам
и поэмам следует относиться как к подлинно гуманистической
"серьезной игре", ludum serium.
Дело, впрочем, еще сложней и неожиданней.
"Но я восторгаюсь в тебе не столько этим, сколько тем, что
у тебя придуманное как бы и не придумано, но возникает из
материи, которой ты занят, из нее самой, будто тебе достаточно
расчистить почву от сухостоя и полить ее, а она уж сама
расцветает: в такой степени все (твои произведения) кажутся
доподлинными, а не измышленными, необходимыми, а не
вторичными, врожденными, а не привитыми (nativa, non adventitia, neces-
saria non comparata, genuina omnino non insititia)..."
Ничто так отчетливо не обнаруживает отличие наших
представлений от представлений культуры, к которой
принадлежали Пико и Лоренцо, как эта, для Пико решающая, - в чем мы
еще убедимся - мотивировка. В традиционной риторике люди
ренессансной культуры искали опору, чтобы быть
естественными, чтобы стать самими собой...
С чем конкретно из сочинений Лоренцо соотнесен только
что приведенный пассаж? Трудно поверить, но в первую
очередь с "Комментарием к некоторым сонетам о любви"! Пико тут
же разбирает его особо. (Цель всего письма была, собственно, в
том, чтобы ободрить и подвигнуть Лоренцо к завершению
"Комментария".)
635 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Пико определяет жанр "Комментария" как парафразу. Как
перепев! Перепевность (возведение собственного труда из
чужого материала) проницательно и с безусловным одобрением
полагается в качестве основания литературного
сочинительства. Последовательно и напряженно Пико вытягивает из
перепевности авторское, а заодно и свое, читательское ,"Я". Он
пишет о "Комментарии": "моя парафраза". И сам спрашивает,
предупреждая недоумение: но почему "моя"? Хотя бы потому,
что "я так ее назвал". "А почему же она - не моя, если, почитая
ее, как твою, я люблю ее, однако, как свою?" Ты, продолжает
Пико, раскрыл достоинства своих стихов, которые я слепо не
замечал, "как ты один и мог и должен был это сделать, должен
был по отношению и к себе, и к нам, дабы не лишить себя
славы, а нас удовольствия".
И тут мы подходим к главному: такой
читатель-современник, как Пико делла Мирандола, воспринимает перепев в
качестве - выражаясь анахронистически - доказательства смелой
индивидуальной творческой инициативы автора и даже
ощущает себя самого активно включенным в такую инициативу.
«Сколько аристотелевских сентенций, а именно из
"Физики", из книг "О душе", "О нравах", "О небе", из "Проблем"; и
сколько из платоновского "Протагора", из его "Республики", из
"Законов", из "Пира"; и все это, многократно читанное у других,
у тебя я читаю, однако, как новое, лучшее и, не знаю уж как,
преобразованное по твоему обличью, так что они кажутся
принадлежащими не им, а тебе, и когда я читаю, то воспринимаю
их впервые. И это наибольший показатель того, что ты это
знаешь не столько в результате комментирования, сколько из себя
самого (ex teipso)* (p. 802).
Следовательно, для автора-гуманиста и читателя-гуманиста
решает дело не столько заимствованный материал, сколько его
свободное и непринужденное интонирование, перекомпоновка,
остроумная реминисценция, ученый намек, всяческое
обыгрывание чужого слова. Не средневековое его присвоение в
качестве надличной мудрости, бесхозного общего места, а именно
хозяйское обращение с осознанно-чужим и далеким, как если бы
оно было домашним, спонтанно возникающим здесь, только
что, сугубо интимным, - вот что оказалось необыкновенно
важным. Поэтому "формальная", конструктивная сторона, то, что
_ m
Странностиренессансной идеи 'подражания"древним
называли тогда "изобретением", приобретала предельную
содержательность. То же и в изобразительном искусстве. Способ
обработки христианской или античной темы, свежее сочетание
ее с пластическими мотивами, пусть тоже заемными, некое их
смещение, рекомбинация, поворот в рамках счастливо
придуманной "истории" - все и выходило новым содержанием, более
того, новым мировосприятием. Чужие тексты, традиционные (и
особенно античные) жанры, приемы, жесты, мысли - все
приходило в движение. Более или менее, как мы теперь сказали бы,
остранялось. В гуманистической среде ценили умение, беря то,
что всем известно, делать это как бы новым и неизвестным20.
Вне всего этого, по-моему, бессмысленно судить о феномене
Возрождения. Вне этого нельзя понять, каким образом
подражание античности могло не сковывать, не обрекать на
повторение, в частности, приемов риторического мышления, а,
напротив, раскрепощать культуру.
Фиренцуола
о самоценности новизны
Прошло еще полвека, и настойчивые попытки
отождествить "подражание" с "изобретением" в конечном счете
неизбежно исчерпали, более того, скомпрометировали исходное
традиционалистское понятие, и даже - как это сделал, например,
Кастильоне - сама возможность подражать древним была
поставлена под сомнение21. Приведу здесь менее известное, не
столь, правда, насыщенное идеями, но по-своему не менее
красноречивое извлечение - из "Бесед" Аньоло Фиренцуолы
(1525 г.)22.
Там некая дама Бьянка хвалит канцону, сочиненную Сель-
ваджо, хотя и не совсем уверена, что та заслуживает похвал:
"Но я не припомню, встречала ли когда-нибудь у какого-либо
автора, древнего или современного, такое построение. Поэтому
подозреваю, уж не придумал ли ты его сам". Так идея "imitatio",
на которой со времен Петрарки стояла вся ренессансная
культура, к которой принадлежит еще и Фиренцуола, вдруг
начинает несколько отдавать пародией: даме нравится канцона, однако
637 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
лишь при условии, что она подражательна, и Бьянка готова
отказаться от своего мнения, если окажется, что Сельваджо (чье
имя значит, между прочим, "Дикарь") не следовал никакому
образцу.
Сельваджо в гневе отвечает: "Я сам ее придумал, но почему
ты стараешься поставить это мне в вину? Разве не
позволительно современным людям находить новые способы
сочинения, как это делали древние? ...Или ты не знаешь, что поэтам и
живописцам вполне позволено прибавлять и убирать, как им
угодно?"
Бьянка не думает уступать: "Этих новшеств (innovazione)...
надо бы избегать, как напасти... меня не убеждает довод, будто
поэтам разрешаются все эти причуды". Приведенная тобою,
Сельваджо, сентенция применима только к "изобретению"
речевых оборотов, тут ты прав, можно - впрочем, "со
скромностью" - употреблять свои слова, но нельзя, чтобы ты
выдумывал "на собственный лад" построение или пел в героических
стихах любовь Тристана и Изольды, а в элегических -
кровавую битву при Гьярададде. Потому мне и не нравится,
заключает Бьянка, "эта твоя новизна". То есть неприкосновенными даме
кажутся риторические правила изложения, особенно границы
стилей и жанров.
На это Сельваджо (автор, бесспорно, полностью на его
стороне): но тогда ошибались те, кто когда-то впервые ведь
изобрел и героическую, и лирическую, и элегическую манеру, а
также - хуже того - комедию и трагедию, да и Петрарка,
который "придумал новые способы сочинять канцоны". "Новое"
радует, пусть не всегда, - хотя трудно объяснить "в одном слове",
"в каких случаях новаторствовать (innovare) нехорошо". Но тут
же Сельваджо формулирует оговорку именно "одним словом":
нехорошо "в том случае, когда происходит смешение (si fa confu-
sione), в этом наблюдении сходились древние и современные
писатели, греческие, латинские и тосканские, тут они
поставили пределы и требовали не преступать их. Именно такое
новшество преступно, именно оно должно тебе не нравиться". Однако
ни Данте, ни Петрарка, ни другие обновители поэзии этого не
делали. Вот почему он, Сельваджо, выступает против
"современных цензоров": "Я никогда не соглашусь с их мнением, пока
универсальный закон не поставит мне запрет". Довольно того,
_ 638
Странности ренессансной идеи "подражанияя древним
что он выдерживает в своих песнях размер и правильно ставит
ударения...
Мы так и не узнаем подробней, что это за "универсальный
закон", что это за "смешение" и почему Сельваджо имеет в виду
нечто совсем, совсем не то, что Бьянка, хотя та тоже, вроде бы
толковала о недопустимости "смешения"... Нельзя сказать, чтоб
Фиренцуоле и его герою удалось найти очень уж убедительные
и свежие доводы в пользу новизны. Теоретизирование явно
отстает от художественной воли и практики. Позиция ясна, она
действительно непривычная, она страстная, иное дело - как она
обоснована. Приходится вспомнить, выслушивая эту апологию
новизны, что мы находимся еще только в начале XVI в.
Но вот в фиренцуоловский диалог вступает еще одна
женщина, Фьоретта. Ее реплика простодушна и... существенна.
"Мне кажется, что наш Сельваджо заслуживает порицания
не более, чем те, кто добавляет новый сорт сукна или ткани к
тем, что уже в ходу; может быть, эти новые сорта и менее
красивы, чем прежние, однако они будут нравиться из-за своей
новизны (per la loro novita), и мы будем расхваливать их
изобретателей (ritrovatori)". Вот так и канцона должна быть одета в
новые ткани. Этот, так сказать, социально-психологический
довод, это общее место, неожиданно сдобренное столь
конкретным и естественным для возрожденческой Италии
"текстильным" сравнением, по-настоящему серьезно, потому что
подразумевает коренную самоценность новизны. Оно серьезно в
контексте всего предшествовавшего спора, потому что, заговорив
устами шаловливой Фьоретты, автор уже не оглядывается ни
на какое "подражание", не поминает о пределах, поставленных
новшествам "универсальным законом" и т. п. Фьоретта
преспокойно признает (вот где сдвиг, заострение топоса!), что новое,
пожалуй, бывает хуже старого. Но зато оно непохоже на старое.
Так что всякое изобретение не нуждается ни в каком
обосновании. "Я сам придумал"! - начальная фраза Сельваджо
отзывается эхом в реплике Фьоретты. Только это горделивое, детское
"я сам" и значимо. Таков расхожий посыл Возрождения в
будущее. "Ошибаются те, кому не нравится ежедневное нахождение
нового (il trovare ogni di cose nuove)"23.
Следующее столетие уже сплошь будет заполнено
названиями книг, в которых встречается слово "новый" в качестве сино-
639 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
нима чего-то почтенного и насущно необходимого24. И это после
того, как извечно таким синонимом было, напротив, древнее,
освященное сходством с первообразцами. Понятно, что для этого
нужно было не просто сменить идеологическую установку, но
перевернуть прежнее мироотношение - никак не меньше!
Отныне нетрадиционалистское отношение к "новизне" и
"изобретению" будет - негладкими, противоречивыми путями -
становиться все более углубленным (или, напротив,
стереотипно-поверхностным), во всяком случае саморазумеющимся. Мы теперь
если и сомневаемся в ценности нового, то едва ли не в силу того
же, восходящего к Возрождению, стремления к нему: ведь как
раз упоение новым ныне стало чем-то старым и приевшимся... В
ретроградное™ для некоторых нынешних людей - чуть ли не
бунт, в стиле "ретро" есть терпкость, а обращение к мифу, как
известно, характерная принадлежность модернизма XX в. В
новое и новейшее время даже и возникающая иногда ностальгия
по прошлому действует освежающе. Всякий раз лишь выявляет
остроту нетрадиционных, кризисных социальных и культурных
ситуаций. "Прошлое" превращается в сугубо художественный
символ или в идеологическое клише, это знак прошлого. К
самому же прошлому возврата больше нет, никто, собственно, и не
помышляет вернуться и продолжать в нем жить - хотя бы в том
смысле, в каком продолжали жить в классической древности,
чувствовать себя "такими античными" гуманисты.
Завершая этот сюжет, отметим любопытное обстоятельство,
возникающее, впрочем, при культурологическом подходе к
любому сюжету. Нам теперь уже трудно всерьез заинтересоваться
революционной точкой зрения Кастильоне и Фиренцуолы, мы
находим в ней - отчасти справедливо - нечто слишком
знакомое, свойственное позднейшей культуре. "Отчасти" - ибо нам
трудно расслышать и оценить восторг новизны... при
провозглашении новизны. Трудно распознать в придании высшего
достоинства новому, индивидуальному, произвольному - дерзкое
переворачивание того, что прежде считалось самым
авторитетным, необходимым и всеобщим. "Отчасти" - ибо тут были
некогда вызов и спор, ныне сглаженные почти четырехвековой
дистанцией. "Хотела бы я знать, - говорит Фьоретта, - кто это
установил такой суровый закон, по которому тот, кто не будет
применять те же слова, что у Петрарки, считается мятежником
_ 640
Странностиренессансной идеи "подражания"древним
против нашей прекрасной Тосканы и нарушает рассудительные
установления Горация..." Возражают против введения в стихи
обиходного слова: "Но его не употреблял Петрарка". "Да кто
сказал, что те слова, которых не употреблял Петрарка, не
можем употреблять мы, другие?" и т. п.25
Но с другой стороны: выговоренное о "подражании" на
излете Возрождения впрямь менее содержательно, менее
парадоксально, чем приведшие к этому долгие духовные усилия.
Изъясняясь кибернетически, на входе в черный ящик мы находим
обязательную традиционалистскую мифологему, архетип
возвращения к истокам; на выходе - реплики фиренцуоловских
.персонажей, в которых впервые психологически освоено едва
ли не довлеющее себе "изобретение". Но сам "черный ящик" -
Возрождение - это не ветхая идея "подражания" и не
новоевропейская идея "изобретения". Это, начиная с Петрарки, их
сопряжение через "разнообразие", позволявшее соревноваться и
экспериментировать с Античностью - не повторять, а
рифмовать себя с нею. Отложившийся результат Возрождения
определенно менее культурно значим, чем его "замысел", чем то
брожение умов, которое привело к результатам - и было более спе-
цифически-ренессансным, более уникальным, поэтому более
поучительным для историка.
Возможно, следует добавить, что апология новизны менее
содержательна лишь в качестве некой концовки Возрождения,
но сама по себе, разумеется, ничуть не менее драматична и
богата, культурно-продуктивна, чем ренессансное неподражаемое
"подражание" - если взять эту идею как завязку
новоевропейской культуры, насыщенной собственными сложностями и
парадоксами "просвещения", "прогресса", "историзма" и пр.
Мысль о самоценности новизны скудна, повторяю, только в
стереотипном виде и в тот момент, когда она - так сказать,
"выведенная" из Возрождения - уже забыла о проблемности
исчерпанного культурного этапа и еще не догадывалась о будущей
проблемности.
21 - 345
Риторика
и творческая воля
Эволюция литературы... совершается не
только путем изобретения новых форм, но
и, главным образом, путем применения
старых форм в новой функции.
Ю.Н. Тынянов. иО пародии"
Гуманисты и риторика
У Лоренцо Медичи есть обширный (хотя и
незаконченный) "Комментарий к некоторым сонетам о любви". Вот
одна из глав, взятая наугад. Воскликнув: "О, моя нежнейшая и
прекрасная рука", поэт сначала разъясняет, на каком основании
руку возлюбленной он называет "своей": она была дарована ему
в залог любовных обещаний и в обмен на утраченную свободу.
А это, естественно, требует определения, что есть свобода, а
также рассуждений о древнем обыкновении скреплять договор
рукопожатием... Далее следует перечисление других действий,
свершаемых посредством руки. Рука ранит и врачует, убивает и
оживляет. Отдельно описана роль пальцев. Затем уточняется,
что хотя все это принято приписывать правой руке, поэт
все-таки имел в виду левую руку донны, как более благородную, ибо
она расположена ближе к сердцу. Обычная же передача всех
помянутых "обязанностей" правой руке - результат условного
поведения людей, извращающих в этом случае, как и во многих
других, то, что дано им природой. Поэтому для
"проницательных умов" именно левая рука натягивает лук Амура, врачует
любовные раны и пр.1
В подобном роде Лоренцо исписывает десятки и десятки
страниц.
Но - странное дело! Автор не забывает при каждом
подходящем или, скорее, вовсе не подходящем случае поставить в
_ m
Риторика и творческая воля
центр легко льющейся риторической речи - себя. Он умещает
"я", "мне", "моей", "мною", "меня", "моих" и снова "мне" в
пределах одной фразы, подчеркивая, стало быть, с немалой
экспрессией, с искренностью, кажущейся неправдоподобной,
полнейшую интимность того, что мы предпочли бы оценить как
ученые классицистские упражнения, как невыносимо нарочитую
галантную болтовню: "И поскольку мне самому казалось
невозможным не только спать, но и жить, не мечтая о моей донне, я
молил, чтобы во сне, представ передо мною, она увлекла меня с
собой, т. е. чтобы увидеть ее в моих снах и чтобы мне было
дано быть в ее обществе и слышать ее нежнейший смех, тот смех,
который Грации сделали своей обителью" и т. п. (р. 217).
Разумеется, никакая риторика не исключает возможности
включения в свою систему некоего "Я", тоже риторического.
Думаю, что в ренессансной культуре дело обстояло как раз
наоборот: не "Я" было элементом риторики, но риторика
становилась элементом ранее не известного "Я", провоцировавшим
его становление.
Насквозь пропитанная античными реминисценциями,
традиционно-риторическая словесность Возрождения смогла тем
не менее выявить собственный неповторимый тип духовности в
качестве действительно культурно-творческой. Но каким
образом?
Это глава о гуманистическом способе обращения с
риторикой, об авторском самосознании и творческой воле, как она
давала о себе знать в композиции и стиле.
Непосредственным материалом послужат лишь кое-какие
сочинения Анджело Полициано и Лоренцо Медичи,
преимущественно же упомянутый "Комментарий". Все более кажется мне
предпочтительным проверять всякую историко-культурную
идею на сравнительно небольшом исследовательском пятачке,
неспешным прочтением достаточно показательного текста, а не
эффектной панорамой разрозненных и беглых примеров. Как
известно, творчество двух наших авторов у порога Высокого
Возрождения, будь то "Леса любви" Лоренцо, или его же
"Ласки Венеры и Марса", или полициановы "Станцы о турнире",
или знаменитый "Орфей", довели итальянскую поэзию до
самой крайней эрудитской и риторической утонченности,
пропустив через гуманистический фильтр все, в том числе и фольк-
21·
643 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
лорно-песенный материал. Ничего более показательного по
части литературной искусственности в поэтике Кватроченто,
пожалуй, не найдешь.
Только необходимо сразу же отрешиться от оценок,
которыми нагружены такие слова, как "риторичность" или
"искусственность", от предубеждения будто Полициано и Медичи создавали
нечто по-настоящему поэтичное лишь помимо риторики,
несмотря на нее. Во всяком случае, ни им самим, ни их тогдашним
слушателям и читателям ничего подобного в голову прийти не
могло. Это наш, а не их вкус. Гуманистическая речь полностью
немыслима без риторических фигур и топосов; вопрос иной, как
и для чего они были необходимы ренессансному автору.
Разумеется: "искусственность" литературных построений
Полициано и Медичи окрашена особыми, свойственными
именно кругу флорентийской Академии Кареджи,
тематическими, идейными и жанровыми пристрастиями. Важно и то, что в
поле нашего зрения окажутся в основном сочинения на
"народном", а не латинском языке. Однако в целом это отношение к
античности, к слову, к подражанию и новизне, эта
"искусственность" (или, лучше, повышенная конструктивность) - черты
эпохальные, находящие соответствие и в ренессансной
живописи (не только заключительной трети XV в.), и во всем
гуманистическом стиле жизни и мышления2.
Пусть ближайшим образом меня занимает проблема,
указанная в названии главы, широко задевающая Возрождение и
все же сама по себе специальная, - в конечном счете речь
неизбежно пойдет о вещах, упирающихся в общее понимание
культуры.
Никто не решился бы отрицать, что культура меняется. Но
что означает то, что она меняется? Мы, кажется, отказались,
слава богу, от плоско-эволюционистского взгляда, согласно
которому каждое явление в культурном развитии - прежде всего некий
"этап", превращающий то, что было до него, в подготовительные
этапы и, в свой черед, обреченный стать предысторией чего-то
последующего. Мы теперь помним, что культурное прошлое не
снято в итогах развития, но продолжает жить среди
множественности голосов настоящего. Эта характерная для XX в.
синхроническая многоголосица, это - в принципе и в возможности -
превращение всех запасов прежней культуры в сплошное настоя-
_ 644
Риторика и творческая воля
щее потеряло бы, конечно, творческую напряженность и смысл,
если бы голоса не доносились из несхожих прошлых и не были
бы глубоко различными голосами. Или, скажем суше, если бы
культурные изменения не означали качественной дискретности
и разные культуры не были бы именно типологически и
радикально разными. Впрочем, такое ("бахтинское") понимание
историзма встречает неприятие, сводящееся к поискам постоянных
структур, которые можно было бы вывести за любые культурно-
исторические скобки. Никто не решился бы отрицать, что
культура меняется, но нередко приходится слышать, что тем не
менее нечто самое коренное или, если угодно, простейшее в ней, ее
порядок - пребывает равным себе над ходом времен.
Если это верно, то литература итальянского Возрождения,
надо полагать, должна бы служить весьма удобным
подтверждением подобной мысли. Особенно если мы отберем для проверки
не Альберта, тем более не Макьявелли, не записи Леонардо, не
стихи Микеланджело, короче, не тех, кто может быть хотя бы
частично отведен ссылкой на их чрезвычайность, ненормативность,
их творческий экстремизм. Но, напротив, возьмем тех, кто
всецело был внутри Возрождения, в логико-историческом центре его,
а не на границах (если и насколько это вообще возможно в
культурном творчестве). Мы примемся, повторяю, за чтение страниц
из числа самых условно-риторических и стилизованных, какие
только сыщутся на вершинах этой литературы (потому что для
высветления литературной эпохи все-таки потребны, по моему
убеждению, не третьестепенные фигуры фона, а прежде всего
вершины, пусть в данном случае и не слишком отклоняющиеся
от уровня всей горной гряды). Эти изысканные страницы, вроде
той, которую я уже успел вскользь пересказать, по правде говоря,
ныне способны показаться (в отличие от басен Леонардо или
писем Макьявелли) безумно скучными и банальными - по той же
причине, по которой они вызывали безусловное признание и
наслаждение у аудитории конца XV в. И та же самая причина, по-
видимому, делает литературу известного рода, талантливо
представленную Лоренцо Медичи и Полициано, наиболее
невыгодным материалом для истолкования культуры как вечной
неожиданности. Ибо перед нами авторы, оперирующие клише. Едва ли
не любая цитата из них окажется общим местом, часто даже
прямо взятым напрокат у какого-нибудь античного писателя.
645 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Что же, ренессансные авторы не отличаются от античных в
элементарных основах литературного мышления? Тогда и не
стоило бы считать их "ренессансными" (разве что
хронологически), тогда не было бы принципиальных оснований закреплять
их именно за этим, вполне определенным и уникальным типом
культуры. (Напоминаю: культуры, а не просто идеологии.)
В полициановой «Речи о Фабии Квинтилиане и "Лесах"
Стация* восхваляется элоквенция. "Она одна собрала внутрь
городских стен первобытных людей, ранее живших в рассеянии,
примирила несогласных, соединила их законами, нравами и
всяческим человеческим и гражданским воспитанием, так что в
любом благоустроенном и благополучном городе всегда паче всего
процветало и удостаивалось наивысших почестей красноречие"3.
Сколько раз его уже восхваляли древние... и вот, тема,
покрывшаяся патиной, очищенная на цицеронианский манер в
трудах Петрарки и ставшая затем как бы обязательной для
людей, называвших себя (в XV в.) "oratores", - вот она
разрабатывается в очередной раз на классически-звучной латыни, по всем
правилам античной риторики, так что предмет рассуждения
возвышается его средствами, средства же становятся
демонстрацией предмета: красноречиво отстаивается польза красноречия.
И сдается, на первый взгляд, что с риторикой у Полициано
дело обстоит как и за полторы, за две тысячи лет до него. Что эта
та же риторика. Разве - помимо словесных оборотов,
заимствованных из Марка Туллия или Квинтилиана, - мы не наблюдаем
исконный способ думать, воздействовать на слушателей
энергичной рассудительностью различений, противопоставлений,
вопросов и восклицаний, неистощимой игрой в рубрикации?
Так-то так, но приметим для начала - не пытаясь пока
прокомментировать - следующую несообразность. Сам Полициано
почему-то, как уже говорилось, предпочитал при всем при том
всегда настаивать на дистанции, отделяющей гуманистов от
древних, и всячески подчеркивать неподражательность,
первичность, индивидуальный источник своего вдохновения.
"Хоть мы и никогда не отправимся на форум, никогда на
трибуны, никогда в судебное заседание, никогда в народное
собрание - но что может быть в нашем (ученом) досуге, в нашей
приватной жизни приятней, что слаще, что пригодней для
человечности (humanitati accomodates), чем пользоваться красноре-
_ 646
Риторика и творческая $оля
чием, которое исполнено сентенциями, утончено острыми
шутками и любезностью и не заключает ничего грубого, ничего
нелепого и неотесанного"4. То есть автор, кажется, ясно сознает
историческую разницу между той риторикой, которая выросла
из повседневной практической жизни античного города, из
необходимости публичных речей, - и своей риторикой,
принадлежностью внутрикультурного и мировоззренческого обихода
гуманиста и его группы5.
Полициано начинает "Речь" с возражений против
исключительной ориентации на Вергилия и Цицерона. Ополчается
против людей, которые полагают, что "при нынешней слабости
дарований, при бедности образования, при скудости и прямо-таки
отсутствии ораторского мастерства" незачем искать "новых и
нехоженых дорог" и покидать "старые и испытанные" (р. 870).
Конечно, Полициано, как и надлежало гуманисту, не
сомневается в необходимости учебы у античности. Но этот
прославленный знаток "обоих языков", переводивший "Илиаду" с
греческого на латинский, никак не мог бы применить мрачную
оценку состояния литературных талантов и образованности к
самому себе. Он желает сравняться с древними и - без чего такое
соревнование было бы безнадежно проиграно - остаться собой.
Не утратить оригинальности!
До сих пор речь шла о рефлексии. Сделанных выписок из
того же Полициано вполне достаточно, чтобы понять, чего он
желал, - но сумел ли он и другие гуманисты достичь
желаемого? Как удавалось им на деле примирить учебу и волю к
творчеству, сделать подражание неподражаемым, как, живя в мире
классических текстов, они могли ощутить этот мир
одновременно родным и живым, дабы жить все же в собственном,
сегодняшнем мире?
Конечно, уже одно то, что цель эпохального и личного
самоопределения неотступно стояла перед ренессансным автором,
вносило в усвоение уроков риторики необычную
напряженность и проблемность.
Однако нетрудно заметить, что если идеи Полициано и
оспаривают традиционность, клишированность риторического
языка, высказаны они все же посредством этого же самого языка... И
все-таки ведь вышло как-то так, что, подражая Античности, эти
люди создали совершенно новую культуру. Что же произошло
при этом с риторикой?
647 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИЮРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Об исторических изменениях
и риторической традиции
Все знают, что европейская словесная культура вплоть
до XIX в. основывалась на текстах, понятиях, стилевых приемах,
жанрах, сюжетах, заготовленных древностью. В отношении
средневековой латинской литературы это обстоятельно проследил
еще Э. Курциус6. Но это же применимо к литературе на новых
языках, и не только средневековой. Пусть сменялись эпохи,
пусть происходили духовные перевороты - отправной
интеллектуальный материал по-прежнему был в ходу. (Хотя - оговорим
безотлагательно - неизбежно подвергался всякого рода отбору,
переакцентировке, перетолкованию, наивному искажению или,
напротив, сознательной обработке в новом направлении.)
Поразительная устойчивость, в частности, риторических схем более
всего бросается в глаза, когда мы берем культуру не со стороны
ее широких мировоззренческих перспектив, не в
конкретно-типологических особенностях, короче, не сверху и целостно, а
снизу и поэлементно, так сказать, на молекулярном уровне. Если
иметь в виду употребление некоторых простейших правил
литературного изложения, то риторичны не только античные, но
также средневековые христианские писатели, ренессансные
гуманисты, и барочные авторы, и просветители. А что такое пушкинское
"Брожу ли я средь улиц шумных" или "Пророк"? Все прибегали
к набору общих мест, к вытягиванию свойств описываемых
предметов в классификационные перечни, к сопоставлению по
рубрикам, к рассудочно-моралистическим сближениям и антитезам и
проч. Поэтому может возникнуть даже впечатление, что от
греческой архаики, от Пиндара и Гераклита и до Томаса Мора или
Гуго Гроция "меняется топика, но не подход к топике"1.
Если с этим согласиться, то речь пойдет о чем-то
несравненно большем, нежели констатация повышенного
консерватизма риторического языка. Это означало бы, что европейская
словесная культура (нет, культура вообще, ибо что же сказать
тогда о культуре восточной?) оставалась - примерно до Руссо
и романтиков - в конечном счете неподвижной. Ибо в
мыслительной подоснове ничего существенного не происходило.
Новые события, конечно, совершались на идеологической по-
_ 64S
Риторика и творческая воля
верхности, в зыбких волнах духа, но не в его структурных
глубинах.
Это означало бы также следующее. Историзм оправдан,
лишь пока нас занимает предметное содержание литературных
текстов, пока мы, в соответствии с собственными вкусами,
ищем "приметы времени", нередко принимая за них свои
иллюзии. Ибо некогда такие изменчивые приметы встречали на пути
вечный и труднопроницаемый экран риторики. Во все эпохи,
кроме последних каких-то двухсот лет, усердие сочинителей
было направлено на сопряжение назидательных общих мест,
т. е. на нечто неизменное. Историческая точка зрения теряет,
следовательно, решающее значение, едва мы переходим от того,
что и о чем сказано, к тому, как сказано. То есть к тому, каковы
язык, логика и цели высказывания, как устроен текст. А ведь
"как" (тут я не стал бы спорить ни в коем случае!) -
краеугольный камень всякого мироотношения.
В высшей степени оправдана и привлекательна
полемическая, освежающая реакция на оплошную модернизаторскую
торопливость, на обычную нашу нечуткость к чужому, инаковому
культурному сознанию.
Но есть над чем задуматься. Риторика, взятая как
всепроникающий инвариант, что и говорить, весьма наглядно отделяет и
отдаляет словесное творчество прошлых эпох от Нового
времени. Зато традиционалистские эпохи перестают выглядеть
всерьез (т. е. на уровне порождающих мыслительных моделей)
особенными и разными в отношении друг к другу. Их
неповторимые голоса сливаются в унисоне риторического рационализма.
То, чем стала культура в XIX и XX вв., начинает выглядеть
едва ли не искажением вечной сущности культуры как порядка.
Отрицать повышенный консерватизм риторического и
всякого традиционалистского языка, само собой, не приходится.
Но позволительно - прежде чем мы попытаемся продумать, что
означает этот консерватизм в случае Лоренцо Медичи и Поли-
циано, в словесности Возрождения, - задаться, перечитывая
статью С.С. Аверинцева, несколькими общими и
предварительными вопросами.
Во-первых. Открывают ли риторические приемы, взятые в
наиболее оголенном, технизированном виде, вплоть до
школьных упражнений и заготовок, действительно наиважнейшую,
60 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
последнюю правду, хотя бы только о риторической же
подоснове "большой" античной культуры? Или перед нами при
сведении риторики до "вопроса школьного умения, вопроса
грамотности" - не "ядро" культуры, а крайнее обеднение,
выхолащивание или - лучше, если угодно - нечаянное пародирование как
раз культурного, творческого смысла риторической традиции?
То, чем занимались, например, в позднеримских риторских
школах, определенно противостояло живой практике
публичного говорения, тоже на свой лад свидетельствуя, конечно, о
тогдашней умонастроенности - но так, как удачная пародия
свидетельствует о передразниваемом творчестве, для этого ловко
останавливая его и заменяя редукцией8. Грамотность вообще
составляет столько же условие культуры, сколько и
выпадающий из нее осадок, она всегда - до или после культуры, но
никоим образом не "итоговая сгущенность11 самой культуры как
процесса порождения.
А вне способности к порождению затруднительно оценить и
"формальную парадигматику" культуры. Меня не убеждает
предложение рассматривать "риторические экзерсисы Либа-
ния", греческого софиста IV в., "как литературу in statu nascen-
di*, как фиксацию акта литературного воображения"
античности. Чего нам никак не удается, наблюдая "гротескный уровень
отвлеченной рассудочности" у Либания, так это "застигнуть...
воображение за работой, в пути" (р. 156-157). Просто потому,
что воображение тут и не ночевало. Ничего общего с эскизом
Рафаэля для будущей фрески! Мы попадаем вслед за Либанием
не в "творческую лабораторию мастера", а в учебные классы.
Эскизность ведь равносильна плодотворной незаконченности,
неготовости, которая таит в себе не вполне известные и
нетождественные возможности. Эскизом, подготовительной
зарисовкой, непосредственностью первого шага воображения начинали
дорожить как чем-то самоценным по мере того, как
расшатывался безусловный авторитет художественного канона. Между
тем учебная риторическая схема, допустим, описания битвы
представляет собой нечто вполне и принципиально
довершенное. Она создана не воображением, а выучкой и передает ее
дальше. Остается лишь подставить имена собственные. Ничего
•В момент рождения, в процессе возникновения (лат).
— 650
Риторика и творческая воля
"гротескного" в ней, в сущности, нет - не больше, чем в
арифметической задачке о воде, вытекающей и втекающей в бассейн.
Или в анатомическом муляже.
Либаний делал муляжи, а не эскизы.
Но может быть, риторический "уклон к перебору и
исчерпанию" очищенных от всякой конкретности общих мест (р. 154)
потому и характеризует античную культуру в целом, что дает о
себе знать инвариантно на всех ее уровнях и во всех особенных
проявлениях? Так что "холодные абстракции антиохийского
ритора" "единоприродны" - ну, скажем, "Исповеди" его
младшего современника блаженного Августина? - и "принадлежат в
принципе тому же порядку вещей"?
Однако - и это второе мое сомнение, - хотя "Исповедь"
профессионального ритора Августина, разумеется, щедро
уснащена соответствующей словесной техникой, риторический
способ мышления сталкивается в ней и с мистической
христианской потрясенностью, и с философскими парадоксами.
Рассудительно-упорядоченное, моралистически-расчетливое, и
эмоционально-захлебывающееся, экзистенциально-безрассудное, и
глубины высокого рационализма - августинова "Исповедь"
есть все это сразу, в невероятном сопряжении, дающем
уникальный и непреходящий культурный результат. Иными
словами, изначально риторика оживает и становится необходимым
моментом литературного творчества - всякий раз во
взаимозависимости и конфликте с анлшриторическими тенденциями - в
контексте, создаваемом этим жанром, этим временем, этой
более или менее особой культурной ситуацией.
Если со мною согласятся, то окажется, что риторика и в
пределах античной традиции не остается равной себе. Повторяю:
"сама по себе" риторика никогда не существовала, выделить ее в
химически чистом виде можно бы, разве что заглянув в школы
риторов, но школьная риторика оскоплена, поэтому тайну
природного воспроизводства античной литературы допустимо
искать в ней, лишь закрыв глаза на это немаловажное
обстоятельство. Да, без риторики в некотором плане нет ни диалогов
Платона, ни трагедий Эсхила, ни буколик Вергилия, ни лирики Ка-
тулла, ни мениппеи Лукиана. Но все они вместе с тем и антири-
торичны. В каждом жанре и в каждом историко-культурном
казусе риторика включается в некую новую сложную духовную
S51 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
конфигурацию; ни одна такая конфигурация к риторике не
сводится (даже, возможно, эпиграммы Марциала?); и всякий раз в
изменившемся контексте меняются, надо думать, и конкретные
функции риторики. Всякий раз это та же риторика, да не та! -
отнюдь не вынесенная от века за творческие скобки, но
непрестанно трансформируемая и оспариваемая внутри них9.
В-третьих. Существовала ли некая непрерывная и равная
себе "греческая культура на всех ее языческих и христианских
путях вплоть до гибели Византии в 1453 году и далее"10?
Можно ли считать свидетельством этого одну лишь эпиграмму,
вырождавшуюся, но сохранявшую риторические черты жанровой
структуры? Если все "другие жанры уходили из живой
литературы (как ушел дифирамб, ушла трагедия... комедия)", то
оставшаяся привычка греков (нет, уже византийцев!) сочинять
эпиграммы есть ли выживание "необходимого и достаточного
признака" литературной культуры античности?.. Или это, скорее,
нечто вроде сгинувшего языка, от которого - согласно грустной
шутке Франса - осталось лишь несколько слов, произносимых
попугаем? Говоря серьезно: именно С.С. Аверинцев показал
нам в своей известной книге, как - через самые фантастические
контаминации, подмены и метаморфозы - античная культура,
что бы там ни думали византийцы, ее старательно
употреблявшие, превращалась в культуру решительно иную и
небывалую11. И вот античная культура, несомненно, сгинула, притом
именно в корнях, в сердцевине... а риторика древних греков
осталась все той же? Возник совершенно другой тип автора,
другой тип читателя, другой ценностный контекст, а, по крайней
мере, с XV в. - и другое понимание самих целей писательства,
весь мир культуры стал неузнаваемым, а риторический
рационализм, особливо же на оторвавшемся от затонувшего корабля
обломке - эпиграмме - жил прежней жизнью? и можно без
обиняков говорить о сохранении "простейших, глубоко
лежащих, очень стабильных оснований" той самой культуры?
культуры Сократа и Фукидида?12
Впрочем, предмет моей работы не полемика, да я и не
решился бы вести ее на чужой исследовательской территории. Но
хочу подчеркнуть, что будоражащая статья С.С. Аверинцева о
риторической традиции подоспела весьма счастливо для меня в
тот момент, когда я сам пытался нащупать живой нерв прозы и
_ 652
Риторика и творческая воля
стихов Лоренцо Великолепного, столь далеких от наших
нынешних вкусов. Статья помогла мне отдать более жесткий отчет
в собственной, не совпадающей со взглядами С.С. Аверинцева
позиции. Я пришел к убеждению, что риторика выполняет в ре-
нессансном культурном контексте радикально новые функции,
что формальная устойчивость клише, усвоенных гуманистами
из античных сочинений, не только не препятствовала такой
метаморфозе, но была ее необходимой посылкой.
В статье "О литературной эволюции" Ю.Н. Тынянов писал:
«Основное понятие старой истории литературы - "традиция"
оказывается неправомерной абстракцией одного или многих
литературных элементов одной системы, в которой они
находятся на одном "амплуа" и играют одну роль, и сведением их с
теми же элементами другой системы, в которой они находятся
на другом "амплуа", - в фиктивно-единый, кажущийся
целостным ряд*. Идеи об "эволюционном отношении функции и
формального элемента" были высказаны Тыняновым в 1927 г.13
Они наилучшим образом свидетельствовали о примате для
исследователя исторически-конкретной содержательности.
Было бы, по-моему, неэкономно начинать спустя столько
десятилетий все сызнова.
Я уже цитировал замечание С.С. Аверинцева: "Меняется
топика, но не подход к топике". Мое встречное предположение
можно поначалу сформулировать так: "Топика может отчасти и
не меняться, но подход к топике от эпохи к эпохе меняется
самым глубоким образом".
Установка на самовыражение
"Комментарий" Лоренцо начинается со слов:
"Я очень колебался и сомневался, должен ли я был браться
за настоящее истолкование и комментарий к своим сонетам; и
хотя я порой и склонялся к тому, чтобы делать его, но
нижеследующие доводы подталкивали меня к противоположному и
отрывали от этого произведения. Во-первых, мысль о
самонадеянности, в которую, как мне казалось, я впал бы, комментируя сам
собственные же вещи: и потому, что это было бы проявлением
чрезмерного почтения к себе, и потому, что я присвоил бы суж-
653 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
дения, которые пристали другим, словно бы считая в этом
отношении, что у тех, в чьи руки попали бы мои стихи, недостанет
ума, чтобы их понять. Кроме того, я полагал, что кое-кто легко
мог бы упрекнуть меня в неблагоразумии, ведь я потратил
время на сочинение и комментирование стихов, материей и
предметом которых по большей части была любовная страсть; а это
заслуживало во мне упрека тем более, что постоянные заботы, и
общественные и приватные, должны были бы предохранить
меня от подобных помышлений, по мнению некоторых, не только
ветреных и пустых, но прямо-таки вредных и
предосудительных, как для спасения души, так и для мирского достоинства. И
если это так, то думать о подобных вещах - большой грех,
перелагать их в стихи - грех еще больший, а комментировать такие
стихи - порок ничуть не меньший..." (р. 124-125).
В столь традиционном формальном зачине - с изложением
трех возможных возражений против замысла ученого
прозаического комментария на народном языке к сонетам о любви и с
опровержением по пунктам этих возражений - ничто не могло
бы показаться примечательным, если бы уже не то, что Лоренцо
немедленно, на первом месте, обсуждает вопрос о праве на
самокомментирование! Автор, не приступив еще к облюбованной
теме, очень занят самой мыслью о своем авторстве, о себе как
авторе, причем опровержение "первого довода" (о
самонадеянности и т. п.) влечет за собой характернейшее раздумье о
выборе каждым индивидом особого призвания (я приведу и разберу
его позже). Мотив индивидуального "разнообразия" введен,
следовательно, с первых же строк сочинения, открыто и
сознательно.
Далее. Лишь единожды Лоренцо Медичи роняет: "Я не был
первым, кто принялся за комментирование стихов, содержащих
подобные любовные темы, ибо сам Данте прокомментировал
некоторые из своих канцон и других стихов". Тут же
упомянуты комментарии "римлянина Эгидия" и Дино дель Гарбо к
канцоне Гвидо Кавальканти. "Я не был первым" - это намек на
"Новую жизнь" и "Пир", впрочем даже не названные. То есть на
те великие образцы, которым Лоренцо с полной очевидностью
подражает. Но о подражании, собственно, ни слова. После
ссылки на историю жанра, где о Данте сказано вскользь,
Лоренцо продолжает так: «А если ни вышеописанных резонов, ни
_ 654
Риторика и творческая воля
примеров все-таки недостаточно, чтобы искупить мою вину, то
меня должно бы оправдать хотя бы сострадание, ведь в
молодости я был много преследуем людьми и фортуной, так следует ли
лишать меня права на скромную отраду, которую я нашел лишь
в пылкой любви и в сочинении и комментировании своих
стихов, о чем мы дадим более ясное представление, когда перейдем
к изложению смысла того сонета, который начинается словами
"Если среди других вырывающихся вздохов" и т. д.
Невозможно, чтобы не я, а кто-то другой сумел бы объяснить, что это
были за злосчастные преследования, пусть и весьма публичные, и
весьма известные, и какими были те неоюность и отрада,
которыми смягчила их моя нелепейшая и преданнейшая любовь.
Поэтому, как бы хорошо ни рассказал об этом кто-либо, для него
невозможно разобраться в этих вещах так, как извлеку из них
истину я> (р. 131-132. Курсив здесь и далее мой. - Л. Б.).
Между тем имя Данте, конечно же, подразумевалось сразу.
Оно не могло не прийти в голову любому читателю с первой же
страницы. Лоренцо любовно чтит своего предшественника, но
демонстративно избегает излишней опоры на его авторитет.
Гораздо подробней Данте помянут в другом месте, по более
общему поводу - в связи с утверждением прав итальянского языка,
и там, естественно, названа не "Новая жизнь", не "Пир", а
"Комедия". Здесь же конкретней и обстоятельней указаны
толкования к Гвиницелли, несколько уводя от сути дела, потому что
надо ведь отстоять не только право писать комментарии к
итальянским стихам, но именно право делать это самому поэту.
Казалось бы, здесь наиболее существенны отнюдь не ссылки на
Эгидия Колонна и Дель Гарбо, не говоря уже о сравнительном
уровне их и дантовой прозы? Лоренцо словно бы тихо отводит
читателя в сторону от главного своего образца. Ибо его
сильнейший довод состоит как-никак в том, что стихи и
комментарий рождены биографической, внутренней потребностью. В
них заключена его, автора, радость и правда: то, чего не мог бы
высказать вместо него никто другой.
Нам незачем сомневаться в искренности Лоренцо. Но тут
идет еще и какая-то важная игра с собой и читателем.
"Комментарий" по замыслу вторичен в несравненно большей степени,
чем автор готов это признать. Он ничего не скрывает, но ведет
себя как человек, который нарочито берет преимущественно на
S55 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
себя инициативу сочинения непривычного характера. "Я не был
первым..." - но все-таки Лоренцо принимает "Комментарий" на
свою ответственность и ведет себя так, как если бы он был
первым в избранном жанре. Он переоткрывает открытое Данте. Он
заново, только от своего имени выносит далее решения о
законности употребления итальянского языка для высших духовных
целей, о преимуществах сонета и пр. (хотя мог бы сослаться и
на Данте, и на своего наставника Ландино).
Как раз потому, что Лоренцо ориентировался на образцы,
лежавшие у всех перед глазами, в этих литературных жестах
независимости были заключено, надо думать, нечто очень
значимое для автора и его читателей. Напомню, что таков вообще
принцип "подражания" в культуре Возрождения, "ибо при
подражании другим, будь они Греками или Латинянами, требуется
взвешенное основание, намерение и забота о том, чтобы
заимствованное соответствовало своему, не ухватывалось где попало,
но рождалось самостоятельно и, вышедшее из собственной
утробы, только казалось бы взятым у других" (Ландино)14. Не так
существенно, что на позднейший взгляд этот пафос сохранения
новизны посреди самого подражания, пафос соревнования на
равных, не всегда и не вполне бывал оправдан фактически.
Существенно, что он подтвердился в эпохальном масштабе, верно
соотнося ренессансную культуру с ее сутью. Если, скажем,
Лоренцо Медичи и преувеличивал меру своей творческой
оригинальности, эта всегдашняя озабоченность индивидуальной вы-
деленностью, настояние на ней, само преувеличение - были
уже чем-то культурно-неслучайным, впрямь оригинальным. В
конце концов, личность вообще могла тогда утвердить себя,
лишь прибегнув к перебору, к переоценке своих возможностей.
Вот и у Лоренцо: поскольку вполне отработанные за два
столетия клише он то и дело произносит исключительно от своего
имени, они начинают звучать чуть ли не грандиозно. Разве не
удивительно, что Лоренцо прибегает к личностным интонациям,
к словесным формулам, подчеркивающим, что то-то и то-то -
его мнение, хотя ему и всем его читателям было отлично
известно, что это общие места, начиная, по крайней мере, с XIII в.?
"И, судя, скорее, в соответствии с обычной природой и
всеобщим обыкновением людей, я, хотя и не осмелился бы
утверждать это решительно, все же полагаю, что любовь меж людей
_ 656
Риторика и творческая воля
не только не заслуживает упрека, но и служит почти
необходимым и в высшей мере истинным доказательством благородства
и величия души, особенно же она побуждает людей к вещам
достойным и превосходным, упражняет и приводит в действие те
доблести, которые потенциально заключены в нашей душе"
(р. 127). Или: Мне кажется, трудно осуждать то, что природно,
и ничего нет более природного, чем желание соединиться с
прекрасным, а это желание вложено в людей природой для
умножения рода" (р. 130). "Он полагает"! "Ему кажется"! Будто до
него это не "казалось" столь многим, будто любовь не была
свидетельством душевного благородства еще для стильновистов и
Данте, будто телесное желание не было оправданно, и притом
именно ссылками на природу, на устремление к прекрасному,
на умножение рода - еще от Боккаччо до Фичино. Будто Ло-
ренцо смело отстаивает свой взгляд на вещи, а не повторяет то,
что утвердилось в его время и в его среде. Впрочем, он
мимолетно поминает Платона, Петрарку, Гвиницелли. Откуда же это
упрямое "все же я полагаю" и "мне кажется"? Что же, это
искренняя аберрация, внушенная потребностью пропустить
всякое мнение через себя, сделать своим? Или риторический
прием, придающий трактату единую скрепляющую личную
окраску, ставящий "защиту" любви или итальянского языка, всякие
общие, мировоззренческие высказывания в тот же
интонационный ряд, что и рассказ о встречах с любимой донной? Или - и
то, и другое, и просто следование принципу, тут же
изложенному, согласно которому "нельзя назвать истинным" "то, что
зависит от других более, чем от себя самого", отчего "внешние
похвалы", которые "зависят от чужих мнений", "не являются
подлинными похвалами" (р. 135).
Так или иначе, но стилистическое (и психологическое)
оформление даже достаточно избитых идей как сугубо своих,
выношенных и высказанных под ответственность автора,
выступает показательным условием. Содержательным и подчас
главным моментом, перевешивающим все остальное
содержание, становится интонирование авторства: не то, что говорится,
но - кто говорит. "Невозможно, чтобы не я, а кто-то другой
сумел бы объяснить..." и пр.
В конце концов, это он, Лоренцо, был - в глазах
современников - "чудесно погружен в любовные дела" ("nelle cose
657 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
veneree maravigliosamente involto" - так сказал о нем
Макьявелли); "сладострастный и весь (захваченный) любовью" ("libidi-
noso e tutto venereo" - так отозвался Гвиччардини). И это он
восхищал друзей-гуманистов как поэт любви. Поэтому защита
любви и итальянской поэзии независимо от доли заемной
аргументации была для Лоренцо его жизненной позицией. Но дело
не в этом, т. е. не в искренности автора. Ведь условный и
рассудочно-игровой стиль риторики ничуть не исключал
искренности ни в какие времена. Дело - в новой жизненно-культурной
функции риторики.
Сравним начало "Комментария" с дантовым "Пиром", где
тоже ведь обсуждается вопрос (сам по себе у Лоренцо, стало
быть, тоже не новый) об оправданности автокомментария.
Данте хотя и не выносил этого вопроса на первое место, но писал:
"У риторов не принято, чтобы кто-нибудь говорил о себе без
достаточных на то причин". Причин может быть, по мнению
Данте, две: защита от бесчестия или назидание. Обе здесь
присутствуют, ибо он сочиняет комментарий к собственным стихам:
1) чтобы все, порицавшие его, узнали, что в отличие от "Новой
жизни" стихи эти побуждены любовью не к женщине, а к
донне-философии, т. е. "не страстью, а добродетелью"; 2) "я
намереваюсь также показать истинный смысл этих канцон, который
иной может и не заметить, если я его не перескажу, поскольку
он скрыт под фигурой иносказания"15. В следующей главе (I, 3)
находится знаменитый пассаж, где Данте горько и трогательно
жалуется на несправедливое изгнание ("После того, как
гражданам Флоренции, прекраснейшей и славнейшей дочери Рима,
угодно было исторгнуть меня из своего сладчайшего лона" и
пр.). Далее поэт выражает надежду, что комментарий своей
глубокомысленностью, серьезным, возвышенным, нелегким для
чтения стилем будет противостоять дурной молве о нем и
очистит его репутацию. В этом, разумеется, как нельзя лучше
проступает мощная личность Данте, окрашивающая все им
написанное. Однако автор "Пира" не затрагивает в своих
размышлениях такой незнакомый ему предмет, как "личность". Он,
правда, выговаривает о себе величавые, идущие от души слова, но
право комментировать свои стихи обосновывает как раз внелич-
ностно: эти любовные канцоны на самом деле вовсе не
любовные, и он, автор, должен разъяснить скрытую в них аллегорию.
_ m
Риторика и творческая воля
Во многословном, утомительно-изящном сочинении Лорен-
цо, пожалуй, меньше глубинно-личного, чем в одной третьей
главе первого трактата "Пира". Зато Лоренцо сознает и
оправдывает свой комментарий совершенно противоположно тому,
как это сделал Данте. Собственно, оправданий не нужно. Перед
читателем - именно стихи о любовной страсти, никакое не
иносказание. Более того, ключом к ним объявлены некие особые
биографические обстоятельства. Стихи написал я, в них мои
нежность и отрада, и никто не может лучше меня знать, при
каких обстоятельствах и какой смысл я хотел в них вложить. Это
простое соображение (уже успевшее стать нормативным для
гуманистического круга Медичи), с которого Лоренцо начинает,
не задумываясь, не могло бы прийти в голову Данте при всей
грандиозности его, все-таки еще средневековой, личности.
Разумеется, довод Лоренцо оформлен как "топос" среди остальных
топосов. Внешне он тоже риторичен. Тем более, что, когда
изложение добирается до 12-й главы, до того места, где автор
обещал рассказать об этих самых личных обстоятельствах, при
которых он нашел утешение в любви и поэзии, - мы с некоторым
изумлением обнаруживаем, что Лоренцо высказывается
предельно общо и отвлеченно.
Ну да, Лоренцо собирается поведать, "каким было великое
и злодейское преследование, которое он испытал в то время по
вине фортуны и людей", лишь "очень кратко"... Ибо он боится
невольно преувеличить их силу, чтобы его не сочли
горделивым и тщеславным. Ведь "когда корабль, претерпевший
жесточайшую бурю, после многих опасностей и тревог укрывается в
спокойной гавани, кормчий чаще всего приписывает это
собственной доблести, а не некоторой благосклонности фортуны".
Так поступают всегда и "врачи нашего времени",
преувеличивая тяжесть недуга и ставя исцеление в заслугу себе, а не
природе. "И потому скажем кратко: преследование было
тягчайшим, потому что преследователи были людьми
могущественными, очень влиятельными и себе на уме, намеревавшимися и
твердо положившими добиться полного моего разорения и
уничтожения, как это показывают их попытки повредить мне
всеми возможными путями. Я же, против которого все это
было направлено, был тогда попросту молодым человеком (gio-
vane privato), безо всякого совета или помощи, за исключением
659 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
той, которой изо дня в день меня одаряли благость и милость
божья".
Тут Лоренцо, кстати, делает именно то, чего только что
обещал избежать. Он, мягко говоря, преувеличивает, изображая
себя, главу медичейского режима, беспомощным и одиноким
юношей... Он поступил бы гораздо скромней и сдержанней,
если бы придерживался конкретных фактов (между прочим,
действительно драматических и поразительных). Но мотивировка
желания быть кратким, дабы не выглядеть слишком
горделивым, - это, конечно, риторический ход. Впечатление
преувеличения у нас на деле-то как раз и возникает. Потому что и все
дальнейшее - тоже риторика. Между тем речь идет о заговоре
Пацци в 1478 г., в результате которого погиб брат Лоренцо, он
сам еле спасся, а затем выдержал длительную, опасную борьбу с
теми, кто поддерживал заговорщиков внутри и вне Флоренции,
включая папу Сикста IV. Но какой историк сумел бы
догадаться о чем-либо подобном, если располагал бы только этим мни-
моинтимным свидетельством, сведенным к риторическому
каталогу, в котором узнаваем единственный конкретный намек -
на папское отлучение: "Я был доведен до того, что
одновременно душу мою преследовали отлучением, имущество -
разграблением, власть - разными коварствами, семью и детей - новым
предательством и интригами, жизнь - повторяющимися
заговорами..." (возможно, еще один намек: на новый заговор против
Лоренцо, раскрытый 2 июня 1481 г.). "...И смерть была бы
немалой милостью для меня, куда меньшим злом для моих желаний,
чем что-либо иное из названного. И вот, когда я пребывал в
этой неясности и мраке фортуны, его порой озарял любовный
луч, будь то лицезрение или мысль о моей донне" и т. д.
(р. 175-177).
Это все, что Лоренцо счел возможным рассказать нам в
подкрепление довода о том, что только он сам, он один в состоянии
пояснить, с какими переживаниями и поводами были связаны
его сонеты... Дальнейшее и вовсе выдержано в форме крайне
сглаженной, рассудочной, идеальной, преображающей
житейские факты до неузнаваемости.
Поэтому: при всей значимости введения в стилизованный
текст всякого рода демонстративных знаков авторской
независимости и рассуждений на эту тему, как бы извне окаймляв-
_ 660
Риторика и творческая воля
ших риторический материал, - все-таки подтверждалась ли
творческая воля в прямом обращении с самим материалом,
внутри него?
Хотя бы в том же "Комментарии" Лоренцо?
Остранение
риторического приема
"Кому-то, может быть, покажется малоподходящим
начало подборки моих стихов, ибо это начало, - отмечает
Лоренцо с явным удовлетворением, - не только вне обыкновения
тех, кто сочинял подобные стихи до сих пор, но и, как кажется
на первый взгляд, словно бы переворачивает природный
порядок, делая началом то, что во всех человеческих делах
составляет обычный и последний конец..."
Почему? Потому что первые четыре сонета написаны на
смерть донны. "На первый взгляд" Лоренцо начинает с того,
чем Данте и Петрарка кончали. "Смерть эта исторгла не только
эти сонеты из меня, но и слезы вообще всех мужчин и женщин,
которые хоть сколько-нибудь покойную знавали". Даже те в
толпе, кто впервые увидел красавицу в фобу, а гроб везли
открытым до усыпальницы - обливались слезами. По слову
"нашего Петрарки": "Смерть казалась прекрасной в ее прекрасном
лице". Далее поэт пускается в рассуждения - со ссылками на
"философов" и на Аристотеля - о том, что гибель одной вещи
означает рождение другой "и из этого постоянного движения с
необходимостью происходит непрерывное порождение новых
вещей", так что "в человеческих делах конец и начало суть одно
и то же", поэтому "вполне уместно, что смерть - в начале этого
нашего произведения", тем более что "тот, кто исследует это
более тонко", увидит, что живущий любовью прежде должен
умереть для всего иного и что любовь, будучи совершенной,
требует сначала смерти всего несовершенного и т. д. и т. п.
Догадались ли сразу хотя бы друзья и ближайшие читатели
Лоренцо, что четыре начальных сонета посвящены не
возлюбленной самого поэта, как этого естественно было ожидать, но
предмету страсти его брата, Джулиано Медичи, - умершей в
m _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
1476 г., двадцати трех лет отроду, Симонетте Каттанео, в
замужестве Веспуччи, юной даме, которую воспел в "Станцах к
турниру" Полициано и которая была, судя по изображениям Пьеро
ди Козимо, Полайоло, Гирландайо и Боттичелли,
действительно неотразимо очаровательной. Однако Лоренцо не только
оставляет имя донны, как и все имена, без расшифровки. Он
вообще не спешит объясниться. В следующей главе, правда, сказано,
что смерть донны была "общественной утратой", так что "все
флорентийские дарования", на разные лады, кто в прозе, кто в
стихах, оплакивали и восхваляли эту донну "в соответствии со
своими способностями, и среди прочих пожелал быть и я". В
третьем сонете умершая отождествляется с нимфой Клицией из
"Метаморфоз" Овидия, т. е. с гелиотропом, цветком любви. В
комментарии к этому сонету Лоренцо ссылается на
"меланхолическое настроение любящего". Влюбленные и вообще-то
бывают грустны, плачут и вздыхают даже посреди ласк и радостей,
что же сказать о любящем, которого постигло горе? и пр. - и
вот читатели уже готовы увериться, что поэт говорит о себе,
уже печаль становится печалью о смерти возлюбленной, уже
Лоренцо поминает свойственную его характеру меланхолию
("...io, per mia natura desiderando solamente dolore e non gustare
alcuna cosa dolce"), уже поэт возвещает, что решил,
сокрушенный этой кончиной, провести оставшиеся ему годы жизни,
плача и воздыхая "в обществе Амура, Граций и Муз". После чего,
прокомментированный таким образом, следует сонет с
душераздирающей строкой: "Я, не желающий испробовать ничего,
что было бы мне приятно, - потому что она умерла, - буду
длить преступные годы" ( р. 150-151). Вспомним, что с первой
строки трактата Лоренцо говорит от себя и о себе, а не от
имени какого-то "лирического героя", - и вот, жить преступно, если
ее нет. Комментарий же к четвертому сонету начинается с
фразы: "Не удивится никто, чье сердце охвачено любовным огнем"
и т. п.; далее следуют рассуждения о том, что это чувство
исполнено противоречий, и затем о его, поэта, безутешности, когда
остается лишь одно лекарство - смерть (р. 151-153).
И лишь после всего этого мрака и слез следует несколько
запоздалое разъяснение, к которому мы сейчас обратимся и
которое ставит как раз проблему индивидуального. Предупрежу
только, что вслед за философическим разъяснением Лоренцо
_ 6S2
Риторика и творческая воля
повествует, как смерть прекрасной донны побудила его
удостовериться, впрямь ли ей не было равных в городе по красоте,
повадкам и уму. Вскоре автор встретил - на празднестве, куда он
отправился в тоске, неохотно, лишь чтобы не отбиваться от
прочих юношей, - встретил внезапно ту, что "много выше"
покойной по всем достоинствам. Она-то (по мнению биографов
Лоренцо, это Лукреция Донати), начиная с пятого сонета,
становится подлинной героиней "Комментария".
В какой огромной мере сознательной была эта
полумистификация, это нетривиальное начало, когда смерть и
оплакивание прекрасной женщины свершаются прежде любовной
страсти, эта пытливая игра с правилами жанра, с канонами петрар-
кизма, с топикой любви, - в какой мере все это было неспроста,
свидетельствует разъяснение, с нарочитой оттяжкой, но
исчерпывающе данное, в конце концов, автором. Оно, в свою
очередь, предварено суждением о варьета, об отношении между
всеобщим и особенным.
По ходу стилизованно-закругленного изложения, где все -
изящная и легкая риторика, все - ученый маскарад общих мест,
столь безразличный и утомительный для нашего нынешнего
взгляда, эта страница, если только всерьез в нее вчитаться,
поражает вдруг свежестью и своеобразие ренессансного думания
(см. р. 154-155).
Вот она.
"Все люди рождаются с природным желанием счастья, и все
дела человеческие устремляются к этой настоящей цели. Но
поскольку очень трудно понять, что такое счастье и в чем оно
состоит, а если это и понятно, не менее трудно людям достичь
его - то и ищут его разными путями (per diverse vie); и поэтому
люди, считая это своей целью в некоем родовом и
неразличимом смысле (in génère ed in confuso), начинают попытки найти
счастье кто в одном, а кто в другом (chi in uno e chi in un altro
modo); и так, от этой общности сужаясь (ristringendosi) к
некоему особому и частному (propria e particulare), по-разному
тратят силы, каждый соответственно своей природе и
склонностям, отчего и рождается разнообразие человеческих занятий
(la varietà degli studi umani), украшенность и большее
совершенство мира, благодаря различиям между вещами (per la
diversità délie cose), подобно гармонии и созвучию, в котором
m —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
согласуются разные голоса. И может быть, именно для этой
цели Тот, кто никогда не ошибается, сделал темным и трудным
путь к совершенству... Вне всякого сомнения, гораздо легче
познание вещей в роде, чем в виде и частностях; я говорю это,
основываясь на порядке человеческого уразумения, которое не
может прийти к истинному определению какой-либо вещи,
если этому не предшествует ее всеобщее понятие (la notizia
universale)".
Хорошо известно, что такая дедукция - от всеобщего к
единичному - была способом характерно-средневекового
мышления. Лоренцо исходит из посылок, которые меньше всего было
бы позволительно назвать оригинальными. Вообще, тот, кто
желает видеть в истории культуры чуть не до XIX в. в первую
очередь то, что производит впечатление неизменности,
устойчивости, неподвижности, будь то риторические ухватки, некоторые
жанровые схемы и т. п., легко соберет в трактате Лоренцо целые
охапки примеров. Так, универсалия предшествует "истинному
определению" всякой вещи как особенной. В рассуждении об
итальянском языке Лоренцо также начинает с защиты
достоинств этого языка вообще, затем конкретно переходит к защите
высоких возможностей "сонетного стиля" на вольгаре: "Я
считаю весьма подходящим сжимать мысль, доходя до
подробностей, и двигаться от общих положений к некоему особенному,
словно бы от окружности к центру" (р. 138).
Сходство с правилами до-ренессансных рассуждений
оказывается, однако, истолкованным достаточно странно в одном,
зато едва ли не решающем пункте. Ибо для схоластики,
например, универсальное понятие находится именно в центре, а путь
дедукции (от бога к миру, от всеобщего к частному) - это
разворачивание вовне, к окружности. Путь от бога предстает
вместе с тем решающим для человеческого разумения путем к богу,
сворачиванием вещей и их понятий в самом универсальном и в
самом единственном, самом особом, в самом трудном, самом
непостижимом и в самом простом, озаряющем, неоспоримом,
предельном для каждой вещи понятии-центре. Но для Лоренцо
высшей целью объявляется как раз особенное, вот эта вещь. К
ней, как к центру, движется мысль, сжимающая, доводящая до
особенного исходные, родовые, всеобщие и потому слишком
легкие (di più facile!), слишком известные (dalle cose più notel),
_ 664
Риторика и творческая воля
слишком бессодержательно-расплывчатые (confusol) понятия и
дефиниции. И следовательно, это движение от всеобщего в
лучшем случае становится лишь средством утвердить особенное
или даже мнимым движением, отрицанием всеобщего,
поскольку последнее не дает "истинного определения" никакой вещи.
Всеобщее "счастье" - нечто неясное, реально же значимо это
или то счастье. Всеобщность выступает как "разнообразие",
замещается им, восходит к нему.
Замечательной кажется лукавая сентенция Лоренцо о том,
что бог умышленно сделал путь к совершенству (к познанию,
добродетели, спасению души?) темным... ибо сие идет на
пользу разнообразию, т. е. открывает дорогу каждому частному и
особенному.
Но вернемся к цитируемому фрагменту.
"Итак, жизнь и смерть той, о которой мы сказали, давала
нам универсальное понятие любви и лишь смутное знание (со-
gnizione in confuso) того, что такое любовная страсть: вслед за
этим универсальным знанием затем возникнет особое (particu-
lare) знание моей собственной сладчайшей и любовной муки,
как об этом поведаем в дальнейшем. Ведь когда умерла донна, о
которой шла речь, и я восхвалял ее и оплакивал ее смерть, как
публичную потерю и общий ущерб, меня волновали скорбь и
сострадание, которым были охвачены многие и многие в нашем
городе, так что эта скорбь была весьма универсальной и общей
(molto universale e comune). И хотя в предыдущих стихах
описаны некоторые вещи, которые кажутся продиктованными
скорее личной (privata) и великой страстью, то это потому, что я
очень старался - чтобы лучше удовлетворить себя самого и тех,
у кого ее смерть действительно вызвала личное и величайшее
переживание, увидеть все так, словно я потерял самое дорогое
для себя, и воссоздать в своем воображении все, что могло бы
сильно подействовать на меня, чтобы лучше подействовать и на
других. И, пребывая в этом воображаемом положении, я
принялся обдумывать про себя, насколько жестокой была участь
тех, кто очень любил эту донну, и мысленно искать, была ли в
городе какая-либо другая донна, достойная такой любви и
хвалы" (р. 155).
Вот к чему пришло рассуждение о том, что первоначальное
"смутное" всеобщее понятие, устремляясь к центру и сжимаясь,
665 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
уступает место "истинному определению" каждой вещи, т. е.
понятию частному и особому. Лоренцо не только отчетливо
разграничивает "публичное" и "приватное" переживание,
противопоставляет знание любви вообще и знание собственной
"сладчайшей и любовной муки". Самое интересное состоит в
убежденности, что поэт, который пишет о любви вообще, от имени
каких-то других безутешных мужчин и женщин, не в силах
произвести впечатление на читателей, испытавших боль утраты.
Поэтому он должен вообразить эту утрату все равно своей,
личной. Получается, что "общественная" скорбь - нечто
бессодержательное, любовь вообще - не годится в качестве предмета
поэзии. Так что поэт вынужден, хотя бы в искусном воображении,
подменить пустую, бездейственную всеобщность - "notizia
universale d'amore" - индивидуальным переживанием.
"Личная и великая страсть" - "личное" и "великое"
становятся синонимами! Личное чувство возвышается теоретически
над общим и анонимным.
Господи, но неужели в предшествующих четырех сонетах
есть хоть намек на такое чувство? есть что-нибудь, кроме
изящных риторических ходов? И разве в сонетах последующих, ради
которых автору уже не нужно было взвинчивать фантазию,
обращенных к реальной даме его сердца, - разве в этих сонетах и
пояснениях к ним мы найдем что-либо, что отличало бы их от
предыдущих? Что-либо, кроме точно таких же общих мест?
Сначала - риторическое сопоставление новой красавицы с
воспетой прежде. "Если этой свойственны те же любезность, ум
и изящная повадка, что и той, умершей, то, конечно, эта много
превосходит ту красотой, привлекательностью и силой очей".
Следует цитата из Данте о глазах, ставших обиталищем Амура.
Затем автор "принялся за прилежное исследование" ("mi sforzai
diligentemente investigare"!) "всех свойств и частей" прекрасной
донны: ее роста, цвета кожи, ее облика, глаз, пропорций тела,
движений и жестов в ходьбе, танце и пр. - и очень подробно - ее
речей, серьезных и шутливых, ее искусства беседовать, ее
тонкости, остроумия и прочих "превосходнейших свойств" ("eccellen-
tissime condizioni"). Об этом говорится на двух страницах в
самых неопределенных выражениях, имеющих целиком
нормативный характер (р. 157-158). Ибо задача в том и состоит, чтобы
выставить любимую женщину воплощением всех возможных со-
_ S6S
Риторика и творческая воля
вершенств: "Ничего невозможно пожелать в прекрасной и
благородной донне, чего не было бы у нее в изобилии" (р. 159). Все
восторги риторически перечислены и обоснованы по очереди.
Особый сонет, конечно, вслед за Петраркой должен быть
посвящен впечатлениям от первой встречи с возлюбленной (после
рассуждений - со ссылкой на Платона - о том, как западают нам
в душу впечатления). А именно: об одежде донны, о времени
встречи и о месте встречи. Одежда была белая и по ней
развевались золотистые волосы, словно солнечные лучи. Время было,
"несомненно, дневным, хотя бы уже потому, что светило солнце
из глаз". Место же "по необходимости было раем". После чего
дано "правильное определение рая": это "не что иное, как некий
сад, изобилующий всем приятным и усладительным, деревьями,
плодами, цветами, живыми и струящимися вдали, птичьим
пением, словом, всем приятным, о чем только может помышлять
сердце человека; и поэтому поистине рай был там, где была
столь прекрасная донна, ибо было здесь изобилие всяческой
приятности и сладости, которой может желать благородное
сердце" (р. 163-165). И далее, и тому подобное, в том же стиле,
словно мы находимся в саду "Весны" Боттичелли (где, впрочем,
изображена не Лукреция Донати, а Симонетта Веспуччи).
Но насколько же кисти живописца удается то, что ни в
малейшей мере - в нашем восприятии - не получается у поэта:
совмещение риторического, мифологического, идиллического
сюжета с прелестью и неповторимостью мгновенного
чувственного видения.
"Не получается"? Потому что словесная риторика
несовместима с конкретностью и отвлеченный, рассудочный мотив лишь
зрительно способен все-таки совпасть с этой формой, с
остановленным мгновением? Или потому, что Лоренцо недостаточно
большой поэт, ему не хватает таланта, хотя бы невольно
прорывающегося к индивидуальной краске? Или "не получается",
потому что Лоренцо хочет получить другое, добивается совсем не
предполагаемого нами эффекта, понимает индивидуальность
как-то иначе, чем мы?
Допустим, справедливы все объяснения. Но для меня
сейчас существенно именно последнее. Ведь ясно, что автор,
вполне способный в других случаях, в других жанрах быть живо-
конкретным, в "Комментарии" сознательно и последовательно
667 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
избегает выхода за пределы риторической стилизации. Хотя
("потому что"?) стремится продемонстрировать именно себя,
Лоренцо Медичи, влюбленного поэта и философа из
"академии" Кареджи. Не единожды мы выслушиваем торжественную
заявку на индивидуальность рассказчика, на "приватный"
характер того, что рассказывается. И что же? - тем ревностней он
стилизует, подражает, тем рассудочней и безличней его
изложение. Мы по меньшей мере обязаны отметить этот контраст
декларируемой установки и сплошных общих мест,
рубрикаций и пр.
В тексте Лоренцо - а может быть, более или менее у
всякого гуманиста? - есть вымученность. Да, конечно. Потому что
текст порывается перерасти самого себя. Обещает куда больше,
чем дает. Почти физически ощутимо, как трудно автору
приподнять себя за волосы.
Такую вымученность, однако, мы вправе признать
культурно значимой. В самом деле, ведь несовпадение текста с собой не
осталось каким-то бессилием, но превращено в конструктивный
момент этого самого текста. Четырьмя сонетами на смерть
донны и рассуждениями о таком странном начале подан знак ост-
ранения. Читатели (тогдашние - внове и, надо думать, во сто
раз проникновенней, чем мы) успевали ощутить некоторую
ироничность упражнений риторики - упражнений также и над
риторикой. Автор ведь проделал с нею нечто нарочитое. Он не
только вошел, как и подобает риторику, в воображаемую роль,
но затем и вышел из нее, разгримировался, впрочем не перейдя
при этом на иной стилевой язык, т. е. отнюдь не дезавуировав
риторику, а только придав ей проблемность: раздвоившись на
того, кто пишет риторические сонеты, и того, кто размышляет о
пределах такого занятия, спрашивая себя о разнице между
"общим" и "приватным" переживаниями.
Пусть и, так сказать, условные сонеты, и те, которые
Лоренцо преподносит как безусловные, подлинно личные, ничем не
отличаются друг от друга. Но экспериментальное, мысленное
различение отбрасывает смысловой отсвет на весь текст.
Ренессансная стилизация - более мощная, корневая, чем
всякая другая, известная нам из более поздних (до XX
столетия) культур, где она все-таки скорее вспомогательное средство
(пусть даже столь важное, как у романтиков в их отношении к
_ 66S
Риторика и творческая воля
средневековью или экзотике). Ренессансная стилизация -
универсальный майевтический способ появления новоевропейской
культуры как творчества. Она и есть слово гуманиста. Но
вместе с тем ренессансная стилизация то и дело опасно зависает
над пропастью подражания, она, собственно, только
становится стилизацией. Не случайно стремление отличить ее от просто
подражания - постоянная и страшно важная, напряженная
тема гуманизма. Как бы отойти от этой затягивающей пропасти...
но отойти от античности было нельзя. Напротив, только в
искусном подражании ей, в общих местах, в реминисценциях из
Вергилия, Овидия или Горация могли вылиться у гуманистов
Кватроченто усилия духовного раскрепощения16.
Позволительно предположить, что в такой странности, в
такой несообразности - характерный отблеск
историко-культурной ситуации, когда "открытие античности" было еще
будоражащей новостью, острым средством, меняя облик,
переодеваясь, преображаясь, почувствовать собственную
культурную жизненность, утвердиться в соревновании с древними.
Лоренцо, как и Полициано, как и Боттичелли, как и Фичино,
играет с читателями в риторику, наслаждается (вместе с
ними) не просто общими местами, а непринужденностью их
конструирования, волнуется, очевидно, да и других волнует
магией перенесения в выдуманный мир, который
присваивается как мир подлинного существования, не перестающий
вместе с тем ни на йоту быть сиюминутным, здешним миром
Флоренции XV в. То был путь к реальности, состоявший не в
отказе от риторики в пользу неповторимой жизненной
краски, а в превращении риторики в повод для демонстрации
(антириторической по сути и отдаленным историческим
последствиям) авторской одаренности, энергии индивидуального
сознания.
Индивидуальность как бы не видна - она в паузе между
двумя общими местами. Она почти вся - во
многозначительном умолчании, в эллипсисе. В подтексте "изобретенного"
текста, в торжествующем творческом даре, в "ingegno" автора.
А все-таки растворение индивидуальности в "изобретении",
в делании текста, а не выявление и описание ее в самом
тексте - признак тревожного, драматического противоречия. Мы
ощущаем силу индивидуальности - но где же она сама? Она
m _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
неописуема. Она рождается в качестве Протея и довольна
своими превращениями, горда своим "универсальным суждением"
("giudizio universale").
Но как ей удавалось одновременно быть этой - и быть
"универсальной"?
Поэтические переодевания
на античный лад
Может быть, попытаться объяснить риторичность
"Комментария" гораздо проще: тем, что Лоренцо был лишен
вкуса и способностей к запечатлению конкретного и бытового,
пестроты и сора человеческих будней? Но автор новеллы о
Джакопо или поэмы "Ненча из Барберино" такой
способностью, безусловно, обладал. Литературоведы обычно выделяют у
Лоренцо Великолепного, считают наиболее оригинальными и
ценят именно вещи, в которых есть то, что ныне принято
определять как "реалистическую сочность" и т. п., как внимание к
неприкрашенным подробностям человеческого существования.
Заглянем, например, в небольшую шутливую поэму (фрот-
толу) "Охота на куропаток" ("Uccellagione di starne"). Сначала
Лоренцо неспешно описывает приготовления на заре, когда
порозовел восток, вершины гор окрасились золотом; исчезли
звезды; совы, сычи и филины укрылись в лесу; лиса и волк
вернулись в норы; уже выпущены из загонов овцы и свиньи;
крестьяне принялись за свои дела, а на дворе усадьбы слышатся
шумные сборы и лай собак. "Четким был воздух, свежий и
кристальный, и обещало утро быть погожим". В четвертую строфу
Лоренцо ухитряется звучно и аппетитно вставить вдруг
двадцать пять собачьих кличек: "...и Фрицца, и Бьондо, Бамбоччо и
Розина, Гьотто, Виола и Пестелло, и Серкьо, и Фузо, и мой
старый Буонтемпо, Дзамбраччо, Буратель, Стаччо и Пенеккьо..."17
Это только вторая половина октавы, кстати, с искусной,
затейливой рифмовкой, той же, что в "Станцах" Полициано (А-Б-
А-Б-А-Б-В-В). Среди охотников помянуты и
охарактеризованы персонажи сплошь реальные, в том числе Гульельмо (де
Пацци, шурин Лоренцо), "всегда охочий до таких дел", и Дио-
ниджи Пуччи, его приятель, которому посвящены целые четыре
_ 670
Риторика и творческая воля
строфы, где рассказано, как он, не стряхнув еще сна, свалился с
лошади и сильно ушибся - "не упал Диониджи, а рухнул".
Затем Пуччи рассуждает про себя: "Дурачина я, что так рано
выбрался сегодня из дому, и для меня и для охотников было бы
лучше, если бы я остался дома в собственной постели" и т. д.
Далее воспроизведены громкие разговоры. «Тде Корона? Где
Джован Симоне? - спрашиваю у Браччо. - А где этот
носатый?" И Браччо мне отвечает: "Остались по разным причинам.
Корона ни разу в жизни не взял бы куропатки, если бы это не
произошло с ним однажды по нелепой случайности, так что не
беда, что он остался, брать его с собой было бы дурным
предзнаменованием". "А Луиджи Пульчи, отчего его не видно?" -
"Да он отправился в тот лесок еще накануне, что-то взбрело ему
на ум, может быть, он сочиняет сонет"» (строфы X-XI). И
замечательны строфы, в которых даны беспорядочные реплики в
разгар охоты, подбадривание собак, улюлюканье, истошные
выкрики - ни дать ни взять фонограмма, записанная с натуры.
Повторяю, на нынешний вкус в подобных метких ухватыва-
ниях вполне конкретных впечатлений, закрепленных за чем-то
(или кем-то) единичным, и состоит привлекательность
поэтических опытов Медичи. Дружескому кругу, для которого в
первую очередь предназначались "Охота на куропаток" и пр., надо
думать, тоже нравились эти узнаваемые и красочные
подробности. Но возможно, более всего было по душе вставление
бытовых реалий в изысканную и легкую строфу, соединение их с
осязаемыми классическими реминисценциями. Тут соль не в
сценках с натуры самих по себе, а в их остроумном соединении с
риторико-мифологическими общими местами. Подшучивание
над приятелями, зарисовки подробностей охоты, ее
суматошного и веселого азарта - все сопряжено с идиллическим
пейзажем, с Дианой и Фортуной, с "тысячью сладких стихов" (XVI).
Повседневность рифмовалась с риторикой, оттого поэтика
сдвигалась и гуманисты, экспериментируя с нею, тем самым
менялись сами, т. е. как раз становились гуманистами.
Современный исследователь, называя "Охоту на куропаток"
вслед за Кардуччи "поэтической безделицей", считает, что при
некоторых достоинствах "верного образа реальности" и его
художественной обработки в целом поэма малоценна: "Эти
истории об охотниках, собаках, ястребах и куропатках не слишком
671 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
привлекательны для большинства читателей"18. Ну да. Однако
оценим внежанровость этой вещи, колеблющейся между, так
сказать, эпосом (где взамен описания приготовлений к битве и
самой битвы описывается охота теми же гибкими октавами, в
которых Боярдо и Ариосто поведали о приключениях Орландо)
и чем-то вроде бытового очерка, между пасторалью и фротто-
лой, между житейской сочностью и утонченными общими
местами. В культурно-словесном плане эта вещь давала ранее
неизвестную степень авторской свободы.
Но "Охота" не стояла особняком. В творчестве Лоренцо
Медичи видны два параллельных ряда. И если в одном ряду -
стилизаторские эксперименты над традиционными античными и
фольклорными жанрами, то в другом - пародирование тех же
самых традиций, безусловно дорогих его сердцу, и,
следовательно, нечто гораздо более сложное, чем высмеивание.
Действительно, невозможно считать, скажем, "Ненчу из Барберино"
попросту пародией на буколику, а терцины лоренцова "Пира" - на
дантову "Комедию" и "Триумфы" Петрарки. Прилагая цицеро-
нианскую элоквенцию и вообще высокие образцы к
пустяковым и даже шутовским сюжетам, Лоренцо решал ту же задачу,
что и в солидном "Комментарии" и "Лесах любви". Поднимая
риторику на смех19, Лоренцо не прощался с нею, а лишь
учился - как и посредством серьезных стилизаций - глядеть на нее
сбоку, высвобождаться из чужого античного или тречентист-
ского слова. Недаром "тонка грань, отделяющая пародию от
серьезной литературы"20. Оба литературных ряда у Лоренцо
сходились в отказе от подражания, в ироничности по
отношению к себе, к собственной духовной образованности, в той или
иной форме творческого сдвига традиции.
Еще один характерный опус Лоренцо Медичи: "Ласки
Венеры и Марса". Когда олимпийские боги и богини собираются
посмотреть на Марса, застигнутого Солнцем в объятиях супруги
Вулкана, у поэта появляется, разумеется, удачный повод
продемонстрировать классическую начитанность. Но опять-таки
существенно не это, а фамильяризация античности.
Соответственно, шутливо описанный адюльтер богов возвышается до
ученой литературной игры. Это словно бы сценарий одного из ме-
дичейских праздничных шествий. Его персонажи - Венера,
Марс, Солнце, Вулкан - лицедеи в одеждах богов, живые фигу-
_ 672
Риторика и творческая воля
ры, заговорившие перед карнавальной толпой (названия частей,
вроде: "Марс, появившись, говорит так"). Это действо вовсе не
античное, но и не снижающее античность, оно равно пропитано
гуманистической эрудицией и флорентийской
простонародностью, наивной влюбленностью в мифологический материал,
веселой увлеченностью, ученой важностью, иронией. Расхожие
места риторической мифологии то и дело увенчиваются столь
же расхожими местами рыночной мудрости. Торжественные
имена олимпийцев смешиваются с
повседневно-флорентийским: "для всякой длительной утайки приходит свой конец";
"не хочешь, чтоб об этом толковали, не греши"; "где грех, там и
наказание"; "присмотреть за влюбленной женщиной - дело
тяжкое, ведь коли она захочет - никто ее не остановит" и т. п. И
все это изложено терцинами, которые считались
принадлежностью высокого стиля.
Уместно еще раз сослаться на Ю.Н. Тынянова: "Так как
каждое произведение представляет собою системное
взаимодействие, корреляцию элементов, то нет неокрашенных элементов;
если какой-нибудь элемент заменяется другим, - это значит,
что в систему включен знак другой системы; в итоге этого
включения системность разрушается (вернее, выясняется ее
условность)"21. В итоге включения риторики в просторечие
("Охота на куропаток") или просторечия в риторику ("Ласки
Венеры и Марса") выясняется литературная условность
риторики. Освежается инаковость ее языка, продолжающего
существовать, но по-новому.
Вспомним, наконец, карнавальную "Канцону Вакха", самое
известное сочинение Лоренцо (точнее, всем известен лишь
задорно-меланхолический припев этой песенки: "Тот, кто хочет
быть веселым, пусть веселится, на завтра нет надежды").
Напомним, что этот припев, этот призыв радоваться здесь и
сейчас, возникает в толпе, под ритм неистовой пляски. Лоренцо,
как известно, действительно любил устраивать такие
мифологические маскарады на улицах Флоренции. Мелькают ожившие
античные образы: "Это Вакх и Ариадна...", "Эти нимфы и
прочий люд", "Эти веселые сатирчики, влюбленные в нимф..."
("Questi lieti satiretti" - замечательно звучная строка,
подпрыгивающая на четырех ЧП). Вот едет Силен на осле - "и плоти,
и лет уже в избытке". За ним Мидас... Это ряженые! "От Амура
22 - 345
673 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ищут убежища лишь неотесанные и неблагодарные люди".
Флорентийцы XV в. и античные персонажи - "все, смешавшись
теперь в одну толпу, что бы там ни было, играют и поют".
Нечто сходное происходило и с самими риторическими
приемами. Они тоже пускались в пляс, охотно включались в
культурное перевоплощение. Лоренцо Великолепный был
превеликим мастером употреблять их с каким-то радостным
формализмом, с крайней облегченностью. Кажется, то, что для
классической риторики было адекватным ей, здесь приобретает
почти откровенную маскарадность. Тем не менее гуманист
никогда не доходит до пародии. Это на свой лад вполне серьезная
поэтика, это, если можно так выразиться, серьезная травестия
(переодевание). Современники, зная, какие обстоятельства
зашифрованы в "Комментариях к некоторым сонетам о любви" и
пр., любовались не просто риторическими топосами, а
остроумием превращения в них житейских реалий. Для риторики
как таковой эти топосы были, так сказать, самими героями;
теперь они же стали актерами, играющими героев, разучившими
классические роли. Достаточно прочесть письмо к Лоренцо
такого умного ценителя, как Пико делла Мирандола, чтобы
убедиться: для читателей XV в. - в отличие от литературоведов
XX в. - были особенно ценны и глубоки не шутливые и
чувственные фроттолы, а те произведения Лоренцо, над которыми
мы теперь готовы заснуть. Почему? Удивительный ответ, по-
видимому, таков: в них острей всего тогда чувствовалась
личная индивидуальность!
Ренессансная культура двигалась к этой цели, стало быть,
по двум линиям. Хотя привычней бы думать, что ее достигала
только (или, во всяком случае, более прямо и насущно) та из
этих линий, которая состояла в обострившемся интересе и
наблюдательности ко всему бытовому, характерному и резко
единичному. Это - так называемый "натурализм" Раннего
Возрождения, заявивший о себе в статуе Донателло "Цукконе", в
новеллистике Саккетти и Боккаччо, в "домашних хрониках"
Джованни Морелли, Бонаккорсо Питти или Донато Веллути.
_ 674
Зарисовки с натуры
хрониста Веллути
Странно думать, что, например, записки Веллути
(начатые в 1367 г.)22 приходится отнести к тому же типу культуры,
что и сочинения Полициано и Медичи или Петрарки и Салюта-
ти, бывших не только его соотечественниками, но и
современниками. Казалось бы, что общего?
У Веллути мы обнаруживаем богатейшую россыпь
характеристик родственников хрониста, отчасти построенных по
стереотипным признакам внешности и поведения. Вот "игрок",
"хвастун", "большой говорун", вот "большой труженик", вот
"крикун", "большой любитель поесть"; "выпивоха" и - самое
резкое в устах этого богатого купца и мануфактуриста -
"большой мот".
Скажем, так: "невысокий", "худой", "немногословный",
"храбрый", "любезный" и "мастер на все руки, кроме ведения
деловых бумаг", ибо не был приучен к этому отцом. Это портрет
некоего Герардино.
Если портрет бывает ординарен и скучноват, то в этом
вина не рассказчика, а оригинала. Веллути ничего не сочиняет и
не приукрашивает, он лишь припоминает по совести, не
скупится подчас на подробности и оживляется, если
действительно есть, что припомнить. Тогда расхожие оценки сочетаются с
неожиданными и энергичными деталями. Запоминается мона
Диана, которая носила такие огромные шляпы, что не заметила
свалившегося на нее камня. Или Бернардо, который держал
сукнодельческую мастерскую; на него вдруг снизошел святой
дух, он постригся в монахи-августинцы и, к общему
изумлению (позволяет себе добавить Веллути), отказался от членства
в цехе Лана; когда же умер его отец, Бернардо бросил
проповеди и столь же внезапно вернулся в цех. Или дед хрониста: в
молодости - сильный и отчаянный вояка, иссеченный
шрамами, полученными в сражениях "против еретиков и патаренов"
и просто в драках; в зрелости - почтеннейший купец,
закупавший в Милане, окрашивавший и перепродававший сукна; в
старости же дед ослеп, ходил по комнатам "три-четыре мили в
день", обильно ужинал - "и так проводил свою жизнь", дожив
22·
675 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
якобы до 120 лет. И отец хрониста, смолоду крепкий, ловкий,
худощавый, женился вторично в 67 лет, оставался и в старости
неутомимым ходоком, любителем грубой и обильной еды,
ничем никогда не болел ("разве что лихорадкой") и умер в 72
года, "промочив ноги". "Был он очень благоразумный,
проворный, прилежный - и большой купец". Еще - о непутевом
брате Пиччо, судовладельце в Неаполе, там и прогоревшем,
холостяке, оставившем после себя внебрачную дочь (Донато о ней
позаботился). И о другом брате, Лоттьеро, который перебрался
в Авиньон, лет 13-14 постригся в монахи, изучал логику,
философию и право в Пизе, Неаполе и Сорбонне, затем стал
настоятелем церкви во Флоренции. Был он человеком доброй и
открытой души ("безо всяких хитростей"), весьма охочим до
еды и выпивки, "самым тучным в семье", страдал от подагры и
"болей в боку".
Так на десятках страниц - обо всех членах семьи, умерших
и остающихся в живых, об их браках, их ссорах, особенно же
обстоятельно и точно - об их покупках, финансовом
положении, с замечательными сведениями о ведении торговых
операций, ценах, размерах капиталов и пр.
И о себе: "я среднего роста, со свежим, розовым лицом и
белой кожей, с небольшими руками и ногами", "в молодости до
женитьбы был очень здоровым, худым и не знал, что такое
болезни", но спустя семь-восемь лет после женитьбы захворал
желудком, и бывали боли в боку, а в 1347 г., в возрасте 34-35 лет,
началась подагра, "и из-за всех этих хворей бывал иногда жар,
но редко". Очень подробно Донато Веллути рассказывает о
своих болезнях, о своих коммерческих делах, жалуется на
поручения коммуны, почетные и приносившие полезные знакомства,
но "наносившие большой ущерб кошельку и отрывавшие... от
собственных дел" (р. 84).
Да, но зачем он рассказывает? Затем, что "каждый человек
хочет знать о своем происхождении и своих предках и какие
были родственные связи и как приобреталось имущество..." И
вот, "учитывая, что всякий человек смертен, а я тем более,
ввиду подагры, от которой сильно страдаю, решил я записать
воспоминания и памятки о том, что насчет всего этого слышал от
отца и старших и что нашел в деловых бумагах, книгах и
прочих записях..."
_ 676
Риторика и творческая воля
Личное еще почти сливается с семейным. Это именно
домашняя хроника, а впрочем, жанр здесь определить затруднительно.
Уже не хроника и еще не мемуары. Смешаны городские
события, интимные признания и сплетни, соединены
назидательность и неудержимое желание поболтать о своем; какой-то
наивный эгоцентризм. А правила риторики? Их нет и в помине.
Хотя... при том, что Веллути бесконечно далек по образованию,
таланту, интересам, жанру от автора "Пира" или от Лоренцо
Великолепного, он тоже оговаривает, что о самом себе писать
неудобно, лучше бы, чтобы написали другие, да некому. Он, Дона-
то, пишет не для самовосхваления, но "для памяти о
случившемся, думая доставить удовольствие тем, кто это прочтет"
(р. 69). Вдруг мы обнаруживаем отголоски тех же общих мест, с
которых начинается и "Комментарий" Лоренцо. Писать о себе
по-прежнему требовало стереотипного оправдания. Но тянула
нарастающая потребность ("домашние хроники" специфичны
для Флоренции XIV-XV вв.). И Веллути как бы принимается
разглядывать себя в зеркале. Бесподобно простодушие, с
которым он, выразив надежду доставить удовольствие читателю, тут
же пускается в стариковские жалобы на болезни...
На первый взгляд нет ни малейшей возможности
сопоставления "Хроники" Веллути и "Комментария" Лоренцо, которые
принадлежат не только к разным жанрам и традициям
литературы на вольгаре, но и к совершенно разным полюсам стиля и
мироощущения. Все, чего нет в одном из этих двух
произведений, есть в другом - и наоборот. В особенности же у Лоренцо, в
комментарии к будто бы автобиографическим стихам, начисто
нет вот этого жадного интереса Веллути (или Морелли, или
Питти) к собственной особе во всей ее житейской, телесной,
бытовой конкретности. Личность Лоренцо видна, допустим, в
его письмах, но в стилизованных риторических стихах и прозе,
казалось бы, нечего и пытаться ее выглядывать. Зато у Веллути
зарождение ренессансного индивидуализма так очевидно и так
колоритно!
Отметим, однако, следующее. "Индивидуализм" семейного
хрониста лишен внутреннего мира. (Я припоминаю только одно
удивительное исключение: рассказ Морелли о раздумьях,
заставляющих его ворочаться во время бессонницы.) Индивид тут
целиком овнешнен. Конечно, личности, скажем, Веллути и Пит-
677 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ти резко разнятся, каждый очень характерен, но это понятно
нам из материала и тона, это выговаривается невольно. Инди-
видуация совпадает с бессознательной пластикой рассказа. Мы
разглядываем автора - вот он какой! - а он об этом, кажется, и
не подозревает. (То же самое, между прочим, в знаменитом
"Жизнеописании" Бенвенуто Челлини.)
Рефлексия на себя - "что я за человек", "чем я отличен от
других" - сводит автора домашней хроники разве что к чисто
эмпирическому набору признаков, ибо белокожесть, средний
рост, подагра и боли в боку, столько-то сыновей, такие-то
случаи из жизни, бедствия и удачи остаются именно пестрым
набором, где слишком общие черты в сочетании со слишком
случайными происшествиями (например, как его, Донато,
десятилетним мальчиком заманили и ограбили) еще не собираются в
особенное, в последовательность душевного склада.
Кроме того, в домашних хрониках недостает личности (в
позднейшем смысле слова) также из-за смазанности
творческого отношения к себе. Индивид воспринимает себя (и остается)
всецело наличным и тождественным себе. Он, правда, может
измениться с возрастом и обстоятельствами (так, один из
братьев хрониста в юности сорил деньгами, а после раздела
имущества и повзрослев стал прижимист). Но в
плотно-эмпирической, бытовой, случайной закрепленности "Я", со всех
сторон зарастающего приметами и биографией, нет щели для
выхода за собственные границы, нет проблемы несовпадения
возможностей индивида и их осуществления - проблемы, так
занимавшей книжников-гуманистов. Почему этот самый Бернар-
до то постригся в монахи, то снова занялся выделкой сукна?
Для Веллути здесь лишь внешний курьез, вроде шляп модницы
Дианы. В "удивлении" окружающих и самого хрониста еще нет
догадки о том, что за такими метаниями стояла некая личность.
Я бы сказал, что хотя "натуралистический" интерес к
индивидному, интерес, непосредственно росший из итальянской
городской социальной обстановки, был абсолютно необходимым
компонентом Возрождения, тем не менее сам по себе этот
интерес еще совершенно недостаточен, чтобы дать новый и особый
тип культуры. "Натурализм", как известно, возникал в зрелом
средневековье, в готике XIV-XV вв., а в Италии более
характерен для Раннего Возрождения, но всюду - в сложных сплавах.
_ 67S
Риторика и творческая воля
Нельзя не задуматься, почему то, что итальянцы называют
"Полное Возрождение" ("Pieno Rinascimento"), при сбережении
внимания к плотскому и характерному и при взаимном
наложении и столкновении двух установок, уводящем в глубь стиля, в
целом сдвинулось в сторону несравненной идеализованности,
классицистичности, "гармонии", ученой стилизации.
Конечно, и домашняя хроника - некое культурное
пересоздание купца. Ведь недаром он выступает уже не как купец, а как
автор. И все-таки, чтобы возникло Возрождение,
потребовалось гораздо более радикальное (сознательное) преобразование
исходного "пополанского" (бюргерского) личностного
импульса, скажем готического или предренессансного. Путь лежал не
просто через усиление готического интереса к себе и ближним,
но через узнавание других, инаковых, дальних - короче, через
гуманистическую сублимацию и через античность.
Для становления личности в культуре игра с античностью,
стилизация чужого слова и мифологизация собственной
жизни23 - все это было, возможно, более принципиальным, чем
позднесредневековое любопытство к подробности, казусности
своего (и всякого) бытия. В искусстве Возрождения эти линии
и резко расходились, и тайно сочетались (когда все житейски-
конкретное хорошенько упрятывалось - но не забывалось! - в
"высоких" жанрах у Лоренцо Медичи или Саннадзаро реальное
уходило в намек, в некий "парадигматический" фон).
Органическое слияние двух тенденций, шедших от быта и
от возрождаемых жанровых традиций, т. е. встреча общего
места и неповторимой детали, было задачей, которую решало
западноевропейское искусство нескольких эпох, от XIII до
XVIII в. включительно. В итоге - уже, например, у Шекспира
и Рембрандта - в этом искусстве явилась новоевропейская
личность.
Вернемся же к нашему Лоренцо. Когда он претворял смерть
Симонетты и свой роман с Лукрецией в сонеты и
"Комментарий" к ним, тут, конечно, не было художественного реализма, а
чуть ли не сплошная риторика. Но была и новизна.
Современная, флорентийская, его, Лоренцо, жизнь преображалась до
неузнаваемости. Однако в сочинениях такого рода (а к ним ведь
относятся и вся пастораль, и весь петраркизм, и "Весна" или
"Рождение Венеры" Боттичелли, да что угодно!) не столько
679 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
"жизнь" - материал для "искусства", сколько искусство -
материал для жизни. Ибо античные образцы, стилевые традиции,
жанры, правила риторики - все становилось поводом и почвой
для выработки и проявления сознательного индивидуального
авторского усилия.
Пусть зависимость от унаследованных и возрожденных
литературных форм - нет! не унаследованных, а возрожденных,
это совсем разные вещи - пусть эта зависимость была
огромной. Однако подход к ним стал испытующим, игровым,
своенравным, даже когда свобода в обращении с материалом
включила в себя стремление к предельной отшлифованности и
сглаженности - к тому, что позже начали именовать выверенностью
стилизации.
Стилизация не адекватна ренессансной культуре, ибо она ее
важное (хотя не единственное) средство, но не цель и не
результат. Результатом же было, повторяю, выдвижение на
первый план автора. Иначе: индивидуального конструирования
произведения.
В поэме "Охота на куропаток" шутливые "зарисовки с
натуры" кончаются такими строками: "Сделав это, все разошлись
спать. А то, что приснилось ночью, было бы прекрасно
пересказать, ведь я знаю, что каждый наверстает упущенное во сне.
Поспят до девяти утра. Затем мы сойдемся вместе на этих
берегах, вытащим из вод кое-какую рыбешку. И так пройдет,
приятель, весело время под музыку тысячи сахарных стихов" (XIV,
р. 75).
Под эту же музыку - двумя октавами выше - с
добродушно-иронической улыбкой поминается "сладостный стиль",
"questo dolce stil", который "нравится" Гульельмо, и в текст
введена диалогическая реплика, выдержанная в стильновистской
тональности. Под музыку риторических и классицистских
общих мест рождалась новая культурная реальность, артистизм
личности, умеющей жить в разных обликах, соревноваться с
предшественниками и понимать под подражанием способность
при этом остаться самим собой. Я взял, обратившись к
"Комментарию", отнюдь не из самых свежих ренессансных текстов...
Но и его изрядная стертость не может скрыть, даже
подчеркивает, что автор не совпадает с текстом, как лицедей не
совпадает с ролью. Нас может сколько угодно раздражать "выдуман-
_ ш
Риторика и творческая воля
ность" сонетов и пояснений к ним, однако сама искусность
подделки - уже эксперимент. Это-то и приводило тогда в восторг.
Часто принято (вслед за Де Санктисом и А. Момильяно)
усматривать у Медичи "эскапизм", бегство от грубой реальности в
мечтательный и меланхолический мир изящной словесности.
Но это было скорее вторжением творческой личности в мир
готовых культурных форм. "Выдумывание" (или
"изобретение") - вот ее пароль.
И когда Лоренцо пишет в "Охоте на куропаток" о поэте
Луиджи Пульчи, создателе фантасмагорического "Моргайте":
"qualche fantasia ha per la mente: vorra fantasticar forse un sonet-
to" ("что-то взбрело ему на ум, может быть, он захочет
выдумать сонет") - не упустим из виду, что в тогдашнем
итальянском языке слово "фантазия" (ср., например, с письмами
Макьявелли) имело специфически емкое значение. Им
пользовались, когда хотели указать на особую склонность, характер,
пристрастие индивида, никак не мотивированное извне,
совпадающее с ним самим; синонимами этого слова были "причуда",
"каприз", "странность", отмечаемые с неизменной
внимательностью и сочувствием; всеми подобными пометами замещалось
готовящееся понятие "личности". Вот почему формула Лоренцо
("qualche fantasia" и т. д.) звучит для того, кто имел дело с ре-
нессансными текстами, куда выразительней, чем в русском
переводе. Лоренцо был бы вправе целиком отнести ее к себе или,
допустим, к Полициано. "Комментарий", как и все, что он и его
друзья написали, именно измыслен: в качестве результата, но
прежде всего средства самопорождения, "выдумывания" нового
индивида. И риторика служила "выдумке", а не выдумка была
подчинена надвременным правилам риторики.
Поэтому общие места становились средством эксперимента.
Ими надо было распорядиться так, чтобы они
свидетельствовали о суверенной авторской воле. То есть читатель любовался не
просто самими общими местами, а тем, что делал с ними автор,
как вводил их в изложение, как смешивал парафразу с
интимностью, с речью "от себя". Замаскированные - и разоблачаемые
по ходу чтения - реминисценции радовали не менее, чем
откровенные контрасты культурного разноязычия ("Орфей"). И
конечно, восстановление в правах вольгаре - от Бруни и Альбер-
ти до Полициано и Медичи - давало новые поразительные воз-
681 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
можности переиначивания, поскольку латинское пиршество
ныне происходило за итальянским столом. Ввиду родственной
близости двух языков узнавание сквозь перевод приобретало
особую маскарадную остроту и прелесть.
Художественные опыты
Полициано
Полициано воскресил жанр "лесов" второстепенного
римского поэта Стация, привлеченный, как уже говорилось,
умением Стация создать мозаику множества разнородных
мотивов. В собственных "Станцах", начатых к турниру
Великолепного Джулиано ди Пьеро де Медичи, где нет ни слова о
турнире, но зато рассказано, как Джулиано, под
латинизированным именем Юлия, раненный Купидоном, попадает в царство
Любви, Полициано весьма преуспел на этом пути. Для начала
описания садов Венеры помянуты Грация, Красота и Флора;
автор обращается, подражая Овидию, к музе Эрато; за золотыми
стенами, где текут два ручья со сладкой и горькой водой, вечно
длится весна, никогда не желтеет трава, не дуют ветры, кроме
Зефира. Далее перед нами мелькают аллегорические фигуры
Амуров, Удовольствия, Коварства, Надежды, Желания, Страха,
Наслаждения, Ссоры и Примирения, Слез, Испуга, Худобы,
Тревоги, Подозрения, Радости, Влечения, Красоты,
Удовлетворения, Тоски, Заблуждения, Бешенства, Раскаяния,
Жестокости, Отчаяния, Обмана, Смеха, Тайных знаков, Взглядов,
Юности, Плача, Скорбей, Разрыва. Риторическая рубрикация?
Допустим пока, что так. Каждая фигура обрисована выразительно
и кратко.
Но Полициано вовсе и не думает исчерпать "воинством"
"прекрасной Венеры" то, чем он занялся и ради чего, как очень
скоро убеждается читатель, была вообще затеяна поэма, а
именно перечисление.
Он переходит к цветам, украшающим луг. Друг друга
сменяют душистая фиалка и роза, которым посвящена целая
строфа, а затем: желтые, красные и белые анютины глазки, гиацинт,
нарцисс, гелиотроп, горицвет, крокус и акант - вместе с целым
букетом реминисценций из овидиевых "Метаморфоз". Далее
_ 682
Риторика и творческая воля
описан живой родник, бьющий из-под земли, а вокруг него
просторно расположились деревья, "и кажется, что они растут,
соревнуясь одно с другим". После чего названы и
охарактеризованы... девятнадцать видов деревьев, от ели до мирта! И сверх
того еще "красуются все новые растения, в разнообразных
нарядах и разной формы: это выпускает бутоны, лишь достигая
полной зрелости, это обзаводится ими, теряя прежние ветви, а то,
выткав приятную и радостную тень виноградных листьев,
только ими и укрывается от Солнца-Аполлона, а это, подрезанное,
плачет, склонив голову, и поглощает воду, чтобы излить потом
вино".
Вдруг мы замечаем, что Полициано как-то сбился с
риторического приема. Ибо все это, чем дальше, тем менее походит на
рассудочно-моралистическую рубрикацию. Где же здесь
рациональное выделение признаков, позволяющее охарактеризовать
с разных сторон некий предмет и подготовить к сопоставлению
с другим предметом? Собственно, мы даже теряем
представление, о каком предмете идет речь... о саде Венеры? Но зачем же
перечислять и перечислять цветы или деревья? Зачем вдруг
задерживаться зевакой у виноградных лоз? И где же
моралистическая цель?
Полициано разгуливает по макрокосму и разглядывает все,
что упоминает. Его увлеченное перечисление подобно
"разнообразию" на втором плане ренессансной картины. Риторика
исподволь подменяется живописью или, во всяком случае,
подчиняется ей, и принцип перечисления у нас на глазах перестает
быть риторическим принципом. Этот перечень - не что иное,
как специфически ренессансное "разнообразие"24. Это
называние и показывание того, и другого, и третьего, и так без конца,
довлеющее себе. Перечень наслаждается всем, на что падает
взгляд. Риторический по словесной инструментовке, он антири-
торичен по сути.
Только-только покончив с растениями и упомянув в
четвертой строке 85-й октавы "белые цветы и зеленые листья" мирта,
поэт тут же переходит к описанию любовных игр овечек и
барашков, и начинается... перечень животных, от телят до тигров
и львов и от диких кабанов до "обычных зайцев". Как уже
можно предугадать, доходит черед и до разных рыб, резвящихся в
теплых водах, и до разных птиц, из коих отдельно описано
m —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
шесть видов. Потом - словно бы на том же бесконечно
длящемся дыхании - описан дворец Венеры, где, между прочим,
благодаря драгоценным инкрустациям, врата переливаются
"тысячами и тысячами оттенков цвета" и изваяны рельефы и статуи с
изображениями рождения Венеры, а также - особо - ее самой,
и Урана, и Сатурна, и Геи, еще Фурий и Гигантов, Нимф,
Вулкана, Юпитера во всех видах - похищающего Европу, в облике
лебедя, золотого дождя, змеи, пастуха, орла, - а также Нептуна,
Феба, Ариадны и Тезея, Вакха, сатиров и вакханок, Силена на
осле, Прозерпины и Плутона, Геркулеса, Полифема, Галатеи...
Инвентарь природы продолжен инвентарем
образованности, художнику дает сюжеты книжник; все, разумеется,
пропитано столь желательной "скрытой" эрудицией; и читатель
может совершить - посредством квазириторического приема -
прогулку по ренессансному классицистскому кругозору.
Но вершиной итальянской литературы XV в. стал
знаменитый "Орфей", написанный, по признанию Полициано, "за два
дня, посреди непрерывной суматохи" празднеств при мантуан-
ском дворе герцогов Гонзаго.
Чтобы понять, почему именно "Орфей" стал излюбленней-
шим чтением образованной публики конца Кватроченто, а
Полициано - первым поэтом медичейской Флоренции, нужно
вспомнить, что это произведение, представляющее тогдашний
литературный вкус в чистоте и законченности, было, в
сущности, чудовищной контаминацией, отнюдь не возникшей, однако,
по невежеству и безответственности автора, а, напротив,
потребовавшей мгновенного, но расчетливого вдохновения, чтобы
совершенно сознательно сделать эту стихотворную драму как раз
тем, чем она и является.
Многократно отмечалось, что здесь впервые жанр и манера
средневековой мистерии были вдруг употреблены ради
языческого мифологического сюжета, чтобы вывести на сцену героя,
столь популярного среди флорентийских неоплатоников.
Незатейливость действия, не ведающего переходов и основанного на
чередовании дискретных эпизодов, весь общий тон "святого
представления" (sacra rappresentazione) сохранялся, но
сочетался с перепевами из Овидия, Вергилия, Клавдиана, Данте,
Петрарки. Этими пряностями для подготовленной аудитории густо
нашпигован весь текст, так что два культурных языка, два сти-
_ 684
Риторика и творческая воля
ля - простонародный и ученый, наивный и изысканный,
общепонятный и зашифрованный - прослаивали и остраняли друг
друга у опасной грани пародирования.
Вместо традиционного ангела, призывающего в прологе
зрителей ко вниманию, появляется Меркурий и обещает
поведать, как Орфей потерял Эвридику, отрекся от любви и "был
умерщвлен женщинами". Далее происходит длинная
идиллическая сцена, в которой пастухи с традиционными
литературными именами беседуют о безудержной страсти. Юный Аристей
рассказывает о том, как внезапно влюбился в "нимфу, более
прекрасную, чем Диана", которую он однажды увидел с
"молодым возлюбленным" (т. е. с Орфеем). Старый Морсо его
урезонивает. Аристей распевает пасторальную песню: "Внимайте,
леса, моим нежным речам". Морсо отвечает: "Берегись, Аристей,
чтоб слишком пылкая страсть не привела тебя к какому-нибудь
печальному концу". Все это - свободная итальянская вариация
на темы вергилиевых "Буколик". Появляется Эвридика, и
Аристей обращается к ней с песенкой в фольклорно-карнавальном
духе: "Послушай, прекрасная нимфа, послушай, что я скажу, не
убегай, нимфа, ведь я пришел к тебе с любовью; да ведь не волк
это и не медведь, а твой возлюбленный, так сдержи же свой
легкий бег" и пр. И сразу же, без малейшей подготовки,
появляется Орфей и читает пространные латинские стихи в честь
кардинала Франческо Гонзага и всего герцогского дома, полностью
выдержанные в торжественно риторическом стиле! "...О лира,
ныне измени вместе со мною свой лад и выговори новую песню
(flecte nunc mecum numéros novumque die, lyra, carmen)"25.
Действие как ни в чем не бывало надолго прерывается...
Что и говорить, после песенки Аристея это подлинно "новая
песня". Контраст получается действительно замечательный.
Становится понятным, почему в ренессансной среде считали
сплошь искусственную, с нашей точки зрения, пастораль
"безыскусным" жанром, прибежищем простоты и естественности.
Еще бы, достаточно только сравнить речи Аристея и Орфея!
Если угодно, все это - сплошная риторика и подражание. Но:
одический стиль помещен внутрь буколического, гулкий
латинский метр - внутрь пританцовывающей итальянской
напевности, важное и серьезное попало в окружение легкого и
забавного, юное и приватное оттенено зрелым и публичным.
685 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Оба стиля вроде бы заемные и насчитывают полторы
тысячи лет. Но их столкновение было бы невозможным на их же
собственной, античной, классической почве. Оно произошло по
прихотливой воле автора и, несомненно, срывает обе традиции
с мест, обнаруживает их условность, создает дистанцию между
ними и современной аудиторией. Так возникает новая
словесно-культурная ситуация. Эффект стилизации образуется с
полнейшей откровенностью благодаря уже одной этой
внушительной инородной латинской вставке. Но вставка делает еще и то,
что риторика, служащая фоном для нее, т. е. для "настоящей"
латинской риторики, уже как бы перестает восприниматься
риторически. Более того: панегирик в честь кардинала Гонзага,
взламывая стиль "Сказания об Орфее", делает этот стиль - по
контрасту - аняшриторическим. Очужденная риторичность
переходит в противоположность. Прием вносит некую
ироничность. Однако у Полициано все построено на сходных, пусть и
не столь резких приемах. За этим видна система.
После целых 13 латинских строф появляется Пастух и
сообщает Орфею и зрителям о смерти Эвридики. После чего Орфей
декламирует (с двойной парафразой, из Петрарки и Овидия):
"Так восплачем же, о безутешная лира, ибо больше не подобает
петь на привычный лад. Будем плакать, доколе кружатся небеса,
и пусть Филомела (соловей из овидиева мифа. - Л. Б.) уступит
нашему плачу. О небо, о земля, о море, о жестокий жребий, как я
вынесу такое горе? Моя прекрасная Эвридика, о жизнь моя, без
тебя мне незачем жить" и т. д. И с песней Орфей спускается в ад.
Из риторики, из контаминации старых жанров, т. е.
мистерии и пасторальной эклоги, элегической баллады, мадригала,
задорных куплетов, карнавальной песни, оды, у нас на глазах
возникает абсолютно новый жанр, ибо, как тоже давно
отмечалось, "Орфей" Полициано - первое в истории оперное
либретто (или нечто, его предвещающее)26. После ремарки "Плутон,
полный удивления, говорит так" звучит, так сказать, партия
Плутона. Происходят сцены в аду. Они завершаются тем, что
"Орфей возвращается с освобожденной Эвридикой и распевает
некие веселые стихи, которые принадлежат Овидию и
приспособлены к этому случаю" (ремарка автора!). И в уста Орфея,
действительно, опять вставлено на сей раз оригинальное
латинское четверостишие.
_ ш
Риторика и творческая воля
Эвридика же отвечает Орфею, взглянувшему на нее в
царстве мертвых вопреки условию Плутона, вновь по-итальянски,
но, правда, таким образом, что итальянское "поп vale**
("напрасно**) зарифмовано с латинским "vale**: "Я никогда не буду твоей,
протягиваю к тебе руки, но напрасно, меня влекут назад. Орфей
мой, прощай!**
Насколько нарочитыми были предыдущие обширные
латинские вставки, настолько же непринужденно в очень
трогательную и простую итальянскую фразу вдруг встревает
латинское словечко, и эта нечаянность почти неприметного
смешения производит, пожалуй, не меньшее впечатление, чем дерзкие
контрасты. Это ведь как раз та "фация**, та "небрежность**, на
которой, как мы помним, настаивал Полициано в речи о Квин-
тилиане и Стации.
Затем Орфей оплакивает свою судьбу и наставляет
зрителей: "Сколь несчастен мужчина, который готов измениться из-
за женщины, радуется или печалится из-за нее, или прощается
ради нее со своей свободой, или верит ее виду и словам**. Это,
разумеется, общее место, нечто сходное есть и в "Станцах**
(строфа 59). В финале с новой силой обнаруживается свобода, с
которой Полициано обращается с разными жанрами, разными
речевыми стилями, риторическими общими местами, ритмами
и сюжетом. Вслед за прощальным мрачным монологом Орфея
появляется Вакханка: "Вот тот, кто презирает нашу любовь: ol о
сестры! о, о! предадим его смерти". Орфея тащат за сцену.
Затем Вакханка выходит снова - уже с головой Орфея в руках -
и кратко повествует в довольно варварских, мрачноватых
красках, как тело Орфея было растерзано на куски. "Эвоэ, Вакх,
прими эту жертву".
И после этих слов... вакханки пускаются в задорный пляс.
Североитальянские диалектизмы (пьеса ставилась в Мантуе!),
тоже словно ненароком, сплетаются с криками "Вакх, Вакх,
эвоэ!". "Кто хочет пить, кто хочет пить, пусть приходит пить,
приходит сюда", "Я тоже хочу пить", "Есть вино и для тебя",
"Наберитесь, как воронки" и пр. Так звучит то, что в ремарке
обозначено как "Жертвоприношение Вакханок в честь Вакха" и
должно было бы стать заключительным "дифирамбом".
Псевдоантичное действие увенчивается уличной простонародной
сценкой. Нет ничего забавней, чем возгласы в честь "Вакха" и
687 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
только что отрезанная голова Орфея посреди столь
карнавального веселья27.
Странно, почему в литературоведении принято иногда
рассуждать о том, что Полициано избрал "трагический сюжет",
смутно ощущая надвигающийся кризис своей культуры, но
стремясь вопреки гибели героя утвердить ренессансные
ценности и т. д. и т. п.? Неужто можно воспринять "Орфея" всерьез
на уровне сюжета или топосов? Пастух ухаживал за Нимфой,
Эвридика погибла, Орфей отдан на растерзание, сказаны
всякие веселые и печальные слова, потому что этого требовали
традиционные правила жанра (смерть Орфея и радость
вакханок - "языческая" травестия смерти и воскрешения Христа),
этого требовал мифологический сюжет, этого требовали
правила риторических противопоставлений. Но тут же нет
мировоззренческой серьезности. Что и впрямь предельно серьезно, так
это не гибель Орфея и не пасторальные или вакхические
мотивы сами по себе, а то, как Полициано мастерски и достаточно
иронично все смешивает и обыгрывает, серьезна установка на
стилизацию как могущественный инструмент творчества.
Последнее слово остается не за гибнущим Орфеем или ликующими
вакханками, не за мистерией или пасторалью, не за риторикой,
не за бесчисленными эрудитскими намеками или прямой
цитатой из Овидия - последнее слово принадлежит самому
Полициано.
В первой строфе "Станцев" значится: "Смелый ум
побуждает меня прославить" и пр.
Смелый ум ("la mente audace") был более или менее
свойствен каждому ренессансному автору, использовавшему прежние
формы в новой функции. Так вот: за чужим словом сохранялась
его краска, но тем охотней оно вводилось в текст,
монтировавший чужие культуры внутри и ради культуры собственной.
Этим способом обращения с инаковыми культурами
Возрождение сделало первый, пока очень отдаленный шаг в сторону
XX в.
Трактат
Лоренцо Великолепного.
На дальних подступах
к понятию личности
Ведь что-то одно не может удовлетворять
потребностям нашей жизни и
разнообразию человеческих склонностей.
Лоренцо Медичи
Облик Лоренцо Великолепного
О Лоренцо Великолепном наслышаны все, кто
обладает хотя бы скромными сведениями об итальянском
Возрождении. Конечно, это одна из наиболее своеобразных и вместе с тем
показательных фигур Кватроченто. Однако, что касается самого
обширного из его сочинений, о котором часто шла речь выше,
т. е. незаконченного трактата "Комментарий к некоторым
сонетам о любви" (между 1476-1484 гг.), то даже специалисты
интересовались им очень мало1. В нем усматривали разве что
богатую гуманистическую эрудицию Лоренцо, или
автобиографические намеки, или характерную защиту народного, итальянского
языка и т. п. - но не какое-то глубинное культурное значение.
Дело в том, что трактат в отличие от автора достаточно зауряден,
подражателен, состоит по преимуществу из излюбленных тогда
в ренессансной культурной среде общих мест, пусть
преподнесенных со свойственными Лоренцо остроумием и изяществом.
Знаменитая, необыкновенно колоритная личность автора -
и громоздкое, интеллектуально-усредненное, исторически
поэтому вроде бы малозначимое сочинение.
Между тем это соотношение может оказаться на свой лад
продуктивным исходным моментом как раз для целей
настоящего исследования. Здесь нужны некоторые предварительные
пояснения.
m _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Как известно, итальянская городская синьория XIII-
XV вв. возникла и удерживалась (при решающем условии
того или иного равновесия основных социальных сил, т. е.
знати, пополанской верхушки и ремесленников) благодаря
энергии некоего индивида, который основывал режим личной
власти не на наследственных, феодальных правах, но
исключительно на собственной предприимчивости и смелости, на
умении привлекать к себе людей или устрашать их. При этом
внешне обычно сохранялась традиционная коммунальная
структура и над ней надстраивалась узурпированная
верховная юрисдикция.
Власть Медичи во Флоренции XV в. тоже была "тиранией"
и по социальному содержанию, и в конечном счете по способу
осуществления. Но это совершенно особый и крайний случай.
Речь идет сейчас не об оценке стиля правления, не о спорах,
начавшихся еще при жизни Лоренцо Великолепного и
продолжающихся до сих пор, не о том, в какой мере это правление было
действительно просвещенным, на удивление мягким и гибким
(даже после подавления заговора Пацци, о чем свидетельствует
история беспрепятственного возвышения Савонаролы). Речь
идет о самом механизме власти Лоренцо. Он, как и его дед Ко-
зимо, не имел никаких официальных прерогатив и не занимал
ключевых государственных должностей, оставаясь частным
лицом. Его могущество строилось на поддержке прежде всего
большинства торгово-денежной олигархии, на искусно
подогреваемой популярности, на замечательных дипломатических и
иных заслугах перед городом, на ореоле имени Медичи, умело
применяемом для достижения своих целей, на проистекавшем
из всего этого своего рода общественном согласии. Изо дня в
день, чтобы не утерять власти, Лоренцо должен был
поддерживать систему личных связей, что-то вроде клиентелы. Он
нуждался в изощренных многоступенчатых процедурах
голосования, отфильтровывавших нужные кандидатуры, в непрерывных
тонких закулисных маневрах для сохранения за своими
многочисленными и сплоченными сторонниками большинства в
Совете Ста, среди "аккопьятори" (т. е. выборщиков) и в итоге в
составе синьории, балии и других важнейших исполнительных
органов коммуны. Все это, пожалуй, больше напоминает, при
всем анахронизме такого сопоставления, роль лидера правящей
_ 690
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
партии, чем владычество, пусть и некоронованного, государя.
Хотя Лоренцо, ведя переговоры от имени Флоренции,
представал в глазах папы, неаполитанского короля или далекого
турецкого султана именно как бы государем, внутри города его
положение было достаточно сложным. Нельзя считать всего лишь
лукавой отговоркой слова, сказанные им миланским послам в
1482 г., о том, что его возможности склонить флорентийцев в
пользу герцога ограниченны, "учитывая, что он не синьор
Флоренции, а гражданин". И что ему, Лоренцо, при всем его
авторитете, "в подобных случаях необходимо запастись терпением и
сообразовываться с желаниями многих"2.
Я начал с беглого упоминания о характере медичейского
правления, имея в виду, собственно, отметить лишь
один-единственный пункт, существенный для дальнейшего рассуждения.
Никакая иная итальянская тирания не была в такой степени
неформальной. Соответственно нигде так хорошо, как в этом
исключительном случае, не выходила наружу новая роль
личности. Если бы мы знали об авторе "Комментария к некоторым
сонетам о любви" только то, что более 20 лет он был
фактическим руководителем Флоренции в пору ее расцвета и поражал
всю Европу государственными талантами, - этого было бы уже
достаточно, чтобы задаться вопросом: отпечаталось ли как-то в
тексте самосознание столь бесспорной индивидуальности.
Но еще примечательней то, что индивидуальность Лоренцо
Великолепного утвердилась не только на главном его поприще.
Свое заслуженное прозвище он получил в особенности за
сочетание в нем политического дара с подлинно художественной
натурой, с многообразным и часто весьма живым поэтическим
творчеством, прекрасной гуманистической выучкой (под
руководством Аргиропуло, Ландино и Фичино!), с
принадлежностью к платоновской Академии Кареджи, со зрелым вкусом
завзятого собирателя античных и новых скульптур, камей, гемм,
монет, картин, книг, с дружелюбным и по-настоящему
компетентным меценатством3. Все это помножалось на
прославленное личное обаяние, в котором трезво-насмешливый ум
совмещался с артистизмом поведения, буйная жизнерадостность - с
меланхолией (по-видимому, не только литературной, но и
реально-острой), наконец, княжеская повадка - с простотой и
доступностью.
691 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Понадобились два века флорентийской социальной и
культурной традиции, чтобы выработать подобного человека. Многие
историки считают Лоренцо гением, и это, по-видимому, правда,
но его одаренность сказалась не столько в отдельных сторонах и
результатах его деятельности, сколько в ее "универсальности",
более того - в доведении самого типа ренессансной личности до
такой полноты и шлифовки, до такой показательности, что мы
говорим "среда Лоренцо Медичи", "эпоха Лоренцо Медичи". Мы
соединяем среду и эпоху с его именем отнюдь не формально
хронологически, они уже немыслимы без него самого, без стоящего в
их центре, очень типичного (притом чрезвычайно
индивидуального, без чего в кругу ренессансной элиты и нельзя было стать
для нее типичным!) - короче, ничуть не экстремального, ничуть
не выходящего за рамки Возрождения и все-таки
неподражаемого Лоренцо. Вовсе не только благодаря общественному
положению, участвуя в интеллектуально-художественной жизни
Флоренции увлеченно и на равных, он сумел занять свое место среди
сошедшихся в ней в этот исторический момент гениев.
Литературоведы пытаются понять, как уживались в нем
расчетливый политик и мечтательный поэт, а в самой его
поэзии - как соотносились реалистическая сочность и то, что
именуют предполагаемым "бегством" (evasione) от
государственных и житейских забот в идеализованный мир пасторали, в
красивые условности петраркизма, в гуманистическую риторику, в
сон о золотом "сатурновом" веке.
Какое характерное опять-таки затруднение! - при всей
пластичной ощутимости личности Лоренцо, в ней нельзя указать
центр. Нельзя и укрыться за привычной отговоркой насчет
"противоречивости": напротив, контрастные свойства и
склонности совмещаются в ней, ничуть ее не разрывая, легко, с
непостижимой естественностью. В этом как раз и сказывается нечто
очень ренессансное. Индивидуальная определенность словно
бы не могла осуществиться без некоторой размытости
очертаний, без тревожащего нас "сфумато". Рождение повой личности
предусматривало нечеткость фокусировки (или, если угодно,
"универсальность") в качестве не достоинства или изъяна, а
конструктивного условия. Поэтому в зрелом Возрождении то и
дело встречались люди, производящие впечатление
"загадочных". Так часто называют и Лоренцо.
_ m
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
Приводят одно из самых ранних суждений о нем,
высказанное Макьявелли на последней странице "Истории Флоренции":
видя, как он одновременно ведет жизнь и легкомысленную, и
полную забот и дел, можно было подумать, что в нем
немыслимым образом сочетаются две разные натуры4.
Любопытно, что близкими словами и по такой же точно
схеме (рядоположения "vita voluttuosa" и "vita grave")
Макьявелли отзывался и о себе, и о ближайшем своем друге Франче-
ско Веттори (в письме к последнему). Того, кто познакомился
бы с нашей перепиской, замечает Макьявелли, поразило бы ее
разнообразие ("diversità"). То мы выглядим в ней как "люди
торжественно-серьезные, полностью поглощенные великими
вещами, и в нашу грудь не могла бы запасть мысль, которая не
заключала бы в себе и чести и величия". Но стоит перевернуть
страницу - "и мы, те же самые, уже легковесны, непостоянны,
похотливы и заняты вещами суетными". Может быть, продол-,
жает Макьявелли, кто-то осудит такую непоследовательность,
по мне же - она заслуживает похвалы, "потому что мы
подражаем природе, которая разнообразна, а того, кто подражает ей,
не в чем упрекнуть"5.
Таким образом, макьявеллиевская характеристика Лоренцо
Медичи как человека, в котором (переведу теперь буквально)
"словно бы сочетались два несоединимых лица" ("due persone,
quasi con impossibile coniunzione congiunte"), есть общее место.
Это попытка описать и объяснить душевную жизнь и поведение
индивида через понятие природного "разнообразия", попытка,
свидетельствующая, что феномен личности не был еще (с
нашей точки зрения) освоен концептуально. Характер
самосознания - крайне существенный и "объективный", так сказать,
признак, когда мы интересуемся устройством такого предмета, как
личность. То, что деятель ренессансной культуры с огромным
пафосом возвышал себя не в качестве, как мы ожидали бы,
единственного ("этого" в гегелевском смысле), а в качестве
единичного, которое включено во вселенское разнообразие, но
которое велико, потому что способно также включить его в себя,
подражая природе, разрастаясь до родового, всеобщего
существа, - может показаться неадекватной самооценкой. Ведь она
одновременно и фантастически преувеличивала и умаляла
неповторимость каждого из этих людей. Однако разумней (т. е. ис-
m —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
торичней) увидеть в "неадекватности" нечто донельзя
адекватное особому возрожденческому складу личности и всей
неимоверной культурной напряженности ее появления на разломе
средневекового мышления.
Итак, за "Комментарием** стоит крупная индивидуальность,
"загадочная" в разности своих вкусов и тяготений, характерная
для самой гущи флорентийского Возрождения. Вместе с тем
для Лоренцо теоретизирование - сфера, в которой он наименее
самобытен, тут он только блестящий ученик. "Комментарий"
написан на добротном среднем уровне, и, значит, такой
необычный человек, как Лоренцо Великолепный, осознает в нем свою
и всякую вообще индивидуальность (а он прямо или косвенно
касается этой проблемы очень настойчиво) посредством
довольно обычных, отработанных в его культурном окружении
интеллектуально-литературных ходов.
Относя трактат Лоренцо к среднему уровню, мы вовсе не
отрицаем рассыпанных в нем блесток живости и остроумия.
Однако, задаваясь целью проследить в "Комментарии"
категорию "разнообразия", кажется, трудно рассчитывать на многое.
Здесь ведь нет ни поразительных перечней Джаноццо Манетти,
ни забегающих вперед суждений Кастильоне о различиях
между индивидуальными художественными стилями, ни глубин,
открывающихся в требованиях Альберта к живописной
композиции, ни тем более головокружительных парадоксов
творческой личности Леонардо да Винчи - на последних историоло-
гических пределах Возрождения. Предметом новых
наблюдений над этим трактатом станет присутствие мотива варьета.
Не на вершинах гуманистической мысли, а в ее более
распространенном, равнинном ландшафте, не в точках, где эта
категория сгущается, достигает яркого переизбытка, а в ее, что ли,
логических буднях.
Посмотрим, впрочем, так ли уж будничны эти будни, не
заключают ли также и они чего-либо нетривиального, странного,
даже парадоксального, короче, порождающего культуру, а не
только ее воспроизводящего.
_ 694
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
О самосознании индивида
Лоренцо начинает свое сочинение с возражений
возможным оппонентам по трем пунктам. Во-первых, нескромным
и неуместным могут счесть то, что он взялся за комментарий к
собственным сонетам. Во-вторых, могут осудить то, что и
сонеты и комментарий - о любовной страсти (поскольку
"комментировать следует лишь относящееся к вещам теологическим и
философским, ради целей важных и великих, для устроения
или утешения нашего ума или для пользы рода
человеческого"). В-третьих, "кому-то, пожалуй, покажется неподобающим,
пусть даже предмет сонетов и комментария был бы сам по себе
вполне достойным, что все это написано и высказано на нашем
материнском и простонародном языке, который там, где на нем
говорят и его понимают, кажется, не лишен некоторой
низменности, а там, где с ним незнакомы, непонятен, - так что, с какой
стороны ни возьми, это произведение и затраченный нами труд
и представляются совершенно тщетными, как если бы их и не
было вовсе"6.
Далее Лоренцо пишет: хотя из-за "этих трех трудностей"
работа над "Комментарием" пошла медленней, чем
предполагалось, но теперь он решается предстать перед публикой,
переубежденный иными, "лучшими доводами". "Если мои скромные
усилия принесут кому-либо пользу и приятность, то они уже
тем самым будут оправданны и окажутся не совсем
напрасными; если же они не снискают успеха, то, значит, лишь немногие
их прочтут и обругают, а раз уж помнить о них будут недолго,
то и порицание, которому я могу подвергнуться, тоже будет
недолгим" (р. 124-125).
После такого улыбчивого замечания Лоренцо приступает к
подробнейшему разбору и опровержению изложенных ранее
сомнений.
Посмотрим, что нашлось у Лоренцо сказать по первому
пункту в защиту права толковать свои же сонеты. Но
предварительно заметим следующее. Хотя, с первого взгляда,
предполагаемые возражения против замысла "Комментария" идут в
совсем разных направлениях, они все-таки совпадают в одной и
решающей плоскости. В самом деле. Форма способна вызвать
осуждение, "потому что это было бы проявлением чрезмерного по-
m —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
чтения к себе", т. е. преувеличением ценности и
самодостаточности сил отдельного индивида. Предмет - слишком частей,
"партикулярен", незначителен и греховен по сравнению со
спасением души, мирским достоинством и "пользой рода
человеческого" - вещами всеобщей значимости, "философскими и
теологическими", и действительно заслуживающими
комментирования. Наконец, язык, понятный лишь в Италии и
простонародный, предпочтен повсеместному и универсальному языку -
латинскому. "С какой стороны ни возьми", мы выходим к
проблеме соотношения между отдельным и всеобщим. В духовной
системе Средневековья это соотношение было, как известно,
иерархически предопределено.
"...Мне не кажется самонадеянностью истолковывать
собственные сочинения; скорее, я избавляю этим других от труда; и
никому более не идет к делу заниматься толкованием, чем тому,
кто написал, потому что никто не может лучше, чем он, знать и
извлечь из написанного истинный смысл, как это ясно
показывает путаница, рождающаяся из разнообразия толкований, в
которых (комментаторы) в большинстве случаев следуют более за
собственной природой (la natura propria), чем за истинным
намерением автора... Поэтому мне не кажется, что я слишком
высоко расцениваю самого себя или лишаю других возможности
судить обо мне..." (р. 125).
Было бы слишком поспешным сделать из слов Лоренцо
вывод, будто у каждого индивида некая вполне индивидуальная
("неповторимая") "природа". Как мы тотчас убедимся - и это
совершенно согласуется, например, с рассуждениями Альберти
или Леонардо о выражении в жестах "душевных движений" и
различий между людьми - под "собственной природой"
Лоренцо еще понимает преимущественно тот, что ли, особый,
частный разряд, к которому следует отнести любого человека. Как
остро ни волнует автора "Комментария" "собственная природа",
понятием личности он еще не располагает.
Правда, по сравнению с Данте ("Пир", I, 2) аргументация
сильно изменилась. Если Данте ограничивался скромной
ссылкой на то, что его иносказание иной читатель не поймет без
разъяснений, отнюдь не подчеркивая преимуществ авторского
толкования, то Лоренцо сомневается в полезности прочих
толкований, объявляет авторское понимание текста, как правило,
_ 696
Трактат Лоренир Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
единственно верным, и притом вовсе не в отношении
иносказательных текстов. Напротив: он обосновывает это трудностью
для комментатора, следующего своей "природе", понять
"природу" чужую. Тем самым литературный текст понимается как
выражение не абсолютной, общезначимой, "публичной" истины, а
истины особенной, "приватной", неотделимой от автора.
Такова, во всяком случае, направленность соображений Лоренцо.
Иное дело - как далеко Лоренцо в состоянии пройти по этому
логическому пути, т. е. что он разумеет под индивидуальной
"природой".
Каждый человек обязан действовать на благо себе и другим.
"И поскольку никто не рождается способным заниматься сразу
всеми теми вещами, которые почитаются в мире первейшими,
нужно измерить самого себя (da misurare se medesimo) и
поглядеть, в каком занятии ты можешь лучше послужить роду
человеческому, в нем и упражняться7; ведь что-то одно (una cosa
sola) не может удовлетворять потребностям нашей жизни и
разнообразию человеческих дарований (alla diversità degPingegni
umani), будь это даже первейшая и самая превосходная вещь,
какую только умеют делать люди". Чтобы обеспечить
"совершенство человеческой жизни", потребно "не только много
видов умственной деятельности (moite opère d'ingegno), но и
множество низких ремесел" (р. 125-126).
Итак, родовое совершенство человека - это совокупность
всех разнообразных "природ" и соответствующих видов
деятельности, среди коих распределяются усилия индивидов8.
Хотя формально иерархия человеческих усилий сохранена, но,
поскольку невозможно ограничиться чем-либо одним, пускай и
высшим, даже созерцанием ("каковое, бесспорно, есть занятие
первое и превосходнейшее"), по существу, иерархия
обессмысливается, сглаживается, отрицается. Все занятия нужны, все
служат разнообразию, которое в своей полноте и есть
совершенство. Поэтому ни к чему выделять "что-то одно". Высшее и
низшее оказываются, скорее, рядом - в решающем качестве
несходных и потому (каждое по-своему!) потребных для человечества.
Важнее участие в разнообразии, чем ранг.
Однако, как ни разнообразна, так сказать, вселенская
номенклатура человеческих "природ", она явно предшествует
индивидуальному выбору. Характерно-ренессансные слова о не-
697 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
обходимости "измерить самого себя" и следовать своему
природному призванию - соблазнительно, но опасно понимать мо-
дернизаторски. Лоренцо Медичи говорит о себе лично,
озабочен своей особостью, но он (как и до него Альберти в трактате
"О семье") непосредственно имеет в виду, повторяю, только то,
что каждый индивид более склонен и пригоден к тому или
иному виду деятельности. Тут нет речи об уникальности каждой
личности, но лишь об отнесении каждого индивида на
соответствующую полочку. Что бы ни подозревать в подтексте, в
тексте - только это.
Ибо ведь дело обстоит не так, чтобы "все люди могли всегда
производить все совершенные вещи". "Такая степень
совершенства дана очень немногим", да и у этих избранных
осуществляется редко, в особые часы их жизни. Универсальность,
следовательно, труднодостижимый идеал. Ему не соответствует
"обычная природа и всеобщее обыкновение людей" ("la natura comune
е consuetudine universale degli uomini"). Поэтому совершенство
и осуществляется только через множество несходных и лишь
относительно совершенных вещей ("те вещи в мире лучше, в
которых меньше изъянов"). Итак, "настоящая обязанность всех
людей - служить человеческому роду на той ступени, на
которой они находятся, поставленные туда или небом, или природой,
или фортуной" (р. 126).
Чем банальней рассуждения Лоренцо - впрочем, для него
принципиальные! - тем сложнее в них разобраться. Что
означает, например, это уравнивание через безразличное "или" неба,
природы, фортуны? Это как бы машинальное проборматывание
предполагаемых причин, обусловливающих место индивида?
Что бы это ни было - божественное провидение, расположение
звезд, природные "семена", каприз случая, - последнее
основание, по которому одна индивидуальность отличается от другой,
обозначено формально, неуверенной скороговоркой.
Между тем решать, к чему именно он предназначен,
"измерять самого себя" - дело человека. Может быть, потому и
названо несколько разных причин, потому автор и соглашается
заранее с любой из них, что выбирать призвание все равно должен
"Я"? "Я, - продолжает Лоренцо, - очень желал бы быть в силах
проявить себя (potermi esercitare) в чем-то более высоком: я не
хочу, однако, из-за этого уклоняться от того, к чему кое-кто и
_ 698
Трактат Лоренир Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
даже многие поощряли мое дарование и силы, - может быть,
скорее, чтобы сделать мне приятное, а не потому, что мои
произведения действительно их удовлетворяли, но меня
побуждали к таким занятиям лица, чей авторитет и снисходительность я
ценю чрезвычайно высоко". И дальше - о том, что, если
сочинение не принесет никакой пользы - это ничего, лишь бы оно
доставило некоторое удовольствие, и если кто-либо посмеется над
ним, Лоренцо, - тоже не беда, он даже будет рад, что таким
образом развлек своими стихами. Автор, видите ли, поступает
весьма скромно, "обнародуя это толкование" и вынося стихи на
чужой суд. Конечно, он этого не сделал бы, если бы считал их
недостойными прочтения; но, "публикуя и комментируя их, я,
на мой взгляд, куда лучше избегаю претензии самому судить о
себе (giudicarmi da me medesimo)" (p. 126).
Получается так: автор страшно озабочен самооценкой и
самоутверждением; нужны, как мы теперь сказали бы,
объективные основания, чтобы иметь право на сочинение любовных
стихов и пояснений к ним; право дает лишь некая имперсональная
причина, будь то небо, природа или фортуна, предназначившая
ему с успехом заниматься именно этим; но откуда это
известно?.. Поэтический дар находят в нем компетентные ценители,
все они, однако, - снисходительные к нему друзья. По
необходимости надо брать риск авторства на себя! Хотя традиционно
полагалось этого избегать.
Возникала какая-то неловкая и удивительная ситуация.
Вглядимся в нее еще раз. Лоренцо дает три причины, которые
могут обусловить дар и призвание индивида. Каждая из них в
отдельности не нова, и любая выводит вовне индивида
основание его особости - того, что позже назовут личностью или
индивидуальностью. Три причины сливаются в одну. Или же... нет
ни одной причины? "Небо" несовместимо с "фортуной",
предопределенность - со случаем или "природой", нужно бы что-то
выбрать. Но ведь, так или иначе, решение некой внешней
инстанции неизвестно индивиду, а значит, этого решения все
равно что нет. В том смысле, что решать об этом решении нужно
самому человеку. У меня некое "место" в мире, но я же и сужу
о том, каким ему надлежит быть, какими способностями я
обладаю. Прежде чем начинать комментарий к стихам, необходимо
поэтому выяснить, почему именно я пишу его, тот же "Я", кото-
699 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
рый сочинил и стихи. Спрашивается, чем мое толкование
отличается от всякого иного, откуда взялись "мое дарование и силы"
и т. п. Лоренцо выказывает обостренное авторское сознание.
Он, несомненно, горд своим замыслом, однако вынужден
спорить не только с возможными оппонентами, но, кажется, и с
собой (признание доводов contra внутренними помехами для
работы!).
Пусть в зачине "Комментария" немало литературной игры,
поскольку Лоренцо обращается прежде всего к своей среде, где
ни любовная поэзия, ни достоинства Лоренцо как поэта, ни
даже идея самотолкования в защите не нуждались. Но ощутимы
не только игра, а действительное культурное замешательство и
напряженность: уже в том, как Лоренцо подражает Данте и
Петрарке (почти с видом отчаянного первопроходца!), как,
прибегая к хорошо известным топосам, подчеркивает якобы
рискованно-личный характер высказываний ("мне кажется", "я, хотя
и не осмелился бы утверждать это решительно, все же полагаю"
и т. п. - р. 127, 130).
Конечно, без риторики здесь не обошлось. Однако
риторическая схема, состоящая, во-первых, в систематизированном
логическом переборе "отклоняемых мыслимых возможностей", "в
классификации путей толпы", а во-вторых, в прикреплении
такой классификации "к специфическому мотиву одинокого пути
избранника среди лабиринта разбредшихся путей толпы", - эта
древняя схема9, угадываемая за рассуждениями Лоренцо,
подверглась важным изменениям. Лоренцо вовсе не занят
логическим перебором человеческих занятий и способностей, он
только указывает, что они с необходимостью разнообразны. И он не
выделяет, не возвышает, не объявляет избранничеством то
занятие, которому решил предаться: среди разных занятий
естественно найдется место и для этого. Таким образом, риторическая
рубрикация вообще лишается смысла, поскольку нет ни
иерархии, ни сравнения (синкресиса), ни антитезы. Как раз в
риторическом отношении схема крайне обеднена у Лоренцо.
Собственно, с исчезновением привычных моралистических элементов
остается лишь тень риторики. Уже спустя столетие Монтеню,
наверно, достаточно было бы просто заявить: "Мне это
нравится - толковать собственные стихи, мне это подходит". А
Лоренцо, ведя к тому же, хочет все обосновать посредством рассудоч-
_ 700
Трактат Лореицо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
но-риторической схемы. И схема ломается. Намерение в нее не
укладывается. Ренессансная логика "разнообразия" ей чужда.
Лоренцо "измеряет себя" - но какой, спрашивается,
меркой? Он заявляет, что вынужден, как и всякий обычный
человек, ограничиться "своим местом". Он делает здесь упор на
ограниченность и несовершенство индивидуальной человеческой
природы. Каждый, дескать, делает свое и насколько может. Но в
дальнейшем тексте трактата этому разительно противоречит то
обстоятельство, что автор касается - с обширной и элегантной
эрудицией - метафизики, физики, любви, этики, поэтики и
всего, чего ему вздумается. Скромный комментарий к стихам о
любви разрастается в то самое "универсальное суждение", о
котором восхищенно приговаривал старый Бистиччи в
"Жизнеописаниях" гуманистов ("il giudizio universale" или "la notizia
universale"). A мы, как и современники Лоренцо, отлично помним,
что подобные сочинения отнюдь не были его единственным
занятием. Приходится признать противоречие между
"измерением себя" и безмерностью, которую Лоренцо готов числить хотя
бы за "немногими", к коим он, нужно думать, вопреки
сказанному все-таки причисляет и себя. Ведь отказ автора гигантского
неоплатонического комментария от труднодостижимой
универсальности выглядит достаточно лукавым.
Дело не столько в риторической скромности, сколько в том,
что "свое место" и "универсальность" - две постоянно имеемые
в виду и сталкивающиеся культурные установки Возрождения.
Каждый должен занимать определенное, свое место... и каждый
должен стремиться стать всесторонним человеком. Но как это
примирить: быть определенным и - одновременно - всяким?
Лоренцо ходит вокруг да около нового понимания "Я".
Поэтому и нельзя счесть эту смысловую двойственность,
этот запрос и эту оглядку, всего лишь литературной
условностью. Весь "Комментарий" предъявлен читателям как
свидетельство "дарования и сил" Лоренцо. Автор выступает как
личность, и это даже, может быть, самая важная из его
сознательных задач. Но в каком смысле "сознательных"? Так задача не
была и не могла быть сформулирована. Поэтому мы наблюдаем,
скорее, задачу о задаче: попытки рассуждать и соответствовать
чему-то, о чем Лоренцо не имеет понятия. Вот коллизия
Возрождения.
701 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
При сопоставлении с нашей идеей личности ясно, что
личность, как она сложилась в новоевропейском обществе и
культуре, т. е. уникальный, самоценный, довлеющий себе и не
совпадающий с собой, неготовый, неисчерпаемый, одновременно
структурированный и лишь возможный мир отдельного
человека, мир со своим хаосом и своей твердью, определившийся, но
продолжающий определяться с каждым новым выбором,
поступком и т. п., - личность не может быть ничем иным, как
личностью. Иначе говоря, она не является ни "сверх"
("универсальным человеком"), ни "недо" (лишь индивидом, частью целого).
Эмпирически, разумеется, можно видеть на каждом углу недо-
вершенную, "незрелую" личность. В понятии же - или она есть,
или ее нет. (Если это прямое понятие личности.)
...Ниже я постараюсь показать, что в косвенном своем
понятии ("разнообразия") она есть, хотя ее и нет.
И средневековый интеллектуал, и новоевропейский
интеллигент - диаметрально противоположно, но каждый на
собственный лад последовательно и органично - отстаивали свое
сложившееся положение в мире, им известное. А ренессансныи
человек озабочен тем, чтобы стать неведомо кем. Границы "Я"
неизвестны. Логические, ценностные,
социально-психологические основания индивидуальной личности только имеют быть
обнаружены. Культура итальянского Возрождения еще
незнакома с новоевропейским самообоснованием, самоценностью
"неповторимой" индивидуальности. Личность становится
возможной - концептуально, рефлективно - только в рамках
категории "разнообразия". Отсюда во многом оригинальность ре-
нессансной личности и ее так называемого "индивидуализма".
Мотив "разнообразия"
Отметив достоинства итальянского языка, Лоренцо
переходит затем конкретно к достоинствам итальянского сонета
и поясняет: "...однако, показав его (volgare. - Л. Б.) родовое
совершенство, я считаю весьма уместным сосредоточиться на
подробностях и переходить от общего к некоей особенности
(ristrignarsi al particulare е venire dalla généralité a qualche
propriété), словно бы двигаясь от окружности к центру" (р. 138).
_ 702
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
Лоренцо считает магистральным направлением всякого
рассуждения переход именно от общего к особенному (никак не
наоборот). Он не расходится в этом с привычками
схоластического мышления, исходившего из универсалий. Но в
мимоходом брошенных замечаниях существенна и показательна
переакцентировка. Кстати, почему же от окружности к центру!
почему не из общего, как из центра - к окружности?
Потому что Лоренцо - и это при его-то риторичности -
дорожит познанием и особенного, и к особенному поистине
должно восходить как к центру пустое само по себе ренессансное
всеобщее. Речь идет о том, что "все люди появляются на свет с
прирожденным желанием счастья, и все человеческие действия
устремляются к этому, как к подлинной цели". Лоренцо
продолжает так: "Но, однако, гораздо трудней выяснить, что такое счастье
и в чем оно состоит, а если это и выяснено, не меньшая
трудность - понять, как могут достичь его люди, ищут же его
разными путями (per diverse vie si cerca); ведь люди, положив своей
целью счастье в общем и неясном значении, затем начинают
пытаться найти его, кто одним, а кто другим способом; и так, от
этой родовой всеобщности сосредотачиваясь на некой частной и
особой вещи (a qualche cosa propria e particulare), прилагают
усилия по-разному (diversamente), каждый соответственно своим
склонностям и природе, отчего рождается разнообразие (varietà)
человеческих занятий, украшенность и большее совершенство
мира благодаря гармонии и созвучию, проистекающих из
согласования разных голосов. И ради этой цели, может быть, Тот, кто
никогда не ошибается, сделал путь к совершенству темным и
трудным. И так познаются дела наши, и человеческое
разумение, полагая начало в вещах более известных, переходит от них
к неизвестному. Вне всякого сомнения, познание вещей легче в
роде, чем в виде и частностях; я говорю это в соответствии с
ходом рассуждений человеческого ума, который не может иметь
истинного определения какой-либо вещи, если предварительно
не исходит из универсального суждения о ней" (р. 154-155).
Тут много любопытного. Во-первых, подтверждается, что
"частная и особая вещь", хотя ей традиционно и предшествует
некая "общность" - будь то, например, "счастье" вообще, - не
только трудней, но и дороже для понимания. Именно к ней
движется исследование природных вещей. Общее понятие со-
703 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
средоточивается, сжимается к особенной подробности. Общее
и родовое отнюдь не дает "истинного определения" вещи, хотя
и предшествует такому определению в качестве чего-то более
простого и известного. Во-вторых, превращение видового в
высший смысл родового тут же получает онтологическое, что ли,
оправдание. Люди стремятся к счастью разными путями - и это
самый последний и важный смысл "счастья", которое легче
определить вообще, чем взять в его разнообразии. Разные пути к
счастью соответствуют "разнообразию" человеческих занятий.
Каждый избирает путь ceiöe по вкусу и природе. Эти
индивидуальные, так сказать, пути к счастью - и есть способ
совершенствования мира. Центр тяжести со средневекового спора о
соотношении счастья небесного и земного смещается к
естественным и необходимым различиям в способах стать счастливым.
Ожидаемое нами поначалу риторическое сопоставление
преимуществ и недостатков каждого из способов теряет смысл, и мы
его так и не дождемся. Не лишена соли мысль, что путь к
совершенству (к спасению? к святости? к богу» конечно?) Господь
умышленно сделал темным на пользу разнообразию] - дабы
каждый искал счастье "кто одним способом, кто другим". А иначе
в мире убавилось бы красоты и гармонии.
В другом месте Лоренцо замечает, что чем больше разных
привлекательных вещей представало перед ним, тем
нестерпимей была его любовная мука, ибо "ничто не могло быть
желанней и милей, чем моя донна, она и была тем благом, которое
одно лишь меня радовало бы, а это значит, что все иное, кроме нее,
заставляло меня раздражаться и страдать". Но "число других
вещей бесконечно", и соответственно - бесконечным было
страдание. Ибо, даже когда человеку нравится многое, душа его не
успокаивается и он отворачивается от всего другого, "если может
последовать за первейшим своим желанием". "Так, например,
некто услаждается разными вещами, вроде собак, птиц,
лошадей, жаден по своей природе именно до этого и более стремится
накопить это, чем что-либо иное... Гораздо сильней было мое
страдание, потому что я желал только моей донны..." (р. 270).
Получается, что только вот это счастье этого человека -
единственное реальное счастье. Своего рода этический
номинализм делает родовое понятие призрачным. Конечно,
человеческое "счастье" вообще формально предшествует в рассуждении
_ m
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
счастью индивида. Однако Лоренцо обозначает родовое счастье
как "смешанное", "неясное" - "confuso". Между прочим, именно
этим словечком Альберти указывал на неподобающее "обилие" в
живописной композиции, противопоставляя ему "copia non con-
fiisa", т. е. упорядоченное и мерное разнообразие10. Родовым
содержательным признаком, по сути, становится разве что
варьета, в которой общее отрицается. Само же по себе нерасчленен-
ное, оттого "неясное", родовое понятие хотя и сохраняет статус
исходного, но такая исходность решительно меняет смысл. Это
не исходность более широкого и истинного, но исходность
более широкого и неясного. Родовое всегда известно, а
индивидное - неизвестное. Поэтому-то, однако, родовое и "неясно",
пусто в своей известности, а индивидное, "приватное", - то, что в
конечном счете одно лишь может стать ясным, не "смешанным",
отдельным, конкретным - словом, известным.
С какой четкостью идея "разнообразия" приобретает едва ли
не сквозной и решающий характер для мозаичного изложения
Лоренцо - вот что бросается в глаза при внимательном чтении
трактата. Возникая исподволь уже в первом абзаце, в первом,
так сказать, такте интродукции, мотив варьета затем слышится
на протяжении пространного трактата вновь и вновь,
впечатляет уже количественной, что ли, значительностью. Варьета
становится почти невольным, неустранимым, универсальным, часто
неявным логическим стержнем для многих пестрых сюжетов, о
которых автору вздумается завести речь. Мотив "разнообразия"
дает о себе знать чрезвычайно разнообразно.
Отнюдь не ставя своей задачей полный учет
соответствующих мест, просмотрим некоторые из наиболее характерных и
выразительных.
1. "Если я мог бы описать одно за другим возлюбленные
свойства (accidenti) и повадки моей донны, то, конечно, эта
наша любовная история обрела бы гораздо больше красоты, а
хвала моей донне зазвучала бы гораздо громче. Потому что,
поистине, каждая, даже наименьшая, подробность ее жизни
заслуживает быть отмеченной мною, и если я большую часть обхожу
молчанием, то лишь ввиду богатства и обилия вещей,
требующих упоминания (abbondanza e copia délie cose): ибо со мной
произошло то, что бывает, если некто посреди пленительного
луга с многокрасочными цветами хочет отобрать самые преле-
23 - 345
705 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
стные и не знает, к какому раньше протянуть руку. Ведь
достоинства красоты затрудняют выбор, желания же наши
устремлены к тому, что больше нам нравится. Вот так и я не в силах
собрать все цветы на великолепном лугу моей донны..." (р. 243-
244).
Стало быть, общее место о луговом разноцветье,
встречающееся на каждом шагу в ренессансной литературе (ср. с
"Аркадией" Саннадзаро), потребовалось, чтобы сказать о
достоинствах любимой, как о "разнообразии". Донна видится поэту как
неисчерпаемость прекрасных свойств, "акциденций" (ogni
nuovo accidente" и т. д. - р. 248); она - влекущая "варьета".
"Варьета" - грозное оружие Амура ("е diversamente, secondo la
mult plice diversité in tante belezze naturali ed ornamenti suoi,
trovavo in effetto Amore armato..." - p. 287).
2. Соответственно "разнообразие" царит и в чувствах
влюбленного. "Могущество красоты моей донны... вызывает во мне
разные и необычные отклики", в том числе такие, казалось бы,
несоединимые страсти, как сострадание, гнев, радость и печаль,
которые я вижу, когда вглядываюсь в ее лицо. Вообще, "мне
кажется величайшей темой для размышлений та исключительная
сила, которая действует между противоположными и разными
вещами, приводя порой к результатам, находящимся словно бы
вне прочего порядка" (р. 249). Что бы ни выражалось в лице
любимой, пусть гнев, страх, скорбь, - "красота этого лица
приобретала силу казаться еще более прекрасной даже в тех
акциденциях, которые обычно омрачают красоту, ибо, чем сильней
были такие акциденции, красоте противоположные, тем легче
росла красота в акциденциях, которые естественно ей
способствуют, например в радости... и была исключительной красота, в
которой соединялись вместе и столь прекрасная природа, и
столь прекрасная акциденция..." и т. п. (р. 250).
А на другой странице Лоренцо объявляет, что
"разнообразие" сердечных ощущений - это "привилегия любящих". "Не
удивится никто, чье сердце охвачено любовным огнем,
обнаружив в этих стихах разные страсти и аффекты, очень
противоречащие друг другу". Жизнь любящих не бывает спокойной и
"однообразной". "И если в наших или чьих-либо любовных стихах
часто обретаются разнообразие и противоречие (questa varietà e
contradizione di cose), то это - привилегия любящих, которые не
_ 70S
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
связаны обычными человеческими свойствами..." (р. 151).
"Разнообразие и смятение мыслей" ("la varietà е confusione di pen-
sieri" ) - очевидный признак влюбленности (ρ'. 281).
3. "Разнообразие" - естественное условие "благородства".
Ибо «столько вещей могут быть благородными, сколько есть
целей, к которым вещи стремятся; как это видно из опыта в
жизни человека, потому что в нежном детском возрасте мы
назовем его "благородный мальчик", затем "благородный
подросток", "благородный юноша", "благородный мужчина" и т. д.
соответственно разным целям, которые являют в нем возраст и
природа* (р. 187).
4. Не только в любви "счастье и несчастье соединены и
перепутаны вместе". "Это происходит не только в любовных
делах, но и в природных и вообще во всех случаях, относящихся к
людям... все, что живет в мире, состоит из
противоположностей... и если бы разные соки организма не смягчали друг друга,
не могло бы существовать ничего живого в этом низшем мире...
потому что каждый сок естественно стремится одолеть
противоположные ему... и жизнь сохраняется, пока длится
равновесие сил и война между ними. И потому скажем, что наша жизнь
состоит из противоположности, враждебности и соединения
несходных зол, а смерть проистекает из мирного состояния"
(р. 224). Это что касается тела. Но и наш интеллект всегда в
противоречии и борьбе с телесными ощущениями и страстями.
"А сверх этого еще часто, почти всегда, одна страсть
противоречит другой и одно желание - другому... А еще мы видим, что в
общественных, личных и семейных делах трудно склониться к
чему-то определенному, ибо в каждой позиции есть и нечто
неподходящее, и нельзя найти одного верного решения из тысячи,
против которого нечего было бы возразить". "Итак, выясняется,
что нет человеческого поступка, который был бы абсолютно
благим или приятным, без примеси горя". «И время называют
"мудрейшим" ибо истинная мудрость состоит в том, чтобы
выждать случай и воспользоваться им» (р. 225).
Нетрудно расслышать во всех подобных рассуждениях
отголоски античных топосов, восходящих к Гераклиту и
Пифагору, к Галену и пр. Конечно (также и на фоне гуманистической
традиции Кватроченто), Лоренцо в этих, как и в других,
парафразах не слишком-то оригинален. Тем занятней наблюдать,
23·
707 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
как от медицинско-космологических утверждений автор быстро
спускается к житейским прописям и вдруг высказывает мысль
об умении оседлать благоприятный случай - мысль вроде бы
тоже не ахти какую новую, но, несомненно, не вычитанную
Медичи из книг... и своей интонацией перекликающуюся со
многим, от новелл Боккаччо до Макьявелли. Не упустим также из
виду, что такие рассуждения, частые у Лоренцо, в плане
поэтики формулируют мировоззренческую подоплеку петраркизма с
его игрой-столкновением горьких и сладостных сторон любви.
Кроме того, - и это очень существенно - общие места
приобретают свой настоящий смысл лишь в целостном контексте
трактата. Автор, разумеется, отбирает из обширных запасов
своей классической начитанности именно то, что ему нужно,
что непринужденно усваивается и ложится на его собственные
жизненный опыт и склонности. И вот, когда мы уже знаем о ре-
нессансном разнообразии, оно начинает прямо-таки бросаться в
глаза и там, где можно было бы не придать топике Лоренцо
никакого особого значения. Пусть тот или иной пассаж в
отдельности ничем не задевает исследовательского воображения, но
упрямое, чуть ли не навязчивое повторение автором на разные
лады и по самым неожиданным поводам одного и того же - в
сущности, простого - соображения делает это соображение
непростым, гораздо более важным и емким, чем в изолированном
эпизоде изложения, делает его идеей. Только почему-то -
заметим на будущее - Лоренцо не столько говорит о
"разнообразии", сколько проговаривается, изящно пробалтывает, походя
касается время от времени чего-то бесконечно значительного
для его миропонимания. Мы как бы погружаемся, читая
"Комментарий", в довольно слабый логический раствор "варьета",
однако именно присутствие "варьета" придает этому раствору
оригинальный привкус и окраску.
Итак, трудно "pigliare qualche partito" стать на сторону
какой-либо истины, страсти, практического решения и т. п., ибо
все человеческое неоднозначно, любые суждение и оценка
поэтому относительны, и Лоренцо верит, кажется, более всего в
самооправдательную силу конкретного казуса ("l'occasione").
5. "Я думаю, что разнообразие мнений (la diversità délie
opinioni) проистекает скорее из природы тех, кто надеется или
жаждет чего-то, чем из разума. При условии, что то или иное
_ 708
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
мнение имеет равные основания, которые сами по себе не дают
преимущества ни одной стороне, ни другой. И поэтому я
уверен, что те люди, которые являются прирожденными
меланхоликами, меньше способны к надежде, чем другие; и это тем
верней, чем чаще в их жизни фортуна была враждебна к ним, так
что немногое свершалось в соответствии с их желаниями. В
начале уже отмечалось, что всякая сильная любовь порождается
сильным воображением, а такие любящие - по природе
меланхолики. Признаюсь, что и я из числа таких людей, я любил с
величайшей одержимостью, хотя в качестве любящего должен
был, судя разумно, скорее сомневаться, чем надеяться; добавлю
к этому, что во всю мою жизнь я большей частью получал непо-
добавшие мне почести и положение и лишь изредка знавал
радости тех немногих других вещей, которые были мне желанны:
я говорю о том, в чем наша душа ищет подчас отрады среди
общественных и приватных трудов и опасностей, даже если и
живет она в довольстве, - о том, что так скрашивает мою судьбу"
(р. 258).
Отрывок вообще очень характерен для стиля Лоренцо,
присваивающего топику посредством всех этих "я думаю" и "я
уверен", превращающего ее в свое личное мнение и легко
стирающего границы между отвлеченными сентенциями и
доверительными интимными признаниями. Пусть он провозглашает
расхожие истины - но о себе и от себя. Это интонирование -
немаловажный момент самой мысли. И если Лоренцо рассуждает о
логическом статусе "мнения", то речь идет, будьте уверены, о
его собственных мнениях, о мнениях его друзей, короче, о
реальности человеческого индивида, как ее толкует этот ренес-
сансный флорентиец.
«Знание понимает вещи несомненные и ясные; невежество
ничего не понимает; мнение же относится к тем вещам, которые
иногда есть, а иногда их нет, которые могут и быть и не быть. И
поэтому мнение всегда проникнуто тревогой и беспокойством,
потому что душа наша не удовлетворяется ничем, кроме
истинного, а так как мнение не может обладать какой-либо
несомненностью, то она не успокаивается и судит о вещах скорее
сравнительно и относительно, чем согласно истине. К примеру, я
скажу: "Такой-то - высокий человек", поскольку его рост
несколько больше трех локтей, которыми обычно ограничивается рост
709 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
человека. Но если рослые люди были бы высотой в четыре
локтя, то человек с ростом в три с половиной локтя считался бы
маленьким. Среди эфиопов, от природы черных, назвали бы
белым того, кто менее черен, чем другие, а среди западных
людей - черен тот, кто у эфиопов считался бы белоснежным".
Добр человек, который воспринимается таким относительно
злодейства других; а "тот, кого нынче считают величайшим
богачом во Флоренции, Венеции и других местах, при тех же
богатствах был бы нищим во времена Римской империи в
сравнении с многими другими большими богатствами* и пр.
(р. 282-283).
Этот ренессансный "релятивизм" преисполнен
положительного пафоса! Соседство иного и противоположного не
обесценивает этого отдельного качества, мнения, страсти, действия и
т. д. (как могли бы, пожалуй, заключить мы). Лоренцо
воспринимает положение, когда людям приходится иметь дело с
вещами, "которые могут и быть и не быть", как самое обычное и
природное. Оно соответствует, конечно, всей необъятной сфере ак-
•цидентального, необязательных свойств. Или, если угодно,
"мнение" - это необходимая форма суждения в мире
"разнообразия". Вот почему релятивизм Лоренцо столь оптимистичен.
"И если, например, кому-то жемчужина кажется тем
красивей, чем она ясней и белей, т. е. чем больше ценится истинная и
совершенная белизна, - эту жемчужину хотели бы видеть на
черном или ином темном фоне, чтобы такое сопоставление с
противоположным ей еще более приблизило бы жемчужину к
истинной белизне". Пусть на деле она "не более белая на
черном, чем была бы на белом". Важно то, что "отсюда рождается
красота, которая происходит из разнообразия и различий
между вещами (che procède dalla varietà e distinzione délie cose), ибо
одна вещь обретает силу посредством иной, и кажется, что
больше приближается к совершенству. Потому что если мнение
подразумевало бы истину, то мы избирали бы только самое
прекрасное, перестав восхищаться другими, менее прекрасными
вещами, в то время как в человеческой жизни мы обычно ищем,
в качестве высшей красоты, разнообразия (е dove nella vita
umana per somma bellezza comunemente cerchiamo la varietà), a
если бы мы разумели в совершенстве, то его (разнообразия. -
Л. Б.) избегали бы больше, чем любой другой вещи" (p. 284)11.
_ 710
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
Иными словами, для Лоренцо "разнообразие" - условие
красоты и человечности. Замените "мнения" - несомненными
истинами, замените "сравнительное и относительное" -
абсолютным, и мы лишимся способности восхищаться чем-либо,
кроме единственно-совершенного, единственно-прекрасного, и
эта жизнь, подчиненная одинаковой и обязательной для всех
ценности, перестанет быть "обычной человеческой жизнью".
Лоренцо хорошо знает, что разнообразный мир с
необходимостью обрекает нас на беспокойство и несовершенство. Зато этот
мир - жизнен. Другого нам не дано. Это наш мир. И он
"чудесен".
6. Посмотрим, что Лоренцо понимает под "чудесным" или
"дивным" (mirabile", "meraviglie").
Он отказывается одобрить мнение тех, кто не верит ни во
что, если это хоть отчасти выходит за пределы или общего
обыкновения, или природного порядка. « Потому что часто
видно, как возникают величайшие недоразумения, когда некую
вещь предполагают ложной, считают как бы невозможной, и тем
не менее все-таки она истинна. А кроме того, если чрезмерная
доверчивость - свойство людей поверхностных, то и
абсолютная недоверчивость обнаруживает в человеке большой
предрассудок. Ибо тот, кто говорит: "Этого не может быть",
предполагает, будто он знает все, что может быть и насколько велика мощь
природы. А ведь можно наблюдать множество природных
эффектов, разнообразных и словно невероятных, если бы они
только не были хорошо известны чуть ли не каждому. Ну кто
поверил бы, что маленькое виноградное зернышко, в котором
нет ни цвета, ни запаха, ни определенного вкуса, породило бы
живые растения со столькими достойными качествами? Это же
происходит с другими семенами, которые разнообразно
сберегают собственные виды, и это не кажется чудесным, потому что
такие вещи видны ежечасно. Мне же сдается, что более велики
те чудеса, которые ежечасно видны в природных эффектах, чем
некоторые другие вещи, которые кажутся чудесными, ибо очень
редки и далеки от нашей осведомленности. Вот так есть виды
животных, о которых из-за того, что они нам неведомы, мы
полагаем, что их почти и не может быть; а может быть, в тех
странах, где они рождаются, они так же обыденны, как у нас собаки,
лошади и тому подобные животные* (р. 229- 230)12.
711 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Поводом для этих рассуждений послужил сонет, в котором
рассказано о "вещи, возможно кажущейся невероятной и,
однако, верной", - о том, как "желание смерти является
непосредственной причиной жизни", т. е. как отчаяние лишь усиливает
жажду быть рядом с прекрасной донной (р. 233). Ибо тема поэта -
"чудеса любви". Он ссылается на канцону Петрарки, который
сравнивал свою любовь - столь же исключительную и тем не
менее истинную - с "самыми разными и новыми вещами",
какие только встречались "в каком-либо необычном краю", - с
фениксом, катоблепом (животным, которое убивает взглядом)
или источниками островов Удачи, из коих один испившего из
него умерщвляет безудержным смехом, а другой воскрешает;
обо всех этих чудесах, добавляет Лоренцо, "можно прочесть у
достойных доверия античных авторов" (р. 230).
Перед нами чисто ренессансная готовность к встрече с
необычным, основанная на ощущении неиссякаемых творческих
сил природы. Необычно и самое обычное. Этим вскоре будут
проникнуты заметки Леонардо да Винчи. Но "чудное" и "почти
невероятное", конечно, неотделимо от "разнообразного".
Чудное - это, так сказать, функция "варьета". Фраза "этого не
может быть" неуместна только в мире непохожих, особенных
вещей и событий.
7. Зато уместно воображение. Как и "мнение", оно
достояние индивида, а не абсолюта, оно часто обманывается, но все
равно в нем есть правда и реальность моего, особого состояния.
В одном и том же - в шуме ручья или в формах облаков -
каждый увидит разное, свое.
"Великая сила в чувствах воображения... Ведь часто
случается, что когда кто-либо вслушивается в длящийся и слитный
звук, то наше воображение прилаживает этот звук к тому, чем
оно более всего захвачено. И воображает этот звук
расчлененным, придавая ему особый смысл и заставляя его выговаривать
то, чего хочет само. Обычно, звонят ли колокола, падает ли
непрерывно вода, кажется, что в звуках высказано желанное для
того, кто воображает.
А еще, например, в воздушных облаках видятся подчас
разные и странные формы животных и людей; или, если
разглядывать известного рода камни, которые полны прожилок, там,
внутри них, тоже возникают бесчисленные формы, угодные
_ 712
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
фантазии. Вот это самое произошло и со мной, когда я
очутился в очаровательном месте, где был изобильный и чистый
родник...^ т. д. (p. 205-206)13. Само собой, влюбленный поэт
услышал в журчании ручья имя дорогой донны. Даже всматривался
в воду, не проступят ли сквозь нее черты любимого лица. "И
поскольку это было порождено только моим воображением и
желанием, никто, кроме меня, этого не слышал. Амур не
позволил, чтобы столь нежная гармония достигла других ушей, а не
одного лишь моего влюбленного слуха".
8. "...Три вещи, по-моему, подобают совершенному
живописному произведению, а именно: хороший материал, будь то
стена, дерево, холст или что иное, на чем размещают
изображение; совершенный мастер в отношении и рисунка и цвета; и,
сверх того, чтобы изображенные вещи были по природе своей
благодатны и приятны для глаз. Ибо, даже если живопись
совершенна, может случиться, что характер самого предмета
изображения не соответствует природе зрителя. Ведь некоторых
услаждают предметы веселые, вроде животных, растений,
танцев и всяких празднеств; другие хотели бы увидеть сражения на
земле или на море и тому подобные воинственные и свирепые
вещи; а иные любят пейзажи, дома, а также ракурсы и
перспективные соотношения; иные же - разное другое. Поэтому, если
хотят, чтобы живопись удовлетворяла вполне, нужно
предусмотреть, чтобы изображенная вещь нравилась и сама по себе"
(р. 198).
Не хочет ли Лоренцо сказать, что в каждой картине, если
желают создать ее совершенной, должно быть изображено... все,
что ни есть в мире?! По-видимому, так. Эта мысль не
покажется нам такой уж ни с чем не сообразной, если мы вспомним, что
еще до нашего автора Альберта требовал от живописной
композиции именно "обилия и разнообразия", тоже перечисляя
людей, животных, пейзажи, дома и пр., и что вскоре после
Лоренцо в записных книжках Леонардо появится: "Ты, живописец,
дабы быть универсальным и угождать разным суждениям.."
Или: "Необходимо творить в разных манерах, чтобы целое
соответствовало отчасти любой манере..."14 У Альберта и
Леонардо эти максимы ренессансного вкуса включены в
чрезвычайно сложную мыслительную ситуацию, здесь нет
возможности разбирать ее, ограничимся лишь констатацией того, что и
713 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Лоренцо, в отличие от тех двоих, вовсе не великий теоретик
искусства и не живописец, заговаривая об этом случайно и
мимоходом, выдвигает на первый план именно требование
предметного "разнообразия". Этим подтверждается (как, впрочем, и
множеством самих ренессансных живописных произведений, с
их задними планами), что гениями такое требование лишь
доводилось до парадоксальной глубины. А вообще-то в
итальянской культурной среде Возрождения оно стало с середины
XV в. расхожим.
Трудность индивидуации
Показательно, как Лоренцо берется за сопоставление
разных предметов, будь то итальянский язык сравнительно с
классическими, форма сонета сравнительно с терциной и
канцоной или "наши флорентийские поэты" - Данте, Петрарка и
Боккаччо.
"Мне кажется", сообщает он, что есть четыре критерия,
которые "придают достоинство любому наречию или языку". Из
этих критериев лишь один, самое большее два, относятся к
языку как таковому. "...Остальные же скорее зависят от привычек и
мнений людей или от фортуны". Наиболее, как мы сказали бы,
объективный критерий, по Лоренцо - это насколько язык
"обилен, и богат, и способен хорошо выразить ощущение и мысль (il
concetto délia mente)". С этой точки зрения, греческий выше
латинского, а латинский - еврейского (р. 133).
Что до второго критерия - "сладости и гармонии", то, «хотя
гармония - это природное свойство, сообразующееся с
гармонией нашей души и тела, тем не менее мне кажется, что ввиду
разнообразия человеческих дарований (per la varietà degl'ingegni
umani) все высказывания о ней не вполне адекватны и
совершенны; ведь то, о чем обычно судят по принципу "нравится"
или "не нравится", основано, по-видимому, более на мнении,
чем на разумном и бесспорном основании, особенно если
удовольствие и неудовольствие обосновывают лишь ссылкой на
инстинкт. Но, несмотря на эти соображения, я не хочу, однако,
утверждать, будто это не может быть подлинным достоинством
языка». Ибо есть люди, более чуткие к гармонии, чем другие, и
_ 714
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
мнению их следует доверять, пусть таких людей и мало, - ведь
"мнения и суждения людей надлежит оценивать по весомости, а
не по числу" (там же).
Третье основание: тонкость, серьезность, важность
написанного на соответствующем языке. Правда, этот критерий
свидетельствует не столько о самом языке, сколько о содержании
сочинений. С характерной и, кажется, незамечаемой им самим
привычной дерзостью Лоренцо, помянув здесь прежде всего,
конечно, еврейский - язык Ветхого Завета - рядом ставит
греческий как язык "метафизических, натуральных и моральных
наук" (р. 134). Вряд ли нужно придавать большое значение
тому, что латинский в данном случае не упоминается вовсе.
Следовательно, если по первому признаку была указана известная
иерархия языков, то теперь их порядок переворачивается. А это
значит, что в конечном счете каждый язык, уступая другим в
одном, преобладает в ином. Что до иерархии самих критериев,
то и она заколебалась, как только Лоренцо, провозгласив
эстетическую, так сказать, мерку субъективной и относительной,
тут же поспешил и ее оценить как истинную и существенную.
И наконец, репутация языка производна от степени его
распространенности. А это, в свою очередь, зависит от фортуны, от
обстоятельств. Тут уж на первое место приходится поставить
латинский язык.
Далее Лоренцо доказывает, что "простонародный",
итальянский язык блестяще удовлетворяет первым трем критериям, да
и с четвертым, учитывая растущую мощь Флоренции, дело
обстоит не так уж плохо. Этот язык очень юн и "с каждым часом
становится все элегантней и благородней", он способен достичь
в будущем еще большего расцвета. Лоренцо не сравнивает его
конкретно с классическими языками, а просто расхваливает. И
"никто не может упрекнуть меня в том, что я написал на языке,
которым рожден и вскормлен, тем более что и еврейский, и
греческий, и латинский в свое время были тоже материнскими и
прирожденными языками..." (р. 138).
Собственно, мы так и не дождались сопоставления.
Задуманное по риторическому образцу рассуждение отклонилось от
полагавшегося бы перебора pro и contra. Автор лишь воздал
должное, исходя из некоторых общих критериев, итальянскому
языку самому по себе, ведя читателя к выводу, что "наш язык
715 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
не ниже (но и, конечно, не лучше. - Л. Б.) любого из иных".
Вообще, если у одного из языков есть какое-то преимущество
перед другим, то они легко меняются местами, стоит только
подойти к делу иначе. К тому же сами критерии большей частью
относительные, хотя все - реальные, оправданные. Возникает
впечатление о равенстве и законности употребления разных
языков.
Примерно так же Лоренцо разбирает достоинства сонета
сравнительно с другими формами стихосложения (р. 138-140).
Сонет мне ниже (поп essere inferiore)" терцины и канцоны.
Ничего другого автор доказать в конечном счете не старается, хотя и
подчеркивает, что сонет гораздо "трудней" и трудность эта
почетна. Но четко выявляется, что у каждой формы - свои
достоинства, и если сонет привлекает сжатостью, то нельзя не
признать, что в терцине лучше удается "высокий и величавый стиль,
как бы подобный героическому", канцоны же сходны с
латинскими элегиями, хотя и не достигали до сих пор той же
раскованности. Но сонеты писать трудней. "Мне кажется", добавляет
Лоренцо, что вообще "в латинских стихах больше свободы, чем в
итальянских", "больше легкости и ясности", ибо поэт,
сочиняющий по-итальянски, дополнительно связан рифмой.
"Итальянский стих много трудней, а в нем самое трудное - стиль сонета".
Это единственное место "Комментария", где два языка
сравниваются впрямую, по общему признаку, правда, в пределах
особенностей версификации. И что же? - только то, что они разные
и равные. Вывод в связи с "трудностью" итальянского
стихосложения в целом не может не быть таким же, как и вывод по
поводу "трудности" сонета, "заслуживающего поэтому оценки не
худшей, чем любой из других стилей итальянской поэзии".
Наиболее любопытно и столь же характерно краткое
размышление над достоинствами Данте, Петрарки и Боккаччо
(р. 135-136).
Мы узнаем, что все три "наших флорентийских поэта" с
очевидностью показали в "серьезно-важных и сладчайших
стихах и прозе", с какой легкостью можно выразить по-итальянски
любой смысл. Читатель дантовой "Комедии" найдет в ней:
1) непринужденное изложение многих теологических и
натурфилософских вопросов, 2) превосходное сочетание "низкого,
среднего и высокого стилей". Так что Данте один в совершенст-
_ 716
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
ве являет то, что порознь обретается у разных греческих и
латинских авторов. У Петрарки - стиль "серьезно-важный,
остроумный и нежный", он писал о любви с такой "серьезной
важностью" (или "значительностью", "gravita") и "изяществом", что,
несомненно, превзошел в этом Овидия, Тибулла, Катулла и
Проперция. Канцоны и сонеты Данте отмечены той же
"gravita", "тонкостью" и "красотой". «Кто читал Боккаччо,
человека ученейшего и плодовитого, легко сочтет исключительными
и единственными в мире (singulare e sola al mondo) не только
его изобретательность, но также обилие и красноречие. А в его
произведении "Декамерон" такое разнообразие тем (la diversità
della materia), то высоких, то средних, то низких, и содержится
все, что только приключается с людьми из-за любви и
ненависти, страха и надежды, столько новых хитростей и выдумок, и
выражены все человеческие характеры (nature) и страсти, какие
встречаются на свете..> Наконец, о Гвидо Кавальканти и
сказать нельзя, насколько удачно он сумел сочетать "la gravita e la
dolcezza", т. е. опять-таки "серьезную важность" и "сладость"
(или "нежность"). Были и другие "серьезно-важные и
элегантные писатели", имена которых он, Лоренцо, пока опускает.
Бросается в глаза, что автор, во-первых, высоко ставит всех,
о ком отзывается, не противопоставляя и не выделяя прямо
никого. Во-вторых, Лоренцо пытается каждого охарактеризовать
как-то особо, найти для него наиболее подходящие
определения. Перечень достоинств флорентийских поэтов, несомненно,
продиктован ощущением их несходства. Ценность "обилия и
разнообразия" весьма отчетливо заявлена в восторгах по поводу
"Декамерона". Тем не менее действительно индивидуальные
творческие особенности каждого из великих предшественников
даются Лоренцо плохо. Даже то, что сказано о "Декамероне",
подошло бы к любому новеллисту, допустим к Саккетти. Он
хвалит Данте за ученость - но и Боккаччо тоже. Он находит
соединение стилей у Данте - но, пусть в других выражениях, по
существу, и у Петрарки. Все они, да и Гвидо Кавальканти,
обладали неизбежными, в глазах гуманистического автора,
признаками литературного таланта, исполненного достоинством и
благозвучным изяществом, этими труднопереводимыми "gravita" и
"dolcezza", предметным и речевым разнообразием и богатством.
Хотя Лоренцо все же выделяет: для "Комедии" - ее насыщен-
717 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ность теологией и метафизикой, всеобъемлемость ее стиля; для
Петрарки - очарование любовной лирики; для "Декамерона" -
исчерпывающую панораму многоразличного человеческого
существования. Почитаемые им писатели автору видятся
непременно как разные. Однако они разные не просто сами по себе, а
внутри общего перечня, скрепленного набором стереотипных
достоинств. Лоренцо в значительной степени тасует и
варьирует применительно к каждому определения из этой колоды. С
другой стороны, каждый писатель - разнообразный внутри
себя, даже в любовном стиле Петрарки или Кавальканти
отмечены контрастные черты. То есть все так или иначе сочетают
разное; и все, вместе взятые, суть сочетание разного. Так что перед
нами "варьета", так сказать, в квадрате: внутри всякого
индивидуального стиля и между ними.
Но именно поэтому понятия "индивидуальный стиль" еще
нет. Оно разве что брезжит... Оно растворено в понятии
"разнообразия", замещено им.
На пути к понятию личности
Уже у Петрарки, с его острым и талантливым
эгоцентризмом, заметна некая неловкость и трудность. Чтобы
сознавать себя личностью, дорожить своей личностью, уж казалось
бы, кто, как не Петрарка, и сознает и дорожит! - надо иметь
основания. Но их нет, о них ничего не известно в XIV в. Даже
Петрарке. "Я" - Человек, с его вселенским "достоинством". "Я" -
Поэт. "Я" - Мудрый, Ученый, Добродетельный и т. д. - ясно,
почему все это возвышает мое "Я". Но если этим же отмечено и
славно другое "я", то в чем именно моя ценность и что такое,
собственно, "я"? Или скажем иначе: ценно ли "я" как таковое,
не его достоинства, не его атрибуты, но оно само? важно ли
"просто" быть Этим? и отчего важно?
Люди ренессансной культуры, разумеется, не
формулировали вопросы так. Тем не менее (и как раз поэтому) они в них
непрерывно упирались.
Для Лоренцо Медичи - спустя более чем сто лет после
Петрарки - пробиться к себе почти так же трудно: пробиться
через готовые жанровые правила, через риторику, через классици-
_ m
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
стскую образованность. Положим, он пробивается - уже тем,
как экспериментирует и с жанрами и с риторикой, как придает
задушевность общим местам, как озабочен собой, своим правом
писать о собственных сонетах, о себе, как вызывающе это право
отстаивает. И все же: мы подозреваем, мы даже знаем, что
Лоренцо был могучей и уникальной личностью, но разве мы об
этом знаем из его "Комментария"? По первому впечатлению -
нет. А ведь литературной одаренности ему вполне доставало, он
пишет легко и раскованно, но личность, скорее, угадывается за
текстом - намеком, контуром. Она почти бессодержательна,
почти декларативна в сочинениях и Лоренцо, и Полициано, и
их предшественников-гуманистов. Она держится, если угодно,
преимущественно формой высказывания.
Этот формализм ренессансного "Я" исторически более чем
понятен. К нему принуждала как раз культурная и логическая
неготовость, неоформленность. Личность больше переживалась,
интонировалась, чем сознавалась. И неизвестность понятия,
проблематичность в наибольшей степени делали ее
специфической, законченно ренессансной личностью.
Первое впечатление обманчиво. Мы видим автора
"Комментария" не за текстом, а в тексте. Но его личность выдают не
бытовые и психологические приметы, а культурная ироничность:
та смысловая коллизия, которую он создает.
Впрочем, на свой лад, так или иначе, с этой коллизией имел
дело всякий деятель Возрождения. Нас интересует здесь не
эмпирическая личность Лоренцо, а ее логико-культурная
возможность: ее типологические посылки. То, без чего нельзя
разобраться ни в Лоренцо, ни в других ренессансных людях, ни в их
эпохальном сходстве, ни в их несходстве, которого требовало и
предполагало как раз ренессансное сходство, т. е. верность
парадоксальной идее "разнообразия".
Парадоксальной? Да, и вот почему. "Варьета" понималась в
двух значениях.
Во-первых: каждый человек обладает - от "природы", или
"неба", или "фортуны" - своими склонностями, силами,
дарованиями, он должен "измерить себя" и "занять свое место". Это
"варьета" как различия между индивидами.
Во-вторых: каждый должен стремиться развить в себе и
приобрести всесторонние знания, навыки, интересы, способность су-
719 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
дить обо всем на свете - словом, стать "универсальным
человеком". Это мировая варьета как различия внутри индивида:
втянутая им в себя, умноженная разумом и фантазией микрокосма.
В культуре итальянского Возрождения постоянно
присутствуют оба значения. Оба разными путями ведут к понятию
личности, необходимы для него и в известном плане дополняют
друг друга (личность - отличия ее от других + полнота,
"многогранность" и т. п.). Дополняют? Допустим. Но ведь они и резко
противоречат друг другу, более того, они несовместимы.
Ведь обращенное к индивиду требование универсальности
по мере осуществления приравнивает его ко всякому другому,
тоже "универсальному" индивиду. Ренессансный универсум
один и един, никто и никогда не думал и не оговаривал, что
речь идет о построении каких-то разных универсальностей.
"Универсальный человек" Возрождения - это не личность в
новоевропейском понимании; с точки зрения такого понимания
это, как не раз и писалось, индивид, разросшийся до
"безграничности", т. е. до отрицания индивидности.
А человек, отнесенный к тому или иному природному
разряду темперамента, характера, склонностей и пр., к "своему
месту" или "ступени", - это еще никак не особенный,
неповторимый человек, а только единичный, только "приватный", только
индивид, но еще не "личность".
Таким образом, как мы теперь склонны считать, хотя
Возрождение полно выдающихся личностей, но актуально - в
отношении к себе самой - эта культура была знакома не с
"личностью", а со сверхличностью и недоличностью одновременно,
посредством совмещения их в одном субъекте. Личность
Возрождения историологически осуществляла себя в вилке этих
смысловых попаданий.
Достаточно драматически, внутренне напряженно
вызревало новое, неслыханное понятие.
Ибо на самом деле все еще гораздо более странно, чем
необдуманное совмещение перебора и недобора. Между "своим
местом" и "универсальностью" не было логической и культурной
симметрии. На первый взгляд, именно идея различий между
людьми более всего приближала к идее личности, идея же
универсальности заводила несколько в сторону (если не назад), в
лучшем случае давала дополнительную оценку и мерило "высо-
_ 720
Трактат Лоренир Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
коразвитой" личности: "Я" должен прежде всего отличаться от
других, "Я" - это "Я", а не кто-либо другой, все "я" - разные; ну
а "универсальность" есть уже желательное (но не
обязательное?) определение моего "Я".
Так - только на первый взгляд. То, что "один индивид
непохож на другого индивида", то, что "все люди - разные", - это,
конечно, необходимая, но тривиальная посылка понятия личности.
Используется общее место. Индивидуальность индивида в нем
обоснована лишь извне и рассматривается как отнесенность к
виду, а не роду, как момент, часть, ячейка вселенского перечня,
как выявление почти бесконечной совокупности, природного
"разнообразия". Следовательно, как результат варьета, а не ее
порождение. Поэтому подлинной индивидуальности тут еще нет,
единичное не дотянуто до особенного. "Разные" индивиды
отличаются ведь точно так же, как и "разные" цветы, деревья,
животные и др. Отличие от других, "свое место" - условие особенного,
да, но не бесконечно особенного. Особенность без внутреннего
обоснования, без субъектности, природная особенность, кажется,
не содержит еще решительно никакой возможности
головокружительного логического прыжка к понятию личности.
Лоренцо высказывает в "Комментарии" идею "своего
места", столь противоположную "универсальности", об
"универсальности" же не поминает ни словом. Но именно ренессанс-
ную универсальность он демонстрировал всем ходом
"Комментария", всем своим творчеством и жизнью. О ней толковали,
если не он, так другие, от ранних гуманистов до Леонардо. Она
была воздухом этой культуры. Она была высокой, более новой
и богатой культурными потенциями, более специфичной
формой ренессансной "варьета". Не "универсальность" дополняла
идею различий между людьми, лучше уж наоборот: эта идея
дополняла "разнообразие" как универсальность, споря с ней. Их
спор - это и есть ренессансное понятие личности,
существующей в сопряжении двух своих определений и в отсутствии себя
самой. "Личность" выступает как свое предпонятие: проступает
сквозь varietà. (Я по-прежнему толкую не просто о наличном
положении вещей, не о феноменологии Возрождения, но
пытаюсь реконструировать его логику в исторической перспективе.)
Разумеется, представление об uomo universale отчасти
уводит от понятия личности, словно бы перемахивает через него.
721 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Однако у итальянского Возрождения не было в распоряжении
способа менее странного, чем человекобожие, чем удаление от
мысли о личности, - чтобы эту мысль выстроить (впрочем, на
собственный лад). Ибо в человекобожии, в универсальности
просвечивало главное: самообоснование. Ценность такого "Я" -
не в природе, не в фортуне и т. д., а в нем как таковом. Ведь
"Я" - универсален, сопоставим, соизмерим с почти бесконечной
"варьета" макрокосма. То есть "Я" - пусть в устремлении, в
пределе - Весь Человек.
Тут-то действительно может произойти (может, но не
происходит в рамках ренессансной культуры) скачок к совсем
другой, более поздней мысли: человечество не только состоит из
"я", но фокусируется в "Я", и каждый в принципе уникален.
Каждый - это особый и целостный мир, ибо каждый - сразу все
человечество, в качестве этого человечества. А не всего лишь
его малая "частица".
Повторяю: само Возрождение "не могло" достроить
героическое и натуралистическое понимание индивида до понятия
личности. Это вообще не было его задачей. Разве что задачей
типа: пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что.
Слегка перефразируя Тынянова, можно сказать, что такова уж
культура как творчество: она открывает Америку, плывя в Индию.
Человек Возрождения говорит "варьета", а думает о
личности. Но он думает не о "личности", потому что не обладает ее
понятием, только ищет его - короче, потому что он говорит
"варьета". Значит, он знает и не знает15.
Если (несколько метафорически) воспользоваться учением
Выготского о "внутренней речи", то позволительно было бы
заметить, что идея личности, не прорываясь во "внешнюю речь"
Возрождения, остается всецело моментом внутренней его речи,
в которой слиплись (одномоментны) античный, средневековый
и новоевропейский культурные смыслы. А именно:
"благородство" индивида, его "универсальность", его отличие от всех других
индивидов, его "природность", его "божественность", его
"бренность", "вечность", земная "слава", "доблесть", "фортуна" и пр.
Это мышление как бы одними предикатами. Логический
субъект подразумевается с тем большей интенсивностью, что он
не называется, не о-пределяется. Предикатами буйно обрастает
пустое место. Но место не пустое, оно - нечто, что порождает
предикаты - оно их возможность.
_ 722
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
Неполнота, неготовость, неявность ренессансной личности,
строящей себя (культурологически) с краев и по частям, - не
какая-то ее неполноценность, незрелость в сравнении с
личностью Нового времени. Напротив, именно в этом - исторически-
особая зрелость и мощь, то, что делает ее "титанической",
"безграничной", словом, ренессансной.
И еще. В позднейшее определение (понятие)
новоевропейской личности с необходимостью входит ее ренессансное
предопределение (предпонятие): ее неизвестность для себя и для
мира. Поскольку мы действительно глубоко знаем конкретную
личность - мы ее еще не знаем, она впереди себя. Поэтому,
возвращаясь к Возрождению, к истории рождения современной
личности, мы приходим к проблеме личности, к личности как
проблеме, способствуем напряженности собственного
самопонимания, возвращаемся к себе.
Кастильоне и Цицерон:
ренессансное понимание
индивидуального творческого начала
В заключение - разбор одной из самых любопытных
страниц в диалогах Кастильоне "Придворный" - той, где
утверждается, что в искусстве настоящий мастер ине похож ни на
кого, кроме самого себя", и "подражает только себе же"16.
Казалось бы, ясно, что дело идет (в пример взяты Петрарка
и Боккаччо, Леонардо и Микеланджело!) об индивидуальной
творческой личности. Тем не менее у Кастильоне (вообще у
итальянского Возрождения) нет, собственно, понятия
личности - и уже поэтому мы оказываемся в особенной и чужой
культурной обстановке.
Именно в этом, по-моему, главный интерес для нас споров
XVI в. о допустимости введения в литературный тосканский
язык вновь возникающих обыденных слов и т. п. Только в
соотнесении с конечным историческим масштабом проблемы
можно оценить, что же в действительности занимало Кастильоне в
идее "подражания", внося в его суждения духовную
напряженность, или уже малопонятную, или вовсе незаметную для нас17.
m —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Пассажу о поэтах или живописцах, которые "подражают
только себе же", предшествуют главы, где Кастильоне
обсуждает то, что на исходе Высокого Возрождения заставляло браться
за перо также Макьявелли, Фиренцуолу, Бембо и многих
других. Позволительно ли вводить в тосканский литературный
язык новые обиходные слова и обороты? - эта, казалось бы,
сугубо лингвистическая тема оказалась тогда в центре внимания,
по-видимому, потому, что за ней вставал вопрос о праве на
личную инициативу автора, о границах и последних основаниях
такой инициативы. Спорили о чистоте языка, о его изменениях, о
его открытости в будущее, тем самым об историзме, как мы
сказали бы, вообще. И, значит, об индивидуальности личности,
потому что историзм и понятие индивидуального необходимо
предполагают друг друга.
Тем не менее, так понимая суть, мы уже не просто
воспроизводим мысли Кастильоне, но интерпретируем их. Для
понимания, как известно, нет иного способа, кроме определенной
(но непременно сознательной!) деформации, когда мы сильно
договариваем, додумываем за Кастильоне. Однако с целью и
при условии, что в конечном счете мы к нему вернемся: остра-
ним чужой смысл. Нужно отойти от того, что "на самом деле
думал" Кастильоне, на некоторое расстояние, чтобы это
увидеть; т. е. переформулировать в надежде узнать, что же он на
самом деле думал.
Взамен понятия "личности", которое еще не было готово,
не было выработано (но ведь как раз Возрождением
вырабатывалось, предчувствовалось), историк культуры находит у
Кастильоне (и у всякого ренессансного писателя) как бы
пустое место. Именно логическое место, хотя и пустое.
"Личность" тут есть, но вместе с тем ее нет, по крайней мере, в
новоевропейской актуальности и плотности. Это место лишь
выявлено, оконтурено другими, околичными, закраинными
понятиями. Они ныне не даются сами собой в руки и требуют
специальных историко-культурных исследований, хотя бы
потому, что ушли вместе со всей этой культурой, вместе с
мировосприятием, которое их порождало и которое они собою
структурировали. Слова же, их помечавшие, остались. Но
потеряли вместе с целостным культурным контекстом прежний
уникальный смысл.
_ 724
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
Такое историческое "засвечивание" смысла - нечто прямо
противоположное лингвистическому изменению, когда
первоначальная семантика, прячась, становясь неузнаваемой, не
исчезает, но зафиксирована в корнях под новыми
напластованиями. Напротив, ренессансные virtù, studi d'umanità, uomo
universale, imitazione, grazia, varietà и т. д. не требуют, как будто,
никакого узнавания, продолжая буквально обозначать то же самое,
что и для гуманистов. Но именно эта привычность для здравого
смысла, сохранность непосредственного содержания особенно
сбивает с толка, затрудняет понимание, поскольку на более
глубоком, "вторичном" знаковом уровне подобные слова
естественного языка становятся почти непереводимыми. Истолкование
любого из них требует истолкования и всех остальных. Они
слишком пропитаны сразу всей культурой Возрождения,
каждое из них - ее возможный смысловой фокус, так что при
"переводе" (в том числе с итальянского на итальянский) мы имеем
дело с неисчерпаемой логической аурой. Это должен быть,
собственно, перевод не с "их" языка на наш, но с нашего на
"ихний": остранение наших слов в качестве чужих понятий.
Среди того, что майевтически оконтуривает в
рассуждениях Кастильоне становящуюся идею личности, в кругу сквозной
контроверзы "Придворного" между "совершенством" и
"обстоятельствами", между нормой и казусом, наряду с "грацией" как
отклонением от общей нормы, возводимым в наивысшую
общую норму, - мы обнаруживаем еще один содержательный ход
также в связи с традиционной для Возрождения темой
"подражания". Начиная с Петрарки, гуманисты пытались
сформулировать и осуществить в собственной литературной практике
представление о таком "подражании" образцовым античным
авторам, при котором наилучшим образом возбудилась бы
творческая сила подражателя, вступающего в "соревнование" с
Вергилием или Цицероном. Такие люди, как Ландино, Пико
делла Мирандола, Лоренцо Медичи, Эрмолао Барбаро, видели
в состязании с древними вокруг классических сюжетов,
идейно-словесной топики и риторических приемов - способ
выказать свою индивидуальную волю. "Подражание"
истолковывали как "изобретение". Это называли "парафразой" (так как
понятия "стилизации" тоже еще не было). Речь шла о
необходимости "скрытого" подражания, при котором целью и результа-
725 —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
том явилась бы, напротив, некая желанная первичность,
неподражательность.
В начале XVI в. искусством был уже накоплен огромный
опыт такого - экспериментального и стилизующего - усвоения
уроков Античности и, следовательно, освобождения от нее в
художественной рефлексии. В конце концов исходная архетипи-
ческая установка гуманизма на возвращение к истокам, на
"подражание древним", на "возрождение", неизбежно должна была и
в форме дискурсивной рефлексии оказаться у критического
предела. А нужно ли и, более того, возможно ли "подражание
древним"? Два столетия это понятие парадоксально работало
против себя, из него было выжато все возможное в обоснование
новой культуры, и вот острота ситуации вплотную подвела
деятелей Возрождения к нащупыванию какого-то более
решительного выхода из не тождественной себе мыслительной посылки.
В частности, Кастильоне в очередной раз задается вопросом,
что такое, собственно, это подражание, где оно кончается и где
включается индивидуальное творческое начало?
"Многие хотят судить о стилях и говорить о ритмах и о
подражании, но, по-моему, они не в состоянии объяснить ни что
такое стиль, ни что такое ритм, ни в чем состоит подражание и
почему то, что извлечено из Гомера или какого-нибудь другого
(писателя), у Вергилия выглядит настолько хорошо, что
кажется скорей истолкованием, чем подражанием (più presto
paiono illustrate che imitate)" (I, 39).
Лодовико и Федерико спорят у Кастильоне об итальянском
языке и об авторитете древности (l'antichità), под которой, в
частности, понимается также итальянская старина XIII—XIV вв.
Лодовико (и, в общем, сам автор) настаивает, что нужно писать
современно, избегая архаизмов, причем язык, на котором
пишут, должен полностью соответствовать тому, на котором
говорят (I, 29). Федерико же не только подчеркивает отличие
литературного языка от разговорного, но и находит, что у старых
слов, как и у зданий, статуй и пр., есть особая "грация". С
другой стороны, если в речи многих невежд распространен какой-
либо изъян, неужто делать эту неправильность правилом, чтобы
и другие следовали за ней? "А кроме того, (языковые)
обыкновения очень разнообразны, и нет в Италии города, у которого не
было бы своего говора (maniera di parlar), непохожего на про-
_ 72S
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
чие. Поэтому, если вы не захотите объявить, какой из них
лучший, человек может привязаться к бергамскому, как и к
флорентийскому, и, по-вашему, в этом не было бы никакого
заблуждения " (I, 30). То есть: казусы должны склониться перед
нормой, освященной традициями. Неужто в правило будет
возведено все частное и особое? И нормой станут нарушения нормы?
Лодовико отвечает мессеру Федерико ("чье мнение
отличается от моего"), что всякий язык изменчив. Латинский язык в
свое время тоже менялся, и Антоний, Красе, Цицерон избегают
многих слов, которые употреблял Катон, а Вергилий не
пользуется многими словами, привычными для Энния. "Так что, если
они и почитали древность, то не настолько, чтобы возлагать на
себя повинность, которую вы хотели бы теперь возложить на
нас" (I, 32). "И, поскольку вы говорите, что древние слова,
только те, которые несут на себе великолепие древности, украшают
любой, сколь угодно низкий предмет и могут сделать его
похвальным, я (в ответ) скажу, что не только эти древние слова, но
даже и слова добротные (поп solamente di queste parole antiche
ma né ancor délie bone) не в силах придать чему-либо
достоинство без содержащихся в них прекрасных мыслей..." и т. д. (I, 33).
Отметим запальчивую и необычную (даже для ренессансного
ума!) оппозицию "древнего" - "добротного"... И послушаем
графа Лодовико дальше: "Итак, я считаю добротной манерой
говорить ту, что рождается (в устах) людей даровитых (che hanno
ingegno), обладающих, наряду с ученостью и опытом,
способностью судить здраво (il bon giudizio), и на основе этой
способности такие люди подбирают и решают принять слова, которые им
кажутся добротными, распознавая их посредством определенного
природного суждения, а не искусства или какого-либо правила
(per un certo giudizio naturale, e non per arte о régula alcuna)". И
далее - опираясь на 27 главу из цицероновского "Оратора" - о
том, что все фигуры речи, придающие ей грацию и великолепие,
суть отступления от грамматических правил... (1,35).
Чтобы лучше понять, куда успел зайти в Высоком
Возрождении спор о творческой воле и о подражании, нужно иметь в
виду, что Федерико, противник Лодовико в этом споре,
предлагает подражать только образцовому стилю, только языку
латинских и итальянских классиков, считая уже как бы само собой
разумеющимся, что каждый автор имеет право на индивидуаль-
727 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ное своеобразие содержания. "...Я вовсе не отрицаю, что мнения
и дарования людей различны и не думаю, что было бы хорошо,
если бы некто, по природе пылкий и взволнованный, принялся
сочинять вещи спокойные, а другой, суровый и серьезный,
писать в забавном и шутливом роде; потому что в этом отношении
мне кажется разумным, чтобы каждый согласовывался со своей
собственной природой". "Но у меня не укладывается в голове",
признается Федерико, чтобы эта свобода индивидуального
выбора и вкуса была распространена также на манеру выражаться,
на лексику, на язык. Разве "не было бы более разумным
подражать тем, кто говорит образцово (meglio), чем тем, кто говорит
наобум (a caso)?" He лучше ли следовать тут в итальянском за
Петраркой и Боккаччо, как в латинском - за Вергилием и
Цицероном, а не, скажем, за Тацитом? (I, 38).
Лодовико ссылается в ответ на неразрывность мыслей и
слов, содержания и стиля. Если из Тацита убрать все новые
слова или новые смысловые оттенки прежних слов,
употреблявшихся уже Цицероном, он все равно не сравняется с
Цицероном, так что дело не в самом по себе языке, но, признав права
за индивидуальным талантом, приходится отнести это к смыслу
и языку, взятым вместе (см. 1,33,39). "Я в высшей степени
одобряю тех, кто умеет подражать тому, чему следует подражать;
тем не менее я не думаю, чтоб было невозможно писать хорошо,
также и обходясь без подражания (поп credo che sia impossibile
scriver bene ancor senza imitare)..." (I, 36)18.
Впрочем, это только первые шаги Кастильоне. Тут он пока
повторяет и, надо признать, придает более рельефную, более
вызывающую форму тому, что уже было облюбовано и развито
из Цицерона гуманистами кватроченто (например, Ландино и
Полициано). Во-первых, если подражать - то не какому-то
одному, высшему образцу, а многим и разным. Подражать только
Петрарке и Боккаччо - значило бы обеднить итальянский язык.
Ведь были еще и Лоренцо Медичи, и Полициано, и Франческо
Диачето. "И, поистине", было бы великим несчастьем ставить
предел и не продвигаться вперед дальше того, что было сделано
как бы первым из писателей, и отчаиваться, как если бы
столько и таких благородных талантов никогда не могли найти более,
чем одну прекрасную форму речи в собственном родном языке"
(I, 37). Во-вторых, условием подражания должно стать внут-
_ 728
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
реннее соответствие и родство (convenienza) таланта пишущего
таланту того, кому он подражает. "Итак, мой мессер Федерико,
поэтому я полагаю, что если человек сам по себе (da se) не срод-
ствен тому или иному автору, то было бы нехорошо
принуждать к подражанию; ибо гасят и не дают развернуться доблести
его дарования, оттого что уводят с (собственного) пути, где она
(эта его доблесть) преуспела бы, если бы такой путь не был от
нее отрезан" (I, 37). "Подражание", таким образом, должно - на
цицеронианский лад - не мешать индивидуальности пишущего,
а высвобождать ее.
Однако Кастильоне идет гораздо дальше. Существование
"подражания" как такового вообще оказывается под вопросом.
Нельзя писать в том же стиле, что и древние, потому что язык
непрерывно меняется: "так что, если мы и захотим подражать
древним, мы не будем подражать им (на деле)п (I, 32).
Тогда Федерико довольно ехидно и небезосновательно
спрашивает: а разве сами древние не подражали?
"Думаю, - сказал граф, - что многие подражали, но не
вполне. Ведь если бы Вергилий во всем подражал Гесиоду, он его не
превзошел бы, а Цицерон - Красса, а Энний - своих
предшественников".
Ну, а кому мог подражать Гомер - самый первый
героический поэт? Может быть, какому-то другому, еще более
древнему, настолько древнему, что до нас не дошло известий о нем?
Но Петрарка и Боккаччо "были в мире, можно сказать, три дня
тому назад", кому подражали они, неужто мы не знаем имен
тех, кто был лучше их? - Это, конечно, неправдоподобно19.
Кастильоне подчеркивает не только относительность
подражания, но и неизбежность подлинной первичности в
словесности. Кто-то ведь должен был быть абсолютно первым.
Подражать было еще некому... и, стало быть, он был целиком обязан
себе же самому. Но если так, то это же качество -
первичность - может и должно быть присуще всякому мастеру,
всякому таланту. Первичность неотделима от индивидуальной
природы. Вот что, примерно, хочет сказать граф Лодовико.
И он продолжает так.
"Но их (т. е. Петрарки и Боккаччо. - Л. Б.) истинным
учителем был, я считаю, талант и собственное природное суждение
(Pingegno ed il lor proprio giudizio naturale); и никто не должен
729 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
этому дивиться (поражаться), потому что почти всегда к
вершине всякого совершенства можно двигаться разными путями (per
diverse vie si po tendere alla summita d'ogni eccellenzia). Нет
такой природы, которая не заключала бы в себе множества вещей
одного и того же рода, не похожих друг на друга, которые, тем
не менее, не были бы достойны равной хвалы (при
сопоставлении) между собой. Посмотрите на музыку, ее гармонии то
медленные и величавые, то чрезвычайно подвижные, то и дело
принимающие новый характер и поворот; тем не менее все они
услаждают, но по разным причинам. Например, возьмите манеру
пения Бидона; она настолько искусная, живая, взволнованная,
пылкая и мелодически разнообразная, что дух слушателя
(тоже) весь волнуется и зажигается, и так приподнят, что, кажется,
взлетает к небесам. Не меньше волнует своим пением наш Map-
кетто Каза, но более мягкими гармониями, потому что он
способом спокойным и исполненным неуловимой нежности
ласкает и проникает в души, тихо запечатлевая в них сладостную
страсть. И нашим взорам тоже одинаково нравятся разные
вещи (varie cose... egualmente piacciono), так что трудно было бы
судить, какие из них приятней. Вот и в живописи
наипревосходные - Леонардо да Винчи, Мантенья, Рафаэль, Микеланд-
жело, Джорджио да Кастельфранко; тем не менее все они
непохожи друг на друга по (характеру) того, что создают (nel far).
Таким образом, не кажется, что кому-либо из них чего-либо
недостает в собственной манере, потому что каждый в своем
стиле признан совершеннейшим. То же самое верно и в отношении
многих греческих и латинских поэтов, которые, будучи
разными по способу сочинения (nello scrivere), равно достойны
похвал. Также и ораторы всегда настолько различались между
собой, что почти каждый век производил и ценил особый вид
ораторов, характерный именно для того времени, и они отличались
не только от своих предшественников и последователей, но и
между собой. Как пишут, у греков таковы Исократ, Лисий,
Эсхил и многие другие, все они превосходны, но не похожи,
однако, ни на кого, кроме самих себя (a niun pero simili fuorché a se
stessi). И среди латинян - Карбон, Лелий, Сципион
Африканский, Гальба, Сульпиций, Котта, Гракх, Марк Антоний, Красе и
множество других - все хороши и в высшей степени
отличаются один от другого. Так что, если кто-нибудь мог бы перебрать
_ m
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
всех ораторов, какие были в мире, он нашел бы, что сколько
ораторов, столько и видов речи (sorti di dire). Мне кажется
также уместным напомнить, что Цицерон в одном месте
приписывает Марку Антонию слова, обращенные к Сульпицию, что есть
много таких, которые не подражают никому и, однако,
достигают высшей степени совершенства; и еще он говорит о
некоторых, кто ввел новые формы и фигуры речи, прекрасные, но
неподходящие для других ораторов этого времени: ведь в таких
(формах) они подражали только себе же (non imitavano se non
se stessi)..." (I, 37).
Таково это замечательное место в трактате о "Придворном",
нас здесь интересующее. Оно может быть расценено как
максимум того, что вообще выговорила и способна была выговорить
ренессансная рефлексия по поводу соотношения нормативного
и особенного. Разве слово "личность" тут уже прямо-таки не
напрашивается?!
Пожалуй. Но вот какое прелюбопытное и характерное
обстоятельство нас как раз в этом же месте подстерегает. Столь
смелый монолог Лодовико против подражания сам
представляет собой... парафразу из Цицерона, начиная с плана построения
и вплоть до совпадения целых, притом наиболее ударных
фраз!20
Итак, автор, подражая Цицерону, выступает против
подражательности. Его пафос оказывается в разительном контрасте
со способом обоснования. По крайней мере, на нынешний
взгляд. Но Кастильоне не лукавил. С тогдашней точки зрения
он выступал вполне естественно, последовательно. В XVI в.
каждый сколько-нибудь образованный читатель узнавал эту
парафразу сразу же, с первых слов. В этом-то и была изюминка.
Если мы поторопимся заподозрить Кастильоне в том, что он
писал и думал (или думал и делал) нечто несовместимое, то мы
ошибемся. Правильней предположить, что сам критерий
литературной оригинальности и, соответственно, представление об
индивидуальном начале, были иными.
Это не значит, уточним, будто позволительно броситься в
еще одну крайность и увидеть в выступлении Кастильоне
против подражания попросту риторический ход, отказав ему
сперва в новизне (как-никак эти дерзко-современные сентенции
были впервые произнесены за полторы тысячи лет до Кастильо-
m _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
не), затем отказав в существенности разбираемого фрагмента
как антитрадиционалистского. Из того, что ренессансный
автор смотрел на вещи не так, как станут смотреть позже
(окончательно - с XIX в.), еще не следует, будто он рассуждал в
соответствии с антично-христианской риторической традицией, не
бросая ей исподволь вызов, знаменующий поворот к Новому
времени, к понятию личности. Конечно, то, что Кастильоне для
формулирования права не следовать никаким образцам счел
нужным широко воспроизвести цицероновский образец, - факт
в любом случае глубоко не безразличный для уразумения того,
что он вкладывал в свое понимание личной самобытности. Но
не менее важно, как именно Кастильоне переписывал
Цицерона: что при этом выпало из античного текста, что сохранилось и
что добавлено. А так как культурно значима не, так сказать,
механическая степень переделки, но ее дух и направленность, то и
сопоставлять надо суждения Цицерона и Кастильоне в их
смысловой целостности, перекрывающей частные совпадения и
расхождения. Что, в свой черед, может быть вполне понято лишь в
полном логическом контексте каждого из трактатов.
В этом последнем отношении придется, вне сомнений,
признать, что, хотя Кастильоне предупреждал во вступлении об
ориентации на цицероновского совершенного оратора (как и на
платоновского совершенного государя) при создании идеала
совершенного "придворного", - тем не менее между
мировоззренческими конструкциями трактатов Цицерона и Кастильоне
мало сходного.
У Цицерона беглые и редкие замечания о "разнообразном"
всегда носят частный характер, подчиненный изложению
нормативных качеств высокого красноречия. "Разнообразие", даже
когда единственный раз он касается его специально, только
одно из многочисленных условий, вроде правильности, ясности,
красоты и т. д., оговоренное среди прочего в трех параграфах
третьей книги "De oratore"21.
У Кастильоне же это сквозной лейтмотив сочинения: как
сообразовать идеальную всеобщность человеческого
совершенства с различиями индивидуальных природных склонностей и с
бесконечной изменчивостью обстоятельств. Парафраза из
Цицерона располагается на центральной оси всего трактата,
неотделима от учения о "грации" и т. п.
_ m
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
Далее. У Цицерона место о разнообразии введено через
предшествующее размышление о том, что "все в мире, что ни
есть вверху и внизу, - одно и единое, будучи пригнано единой
гармонией природы. Ибо нет таких вещей, которые могли бы
существовать сами по себе, в отрыве от остального, а в
остальном недоставало бы именно их, и чтоб они могли бы сохранить
при этом свою силу и вечную сущность". Так и икрасноречие
едино, независимо от времени и места высказывания". О чем бы, в
какой обстановке, с какой целью и для кого она ни была бы
предназначена, "речь, даже растекаясь на ручьи, всегда исходит
из единого источника" (III, 6). Оратор (Красе) поясняет, что
именно это он будет иметь в виду, приступая поневоле, ради
общепринятого удобства овладения предметом, к описанию
красноречия, как бы разъятого на части. Но прежде он должен
заметить о красноречии в целом, что...
Тут-то идет седьмая глава, открываясь фразой, весьма точно
повторенной у Кастильоне: "Нет никакой природы... которая не
заключала бы в своем роде множество вещей несходных, однако
же одинаково достойных похвалы". Итак, непосредственный
контекст цицероновского места о разнообразии
недвусмысленно сопрягает его с единством - это разнообразие в единстве.
У Кастильоне, как мы уже знаем, соответствующей
парафразе предшествует, напротив, доказательство того, что
литературная речь должна меняться вместе с разговорной, что
подражать стилю древних немыслимо и что по части выбора слов и
стиля каждому следует полагаться, как это делали Петрарка и
Боккаччо, только на талант и "собственное природное
суждение", не придерживаясь "искусства или какого-либо правила"...
Цицерон, переходя к примерам из того или иного "рода
вещей", опять напоминает: "Едино искусство ваяния" (и в нем
подвизались непохожие друг на друга мастера, "но с таким
успехом, что ты не захотел бы, чтоб кто-либо из них был непохож
на себяп). "Едино искусство и разумность живописи, однако в
высшей степени непохожи друг на друга Зевксис, Аглаофон,
Апеллес". Разнообразие вводится в качестве оговорки к
единству: через "однако".
У Кастильоне это опущено.
Занятно также то, что Цицерон считает разнообразие в
"речи и языке" еще более поразительным, чем в "немых искусст-
m —
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
вах", тут оно наиболее велико, при том что "вращается в кругу
одних и тех же сентенций и слов (in eisdem sententiis verbisque
versetur)". Это было именно так для Цицерона, который
наставлял - сразу после пассажа о разнообразии - в чистоте
латинского языка, где от оратора требуется сохранять "старинную
манеру говорить", дабы "подбор слов был безупречен", не
допуская ни просторечия толпы, ни чужеземных заимствований (III,
11-12). Но Кастильоне в отношении итальянского языка
ратовал за противоположное. Неудивительно, что и это он опускает.
Цицерон подытоживает свою хвалу разнообразию: "Казалось
бы, из этого моего рассуждения можно сделать вывод: если
существует почти несчетное множество этих как бы видов и образов
красноречия, если все они неодинаковы, хотя и похвальны, то и
нельзя то, что так расходится, подчинить общим правилам и
единому обучению (eisdem praeceptis atqus una institutione formari).
Это, конечно, не так..." (хотя учителя должны сообразовывать
ученую выучку с природой каждого ученика: "ad cuiusque natu-
ram institutio doctoris accomodaretur"). А как одно вяжется с
другим? Для Кастильоне это и есть логическая сердцевина всей его
проблематики. Цицерон же ни словом не касается трудностей во
взаимоотношениях нормативного и особенного. Для него этих
трудностей просто не существует. Всеобщее проявляется
по-разному, вот все, что он хочет сказать. Каждое из нормативных
условий и свойств красноречия может составить и составляет
также особое достоинство, лучше всего расцветая у того или иного
из ораторов, на почве его природных склонностей и дарования:
"У Исократа изящество, у Лисия простота, у Гиперида
остроумие, у Эсхила звучность, у Демосфена сила... у Африкана была
веселость, у Лелия мягкость, у Гальбы резкость, у Карбона
особенная плавность и напевность" и т. д. "Сколько ораторов,
столько, как видно, окажется и родов красноречия". Именно вслед за
этой фразой (воспроизведенной у Кастильоне) идет только что
приведенная закругляющая концовка, возвращающая изложение
Цицерона к отправной идее, т. е. к "общим правилам и единому
обучению". Опять-таки к разнообразию в единстве.
У Кастильоне, как уже нетрудно догадаться, нет такой
концовки, нет логического закругления, и не только в парафразе, в
37-й главе первой книги, но и во всем трактате. Разумеется, он
тоже желал бы описать идеального, совершенного придворного.
_ m
Трактат Лоренцр Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
Идея "общих правил" в трактате Кастильоне тоже отправная.
Однако она напряженно сталкивается с разнообразием
"обстоятельств" и талантов, так что индивиду приходится отказываться
от правил и полагаться - в качестве единственного подлинно-
универсального правила - на собственное "здравое суждение"
и, в конечном счете, на иррациональную и самопроизвольную
врожденную "грацию". Всеобщее у Кастильоне постоянно
ставится под сомнение и вопрос "разнообразием", а не
воплощается в нем. Более того: самое разнообразие обретает как бы силу
всеобщности.
Ренессансный писатель сильно сжимает цицероновский
текст и обращается с ним свободно. Цицерон пишет
(последовательно) о разнообразии наслаждений слуха, зрения и
остальных чувств по отношению к природным вещам, затем о ваянии,
о живописи и, наконец, подробно о красноречии. Кастильоне
опускает природные ощущения и ваяние, сравнительно
подробно поминает музыку, которой у римлянина нет, затем
живопись, пользуясь в обоих случаях ссылками на современных ему
итальянских мастеров (по образцу того же Цицерона -
"нынешние и живые примеры", "uti praesentibus exemplis atqus vivis").
Затем переходит к ораторскому искусству, ограничиваясь лишь
некоторыми именами из большого цицероновского перечня.
Зато он охотно переводит из Цицерона, сохраняет, более или
менее дословно, хотя и комбинируя по-своему, сами, так сказать,
формулы разнообразия22. В итоге - на гораздо меньшем
текстовом пространстве - Кастильоне ощутимо их концентрирует.
И неприметно гнет в свою сторону. То место из Цицерона,
на которое Кастильоне счел нужным дополнительно и прямо
сослаться (слова Марка Антония о возможности достигнуть
высшего совершенства, никому не подражая), мы находим в
другой книге того же трактата "Об ораторе" (II, 22). Как уже
отмечалось, это дорогое для него место Кастильоне использовал
дважды, еще и в предыдущей главе. Там же у Цицерона сказано,
что "каждое поколение выдвигает свой собственный стиль
красноречия", - и эту мысль второй книги Кастильоне перенес в
парафразу из третьей книги, т. е. сплавил реминисценции
совершенно разных разделов труда Цицерона. У него это выглядит
более чем уместным и естественным. "Сборная" цитата
прочитывается на одном дыхании. Итак: "Почти каждый век произво-
735 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
дил и ценил особый вид ораторов, характерный именно для
того времени, и они отличались не только от своих
предшественников и последователей, но и между собой".
Какое, казалось бы, имеет значение, что Цицерон в
монологе Красса о разнообразии указывает лишь на индивидуальные
отличия любых "и теперешних, и прошлых ораторов" (об
отличиях между поколениями ораторов, между временами, шла речь
в монологе Антония к Сульпицию). По Кастильоне же, и в
каждом отдельном веке своя ораторская манера, и у каждого
отдельного оратора своя манера. Доказательство сплошного
разнообразия идет потоком, и мы проскакиваем - да и что за
придирки?! не о том ведь суть? - мимо небольшой логической
шероховатости. А именно: различия между "особыми видами
ораторов", характерными для того или иного времени, означают
вместе с тем, что, по крайней мере, в одном и том же веке
ораторы похожи... так не существенней ли это эпохальное сходство,
чем индивидуальное несходство, не скрадывает ли оно
различия современников между собой? Это не мы, это Кастильоне
пренебрегает элементарно напрашивающимся соображением.
Его не это интересует.
Зато у Цицерона - что становится сразу ясным, стоит
только открыть соответствующие страницы, - вовсе не случайно о
разных индивидуальных выражениях единого ораторского
искусства и о разнице между поколениями сказано в разных
разделах. Хотя цицероновская концепция последовательна,
конкретные поводы и задачи обоих высказываний - не одинаковы,
даже противоположны. В одном случае Цицерону требуется
указать на то, что обучение единому искусству красноречия
должно считаться с разнообразием природных склонностей,
отчего хорошие ораторы и непохожи друг на друга, - неважно,
ораторы каких времен, здесь они рассматриваются, словно
современники, ведь и свойства красноречия, и набор почти
бесчисленных природных особенностей - вне времени. В другом
случае Цицерон, напротив, толкует о необходимости образца: "надо
указать образец для подражания, и вот, пусть прилежнейшим
образом стараются следовать тому в этом образце, что в нем
есть самого выдающегося"23. Для римлянина вне сомнений, что
лучшие ораторы во все времена должны были подражать и
подражали кому-то одному из них, лучшему из лучших. аА как вы
_ m
Трактат Лоренцо Великолепного. На дальних подступах к понятию личности
думаете, разве не поэтому каждое поколение выдвигает свой
собственный стиль красноречия?"
Кастильоне, следовательно, берет сентенцию, основанную
на посылке о необходимости подражания, и вставляет ее в свое
рассуждение против подражания]
Далее. У Цицерона ниже действительно сказано, в качестве
оговорки, имея в виду лестные для собеседников Антония,
Цезаря и Котты, исключения из правила: "Правда, надо признать:
есть многие, которые никому не подражают, ни на кого не
стараются походить, и все же достигают желаемого собственными
силами". За эту-то фразу и хватается ренессансный итальянец,
перемещая вдруг мотивы для Цицерона второстепенные или
маргинальные, так или иначе данные в контексте нормативного
обучения, в центр собственного внимания: вычитывает,
переиначивает, переосмысляет, приходит через парафразу - к чему-
то своему. Как это и предусматривалось ренессансным
пониманием самой идеи "подражания".
Возрождение "только" подменило традиционное единство
разнообразия... "просто" разнообразием.
За этим скрывалась коренная социально-историческая
трансформация культуры, ее иная логика. Ренессансная логика
перечня24 уводила от прежнего подчинения индивидуального в
качестве частного, зависимого, производного, низшего - к
всеобщему как своему источнику и основанию. Предвечный круг
размыкался, иерархия сменялась рядоположенностью
отдельных, особенных вещей, вне сравнения "лучшего" и "худшего".
Отдельное переставало казаться частным, несовершенным,
присваивало себе абсолютность. Его связь с миром (и целостность
этого мира) выявлялась во всегдашней возможности перехода -
к другому отдельному. "Разнообразие" теперь выглядело не
одним из свойств универсума, но наиболее универсальным его
свойством.
В таком, все еще едином, не распавшемся, гармоничном
мире, однако черпающем единство и гармонию из "почти
бесконечного", всегда незавершенного, неготового перечня, из
Всего, - в таком мире индивид уже не был ни только индивидом,
ни частичкой совершенного всеобщего. Но тем самым он
оказывался лицом к лицу перед неимоверной логико-культурной
трудностью, поскольку не мог бы помыслить свое существование
24 - 345
737 _
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
не соотнесенным с идеалом совершенства. Для движения к
идеалу уже невозможно было добиваться максимального
приближения к надличным нормам или следовать примеру тех людей,
в которых нормы считались осуществленными образцово.
Больше нельзя было приобщаться, соответствовать и
подражать. Каждый должен был доискиваться и стремиться к такому
наилучшему, которое отвечало бы его природным
возможностям, воле и собственному разумению - на свой страх и риск.
Вряд ли мы ошибаемся, если заключим, что "совершенство"
для Кастильоне, в конечном счете, всегда вот это: рядом с
другим совершенством. Есть, следовательно, не просто разное в
пределах единого совершенства, но много разных совершенств
(мы бы сказали, "много всеобщностейЧ). Только подлинно
особенное (оригинальное, творческое) и может быть всеобщим.
Всеобщих... столько же, сколько особенных?
Проблема самообоснования индивида - вот что неким
экзистенциальным, логическим и социальным требованием
стучалось в дверь, вот к чему вплотную подвело Возрождение в двух-
тысячелетней европейской перспективе.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
МАКЬЯВЕЛЛИ ',
И ПАРАДОКСЫ "Я"
НА ПОРОГЕ
НОВОГО ВРЕМЕНИ:
j|
Понятие об индивиде
по переписке
Никколо Макьявелли
с Франческо Веттори
и другими
Два разных человека, словно бы
невозможным сочетанием соединенных в одном.
Макьявелли. История Флоренции
1
В ПИСЬМЕ из Вероны к Луиджи Гвиччардини
8 декабря 1509 г. Макьявелли почему-то вдруг вспоминает Ло-
ренцо Великолепного1.
Письмо начинается так: "Черт возьми, Луиджи! смотри-ка,
сколь фортуна в делах одного и того же рода наделяет людей
по-разному".
Затем следует рассказ о любовном приключении автора, на
редкость неаппетитном. Старуха прачка зазывает его к себе в
землянку под предлогом продажи рубашек, но взамен белья
всучивает какую-то незнакомую плохо пахнущую девку и
выходит, притворив дверь. "Вот рубашка, которую я хочу вам
продать, но сперва примерьте, а потом уж заплатите". Оставшись в
полной темноте (у лачуги не было окон), рассказчик
испытывает приступ "отчаянной похоти", а после всего зажигает лампу,
дабы "увидеть этот товар". При свете девка оказывается
чудовищно уродливой, лысой и вшивой. На описание ее внешности
отведена примерно треть письма.
Автор не жалеет красок, довольно фантастических, повествуя
с таким удовольствием и обстоятельностью, что становится ясно:
хотя что-то такое, видимо, действительно произошло, эпизод
нарочито изукрашен всеми этими комедийными грубостями2.
Кончается тем, что женщина спрашивает: "Что с вами,
мессер?" - но "потерявшийся" и "онемевший" поклонник Венеры,
741 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ "Ят НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
зрение и обоняние которого были столь жестоко оскорблены,
вместо ответа ощущает содрогание желудка. Словом, его
вырвало. "И таким образом, расплатившись той монетой, какую она
заслуживала, я ушел. Ставлю в заклад свое место на небесах, но
не думаю, чтобы, пока я нахожусь в Ломбардии, ко мне
вернулось вожделение; впрочем, вы возблагодарите Господа в
надежде вновь испытать столько же наслаждения; я же благодарю его
за то, что мне незачем опасаться когда-либо опять испытать
столько же отвращения".
Нетрудно узнать склад ума будущего автора "Мандрагоры".
Даже ренессансные новеллисты, от Боккаччо до Граццини, на
фоне этой эпистолы могут показаться немножко чопорными...
Надо полагать, Луиджи отменно повеселился. Остроумные
беседы и послания Макьявелли заставляли друзей приходить в
восторг. Постарался он и здесь - на собственный счет. Но дело
не в этом.
2
Макьявелли пробыл в Вероне с 21 ноября до 11
декабря с поручением от флорентийской коммуны к императору
Максимилиану Австрийскому и рекомендательным письмом к
имперскому канцлеру епископу Лангу. "Я тут, как на
засушливом острове, подобно и вам, потому что тут ничего ни о чем
неизвестно; впрочем, чтобы выглядеть живым, я занят
сочинением длинной докладной записки для Совета Десяти" (р. 202).
Встретиться с императором не удалось, поездка вышла
неудачной, но Макьявелли был, как обычно, поглощен политическими
наблюдениями и расчетами, вел оживленную деловую
переписку со своим помощником и близким другом Бьяджо Буонак-
корси, Франческо дель Неро и др. До нас дошло целых пять
писем, направленных ему и написанных им за двадцать считанных
веронских дней, но это, конечно, лишь малая часть. Письмо к
Луиджи за три дня до отъезда вдруг появляется в контрасте с
напряженной государственной деятельностью.
Но как раз этот контраст должен был нравиться
Макьявелли...
То есть человеку, которому пятью месяцами ранее Филип-
по Казавеккья писал: "Никколо, ныне такое время, что если ко-
_ 742
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
гда-либо бывал мудрец, то нужно, чтоб он появился сейчас. Я
не думаю, чтобы ваша философия могла быть понята глупцами,
а умников не так уж много: вы меня поймете, хотя я не
краснослов. Ежедневно я открываю в вас величайшего пророка из тех,
кто был когда-либо у евреев или другого народа. Никколо,
Никколо, по правде, я не могу сказать (на бумаге) то, что хотел
бы... Не сочтите за труд приехать ко мне дня на четыре.
Помимо бесед я припас для вас яму, полную форели, и вино, какого
никто еще не пил. Это доставит мне удовольствие, которое
затмило бы все остальные" (р. 196).
Макьявелли знал себе цену, со всеми держался с огромным
достоинством. Почему же ему и в голову не приходило, что
письмо к Луиджи Гвиччардини могло бы это достоинство уронить? И
никому из окружающих, разумеется, тоже не могло прийти.
Повторяю, дело не только в ренессансных литературных
обыкновениях, в знаменитом тосканском острословии, во вкусе
к сочной и откровенной фабуле, в более чем вольных нравах
среды, в любезной нашему Никколо своеобразной
мизантропической веселости.
За явно гротескной сгущенностью анекдота, рассказанного
как-никак о себе, с очень странным, на позднейший взгляд,
словно бы эпическим удовлетворением, проступает некий
фрагмент мироотногиения. Ниже мы обратимся к некоторым другим
посланиям Макьявелли и в сопоставлении их с этим, пожалуй,
убедимся, что веронское происшествие укладывалось в
принятую им схему человеческой природы. Место фривольного и
низкого задано в ней структурно: важным для Макьявелли то-
посом, идеей о том, что один и тот же индивид способен к
предельно разнообразным, как самым серьезным и высоким, так и
самым легкомысленным или сладострастным, проявлениям.
Поэтому Макьявелли расписал случившееся с ним, не только
следуя традициям Франко Саккетти и Поджо Браччолини.
Чувственно-низкое было встроено в героическое
самосознание! - поскольку существованием одного полюса
предполагается и противоположный полюс в индивиде.
Наивыразительным примером в глазах Макьявелли служил
достопамятный Лоренцо Медичи.
Вот почему имя последнего в письме к Л. Гвиччардини - в
таком, казалось бы, произвольном и неподходящем контексте -
743 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
упомянуто по ассоциации, вряд ли случайной. Это имя есть
точный знак отнесения всего эпизода к определенному
смысловому ряду.
3
Сделано это забавно. Видите ли, рот у девки был
похож на рот Лоренцо, хотя у нее он скособоченный, слюнявый,
щербатый.
Откуда взялся этот штрих? Лоренцо Великолепного лучше
всех изобразил живописец школы Вазари. На завораживающе
неправильном и уже немолодом лице, где прическа
приоткрывает высокий лоб, - под насмешливыми и меланхолическими
глазами - довольно тяжелая нижняя часть. Нависающий,
мясистый, резкой лепки нос и... необыкновенно широкий рот с узкой
верхней и чувственной нижней губой, рот действительно
запоминающийся. Верх и низ лица разительно контрастны, хотя и
создают впечатление индивидуального единства грубых
страстей и одухотворенности. Таков маньеристический портрет,
который мог использовать прижизненные изображения, а также
отклики людей, еще заставших Лоренцо.
Макьявелли застал. Ему в момент кончины этого
блестящего правителя (1492) было двадцать три года. Он вспоминал о
Лоренцо с неизменным уважением, даже в тот момент, когда
только что совершившаяся реставрация семьи Медичи
угрожала крушением республиканских свобод и судьбы самого
секретаря второй канцелярии3. Судя по письму к Л. Гвиччардини,
выразительные черты Лоренцо через семнадцать лет
по-прежнему были у него перед глазами.
К осени 1524 или к марту 1525 г., т. е. спустя уже не
семнадцать, а почти дважды по семнадцать лет, доведя "Историю
Флоренции" до смерти Лоренцо и оборвав на этом восьмую
книгу, Макьявелли создал образ образцового политика,
стараясь притом "в определенных подробностях" не погрешить
против истинного положения вещей, ничего не перехвалив и не
принизив4. Он вспоминал конкретного и оригинального, очень
крупного человека. Но одновременно характеристика имела
более общий, если угодно, теоретический смысл.
_ 744
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франмеско Веттори и...
4
Вот эти строки, частично приводимые выше: "...его
образ жизни, его удачливость и мудрость были известны не
только итальянским государям, но и далеко за пределами Италии, и
у всех вызывали восхищение... Ибо в обсуждении тех или иных
вопросов он бывал красноречив и силен доводами, в решениях
благоразумен, в осуществлении решений быстр и смел. Нельзя
назвать ни единого порока, который запятнал бы блеск
стольких добродетелей. А между тем он был весьма склонен к
любовным наслаждениям, любил беседу с балагурами и остряками и
детские забавы более, чем это, казалось бы, подобало такому
человеку: его не раз видели участником игр его сыновей и
дочерей. Видя, как он одновременно ведет жизнь и легкомысленную, и
полную дел и забот, молено было подумать, что в нем самым
немыслимым образом сочетаются две разные натуры"*.
Как и на портрете вазариевской школы.
В оригинале сказано не о "склонности к любовным
наслаждениям", но гораздо определенней: "был на удивление захвачен
похотливыми делами" (или "плотскими вещами", "fusse nelle
cose veneree maravigliosamente involto"). Кстати, "uomini faceti e
mordaci" - это не просто безобидные "балагуры и остряки", но
скорее люди, охочие до соленых выходок и веселых
непристойностей. Знаменательная фраза, которую я выделил курсивом,
звучит так: "Tanto che, a considerare in quello e la vita voluttuosa
e la grave, si vedera in lui essere due persone diverse, quasi con
impossibile congiunzione congiunte". Дословно: "Так что,
принимая во внимание и его сладострастную жизнь, и его же жизнь
серьезную и значительную, в нем виделись два разных
человека, словно бы невозможным сочетанием соединенных (в
одном)".
Итак, во-первых, запомним оппозицию "la vita voluttuosa e
la grave". Во-вторых, отметим тот факт, что это восходящее к
античности общее место гуманистической словесности
применимо для обрисовки Лоренцо Медичи в его, бесспорно,
исторически подлинных и личных особенностях. Это сказано сейчас
именно о Лоренцо и ни о ком ином. В-третьих, Макьявелли
усматривает единство натуры Лоренцо в "сочетании" вроде бы
несовместимых, противоположных свойств, так что возникает впе-
745 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ "Яя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
чатление индивидуальной объемности, раздвинутости,
неоднозначности.
5
Но вот что замечательно.
Примерно десятью годами ранее Макьявелли применил в
точности ту же оценку - и с теми же интонациями удивления,
раздумчивости и довольства, - чтобы характеризовать своего
дорогого Франческо Веттори и себя самого. То есть меткие
слова о Лоренцо Медичи оказываются... всего лишь повторением
давних мыслей о собственной и, если угодно, о всякой
индивидуальности!
Речь идет о письме к Веттори от 31 января 1515 г.
Что ему предшествовало?6
10 декабря 1514 г. Макьявелли по предложению Веттори
(пытавшегося привлечь внимание Медичи к другу - см. р. 349)
отправил в Рим подробнейший анализ европейской
военно-политической ситуации для ознакомления с оным папы Льва X.
Макьявелли предостерегал папу от опасных, по его мнению,
попыток сохранить нейтралитет и советовал ради вящего
соблюдения выгод святейшего престола примкнуть к Франции и ее
союзникам против Империи, Испании и швейцарцев (р. 351—
361). Спустя десять дней Макьявелли посылает важные
дополнительные разъяснения к этому эпистолярному трактату, кое в
чем перекликающемуся с "Государем" и могущему послужить
наглядным приложением к нему. Иногда в Рим уходят по два
письма еженедельно, а 20 декабря Макьявелли даже пишет
Веттори дважды, одно письмо вдогонку за другим.
Для нас сейчас небезразлично, что все это чрезвычайно
серьезные послания, напряженные по мысли и тону. Сам
Макьявелли подчеркивает "Тот, кто их прочел бы, мог бы
заподозрить, что меня отчасти захлестывали эмоции (Paffectione); такое
представление было бы неприятным для меня, ибо я всегда
стремился придерживаться взвешенных суждений (il giudizio
saldo), особливо же в делах подобного рода, и не допускаю,
чтобы эти суждения искажались пустым запалом, как это делают
многие другие" (р. 366).
15 декабря Франческо Веттори в одном из ответных писем,
в довольно длинной латинской вставке, ссылался на только что
_ 746
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
перечитанную им в новом издании книгу Понтано "De
Fortuna". Франческо под впечатлением замечания Понтано о
том, что ни способности, ни благоразумие, ни сила духа, ни
прочие доблести ничего не стоят без помощи фортуны, в
подтверждение этой истины жаловался в очередной раз на свое
существование при римской курии. "Высочайший понтифик и
остальные наши Медичи, по-моему, ко мне благосклонны, но я ничего
не жду от них. Положенное мне жалование я проживаю, и к
концу месяца у меня ничего от него не остается. От любви я
свободен, довольствуясь книгами и литературными забавами
(cum lusoriis cartis)".
Никколо ответил, что повседневно убеждается в
справедливости высказывания Понтано, поскольку близлежащая выгода
или нерешительность мешают людям действовать так, чтобы
подтвердилось иное мнение, которого всегда придерживался он,
Макьявелли. "Вновь благодарю вас за все старания и все
помышления, которыми вы отвечаете на мою любовь. Не обещаю
отплатить вам тем же, потому что не думаю, чтобы я когда-либо
смог быть полезным для себя ли, для других ли. А если
фортуна все же возжелала бы, чтобы Медичи - будь то во Флоренции
или за ее пределами, в связи с их личными делами или в делах
публичных - дали бы мне какое-либо поручение, я был бы рад.
Так что я еще не совсем отчаялся... но пусть будет то, что будет"
(р. 368).
Уже около двух лет, с марта 1513 г. (ср. р. 235, 240,305 etc),
Макьявелли не переставал мечтать о возвращении к активной
политической деятельности, рассчитывая преимущественно на
посредничество флорентийского посла в Риме ("oratoris floren-
tini apud summum Pontifîcem").
В письме Веттори от 30 декабря 1514 г. деловой, или
приподнято-значительный, или горький тон, короче, это grave
вдруг перебивается совсем иной нотой, пока еще короткой, но
многообещающей. Начав письмо цитатой из "Лекарства от
любви", Веттори заявляет: "Поистине Овидий прав, когда говорит,
что любовь проистекает из досуга. Вот и я, сидя без дела...
настолько сейчас этим поглощен, что даже не отвечаю на ваши
письма, как того требует долг" (р. 369).
Однако, возможно, была и другая причина небольшой
задержки, непривычной для обязательного Веттори. Он не мог
747 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯв НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
сообщить Макьявелли ничего утешительного. И понтифик, и
кардиналы Бернардо Биббьена и Джулио Медичи прочитали
декабрьские докладные записки, хвалили, если верить Франче-
ско, ум и талант отправителя. Но и только. Никаких
практических последствий для опального политика это не возымело.
Веттори огорчен: "Но все это только слова, на беду я не тот
человек, который умеет помочь друзьям". Он пытается утешить
Макьявелли: "То, что вы на хорошем счету у этих
могущественных людей, могло бы при случае оказаться для вас во благо"
(ibid).
6
Нашелся, однако, повод рассеять Макьявелли другим,
более эффективным способом, принятым между нашими
корреспондентами. Веттори 16 января 1515 г. решает развить зачин
последнего декабрьского послания. «Дорогой кум. Ни от кого я
не получаю писем, которые читал бы охотней, чем ваши, и
желал бы обсудить много вещей, которые, впрочем, нельзя
доверить переписке. Вот уже несколько месяцев, как я превосходно
понял, насколько вы влюблены, и готов был сказать вам: "Ах,
Коридон, Коридон, что за безумие охватило тебя?" (Строка из
второй эклоги Вергилия приведена в оригинале. - Л. Б.) Но
затем, рассудив про себя, что эта наша жизнь есть не что иное, как
любовь, или, если выразиться более ясно, похоть (foia), - я
удержался, приняв в рассуждение и то, насколько в подобных
делах люди далеки в глубине сердца от того, что произносят их
уста».
Далее следуют всякие замечания, например такое: "И вы, и
я, хотя и стары, но в какой-то мере отличаемся теми нравами,
которые свойственны молодым, и тут уж ничего не попишешь".
И о милостях, которыми их обоих удостаивала известная
флорентийская прелестница Ричча. И о том, что "женщины чаще
всего имеют обыкновение любить деньги, а üe мужчин". И о
собственных на сей счет забавах: "Я уже писал вам, что безделье
заставляло меня влюбляться, так оно и есть, потому что я
почти ничем не занят. Читать я много не могу, потому что с
возрастом мои глаза ослабли; я не могу ходить на развлечения без
провожатых, а это получается не всегда, поскольку я не распо-
_ 748
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
лагаю ни такой властью, ни такими средствами, чтобы мне
угождали; а если я погружаюсь в размышления, на меня находит
меланхолия, от которой я стараюсь спастись; так что по
необходимости приходится наводить себя на мысли о вещах
приятных, а я не знаю ничего, что услаждало бы больше и в
помышлениях, и на деле, чем заниматься... (в оригинале: il fottere.
Можно деликатно перевести это как "животное
совокупление". - Л. Б.). Всякий человек в душе рассудит, что тут чистая
правда, понимают-то это многие, но немногие говорят" (р. 371-
372).
Разумеется, следует отдать себе отчет, что подобные
пассажи суть одновременно и вполне искренние, личные,
конкретные признания, и надлежащим литературным образом
оформленная игра, с непременными реминисценциями и прямыми
цитатами из Овидия или Вергилия, в тоне гуманистически
окрашенной фацетии. Вообще именно в этой сфере, в
стилизованных рассказах о своем быте и т. п., связь Макьявелли (и
Веттори) с ренессансной эпистолярной традицией XIV-XV вв. и с
античными топосами проступает более наглядно, чем в
чем-либо ином.
7
Макьявелли, несмотря на недавний новый провал
надежд вернуться к единственно пригодному для него и
желанному жизненному поприщу, с удовольствием поднимает в
уединении Сант-Андреа перчатку, брошенную дамским угодником и
острословом Веттори. Он начинает ответ сонетом в петраркист-
ском вкусе, сложенным в честь женщины, которой он тогда был
не на шутку увлечен (см. письмо от 3 августа 1514 г., которого
мы еще коснемся). "Уже много раз мальчик-лучник пытался
поразить стрелами мою грудь... и вот он выпустил одну из них с
такой силой, что я стражду от ран и признаю и изведываю его
могущество". Далее тут же сказано - кажется, невпопад? но
автору видней, о какой любви он ведет речь, - что он не мог бы
откликнуться "на ваше письмо о похоти" лучше, чем этим
сонетом о воришке Амуре. Он, Макьявелли, отнюдь не добровольно
попав в его узы, то сладкие, то тяжкие, все-таки выбраться из
них не хотел бы: "Я полагаю, что нельзя радоваться жизни без
749 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
этой существенной ее стороны (senza quella qualità di vità). И
так как я знаю, насколько милы вам мысли такого рода и как
хорошо вам знакомы эти житейские обыкновения (simili ordini
di vita), я сожалею, что вас нет рядом, чтобы посмеяться то над
моими [любовными] жалобами, то над моими утехами".
Процитировав овидиевы "Метаморфозы", Макьявелли продолжает
(собственно все, о чем речь шла выше, нам понадобилось
исключительно для того, чтобы высказывания, которые будут
сейчас приведены, попали в густой идейно-биографический
предметный контекст, не показались бы в устах Макьявелли
случайными и отвлеченными). Он продолжает так:
"Тот, кто увидел бы наши письма, досточтимый кум, и
увидел бы разнообразие их содержания (la diversity di quelle),
весьма поразился бы, потому что ему подчас показалось бы, что мы
люди серьезные и значительные (gravi), целиком захваченные
большими делами, и что у нас нельзя сыскать в груди такого
помышления, которое не заключало бы в себе честь и величие.
А перевернув страницу, он счел бы нас, тех же самых (noi
medesimi), легкомысленными, непостоянными, развратными,
занятыми делами суетными. Если кому-либо такое поведение
(questo modo di procedere) и покажется предосудительным, то,
по-моему, оно заслуживает похвалы, потому что мы подражаем
природе, которая разнообразна (è varia), a того, кто ей
подражает, упрекнуть не в чем. И хотя мы привыкли проявлять это
разнообразие (varietà) в переписке в целом, на сей раз я хочу
осуществить его в пределах одного письма, как вы увидите, если
перевернете страницу. Так что отхаркнитесь" (р. 374).
Действительно, затем, как ни в чем не бывало, идут
теоретические выкладки и соображения о политической обстановке.
8
Значит, вот как все завязано в тугой узел, все пишется
неспроста и работает на некую концепцию индивидуальности!
Грубые подробности веронского эпизода, нескромные взаимные
признания в переписке с Веттори, шутки о плотской любви,
ссылки на Овидия, а рядом сознание бессмысленно
разрушенной жизни, тоска прозябания в убогом уголке контадо, еле
сдерживаемый крик боли, глубочайшие идеи, аналитический дар.
_ 750
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франиеско Веттори и...
"...Принимая во внимание и его сладострастную жизнь, и его же
жизнь серьезную и значительную, в нем виделись два разных
человека, словно бы невозможным сочетанием соединенные в
одном". "...Мы люди серьезные и значительные... и мы, те же
самые, легкомысленны, непостоянны, развратны, заняты делами
суетными". Макьявелли стремится указать на отличие Лоренцо
Великолепного среди прочих людей, благодаря "словно бы
невозможному сочетанию*1. Себя самого и Франческо он тоже не
без гордости выделяет этим "мы".
А между тем индивидуальное отличие и выделенность
всякий раз дает о себе знать и осмысляется одинаково: как
способность одного и того же человека сразу и к высокому, и к
незамысловатому, забавному, даже низменному. Макьявелли
восхищается совмещением противоположных свойств, а точней,
емкостью и развертыванием индивидуальной натуры в череде
разнообразных проявлений. Такова ведь и природная variété вообще.
Любопытно и характерно, что Макьявелли упивается
общим местом, будто устанавливает впервые, разглядев его
именно в Лоренцо, именно в себе и Веттори... Общее место всякий
раз опознается с волнением как признак, указующий на особую
полноту данного индивида среди остальных людей, ничего
этого не понимающих.
Индивидуальность как "подражание" природе в целом?! Но
тут Макьявелли, между прочим, разделяет противоречие всей
ренессанснои культуры, с ее странным индивидуализмом как
возможностью всеобщего в отдельном конкретном человеке.
9
Прежде чем сделать следующий шаг, почитаем еще
несколько писем Макьявелли, в том числе очень известных. Это,
возможно, мало что добавит к только что сделанным
наблюдениям, разве что оттенки. Но не пренебрежем и оттенками.
Кроме того, удостоверимся, что мысли, сформулированные автором
"Государя" в январском письме 1515 г., приходили ему на ум
неоднократно, что, в частности, тон фацетии и
соответствующий образ жизни не просто отвечали нравам ренессанснои
культурной среды и темпераменту Макьявелли, но постоянно
были важны для него, так сказать, идейно, в плане целостной
751 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯш НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
оценки собственной и даже всякой личности (если мы вправе
употребить этот термин).
То письмо к Веттори от 10 декабря 1513 г., которое Р. Ри-
дольфи назвал "самым знаменитым в итальянской
словесности"7, тоже построено полностью на контрасте высокого и
низкого времяпрепровождения. Макьявелли, однако, на этот раз
придал каждому из двух психологических полюсов небывалую
степень живописной точности, насыщенности, убедительности,
отчего контраст приобрел характер трагической коллизии:
человек, рожденный для высоких мыслей и дел, вынужден
растрачивать себя и свою жизнь в бездействии, посреди грубых
развлечений8. Но заметим, что, предаваясь им поневоле, автор
отнюдь не скрывает своей способности участвовать в
трактирных забавах с неожиданной страстью, уходя в них с головой.
Стало быть, в этом тоже, несомненно, он. "Так я провел весь
сентябрь, а потом это житье-бытье (questo badalucco), хотя и
обидное и странное, уже показалось сносным (è mancato con
mio dispiacere)".
Наш Пушкин сказал: "И с отвращением читая жизнь мою,
// Я трепещу и проклинаю, // И горько жалуюсь, и горько
слезы лью, // Но строк печальных не смываю". То есть: раскаянием
не отменить того, что было.
Что до Макьявелли, то он и проклинает, и жалуется, но вряд
ли раскаивается. В рассказе о наблюдениях на большой дороге и
о карточных ссорах есть, кроме отвращения, еще и сочность, и
живость, и упоительность перехода ко всему этому после
одиноких утренних прогулок вдоль ручья, на птичьем току, с томом
Данте или Петрарки или "меньших поэтов, вроде Тибулла,
Овидия и им подобных, в руках: я читаю об их любовных страстях,
вспоминаю о собственной, и мысль об этом радует меня
некоторое время". Впрочем, день начинается не с поэтической
прогулки, а с того, что, встав на заре и наскоро позавтракав, он,
Макьявелли, отправляется в свой лес, который сводит на дрова,
посмотреть, что наработано накануне, и поболтать с дровосеками,
которые делятся с ним росказнями о столкновениях между собой
и с соседями. Заодно Макьявелли довольно подробно сообщает
о запутанных финансовых счетах с арендаторами и о том, как
один из них вздумал удержать из своего долга десять сольди,
которые выиграл в карты четыре года тому назад и якобы не полу-
_ 752
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и..
чил; "я же взбесился"; их еле разняли. Вот вслед за этим
описанием и за всеми дровяными расчетами Макьявелли как раз и
вставляет строки о любовных мечтаниях, о чтении Тибулла,
Овидия или Петрарки... И снова переход не менее резкий:
"Выйдя затем на дорогу к остерии, я разговариваю с прохожими,
расспрашиваю о том, что нового в их краях, узнаю всякую всячину
и отмечаю разнообразие людских склонностей и характеров
(intendo varie cose, et noto varii gusti et diverse fantasie d'huomi-
ni). Наступает обеденный час, и мы с домашними едим ту
скромную стряпню, которой могут снабдить нас бедная вилла и
малый достаток. Поев, я возвращаюсь в остерию. Там обычно
торчат, кроме хозяина, мясник, мельник и двое кузнецов. С
ними я убиваю день в никчемных занятиях, играя в карты и в
трик-трак, возникает тысяча перебранок, бесконечные ссоры и
оскорбления, подчас из-за кватрина мы орем настолько
истошно, что, наверно, доносится до Сан Кашано. Так я погрязаю
среди этих гнид, мозг мой покрывается плесенью, и я даю
разгуляться коварству своей судьбы, я даже доволен, что она так
топчет меня, потому что хочу посмотреть, не станет ли ей стыдно".
10
Это "погрязаю среди гнид" цитируют куда реже, чем то,
что сразу же идет вслед: "Наступает вечер, я возвращаюсь домой
и вхожу в свой кабинет; у порога сбрасываю будничное платье,
полное грязи и сора, и облачаюсь в царственные и великолепные
одежды; и, надлежащим образом переодетый, вхожу в античные
дворцы к античным людям. Там, с любовью ими принятый, я
вкушаю ту пищу, которая - единственно моя и для которой я
рожден; там я без стеснения беседую с ними и расспрашиваю о
разумном основании их действий; и они по доброте своей отвечают
мне. И я не чувствую на протяжении четырех часов никакой
скуки, я забываю все печали, не боюсь бедности, и меня не приводит
в смятение смерть: я целиком переношусь к ним"9.
На фоне письма Веттори, спровоцировавшего гениальный
ответ Макьявелли, становятся более рельефными особенности
этого ответа.
То, о чем повествует Макьявелли, никак не менее
достоверно и, что называется, взято из жизни. Однако все доведено до
та —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯв НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
предела: в отношении живописных подробностей, эмоций,
лексики, стиля. Послеобеденные карточные игры Макьявелли -
это не таковые же игры Веттори; но и его вечерние беседы с
древними римлянами - это не аналогичное
времяпрепровождение, о котором отчитывается Франческо. Любопытно, что
несравненно большая полнокровность письма Макьявелли тем
самым означает несравненно большую литературность,
концептуальное™. Низ и верх максимально разведены в отношении
эмоций и слога - но притом в какой чересполосице! Грубое
грубо до конца, до отвращения к себе, до отчаянности... хотя и
описано как-то со вкусом, слишком смачно, чтобы иметь только
отрицательное значение. Высокое достигает патетической
пронзительности. В итоге демонстрируется наивозможная варъета
человеческой души и поведения.
Правда, автор отождествляет себя, свою индивидуальную
подлинность, только с высоким - как с "той пищей, которая -
единственно моя и для которой я рожден". Это ведь
письмо-жалоба, письмо человека, который жаждет перемены в своем
положении и советуется, каким образом в этом могло бы помочь
подношение только что законченного "Государя" сиятельному
Джулиано Медичи. И все же мы вправе усомниться в том, что
Макьявелли рожден только для "бесед" с античными
писателями. Это откорректировано параллельными, пусть не такими
приподнятыми, но, кажется, оттого не менее поучительными
беседами с прохожими по дороге в остерию (а раньше с
дровосеками), раскрывающими варьета житейских ситуаций и простых
людей, с их столь несхожими "фантазиями" (очень
значительное для Макьявелли и его корреспондента слово, почти термин,
в котором мы еще попытаемся разобраться). Причем к этим
столь обыденным разговорам отнесены те же глаголы, что и
применительно к чтению древних, и даже в той же
последовательности: parlare, domandare, intendere, notare.
и
Было бы важно подчеркнуть, что новизна этого
мироощущения состоит не в отдельных смысловых элементах
письма, а в способе их соединения, дающем необычный эффект,
поскольку книжное и бытовое, высокое и низкое, трагическое и
_ 754
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
смешное, общие места и конкретность сообщения, письмо
литературное, письмо интимное, письмо деловое - все это не просто
уравнивается и сливается, скажем, в амбивалентном тексте.
Резко выдвигается смысловая и речевая доминанта личного
авторства. Поэтому "амбивалентность" здесь вряд ли идет к делу.
Письмо прежде всего отправлено частным лицом. Гуманисты
XIV-XV вв. таких писем еще не писали, их латинские
эпистолы все-таки относятся к некоей полуусловной ситуации
ученого общения и к некоему коллективному жанру; в этом плане
авторы взаимозаменяемы; хотя и стилизуя, они "вещают"; письмо
же отчасти подражающего им Макьявелли β целом уникально,
как и он сам. Он "не вещает, а говорит"10.
Интонацию, тосканское наречие, торжественный стиль,
вообще всю содержательную и стилевую регистровку своевольно
и внезапно переключает автор, идя за настроением минуты. Он
приступает к письму определенного жанра, но быстро нарушает
эти границы. И оказывается вне жанра и вне готового стиля.
Письмо сплошь иронично, и дело не только в отдельных
замечаниях, в прямой иронии, а именно в этих быстрых - от абзаца
к абзацу или даже внутри одной фразы! - сменах
всевозможных плоскостей, уровней, регистров разговора, отстраняющих
друг друга и неизбежно связанных столь причудливо, на самом
малом пространстве текста, лишь субъектом высказывания. Это
то, что М.М. Бахтин называет "оговорочным языком Нового
времени". Пожалуй, ни в одном другом письме Макьявелли не
достигает такой степени реализации этого непривычного
свойства - бесстильности (которого нет, например, в замечательных
письмах Петрарки, при всей их индивидуальной
напряженности). Веттори часто тянется к тому же, но более вяло, стерто.
Дело не в том, что Макьявелли менее литературен; никак не
менее; но это новая литературность, поскольку он гораздо
свободней в отношении к слову и, следовательно, к себе.
12
А с топосами получается примерно следующее.
Раньше они задавали индивида в качестве их готового соединения,
их суммы, причем, конечно, по иерархической вертикали
(целью индивида было вскормить в себе горнее и преодолеть доль-
755 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
нее: см., скажем, "Secretum" Петрарки). Теперь же индивид
задает собой топосы, определяя и свое высокое, и свое низменное,
т. е. поскольку человек смеет исходить из себя, то он по ходу
своей внутренней варьета индивидуально порождает
разноплановые мысли и поступки, как gravi, так и lieti. Впрочем, прямо
подтвердить, что это переворачивание причин и следствий
было (отчасти) осознано Макьявелли, можно лишь очень
немногими текстами, особенно, пожалуй, письмом к Веттори от 5
января 1514 г. (см. далее). Макьявелли, к тому же поглощенный
совсем иными проблемами, был лишь на подступах к этой идее.
Ясней она подтверждается у него косвенно: через повышенную
напряженность авторства, сплавляющую несовместимые по
такту элементы.
Итак, Макьявелли не только пишет о себе, но и пишет
собой, у нас на глазах творит себя. Раньше такие вещи, конечно,
тоже происходили, но более или менее непроизвольно и
попутно, при сознательном сочинении по правилам, будь то даже
правила исповеди, дружеской эпистолы и т. п. Макьявелли,
напротив, как бы лишь попутно использует литературные схемы,
общие места, но все это подчинено, как мы теперь сказали бы,
индивидуальному самовыражению. Он хочет выговориться, и,
кажется, его заносит дальше, чем этого можно было ожидать, судя
по началу, дальше, чем ожидал он сам. Это похоже на
импровизацию. Он не рассчитывает на потомков, на то, что у этого
письма будут читатели (помимо Веттори), - словом, он - при всей
писательской изощренности - пишет, кажется, уже именно
письмо, в понимании Нового времени, а не произведение
эпистолярного жанра.
В топосах, которыми он пользуется, нет ничего нового. Те,
кто имеет особый вкус к параллелям и прецедентам, без труда
вспомнят тут же многое: мудреца Сократа с его домашними
дрязгами, криками Ксантиппы, шутовством на базарах или
средневековое представление о человеке как "полуангеле,
полуживотном". Но смысловая функция традиционного сближения и
разведения верха и низа человеческой природы у Макьявелли
все же новая. Он испытывает такое чувство, как будто
внутренняя неоднозначность, контрастность, объемность - его особая
примета, будто верх и низ впервые поселились в его душе и
спровоцированы драмой его ссылки, его злосчастной жизни в
_ 75S
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франческо Веттори и.,.
Сант-Андреа. Он безмерно поражается всему этому,
разглядывая себя со стороны.
Неожиданность этих топосов, вдруг переставших быть то-
посами, превратившимися в характеристику индивидуальности
Никколо Макьявелли!
13
Неожиданность человека для себя.
В дневных и вечерних, грязных ли, парадных ли одеждах -
все он, Макьявелли. Даже если ему хочется процитировать 81-й
сонет Петрарки: "Рего se alcuna volta io rido о canto, // Folio
perche non ho se non quest'una // Via da sfogare il mio acerbo
pianto". То есть: "Если иногда я и смеюсь или пою, то делаю это
лишь потому, что у меня нет иного способа дать вырваться
горькому плачу"11.
3 августа 1514 г. он, напротив, пишет все тому же
Франческо Веттори и тоже в ответ на признания последнего (опять это
не только встречная дружеская откровенность, но и
литературная необходимость поддержать, как было заведено еще
древними, предложенную тему, обменявшись эпистолами): "Поистине
фортуна забросила меня сюда с тем, чтобы тут же вознаградить
по справедливости; ибо, проживая на вилле, я повстречал
существо столь приятное, утонченное и благородное, как по природе,
так и по проявлениям, что я был бы не в состоянии ни воздать
ей хвалу, ни любить ее так, как она того заслуживала бы. Как и
вы мне, я тоже мог бы рассказать о начале этой Любви, о том,
что за сети, которыми я был уловлен, где были растянуты и
какого они качества; и тогда вы сами увидели бы, что то были
сети из золота, растянуты меж цветов и вытканы Венерой, будучи
настолько нежными и приятными, что даже сердце мужлана не
могло бы их разорвать, и тем паче этого не пожелал я... И не
думайте, что Амур воспользовался обычными средствами, дабы
изловить меня, нет, он, поняв, что их было бы недостаточно,
избрал необычные пути, о коих я не подозревал, отчего и не сумел
уберечься. Ведь, подумайте, мне уже под пятьдесят, и меня это
больше не удручает, и не утомляет крутизна дорог, не наводит
тоску ночная темнота. Все кажется мне сносным, и я
приспосабливаюсь ко всему, даже если это против моих желаний и от-
757 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
лично от того, что должно было бы быть их целью (или: было
бы подлинно моим - etiam diverso et contrario a quello che
doverebbe essere il mio)... Итак, я оставил помышления о вещах
великих и высоких (delle cose grandi et gravi), меня более не
услаждает ни читать о событиях древних, ни рассуждать о
событиях новейших; все во мне обратилось к рассуждениям о
предмете сладостном, за что и благодарю Венеру вместе со всем
Кипром. Так что, если вам понадобится написать мне нечто о
своей даме, что ж, напишите, а о прочем рассуждайте с теми, кто
отдает предпочтение серьезным материям и смыслит в них
лучше, я же никогда не находил в тех вещах ничего, кроме вреда
для себя, а в этих - неизменное благо и усладу" (р. 346-347).
14
Мы не станем рассматривать по традиции это письмо
(как и другие письма Макьявелли) в качестве документа его
личной психологии и биографии, принимая на веру и толкуя
буквально заявление, будто он более не желает думать о
политике и всецело поглощен нежной страстью12. Прежде всего речь
вовсе не идет о выборе между оценками этого письма, любого из
его писем, как "искреннего" или "литературного". Это значило
бы - подчеркнем еще раз - модернизировать культурную
ситуацию. Макьявелли впрямь увлечен прелестной соседкой, он
никогда не выдумывает ни своих чувств, ни фактов, но неизменно
сплавляет их с известной топикой, если угодно, стилизует,
будучи в этом отношении, следовательно, еще внутри
гуманистического стиля жизни и мышления13. Он сознательно
выстраивает себя, свою индивидуальность, настроения, обстоятельства на
общепринятом, активизированном литературном фоне,
расшивает по нему.
Правда, он вносит в это занятие заметную долю иронии, так
что порой между топикой и той пока не называемой иначе
реальностью, которая по необходимости ею оформлена, -
остается некий зазор. Но и это лишь усиливает главный эффект,
состоящий, как мы уже могли убедиться, в том, что низкое (т. е.
любовное, страстное, чувственное, наконец, грубо-чувственное,
а также бытовое, хозяйственное, денежное, карточное,
приятельское, обыденное и пр.) становится окончательно низким,
_ 758
Понятие об индивиде по переписке Никхоло Макьявелли с Франческо Веттори и...
разросшимся, претендующим на всего человека, на все его
время и мысли, на тождество с индивидом. А высокое (т. е. занятия
политикой, историей, литературой, чтение древних и
размышления о делах недавних, служение Флоренции, общественное
признание, рациональные суждения) становится безусловно
высоким и тоже требующим всего индивида14. Макьявелли - в
отличие от Веттори - всячески усиливает это разведение,
драматизирует или обыгрывает шутливо или чаще саркастически,
начиная с интонаций, лексического отбора, контраста на уровне
языка между книжными оборотами и диалектальной
разговорностью. Тем не менее - и как раз благодаря наглядному
экстремизму двух тотальных установок - обе оказываются
неотъемлемыми от жизни индивида и составляют его полноту.
Письмо от 3 августа 1514 г., разумеется, укладывается в
знакомую оппозицию ula vita voluttuosa e la grave". В нем самом эта
оппозиция в очередной раз прямо указана. Обычно (как и
напоминал Макьявелли в письме к Веттори от 31 января 1515 г.)
полагалось выдержать каждое письмо в определенном тоне,
перемежая два облика, соединенные в одном человеке. Или, если
воспользоваться другим древним различением, о котором
помянул (в письме 1502 г.) Пьеро Содерини: "соответственно моему
частному лицу и мне же как лицу публичному" ("conveniente a
la persona mia privata et ad la publica" - p. 85). Понятно, на
каком полюсе располагается, какому из лиц соответствует
умонастроение, изображенное в августовском послании. Макьявелли,
наполовину серьезно, наполовину с усмешкой, прибегает к
расхожим книжным оборотам, входит в роль пленника Амура,
забывшего о "cose gravi" ради "ragionamente dolci" (что не мешает
его искренности, подтверждаемой сильными словами о
привыкании к возрасту). Но вдруг два словечка комически остраняют
весь рассказ ("et tutta Cipri")! A последняя фраза, с
очевидностью шутливая, тем не менее касается недавней, отнюдь не
изжитой биографической катастрофы.
15
Заглянем также в письма Веттори к Макьявелли от
5 января и от 4 февраля 1514 г. Сначала Франческо извещает
"дорогого кума": "Вы знаете, что я немного слаб по женской ча-
759 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
сти и получаю удовольствие, правда более от баловства с ними,
чем от других действий, потому что я теперь мало на что
способен, кроме разговоров; вы также знаете, насколько всегда
чурался женщин Филиппо. (Речь здесь и в дальнейшем идет об
общих приятелях: Филиппо Казавеккья и Джулиано Бранкач-
чи. - Л£.) И до его приезда сюда, поскольку мое жилище
находится несколько на отшибе, часто бывало так, что какая-нибудь
куртизанка приходила навестить меня, чтобы поглядеть на
церковь и сад, прилегающие к дому..." Затем следует рассказ о том,
что однажды Филиппо, появившись внезапно, застал такую
женщину - и после обеда, когда та удалилась, начал было
произносить речь по всей форме. "...Однако я, зная, что речь будет
длинной, и видя, к чему тот клонит, перебил его и сказал, что по
немногим словам уже понял его намерение, что не желаю ни
оправдываться, ни выслушивать его распекания, потому что я до
сих пор жил свободно и безо всякой оглядки и собираюсь точно
так же провести остаток жизни, мне отпущенный. Так что он,
хотя и неохотно, согласился, чтобы женщины приходили сюда,
когда им вздумается" (р. 310).
Далее Франческо спрашивает о трактате "Государь".
Следует деловая часть письма.
Макьявелли отвечает: "Конечно, великое это дело
наблюдать, насколько люди слепы в том, в чем они грешат, и
насколько сурово они преследуют те пороки, которых лишены сами. Я
мог бы вам привести in exemplis дела греков, латинян, евреев,
халдеев и добраться до Персии и Аравии, засыпав вас цитатами,
если бы не довольно было примеров домашних и свежих".
Поскольку положение посла обязывает к бесконечным стеснениям,
можно только похвалить Франческо за то, что тот устраивается
с таким благоразумием. "С другой стороны, я полагаю, что, если
бы даже к вам явился бордель [госпожи] Валенцы в полном
составе, Бранкаччо никак не мог бы упрекать вас в этом, это даже
послужило бы для вас гораздо лучшей рекомендацией, чем если
бы вы ораторствовали перед папой почище Демосфена" (с. 314).
Если бы Веттори вздумал послушаться Филиппо, и закрыл
двери перед девками, ми прогнал сера Здоровяка, и обратился бы к
делам серьезным (al grave)", не прошло бы и четырех дней, как
тот сам бы стал заговаривать: "А что сер Здоровяк? Что это он
не показывается больше? Видно, захворал, раз не приходит; мне
_ 760
Понятие об индивиде по переписке Ниюсоло Макьявелли с Франческа Веттори и...
он сдается человеком порядочным" и т. п. Макьявелли с
наслаждением купается в наперченном тосканском наречии,
разворачивая воображаемую сцену.
Далее, намекнув, что попреки Бранкаччо объясняются
попросту тем, что тот предпочитает мальчиков, он заявляет. "Мой
великолепный оратор, этот мир наполнен дураками; и мало
таких, которые изведали бы его и понимали бы, что никогда
ничего не совершит тот, кто поступает на чужой манер, ведь не
найти [другого] человека, который был бы того же мнения [что
и этот]. Люди не ведают, что тот, кого держат за мудреца днем,
никогда не будет сочтен дураком ночью, и что тот, кого
почитают человеком достойным и проверенным, может отпустить
узду (allargare l'animo) и жить весело, и это будет ему в честь, а
не в обвинение, и вместо того, чтобы звать его вралем и
распутником, говорят, что он - человек универсальный (si dice che e
universale), что он свойский и добрый товарищ. И того не
ведают, что он ведет себя по-своему, не перенимая чужого (dà del
suo, et non piglia di quel d'altri); подобно суслу, которое, пока
оно бродит, придает свой запах заплесневелым бочкам, а не
перенимает у них запаха плесени. Поэтому, синьор оратор, не
бойтесь ни плесени сера Здоровяка, ни сырости моны Тёрки, и
живите в соответствии со своими обыкновениями (seguite gli
institut! vostri) ...Посему, мой великолепный оратор, предоставьте
одному трепаться, другому обжираться, вы же занимайтесь
своими делами на собственный лад, attendete alle faccende vostre a
vostro modo" (p. 315-316. Курсив мой. - Л. Б.).
Так они от души развлекаются посреди политических бурь.
Веттори откликается: "Дражайший кум, я всегда хвалил
ваш ум и одобрял ваши суждения и в малом и в великом (nelle
pichole chose et nelle grande), но ваше рассуждение в последнем
письме насчет Филиппо и Бранкаччо подтвердилось сразу
же..Л Следует новый красочный рассказ. Макьявелли отвечает
еще одним письмом, наполненным изящными
непристойностями, стихами, латинскими цитатами из Теренция, описанием
картины, которую он нарисовал бы, если бы умел рисовать, и на
которой могли бы быть изображены Юпитер, прикованный к
колеснице любви, и влюбленный Франческо, которому
Макьявелли рекомендует обратиться к Амуру с речью, тут же
приведенной. Это красноречие, нарочито чередующее диалектизмы с
761 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
книжностью, призвано подкрепить совет: "Так что, мой
господин, живите весело: не падайте духом, выступайте против
фортуны без забрала, принимайте то, что посылают вам повороты
небес, условия времени и людей и вы разорвете любые силки и
превозможете любую трудность. А если вы захотели бы спеть
серенаду для Амура, я тоже готов явиться туда с какой-нибудь
удачной выдумкой, чтобы заставить его воспламениться"
(р. 323).
16
Что можно извлечь из всего этого для нашей темы?
Во-первых. Подтверждается впечатление, что мотивы,
которые тремя десятилетиями ранее Марсилио Фичино связывал с
покровительством "нимфы Маммолы" и которые
подразумеваются девизом "vivere lieto", и соответствующие реальные нравы
более или менее образованных флорентийцев были включены в
концепцию целостного существования, основанного на
естественной рядоположенности "le qualità di vita", на "la diversità di
quelle", на единстве в индивиде низменного и высокого, "vita
voluttuosa e la grave". Эта антиквизирующая и гуманистическая
концепция, восходящая непосредственно к "Декамерону" с его
двумя сюжетными и стилевыми рядами, отчасти к эпистолярию
Петрарки и к диалогам вроде валловского, где дружески и на
равных встречались "эпикурейская" voluptas и "стоическая"
gravitas, стала в начале XVI в. уже общим местом для
Макьявелли и его среды, конечно не гуманистической (в узком
смысле слова), но по-прежнему ренессансной. Тот, кого Макьявелли
называет "savio", "не будет сочтен дураком и ночью". Стало
быть, и распутство, встроенное в мудрость и варьета индивида,
не распутство, а естественность, веселость, свобода от
ханжества, от условностей и внешней "узды", необходимый элемент той
же полноты, которая дает человеку силы для значительного и
серьезного, для "grave", для великих дел и борения с фортуной.
Во-вторых. И Веттори, считающий себя набожным,
исправно по праздникам слушающий мессу, и Макьявелли,
испытывающий откровенное отвращение к монахам и церковникам, - оба
они ведут себя так, словно традиционной морали никогда не
существовало. И только несколько подчеркнутая, не лишенная
_ 762
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
вызова, стилизованная, упрямая веселость обнаруживает, что
эту свободу пока еще нужно отстаивать. Вряд ли - против
внешних запретов; la vita voluttuosa в ренессдосной среде стала
нормой и даже поэтикой бытового поведения; не случайно в
роли моралиста вздумал выступить человек вроде Казавеккья;
они вместе с Бранкаччи, впрочем, очень быстро, по словам
Веттори, "поняли свою ошибку" (р. 317).
Однако нельзя не расслышать полемических интонаций в
повторяющейся на разные лады формуле индивидуальной
независимости: надо "жить свободно и без оглядки", "вести себя по-
своему, не перенимая чужого", "вести себя на свой манер",
"заниматься своими делами на собственный лад"15.
За этим целая новая программа человеческого
существования.
Оба корреспондента - Макьявелли с гораздо большей
продуманностью - вдохновляются не отбрасыванием всякой
морали, но ее радикальным преобразованием. Макьявелли уверенно
и весело высказывается против конформизма, против
следования чужим обыкновениям. Индивид должен сам решать, что
ему подходит.
В-третьих. Как уже было сказано, разноплановые
проявления индивида не есть просто результат наложения на него
общечеловеческой природы. Бродящее сусло придает свой запах
заплесневелым бочкам, а не перенимает у них запах плесени.
Не взятые изолированно поступки характеризуют человека,
а человек придает смысл своим поступкам, пусть по общей
мерке легкомысленным, которые, будучи поставлены в связь с его
достоинствами, выступают в ином свете и "будут ему в честь".
То есть моральная оценка должна быть отнесена к данному
индивиду в целом, а не к привычно порицаемым "нравам" и быть
свободной от ригористических штампов. Нравы его таковы,
каков он, а не наоборот, как прежде. "Мудрый" индивид не
подчиняется налагаемым извне, надличным правилам, не заимствует
их готовыми у других, но устанавливает по-своему, собою, для
себя, "da del suo, et non piglia di quel d'altri". И задает новый
смысл своему "vivere lieto".
В-четвертых. Макьявелли пишет, что достойный и
проверенный в серьезных вещах человек вправе "отпустить узду"
(буквально: "расширить дух", дать ему волю и "жить весело"). О
763 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
таком индивиде, совмещающем, перемежающем в себе "grave" и
"lieto", говорят, что он - "универсальный"!
Кажется, перед нами едва ли не единственный случай, когда
Макьявелли прямо прибегает к этому гуманистическому
термину. При всей предметной бедности того, о чем он в данном
случае толкует, все же крайне важно следующее: заговаривая о том,
что позже назовут индивидуальностью, Макьявелли прежде
всего желает обеспечить за отдельным человеком родовую
полноту, а потому и способность быть разным, изменчивость
духовного облика и поведения. Это - отметим ради дальнейшего
анализа с наибольшим вниманием.
Но, в-пятых: как сообразовать универсальность индивида с
его же особенностью? То есть с тем, что у каждого индивида -
своя "фантазия". И что каждый должен вести себя на
собственный лад. Не оглядываясь на других. Именно таков "мудрый"
человек. Но это не мешает Макьявелли одновременно
утверждать, что "мудрый" человек универсален, и мы вправе
поинтересоваться, чем же в таком случае один универсальный человек
будет отличаться от другого универсального человека. Иначе
говоря, если человеческая varietà вмещена в ("универсального")
индивида, то как согласовать это с бесконечным несходством
между индивидами?
Конечно, на уровне полушутливых рассуждений нелегко
предположить в них некую логическую трещину. Тем не менее
она здесь кроется. Причем именно она составит труднейшую
для Макьявелли теоретическую коллизию, которая впервые
сформулирована им в письме к Пьеро Содерини, вскоре
обнаружится в XXV главе "Государя" и ставит под знак вопроса всю
макьявеллиеву политологию.
17
Установив, что в посланиях на столь легкомысленные
темы постоянно присутствует представление об
"универсальности", в данном случае как естественной varietà разнообразии,
изменчивости, контрастности, свободе психического состава и
поступков индивида, который должен быть способен "allargare
I'animo" и в зависимости от обстановки и желания словно бы не
походить на себя самого, сочетать в себе разных людей, - уста-
_ 764
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
новив это, зададимся вопросом, который может поначалу
показаться неожиданным и слишком натянутым.
В одном из наиболее ранних сохранившихся писем
Макьявелли, датированном 9 марта 1498 г., том самом, где дана
знаменитая характеристика проповедей Савонаролы и его
политических приемов (т. е. того, что в глазах Макьявелли суть именно
политические приемы и более ничего), между прочим, есть
такое замечание. Усмотрев в проповедях доминиканца,
произнесенных на протяжении двух дней в монастыре Сан-Марко,
определенное расхождение в смысле и тоне (сперва монах
предостерегал, что некто готовится, изгнав его, Савонаролу, стать
тираном Флоренции; на следующее же утро вовсе не поминал об
этом и вел себя гораздо уверенней); считая, что расхождение
объясняется поддержкой, оказанной монаху синьорией в
промежутке между этими выступлениями; видя в Савонароле
расчетливого и ловкого деятеля, - Макьявелли пишет: "По-моему,
он окрашивает свои враки по-разному, в зависимости от
обстоятельств", потому и "сменил плащ" (р. ЗЗ)16-17.
Так вот: имеет ли это умение политика принимать цвет
времени, действовать по обстоятельствам, "менять плащ" (mutare
mantello), имеет ли оно что-либо общее с разным (то
героически значительным, то низменным или ребяческим) поведением
одного и того же индивида? То есть существует ли
какая-нибудь связь между характеристиками, данными Лоренцо
Великолепному и... Савонароле?
Лоренцо Великолепным Макьявелли восхищается, к
Савонароле относится враждебно. В одном случае речь идет о том,
что мы назвали бы целостной оценкой личности, в другом -
всего лишь о политическом маневрировании. В одном случае
разнообразие жизненных проявлений и склонностей понято в
качестве развертывания вольных сил индивида, осмыслено как
соединение древних "gravitas" и "voluptas". В другом -
внутренняя гибкость подразумевается постольку, поскольку этого
требует изменчивость внешних условий. Словом, varietà натуры
Лоренцо, по-видимому, нечто совсем-совсем иное, нежели
предполагаемое будущим автором "Государя" расчетливое умение
Савонаролы "менять плащ".
И все же...
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
При разительном несходстве оба эти человека были
выдающимися политическими деятелями и, друг вслед за другом,
фактическими повелителями Флоренции. По рационалистической
логике Макьявелли, это должно непременно как-то свести их на
почве того специфического "благоразумия", без коего
невозможен длительный политический успех. Рассказывая о Лоренцо
Медичи, Макьявелли подчеркивает "la prudenzia sua". A что это
такое (в делах государственных)? Самый простой ответ (от
противного) дан в письме Макьявелли к канцлеру Лукки в октябре
1499 г., т. е. на следующий год после сожжения Савонаролы:
"Среди многого, что показывает, каков данный человек,
немаловажно приглядеться, насколько легко он готов поверить тому,
что ему говорят, а также насколько ловко умеет слукавить,
когда хочет сам в чем-либо убедить других; и всякий раз, когда
некто верит тому, чему верить не следует, или плохо
прикидывается, убеждая других, можно назвать такого человека
поверхностным и лишенным всякого благоразумия (leggiero et di nessuna
prudentia)" (p. 49). С этой точки зрения Савонарола, хотя и
потерпел в конце концов поражение, "благоразумием", конечно, по
представлению Макьявелли, обделен не был.
18
Считая Савонаролу хитрым притворщиком,
Макьявелли очень высоко расценивает это же качество в герцоге
Валентине), т. е. знаменитом Чезаре Борджа, в заметке под
названием "Описание способа, примененного герцогом Валентино
для умерщвления Вителоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, и
синьора Паголо, и герцога Гравина Орсини" (1503 г.). Эти
политики, известные коварством и свирепостью, имели глупость
поверить мирным заверениям Борджа и дали заманить себя в
кровавую ловушку тому, о ком Макьявелли пишет: "grandissimo
simulatore"18.
Если кто умел в наивысшей степени "менять плащ", так это
Борджа. В трактате "Государь" основное или, если угодно,
единственное условие политического благоразумия, то, что отличает
крайне редко встречающихся "мудрых государей" от множества
прочих правителей, пусть даже и удачливых по случайному
совпадению их характеров и способов поведения с "качеством
_ 766
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
времени", - это условие, коротко говоря, сводится к протеизму,
т. е. способности вести себя по обстоятельствам и так, и этак, и
по-всякому... в общем, mutare mantello. Собственно, лишь
таким образом понятая "prudenzia" в состоянии на равных
бороться с фортуной.
Макьявелли пишет о Чезаре Борджа: "Тот, кто считает
необходимым во вновь созданном государстве обезопасить себя от
врагов, обзавестись друзьями, побеждать силой или обманом,
внушать народу любовь или страх... быть суровым и милости-
вым, великодушным и щедрым... тот не может сыскать для себя
более свежего примера, чем пример герцога"19.
А в XVIII главе сказано: "Надо казаться и быть
сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, набожным, но
сохранять в душе готовность, если понадобится, не быть
таковым, чтобы ты мог и сумел изменить это на противоположные
качества (tu possa e sappi mutare el contrario)".
Нас интересует сейчас только вот это "mutare el contrario",
т. е. представление о мудром и доблестном человеке" как о
способном совмещать в себе противоположные душевные свойства
и становиться - "если понадобится", по собственному
усмотрению и желанию - совершенно другим, меняя плюс на минус и
минус на плюс.
Разумеется, мы не вправе забывать, что дело здесь идет о
прагматической модели политика, а не человека вообще.
Переход государя от силы к обману, или от свирепости к
великодушию, или от скупости к щедрости и т. д. - это не переход от
"серьезного" к "легкомысленному", от политических
рассуждений к фацетиям, от высокого к пошлому или наоборот. Тем не
менее в самых важных интеллектуальных построениях,
составивших странную славу Макьявелли, заложено то же
представление о динамических возможностях индивидуальности, что и
в фамильярной переписке. Используется та же картинка
индивида как разного в себе (и умеющего быть попеременно
добродетельным и греховным), как свободного в определении своего
поведения независимо от ходячей морали и подлежащего, в
качестве человека "мудрого", оценке в целом, а не по отдельным
поступкам, которые могли бы быть сочтены недостойными.
В макьявеллиевой политологии эксплуатируется (и
переиначивается, и предметно сужается, и опустошается, и ставится
767 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
с ног на голову, о да! а все же, безусловно, служит отправным
пунктом) ренессансная идея "универсального человека". Никак
нет тождества, но есть корреляция между гуманистическим
индивидом, являющим собой естественную varietà, содержащим, в
частности, в "немыслимом co4eTaHHH*gravitas и voluptas, - и
Государем, который есть именно такой индивид, хотя, правда, уже
не волен вести себя как хочется, а поступает как надо, чтобы
победить в политической игре. И чем он ярче (в качестве умелого
игрока), тем более анонимной, несвободной, обезличенной
кажется его индивидуальность!
Впрочем, это мы видим дело в таком свете. Не Макьявелли.
И это тема иного исследования.
Сейчас же, повторяю, меня занимает только указанная
корреляция. Античное общее место использовано для обоснования
некоего нового подхода к индивиду, и этот подход,
проговариваемый в интимной переписке, посреди сплетен, прибауток и
непристойностей, вдруг... оказывается имеющим теснейшее
отношение к политической теории Макьявелли, к идеальной
конструкции Государя, включен в ее контекст.
19
Прямое свидетельство такого удивительного
сцепления идей - на виду у всех, в "Жизни Каструччо Кастракани из
Лукки".
Общепризнанно, что Каструччо, каким его пожелал
изображать Макьявелли, ничем не уступает Чезаре Борджа или кому-
либо еще в "благоразумии" (часто поминаемом), в способности
"менять плащ", т. е. в разнообразии приемов захвата и
удержания власти, с которым сообразовывалась и варьета
характеризующих этого человека противоположных черт. "С друзьями он
был ласков, с врагами - беспощаден, с подданными -
справедлив, с чужими - вероломен. И если мог одержать победу
хитростью, никогда не старался одержать ее силою, говоря, что славу
дает победа, а не способ, каким она делалась. Никто не
бросался в опасность с большей смелостью, чем он, и никто не
выходил из опасности с большей осмотрительностью. Он часто
говорил, что люди должны отваживаться на все и ни перед чем не
падать духом, что Бог любит храбрых, ибо нетрудно видеть, что
_ m
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
он слабых наказывает руками сильных"20. Словом» о характере
Каструччо, как и Чезаре, имея в виду любые из этих парных
понятий ("ласковость-беспощадность",
"справедливость-вероломство", "смелость-осмотрительность", "храбрость-хитрость"),
нельзя ли повторить: "два разных человека, словно бы
невозможным сочетанием соединенные в одном"?..
Действительно, формула, относящаяся к Лоренцо
Великолепному, припоминается неспроста. О "великих достоинствах"
Каструччо Кастракани свидетельствуют, помимо прочего,
приписываемые ему автором остроты и побасенки. Перечень
шутовских "изречений" занимает более трех страниц и составляет
что-то вроде приложения, довольно странного, озадачившего
исследователей: зачем понадобился в героическом
жизнеописании государственного мужа этот набор фацетий, длиной в 2-3
фразы каждая, порой, как и полагалось, грубоватых, в
большинстве случаев известных с древности?
Ответ, на мой взгляд, заключен в следующем пассаже:
«Однажды ночью, когда он был у одного из своих дворян на
пирушке, где присутствовало много женщин, танцевал и дурачился
больше, чем подобало его положению, кто-то из друзей стал его
упрекать за это. "Кого днем считают мудрым, не будут считать
глупым ночью", - сказал Каструччо* (с. 297).
Итак, во-первых, в 1520 г., за пять лет до того, как
Макьявелли напишет о двойственности натуры Лоренцо
Великолепного (который "любил беседу с балагурами и остряками и
детские забавы более, чем это, казалось бы, подобало такому
человеку"), совершенно то же самое приписано Каструччо. То, что
водилось за Лоренцо, еще хорошо помнили во Флоренции. Что
до Каструччо, то пришлось снабдить его биографию мнимыми
фактами, позаимствованными из сочинений Диогена Лаэртско-
го, поскольку описание "мудрости" идеального индивида
должно было, по Макьявелли, включать такую непринужденность.
Во-вторых, сентенцию, якобы произнесенную Каструччо,
шестью годами ранее Макьявелли применил в письме к
Веттори. И тогда к числу людей, чья мудрость "днем" дает им право
не считаться дураками и "ночью", он отнес своего друга и себя
самого.
Макьявелли, Веттори... Медичи, Кастракани, Борджа - и
кто там еще? - оказываются некоторым образом в одной компа-
25 - 345
769 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯ" НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
нии только потому, что принцип "универсальности"
распространяется на всех "мудрых" людей.
20
Неограниченная гибкость политика - частное
проявление и, так сказать, практическое приложение очень редко
встречающейся, но все же естественной и доступной для
индивида способности быть разным в себе. Политология
Макьявелли была бы невозможна без этой более общей ренессансной
идеи.
Вместе с тем здесь очень заметна роковая смысловая
развилка. Если "универсальность" вообще-то синоним душевной
объемности, вольности, личностности поведения и т. п., то
специфическая универсальность того же индивида в качестве
политика ставит его в рациональную зависимость от
обстоятельств... и, в сущности, обезличивает. В жизнеописании Каст-
ракани автор пытается механически приплюсовать одно к
другому: выдать политика за полнокровного человека. Смотрите,
вот его дела. А засим: вот его дурачества.
В трактате о Государе логика строже. Там Макьявелли в
XV главе ограничивается советом: "Раз в силу своей природы
человек не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им
следовать, то благоразумному государю следует избегать тех
пороков, которые могут лишить его государства, от остальных
же - воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть
государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех пороках, без
которых трудно удержаться у власти...п (с. 345. Курсив мой. -
Л. Б.).
Эти строки - разве не странно?! - были написаны
практически одновременно с обращением к Веттори "жить свободно и
без оглядки", "расширить дух" и пр.
Различие между "persona privata" и "persona pubblica" для
Макьявелли очевидно, но мало занимает его21. Он с
ренессансной снисходительностью относится к "ночным" выходкам
людей "мудрых", он призывает "жить весело", полагая, что без
этого индивид как таковой был бы неполон, неестествен,
несвободен. (Ср. с ветториевским: "basta che mi piace" - "довольно того,
что это мне по душе")22.
_ 770
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франчеасо Веттори и...
Но ежели речь заходит о государях... тут уж личные
причуды должны отступить перед рассудительностью. Все
человеческие слабости и пороки (равно как и добродетели, конечно!)
делятся в этом случае на три категории. Одни вредны для
политического успеха при данных обстоятельствах, другие при тех
же обстоятельствах необходимы; третьи - безразличны.
Утилитаризм побуждает, следовательно, отбросить формулу "allargare
l'animo". Политик уже не волен в себе, и смысл его
универсальности переворачивается. Цель - уже не сам индивид в
богатстве своего понятия. Напротив, психическая пластичность
индивида становится средством во имя цели, вынесенной вовне.
Вот коллизия внутреннего человека и человека действия,
"частного лица" и "публичного лица", личности и... так
называемой исторической личности. Вот коллизия, поразительно
проглядывающая из высказываний Макьявелли, как только мы
поставим эти разнонаправленные высказывания рядом, но тем не
менее самим автором отнюдь не формулируемая так и даже
вообще почти им не замечаемая23. Стало быть, она искрит лишь
на границах макьявеллиевых текстов (с текстами
преимущественно будущими); она заронена невзначай и реальна лишь в
длительной исторической перспективе. А пока Макьявелли
достаточно наивно пытается склеить две части текста, дневного
прагматика и ночного гуляку, тирана и шутника, две половины
якобы одного универсального человека, Каструччо Кастракани.
Отмеченная нами двусмысленность начнет превращаться в
трагическую проблему европейской культуры по мере того, как
из "универсального человека" - и в противоположность ему -
созреет идея личности в ее отношении к истории и государству.
21
Тогда, например, встретятся: "мощный властелин
судьбы" - и тот, кто "заснуть не мог в волненье разных
размышлений".
Зазвучат спорящие голоса: "...отсель грозить мы будем
шведу"; "...Трудом он должен был себе доставить и независимость и
честь"; "На берегу пустынных волн стоял он дум великих
полн..."; "...Иль вся наша и жизнь ничто, как сон пустой,
насмешка неба над землей?"; "Красуйся, град Петров, и стой неко-
25·
771 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ МЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
лебимо..."; "Гроба с размытого кладбища плывут по улицам!";
"Пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут
тревожить вечный сон Петра!"; "Добро, строитель чудотворный! -
шепнул он, злобно задрожав, - ужо тебе!".
В этом неизбывном, незавершенном споре двух правд - что
же Пушкин?
Пушкин, впрочем, написал "Из Пиндемонти"...
22
Подобные вещи, разумеется, еще не приходили в
голову ни одному человеку в XVI столетии.
Каждой эпохе - своя умственная забота.
Понятие индивидуальной личности лишь готовилось.
Поэтому (скажем осторожней: и поэтому) теоретическая рефлексия
Макьявелли неизбежно заострена иначе, чем три века и даже
век спустя. Прежде чем заметить общественные и нравственные
проблемы нетрадиционного (т. е. служащего собственным
основанием) индивида, нужно было еще пробиться к идее такого
индивида.
Тут наш сюжет резко меняет направление.
Дело в том, что наряду с определением индивида как
"универсального человека" в ренессансном сознании существовало и
совершенно иное определение, по сути перпендикулярное к
вышеозначенному. Оно было не менее, а заметно даже более в
ходу. И, говоря формально, более традиционным. "Формально",
поскольку из стертого и малозначительного общего места оно
превратилось в нечто настоятельно тревожившее умы, оно
попало в фокус; его употребление необыкновенно участилось,
обросло множеством связей и оттенков; наконец, при условии его
(логически неотвратимого) столкновения с понятием
универсальности обрисовывался уже вовсе новый проблемный
горизонт.
Последнее, впрочем, относится только к Макьявелли. Не к
его корреспондентам. Но само по себе это определение
индивида принималось всеми в сходном значении. Оно живо
циркулировало, прежде всего в переписке Веттори и Макьявелли.
Поэтому мы извлечем его оттуда, не обращая поначалу особого
внимания на авторство.
_ 772
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
Речь пойдет о том, что они часто обозначали словечком
"фантазия". Лучше оставить его без перевода, потому что, хотя
"fantasia" продолжала значить также и просто "воображение"
как известное свойство или способность ума24, в прочих
случаях подразумевалось нечто совсем иное, относящееся до
характера какого-либо человека в целом или даже совпадающее с его
индивидуальностью, указующее на ее существенность. Неотсто-
явшийся, зыбкий смысл зависел от контекста.
Ближайшим образом это - "мотив", "намерение", "план",
"умысел", "цель", короче, то, к чему стремится при данных
обстоятельствах именно этот индивид. (Если же говорится о
целях державы, допустим о том, чего хочет Испания, то под
"Испанией" понимается ее король и то, что у него на уме: в
политической борьбе участвуют конкретные люди, характеры и
настроения которых необходимо учитывать). То есть "фантазия"
есть "il fine" и "il proposito" или по крайней мере что-то к ним
подводящее и в продиктованных ими поступках
свидетельствующее. "Итак, скажу, что его, императора, фантазия и его цель
состоят в том, чтобы будоражить, переходить от войны к войне,
нынче вступать в союз с одними, завтра - с другими" (р. 269).
"...Оба они тогда переменят свое устремление и фантазию"
(р. 278). "...Как вы думаете, что за фантазия могла бы быть у
Испании при этом перемирии" (р. 249). "...Необходимо
переговорить с вами об этой нашей фантазии, вам известной" (р. 395).
"...Я укрепился в намерении вовсе выбросить ее из головы, и
пробыл два дня в этой фантазии" (р. 324).
Стало быть, "фантазия" - неустойчива и человек может
переходить от одной фантазии к другой? То есть от одного
настроения, душевного состояния, намерения - к другому? Да, и
это тоже. Но переходить в соответствии со своим характером.
Когда Макьявелли писал, что он наблюдает на большой дороге
"разнообразные вкусы и различные фантазии людей" ("diverse
fantasie d'huomini"), он имел в виду несходство между
индивидами. Каждый из них выделяется особой чертой, склонностью,
пристрастием, прихотью и закреплен за своей... фантазией.
Поэтому, в более основательном значении этого понятия,
"люди не меняют своих фантазий и способов поведения" ("gli
huomini non mutano le loro fantasie né i loro modi di procedere" -
Макьявелли к П. Содерини, р. 230-231).
773 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Веттори роняет (вместо стереотипного "тело и душа"): "тело
и фантазия" ("il согро е le fantasia").
Макьявелли 26 августа 1513 г., т. е. приступая к сочинению
своего знаменитого трактата, рассуждает: "В том, что относится
к делам этого мира, я делаю вот какой вывод. Нами правят
государи, которые устроены таким образом, что обладают, по
природе или по акциденции, следующими качествами: у нас мудрый
и потому серьезный и осмотрительный папа; изменчивый и
ненадежный император; гневливый и подозрительный король
Франции; скаредный и алчный король Испании; жестокий и
тщеславный король Англии; зверские, непобедимые и наглые
швейцарцы; и мы, прочие, итальянцы - жалкие, самолюбивые и
трусливые" (р. 292).
Это, конечно, не что иное, как описание "различных
фантазий людей".
23
У Макьявелли все завязано на политике, и понятие
"фантазии", как и очень близкое и более охотно применяемое
им понятие "способа поведения" ("il modo del procedere" или
просто "il procedere"), тоже значимо, в первую очередь для
теоретической оценки возможностей отдельного конкретного
человека, поскольку в эти возможности упирается все остальное,
вся политология Макьявелли. И вот почему: 1) история - это
столкновение желаний, целей, воль индивидов, так что природа
индивидности, По Макьявелли, - подлинная субстанция
политика; 2) от того, какова она, зависит наша способность
правильно, т. е. рационально, объяснять мотивы и характеры
участников борьбы и соответственно предсказывать их дальнейшие
поступки; 3) с другой стороны, от этого же зависит, может ли
правитель вести себя рационально, а значит, по обстоятельствам,
или его действия предопределены "фантазией", которой он
наделен "по природе или по акциденции". (Ниже мы уясним себе,
что рациональность объяснения и рациональность поведения
едва ли логически параллельны.)
В приведенном пассаже с индивидуальными и
коллективными психологическими характеристиками сил, втянутых в
итальянские войны, Макьявелли откликался на письмо Ветто-
_ 774
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
ри от 12 июля того же года, где было сказано: "Мой дорогой
кум... мне часто сдается, что события происходят без разумных
оснований (non procedino con ragione), а если это суждение
справедливо, то излишне толковать о них, обсуждать, спорить;
и все же тот, кто к сорока годам привык всем этим заниматься,
отвыкает с трудом. Посему, в силу множества причин, но
особенно этой, я хотел бы побыть с вами и посмотреть, не могли бы
мы вместе разобраться в делах этого мира, и если не всего мира,
то хотя бы здешней его части... Надо думать, что у каждого из
этих наших государей есть какая-нибудь цель (un fine), a
поскольку мы не в состоянии проникнуть в их секреты, то нам
следует составить впечатление на основании слов и поступков
(dalle parole, dalle dimostrationi) и додумать остальное" (р. 267).
Итак, поскольку "государи - такие же люди, как вы да я"
(р. 340), то, чтобы оценить и предсказать их действия,
необходимо понять определенную индивидную "натуру" каждого из
них. "Если вы поняли способ поведения (el procédera) этого
короля (в данном случае испанского. - Л. £.), вы будете меньше
удивляться перемирию" (р. 257). Как правило, в том, что
делают люди, выражаются их "фантазии", отчасти врожденные,
но во многом закрепленные или выработанные привычкой и
опытом25. Этот опыт у подавляющего большинства людей
чрезвычайно консервативен, индивид склонен вести себя в
соответствии с обыкновениями, ранее приносившими ему успех.
Макьявелли о том же Фердинанде Католике: "И он будет
поступать так же, как поступал всегда" (р. 258); Веттори о папе
Льве X: "Он выслушивал все эти резоны, но поступал
по-своему, seguiva il suo proposito" (p. 268); но ведь и о себе
Макьявелли, как мы помним, писал, что тот, кто был честен сорок три
года, "тому уже не переменить своей природы"; Веттори считает
себя человеком добродушным, приветливым и полагает, что не
в его силах, как он ни старайся, держаться недоверчиво: "Для
меня было бы невозможно обойтись с кем-либо дурно..."; "...Как
вы знаете и испытали на себе сами, трудно переменить свою
природу (е difficile mutarni di natura)" (p. 264).
Да, Макьявелли знает: "Каждый ведет себя соответственно
своим врожденным свойствам и фантазии (ciascuno secondo lo
ingegno et fantasia sua si governa)" (p. 230).
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ иЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
24
Но вот что знаменательно. Хотя такую закрепленность
индивида за собой, нежелание и невозможность для человека
вдруг измениться Макьявелли (как и Веттори) расценивает в
себе как частном лице с чувством удовлетворения - в другом
случае он говорит о чем-то сходном как о "природном
недостатке". Однако уже с точки зрения рациональной политики...
Утверждая, что перемирие в Италии было бы прочней, если бы
французский король вновь овладел Ломбардией, пусть прежде
это приводило к противоположному результату (р. 275 и ел.), -
Макьявелли замечает: "Я сознаю, что это мое мнение противно
природному недостатку людей; во-первых, они хотят жить
только нынешним днем; во-вторых, они не верят в возможность
того, чего еще с ними не случалось; в-третьих, они, составив
мнение о чем-либо, затем его не меняют" (р. 280). Ясно, что
Макьявелли делает для себя исключение и означенным
недостатком не страдает...
Ибо он, как и, конечно, его друг и собеседник, принадлежит
к числу "людей понимающих (gli huomini intendenti)" (p. 235).
Если "фантазия" и "способ поведения" восходят к античному
понятию "ingenium" и указывают на некую внерациональную
заданность (индивид смотрит на вещи и ведет себя так, а не
иначе, поскольку так уж он устроен), то противоположный
принцип состоит в рациональности оценок, расчетов и
вытекающих отсюда действий. Следует "не основывать свое мнение на
страстях", "не упорствовать", "уступать разумным
соображениям" (р. 286), "исходить из резонов", "основывать свое мнение на
разумности (in sul ragionevole)" и т. п. (р. 260). Оба
корреспондента, как известно, не раз приходят в отчаяние из-за того, что
события ускользают от анализа, опрокидывают
предварительные выкладки, оценки, прогнозы... ("le cose non mi riescono se-
condo la ragione", т. е. "мне не удается рассчитать ход вещей" -
р. 289). Веттори жалуется: "Я не хочу больше заниматься
рациональными рассуждениями, потому что часто ошибался... все
эти мои рассуждения и резоны провалились" (р. 237-238). А
Макьявелли откликается: "Вы правы в том, что рассуждать о
событиях наскучивает, когда видишь, что много раз все
происходит вопреки рассуждениям и замыслам (fuora de'discorsi et
_ 776
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
concetti); подобное случалось и со мной" (р. 239). Оба они даже
начинают иногда сомневаться, особенно в трудном 1513 г.,
возможен ли вообще какой-то расчет в политике.
Мы здесь, разумеется, оставим в стороне волнующую
Никколо и Франческо проблему в полном ее объеме - например в
том, что касается слишком быстро меняющихся обстоятельств,
роли фортуны и т. д. Но как связана возможность надежного
политического искусства с представлениями об индивиде?
25
У Макьявелли соседствуют две совершенно разные
концепции относительно индивидности политика - и,
по-видимому, соответственно два разных ответа.
а) Если это идеальный политик вроде Чезаре Борджа или
Каструччо Кастракани, т. е. индивид, "универсальность"
которого перешла в безграничную прагматическую гибкость, то он в
совершенстве владеет рассудительными "правилами" политики
и всегда выигрывает; остановить его могут лишь болезнь и
неожиданная смерть, лишь такое чрезвычайное вмешательство
фортуны, против которого бессильны человеческие ум и
доблесть26.
Государь способен вести себя "мудро", потому что любую
ситуацию можно подвести под известное "правило"; но едва ли
не замечательней противоположное: свод таких правил, своего
рода наука политики, которую разрабатывал Макьявелли в
своих трактатах, основан на предположении о возможности
абсолютно рационального поведения, т. е. на специфическом проте-
изме индивида-правителя.
Между прочим. Если одному индивиду по силам задумать и
осуществить целесообразные действия, то, поскольку "правила"
не зависят от личных пристрастий, другому индивиду по силам
эти же действия предугадать и предупредить. Но тогда они
нецелесообразны... Если бы в истории сталкивались только
"мудрые государи", рациональность обратилась бы в свою
противоположность, события все-таки оказались бы
непредсказуемыми? Макьявелли не приходят, конечно, в голову эти праздные
вопросы. Дай бог, чтобы среди всех итальянских правителей
нашелся хотя бы один человек, готовый усвоить макьявеллиевы
777 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ МЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
наставления. Откуда взяться двум Борджа сразу?.. Увы,
опальному флорентийскому дипломату ничего не остается, как
обсуждать политические перспективы страны с кумом Франческо
("И хотя мне приходится ограничиваться гадательными
соображениями, поскольку я сейчас далек от <государственных> тайн
и дел, я не думаю, чтоб какое-либо мое мнение о событиях
могло бы повредить мне, если я его выскажу вам, или повредить
вам, если вы выслушаете меня") (р. 259).
6) Если это эмпирический политик, т. е. индивид, ведущий
себя не так, как подсказывают обстоятельства, а так, как
диктует его натура и фантазия, то "люди понимающие" сумеют
рассчитать исход, зная оба фактора - и характер обстоятельств, и
свойственный именно данному правителю рутинный способ
поведения.
Собственно, было бы логично заключить, что для
правильной политики необходимы обе модели индивидности, т. е.
должна произойти встреча "мудрого государя" со всеми прочими,
неспособными меняться по обстоятельствам...
Затруднение состоит, правда, в том, чтобы получить
надежную информацию о субъективных и сильно разнящихся
человеческих "фантазиях".
Макьявелли к Веттори 10 августа 1513 г.: "Господин посол,
я пишу вам, скорее идя навстречу вашим пожеланиям, чем
потому, что хорошо знаю то, о чем рассуждаю. Впрочем, прошу
вас в ближайшем же письме сообщить мне, как поживает этот
мир, и что в нем творится, и на что в нем надеются, и чего
опасаются, - если вам угодно, чтобы в столь серьезных и важных
материях я мог бы основываться на чем-то твердом..." (р. 281).
Веттори к Макьявелли 20 августа 1513 г.: "Я расскажу вам, что
творится в мире, насколько сумею; что до надежд и опасений,
то их оставляю в стороне, потому что опасаюсь или надеюсь на
одно, вы - на другое, Филиппо (Казавеккьо. - Л. Б.) - на что-
либо еще, и то же самое, полагаю, происходит с государями, так
что на сей счет было бы невозможно высказать решительное
суждение" (р. 282).
Это, однако, полбеды. Но что если одно определение
индивида (через внутреннюю варьета, "универсальность")
блокируется другим определением (через своеобычную и неизменную
"фантазию" каждого) и поэтому, по крайней мере в современ-
_ m
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и..
ной Макьявелли исторической практике, "таких людей не
находится"? Тогда экспериментальная конструкция "мудрого
государя" обнаруживает, в глазах самого автора, страшную
уязвимость (ср. ниже: "Государь", глава XXV).
26
Перед нами самое богатое в теоретическом отношении
письмо Макьявелли (к Пьеро Содерини)27, в котором:
а) сходятся вместе все три значения "разнообразия" - в
качестве всегда конкретных и меняющихся исторических
обстоятельств; в качестве неустранимых природных или
вскормленных привычкой различий между людьми; и, наконец, в качестве
способности одного и того же индивида быть разным и
непохожим на себя - сходятся и, в сущности, спорят между собой о
возможности того, что позже назовут "личностью";
б) поэтому содержится ядро мысли Макьявелли в целом,
взятой не только в непосредственном плане рассуждений об
условиях успеха в политике, но и с логико-культурной стороны, на
переходе от Возрождения к проблематике XVII-XIX веков (и к
нашему веку), в контексте "большого времени" (М.М. Бахтин);
в) еще недостаточная подробность и четкость
теоретической проработки вполне искупается тем, что мы получаем
драгоценный случай присутствовать в самый момент зарождения в
уме этого человека трагической коллизии.
Мы впервые слышим формулировки, которые он потом
повторит еще не раз, будет поворачивать так и эдак, пытаясь (как
в третьей книге "Рассуждений") найти благоразумный
политический выход или (как в "Государе") пренебречь
безвыходностью противоречий при помощи отчаянного мыслительного
эксперимента.
Но сейчас он в начале пути; он только что узнал
обжигающую истину, додумался до нее - и пока даже не пробует что-то
сделать со своим открытием. Пока надо это просто осознать.
Он - как Гамлет, минуту тому назад выслушавший Призрака.
Мозг его в лихорадке. Некоторые фразы он приписывает на
полях, словно бы не сразу решившись на крайние, но неизбежные
умозаключения. Эти маргиналии - самые интересные и
напряженные моменты письма. Реплики, подаваемые самому себе,
779 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
вдруг до крайности повышают интеллектуальный градус и без
того возбужденного объяснения с Пьеро Содерини (и собою),
обнажают его узлы, его мучительную и, так сказать, интимную
логическую подоплеку.
"Я удивился бы, если бы жребий не преподнес мне
множество столь разнообразных и переменчивых событий (Tante cose
et cosi varie); вот тут-то мне и пришлось бы несколько
удивиться или, лучше, признаться, что я не сподобился ни из книг, ни
на собственном опыте раскусить, каковы человеческие
поступки и способы поведения (i modi del procedere 1ого)..Л
Это вроде самого общего вступления ко всему, что
последует ниже. Иметь дело с людьми и проистекающими из их
природы событиями, значит быть готовым встретиться сразнооб-
р а з и е м, а значит - и с неожиданностями.
Отсюда мысль Макьявелли обращается к совершенно
конкретному уроку, заключенному в сперва удачной (впоследствии
же плачевной) фортуне корреспондента. "...Я знаю вас и компас,
с которым вы сверялись; если бы вы и заслуживали
осуждения - а это не так - я все равно вас не осудил бы, потому что
вижу, куда вы плыли, чем были взысканы и на что могли
надеяться. Ведь я вижу - и не в зеркале вашего примера, тут не
видно ничего, кроме мудрости - но на примере многих, что о делах
нужно судить по достигнутым результатам, а не по
примененным средствам" (курсив здесь и далее мой. - Л. Б.).
27
Можно расслышать не только старание быть
любезным по отношению к политику, не только сарказм, который
заметно прорывается сквозь любезность, но и нечто третье,
возвышающееся над тем и другим, гораздо более серьезное, чем
вполне понятные в данной ситуации эмоции. Он, Макьявелли,
изведал историю и людей и знает, что упрекать бездеятельного,
не склонного к крутым мерам Содерини было бы нелепо. Хотя,
пожалуй, если чего-то не хватало гонфалоньеру, так это как раз
"мудрости". ("Prudential этим словом, синонимичным
"доблести" в ее наиболее глубоком смысле предусмотрительной
универсальности, Макьявелли вскоре обозначит отличие Государя
от тьмы тьмущей вот таких незадачливых правителей).
_ 780
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
Цели у Содерини были превосходные. "Цель оправдывает
средства"? Наверно, Макьявелли имеет в виду и это. Но...
оправдывает ли цель никудышные средства, из-за которых она не
достигнута? Случай Содерини именно таков. Поэтому
проблема цели и средств иронически перевернута.
Мы спешим привычно вычитать (и не совсем без
оснований, нет!): цель оправдывает любые, в том числе самые злые
средства. "Победителей не судят" и тому подобное; короче,
типичный "макьявеллизм". Однако Макьявелли сейчас
размышляет отнюдь не о победителе. Скорее уж получается, что не
судят побежденных... И средства Содерини не были
злодейскими - наоборот. Их-то Макьявелли ему и прощает... Дело не о
морали. В такой мере не о ней, что Макьявелли, одобряя цель,
согласен оправдать и вполне добродетельные средства,
приведшие к полному провалу.
Раз уж судить о делах нужно по результатам, беда, если
Содерини проиграл. Что до действий, которыми он этого добился,
то и бог с ними.
Тут не одна горькая двусмыслица, но и некая неуклонно
сверлящая мысль. "Судить о делах нужно не по средствам" - но
не в том простом и скверном значении, что ради успеха все
средства хороши. (Согласимся, что и это значение ничуть не
отпугивало флорентийца, только мысль его несравненно глубже.)
А в том смысле, что - хороши, нехороши ли, эти ли, другие, но
в принципе и сами по себе они не приводят ни к успеху, ни к
поражению. Никаких общих правил нет. Следовательно, судить о
средствах - например, о поведении Содерини - невозможно и
незачем.
Дело в том, что, хотя при данных конкретных
обстоятельствах это поведение было совершенно неподходящим, само по
себе оно недурно и в другом случае могло бы принести удачу;
вины же на гонфалоньере нет, ибо способ себя вести - "il modo del
procedere" - это сам человек.
28
Рядом с фразой о средствах и результатах
Макьявелли приписал на полях: "Каждый ведет себя в соответствии со
своей фантазией".
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ иЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Так реплика внутреннего собеседника в первый раз острой
определенностью пришпоривает рассуждение.
В XVI в. говорили "фантазия", "странность" (stranezza),
"прихоть", "причуда" (bizzoria, ghiribizzo) или даже
"помешательство" (pazzia) за отсутствием понятия "личность" - когда
требовалось указать (обычно с удовольствием и сочувствием)
на особенность психики какого-либо человека, на его
индивидуальное и словно бы не мотивированное пристрастие, без
которого он - не он. В трактате о "мудром государе" Макьявелли
превратит эту же способность в универсальную адекватность
внешним и случайным обстоятельствам, в безграничную
прагматическую гибкость. Но в XXV главе открыто столкнется с
тем препятствием, которое ясно описано уже в письме к Соде-
рини, где под индивидуальным понимается не то, чем владеет
человек, но то, что им владеет, его природная закрепленность за
собой и ограниченность. Никто не в силах вести себя иначе, чем
это ему свойственно.
"И очевидно, что при разных правлениях выходит одно и то
же, подобно тому, как разными путями приходят к одной цели,
и многие люди, действуя по-разному, добиваются одного и того
же результата; а если чего-то и недоставало для подкрепления
такого мнения, то это добавили поступки нынешнего папы (то
есть безрассудно-необузданного и, вопреки здравому смыслу и
вероятию, удачливого Юлия II, фигура которого и впредь будет
занимать Макьявелли. - Л. Б.) и результаты, к которым они
привели".
Здесь Макьявелли опять перебивает себя и записывает
сбоку: "Никому не давайте советов и не принимайте советов от
кого бы то ни было, за исключением лишь некоего общего совета
(un consiglio generale); а именно: чтобы каждый отважно делал
бы то, что подсказывает ему (собственный) дух (che ognuno fac-
cia quello che gli detta l'animo et con audacia)".
"Никому не давайте советовп\ - это говорит советник Соде-
рини и автор книги наставлений, известной под названием
"Государь"... Момент растерянности и разочарования в
политическом рационализме? Мы обязаны, однако, пойти дальше
противоречия, лежащего на поверхности, и банальных
психологических догадок. "Некий общий совет", исключающий прочие
советы и возводящий в норму индивидуальный стиль поведения, -
_ m
Понятие об индивиде по переписке Ниюсоло Макьявелли с Франческо Веттори и...
нельзя не соотнести, например, с "грацией" Кастильоне как
тоже всеобщим правилом ("una regola generale"): вести себя по
обстоятельствам и без "аффектации"28-29). И Макьявелли, и
Кастильоне превращают в универсальную норму индивидуальное.
Но если для Кастильоне, озабоченного лишь построением
идеально-гармоничного индивида как такового, в идее "грации"
виделся великолепный выход из столкновения "правил" и
"обстоятельств", то для Макьявелли, рассматривавшего индивида в
качестве субъекта рационального исторического действия,
"фантазия" явилась камнем логического преткновения.
Правитель, как и каждый человек, ведет себя в неизменном
соответствии со своим особым складом ума и характера, хотя
меняющиеся обстоятельства требуют, вообще-то говоря, разных ухваток и
поступков. Но тогда давать в политике советы, что-то
рассчитывать наперед - занятие действительно пустое. Остается
бессильно наблюдать и ожидать, чтобы
индивидуально-предопределенный способ действий вдруг привел к успеху, будучи не
лучше и не хуже всякого иного, но случайно оказавшись
подходящим к данным обстоятельствам.
29
"Ганнибал и Сципион - помимо воинского
мастерства, которое было равно выдающимся у того и у другого - один
управлял войсками, приведенными в Италию, посредством
свирепости, вероломства и нечестивости, и он внушил восхищение
племенам, отпавшим от Римлян, чтобы следовать за ним;
другой же в Испании посредством милосердия, веры и благочестия
добился от этих племен того же самого; и тот и другой
одержали несчетные победы. Однако вот и примеры иные, дабы не
ограничиваться ссылками только на Римлян: Лоренцо Медичи
разоружил народ, чтобы властвовать над Флоренцией; мессер
Джованни Бентивольи, чтобы властвовать над Болоньей, его
вооружил; Вителли в Кастелло и герцог Урбинский в своих
владениях разрушили крепости, чтобы удержать власть; граф
Франческо и многие другие их понастроили, чтобы обезопасить
себя".
И еще раз внимание! Если мы всецело вошли в движение
мысли Макьявелли, если мы следим за выработкой пред-опре-
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
делений личности, если мы заново прочитали под этим углом
зрения "Государя", - нельзя в это мгновение не вздрогнуть.
Потому что на полях возникает трагическая реплика:
"Испытывать фортуну, подругу тех, кто молод, и действовать по
обстоятельствам (mutare secondo truovi). Но невозможно
(одновременно) иметь крепости и не иметь, быть и свирепым и
благочестивым (crudele et pio)".
В первой фразе соединены: самое общее гуманистическое
представление о "доблести" как способности действовать с
молодой энергией, бросать вызов судьбе ("tentare la fortuna") - и
специфическое, излюбленное бывшим флорентийским
секретарем утверждение о том, что надо "менять" свое поведение в
зависимости от того, что за обстоятельства ты "находишь" перед
собой. В этой странно повернутой ренессансной
"универсальности" Макьявелли скоро усмотрит соль политической мудрости,
именно за это он будет восхищаться, изобразит образцовым
правителем Чезаре Борджа.
Во второй фразе, однако, звучит самовозражение. "Менять"
надо... только по силам ли это какому бы то ни было политику?
И в чем же тогда повинен Содерини? Мало того, что заранее
неизвестно, понадобится ли когда-то и где-то разрушать крепости
или возводить их, будет ли полезно быть свирепым или
благочестивым. Правителю ведь и невозможно заключать в себе
вместе противоположные устремления и свойства, быть всяким. На
все случаи истории. Такая гибкость, такая универсальность
поведения потребна бы, да немыслима для отдельного человека. У
каждого - своя "фантазия".
Если бы Макьявелли успокоился на этом, "Государь" не
был бы написан. Но если бы он прошел мимо этого, получилась
бы какая-то другая книга, без подспудной коллизии, без
теоретической глубины.
Много позже стали смотреть на личность так: это индивид,
не запрограммированный наперед, умеющий меняться,
выходить из прежних очертаний, оказываться нетождественным
себе, неожиданным, незавершенным до смертного часа и
потенциально соотносимым со всякой иной личностью - но притом
соотносимым по-своему, оставаясь верным своей судьбе, в
которой хотя бы задним числом видна сквозь живые противоречия
и повороты некая логика. Что ни личность, то и собственная
_ m
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и..
логика, личная правда, личная всеобщность.
Самотождественность индивидуальности есть, с этой точки зрения,
определенность ее открытости: каждый не совпадает с собой, а не с кем-то
другим. Личность - парадоксальное особенное всеобщее.
Что же Макьявелли? Он, как и вся культура Возрождения,
мог исходить из особенного только как из ограниченности,
неполноты, закрепленности всякого отдельного человека. А также
из всеобщего как попросту Всего, т. е. полного набора родовых
качеств ума и характера. Однако оба сталкивающихся
пред-определения с необходимостью участвовали в вызревании нового
понятия. Люди непохожи друг на друга, они - разные. Вместе с
тем индивид в состоянии преодолеть свою частичность, стать
непохожим на себя же, разным в себе, словом, "универсальным".
Хотя первое пред-определение было традиционным общим
местом, а второе - ренессансной новостью человекобожия, хотя два
захода к понятию личности были исторически и логически
неравноценными, несимметричными, - все же лишь их
сопряжение создавало социально-культурную проблему.
Всецело переставив ее на практическую почву политики,
Макьявелли, как никто другой в итальянском Возрождении,
обнажил всю двусмысленность и внутреннюю трудность идеи
"универсального человека".
Это никак не значит, что такой человек в историческом
действии оборачивается для Макьявелли призраком, выдумкой,
мечтой. Таким должен и может быть "мудрый" правитель. Это
высшая норма. "Универсальный человек" был для Возрождения
не только идеалом, но и глубоко пережитым опытом.
Однако при переводе этой идеи с языка творчества и
гуманизма на язык политики (или, если угодно, на язык всякого
вообще социального действия, а значит - и нравственности, и
пользы, и характерологии) вдруг выяснится, что тут нужна для
успеха какая-то... безличная личность, сводящаяся к функции
обстоятельств? (См. опять трактат о "Государе".)
30
Проблема заходила в тупик. Сверхприродная и, в
конце концов, сверхиндивидуальная норма (т. е. человеческое
"разнообразие" внутри индивида) наталкивалась на казусность не
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ яЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
только исторических обстоятельств, но и характеров самих
людей (т. е. на "разнообразие" между индивидами).
Существование "универсального человека" (личности?) противоречило
себе же в качестве индивидной человеческой природы. Парадокс
особенно всеобщего поначалу предстает в виде встречи двух
внешне взаимоисключающих максим. Мы еще убедимся,
дочитав письмо к Содерини до конца, что, хотя в нем преобладает
одна из них, более мрачная в отношении возможностей для
политика вести себя расчетливо, универсально, "мудро", но менее
явно высказывается и другая максима. В противном случае
было бы необъяснимо подспудное драматическое напряжение
письма, и дело свелось бы к иррационалистической и
фаталистической констатации.
В письме к Содерини - завязка смысловой коллизии
"Государя", которую прояснят последующие века культуры, от Дон
Кихота до наших дней. Закрепленный за своей ограниченной
"фантазией", индивид поневоле сливается с
действительностью - не в значении непременного ее принятия, нет, но в том
значении, что он сам оказывается лишь одним из ее случайных
обстоятельств, и его поведение - некий каприз той же фортуны,
по течению которой он поневоле плывет. Но если вообразить
универсального деятеля, ведущего себя по обстоятельствам,
умеющего "меняться" в соответствии с ними, - то и такой
индивид, со всей своей доблестью и удачливостью, есть лишь некий
Протей, лишенный собственного облика, и в этом плане он
тоже сливается с действительностью. Ибо что же такое "он", где
подлинный и суверенный "он"? в чем его "фантазия"?
Итак, в логико-культурной ретроспективе: возможна ли
бесконечная внутри себя индивидуальность и каков ее удел в
истории? Важно отдать себе отчет, что начатое в письме к
Содерини обсуждение отношений между индивидуальной природой
человека и рациональной политикой - сознательно
Макьявелли, конечно, ничего иного не обсуждал - ставило под знак
сильнейшего вопроса не только непосредственную будущность
Флоренции и Италии и даже не только политическую "науку",
рассчитанное и активное воздействие человека на ход событий
и т. п. Поскольку все упиралось в оценку субъекта политики, а
лучше сказать, просто субъекта (ведь правитель такой же
человек, как и другие, он действует в соответствии с природой инди-
_ m
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
вида, вынужденного полагаться и исходить только из себя),
постольку под вопрос попадало Возрождение в целом и, более
того - в "большом времени" - новоевропейская личность как
таковая, по крайней мере, в качестве исторической, социальной,
действующей. Иначе говоря, это такой вопрос, на который
придется отвечать всем последующим векам.
31
Однако вернемся к тексту. Следует "mutare secondo
truovi". Изменять себя по преднаходимым обстоятельствам (и
таким образом изменять обстоятельства). Вместо этого люди
ведут себя соответственно "фантазии" каждого. "Император
Тит в тот день, когда он не облагодетельствовал хоть одного
человека, считал, что теряет государство; а кто-либо другой
посчитал бы, что теряет его, в тот день, когда кому-либо
потрафил. Многим удаются их замыслы, когда они все
взвешивают и рассчитывают. А этому папе, который не держит дома
ни безмена, ни аршина, случайно удается безоружному то,
чего другим было трудно добиться, действуя планомерно и с
войсками".
Впрочем, верная себе упрямо - индивидуальная манера
может быть в выигрыше лишь до поры до времени. Здесь снова
запись на полях: "Когда фортуна устает и выдыхается, удаче
приходит конец. У семьи, у города, у каждого человека - своя
фортуна, основанная на его способе поведения, и любая выдыхается,
и когда она выдыхается, необходимо вновь овладеть ею каким-
то другим способом. Насчет этих усилий: сравнение с конем и
удилами".
Настаивая на необходимости менять способ поведения -
для политика, как и для каждого, кто хочет осуществить свои
цели в мире - Макьявелли вновь выдвигает тот самый
гуманистический (по отправному логическому ходу) тезис, под
который ведет подкоп, и возражает на свое же возражение.
"Государь" ведь все-таки будет написан... Там Макьявелли примется
подробно разбирать, когда полезно натягивать и когда
отпускать удила. Но по-прежнему будет более или менее
сомневаться в способностях всадника. Сейчас же, когда перед ним лежит
листок с письмом к Содерини, в переломный час его судьбы, -
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯв НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
эти сомнения, пожалуй, навязчивей, чем когда-либо раньше и
потом. Голова работает быстро, с беспощадной ясностью.
"Мы видели и видим в отношении всех упомянутых выше и
бесчисленного множества прочих, которых можно было бы
коснуться по тому же поводу, что царства и власть приобретают
или теряют при случайных обстоятельствах (secondo li acciden-
ti); и один и тот же способ поведения, если он приносит успех,
можно одобрить, а если проигрыш - порицать. А подчас после
долгого преуспевания следует поражение, за которое нельзя
возложить вину ни на кого лично, винят лишь небеса и
расположение светил. Но отчего так получается, что разные действия
порой одинаково полезны, а порой одинаково вредны, - этого я
не знаю, но очень желал бы знать. Впрочем, чтобы выведать
ваше мнение, попробую сперва изложить вам свое.
Я полагаю, что подобно тому, как природа создала людей с
разными лицами, так она их наделила разными наклонностями
и разными фантазиями. Оттого-то каждый ведет себя в
соответствии со своей фантазией и наклонностями. И поскольку, с
другой стороны, времена меняются и порядки вещей различны,
каждому человеку его желания удаются по усребию (ad votum),
и счастлив тот, чей способ себя вести соответствует времени, и
несчастлив, напротив, тот, чьи действия расходятся со
временем и данным порядком вещей. Отчего очень даже может
случиться так, что двое людей, действуя различно, достигают
одной и той же цели, потому что каждый из них оказывается
подходящим к своей особой ситуации, ведь разных порядков вещей
столько же, сколько краев и государств. Но так как времена и
обстоятельства часто меняются и в целом и в частностях, а
люди не меняют ни своих фантазий, ни способов поведения,
бывает, что одному и тому же человеку какое-то время везет с
фортуной, а какое-то время не везет. И поистине тот, кто был бы
настолько мудр, чтобы понимать все времена и порядки вещей
и прилаживаться к ним, всегда имел бы добрую фортуну или
уклонялся от скверной, и оказалось бы истиной то, что мудрецу
подчиняются звезды и судьбы. Но, поскольку таких мудрецов
не находится, и люди сперва близоруки, а потом не в силах
совладать со своей природой, вот и выходит, что фортуна
изменчива и повелевает людьми, держа их в ярме. Новому властителю,
дабы внушить к себе почтение, выгодны свирепость, вероломст-
_ m
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
во и безбожие в той стране, где долгое время человечность, вера
и благочестие были в избытке; и точно так же выгодны
человечность, вера и благочестие там, где какое-то время царили
свирепость, вероломство и безбожие; потому что, как горькие блюда
нарушают восприимчивость вкуса, а сладкие приедаются, так и
люди устают от добра и страдают от зла. Потому-то, между
прочим, и отдалась Италия Ганнибалу, а Испания - Сципиону.
Итак, каждый встречается с временами и обстоятельствами
сообразно своему способу поведения. В то же время, в Италии
человек, вроде Сципиона, а в Испании человек, вроде Ганнибала,
не добились бы такого успеха, какого добился каждый из этих
двоих в той стране, где действовал".
Все. Мысль исчерпана, и письмо обрывается без лишних
слов. Подпись: "Никколо Макьявелли".
32
Бросается в глаза вставная сентенция о "мудрецах,
которым подчиняются звезды и судьбы". В нее верило
Возрождение30. Будучи применена к социальному действию, она
становится сомнительной. "Таких мудрецов не находится". В
трактате о принципатах это скептическое замечание будет
воспроизведено почти дословно, но в более сухих и адекватных
выражениях, без упоминания о звездах. "Таких людей не
находится" (т. е. уже не мудрецов вообще, а проницательных
правителей). То же и в "Рассуждениях". Из письма к Содерини
перекочуют примеры с папой Юлием, со Сципионом и
Ганнибалом...
Суждение же о самом Содерини теперь приобретет прото-
кольность и окончательность приговора. "Пьеро Содерини, уже
упоминавшийся, во всем вел себя гуманно и сдержанно. Он и его
родина процветали, пока времена соответствовали такому
поведению. Но когда затем наступили времена, требовавшие
отбросить сдержанность и покорность, он этого сделать не сумел и
потому вместе с родиной пришел к крушению" (Discorsi, III, 9)31.
В письме к Содерини, хотя тон, естественно, еще другой,
нервный, лишенный будущей отчужденной объективности,
Макьявелли старался быть великодушным. Он, в сущности,
утешал корреспондента. Но не себя. Если человеческие дела
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ мЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
всегда совершаются так, как это изображено в письме, если
согласиться с выстраданным мнением автора, то чем же виноват
бедняга Содерини? Он не в силах был вести себя иначе, чем
вел, его "фантазия" была не хуже всякой иной (сравним со
Сципионом!), его поражение не означает ничего, кроме того, что
времена изменились и теперь к ним подошел бы, скорее,
характер Ганнибала. Его фортуна "выдохлась", и Содерини не умел
"вновь овладеть ею каким-то другим способом". Но... этого,
кажется, обычно никто не умеет? Поэтому незачем считать, что
гонфалоньер оказался негодным политиком. (А ведь политиком
он был далеко не блестящим? - но какая разница.) Боль и
сарказм Макьявелли устремляются мимо корреспондента. Их
предметом становится человеческая история в целом.
Что же дальше? "Люди сперва близоруки, а потом не в
силах совладать со своей природой", "люди не меняют ни своих
фантазий, ни способов поведения" - но неужто даже самая
яркая индивидуальность строится по этой модели, неужто тайна
ее природы сводится к ограниченности? Мысль Макьявелли не
резюмировалась и не могла резюмироваться подобным образом,
в историческом бессилии человека, в примирении с бессилием.
Прежде всего, сам автор письма - это, конечно, тот, кто
"настолько мудр, чтобы понимать все времена и порядки вещей".
Пусть в переписке с Франческо Веттори не раз прозвучат
сокрушенные признания в том, что события часто происходят как
бы вопреки здравому разумению и предвидению, нарушая
солидные политические расчеты, - Макьявелли до конца дней
продолжал строить такие расчеты, полагался на мощь
"суждения", на способность разума и опыта подойти с должной меркой
к каждому очередному казусу. Благоразумному правителю при
одних обстоятельствах лучше явить себя жестоким, а при
других - человеколюбивым. Тогда он сможет и вести себя
по-всякому: так, как он решит себя вести. Вопреки тому, что
"невозможно... быть и свирепым, и благочестивым". Отчего же, даже
очень возможно!
В "Государе" (также и в "Рассуждениях о первой декаде
Тита Ливия") Макьявелли предпримет попытку выяснить, на
каких условиях индивид в силах преодолеть природную
закрепленность, частичность, готовость. Для этого мало эмпирических
примеров - допустим, Чезаре Борджа или Каструччо Кастрака-
_ 790
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
ни. Примеры могли быть пущены в дело, лишь будучи
тщательно прочищены, преобразованы, превращены в идеализации.
Требовалось какое-то ранее неизвестное понятие
индивидуальности.
33
Впоследствии Макьявелли придумал "мудрого
государя"... "Придумал" не в значении благого пожелания и грезы, а
чуть ли не в том же значении, в каком через сто лет Галилей
придумает падение тел в абсолютном вакууме. Изобретение
модели Государя было гениальным - пусть, в отличие от Галилея,
не осознанным, не чисто методическим - мысленным
экспериментом. Хотя Макьявелли и произнес знаменитую фразу о том,
что его интересует "действительная правда вещей, а не
воображаемая", - идея Государя послужила как раз той
"воображаемой" правдой, тем пре-творением вещей, без которого ничего не
понять в их действительном положении.
Я снова готов к возражению, что у Макьявелли
непосредственно речь идет вовсе не о понятии индивидуальности (или,
тем более, "личности"), а всего лишь о требованиях
политической выгоды, ради которой правителю следует иногда
поступать вероломно, а иногда человечно. Ну, да! Но главным
логическим условием таких требований выступает странная
внутренняя пластичность, некое новое необычное качество индивида
в целом.
Нам предстоит проанализировать поразительные
противоречия, возникающие не только из столкновения нового качества с
прежним, природным, но и в результате его подчинения
внешним целям и обстоятельствам. Мы будем обязаны разобраться в
отождествлении у Макьявелли "быть" и "казаться". Нам, как и
многим до нас, не может не внушать отвращения то, ради чего
Государь в каждый текущий момент превращает собственные
суждения и волю в единственное основание своих поступков.
Все это свидетельствует об исторической неоднозначности,
более того, о трагизме того шага, который сделал Макьявелли.
Однако что это за шаг? Что это за новоевропейская
коллизия, подспудная логическая завязка которой намечена в письме
к Содерини?32
791 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ *Ят НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Пусть самодостаточность индивида у Макьявелли, будучи
заданной функционально, сразу искажается, пугающе
оборачивается против себя же. Все-таки впервые теоретически
представлен человек, который поступает не в качестве послушной
части чего-то неизмеримо большего, чем он, будь то природа,
Бог или коллективная традиция, не потому, что так принято
поступать, но исключительно как он считает нужным. Впервые
индвид задуман не отнесенным к готовому ряду, не равным
самому себе, но, в некотором смысле, всегда лишь возможным,
всегда накануне себя, не поддающимся определению ("и
свирепым, и благочестивым"). Вместе с тем впервые задан вопрос,
насколько отдельный человек (личность?) в состоянии
вмешаться в ход исторических событий. (И притом остаться самим
собой?) Мы только что видели, как Макьявелли терзается у
входа в будущий трактат о "Государе". Сомнения, впрочем,
лишь оттеняют страшную проблематичность, трудноосуществи-
мость индивидуальной суверенности.
По более позднему представлению, пластичность, выводя
индивида из неподвижной самотождественности, должна бы
бесконечно расширять именно его индивидуальность - однако
у Макьявелли, на почве одной лишь политики, личное
торжество отнюдь не выглядит таким расширением, парадоксально
состоит в отказе от себя. Возникающее понятие личности не
выдерживает тяжкого бремени политической целесообразности.
Совместить особость индивида и его безмерность
(всеобщность) никак не получается, поскольку "доблесть" дает о себе
знать если не в обязательной победе над обстоятельствами, то в
рациональном и оптимальном пути к этому (тогда помешать
успеху может разве что крайняя случайность, как это произошло
с Чезаре Борджа: см. объяснение в VII главе "Государя"). Итак,
две равно существенных характеристики того, что мы назвали
бы личностью, по Макьявелли, начисто исключают друг друга.
Тот, кто упрямо верен своему нраву и способу действовать,
проигрывает или выигрывает при встрече с разными
историческими ситуациями. Тут ни вины, ни заслуги. "Свое" дано природой
или привычкой, индивид к нему пригвожден, и нет свободного
отношения к себе, нет личности: еще.
Напротив, удачлив мог бы быть только тот, у кого вообще
нет никакой собственной, особой мерки, кто заменил ее неким
_ 792
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
опустошительным протеизмом. Такой человек всем обязан себе,
но "он" - везде и, следовательно, нигде. Тут даже преизбыток
самоопределения: однако, увы, также не свободного,
инструментального. Возможно, перед нами уже "сверхличность", но
личности еще нет.
Напомню, что по предмету и условиям рассуждений
Макьявелли не может быть и речи о какой-то сугубо внутренней,
"духовной" свободе. (На это Макьявелли ответил бы едкой
насмешкой.) Рефлексия рассматривается как предпосылка
действия. А иначе человек - раб обстоятельств и грезит наяву.
Свобода действовать, осуществлять собственные цели, брать
верх над судьбой - вот как Макьявелли желает истолковать
"мудрого и доблестного человека" ("Государь", XXVI).
В жестких пределах политологии он испытывает на разрыв
центральную идею культуры Возрождения. Он сталкивается с
проблемой, которая будет переформулироваться в "Гамлете",
"Дон Кихоте", "Фаусте", "Медном всаднике". Это философский
камень новоевропейского индивидуализма: свобода
самоосуществления личности перед лицом исторической необходимости.
34
Есть расхожее представление, согласно которому
Макьявелли в "Рассуждениях" предавался более или менее
чистому теоретизированию и поэтому смотрел на итальянские
дела безнадежно, а "Государь" - это трактат, написанный с
прикладными целями, подчиненный неистовому порыву найти во
что бы то ни стало причины для политической активности, для
надежды, для патетики заключительной главы. Что ж,
последнее, разумеется, справедливо. Однако, независимо от всяких
психологических и преходящих побуждений, в первую очередь
как раз "Государь" (и "Рассуждения" тоже, поскольку они к нему
примыкают и комментируют) носит характер высокой теории.
Ибо экспериментирование с нарождающимся понятием
личности как субъекта истории - здесь получило наиболее цельный,
сжатый, последовательный вид. Здесь Макьявелли особенно
парадоксален и, стало быть, философичен.
Его исходным материалом, как сказано выше, могла
послужить лишь идея "универсального человека", т. е. своего рода ре-
793 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ *Ят НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
нессансного аналога (и, вместе с тем, антипода) "личности"
Нового времени. Эта идея была не выдумкой, а способом
интерпретации. Макьявелли видел универсальных людей, он сам был
одним из них.
Он был мудрецом, но звезды и судьбы ему почему-то не
повиновались.
Возможно, мудрый политик - не то же самое, что мудрец.
Возможно, индивидуальность Государя - не индивидуальность,
а нечто большее... или меньшее, или вовсе иное?
Дело вот в чем. В письме к Содерини Макьявелли
размышляет над самотождественной человеческой индивидно-
стью, видя в ее натуралистичности и инертности препятствие
для долговременного политического успеха. Поэтому в
"Государе" он вообразит совершенно суверенную и самодвижимую
индивидность, а это - как выяснится много позже -
принципиально новое и необходимое (хотя недостаточное) условие
возникновения "личности" в культуре Нового времени.
Впрочем, Макьявелли, интересуясь исключительно проблемой
власти, тут же подчинит ум и волю столь великолепного
индивида, служащего будто бы собственным основанием,
прагматическим задачам и, соответственно, изменчивым внешним
обстоятельствам. То есть - если взглянуть на Государя с точки
зрения позднейшей идеи личности33 или пусть только с точки
зрения ренессансной идеи "универсального человека" -
человек становится средством, а не целью, флейтой из "Гамлета"
(не так уж важно, что ее клапаны перебирает он же сам).
Поэтому свобода макьявеллиевого Государя от моральных
парадигм и даже от прирожденных наклонностей - личностью его
ни в коей мере не делает, наоборот. Хотя личность, если уж
иметь в виду эту культурную перспективу мыслей
Макьявелли о субъекте исторического действия - личность, вообще-то
говоря, нуждается до известной степени именно в такой
свободе (что хорошо понял Кант с его парадоксом "категорического
императива" как абсолютно никакими дальнейшими
причинами, духовными инстанциями или практическими
соображениями не обусловленного, абсолютно внутреннего и личного
закона, того в индивиде, что он признает всеобщим и ставит над
собой, но ставит-то именно он, его разум в качестве последнего
основания).
_ 794
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
Конечно, такое сознательное самоопределение, каким оно
было предположено автором "Государя", такой выбор своих
душевных свойств и поступков исключительно ради
эффективного политического результата - вновь делают несвободным
только что, казалось бы, освободившегося и ставшего законом для
самого себя индивида. Несвободным, функциональным,
вторичным - но потому и безличным; всяким - и потому никаким.
Тем не менее нельзя не заметить, что Макьявелли со своим
"мудрым" индивидом впервые с такой последовательностью и
определенностью (не потому ли как раз, что он сузил вопрос до
технологии власти, до политического ремесла) сумел очертить,
пусть, так сказать, негативно и формально, нетрадиционалист-
ского человека, индивидность, вообще-то выступающую в
качестве своего последнего основания.
Если такую неслыханную индивидность, совмещающую
универсальные возмохсности, формирующую себя в
соответствии с устанавливаемыми ею же целями, являющую
одновременно и отдельного, довлеющего себе, уникального человека, и весь
спектр еще не сделанных выборов, не совершенных поступков,
не актуализованных свойств, - если такую индивидность
представить в виде культурного субстрата, короче, если отправить
этого нового человека на поиски смысла... дабы он всякий раз
заново и на полную личную ответственность, вглядываясь в
бесконечность мира и истории, принимал решение о смысле, решение
о добре, о красоте и так далее... тогда окажется, что Макьявелли
на свой лад прикасается к проблеме начала. Bee
новоевропейской трактовке. Если угодно - в декартовском повороте.
Ничто не дано готовым, не положено до моего мышления и
моего решения. Даже сам факт моего существования. Ничто!
Моралисты превратили Макьявелли в имя нарицательное.
А Декарт, а Спиноза, а Паскаль - не пугают? А не кружится
голова, когда заглядывают в бездонную идею causa sui?
Гений культуры Нового времени, однако, бесстрашно
выстраивает свои критические, секуляризованные ценности на
этой идее.
У "обратной стороны титанизма" (в частности,
Макьявелли) была обратная сторона: титанизм.
"Безнравственность" трактата о Государе (отчасти мнимая,
в кавычках, отчасти и действительная) бросается в глаза пото-
795 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ мЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
му, что Макьявелли с величайшей радикальностью поставил
основную проблему нравственности: об ее источнике.
А вот это и есть, конечно, самое-самое аморальное...
Никакая мораль не терпит вопросов о своем
происхождении. Это страшная непристойность и грех: вроде того, что
случилось с сыновьями Ноя.
Откуда берется готовая моральная парадигма? От святого
духа. Она предполагает непорочное зачатие.
Макьявелли явно о другом. Он не отрицает морали,
поскольку добро называет добром, зло называет злом. Он
полагает, однако, что в политике могут быть "выгодны" и добро, и
зло - или невыгодны. Для правителя разницы между ними,
следовательно, нет, а есть только разница между подходящим или
неподходящим (для достижения цели при данных
обстоятельствах) способами поведения. С другой стороны, "человечность"
или "свирепость" - природные свойства индивида. Или
индивид не в силах вести себя в противоречии со своей природой;
или его поведение определяется - в зависимости от
обстоятельств - им самим. Так или иначе, при одном подходе
(натуралистическом) вопрос о морали выглядит беспредметным. При
другом подходе (волюнтаристическом) возникает проблема
критериев и выбора. Макьявелли нащупывает точку, в которой
расходятся не только мораль и политика, добродетель и польза,
но и мораль как норма - и то ли имморализм, то ли
принципиально новая мораль (лучше "нравственность", просто чтобы
употребить иначе звучащее слово, хотя по-русски это означает
точно то же, что "мораль" в романских языках) -
нравственность как поиск, как сомнение, короче, как начало морали.
Макьявелли на протяжении пятисот лет породил
множество взаимоисключающих трактовок и остается писателем, с
которым крайне трудно произвести окончательный
интеллектуальный расчет: писателем, терзающим сознание. Этого,
конечно, не было бы, если бы он всего-навсего ратовал за порок.
Читая "Государя", мы присутствуем при родах
нравственности как человеческого решения. Эти роды рефлективно
обнажены. Они греховны, и грязны, и мучительны.
Пробуждение субъекта, его освобождение от связанности
абсолютными догмами, его готовность к беспощадному анализу
десакрализованной действительности - трагически оплачивает-
_ 7%
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори ы...
ся у Макьявелли признанием власти как принципа всех
отношений.
"...Я знаю, что опять разойдусь, как и во многих других
вещах, с мнениями граждан (Флоренции): они хотели бы такого
проповедника, который наставил бы их, как попасть в Рай, а я
хотел бы найти такого, который наставил бы их, как попасть
прямиком к дьяволу... Я полагаю ведь, что это и есть настоящий
способ попасть в Рай: изучить дорогу в Ад, чтобы избежать
ее"(подробней см. ниже)34.
Что бы мы ни думали об ответах, которые пытается дать
Макьявелли в виду противоречия между суверенностью
личности и ее беспомощностью посреди истории - отдадим должное
мужеству этого ума. В своих сюжетах он едва ли не раньше
кого бы то ни было осмелился переступить традиционалистский
порог, за которым - неизвестность.
35
В последний раз Макьявелли развернул коллизию
"мудрого государя" в 1517 г.: в восьмой и особенно девятой
главах третьей книги "Рассуждений о первой декаде Тита
Ливия^.
Сначала речь заходит о некоем римлянине Марке Манлии,
который отличился при защите Капитолия от варваров, но затем
попытался взбунтовать низы и захватить власть; против него
объединились, однако, все - и патриции, и плебеи; по приговору
сенаторов, несмотря на прежние заслуги перед отечеством, он
был сброшен с Тарпейской скалы. Макьявелли вычитал о нем у
Тита Ливия следующее: "Таков был конец человека, который
прославился бы, доведись ему родиться не в свободном городе".
Эта фраза волнует Макьявелли, поскольку дает повод вновь
задуматься над тем, что в политике успех или неудача зависят
как от индивида, от его поведения, так и от обстоятельств, от
характера времени. В эпизоде с Манлием "следует учесть две
вещи: во-первых, существуют одни способы прославиться в
развращенном городе и совсем иные - в городе, который еще
живет в соответствии с правопорядком; во-вторых (это, впрочем,
почти то же, что и во-первых), люди в своем поведении и тем
более в крупных начинаниях должны взвешивать характер вре-
797 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ мЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
мен и сообразовываться с ними. И кто из-за негодного расчета
или в силу неподходящих природных наклонностей расходится
со своим временем, тот живет обычно несчастливо, а его
начинания имеют скверный исход; противоположным образом
происходит с теми, кто согласуется с временем". Если бы Манлий
родился во времена Мария и Суллы, "когда материя уже
разложилась и когда он мог бы придать ей форму своего честолю-
бия", он добился бы на пути к тирании таких же успехов, как и
эти двое; напротив, живи Марий и Сулла во времена Манлия,
их первые же попытки были бы пресечены (р. 295). Этот
Манлий, "доблестный духом и телом", однако же "впал в такую
умственную слепоту, что не подумал о том, как устроена жизнь его
города, не расчел того, с чем имел дело"; им полностью владели
лишь "зависть" к сопернику и "грубое властолюбие" (р. 294).
Вообще "в том, что касается способа поведения людей", они
нетерпеливы и не в состоянии долго сдерживать свою страсть.
Кроме того, они заблуждаются в собственных делах и пуще
всего в том, чего сильно желают; так что то ли из-за нетерпения, то
ли из-за самообмана они впутываются в затеи, не
соответствующие временам, и кончают плохо" (р. 295).
Из этого рассуждения Макьявелли можно бы заключить,
что совпадет или не совпадет характер индивида с требованиями
времени - дело случая; каждый человек во власти своей
"фантазии", он таков, каков уж есть, и перемениться не в состоянии.
Но все-таки Макьявелли пишет: "...из-за негодного расчета
(выбора) или в силу природных наклонностей (per cattiva
elezione о per naturale inclinazione)..." ...Значит, наряду с
детерминацией, врожденными свойствами поведение индивида
может быть им выбрано. Этот рациональный выбор, основанный на
изучении и оценке ситуации, в которой индивиду выпало
действовать, бывает, очевидно, не только плохим, но и
правильным? Иначе было бы бессмысленным наставление о
необходимости "considerare i tempi ed accomodarsi a quegli".
To есть и "Рассуждения...", и трактат о Государе, и прочие
политические сочинения Макьявелли, сами понятия
государственного искусства, мудрости и т. п. - все, чему он отдал жизнь,
мгновенно утратило бы смысл.
Тем не менее далее, в девятой главе, Макьявелли, кажется,
склоняется к более традиционному и пессимистическому тол-
_ m
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
кованию. "Я неоднократно показывал, что причина плачевной
или удачной фортуны людей состоит в соотнесенности их
способа поведения с временами (è riscontrare il modo del procedere
con i tempi). Ибо заметно, что люди в своих деяниях ведут себя
по-разному, одни напористо, другие обдуманно и осторожно. А
поскольку оба способа оказываются подходящими лишь в
определенных пределах, то каждый из них вместе с тем и ошибочен,
и (неизменно следуя одному из них) невозможно напасть на
верную дорогу. Но кто, как я сказал, подходит по своему
характеру ко времени, тот меньше заблуждается и в ладах с
фортуной, при том, что следует всегда понуждению собственной
природы".
Макьявелли приводит излюбленные примеры - те же, что и
в "Государе", - с Фабием Максимом и Сципионом. МИ то, что
Фабий поступал по своей природной склонности, а не по
выбору (per natura е non per elezione), видно из того, что, когда
Сципион решил вторгнуться с войсками в Африку, чтобы довести
войну до конца, Фабий этому чрезвычайно воспротивился,
поскольку это не могло соответствовать его обыкновениям и
повадкам; так что, будь по его воле, Ганнибал снова появился бы в
Италии; он не принимал во внимание, что времена
переменились и что необходимо соответственно изменить способы
ведения войны. И если бы Фабий был римским царем, он мог
запросто проиграть эту войну, ибо не умел меняться в своем
поведении по мере того, как менялись времена (поп avrebbe saputo
variare col procedere suo secondo che variavano i tempi). Но он
был рожден в республике, у которой - разные граждане с
разным душевным складом (diversi umori), и у нее был Фабий,
наилучший человек для такого времени, когда надо было
уклоняться от сражений, а затем она могла располагать Сципионом,
когда настало время побеждать.
Вот почему республика существует дольше, чем принципат,
и ей чаще сопутствует добрая фортуна: ибо она в состоянии
лучше, чем один-единственный государь, приспособиться к
разнообразию времен благодаря разнообразию своих граждан.
Ведь человек, который привык действовать некоторым образом,
никогда не меняется, как уже говорилось; и если приходят
времена, неблагоприятные для данного способа действий, он
должен неизбежно потерпеть поражение" (р. 297-298).
799 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ МЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Еще два примера, но уже из наиновейших событий, тоже
хорошо знакомы тем, кто читал трактат о Государе и переписку
Макьявелли. Речь идет о мягком и сдержанном Пьеро Содери-
ни, о неистовом папе Юлии II. "А тому, что мы не можем
перемениться, есть две причины. Одна из них: мы не в силах
противиться своей природной склонности; другая же состоит в том,
что, если кто-либо преуспевал до сих пор посредством
известного способа поведения, его невозможно убедить в
необходимости вести себя теперь иначе. Отчего и получается, что фортуна
одного и того же человека переменчива: ведь она-то меняет
времена, а он своих способов поведения не меняет..." (р. 299).
Сравнивая эти страницы с письмом к Пьеро Содерини и с
XXV главой "Государя", приходится признать, что, хотя к
прежним аргументам мало что прибавилось, Макьявелли теперь с
большей безоговорочностью высказывается в пользу
понимания индивида как существа однозначного, жестко
ограниченного природой или привычкой, действующего не по
рассудительному и свободному выбору, но закрепленного за собой. "...Е поп
per elezione"!
36
Безнадежный эпилог? Ведь больше Макьявелли
напрямую к этой теме не вернется.
Но... все-таки это не эпилог. Дело не только в том, что
страсти, заблуждения, слепота человеческого поведения описаны
автором по ходу ясного, упорядоченного, рационального
изложения разных политических ситуаций и того, как следовало бы
вести себя в каждой из них. Выговоренному противоречит уже
сам голос того, кто говорит; автор возвышается над своими кон-
статациями; его анализы, как он подчеркивал в письме к Ветто-
ри, никак не угождают его эмоциям (р. 366). Что же
удивляться, если спустя три года Макьявелли напишет "Жизнь Каструч-
чо Кастракани", т. е. снова сконструирует словно бы
параллельную модель (сознательно управляющего собой, самодвижимого
индивида).
Впрочем, таких моделей у него даже не две, а три.
Или - четыре?
В самом деле, припомним снова их все разом.
_ m
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
1) Индивид способен быть универсальным, когда стремится
захватить или удержать власть, ибо он наново взвешивает
обстоятельства, при которых ему доводится действовать, и сам
определяет, какой способ поведения окажется подходящим и
эффективным, и хладнокровно меняется в соответствии с
меняющимися временами, и поэтому ум и воля такого редкостного
индивида более или менее торжествуют над капризами
фортуны. Ведь подобный человек перестает быть игралищем
собственной природы, страстей и предрассудков; он не равен самому
себе, поскольку ведет себя согласно "правилам"
государственной "мудрости", исходя из "действительной, а не воображаемой
правды вещей". Макьявелли не мог бы расстаться и никогда не
расставался с этой концепцией "героической" рациональности
исторического деятеля. Почти за десять лет до сочинения
"Государя" (в письме к Аньоло Туччи), секретарь "второй
канцелярии" язвительно отзывался о папе и французском короле,
которые ошибались в оценке тогдашней итальянской ситуации;
"притом каждый из них настолько упрямится в своих мнениях,
что и слушать не желает никого, кто напомнил бы что-либо,
лежащее за пределами его взгляда на вещи". Макьявелли же,
напротив, советовал: "Но каковы могли или должны бы на самом
деле быть меры предосторожности, об этом вы сможете судить
превосходнейшим образом, если станете смотреть Италии
прямо в лицо (guardando Italia in viso) и обдумаете в свете этого
собственное положение, изучив и взвесив то, что можно
предпринять для вашей безопасности, на кого и на что тут можно
надеяться" (р. 125).
2) Индивид обычно не способен быть универсальным.
Независимо от поворотов исторических событий в каждом поступке
он предопределен собой же: отчасти природной склонностью,
отчасти самоуверенной привычкой, инерцией прежней
удачливости, короче, своей "фантазией". Таков всегдашний и почти
неодолимый человеческий изъян: с точки зрения политической
действенности.
3) Однако мы имели случаи заметить, что Веттори то же
самое свойство отдельного человека - не меняться, не
приспосабливаться к обстоятельствам, оставаться самим собой -
расценивает положительно, с чувством достоинства, даже с
вызовом, когда дело идет о его, Веттори, личных пристрастиях или
даже слабостях.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ МЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Что ж, он не скрывает, что "слаб по женской части", хотя
рассыпаться в комплиментах и обхаживать дам - "не в его
природе" (р. 318); он, увы, слишком доверчив, не умеет быть
начеку даже с человеком, относительно которого его
предостерегали, но "трудно поменять свою природу", "для меня было бы
невозможно причинить кому-либо зло, а из этого получается что
угодно" (р. 264). То есть это свойство характера подчас
оказывается и вредным, но зато, что же делать, такой уж он, Веттори,
человек... Он стремится свести к минимуму официальную часть
своих обязанностей, сохранить в Риме свои привычки частного
лица. Вспомним: "Я не хотел бы, чтоб вы подумали, будто я
живу здесь, как принято в положении посла, потому что я всегда
желал бы оставаться свободным" (р. 300). Он весьма стеснен в
средствах: "Признаюсь, что... виной этому во многом я сам,
потому что не умею ловким манером извлекать из всего пользу
для себя и для друзей" (р. 237). Ему не удается помочь
Макьявелли при курии, и он пишет об этом со смешанными
чувствами вины, огорчения и достоинства: "Я не тот человек, который
сумел бы устроить дела друзей" (р. 369). Впрочем, с
окружающими он ладит отлично, поскольку "никогда никого не задел ни
словом, ни делом, ни прилюдно, ни наедине" (р. 245). Таков
Франческо Веттори в собственном мнении. В Риме он
находится в человеческой гуще, однако находит истинную отраду
только в заочных беседах с Макьявелли: "Я не знаю человека более
умного, чем вы". "...Когда я долго разговариваю с некоторыми
людьми, когда читаю их письма, я поражаюсь про себя, до
какой степени они пусты, все это не что иное, как напыщенность,
вранье и побасенки, и мало кто из этих людей выходит за
пределы заурядного" (р. 300).
"Я совсем не бываю в домах кардиналов, потому что
посещаю разве только Медичи, и еще порой Биббьену, когда тот
здоров. И пусть говорят об этом что угодно; а если я их не
устраиваю, пусть отзывают меня <во Флоренцию>" (ibid.).
37
Казалось бы, автору "Государя" следовало упрекнуть
друга за эту φ а н τ а з и ю, за нерасчетливую верность себе. Но
Макьявелли - мы знаем, - напротив, энергично поддерживает
_ m
Понятие об индивиде по переписке Нихколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
Веттори в намерении "вести себя по-своему", "заниматься
своими делами на собственный лад". Он и сам в сорок три года, как
мы слышали, меняться не собирается. Его индивидуальная
рефлексия, конечно, еще острей, и горделивей, и горестней. Он, по
известному слову Ф. Гвиччардини, "всегда был человеком,
мнения которого большей частью отличаются от общепринятых
(extravagante di opinione dalle commune), изобретателем новых
и непривычных вещей" (р. 408). Эта похвала должна была
доставить ему удовольствие. Похоже, что вне политического
действия индивидуальная особость - не изъян.
И пуще всего - "экстравагантность" мысли, необычный
личный характер "мнений". Задень до того, когда 18 мая 1521 г.
Гвиччардини отправил Макьявелли приведенную выше оценку,
тот написал встречное письмо, ее во всех отношениях
подтверждавшее. Оно начиналось так: "Когда прибыл ваш гонец, я
сидел в отхожем месте и как раз раздумывал над причудами этого
мира, и весь погрузился в то, что воображал некоего
проповедника для Флоренции, чтоб он был на мой лад, потому что я
хочу и в этом быть своенравным, как и в прочих своих мнениях. И
поскольку я всегда старался не упустить случая, чтоб услужить
этой республике, где только мог, если не делом, так словом,
если не словом, так знаком, то не собираюсь и тут лишать ее
своих советов. Правда, я знаю, что опять разойдусь, как и во
многих других вещах, с мнениями ее граждан: они хотели бы
проповедника, который наставил бы их, как попасть в Рай, а я
хотел бы такого, чтобы наставил их, как попасть прямиком к
дьяволу; они хотели бы, чтоб это был человек благоразумный,
цельный, честный, а я хотел бы сыскать такого, чтоб был
безумней Понцо, хитрей Савонаролы, лицемерней брата Альберто,
потому что я счел бы превосходной шуткой, достойной нашего
прекрасного времени, если бы все, что нам преподнесли разные
монахи, мы теперь испробовали бы от одного; я ведь полагаю,
что это и есть настоящий способ попасть в Рай: изучить дорогу
в Ад, чтобы избежать ее. Кроме того, насколько же доверяют
человеку скверному (un tristo), если он скрывается под покровом
религии. Легче представить такое сочетание (coniectura), чем
человека доброго на этом месте, который вел бы себя честно, а
не притворно, и притом следовал бы по стопам св. Франциска.
Так что, по-моему, фантазия моя хороша..." (р. 402-403).
26·
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Очень странно. Во-первых, почему такой хороший политик,
как автор этого письма, позволяет себе быть "своенравным" и
"расходиться с мнениями граждан", т. е. почему его собственное
поведение столь противоречит его же представлению о том, что
значит быть осмотрительным, расчетливым, короче, хорошим
политиком?
Во-вторых. "Проповедник", который совместил бы в себе
хитрость Савонаролы, опрометчивое упрямство его "безумного"
противника Понцо, лицемерие брата Альберто, по-видимому
того самого, которого направил во Флоренцию в 1495 г. папа
Александр VI и который советовал заманить Савонаролу в Рим
и там схватить, - такой наставник в виде "конъектуры" (coniec-
tura) всяких свойств в какой-то мере напоминает "кентавра" из
трактата о Государе. "Мудрому государю", кстати, тоже
рекомендовалось разыгрывать благочестие... А если так: почему
Макьявелли пишет о придуманной им (якобы в отхожем месте)
"превосходной штуке", об "una bella cosa" с такой уж издевкой,
со страшной горечью? Почему "дорога в Ад", почему "un tristo"?
Только ли потому, что речь идет о монахах?
Да, Флорентийская коммуна, которая просила Макьявелли
подыскать городского проповедника, не могла бы избрать для
этого поручения более неподходящего исполнителя. Его просто
распирало от сарказма. Но он по своему обыкновению в письме
к Гвиччардини не может удержаться от соображений общего
плана. Самыми черными красками рисует он воображаемого
универсального монаха, который манипулировал бы
флорентийцами, но все-таки, по его мнению, это более правдоподобная
картинка, чем некий новый св. Франциск во главе города... Он
убежден, что "настоящий способ попасть в Рай" немыслим, если
предварительно не побывать в гостях у дьявола ("andare a cosa
il diavolo").
Уж не всерьез ли Макьявелли излагает свои "советы"
согражданам?
Если угодно, отчасти - да. Тут сходятся насмешливость и
горечь, государственный ум и непосредственная человеческая
реакция. Первое все же преобладает. "Конъектура", разумеется, не
может его радовать, однако едкость Макьявелли принимает
характер какого-то тотального умонастроения, захватывает все,
включая даже образ автора, потому что не только обращена на недале-
_ m
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли с Франческо Веттори и...
ких сограждан и их пастырей, но и словно бы исходит от самой
действительности и сливается с ней; так что, "по-моему фантазия
моя хороша", ибо под стать безотрадным "причудам (stravaganze)
этого мира" и "достойна нашего прекрасного времени".
Если собираешься участвовать в игре, надо принять ее
правила. Отсюда своеобразие горечи Макьявелли. В ней нет боли
или возмущения. Она почти эпична. Она примешана к фацетии,
каковой в некотором роде и является зрелище политической
жизни, ее причуды. В свое время Макьявелли враждебно
относился к Савонароле, но, что называется, отдавал ему должное, с
любопытством следил за тем, что считал ловкими
демагогическими приемами. В политике подобная универсальность
уместна. И там она противостоит неизменности,
самотождественности индивида, открывая возможности для внеморального, но
эффективного вмешательства в ход вещей. Письмо к Ф. Гвич-
чардини - отличный психологический, интонационный,
художественный, что ли, камертон, чтобы выверить наше понимание
"Государя", других сочинений Макьявелли.
4) Однако именно в переписке, как ни в чем, проглядывает
его представление об иной универсальности индивида - в
качестве частного лица. "Вести себя по-своему" тут не означает быть
ограниченным собственной природой. Поскольку сама эта
природа индивида может быть разнообразной: в подражание
Природе вообще. В письме от 5 января 1514 г. Макьявелли
связывает независимость и оригинальность поведения "мудрых"
людей, их способность не походить на других со способностью не
походить на себя, быть "универсальным". То есть в частной
жизни нет, по-видимому, противоречия между верностью
своему особому характеру - и душевной подвижностью. Такое
противоречие четко прорисовывается, становится для
Макьявелли ядром проблемы - лишь на уровне жизни публичной.
Конечно, мы зашли много дальше того, в чем Макьявелли
отдавал себе отчет. Но не дальше конкретного и
действительного содержания его переписки - каким оно открывается нам в
свете последующего историко-культурного опыта. Переходы из
одного плана в другой, из "малого времени" в "большое время"
не всегда, может быть, однозначны и легки. Однако границы
духовного опыта Макьявелли никак не теряются от того, что
предстают в виде не жесткого контура, а скорее сфумато.
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Что-то из более поздних вопросов он все же, кажется,
словно бы чувствовал. Чтобы обнаружить эти легчайшие обертоны
будущего, понадобилось поставить всего Макьявелли в
контекст его личной переписки, подчас не имеющей никакого
внешнего отношения к Тосударю" или к "Жизни Каструччо
Кастракани".
Для чего-то он захотел изобразить Каструччо не только
расчетливо-переменчивым правителем, но и - параллельно -
веселым человеком, который от души дурачится на ночной
пирушке: "больше, чем подобало его положению". (Ср. с
характеристикой Лоренцо Медичи, который предавался любовным
похождениям, скоромным речам, детским потехам "более, чем это,
казалось бы, подобало такому человеку".) "Кто-то из друзей стал
упрекать его за это" - и был, пожалуй, прав, если
руководствоваться жесткой прагматикой трактата о Государе. Но автор
трактата позволяет Каструччо оправдаться. Ему чудится, будто
есть не две сталкивающиеся универсальности индивида, а одна,
будто рациональная высвобожденность "мудрого государя" и
непринужденность индивидуального самоопределения - одно и
тоже.
Возможно, не так уж это нелепо, если согласиться, что у
всех (великолепных, рискованных, трагических, культурных, но
и эгоистических, и хищнических, и плачевных) проявлений
осознанной суверенности индивида Нового времени - некий
общий исторический социально-психологический корень. Но
это же и корень будущих расхождений! Разумеется, все дело в
том, как индивид воспользуется благоприобретенной безмерной
свободой и что он сам, добровольно и на личную
ответственность, решит поставить над собой.
Теперь нам уже трудно поверить в дурачества Каструччо
Кастракани.
Но от этого сочинения Макьявелли только глубже, чем
пятьсот лет назад.
"Государь" Макьявелли
в контексте
новоевропейской
идеи личности
Все, что ни бывает в мире, в каждое время
перекликается с древними временами на свой
особый лад.
Макьявелли. Рассуждения о первой
декаде Тита Ливия
Творческое понимание не отказывается от
себя, от своего места во времени, от своей
культуры и ничего не забывает. Великое дело для
понимания - это вненаходимость
понимающего - во времени, в пространстве, в культуре -
по отношению к тому, что он хочет творчески
понять... Мы ставим чужой культуре новые
вопросы, каких она сама себе не ставила, мы
ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и
чужая культура отвечает нам, открывая перед
нами новые свои стороны, новые смысловые
глубины... При такой диалогической встрече двух
культур они не сливаются и не смешиваются,
каждая сохраняет свое единство и открытую
целостность, но они взаимно обогащаются.
А/А/. Бахтин. Эстетика словесного
творчества
Постановка проблемы
Через основание всей зрелой мысли Макьявелли
проходит скрытая трещина, и даже более того: именно то, что
названо здесь трещиной, составляет в последнем счете самое эту
мысль.
Лишь она и доводит рассуждения Макьявелли до
гениальной смуты, до малопонятной глубины. Отсюда исходит все, что
ни есть в них притягательного, отталкивающего, страшного и
неотразимо правдивого. В ней наиболее коренным образом ска-
«7_
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ШЯШ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
залась (многими, конечно, подмеченная) интеллектуальная
честность Макьявелли, т. е. редкая способность ума идти
навстречу проблеме до конца, не зажмуриваясь, не отворачиваясь над
пропастью.
Но отсюда, очевидно, также и какая-то фатальная
неизбежность кривотолков, как только речь заходит о Макьявелли.
Обычные старания - с XVI в. и поныне - свести дело к "макья-
веллизму" или "антимакьявеллизму", выхватить из "Государя"
знаменитые наставления, чтобы тут же приладить
непосредственно к практике или, напротив, объявить их самым
бесстыдным вызовом нравственности, - и то и другое лишь
раздергивание мысли флорентийца, превращение в остывшие
идеологические выбросы того, что в его текстах остается
непрекращающимся подземным движением раскаленной магмы. И все-таки
вечное непонимание, на которое обречен Макьявелли, надо
думать, не случайно, связано с каким-то качеством в нем самом,
наверно, со все той же трещиной. Дело в том, что, несмотря на
суховатую графическую четкость, на эту сильную прямоту,
почта грубую недвусмысленность манеры изъясняться и даже как
раз благодаря тому, что его сочинения решительно в каждом
отдельном логическом моменте совершенно прозрачны, - их
смысловое единство действительно выглядит весьма
драматическим и странным.
Я не имею в виду внешнюю несогласованность. Напротив,
усилиями солидных исследователей теперь доказано, что
расхождения между двумя важнейшими трудами Макьявелли -
"Государем" и "Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия" -
сильно преувеличивались, что эти различия (как и очевидные
перепады настроения и стиля в рамках одного лишь
"Государя") никак не исключают огромной внутренней
последовательности, продуманности доктрины в целом. Сколько бы
заманчивости для некоторых людей ни сохраняли традиционные мифы
и просто глупости о Макьявелли, среди специалистов
установилось известное единодушие в отношении трагической
серьезности его творчества, изученного и понятого за последние
десятилетия гораздо обстоятельней и лучше, чем раньше.
Но решусь предположить, что существует и такая
сердцевина макьявеллиевой проблематики, которая до сих пор толком
не распознана, не названа своим настоящим именем.
_ m
"Государь* Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
Макьявелли - впервые! - столкнулся с некой
существенной трудностью, с одной из исходных коллизий Нового
времени, которую мы попытаемся рассмотреть не с ее эмпирической,
непосредственно социальной, политической или моральной,
словом, идеологической стороны, но - в логико-культурном и,
следовательно, всеобщем значении.
Напомню, что всеобщность голоса в культуре совпадает с
его уникальной особенностью, а потому и незавершенностью,
открытостью, всегдашней возможностью включения в диалог со
всеми другими голосами в "большом времени" (М.М. Бахтин).
Особенное в состоянии бытийствовать в качестве такового
только на собственной границе, т. е. на границе с любым иным
особенным. В силу внеиерархичности и синхронности
участников культурного диалога всякий голос может быть расслышан в
качестве генерал-баса, всякий смысл способен расположиться в
центре культурной вселенной, так что остальные смыслы будут
освещены его светом, взяты именно в отношении к нему и
вместе с тем выявят в нем самом новые и новые (в принципе
бесконечные) содержательные потенции. Например, фигуры Дон
Кихота, Гамлета, Фауста... или, допустим, пушкинского Сальери,
будучи продуманы в контексте "Государя", получают и
отбрасывают неожиданные отсветы. Но конечно, чтобы Пушкин или
Гёте оказались естественно включенными в мыслительную
ситуацию трактатов и писем Макьявелли, эта ситуация должна
быть уяснена не на уровне идеологических клише и
практических применений.
Такие клише и применения - нельзя отрицать - тоже на
свой лад долговечны; они часто повторяются или кажутся
повторяющимися, если сформулировать проблему в наиболее
отвлеченном виде. Скажем: разные люди и в разные времена
обнаруживали себя стоящими перед альтернативой
прагматической сообразности и нравственного достоинства. Однако при
всей мучительной жизненной остроте подобных положений
они - при очередных обстоятельствах - всего лишь
подтверждаются, проявляются, они воспроизводятся, но именно
вследствие этого разве что частично и поверхностно напоминают о
Макьявелли. Тут еще нет исторически-уникального в духовном
опыте и позиции Макьявелли или, если угодно, нет культурно-
всеобщего - что то же самое.
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ "Я" НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Шекспир, Сервантес, Спиноза и каждый, кто был в
состоянии вступить (осознанно или невольно - неважно) в диалог с
Макьявелли, вовсе не повторяли его исходной коллизии
(специфически связанной с политической борьбой за власть, и
только с нею), а преобразовывали эту коллизию в подчас
неузнаваемом повороте, не столько решая, сколько продлевая в
своем особенном.
В глубине Макьявелли - нечто, свойственное лишь
итальянскому Возрождению... а в культуре Возрождения - так
обернувшееся у одного него, Макьявелли. "Это" дано в
неповторимых текстах, имеет собственный смысл, однако же неравный
самому себе, неуспокоенный и продолжающий историческое
существование в перекличке с иными смыслами, с чужими
духовными мирами. Уже поэтому ненавистный нам "макьявеллизм"
(в качестве чего-то самотождественного, в виде
повторяющегося политического синдрома) вовсе не равнозначен мышлению
Макьявелли, тому, что делает его одним из вечных
собеседников человечества.
Итак, какая же логико-культурная коллизия избрана
предметом нижеследующего анализа в качестве фундаментальной и
решающей для понимания Макьявелли? Спор каких
содержательных мыслительных начал?
Можно бы ответить кратко: парадокс ренессансной
личности. Но, едва успев это выговорить, приходится торопиться с
оговоркой. Ведь мы прибегли к понятию, этой культуре (и, уж
конечно, уму Макьявелли) еще, строго говоря, не известному,
пусть тем напряженней выявлявшемуся в наипервичном
становлении, в нечаянно оголенных, пока еще не сомкнувшихся
пред-определениях.
"Личность" только угадывалась сквозь человекобожие, не
откристаллизовалась ни социально, ни рефлективно, она пока
под вопросом, - а Макьявелли уже производит над ней
жесточайший мыслительный эксперимент. Поскольку он делает
критерием, по крайней мере, крупной, "героической"
индивидуальности способность предусмотрительно и эффективно
действовать во внешнем мире, посреди переменчивой истории, в
разнообразных и обычно враждебных обстоятельствах.
"Фортуну" одолевает (или не одолевает) "доблесть"
выдающегося человека. Макьявелли только и занят тем, что неотступ-
_ 810
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
но доискивается, как и почему это бывало у древних или при
недавних событиях - в тех случаях, когда кто-либо желал
основать или сохранить республиканское устройство или режим
личного господства. Его интересует: в какой степени, вникая в
каждую политическую ситуацию, предвидя, в каком
направлении она должна сдвигаться, опираясь на опыт и принимая в
расчет свойства человеческой природы, - в какой степени и на
каких условиях может склонить исход борьбы за власть в свою
пользу проницательный и деятельный индивид.
На страницах "Государя" или "Рассуждений" сразу видно,
ради чего эти книги были написаны.
Нас же будет занимать другое.
Что происходит - в недрах макьявеллиевой логики - с
самой индивидностью "доблестного государя" как таковой? (И в
последнем счете в историко-культурной ретроспекции - с идеей
личности, как мы теперь это назвали бы.)
Тут впору остановиться.
Ведь едва ли не каждое высказанное соображение тотчас же
требует, в свой черед, разъяснений. Давать их до чтения
трактата Макьявелли (которым я вынужден здесь ограничиться)
беспредметно. Но без них - чтение бесцельно. Они - предпосылка
столько же, сколько и результат, меняющиеся, впрочем, по ходу
исследования местами.
Пусть угол зрения всегда с необходимостью задан заранее.
Слова Эйнштейна: "Лишь теория решает, что именно нам
удается наблюдать" - для гуманитария, имеющего дело с текстами,
верны не менее, чем для естественника. Но при вхождении в
произведение, ощущая на себе сопротивление "материала", -
то-то, что не материала, не вещи, не текста, взятого вещно,
объектно, а иного сознания, равноправного с нами субъекта (опять
и опять - М.М. Бахтин), - испытующая теоретическая
установка начнет непредвиденно смещаться, преобразовываться.
Ответы автора на наше вопрошание заставляют нас
переформулировать сами вопросы. В итоге всякий анализ оказывается заметно
не о том, для чего затевался. (В противном случае это было бы
довольно скучным занятием.) Из собственной работы наша
мысль выйдет изменившейся... но все же не настолько, чтобы
забыть, какой она была вначале.
811 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯв НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В данном случае я подступал к Макьявелли, продолжая
осмысление так называемого ренессансного "индивидуализма" в
культурологическом плане. Хотелось раскрыть своего рода
замысел личности в культуре Возрождения. Для решения этой
философско-исторической проблемы (а с ней и для
истолкования ренессансного типа культуры в целом) мной была
предложена и разработана ключевая категория "варьета",
"разнообразия" (ранее изредка упоминавшегося в литературе лишь в
абсолютно ином смысловом качестве и объеме, в виде одного из
частных требований ренессансного художественного вкуса,
преимущественно в связи с замечаниями Леона Баггисты Альберти
в трактате "О живописи").
Далее открылись методологические сложности. Ведь на
первый взгляд сочинения Макьявелли ни в малейшей степени
не касаются идеи личности, пусть и в ее самой ранней форме.
Как не раз отмечалось, Макьявелли-теоретик всецело
прагматичен, и в последовательности, с которой он проводит вплоть до
последних выводов исключительно политическую точку
зрения, - вся его до наших дней не изжитая новизна, нечто
смущающее ум. В отличие от гуманистов и художников Возрождения
он сконструировал такого индивида, универсальность которого
должна была обслуживать его же в качестве удачливого
государя... и, значит, это никакая не универсальность? Во всяком
случае, индивидуальное целое тут парадоксально включено в свою
же часть. Многообразные свойства и способности человека
взяты в отношении не к нему, а к вынесенным вовне целям. Так
что его даже, казалось бы, совершенно личные особенности ов-
нешняются, входят в состав чисто политических условий, в
раскладку исторических обстоятельств.
Это, конечно, переворачивает проблему.
Но не закрывает ее, потому что наш автор, писавший на
излете ренессансной ситуации и у порога Нового времени, попал
на мощный культурный стрежень. Это не нужно понимать
только так, что мы заведомо знакомы, следя за рассуждениями
Макьявелли, с тем новоевропейским духовным ареалом, в
котором им предстояло ближайшим и отдаленным образом
продолжить свое существование; поэтому нельзя не видеть, что текст
Тосударя" содержит ответы и на еще не заданные вопросы к
нему. Не только Макьявелли исторически включен в будущий
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
контекст - это верное, но слишком общее соображение;
изюминка, однако, в том, что такой контекст косвенно уже
предусмотрен его мыслью, поскольку она обращена на десакрализо-
ванного индивида и экспериментирует с его понятием.
То есть я хочу сказать, что поскольку эксперимент начат,
поскольку перед нами освобожденный индивид, сорвавшийся с
традиционалистской орбиты и служащий собственным
основанием, - то и некое логико-историческое место, пусть пока не
застолбленное, для этого же индивида в качестве личности, по
необходимости заготовлено, правда в значительной мере
отрицательно, апофатически.
Непосредственно Макьявелли занимают свойства чистой
индивидности. Именно в них - как в неустранимое условие -
упирается решение его прикладной задачи. Индивид как
субъект исторического действия и он же как "универсальный
человек", который должен ссохнуться до "государя", - это как-никак
один и тот же индивид. Обычный политик - конкретный
"этот" - ограничен своей отдельностью; он, скажем, по природе
склонен действовать или обдуманно, медлительно, осторожно,
или напористо и безоглядно. Между тем выясняется, что лучше
всего, если правитель был бы человеком, который способен
вести себя и так, и этак, и по-всякому, т. е. меняться по
обстоятельствам, поступать, как он считает нужным, - и в этом смысле
преступать границы своей природы, с ее единичностью и
готовностью, быть творцом самого себя. Его-то Макьявелли, как
известно, и воображает, описывает, ожидает, о нем возвещает в
трактате о "Государе". Лишь такой человек может стать
великим политиком и спасителем Италии.
То есть только тот, кто обладает качествами... личности? -
невольно переспрашиваем мы. Или, наоборот, столь безмерно
пластичного индивида всего лишь творят обстоятельства? Что,
впрочем, требует невероятной индивидуальной чуткости к ним.
И следовательно, словно бы личности, направленной против
себя как таковой?
А вот это все Макьявелли уже не занимало. Это занимает
нас. Еще бы! Его же внимание, правда, приковано к тому, что
есть сознание и воля индивида, но сознание деятеля интересует
его со стороны и функционально (как теперь сказали бы, не
гуманитарно, а сайентистски: до крайности анахронистическое
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ мЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
определение, но, может быть, как раз поэтому оно неплохо ост-
раняет, в чем тут трудность).
Похоже, что "индивидуализм" Макьявелли не имел
внутренних, духовных проблем, что все проблемы Государя - во
внешнем мире.
Да, но решающая из таких внешних проблем - все-таки он
сам, "доблестный государь", его индивидуальный состав и
устройство.
Итак, мы находим у Макьявелли, который именно
благодаря сужению логического русла в расщелине политики
размышлял над возможностями отдельного человека так интенсивно и
впрямую, как никто в итальянском Возрождении, - мы
находим некую коллизию индивидности, она-то и будет предметом
исследования. Однако, сверх того, мы внутри этой адекватной
коллизии усматриваем у Макьявелли еще другую коллизию, с
которой дело обстоит куда сложнее, потому что она и
некоторым образом принадлежит Макьявелли, и не принадлежит ему.
Он вывернул ренессансную концепцию личности наизнанку,
"социологически" сдвинул куда-то мимо личности как
феномена культуры - но и тем самым впервые выявил, пусть
неприметно для себя, пусть лишь в ответ на вопросы потомков,
трагизм ее исторического положения.
В очередной раз напомню, что под "личностью" здесь
понимается глубоко специфическое явление (и понятие, и
термин!) европейского Нового времени. А именно: установка на
самообоснованность каждой человеческой индивидуальности.
"Личностью" обозначается идеальное, предельное
положение индивида в мире, которое в прежние эпохи принадлежало
"праведнику", "святому" или "доброму мужу", "мудрецу" и т. д.
Это новое регулятивное ценностное представление. Как и
всякое подобное представление, оно выступает в виде
всеобщности. Однако на сей раз такой странной всеобщности, которая в
каждом отдельном, личном случае - неповторима. То есть
всеобщее осознается как нечто в индивиде, что, хотя и "больше
его", но не дано извне или свыше, а есть именно он сам. Личность
поэтому вынуждена нести полную ответственность за
всеобщность, которая высвечивается как несовпадение особенного со
своей данностью, как открытость в человечество, как творимый
смысл, насущный для всех прочих смыслов.
_ SU
"Государь" Макьявелли $ контексте новоевропейской идеи личности
В социальном плане идею личности противоречиво
обусловливает чисто правовая буржуазная идея гражданского
индивида, который совершенно тождествен себе и всякому другому
индивиду на рынке труда, у избирательной урны и в прочих
ситуациях "публичной жизни". Выражение "права человека",
строго говоря, относится именно к такому абстрактному
гражданину, но вовсе не к личности. "Равная оплата за равный
труд", "один человек - один голос" и тому подобные
демократические требования включают и право за пределами
"публичной" жизни на жизнь "частную", которую каждый волен
устраивать себе при условии соблюдения законов, как ему
вздумается, и в которую считается непозволительным заглядывать.
Следовательно, анонимность, предельная обезличенность
составляет пафос отрицательных (по своему содержанию) гарантий
существования индивида в гражданском обществе.
В культурном плане этот же индивид формирует себя,
становясь "личностью". Личность не имеет прав, потому что она
несходна со всякой иной личностью, к ней не приложима
никакая общая, чужая мерка. Личность не имеет обязанностей,
кроме тех, которые она сама воображает и налагает на себя. Ее
равенство с остальными личностями держится только
неравенством, заключено в интересе и уважении одного особенного к
другому особенному. Это полоокительное равенство (в отличие
от правовой защищенности индивидов-граждан) осуществимо в
единственном роде деятельности - в общении. Никакая
инстанция, никакой авторитет, никакая норма над этим общением не
властны, оно всегда столь же уникально, как и участвующие в
нем личности. Встреча личностей - событие не в сфере
совместного быта, а феномен всеобщего бытия. Поэтому в ней
естественно способен участвовать культурный текст, тоже
выступающий в роли словно бы субъекта, тоже наделенный смыслом,
тоже не совпадающий с собой и раскрывающийся во встречном
личностном акте истолкования.
Повторим: каждое особенное сознание разрастается на
культурной почве Нового времени в качестве заново
рождающегося всеобщего. Ибо отныне небеса пусты. Никакого
иерархически вознесенного "зачем" - поверх
естественно-исторического процесса, ведущего неведомо куда, поверх встречающихся
в истории отдельных сознаний - нет. Опереться на что-либо не-
815 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ "Я" НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
зыблемое, предстательствовать от имени абсолюта для
критического разума немыслимо. Отсюда - личность, ищущая
духовную опору лишь через свое включение в бесконечный, незавер-
шаемый человеческий разговор.
Возрождение еще не знало понятия личности, но оно его
подготавливало вплотную. Основанием предощущения
личности, на мой взгляд, послужили структуры гуманистического ди-
алогизма и "варьета". Свернутые внутрь индивида, они дали в
высшей степени парадоксальную концепцию "универсального
человека", т. е. своего рода ренессансного человека без свойств,
индивида в качестве собственной возможности (изобретенного,
следовательно, задолго до Роберта Музиля и безо всякой
ущербности воления и действия). Это и было нечто вроде
первого фантастического наброска идеи личности.
Так вот: у Макьявелли можно наблюдать первый кризис
этой идеи.
Завязка драмы, подспудно возникающая в трактате о
"Государе", связана с тем, что субъект политики у Макьявелли - как
предстоит показать, столь вызывающе антиличностный, - мог
быть, однако, им выкроен лишь из того, что принято называть
личностью Возрождения. По Макьявелли, если подойти к
природе индивида с запросами энергичного практического целепо-
лагания, потребно ее коренное преобразование. "Фортуне" не в
силах противостоять природный индивид, сам являющийся
лишь одним из моментов прихотливой натуралистической
комбинации случайностей. Только свободная в отношении к себе
индивидуальность, не предопределенная готовыми парадигмами
поведения, не ограниченная своей частичностью и малостью,
только ее доблесть в состоянии бросить вызов судьбе. Нечто
крайне важное именно для конституирования новоевропейской
индивидуальной личности было преподано, таким образом, в
"Государе" с несравненной остротой... хотя и, как мы увидим,
ценой отсечения другого, ничуть не менее важного условия.
Понятно, что в будущем никакой проблемы ("гамлетовской"
или, скажем, "фаустовской") не возникало бы, если бы индивид
бросался в гущу жизни, оставив свою личность где-то в стороне.
Ею пропитаны цели и способ участия в ходе событий, так что
это уже события биографические: не вокруг личности, а внутри
нее. Личность - соответствующий тип рефлективного сознания,
_ 816
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
да, но это не абстрактная чистая рефлексия, а сознание того, кто
живет и действует, - это конкретный индивид в целом.
У личности поэтому есть, так сказать, историческое тело.
Она сгущается не только в недрах себя, как часто полагают, не
в одном общении с другими людьми, но на своей телесной
поверхности, соприкасающейся со всем наружным, со всем
социальным. Все, что делает (или чего не делает) новоевропейский
индивид, входит в его личность по определению, поскольку для
этого нет других субстанциональных оснований и "Я" не может
переложить ответственность на более высокую инстанцию.
Субъект совпадает со своей жизнью, хотя в ней многое с
ним не совпадает.
Ведь одновременно индивид неизбежно оказывается также
и агентом усредненных объективных процессов. В этом
качестве он, конечно, никак не личность, но на его личности как-то
сказывается и это. Ничто и никогда для него не проходит
даром. Ни согласие с историей, ни сопротивление ей, ни
активность, ни бездействие, ни желание "просто" остаться собой.
Срабатывает обратная связь. В старину это называлось
"судьбой". Индивид-личность пытается что-то изменить в мире по
своему образу и подобию, хотя бы самим своим присутствием в
нем, а мир тем временем берет его в объятия... Сквозь
путаницу случайностей задним числом просвечивает логика. Дело
известное... хотя и загадочное: при жизни в любой момент почти
все, бесспорно, может быть иначе, потом же выясняется, что все
было именно так, как и должно было быть.
Как же отражается на интимном составе и существе
человеческой индивидуальности ее вовлеченность в действие (а не в
общение) и сопряженная с этим внешняя необходимость?
Здесь мы возвращаемся к Макьявелли.
Попробуем прочесть его несколько иначе, чем это делали до
сих пор.
Целью исследования будут не взгляды на политику, не
соотношение политики и морали, не антропология или философия
истории Макьявелли; даже не его способ рассуждать, столь
"трезвый", "реалистичный" и, как иногда пишут, "научный".
Все это важнейшие, традиционно интересные сюжеты,
хорошо разработанные в историографии1. Нам их тоже, конечно,
никак не миновать. Но - лишь по ходу рассмотрения парадокса
М7_
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ "Я" НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ренессансной личности: из него. Что до "трезвости", то мы
разглядим в логике Макьявелли, скорее, фантастические бездны,
если сумеем пробиться сквозь политико-натуралистическую
силлогистику, которой Макьявелли владел с таким
неподражаемым прищуром, - добраться, повторяю, до тех исходных
логических начал, которые в некотором роде владели им, вели тяжбу
в его сознании и придавали жестким выкладкам рассудка едва
ли предусмотренную автором, во всяком случае, вовсе не
желательную для него загадочность.
Исследователи Макьявелли, безусловно, давно приняли во
внимание, что в центре всех размышлений флорентийца об
истории и политике находился "доблестный" индивид, способный
добиваться своих целей. Однако, если не ошибаюсь, изучение
касалось исключительно того, каким он виделся Макьявелли: что
разуметь под "доблестью", в какой степени "фортуна" ставит
пределы возможностям человека, что, собственно, такое эта "фортуна",
должны ли мы считать безукоризненно рационального и потому
удачливого государя концентрированным образом реальности
или, скорее, идеальным проектом - ну, и так далее. В этом же
теоретическом кругу всегда оставались попытки вскрыть
пагубность (или, напротив, историческую вынужденность и
оправданность) крайнего "индивидуализма" Макьявелли, не признающего
препон для восхваляемой им сильной личности.
Так или иначе, дело шло и идет о предикатах этой
личности, о том, как их оценить.
Само же ее понятийное существование в сочинениях
Макьявелли никогда не обсуждается. Кажется слишком очевидным,
что такой логический субъект в них заведомо есть.
Подразумевается, что личность была исторически задана прежде, чем
Макьявелли взялся наставить ее в "правилах" борьбы за власть.
Правда, у макьявеллиевого политика, само собой, сколько
угодно проблем - относительно умения оценить конкретные
обстоятельства и выбрать подходящий способ поведения,
относительно цели и средств, выгоды и морали, коварства фортуны,
относительно чего-то еще, - однако это все вроде бы проблемы
индивида, но не сама индивидность как проблема.
Между тем. В какой мере и в каком смысле "мудрый
государь" у Макьявелли - определенный и особенный человек?
"Личность" ли это? - пусть специфического ренессансного ти-
_ m
"Государь" Макьявелли $ контексте ноеоевропейской идеи личности
па. Не какими бывают или должны быть атрибуты отдельного
человека, а что есть субстанция отдельности.
Мы, пожалуй, убедимся, что такая индивидуальная
субстанция более всего тревожила мысль Макьявелли, что в этом
плане его Государь и всякий вообще деятель в истории - некий
икс. Поскольку вместе с тем именно поведение этого икса и
было предметом его внимания, иначе говоря, поскольку
Макьявелли исходил из неизвестного, - можно бы сказать, что он
восходил к нему. То есть что самые начальные постулаты макья-
веллиевой интеллектуальной системы были слишком новыми,
лишь частично и неадекватно отрефлектированными; зато
запущенными в работу. По ходу разбора и проектирования
политического поведения индивида, в предметной материи, они
смещались, сталкивались - и своей проблематичностью,
неразрешимостью выводят нас за пределы творчества Макьявелли.
Постулаты не предшествовали трактату о "Государе" в
качестве чего-то готового. Они им затребовались. Мысль сама
намывала себе опору. Опора оказывалась рискованной, грозила
рухнуть, однако, подобно пизанской башне (хотя в отличие от
нее вовсе не с очевидностью), этим и стала на века
раздражительно-притягательной.
Исходные логико-культурные начала Макьявелли суть
также его наиважнейшее, последнее слово. Как и всякое
"последнее слово", оно не подытожено, не договорено, не прикреплено
к отдельным местам текста. Оно есть мучение текста -
смысловое напряжение, которое им движет. Чтобы вывести незаверши-
мое, избыточное напряжение на поверхность, чтобы понять в
Макьявелли то, что перехлестывает через него (хотя и ничуть
не приписано, не примыслено нами, действительно содержится
в его высказываниях), необходима встреча цельно схваченного
уникального творчества Макьявелли с неизвестным ему
(будущим) духовным опытом, с (нашим) понятием личности.
М.М. Бахтин писал: "Первая задача - понять произведение
так, как понимал его сам автор, не выходя за пределы его
понимания. Решение этой задачи очень трудно и требует обычно
привлечения огромного материала.
Вторая задача - использовать свою временную культурную
вненаходимость. Включение в наш (чужой для автора)
контекст"2.
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Первая задача как будто решена современной наукой о
Макьявелли. Ясно, что вторая задача, взятая вне первой,
означает глухоту к инокультурной мысли, насилие над нею,
анахронизм. Но тоньше (часто не принимаемое в расчет) то
обстоятельство, что выполнение первой задачи (историзм?!) уже
предполагает переход ко второй. В противном случае она
решена недостаточно глубоко. Вообще-то перед нами, конечно,
единая и крайне сложная аналитическая процедура, которая
должна проводиться логически-ответственно, сознательно - как раз
потому, что в ней участвуют и взаимно освещают друг друга
"...не один, а два духа (изучающий и изучаемый, которые не
должны сливаться в один дух)"3.
Два понимания индивидности
Уже говорилось: снаружи трещина обычно не видна.
Все же, например, в "Государе" в одном-единственном месте она
несколькими внезапными словами прорывается на свет. Мы
успеваем заметить какую-то логическую нелепость... но завеса
опять плотно сдвигается и понять что-либо непросто. Тут,
в 25-й (предпоследней) главе, несомненно, происходит главное
смысловое событие текста. Оно задним числом разъясняет его в
целом, но выглядит никак не подготовленным и застает нас
врасплох.
В самом деле.
В предыдущей главе было заявлено, что власть теряют
лишь по недостатку мудрости, по неосмотрительности (per sua
роса prudentia), не посчитавшись с обстоятельствами и не
предугадав, в какую сторону они будут меняться. "Так что пусть те
из наших государей, кто, властвуя много лет, лишился своих
государств, обвиняют в этом не судьбу (fortuna), a собственную
нерадивость (ignavia): потому что в спокойные времена они
ничуть не помышляли о возможности перемен (это общий
недостаток людей - в затишье исключать из расчета бурю), когда же
потом наступили времена враждебные, они надумали бежать, а
не защищаться... Но только те способы защиты хороши,
надежны и прочны, которые зависят от тебя самого и от твоей
доблести (virtù)4
_ 820
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
В 25-й главе Макьявелли сначала продолжает так: "И мне
небезызвестно, что многие придерживались и придерживаются
мнения, согласно которому делами мира правят судьба и Бог, а
люди с их осмотрительностью (prudentia) никак не могут тут
вмешаться и даже ни в чем не могут себе помочь, а потому
можно бы сделать заключение, что незачем и стараться, но лучше
примириться со своим жребием. В это мнение особенно
уверовали в наши времена из-за великой переменчивости
обстоятельств, наблюдаемой повседневно, сверх какого бы то ни было
человеческого предвидения. Задумываясь над этим, я и сам
иногда отчасти склоняюсь к такому мнению. И тем не менее,
дабы наша свобода воли не угасла, я считаю вероятным, что
судьба распоряжается нашими действиями наполовину, но что
другую половину или около того она все-таки (etiam)
предоставляет решать нам самим..."
После этих знаменитых замечаний, в которых Макьявелли
пытается на глазок определить соотношение двух
противоборствующих сил, двух ведущих понятий его политической
феноменологии, - следует, как известно, более однозначное
рассуждение о бурных реках и плотинах, коими мы в состоянии
регулировать их сток. "То же и судьба, которая являет свое
всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть, и устремляет
свой напор туда, где не встречает возведенных против нее
заграждений" и т. д. Итак, "тот государь, который всецело полагается
на судьбу, бывает низвергнут, как только она переменится..."
И вдруг! - кажется, ничто не предвещает во всем только что
сказанном логической катастрофы, которая сейчас
произойдет, - мы слышим:
"...Я думаю также, что удачлив тот, чей способ поведения
отвечает свойствам времени (riscontra ei modo del procedere suo
con le qualita de'tempi), и точно так же неудачливы те, кто со
своим поведением оказывается в раздоре со временам (con il
procedere suo si discordano e'tempi)...".
Судя по интонации, Макьявелли по-прежнему всего лишь
приводит к финальному заключению свои соображения о
доблести государя, с успехом противостоящего фортуне на основе
тех "правил", которые изложены в трактате ранее. На деле же
автор успел в этом абзаце перейти не просто к
противоположному, но к принципиально иному ходу мысли; а мы и не замети-
S21 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯ' НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ли. "Я думаю также, что..." - посредством невзрачного "также"
(апсога) автор вводит втайне мучительную для него антитезу к
самому замыслу трактата, не больше не меньше! Все, однако,
выглядит пока так, будто продолжается изложение какого-то
дополнительного резона к тому, что уже было высказано.
(Впрочем, как мы удостоверимся, Макьявелли сохранит
видимость непрерывного и непротиворечивого движения и после
того, как оно зайдет в тупик. Столкновение
взаимоисключающих смыслов останется бесшумным.)
Почитаем дальше. "...Ибо мы видим, что люди ведут себя
по-разному (variamente), пытаясь достичь цели, которую
каждый ставит перед собой, т. е. богатства и славы: один действует
осторожностью, другой натиском; один силой, другой
искусством; один терпением, другой противоположным способом, и
каждый - при различии способов - может преуспеть. Но иной раз
мы видим, что, хотя оба действовали одинаково осторожно,
один осуществляет свои желания, а другой - нет; и подобным
же образом, хотя один осторожен, а другой напорист, оба равно
преуспевают посредством двух разных усилий. Зависит же это
ни от чего иного, как от свойств времени, которым
соответствует или не соответствует их поведение. Отсюда получается, как я
сказал, что двое, действуя по-разному, приходят к одному и
тому же результату или что двое действуют одинаково, но один
достигает своей цели, а другой нет..."
Речь Макьявелли несколько даже неуклюжа, назойлива в
своих повторах, словно он старается ухватить бьющуюся в
сознании мысль: "один" государь и "другой" государь... один и другой...
ведут себя одинаково... ведут себя противоположно... в том и
другом случае исход бывает счастливым для обоих... плачевным для
обоих... для одного счастливым, для другого плачевным... как бы
ни вести себя, любой способ оказывается оправданным или
неоправданным, что в каждом случае выясняется заново.
Можно ли это как-то разумно объяснить? Ведь прежде на
протяжении всего трактата утверждалось, что государь должен
быть "мудрым" и всякий раз сообразовываться с
обстоятельствами, выбирая способ поведения. То есть что один и тот же
политик действует, скажем, то осторожно, то напористо -
по-разному. Только такое сообразование и значит быть "мудрым"
(savio). Потому и нужно вдумываться в опыт римской и совре-
_ 822
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
менной истории, выводя для каждого казуса (типа
политических ситуаций) свое "правило" (regola). Проблема сводилась к
тому, чтобы не просчитаться в оценке событий, в подведении их
под общий случай и, следовательно, в сознательном выборе
средства, "il modo del procedere". Иными словами, для
реального или воображаемого Государя, к которому обращены
рекомендации Макьявелли, это должно было быть прежде всего
делом зоркой способности сужения ("il giudicio" - ну и, конечно,
практической энергии, решимости воспользоваться
рационально-пригодным при данных обстоятельствах средством, каким
бы оно ни выглядело нелегким или отпугивающим.
Вот в немногих словах - забегая вперед - несущая
конструкция трактата, на которую Макьявелли навешивал свои
"наставления", precetti. Соответственно политики делились лишь
на две категории: на горстку тех, кто умел всегда вести себя
"благоразумно", кого отличала "доблесть", и на всех остальных,
действовавших неосмотрительно и вяло.
Теперь, под занавес трактата, как мы уже могли отчасти
убедиться, схема вдруг радикально перестраивается. Есть
разные "времена", непрерывно меняющиеся "свойства времени", и
есть разные способы вести себя в политике. Далее: эти две
величины, "le qualité del tempo" и "il modo del procedere",
пересекаются, "встречаются", и возникает некий эффект,
положительный или отрицательный, успех или проигрыш.
Это как в игре в кости. Индивид и время совпадают или не
совпадают.
Макьявелли по-прежнему исходит из того, что никакой
способ действий не мудр и не плох сам по себе, безотносительно к
конкретной исторической ситуации. Средство, которое вчера
(или в другом месте) служило залогом победы, нынче и здесь
может оказаться безнадежным. Эта посылка и раньше,
повторяю, была логическим основанием. Потому-то государю
следует быть попеременно и "львом" и "лисицей", быть скупым или
щедрым, жестоким или милостивым, осторожным или бешено-
неукротимым - по обстоятельствам.
Поворот в приведенных пассажах из 25-й главы состоит
"только" в том, что у каждого, похоже, собственный способ
поведения, а этот способ может отвечать или не отвечать
обстоятельствам.
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ "Я" НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Но... разве мудрый государь не потому и мудр, что
поступает сообразно обстоятельствам? Что же мешает людям, которые
"ведут себя по-разному", менять, как мы сказали бы,
политическую тактику, если этого требуют переменчивые времена?
Вроде бы Макьявелли до сих пор настаивал на
необходимости находить новый ответ на каждый новый исторический
вызов. А теперь его можно понять так, что способ политического
поведения ответом вообще не является. Такой-то "il procedere"
упорно присущ такому-то государю, возникает и удерживается
своим порядком; времена же преображаются - своим. Первая
переменная для отдельного человека - постоянна. Поскольку
это здесь подано как лишь продолжение наставлений о
государевой доблести, которая всегда начеку и предусматривает
заблаговременную защиту от фортуны, мы не вполне понимаем
автора, когда он толкует о какой-то "встрече" характерного для
данного индивида поведения с "временем", о том, что поведение
может (почему не должно?) "соответствовать" времени или не
"соответствовать".
"От того же зависят и превратности благополучия: ибо, если
некто действует осторожностью и терпением, а времена и
условия складываются для этого подстать, то он и преуспеет; но
если времена и условия изменятся, он потерпит крушение, ибо
способа действий не меняет".
Но почему, почему не меняет?
У Макьявелли это, безусловно, обдумано. И он наконец-то
произносит фразу, в которой разверзается логическая твердь
трактата о "Государе": "Ne si truova uomo si prudente, che si sappi
accomodare a questo" (uHe найдется человека, настолько
благоразумного, чтобы он сумел к этому приспособиться"). "К
этому" - т. е. к переменам в "свойствах времени". И дальше: "...это
так, потому что нельзя действовать вопреки природной
склонности, а также потому, что человека нельзя убедить сойти с
пути, на котором ранее он неизменно процветал. Вот почему
осторожный человек, когда наступает время перейти к натиску, не
умеет этого сделать, оттого и гибнет: а если бы его характер
изменился (se si mutassi di natura) соответственно времени и
обстоятельствам, фортуна его не покинула бы".
Напомню еще раз: это "если бы..." - утвердительная теза
трактата! Но тут она обращается в отвергаемую антитезу...
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
Затем, как водится у Макьявелли, приведен пример. Папа
Юлий II "всегда шел напролом" и "достиг того, чего не достиг
бы со всем доступным ему благоразумием никакой другой
глава Церкви". Макьявелли поясняет, какие временное условия
способствовали этому. Тем не менее в глазах автора Юлий II
отнюдь не образец политика, не "доблестный" правитель. Стало
быть, не успех - свидетельство "доблести", а происхождение,
природа успеха. Если Юлий II "так и не испытал неудачи", то
это, убежденно заявляет Макьявелли, "из-за краткости
правления": "Проживи он подольше и наступи такие времена, когда
требуется осторожность, его благополучию пришел бы конец,
ибо он никогда не отошел бы от тех средств (modi), к которым
был склонен по природе".
Что все это означает для замысла "Государя", для
теоретической схемы, по которой был построен трактат, для
политической философии Макьявелли? Непоправимую осадку и, в
принципе, обвал всего здания. Или, скажем сдержанней и
точней: доведение мысли до крайней напряженности, до парадокса.
Обвала не происходит просто потому, что новый подход... не
замечает прежнего. Они оба как-то совмещаются в тексте (в
голове Макьявелли).
"Итак, в заключение скажу, что фортуна непостоянна, а
люди упорствуют в своем поведении (variando la fortuna, e stando li
uomini ne'Ioro modi ostinati), они благополучны, пока одно
соответствует другому, и неблагополучны, когда соответствия нет".
Сжато сформулировав, таким образом, еще раз то наблюдение,
Макьявелли, однако, в следующей фразе и вопреки всякой
логике заканчивает главу так: "Я совершенно уверен в том, что
лучше быть напористым, чем осторожным, потому что фортуна -
женщина; и чтобы подмять ее под себя, необходимо колотить ее
и пинать. Ведь известно, что она позволяет победить себя
скорее таким, чем тем, кто ведет себя с прохладцей. Это потому,
что она всегда, как и женщина, подружка молодых, ибо они
менее осмотрительны, более неистовы и с большей отвагой ею
повелевают".
Словно только что не было скептической реплики о
неистовом папе Юлии.
Глазам своим не веришь! Этот ум, слывущий таким
рассудительно-деловым, холодно-последовательным, даже чуть ли не
825 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
"научным", желавший говорить только о том, что
действительно бывает в жизни государств, а не о том, чему следует быть,
перешагивает через свои проницательные соображения. Он
возвращается в последней тираде 25-й главы к тому же, с чего она
начиналась, - к приподнятой апологии "доблести" (трактуемой,
впрочем, уже не как многоликая предусмотрительная
способность вести себя по обстановке, а гораздо, гораздо более
традиционно - да чего уж там! хотя и красочно, но риторически и...
плоско).
А затем финальная 26-я глава, как все помнят,
преисполнена призывами к Государю ("мудрому и доблестному человеку")
воспользоваться нынешним положением, дабы овладеть
Италией и освободить ее от варваров. Пусть дом Медичи возьмет
предприятие в свои руки. Нужны нововведения, чтобы создать
такую армию, которая сочетала бы достоинства испанских и
швейцарских войск, но была бы лишена их недостатков и
сокрушила бы тех и других. Конструктивные замечания
подобного рода странно сочетаются с патетикой, но нас интересует не
это. И не то, с чего это взял трезвый Макьявелли, будто
фортуна дает сейчас удобный повод и итальянцы готовы
объединиться против варваров. Нас не интересует, пессимист ли он или
человек действия, который не в силах расстаться с надеждой, и
чего в нем больше. И не то, как в его произведении трагически
сталкивается неосуществимая мечта о Государе с
неустранимым сознанием реальности и т. д. и т. п. О, все это очень важно
для понимания феноменологии текста и его исторической
обусловленности конкретно-ограниченным, "малым" временем, а
также для понимания "человеческого, слишком человеческого"
в Макьявелли; наконец, для анализа его двойственной
языковой стилистики, построенной опять-таки на сопряжении призе-
мленно-наличного и - идеальных конструкций5.
Но нам интересно сейчас только одно. Почему Макьявелли
как бы втискивает в прокрустово ложе сразу два тезиса,
которые одновременно расположиться в нем не могут? - о том, что
"мудрый и доблестный человек" должен, чтобы захватить или
удержать власть, действовать всякий раз сообразно условиям,
руководствуясь типовыми "правилами", изложению которых
подчинена композиция трактата, и о том, что "не найдется
человека, настолько благоразумного, чтобы он сумел к этому при-
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
способиться". Ибо у каждого своя "природа": меняются
обстоятельства, но не индивид.
Этот второй тезис впервые пришел Макьявелли на ум и
поразил его задолго до того, как он, внезапно прервав сочинение
"Рассуждений о первой декаде Тита Ливия", приступил к
"Государю" (я имею в виду письмо к Пьеро Содерини). Казалось бы,
замысел и структура "Государя" решительно несовместимы с
представлением о жесткой закрепленности каждого человека за
своей определенной и частичной "природой". Надо бы выбрать:
или придерживаться указанного представления (самого по себе,
разумеется, неоригинального), или браться за сочинение
"Государя". Однако Макьявелли вовсе не отказался от идеи о
"встрече" косного, неизменного индивида с подвижными
обстоятельствами; напротив, он выдвинул эту идею в трактат, и таким
именно образом, что она никак не выталкивается
перпендикулярной идеей своеобразного протеизма, свойственного
"мудрому" политику.
Обе идеи рядополагаются! Хотя это вещь, логически
невозможная? Или индивид, пусть и редкостный, выдающийся,
способен уподобиться Протею - и тогда перед нами триумф
истинного человеческого естества, - или это противоестественно и
такого не бывает.
Макьявелли все-таки согласен сразу с двумя исходными
определениями и не может (не хочет?) заметить их
несовместимости.
На то есть более чем серьезные причины.
Чезаре Борджа:
чудовище универсальности
Прежде всего, было бы неверно полагать, будто
обрисованная только что коллизия связана с одной 25-й главой.
Пожалуй, только здесь (если офаничиваться пока "Государем")
она отпечаталась в столь прямых и развернутых формулах.
Только здесь трещина доступна любому сколько-нибудь
внимательному взгляду. Попробуем, однако, прочесть "Государя",
спроецировав двойную логическую фокусировку 25-й главы на
827 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
весь текст. Станет ясно - без малейшей натянутости, - что это
осевая смысловая коллизия трактата в целом\
Итак, Макьявелли поставил перед собой задачу разобрать,
"какими способами государи могут управлять государствами и
удерживать над ними власть" (II). Типовые положения
рассматриваются так, чтобы серией последовательных подразделений
сделать "правила" (т. е. общие случаи), насколько это
возможно, более дробными, конкретными. Власть или получена по
наследству, или захвачена. Наследный государь должен вести
себя так-то и так-то; новый - иначе, и ему трудней. Затем, уже
только в последнем случае, вновь захваченное владение или
принадлежит к той же стране, что и прежнее (унаследованное),
и его жители говорят на том же языке, или же новое и прежнее
владения принадлежат к разным странам, имеют разные языки
(III). (Макьявелли называет этот второй, так сказать, подслу-
чай "смешанным государством".) Вот что нужно делать при
одном положении вещей, а вот что - при другом. Следует
изложение "правил", сопровождаемых "примерами".
По Макьявелли, если римляне успешно овладели Грецией,
то это просто потому, что они "хорошо соблюдали все эти
пункты правил (parti)" и "поступали так, как надлежит поступать
всем мудрым правителям". Ведь если вовремя распознать
перекос в ходе государственных дел, продиагностировать некий
недуг на ранней стадии, "что дано лишь человеку
благоразумному", "то и вылечиваются быстро". На все есть свои средства,
надо только выбрать именно то, что нужно. Если же, к примеру,
французский король Людовик XII проиграл в конце концов
свои войны в Италии, то это тоже потому, что "он поступал
прямо противоположно тому, как должен поступать государь,
чтобы удержать власть над чужой по обычаям и языку
страной". Макьявелли уверенно насчитывает ровно пять ошибок
против правил, допущенных Людовиком, и еще одну, самую
важную. Но что же мешало королю вести игру безошибочно?
Когда кардинал Руанский сказал Макьявелли, что
итальянцы не смыслят в военном деле, тот ответил, что зато "французы
не смыслят в политике, потому что, если бы они в ней
смыслили, они не допустили бы такого усиления Церкви". "Пусть
каждый теперь рассудит, как мало труда составило бы для короля
удержать свое господство над Италией, если бы он соблюдал
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
вышеуказанные правила". То есть что действительно нелегко -
так это познать искусство политики и уметь своевременно
воспользоваться его предписаниями; это и называется "доблестью";
результаты же не заставят себя ждать. За неудачей опять-таки
непременно стоит отступление от правил: "так что тут нет
никакого чуда, но все в порядке вещей и закономерно (Né è mira-
culo alcuno questo, ma molto ordinario e ragionevole)" (III).
Впрочем, в следующей же главе Макьявелли объясняет,
почему, скажем, Францию было бы проще завоевать, чем Турцию,
но зато несравненно трудней удержать и "почему Александр с
легкостью удержал азиатскую державу, тогда как Пирру и
многим другим стоило огромного труда удержать завоеванные ими
страны. Причина тут не в большей или меньшей доблести
победителя, а в различном устройстве завоеванных государств
(dalla disformita del subietto)" (IV). Впервые - пока что для
частного случая - напрямую составлены значения двух факторов:
усилий индивида и конкретной исторической обстановки.
В шестой главе Макьявелли уже выводит общую формулу
такого сопоставления, для чего ему потребовались "примеры
величайших людей": Моисея, Кира, Ромула, Тезея "и им
подобных". "Обдумывая жизнь и поступки этих людей, мы видим, что
судьба послала им только повод (occasione), т. е. дала материю,
в которую они могли бы ввести угодную им форму; без этого
повода (или: случая. - Л. Б.) доблесть их духа угасла бы; но без
этой доблести повод явился бы тщетно". Далее автор
затрачивает по одной фразе, чтобы указать на обстоятельство (или
стечение обстоятельств), без которого каждый из названных "innova-
tori" (тех, кто основывает новое государство) был бы не в
состоянии добиться успеха (допустим, "Тезей не мог бы проявить
свою доблесть, если бы не застал афинян живущими
обособленно друг от друга", и т. п.). И вновь резюмирует: "Таким образом,
эти поводы позволили упомянутым людям преуспеть, а их
выдающиеся доблести позволили разглядеть повод и
воспользоваться им..."
Так в шестой главе обозначены и начинают расходиться
логические электроды, которые потом дадут яркую вольтову
вспышку главы 25-й.
Во-первых. Внешний исторический мир в его случайном
пересечении с умом и волей отдельного человека, с личной "доб-
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ лЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
лестью", взят в виде не традиционно-милостивой и
традиционно-враждебной "фортуны", но в качестве "материи",
неотделимой от своей "формы" - т. е. от "доблести"! - и составляющей
тем самым внутреннее условие последней. Нельзя здесь
переводить "materia" как "материал" (ср. русское издание 1982 г.);
Макьявелли имеет в виду философскую пару понятий в их
антично-средневековом значении; поэтому "форма" не "придается"
материи, а именно "вводится" в нее "внутрь" ("introdurvi den-
tro"). Их слияние органично (ср. также с началом 26-й главы).
Во-вторых. Отношение употребленных автором
онтологических смыслов таково, что сразу становится ясным:
"доблесть" - активное и ведущее начало в истории, а "повод",
подбрасываемый фортуной, - начало пассивное, подчиненное, хотя
и столь же необходимое (фортуна может ведь лишить доблесть
возможности проявиться). Все-таки Макьявелли, уже
поднимая здесь, в сущности, знаменитый вопрос 25-й главы о
половинном ("или около того") долевом участии обоих начал в
исходе человеческих дел, пока еще ставит его не столь
напряженно, отдавая преимущество индивидуальной инициативе: "Итак,
я говорю, что в совершенно новых принципатах, то есть там, где
государь пришел к власти заново, удержаться ему легче или
трудней в зависимости от того, больше или меньше у него
доблести. И поскольку это событие, превращение частного лица в
государя, предполагает либо доблесть, либо дар фортуны, то
может показаться, что и в дальнейшем одна из этих двух вещей
отчасти смягчит многие его трудности. Однако в
действительности тот, кто (изначально) меньше полагался на фортуну, и
удерживается дольше у власти".
В-третьих. Призывая подражать "величайшим примерам",
поскольку "люди почти всегда идут путями, проторенными
другими", Макьявелли оговаривается, что "нельзя ни следовать
путями других людей целиком (al tutto), ни достичь доблести тех,
кому ты подражаешь". Конечно, перед нами общее место -
включая сравнение с лучником, который целится выше цели,
чтобы попасть в нее (ср. у Кастильоне6), - и все же, находясь
под впечатлением от 25-й главы, читая весь трактат в ее
контексте, хочется спросить: но почему невозможно одному человеку
точно повторить усилия другого человека? В чем мы не вольны
(помимо поворотов фортуны)? Пока умолчание.
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
В-четвертых. В рассуждении о "доблести" и "поводе", об их
взаимозависимости предложен первый набросок идей
случайной "встречи" индивида с обстоятельствами. Но в отличие от
25-й главы, где с ними "встречаются" (одновременно, словно бы
параллельно) и определенная, ограниченная природа каждого
индивида, и его всесторонняя доблесть, тут дело идет еще
только о доблести. Коллизия внутри понятия об индивиде не
возникает; оно не раздваивается.
Все главное пока глухо.
Но вот в седьмой главе Макьявелли выводит на сцену
самый поразительный, самый теоретически чистый пример того,
что он называет "доблестью", - пример поистине абсолютного
политика, действия которого автор мог наблюдать лично и
вблизи. Он анализирует поведение Чезаре Борджа, именуемого
простонародьем "герцог Валентино". Герцог получил власть по
милости фортуны, из рук отца - первосвященника
Александра VI. Когда же отец умер, он ее потерял. Впрочем, Макьявелли
колеблется: дело не только в том, что Александр скончался
несколько преждевременно (еще до конца того года, в котором это
произошло, Чезаре вполне мог бы сокрушить Сьену и Лукку,
поставить на колени флорентийцев, он был близок к этому).
Конечно, судьба предоставила в распоряжение воинственного
герцога всего пять лет, поэтому он успел закрепить свое господство
только над Романьей. Но даже смерть Александра сама по себе
еще не обрекла бы его на поражение, хотя он был зажат двумя
грозными неприятельскими армиями. Сюда добавилась болезнь
самого Чезаре. "И он мне говорил в день избрания Юлия II, что
продумал все, что могло произойти после смерти отца, для
всякого положения предусмотрел выход, об одном лишь ни разу не
подумал - что в это время и сам будет близок к смерти".
С точки зрения Макьявелли, не успех свидетельствует о
"доблести", которая никак не умаляется, если возвышение и
крушение нового государя всецело относятся на счет фортуны.
Существенно что и как сделал Борджа, оказавшись во главе
государства. "Рассмотрев всю последовательность действий
герцога, убеждаешься, что он подвел прочное основание под
будущее могущество, и я считаю не лишним это обсудить, потому
что не сумел бы дать новому государю лучших наставлений, чем
пример его действий. И если все же распорядительность герцо-
S31 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
га не принесла плодов, то в том не его вина, ибо это произошло
вследствие необычайного и крайнего коварства фортуны".
А это значит, что доблесть удостоверяется собой же; т. е.
поведение индивида должно быть разобрано в своей
общезначимой, убедительной логике. Чезаре Борджа умел всегда
поступать правильно! И даже единственная его ошибка - то, что
герцог не помешал избранию Юлия II, - не ослабляет в глазах
автора образцовости этого политика.
В чем же образцовость? Несомненно, в способности при
разных обстоятельствах применять разные средства. (Таковы
же прочие стилизованные модели Макьявелли, например Каст-
руччо Кастракани.) "Он так превосходно знал, как надо
привлекать людей на свою сторону или устранять их..." Он разделался
с Колонна при помощи Орсини, а затем нашел способ
покончить и с Орсини. Сперва он подавил недовольство последних,
далее помирился с ними, изъявлял учтивость, одарил их
посла - и захватил простодушно поверивших ему главарей;
приверженцев же их - переманил.
Но в наибольший восторг приводит Макьявелли история с
мессером Рамиро де Ορκο. Заполучив Романью, герцог Вален-
тино поначалу решил устрашить охваченный беспорядками и
разбоями край, передав все полномочия помянутому свирепому
мессеру. "Тот в короткое время умиротворил и объединил
Романью, наведя трепет на всю округу. Тогда герцог рассудил, что
больше нет необходимости в исключительно-жестком
правлении, ибо оно может озлобить подданных, и учредил в стране
гражданский суд под председательством почтенного лица, где
каждый город имел своего представителя. И так как он знал,
что минувшие строгости все-таки настроили против него
людей, он решил умягчить души и полностью привлечь на свою
сторону, показав, что если и были жестокости, то они исходили
не от него, но были порождены суровым характером
наместника. И вот, ухватившись за этот повод, он велел однажды утром
положить на площади в Чезене разрубленное пополам тело
мессера де Ορκο, а рядом колоду и окровавленный тесак.
Свирепость этого зрелища одновременно удовлетворила и ошеломила
народ".
Было бы неверно заключить, что Макьявелли восхищается
и ставит в пример всем государям именно жестокость и веро-
_ 832
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
ломство Чезаре. Вовсе нет! - хотя, конечно, он, как и
большинство его современников (отнюдь не только в Италии), находил
такие поступки совершенно естественными для политической
борьбы. Герцог действовал ничуть не более беспощадно, чем его
противники, зато несравненно гибче и умней; "имея великую
душу и высокие намерения, он не мог править иначе"; государь
должен вести себя столь же рационально, как архитектор,
возводящий здание; расправившись с мессером де Ορκο, он, "и это
самое важное, завоевал симпатии народа, который начал
ощущать благодетельность его власти...".
Если и было так, мы, разумеется, не в силах ни разделить
симпатии жителей Романьи, ни согласиться с автором. Но,
повторяю, для Макьявелли величие Борджа никак не в
вероломстве, которое он расценивает лишь как одно из средств наряду,
в частности, со средствами противоположными. Подавленные
жутким эпизодом в Чезене, мы читаем в заключение седьмой
главы нечто довольно странное... так что почти неспособны
расслышать в этих словах именно то, что в них выговорено, - если
же вслушаемся, нам нелегко расценить это иначе как
необыкновенное извращение прямого значения слов и фактов.
"...Таким образом, тот, кто считает необходимым во вновь
созданном государстве обезопасить себя от врагов, обзавестись
друзьями, побеждать силой или обманом, внушать народу
любовь и страх, иметь преданных и послушных солдат, устранять
тех, кто тебе может или должен повредить, обновлять древние
порядки, быть суровым и милостивым, великодушным и
щедрым, избавиться от ненадежного войска, создать новое,
приятельствовать с королями и правителями так, чтобы они либо
оказывали тебе дружескую поддержку, либо, если уж нападали,
то с уважением, - тот не может сыскать для себя более свежего
примера, чем пример герцога".
Ну не занятно ли? - умение расправляться с врагами и
просто с теми, кто подозрителен... великодушие, щедрость, сила,
обман... умение внушить любовь, страх, уважение, преданность,
быть суровым, милостивым, притом все предусматривать,
находить выход из всякого положения... и это все - о чудовище
Чезаре Борджа? Вообще... об одном и том же человеке?
Дело в том, что у Макьявелли он предстает как чудовище
универсальности. Именно так. Макьявелли считает герцога Ва-
27 - 345
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
лентино выдающимся человеком и безупречным политиком,
конечно, не за готовность идти на любое .преступление, а за
способность быть то действительно свирепым, то милостивым,
добрым, щедрым, то хитрить, то идти напрямик и т. д. - как это
подсказывает расчет и требуют обстоятельства.
Государь должен обладать всеми свойствами человеческой
души, всеми ее возможностями, ее добродетелями и ее
пороками - и играть на себе самом, как на клапанах флейты.
Макьявелли не просто обсуждает содержание действий
политика в тех или иных условиях, он конструирует внутреннюю
форму субъекта действия, и это наиболее существенный куль-
турно-содержательный момент его произведения.
...И простой злодей Агафокл
В главе восьмой ("О тех, кто пришел к власти путем
злодеяний") Макьявелли отзывается отрицательно о сиракуз-
ском царе Агафокле и кондотьере Оливеротто. А почему? -
ведь оба они возвысились, захватили власть и успешно
удерживали ее исключительно благодаря собственным поступкам,
пусть вероломным, злодейским, но сопряженным с "большой
доблестью духа и тела". Например, Агафокл, который велел
своим солдатам внезапно "перебить всех сенаторов и
богатейших людей из народа", а затем правил, не встречая
сопротивления, и в затяжной войне одолел карфагенян, отобрав у них
Сицилию, - чем он, спрашивается, хуже Чезаре Борджа?
Оливеротто отличился, заманив именитых граждан Фермо к себе на
пир и устроив среди них резню. Позже он сам стал жертвой
сходной операции, блестяще проведенной герцогом Валентино.
Почему же, спрашивается, автор "Государя" одного из злодеев
расхваливает, другого порицает?
Макьявелли как всегда старается рассуждать
беспристрастно. Этот Агафокл ничем или почти ничем не был обязан
фортуне, но - одним лишь своим "действиям и доблести (le azioni e
virtù)". "Он достиг власти не чьим-то покровительством, но
службой в войске, сопряженной с множеством опасностей и
невзгод, и удержал власть смелыми действиями, проявив
решительность и отвагу". Тем не менее Макьявелли начинает рассказ
_ 834
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
об Агафокле и Оливеротто с замечания, что их "способ стать
государем" "нельзя целиком приписать ни фортуне, ни доблести".
Он несколько раз, характеризуя Агафокла, называет его, как мы
видели, "доблестным". В явно узком значении слова. И он же
считать его "доблестным" решительно отказывается: т. е.
"доблестным" уже в каком-то ином, подлинном и полном смысле
этого понятия, в теоретическом контексте трактата.
"Однако же нельзя назвать и доблестью убийство
сограждан, предательство по отношению к друзьям, когда это человек
без веры, без благочестия, без религии; такими способами
можно добиться власти, но не славы. Так что, если судить о
доблести Агафокла по тому, как он шел навстречу опасностям и
выходил из них победителем, по той силе духа, с которой он
переносил и преодолевал невзгоды, то едва ли он уступит самому
выдающемуся военачальнику. И тем не менее: его лютая
жестокость и бесчеловечность, все эти бесчисленные злодейства не
позволяют объявить его выдающимся человеком. Итак,
невозможно приписать ни фортуне, ни доблести то, что было им
совершено".
Как?1 "...Добиться власти, но не славы". Будто трактат не о
действенных способах захвата и удержания власти, будто не
этим измеряется, по Макьявелли, и сама слава политика?
"...Это человек без веры, без благочестия, без религии". Ну-ну. А
Борджа был благочестив, не предавал, не убивал? На первый
взгляд тут трудно что-либо понять. Макьявелли в восьмой
главе вряд ли, конечно, подходит к оценке государственной
деятельности с иными мерками, чем в главе седьмой. Слова о
бесчеловечности могут показаться в высшей степени странными у
автора, который учит не считаться ни с какой человечностью,
прибегать к насилию и обману, если это целесообразно.
Но Макьявелли, полагавший, что государь не может
обойтись без лицемерия, сам в своих сочинениях никогда ни на
йоту не лицемерил. Он не впадает и тут в несвойственный ему
моралистический тон. Более того, он, добросовестно включая в
свою классификацию способ "из частного лица стать
государем" "путем злодеяний" и приводя "два примера, один древний,
а другой современный", указывает, что делает это на потребу
тому, кто "был бы вынужден им подражать"7. Так что
морализмом и не пахнет.
27·
835 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ~Ят НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Все-таки осуждение злодейства Агафокла и Оливеротто у
Макьявелли глубоко принципиальное.
Мы здесь оставим пока в стороне вопрос о том, не были ли
"человечность" и "добро" для автора вообще пустыми звуками.
Нет, не были. (Хотя споры на протяжении пятисот лет о
нравственности Макьявелли доказывают, насколько сложно в этом
разобраться.) Ключ к неодобрительной оценке Агафокла, во
всяком случае, в следующем рассуждении:
"Кое-кого могло бы озадачить, почему Агафоклу и ему
подобным удавалось после бесчисленных предательств и жестоко-
стей долго и безопасно жить в своем отчестве, защититься от
внешних врагов и никогда не подвергаться заговору
собственных граждан, тогда как многим другим не удавалось сохранить
власть жестокостью даже и в мирное, а не то что в смутное
военное время. Думаю, это потому, что жестокости бывают
применены дурно или хорошо. Хорошо примененными жестокостя-
ми (если позволительно дурное называть хорошим) можно бы
назвать те, которые совершают сразу, из необходимости себя
обезопасить, а затем не упорствуют в них и по возможности
обращают к вящему благу подданных. Дурно примененные
жестокости - те, которые поначалу пусть и совершаются редко, но с
течением времени не смягчаются, а, скорей, учащаются.
Действуя первым способом, можно, подобно Агафоклу, с божьей и
людской помощью удержать власть; действуя вторым способом,
удержаться невозможно. Отсюда следует, что тот, кто
захватывает власть, должен продумать все обиды, которые ему
придется нанести, чтобы нанести их разом, а не возобновлять изо дня
в день; тогда он сможет, не прибегая больше к жестокости,
успокоить людей и, делая им добро, заручиться их
расположением. Кто поступит иначе, из робости или по злому умыслу, будет
вынужден всегда держать меч обнаженным и никогда не сможет
опереться на своих подданных, не знающих покоя от свежих и
непрекращающихся насилий с его стороны. Поэтому к насилию
нужно прибегнуть так, чтобы исчерпать все сразу: чем меньше
люди успеют его распробовать, тем меньше вреда. Благодеяния
же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как
можно лучше" (VIII).
Именно так поступил Чезаре Борджа с жителями Чезены в
эпизоде, касающемся мессера Рамиро де Ορκο. По логике
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
Макьявелли, злодеем он не был. Потому что прибегнул к
жестоким мерам тогда и настолько, когда и насколько это
оказалось нужно. И точно так же он стал милосердным в точно
рассчитанный момент.
Теперь понятно, что неодобрение в адрес Агафокла
развивает совершенно ту же идею, которой определяются восторги в
адрес герцога. Агафокл или Оливеротто совершали вероломные
преступления не ради целесообразности, не по свободному
выбору, а потому, что иначе действовать они были не в состоянии.
Свирепость была у них просто в крови. Агафокл вполне
преуспел, и даже больше, чем Чезаре, но, значит, свойственный ему
по природе способ поведения случайно "встретился" с весьма
подходящими свойствами времени. (Здесь, в восьмой главе,
такого объяснения нет; но трактат неуклонно движется к 25-й
главе, готовит ее и просвечивается ею.) Если бы обстоятельства
изменились и потребовали от правителя великодушия,
Агафокл, очевидно, продолжал бы уповать на резню. Поведение
этого человека задано его особостью, потому неизменно, он
прикован к своему характеру, и вот Агафокл-то и есть, по
Макьявелли, злодей. Это - "нетерпимое (intollerabile) насилие"
(IX). А ведь сиракузскому тирану не откажешь в
решительности, выносливости, воинской отваге, полководческих
способностях... но он не "доблестный" индивид, не "мудрый государь".
Он индивид, так сказать, детерминированный собой, а не
детерминирующий себя. Чезаре Борджа и Агафокл иллюстрируют те
самые две теоретические модели, которые столкнутся в финале
трактата. Разница между этими персонажами в том, что
трещина в определении индивидности как таковой пролегла в аккурат
между ними.
Разумеется, мы-то рассудим наоборот сравнительно с
Макьявелли. Для нас Агафокл, само собой, злодей, но Борджа, такой,
каким он логически оформлен автором, - злодей в сто раз более
ужасный. Ведь любому из нас так ясно, что преступление в
одном случае - результат ограниченности индивида, в другом -
плод неограниченности и свободы его личности, обязанной,
следовательно, отвечать по гамбургскому счету. Однако, не
вдаваясь в этого рода критику Макьявелли, слишком легкую,
задумаемся над следующим: мы в своих оценках исходим из внеса-
крального понятия личности и ее ответственности. А Макья-
Ш —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
велли к этому понятию - и лишь в пределе - напряженно
движется (если движется). Иначе говоря, наша мысль и мысль
Макьявелли работают в двух разных культурах и логиках.
От Пико делла Мирандолы
к Макьявелли
В девятой главе читаем: "Заручиться поддержкой
народа государь может множеством способов, которые я
обсуждать не стану, так как они разнятся от случая к случаю и не
могут быть подведены под определенное правило (perche variano
secondo el subietto, non se ne puö dare certa regola)". И еще:
"Мудрому государю надлежит обдумать способ сделать так, чтобы
граждане всегда и при любых свойствах времени (in ogni qualité
di tempo) имели бы нужду в государстве и в нем самом". Нет
заранее известного, постоянного способа себя вести, ввиду
неиссякаемого разнообразия исторических обстоятельств; нет
"определенного правила". Таким тотальным правилом становится,
следовательно, отсутствие правил - особенность каждого
казуса. Это правило неправильности есть не что иное, как
"мудрость" государя, не зависящая от прихотливой фортуны, от
варьирующихся "свойств времени" как раз потому, что
мудрость сама разнообразна внутри себя.
"Разнообразию" вне индивида может противостоять лишь
"разнообразие" внутри индивида: т. е. его универсальность.
"Государь" Макьявелли непонятен без специфически
гуманистического представления об "uomo universale"?
Это, пожалуй, покажется странным. Макьявелли не
прибегал к этому термину; говоря об индивидуализме политики и
морали Макьявелли, историки им тоже не пользуются. Им
обозначают величественные фигуры Альберти, Леонардо, Ми-
келанджело, на худой конец самого Макьявелли - но не его,
мягко говоря, малопривлекательный идеал политического
деятеля.
Действительно, итальянские гуманисты думали, произнося
эти слова, о чем-то совсем непохожем на Чезаре Борджа... Во-
первых, "универсальный человек" был обязан являть гармонию
эстетических, этических, физических, интеллектуальных досто-
_ 838
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
инств, он - "как бы божественный", он, этот человеко-бог, в
себе одном содержит благие возможности человеческой природы
в целом и разрастается во все стороны до масштабов,
качественно соразмерных макрокосму. Во-вторых, его творческая
энергия взращивает собственную же индивидность. Отдельность,
особость человека, которая выступает как всеобщность, ибо все
знает, все умеет и т. п., - замыкается, таким образом, на себя.
Самоформирование личности (как мы это называем) есть для
Возрождения самоцель.
Спрашивается, что общего имеет с "достоинством человека"
(dignitas hominis), с роскошной всесторонностью, с
"придворным" Кастильоне, с самим Кастильоне в изображении Рафаэля
и т. п., "мудрый государь" Макьявелли, знающий и умеющий
только одно: любыми средствами захватить власть и
удерживать власть? Ведь ничего другого, кроме политики, Макьявелли
как будто не касается.
Но возьмем понятие "uomo universale" в некотором
формальном и обобщенном плане, опустив предметные
подробности. Чтобы соответствовать логике универсальности, не
обязательно изучать искусства и науки, уметь поддержать разговор
на всякую тему, быть физически и нравственно совершенным и
т. д. Это все можно вынести за скобки. Что же останется?
Характерная неопределенность, "безмерность" мощного контура,
обводящего... Всё. "Универсальный человек" способен стать всем,
чем доступно стать человеку.
Эта идея лучше всего выражена в известных сентенциях
Пико делла Мирандолы о том, что человек - "творение
неопределенного образа" ("indiscretae opus imaginis), у которого нет
"ничего собственного" (nihil proprium), никакого "точного
места" (пес certam sedem) или "своего облика" (пес propriam
faciem), ничего присущего только ему одному (peculiare),
словом, никакой ''ограниченной природы" (definite natura), законы
которой стесняли бы его поступки. Он в силах "быть тем, чем
хочет (id esse quod velit)"8.
Мудрый государь у Макьявелли, кажется, именно таков?
Он не связан никакой конкретной природой, он какой
угодно в суждениях и поступках, во всяком случае относящихся к
государственным делам. Он осваивает любую обстановку и
готов на любое средство, если оно полезно здесь и сейчас. Лю-
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
бое - это значит именно любое. Поэтому какие бы то ни было
моральные ограничения сделали бы государя менее гибким и
ловким правителем, менее "мудрым" и "доблестным", короче,
менее универсальным - независимо от того, состояли бы
ограничения в неспособности быть великодушным, милостивым,
щедрым, справедливым или в неспособности быть свирепым и
коварным. Это заметим на будущее.
В известном смысле доблесть государя тоже самоценна,
измеряется собой же, а не практическим результатом (постольку,
поскольку неудача может быть отнесена - как в случае с Чеза-
ре Борджа - на счет чересчур уж неблагоприятной фортуны, а
успех часто свидетельствует всего лишь о хорошем
соответствии индивида и условий времени).
Все же политическая virtù устремлена не на
культивирование ума и воли (пусть даже исключительно политического ума
и политической воли). Цель действий государственного
человека, конечно, не в том, чтобы стать превосходным деятелем; это
было бы противоречием в исходном определении. Понятно, что,
не кладя все силы на то, чтобы изменить мир окрест себя, он не
окажется настоящим деятелем. Но это последнее - побочный
результат, а не самоцель. Практик забывает о себе, для него
важен его интерес, его дело, его корысть, а не он сам, в этом
смысле он бескорыстней озабоченного собой гуманиста.
Известно, что никакая деятельность немыслима без
пересоздания того, кто действует, но здесь речь идет о более простых
вещах. Государь, как и мореплаватель и плотник,
непосредственно трудится не над собой: в отличие, например, от
эгоцентрического Петрарки... Работник на троне домогается не личного
совершенства, а общественного блага.
Что означает в культурно-историческом отношении это -
действительное и грубое! - смещение гуманистической идеи
универсального человека? Что сулит будущему понятию
личности вынесение у Макьявелли цели индивида вовне, в
историю? Над этим нам еще предстоит поразмыслить.
Пока что продолжим чтение трактата.
_ m
"Государь9 Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
Должен ли Сципион
подражать Киру
В главе 13 Макьявелли, садясь на своего любимого
конька ("мудрые государи всегда избегали опираться на
союзников или наемников и предпочитали иметь собственные
войска"), расхваливает Карла VII, как именно такого мудрого
государя, и порицает его сына, Людовика XI, который, сохранив
рыцарскую конницу, распустил, однако, постоянную пехоту и стал
брать на службу швейцарцев, сделав французскую армию
"смешанной". "Французское королевство было бы непобедимым,
если бы устройство войска, введенное Карлом, было
усовершенствовано или хотя бы сохранено. Но неблагоразумие (1а роса
prudenzia) людей ведет к тому, что они не замечают яда внутри
того, что выгодно в данный момент... Поэтому тот, кто не
разобрался в недуге при его зарождении, не владеет истинной
мудростью; это ведь дано немногим".
Итак, Карл, который "сознавал необходимость опираться на
собственные вооруженные силы", а также Чезаре Борджа, Гие-
рон Сиракузский, Филипп Македонский и... "многие
республики и государи" входят в число тех "немногих", кто был наделен
"истинной мудростью". А Людовик XI, Юлий II, флорентийцы,
призвавшие на помощь "десять тысяч" французов, император
Константинополя, тоже пригласивший в Грецию "десять тысяч"
турков, наконец, римляне с того времени, когда они начали
нанимать готов, - суть подтверждения свойственного вообще-то
людям неблагоразумия, пусть так. Но только есть в этом
рассуждении какая-то неуклюжесть, странная для прославленного
ума автора "Государя". Вселенская антитеза "истинной
мудрости" и обычного природного "неблагоразумия людей", т. е.
крайне общее и риторическое положение, проявляется,
провозглашается по такому частному, деловому, притом не требующему
бог весть какой политической изощренности поводу. Нужна ли
особая мудрость и доблесть, чтобы додуматься до того, что "без
собственного войска государство непрочно"? Почему Людовик
и прочие (включая, конечно, все итальянские государства, не
обходившиеся без услуг кондотьеров) действовали вопреки
прямой очевидности? и почему, с другой стороны, в этом прак-
S41 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
тическом пункте можно сослаться на "многих", вполне
разделявших редкий дар "немногих"?
Подобная сбивчивость Макьявелли кажется более
понятной в свете все той же 25-й главы, где это качество приобретет
слишком вызывающий и фантасмагорический вид, станет
слишком глубоким, чтобы позволить нам толковать о
"сбивчивости". Там будут представлены две модели индивида и два
объяснения тому, что люди поступают противоположным
образом. В 13-й главе Макьявелли прибегает пока только к первой
модели: в борении с фортуной одни ведут себя
предусмотрительно, доблестно - таков Карл VII, другие лишены доблести -
таков Людовик XI. Но объяснение явно оказывается
натянутым. Будто на него падает тень принципиально иного (может
быть, иррационалистического?) объяснения. Во-первых, без
союзников, а то и наемников иногда не обойтись; вряд ли
универсальная гибкость государя может позволить себе напрочь
исключить это средство, пусть потенциально очень опасное и
нежелательное. Разве папа Юлий не был просто вынужден к нему
прибегнуть? Сам герцог Валентино, как поведал Макьявелли в
седьмой главе, поначалу получил Романью из рук французов,
взял себе на службу солдат Орсини и, только использовав
внешнюю поддержку, усилившись благодаря ей, затем решил от
нее отказаться. Во-вторых, неужто Людовик XI вел себя так,
как он себя вел, только оттого, что в отличие от Карла мало
смыслил в военном деле? И не знал "правил", излагаемых
Макьявелли? Что ему, собственно, мешало быть более
"мудрым"? Ведь, по уже известному нам заявлению Макьявелли,
как раз воевать французы умеют.
Что-то здесь не так. Было бы, разумеется, нелепо, если бы
мы принялись спорить с Макьявелли. Но что-то не так в
пределах его собственной логики. В 14-й главе он еще более
ужесточает рационализм наставлений о нормативном и должном для
государя. Государь обязан и в мирное время неустанно
совершенствоваться в ремесле военачальника, поддерживать
боеготовность армии, закалять свое тело, обдумывать тактические планы
на случай столкновения с противником и т. п. Далее, "государь
должен читать исторические труды и в них изучать действия
выдающихся людей, разбирать, какими способами они вели
войну, исследовать причины их побед и поражений, дабы быть в
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
состоянии подражать первым и избегать последних. Самое же
главное - поступать так, как поступал ранее какой-либо
выдающийся человек, взять образцом одного из прославленных и
почитаемых до него полководцев и постоянно держать в памяти
его подвиги и деяния: так, рассказывают, Александр Великий
подражал Ахиллу, Цезарь - Александру, Сципион - Киру.
Всякий, кто прочтет жизнеописание Кира, составленное Ксенофон-
том, согласится, что, уподобляясь Киру, Сципион прославился и
что в целомудрии, обходительности, щедрости Сципион
сообразовался с тем, что написано о Кире у Ксенофонта. Мудрый
государь должен вести себя подобным же образом, никогда не
предаваться в мирные времена праздности, ибо все его труды
окупятся, когда настанут тяжелые времена, и фортуна, переменившись,
найдет его готовым противостоять ей" (XIV).
Хотя в этом пассаже мы легко узнаем типично макьявелли-
евы мотивы доблестной предусмотрительности, позволяющей
успешно бороться с переменами судьбы, подражания опыту
знаменитых государей прошлого и т. п., все же 14-я глава,
особенно ее концовка, пожалуй, самая традиционная и
риторическая во всем трактате. Непривычно не то, что Макьявелли
призывает здесь к добродетелям, он это делал и в других местах, он,
собственно, находил великодушие и в Чезаре Борджа, вовсе не
считая, что государь должен быть непременно и всегда
порочным. Все же приведенное место звучит само по себе очень
гуманистически-книжно, приглаженно.
Мы уже имели случай заметить, что "доблесть" у
Макьявелли имеет по крайней мере два значения. Во-первых, это
незаурядные телесные и душевные качества, впечатляющая энергия
индивида, в чем бы и как бы односторонне она ни проявлялась
(Агафокл). Во-вторых, - и это наиболее специфически макья-
веллиева "доблесть", в полном ее объеме - универсализм
поведения, не столько придерживающегося каких-то правил,
сколько создающего главное правило собой, своей способностью
действовать по погоде, каждый раз по-другому и неожиданно.
Но еще и в-третьих: это - как в 14-й главе - соответствие
готовым нормам и почтенным образцам.
Нельзя сказать, что все три значения благополучно
совмещаются у Макьявелли. Конечно, нет. Одно дело предлагать
следовать примерам Моисея, Ромула, Тезея, Александра Македон-
«з__
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ского, Сципиона Африканского или героя "Киропедии". Под
этим подписался бы любой гуманист. Иное дело - включать в
столь респектабельный ряд одиозного герцога Валентино и даже
отдавать ему преимущество перед героями античности. Одно
дело требовать нормальной государственной мудрости. Иное-
изображать венцом такой мудрости умение не считаться ни с
чем, кроме расчетливой выгоды, и уподобляться Протею.
Так что не просто определенные "правила", а, скорей,
мгновенный переход от правила к правилу, от этого способа вести
себя - к тому, противоположному. В целом своего рода
неуловимость, неопределенность человеческого облика государя -
вот правило из правил. Толкование "доблести" как
универсальности обдумывается словно бы поверх прочих, более
традиционных для Возрождения толкований - оспаривая, перекрывая,
преодолевая их.
Что означает, скажем, наставление относительно выбора
какого-то конкретного излюбленного образца для подражания?
Это расхожее общее место итальянских гуманистов, восходящее
к Цицерону. Оно хорошо согласовалось с представлением о
природной закрепленности индивида за известными свойствами и
наклонностями (т. е. с одним из двух логических полюсов 25-й
главы). Однако, если вспомнить о Чезаре Борджа, о
политической беспринципности, в буквальном смысле "безначальности",
протеистичности, зачем Сципион должен подражать именно и
только Киру, а не всем сразу? Ведь обстоятельства в любой
момент могут заставить следовать и другому образцу, и третьему, и
всякому. Вместе с тем если все эти выдающиеся мужи были
истинно мудрыми, то, стало быть, каждый из них универсален,
ветхозаветный Моисей не хуже Борджа. Но тогда они в своей
универсальности сходятся и - одинаковы? Зачем же подражать
кому-то или чему-то одному? Это даже логически немыслимо.
Итак, в 13-14-й главах Макьявелли, отдав дань чтению
Плутарха и римских историков, кажется, невольно отклоняется
от новой идеи универсальной индивидности государя,
намеченной в шестой и особенно в седьмой главах.
Подспудное напряжение нарастает.
И сразу вырывается наружу. После излишне книжной - на
фоне "Государя"! - концовки 14-й главы автор вдруг, в
сущности, опровергает себя. Точней: он на пробеге странички дает
_ 844
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
встретиться нос к носу обеим концепциям индивидности,
которые живут в его сочинении (и которое ими живет).
Краткая грозовая 15-я глава должна быть расценена как
первая кульминация в культурологическом сюжете трактата.
Ее молнии продолжают сверкать в 16-17-й главах. Тут, в
четырех срединных разделах, ядро сочинения - во всяком
случае, самое откровенное в нем. Преимущественно как раз
отсюда с легкостью черпали цитаты макьявеллисты и антимакья-
веллисты.
Казаться - то же, что и быть
15-я глава открывается прославленным кредо: "...имея
намерение написать нечто полезное для людей понимающих, я
счел более подходящим исходить из действительной правды
вещей, а не из того, что о них воображают (alla verità effettuale
délia cosa, che alla immaginazione di essa). Не раз описывали
воображаемые республики и принципаты, каких в
действительности никто не знавал и не видывал; ибо расстояние между тем,
как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот,
кто отвергает действительность (quello che si fa) ради должного,
поступает скорее во вред себе, нежели во спасение, ибо, желая
исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо
погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из
чего следует, что государю, если он хочет удержаться у власти,
необходимо научиться отступать от добра и пользоваться или не
пользоваться этим умением, смотря по надобности".
Да, это не "Сципион подражал Киру"... Такого до
Макьявелли не говорил никто. Какая резкая смена не только тона, но и
логики! Пренебрежем пока что тем, что лежит на поверхности,
т. е. советом "научиться отступать от добра". И Агафокл
отступал от добра... но вел себя по той же логике, которая делала
Сципиона или Кира образцом "целомудрия, обходительности,
щедрости". Он был жестоким человеком и правителем, что ж, а
они - людьми добрыми и благородными. Однако и он и они
иллюстрировали одно и то же понятие индивидности.
Существо мысли Макьявелли не в словах "научиться
отступать от добра", а дальше: "...и пользоваться или не пользоваться
845 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
этим умением, смотря по надобности". Быть сразу Агафоклом и
Сципионом?!
Но еще дальше сказано: "Итак, оставив в стороне
воображаемые свойства государя и обратившись к действительно
существующим, я говорю, что во всех людях, когда о них толкуют, а
особенно в государях, стоящих выше прочих людей, заметны те
или иные качества, заслуживающие хвалы или порицания. И
вот одного считают щедрым, другого скупым... одного тем, кто
одаряет, другого тем, кто грабит; одного свирепым, другого
сострадательным; одного вероломным, другого верным; одного
изнеженным и малодушным, другого смелым и неукротимым;
одного человечным, другого надменным; одного распутным,
другого целомудренным; одного прямодушным, другого
хитрым; одного упрямым, другого покладистым; одного серьезным,
степенным (grave), другого легкомысленным; одного
набожным, другого нечестивым - и так далее".
Снова Макьявелли противопоставляет "le cose immaginate"
и ule cose vere". Но совершенно ясно, что в каждом из двух
абзацев, составляющих эту главу, противопоставление
"воображаемого" и "действительного" имеет радикально противоположный
смысл. Если в действительности, как мы только что услышали,
людям присущи избирательные качества, если индивиды
непохожи друг на друга, если (ср. с 25-й главой) они не в силах
расстаться с характерами, которыми наделены по природе, и с
привычными способами поведения, - то трудно представить себе
что-либо более далекое от "действительной правды вещей",
чем... умение "пользоваться или не пользоваться" своими
пороками и добродетелями! Ведь "один" - такой-то, а "другой" -
этакий. Но тогда способен ли описанный конкретный индивид
быть по отношению ко всякой стороне человеческой натуры
одновременно и "одним" и "другим" - свирепым и
сострадательным, прямодушным и хитрым, набожным и нечестивым -
"смотря по надобности"?
С этой точки зрения, Макьявелли приписывает герцогу Ва-
лентино и остальным "мудрым государям" как раз
"воображаемые свойства"!
Но мы помним, что несколькими строками выше автор
указал на парадоксального универсального индивида как на
единственное соответствие "действительной правде вещей".
_ ш
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
...Или все-таки "воображаемой"?
Похоже, что есть действительность - и действительность.
Только непонятно, как их согласовать.
Дальше Макьявелли пишет, заканчивая главу: "Я знаю,
каждый согласится, что не было бы ничего похвальней для
государя, чем обладать из всех названных выше качеств только
благими. Но человек не в состоянии (le condizioni umane... non lo
consentono) ни иметь одни лишь добродетели, ни соблюдать их
полностью; поэтому необходимо быть настолько
благоразумным, чтобы вовсе избегать тех пороков, из-за которых можно
лишиться государства, а что до остальных - воздерживаться по
мере сил, но если это невозможно - не беда. И даже пусть не
боятся навлечь на себя обвинение в тех пороках, без которых
трудно удержаться у власти, потому что, вдумавшись, мы
найдем немало такого, что выглядит как добродетель, а на деле
пагубно для государя, иное же выглядит как порок, а на деле
обеспечивает безопасность и благополучие".
Сколько раз обращали внимание на эти шокирующие и
впрямь ужасные слова, но ведь в них есть нечто гораздо более
интересное.
Исходя из модели конкретно ограниченной индивидности,
продолжающей работать в этом рассуждении, согласимся с
автором, что никто не может состоять из одних и всяческих
достоинств, т. е. быть универсально добродетельным.
"Действительно существующие свойства государя" обнаруживают
несостоятельность риторического морализма. Однако, по-видимому,
не менее - и несостоятельность имморализма? Если каждый
индивид есть комбинация свойственных именно ему
добродетелей и изъянов, то, конечно, незачем советовать государю быть
непременно вместилищем целомудрия, сострадания, прямоты и
пр. Но столь же бессмысленно предписывать ему быть
жестоким или хитрым! Или он таков, или не таков.
Нет смысла вообще что-либо советовать?
Согласимся, повторяю, что человек из одних
добродетелей - ангельски нереален. Ну а человек, который состоял бы
только из полезных для политики качеств, будь то добродетели
или пороки? - разве он не выглядит еще более
"воображаемым"? Макьявелли предупреждает к тому же, что заранее
неизвестно, где добродетель, где порок в этом плане, какая
привычки? _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ка окажется выгодной и какая пагубной. На всякий случай
государственный человек должен обзавестись, следовательно,
всеми добродетелями и всеми пороками вместе. А ведь это, по сути,
гораздо, гораздо фантастичней, чем просто безукоризненно
прекрасный человек.
Однако самое поразительное в 15-й главе то, что в ней ин-
дивидность как открытость и универсальность выводится... из
индивидности как закрепленности и частичности. "Один"
государь такой, "другой" этакий. Поэтому никто в действительности
не может быть всесторонне добродетельным. Поэтому и
незачем этого требовать, выдумывать идеального государя, каких не
существует. Поэтому пусть государь избегает только тех
пороков (но и тех добродетелей!), которые мешают бороться за
власть. Поэтому... государь должен быть
всесторонне-политически-добродетельно-порочным... Подражать Киру или Сципиону
...подражать Чезаре Борджа.
Работают обе модели индивидности, обе логики, и одна
логика - закраина другой.
Доходит чуть не до смешного: "необходимо быть настолько
благоразумным, чтобы вовсе избегать тех пороков, из-за
которых можно лишиться государства, а что до остальных -
воздерживаться по мере сил, но если это невозможно..." "Невозможно",
ибо государь, как и каждый человек, есть то, что он есть, и не в
силах перекраивать себя, как ему вздумается; "необходимо",
ибо, не приведя себя в рациональное соответствие с
политическими условиями, нельзя стать мудрым государем и совладать с
фортуной. Человек от природы не способен справиться с
(одними) своими пороками, и он же, если надо, способен справиться
с (другими) пороками? Заметим, речь здесь об одном и том же
человеке.
Почти физически чувствуешь, как эта странная фраза, эта
странная глава, эта странная книга распирается изнутри
давлением мысли.
В 16-й главе: "Если мне скажут, что Цезарь проложил себе
путь щедростью и что многие другие благодаря тому, что были
и слыли щедрыми, достигали самых высоких степеней, я
отвечу: либо ты у власти, либо ты еще на пути к ней. В первом
случае щедрость вредна, во втором необходимо прослыть щедрым".
Однако (ср. с гл. 15) "...один щедр, другой скуп".
_ ш
Та же коллизия.
Еще бросается в глаза, что Макьявелли все время толкует,
собственно, не о щедрости и скупости, а только о
соответственной репутации государя в глазах подданных. "Скажу, что было
бы хорошо, чтоб тебя считали щедрым (sarebbe bene esser tenu-
to liberale)"; "со временем его будут все более считать щедрым";
"следует мало считаться со славой скупого правителя, ибо это
один из тех пороков, которые позволяют государю оставаться у
власти"; "больше мудрости в том, чтобы, слывя скупым, стяжать
худую славу без ненависти, чем в том, чтобы, желая прослыть
щедрым и оттого поневоле разоряя других, стяжать худую славу
и ненависть разом". Или: "...каждый государь должен желать,
чтобы его считали милосердным, а не жестоким; тем не менее
следует остерегаться злоупотребить этим милосердием" (XVII).
Пример такого злоупотребления - уже знакомый нам Сципион
с его излишней и неуместной мягкостью, послужившей к вящей
славе этого полководца только потому, что действия Сципиона
исправлялись сенатом, которому он подчинялся. (Вот к чему
привело подражание одному лишь Киру...)
Спустя сто лет Гамлет в первом же своем монологе скажет,
что хочет не казаться, а быть. Эту проблему применительно к
сущности и оценке индивида первым со всей остротой поставил
именно Макьявелли. Он хорошо знал, что в политике реальные
личные качества деятеля часто куда менее важны, чем
представление о них толпы, "большинства": чем тот искусный
пропагандистский эффект, который американцы назовут "имидж".
Может показаться, что позиция Макьявелли однозначна, что он
наставляет безграничному государственному лицемерию.
Как иначе прикажете потомкам флорентийского секретаря,
у которых ведь есть и собственный довольно богатый
исторический опыт, понимать фразы, вроде следующей: "Итак, государю
нет необходимости обладать всеми вышеназванными
добродетелями, но весьма необходимо, чтобы казалось, будто он ими
обладает. Я дерзну даже прибавить, что если этими
добродетелями обладают и следуют им, то они вредны; но если государь
производит впечатление обладающего ими, то они полезны...
Итак, государь должен чрезвычайно заботиться, чтобы с его
языка никогда не сорвалось ни единого слова, которое не было
бы исполнено пяти вышеназванных добродетелей, и пусть тем,
849 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
кто видит его и слышит, сдается, что он весь - милосердие,
весь - верность, весь - прямота, весь - человечность, весь -
набожность. Особенно необходимо казаться набожным. Ведь
люди вообще-то судят по виду, а не на ощупь, потому что увидеть
доводится каждому, а потрогать немногим. Каждый видит то,
чем ты кажешься (quello che tu pari), немногие осязают то, что
ты есть (quello che tu se'); и эти немногие не осмелятся
выступить против мнения большинства, на защите коего стоит
могущество государства. О действиях всех людей, а особенно
государей, с которых в суде не спросишь, заключают по
результатам. Так пусть же государь побеждает и удерживает власть, а
средства всегда сочтут при этом достойными и одобрят. Ибо
чернь прельщается видимостью и успехом, а в мире только
чернь и есть, и немногим доблестным в нем находится место;
только когда им удается обзавестись крепкой опорой. Один
нынешний государь, которого мне лучше не называть, только и
делает, что проповедует мир и верность, на деле же тому и
другому злейший враг; но если бы он соблюдал то и другое, с ним
давно перестали бы считаться, либо он лишился бы престола"
(XVIII).
Место из самых циничных и, увы, правдивых в трактате.
Горечи здесь тоже, видимо, достаточно. Но какие бы интонации
нам ни слышались, саркастические ли, издевательские,
мрачные, деловитые, это не так уж существенно. В главе под
веселым названием "Как государи должны держать слово",
начинающейся с заявления, что "те, кто умел пудрить людям мозги, в
конечном счете брали верх над теми, кто основывался на
честности", - разве в этой главе не очевидно, что Государь у
Макьявелли - человек, который выдает себя не за того, кем он
действительно является? Такое уж у него ремесло. Столь
ненавистное для Гамлета: важно не быть, а казаться.
Кентавр
Но вот что озадачивает при более внимательном
чтении.
Хотя новому государю никак невозможно избежать
жестоких мер, "тем не менее он должен вести себя умеренно, благора-
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
зумно и милостиво (procedere in modo temperato con prudenzia
et unmanità)..." (XVII). Или: "Государь должен стараться, чтобы
в его поступках обнаруживались величие, сила духа,
значительность и твердость (grandezza, animosità, gravita, fortezza)..."
(XIX). "Государь должен также выказывать себя поклонником
дарований, оказывать почет тем, кто отличился в каком-либо
искусстве или ремесле. Он должен побуждать граждан
спокойно заниматься своими делами, будь то торговля, земледелие
или что-либо иное... Он должен являть собой пример
милосердия, щедрости и широты (di umanità e di munificenzia), но при
этом твердо блюсти величие своего достоинства, которое
должно присутствовать в каждом его действии" (XXI).
Тут-то речь идет уже не о притворстве?
Нет. Все сложней. Макьявелли требует от правителя
великодушия, в сущности, не менее, чем вероломства.
О щедрости он роняет: "...и многие другие достигли
высочайших степеней", ибо "были и слыли щедрыми (per essere stati
et essere tenuti liberali)..." (XVI). Гамлет противопоставит
"быть" и "казаться", но для Макьявелли вряд ли вообще
существует такое противопоставление. Он пишет весьма характерно
о щедрости, что эту добродетель нужно уметь "употреблять
умело и как следует" ("usare questa virtù del liberale", "se ella si
usa virtuosamente e corne le si debbe usare") (XVI). Так вот,
обдуманно пользоваться либо не пользоваться тем или иным своим
душевным качеством значит ли быть наделенным им - или
только выглядеть так, будто им наделен?
Решающее и, надо сказать, поразительное место для
понимания того, как Макьявелли подходил к проблеме, мы
встречаем в печально известной 18-й главе. Напомню, что в ней сперва
говорится: государю надлежит уподобиться одновременно льву
и лисе, т. е. быть смелым и свирепым, но и коварным.
"...Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему
обещанию, если это оборачивается против него и если исчезли
причины, побудившие дать обещание. Подобное наставление
было бы нехорошим, ежели люди были бы хороши; но так как
они скверны и не стали бы держать данное тебе слово, то и тебе
незачем его держать. А благовидного предлога нарушить
обещание - какому правителю и когда недоставало? Можно было бы
привести бессчетное множество свежих примеров..." и т. д. Все-
851 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ яЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
му этому предшествует общетеоретическое соображение: "Вы
должны знать, что бороться можно двумя способами:
во-первых, законно, во-вторых, насильственно. Первый способ
присущ человеку, второй - животным; но так как первого часто
недостаточно, следует прибегать и ко второму. Таким образом,
государю необходимо уметь превосходно пускать в ход то, что
свойственно и человеку и животному. Именно этому
иносказательно учили государей древние авторы, рассказывавшие о том,
как Ахилла и многих других государей в древности отдавали на
воспитание кентавру Хирону, чтобы он их взрастил и выучил.
Что это значит иметь наставником полуживотное,
получеловека, как не то, что государь должен уметь совместить в себе обе
эти природы, потому что одна без другой сделала бы его власть
недолгой".
Читатели Макьявелли всегда обращали и обращают
внимание (что вполне естественно) на оправдание в трактате -
вопреки общепринятой морали - насилия и обмана, "животной"
природы государя. Тем более что сам автор уделяет этому больше
всего доводов и слов. Но очень важно понять, что упоминания
и о другой, "человеческой", благой и законной стороне
государственной деятельности, никоим образом не имеют характера
риторической уловки, пустой отговорки. Теоретически равно
необходимы обе "природы": чтобы государь предстал в образе
Кентавра. Ведь без такой двойственности исчезло бы
универсальное умение "употреблять" свои добродетели и пороки.
"Кентавр" - не просто образный, не литературный, а
логический ход. К нему нужно отнестись со всей серьезностью.
Только тогда мы сможем понять то ключевое место, к
которому давно пробирались. После уже приводившейся фразы, что
"если... добродетелями обладают и следуют им всегда, то они
вредны; но если государь производит впечатление обладающего
ими, то они полезны", далее значится:
"Иначе говоря, надо казаться сострадательным, верным
слову, милостивым, искренним, набожным - и быть им на
самом деле; но сохранять в душе готовность, если понадобится, не
быть таковым, чтобы ты мог и сумел изменить это на
противоположные качества (corne parère pietoso, fedele, umano, intero,
relligioso, et essere; ma stare in modo edificato con Panimo che,
bisognando non essere, tu possa e sappi mutare el contrario)".
_ 852
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
"Казаться" - "и быть"! И если понадобится, "не быть". Но,
бог ты мой, что это за "essere", если оно в любой момент
обращается в "non essere", что это за действительно верный слову,
искренний, набожный человек, который готов, если так
выгодней, "изменить это на противоположное"?!
Ответ состоит не в том, что Макьявелли проповедовал
какое-то неслыханное, дьявольское лицемерие, но и, конечно, не в
стараниях как-то "исторически" объяснить и оправдать
призывы к вероломству. Дело в том, что, по мысли Макьявелли,
"мудрый государь" вообще вовсе нелицемерен... как это ни странно на
первый взгляд. Апофеоза злодейства и притворства в
ужасающей 18-й главе и во всем трактате нет, а есть нечто совсем иное
(и, кстати, не менее ужасающее).
Идеальный государь, который видится Макьявелли,
действительно щедр, прямодушен, сострадателен и т. п.; и он же
действительно скуп, хитер, жесток. Он - буквально - способен на
все, и когда правитель поступает набожно и гуманно, он не
притворяется - так нужно. А если это считать притворством,
пусть так, то ведь и его (в других случаях) жестокость и
клятвопреступление притворны совершенно в том же точно
смысле. Злодейство тоже не неотъемлемая черта правителя - так
нужно.
Государь добродетелен и порочен, он то и другое. Или ни то
ни другое?] Он - вспомним - кентавр, получеловек,
полуживотное, он лев и лиса, и он последователь благородных Кира и
Сципиона, короче, он все что угодно. Поэтому он никак не
может быть определен в итоге.
Конечно, Макьявелли многократно напоминает, что
правитель, желающий неуклонно следовать добру, неизбежно
потерпит поражение, ибо люди по природе злы; если же он прибегнет
к насилию и обману, то сумеет победить и упрочить власть во
благо тому же народу. Этот мотив в трактате есть. Но отнюдь не
выбор в пользу зла составляет глубинную коллизию
"Государя". Такого абсолютного выбора Макьявелли вообще не делает.
Правда, автор, не дрогнув, высказывается за порочное
поведение политика... если оно сулит успех. Набрать у Макьявелли
соответствующих, внушающих нам отвращение цитат
несложно. Но их нельзя по-настоящему истолковать вне логики, цели
и смысла его идейного построения в целом.
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ яЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В 19-й главе Макьявелли разбирает три примера
добродетельных римских императоров и четыре примера императоров
порочных. "Марк, Пертинакс и Александр были все люди
скромного образа жизни, любили справедливость, ненавидели
жестокость, прилежали милосердию и благости - и все, кроме
Марка, кончили плохо. Только Марк прожил жизнь и умер в
величайшем почете". Впрочем, ему не нужно было домогаться
власти, он ее унаследовал - и сумел прочно удержать, "внушив
почтение своими многочисленными добродетелями" солдатам
и народу, так что "не было никого, кто его ненавидел бы или
презирал". Но в другом случае: распущенные преторианцы не
захотели сносить честную жизнь, к которой их принуждал
Пертинакс, и убили его. Доброта Александра была такова, что
за 14 лет правления он не казнил ни одного человека, зато сам
был убит мятежными войсками. "Нужно заметить: добрыми
делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и
дурными".
Далее Макьявелли переходит к образчикам иного рода.
"Если вы рассмотрите теперь, напротив, качества Коммода, Севера,
Антонина Каракаллы и Максимина, то найдете, что они
отличались крайней жестокостью и хищностью..." Читатель,
остающийся под поверхностным впечатлением от предыдущего,
особенно от 17-й главы, пожалуй, ожидает, что уж этих-то
Макьявелли одобрит. Ибо добротой и порядочностью в политике
добьешься немногого. И что же? - автор симметрично, слово в
слово, повторяет о злодеях сказанное ранее о праведниках: "...и
все, кроме Севера, кончили плохо". Там преуспел один из троих,
здесь один из четверых... статистика, если можно так
выразиться, даже не в пользу порока...
О добродетельнейшем Марке Аврелии, философе на троне,
Макьявелли отзывается с уважением. Север, который "вел себя
то как свирепейший лев, то как хитрейшая лиса", - человек в
его глазах тоже заслуживающий восхищения. И все-таки...
Нетрудно заметить, что мы - логически - уже внутри 25-й главы.
Вот два государя, которые действовали противоположными
способами, но оба восторжествовали. А также: вот правители,
которые действовали одинаково, но один победил, другие
проиграли. Каждый поступал в соответствии со своим характером,
но обстоятельства всякий раз были несходные.
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
Кому же должен подражать "мудрый государь", Марку или
Северу? "...Новый государь в новом государстве не может
подражать действиям Марка и ему незачем уподобляться Северу;
но ему следует заимствовать у Севера те качества, которые
необходимы для основания государства, а у Марка - те достойные
и славные качества, которые пригодны для сохранения
государства, уже установившегося и прочного".
Значит, ни Север, ни Марк, ни сплошной порок, ни стойкая
добродетель - сами по себе еще не пример государственного
человека. Таким идеалом, бесспорно, был бы Марк Аврелий и
Север в одном лице. Индивид-кентавр.
Но еще и еще раз: возможно ли такое?
Макьявелли пишет: "Пусть никто не думает, будто можно
всегда принимать безошибочные решения, напротив, всякие
решения сомнительны; ибо в порядке вещей, что, стараясь
избежать одной неприятности, попадаешь в другую. Мудрость
заключается только в том, чтобы, взвесив все возможные
неприятности, наименьшее зло почесть за благо" (XXI). Нет
абсолютных решений, нет безусловно полезных способов поведения.
Выбрать в каждый момент наименьшее зло - это и значит быть
универсальным, объемлющим в себе все человеческое...
впрочем, не актуально, а про запас, до востребования.
В 25-й главе наиболее открыто - но, как мы могли
убедиться, и на протяжении всего трактата! - эта презумпция
индивида как неопределенности, незакрепленности (- "мудрости",
подлинной "доблести") сталкивается с презумпцией природной
определенности и закрепленности индивидуального поведения.
Таков коренной логико-культурный конфликт в сочинении
о Государе.
Когда происходит вторая (и последняя) логическая
кульминация трактата, когда в конце концов у Макьявелли
вырывается: "Не найдется человека, настолько благоразумного (или
мудрого. - Л. £.), чтобы он сумел к этому приспособиться", - это
признание не нужно, конечно, принимать слишком уж
педантично. Ведь автор все же назвал реальные имена тех, кто, по его
мнению, сумел приспособиться, - того же Чезаре Борджа.
Значит, такие люди все-таки встречаются в истории, пусть в
исключительных случаях. Но восклицание Макьявелли,
по-видимому, указывает, что для него тут есть проблема принципиаль-
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ного, теоретического порядка9. Обе модели индивидности
преподнесены в "Государе" как не воображаемые, а
действительные. Однако они относятся к двум разным реальностям:
наличной, эмпирической - и экспериментальной, проективной.
Предположения о логико-культурных
следствиях
Эти почти невозможные "мудрые государи" - что же,
они менее индивидуальны, чем остальные люди, составляющие
человечество?
Вроде бы как раз наоборот.
"Превращение страны, привычной к монархии, в
республику и страны, привычной к республике, в монархию - для
такого дела потребен человек редкостный и по мозговитости и по
влиянию (uno uomo che per cervello e per autorità sia гаго).
Многие желали за это взяться, но мало кто сумел этого достичь.
Потому что величие подобного предприятия отчасти устрашает
людей, отчасти же воздвигает препятствия, перед которыми
они, едва начав, терпят поражения"10.
Итак, нужен "редкостный человек"... И если Государь в
конечном счете не милостив, не жесток, не коварен, не
прямодушен, не щедр, не скуп, а таков, каким требуют быть
меняющиеся обстоятельства, - это никоим образом не означает просто
обезличенности. Государственная "мудрость" нуждается в
особой концентрации личных дарований: "dare di se rari esempli"
(XIX). "Если вы рассмотрите его действия, вы найдете, что они
исполнены величия, некоторые же необычайны" (о Фердинанде
Арагонском). "Государю прежде всего следует каждым
поступком создавать впечатление о себе, как о великом и знаменитом
человеке" (там же).
Во-первых, он должен быть умен. Во-вторых и в-третьих,
умен до чрезвычайности ("pmdentissimo" - XXIII). Тонко
разбираться в людях, которые его окружают, подбирая преданных
и способных исполнителей (XXII). "Ибо умы бывают трех
родов: один постигает сам, другой разбирается в том, что постиг
первый, третий не постигает сам и не разбирается с чужой
помощью; первый ум в высшей степени выдающийся, второй ум
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
просто выдающийся, третий негодный". Государь, само собой,
ум первого рода.
Но что заключено, по Макьявелли, в такой
самостоятельности ума, в этом "intende da se? Гораздо больше, чем
обнаруживает на первый взгляд незатейливая формула. Как и у Кае-
тильоне, способность суждения обращена на разнообразие
жизненных положений и всякий раз имеет дело с некоторым
случаем. Случаи известного характера, впрочем, сводятся и
уясняются "правилом". Но "правила" Макьявелли (ср. с Леонардо да
Винчи) сами глубоко казуистичны, конкретны. Их применение
не терпит догматизма. Поэтому акцент перемещается на волю,
опыт и острую проницательность того, кто действует. На
субъекта истории и на его выбор.
Надо исходить "из себя", "da se". В интеллектуальном
отношении - и во всех отношениях. "...Только те способы защиты
хороши, надежны и прочны, которые зависят от тебя самого и
от твоей доблести" (XXIV). Соответственно те, кто потерял
власть, пусть винят в этом себя. Воспользоваться шансами,
которые время от времени предоставляет фортуна, способен
только какой-то необыкновенный, господствующий над собственной
природой, не зависящий от себя и вместе с тем всецело
исходящий из себя индивид.
Что же это, однако, за парадоксальная индивидность?
Перед нами логический оборотень ренессансной, условно говоря,
идеи личности.
На пути к этой идее культура Возрождения не могла не
воспользоваться давно известным риторическим общим местом:
люди непохожи друг на друга (см. у Лоренцо Великолепного, у
Пико делла Мирандолы, у Кастильоне и др.). Несходство,
впрочем, невозможно было обосновать иначе как через подведение
индивида под некий разряд, под видовое (скажем,
характерологическое) отличие внутри человеческого рода. То есть
особенность человека еще не была известна в качестве бесконечной
особенности (или, если угодно, особенной всеобщности).
Отдельный человек, не совпадающий вполне ни с одним другим
человеком, все же не казался неповторимым. Ибо по этой схеме он
полностью совпадает зато с собой: его место среди прочих людей -
уготованное, природное. Своеобычность - подтверждение
ограниченности. Индивидуальность человека, конечно, делает его не-
857 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
похожим на других, но, будучи обязательным признаком
личности, непохожесть описывает его лишь внешне и отрицательно.
Поэтому в поисках личности культура Возрождения вводит
наряду с "разнообразием" (varieta) между людьми также
"разнообразие" внутри отдельного человека.
При таком совершенно новом понимании индивида - как
"универсального", "героического", "почти божественного" - он
расширялся до безмерности, он выглядел уже не как малая
частица человечества, а как все человеческое в одном лице.
Последовательно, конкретные контуры расплывались. Этот
индивид, каким он более или менее предстает на любом ренессанс-
ном портрете, хотя и бытийствует актуально, но лишь в
качестве возможного. Его наиболее знаменитая эмблема - мона Лиза
Джоконда.
Если особенностью героического индивида была как раз его
универсальность, то ведь это культурологический оксюморон.
Неясно, чем же один "универсальный человек" мог внутренне
отличаться от другого "универсального человека". Как было
совместить в понятии индивидуальную определенность с
божественной необъятностью? Бесконечное богатство "Я" - и его
верность себе?
Повторяю, это сквозная для всего зрелого Возрождения
парадоксальная коллизия двух значений варьета.
Я пытался реконструировать ее в работах о Манетти,
Альберта, Лоренцо Медичи, Кастильоне, Леонардо да Винчи и др.
Что до Макьявелли, то у него столкновение двух подходов к
понятию индивидности было доведено до самой резкой
очевидности, до взаимоисключаемости именно потому, что его занимала
не эстетическая проблема соединения идеального с
характерным (как Леона Баггисту Альберти), не этическая проблема
совмещения нормативности и индивидуальной органичности
поведения (как Кастильоне с его "грацией"), вообще отнюдь не
культурная проблема, которую мы теперь осмысляем как ренес-
сансный генезис идеи личности. Для Макьявелли эта
"универсальность" человека Возрождения оказалась всего лишь
материалом и посылкой (но необходимой и решающей!) для
моделирования идеального политика.
Однако столь прагматическое использование главной
мысли Возрождения нельзя расценивать ни как ее, что ли, поруга-
_ 858
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
ние, ни как разоблачение, ни даже как только сужение ее
предметного объема. В будущем новоевропейском культурном
контексте - в ответ на интеллектуальный вызов, брошенный
Макьявелли, - приходилось как-то решать в связи с идеей личности
еще одну, историческую и социальную задачу, кватрочентист-
скому гуманизму неизвестную.
Как индивиду совместить в себе личность и деятеля?
Рассуждая ретроспективно: Макьявелли такое совмещение
начисто исключил. Чем примечателен "мудрый государь"? Тем,
что огромные индивидуальные способности - того, кто решает,
каким ему быть назавтра, - реализуются в соразмерной им
опустошенности индивида-кентавра. Все усилия, все таланты
уходят на то, чтобы быть всяким, а не каким-то определенным:
отказаться от себя и только так... стать собой? Лицо правителя
есть смена личин. Его действие - лицедейство. Поэтому частые
обвинения в избытке индивидуализма, обращенные к автору
трактата о Государе, - недоразумение. Дело, напротив, в
нехватке индивидуального начала... Аморализм (или в неморализм)
макьявеллиевого политика вовсе не причина, а только
следствие такого положения вещей. Это - феномен; номен же,
залегающий несравненно глубже так называемых цинических советов
и т. п., - в двусмысленности (и неизвестности, и трагичности!)
самого исходного понятия: какой-то странной, целиком
надындивидуальной индивидуальности, без центра, без
неотчуждаемого "Я".
Чтобы преуспеть в широком практическом социальном
действии (не только в борьбе за власть! - я формулирую нарочито
широко - ведь ниточка-то тянется к финалу "Фауста"),
индивид должен, по Макьявелли, отказаться от своей души. Это
загадочней и гораздо страшней, чем иметь свою дурную душу. Это
и гораздо содержательней (неизбывней, мучительней,
продуктивней) в историко-культурном плане, чем обыкновенные
злодейство и вероломство.
Тут пахнет не Шиллером, а Шекспиром. Любителям
морализаторства с Макьявелли не сладить.
Еще раз скажем следующее. Не Макьявелли додумался до
"универсального человека". То есть до человека, который сам по
себе есть чистая отрицательность. Ничто, без собственного
места и вида. Зато его уникальность, его победительное присутст-
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯи НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
вие в мире состоит именно в такой щедрой неопределенности, в
протеистической способности "ковать себя по угодной ему
форме" (Пико делла Мирандола). Не у одного Макьявелли, а во
всей культуре Возрождения идея человекобожия в своем
логическом схематизме заключает неустранимое противоречие.
Потому-то личность впервые предстает на пороге Нового
времени в облике сверхличности, словно бы космической
туманности.
Но если согласиться, что замысел "мудрого государя" -
удивительная трансформация гуманистической установки на
саморазвертывание безграничного индивида - и что эта
проблемная затравка оказалась в дальнейшем прямо или окольно
существенной для европейской личности, для рефлексии над ее
положением в истории (от "Дон Кихота" и хроник Шекспира до
"Медного всадника" или, допустим, "Легенды о Великом
инквизиторе"), постараемся бегло очертить в этом плане некоторые
из невольных уроков Макьявелли.
Итак. Ренессансное понятие универсального и героического
человека проникло в размышления Макьявелли (и составило
их подпочву) в крайне обуженном и плохо распознаваемом
варианте. "Универсальность" более не означала всестороннего
развития индивида. Точней: это всесторонность только в
жестких пределах того, что нужно для политического успеха.
Личность в известном отношении, правда, остается ренессансной
постольку, поскольку сохраняется и даже выпячивается
логическая презумпция: умение вот этого индивида суверенно
формировать себя и быть всяким, разным, включать в себя -
потенциально - Всё. Протеистичность и безмерность, неуловимость
индивидуального облика поразительно накладываются в
"мудром государе" Макьявелли на ограниченную практическую
сферу деятельности, замыкаются ею. Перед нами все тот же
свойственный лишь специфически-ренессансной культуре
uomo universale... но нет, не он, ибо - вне художественных
интересов, вне этоса, вне гармонии, вне космичности, вне всей
творческой предметности.
Государь - извращенец ренессансной идеи человека? Да.
(Хотя "да" - лишь верхушка проблемы-айсберга.) Вынесение
целей формирующего себя субъекта вовне, в практику истории
ставило эту идею под вопрос. Универсальность была "божест-
_ 960
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
венной", самоцельной - теперь она превратилась в средство. Не
так уж важно, в средство для чего. В последнем счете, не в
политической грязи тут дело. Кто-либо сочтет, что вообще захват и
удержание власти - не самая симпатичная и достойная
жизненная задача? Что ж, в конце концов, можно заменить идею
власти идеями объединения Италии, мира и тех благ, которые
принесет родине в дар могучий избавитель. То есть понять
политику тоже как средство: ради более глубокой и замечательной
цели. Ну, разумеется. Это Макьявелли и провозглашает -
искренне, страстно. Мы помним патетический финал трактата. "Так
пусть же ваш славный дом примет на себя этот долг с теми
мужеством и надеждой, с которыми вершатся правые дела; дабы
под сенью его знамени возвеличилось наше отечество и под его
водительством сбылось сказанное Петраркой:
Доблесть ополчится на неистовство,
И краток будет бой,
Ибо еще не умерло достоинство,
Которое издревле было в итальянских сердцах".
Против такой цели ведь возразить нечего. Она прекрасна.
Притом в ней куда менее индивидуализма, чем в попечениях
гуманиста о собственном уме, вкусе, добродетели, навыках,
знаниях, совершенстве.
Тем не менее, по мысли Макьявелли, подобная цель
определяет неразборчивые средства, поскольку она и они
принадлежат одному - социальному и практическому - миру. Тот, кто ее
добивается, должен действовать. Этим все сказано. Ясно, что у
всякого действия своя логика, оно само заводится - и заводит
участников, Макьявелли никак не имел в виду всякое
историческое действие, его интересовала только и только проблема
власти. Но именно потому что Макьявелли описывал политику,
т. е. сферу предельно жесткую, в которой принудительность
обстоятельств наиболее наглядна, расчет явно необходим, между
тем как события происходят чаще, чем в других жизненных
сферах, вопреки любым расчетам и, как настаивает
Макьявелли, благие намерения ничего не стоят, средства могут быть
полезны любые, а в зачет идут лишь результаты, - именно
специальный характер темы позволил Макьявелли создать емкую
модель, сказать будущим векам то, что выходит далеко за созна-
S61 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
тельный авторский горизонт и, однако, содержится в тексте
трактата, если читать его в контексте начинавшейся тогда
новоевропейской культуры в целом.
Как бы ни расценивать цель Государя, она внеположна
личности. Конечно, его цель совпадает с личной страстью, с
личным интересом, но политик - в качестве деятеля по
преимуществу - добровольно подчиняется этому своему интересу,
зависим от него. "Мудрый государь", как воображает
Макьявелли, сводится к делу, которое, хотя и выполненное им, его
желанное дело, но важней и превыше, чем он. Так что в этой
макьявеллиевой теоретической идеализации человек
полностью замещен социальной ролью. Однажды ввязавшись в дело,
приходится - напоминает бывший флорентийский канцлер -
действовать как надо, а не, предположим, как это было бы в
твоем характере. Обстоятельствам безразличны твой характер,
принципы, вообще ты как таковой. Они к тебе
приноравливаться не будут. Значит... А ежели тебе это не по нраву,
разъяснял Макьявелли (позже, в "Рассуждениях"), что ж, это легко
понять и это благородно, но тогда незачем вмешиваться в
политику, добиваться власти. Нельзя действовать. Это совсем
другой случай, к его, Макьявелли, наставлениям не
относящийся, поскольку означенные наставления предназначены для
правителей и осмысляют условия политического успеха
внутри реального порядка вещей. Вот что буквально сказано у
Макьявелли (по поводу действий Филиппа Македонского):
"Эти меры в высшей степени жестоки и не только противны
христианскому образу жизни, но и просто бесчеловечны;
любой человек должен избегать подобного, пусть он предпочтет
остаться лучше частным лицом, чем быть царем ценой таких
несчастий для людей; однако тем, кто не пожелает избрать этот
первый, благой путь, придется, раз уж они хотят удержаться у
власти, прибегнуть ко злу"11.
Из всего этого необходимо вытекает то, что при вытеснении
прочих интересов и мотивов деловым, прагматическим
интересом, в его рамках, - а также в силу объективной логики
исторических событий - индивидуализм вряд ли совместим с
занятиями политикой. Настоящий правитель даже слишком не
индивидуалист... Индивидуализм (который не стоит путать с
корыстью, эгоизмом и т. п.) нуждается в естественном и вольном - в
_ S62
"Государь* Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
каждый данный момент - выборе пути и судьбы, в игре
человеческих сил индивида. Но политик у Макьявелли слишком
серьезный человек, чтобы позволить себе все эти гуманистические
благоглупости. Индивидуальная человеческая целостность
вытеснена в его поведении в лучшем случае публичным пафосом.
Тот "мудрый государь", к которому он взывает, должен
воспользоваться наставлениями Макьявелли во имя Италии - о,
да, но чем более значительна и возносится над индивидом его
цель, тем его личность становится более функциональной. То
есть безличной, поскольку выполнение функции можно
переложить на другого индивида. Политическая мудрость незаменима;
но незаменимых государей нет. Если не Джулиано Медичи,
которому автор первоначально собирался посвятить трактат, то
Лоренцо Медичи, герцог урбинский... или кто там еще? -
"нельзя упустить этот случай, пусть после стольких лет Италия
увидит избавителя". "Итак, принимая во внимание все сказанное
выше и обдумывая про себя, настало ли для Италии время
чествовать нового государя, дает ли случай для этого материю,
которой мог бы воспользоваться некий мудрый и доблестный
человек, чтобы придать ей форму..." и т. д. и т. п. Именно -
"некий" ("uno prudente e virtuoso"). Талант государя по самой
своей структуре анонимен... этим и уникален.
Личность, став функциональной, отчуждается от себя.
У всех на слуху, что, по Макьявелли, "цель оправдывает
средства". Макьявелли действительно высказал нечто подобное.
Очень легко возразить и тысячу раз возражали, что самая
наилучшая цель пятнается, извращается дурными средствами,
поскольку цель заложена уже в средствах, средства же входят в
химический состав цели, они системно нераздельны и пр. Все
это элементарно и справедливо. Однако у Макьявелли
настоящая и, пожалуй, совершенно новая проблема не в том, что
Государь должен, если надо, прибегнуть к насилию, обману, но в
том, что, когда он прибегает к милосердию, это тоже
расчетливая политическая акция, а не органика индивидуального
поведения. Личность правителя выступает в качестве средства,
как бы он себя ни вел.
Политика, по Макьявелли, делает необходимым такое
превращение, а это бесконечно глубже, чем выбор между честным
или бесчестным средством. Ибо - в исторической ретроспекти-
ш_
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ве - речь шла о выборе фундаментального источника
нравственности: ее субъекта.
В том-то и дело. Вне этого индивидуализм Макьявелли
утратил бы противоречивость, неоднозначность, а вместе с тем -
и значительность. Если Государь превращает свою душу, свои
ум и волю в средство - то ведь в собственных же видах, а не в
качестве орудия Провидения. Если мы можем рассуждать о
редукции его личности, то лишь потому, что Макьявелли
гениально вообразил некоего самодвижущегося индивида; до
Возрождения культурное сознание не знало такого человека; но
только в связи с идеей человека, который, что называется, "intende
da se", вообще имеет смысл толковать о личности.
У Макьявелли - пожалуй, именно благодаря тому, что
вопрос был поставлен в пределах узкой политической
целесообразности, а не в метафизическом плане (в начале XVI в. в этом
плане его было бы еще невозможно поставить с подобной
радикальностью и последовательностью!), - политик пугающе
свободен от всего, что могло бы ограничить его индивидуальное
воление, от бога, от принятой морали, от собственной природы,
от всего, кроме обстоятельств. Зато эта же невиданная свобода
превращает его потенциально во все то, чем новоевропейская
история и культура позволят стать отдельному человеку. Здесь
уже угадывается развилка. В конце концов, веберовское
понятие социальной роли и ролевой функции, скажем, человека
"политики" - подразумевает контрастную логическую
соотнесенность с личностью, с понятием индивида, принадлежащего
только себе. Ведь в традиционалистском обществе нет "ролей",
которые не сливались бы с человеком в целом. Короче,
Макьявелли сконструировал абсолютно нетрадиционалистского
индивида. Потому-то мы вправе раздумывать над ним под углом
зрения личности, нравственности и т. п.
Конечно, Макьявелли думал о своем. Конечно, у него это
вовсе не субъект нравственности. Но - субъект. Но -
суверенный индивид, который поступает так, как он считает нужным,
считаясь только со своими целями, опытом, разумением. "Da
se!" В ущерб предписаниям готовой морали, также и мимо
личной нравственности, увы, все так. Более того: мимо личности,
какой она вскоре возникнет в представлении европейской
культуры. Но вот своеобразной самодостаточности и мощи у этого
_ ш
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
индивида не отнимешь. То есть той мощи, которая
равносильна - пока словно бы формально! способности решать.
Уже по одному этому мы не вправе попросту отбросить
образ "мудрого государя" как враждебный и разрушительный для
будущей идеи личности. Конечно, таков он и есть. Но к этому
не сводится. Конструкция, созданная Макьявелли, все-таки
двусмысленна в отношении возможных логико-культурных
следствий и ассоциаций - потому, между прочим, что, хотя у
Макьявелли свобода самоопределения индивида сразу же
приняла безнравственный и даже внеличностный характер, все же
сама эта свобода составляла новое, поистине ренессансное и
ценное условие той возникающей личности (...и ее
нравственности), которую эта же макьявеллиева конструкция
подрывала |2.
Ведь личность не в последнюю очередь и есть, собственно,
способность решать. Принимать на себя полноту
ответственности за себя. Без столь рискованной свободы, раскованности,
непредвзятости, индивидуальной силы стала бы немыслимой и
метафизическая "воля к власти", иначе говоря, независимое по-
лагание человеком своего raison d'être, осознанное внесение им
в жизнь ценностей, теоретически-беспредпосылочное (внерели-
гиозное) осмысление мира. Хайдеггер тонко заметил, как
сквозная линия десакрализованной новоевропейской
рефлексии тянется в этом плане к Ницше от Декарта. Но до Декарта
было Возрождение. Эта история, ведущая к романтикам, к
героям Достоевского, к экзистенциалистам, начинается раньше
XVII в. Уже с писем Петрарки.
А также - особым запутанно-драматическим образом - с
великой книги о "Государе".
О ПОНЯТИИ ЛИЧНОСТИ
с исторической точки зрения
Решение индивида о самоопределении принималось
им впервые в истории. Следовательно, - это было вообще
исторически первым "решением".
Чтобы хотя бы отчасти пояснить это замечание, напомню,
что, скажем, эпический герой никаких решений не принимал и
28 - 345
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯ9 НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
выбора не делал. Не совершал поступков. Ибо героические
деяния надындивидуальны, да и надрефлективны. Человека вели:
судьба, прихоти богов, требования рода, коллективные законы
мужества и чести.
Трагедия, бесспорно, ставила его перед выбором и
пробуждала глубочайшую рефлексию. Однако то был выбор между двумя
надличными порядками вещей, двумя сакрализованными
жребиями, двумя Высшими Законами. Отнюдь не выбор себя и своей
особой правды. Прометей по праву титана не желал уступить
младшему мировому божеству. Эдип, сверявший каждый шаг с
тем, как положено вести себя доблестному мужу, а потому
излишне самоуверенный, попадал в силки, расставленные Роком.
Антигона, ни мгновения не колеблясь, выбирала долг любящей
крови и родства вопреки предписаниям гражданства. Античная
трагедия знавала, впрочем, и "амеханию", т. е. колебание в
индивиде космических весов, олицетворяясь в персонаже,
обреченном на трагическую судьбу. Герой был верен не "себе", а тому,
что предстательствовало в нем. Он размышлял, жаловался,
упорствовал, но не менялся. Собственно, за него решала в нем некая
надличная инстанция. Ее-то - чаще всего родовое заклятье - он
и сознавал в качестве себя. Он был героем, ибо умел
подчиниться судьбе: с достоинством, убежденностью, бесстрашием.
Итак, решение - выход из "амехании" - не было
мотивированным индивидуально. Оно опиралось не на "личность",
которой в традиционалистские эпохи и не могло быть, а на догму
(новую или прежнюю). На правоту миропорядка. Догма была
так или иначе освящена. В средневековом христианстве, как
известно, с несравненной грандиозностью выражено это
утверждение индивида через отказ от себя - в смирении и
послушничестве; это вынесение источника всех ценностей далеко вовне,
за пределы земного человеческого существования, туда, где
смертный ум не смеет судить и глаза, ослепленные сиянием, не
видят. Поскольку хотя индивид и отвечал перед совестью, но
совесть отвечала перед ценностями, положенными не им самим,
а богом и людьми, индивид как таковой ничего не решал. Если
даже не согласиться, что свобода воли в ее средневековом
понимании лишь подыгрывала Провидению, ее доставало только на
то, чтобы впасть в греховный соблазн или устоять, погибнуть
или спастись. Если это выбор, то пассивный. Не выбор основа-
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
ния. Впрочем, суд вершился посмертно, и божий приговор
оставался неизвестным. Но в пределах мирского разумения было
заведомым и твердо установленным, что есть грех и что - во
спасение. В этом смысле индивидуальных (своеобразных,
уникальных) решений вообще не существовало.
Само собой, нарисованная только что картина крайне
суммарная, упрощенная. Совсем нетрудно было бы указать на
переходные исторические ситуации; на противоречия и кризисы,
в ходе которых, правда, не возникало личной нравственности в
будущей отчетливости и полноте этого понятия, но индивид все
же должен был принять сторону одной из сменяющих друг
друга моралей; можно указать также на отдельные отклоняющиеся
случаи и, наконец, на то, что осуществление нормы и тем более
ее образцовое превышение, подвижничество - все это
требовало величайших индивидуальных духовных усилий. Однако
усилия подобного рода и необходимое для них самосознание
отдельного человека до европейского Нового времени всегда
структурировались вокруг некоего надличного образца; такой
образец (и канон), сколько бы исторически-относительного и
человечески-проблематичного в себе, на нынешний взгляд, ни
заключал, служил тогда опорой для сознания как нечто внепро-
блемное, вечное, окончательное, как отблеск абсолюта.
Нельзя переоценить всей всемирно-исторической
радикальности переворота, приведшего, в частности, на пробеге XV-
XVII вв. к идее автономной человеческой индивидуальности.
Это вовсе не "еще одно" понимание места человека в мире
(вслед за христианским, вслед за античным и т. п.). Принцип
традиционализма (как бы конкретно он ни оформлялся)
сменился, когда европейские небеса опустели, принципом личности.
Индивид как личность есть не всякое, а особое
самосознание: обходящееся без сакральных и соборных санкций.
Конечно, новоевропейский человек не "придумывает"
начисто свои идеалы и установки, он более или менее заимствует их,
находя в культуре и истории; но они даны ему в духовном
опыте уже в виде множественных, спорящих, относительных: так
что он обязан выбрать те из них, которые он желал бы
присвоить, пропустить сквозь себя, породить заново и держаться -
только на свою ответственность - как сугубо личного
убеждения. Парадокс личности коренится в том, что она сама выдвига-
28*
SS7 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ет, вырабатывает, выстрадывает смысл своей жизни, - и,
следовательно, нечто высшее, чем она\ - основываясь на себе же,
обеспечивая лишь своим индивидуальным достоянием.
"Ты царь: живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет
тебя свободный ум..." "Ты сам свой высший суд..."
Над личностью не хуже, чем встарь, господствует закон, но
закон свободно установленный, избранный ею13.
Этот высший нравственный ли, иной ли смысл - над нею,
но это и она сама в качестве особенной и неповторимой.
Личность нетождественна себе. (Такова логика всякой causa sui.)
Она - вот эта, уникальная всеобщность, одна из всеобщностей,
а не проявление Единого.
Я знаю, что коснулся сейчас чрезвычайно избитых
историко-культурных и философских истин. Однако, возможно,
повторять их небесполезно, потому что, как это ни странно,
многим специалистам они все еще кажутся какими-то
"парадоксами" (т. е. не парадоксами как естественной формой логического
выявления любого культурного смысла, а "парадоксами" в
расхожем значении сомнительной интеллектуальной игры, чего-то
нарочитого и недостоверного). Затруднение в том, что
справедливо отстаивая необходимость для историка сопоставлений и
выяснений генетических связей, тут же подменяют их
подобиями и тождествами. В частности, совсем недавно возникшие и
революционные понятия "индивидуальности" и "личности"
принимаются за неотъемлемые черты всякой развитой
культуры. А уж что до Возрождения...
Не станем, впрочем, отрицать, что Возрождение и в этом
отношении явилось кануном и переходом. Но не забудем, что в
истории культуры "переходность" не только приближает, но и
перескакивает, и заводит в тупик, и оспаривает то самое, к чему
переходит, обладая ярким собственным своеобразием.
"Переходность" осуществляется диалектически, а не в виде
приращения и откармливания заданного смысла для будущего
потребления; не так, чтобы, допустим, понятие личности принимало
первую "незрелую" форму (но именно форму этого понятия...)
уже в XIV в., у Петрарки, а затем "более развитые" формы в
XV-XVI вв. и т. д. Антропоцентризм Возрождения -
достаточно странный (отнюдь не напрямую) ход к понятию личности;
условием дальнейшей метаморфозы станет ведь вовсе не упро-
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
чение, а крушение концепции "универсального человека"...
Фантастический экстремизм ренессансного человекобожия -
свидетельство того, с какими напряженными околичностями
давалось впервые в мировой истории осознание беспредпосы-
лочносты человека.
Положительным разрешением этого напряжения отчасти
явился сам взрыв творческой энергии, который мы называем
Возрождением. До поры до времени индивид мог наслаждаться
своей культурой и собой. Однако время относительной гармонии
между гуманистическим индивидом и его
социально-исторической обстановкой было по необходимости недолгим. Тогда
обнаружилось, что проблемность нарождающейся личности не
исчерпывается ее замкнутыми, рефлективными и, так сказать, внутри-
культурными заботами. Кризис Высокого Возрождения был во
многом вызван или усугублен политическими потрясениями.
Как должен был вести себя "универсальный человек", чтобы
попытаться спасти рушащийся вокруг него мир и свою культуру в
нем? Надо было обдумать не только "как вести себя", но и -
прежде всего - кто тот, который "ведет себя": что он такое.
Ответ, предложенный Макьявелли, означал деформацию
исходной ренессансной модели индивидности. Однако не
только деформацию: одновременно и выявление противоречивости
этой модели, и доведение логики "универсальности" до предела,
до неожиданного поворота к проблематике, забегающей на
столетие вперед, и далее.
Традиционно-гуманистическая пластичность индивида,
которая и ранее в делах житейских и в политике часто
оборачивалась компромиссностью, зато была великолепна в художестве, в
словесности, в диалогах, в творчестве, - под пером секретаря
флорентийского Совета Десяти превратилась в прагматическую
рецептуру поведения. Способность индивида к самоизменению,
его необыкновенный ренессансный протеизм были изображены
с четкостью чертежа, с жесткостью осознания, до Макьявелли
неизвестной.
Однако такой максимум субъектное™ вдруг совпал с ее же
минимумом, с отказом от своеобразия и определенности "Я", от
"здесь стою и не могу иначе". Эту фразу тогда же произнес - не
случайно! - фанатичный монах-реформатор, а не
гуманистический интеллектуал или художник. И все-таки ее горделивый
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
индивидуалистический акцент был для Нового времени
подготовлен именно гуманистами. Это они - в болыыих.вопросах ми-
роотношения, в признании суверенного основания
человеческого духа, - это они разработали идею "доблести", virtù.
В роли доблестного человека пробует себя и макьявеллиев
Государь. Однако... подобный человек β роли Государя очень
даже "может иначе" (лишь бы "стоять здесь"). Со всей своей
доблестью и суверенностью индивид выглядит лишь средством,
дабы он мог победить в политической борьбе. Но что значит в
таком случае "он"? "Кто может быть зараз умен, безумен, спокоен,
бешен, верен и уклончив? Никто" ("Макбет", II, 3).
Все страшно запуталось.
Заметим, тем не менее, и другое, без чего проблематика
"Государя" не внедрилась бы с неотвязностью и мучительностью в
новоевропейское культурное сознание.
Макьявелли подверг складывавшуюся ренессансную
личность испытанию действительностью. Он предложил
посчитаться с грубой социальной и политической "материей", чтобы
придать ей желаемую "форму": возобладать над нею.
Эта тема будет постоянно занимать, например, Шекспира в
его исторических хрониках и трагедиях. Было бы интересно
оглянуться на трактат о Государе со стороны, ну, допустим,
"Гамлета". Принц датский пребывает в замешательстве и медлит,
как не раз замечали, потому что его личность, рефлексия,
внутренний ритм не совпадают с диктатом внешних обстоятельств.
Его беда в том, что он уже не в силах просто выполнять
требования родового долга - слепо следовать воле Призрака. Он
ищет убежденности, он разжигает в себе ярость, он действует
энергичней всего тогда, когда может следовать за мгновенным
внутренним побуждением.
Датский принц уже не в состоянии поступать морально, т. е.
как все, как полагалось бы поступать в подобной ситуации, на
манер какого-нибудь архаического Ореста, выполняющего
должное - пусть вопреки иному и менее значимому долгу,
преступаемому ради высшего. Гамлет откликается на веление
судьбы свойственным только ему, гамлетовским образом.
Ситуацию нужно пропустить сквозь себя, но не в античном
значении "амехании", колеблющегося выбора между двумя
божественными установлениями, между старыми и новыми бога-
_ 870
"Государь* Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
ми, между двумя непреложностями - правда, такого выбора,
когда в некий момент именно от решения индивида зависит,
каким же быть священному миропорядку, Тем или Этим.
Тут же ничего не известно. Ему, Гамлету, чтобы убить
Клавдия, мало удостовериться в правильности сообщения
Призрака. Нужно еще... установить сперва для себя, что есть
человек, горсть праха или венец творения, и бессмертна ли душа,
будет ли что-нибудь после смерти. Дойти до последних
смыслов. От его решения зависит, есть ли вообще в мире какой-то
порядок, какой-то смысл... Достаточная причина, чтобы
медлить.
Проблема состоит не в умении или неумении действовать,
уж это-то Гамлет умеет, но в поисках основания такого
действия, которое было бы насквозь индивидуализированным и
сознательным. Гамлетизм - это раздвоенность на приверженца
морали и субъекта нравственности; на старозаветную фортинбрасов-
скую цельность, которую принц в себе ищет и не находит, и на
потребность в углубленно-личной позиции.
Но мы знаем, что случилось с виттенбергским гуманистом в
Эльсиноре. Исходно Гамлет, разумеется, никакой не политик,
он человек, который при первом же своем появлении заявляет о
желании быть, а не казаться. Но он принужден, он собирается
действовать.
И что же?
Обстоятельства требуют своего: осмотрительности и
подготовки. В конце концов речь идет о том, чтобы наследник
престола заколол хорошо охраняемого, умного, подозрительного,
коварного властителя - посреди его двора и страны, уверенных
в законности его королевских прав. И сам Гамлет должен еще
убедиться в необходимости мстить, если угодно, в
практической надобности государственного переворота.
У Макьявелли есть, между прочим, рассуждение о том, что
убийство государя лучше всего обдумать и осуществить в
одиночку... Так несравненно трудней, но надежней.
Поэтому Гамлету сразу же приходится именно казаться: и
куда в большей степени, чем остальным. Он притворяется
сумасшедшим. Это своего рода бегство в себя, завеса для рефлексии
и даже традиционное мудрое шутовство, мудрость как безумие
и юродство. Но и ловкий прием. Глубочайшие личностные, по-
871 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
этические, метафизические мотивировки гамлетовской
медлительности тесно переплетаются с тем, что диктует расчет. Начав
действовать, Гамлет обязан быть хитрым и расчетливым.
Неожиданно он становится политиком, отчасти даже на макьявел-
лиев лад. Посмотрим же, что происходит с его личностью.
Он изменил бы себе, отказавшись от мести, но и берясь за
это справедливое свершение, он тоже изменяет себе, и нам его
не узнать.
Гамлет становится бесконечно одиноким. Он таится от
самых верных друзей. Он грубо разрушает свою любовь, более
того: он виновник гибели возлюбленной. Он и сам думает о
самоубийстве. У него меняется нрав, он иначе выглядит и в
собственных глазах, то и дело поносит и презирает себя.
Он - Гамлет. Но надо действовать; тут свои правила, и он
владеет ими весьма искусно. Он подстраивает сцену
"мышеловки", по существу, в соответствии с максимой Полония (в его
наставлениях Рейнальдо о том, как "испытать" Лаэрта):
"Приманка лжи поймала карпа правды" (II, 1).
Гамлет жесток и груб с матерью настолько, что Призраку
приходится появиться, чтобы остановить его. Случайно заколов
Полония, он нимало не сожалеет и насмехается над трупом
старика. "Стащу-ка в сени эти потроха". Демонстративно скрывая
в дальнейшем тело Полония, он тем самым поддерживает
версию о безумии и находчиво старается обратить убийство на
пользу своим планам.
Гамлет резюмирует кровавую заключительную сцену III
акта словами: "Я должен быть свирепым, лишь чтобы быть
добрым" ("I must be cruel only to be kind"). А спустя пару минут:
"Ну что ж, еще посмотрим, чья возьмет. Забавно будет, если сам
подрывник (the engineer) взлетит на воздух. Я под их подкоп -
чтоб с места не сойти мне! - вроюсь ниже и их взорву". (В
оригинале: "на ярд ниже"; речь идет об очень точном расчете.)
Дальше лучше опять вернуться от перевода Б. Пастернака к
переводу М. Лозинского, здесь, как и во многих случаях, более
точному: "Есть прелесть в том, когда две хитрости столкнутся
лбом!" ("О, 'tis most sweet, when in one line two crafts directly
meet" - "О, нет ничего сладостней, чем столкновение напрямую
двух равно искусных обманов"). Уж не успел ли Гамлет в своем
Виттенберге прочесть Макьявелли?
_ m
"Государь* Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
О "двух обманах" - это о поездке в Англию. Мы знаем, как
ловко, действительно, Гамлет послал на казнь вместо себя Гиль-
денстерна и Розенкранца, знавших, по-видимому (пакет был
запечатанным, тайным), только то, что Клавдий хочет выслать
принца подальше из Дании, и не повинных ни в чем
злодейском, кроме того, что умом они не блещут, пытаются выведать
намерения Гамлета (весьма неуклюже) и преданы своему
королю. Гамлет отправляет школьных друзей к праотцам, похоже, из
чистого искусства, войдя в тот самый "сладостный" запал
борьбы. И когда Горацио с ноткой сочувствия меланхолически
вопрошает: "Так, значит, Гильденстерн и Розенкранц плывут?" -
Гамлет отвечает: "Что ж, им нравилась их служба. Моей
совести они не отягчают. Они погибли из-за того, что затесались в
это дело. Людям низшей породы опасно вмешиваться, когда
высокорожденные противники обмениваются бешеными и
беспощадными выпадами" (V, 2).
Вот каким становится Гамлет, когда надо бороться.
Это казалось естественным. Ничего особенного Шекспир в
этом не видел. Воспитанный и достойный дворянин, Лаэрт идет
гораздо дальше: он готов заколоть наследника престола в
церкви и сам, без подсказки Клавдия, додумывается смочить в
спортивном поединке ядом кончик рапиры. А предварительно
публично заявляет, что якобы отказался от мести: дабы отомстить
тем вернее. Впрочем, перед смертью он раскаивается в
вероломстве, когда задуманное не удается и гибнет он сам.
Это Гамлет, это Лаэрт - а не Макбет, не Ричард III, не Яго.
Все это во вкусе времени. Шекспир, как и Макьявелли,
относился к истории без сентиментальности. То есть вдумывался
в сущее, а не изображал должное. В частности, открывал или
придумывал (моделировал, как выразились бы теперь)
трагически-неоднозначные ситуации, в которых притворство и
беспощадность оказываются на службе у человечески-оправданных
мотивов и целей (например: заговорщики в "Юлии Цезаре",
Шейлок или в целом, так сказать, добрый, но весьма
энергичный и неумолимый волшебник Просперо...). Однако "трусость"
Гамлета - несовпадение традиционалистских моральных
обязательств и внутреннего "Я" - стала коллизией, совершенно
исторически необычной даже для шекспировского творчества.
Именно в этой пьесе (и в "Короле Лире") исследована пере-
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯш НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
плавка морали в добытую самим индивидом, обеспеченную его
личностью нравственность.
...Немного погодя Сервантес показал благонамеренного
человека, который видит свое призвание в том, чтобы
вмешиваться в ход вещей и восстанавливать справедливость силой
оружия.
Необходимая оговорка. Эти ассоциации, разумеется, уже по
своей беглости не могут претендовать на какую-то "трактовку"
столь предельно сложных культурных образов, как Гамлет или
Дон Кихот; но, кроме того, это всего лишь заметки на полях То-
сударя"\ на бездонный смысл, заданный нам гениями XVII в.,
мы глядим сейчас исключительно со стороны Макьявелли - как
на ответы ему в сфокусированном через эту возможную
призму проблемном плане.
Итак, честный и неугомонный рыцарь из Ламанчи
отправляется действовать. Но он живет в целиком воображаемом
мире. Его вмешательство поэтому неизменно приносит вред,
скорее увеличивает сумму мирового зла или в лучшем случае
остается призрачным. Он сам - персонаж ироикомический, а если
подойти к нему посредством понятия "личности" - воистину
свихнувшийся. Ясно, что прикладывать это понятие к
буффонной по своим корням фигуре Дон Кихота - операция
достаточно анахронистическая, не вполне законная. Не берусь толковать
о его испанской фольклорной почве, но итальянисту он
напоминает разные маски commedia dell'arte - понемногу от каждой.
Дон Кихот при симпатичнейших намерениях постоянно
получает жесточайшие колотушки, как Арлекин; он смешной
старик, вздыхающий по Дульцинее, как Панталоне; и он
неустрашим и горделив, как Капитан. При всем при том он никоим
образом ни то, ни другое, ни третье, он - Дон Кихот. То есть:
пусть это барочная маска, но сросшаяся с конкретным
индивидом, уникальная и немыслимая вне одного-единственного
произведения. Однако "маска" ведь, по определению, вещь съемная,
переносная, она должна бы воспроизводиться в новых и новых
импровизациях (собственно, так и построен роман-вариация
Сервантеса, где большая сюжетная рамка оконтуривает цепь
более или менее независимых происшествий, каждое из
которых начинает сызнова и сызнова доводит до плачевного финала
все одну и ту же тему великого безумца). "Неповторимая мас-
_ 874
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
ка", однако, нечто странное, переходное, историко-культурный
парадокс, наводящий на мысль о застывшей индивидуальности.
Поэтому Сервантес все-таки дает нам право заговаривать
именно о личности Дон Кихота в связи с проблемой
социального действия и деятеля. Этим правом сполна воспользовалась
традиция XIX столетия, вставившая изрядно
романтизированный силуэт Рыцаря Печального Образа в контекст своей
ведущей темы "Личность и общество". У нас в России
представление о благородном и неукротимом нонконформисте, не
желающем приладиться к наличным обстоятельствам, покориться
пошлой необходимости, было закреплено, как известно,
Тургеневым. Такая трактовка, безусловно, тоже заложена в тексте
Сервантеса и оказалась актуализованной во встрече с культурой
прошлого столетия, столкнувшейся со слишком трезвым,
слишком практичным и успокоенным буржуазным обыденным
сознанием. Впрочем, не случайно за возвышенной трактовкой Дон
Кихота навязчивой и враждебной тенью следует понятие
"донкихотства"... Образ раздваивается. Тургеневу пришлось
пренебречь тем, что Дон Кихот в глазах Сервантеса и его тогдашних
читателей, как ни осложнено (особенно во второй части
романа) авторское отношение, прежде всего очень смешон. Понятно,
почему это не исключает слез, которыми обливался в детстве
над этой книгой Гейне. Перед нами вершина трагического
бурлеска. То, что ММ. Бахтин назвал "карнавальным смехом",
становится у Сервантеса способом объективной оценки,
отчуждения и суровой проверки претензий только что появившейся
личности.
Личность тут еще равнозначна тому, как в XIV-XVI вв.
обозначали индивидуальную складку и пристрастие человека.
"Фантазия", "причуда", "помешательство" - говорили тогда в
подобных случаях, не зная более подходящего слова. Дон Кихот
воплотил это в наибуквальном толковании. Унылая фигура
идальго на Россинанте с ретроспективной точки зрения - это
личность, выделенная с максимальной резкостью, зато
лишенная взаимодействия с реальным миром, а потому и способности
меняться: воздвигшаяся в квазиэпической неподвижности.
Правда, замысел романа и, следовательно, образ Дон
Кихота, как установили литературоведы, претерпевает существенное
развитие, обрастая при третьем выезде рыцаря из Ламанчи но-
875 —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
выми идейными мотивами (и, между прочим, как заподозрил
Томас Манн, становясь менее художественно цельным)14.
Роман действительно перестраивался. Но благородное
помешательство Дон Кихота, сколько бы оно ни запутывалось,
перемежаясь и смешиваясь с глубокомыслием, порой делающим честь
самому автору, все-таки с необходимостью маниакально
возвращается к исходному пунктику... "...Этим определялись все его
поступки, вокруг этого вращались все его помыслы, и на это он
сводил все разговоры" (ч. 1, л. XVIII)15. Без этого, разумеется,
лопнула бы комическая пружина. Дон Кихот - может быть, в
отличие от "образа Дон Кихота" - не в состоянии отступить от
себя и на малую толику, не перестав в ту же минуту быть Дон
Кихотом. Он способен самое большее признать, что "ведь не все
же в этом замке заколдовано" (ч. 1, л. XLIV). Пусть Сервантес
впрямь стремится, по замечанию Манна, "поднять его до своего
собственного духовного уровня, сделать его рупором своих
взглядов и воззрений" - все же вопреки "оптическому
перемещению" роман сохраняет пластическую мощь постольку,
поскольку пуповина, связывающая поведение Дон Кихота и
"связный вздор" его речей с народной комикой, при всем при
том не прерывается. И его личность сохраняется благодаря
уморительной монументальности - вплоть до конца, до
распада, до обратного превращения в сеньора Кихану.
Дон Кихот являет нам самосознание, отделившееся от
эмпирического индивида, причем идальго Кихана должен был,
чтобы стать личностью, сойти с ума, т. е., чтобы стать
подлинным собой, пришлось стать не-собой. Достойный Кихана
неотличим от десяти тысяч других. Дон Кихот, напротив,
неподражаем. Он поэтому подлинней того, в чьей телесной оболочке
поселился.
Но мало поверить в приключенческие романы, тогда Дон
Кихот ничем не отличался бы от цирюльника или ключницы,
которая боится мести волшебников, или хозяина одного из
постоялых дворов, принимающего похождения странствующих
рыцарей за чистую монету - по впечатлению окружающих,
едва ли уступающего в этом Дон Кихоту. Мало даже вообразить
себя внутри книжного сюжета (как это произошло с одним из
персонажей, начитавшимся римских писателей, еще у Франко
Саккетти - правда, лишь на вечерок). Недостаточно быть чита-
_ 876
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
телем и придумывать себя в уединении. Таковым, собственно, и
был до поры до времени идальго Кихана, и это не мешало
односельчанам и домочадцам относиться к нему с почтением.
Дон Кихот, понятное дело, рождается лишь в тот час, когда
он пускается в путь с копьем наперевес. Когда принимается
действовать! - всегда в соответствии со своей ничем не сокру-
шимой "фантазией", со своей, если угодно, личностью. Таким
образом самосознание вновь соединяется с эмпирическим
индивидом, но уже как с собственным порождением.
Увы, Дон Кихот обнаруживает, что и странствующие
рыцари нуждаются в еде, отдыхе, в элементарных телесных
отправлениях, в ночлеге и снадобьях для ран. Именно приключения в
трактирах и на большой дороге создают Дон Кихота: иначе как
проявился бы решающий признак нашего рыцаря, т. е. то, что
он не способен извлечь опыт и посчитаться с внешним миром.
Этот самый признак, собственно, и послужил впоследствии
основой возвышенного и символического толкования; в нем же,
однако, источник грубого площадного осмеяния;
амбивалентным оказывается некий необходимый, но здесь замкнутый на
себя, комически-гипертрофированный полюс личности: ее
самотождественность и самодетерминация. Экспериментально
полностью удален второй полюс: понимание реальности и
способность к развитию, словом, открытость. Дон Кихот, хотя и
умеет, как никто, "стоять на своем", беден, если разглядывать
его как художественный эскиз личности, тем больше, чем
больше "не может иначе"16. Он чересчур уж верен себе... Его
красноречивая и многословная рефлексия, в которой порой так
неразличимо переходят друг в друга трогательная доверчивость,
рассудительность общих мест, глубина, болтливость и
напыщенность, в целом есть пародия на риторику. "...Все это анихея, или
ахинея, - не знаю, как правильно" (ч. 1, л. XXV). Это мнимая
рефлексия, дающаяся без труда, потому что Дон Кихот
утешительно не замечает своих поражений. Объяснения, которые он
дает себе, стереотипны и всегда наготове. Вот его измолотили
до полусмерти, "и все же ему казалось, что он счастлив, - он
полагал, что это обычное злоключение странствующего рыцаря"
(ч. 1, гл. IV). Или: "Хотя нас и поколотили, честь наша, да и
будет тебе известно, осталась незапятнанной, ибо орудия, которые
эти люди держали в руках и которыми они нас избили, - всего-
S77 _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯи НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
навсего дубинки..." (ч. 1, гл. XV). Дон Кихот не видит
реальности, но, следовательно, и себя. Горечь, возможно, испытывает
временами Сервантес или позднейший читатель, но - не сам
рыцарь.
Кстати, Санчо в этом плане куда личностно объемней,
человечней, он - попеременно и одновременно - и верит своему
хозяину, и не верит, и смеется над ним и над собой. Рыжий клоун
в паре с клоуном белым. Это здравый смысл, сбитый с толку за
пределами деревенской околицы, пытающийся совместить
трезвость и мечту, синицу в руках и журавля в небе, покой и
странствия, преданность и выгоду, - и вот, пустившийся трусцой за
нашим книжником навстречу мировой Истории.
А Дон Кихот, ах, как он прекрасен и... примитивен. Он
принадлежит не себе, а мономании, своему, так сказать, делу -
вопреки не только колотушкам, но и тому, что никакого дела нет.
Дон Кихот говорит, что к нему применимы слова: "Он
подвигов не совершил, но он погиб, идя на подвиг". Это верно лишь
наполовину. Как и полагается ироикомическому персонажу,
Дон Кихот под градом смертельных ударов остается в
конечном счете живехонек. Что до подвигов, то, несмотря на
потрясающую субъективную честность и всегдашнюю готовность к
ним, действительно, "он подвигов не совершил". Мощь этой
сказочной личности уходит в песок, и Сервантес неистощим в
придумывании замысловатых приключений, которые
таковыми не являлись.
В предупреждение слишком серьезно настроенным
читателям XIX в., от Гейне до Достоевского, Санчо облегчает
желудок, издав "не слишком громкий звук, резко, однако же,
отличавшийся от тех, что нагнали на него такого страху. Услышав
это, Дон Кихот спросил:
- Что это за звук, Санчо?
- Не знаю, сеньор, - отвечал тот. - Уж верно что-нибудь
новое; эти приключения да злоключения как пойдут одно за
другим, так только держись" (ч. 1, гл. XX).
Дела нет у величайшего деятеля, бодрствующего в карауле
даже ночью, не желающего терять времени на сон,
бросающегося навстречу воображаемым великанам, - и тут-то мы его
любим особенно, тут, в нелепости и безрассудности поступка, а не
в рефлексии, и заключена вся его личность, величественно
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
вспыхивает его донкихотство. И увенчивается зуботычинами, а
то и блевотиной, которой орошают друг друга рыцарь и
оруженосец, наглотавшись чудотворного бальзама.
Да ведь это, между прочим, один из ответов европейской
культуры на теорему, заданную ей Макьявелли?!17. Хотя... кто
же решится сказать окончательно, каков ответ Сервантеса.
Тут согласие по существу теоремы, переформулированное в
виде возражения. Доказательство от противного. Или, скорее,
возражение под видом согласия? Дон Кихот - антипод
"мудрого государя" Макьявелли в такой степени, что... похож на него,
ибо тоже ущербен, пусть на противоположный - трогательный
и смешной - лад.
Дон Кихот истинно бесстрашен, но, нападая на великана, на
целую армию, он не только не замечает, что перед ним
мельница, бурдюк с вином, стадо овец. Он еще исходит из того, что
странствующие рыцари всегда так поступают - и способны
одолеть, разметать, пленить сколько угодно великанов. Дон Кихот
бесстрашен, поскольку ему-то опасность представляется
подлинной, но его однообразное субъективное мужество
сопряжено с уверенностью в победе, по меньшей мере с надеждой на
прочность бритвенного таза, на мощь своего копья, на свой
богатырский удар. Короче, это бесстрашие героя комического
эпоса, подлинное и мнимое одновременно.
Неоромантики не только удалили из этого неподражаемого
сплава комику, площадное осмеяние, законченную в себе выду-
манность донкихотовой действительности - все, что как раз
было словно бы насмешкой над будущим романтизмом. Внутри
собственного мира рыцарских романов Дон Кихот вполне
практичен, взыскуя славы, домогаясь благосклонности Дульцинеи,
отсылая к ней плененных им "рыцарей", тщательно соблюдая
этикет этого мира, сочетая сердечную чистоту с
напыщенностью и бахвальством. "Непрактичен" он только извне этого
мира и посреди мира реального, для трезвого чужого взгляда.
Эти две точки зрения, "изнутри" и "извне", способны
меняться местами. То есть не только реальное - критерий оценки
воображаемого, книжного, но и воображаемое, донкихотское
дает способ оценки реальности, ее остранения. Отсюда
возможность суда над реальностью с высоты благородного безумия, до
конца высвобожденная читателями иных эпох. Однако мудрое
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
безумие, будучи истолковано рационалистически, становится
однозначным. Одновременно со слепотой, безумием,
романтическими интерпретациями устранена была и сказочная
самоуверенность. В конце концов Дон Кихот был понят как чистая
апология нравственности, как ее аллегория. Или как символ
безнадежной и бессмысленной "борьбы с ветряными мельницами".
Обе версии - романтическая и обывательская - бедны. Не
только пародией на авантюрные романы, но и сложным внутренним
расчетом уходящего Возрождения со своими идеалами
(например, с поэмой Ариосто), постскриптумом ренессансной
культуры и первой барочной рефлексией на испанский национальный
характер, исполненной печальной любви и горечи - всем этим
мы часто отказываемся считать сочинение Сервантеса, реализуя
его смысловые возможности лишь в одном направлении.
Но тогда Сервантес (и, уж разумеется, Макьявелли) тут ни
при чем. Получилось - в довольно расхожем
модернизированном толковании, - что аДон Кихот" это всякий, кто выходит на
бой и жертвует собой, не хуже других сознавая всю
практическую безнадежность своей борьбы (по крайней мере, в
обозримом историческом горизонте и в пределах личного жизненного
срока) и, конечно, зная, что имеет дело с овечьим стадом, с
каторжниками, с ничтожным герцогом. Именно поэтому вопросы
о реальности и эффективности социального действия отпадают
как неуместные. В этой плоскости (всецело индивидуального и
всецело нравственного выбора) их задают робкий конформизм
и человеческая слабость. В худшем случае это уловки нечистой
совести, жаждущей самооправдания. В лучшем - это вопросы
политические, т. е. из совершенно иной плоскости.
И в любом случае они бестактны в момент, когда другой
человек - не ты - восходит на костер. Они запретны, при том что
никуда от них не деться...
Однако всегдашняя готовность Дон Кихота в соединении с
полнейшей трезвостью, донкихотство минус нелепость, минус
помешательство, пускай и благородное, - какое же это
"донкихотство"?
Это совсем иная проблема.
Конечно, корни всех проблем встречаются и сплетаются в
толще действительной истории. Макьявелли написал пособие
для политика, которому надлежит знать, при каких условиях
_ 880
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
удается обычно захватить или удержать власть и по каким
причинам это не удается. Сервантес рассказал о человеке хорошем,
который не читал этого пособия, а читал волшебные сказки,
жил не в том же мире, что и прочие люди, но в том, который
вообразил. И что из этого вышло, когда он принялся действовать.
Потом наши Тургенев и Достоевский восславили
"донкихотство" индивида, который все видит и понимает, который
прочел (или угадал) и Макьявелли, и Сервантеса - отверг
прагматизм "мудрого государя" и сберег прекрасную душу, но безо
всякого безумного прекраснодушия. Такого человека могут
звать Инсаровым, или Алешей Карамазовым, или князем Мыш-
киным. Впрочем, у Достоевского он остается, разумеется,
всецело в сфере приватной человеческой жизни и отношений. Кроме
того, он и тут, собственно, не "действует", а скорее нежданно
для себя попадает в круговерть событий, не им затеянных,
выполняет поручения других персонажей, выслушивает их
горячечные исповеди, сострадает, путается под ногами, вызывает
любовь и раздражение, мучается всеми несовершенствами мира
и тем, что никому и ничему не в силах помочь, хотя бы и
принимая на себя чужую боль. Не участие в людских делах, а
сопричастность и участливость.
Известно, что Достоевский обдумывал замысел, согласно
которому Алеша должен был заняться политикой... и кончить
на виселице. В контексте новоевропейской культуры
проблематика "Государя" оказалась неотвязной и вечной, хотя бы и в
глубоко преобразованном виде "Легенды о Великом
инквизиторе". Возвращаясь на землю, Христос видит, что его учение
осталось неосуществленным, что наличное и реальное христианство
не нуждается в Христе. "Зачем же ты пришел нам мешать?"
Великий инквизитор, конечно, читал Макьявелли, смотрит так же
на человеческую природу и чуть ли не перефразирует
сентенцию последнего насчет того, что "все вооруженные пророки
победили, все безоружные потерпели поражение": "Ты хочешь
идти в мир и идешь с голыми руками". В ответ на это новое
искушение опытом мировой истории, вполне подтверждающим, по
мнению инквизитора, слова "страшного и умного духа" в
пустыне, - Христос молчит.
Если теоретически представить культурно-личностный тип
новоевропейского поведения переведенным в деятельно-прак-
№ _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ яЯт НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
тический и тем более в политический план, приходится вновь
задумываться над "Государем". Если индивид включается в
социальное действие, если он, стало быть, хочет добиться успеха,
а глаза у него широко открыты, - он нуждается, пусть и будучи
во всем остальном "Дон Кихотом", в понимании и расчете. Все
дело "только" в том, как посчитаться с Макьявелли, отвергая
макьявеллизм, а выражаясь проще, как совместить верность
себе с действенностью. Соединить великое безрассудство и
рассудок, идеалы и анализ, духовность и практичность.
Книги Макьявелли и Сервантеса - оголенные смысловые
крайности, неожиданно встречающиеся в глубинах единой
проблемы, но выглядящие, если остановить их уникальные
духовные вибрации, т. е. если увидеть в этих книгах не вечные
вопросы, тревожащие потомков, а некие однозначные ответы, -
выглядящие эмблемами "макьявеллизма" и "донкихотства".
Занятно: обе противоположные эмблемы окрашены отрицательно.
Вот безвыходный кризис ренессансной virtu: на переломе к
следующей эпохе она кажется или устрашающей, или жалкой.
В обоих предельных случаях связь личности с миром -
нарушена. Выбор, заметим еще раз, не только между
неразборчивостью средств - и беспомощной идеальностью, и
колотушками. Допустим, этот выбор сделан. Можно восхищаться много-
терпением и стойкостью Дон Кихота. Не о том сейчас речь. На
заре Нового времени вырисовывается невеселая дилемма: или
надо во имя успешного исторического действия преодолеть
самотождественность индивида, протеистически размазать его
"Я" сообразно обстоятельствам; или безуспешно-деятельному
индивиду, который верен себе, придется пожертвовать своей
способностью несовпадать с собой, быть разным, меняться.
Придется рехнуться.
В обоих случаях возможность совмещения субъекта
действия и личности попадает под сомнение.
Личность как поступок
Однако не является ли вообще с теоретической точки
зрения подобная возможность химерической? Разве то, что мы
называем "личностью", не стушевывается, не исчезает в тот са-
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
мый момент, когда индивид включается в некое социальное
действие с его объективной логикой и вынужден соблюдать
анонимные правила игры? Иначе говоря, становится носителем
ролевой функции, по Веберу. Причем здесь сугубо
культурологическое понятие личности, осуществляющей себя через
социальность особого типа, т. е. в общении, вносящей в мир
созданных человечеством смыслов свой индивидуальный,
неповторимый смысл?
Все-таки я думаю (и попытаюсь в заключение вновь
вкратце объяснить почему), что как раз именно в этом творчески-
смысловом плане (а вовсе не со стороны цивилизационной,
социологической) "фаустовская" эпоха - постольку, поскольку
она принимает идею личности, - превращает всякого человека в
деятеля. Индивиду-личности ничего не остается, как быть
деятелем просто по определению. Что, конечно, не означает, будто
каждый действительно стремится что-то изменить в мире или
способен на это. Тем не менее каждого, к кому мы подходим с
меркой "личности", приходится рассматривать, как если бы он
был деятелем.
В традиционалистских ситуациях поведение индивида
оценивалось по отношению к готовому образцу. Его действия
получали или не получали сакральной и соборной санкции,
получали или не получали морального одобрения. Индивид сам
отвечал за свои действия, но в последнем счете не за их смысл.
Потому-то (а не только идеологически) в средневековом,
скажем, представлении об идеальном положении индивида в мире
(т. е. в идее "святого", "праведника" или - на более мирском
уровне - "доброго христианина" etc.) не была заложена
необходимость быть деятелем... Последнее основание жизни - даже
если приходилось отдавать в нем отчет и мучительно
додумываться до него - сознавалось как абсолютно надындивидное.
Рефлексия состояла в том, чтобы бдительно сверять свои шаги
с предписанным, предуготованным путем. Рефлексия могла
достигать трагической напряженности, если одно понимание
Правила и Пути сталкивалось с другим пониманием, если на
историческом распутье индивид был призван к выбору... но это
был, разумеется, выбор истинной нормы, того, что на самом
деле было бы Вечным, Всеобщим, Священно-Правильным.
Прочие же люди могли считать новую (и только в этом значении
m _
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯ9 НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
адогматическую) догму опасной ересью (ср.: Прометей,
Антигона, Сократ, Христос, Августин, Абеляр). Но так или иначе,
речь шла об истолковании миропорядка, его единственно
верного Смысла. И тот, кому открывался Смысл, не отвечал за
него (а только за свои действия, на нем построенные), даже
будучи готов оплатить приверженность ему кровью и жизнью, т. е.
будучи в глазах других людей повинным в отклонении от
(иначе ими трактуемого) Смысла.
Сократ ведет себя перед смертью так, как следует вести
себя мудрецу. А не так, "как следует вести себя Сократу". Правда,
это именно он, Сократ, познал, в чем мудрость; другие казнят за
нее или советуют бежать. Но дело не в "индивидуальности"
Сократа; он не согласился бы, что можно быть истинно мудрым -
и рассуждать, и вести себя иначе, чем ведет себя он. Итак, это
не мудрость в его личном понимании; это самое Мудрость. Он
лишь умеет к ней прислушаться. Сократ никому ничего не
навязывает. Но его позиция авторитарна, поскольку исходит из
абсолюта.
Разумеется, и в индустриальных обществах бывает сколько
угодно культурных людей, обладающих религиозностью или
приверженных тому, что они считают абсолютными нормами
поведения. Однако в обществе, где такое решение признается
допустимым наряду с радикально иными решениями (ввиду
"свободы совести" как правовой, но также и
культурно-психологической предпосылки), этот выбор личности на фоне
неустранимой множественности позиций имеет смысловую
подоплеку суверенности, невиданную ранее (в ситуациях тотальной
религиозности и коллективности)18.
Такие исключительные люди, как Сократ, с их рефлексией
и сознательно выбранной судьбой привычно представляются -
в неизбежном соотнесении с более поздним понятием -
подлинными личностями, подчас куда более грандиозными и, так
сказать, космичными, чем все, что могло бы предъявить в этом
отношении Новое время. Ретроспективно так оно и есть. Иначе
нельзя - в современной культуре - общаться с протагонистами
"Апологии Сократа" или Августиновой "Исповеди".
Однако не забудем, что эта грандиозность каждой из
древних личностей, их масштаб всечеловеческих притч
(исторически реальных или литературных персонажей, неважно) тесно
_ ш
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
связаны как раз с тем обстоятельством, что в некотором очень
важном значении "личностями", а значит, четко индвидуализи-
рованными, отграниченными от других, самодостаточными, а
потому частичными, хотя и бесконечно особенными
индивидами, эти люди не были. Они во многих отношениях, конечно,
похожи на то, что возникнет позже и будет названо личностью. И
уж само собой, надличный характер духовного склада и
самосознания не делает людей прошлого в чем-либо "ниже" нас или
недоступными для нашего понимания. Попросту они инаковые
и отчасти ближе друг к другу, чем к нам; если мы это замечаем
последовательно и чутко, это сказывается, между прочим, также
в том, что "личностями" их позволительно счесть лишь при
существенной доле неосознанного или, напротив, остро
переживаемого культурного анахронизма19.
Дело в том, что для личности тут недостает идеи личности.
...Если мы не считаем "личность" синонимом или предикатом
"индивида", а потому и всевременной (хотя и, дескать,
изменчивой) данностью, если согласиться, что "личность" - это
исторически определенная регулятивная идея независимой или
оригинальной индивидуальности, то в культурах, где такая идея была
невозможна, не было и самих личностей, т. е. людей,
оцениваемых в свете этой идеи. Как не было... допустим, христиан там,
где ничего не слышали о Христе (хотя, конечно, ничто не
мешает нам вслед за Данте попытаться спасти от осуждения добрых
язычников и поместить их в Лимб).
Немыслимо, надо полагать, индивиду быть "личностью",
если в его голове нет (и не может быть в традиционалистском
обществе) ни малейшего представления о самоценности, беспред-
посылочности того особенного смысла, которым живет эта, и
только эта неповторимая человеческая особь, которым
наполнена эта, и только эта уникальная жизнь и судьба. Короче, если
нет принципиально индивидуального индивида и его обоснования
лишь из себя же. "Из себя"?1 - ну, конечно, через социальную
среду, через историческую и культурную почву, но все-таки -
среду и почву, пропущенные сквозь данную индивидуальность,
замкнувшиеся на ней и в культурном итоге не просто
"породившие" ее, а заново порожденные ею (всякий раз заново и
особенным, непредвидимым образом пересоздаваемые в процессе
самоформирования личности). Это, примерно, и начали (с разной
m —
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ тЯя НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
степенью дискурсивной выявленное™) понимать под
"личностью" в Новое время.
Далее. Появление личности ставит всю проблему
индивидного самосознания наново.
Индивид отпадает от внешнего мира. Больше нет его
естественной включенности изнутри в мировой порядок вещей и сли-
янности с этим макрокосмом или уподобленности ему. В
познавательном плане это означает, что индивид попадает в
положение отстраненного наблюдателя. Натурфилософия становится
гносеологией, т. е. учением об "отношении субъекта к объекту".
До XVII в. не слыхивали ни о каком "объекте"... Возникает
наука в современном смысле слова, руководствующаяся
критериями "научности". До XVII в. под наукой понимали
осведомленность, ученость, но не имели понятия ни о какой "научности" и
ее строгостях...
В культурном же плане (и, в частности, в нравственном)
отделение человека от внешнего мира парадоксально означает,
что отныне на индивида ложится тяжкая личная
ответственность за этот мир... Прежде всего, разумеется, в смысловом
плане. Но тем самым - и в совершенно практическом. Ведь теперь
уже нет трансцендентного Смысла над практикой... Какой бы то
ни было смысл, после того как "бог умер", вносится в мир
личностью. "Я" в десакрализованной Вселенной не может ни в
одном важном шаге полагаться на предписанные нормы; конечно,
всякое "Я" ищет авторитетную позицию, не совпадающую с
ним, выходящую за его скромные пределы, и обретает такую
позицию в истории, в культуре, в традиции или в пафосе
новизны, в великой идее, вообще в том, что "Выше меня"; иначе
страшная угроза солипсизма; однако ищущий обязан знать, что
гарантий нет, что выбор - на полную его ответственность, что
другие личности выбирали и выбирают иначе... Короче, в
открытой ситуации, в условиях принципиальной и осознанной
множественности духовных позиций (смыслов, ответов на
"последние вопросы") личность, т. е. индивид, рефлектирующий без
абсолютной точки отсчета, не могущий слепо ввериться кому-
либо, прислониться к чему-либо и т. п., вынуждена как раз
поэтому развернуться лицом к миру.
Дело не в том, к чему склонен данный человек. А в том, что
на него возложена свобода. Будь он сколь угодно интровертен,
_ m
"Государь" Макьявелли в контексте новоевропейской идеи личности
пассивен и т. д., все равно индивид в качестве личности творит
мир уже тем, что занимает в нем какое-то свое особое место. Он
не в состоянии и пальцем пошевелить, чтобы это не было
тотчас соотнесено с его личностью. В той мере, в какой мы
действительно толкуем о личности, в ее жизни пусть много
случайного, но не бессмысленного. Смысл неотвратим, личный смысл -
пусть задним числом. (В прежние эпохи это был заведомый
или, во всяком случае, казавшийся предлежащим, - не его,
индивида, а лишь усвоенный и претворенный им смысл.)
Личность в качестве таковой не в силах укрыться за
нормативностью и машинальностью каких-то своих значимых
общественных действий. Ее призовут к ответу мысленные
собеседники. Конечно, обстоятельства то и дело бывают сильнее
личности, но она тем неизбежней откликается и на такие
обстоятельства. Бездействие - тоже поступок. Личность - сплошное,
непрерывное индивидуальное решение, непрекращающийся
выбор, и если каждый порождаемый ею смысл действует вовне,
то и каждое ее действие оценивается так, как если бы за ним
была рефлексия. Выглядит поступком.
Отделившись от внешнего мира, личность тем самым
устанавливает с ним некое своеобразное и эффективное отношение.
Внешний мир в ней овнутряется. А ее внутреннее состоит не
только в мыслях и выражается не только словами. Срабатывает
обратная связь. Личность есть, конечно, рефлексия; но
благодаря суверенности личность онтологична. Личность есть
последняя истина своего существования. О своеобразии личности
можно судить по ее отношениям с миром, развивающимся
биографически, по свойственному только ей способу отвечать на
вызов обстоятельств, короче, судить, ничего непосредственно
не зная о рефлексии, но исходя из фактов. Ибо это - в случае с
личностью - всякий раз сросшиеся с нею, относящиеся только
до нее, насквозь индивидуальные факты.
С этой точки зрения личность заявляет о себе поступками, и
она такая, как поступает. Как говаривал Дон Кихот: "Каждый
сын своих дел". Не забудем, что речь идет именно о личных
поступках, а не о действиях, пусть и пропущенных через
рефлексию, но внушенных верой в норму и утверждающих Смысл,
которому причастен индивид. То есть собственно-индивидно здесь
скорее переживание и осмысление действий, но не действия. В
ш_
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ЯЯ9 НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
поступках, напротив, выражается смысл, причастный индивиду,
восходящий к тайне его оригинальной личности и потому порой
труднообъяснимый, словно бы не мотивированный, не отрефлек-
тированный. Но сам человек говорит: "Просто я иначе не могу".
Или: "Принимайте меня таким, каков я есть". И окружающие
часто это тоже ощущают и соглашаются: "Да, в этом он весь". Он -
а не Истинная Мудрость или Провидение, которому он
послушен. Разумеется, отсутствие рефлексии - мнимое. В поведении
личности, в принципе, все существенное окрашено и
подготовлено раздумьями всей жизни, уникальной логикой этой судьбы.
Индивидуальная неповторимость уже сама по себе служит
объяснением и оправданием, когда мы оцениваем такую судьбу.
Никому не удается прожить так, как он хотел бы, но задним
числом мы, однако, говорим о завершенной жизни личности,
как если бы эта жизнь была ее произведением. Особость
личности вносит в мир то, чего в нем не было бы без нее, а
самообоснованность индивида новоевропейского типа превращает его в
ответственного творца своих поступков (осмысляемых через
данную личность и одновременно ее формирующих). Поэтому
личность - деятель по определению. Это глубоко
индивидуализированный тип рефлексии человека, непосредственно - без
санкции Нормы и Абсолюта - имеющего дело с реальностью и,
как принято выражаться, "отвечающего перед историей".
(Включая сюда - в перевернутом виде - и руссоистского или
романтического героя, т. е. бунт против истории, бегство от
жизни в качестве главного и трагического решения.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭТО затянувшееся рассуждение возвращает нас к
Макьявелли и позволяет повторить некоторые выводы.
Итак, поскольку автор "Государя" создал поразительную
модель индивида, который совершенно свободен по отношению
к себе и сам решает, как себя вести, каким ему быть в
конкретной обстановке, по исходному определению это нечто весьма
нам знакомое, напоминающее об идеализированном
гуманистическом индивиде, способном "стать тем, чем хочет". Тут есть
бесспорная структурная параллель, например, с универсальным
"придворным" Кастильоне. Ведь и "придворный", и "мудрый
государь", во-первых, заданы собою же, самодостаточны в своей
отдельности; во-вторых, могут разворачиваться во всех
направлениях, будучи разнообразными внутри себя. И в этом плане
соотнесены - оба! - с будущей идеей личности.
Огромная разница состоит, однако, в том, что Макьявелли
нет ни малейшего дела до цельности и гармонии индивида,
вообще до личности как таковой, т. е. - обойдемся одним-единст-
венным словом - личности в культуре. Хотя его чрезвычайно
занимает, каковы индивидуальные возможности человека и что,
собственно, такое индивид, - все внимание немедленно
переносится на то, как же должен действовать индивид в качестве
удачливого политика (при мысленном допущении - на
котором, несмотря на сильнейшие сомнения, построен трактат, -
что природа индивида допускает столь полное владение собой,
что деятель не обязательно закреплен за тем или иным
свойством характера и т. п.). То, что позже назовут личностью, для
Макьявелли лишь условие и аппарат действия. Поэтому "муд-
Й9_
Заключение
рый государь" смотрится в ближайшей историко-культурной
перспективе как квазиличность, как ее
прагматически-искаженный, тупиковый вариант. Но поэтому же следует признать все
драматическое значение такого испытания (сопоставимое с
испытанием Фауста практическим социальным делом). Это был
поистине теоретический experimentum crucis ·.
Гуманисты брали "доблестного" и "героического" человека
наедине с собой (а также в абстрактно-риторическом
отношении к общине и согражданам, в сосредоточенных творческих
занятиях или посреди более или менее условной "деятельной
жизни", в пасторальных грезах или, может быть, в кругу семьи,
на худой конец, в противопоставлении ученого содружества и
"толпы"). А Макьявелли размыкает этого индивида и грубо
швыряет в поток истории.
Однако это ведь неизменно должно было произойти и
вскоре произойдет с новоевропейской личностью. Ибо личность,
между прочим, такой человек, который вынужден вступить в
прямой расчет с внешним миром без посредничества каких-либо
анонимных и всеобщих инстанций. Действительно, в отличие
от "доброго мужа", или "мудреца", или "подвижника" личность
может быть рассмотрена в отношении к себе, лишь если она
понята как существующая в реальном историческом мире.
Последнее ни на минуту нельзя забыть (и культура Европы будет
помнить) не только в эмпирической и страдательной, что ли,
плоскости, но именно концептуально.
То есть обстоятельства и "внешние" цели
индивида-личности суть важнейший узел его внутренней жизни и культурной
сущности. Индивидуальный характер личности сгущается в
общении, на границе с иной личностью, но и в неотвратимом
действии, на границе с тем, что в прошлом веке называли "средой",
во встрече с историей.
Дано ли человеку Нового времени, которое признало за ним
неограниченное право на личную инициативу и возложило
тяжесть одинокой ответственности ("одинокой" и при
коллективном решении, так как в нетрадиционалистском обществе
исчезает основание, для того чтобы кто-либо мог переложить свое
решение на других или решать вместо других), - дано ли инди-
• Испытание крестом (лат.).
— m
Заключение
виду что-то изменить в мире по своему подобию? Конечно,
личность всегда вольна остаться верной себе ценой поражения и
гибели, но - если она, черт возьми, стремится победить? Какова
цена победы?
В том или ином случае, при осуществлении социальных
целей или неосуществлении, это, надо думать, что-нибудь да
означает для рефлективного ядра личности, для ее
самоопределения.
Правда, существует точка зрения, согласно которой только
нравственная победа индивида может быть подлинной победой
его человечности. Что до реализации его целей в мире, что до
победы социально-практической, то, по-видимому, это не
обязательно для нравственности, раз уж она восторжествовала
жертвенно... Что ж, безусловно, победа во всяком случае
должна быть нравственной, без этого она для личности
бессмысленна и запретна, и если надо выбирать, то мы выберем поражение.
Это-то ясно. Но заметим все же, что, во-первых, коли герой не
гибнет в финале, это как-никак приятно, и даже не только для
него... Во-вторых, если практический успех некой позиции
несуществен, то это едва ли не затрагивает существо такой
позиции и отказ добиваться успеха, "героическое" пренебрежение к
нему, бросает странную тень как раз на нравственность такого
поведения. Если я озабочен не самоутверждением (пусть
привлекательным и нравственным), а хочу, чтобы жизнь людей
изменилась к лучшему, то желательно совместить
нонконформизм с трезвым расчетом.
Как этого достичь в каждом отдельном случае, не
принуждают ли обстоятельства то и дело совершать выбор между
прагматизмом (который сам по себе вовсе не исключает
нравственности) и высоким безрассудством, которому трагически
приходится отдать предпочтение, - иной вопрос. Человеческий ум
устроен так, что, склоняясь перед тем, кто божественно
жертвует собой и уже этим одним нечто меняет в мире, в остальном не
меняющемся, мы задумываемся, не существует ли более
эффективных способов действовать.
Тяжелым валуном лежит на пути таких раздумий трактат
Макьявелли. Важно не то, что Макьявелли об этой проблеме не
подозревал. Зато он первым громадный комплекс вопросов,
которые через четыре века нарекут "проклятыми", - о реальности
S91 _
Заключение
и идеале, должном и возможном, цели и средствах, добре и
зле, - пропустил сквозь игольное ушко политики, через
треснувшее, как почка, понятие индивидности.
Макьявелли, кажется, единственный, кто в ренессансной
культуре, низведя "универсального человека" до "государя", тем
самым придал нарождающейся личности это неожиданное
экспериментальное измерение. Мимо жестких соображений
флорентийца не мог, начиная с Шекспира, Сервантеса и Спинозы,
пройти никто, кого волновало испытание индивидуальной
жизни и души социальной практикой. Не случайно трактат о
"Государе", невзначай оброненный уходящей ренессансной эпохой,
стал знаменитым и насущным уже за ее пределами. В конечном
счете Макьявелли не столько исказил или сузил центральную
проблему гуманизма, сколько радикально преобразил ее и
вывел через узкую протоку Возрождения непосредственно на
просторы культуры последующих веков, включая, конечно, и наш
трагический век.
POST SCRIPTUM
САМОИЗОБРАЖЕНИЕ (самовоображение)
есть одна из важнейших составляющих культурной реальности.
Оно порождает автобиографические тексты, включая сюда и
непосредственное жизненное поведение индивида.
Действительно, в той мере, в какой человек старается проживать жизнь
в соответствии со своими более или менее обдуманными
представлениями о том, что означает делать это правильно и
хорошо, - он превращает ее в упорядоченное подобие связного
текста (стиль жизни). Только поэтому становится возможна и
биография: в качестве обратного перевода с языка, как
предполагается, общезначимой констелляции событий и поступков -
опять на язык дискурса.
Автобиография - частный случай такого перевода. Лишь
когда жизнь начинает восприниматься в какой-то степени уже
как индивидуальное произведение, а не расшивается даже
самым ярким человеком по готовой надличной канве, - только
тогда появляется настоящая автобиография в виде довлеющего
себе смыслового задания и особого жанра.
Историк же берет и "реальную" жизнь индивида, и его
автобиографию как два параллельных текста; каждый
комментируется другим; и оба составляют один скрытый текст, который,
стало быть, требует реконструкции; тем самым историк
пытается перевести эту, так сказать, уникальную билингву на
собственный язык.
Наш интерес к имярек "в жизни" может быть, впрочем,
связан с изучением каких-то эмпирических связей и сторон
социальной структуры, с желанием ухватить их в человеческой кон-
893 —
Post scriptum
кретности; это достаточная и дострйная причина, но следовало
бы признать, что индивид выступает тут в роли "экземплума";
для исследователей социальной истории и ментальное™ важен
не имярек как таковой, не казус, а, так сказать, социологическая
или культурантропологическая моралите, которую изучаемый
персонаж иллюстрирует.
• Что до личной особенности данного индивида, то она
впрямь существенна только в историко-культурном повороте.
Тогда "в жизни" такого-то имярек на первый план выдвигается
смысловая мера: то, что превращает ее в своего рода
произведение. И значит, не та бесстрастная истина, которая открывается
внешнему наблюдателю хода вещей, а "правда" индивида (по
Бахтину); т. е. слитность этой истины с надеждами, целями,
заблуждениями, идеалами, общими местами, иллюзиями,
сожалениями, словом, всем тем, что наблюдатель (в отличие от
герменевтика) готов счесть ирреальным, незначимым.
Автобиография правдива постольку, поскольку к нам доносится голос
автора литературного текста, который вместе с тем автор
собственной жизни. Саморефлективный образ индивида сцеплен с
его эмпирическим существованием и входит в органический
состав последнего.
Как и люди средневековья или Возрождения, мы стремимся
поступать, сознавать и описывать себя в соответствии с
нормативной моделью, которой дорожим. Однако с тем эпохальным
различием, что с конца XVIII в. такая модель впервые начинала
основываться на идее Я как собственной бесконечной причини.
Современная культурная установка на подлинность Я, на
феноменологическую реальность и непосредственность его
отличия, тоже, конечно, по определению идеальна, условна. Она
совпадает с "жизнью" лишь постольку, поскольку стремится и
умеет добиваться, чтобы жизнь более или менее совпала с ней.
Уже письма Франческо Петрарки заставляют раздумывать,
возможна ли, в принципе, реальная и документально
засвидетельствованная непосредственность существования Я. Или
установка на психическую реальность самого-самого первого
порядка даже и в XX в., когда она стала привычной, считается
нормальной, - может привести лишь к реальности второго
порядка? То есть к современной культуре.
_ S94
Post scriptum
В индивидуалистической и светски-терпимой культуре
(предоставляющей также и религиозность или тяготение к
старине - личной инициативе) человек впервые действительно
остается наедине с собой. В том плане, что "Я" отныне не часть
чего-то более великого и неизмеримого, чем "Я". "Я" теперь
суверенное целое, а не часть. Все его определения - исторические,
социальные, национальные, культурные и пр. - отныне суть
"части" (грани, моменты) индивидуального "Я". А не наоборот.
Но тогда... что же такое мое, твое, его, всегда это, всегда
уникальное "Я"? Как стать собою?
Вот жизнь и уходит на то, чтобы разбираться и, насколько
получится, справиться с этим.
Итак, обратимся к позднейшей развертке исторически
беспрецедентной коллизии подлинности *#", у родникового истока
которой мы застигли Петрарку.
В регулятивную идею Я-личности встроено осознание
огромной и самодовлеющей интересности во всяком "я" - для
себя и для других - прежде всего тех подробностей, которые
удостоверяют, что "я" вовсе не "всякое". Подробности такого рода
создают своеобразный личный колорит данного и только
данного случая. Без острой сознательной индивидуации нет и
"личности" (по крайней мере, в историческом, т. е.
новоевропейском, а не антропологическом или общекультурном и
философском значении этого понятия).
Между Шекспиром и "Исповедью" Руссо, между
Караваджо, великими барочными портретистами и реализмом XIX в.,
между Монтенем и В. Гумбольдтом или Дж. Ст. Миллем - был
постепенно выработан принцип чистой (по намерению)
индивидуации. Контраст с индивидуацией по "акциденциям" (в
традиционно номиналистическом плане) или с индивидуацией через
отнесение к тому или иному из "темпераментов", "характеров",
социальных масок и т. п. (в традиционно типологическом
плане) - великолепно сказался в принципиальной невозможности
для описания и понимания индивида обойтись без его (моих)
сиюминутностей, его (моих) случайностей, его (моей)
характерной повседневности. Наконец, без подсознательных мотивов,
вообще-то родовых, но в данном случае конкретно важных и
особенных в качестве моих. Раскапыванием всего этого полны
многие автобиографии, письма и личные дневники.
m —
Post scriptum
Последнее, как будто, указывает на познавательную (в
русле разума нового времени) и, следовательно, бескорыстную
страсть к подсматриванию за собой. Не ради покаяния, и не для
самовозвеличения, и не для самовоспитания (как у Льва
Николаевича Толстого). Такие прежние, извечные установки, даже
когда они заполняют смысловую авансцену, становятся
все-таки побочными. "Психологическими" (всего лишь).
Микроструктуру и всеобщность новоевропейской автобиографии,
существо и новизну жанра подпитывают и удерживают на себе не они.
К автобиографии подталкивает любопытство к себе как
таковому, к себе как "другому", к своей жизни, к встреченным людям
и событиям, как тому, что запомнилось именно мне, поразило и
сформировало единственность моих свидетельских показаний.
Эгоцентризм мемуариста может самодовольно и наивно
выпирать; может подчеркнуто уходить в тень, вдохновляясь
желанием рассказать вовсе не о себе, а о других людях. Но чем
благородней и самозабвенней такой рассказ о том, что запомнилось
и поразило, тем глубже и всеохватней эго-центризм
рассказчика, тем обычно ярче проступает его личность. Автобиография
(дневник, личная переписка и пр.) общеинтересна только в
меру своей особости. Не торжества общих мест и норм, а личного
и только личного ждем мы от нее. Также и в качестве повести
не о "себе", а об увиденном и пережитом, нам, нынешним,
необходима в рассказе Я-интонация, Я-оценивание, их не отодрать
от "фактов". Это не сообщение, не информация, а высказывание
субъекта. Но даже и информация, если ставить невод на нее,
вне интонирования недостоверна (если автор говорит о себе и о
своей жизни). Жанр требует - также и при соблюдении
аскетической скромности, при, казалось бы, отказе от эго-центризма -
расширения Эго до всех доступных мне краев и закоулков
мира. Тогда мир совпадает с личным мировоззрением.
Увиденным, освещенным, описанным оказывается лишь то, что попало
в световой круг "Я".
В прежнем, традиционалистском авторстве вообще не было
в этом смысле и не могло быть "мировоззрения" (т. е.
расщепления на "объект" и "субъект"). Прежнее воззрение на мир было
внеположно "Я". Готовая и абсолютная Истина зряча
изначально. Следовательно, она безглазая, слепая. Не миро-воззрение,
_ 8%
Post scriptum
но - умозрение. Незачем и нечем взирать извне, изучать,
искать, вырабатывать. Истина, как Минерва, являлась сразу
готовой и при полном вооружении. "Я" приходило (через
перипетии, падения и исцеления) к готовому. Сводилось на "экземп-
лум". Хотя бы и самый диковинный, волнующий, даже
трагический. Что до мировоззрения, это позднейшее, в конечном счете,
индивидуалистическое понятие. Оно по определению
"субъективно". Это мир, увиденный мною: вот так, а не иначе,
исключительно с моего частного места, из некой точки личного
существования. Никто, кроме "Я", не может очертить и отфильтровать
в рассказе о себе свое жизненное пространство. Очертить его
можно лишь собою. Поэтому, независимо от стиля,
нравственного уровня и мотивов автобиографизма - поглощенного
только собой, предпочитающего скрывать это или же действительно
самоотреченно устремленного от себя к другим людям, к
событиям, к идеям и к миру - так или иначе всегда это отчет Я о
"Я".
Притом всякое отстранение от себя (раздвоение на "Я" как
данность и Я как наблюдателя этой же своей данности) все же
не бескорыстно, не бесцельно. Тут "корысть" - в самополага-
нии. А оно состоит теперь не в подведении Я под сакральную
или морально-риторическую норму, а в самоидентификации и
самоутверждении Я через своеобычность. Смысловое
основание новоевропейского (тем более современного)
автобиографизма - значимость самости, которая, выступая в качестве
уникальной, как раз в силу этого и обретает статус неисчерпаемой
всеобщности.
Показания индивида о себе самоценны, самоигральны, ибо
относятся не к "фактам", не к внеличной истине, а к "правде"
(Бахтин). В автобиографии или письмах для нас любопытней
всего со-наложение и зазор (несовпадение-совпадение) героя и
повествователя. Вольное и невольное озарение потемок чужой
души.
Всякая чужая душа для меня важна, потому что ведь это
особенная душа - совершенно, как и моя... Тайна неповторимой
особости захватывает дух независимо от масштаба личности
того, кто рассказывает о себе (на этом построены "Простая душа"
или "Смерть Ивана Ильича"). Сама выпуклость, оголенность Я
29 - 345
ДО7_
Post scriptum
есть уже исходный критерий и самодостаточная причина
интереса.
Мы жаждем добраться до дна любого тЯ". Ведь другого
такого "Я" нет. А это как раз то, что я хотел бы, но не в силах,
ухватить в себе самом. Поэтому для Я самый захватывающий
предмет в мире - это "Я". Но не собственное. Эгоцентризм? Да.
Но он-то и приводит меня к отказу от эгоцентризма. Ибо
собственное "Я" за отсутствием дистанции и должного целостного
охвата не может служить предметом рассмотрения.
Интроспекция, само собой, крайне необходима, но всегда неполна. Не дает
представления о критериях и мере. Изнутри Я ощущает себя
непосредственной реальностью человеческой всеобщности. Но
разглядеть (осмыслить) ее (себя!) можно только или главным
образом опосредованно, через Другого.
Я не "вообще человек". Но "вообще человек" и всякий
"другой" это всегда я сам. Таким образом, я могу стать "своим
другим" - и собой, как другим, для себя - лишь в эстетическом
созерцании.
М.М. Бахтин в работе "Автор и герой в эстетической
деятельности" пишет об этом так: "Мое становится созерцаемой
положительною данностью переживания только при эстетическом
подходе, но мое не во мне и для меня, а в другом, ибо во мне оно
в непосредственном освещении смыслом и предметом не может
застыть и уплотниться в успокоенную наличность <...> как
внутреннее 6есцелъе"х. Так индивидуализм в развитой культурной
рефлексии переходит в собственную противоположность. "Всё
во мне, и я во всем". Эта рискованная пограничность "Я" и "Не-
Я" наводит "час тоски невыразимой". Но это же и час
общительного понимания, час примирения с жизнью и смертью.
Вот почему, лишь начиная с нового времени и пуще всего в
XX в., в общении и культуре так дорожат искренностью,
непосредственностью, правдой Я как такового. Это не морализатор-
ский критерий, а рефлективный. Взыскуя личной подлинности,
не уважать хотим мы, не восхищаться, не любить Другого Я
(это потом и это уж как получится), а разглядеть его (заодно и
себя). Важней всего быть уверенными, что повествующий о
себе Я точно есть "Я". Не в том смысле, что он "на самом деле"
таков, каким себя видит, описывает, высказывается; и не в том
_ m
Post scriptum
смысле, что я уверен в правильном его понимании, - напротив,
я никогда не могу быть вполне уверенным, поскольку это мое
понимание; а только в том смысле, что высказывается
действительно он. Если что-то и выдумывает о себе, то искренне; т. е.
выдумывает-то все-таки не кто иной, как он.
Вот почему искренность нам кажется нравственно ценной
вне морали. Самодовление, самораскрытие уже отвечает
нравственному запросу. Ибо в самораскрытии, по меньшей мере -
формальный признак личности, необходимое предварительное
исходное условие способности к бесстрашию личного самосознания.
«А корень красоты - отвага...»
Понятно, впрочем, что из отваги подобного рода, отваги
самоотчета, могут вырасти равно и красота, и неприглядное
самоутверждение, - а все же она существенна, и выразительна, и
небезразлична уже сама по себе. Для России достаточно
вспомнить такие очень разные явления, как дневники Пришвина,
Блока или Чуковского, "Опавшие листья" или "Голос из хора",
воспоминания Брюсова и Нагибина.
Часто противопоставляли принцип "личности" и принцип
"индивидуальности" (см., например, у М. Бубера). Но для
самодетерминации, как и для полнокровного общения вплоть до
самоотдачи (И все уж не мое, а наше, / И с миром утвердилась
связь), для отношения реально-человеческих Я и Ты, прежде всего
необходимо от-личие "Я"; включенность в диалог предполагает
выделенность, уникальность также каждого "Ты" в качестве "Я".
Понятно, что в принципе индивидуальности заложена анти-
номичность. Этот принцип и предпосылка общения, и
препятствие для него. Он делает понимание и возможным, и
неизбежно трудным, подчас мучительным. Он дает индивиду особое
место в мире и он же отъединяет его от мира. Он есть "эготизм"
(словечко Стендаля), конкретность духовного богатства; и он
есть обычный "животный" (значит, несовместимый с
индивидуальностью) эгоизм.
Углубляться во все это мы здесь не в состоянии. Личность,
исторически не знающая принципа и ценности суверенной
индивидуальности, следовательно, надлична. Такова
традиционалистская религиозная и общинная личность. Но тогда само
понятие "личности" (неслучайно возникшее позже и вместе с по-
29*
Й9_
Post scriptum
нятием "индивидуальности") для историка неудобно, неточно,
анахронично.
Во всяком случае, пользуясь им, я всегда подразумевал
только индивидуальную (или, если угодно, индивидуалистическую)
личность: такого индивида, который приходит к миру, к людям,
к себе только через сознательную максимальную явленность
собственного "Я". Только своим путем, по-своему, через свое - к
высшему и лучшему в себе же. Индивидуально-всеобщее
включено через свой особенный смысл в республику смыслов, в
бесконечную историю и культуру, в судьбу человечества.
В отличие от исповеди или жития, не терпящих "все то, что
усиливает определенность в бытии данной личности", "все
конкретное в облике, в жизни, детали и подробности ее, точные
указания времени и места действия", поскольку "эти моменты
всегда понижают авторитетность" традиционалистского
жизнеописания, - в интимной автобиографии (и биографии такого
же, "романного", жанра) ничто конкретизирующее не бывает
неуместным. Ничего личного и частного не бывает тут слишком
много. Напротив, "менее всего возможно типизировать себя
самого; типичность, отнесенная к себе самому, воспринимается
ценностно как ругательство"2.
В новоевропейской культуре рассказ индивида о себе и
своей жизни, по замечанию М.М.Бахтина, всецело принимает
характер художественного задания. Лишь бы автор не совсем
сбивался на трафареты.
Мы жадно вглядываемся во всякую Я-конкретность, всякую
"определенность в бытии", дорожим биографической
документальностью уже самой по себе, поверх и вопреки возможной
ценностной чуждости для нас. Интимный дневник притягивает
документальностью, даже когда он сравнительно бесцветен
либо автор хитрит, позирует наедине с собой. Даже это может
быть небезынтересно и поучительно. Старание что-то сказать о
себе, как именно о себе, уже есть результат. Разве каждый из
нас никогда не хитрит насчет себя, не позирует перед собой?
Итак, любое "наедине с собой" уже тем самым находится в
фокусе культуры, а для культуры последних двух веков - в
горизонте идеи индивидуальной личности и судьбы,
неповторимой личной бытийственности.
_ 900
Бесценна подлинность всякой моей жизни.
Однако это, конечно, никогда не просто "моя жизнь, какой
она была на самом деле" - но специфическая культурная
установка на подлинность, "реальность" описываемого Я. Ничего
натурального и простого в культуре не бывает. Требование
естественности, показа повседневного Я, "как оно есть" - лишь
новая культурно-историческая условность взамен прежних
условностей. Также и в этом случае между сознанием индивида и
его "истинным" Я стоит в виде преломляющей линзы тип
культуры. Вне культурной субъектности индивид ирреален.
Первичного Я, с этой точки зрения, вообще нет. Это всегда
реальность второго порядка. Это лишь образ иЯ". Индивид - живой
и непридуманный - существует в любую эпоху в соответствии
со свойственным ей способом и мерой придуманности. Для
современной Я-личности эта истина ничуть не менее тривиальна,
чем для культуры риторической. Иначе говоря, и в этом случае
"настоящий" Я - лишь тот, каким он видится и осмысляется со
стороны окружающими людьми либо собою же.
"Собою же" и притом "со стороны"? - это значит, во встрече
личного смысла с чужими смыслами. В каждой данной
исторической ситуации правила (система) такого мысленного диалога
и состав его возможных участников, культурная оптика - так
или иначе предваряют реальность Я. Это следует отнести и ко
свойственному Новейшему времени культивированию, так
сказать, реальной реальности, к установке на высвобожденность от
риторических и любых других готовых форм восприятия и
оценки, в том числе от критериев моральных и религиозных,
вообще пред-заданных, внешних по отношению к Я-личности.
Но это вовсе не означает, будто бы современный
индивидуалист равнодушен к подобным формам и критериям или что
новейшая автобиография (и биография) непременно
сторонится их. Конечно, нет. Европеистское "Я" после романтиков, затем
после Достоевского и Пруста, затем с шестидесятых годов
нашего столетия после Я, небрежно облачившегося в джинсы и
кто во что горазд, Я в условиях либерального принципа
privacy, - короче, социально естественный, усваиваемый от
младых ногтей и часто, кстати, совмещающийся с небывалой
альтруистичностью бытового поведения индивидуализм совре-
901 _
Post scriptum
менного "западного" Я, - тоже соотносит себя с парадигмами
правильно ("хорошо", "содержательно", "ярко" и т. п.)
проживаемой жизни. Однако понятно, что набор таких образцов ныне
до крайности разнообразен и уже поэтому особенно
предполагает личное решение. Главное же, любое цивилизационное,
моральное, религиозное и пр. основание отторгается развитой Я-
личностью не вообще, а только в помянутом качестве внешне-
нормативного и готового. Оно должно быть не просто
"пропущено через себя" (таковое предполагалось уже средневековым
персонализмом), но - пусть из традиции, из чужого слова, из
преднайденного материала - сотворено заново. На собственный
риск и ответственность, а не под гарантию какого-либо
высшего авторитета. "Я сам знаю, что мне делать."
Современный Я-человек решается быть одновременно
истцом, ответчиком и высшим судией своего существования.
Экзистенциализм, пойдя навстречу экстремистским
элементам и диссонансам личного самосознания, вобрал всех их в
контекст гуманистической традиции, которая впервые до такой
степени открыто и трагически проблематизировалась. Зато
обрела в итоге второе дыхание.
Вот уже по крайней мере два столетия, как известно, в
"западной" культуре ситуация включает следующие максимы.
Норма это прежде всего свободное отношение к норме.
Если нет личной свободы, существует лишь одна проблема:
как ее добиться.
Когда же она есть, тут-то и возникает тысяча проблем.
Свобода сулит не счастье, а самоидентификацию.
Экзистенциализм, окольцовывавший вторую мировую
войну, быстро миновал в качестве конкретного способа
философствования (вошел в "культурное наследие"). Но в более широком
историческом качестве это способ отвечать за свое достоинство
только в личном его понимании и только перед собою же.
Отвечать посреди других людей, столь же ответственных перед
лицом своей индивидуальной жизни и смерти.
Авторы некоторых самоописаний склонны обнажать свои
детские и недетские пороки, ночные мысли и т.п., причем
исключительно ради самоценной в современном обществе и
беспощадной к себе, безоглядной "верности факту". Вплоть до не-
_ 902
Post scriptum
избежных социально-исторических издержек, сопутствующих
каждой цивилизации вырожденных форм, вплоть до
эксгибиционизма, оставляющего из всей этой многомерной поэтики
только жалкое и голое, исходное: "это я!" Притом, что "это я" -
культурно есть на самом деле не ощущение, не вопль, а мысль.
Не начало, а близость итога, впрочем, всегда предварительного.
Конечно, мы вправе описывать подобным образом лишь
некую предельность современного ("западного") мирочувствова-
ния. Вполне его сознает и принимает - в меру сил - лишь
сравнительно немного людей. Это "только" стоически суровый
идеал индивидуалистической воли и ответственности. (Впрочем,
так же, как праведность - это "только" идеальный предел
поведения средневекового человека.)
В культурно-серьезном произведении "это яГ остается
открытым и тогда, когда написано последнее слово и отлетел
последний вздох.
Такое "Я" - беспредельно одинокое, рискованное и столь же
диалогически активное, всемирное, отвечающее всем и
вопрошающее всех.
Трагическое по определению и по своему непрописному
начертанию "Я".
Трагический, но и веселый голос того, кто вышел на
беспримерное приключение своей жизни - чтобы справиться с нею, то
есть чтобы она стала подлинно и только его жизнью,
следовательно, значимой также для других. И чтобы довести это
приключение до сколько-нибудь достойного конца.
ПРИМЕЧАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
См., например: Индивидуальность и личность в истории (дискуссия) //
Одиссей-1990. М., 1990. С. 6-89. Моя точка зрения, ранее развернутая в
книжке "Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности", была
здесь изложена преимущественно в полемическом ключе в рамках обзора
присланных в редакцию материалов (Баткин JIM. К спорам о
логико-историческом определении индивидуальности//Одиссей-1990. С. 59-75).
Вслед тут же опубликованы резкие возражения ответственного редактора
"Одиссея" (Гуревич АЯ. Еще несколько замечаний к дискуссии о
личности и индивидуальности в истории культуры // Там же. С. 76-89).
В дальнейшем спор был продолжен. В настоящей книге ему специально
уделено обширное пятое примечание к разделу об Августине. См. также:
Гуревич АЯ. Индивид. Статья для возможного в будущем "Толкового
словаря средневековой культуры" // От мифа к литературе. Сб. в честь
семидесятипятилетия Е.М. Мелетинского. М., 1993. С. 309-310.
Недавно мою точку зрения горячо оспорила С. Пискунова (Испанское
Возрождение как культура переходного типа // Вопросы литературы.
Ноябрь-декабрь, 1997. С. 171-174). Два общих довода автора, как и у
А.Я. Гуревича, состоят в том, что, во-первых, отказываясь определять и
объяснять людей былых эпох через понятие личности, я будто бы тем
самым "выношу им приговор". Упрек, по-видимому, означает, что
называться "личностью" почетней, чем "добрым мужем" или "праведником"? Во-
вторых, если предки ничего не ведали о понятии "личность", это не
означает, будто нельзя пользоваться научно-гуманитарными терминами при
анализе эпох, когда те или иные понятия не были известны. Ибо
соответствующие им явления, хотя и в исторически своеобразных формах, по
мнению автора, все-таки существовали. На то и другое я пытаюсь
ответить во Введении к наст. изд. (см., в частности, параграф 14).
Мне ничего не остается, как снова и снова разъяснять системность
своей логико-исторической позиции: в надежде, что оппоненты соблаговолят
обсуждать не столько смущающие их терминологические (или мировоз-
_ 904
Примечания
зренческие?) выводы, сколько понятийные посылки и логику моей
аргументации.
В этом отношении я рад поводу, который предоставляет мне интересное
возражение С. Пискуновой с ссылкой на Мартина Бубера. Мне
поставлено в упрек тесное сближение и даже принципиальное соналожение
понятий "личность" и "индивидуальность". Со своей стороны, С. Пискунова
стремится трактовать личность Возрождения как "соборность". Можно
согласиться с автором, что это уже "почти вопрос веры". Даже без "почти".
Иначе и глубже, по мнению С. Пискуновой, у Бубера: «Личность
осознает самое себя как участвующую в бытии, как сосуществующую, и через
это - как существующую. Индивидуальность осознает самое себя как
существующую так-и-не-иначе. Личность говорит: "Я есть",
индивидуальность - "Я такова". "Познай самого себя" означает для личности: познай
себя как бытие; для индивидуальности: познай свой способ бытия.
Обособляясь от других, индивидуальность удаляется от бытия». Это не
означает, будто личность отказывается от своей особости и инаковости, но
"это не определяет окончательную перспективу, а лишь необходимую и
исполненную смысла форму бытия. Индивидуальность, напротив того,
упивается своей особостью" и т.п. (Бубер М.Ян Ты. М., 1992. С. 47-48).
У Бубера речь идет о "личности" вообще, вне истории, и об
"индивидуальности" вне истории. Но теолог, разумеется, на деле подразумевает
развитое рефлективное сознание религиозного Я, для которого Ты - в
высшем и последнем счете - это Бог. Диалог Я с Ты - молитва и медитация;
альфа и омега диалога - причастность Я к Целому, слиянность с
Божественным миром.
Мне незачем и невозможно вступать в спор с таким пониманием
"личности". Во все времена и всякий, уже и первобытный, индивид в той мере,
в какой он сознает себя, надо полагать, тем самым по меньшей мере
сознает себя существующим. Думаю, у Бубера это не только предельно
отвлеченное, но и крайне бессодержательное определение (если вынести за
скобки религиозную мистическую подкладку). Впрочем, исторически Я
тысячелетиями бытийствует как часть племени, или общины, или чего-
либо еще. Налицо не диалог, а оппозиция мы/они. Например,
эллины/варвары. "Так-и-не-иначе" также исторически начинается с
локального "мы", а не с "я", причем "наше" представляется единственно мыслимым
и правильным. Эллины, китайцы, древние иудеи и пр. в силу
коллективной, в том числе конфессиональной, обособленности (или, если угодно,
соборности), увы, как раз "упиваются своей особостью". Это
простодушное свойство коллективов и толп более, чем индивидов.
Культурный обмен собою между "Я" исторически становится
полноценным и сознательным лишь на почве европеизма и на уровне
индивидуальных личностей. В культуре, как и "в жизни", чем сильней
индивидуально-особенное, тем обоснованней и неустранимей его потребность в
диалоге, который не только уберегает Я от обедняющей изоляции, но,
собственно, и делает его особость глубже и рельефней. Индивидуальность,
которая, напротив, "упивается" отьединенностью от других, пуста и вряд ли
действительно индивидуальна. В культурном общении индивидуальность
905 —
Примечания
нечто прямо противоположное самодовольному "упиванию" собою. Это то
оригинальное, что индивид в состоянии явить в дар другим и что может
быть интересным для других.
Мартин Бубер, которому желала бы следовать С. Пискунова, на самом
деле не различает личность и индивидуальность в логико-историческом
плане. Для него это не столько две разных и переплетающихся проекции
"Я", сколько два морально разных "Я", так сказать, хорошее и плохое.
Всякое "Я" - и личность, и особая личность, но для первого, хорошего "Я"
особость - лишь форма и средство на пути к Целому, к Богу, к
"окончательной перспективе". Для второго же - особость нечто самоценное, и это
плачевно сбивает его с правильного пути. Мартин Бубер не анализирует
исторически-особенные модусы Я, но морализирует. Понятно, что
никакое религиозное сознание не в состоянии удержаться от изобличения
индивидуализма как эгоцентрической скверны. Бубер в рассуждении,
понравившемся моему оппоненту, по сути, противопоставляет смирение -
гордыне, набожность - вызову, причастность - отъединенности. Хотя он
признает, что его внеисторическая "личность" в известной мере
индивидуальна, но "индивидуальность" как таковую осуждает как деформацию
личности. Буберовское различение этих категорий, будучи дидактическим,
устанавливает иерархию между ними. Историко-культурного смысла,
по-моему, в этом нет.
О принимаемой мною трактовке соотнесенности двух понятий,
"личности'' и "индивидуальности", см. в параграфах 32-33, и особенно
параграф 34, выписки из В. фон Гумбольдта.
Знакомство с дискуссией, неизбывность которой показательна для
историографической ситуации (не только отечественной), поможет
читателю составить собственное мнение о концептуальной закваске данной
книги.
2 "Мало даже найдется таких людей вне Германии, которые понимали бы,
по крайней мере, смысл той доктрины, о которой Вильгельм Гумбольдт,
человек столь замечательный и как ученый, и как политик, написал
особое сочинение" (Миллъ Дж. Ст. О свободе. СПб., 1900. С. 110). Эта
доктрина кажется людям совершенно "новой и поразительной" (Там же.
С. 111).
Добавлю, что и по сей день, спустя почти два века, она еще в общем
чужда большинству человечества, живущему по инерции распавшихся или
судорожно распадающихся традиционалистских обществ. Трудно
усомниться в том, что будущее все же принадлежит именно этой идее,
ставящей в центр коллективных интересов независимую и свободную
личность. Но сколь отдаленное будущее? и сколь тяжкой исторической
ценой? наконец, через какие непредсказуемые метаморфозы может пройти
сама идея во взаимодействии со специфическими региональными
почвами? - это уж иные вопросы.
3 Вот две выдержки из записей М.М. Бахтина.
а) "Как меняются хронотопы самосознания человека? На что опирается
это самосознание? По каким приметам времени оно ориентируется? <...>
Субстанциональность личности раскрывается в историческом времени"
_ 906
Примечания
(-Материалы" 1938 г. // Бахтин ММ. Собр. соч. М., 1996. Т. 5. С. 472,
примеч. 3). Такова самая общая постановка вопросов, которыми задается
и моя работа. Эти формулы применимы к любому
исторически-неповторимому самосознанию.
б) "...я чувствует себя исключением, единственным я в мире (остальные
все другие) и живет этим противопоставлением. Этим создается этическая
сфера абсолютного неравенства я всем другим, вечного и абсолютного
исключения я (оправданного исключения)" (К вопросам самосознания и
самооценки... // Там же. С. 73). А вот такая характеристика "я" (как
абсолютно и оправданно исключительной личности) феноменологически
может быть отнесена лишь к европейскому новому времени.
В этом пункте мои усилия расходятся под некоторым углом с бахтин-
ским философски-культурным методом, которому я столь обязан.
Бахтина интересовали "исторические корни" современного самосознания. Хотя
он, конечно, великолепно понимал различия "примет времени" и
своеобразных эпохальных "опор", тем не менее "субстанциональность личности"
(как и "диалогизм" или "карнавальный смех") у Бахтина над- или всенсю-
рична. Притом он исходил из точки высшего раскрытия
"исключительного" Я, из его возгонки в наиболее подходящих новоевропейских и
современных условиях.
Но ведь точно таким же образом история "гротеска" (или
"карнавального тела"), будь то римские сатурналии или средневековые шаривари, была
пропущена мыслителем сквозь Рабле, т. е. ухвачена вне собственного
времени, в точке остранения. B.C. Библер пишет об этом так: «У
средневекового карнавала нет своей территории и своего времени... в средневековье.
Это действительно "все" средневековье, но увидевшее само себя со
стороны, в момент смерти*. (См. его статью: Образ простеца и идея личности в
культуре Средних веков (Заметки на полях книги А.Я. Гуревича
"Проблемы средневековой народной культуры") // Человек и культура.
Индивидуальность в истории культуры. М., 1990. С. 118). От мениппеи, понятой
предельно широко, Бахтин шел к Рабле, шел к Достоевскому. Но еще
правильней было бы сказать: от Рабле, от Достоевского он шел к мениппее.
Сомнений в применимости соответствующего сквозного термина у
Бахтина не возникало по очевидной причине: "малое время" любого
высказывания размыкается в его же "большом времени".
Историзм у Бахтина присутствует в сознательно ослабленном или, если
угодно, превращенном виде. Так, средневековье его интересует не в
отношении средневековья к себе же, но в качестве исторических корней того,
что он рассматривает на самом насыщенном и выходящем за
средневековые пределы витке "Гаргантюа и Пантагрюэля". Поэтому критика
суждений Бахтина, например, о карнавальном смехе применительно к
средневековому материалу совершенно справедлива и даже слишком легка, но бьет
мимо его теоретической цели. Медиевистическая критика, указывающая
на выявляемые в источниках архаический магизм и страх, а вовсе не
раблезианскую веселую свободу, вполне оправдана в собственно
средневековом времени. Но Бахтин рассматривает средневековье в дальней точке его
историко-культурной метаморфозы, через двойную оптику: каким оно
907 _
Примечания
оказалось преломленным в ренессансном Рабле и каким Рабле
воспринимается, в свой черед, нами. Точно так же, изучая диалогизм, понимаемый
как существо гуманитарных смысловых высказываний, философ берет
исторически-своеобразные формы диалога в контексте "большого
времени", и точкой отсчета оказывается кульминационная фаза в виде
романной прозы Достоевского.
Мне, "бахтинцу", всегда здесь виделось у Бахтина известное
противоречие, оставшееся неотрефлексированным. Мы озираем всю бывшую до
Рабле и Достоевского и после них мировую историю культуры с плеч
этих гигантов. Ну, а диалог культур? Не попадает ли он в тень культуры
диалога? "Большое время" словно растворяет в себе "малые времена". Их
различия предстают как эволюция форм по восходящей линии или же как
их вырождение. Но что если задача состоит в исследовании
специфического характера каждой из сменявших друг друга культур?
Кажется, чисто-исторический угол зрения нисколько не отрицает
"филологической" или "металингвистической" философии культуры
М.М. Бахтина, но преломляет ее.
Близка мне и "диалогика" B.C. Библера, вдохновленная гуманисткой
Бахтина и вместе с тем с ней спорящая, перенося центр тяжести из сферы
сознания в сферу мышления. Согласно Библеру, каждая эпохальная
форма культуры обладает особым логико-культурным началом и своей
фокусировкой всеобщей идеи личности. Личность "вообще" есть не что иное,
как соотношение разных исторических определений личности: в
контексте "культурной ситуации XX века". Напряженность "античной
личности", "средневековой личности", по Библеру, каждый раз выражает
по-новому идею самоостранения и самодетерминации индивида. На переходе
от одного типа "Я" к другому метафизические и нравственные основания
личности претерпевают "трансдукцию". Схема Библера стремится
непременно включить, таким образом, в философию культуры историческое
измерение как синхронию всех культурных форм.
Это, однако, оказывается немыслимым без метаисторического
всеобщего, в котором по необходимости претворена все же наша идея "личности".
Парадоксальным образом голоса всех культур сходятся и равны... но лишь
на почве культуры XX в.
Философ вполне отдает себе отчет в том, что здесь его подстерегает
"очень тонкий и опасный момент". Далее следует важное место. «Для
того, чтобы вступить с культурой прошлого в реальный диалог <...>
необходимо "эхо", остранение, лакуна, разрыв <...> Это одно требование. Это
условие самого восприятия иной культуры как замкнутой целостности,
неповторимой, законченной и - бесконечно актуализующей свой смысл.
Однако второе требование как будто исключает первое. С культурой
прошлого, с людьми прошлых эпох нельзя личностно общаться (и ей
самой невозможно бесконечно актуализировать, изменять свой смысл как
вечно живой) - в тех ее определениях, которые возникают в момент ее
смерти и метаморфозы <...> СКЛАДЫВАЕТСЯ БЕЗВЫХОДНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА (выделено мной. - Л. В.). Вне метаморфозы "в иное"
культура еще не культура (скорее, "цивилизация"). Это тезис.
_ m
Примечания
Культура, понятая через свою метаморфозу, не понята <...> как
культура <...>. Это антитезис». (Библер B.C. Образ простеца ...С. 119).
Автор ищет выход из методологической "безвыходности" в
"предположении", что: «Общение с культурой как с культурой совершается через
эпоху, пропуская один цикл, когда "принимающая наследство" эпоха уже
сама уходила в прошлое, оказывалась той пустотой, лакуной,
промежутком, что абсолютно необходимы для культурного диалога двух "вечных
культур" - "первой" и "третьей", скажем, условно так> (там же).
Но историк по преимуществу вправе поставить свой акцепт. Историк
обязан изучать субстанцию индивида в связи с ее особенной
исторической "опорой", как если бы она была для него, историка, не только
"третьей", но и - одновременно и прежде всего - "второй", т. е. одной из
непосредственно предшествующих.
То, что констатирует Бахтин относительно "я", сознающего себя
"единственным в мире" и пр., значимо и действительно при
социально-культурной "опоре" Нового времени. Я готов называть "субстанциональностью
личности" лишь особое самосознание, растущее из такой опоры.
Подробней об этом см.: Боткин Л. Пристрастия. Избранные эссе и статьи
о культуре. М., 1994. С.13-34 ("Неуютность культуры").
Обо всем этом написана целая библиотека, именно поэтому я обхожусь
без ссылок. Тех, кто желал бы составить представление о современном
состоянии вопроса, я позволю себе отослать к книге И.С. Кона "В поисках
себя" (М., 1984, прежде всего, с. 9-156). См. особенно материал по
отпечаткам нарождающегося новоевропейского "Я" в историко-лингвистиче-
ских данных.
О литературно-стилистических аспектах глубочайшей перестройки,
противопоставившей новое время традиционализму любой из иных эпох,
см.: Михайлов A.B. Проблема стиля и этапы развития литературы
Нового времени // Теория литературных стилей. М., 1982. С. 343-344 и ел.
Автор тонко замечает, что до новоевропейской установки на сплошное и
сугубое индивидуальное своеобразие - "необщее" получается невольно
и парадоксально, лишь "как итог усилий, направленных на общее - на
общее, как утверждение общепризнанных конечных смыслов бытия".
Причем индивидуальная мощь и неповторимость поэтической вещи
"складывается в итоге специфического и редкостного превышения
предъявляемых к вещи всеобщих, отраженных риторико-поэтической
теорией требований". Это замечание может быть перенесено с качеств
литературного стиля на антично-средневековую индивидуальность
вообще.
Правда, A.B. Михайлов относил сказанное к тому, что было "в средние
века, в эпоху Возрождения и еще значительно позже". Однако далее он
показывал (как и в других своих работах), что в барочном XVII в. тради-
ционалистски-риторические установки подходят к критическому пределу
и перестают совпадать с собой, становясь полем преобразующего их
изнутри действия установок индивидуальных (там же. С. 351-352).
Ср.: Михайлов AB. Роман и стиль // Теория литературных стилей. М.,
1982. С. 149-153, 168-170. Автор констатирует, что "риторическое слово
m —
Примечания
начинает функционировать как антириторическое" в "Дон Кихоте" или
"Симплициссимусе".
В отличие от Средних веков, начиная с Возрождения и позже,
произойдет отказ от единственно мыслимого, естественного и непревозмогаемого
окоёма: от духовной тотальности. Но, конечно, целая полоса "переходных"
европейских эпох и стилей мышления до Гёте и Пушкина еще
сохраняла - очень по-разному - традиционализм в качестве обязательной
посылки его же преодоления: как свой рабочий предмет и как источник
самоопределения нарождающейся индивидуальности (см. об этом ниже, часть
третья, раздел второй).
7 Штеинер Е.С. Иккю Содзюн: Творческая личность в контексте
средневековой культуры. М., 1987. Он же. Феномен человека в японской
традиции: личность или квазиличность? // Человек и культура. С. 164-191.
8 Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 78.
9 Олеша ЮЖ. Ни дня без строчки. М., 1965. С. 171.
10 Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 209, 212.
11 Олеша ЮЖ. Указ. соч. С. 129,172, 295 (курсив всюду мой. - Л. Б).
12 Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб., 1998. С.19.
13 Тахо-Годи ΑΛ. О древнегреческом понимании личности на материале
термина мсома" // Вопросы классической филологии. Вып. III—IV. М., 1971.
14 См.: Нахое ИМ. Физиогномика как отражение способа типизации в
античной литературе // Живое наследие античности. М., 1987.
15 Ср.: Нахое ИМ. Кинизм и цинизм: Отжившее и живое// Там же.
16 Лихтенберг Г. Афоризмы. М., 1965. С. 143.
17 МилльДж.Ст. Указ. соч. С. 132,124, 22.
18 Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 30-31, 34, 39,
43-44,76 и др. (Выделено мной. - Л. Б.)
19 Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. Μ,
1991.
20 См.: Боткин Л. Пристрастия. С. 34-55 ("Два способа изучать историю
культуры") и др.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
О культурно-историческом смысле "Я"
в "Исповеди" бл. Августина
Георг Миш в фундаментальной "Истории автобиографии", следуя
понятию "Selbstbiographie" у Дильтея, исходил из того, что у нее "текучие
границы" и "никакая форма не чужда ей". Автора "Confessiones" Миш назвал
"первым современным человеком" (Misch G. Geschichte der
Autobiographie. Bd. 1. Bern, 1949, S. 3-21). Этот энтузиазм неоправдан, но
понятен: на фоне античной и особенно средневековой традиции. Ср. один
из лучших (впрочем, вообще достаточно редких) примеров
"автобиографизма" XII в. - труд аббата Сугерия "De rebus in administratione sua
_ 910
Примечания
gestis". Аббат рассказывает о политических и церковных событиях, в
которых участвовал, особливо о деяниях Людовика Толстого и хозяйственных,
строительных и финансовых заботах Сен-Дени под его попечительством.
В первой из двух внешне не связанных частей повествования мы находим
вкрапленным посреди всякой всячины нечто вроде curriculum vitae
сочинителя. Г. Миш констатирует, что было бы напрасным трудом искать
"единство личности", да и просто облик автора "самого по себе" (in sich
selber). Сугерий с его биографией устроен так же, как духовный и
социальный мир, которому изначально принадлежит и с которым себя
отождествляет. Он как индивид поэтому целен, но особым безличным образом:
совпадая со своим служением и ролью. Г. Миш называет это
"морфологической индивидуацией" - в противоположность "органической". Или же
"центробежным самоосуществлением (Selbstverwirklichung)" вместо
"обычного центростремительного" (Misch G. Die Darstellung der eigenen
Persönlichkeit in den Schriften des Abtes Suger von St Denis // Nachrichten
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 1957. № 4. S. 159-160). Как
выразился Эрвин Панофски, «можно бы сказать, что в обмен на отказ от
самоидентификации он (Сугерий) был вознагражден своим "эго"; он
распространял себя вовне, пока не стал совпадающим с Аббатством» (In:
Abbot Suger. On the abbey church of St. Denis and its art treasures / Transi,
and annot. by Erwin Panofsky. Princeton, 1946. P. 30).
См.: Столяров А А. Аврелий Августин. Жизнь, учение и его судьбы //
Аврелий Августин. Исповедь. М., 1991. С. 30. (Ниже ссылки в тексте будут
мною даны по этому замечательному переводу М.Е. Сергеенко.) Автор
вступительной статьи следует в приведенных формулировках за П. Анри,
А. Максзайном и К. Ясперсом.
Впрочем, это очень несходные и неравноценные работы. Иезуит Поль
Анри в своей сжатой лекции отмечал, что ни греческое autos, ни
латинское ipse, ни даже римское persona (как субъект права) не были
обозначениями "полноты, оригинальности, творческого духа и уникального
самовыражения человеческого существа как личности", еще неизвестной. Зато
"ипостаси" или "лица" Троицы, хотя и "absolute in se persona dicitur", но
открыты друг другу и дают возможность осознать также человека как
личность; т. е. "не эгоцентрически, но альтруистически", не только
"индивидуально", а через "полноту других личностей", "в живой связи с другими, с
нашими родителями, с Богом". "Все христиане, как показал Августин,
имеют высший Образец и Пример своей личной ситуации в личной
ситуации Второго Лица Троицы..." Августин, по характерному утверждению
Анри, первым создал "концепцию человеческой личности", а потому и
"первую автобиографию в истории литературы". Для патера Анри,
разумеется, не только отсутствует историческое измерение и не возникает
вопрос об отличиях учения Августина от современного понятия личности,
но именно такое понятие он и находит - впервые и навсегда - у
Августина (Henry P. The Saint Augustine. N. Y., 1960. P. 1,6-12, 23-24).
Антон Максзайн в солидном профессиональном исследовании также не
задается теоретико-историческими вопросами, зато добросовестно
реконструирует августинову "философию сердца". Это предохраняет автора от
911 —
Примечания
каких-либо спекулятивных рассуждений об "уникальной и неповторимой
личности" и т. п. Однако его выводы, поскольку интересующая нас
проблема не поставлена, допускают разные толкования. "Сердце" (cor) -
"метафора, означающая ту основу, что наделяет личную жизнь, в ее телесно-
духовной связности, внеличным измерением". Это "внутренний человек"
(homo interior), "личная целостность", данность индивида внутри
теологической конструкции, то, что направлено "к Тебе" (das "ad te"). Это "орган
индивидуации", ибо каждый человек есть "отдельность" (Einzelheit),
"личное бытие", и в этом причастен Христу. Его совесть - "принцип личного
упорядочения" (как писал Августин: "Noverim me, noverim te!", "познаю
себя, познаю Тебя"). Притом, однако: "nemo ex se" ("никто не из себя"!).
То есть самопознание есть путь (способ), но не основание. В
"Комментариях к Псалмам" Августин разъясняет, что "самость" (idipsum)
принадлежит только вечности, свойственна только Богу - "ты же, переходя в
вечность, причащаешься самости (particeps in idipsum)". На мой взгляд, в
таком случае точность подзаголовка в самом названии книги вызывает
сомнения (Maxsein A. Philosophia Cordis. Das Wesen der Personalität bei
Augustinus. Salzburg, 1966. S. 7, 13-17, 34-35, 52-64 etc., 78-79, 137-148,
156-157).
Карл Ясперс, напротив, поглощен типологическими сопоставлениями и
различиями. Но их историзм по меньшей мере условен. Философ
выделяет пять типов "личности" (Persönlichkeit): "нордическая личность, которая
полагает себя, исходя из собственной силы"; "иудейские пророки", которые
сознавали себя "Божьим орудием"; "греческие личности", под знаком "идеи
меры"; «римская личность, черпавшая свою неколебимость из преданности
"res publica", принося ей в жертву себя самое*; "позднеантичная личность"
(Плотин и пр.), ощущавшая себя "частью космоса". В этой на удивление
поверхностной схеме Августин наделяется чертами всех пяти типов, хотя у
него все они сказываются как-то "иначе". В частности, "Августина
называют первым современным психологом, однако... речь идет не о научном
изучении эмпирической реальности и в особенности через уяснение
внутренних побуждений, но о душевной противоречивости как отправном пункте
нашего знания". Связь души с Богом не разрывается ни в пользу "голой
психологии", ни в пользу "голой теологии". Несмотря на редукцию
проблемы личного существования и самосознания к Богу, Августин впервые
обнаруживает в личности "момент свободы". Поэтому Ясперс подчеркивает
"современность" Августина, правда, беря это слово в кавычки. Он
сравнивает его с... Кьеркъегором и Ницше, обнаруживая, "однако, радикальное
различие". Августин исходил из включенности личности в разумное
мировое устройство, он был полностью "церковен". (В отличие от верующего
Кьеркьегора, который называл церковь "полицией Бога", и уж само
собой - от Ницше). "Одиночество Августина упраздняется для него не на
человеческих путях". В XIX в. два более непосредственных предшественника
экзистенциализма - истинно одиноки, ибо "знают себя как таковых (wissen
sich als solche)". См.: Jaspers К. Augustin. München, 1976. S. 15, 19-20, 49,
62-63; Он же. Drei Gründer des Philosophierens. Plato, Augustin, Kant.
München, 1967. S. 110,143-144,156-157).
_ 912
Примечания
3 Ссылки на оригинал по изданию: St. Augustine's Confessions / With an
english translation by William Watts (1631). V. 2. Cambridge (Mass.);
London, 1946-1950.
4 См.: BoumanJ. Augustines. Lebensweg und Theologie. Giessen; Basel, 1987.
S. 24-26 (основательное исследование теологической структуры
"Исповеди" - S. 22-104; см. также раздел "Человек как образ троичного Бога",
S. 142-190). Также: Courselle P. Recherches sur les "Confessions" de Saint
Augustin. Paris, 1968. P. 13-29. А. Максзайн (op. cit., S. 281-292)
усматривает в смысловом составе понятия "confiteri" десять признаков. Это
личный акт - это акт, направляемый Богом - это акт любви к Богу - это акт
общения с Богом - это выражение человеческого призвания, т. е.
восстановление его подобия Богу - это целостное предание себя Богу - это
возвращение к Богу - это выражение самопознания - это выражение
"личного порядка" (der personalen Ordnung) - это постижение и выговаривание
порядка творения, т. е. исповедь как credo. О структуре "Исповеди"
Р. Курсель вслед за другими исследователями полагает, что Августин
соединил в ней две ранее написанные части посредством более поздней (и
сделанной, чтобы их связать) X книги (р. 22-25). Современники бурно
спорили вокруг теологии "Исповеди" и центрального эпизода
"обращения" (р. 245-246). Курсель особенно подчеркивает дидактические и
конфессиональные принципы отбора Августином воспоминаний о
пережитом, а также литературные источники и решающую роль для
"исторического рассказа" "рамок более широкой теологической схемы" (р. 247-258).
5 См.: Боткин JIM. Итальянское Возрождение в поисках
индивидуальности. М., 1989, с. 3-31, 217-242; Он же. К спорам о логико-историческом
определении индивидуальности. "Одиссей-1990". М., 1990. С. 71-73. Эта
точка зрения вызвала сердитые возражения моего друга проф. АЛ. Гуре-
вича (см. в том же выпуске "Одиссея" его статью: "Еще несколько
замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории культуры".
С. 76-89). Автор опирается на свой перевод интересного места из
проповеди "О пяти талантах" Бертольда Регенсбургского (XIII в.). "Первый
талант" - "наша собственная персона (persone)", сотворенная по образу и
подобию Бога и наделенная (букв.: "облагороженная", geedelt) свободой
воли. Вот она, "persona"! - восклицает АЛ. Гуревич. И, упомянув, что
остальные "дары" ("таланты"), полученные человеком от Бога, это "amt"
(должность, служение, призвание), "время", "имущество" и "любовь к
ближнему", - справедливо предполагает, что все дары «не просто тесно
связаны друг с другом, но представляют собой развернутую
характеристику первого "таланта" - "persone". И вот вопрос к Л.М. Баткину... как
прикажете переводить этот термин?* (с. 78-79).
Сам автор переводит как "личность"... Эти средневековые "личности",
правильно указывает АЛ. Гуревич, "не одинаковые", "занимают разное
сословное и имущественное положение; каждому отведено особое место".
Они и не "взаимозаменяемые" (еще бы, они ведь индивиды... и, к тому же,
христианские души).
В самом деле, что же это за исходный дар Божий?..
m —
Полагаю, что проф. Гуревич без труда получил бы правильный ответ,
спросив какую-либо старушку у кладбищенской ограды, пусть не
читавшую отцов церкви. Это дар существования: появление имярек на свет
Божий в телесной оболочке и проживание в сей скорбной юдоли... По
приведенному выше слову Августина: "Ибо и самую жизнь Ты даровал мне". В
понимании "первого дара" совпадают и Августин, и проповедник Бер-
тольд, и всякий средневековый простец. Это общее место. "Бог дал, Бог
взял", прокомментировала бы бертольдов "первый талант" старушка, к
которой я всего лишь охотно присоединяюсь.
С одной стороны: "образ и подобие Божьи", свобода воли, любовь к
ближнему; с другой стороны: "время" (отмеренный человеку срок),
наконец, не менее жесткая фиксированного его социального места -
сословного и имущественного - "amt" и "guot"; таковы, по Бертольду,
определения "лица", человеческого индивида. Три из них явно субстанциональны,
относя человека к человечеству. А три другие - акцидентальны, наделяя
случайностью, но и непреложностью земного жребия.
Что за культурно-историческая "личность", свойства коей столь
странны - "должность" ("положение") и "богатство"? И что за "личность",
которая создана "по образу и подобию" и пр., т. е. всякий раб Божий?
Однако автор, настойчиво переводя именно так (на мой взгляд,
буквалистски, анахронистически), понимает под термином "личность", как
выразился АЛ. Гуревич в одном из докладов, попросту "средний член между
обществом и культурой". Очевидно, это значит, что общество состоит из
индивидов, каждый из которых есть вместе с тем конкретный носитель
ствойственной данному обществу ментальности. Скажем еще проще: мой
друг и оппонент (разумеется, в точности, как и я) убежден, что в средние
века (впрочем, и в любые века - до всякого христианского персонализма,
конечно же, тоже) - жили люди, которым было известно об их отдельном
существовании... Христианство, с его идеями личного воздаяния,
покаяния, благодати, углубило это самосознание. Каждый отличал себя от всех
других людей, называл себя "я", молился Богу о себе, сознавал свое
общественное положение, обязанности, права, отношения родства, личное
имущество, заслуги, вкусы, грехи и т. п., совокуплялся с другими (тоже
прекрасно отличаемыми им) "личностями", женился, исповедовался,
причащался и бывал в конце концов отпет и похоронен не под каким попало, а
под своим собственным именем...
Кто был бы в силах это оспорить?
Однако А.Я. Гуревича не занимает, что я-то вкладываю в понятие
"личности" радикально иной, культурологический смысл (ср., например, там
же, с. 62-64). Автор не удостоил вниманием систему моих рассуждений и
аргументов.
Вовсе не думаю я, кстати, что в ту эпоху слово "persona" будто бы
обозначало исключительно ипостась Троицы, но не также некоего
человеческого индивида (не думал так и Л. Февр, поскольку был несколько знаком
со средневековыми текстами...). Но верно лишь то, что, согласно
разделяемому мной взгляду, учение о трех "лицах" Троицы содержит своего рода
высший логический ключ к средневековому пониманию и эмпирического
_ 914
Примечания
"лица", т. е. соотношения между человеком и человечеством (ср. с. 72 и
с. 77 в статьях моей и А.Я. Гуревича).
Итак, профессор А.Я. Гуревич энергично, в специальной работе,
опровергает кого-то, называемого им "Баткиным". Но не могу, как хотелось бы,
почувствовать себя польщенным, так как, к сожалению, это не я.
Остается добавить - на случай, если мнение кладбищенской старушки
будет сочтено недостаточно авторитетным - разъяснения относительно
понимания слова "персона" в средние века, данные человеком, более
сведущим. «В узком смысле, определение (субстанции) выражает сущность.
Это определение включает в себя принцип отличия, но не индивидности.
Из чего следует, что сущность вещи, состоящей из материи и формы,
указывает не на материю отдельно и не на форму отдельно, а на ее состав
вообще, то есть на родовое начало. Но то, что состоит из данной (hac)
материи и данной (hac) формы, может быть характеризовано как ипостась или
же персона. В то время как душа, плоть и кости относятся к значению
"человек" (sunt de ratione hominis), эта (haec) душа, эта (haec) плоть, эти
(hoc) кости относятся к значению "этот человек" (de ratione huius
hominis). Таким образом, "ипостась" или же "персона" добавляет к понятию
сущности принцип индивидности (principia individualia); причем в вещах,
имеющих материю и форму, это не то же, что сущность - в отличие от
того, что мы отметили, говоря о Божественной Простоте» (Thomae Aquinatis.
Opera omnia. Vol. 1. Paris, 1895. Summa Theologica, 1, quest, XXIX, art. II,
5).
Индивидуация, делающая человека вот этим, "персоной", т. е.
определенным лицом, относится, понятное дело, в первую очередь к "этой душе".
И уж никак не только к "этой плоти" и к "этим костям". АЛ. Гуревич
настаивает: "Persona - не природное человеческое создание, не homo саг-
nalis, не homo naturalis..." Ну да! Кто же это, толкуя о христианском и
средневековом понимании существования, дарованного Господом тому или
иному человеку, был бы способен дотолковаться до "природного
создания"? Опять А.Я. возражает не мне, а кому-то другому. "... Это качество, -
продолжает мой оппонент, - человек приобретает не в силу физического
рождения, а в результате инициации, социально-религиозного
приобщения к церкви и, следовательно, к социуму" (Гуревич АЯ. Индивид..· // От
мифа к литературе... с. 310). Будто я, да и Бертольд Регенсбургский и,
опять же, самая немудрящая старушонка на погосте имеют в виду
"плотского человека" и "физическое рождение". Речь, повторяю еще раз, о том,
что Бог дает индивиду и его душе жизнь на земле, в смертной оболочке.
Разумеется, единичное существование в сакральном и, следовательно, в
социальном измерении, несостоятельно вне церкви. Только крещение
наделяет человека полноценностью христианского "лица" и его атрибутами,
которые перечисляет Бертольд.
А.Я. Гуревич, призывая меня не исходить из "общих рассуждений", а
"изучать исторические тексты", почему-то ни звуком не откликается на
Фому Аквината, слишком, очевидно, высоколобого, чтобы засчитать его
рассуждение за исторический текст. Зато, подавая пример изучения
источников, предлагает фразу из церковного текста того же XIII в.:
915 —
Примечания
"Baptismate homo constituitur in ecclesia Christi persona...". Перевод проф.
Гуревича: "Посредством крещения в церкви Христовой становится
человек персоной...". Полагаю, перевод неверен. Притом смысл остается
внушительно-невнятным и загадочным. Итак, по логике А.Я.: крещение
делает новорожденного "личностью"? Такой перевод не подсказан ли
желанием исследователя подкрепить свои собственные "общие рассуждения", без
коих, впрочем, никакому интерпретатору исторических текстов на самом
деле не обойтись?
По моему мнению, перевести это тривиальное место можно лишь так:
"Посредством крещения человек становится лицом, принадлежащим к
церкви Христовой". Чего уж проще? - лишь крещение делает данного
конкретного человека ("персону") христианином.
Кстати говоря, еще раз становится ясно и наглядно, что АЛ. и я
говорим о разном, понимаем под "личностью" совершенно разное. Слишком
очевидно, что никакой ритуал никогда никого не делал "личностью", это
противоположные вещи, по определению. Какая бы то ни было внешняя
санкция несовместима со значением социокультурной самодетерминации
индивида, которая выражена в новоевропейской идее "личности".
Наш давний спор с АЛ. Гуревичем, хотя и является отчасти плодом
досадного логического qui pro quo, по-моему, все же не лишен серьезного
методологического контекста. Проф. Гуревич, неизменно и справедливо
подчеркивая, что мы имеем дело с принципиально иной "картиной мира", с
иначе устроенным эпохальным сознанием, а также, что мы не вправе
разглядывать эту иную культуру свысока, - полагает, что "отказывать"
Средневековью в феномене "личности" и "индивидуальности" как раз и
значило бы, неправомерно прилагая наш объем и смысл этих понятий, не
понимать и пренебрегать средневековыми людьми. Тогда был другой тип
личности, считает АЛ. Гуревич, вот и все. У меня уже был случай
обстоятельно пояснить, почему, с моей точки зрения, напротив, именно это и
значит танцевать непременно от современной печки, т. е. непременно
пытаться усмотреть "тогда" другие модусы той же субстанции, без которой
мы не в силах помыслить собственный жизненный и мыслительный мир.
Но вот что важно. Если индивидуальная "личность" это всякое
наличное "я", которое сознает себя, отличает от других, не безразлично к себе,
иногда даже некоторым образом сосредоточено на себе и т. п., то в этом не
только еще нет исторической differentia specific* Такой подход берет
средневекового индивида ("соборного", "не превозносящего собственную
личность" и пр.) как точку проявления, иллюстрации неких исторических
матриц ментальности. Для понимания эпохальной "картины мира" такой
индивид полезен постольку, поскольку наглядно подтверждает ее, подчас
вносит еще один мазок, ничего не меняя в уже известном из других
казусов колорите коллективного целого.
Тут мы с АЛ. Гуревичем, пожалуй, вдруг меняемся местами. Такой
индивид, по-моему, методологически умаляется, не содержит ничего
принципиально важного именно в качестве индивида. Он лишь еще один
частный случай общезначимого. Та ли "личность", другая ли - а какая,
собственно, разница? Тем более, что пафос "ментальности" побуждает считать
_ 916
Примечания
всяких там "высоколобых", гениальных же в особенности, - маргиналами,
непоказательными исключениями и, следовательно, людьми второго
сорта с точки зрения воссоздания "картины мира", "народной культуры",
социально-исторических структур и черт общества в целом.
Для меня же, отрицающего правомерность применения к
средневековому индивиду неведомых ему именно что регулятивных идей
"индивидуальности" и "личности", - этот индивид тем любопытней для понимания
культурного целого, когда какие-то личные черты в комбинации с
жизненными обстоятельствами выбивают его из обычной "ментальной"
колеи. Не становясь от этого типологически (-по системному смысловому
основанию) якобы "личностью", традиционалистский индивид тем не
менее, превращался в экспериментально значимый феномен. Он становился
точкой "бифуркации", т. е. проверки на прочность и преобразующего
сдвига - в индивидном мышлении - эпохальных матриц. Он уже не просто
подтверждал или варьировал общее, но выходил на границы своей мен-
тальности.
Собственно, только благодаря подобным одиноким личным усилиям,
теперь различимым исследовательски лишь в наиболее выдающихся и
редких произведениях, и осуществлялось историческое движение
культуры. Таким образом, считая понятия, ставшие предметом спора,
анахронистическими, не применимыми даже в связке с другими предикатами к
людям Средневековья, сознательно заостряя несходство с нами, остается
сыскать методические приемы, чтобы более чутко и напряженно отнестись
ко всему необыкновенно для этой эпохи личному, как завязи культурного
роста. И как ключу к пониманию чужой культуры в качестве уже не
только наличной, но и возможной, порождающей, меняющей себя самое.
Многолетняя дискуссия с АЛ. Гуревичем, видным представителем
школы "Анналов", была поэтому весьма полезной и стимулирующей для
меня, помогла, в частности, написать работы о переписке Элоизы с
Абеляром и об "Истории моих бедствий". Как всегда это бывает, без жесткого
сопоставления с иными методами нельзя додумать собственную позицию.
6 Йохан Боуман справедливо замечает, что событие обращения Августина
"должно быть понято прежде всего в своей сложности", не только из
непосредственно относящегося к этому места воспоминаний, но и в контексте
"теологии музыки" (BoumanJ. Op. cit., S. 62-65 etc.). Августин
исчерпывающе разъясняет, что есть окликающий человека "vox cordis", в
"Enarrationes in Psalmos", в комментарии на стих третьего Псалма "Voce
mea ad Dominum clamavi" (St. Augustin. Die Auslegungen der Psalmen.
München etc., 1964. S. 44-46). П. Курсель явно интересуется прежде всего
неоплатонически-христианским способом думать и изъясняться, т. е.
придает особое значение "интеллектуальной упорядоченности" рассказа об
обращении, хотя и не отрицает, что Августин, очевидно, пережил
"подлинный мистический экстаз" (CourceUe P. Op. cit. P. 222-226).
7 Petrarca F. Secretum. A cura di E. Carrara. Torino, 1977. P. 22 (lib. 1).
8 Die Auslegungen der Psalmen, S. 24: "aliud est esse in lege, aliud sub lege. Qui
est in lege, secundum legem agit; qui est sub lege, secundum legem agitur. Iile
ergo liber est, iste servus". Таким образом, различие между свободной во-
917 _
Примечания
лей и несвободой выражается грамматически различием двух залогов
(agit/agitur)... глагольной флексией! Обращение к Богу - тоже дар Божий
("converter?, Domine, et eripere animam meam", S. 110).
9 Здесь и всюду цит. по: Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. М.,
1979. С. 125-135.
10 De Capitam F Il "De Libero Arbitrio" di S. Agostino. Studio introdutivo,
testo, traduzione e commenta. Milano, 1987. II, VII, 16 (ниже ссылки в
тексте). Избранная библиография: р. 226-233.
11 St. Augustine. Select letters / With an English translation by J. Baxter.
London, 1930. P. 482-486.
12 Цит. по: BoumanJ. Augustinus. Lebensweg und Theologie. Giessen; Basel,
1987. S. 87,175,177. Говоря о словах "Суди меня, Господь, по праведности
моей и по невинности моей сверх меня (или "надо мной", super me)",
Августин пишет, что это "добавление" означает: "душа обладает
праведностью и чистотой не благодаря самой себе (поп per se habere), но благодаря
просвещающему и озаряющему Богу... не тем, каков есмь я (поп qua sum
ego), но пламенем, зажженным Тобою". И не я обращаюсь к Богу, но Бог
обращает к себе мою душу (Explanatio Psalmorum, по изданию:
St. Augustin. Die Auslegungen der Psalmen. München etc., 1964. S. HO, 144).
13 St. Augustin. Op. cit. S. 24, 26,44,46, 72.
14 Карл Ясперс следующим образом размышлял о парадоксальности
свободы воли у Августина. Свобода дана мне Богом, но Бог позволяет
использовать ее против него же. А когда я так и поступаю, Бог помогает
исправиться и обратиться на путь добра. Таким образом, "моя свобода -
дарованная, а не моя собственная. Я не могу хвалиться ею. Было бы гордыней
(superbia), если бы я захотел быть обязанным самому себе тем, чем я
обязан Богу. В состав самой свободы входит смирение (humilitas)... И
гордыня - это когда я обретаю свою радость в себе самом как собственном
произведении (wenn ich an mir selber ab meinem Werk meine Freude habe)" -
Jaspers K. Op. cit. S. 45.
15 См.: Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.
С. 318-322.
16 Explanatio Psalmorum. S. 110.
17 Цит. по: Saint Augustin. Dossier consu et dirigé par P. Ranson. Paris, 1988.
P. 74.
18 Там же.
19 Обращает на себя внимание тонкое исследование Л. Марэна о диалоге "я"
и "Ты" в "Исповеди" Августина (Marin L. Echographies // Saint Augustin.
Dossier... P. 295-311. Во всяком рассказе о себе, рассуждает Марэн, "я"
раздваивается на того, кто говорит (автор, повествовательное "я"), и того
"Я", о ком говорится ("je" и "Moi"). Настоящее время самого
повествования - и прошедшее время, о котором заведен рассказ. Оба - "я" и "Я" -
идентичны и вместе с тем различны: это "диалогическое Я" (Марэн
знаком с трудами Бахтина, испытывает их влияние). Так что
автобиография - "эхо" между ними, "эхография".
Однако у Августина дело выглядит заметно иначе: это другая
"эхография"... Рассказчика слушает "Ты", который заранее все знает о нем. Этот
_ m
Примечания
"Ты", однако, никогда не займет позицию "я", ибо он никогда не говорит
сам. Августин говорит за него, словами Писания - и тем самым
присваивает Писание, создает его заново, вносит в него нечто от себя (р. 297).
(Замечу сразу же, что последнее замечание некорректно, поскольку не
оговорено, что это оценка из XX века, но не реконструкция авторского
сознания Августина; а между тем исследователь озабочен исключительно
такой реконструкцией.)
Поэтому у "Я" (как предмета исповеди) в тексте - неясный модус. Нет
уверенности в "Moi". Я-рассказчик обращается к "Ты" и молится Ему.
Только "Ты" мог бы авторизовать речь "я" о себе, то есть молящийся "я"
может быть замещен в качестве "Я" только тем, к кому взывает. Ибо в
глубине "Moi" есть "Toi". Происходит осциллация не между "я" и "Я", а
между "я" и "Ты". И только в "Ты" обретают свою субстанцию и идентичность
во времени оба "я", молящийся и отмаливаемый. Исследователь приходит
к выводу, что вместо разговора меняющихся местами двух "я" образуется
тройственный "ритм": "je" (в качестве исходного, ибо именно этот "я"
написал книгу), "Moi" и "Toi". "Скажи моей душе..." (а не "мне") - "моя
душа" это персонаж в пространстве между "я" и "Ты". Так закручивается
«бесконечная спираль, в которой "Ты", к которому "я" обращаюсь, может
быть, не что иное, как "Я", которое "Он" образует посредством слов,
которые "я" произношу и которыми Он переписывает Книгу» (р. 298). Так что
"кто я" и "каков я" - это "эхо эха между Богом и Августином". В медиа-
ланском садике Августин остается наедине с собой; тут-то, в эпизоде
"обращения", обнаруживается "смертельное отличие je от Moi" (p. 302).
На мой взгляд, однако, Л. Марэн, превращая "Ты" в речевую и
литературно-смысловую категорию, в замещение диалогического "альтер Это", в
своеобразного посредника между «двумя "я"», - пренебрегает прямым
религиозным (и тем самым историко-культурным) содержанием
памятника То есть попросту - тем, что думал и желал выразить Августин.
Ангельский голос "Tolle lege", "Возьми и читай" - не плодотворно-конфликтное
раздвоение сознания, не эхо одного "я" в другом, осложненное
воображаемым "Ты". Но - знак Божий...
Все это у Л. Марэна умно, изящно и пр.; однако не смысловая игра, не
усложненность дискурса, не внутренний диалог и т. д., а нечто иное
сделано Августином и составляет основание "Исповеди". "Мы" - не субститут
"Я", и французский культуролог, утверждая, что в час "обращения"
Августин остался наедине с собой, прав лишь отчасти. В конце концов,
Августин обратился не к себе, а к Богу.
Отнесемся более доверчиво к самому таинственному и простому.
"Ты" надлежит понимать буквально! хотя Августин видит Его лишь
"очами духовными" и обращается к Нему в "сердце" своем. Поэтому
духовная ситуация Августина, прежде всего, имеет в его глазах надличное и,
если угодно, надчеловеческое (а значит, скажем уже мы, и надкультурное)
измерение. Только в этой своей исходной сакральной сути она законно
попадает в поле нашего светского, культурного внимания.
Будучи человеком совершенно неверующим, я нахожу вдруг довольно
странную и эксцентрическую поддержку в статье г-на П. Брюна "Редук-
919 —
Примечания
ция личности к существу в мысли св. Августина и в схоластике" (в кн.:
Saint Augustin. Dossier... P. 262-281). Автор, проникнутый современной
версией сугубо личных отношений между верующим и Богом, объявляет
Августина и Аквината "первыми великими этапами дехристианизации на
Западе"! Ибо у Августина предестинация, де, лишает смысла общение
человека с Господом: он, человек, не личность, а Божье творение,
"существо", l'être. Бог может любить его больше или меньше, и оценивается он
лишь по степени этой любви, но от него самого тут уж ничего не зависит,
и сам по себе он ничего не значит. Ведь, по Августину, все слишком
греховны от рождения, чтобы заслуживать чего-либо, кроме вечного
осуждения. Бог не имеет оснований кого-либо спасать. Однако, дабы явить
милосердие, он все же спасает некоторых, хотя и произвольно, безо всякой
заслуги с их стороны. (Тут П. Брюн искажает Августина на позитивистский
лад: благодать и впрямь дана не по заслуге, исчисляемой людьми, да, но и
не беспричинно, не наобум; мы просто не знаем причины и не смеем
судить о Божьем умысле). Автор упрекает Августина в язычестве, в
теологическом просчете... Поскольку (П. Брюн знает, Августин же не знал) "Бог
любит в нас не наше существо, в качестве своего творения, но - личность".
Человеческая личность, пишет современный толкователь, не
подозревающий о такой штуке, как история, - личность это абсолютный источник
свободы, способный и на богоборчество, и на "синэргизм" с Богом. Автор
утверждает, что "современный атеизм это в значительной мере
порождение самой церкви", включая сюда и августинизм, и томизм. Он высоко
ставит только христианство самих Евангелий и восточной ортодоксии, а
также чистых мистиков как Востока, так и Запада. Впрочем, он же - и за
широчайший экуменизм ("в глазах Бога аутентичны все религии и
верования"). Г-н Брюн считает, что "духовная жизнь по необходимости есть
некое личное приключение (une aventure personnelle)"; то, что "лично
переоткрыто, понято, усвоено". Из всего этого хорошо видно, что значит
верить в Бога в XX веке, а не IV или XIII.
Другой августиновед, Шарль Мельман, спаянный с нынешней менталь-
ностыо на совсем иной лад, рассуждает о том, что реальность Бога,
гарантированная церковью, позволяла Августину через религиозный диалог с
Другим добиваться, в принципе, того же успокоительного эффекта, что и
посредством психоанализа... (цит. сб.: Melman Ch. Saint Augustin antipsy-
chanaliste. P. 332-336).
Наконец, Ф. Кернер последовательно сводит веру Августина к диалогу
"von Person zu Person" и переводит древнюю мистику в рациональный
план экзистенциальной, сугубо личной проблематики: Körner F. Das Sein
und der Mensch. Die existenziell Seinsentdeckung der jungen Augustin.
Freiburg; München, 1959. S. 150-266).
Благодаря СВ. Лёэову, русские читатели познакомились с христологи-
ей современного лютеранского теолога Рудольфа Бультмана (см.: Бульт-
ман Р. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации
новозаветного провозвестия // Вопросы философии. 1992. № 11; там же: Лёзов СВ.
Теология Рудольфа Бультмана. С. 71-114). Об Августине тут речи нет.
Но к нашей теме идут два вопроса: что есть мистика и что есть "я" как
субъект веры - для современного ума и... тогда.
_ 920
Примечания
Коротко говоря, Бультман по необходимости признал мифологичность
непорочного зачатия и воскресения для сознания современного
просвещенного человека. "Это" БЫЛО, но что - "это"? "Исторический Христос",
по Бультману, сводится на то, что существовал и был распят человек по
имени Иисус. Зато, во всяком случае, единственно доказуемым,
историческим событием была "керигма", т. е. весть о Распятом и Воскресшем. И
была первая община людей, изменивших свою жизнь, поверив в эту весть.
Исходный натурально-исторический факт христианства, таким образом,
не чудо Христа, Богочеловека, а вера в это чудо: само возникновение
христианства. Оно выводится не из "действительного'' воплощения Сына
Божьего (такой вопрос признается ложным, незначимым), а из того, во
что уверовали первохристиане и во что верует вслед за ними современный
христианин.
СВ. Лёзов замечает, что при подобной "рационалистической обработке"
"тем самым доктринальное содержание (Воскресение как
эсхатологическое событие) становится недосягаемым для критики" (с. 83). В самом
деле, герменевтика Нового Завета переводится всецело в
"экзистенциальный" план. Христос есть реальность веры. Для кого? Только для того, кто
верует. Веровать же - значит переключать свое личное духовное
состояние, так сказать, на режим Нового Завета. Ибо, пишет Бультман, "человек
сам по себе, прежде и вне Христа, пребывает не в собственном бытии, не в
жизни, а в смерти" (с. 104).
Что до мистики, то тут разверзается пропасть между верой Бультмана,
нынешнего ученого человека, и верой Августина, ученого человека
IV века.
Для Августина (и для всякого христианина древности и
средневековья) - Христос есть событие вечности во времени. Бог есть
действительный Творец сущего, надо мной и над миром. Евангелисты рассказывают
то, что было. Ныне, присно и во веки веков.
Да, буквально.
Хотя и непостижимо сие для ума, но да вместят. Вера - это и знание;
вера разумна; разум ее толмач. Это подлинная, древняя, "онтологическая",
тотальная мистика.
Для нашего же теолога (и профессионального историка) XX в. - это
мистика в сознании верующего, это вера, принципиально отделенная от
научного знания, сведенная на медитацию. Это мистика "моего"
существования, это акт личного "освобождения от самого себя для своей подлинной
жизни", для "любви" и "самоотдачи" (с. 107). Это вера в
Христа-Богочеловека как вера в "пасхальную веру первых учеников", приобщение к ней.
Это непосредственно (и "исторически") - вера в Веру...
Августин же "просто" верил в Бога и в Новый Завет как Откровение
Истины. Его мистика втягивала в себя все, включая, конечно, и
философию, Платона или Цицерона
Бультман этого не может. И что удивительного?! Кризис древней веры
("мифологии") побуждает заменить ее усилием "покоряющейся веры",
которая противоположна "философскому диалогу", так что эти
параллельные линии никогда не пересекутся.
921 _
Примечания
Философствующий верит, но не в качестве, конечно,
философствующего.
Верующий философствует, но поодаль от своей веры.
Это - совсем другая, не августинова мистика; с ней можно в остальном
быть современным человеком... Это, по правде, личное дело, дело... вкуса.
Р. Бультман, отправившись с противоположного полюса, встречается с
В. Библером: в радикальном и полностью оправданном для логиков XX в.
размежевании сакральности и культуры.
Но вот что для меня также поучительно. У Бультмана "пасхальное со·
бытиен, хотя и "историческое", но... сознательно без историчности. Что две
тысячи лет тому назад, что сегодня, в чьем-либо акте веры - это одно и то
же вневременное и всевременное "эсхатологическое событие" (с. ИЗ).
Бультман признает, по сути, что, будучи верующим, он уже не историк, не
человек культуры: "Церковь - не историчный (historisch) феномен в
смысле факта мировой истории, но исторический (geschichtlich) феномен
в том смысле, что она осуществляет себя в истории" (там же).
Ладно. Но это разъяснение - "история" без историзма, "история" в
библейском смысле, хотя и устами историка - означает, что параллельные
линии все-таки пересеклись... в точке сопоставления. Ничем хорошим для
истории и культуры это не кончается, "Боливар не снесет двоих".
Более того (и наконец-то прямо подойдя к интересующей нас теме).
"Демифологизируя" в роли историка Новый Завет, дабы сберечь
христианскую веру в современном мире, Бультман в роли теолога
мифологизирует, так сказать, историческое первоапостольское "я". Он приписывает
человеку поздней античности "своеволие" в своем смысле. Свое своеволие.
Оно понимается как грех (неподчинение Закону), а также как
добродетель по своей воле (подчинение Закону через собственные дела;
праведность и вера как свои личные, выстраданные качества, будто бы это и есть
у евреев Закона "похвальба" перед Богом; "стремление жить из себя
самого"). Иначе говоря, Бультман, по-видимому, имеет в виду личность, - и
получается, что апостол Павел и Бультман писали об одной и той же
проблеме, об одном и том же строе человеческой души и судьбы.
(Библер же, стремясь к развертке исторического как логического,
предлагает для решения этой проблемы понятие "трансдукции", т. е.
синхронизацию через диалог разных типов личности, прыжок и - превращение, и
оборачивание культурных смыслов. Что куда тоньше!)
Вот - экзистенциальная проблема, из которой в учении Бультмана
вышелушена всякая "история" в светском значении. "Если подлинная жизнь
есть жизнь в самоотдаче, то она ускользает не только от того, кто вместо
самоотдачи живет из распоряжения находящимся в наличии, но и от того,
кто рассматривает самоотдачу как доступную его распоряжению цель и не
видит, что его подлинная жизнь может быть дана ему только как дар"
(с. 104).
Прекрасно. Однако, чтобы это "видеть", а не... ну, скажем, ощущать в
себе, воображать для себя лично, верить в свою веру, - потребен все-таки
Бог как непреложное и непостижимое Бытие; как Господь раба своего;
онтологический, усматриваемый в мироздании, хотя и слышимый человеку
_ 922
Примечали.
изнутри него, "мифологический" Бог, пусть! Но не удостоверяемый лишь
состоянием экзистенции, не сводимый к внутреннему опыту Бог.
Не та "мистика", которой живут, а та мистика, в которой живут.
Для меня же, лишь силящегося понять Августина, вообще "человека" у
него (индивида времен патристики), важно тут следующее. Думаю, что
апостол Павел или Августин, требуя самоотказа, смирения, признания,
что Благодать не заслуживается, а даруется, - оспаривали, конечно, не
личность, не то "я", которое хочет самоосуществиться суверенно и которое
также и любовь, и веру, и самоотдачу выводит из собственного
смыслового ядра и воли, из своего решения, ради своей цели.
Такого "я" не знали.
Говоря "ничего из себя", "я плохо жил из себя", ex me, имели в виду или
грех перед коллективной архаической нормой ("Законом") и тем самым
грех перед Богом - или "гордыню" в случае послушания тому же Закону.
Ибо индивид сурово отвечает за самого себя, за свой собственный грех,
отвечает перед общим, а не каким-то личным Богом, Богом всего народа
или же религиозной общины. Но по той же причине, исполняя Закон,
покорствуя, он не может видеть в этом какую-то свою заслугу, свою личную
инициативу. Он и в грехе, и в послушании общинный индивид (из некой
общины или в некую общину пришедший). И не ему, одному из рабов
Господина, решать, заслуга ли это. Не ему заранее знать решение
Господина. Напротив, это Господин заранее знает, на что подвигнется индивид,
что ему по силам и по умыслу его, и это Господин поддержит его и даст
силу, если на то будет воля Его, это Он промышляет через индивида - и
Он же судит. Индивиду не дано свободы, кроме свободы подчинения.
Нет, это не самообоснование, не "радикальное своеволие" свободной
личности и не "позиция отчаяния в возможности собственного бытия".
Все же не "так утверждает Новый Завет" (с. 105). Его писали не
экзистенциалисты. Но он указывает безмерность отчаяния, если бы индивид вдруг
остался один, вне истинно правильного общего бытия, брошенный
истинным Богом.
Согласно Новому Завету, впрочем, такое в конечном счете невозможно
и немыслимо. Род человеческий спасен. Всегда есть надежда.
Традиционалистский индивид, в отличие от современников Бультмана,
никогда не один - даже став пустынником (и особенно став
пустынником). Разве что маргинальность отчасти намекает на одиночество? Он
что-то знает об одиночестве - как о смерти - но он не знает одиночества,
как никогда не знают смерти. Он под надежным кровом - или же ищет
крова: как Аврелий Августин. И находит.
Только в европейское Новое время, да и то не сразу, узнали об
одиночестве - как об особой ценности, и особой трагедии, и особой причине для
мужества и достоинства личности. В самопостроении, самообосновании и
самоотдаче. Узнали о новом - внерелигиозном - искусстве жить и
умирать.
По поводу этой фразы см.: TurpinJ. L'Ego d'Augustin signe de la
trascedance // Dossier... P. 327-331. О неизвестном ранее богатстве
терминологии интроспекции см.: O'Daly G. Augustine's Philosophy of Mind.
923 _
Примечания
London, 1987. P. 208 ("redire in se (met) ipsum", "se sibi reddereH, "se ipsum
in se colligire", "in se intendi", "converti"; возвращение к себе,
сосредоточение в себе, обретение себя - обращение к Богу).
Ради чего Абеляр написал автобиографию
1 См.: Боткин Л. Пристрастия. С. 13-33.
2 Abelard's letter of consolation to a Friend (Historia Calamitatum) / By
J. Muckle // Medieval studies. Toronto, 1950. Vol. XII. P. 175. Далее
указания страниц (р.) - в тексте.
3 Ibid. P. 164-165.
4 Petrarca F. De vita solitaria / A cura di G. Martellotti. Torino, 1977. P. 244.
5 Petri Abaelardi Opera omnia // Patrologiae cursus completus. Serie Latina /
Ed. J.-P. Migne. Paris, 1855. Vol. 178. Epistola XVII, col. 375-378.
6 Архив Маркса и Энгельса. Т. X. С. 300 (цит. по: Сидорова НА. Абеляр -
представитель средневекового свободомыслия // Абеляр Петр. История
моих бедствий. Μ, 1959. С. 208).
7 Цит. по: Абеляр Петр. Указ. соч. С. 135 (пер. H.A. Сидоровой). См.:
Patrologiae cursus completus. Vol. 182. Col. 357-358. Другие письма Берна-
pa - в том же томе.
8 См.: Patrologiae cursus completus. Vol. 178. Col. 1857-1870; рус. пер. в кн.:
Абеляр Петр. Указ. соч. С. 155-177, особенное. 162-163,171.
9 Вполне серьезно обсуждается даже, не есть ли начало их любви, как его
преподносит Абеляр, "простая история обольщения", впрямь ли им
руководил "циничный расчет" (Grane Р. Peter Abelard: Philosophy and
Christianity in the Middle Ages. L, 1970. P. 48-49).
10 Этой проблемой детально занимались, в частности, немецкий историк
Г. Миш и американская исследовательница М. Маклафлин (Misch G.
Geschichte der Autobiographie. Frankfurt a. M., 1959. Bd. III: Das
Mittelalter. T. 2. S. 545-629; Mclaughlin M. Abelard as Autobiografer. The
Motives and Meaning of his "Story of Calamities" // Speculum. Cambridge
(Mass.), 1967. Vol. XLII, № 3. P. 463-488). Миш в громадной "Истории
автобиографии" обратился к литературной традиции самооправданий (Исо-
крат, Платон, Пселл, Авиценна и аль-Гаццали в XII в.), но обнаружил, как
трудно вставить Абеляра в какой бы то ни было ряд. Мэри Маклафлин,
начав с констатации той же трудности (Абеляр рассказал о себе "более
откровенно, чем любой западный мыслитель между Августином и
Петраркой", но очень мало объяснил, с какой целью он это затеял - Р. 463-464),
прежде всего суммирует конкретные обстоятельства возникновения этого
сочинения. "Утешительное письмо к другу" было написано спустя 15 лет
после кастрации и 11 лет после собора в Суассоне. Абеляра письменно
порочили с тех пор Фулькон и Росцелин, Норберт и Бернар Клервоский. Он
правит монастырем "на краю света", в Бретани, его угнетает незнание
местного диалекта, преследует ненависть подопечной братии, он лишен
возможности бывать в Параклете и видеться с Элоизой. Он страдает
неврозами и ипохондрией. Наконец, Абеляр бежит из монастыря к местному по-
_ 924
Примечания
кровителю-сеньору и пишет свою "Историю". Он должен обращаться к
широкой аудитории, опровергать выдвинутые против него религиозные и
личные обвинения, готовить возвращение в Париж или Параклет. Но не
просто потребность в самозащите движет им... его "друг"4 - это он сам
(р. 469)1 А образцом такого рефлективного и самоутешительного "солило-
квиума" ему послужили, помимо глубокой связи с "Исповедью"
Августина, также "Трапезы" Кассиана, "Гомилии" Григория Великого, Ориген,
св. Иероним и пр.
Соглашаясь со всеми упомянутыми выше замечаниями, мы попробуем
подойти к делу с новой стороны.
11 Богатейший материал об этом средневековом жанре см. в кн.: Гуревич АЯ.
Культура и общество средневековой Европы глазами современников
("Ехетр1а"ХШв.). М., 1989.
12 См.: Библер B.C. Образ простеца и идея личности в культуре средних
веков // Человек и культура. С. 81-125.
Письма Элоизы к Абеляру.
Личное чувство и матрицы культурной среды
1 Patrologiae Cursus Completus. Series Latina / Ed. J. Migne. Paris, 1855. Vol.
178. Col 213 (далее указания столбцов в тексте - col.). Так - в
древнейшем из девяти дошедших до нас списков (рук. № 802 муницип. б-ки в
Труа), датируемом по почерку концом XIII - началом XIV в. (MuckleJ.
Abelard's letter of consolation to a Friend // Medieval studies. Toronto, 1950.
Vol. XII. P. 164). Так и по первому изданию (1612 г.). По другим спискам:
"Suo specialiter, sua singulariter" (MuckleJ. The personal letters between
Abelard and Heloise // Medieval studies. Toronto, 1953. Vol. XV. 94). Далее
в тексте по изданиям Макля указания страниц - р.
2 Автор первой солидной монографии об Абеляре Шарль Ремюза перевел
это следующим образом: МА Dieu par l'espèce, a lui comme Individu"
(Remusai Ch. Abelard. P., 1845. Vol. I. P. 160). Толкование Ремюза
поддержал Э. Жильсон (Gilson Ε. Heloise and Abelard. Ann Arbor, 1960. P. 102).
Вариант, которому отдал предпочтение в своей публикации Макль,
соответственно следует истолковать так: "Ему (Господу) (принадлежащая) по
роду, его (Абеляра) как таковая (Элоиза)". Или же почти бессмысленно:
"Ему - особо, его - в отдельности". Не означала ли замена в более
поздних списках "Domino" на "Suo", что переписчики утратили
определенность понимания этого нетривиального места?
3 JolwetJ. Arts du langage et théologie chez Abélard. P., 1969. P. 85-115. См.
также: Verbeke G. Introductory conference: Peter Abelard and the concept of
subjectivity // Peter Abelard. Proceedings of the Int. Conf. Louvain 1971 /
By prof. E. Bugtaert. Leuven; The Hague, 1974. P. 1-11; Weingart R. The
logic of divine love: A critical analysis of the soteriology of Peter Abelard.
Oxford, 1970. P. 109-117.
Абеляр полагал, что родовыми (видовыми) обозначениями
схватывается действительное сходство, единая природа, универсальный предикат
многих разных вещей, некая их сущность (esse) - но не их существование
925 —
Примечания
(essentia). Соответственно существует только отдельный человек (hoc
aliquid), в нем сливаются отдельность субъекта и всеобщность предиката,
раздвоенные в языке. Притом "род" лишь "безразлично" (indifferenter)
один и тот же в разных индивидах; они, индивиды, отличаются друг от
друга не только акциденциями, но и сущностно. Правда, отвлеченно и в
потенции эта сущность у индивидов некоторого рода общая, сходная. Ум
улавливает такое реальное сходство и устанавливает "концепты",
универсальные имена. Однако "бытие в качестве человека" (in esse hominem) -
хотя и действительный статус индивида, но еще не он сам, в его духовно-
телесной целостности и наличности. В понятии "человек" ведь не
смешиваются Сократ и Платон (как и в понятии не-человек не смешиваются,
допустим, лошадь и осел): «ибо это имя "человек", объединяющее имена
отдельных людей сообразно природе субъектных вещей, таковыми вещами и
полагается» (цит. по: Verbeke G. Op. cit. P. 8). По отдельности "каждой
вещи ее природа позволяет ей быть человеком или не быть" (цит. по:
JolwetJ. Op. cit. P. 92). Отдельные люди могут иметь в том или ином
отношении сходный статус и, наконец, у них так или иначе общий "status
hominis", но в каждом индивиде этот статус осуществляется индивидно,
так что актуальное субъективно-предикатное бытие человека выступает
непременно в виде particularitas, singularitas.
4 Абеляр Петр. История моих бедствий / Под ред. НА Сидоровой. М.,
1959. С. 20, 22. (Переводы ВА Соколова, первое письмо Элоизы
переведено B.C. Соколовым.) Используя здесь и далее по мере возможности это
русское издание (далее указания страниц в тексте - с), я вношу в него
изменения, а иные места и перевожу наново по изданиям Махля.
5 Moos Р. von. Mittelalterforschung und Ideologiekritik. Der Gelehrtenstreit
um Heloise. München, 1974; MuckleJ. The personal letters... P. 60-67; Petrus
Abaelardus: Person, Werk und Wirking // Trierer theologische Studien.
Trier, 1980. Bd. 38. S. 19-100 (статьи Lucombe, Benton, Dronke, Moos);
MonfnnJ. Le problème de l'authenticité de la correspondence d'Abélard et
d'Héloise // Pierre Abelard. Pierre le Vénérable. Les courants philosophique,
littéraires et artistiques en Occident an milieu du Xlle siècle. P., 1975.
P. 409-424.
6 О жанре в целом см.: Гаспарое М. Л. Средневековые латинские поэтики в
системе средневековой грамматики и риторики // Проблемы
литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986. С. 103-107;
CwtiusE. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern; München,
1973. S. 85-87,158-163; Murphy J. Rhetoric in the Middle Ages: A history of
rhetorical theory from St. Augustine to the Renaissance. Berkeley; Los
Angelos, 1974; Constable G. Letters and letter-collection // Typologie des
sources du moyen age occidental / Ed. L Genicot Turnhout, 1976. Fasc. 17.
О приветственных формулах Элоизы и Абеляра см. в предисловии Махля
7 (р. 50-51).
7 См. тексты и процитированный комментарий С. С. Аверинцева в кн.:
Памятники средневековой латинской литературы Х-ХП веков. М., 1972.
С. 320-329.
8 Weigatt Я Op. cit P. 109-117.
_ 926
Примечания
9 Нет ничего нового в алоиэовом приветствии, с другой стороны, и в плане
конкретного словесного эффекта. Вот первый попавшийся пример. У
Цицерона, письма которого тогда еще не были затеряны (Абеляр и Элоиза с
ними, очевидно, знакомы), в эпистоле к брату Квинту от 13 июня 58 г. до
н. э. мы находим: МЯ тоскую о человеке, который по своей ласковости был
для меня товарищем, по уважительности - сыном, по мудрости - отцом".
Начинал же Цицерон так: "Брат мой, брат мой, брат мойГ Итак, трижды
брат, и товарищ, и сын, и отец - вместе.
10 В рукописи, принадлежавшей Петрарке, это место сопровождено его
собственноручной маргиналией: "amicissime et eleganter" ("самым дружеским
образом и изящно" - р. 73). Замечено так, будто перед ним какое-нибудь
письмо Цицерона к Аттику!... Только сквозь обобщенно римскую
жанровую задачу и стилистику "дружеского письма" (что ж, разве сама Элоиза
не цитирует Сенеку?) Петрарка способен ощутить и любовную окраску
писем Элоизы (воспринятую им как особый случай привязанности
вообще, как "женский" вариант универсальной эпистолярной модели: "очень
сладостно и ласково ты все время говоришь, Элоиза" - р. 70), и
свойственную этим письмам духовность, религиозных обертонов которой слух
Петрарки, по-видимому, совершенно не улавливает.
1 * Спустя всего только сто с лишним лет смысл будет уже в некотором
плане утрачен. По словам Жана де Мена, Элоиза "сама рассказывает об этом
(об истории их любви. - Л. Б.), и пишет, и не стыдится своему другу,
которого так любила, что называла отцом и господином (a son ami que tant
amoit, que père et seignor le clamoit)...". То есть Жан де Мен, трактуя
письма Элоизы в куртуазном плане, уже не понимает раздвоенного смысла
обращения "Domino suo, immo patri", с легкостью подменяет
противительный союз immo соединительным et. См.: Quillom de Louis et Jean de Meung.
Le Roman de la Rose. Milano; Varese, 1954. T. II. P. 135-137.
12 Петрарка опять замечает на полях: "Feminee" (p. 73).
13 Epistolae duorum amantium. Briefe Abaelards und Heloises? / Ed. und
Untersuchungen von E. Könsgen. Leiden; Köln, 1974. S. 83. Далее в тексте
указания страниц - S.
14 Dante Alightm. Convivio. Libro IV, cap. XXIV-XXV.
15 Сам Абеляр, говоря, что он в ту пору пользовался известностью, был
приятной наружности (formae gratia) и молод, употребляет, конечно, понятие
juventas, Элоизу же называет "adolescentula" (p. 183). Теперь же Элоиза
воображает себя и его словно бы людьми одной возрастной категории.
16 Southern R. The letters of Abelard and Heloise // Medieval humanism and
other studies. Oxford, 1970. P. 93.
17 Обычные недоумения по этому поводу см., напр. McCabeJ. Peter Abelard.
N. Y., 1971. P. 113. Макль уделяет особое внимание этому пункту,
поскольку он может послужить доводом против аутентичности писем.
Публикатор признает страстные пассажи Элоизы необъяснимыми для
аббатисы с безупречной репутацией, да еще спустя целых 15 лет после романа, и
склонен допустить возможность чьих-то позднейших вставок (р. 60-63).
Р. Стаутен возражает мы не в состоянии судить о духовном состоянии и
о том, что была способна высказать монахиня в XII в., исходя из стандар-
927 _
Примечания
тов тогдашнего поведения; даже и о последних "у каждого может быть
свое собственное суждение". Так называемое саморазоблачение Элоизы,
по мнению Саутена, вполне совместимо с суровой требовательностью к
себе в практической жизни. См.: Southern R. Op. cit. P. 98-102.
18 Qpilhm de Lorris et Jean de Meung. Op. cit. P. 135-137.
19 LeclerqJ. Ecrits monastiques sur la Bible aux XI-XIII siècles // Medieval
studies. Toronto, 1953. Vol. XV. P. 98-100.
20 См. Приложение VIII в кн.: Абеляр Петр. История моих бедствий.
С. 155-177 (col. 1857-1870).
21 В этом смысле прав Ж. Леклерк, когда он пишет об эротической
сублимации у Элоизы, что она религиозную жизнь посвятила не Богу, а Абеляру.
См.: LeclerqJ. Modern psychology and the interpretation of medieval texts //
Speculum. XLVIII. 1973. P. 481-485.
22 Любопытно, что никто из пишущих в XII в. о кастрации Абеляра не
может вовсе избежать этой ортодоксальной оценки. Однако общее место о
благостности телесного ущерба, дарующего избавление не только от греха,
но и от греховных помыслов, используется и окрашивается очень
по-разному. Элоиза приводит его вскользь и в контексте, ему явно
противоречащем. Абеляр, отвечая ей, развивает этот тезис подробно, покаянно, истово.
Вместе с тем см. эпистолу: "Петру, Божьей милостью омонашенному
(cucullato), брат Фулькон, с утешением касательно нынешней его жизни и
загробной" (col. 371-376). Фулькон не скрывает издевки и злобы,
развивая свою тему. Абеляру не угрожают теперь также и содомский грех, и
"ночные сновидения тебя почти не будут беспокоить, а если и одолеет
некое желание, то безо всяких последствий" и т. д. Но, впрочем, доводы и
ссылки Фулькона (на Оригена и всех, "кто уподобился блаженства,
оскопив себя ради царства небесного") мало отличаются от доводов самого
Абеляра.
23 Об этом см.: Güson Ε. Op. cit. P. 47-65 (особенно р. 59). В третьей главе
Абелярова трактата "Этика, или Познай самого себя" - "В чем состоит
изъян ума и что именно называется грехом" (col. 636-647), между прочим,
указывается: порок состоит не в самом плотском желании, мы не в силах
не вожделеть, но не должны себе потворствовать. Грех - и не само
действие. В стихотворном наставлении Абеляра сыну Астролябию говорится:
"Угодней смиренная распутница, чем надменная девственнница (Gratioor
est humilis meretrix quam casta superba)" (col. 1763). Грех - это "согласие
на то, о чем мы знаем, что Бог велел нам не делать этого. То есть злая
воля или же желание совершать недозволенное" (col. 639). Нет греха в
плотском совокуплении, также и в удовольствии от него, которое не
увеличивает греха. Но грех в том, чтобы, например, сознательно идти на адюльтер
и т. п. В XIII главе Абеляр на этом основании даже отрицает грех тех, кто
распял Христа, думая, что так угодно Богу - ведь эти люди "не ведали, что
творили" (col. 653). В глазах Бога греховен не сам поступок и не
искушение, а дурно направленная воля (voluntas), умысел (intentio), отказ от
борьбы с искушением, сознательная уступка ему (col. 640-641). С этой
точки зрения, повидимому, Элоиза невинна, пока она борется с собой,
осуждает свои искушения.
_ m
Примечания
24 Отсюда видна моя точка зрения на так называемое "обращение Элоизы"
(conversio). Оно состояло, как известно, в том, что их переписка потеряла
личный характер. Элоиза подчинилась пастырским внушениям Абеляра.
Спорят, насколько чистосердечным, истинным было это подчинение. На
это нам отвечают две эпистолы, лежащие перед нами, и, конечно, начало
третьей эпистолы. В дидактические рамки они не укладываются. Все
остальное остается in abscondito... Э. Жилъсон утверждал: "Она пришла в
конце концов к тому, чтобы любить Абеляра ради Бога, а не Бога ради
Абеляра или даже, как это и было, Абеляра против Бога" (Gilson E. Op. cit.
P. 85). Но разве и первое, и особенно второе письмо не содержит
благочестия, хотя и не в формально-церковном виде, разве Элоиза когда-либо
отпадала от Бога в глубине своих душевных борений? Разве она не любила
в обоих смыслах? Предметом раздумий, как мне кажется, должна быть
именно эта бунтующая и трагическая религиозность Элоизы, своеобразие
ее религиозности, единство ее "nocens" и "innocens", а не догматическое
"обращение".
Что до проблемы аутентичности писем Элоизы, то история вопроса
вкратце такова. Еще Пьер Бейль в XVII в. высказал в своем "Словаре"
сомнение в подлинности писем Элоизы. Б. Шмайдлер впервые в 1914 г.
начал доказывать, что вся переписка вышла из-под пера Абеляра. В 30-е
годы его поддержал Ш. Шарье, но все остальные специалисты продолжали
признавать аутентичность, в частности доводы скептиков обстоятельно
опроверг Э. Жильсон. В 1972 г. единодушие исчезло. Проф. Джон Бентон
из Калифорнийского университета, посвятивший себя истории
церковных учреждений, выступил на международном абеляровском симпозиуме
в Клюни с докладом, в котором утверждал, что переписка подложна и
сочинена кем-то в XIII в. Исследование Бентона наделало много шума.
Одновременно Д. Робентсон вернулся к идее Шмайдлера, увидев в
переписке чисто литературную назидательную конструкцию (см.: Robertson D.
Abelard and Heloise. N. Y., 1972). Петер фон Моос, опубликовавший
детальную историю всей контроверзы, отражающей эволюцию
методологических подходов к прошлому, склонился скорее к версии Бентона о
"третьем" авторе пнсем, считая их во всяком случае моралистическим
изображением "обращения", а не документами биографий Абеляра и Элоизы
(Moos P. von. Op. cit. S. 121). Большинство исследователей, впрочем,
оставались на прежних позициях.
В 1979 г. в Трире состоялась посвященная Абеляру конференция, на
которой Бентон вновь выступил с не менее неожиданным докладом.
Американский историк в стиле, более привычном в среде естествоиспытателей,
чем гуманитариев, подверг свою аргументацию критическому пересмотру
и мужественно признал, что его выводы были слишком поспешными
(Trierer theologische Studien. Bd. 38. S. 41-52). Тогда же П. Дронке привел
данные компьютерного стилистического анализа, подтвердившего явные
отличия писем Элоизы по сравнению с ответами Абеляра, а также
настаивал, что индивидуальные отклонения Элоизы от нормативной ментально-
сти могут быть вставлены в ряд других своеобразных высказываний
средневековых женщин - от знатной Дуоды (843 г.) до крестьянки Грациды
30 - 345
929 —
Примечания
Лизье из Монтайю (1297-1298 гг.). По мнению Дронке, мнимая
невероятность для XII в. подобных писем особенно опровергается сопоставлением
с почти ровесницей Элоизы английской монахиней св. Кристиной,
отношение которой к ее "возлюбленному" духовному отцу аббату Джефри
отличалось "утонченным, наполовину спиритуалиэованным эротизмом"
(Dronke P. Heloise's "Problemata" and "Letters") Some questions of form and
content // Ibid. S. 53-73). Наконец, П. фон Моос был вынужден признать,
что версия о позднейшей подделке отпадает. Письма принадлежали
Абеляру н Элоиэе... или одному Абеляру, но все же правдоподобней первое
(Moos P. von. Post festum // Ibid. S. 81-82). Однако Моос считает, что и в
этом случае Абеляр и Элоиза строили свою переписку по литературной
схеме прений (altercatio) между Грехом и аскетической Добродетелью.
Это "квазиагиографический экэемплум" (S. 88). Это passiones animi,
сводящиеся к стереотипам "риторически-диалектического конфликта" и
"обращения" (S. 92). Исчерпывающий обзор проблемы сделал на той же
конференции Д. Люкомб, автор книги о монастырской жизни в XII в. Его
вывод звучал так: письма Элоиза - "это литература, но это н история"
(Lucombe Ό. The "Letters" of Heloise and Aberald since "Cluny 1972й // Ibid.
S. 19-39). Итак, подлинность писем ныне опять общепризнана. Само
собой, как и всегда в подобных случаях, не может быть полной уверенности
в том, что на протяжении примерно полутораста лет (от автографов -
разумеется, не сохранившихся - до самого раннего из уцелевших списков) в
тексте не было сделано каких-либо изменений или вставок.
Сомнения в подлинности всегда подогревались, конечно, необычностью
писем Элоизы для своего времени. Я думаю, что это же может стать
серьезным доводом в пользу их подлинности, если не ограничиваться
субъективным выделением того, что кажется нам в письмах "невозможным", но
подвергнуть их целостному анализу. Только культурологический анализ
обычного и необычного вместе, в их сопряжении, помогает решить вопрос
о психологической возможности индивидуального, т. е. необычного в
XII в. (ср.: Jolivet J. Abelard entre chien et loup // Cahiers de civilisation
médiéval. 1977. Vol. XX. P. 311). Э. Жильсон рассказывает: в отделе
рукописей Национальной библиотеки он познакомился с молодым
бенедиктинцем и задал вопрос о точном смысле слов "conversatio" и "conversio" в
уставе его ордена. "А почему Вы придаете такое значение этим словам?"-
спросил тот. "Потому что, - ответил я, - от смысла этих слов зависит
аутентичность переписки между Абеляром и Элоизой". Никогда большее
удивление не выражалось на чьем-либо лице. И затем, помолчав, он
сказал: "Но ведь невозможно, чтобы это было неаутентичным. Это слишком
прекрасно". Никто из нас не сочтет это суждение доказательством, но мы
очень хорошо знаем, что оно правильно" (Gilson Ε. Op. cit. P. XII—XIII).
Отдавая должное остроумию знаменитого историка средневековой мысли,
заметим, однако, что красота и выразительность писем Элоизы могут
стать именно доказательными, но при одном условии: если мы
попытаемся проникнуть в историко-культурную подоснову элоиэовой
выразительности и объясним, почему письма прекрасны, т. е. почему "это прекрасно"
не вообще, а по-своему, не так, как любые другие прекрасные письма на
_ 930
Примечания
свете. К современной аргументации сторонников подлинности писем
Элоизы можно бы добавить следующее. Эти письма не мог написать ни
сам Абеляр, ни кто-либо другой в XII-XIII вв. не потому, что тогда это
должен бы оказаться, как заметил один историк, литературный гений, а
потому, что и некий неизвестный нам гений не был бы в состоянии
рассчитать напряженное смысловое движение, открывающееся в письмах
культурологическому анализу, ту индивидуально-всеобщую коллизию,
которая не могла быть сочинена никаким средневековым автором, но
могла породить - и породила - самого автора, Элоизу.
25 Боткин Л. Пристрастия С. 34-54.
26 Д. Люкомб (опираясь на книгу: Dronke P. Abelard and Heloise in medieval
testimonies. Glasgow, 1976) справедливо утверждает, что средневековый
интерес к переписке А. и Э. включал и симпатию к их любовной страсти,
и уважение к благочестию Элоизы - и тем самым переписка раздвигала
жанровые границы агиографии, не вмещалась в схему "обращения"
{incombe D. Op. cit. P. 25).
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Авторское самосознание в письмах поэта
1 Fedi R. Francesco Petrarca. Firenze, 1975. P. 131; Sapegno N. Pagine di storia
letteraria. Palermo, 1960. P. 109-111,115; Bosco U. Francesco Petrarca. Bari,
1961. P. 117. Ср.: Dotti U. Petrarca e la scoperta délia coscienza moderna.
Milano, 1978. P. 27-28 e segg; Rossi V. Scritti di critica letteraria. Vol. II.
Studi sul Petrarca e sul Rinascimento. Firenze, 1930. P. 93-210; Billanovich G.
Petrarca litterato. Vol. I. Lo scrittoio del Petrarca. Roma, 1949. P. 3-55.
Замечательно емкая и точная работа Наталино Сапеньо "Письма Петрарки"
(pagine di storia... P. 63-114) была сделана еще в 1936 г. Отталкиваясь от
наблюдений и выводов Сапеньо - как и У. Дотти, У. Боско, Дж. Биллано-
вича, Дж. Мартеллотти, Э. Уилкинса и других, - можно попытаться
поставить новые вопросы или иначе подойти к некоторым проблемам,
традиционным для петрарковедения. Обзоры литературы и библиографию
относительно Петрарки и его эпистолярия см. у Р. Феди (р. 132-167) и в
книге: Guarneri S. Francesco Petrarca e l'epistolario. Poggibonsi, 1979.
P. 92-116.
2 Bosco U. Francesco Petrarca... P. 111-112,116.
3 "Rerum senilium liber explicit. Amen. In originali sequitur Incipit XVIII.
Posteritati. De successibus studiorum suorum". См.: Dotti U. Vita di Petrarca.
Bari, 1987. P. 431.
4 Принятый в России перевод названия диалогов ("Тайна" или "Моя
тайна") неудачен, отдает чем-то внешне-фабульным. Лучше переводить
"Secretum" как "Потаенное" или "Сокровенное" ("De secreto conflicto
curarum meum", т. е. "О сокровенном борении моих забот", см. ниже по
изданию: Francesco Petrarca. Secretum / A cura di E. Carrara. Torino, 1977).
Петрарка захотел создать по примеру 6л. Августина - "который средь ты-
зо·
931 —
Примечания
сяч и тысяч всех мне дороже" - на собственный лад "pietatis opus", открыв
отеческому вразумлению и ободрению воображаемого исповедника то, что
обретается Min secretiorem loci partem".
Понятно, что смысл исповеди состоит как раз в том, чтобы раскрыть
сокровенное, вывести наружу потаенное. Поэтому название сочинения
Петрарки указывает не на "тайну", а, напротив, на то, что хотя и кроется
под спудом души и жизни, но непременно должно быть добыто, осознано,
открыто. Какая же может быть "тайна" в присутствии Истины?!
"Сладость" записанной очистительной беседы (ex collocutione) о сокровенном
с бл. Августином - "в резком, неподкупном свете дня", как сказал бы
другой поэт, - Петрарка задумал превратить в сладость перечитывания (ех
lectione). Но он объявляет, что собирается стать ее единственным
читателем.
"Итак, ты, книжнца, сторонясь людских сборищ, удовлетворишься тем,
что останешься при мне, я не забуду о твоем названии. Ведь ты есть и
наречешься: Мое сокровенное (Secretum enim m e u m es et
diceris). И пока я стану предаваться другим, более высоким
[сочинительским] трудам, ты, памятуя сказанное на духу (in abdito dictum), на духу
же о сем напомнишь" (Prohemium, p. 6).
Поэт имеет в виду слова Августина о том, что таится в глубине души и
"неведомо ни одному [другому] человеку"; о "великом споре во
внутреннем дому моем" (Conf., IV, 19; VIII, 8; ср. с комментарием Августина на
третий Псалом: "уединенные покои, то есть потаенные [глубины] сердца").
Перед нами "familiäre colloquium", "задушевная, доверительная беседа",
"беседа с глазу на глаз" в молчаливом присутствии всезнающей Истины.
Первая редакция "Сокровенного" была создана в 1342-1343 гг., т. е. это
гораздо более раннее сочинение, чем сборники эпистолярия. При жизни
Петрарка "книжицу" действительно не обнародовал. Остается спорным,
прошел лн Петрарка в начале 40-х годов после монашеского пострига
брата Герардо и рождения дочери Франчески через духовный кризис
(Bosco U. Francesco Petrarca... P. 7-9). Но вряд ли случайно он
одновременно с исповедью написал "Покаянные псалмы" (см.: Casali M. Imitazione
e ispiratione nei "Salmi penitenziali" del Petrarca // Studi petrarcheschi.
Vol. VII. Bologna, 1949. P. 151-170).
Я не могу здесь вдаваться в анализ "Сокровенного". Достаточно
напомнить, что в диалогах резко преобладающее место отдано, естественно,
Августину. Это ведущий голос самого автора от имени душеспасительного
авторитета ("Tu michi dux, tu consulting tu magistra"), другой голос
автора - от его имени, "Франциск" - почтительно вопрошает, просит
наставить, соглашается, иногда прелюбопытным образом упорствует (впрочем,
в схоластическом "прении" так и было положено: излагать pro и contra).
Беседуют Ученик и Учитель. Но достаточно необычны: 1) разговор,
построенный, тем не менее, пусть не на равных, но по горизонтали: как
замечает Истина, "человеческий голос - с человеческим голосом", 2)
преимущественно античный классический репертуар цитат, неотличение
авторитетных христианских текстов от auctores, в частности, "Августин" изрядно
опирается на стоицизм Сенеки; 3) гибкое интонирование разговора с "Ав-
_ 932
Примечания
густином" и самим собой, личная (или, что в данном случае то же самое,
стилизованная в качестве личной) окраска аргументации, хотя и
преимущественно традиционной (вводные слова, переходы, риторические
переклички голосов, etc.); 4) вряд ли "Франциску" удается смягчить позицию
"Августина", т. е. вполне оправдаться в собственных глазах, однако тяжба
в душе человека между земным и небесным выглядит незавершенной, оба
собеседника готовы признать ее естественность. Это не противоречит по
сутн церковной догме. Но окрашено в конечном счете в мудро-сннсходи-
тельные тона.
В конце третьего дня "Авсгустин" разъясняет "Франциску" тщету славы,
в данном случае писательской... и опирается не столько на свой "Град
Божий", сколько особенно на "Тускуланские беседы" и "О старости"
Цицерона... и пять раз цитирует "Африку" самого Петрарки! "Франциск",
разумеется, соглашается с этим христианским, хотя и антикизированным,
memento mono; заявляет, что выслушанное было ему известно и ранее;
впрочем, "многое значат достоинство слов, порядок изложения, авторитет
говорящего". И просит "Августина" о "последней сентенции": "велишь лн,
чтобы я отставил все свои ученые занятия и отказался от славы, либо
присоветуешь какой-то средний путь". Святой ответствует: Я никогда не дам
тебе совет жить бесславно, но и предостерегаю, чтобы ты искание славы не
предпочел добродетели. Ты знаешь, что слава это как бы тень добродетели,
и, как в вашем мнре невозможно, чтобы тело при свете солнца не
отбрасывало тени, так не может и добродетель в сиянии Бога не приводить к славе
<...> Не могу удержаться, чтобы не сослаться на твое собственное
свидетельство: "ты уклоняешься от славы, ты бежишь ее, а она следует за тобой".
Итак, следует памятовать о смерти и печься только о добродетели,
слава же придет сама. Тогда "Франциск" спрашивает "Августина" (т. е. себя
же) еще более неотступно: "Так что же я должен делать? Хочешь ли ты,
чтобы я прервал свои труды?" "Августин" отвечает, показывая, как
хорошо Петрарка уже понял себя: "Я знаю, на какую ногу ты хромаешь. Ты
охотней расстался бы с самим собой, чем со своими книжицами. Однако я
выполню свой долг до конца, а насколько удачливо, это будет видно тебе
самому, но уж, во всяком случае, неуклонно".
Следует последний длинный монолог, опять с обильными ссылками
на Цицерона, Вергилия, Горация и Петрарку же. "Августин" советует
отставить "Африку", ибо если Петрарка будет не в силах довести ее до
верха совершенства, поэт все равно обречен на забвение... "Начни
помышлять наедине с собой о смерти". "О, - восклицает в ответ "Франциск", -
если бы ты сказал мне об этом с самого начала, прежде чем я прикипел
душой к этим занятиям". "Да я ведь говорил это часто; еще раньше, чем
увидел тебя взявшим перо, я предупреждал, что жизнь кратка и хрупка,
а труд долог и неизбывен..." Раздвоенный монолог Петрарки (наедине с
собой) завершается на беспокойной и трогательной ноте. "Лишь бы ты
не покидал самого себя. - Я, сколько могу, обращусь к самому себе,
соберу распавшиеся части души, буду усердно бодрствовать наедине с собой.
Но ныне, когда мы говорим об этом, меня ждут великие, хотя и
смертные, дела".
933 _
"Я признаю" твою правоту, - твердит "Франциск", - я знаю, что было
бы надежней, дабы избрать правый путь спасения, оставить свои занятия.
"Но я не способен обуздать свое желание". В ответ последняя реплика
святого: "Мы опять возвращаемся к древней распре, ты называешь
желанием свое бессилие. Что ж, пусть будет так, когда не может быть иначе, и
мне остается молить Бога, чтобы ты, идя этим путем, хотя и ошибочным,
все-таки достиг надежного убежища". То есть достиг добродетели и
вечного спасения через словесность: любимая идея Петрарки, развиваемая им
спустя тридцать лет, незадолго до кончины, в письме к Боккаччо (см.:
Senilium rerum libri. I, 4. По изданию: Francesco Petrarca. Epistole / A cura
di G. Martellotti. Torino, 1976. Далее в тексте - Sen.). И последняя
реплика "Франциска": "О, если бы только я смог достичь того, к чему ты
взываешь, дабы я избежал, ведомый Богом, кривых путей и, когда Бог позовет
меня, не запорошил бы сам пылью свои глаза..."
Известно, что внутренний мир Петрарки тесно обусловлен умением
находить примирение, хотя остающееся беспокойным и никогда не
окончательным, между набожностью и страстью к словесности, между
Августином и Цицероном. Попытки во что бы то ни стало принизить
объемную и ведущую роль Августина как персонажа этого
религиозно-моралистического трактата в лицах, так или иначе грубо модернизировать
Петрарку, противоречат всем данным современного петрарковедения. Ранее
это проделала в скучно-советском идеологическом вкусе г-жа Девятайки-
на, и позже, с гораздо большей беспардонностью и претенциозностью,
г-жа Неретина. В любом случае такие попытки основаны на
пренебрежении к тексту, изобилуют натяжками и выдумками. См.: Девятайкина Н.И.
Мировоззрение Петрарки: этические взгляды. Саратов, 1988. С. 55 и др.:
"Так неужели устами Августина Петрарка высказал свои искренние
убеждения?.. Неужели голос старого в нем победил?" и т. п. См. также: Не-
ретина С.С. Абеляр и Петрарка: пути самопознания личности
(текстологический анализ) // Вопр. философии. 1992. Мг 3. С. 157-158. Здесь с ав-
густинизмом Петрарки автор радикально покончил следующим образом:
"Оглушенный Августин, согласившийся выполнять задачу, ему не
свойственную"; "полное расхождение путей Франциска и Августина",
"докучливый дидактизм и бесцветная увещательностъ <...> исповедального ме-
тодологизма Августина"; в итоге трактата "Августин признает себя
поверженным" (I). Несопоставимо корректней: Хлодовский Р.И. Франческо
Петрарка: поэзия гуманизма. М., 1974. С. 61-75. Но даже у этого серьезного
литературоведа, правда, в работе двадцатилетней давности: "Августин в
диалогах Петрарки - это не только религиозный изувер и
идейный противник, но и часть "я" нового
интеллигента-гуманиста" (с. 65). Едва ли первая и вторая части фразы не обессмысливают
друг друга.
Но "разве мы в состоянии отличить Августина от Франциска? разве
через реплики, приписанные святому, мы проникаем в человечность,
устроенную и обставленную иначе, чем у его собеседника?" (Bosco V. Francesco
Petrarka... P. 209; ср. также: Zimmermann T. Confession and Autobiography in
the Early Renaissance // Renaissance / Studies in honor of H. Baron. Firenze,
_ 934
Примечания
1971. P. 128-136). Что до обширной зарубежной литературы о
знаменательной конфликтности антично-христианского синкретизма "Secretum"
и об августинизме Петрарки, ограничусь, помимо У. Дотти (Dotti U. Vita
di Petrarca... P. 154-175), ссылкой на две взвешенные работы: Tateo F.
Dialogo interiore e polemica ideologica nel "Secretum" del Petrarca. Firenze,
1965; Courseüe P. Pertarqure entre S. Augustin et les augustins du
XIV siècle // Studi Petrarcheschi... P. 51-71. В связи с историей второй
редакции "Сокровенного" см. также: Baron H. From Petrarch to Leonardo
Bruni. Chicago, 1968. P. 40 etc.
Для наших целей при общеизвестной значительности "Сокровенного"
все-таки наиболее существенно то, что автобиографическая компонента "в
узком смысле слова" в нем скудна. И хотя поэт разрушает рамки
средневекового дидактического трактата, все же без натяжек трудно усмотреть в
"Сокровенном" "интенсивное самоисследование" "индивидуальной
реальности Франческо Петрарки" (вопреки расхожему представлению - см.:
Veintraub К. The value of the individual. Self and Circumstance in
Autobiography. Chicago; London, 1978. P. 98-106). Идейное и отчасти
психологическое борение в голове поэта? - во многом это так. Но очень мало
рефлексии на себя как вот этого. Сколько-нибудь впрямь конкретное,
казусное, непосредственно-личное уложилось бы за "три дня" бесед на од-
ной-двух страницах. Так что биограф Петрарки почти не получает
материала. Зато наставления "Августина" разрастаются в небольшие
речи-трактаты. Неразлучные "любовь" и "слава" (ср. у Абеляра), Laura и lauro,
маркированы "Франциском"; но, как уже не раз было отмечено, эти
"недуги" в "Сокровенном" принадлежат человеку вообще. "Слишком прямые и
непосредственные формы исповеди здесь отфильтрованы и
спроецированы на две абстрактные и типичные фигуры, которые можно отождествить
со сторонами человеческой души вообще, в которых могут себя узнать
также и другие люди"... это " образ всякого смертного" (Fedi R. Francesco
Petrarca.. P. 43).
"Мы воссели там втроем" (т. е. в уединении сердца и в присутствии
Истины). "И хотя многое при этом было сказано против нравов века сего и
об обычных прегрешениях смертных, это выглядело обвинением не
столько против меня, сколько против всего рода человеческого, и однако же
особенно врезалось в память то, в чем был замечен я сам" (ibid.). Стало
быть, в "Сокровенном" (в отличие от эпистолярия) конкретно-личного не
просто весьма негусто, еще показательней то, что и это немногое осознано,
подано автором sub specie aeternitatis. Своя жизнь пока остается в роли
назидательного экэемплума земного странствия.
Поэтому можно понять беглое разочарованное замечание М.М.
Бахтина, который, раздумывая о "внутренне противоречивых, переходных
формах от самоотчета-исповеди к автобиографии" и найдя, что уже у
Абеляра - "смешанная форма, где на исповедальной основе <...> появляются
первые биографические ценности, - начинается оплотнение души, только
не в боге", - продолжает так: "Биографическая ценностная установка по
отношению к своей жизни побеждает исповедальную у Петрарки, хотя не
без борьбы. Исповедь или биография <...> - эта дилемма, со склонением
935 —
Примечания
ко второму члену, проходит через всю жизнь и произведения Петрарки и
находит наиболее ясное выражение (несколько примитивное) в "Secretum".
(См.: Бахтин ЛШ. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 131.
Курсив мой. - Л. Б.) Эпистолярия Петрарки М.М. Бахтин, похоже, не читал.
Добавлю, что попытка Петрарки изнутри жанра преодолеть исповедь в
пользу биографии, не приведя к биографии, сильно обесцветила в
отношении живых пластических деталей и исповедь - в отличие от
гениальных книг Августина и Абеляра. Нет настоящего покаяния, потому что
Франциску хочется уйти от чрезмерности аскезы и пр. Но зато нет и
потребной для покаяния конкретной откровенности. Так что в отношении
индивидуальной рефлексии Петрарка теряет столько же, сколько он
пытается отвоевать чисто идеологически. Это голос раннегуманистического
индивида в его, так сказать, отсутствие. Вроде радиоспектакля... Попытка,
говоря об общем, намекнуть на более личный уровень приводит к
возрастанию риторической условности. Новизна "Сокровенного" в том, что к
нормативной дидактике "Августина" подвёрстывается некто "Франциск",
т. е. автор в качестве будто бы самого себя. Но ради этого Петрарка
вынужден проделать и обратный путь: дать себя в статике и высушенно,
превращая намеки на биографию в анамнез смертного человека вообще, а
рассказ о своей любви - в некую отвлеченную историю "болезни".
Двигаясь вне исповедальной личной и предметной откровенности, Петрарка
разменивает себя на общие места.
Изнутри традиционной исповеди до наивозможной раскрутки
биографии действительно дошел Абеляр. Петрарка же тут уперся в глухую
стену.
Нужно было сменить жанр. Найти способ сделать сам жанровый
контур самоценностно'личностным.
Другая очень любопытная, но тоже тупиковая попытка - огромная
эпистола к генуэзскому архиепископу Гвидо Сетте "de mutatione tempomm"
(Sen., X. 2). Мы находим здесь, напротив, множество любопытных
автобиографических подробностей, характеристики разных мест, где поэт рос
и учился. Однако все это нанизано на стержень общего эсхатологического
места: о тщете и усталости от собственной, как и всякой, смертной жизни,
о заметном в сравнении даже с совсем недавним прошлым упадке нравов,
меняющихся "от плохого к худшему", о том, что мир близится к концу. И
вот поэт (перекликаясь с известными пассажами дантовой "Комедии") с
легкостью перебрасывается на "всю Италию и всю Европу". От городов,
где ему доводилось жить, он переводит взгляд на... "Египет, Сирию,
Армению, всю Малую Азию < > Грецию, Скифию..." Оказывается, повсюду
такой же упадок. Впрочем, "сознаюсь, что не знаю, что ныне происходит
между Серами и Индами" (Seres Indosque, т. е. Китаем и Индией, намек
на строку Овидия).
Поэтому автобиографизм этой эпистолы очень странный. В письме к
другу Гвидо автор обращается к личным воспоминаниям былых лет, к
связующим его с корреспондентом ностальгическим моментам curriculi
vitae. Но этот - отнюдь не средневековый - эмоциональный ход и
подсказанный им порядок повествования изначально растянуты на дидактиче-
_ 936
Примечания
ских распорках. Они ведут от морализаторского топоса в виде посылки к
таковому же универсалистскому топосу в виде заключения: сводятся на
экэемплум. Внутри этой идейно-композиционной решетки увлеченная
автобиографическая новизна фактуры существует клочками, сама по себе;
но, будучи вдвинута в рамки целого, лишь тем верней удаляет от
действительно личной рефлексии. Тут Петрарка, пожалуй, ближе к Абеляру, чем
к себе. Более того. Несмотря на новизну несколько отслаивающихся от
дидактики, даже подчас довлеющих себе воспоминаний о детстве и
юности, все же "биографическая ценностная установка по отношению к своей
жизни" скорее кажется более выразительной и напряженной (чем в
письме Петрарки к Гвидо Сетте) на Абеляровом рискованном пределе
средневековой исповедальности. То есть: пока она оставалась только культурной
возможностью, только лредбиографической ценностной установкой,
заметно пульсировавшей под тонкой кожей "Истории моих бедствий". См.
раздел об Абеляре в первой части.
5 Posteritati (Senilium rerum libri, XVIII, 1). По изданию: Francesco Petrarca.
Epistole / A cura di U. Dotti. Torino, 1978. P. 870.
6 Familiarium rerum libri. IX, 2: 7 (далее в тексте Farn.). По изданию:
Francesco Petrarca. Орете. Primo volume. Firenze, 1975 (по оригиналу,
критически выверенному Витторио Росси и Умберто Боско для
"Национального издания сочинений Петрарки" в том же флорентийском издательстве
Сансони в 1933-1942 гг., т. Х-ХШ, с приложением параллельного
итальянского перевода Э. Бьянки). Переводы писем в случае ссылки только на
оригинал - мои собственные; но часто я предпочитал воспользоваться
блестящим переводом В. В. Бибнхина, разумеется, сверив его с
оригиналом, и тогда ссылаюсь лишь на русский том "Эстетических фрагментов"
(см. примеч. 16). Наконец, подчас мне казалось необходимым - ради
буквальной смысловой точности - подправить бибихинский перевод, в этом
случае следуют ссылки одновременно как на оригинал, так и на русское
издание.
7 См. ценную статью Экхардта Кесслера: Kessler E. Antike Tradition,
historische Erfahrung und philosofishe Reflexion in Petrarcas "Brief an die
Nachwelt" // Biographie und Autobiographie in der Renaissance / Hrsg. von
A. Buck. Wiesbaden, 1983. S. 21-34.
8 Г.С. Кнабе любезно указал мне, что словечко "homuncio" любил Цицерон
(см. также у Дотти: Dotti U. Petrarca е la scoperta... P. 42; y Цицерона и Те-
ренция оно означает противопоставление совершенству божества).
Следовательно, его употребление у Петрарки "амбивалентно", т. е. это знак не
только формально-языкового снижения, но и ценностного повышения
одновременно. Хоть он, Петрарка, и "человечишка", однако же... в роли
читателя и друга Цицерона.
9 Ср.: Сенека Лущи Анней. Нравственные письма к Луцилию / Пер., пос-
лесл. и примеч. С.А. Ошерова. Кемерово, 1986. Письмо I. С. 6: "Ты не
странствуешь, не тревожишь себя переменой мест. Ведь такие метания -
признак больной души <...> Кто везде - тот нигде". У Петрарки, впрочем,
эта негативность приглушена. Общее место из Сенеки не развертывается
здесь в покаянную характеристику собственной души; кроме того, приглу-
937 _
Примечания
шенность достигается тем, что это - лишь один из четырех мотивов
странствий, отнесенный только к эпизоду возвращения в Воклюз. "Нигде", как
и прирожденное изгнанничество, и душевная тревога, - у Петрарки
этически скорее нейтральны. В его "объективистском" использовании общего
места существен акцент на то, что таков уж он, Франческо.
10 Ср.: "Nomine ego cum principibus fui, res autem principes mecum fuenint",
(Sen. XVII, 2). "Внешне я был с государями, на деле же государи были со
мной. Никогда они меня не заполучали на свои совещания, лишь совсем
изредка - на застолья. Ничто и никогда не могло бы поставить меня в
[жизненное] положение, при котором хотя бы отчасти стеснили мою
свободу и я был бы оторван от своих занятий. Итак, в то время, как все при
дворе, я то ли брожу по лесу, то ли окруженный книгами отдыхаю с пером
в руке (inter libres cum thalamo quiescebam)".
11 "Пытаясь приблизиться к людям Средневековья в их индивидуальности,
мы неизменно убеждаемся, что индивид, принадлежавший, как и в любом
другом обществе, сразу к нескольким общинам и группам, не столько
утверждался, сколько полностью растворялся в этих общностях" и т. д. "Ни
в литературе, ни в искусстве не изображался человек в его частных
свойствах <...> его личность все равно полностью оставалась погребенной под
грудой общих мест...". "Индивид - это тот, кто мог ускользнуть из-под
власти группы...", «...главным отверженным средневекового общества был
чужестранец <...> Чужестранец тот, на кого не распространены
отношения верности, подданства, кто не присягал в подчинении, кто был в
феодальном обществе "ничьим человеком"» (Ле Гофф Ж. Цивилизация
средневекового Запада. М., 1992. С. 261 и ел., 270, 299).
Несомненно, нарисованная проф. Жаком Ле Гоффом картина к
середине XIV в., и особенно в Италии, уже была лишена прежней жесткости и
однозначности. В городах нарастают противоречащие ей процессы и
возможности. Кондотьеры, тираны, политические изгнанники, внеуниверси-
тетские профессора и школяры, бродячие монахи, путешествующие
купцы и поэты все больше ее размывали. "Ничьих людей" становится
слишком много. Тем не менее во времена Петрарки черты нарисованной
знаменитым французским медиевистом картины, в общем, еще верны. Поэтому
даже Петрарка мог добиваться" свободы" как особого статуса "Я" (а не как
подключения к готовому разряду корпоративных привилегий) лишь,
разумеется, cum grano salis. Идея индивидуализованной свободы - свободы
для Петрарки просто потому, что он - Петрарка и выступает в роли
"античного" поэта и философа, - шла впереди наличных эмпирических
обстоятельств. Такая идея, раздвигая эти тесные обстоятельства, сама
выглядит как беспрецедентное для Средневековья обстоятельство. Государи,
кардиналы, папы, коммуны Флоренции и Венеции проявили склонность с
ним посчитаться, хотя бы внешне принять предложенные Петраркой
новые условия игры. "Внешне" - это не обесценивает свободу Петрарки, это
не превращает его в Дон Кихота при дворе герцога. Напротив, это
огромный прорыв. Это как бы социализация и легализация его идеи, которая
впоследствии определит стиль взаимоотношений между гуманистами и
верхами городов или церкви.
_ m
Примечания
12 См. об этом: Боткин Л. Л/. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди.
М., 1995, с. 45-109. Ср.: Петров А/Т. Итальянская интеллигенция в эпоху
Ренессанса. Л., 1982.
13 Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. Париж, 1975. С. 153, а также С. 133-
134. Слова Пушкина об "особенном образе жизни" поэта и о "первом
правиле" "жизни Стихотворца" ("живи, как пишешь, и пиши, как живешь":
"Нечто о поэте и поэзии", 1815 г.) А.Д. Синявский называет "новым
взглядом на художника" (с. 125). Но мы находим этот взгляд на поэта и
философа уже у Петрарки, а тот взял его у римских авторов. Пушкин, согласно
официальному свидетельству, "оказал успехи в Латинской Словесности
весьма хорошие" (примерно на уровне нашей "четверки"); во всяком
случае, то, что ему было интересно у древних, он, надо полагать, запомнил и
усвоил. Новым, однако же, тогда - для русского стихотворца - было
желание действительного практического следования правилу независимого
"досуга" как единственной "службы" поэта. Была и более глубокая
новизна: в преодолении Пушкиным вслед за романтиками этого античного то-
поса (там же. С. 125-128), хотя и не без опоры на иную столь же древнюю
топику ("неистовство" как синоним поэтического состояния, внушение
сократического "демона" и т. п.). Впрочем, это уже к нашему сюжету не
относится. Довольно того, что жизненная независимость поэта в качестве
приватного лица, как и соотношение между гением и мотивами его же
будничного поведения, чертами повседневного существования, - т. е.
проблемы, возникающие впервые в европейской культуре в связи с
Петраркой, - остаются живыми проблемами еще для Пушкина.
14 Р.И. Хлодовский удачно замечает по поводу пурпурной мантии,
подаренной в 1341 г. королем Робертом, в которую Петрарка облачился 8 апреля
при короновании лавром на Капитолии: "Впервые поэту было сказано:
ты - царь" (Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка... С. 14. См. там же с. 8 о
сравнении Петраркой себя в "Африке" с карфагенским царем Сифаксом).
15 О роли этих понятий для итальянского гуманизма см.: Боткин ЛМ.
Итальянское возрождение... С. 63-68, 72-83.
16 франческо Петрарка. Эстетические фрагменты / Пер., вступ. ст. и
примеч. В.В. Бибихина. М., 1982. С. 230 (История эстетики в памятниках и
документах). (Далее в тексте ЭФ.)
17 Об истории поэмы, о неясностях и проблемах, с нею связанных, см.
статью Елены Рабинович, сопровождающую выполненный ею же
образцовый перевод с комментариями (Рабинович ET. Об "Африке" Петрарки //
Франческо Петрарка. Африка / Подгот. Е.Г. Рабинович, МЛ. Гаспаров.
М., 1992. С. 211-240.
Е.Г. Рабинович, вопреки сложившейся в петрарковедении традиции,
считает, что поэма не только была совершенно закончена, но и сам
Петрарка на деле считал ее "давно готовой" (с. 234-237). И это несмотря на
то, что "рукопись, существующая в одном-единственном - и притом для
всех недосягаемом! - экземпляре", при жизни поэта так и осталась
непрочитанной восторженными поклонниками (кроме посланного Барбато да
Сульмона отрывка из VI песни), а Петрарка охотно поддерживал "миф" о
ее продолжающейся отделке.
m —
Примечания
Переводчица апеллирует главным образом к приведенному выше месту
из послания к "Потомству", поскольку Петрарка, поведав о вдохновении,
внезапно осенившем работу под поэмой, "сам пишет о ее готовности". Но
Е.Г. Рабинович вынуждена справедливо добавить, что в Парме поэма
была закончена, "конечно, вчерне". Затем ("давно готовая"!) она много лет,
как всегда у Петрарки, дорабатывалась "очень тщательно". Остается
непонятным, зачем Петрарка объявил в "Posteritati" об окончании поэмы, если
хотел - тоже "сам" - считать ее незавершенной, неотшлифованной. Если
же его известие подразумевало лишь черновую редакцию, окончание in
toto, то противопоставлять это "мифу" о незаконченной шлифовке вообще
не приходится.
Далее Е.Г. Рабинович рассуждает так. Петрарка рассказывает в
"Сокровенном", как он во время болезни чуть не сжег "Африку" из опасения, что
кто-то станет после его смерти редактировать неотделанное творение.
Можно согласиться с исследовательницей, что рассказ Петрарки навеян
легендарной историей "Энеиды": Вергилий просил сжечь ее на смертном
одре, поэт Варий этого не сделал и "якобы перед публикацией что-то
исправлял в труде покойного друга". Е.Г Рабинович полагает, что у
Петрарки с этим парафразом связано "опасение понятное" и буквальное, а не
просто уподобление себя и "Африки" - Вергилию и "Энеиде". "Отсюда
<. > можно сделать вывод, что раз он (Петрарка. - Л. Б.) умер, а своеруч-
но переписанная им поэма осталась, то он почитал ее вполне готовой".
Не слишком ли прямой ход? Ведь Петрарка умер, оставив
незавершенными в своем архиве и "Стариковские", и "Триумфы", и "О достославных
мужах", и "Потомству". Их-то он уж точно не почитал готовыми? Почему
же не сжег?.. Главное же, у нас нет оснований понимать в буквальном
смысле мотив "авторской" поэтики Петрарки, который сама Е.Г.
Рабинович справедливо называет (как и рассказ о груде писем, будто бы
спаленных без раэбора) одним из ответвлений "африканского мифа": "темой
сожжения" как производной от "темы шлифовки".
Не срабатывает в пользу, так сказать, практического толкования и
своевременно напоминаемое Е.Г. Рабинович известное обстоятельство:
символическое возвышение и, можно бы сказать, литературно-жизненное
приурочение Петраркой к Пасхе замысла "Африки" в 1338 (или 1339) г., как
и первой встречи с Лаурой 6 апреля 1327 г. Венчание лавром в Риме
произошло опять-таки в Страстную пятницу, 8 апреля. Автор подозревает,
что поэт "мог сделать это нарочно". Впрочем, Петрарка указывал в одном
из писем иную дату, 13 апреля; по другим, притом весьма серьезным,
данным это произошло 9 или 17 апреля - см.: Fam., IV, 8 и примеч. 1 У го
Дотти в издании: Epistole. Torino, 1978. P. 137-138.
Поэтому, кажется, лучше бы перевести весь разговор из
реально-бытового в более значительный историко-культурный ракурс. Автор признает
вслед за современным петрарковедением: "наложение на собственную
жизнь категорий Святой седьмицы срезу демонстрировало отнюдь не
средневековое отношение к своей биографии и к своему творчеству.
Однако, хотя себялюбие Петрарки во многом послужило <. > развитию
гуманистического антропоцентризма, само это себялюбие могло бессозна-
_ 940
Примечания
тельно (? - Л. Б.) оформляться в привычных поэту, т. е. средневековых,
категориях. Таковы, вероятно, и его "три Пятницы": первая - "великое
приготовление" ко всей его итальянской поэзии, вторая - к "Африке",
третья - к деланному статусу лавровенчанного поэта" (с. 236-237).
Если переводчицу занимает, можем ли мы считать "Африку"
незаконченной в прямом значении, с точки зрения современного
литературоведения, то относительная правота Е.Г. Рабинович не вызывает сомнений. За
вычетом того, что оставленный поэтом единственный манускрипт, как
добросовестно признает автор, испещрен мелкой правкой и внешне являет
собой "нечто вроде черновых набросков": притом "черновик довольно
небрежный", более того, у него "безобразно черновое обличье". Плюс
дополнительные куски 5-, 6- и 9-й песен, заставляющие спорить об
окончательной композиции поэмы. Короче, "миф" о бесконечной шлифовке все-таки
наглядно подтверждается отсутствием беловика... А вообще-то поэма была
дописана.
Нетрудно ответить и на другой вопрос: действительно ли Петрарка сам
считал "Африку" не созревшей для публикации. Конечно. Иначе зачем бы
"держал под спудом"? Остается лишь понять главное: почему. "Почему же
он предпочел оставить <...> тщательно обработанным мифом столь
любимое им творение?.."
Объяснение Е.Г. Рабинович связано со смертью "державного мецената"
Роберта Анжуйского. Все дело, утверждает автор, в том, что "при живом
Роберте Петрарка мог не особенно опасаться провала". "При живом
Роберте поэт меньше скрывал неготовую поэму, чем после смерти Роберта
готовую!" (Правда, с этим не совсем вяжется тот факт, что пробное
обнародование отрывка о смерти Магона состоялось все же "сразу после
смерти Роберта"). «Смерть Роберта оставляла "Африку" на произвол судьбы и
"завистников"». Поэма не могла прийтись по вкусу именно близкому
Петрарке раннегуманистическому кругу. После его смерти, по достаточно
спорному утверждению Е.Г. Рабинович, так и произошло.
Возрожденческие читатели ожидали увидеть ученое стихотворное переложение Тита
Ливия и были разочарованы нарушением вергилианских правил,
слабостью действия, своеобычной лирической, а вовсе не эпической,
архитектоникой. Петрарка, как "умный человек и очень опытный литератор", это
предвидел. Посему он решил оставить "Африку" на суд не современников,
а поздних потомков, о чем и написал в финале последней песни.
Там, собственно, по мнению переводчицы, и содержится напрямую
"наиболее авторитетное объяснение" (с. 421-483). Там оплакан Роберт,
которому была посвящена поэма, и покойный король объявлен лучшим
судьей "Африки". Там высказано опасение, что прочие современники не
смогут оценить ее достоинств. Там сказано, что поэма возродится к славе
в ином, просвещенном и далеком веке. Ну, а пока, велю, среди сонмищ
ленивого люда / поступью, книга, ступай боязливой - в безвестности
прячься... (IX, 466-467).
Очевидно, соображения Е.Г. Рабинович, переводящей риторику
Петрарки в план практического литераторского расчета, незачем оспаривать.
Они интересны, хотя недостаточны. Чтобы подвести под этот расчет так-
941 _
Примечания
же и широкое историко-культурного основание, автору приходится
прибегнуть к весьма сильным допущениям. А именно: "отец гуманизма <...>
основоположник направления не отождествлял себя с ним, осознавал его
конечность и полагал (нескромно, но здравомысленно), что поэма его
может быть воспринята не ранее, чем направление это, сделав свое дело,
себя исчерпает" и т. п. (с. 238-239).
Получается, что Петрарка не только перерос "Африкой" раннегумани-
стическую эстетику, но и в известной мере сознавал это, вообще глядел
куда дальше (лишь начинавшегося под его пером) Возрождения! И
рассчитывал "на поздних потомков", когда после Стерна и романтиков (!)
"демонстративная установка на самобытность" и "своеобразное
культивирование неправильности" станут обычным делом. "В принципе" это было
"верным расчетом" автора "Африки" на грядущие пересмотры
"художественного наследия былых веков". "Нельзя не оценить литературную
интуицию Петрарки, основывавшего свои упования на верных предста-в
лениях о возможных трансформациях понятия π
оэтической вольности, но в одном он ошибся <...> Подвела
латынь" (с. 239-240). Переводчица влюблена в "Африку", считает ее
подпочвой лиризма итальянских сонетов, адекватным посланием Петрарки в
бесконечное будущее, и заканчивает замечанием, что если мы все еще не
в силах по-настоящему оценить поэму, значит, "лучше отложить ее для
внуков".
Неожиданная модернизация сознания Петрарки приобретает тут у
автора столь фантазийный характер, что лучше оставить эти выкладки без
ответа. Однако они невольно затрагивают очень важную для нас тему.
Петрарка впервые придал значение творческой работе - "изнутри" нее.
Проблема неровного хода и длительности этой работы, трудность
завершения, т. е. доведения до наивозможного стилистического
совершенства, - крайне его занимали. Отсюда, очевидно, и парадоксы отношения
поэта к "Африке". Это наибольший предмет его гордости, но потому и
сомнения, и тревоги. Это главное жизненное свершение, и оттого поставить
тут последнюю точку казалось страшней, чем под чем-либо иным.
Идея личной авторской ответственности, реализованная в девяти
редакциях "Канцоньере" (в виде сборника, начатого в 1342 г. и
остававшегося в работе практически до смерти), выразившаяся в почти столь же
долгой отделке, скажем, "Триумфа любви" и обстоятельно изложенная
во вступительной эпистоле "Повседневных", материализовалась у
Петрарки именно в подвижничестве и крайностях его знаменитой
нескончаемой шлифовки. Ясно, что такая шлифовка для Петрарки была не
только насущной повседневной реальностью его писательского
существования, но и залогом его "античного" достоинства, и надеждой на славу в
грядущих поколениях, и самым глубоким проявлением эгоцентрического
авторского сознания Петрарки. Шлифовка у Петрарки есть первейший
синоним сочинительской работы (см.: Sen., II, 3). Это знак личной воли
и ответственности сочинителя (по слову Квинтилиана: "Curandum est ut
quam opime dicamus <...> Ad profectum enim opus est studio", см.: Fam., I,
8:15).
_ 942
Примечания
Поэтому я бы отнесся с гораздо большим доверием к версии Петрарки
о "незавершенности" поэмы и не склонен считать ее просто "мифом",
сводить к литераторскому лукавству даже с ближайшими друзьями, вроде
Боккаччо, к боязни "провала" и т. п. Невозможно поверить, чтобы поэт,
удовлетворенный и считавший вполне завершенным свой opus magnus,
даже не перебелил его окончательно и не пожелал обнародовать при
жизни из одной боязни, что публика встретит поэму прохладно (хотя
полностью исключать соображения и такого рода незачем). Концовка поэмы
есть предание на окончательный суд потомков творения, относительно
степени совершенства которого Петрарка колебался всю жизнь. Первая
(пармская) редакция "Африки" был закончена в 1341 г. Именно ее имеет
в виду Петрарка в "Сокровенном", написанном в конце 1341 - начале
1342 г. Роберт Мудрый был еще жив. (Правда, поэт перерабатывал
исповедальные диалоги между 1353-1358 гг.)
Замечательно, что уже в "Сокровенном" Петрарка вкладывает в уста
Августина совет: "Dimitte Africain, eamque possesoribus suis linque
(Отпусти Африку и оставь тем, кто ею владеет)" Почему? "Сбрось с себя
тяжкую ношу истории: римские деяния достаточно озарены и собственной
славой, и другими писателями [ingénus] <...> Тебе не снискать славы ни
своему Сципиону, ни себе; ты не взнесешь ее выше, а значит, после нее
будешь принижен". О том, как в "парализующем смысле" этой сентенции
(ср. с параллельными местами о Сципионе в письме к Гвидо Сетте: "ех
factis non ex dictis oriri veram gloriam" сказались "глубокие мотивы
сомнения и недоверия [Петрарки] в отношении к собственному произведению",
и о том, как вся история сочинения "Африки" превратилась в некий
запутанный идейно-психологический experimentum cruris (где сошлись идеи
величия поэзии и ее вторичного сравнительно с "деянием" и
"добродетелью" - славы и бренности - сочинительской гордыни и "триумфа
времени") - см. исследование: Ferai Ε. Dali' "Africa" al "Secretum". Nuove ipotesi
sul "Sogno di Scipione" e sulla composizione del poema // II Petrarca ad
Arqua. Padova, 1975. P. 61-115.
"Африка" сознавалась Петраркой как соревнование с древними в
"высоком стиле": "labor alius me maneat, tanto preclarior..." etc. (Fam., 1,1: 8-9).
Это - в январе 1350 г. Но чем больше Петрарка убеждал себя и друзей в
значимости "Африки" и чем больше скрывал ее от посторонних глаз, тем
больше ситуация походила на ловушку чаямого авторского совершенства,
которую Петрарка поставил самому себе. Он не раз на годы отставлял
поэму, снова принимался ее править. В итоге "пресветлый труд"
"дожидался" Петрарки до конца дней. В последнем своем кабинете, в Арква, поэт
"Африкой" совсем не занимался, переключившись с деяний Сципиона на
"Деяния Цезаря" (см.: Marrtellotä G. "Inter colles Euganeos" Le ultimi
fatiche letterarie del Petrarca // Ibid. P. 171).
"Миф" о нескончаемой работе над "Африкой" - на грани правды и
вымысла, как и вся поэтика, вся жизнь Петрарки. Этот драматический "миф"
уходит корнями в природу Я-сознания Петрарки, осмыслению которой
посвящена настоящая работа. "Африка" по понятным причинам совпала с
идеей писательства как состояния, которое заканчивается лишь вместе с
жизнью.
943 —
Примечания
18 См.: Billanovich G. Auctorista, humanista, orator // Rivista di cultura classica
e médiévale / Studi in onore di A. Schiaffini. A. VII. № 1-3.1965. P. 143-163.
В средневековой латыни слово "auctor" исходно означало делателя,
который нечто приращивает и умножает (еще у Исидора Севильского: "Auctor
ab augendo dictus... Auctor ab agendo" - Etym., X, 2). В значении личной
аутентичности это слово иногда писали без "с": Mut hic et hec autor". В
XII—XIII вв. появляется термин "auctorista", затем и "autorista" - тот, кто
научает просодии и метрике, это латинист, ритор, опытный стилист,
наконец, и поэт. Поэтому позже вытесняется термином "humanista".
Для нас изыскания Дж. Биллановича важны ввиду следующего его
наблюдения. У Петрарки (и его ближайших последователей) в слове "аис-
tores" (или "autores") впервые и ненадолго, в створе XVI и XV вв.,
совместились одновременно и традиционная широкая этимология (тогда это
прежде всего "императоры"! - "ab augendo rempublicam"...); и второе
значение "авторов" как философов, inventores artium", "magne persone", вроде
"Платона, Аристотеля, Присциана; и третье значение - это "Вергилий, Лу-
кан и некоторые поэты", искусные в версификации (р. 143).
Соответственно от "autor" происходит "hec autoritas", т. е. чья-либо "сентенция,
достойная подражания".
Но Петрарка смешал и некоторым образом уравнял в общем термине
государей, полководцев, поэтов, создателей античной прозы и патристики.
Он через централизующее понятие "auctores" сблизил совершенно
разные духовные миры и эпохи. Он "революционно" возвысил тем самым
литературу, studia humanitatis до высшей всечеловеческой значимости.
Технический же (хотя и с хвалебным оттенком) средневековый
схоластический термин "auctores" Петрарка никогда не употреблял (р. 155-156).
Итак "авторитет" писателя и "власть" императора, auctor либо autor -
Петрарка должен был очень чувствовать эту сопоставленностъ и связь не
только на понятийном, но и на лексическом, можно бы сказать, даже
фонетическом уровне. В следующем столетии термин "auctorista" будет
вытеснен итальянскими гуманистами из употребления, а все то, что для
Петрарки означало сочинителя как "автора", перельется в термин "оратор"; в
конце же Кватроченто суффикс и флексия "-ista" отзовутся в слове
"humanista".
19 Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца,
написанная им самим во Флоренции / Пер. М. Лозинского. М., 1958. С. 424-
430 и др.
*° См. о культурно-идеологической и методологической роли studua
humanitatis и гуманистической филологии как антипода поздней схоластики
многочисленные замечательные труды Эудженио Гарена и, в частности,
специально о Петрарке: Petrarca е la polemica con i "moderni" // Gmin Ε.
Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo. Bari,
1975. P. 71-88.
21 См.: Sapegno N. Pagine di storia... P. 76: Странное утверждение, если
поразмыслить, что, напротив, преобладающая часть этих писем чрезвычайно
далека от доверительной и сообщительной интонации цицероновых эпистол
и изобилует морализированием, тем более что многие могли бы быть рас-
_ 944
Примечания
смотрены в качестве как бы маленьких трактатов на определенные
темы..." То же мнение (на самом деле это Сенека auctor maximus и образец
для эпистолярия Петрарки) - у Дотти (Dotti U. Petrarka e la scoperta...
P. 17-21) и Феди (Fedi R. Francesco Petrarca... P. 47-49).
22 См. о жанре "поучающего письма" у Сенеки: Ошерое CA. Сенека. От
Рима к миру // Сенека. Нравственные письма к Луцилию... С. 423-425.
23 Лверинцев С.С. Плутарх и античная биография. М., 1973. С. 105.
24 Ошерое CA. Сенека... С. 414 (курсив мой. - Л. Б).
25 Там же. С. 424.
26 ...Я не буду поступать, как Цицерон, человек весьма красноречивый,
который велел Аттику, даже если не о чем будет говорить, "писать все, что
взбредет на ум". Мне всегда будет о чем писать, хотя я и не стану
заниматься вещами, которыми заполняет свои письма Цицерон... (Сенека.
Нравственные письма к Луцилию... CXVIII. С. 363). Петрарка в письмах к
Цицерону (Fam., XXIV, 3-4) послушно упрекает его в тех же слабостях,
т. е. в суетных политических страстях и амбициях, непостоянстве,
ненужных жалобах, мелочности и пр. Он вслед за Сенекой готов осуждать его
"жизнь", его могут коробить некоторые его "высказывания". Но он не
только в восторге от его "ума", склоняется перед "оратором" и
"философом", - он дорожит самим смысловым заданием цицероновой эпистолы.
То есть эпистолы в качестве, можно бы сказать, чистого акта дружеского
общения, едва ли не единственная цель которого - выразить "состояние
духа" довлеющего себе Я. "Писать все, что взбредет на умГ - шаг в
направлении, для античности бесперспективном, но в Европе XIV в. уже
ведшем к Монтеню... Показательно, что Петрарка ухватился за эту идею
"письма ни о чем", столь резко осужденную Сенекой, и подробно ее
разработал.
27 Martelli M. Petrarca: psicologia e stile // Francesco Petrarca. Opere. Firenze,
1975. P. XLI. Далее, однако, будет ясно, насколько радикально мое
понимание этой формулы Марио Мартелли, кажущейся весьма удачной,
отличается от смысла, вкладываемого в нее самим проф. Мартелли. Ниже
указания страниц его работы в тексте.
28 См. подготовительные труды к критическому изданию "Familiamm", в
которых сопоставлены окончательные тексты с исходными и
промежуточными вариантами: Rossi V. Scritti di critica letteraria. Vol. 2. Firenze, 1930.
Наблюдения Росси подытожены в книге: Sapegno N. Pagine di storia...
P. 70-79.
29 франческо Петрарка. Эстетические фрагменты... Комментарий. С. 317.
Сн. 12.
30 Там же. Сн. И.
31 Там же. Книга писем о делах повседневных. I, 5, с. 70; VII, 5, с. 106; XVI,
12, с. 164 (далее в тексте Повседн.).
32 Ср. с замечаниями в работе автора из окружения М.М. Бахтина
(Волошин В.Н. Фрейдизм. М., 1993. С. 85-87) о том, что "всякая мотивировка
своего поступка, всякое осознание себя (ведь самосознание всегда
словесно, всегда сводится к подысканию определенного словесного комплекса)
есть подведение себя под какую-нибудь социальную норму, социальную
31 - 345
945 —
Примечания
оценку, есть, так сказать, обобществление себя и своего поступка <...> Во
всяком случае, содержание индивидуальной психики ничуть не понятнее
и не яснее содержания культурного творчества и потому не может
служить ему объяснением <...> достигнуть окончательной ясности моя мысль
не сможет, пока я не найду для нее точной словесной формулировки <...>
Какое-нибудь чувство не сможет достигнуть окончательной зрелости и
определенности, не найдя для себя внешнего выражения <...> т. е. не
отлившись в произведение искусства Этот путь, ведущий от содержания
индивидуальной психики к содержанию культуры, - долог, труден, но это
один путь..."
33 См. ниже разделы "Странности ренессансной идеи подражания древним";
"Риторика и творческая воля".
34 Ср.: Боткин ЛМ. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного
творческого мышления. М., 1990. С. 325-344.
35 Ср. ниже с. 664-670, 677-699,708-714.
36 См. также хронику и оценки последнего пребывания Петрарки в
Провансе: Wilkins Ε. Vita del Petrarca e la formazione del "Canzoniera". Milano, 1987.
P. 130-167; Bishop M. Petraicha and his World. London, 1964. P. 305-319;
Dotti U. Vita di Petrarca... P. 237-278.
37 Martelli M. Petrarca... P. XXIII. Это натяжка. Петрарка пишет: тем более
стыдно ему жаждать большего богатства, что, в отличие от юности, теперь
он "владеет многим", а желаний и потребностей с возрастом поубавилось.
И добавляет "некогда у меня было много бедствующих друзей, любовь к
которым, казалось, извиняла старание иметь и приобретать, и прежде
всего брат, который тогда нуждался во многом, ныне же ни в чем, так как все
оставил ради Христа; стало быть, о необходимом для моих близких
позаботились отчасти смерть, отчасти благосклонная [к ним] фортуна, отчасти
бедность, предписываемая религией; так что остался теперь один, и уже
очень немолод, и вполне обеспечен..." Наконец, Петрарка приговаривает в
третий раз: "habere autem me nunc satis multa (теперь же добра у меня
предостаточно)" (Fam., XIII, 5).
Несомненно, satis также для помощи двум внебрачным детям. Но было
бы совершенно невероятно, если Петрарка вздумал бы сослаться на
необходимость такой помощи в оправдание злосчастной попытки карьеры при
курии. Он признается и кается в письме к Нелли в этой "корысти". Но,
получается, проф. Мартелли упрекает поэта в том, что тот скрывает
основания, которые якобы делали ее оправданной? Если же упрек сводится к
обороту "me vero prope iam solum (со мной ведь рядом уже никого нет)",
то ведь Петрарка выразился точно. (Да и странно было бы ему толковать,
что он "один", если бы корреспондент и весь круг Петрарки знали, что это
не так.) Семьи у поэта не было. Постриг близкого и любимого брата Ге-
рардо, единственного родственника, с которым Франческо некоторое
время проживал совместно в Воклюэе, закрепил это положение вещей.
Внебрачные дети жили с отцом раздельно. К тому же с 14-летним (в момент
написания письма к Нелли) сыном Джованни, которого поэт забрал в тот
момент ненадолго в Авиньон, отношения не сложились. Упрек в
сокрытии истины и, кажется, в бездушии неуместен.
_ 946
Примечания
Впрочем, "стиль" требовал выдержанности и впрямь задавал Петрарке
умолчания о непригодных для эпистолярия подробностях (см. ниже). А
кто-то из петрарковедов остроумно заметил, что, может быть, Петрарка
невольно акцентировал свое разочарование в нерадивом сыне, памятуя,
что и Цицерон был разочарован в сыне.
38 См.: Боткин JIM. Итальянские гуманисты... С. 113-117.
39 Вето М. Commentarium in Convivium. Lib. I. Cap. 1. P. 137; Cap. 2. P. 138
(по изданию: Ban M. Commentaire au le Banquet de Platon / R. Marsele
(Ed.). Paris, 1956). Ср.: Jamblichus. De Misterii Aegiptiorum, Chaldaeorum,
Assyriomm. Lungduni, 1577 (в переводе Фичино). Cap. "De ordine superio-
rum" P. 10-12.
40 Leonardo Aretino. La vita di misser Francesco Petrarca // Tomanni G. Petrarca
redivivus. Patavii. 1650. P. 217.
41 ЭФ, с 289-295; Sen., II, 3. Перевод ВВ. Бибихина сверен (и отчасти
подправлен мной) в данном случае по изданию: Francisa Petrarchae... Opera...
Basileae, 1581. Tomus secundus. P. 759-760.
42 См.ниже с. 635-643.
43 См.: Боткин JIM. Итальянское Возрождение... с. 142-145 и др.
44 Хлодоеский Р.И. Франческо Петрарка... С. 8.
45 Роман Сервантеса в той мере, в какой он построен на столкновении
неправдоподобного книжного вымысла и прозаической реальности, выразит
кризис ренессансной, хотя и тотальной, а вместе с тем предоставленной на
личное усмотрение книжности. Но тем самым был продолжен сам
принцип такого усмотрения. В романе то и дело спорят о литературе. Бакалавр
и священник перебирают авторов. Одних одобряют в качестве правдивых
и полезных, других порицают и отбрасывают. Кроме того - и это
главное, - сквозь роман тянется огромный параллельный пласт вставных
повестей. Нынешние читатели обычно пропускают их, относятся к ним,
примерно, как к "Африке" Петрарки сравнительно с его же сонетами и
письмами. Но для Сервантеса и его публики этот чувствительный, галантный
и авантюрный пласт, в отличие от рыцарских романов, вполне достоверен.
Не в пример грубостям постоялого двора, включая также приключения
Дон Кихота и Санчо на большой дороге, он дан в высоком стиле.
Разговоры о книгах, включая и саму книгу о Дон Кихоте, и появившуюся
подделку под нее, - постоянное занятие персонажей. "Дон Кихот" это
самодостаточная книга, в которой все персонажи суть одновременно и читатели
других книг, и (начиная с самого Дон Кихота) читатели той книги, в
которой находятся. Начиналась же книжность подобного типа (как
филологического сотворения мира) с Петрарки. И она остается таковой поныне.
46 А как же "смерть автора", по Ролану Барту?
Писательская (-личная) участь Петрарки подтверждает ее... но только в
том смысле, что автор действительно не "предсуществует" книге. Он
"рождается одновременно с текстом" (Барт Р. Избранные работы.
Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 387). Однако если автор таким образом впрямь
рождается и "всякий текст вечно пишется здесь и сейна(Г% то невозможно
утверждать, будто "говорит не автор, а язык как таковой"... будто к
субъекту, воля которого устремляется к про-изведению и необходимо меняется в
31*
W —
Примечания
нем, текст никак не относится... будто "письмо есть изначально
обезличенная деятельность" (с. 385). А ежели бы именно так, то автор вовсе тогда не
"рождается"... но, следовательно, и не "умирает". Он всего только извне
запускает механизм самопроизвольного текста, он призрачен от "замысла"
до "отделки", а вне их "автора" просто нет.
У Барта это, пожалуй, гротескное заострение трех впрямь бесспорных и
даже тривиальных факторов. А именно: 1) биография и психика
сочинителя, взятого до сочинения и вне процесса сочинения, сами по себе не
могут дать ключа к его инобытию в качестве автора; 2) всякий автор имеет
дело с готовым запасом жанровых, стилистических, языковых форм и
приемов, и самые оригинальные авторские замыслы вступают с ними в
неминуемый компромисс, подчиняясь пренаходимому, хотя и более или
менее варьируя (что Барт признает) и тем самым сдвигая его по-своему и
впервые именно так (а вот этим Барт пренебрегает); 3) в голове читателя
текст всякий раз актуализуется и преобразуется через личный акт
понимания.
Последнее Барт формулирует так: "рождение читателя приходится
оплачивать смертью Автора" (с. 391). "...вся эта множественность
фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до
сих пор, а читатель" (с. 390). Итак, автору не дозволено быть даже первым
собственным читателем? Хотя: имы должны читать тем же способом,
каким пишем" (с. 352). Если так, то, кажется, трудно отрицать, что у автора в
этом плане есть некоторое заметное преимущество перед читателем...
вторичное понимание текста семиотически все-таки совсем не то же самое,
что его исходное измышление, начертание и правка... никакое читательское
толкование не мешает тексту предстать перед следующим читателем в
совершенно прежнем, неколебимо исходном виде, опять готовым для новых
перетолкований... Можно бы сказать, что только решение автора
относительно текста (в тот момент, когда он ставит в нем последнюю точку и
отпускает на волю) делает чтение чужих сочинений занятием не
безнравственным и не убийственным. А, напротив, необходимым, чтобы спасти
произведение и автора от непрочитанности, неуслышанности, выпадения из
диалога, немого вопля в пустыне, короче, от смерти.
Но и оказавшийся рядом с автором читатель, по Барту, - это якобы
"человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто,
сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст"
(с. 390). Что ж... если поверить, будто возможен подобный Некто (а
лучше: Никто), значит, изначально мертвы оба: и автор, этот "вечный
переписчик", и читатель. А заодно уж и "критик" (читатель в роли
профессионального интерпретатора).
Но, увы... тогда в этой великолепной бартской могиле покоится само
воспеваемое им "письмо", ибо и оно отлучено от истории (на что Барт
идет сознательно и бесстрашно: с. 209-232). Вне череды проступающих
сквозь конкретные исторические контексты авторских усилий - это
"история" разве что в геологическом, тектоническом значении. Из
литературы, таким образом, изгоняется гуманитарность, субъектность. Правда,
изгоняется как раз потому, что Ролан Барт в качестве "постструктуралиста"
_ щ
Примечания
чувствовал ее "тайну** очень остро, искал от нее методологического
укрытия. Он желал уйти от сциентистских иллюзий детерминированности, ос-
тановленности "содержания" на биографически-психологическом и
рассудочном уровне. Но если обреченно "готовый словарь** - смертный
приговор попытке автора "выразить себя", - тогда "письмо", вопреки
методологическим расчетам Барта, выглядит как раз "остановленным". Безличное
варьирование не есть разнообразие смыслов. Это что-то вроде
расположения камешков береговой гальки, нового после набега каждой волны, но
бес-смысленно "нового": подвижной неподвижности. Сделать смысл
"письма", как справедливо констатирует Барт, никогда не
"окончательным" - выразимся короче и точней, сделать смысл смыслом - может
только неиссякаемая субъектность все новых авторов и читателей.
Субъектность, конечно, не сводится к биографически реальному Я. Но
все-таки именно конкретно данный, исторический имярек - ее,
культурной субъектности, уникальный орган. Даже детей отныне в наше время
можно зачинать in vitro; однако с авторством, с "символически"
насыщенным произведением (в отличие от текста, составляемого компьютером),
этого не получится никогда. Если же движения "письма" не имеют
исторических оснований, индивидуальных умыслов и далее неисчерпаемых
переосмыслений, если в них нет ни социальности, ни личности, нет
выразительности, то нет и смыслового движения вообще. Всецело
отчужденные "сообщения" без реальных авторов и адресатов - по какому праву
называются "смыслами"? А схождение "множества разных видов письма" в
безличном и отвлеченном читательском "фокусе" - почему это "диалог"
(с. 390)? "Смысл" и "диалог" вслед за "автором" и "читателем"
превращаются у талантливого и яростного лостструктуралиста Барта в метафоры,
заимствованные из зыбкого мира людей и приложенные к миру
слов-вещей.
По-моему, в этом-то пункте обнаруживается подоплека "пост"-структу-
рализма (в том числе, очевидно, затем и "деструкции"). От Барта до
Жака Деррида происходит бунт на корабле, но это именно корабль
структурализма Лодка логоцентризма раскачивается, днище ее изобретательно
разбирается - но это "деструкция" именно надличной языковой
"конструкции" (произведения как текста, как вещи, власть над которой всякого
хозяина, начиная с автора и кончая читателем, - мнимая). В тексте
выражает себя не субъект языка, а сам язык, внешний и принудительный по
отношению к индивиду. Мировая культура начинает выглядеть чем-то
вроде "Соляриса" у Лема: это единый и единственный, матричный, и
самообучающийся, и производящий абсолютный компьютерный Разум, это
непрерывно и чутко, но бес-смысленно и непостижимо колышущийся
Океан.
Изменения и приращения замкнутого на себя "языка"-Океана можно,
конечно, описывать: но лишь подобно тому, как описывают константы
климата и капризы погоды. Это встряхивания калейдоскопа, бесконечное
вероятностное коловращение, игра "языка" в рулетку с самим собой.
Писатель же всего лишь крупье при этой механической рулетке; "он может
лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не
949 _
Примечания
впервые" (с. 388). Всякое личное (авторское ли, читательское ли) усилие,
всякая попытка выразить некий смысл - словно муха, попадающая на
липучку метаисторического "языка".
Туг-то свидетелем на суд Барта и может быть вызван человек по имени
Франческо Петрарка... К нему фраза Барта об обреченном подражании
явно применима в несравненно большей степени, чем к авторам более
Нового времени, не так ли? И что же? Надеюсь, мне в какой-то мере удалось
показать, что Петрарка смог стать Автором благодаря умению проложить
собственный путь через море написанного до него, исключительно
посредством такого избирательного и обдуманного подражания, такого
варьирования "готового словаря", которое вело поэта к себе самому. Он мог
стать собою, Петраркой, не потому, что подвигался к своим сочинениям в
силу каких-то внелитературных причин, но он обретал автономное
Я-существование изнутри самих этих сочинений, на острие собственного пера.
Он жил на границе между своими текстами и своей же повседневной
жизнью. Он был тем более жив и реален, чем более несовпадение языка и
мысли, "письма" и "жизни" превращалось в его, Петрарки, сквозное
личное и плодотворное состояние.
Петрарка писал и писал, словно ободренный несколько неожиданной
уступкой Р. Барта: "Ведь писать уже значит определенным образом
организовывать мир, уже значит думать о нем..." (с. 338). Он писал, словно
готовый радостно согласиться с Бартом: "Да неужели я существую до своего
языка? И что же в таком случае представляет это я, будто бы владеющее
языком, между тем как на самом деле именно язык вызывает я к бытию"
(с. 339). Замечательно. Значит, я все-таки... вызвано к бытию?
Но только один вопрос: если писатель годами склоняется над бумагой,
то разве его "Я", и ранее уже тысячекратно вызванное к бытию, может
существовать иначе, чем до ежедневного, еженощного нового
сочинительства? Как различить здесь "до" и сам момент авторства? Как в писательском
"Я" разделить опыты языка, опыты мысли, психические опыты и опыты
поведения? Как воспринять топосы отдельно от неокончательного и т. п.,
но с очевидностью уникального смыслового контекста? Как признать этот
контекст безличным и неумышленным? (При том, что "результат"
неравен умыслу н бесконечен, поскольку в его истолкование с
необходимостью включаются языки и смыслы толкователей.)
По слову Мандельштама:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.
Автор не может быть "устранен", если "письмо" это подлинно акт его
("Я") непорочного зачатия. Но искать и обнаруживать его следует именно
внутри "текста" и даже в качестве "текста" (термин, под которым Барт и
постструктуралисты обычно понимают как раз то, что отрицают:
авторское произведение), а не в "жизни" сочинителя, рассмотренной помимо и
до письма, где - Р. Барт прав - "Я" действительно нет: не только как Я-ав-
тора, но и вообще как исторически объемного и реального Я. Из мозга
писателя никакая лоботомия не удалит писательские клеточные ткани, по-
_ 950
Примечания
скольку его языковая практика составляет то подкладку, то лицевую
сторону мышления и личного самосознания как целого.
Однако по той же простой причине из "письма" не устранить и самого
автора как имярек во плоти. Человек умирает в писателе с тем, чтобы
воскреснуть в нем, хотя уже и несколько другим человеком. Похоже, таков
был уже наш Петрарка, первый писатель по преимуществу. Но в таком«
новоевропейском, писателе опосредован и реальный Я по преимуществу.
Авторство это не "литература" (и не "письмо"); это не "жизнь" (и не
"психология") сочинителя. Не тот, надличный круг и не этот, эмпирический
личный. Но это их наложение друг на друга, их некий общий сегмент; в
нем-то и разворачивается личное и культурное событие авторства.
Автор умер, да здравствует Автор.
Сочинять и любить
1 Петрарка Франческо. Сочинения философские и полемические / Перевод
Н.И. Девятайкиной, Н.М. Лукьяновой. М., 1998. С. 85. См. также о
личном призвании 1:4 и 1:8, с. 118-120.
2 См.: Bosco U. Francesco Petrarca. 2 ed. Bari, 1962. P. 189-199.
Замечательный петрарковед, отмечая всегдашнее устремление поэта к продуманной
"конструкции", осмотрительно посвящает раздел "Verso l'unitàN все же
раэбору не "Канцоньере", а "Триумфов". См. также: Calcaterra С. Nella
selva del Petrarca. Bologna, 1942. P. 8-18, 210-216 etc. Ср.: Monùmari F.
Studi sul Canzoniere del Petrarca. Roma, 1958. Автор считает, что, убрав из
заголовка последнего и аутентичного беловика 1366 г. слово "[fragmento-
rum] liber", ранее значившееся в кодексе Киджи 1359 г., поэт тем самым
признал неудачу честолюбивой попытки придать сборнику характер
"завершенного и органичного целого". Одновременно термин "fragmenta" и
название в целом приобрело более явственное меланхолическое значение.
"Сном всей жизни Петрарки" было желание создать нечто монументаль-
но-завершенное и торжественно-цельное, но потерпев в этом отношении
поражение со своими латинскими замыслами, так или иначе
незавершенными, поэт был тем паче вынужден удовлетвориться - в эпистолярии и
лирике - "собраниями < > коротких сочинении, лишь внешне связанных
между собой" (р. 8). Считая "tentativi di unite" (попытки придать книге
фрагментов литературное единство) объективно совершенно
неудавшимися (р. 7-39), автор сосредоточивает внимание на
религиозно-психологических мотивах, придающих лирике Петрарки единство, но совсем
иного рода, которое мы бы теперь назвали экзистенциальным и моральным.
Это единство его личности, набожных колебаний, судьбы, наконец
поэтической выразительности (см. особенно р. 14-15,17, 22-23). Итогом
сборника, по весьма характерному мнению Ф. Монтанари, следует считать
раскаяние в земных привязанностях и обращение к Высшему Благу и
Деве Марии. « Все это, впрочем, относится к сентиментальной биографии
Петрарки, но не к композиции "Канцоньере"» (р. 38).
Постмодернистское решение проблемы построения "Канцоньере"
предложено в кн.: Waller M. Petrarch's Poetics and Literary History. The Univ. of
951 —
Примечания
Mass. Press, Amherst, 1980. "Интертекстом" для Петрарки служила
"Комедия" и, по мнению исследовательницы, он строил стилистику "Канцонье-
ре" на ироническом отталкивании от Данте. Это и создает сквозную
последовательность мотивов и устройства книги. Ср.: Scagfione A. La stnittura
del Canzonieree il methodo di composizione del Petrarca // Lettere Italiane.
1975. Nj 27 (5).
Принято считать, что поэт стремился сочетать с хронологической
последовательностью (действительной либо условной) всяческое доступное
метрическое и тематическое разнообразие. Однако, по наблюдению
А. Иенни, Петрарка одновременно с разбросом разных сюжетов и форм по
всей книге также, напротив, сводил вместе, по два-три и более опусов,
стихи на не-любовные темы, а также и несонетные формы, в виде
коротких серий (Jenni A. Un sistema del Petrarca nell'ordinamento del
"Canzoniere" // Studi in onore di Alberto Chiari, II. Brescia, 1973.
P. 721-732).
См. также U. Dotti, Intr., p. XXVIH-XXIX etc.).
Разумеется, проблема "Я" в самосознании Петрарки не могла остаться
без внимания в обширной литературе о нем. См., в частности: Trinkaus С.
Petrarch and the formation of Renaissance consciousness. N. Haven; London,
1979. Автор исследует идеи Петрарки об индивиде в связи с зарождением
гуманизма, кризис религиозного сознания (р. 27-51) и, само собой,
экзистенциальную (как это хочется назвать сегодня) тоску поэта (accidia) и
знаменитую этическую коллизию в третьем диалоге "Сокровенного"
(р. 65, 71 и ел.). Существенны наблюдения над представлениями
Петрарки (автор даже сравнивает их с лютеровскими!) о самореализации в
соответствии с личными склонностями, о "призвании" индивида и т. п.
(р. 77-79). Но ближе всего к моей теме - анализ "Theologia Poetica" и
"Theobgia Rhetonca" в инвективах и трактатах Петрарки, который
утверждал, что Поэту по-своему открыто постижение высшего божественного
смысла. Первыми теологами были языческие поэты, чудесным образом во
многом предугадавшие дух христианства даже до воплощения истинного
Бога (р. 102-111 и др.).
На мой взгляд, именно в контексте этой идеи о высочайшем
достоинстве и предназначении Поэзии, притом понимаемой как личное призвание
Поэта, должен быть истолкован действительный смысловой объем мотива
млавраяв "Книге песен''. Однако Чарльз Тринкаус лирики Петрарки не
касается ни единым словом. Что до личного самосознания Петрарки, то,
насколько мне известно, никто не пытался исследовать его сквозь призму
деятельностной установки на "Я-автора" в стихах и письмах.
Джованни Маццотга рассматривает единство "Канцоньере" в связи с
особенностями лирического "Я" и языка Петрарки: Mazzotta G. The
Canzoniere and the Language of the Self // Studies in Philology. The Univ.
of N. Carolina Press. Vol. LXXY, Summer, 1978, № 3, p. 271-296. На этой
статье следует остановиться подробней, так как в ней содержится
наиболее развернутое (из встретившихся мне) суждение о том, чем держится
композиционное единство "Канцоньере".
_ 952
Примечания
Автор констатирует (р. 271): "Все исследователи говорят о гуманизме и
современности Петрарки именно в связи с его открытием центрального
положения "Я" (the centrality of the self)"· При этом одни считают, что
эгоцентризм поэта связан прежде всего с "моральной драмой": "я вижу
наилучшее, а тянет меня к наихудшему (CCLXIV:136 - "et veggio il meglio et
al peggior m'appiglio"). Другие считают, что эта драма - лишь формальный
элемент поэтики Петрарки, для которого главное, как для Малларме (I),
эстетика "чистой поэзии" (Nofm A. L'esperienza poetica del Petrarca.
Firenze, 1962). Например: связь между первым сонетом и заключительной
канцоной это результат обдуманной поэтической "круговой" структуры.
Третьи настаивают на "глубоко разорванном сознании" и "нарциссизме"
Петрарки (есть две статьи в этом духе по поводу только лишь канцоны
"Giovene donna sotto un verde lauro"l - p. 272).
Впрочем, все подходы справедливо сходятся в том, что основу для кон-
ституирования "Я" - морального, эстетического и пр. - дает сам
поэтический текст. По мнению проф. Контини, "романтические осциллации"
приводятся Петраркой к единству благодаря классической дисциплине стиля.
С другой стороны, "разрозненность" стихов заставляет искать
объединяющий личный момент во внепоэтическом, а именно историческом и
метафизическом сознании (р. 273).
Отправной пункт Дж. Маццотта - "поэтика фрагментации" в структуре
"Канцоньере". В подтверждение автор анализирует несколько
стихотворений. "Парадигма "Я" выходит вовне в виде мифов о Нарциссе и Актеоне.
Сливаются воспоминание, воображение и страсть; так происходит
"делание себя". Характерен разбор сонета 90 с точки зрения категории
лирического времени, "тогда" и "сейчас". Лаура - "живое солнце", пишет поэт,
грудь моя занялась огнем, и лишь каким-то чудом не сгорел я: "Не знаю,
так оно и было или мне привиделось (поп so se vera о falso mi parea).
Исследователь оценивает этот пассаж с метафорой огня, как "Я в акте
памяти" (р. 277-288). О каком "Я" идет речь? Это лирическое "Я", которое
формируется как "центр восприятия", в котором сходятся "тогда" и
"сейчас", "мне казалось", и пр.
В моей работе будет предпринята попытка подойти к делу с иной
стороны. "Я" прежде всего сочинитель ДО акта творчества, сам себя
воспринимающий в качестве творящего образ Лауры и рефлексирующий на
замысел собственной книги.
По мнению Дж.Маццотты, особенно наглядно «Петрарка обосновывает
понимание своего "Я" в канцоне 125» (р. 285-292). Лаура далеко, но поэт
ищет ее воображаемые следы в долине Воклюза. Ландшафт как
иллюзорное пространство ее присутствия. Присутствие той, которой нет, это
"самомистификация". Речь поэта устроена как солилоквиум, и одновременно
канцона - "настоящая грамматика стилей, инвентарь возможностей
поэтического языка" (р. 287). Петрарка сам обозначает "два стилистических
полюса". Один полюс: "нежные легкие стихи, которые я писал, как
только влюбился, dolci rime leggiadre che nel primo assalto / d'amor usai"
(CXXV:27-29). Другой полюс: в разлуке с Лаурой сочиняются, напротив,
"стихи суровые и лишенные услад, rime aspre et di dolcezze ignude" (16).
953 _
Примечания
Однако "тогда" и "сейчас" меняются местами, поскольку воспоминания
заставляют поэта вновь заговорить в легком сладостном стиле, как и во
времена первой встречи.
Интертекст, по мнению литературоведа, это "Пир" и "Каменные стихи"
Данте. Петрарка переиначивает дантовы смыслы и тем самым
освобождается от Данте (р. 294 и ел.). Изощренный филологический анализ
вскрывает повышенную активность поэтической изобретательности,
иронически состязающейся с Данте. Анаграммы с именем Лауры: страсть всегда
прячется под чужими именами, "каждое имя это маска для бесконечной
смены желаний". "Язык предает страсть и в том смысле, что он ее
обнаруживает, и потому, что создает некую другость того, что язык порождает,
по отношению к страсти. Вместе с тем во вселенной страстей тотальность
никогда не достижима: страсть знает лишь клочки и фрагменты, даже
если полнота является через намек и мираж. "Канцоньере" это, конечно,
попытка <...> придать фрагментам иллюзорное единство. 366 стихотворений
симулируют вечный календарь любви, некий символический порядок
устанавливается поверх временных разрывов, но фрагменты остаются
фрагментами, rime sparse" (p. 295). В итоге: единство книги это единство
именно фрагментов и внутри фрагментов. "И даже нельзя сказать о каждом
фрагменте, о каждом отдельном стихотворении, что оно принадлежит
чему-то единому. Каждое стихотворение пытается начинать сначала, быть
автономной и самодостаточной тотальностью, но это неизбежно приводит
к повторам того, что уже пыталось быть высказанным до этого и что
продолжается в последующих стихотворениях". Сквозные мотивы
"Канцоньере" - феникс, солнце, смена времен года* метаморфозы и т.д. -
указывают на неустойчивость личного существования. Благодаря "принципу
повторов", "тотальность и единство текста даны как движение форм,
которые прерывны, повторяются и наталкиваются на себя же".
Метафора лабиринта (прямо высказанная в сонетах 211 и 224)
наилучшим образом описывает "Канцоньере" в качестве "единой структуры,
части которой это серии сообщающихся сосудов..."
3Кое-что о новизне авторской рефлексии Петрарки
на фоне традиции нового сладостного стиля (НСС)
В огромном томе "Poeti del Dolce stil nuovo" (a cura di Mario Marti.
Firenze, 1969.1089 p.) есть указатель "Лингвистического репертуара".
Согласно этому указателю, в представленных 311-ти стихотворениях
(большинство из них принадлежит Чино да Пистойя) не встречаются слова
"стиль", "стихи" (ни "rime", ни "versi"), только два раза "песня", один раз
"мысль", ни разу "петь" или "писать".
Кроме особого случая "Новой жизни", которого я коснусь ниже, до
Петрарки никто из стильновистов не задумывал и не создавал книги стихов.
Стихи Лапо Джанни были собраны и упорядочены Ч. Сегре, первое
критическое издание Дж. Сонтини. Сохранились автографы между
1300-1321 гг. Стихи Дино Фрескобальди собрал и упорядочил Ди Бене-
детто. Часть вошедших в данное издание стихов Чино да Пистойя была
_ 954
Примечания
собрана проф. Контини в антологии "Поэты Дуеченто", другая часть
заимствована из издания Де Робертис. Стихи Гвидо Кавальканти впервые
расположил Дж. Фовати при первом их критическом издании на
современном уровне (Fovati G. Milano; Napoli, 1987). Сконструированный
исследователем "канцоньере" затем воспроизводился другими
составителями и комментаторами, в том числе в последнем издании, которым я ниже
пользуюсь (Cavalamä G. Rime / A cura di M. Ciccuto. Milano, 1978), с
ценным "Введением" известного филолога и семиотика Марии Корти,
которым я собираюсь воспользоваться (см. ниже указание его страниц в тексте
данного экскурса).
Бенвенуто Террачини в статье о прозе "Новой жизни" назвал одним из
ключевых слов "parea (videbatur)", "кажется", т. е. воображаемость
события. То же у Кавальканти (М. Корти, р. 20). Даже любовный взгляд - это
всего лишь взгляд "души", мысленный взгляд ("Un amoroso sguardo spiri-
tale" - XXIV: 1). Корти так комментирует балладу XIX: поэт утешает себя
тем, что "участвует в коллективной судьбе влюбленных". Он обращается к
собратьям по несчастью: "И только вы поймете то, что другое сердце не
могло бы ни помыслить, ни высказать, насколько велика боль, от которой
мне приходится (или: надлежит, conven) страдатъ"(Х1Х:15-17). Словом,
терзания поэта - не его личные страдания, а нечто вроде принятого
болевого синдрома любви. Это "те муки, которые обыкновенно испытывают
(soglion consumare), рыдая, другие" (сонет 21:13-14). Так полагается
страдать всем влюбленным.
Ключевая (программная) известная канцона Кавальканти: "Donna mi
prega". Донна просит поэта рассказать об "акциденции", которую
"называют любовью". Ученая дискуссия Фавати-Нарди об аверроизме Гвидо
была вызвана тем, что любовь, по Кавальканти, связана с "душой
ощущающей" и потому иррациональна. Это маленький схоластический трактат в
стихах о природе любви. Испытывать ее можно только по отношению к
прекрасным и благородным женщинам, ибо иное вызывает страх (60-61).
То же в сонете 28:5-8.
Лишь редко и случайно мелькают какие-то конкретные и личные
моменты. Например, сообщение о безответной влюбленности в Тулузе в
некую "Аманду" (29-30). Или намек на ссылку в Сарцане (35:1-6).
"Поскольку я не надеюсь вернуться когда-либо в Тоскану, ступай туда ты,
балладочка, легкими и тихими шагами, н скажи моей донне, что она
своей любезностью окажет тебе много чести". Но обычно у Кавальканти
"донна" анонимна и обстоятельства отсутствуют. Воспевается некая
"донна" вообще, набор общих мест окрашен куртуазной традицией
("пение птиц и рассуждения о любви, ragionar d'amore" - 111:3). Это "двор
Любви", где каждый придворный "служит" своей даме сердца ("io era
fatto vostro servidore"). Конечно, дама не только прекрасна, но и
жестокосердна, так что любовь заведомо лишена взаимности, остается
чистейшим мечтанием, литературной условностью. Это основной мотив
любовной лирики. "... И распевают птицы, каждая на своей латыни (ciascuno in
suo latino)" - 1:10-11. Потому-то, собственно, и было возможно само
существование подобной лирики в XII-XIV вв. "Ты стал служить такой
955 _
Примечания
донне, что никогда не должен надеяться на что-либо, кроме смерти"
(V:6,13-14).
Между прочим, в этом сонете впервые поэт строит изложение в виде
обращенных к нему речей других любовных страдальцев и даже
прибегает к персонификации "вздохов" и "скорби": "видя, что сердце мое
боязливо, вздохи и печаль схватили меня". Корти называет такой литературный
прием введением "фиктивных драматических персонажей" ("fictio person-
arum", "dramatis personae" - p. 22, 25). "Я" в любовных стихах
Кавальканти это - "я", как всякий, кто влюблен. Поэтому поэт прибегает к тому, что
Корти называет "экстратекстуальной беседой". То есть обращается к чита-
телям-влюбленным, к тем, кто тоже страдал, будучи подданным Амура: к
"fedeli d'Amore". И даже воображает, что же именно они могли бы
молвить в ответ ему. Но это лишь подчеркивает не личный, не интимный
характер выражаемых любовных чувств.
В общем, у Кавальканти нет никакой конкретной автобиографической
окраски, пусть даже замешанной на религиозно-спиритуалистическом
растворе, как у Данте. Тем более вовсе нет, как у Петрарки,
непрестанного напряженного авторского самосознания.
Да, Петрарка еще менее событиен, чем Данте в "Новой жизни". В
"Книге песен" почти нет "любовной истории", это лирика, почти
абсолютно отвлеченная, почти без какого-либо конкретно-жизненного плана,
статичная по стилю. Но зато она исполнена обостренно личного
писательского опыта и смысла. Притом, конечно, не вопреки риторике. Это
всё "литература", как справедливо полагал когда-то еще Де Санктис.
Однако, как раз благодаря максимальному усилению литературности, через
рефлексию внутри сочинения на него же в качестве МОЕГО сочинения,
книга становится эманацией уникального "Я". Из книги Петрарки вычи-
тывается принадлежность "мыслей" и "вздохов" ему КАК АВТОРУ "в
должном порядке" устроенной книги, а заодно как автору своей любви,
своей жизни.
Возвращаясь к Гвидо Кавальканти, надобно сказать, что необычное
проявление прямого писательского воодушевления у него обнаруживается
лишь в одном случае. Итало Калъвино в статье 1977 г. утверждал - на мой
взгляд, с явно излишней уверенностью, - что XVIII сонет Гвидо
Кавальканти открыл дорогу современной поэзии. (Впрочем, добавив, что эти
возможности вполне осуществились лишь... с появлением Малларме, т. е.
спустя шесть столетий.) Мария Корти вслед за Кальвино придала
чрезвычайное значение (р. 5-27) тому, что в указанном сонете к читателю
обращаются от первого лица перья, которые поэт окунал в чернильницу.
Сонет действительно очарователен, необычен, и, сохранись он один,
был бы способен увековечить для потомков имя Кавальканти. "Это мы,
грустные перья, охваченные смятением, ножнички [для их подрезания] и
бедный ножик [который их затачивает], скорбно написали те стихи,
которые Вы слышите. Вот они и расскажут Вам, почему мы отправились в
путь и теперь добрались до Вас: рука, которая двигала нами, говорит, что
чувствует, как сердце охвачено неуверенностью, эти сомнения так
истачивают того, кто уже еле жив, что ему не остается ничего, кроме стенаний.
_ 956
Примечания
Мы молим Вас со всей доступной нам силой, не пренебрегите взять нас в
руки, хоть немного сжальтесь над нами".
Любовь здесь не что иное, как посылка стихов даме сердца: мотив
вполне традиционный. Замечательно, конечно, что стихи написаны с помощью
перьев и обращены к даме сердца от имени этих перьев и - кажется,
абсолютно единственный случай в мировой поэзии! - также от имени ножниц
и ножика, коими перья подстригают и затачивают.
Но! Сонет с перечнем орудий писательского ремесла, встреться он нам
у Петрарки, вписался бы в обширный и последовательный контекст
рефлексии Я-автора на свое сочинительство. А у Кавальканти, как и во всей
поэзии нового сладостного стиля, это лишь милый казус, остающийся во
всех отношениях наособицу. От Гвиницелли до Чино да Пистойя, также и
в "Новой жизни", установки на авторство как способ порождения "Я* -
нет.
Дж. Контини в предисловии к лирике Данте (Dante Aligftieri. Rime.
Torino. 1965, p. XIV) писал: "Если расширять шаг за шагом поле
наблюдения, можно констатировать, что в целом опыт поэта-стильновиста
обезличен, перенесен в универсальный план. Какая бы то ни было память о
поводах [к сочинению) утрачена, стихи кристаллизуются непосредственно".
Корти считает, что у Гвидо Кавальканти есть два поля "внутренней
психологии": это любовь и "мир художественной изобретательности" (р. 7).
Причем "философская теория любви" целиком сводится к чистой знако-
вости, так что "два мира становятся одним: то есть любовная история,
которая стоит за поэтической техникой и сама эта техника подчинены
одному и тому же изобразительному процессу" (р. 7-8). Такова "типичная пер-
сонализация" у Кавальканти ("перья в смятении" и пр.). Ср. 38-ю главу в
"Новой жизни", где "сердце", т. е. страсть, говорит с "душой", т. е. с
разумом. Корти усматривает в этом особую "смешанную" аллегорию, в
которой действующие лица аллегорической сцены представляют знаки,
раскрывающие философскую мысль, или психологическую реальность, или
способы риторической работы художника. В программной канцоне
Кавальканти "Донна просит меня", по мнению проф. Корти, референтный
мир любви (res) полностью уступает место миру знаков (signa) - р. 9. Не
реалии, а только знаки, символические либо нет, определяют у
Кавальканти форму сознания (р. 22).
Мария Корти считает, что в сонете 18 персонификация инструментов
письма как символов самого процесса письма (или "текстуальности"),
заменяя психологические моменты, требует от автора легкого отстранения
от себя. Это противопоставляет данный сонет другим текстам
Кавальканти. Его и Данте сближает "тонкое сознание автономии поэтического
языка относительно референтов". "Металингвистическая, метапоэтическая
рефлексия" Гвидо насчет этих перьев (XXXIV: 25 - "слова мои,
подавленные и пугливые") - не это ли, спрашивает Корти, субъект его поэзии?
(р. 26-27). Ср. сонет VM-4. "О, духи мои (spiriti miei), когда вы меня
видите в таком терзании, что ж вы не шлете исходящие из ума прекрасные
(или: нарядные, adornate) слова плача, скорби и отчаяния?" Здесь "духи"
суть способности и проявления души, схоластический термин.
957 _
Соглашаясь с этими замечаниями, полезно, однако, четко провести
некий историко-культурный водораздел. Корти указывает, на мой взгляд не
на личное отношение поэта к своим текстам, а на юс повышенную, как и у
всех стильновистов, условность и знаковость. С чисто лингвистической
точки зрения, перед нами "двусмысленная" (и "в этом ее очарование")
система самоценного говорения внутри некой группы "верных Любви". Это
замкнутое на себя, визионерское, медитативное, изысканно отгороженное
от толпы sermocinatio. Безусловно.
Но не самосознание Я-автора.
Что есть, однако, в "новом сладостном стиле" такого, что исторически
готовит авторское самосознание в качестве предмета н стержневого
мотива любовной лирики, хотя еще не выходит на этот уровень? То есть, что
есть в этом плане и в НСС, и у Петрарки?
В сонете Бонаджунты к Гвиницелли (XIXa, p. 94-95) - "Вы изменили
манеру, подобающую любовным речам (la maniera / de /i plaghenti ditti de
l'amore), и от той формы, в которой их застали, продвинулись дальше
всякого другого стихотворца <...> Вы достигли такой утонченности, что не
сыскать того, кто вас постиг бы. Так темны ваши речи!"
См. ответ Гвиницелли (сонет 19). Поэт - это ученый мудрец. "Человек,
который мудр (Ото chè saggio), не семенит бездумно, но ступает
степенно, соблюдая меру, и то, что обдумал, держит при себе, пока не уверится в
истинности. // <...> человек не должен держаться слишком надменно,
однако ему следует сообразовываться со своим состоянием и своей
природой" (1-4, 7-8)
Dolce stil nuovo воспринимался как обдуманное изменение стиля,
поэтики, языка. В этом смысле готовился пафос Я-автора: "извлекать стихи
из силы слога" ("traier canzon perforsa di scrittura" - 14). Гвиницелли:
"Познать себя в стремлении к величью - / это всегдашний основной принцип"
(21:2-3).
Установка на замкнутую стилевую и языковую систему (уже у
трубадуров, ведь изысканность и темный стиль - вполне средневековые
куртуазные феномены). И сознание любви как происходящего на уровне речи,
знаков.
Все любовные "события" - созерцание красоты мадонны, и того, как она
читает вот этот посылаемый ей сонет, и встречи с ней - все это
происходит лишь в воображении. Это мысленное прокручивание, это поэтический
сон и видение, словом, как раз то, что Уго Дотти называет "поэтикой
отсутствия".
Топика любовных страданий: все эти "я разрушен", "я близок к смерти",
я худею, я бледнею, я плачу.
Мои мысли разговаривают со мною, или между собой, "квазидиалог",
персонификация чувств и пр.
Наконец, крайне редкие, изолированные, случайные указания на
творческое состояние или даже на предметы писательского ремесла.
Все это создавало атмосферу литературной среды, она же - круг
"верных Любви". В ней то и дело обменивались стихотворными посланиями.
Гвидо Гвиницелли писал к Гвиттоне из Ареццо, Данте к Кавальканти, они
_ 95S
Примечания
к нему, и т.п. Обмен сонетами между Чино да Пистойя - и Данте, Онесто,
Гвидо Кавальканти, Каччамонте, Мула да Пистойя, Герардуччо и пр. Так
создалась "групповая" литературная атмосфера, совместная рефлексия на
то, что такое любовь "благородных душ" и как нужно писать о ней.
Данте обращается к "верным Любви" (р. 216-217), чтобы те "написали
мне в ответ, как они ее понимают (mi rescrivan suo parvente)". И Гвидо
Кавальканти отвечает другу: "Видите ли, по моему мнению, человек
ощущает и высшее достоинство, и всяческую радость, и безмерное благо, когда
оказывается во власти достойного сеньора, который правит миром чести;
ибо он живет там, где нет места скуке и разум укрепляется в башне ума",
и пр. (218-219). Знаменитый сонет Данте: "Гвидо, я хотел бы, чтоб ты, и
Л ало [Джанни], и я были заколдованы и помещены в сосуд, который с
попутным ветром плыл бы по морю по воле вашей и моей. И чтоб фортуна,
вероломная в других случаях, тут не могла бы нам воспрепятствовать, так
что, живя всегда душа в душу, мы все сильней испытывали бы охоту быть
вместе. И монну Ванну, а также монну Ладжу, и с ними ту, что под
номером тридцатым, пусть с нами соединит добрый волшебник. И там мы
будем всегда беседовать о любви (ragionar sempre d'amore), и каждая из них
останется довольной, как, я думаю, и мы сами".
В перечне самых красивых женщин Флоренции Беатриче значилась,
как утверждал автор "Новой жизни", первой среди лучших дееяти, т. е.
занимала высшее сакральное, а не какое-то тридцатое место. Поэтому, как
считают комментаторы, это не Беатриче, а первая "донна-ширма".
Куртуазная и деперсонализированная ситуация получает в дантовом
сонете замечательную жизненную подсветку. Но что до интонации, а
также имен друзей и дам сердца, то они предвещают скорее компанию,
непринужденно и приязненно развлекающуюся в "Декамероне", но никак не
напряженный Эго-центризм автора "Фрагментов на вольгаре". Гвидо
ответил Данте четырьмя куртуазными и шутливо-игривыми сонетами. А
всего сохранилось двадцать сонетов из состязательной переклички только
между ними. Всё вместе это, несомненно, создавало некий, так сказать,
пред-авторский, равно и предренессансный, модус НСС. Что же нового в
этом отношении появилось у Петрарки?
В "Канцоньере" не только есть, пусть лишь в виде знака, адресат, время
и место: минимальная, но принципиальная автобиографичность. Хотя и
не конкретность и реальность чувства, но конкретность обстоятельств,
обступающих автора. Хотя и вторичное (отсвечивающее от литературной
условности) "Я" любящего, но зато совершенно реальное исходное "Я"
сочиняющего.
Но прежде всего суть дела состоит в том, что Петрарка впервые
выстраивает КНИГУ стихов. Он добивается впечатления единства в Избранном
на разные темы. Любовь и Лаура это стержень. Однако есть политические
стихи, послания к друзьям (и не только поэтам), т. е. стихи по случаю.
Есть, наконец, и нечто вроде покаянных и религиозных стихов. Поэтому
открыто выступают проблемы как начать, как продолжить "в надлежащем
порядке" и особенно как кончить. Все обдумывается и решается в девяти
редакциях. Вот это самое простое, самое важное и самое новое обстоятель-
959 —
Примечания
ство, рефлексия на построение книги, и превращает текст в авторский
текст, что служит архимедовым рычагом для начального поворота "Я" к
субъектности индивидуалистического типа..
Далее, это рефлексия на то, каков "мой стиль", как он меняется после
осознания успеха и как после смерти Лауры. Каково место "Rerum vulgar-
ium fragmenta'' и его автора в иерархии на уровне мировой, и прежде
всего античной, поэзии, если учесть, что речь идет о "разрозненных** стихах в
"разном стиле" на вольгаре. В связи с этим (сравнивать-то он вздумал с
"Энеидой" и "Илиадой"!) вопрос о жанре. И лишь с учетом такого рода
профессиональной проработки все это суммируется как уверенность в
заслуженное™ лаврового венца и восхищенной памяти потомков.
Книга была тщательно обдумана как бессмертная и личная. На этом
держится ее движение и единство.
Так Петрарка радикально углубил и системно осуществил то, что
отчасти наметилось, но все же отсутствовало в НСС. Литературная
активность Петрарки втягивает всех и вся, включая античность. Впервые сам
поэт столь лично и открыто организует готовый материал. Реальность не
только подменяется риторическими ходами, но и стягивается вокруг Я-ав-
тора, то и дело напоминающего о себе как таковом. Топика становится
гораздо менее анонимной по интонации. Отсюда "петраркизм". Прием
условного риторического диалога разворачивается в действительный
внутренний спор смыслов. И наконец, перманентное состояние
сочинительства предстает как самоописание того, кто пишет стихи, бродя вдоль берегов
Сорги, и пр.
4 WUkins E.H. The Making of the "Canzoniere" and other Petrarcan Studies.
Rome, 1951. Мне пришлось пользоваться итальянским переводом:
WUkins E.H. Vita del Petrarca e formazione del Canzoniere. Milano, 1964. См.
постраничные ссылки в тексте, при необходимости с аббревиатурой "W".
5 И Codice Vaticano lat.3196. Autografo del Petrarca / Per cura di M. Porena.
Biblioteca Apostolica Vaticana. Roma, 1941.
6 См. об этом: Romano A. II codice degli abbozzi di Francesco Petrarca. Roma,
1955. P. 161,189. Невозможно тут же не припомнить сходную помету в
записных книжках Леонардо да Винчи о том, что остальное пришедшее в
голову, де, приходится заменить "и так далее": "потому что похлебка
остывает" (см.: Pedretti С. "Eccettera: perché la minestra si fredda" / XV Lettura
Vinciana. Firenze, 1975; Баткин JIM. Леонардо да Винчи и особенности ре-
нессансного творческого мышления. С. 230 и ел.). Это совпадение не
только забавно своей буквальностью, но и хорошо иллюстрирует нечто
серьезное. У истоков ренессансного типа мышления, в авторских маргиналиях
Петрарки, проглядывает то свойство, которое в зените эпохи порождает
уже массированно и целиком все листы всех рукописей Леонардо.
Налицо прямая сращенность любого авторского усилия с сугубо
личными сиюминутностями. Это "я", настолько интимно кристаллизующееся
из работы, что важно успеть записать, что сейчас мне придется ее
прервать: зовут ужинать, похлебка остывает... Рукой автора не водит
анонимная сила, высшие задачи творчества не отделены от повседневного
существования, способ мышления не предзадан индивиду. Автор сам водит,
_ %о
Примечания
как ему вздумается, своей рукой; творчество и личное существование
совпадают, способ мышления есть процесс самовыявления "Я".
Конечно, формулируя все это именно так, я очень сильно забегаю
вперед - из ренессансной переходной эпохи в Новое или даже Новейшее
время. Однако таков был вектор индивидуального творчества, притом уже
достаточно осознанный. Таков был культурный импульс, возникаюпцсй в
XIV-XVI вв., и устремляющийся на завоевание будущего.
7 О том же идет речь и в письме к Боккаччо (Senili, Y, 3). Петрарка
сообщает, что в молодости он собирался написать большое и цельное
произведение на волъгаре, исходя из того, что несовершенство и необработанность
вольгаре, сравнительно с латынью, предоставляют автору тем больший
простор, чтобы отличиться (о Данте ни слова!). Он, Петрарка, долго
собирал подготовительные материалы для будущего строения. Однако с
возрастом убедился, насколько трудно уберечь написанное от публики,
читающей уже написанное в расхожем, искаженном и разрозненном виде
(meque et laborem meum inter vulgi manus laceratum iri). Поэтому он
испрашивает y Боккаччо совета, "не поступит ли он правильней и возвышенней
(altius)", если, "хотя эти разрозненные и краткие юношеские сочинения на
вольгаре, как я уже сказал, могут считаться сотворенными не столько
мною, сколько толпой, я все же приму меры, чтобы они в наибольшей
степени сохранили единство (quamvis sparsa ilia et brevia iuvenilia atque vul-
garia, iam ut dixi, non mea amplius sed vulgi potius facta essent, maiora ne
lanient providebo)".
Проф. Монтанари, проходя почему-то мимо очевидных совпадений с
письмом к Малатесте, считает, что Петрарка тем самым отказывается от
былого честолюбивого замысла целостного "опуса в настоящем смысле",
"меланхолически" довольствуясь лишь упорядочиванием "кратких" и
"разрозненных" миниатюр (р. 9). Таким опусом Петрарка пытался впредь
сделать "Триумфы". В доказательство Ф. Монтанари предлагает понизить
смысл "неясного" слова "altius" и ссылается на 293 сонет "Pianger cercai,
non gia del pianto onore", etc. Однако ясное понимание будущей книги как
сборника "rime sparse" есть уже во вступительном сонете, т. е. в 1345-
1347 гг. (по Уилкинсу). Сознание величия замысла RVF подтверждается
множеством замечаний в самой книге и особенно письмом к Малатесте.
Что до "плача", который не принесет автору желанной славы, см.
толкование этого риторического хода в заключительной главе данной работы.
При всем при том Ф. Монтанари справедливо отмечает маргиналии с
пометками времени и обстоятельств сочинения тех или иных
стихотворений как свидетельство того, что для Петрарки "фрагменты" были важны
как самоценные моменты его существования (р. 12-13).
5 Франчеасо Петрарка. Избранная лирика. М., 1955. С.105.
' См.: Carrara Ε. Studi petrarcheschi ed altri scritti. Torino, 1959. P. 15, 67.
Боккаччо в сочинении "О жизни Петрарки" утверждал, что если бы была
верна пифагорейская теория метемпсихоза, то следовало бы полагать, что
в Петрарке души сразу Вергилия и Цицерона. Салютати в поминальном
письме от 16 августа 1374 г. (Epistolario, ed. Novati, liber III, 15) считал,
что Петрарка превосходит их не по отдельности, а тем, что соединил в
961 —
Примечания
своей "facultas scribendi" поэзию и прозу ("in hoc dicendi gignasio, quo
altematis consonantibusque versiculorum nnibus materna lingua vulgarium
aures demulcentur", т. е.: "в этом словесном творении, коим он
сладкозвучно перемежал стихи, раздвигавшие пределы родного языка, ласкавшие
слух на вольгаре").
10 Bosco U. Francesco Petrarca, p. 17.
11 См.: Suitner F. Petrarca e la tradizione stilnovistica. Firenze, 1977. См. также
о "новой философии любви" в "Introduzione" Марио Марти к названному
тому стильновистов. Среди них были свои "архаисты" и "новаторы". Гвит-
тоне из Ареццо осуждал культ дамы в новой лирике, хотя Гвиницелли
посылал ему на исправление свою канцону как "моему дорогому отцу". См.
выступление Лапо дельи Уберти против Гвидо Кавальканти, существуют
блестящие пародии Чекко Анджольери, а также Онесто да Болонья
против Чино, Чекко д'Асколи против Кавальканти и Данте.
Dante, Pui£., XXVI - "<...> altri miei miglior che mai / Rime d'amor usar
dolci e leggiadri". De Vulg. Eloquenzia - "tarn egregium, tarn extricatum, tarn
perfectum et tarn urbanum". В Purç. XXIV - эпизод с Бонаджунтой и пр. -
о Гвиницелли: "Li dolci detti vostri / che quanto durera l'uso moderno /farm-
no cari ancora i loro inchiostri". Донна - ангельское подобие, "своего рода
десятый ангельский хор, самый низкий, но с аналогичной посреднической
функцией между сердцем человека, которое они трогают, и Богом <...>"
(р. 15). НСС как "новая философия любви" - "благородное сердце" - "Я
записываю то, что Любовь в меня вдыхает, и высказываю в точности то,
что она говорит внутри меня". Так любит поэт... Noto - è ditta dentro - vo
significando. Чем не подарок для семиотиков? - референция, означаемое,
знак! De Vulg. el. - "dulcius subtiliusque poetati vulgariter sunt". "Dulcius
это техническое, формальное обозначение": это ясный синтаксис,
музыкальность морфологии, очищение лексики от провинциализмов и
равнение особенно на латинский (р. 21). Что до "утонченности" - это
мыслительная изощренность (р. 22).
Гвидо Гвиницелли заявлял, что поскольку любовь поэта остается
безответной (Амур говорит донне: "Удерживай его влюбленным, чтобы
потом в конце концов он так и умер нелюбимым") - что ж, он, Гвиницелли,
отныне и впредь собирается исходить при сочинении стихов "из себя", т.е.
из своего метафизического разумения любви и своей настроенности, "а не
из любви". Не из конкретного чувства, не сулящего награды любящему
("D'ora navanti parto Ιο cantare / da me, ma non Гашаге - 11:85-86).
"Любовь всегда гнездится в сердце благородном, как птица в куще леса"
(IV:l-2). Ср. с Данте: "Любовь и благородное сердце - суть одно" (Vita
nova, XX:3). Это не феодальное, рыцарское благородство, а моральная и
интеллектуальная избранность человека ученого и утонченных нравов.
Хотя однажды, в сонете 17, вдруг прозвучало некое имя - Лучия! - но
вообще-то донна у Гвиницелли есть абстрактный предмет состояния
влюбленности как обязательного признака всякого "благородного
сердца". Дж. Коитини полагал, что Петрарка обязан прежде всего дольче-
стильновизму лексикой, синтаксическими конструкциями, рифмовкой,
топосами, идейными мотивами, более того, неосознанной "ритмической
_ %2
Примечания
памятью" (Introduzione, in: Petrarca, Canzoniere, Torino, 1964, p. VII-
XXXV). Меня же в этой работе интересует только степень
индивидуализации чувства и поэтического приема: конкретности "ОНА" и остроты "Я"
как авторской рефлексии.
Может быть, особенно характерен в фоновой литературной
соотнесенности с Петраркой его старший современник и друг, Чино да Пистойя. Он
умер в конце 1336 - начале 1337 гг. Его тепло привечали и к нему
обращали сонеты Данте и Петрарка.
Ученый юрист, преподававший в Болонском университете, он сочинил,
кроме комментария к "Кодексу Юстиниана", много любовных стихов. В
них привычно повторяется топика любви как радости-страдания, столь
вдохновенно разработанная вскоре Петраркой. Но у Чино она сглаженная
и схематичная, куртуазная и безымянная, без психологического богатства,
без вписанности во всестороннее мироощущение, без особых античных
реминисценций, без концентрации вокруг авторского "Я". "В тяготах,
которые претерпеваю из-за Любви, я ими же утешен, а потому и не умираю из-
за них. Ведь моя благородная донна сделала меня своим слугой, и это ее не
тяготит. Она отмечена такой достойной доблестью, которую Гектору из
Трои даже оружие не снискало..." (сонет XI). Тем не менее это одаренный
поэт, и стоит внимательно присмотреться в его стихах как к рутинным до-
петрарковским ходам, так и к блесткам мысли, предвещающим Петрарку.
Чино один или два раза называет свою донну по имени, "Сельваджа",
остается неясным, не условно-поэтическое ли это имя. Во всяком случае,
мы ровно ничего о Сельвадже не узнаем. Кажется, единственное
исключение: цвет одежды, одно лишь словечко: "Она мне кажется такой
прекрасной в этом своем темно-пурпурном, что я не могу думать ни о чем другом
и затем рифмую, сочиняя об этом сладостные стихи (ро di trovarne rime e
dolci versi)" (LXXVIL6-8). Впрочем, М. Марти дает в комментарии
ссылку на параллельные места у Данте и Кьяро.
Еще в сонете 63 есть просьба к некой "грациозной Джованне" прочесть
этот сонет, кому она захочет, в присутствии Любви; но это не
возлюбленная, а посредница. Ср. Кавальканти, 17.
Впрочем, к чему имя, даты и пр.? - ведь любовь это вослед за Гвиницел-
ли нечто совсем иное. Любить значит думать о любви и рассуждать о ней.
"Разумение любви ношу в себе одном, и оно так полно рисует мне ту
благородную донну, о которой помышляю, что взираю на нее издалека и
тем утешен (L'intelletto d'amor ch'io solo porto, / m'ha si dipinta ben propia-
mente / quella donna gentil dentro a la mente, / chï la veggio lontano e mi
conforto...)" (сонет XLIV).
Или: "Она - в уме моем, ее я вижу там прелестной с виду и стыдливой
<...> (Sta ne la mente mia, com'io vidi, / di dolce vista e d'umile sembianza..."
(XLVI:51-52).
Или: "Ныне возвеселился дух мой, и мысль закралась в сердце (il
pensera entro lo core), что с донной говорю я о любви, страсть под
почтением скрывая <...>" (сонет XLVII). Волнующий разговор - тоже "в уме".
Или: "Некая женщина приходит мне на ум (Una donna mi passa per la
mente" (сонет LX). Или: "Печальное воображение убивает меня, развора-
963 —
Примечания
чивая передо мною картины всяческих мучений, которые я должен
претерпеть, прежде чем жизнь свою скончаю < ..> Когда мой ум отчаивается
так, мадонна мне на мысль приходит ("Lo imaginär dolente che m'ancide, /
davanti mi dipinge ogni martiro / chT debbo, infin ch'avrö vita, soffrire <...> /
Quando la mente talor si rifida, / entra madonna ne li pensier' miei ..."
(LXXIH4-16).
Ср. Кавальканти, XXXIV: 11 - "Ven, che m'uccide, uno sottil pensera";
Данте к Чино (сонет CXXVa:2-3), "conviemmi sodisfare al gran disio / ch'i'
ho di dire i pensamenti boni (я должен уступить великому желанию, дабы
высказать славные мысли)", "li nostri diri, наши рифмованные речи" (13);
Данте к Чино (СХХа:14, р. 742) - "Si'che s'accordi i fatti à dolci detti (так,
чтобы согласовывалось происходящее со сладостными речениями)".
Что до более личного авторского самосознания, то у Чино да Пистойя
можно встретить лишь робкий проблеск этого самоощущения,
стучащегося в дверь эпохи. Из посылки 46-й канцоны: "Ты, канцона, кажешься мне
такой прекрасной и новой, что я не смею назвать тебя своей (chiamarti mia
non aggio ardire)...".
Сонет СVII - один из лучших сонетов Чино, шаг к экспрессии
Петрарки. "О, грустный и злосчастный день, проклятый час и место, где я рожден
был и в мир пришел, чтобы явить другим пример любовных страданий и
тревог! Если бы все страдания, которые в аду претерпевают души,
сошлись в одном теле, которое затем вернулось бы в этот мир, то и тогда в
нем не узрели бы столько страданий, сколько во мне гнездится. Это лишь
ты, Любовь, ввергла меня в такое состояние и сделала меня средоточием
мук, жилищем боли и печали. И это ты меня погружаешь то в лед, то в
пламя, и плачем, унынием, вздохами насыщаешь мое скорбное и
безутешное сердце". Канцона CXXV71-74 - «Она разговаривает [на небесах] о
вас [духи моего сердца] со святыми и говорит им так: "Пока была я на
земле, он почести оказывал мне, прославляя меня в своих прославленных
стихах (laudando me ne' suo' detti)"».
12 Raimondi E. Metafora e storia. Studi su Dante e Petrarca. Torino, 1970:
живописная суггестия в изображении Лауры через пейзаж в канцоне CXXVII.
Связь с набором женского декора в "Африке": Софонисба и Лаура (р. 80-
187). «Стилистический репертуар Софонисбы питает описательные
вкрапления в "Книге песен" - автор находит много корреляций между лексикой
восхвалений красы той и другой, общие формулы и краски, "общие
знаки"». «Итак, в петрарковой системе глобальное явление Софоннсбы
представляет собой модель, статический антитип физической фигуры Лауры.
Это означает, иначе говоря, что иконографическая реальность женского
изображения, которая наполняет собою "Канцоньере", восходит к
описательной условности, к воображаемой схеме, подобной той, которая есть в
"Искусствах" Овидия, к сфере идеальных предикатов <...> без связи с
живым индивидуальным субъектом» (р. 86). Образ Лауры - из реальности
слова, из того мира сущностей или знаков, который есть литература (р. 87).
13 В этом пункте мотивы, обвивающие образ Лауры, сплетаются также с
политико-моральной картиной мира, выписанной, например, в письме к
Гвидо Сетте, которого я уже касался специально. См. также: Esposito Ε.
— 964
Примечания
L'identité morale de l'intellectuel dans Seniles X, 2 // Italianistica. Rivista di
letteratura italiana. Anno XXI, n.l. Pisa, 1992. P. 45-52.
Старые времена - добрые, а новые плохи, дело идет к концу света. На
этой топике держится письмо. В 1353-м дом Петрарки в Воклюзе
ограбили и сожгли. Книги были заранее переданы крестьянину, ему услужавше-
му, и потому спасены. В ту же зиму на селение, на скот и даже на дома
напали волки. Райское место было осквернено ворами и поджигателями.
Из этого Петрарка выводит рацею о "misera et aperta mutatio" Италии и
Европы. Причины упадка мира неизвестны, но следует привлекать к ним
внимание людей. "Петрарка, в качестве человека конца Средних веков,
действительно ассимилировал понятие индивида, со всем тем, что оно
включало в себя неизъяснимого и уникального, и он далек от
уверенности, что его наставление будет воспринято. Тем не менее он принимается
за эту задачу с убежденностью, что такие люди, как Гвидо Сетге, т. е. под
стать ему самому, его поймут" (р. 51-52)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Странности ренессансной идеи "подражания" древним
1 Familianim rerum libri, XXIII, 19 // Petrarca F Орете. Firenze, 1975. Vol. 1.
P. 1230-1234.
2 Ibid. P. 1232.
3 Ibid. P. 1233.
4 См. об этом: Mommsen Th. Petrarch's conception of the "Dark Ages" //
Speculum. 1942. Vol. 4.
5 Villani F. Le vite d'uomini illustri fiorentini // Matteo Villani. Cronica.
Firenze, 1826. T. 6. P. 14.
6 Saktati C. Epistolario // A cura di F. Novati. Roma, 1891. T. 1. P. 321-329.
7 Emerton E. humanism and Tyranny: Studies in the Italian Trecento.
Groucester, 1964. P. 290.
8 Salutati С Op. cit. P. 302.
9 Guanno Veronese. Epistolario / Race, da R. Sabbadini. Veneria, 1915. Vol. 1,
№ 348. 3. 509; Vol. 2 № 702. P. 303.
10 Dupront A. Espace et humanisme // Bibliothèque d'Humanisme et de la
Renaissance. P., 1964. T. 8. 67. Автор на материале французского XVI в.
утверждает, что, поскольку ценностная ориентация Ренессанса была
обращена вспять, в этом смысле "мы еще находимся внутри мифа". Однако
возвращение было в данном случае способом освобождения;
"мифологический пессимизм" обратился в "лирику оптимизма". Различие между
возвращением в прошлое и движением в будущее оказалось
преодоленным, ибо то и другое для гуманистов - лишь лики творящего времени
(temps créateur). "Движется ли время вспять или оно открыто - неважно"
(ibid.). Ренессанс сделал традиционалистскую ориентацию на древние
образцы обоснованием "радости открытия и овладения будущим" (ibid.
Р. 12-13, 67-68). Дюпрон считает, что решающую роль в дальнейшем пе-
965 —
Примечания
рерастании ренессансного мифа в новоевропейскую концепцию
бесконечной временной горизонтали сыграли географические открытия (ibid.
Р. 44-45). На смену авторитету античности пришли клише вроде "Китая",
"инков", "простодушного и счастливого дикаря" - индейца: новые
образцы человеческой природы отыскались не в давнем, а в далеком, на
пространственной, а не временной дистанции. Соответственно возникавшее
научное естествознание учило человека искать универсальное не в себе, а
в окружающем мире (ibid. P. 69). Ренессансное "любопытство" и любовь к
"редкому" по мере систематизации, каталогизации и изучения вещей
привели к "практическому отрицанию редкого" и "странного" в пользу
общего. "Мир утратил свою таинственность" (ibid. P. 31). Пространство
перестало быть замкнутым, а время стало пространственным, "четвертым
измерением"; и это было - на исходе XVI в. - концом Ренессанса и
переходом к идее линейного прогресса истории.
11 О современном понимании своеобразия ренессансного отношения к
Античности см. подробнее: Baünn LM. Die historische Gesamtheit der
italienischen Renaissance; Versuch einer Charakterisierung eines Kulturtyps. Dresden,
1979. S. 324-342, 396-399, 433-456. Это понимание, впрочем, достаточно
противоречиво. Если, например, Е. Гомбрич усматривает уже у Аламанно
Ринуччини "концепцию художественного прогресса", то А. Бук доказывает,
что всякая ренессансная "novatio" сводилась в глазах современников к "imi-
tatio", и цитирует Салютати: "Поверь, мы не придумываем ничего нового"
(Gombnch £ Norm and Form. L, 1966. P. 1-10; Buck A. Das Geschichtsdenken
der Renaissance. Krefeld, 1957. S. 16-17,23-24 etc.). В историографии
обычно акцентируется или замкнутость Ренессанса на античное прошлое и на
абсолютные идеальные нормы, или любовь к "изобретениям" и "новизне",
убежденность в безграничности человеческих возможностей. Мнения Гом-
брича и Бука характерно обозначают амплитуду историографического
маятника. См. также Zu Begriff und Problem der Renaisance / Hrsg. von А
Buck. Darmstadt. 1969. S. 1-17, 37-45, 228- 279 etc., где собраны весьма
ценные статьи разных лет Д. Кантимори, Г. Эппелыпаймера, Г. Вайзингера,
Э. Гарена, Б. Ульмана и др. Мне кажется, что правдивы обе точки зрения и
что, следовательно, обе они недостаточны, поскольку в ренессансном
мышлении идея бесконечного совершенствования и идея бесконечного
возвращения сопряжены и сняты в своеобразной - не-линейкой и не-цикличе-
ской - концепции времени как "разнообразия".
12 Poliziano Α. Oratio super Fabio Quintiliano et Statii Sylvis // Prosatori latini
del Quattrocento / A cura di E. Garin. Torino, 1977. Vol. 7. 878-880. Далее
ссылки даны в тексте.
13 Весьма иронично и четко выражен этот принцип в предисловии Полици-
ано к его эпистолярию. См.: Politiani Angelt. Opera. Basileae, 1553. P. 1-2;
ср. также: Opario... P. 59).
14 Из VIII элегии к Фонцио. Цит. по: Mqerl Ange Politien: La formation d'un
poète humaniste (1469-1480). Genève, 1966. P. 204.
15 Poliziano A. Epistolae, II // Prosatori latini... Vol. 7. P. 902-904.
16 Ниже это будет подтверждено раэборами сочинений Лоренцо Медичи и
Полициано. Ср. наблюдения К. Мутини над одним из сочинений Полици-
_ m
Примечания
ано ("Nutricia"), которое "составляет подлинную автобиографию Полици-
ано, осуществленную с максимальным отрывом от себя самого, чему
только способствовала абсолютная литературность" (МШт С. Interpretazione
del Poliziano. Roma, 1972. P. 69 etc.).
17 Landino Cr. Disputationes camaldulenses / A cura di P. Lohe. Firenze, 1980.
Lib. 4. P. 254 (Курсив мой. - Л. Б).
18 См.: Бахтин M. Вопросы литературы и эстетики. С. 174-175.
Стилизация - это "художественный образ чужого языка". В ней обязательны два
культурно-языковых сознания - изображаемое и изображающее,
стилизуемое и стилизующее: "Здесь актуалиэован в высказывании один язык, но
он дан в свете другого языка. Этот второй язык не актуализу-
ется и остается вне высказывания". Если он все-таки прорывается в
стилизацию, это ей вредит, примешивает непоследовательность,
модернизацию и т. п. Когда такое делают нарочно, М.М. Бахтин называет это
"вариацией". От вариации недалеко и до пародии. Но при чистой,
последовательной стилизации ("непосредственно о предмете стилизатор говорит
только на этом чужом для него языке") - каким именно образом текст
все-таки освещен современным сознанием стилизатора и его аудитории?
М.М. Бахтин лишь в общей форме указывает на возможности
переакцентировки, а также реэонансов с современным сознанием: через введение,
например, чуждых стилизуемой культуре тематических и иных мотивов,
когда автор "создает свободный образ чужого языка, выражающий не
только стилизуемую, но и стилизующую языковую и художественную
волю" (курсив мой. - Л. Б.) (Там же. С. 174).
19 Pico délia Mirandola G. Epistolae, I // Prosatori latini... Vol. 6. P. 796-804
(курсив здесь и далее мой. - Л. Б.).
20 Ср. с рассуждениями Эрмолао Барбаро: "Я хочу, чтобы парафраза была не
обычным истолкованием, но - соперничеством и соревнованием вокруг
одних и тех же смыслов" (цит. по Mutini С. Op. cit. P. 33-34). Мутини
замечает, что сам перевод значил для гуманистов "диалог" с литературным
оригиналом и "освобождение" от него (Ibid. Р. 35-37). Ср.: Lo Cascio H
Poliziano. Palermo, 1970. P. 8. "Это поэтика, которую можно бы назвать
майевтическим подражанием". Со своей стороны, Е. Гомбрич в
интересной статье "Стиль "all'antica": подражание и усвоение" поясняет, что
"усвоение" ("assimilation") в отличие от подражания требовало не цитатных
заимствований, но обобщения самих идей классического стиля
(Gombrich Ε. Op. cit. P. 122-129). Идеал ассимиляции как нельзя более
отчетливо был сформулирован Пьетро Аретино, писавшим о "замыслах, по-
античному современных и по-современному античных" ("concetti anti-
camenete moderni e modernamente antichi") (Ibid. P. 154).
21 Castigfione B. II. Cortegiano, I, 29-37 // Opere di B. Castiglione. Giovanni
délia Casa, Benvenuto Cellini/A cura di С Cordie. Milano; Napoli, 1960.
22 Ftrenzuob A.I. Ragionamenti // Opere/A cura di A. Seroni. Firenze, 1958.
P. 70-72.
23 Ibid. P. 23.
24 См.: Rossi P. I filosofi e la macchine (1400-1700). Milano, 1962. P. 68-81.
25 Ftrenzuola A. Op. cit. P. 75, 76.
%7_
Риторика и творческая воля
1 Lorenzo de Medici. Comento ad alcini sonetti d'amore // Opere scelte. Novara,
1969. P. 190-194. Далее ниже указания страниц даны в тексте.
2 См.: Боткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль
мышления. Гл. 2. // Боткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди.
М., 1995. С. 110-150; Он же. Леонардо да Винчи и особенности ренессанс-
ного творческого мышления. М, 1990, с. 27-67 (гл. 1: Марсилио Фичино
и Пико делла Мирандола о месте человека в мире).
3 Poliziano A. Opatio super Fabio Quintiliano et Statu Sylvis // Prosatori latini
del Quattrocento / A cura di E. Garin. Torino, 1977. Vol. 7. P. 882.
4 Ibid.
5 в тщательных современных исследованиях (особенно Э. Гарена и его
школы) хорошо раскрыта универсальная установка, лежавшая в
подоплеке гуманистического употребления ораторской традиции. В мои
намерения здесь не входит раэбор этой установки, в значительной мере
совпадавшей с содержанием раннего ("этико-филологического") гуманизма в
целом. Упомяну лишь, что "красноречию" (или "поэзии", что более или
менее совпадало) людьми Возрождения придавалось несравненно более
подвижное и емкое значение, чем в античности, и, уж конечно, резко
оспаривавшее частное и служебное положение "риторики" среди "свободных
искусств" христианского средневековья. "Словесность" была для
итальянских гуманистов (до середины XV в., отчасти и позже) их этикой, их
педагогикой, нх антропологией, их политологией, во многом даже их
религией и, что особенно важно, их историческим и критическим методом.
Поэтому, согласно концепции Гарена, которая может считаться доказанной,
littere в глазах гуманистов - синоним того, что мы назвали бы
"культурой" вообще, и прежде всего творческой и обновляющейся культурой. К
античным текстам прибегали для того, чтобы утвердиться в духовной
независимости и динамизме. Знаменитые споры о "поэзии" с XIV в. - это
споры о том, возможна ли самоценная светская культура, как она
согласуется с религиозностью, как следует относиться к культуре античной и
каким должен быть индивид новой духовной формации. На первый план в
защите словесности выходил homo faber возможности индивидуального
"изобретения" во всех сферах мысли и делания, возможности
самоформирования души, выбор земной судьбы и славы. Короче, уже "цицеронианст-
во" Петрарки и ближайших следующих за ним гуманистических
поколений - не только усвоение неких литературных приемов, но и (по крайней
мере, функциональное и смысловое) их преобразование. Ренессансная
риторика с самого начала не равна себе. И менее всего она походит на
школярские упражнения в адвокатском краснобайстве, безразличном к
предмету защиты или опровержения. Гуманистические речи, как я пытался в
свое время показать ("Итальянские гуманисты ...", гл. 3), есть инструмент
специфического, сугубо ренессансного диалогизма, т. е. место дружеской
встречи и рядоположения спорящих культурных позиций: альтернатива
их жесткому логическому результированию или иерархизации. Можно,
впрочем, проследить, как изменение функций риторики отражается в кон-
_ m
Примечания
це концов и на ее морфологии, как чисто риторические ходы не только
служат внериторическим целям, но нередко и сами иронически
перестраиваются, переиначиваются и опустошаются (см. ниже).
6 Curtius Ε. Europäische Literatur und latinisches Mittelalter. Bern. 1948.
7 Аверинцев С Большие судьбы малого жанра: (Риторика как подход к
обобщению действительности) // Вопр. литературы. 1981. № 4. С. 178
(курсив мой. - Л. Б.). Хотя крайне интересная работа С.С. Аверинцева
непосредственно посвящена по преимуществу судьбам эпиграммы, но в том-
то и дело, что, как полагает автор, эпиграмма лишь "особенно
беспримесно реализует принцип риторического рационализма". А стало быть, она
высвечивает "простейшие, глубоко лежащие, очень стабильные
основания" всей культуры двух с половиной тысячелетий, традиционалистской
антично-христианской сверхэпохи, "зона". "Это, так сказать, минимум
данного типа словесной культуры, его скромное ядро, то, без чего
невозможной обойтись... Это вопрос школьного умения, вопрос грамотности"
(Там же. С. 176-177, 179). За эпиграммой у Аверинцева встает риторика
вообще, за риторикой - сама структура традиционного литературного
творчества докапиталистических эпох (Там же. С. 167). "Инвариантные
элементы" риторики "гораздо сильней и глубже, чем отклики на время
или отражения авторской судьбы и души" (Там же. С. 179). Наиболее
широкая мысль Аверинцева состоит в том, что всякий риторический подход
не только надличен и замкнут на себя, но также надэпохален. Различие
особых типов культуры, если уж они были вскормлены риторикой,
выглядит достаточно внешним и поверхностным по отношению к их
инвариантной и определяющей микроструктуре. "Жизнь от века к веку менялась, но
состав перечней не менялся, ибо перечни по самой своей сути были
ориентированы на неизменное" (Там же. С. 166).
Сходные идеи Аверинцев высказал - хотя и гораздо более сдержанно -
в статье специально о риторическом характере ренессансного гуманизма.
См.: Аверинцев С.С. Античный риторический идеал и культура
Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. Автор,
впрочем, отметил, что важной новостью явилась высокая оценка
Возрождением мастеровитого ручного делания, особенно живописного. Но, по мне,
совершенно недостаточно констатации того, что внутри риторики
распространилась неслыханная идея, новое общее место; или что рядом с
риторикой - и с ее помощью, "через старую дверь" (Там же. С. 151) - вырос
авторитет изобразительного искусства, рядом с homo rethoricus - идеал
homo faber. Ну, а что же сам риторический язык, с его словесно-духовной
значимостью - остался в основе неизменным? Для Аверинцева, насколько
я могу судить, нет никаких сомнений в этом, такой вопрос даже не
возникает. Автор полагает, что еще и монологи Гамлета остаются в "замкнутом
кругу" той же "нормальной топики" древнего ритора с "механической ря-
доположенностью "хвалы" и "хулы", все в той же плоскости - при всех
идеологических различиях, - что и трактат будущего Иннокентия III
(1195 г.). И что впервые этот круг был прорван только в антропологии
Паскаля (Там же. С. 152). Я решаюсь оспорить это не только в отношении
Гамлета, мысль которого движется не внутри риторического идеала и для
969 _
Примечания
которого риторика лишь частный прием в принципиально
антириторическом контексте, но и, скажем, в отношении также упомянутых С.С. Аве-
ринцевым Манетти и Пико делла Мирандолы. Для меня несомненно, что
Пико толкует "величие и ничтожество человека" именно как "единую
реальность и единую тему": человек может максимально возвыситься или
пасть в силу того, что составляет его особую онтологическую привилегию,
поскольку у него нет никакого заведомого места в мире, никакого
собственного облика, ничего, что его бы пред-определяло. Но он может "стать
тем, чем хочет". Он сам, по собственному желанию и воле, кует себя. Его
особенность - в отсутствии конкретной особенности, в том, что он -
тотальная возможность и, значит, Всё и Ничто одновременно. Так,
рассуждения Пико о "восхитительном хамелеонстве" человека, который "почти
всегда выходит за собственные пределы" и универсален в виде
возможности себя, составляют глубокий и специфически ренессансный парадокс о
человеке как единой и неравной себе реальности, но отнюдь не
"механическую рядоположенность" хвалы и хулы.
8 См. превосходно об этом: Смирин ВМ. Римская школьная риторика Авгу-
стова века как исторический источник (по "Контроверсиям" Сенеки
Старшего) // Вестн. древней истории. 1977. № 1. С. 95-113. Что до античной
риторики "вообще", то рассудительная систематичность топосов, энтимем
(т. е. утверждений с подразумеваемым доказательством), изречений и
примеров сложилась вовсе не потому, что греки были заядлыми
интеллектуалистами и моралистами, а потому, что они нуждались в эффективном
способе взвешивания "за" и "против" в публичном заседании. Аристотель
предельно выявил первоначальную полисную гражданскую природу
риторики: "все дело риторики направлено к возбуждению того или иного
мнения", "сама риторика существует для вынесения решения" (Риторика, III,
1; II, 1. По изд.: Античные риторики / Под ред. A.A. Тахо-Годи. М., 1978).
Решать - значит выбирать между разными людьми или поступками.
Отсюда внеморальная (и вообще внепредметная) принудительность для
риторики сопоставления ("синкресиса"): ведь надо было "склонять или
отклонять", "обвинять или оправдывать", "хвалить или порицать" (Там же. I,
3). Родившись в качестве прагматического искусства убеждать судей или
народное собрание, риторика была в глазах Аристотеля модификацией
"диалектики", техникой доказательства - отчасти логической, во многом
коммуникативной и уже в последнюю очередь словесно-стилевой. По
Аристотелю, в идеале надо было ограничиться выяснением истины, дабы
"речь не причиняла ни печали, ни радости". Но слушатели не в состоянии
интересоваться одной лишь истиной, их надо усладить, позабавить,
увлечь и т. д. Ведь чтобы убедить - мало мыслительной способности.
Оттого-то риторика, в отличие от логики, не только основывается на общих
местах, не предполагающих силлогистического обоснования, но вынуждена
также заботиться о подборе и расположении слов, ритме, метафорах,
короче, о "стиле", который "оказывается весьма важным вследствие
нравственной испорченности слушателя"... "И сила речи написанной
заключается более в стиле, чем в мыслях" (Там же. III, 1). Установка на убеждение
слушателей неизбежно окрасила в конце концов греческое понимание
_ 970
Примечания
всякой речи, в том числе и поэтической ("речь представляет себе как бы
судью в слушателе" - Там же. II, 18). Уже у Дионисия Галикарнасского
или Деметрия заметна иная риторика, все более клонящаяся к
вырождению в формальную стилистику.
9 Хотя, конечно, любое верное соображение - в том числе и восходящую к
Гегелю мысль о "пластике", законченности телесно-душевного облика,
"эйдосе" как важной особенности греческой культуры - можно заболтать
и опошлить, но ведь одностороннее возвеличение античного морализма
ничуть не предпочтительней «одностороннего подчеркивания
"пластических" компонентов античного наследия». Риторический подход к
изображению действительности реально как-то преображался, очевидно, и во
взаимодействии с открытой греками чувственной изобразительностью, с
наглядной словесной пластикой, о которой, между прочим, столь
превосходно писал С.С. Аверинцев в своих более ранних работах (в том числе в
одной из самых значительных: Аверинцев С.С. Греческая литература и
ближневосточная "словесность" // Типология и взаимосвязи литератур
древнего мира. М., 1971. С. 216-226 и др.). Поэтому скрытый спор Сергея
Сергеевича Аверинцева с самим собой мне было бы трудно считать
выигранным.
10 Аверинцев С.С Большие судьбы малого жанра... С. 176.
11 Аверинцев С.С Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
12 В уже упомянутой работе «Греческая литература и ближневосточная
"словесность"* С.С. Аверинцев справедливо указывал на то, что античный
"рассказчик принимает на себя индивидуальную ответственность за все,
что имеет сказать**. Эта "позиция личного авторства1* «непреложно
вытекала из античной концепции атомарного индивидуума - "характера"»
(с. 223-224). Что до "антично-византийской эпиграмматической
традиции", то, согласно обсуждаемой сейчас статье, ей свойственна "некая
существенная анонимность1* (с. 172. Курсив в обоих случаях мой. - Л. Б.).
Выходит, в простейших основаниях культуры кое-что было
разнонаправленным и конфликтным даже в пределах Античности (поскольку об
"анонимности" речь идет в связи с Посидиппом - III в. до н. э)? И возможно,
"анонимность" риторики впервые стала системообразующим фактором
именно на византийской почве?
13 Тынянов ЮН. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 272-276.
14 Цит. по: Cardini R. La critica del Landino. Firenze, 1973. P. 93.
15 Пир, I, 2 (цит. по изд.: Данте Алигьери. Малые произведения. M., 1968.
С. 114-116).
16 "Стертость", "бледность" риторики у гуманистов означает изменение ее
функции на служебную. Риторика, автоматизируясь, становится удобным
средством прикрепления современного и даже лично-биографического
материала к литературному ряду. Неудивительно, что некоторые
страницы, например, в "Комментарии" Лоренцо начинают выглядеть несколько
пародийно. Я следую здесь за соображениями Ю.Н. Тынянова (Указ. соч.
С. 274), возникшими, разумеется, на другом материале, но, кроме того, не
предусматривавшими (как и все известные мне суждения о стилизации)
исторического казуса, когда не отдельный автор или направление, а целая
971 _
Примечания
великая культурная эпоха направлена на стилизацию другой великой
эпохи. Термином "стилизация" Тынянов не пользуется. Но в статье "О
пародии** он настаивает на функциональном различии "пародийности и
пародийности'*. Крайняя терминологическая неловкость здесь умышленна.
"Пародийность" и "пародийность" могут отчасти и совпадать, они растут
из одного корешка, прежде чем расслоиться. Вторая - это и есть
собственно пародия, направленная н на н против, с комическим заданием.
Первая - направлена только на, это "внепародийная пародия". Если первая
степень изучения старых форм - подражание им, то второй учебной
степенью становится эксперимент с ними, а именно "перевод старых форм на
новые функции" (Там же. С. 293). Тынянов нащупывает нечто среднее
между подражанием и передразниванием - подражение с функциональным
сдвигом, для какой-то новой цели. Такая цель в культуре Возрождения
есть: рождение свободной индивидуальной воли автора, с его "доблестью",
"изобретательностью", самобытной одаренностью ("ingenium").
17 В.М. Смирин любезно указал, что это, по-видимому, подражание Ксено-
фонту.
16 Rochon A. La jeunesse de Laurent de Medicis (1449-1478). Clermont;
Ferrand, 1963. P. 441-443,460.
19 См. впечатляющие примеры: Rochon A. Op. cit. P. 566-570. Ставя вопрос о
культурном содержании этой игры Лоренцо не только с классическими
жанровыми парадигмами, но и с собственными сочинениями, автор, к
сожалению, удовлетворяется следующим ответом: "Итак, в чем же смысл
этой нескончаемой игры, если она не направлена против тех, которого он
имеет в виду? Это, конечно, посредственных учеников Фичино и
особенно неудачливых подражателей Данте и Петрарки хочет Лоренцо
выставить в смешном виде". (Ibid. P. 560-561).
20 Тынянов ЮЛ. Указ. соч. С. 306.
21 Там же. С. 301.
22 По изд.: Velluti D. Сгопаса di Firenze. Firenze, 1731. Ниже сноски в тексте.
23 См. об этом: Боткин ЛМ. Итальянское Возрождение... С. 141, 147-148
и др.
24 Ниже цит. по изд.: Pùliziano A. Poésie italiane/A cura S. Orlando. Milano,
1976. P. 63-86 (со строфы 68 книги первой "Станцев").
25 Ср.: Мщег}. Ange Poîitien. La formation d'un poète humaniste (1469-1480).
Genève, 1964. P. 210-212. Автор, основываясь, главным образом, на
некоторых латинских сочинениях Полициано, посвящает специальную главу
"вкусу к docta vahetas" как центральной черте
интеллектуально-художественного формирования Полициано (Op. cit. P. 203-218, 417). Имеются в
виду: "множественность поэтических жанров и сложность структур",
смелое смешение самой разной по происхождению античной лексики
("уточненный эклектизм") с изобретением новых латинских слов, наложение
разных стилевых пластов и приемов, смелая творческая контаминация
("Полициано берет свое добро там, где его находит"; "не опасаясь впасть в
парадокс, можно бы сказать, что у него нет почти ничего своего, но почти
все новое"). Специально о перечнях в "Станцах" см.: Ibid. P. 333-341
("вкус к разнообразию изображаемого). Однако даже у Иды Майер, уде-
_ 972
Примечания
лившей "разнообразию" и новаторству Полициано немало внимания,
сказывается отсутствие теоретической проработки смысла "разнообразия",
которое не становится логико-культурной категорией мироотношения, но
остается всего лишь "вкусом", психологическим "удовольствием
разнообразия". Ср. также: Ramat R. Saggi sul Rinascimento. Firenze, 1969. P. 138-
144; Malagoli L. Il Poliziano poeta // Il Poliziano e il suo tempo: Atti del IV
Convegno intemazionale di studi sul Rinascimento. Firenze, 1957. P. 48-49.
Л. Малаголи обнаруживает тот же вкус к перечислительности в картинах
зимы из "Амбры" Лоренцо Медичи и констатирует, что на протяжении
22 октав "поэт не заботится о том, чтобы дать описанию единство... В этом
описательном движении нет иного мотива, кроме вращения описания
вокруг себя" (Ibid. Р. 48-49).
26 Poliziano A. Fabula di Orfeo // Poesie italiane. P. 116.
27 Очевидно, пьеса при первых постановках не только декламировалась, но и
распевалась. См.: Pirrotta N. Li due Orfei: Da Poliziano a Monteverdi. Torino,
1975. P. 5-44. О странном и смелом смешении жанров в "Орфее" см.: De
Robertis D. L'esperienza poetica del Quattrocento // Storia délia littérature
italiana. Milano, 1976. Vol. 3. P. 427. См. также: Apollomo M. Paesaggio dell'
"Orfeo"// II Poliziano e il suo tempo. P. 74-75.
Трактат Лоренцо Великолепного.
На дальних подступах к понятию личности
1 См., например, библиографию, составленную Э. Биджи к "Scritti sceiti di
Lorenzo de'Medici" (Torino, 1965). В связи (притом частичной) с
"Комментарием" в ней указаны только две небольшие работы: Spongano R. Un capi-
tolo délia nostra prosa d'arte. Firenze, 1941 (общий очерк итальянской
литературной прозы XV в., касающийся также Лоренцо); Fubini M. Nota sulla
prosa di L; il M // Studi sulla letteratura del Rinascimento. Firenze, 1947. К
этому следует добавить: Martelli M. L'awenturasa storia del "Comento" //
Studi laurenziani. Firenze, 1965. P. 51-133. По поводу мотива
"разнообразия" и вообще в культурологическом плане трактат Лоренцо, насколько
мне известно, не разбирался никогда.
2 Цит. по: Rubinstein N. Il govemo di Firenze sotto i Medici (1434-1494).
Firenze, 1971. P. 276. За несколько месяцев до смерти Лоренцо (в письме к
флорентийскому послу при римской курии) в очередной раз отклонил
попытку побудить его к установлению открытого режима личной власти,
указав, что "естественное основание" (fondamento naturale) его авторитета,
состоящее в популярности среди флорентийцев, "гораздо полезней и
удобней" всякого иного основания, "потому что вещи, которые часто
приобретаются не по заслуге, подчас и теряются ни с того ни с сего" (Ibid.). В
оценке характера правления Лоренцо Медичи я следую за указанным
превосходным исследованием Н. Рубинштейна. См.: Ibid. P. 213-276;
особенно р. 264-276.
3 Это признается и в работе Е. Гомбрича, справедливо ставящего под
сомнение преувеличенные и слишком идиллические представления о масшта-
973 —
Примечания
бах и последовательности реальной финансовой поддержки художников
со стороны Медичи и о якобы вполне равноправных отношениях между
ними. Тем не менее автор не отрицает ни обдуманности и размаха
принципиально новой культурной политики (а не традиционного меценатства)
медичейского режима, ни органической причастности Лоренцо Медичи к
творческой элите, которую он поддерживал. См.: Gombrich E. The Early
Medici as Patrons of Art // Norm and Form: Studies in the art of the
Renaissance. L, 1966. P. 35-37. Ср. традиционную сводку материала:
Barfucci Ε. Lorenzo de'Medici e la societa artistica del suo tempo. Firenze,
1945.
4 Макьявелли Η. История Флоренции / Под ред. В.И. Рутенбурга. Пер.
Н.Я. Рыковой. Л., 1973. С. 339. См. более подробную выдержку ниже на с.
775.
5 Machiaoelli N. Lettere/A cura F. Gaeta. Opère, VI. Milano, 1961. № 163.
P. 374. ("И хотя мы имеем обыкновение сотворять это разнообразие (ques-
ta varietà) во многих письмах, я хочу на сей раз сотворить его в одном...").
Ср. с другим письмом к Веттори, где Макьявелли сообщает о своем
любовном увлечении, используя тот же топос, свидетельствующий о
"варьета" человеческой природы индивида: "Итак, я оставил мысли о вещах
великих и серьезных; меня больше не радует ни читать о древности, ни
рассуждать о современности; все обратилось в нежные беседы, за которые я
благодарю Венеру и целый Кипр" (Ibid. № 154. Р. 347).
6 Lorenzo de'Medtà. Comento ad alcuni sonetti d'amore // Opère scelte / A cura
di B. Maier. Novara, 1969. P. 123-124 (далее - ссылки в тексте).
7 Ср.: Саккетти Ф. Новеллы / Пер. В.Ф. Шишмарева. М.; Л., 1962. С. 101,
103: в 63-й новелле осмеян ремесленник, который "сам не знал своего
места", а в 64-й - престарелый нотариус, вздумавший отправиться на турнир
("он же не знал и самого себя").
8 Ср.: Bcino M. Theologia Platonica / Ed. R. Marsel. Ρ, 1964. Vol. 1-2, lib.
XIV. Cap. 3. P. 257 ("Omnis hominis anima haec in se cuncta quodammodo
experitur licet alite aliae, atque ita genus humanum contendit omnia fieri, cum
omnium agat vitas"). To есть отдельный человек обладает родовыми
свойствами на некий свой лад ("quodammodo"). Индивид у Фичино относится
к человечеству еще, скорее, как часть к целому ("человеческое равно
сообщается отдельным лицам" - см.: Ibid. Lib. VIII, cap. 1. P. 287), но не как
особенное ко всеобщему.
9 Она описана С.С. Аверинцевым в статье "Большие судьбы малого жанра
(риторика как подход к обобщению действительности"). См.: Вопр.
литературы. 1981. № 4. С. 162-163 и др.
0 См. анализ этого места: Категория варьета у Леона Баггисты Альберти.
Проблема ренессансного индивидуализма // В кн.: Боткин ЛМ. Леонардо
да Винчи... С. 105-112.
1 И далее: "...так обычно и зеленая трава делает цветы более красивыми, а
небо своим цветом и ясностью выделяет и являет более яркими звезды -
хотя и цветы красивей травы, и звезды красивей небесного простора, но
трава помогает цветам выглядеть красивей, чем если бы весь луг был
застлан одними цветами и они не выступали бы на фоне зелени травы; точ-
_ 974
Примечания
но так же звездное небо - в силу не просто разнообразия, но потому что
противоположности рядом друг с другом заключают в себе больше силы и
более себя оказывают** (р. 285).
12 Сходно восхищался повседневной чудесностью природы и Фичино,
полагавший, что "чудеса заложены во вселенском законе вещей и необходимы
для скрепления непрерывного причинного ряда" (Theol. plat. XIII. 5.
P. 243; XIII. 4. P. 229-230).
13 Ср. у Леонардо да Винчи об ударах колокола, в которых "ты найдешь
любое имя или слово, какое ты вообразишь". Леонардо приводит в пример
прежде всего "пятна на стене", а также пепел, разводы грязи и - тоже -
облака. Но имеет в виду уже не просто "воображение", а творческое
воображение живописца: ибо "неясными предметами ум побуждается к новым
изобретениям" (Леонардо да Винчи. Избр. произведения. М.; Л., 1935. Т. 2.
№ 519 (Trattato della Pittura, 66)).
14 Leonardo da Vinà. Trattato della Pittura, 61, 114 // L da Vinci. Das Buch
von der Malerei / Nach dem Codez Vaticanus (Urbinas) 1270, von Heinrich
Ludwig. Wien, 1882. Bd. 1-3.
15 Чтобы такой подход не показался малопонятным или софистическим,
отсылаю к работе: Библер B.C. Мышление как творчество: Введение в
логику мысленного диалога. М., 1975.
16 II libra del Cortegiano, I, 37 // Opère di Baldassare Castiglione, Giovanni
della Casa, Benvenuto Cellini / A cura di С Cordie. Milano, Napoli, 1960
(Ниже ссылки на это издание в тексте. Курсив всюду мой. - Л. Б).
17 "О подражании" у Кастильоне наиболее подробно (но вне проблемы
складывания понятия личности) см.: Mazzacurati G. Misure del classicismo
rinascimentale. Napoli, 1967. P. 70 e seg. О ренессансном "подражании"
вообще см.: Ulivi F. L'imitazione nella poetica del Rinascimento. Milano, 1959.
18 Ср.: Cicero. De oratore, II, 22. К этой же цитате Кастильоне обратится
снова (на сей раз с прямой отсылкой) в следующей главе (I, 37). См. ниже о
разном смысле этого места у Цицерона и у Кастильоне.
19 Характерна ошибка такого классика итальянского литературоведения, как
Ф. Флора (Flora F. Storia della letteratura italiana. Vol. 2. Verona, 1974,
p. 526), который сослался на пассаж о Гомере в том смысле, что будто бы,
по Кастильоне, "даже Гомер подражал другому, более древнему, чем он",
поскольку истина едина и вечна и пр. У Кастильоне, конечно, прямо
противоположный смысл. Ошибка Ф. Флоры объясняется тем, что
рассуждение Кастильоне не соответствует тому, что ожидают в нем увидеть,
исходя из представления о традиционализме идеи "подражания" и
недостаточно учитывая те парадоксальные смысловые сдвиги и превращения,
которые она претерпевала в ренессансных головах.
20 Ср.: Cicero. De oratore, III, 7-9 (ниже цит. по изд.: Leipzig, 1868; курсив
всюду мой - Л£.). Частично использован перевод ФА. Петровского по
изд.: Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Под
ред. М.Л. Гаспарова. М., 1972.
21 Ср. также: Orator, 17 (о разнообразии ораторских интонаций), 65 (о
разнообразии ритмов речи); De oratore, II, 13-14 (о разнообразии оттенков
мысли и содержания - "varietas colorum", "rerum copia et sententiarum
varetas").
975 —
Примечания
22 Мы узнаем сквозь прозрачный итальянский текст цицероновское: "in suo
génère res complures dissimiles inter se, quae tarnen consimili laude dignetur",
uut sit difficile iudicium excellents maxime suavitatis" (Кастилъоне поставил
это в связь с несходными достижениями живописцев), "in suo génère per·
fectum est" (у Цицерона - об ораторах, у Кастилъоне - о живописцах),
"neque seo rum quisquam est cui quidquam in arte sua déesse videatur" (у
Цицерона и у Кастилъоне - о живописцах) и т. п. Цицерон играет словами:
inter se dissimiles, однако neminem suL.esse dissimilem ("непохожие друг на
друга", но "не непохожие на себя же"). И вновь об ораторах: "Quis sorum
non egregius? tarnen quis cuisquam nisi sut sumilis". Вот откуда та же, но
сильней впечатляющая формула Кастилъоне о "подражании себе же".
24 В переводе ФА Петровского: "Пусть начинающий всеми силами
стремится уловить все лучшее, что есть в этом образце". Но у Цицерона речь не о
"начинающем", слово это привнесено переводчиком ("...ut demonstremus,
quem imitetur, atque ita, ut, quae maxime excellent in eo, quem imitabatur, ea
diligentissime persequatur"). Далее говорится об единстве стиля Перикла,
Алкивиада, Фукидида, Крития, Лисия ("все они сохраняли еще Периклов
сок"), о подражании Исократу Демосфена, Гиперида, Ликурга и др. Так
что и из контекста следует не о "начинающих" речь, но о самых
выдающихся ораторах, приходящих к совершенству через подражание.
25 См. о ней (помимо указанной работы об Альберти): Баткин ЛМ.
Леонардо да Винчи и особенности ренессансного мышления. С. 68-104,209-365.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Понятие об индивиде по переписке Никколо Макьявелли
с Франческо Веттори и другими
1 Machiavelli N. Lettere. A cura di Franco Gaeta. Milano, 1961. P. 204-206.
Далее указания страниц - в тексте.
2 В предыдущем письме к Луиджи от 29 нояб. 1509 г., т. е. отправленном на
9 дней раньше (р. 202), Макьявелли упоминает о возобновившейся
лихорадке Якопо Гвиччардини и выражает надежду, что "вы ее прогоните, как
глупую, грязную и наглую шлюху, каковой она и является". Это весьма
энергичное сравнение, очевидно, как-то связано с историей, рассказанной
в следующем письме; мы можем только гадать, как именно; я думаю, что
история была выкроена из житейского опыта, но подвергалась, так
сказать, идеологической и сюжетной обработке. Ср. р. 5-8 (из вступительной
статьи издателя). Тонкие замечания Франко Гаэты, в которых
подчеркнуты свойственные соответствующей группе писем Макьявелли "вкус к
комическому" и к экспрессии, переходящей подчас в "эротическую
эмблематику", все же ограничены психологической и стилистической сторонами.
Причем Ф. Гаэта противопоставляет тон писем более грустным
параллельным биографическим мотивам в пьесах и стихах. Что до этого письма
к Л. Гвиччардини, Ф. Гаэта усматривает в нем отстраненную
объективность в описании пережитого (ни смеха, ни горечи), еще не преодоленную
_ m
Примечания
гадливость и - через ее высказанность - очищение "своего рода светской
исповедью" (р. 8). (В буквальной достоверности деталей комментатор
ничуть не усомнился.) По-моему, этой оценке слишком противоречат: 1)
нескромная игра ума (от первой фразы до пародийно-молитвенных формул
"морали", обрамляющих фабулу мыслью о везении или невезении по
прихоти фортуны также и в этих утехах, дарованных богом); 2) искусное
обыгрывание темы "товара" и "платы"; 3) литературные приемы описания
женщины. Реальное происшествие преображено, приобрело
законченность фацетии. Между прочим, после письма идет приписка: "Ожидаю
ответа Гуальтьери на мою непристойную побасенку (cantafavola)". Само
письмо тоже (если приписка и не относится к нему) скорее не "исповедь",
а обдуманная cantafavola. Впрочем, я попытаюсь подойти к подобным
письмам Макьявелли вообще в ином, не биографическом и даже не
историко-литературном, а культурологическом плане.
3 Никколо Макьявелли - некой даме, после 16 сент. 1512 г. (р. 228).
4 Никколо Макьявелли - Франческо Гвиччардини, 30 авг. 1524 г. (р. 417):
"...havendo a venire a certi particolari, harei bisogno di intendere da voi se
offendo troppo о con lo esaltare о con lo abbassare le cose".
5 Перевод Н.Я. Рыковой. См.: Макиавелли Я. История Флоренции. С. 339.
Выдержки из оригинала по изд.: Machiavelli N. Opère scelte. A cura di Gian
Berardi. Roma, 1973. P. 483.
6 Об этом отрезке биографии Макьявелли см.: Ridolfi R. Machiavel. P., 1960.
P. 204-206.
7 Op. cit. P. 194.
8 Ср. с письмом Веттори к Макьявелли от 23 нояб. 1513 г., ответом на
которое и было декабрьское послание (р. 297-300). Как это бывало
неоднократно, тему первым предложил Веттори: "Мне пришла мысль рассказать
вам в этом письме, какова моя жизнь в Риме. И мне кажется уместным
прежде всего известить вас, где я проживаю, потому что я переехал и
теперь уже нахожусь не так близко от куртизанок, как летом..." Зато новая
квартира Франческо рядом с площадью св. Петра, папским дворцом и
собором, что весьма удобно, "поскольку я, как вы знаете, религиозен...". За
церковью - запущенный сад, пустынные виноградники на холме Яникуле
со следами парка, как говорят, времен Нерона... Он, Веттори, держит
девять слуг (не считая капеллана) и семь лошадей; сначала жил широко,
задавал обеды иностранцам, но поистратился и теперь живет уединенно. По
утрам раз в два-три дня отправляется в курию и "порой говорит двадцать
слов папе, десять - кардиналу Медичи, шесть - великолепному Джулиа-
но". Вернувшись, трапезует с домашними и гостями, играет в карты, "если
есть с кем", а нет - идет в церковь и сад, в хорошую погоду прогуливается
верхом в окрестностях города. Вечер отдан переписке с Сеньорией и
чтению: Веттори перечисляет дюжину любимых авторов, это историки,
преимущественно римские. "По праздникам слушаю мессу, не то что вы, порой
ее пропускающий. Ежели вы спросите, нет ли у меня сейчас какой-нибудь
куртизанки, скажу вам, что поначалу ходил к такой, было дело, как я вам
и написал. А потом, убоявшись летней жары, стал воздерживаться.
Правда, есть тут у меня одна, которая часто приходит сама, она хорошо сложе-
32 - 345
977 _
Примечания
на и приятно разговаривает. Есть еще, несмотря на уединенность места,
одна соседка, которая и вам не показалась бы уродиной..." "Мой Никколо,
вот к этой жизни я вас и приглашаю; и если вы приедете, вы доставите
мне удовольствие... Здесь у вас не будет иных занятий, кроме как бродить
и глазеть, а затем, вернувшись домой, острить и смеяться. Не хочу, чтоб
вы воображали, будто я живу, как полагается послу, потому что я хотел
бы всегда оставаться свободным. Одеваюсь, когда в длинное платье, когда
в короткое, разъезжаю один, в сопровождении то пеших, то конных слуг.
В домах кардиналов вовсе не бываю, потому что посещаю только Медичи
и порой Биббьену, когда тот здоров. Пусть каждый говорит об этом, что
ему вздумается; а если я им не угодил, пусть меня отзывают...1*.
Искренность и красочность письма Веттори очевидна. Его описание,
как это бывало и в гуманистических эпистолах прошлого века,
организовано по цицеронианскому образцу: отправитель приглашает друга,
рассказывая о своем жизненном укладе, который тому предстоит разделить,
обещая уединение, раскованность, интимность общения, сочетающего темы
"серьезные и легкомысленные" (ср. письма Леонардо Джустиниано к Гуа-
рино Веронскому или Анджело Полициано к Фичино: Боткин JIM.
Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978. С. 100,
185-186, примеч. 46). По классической модели это должно было быть
приглашением на виллу, к ученому и одновременно опрощенному
сельскому досугу. Посол Веттори живет в центре Рима, около папского
палаццо. Это не мешает ему поведать о подобии сельского малолюдства,
тишины, размеренности... Рассказ, конечно, стилизован. Но все же минимально.
Подробности, видимо, очень близки к реальным обыкновениям Франче-
ско. Легкий юмор в отношении себя самого - тоже черта ритуальная -
трудно отличим от простодушной деловитости, когда Виттори сообщает,
как он устраивается с женщинами. Чтение на ночь латинских авторов и
незатейливые развлечения, высокое и обыденное спокойно чередуются в
житейском распорядке. Их варьета намечена, но не акцентирована.
Словом, это достаточно стертый вариант той же схемы, которую Макьявелли,
как мы сейчас увидим, переживает и осмысляет с огромной
напряженностью.
Эта смелая, т. е. умело подготовленная модуляция, еще не последняя в
письме. Макьявелли не был бы Макьявелли, если бы, переходя в
следующей фразе к деловой части, снова внезапно не переменил бы тон,
подшутив над сказанным только что с такой глубочайшей выстраданностью и
торжественностью: «А поскольку Данте говорит, что никакая наука не
идет впрок, если не затвердить услышанное, то я запомнил эти беседы (с
древними) и заработал на них (per la loro conversatione ho fatto capitale),
написав сочиненьице "De principatibus", в котором я углубляюсь, как
только могу, в рассуждения на эту тему...» Необычность письма нельзя
оценить также без характерных для личной порядочности Макьявелли
соображений о невозможности уклониться от встречи с Содерини в случае
поездки в Рим, без замечания о подозрительности недавно утвердившихся
режимов и особенно без заключительной самохарактеристики, когда
Макьявелли, подвигнутый энергией всего письма, находит в конце концов
_ m
Примечания
беспрецедентно индивидуальные краски: "...я издержался и не могу долго
оставаться в таком положении, не впав в самую жалкую нищету, не
говоря уж о том, как мне хочется, чтобы эти сеньоры Медичи начали
употреблять меня в дело, даже если для начала мне пришлось бы ворочать камни.
Потому что будь я неладен, если потом не заслужу у них большего. А что
до этой штуки (т. е. трактата "Государь". - ЛЪ.\ то, когда они ее прочтут,
станет ясно, что я не проспал и не провел за картами те пятнадцать лет, на
протяжении которых изучал искусство ведения государственных дел. И
каждый должен бы дорожить услугами того, кто за счет чужих ошибок
исполнен опыта. А в моей верности сомневаться бы не след, потому что я
всегда держал слово и не мне теперь учиться нарушать его: кто был верен
и честен сорок три года, до которых я дожил, тому уж не переменить
своей натуры. А о моей верности и честности свидетельствует моя нищета'*
(р. 305-306).
10 См.: Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. С. 386.
1 * В письме к Ф. Веттори от 16 апр. 1513 г. (р. 243) последнюю строку
Макьявелли по памяти привел неточно (у Петрарки сказано о смехе как
способе "скрыть горестный плач"). В письме сообщаются забавные сплетни об
общих приятелях; у одного из них умерла жена, "и он три или четыре дня
был как рыба, вытащенная из воды, но затем ожил и решил снова
жениться", честная компания каждый вечер судачит по этому поводу, другой
устроил складчину, обошедшуюся каждому в 14 сольди, у Макьявелли было
при себе только 10, тот стал ежедневно требовать с него остальные 4, пока
не затеял драку на Старом мосту: "Не знаю, может быть, вы решите, что я
был виноват перед ним; но это пустяки по сравнению с тем, что водится за
ним" (р. 242-243).
12 Ср.: Ridolfi R. Op. cit. P. 203-204. См. также: Machiavelli N. Op. cit P. 7.
P. Ридольфи настаивает, что речь идет не "об одной из этих традиционных
литературных, т. е. воображаемых, любовей". И Макьявелли вроде бы в
это лето не писал действительно ничего серьезного (да, но в письме
сказано, будто он ничего и не читает, и не думает о политике... даже не очень
смыслит в ней, и разочарован... так что реальность явно литературно
"доведена"!). Ф. Гаэта отрицает в письме игру, смех, как и горечь, но
подчеркивает психологический перелом, исключительную захваченность
любовной страстью того самого человека, который годом ранее писал:
"...фортуна устроила так, что я ничего не смыслю ни в шелкодельческом ремесле,
ни в ремесле сукнодельческом, ни в прибылях, ни в убытках, и мне
годится рассуждать только о государстве; нужно, чтобы я или рассуждал об
этом, или решился вовсе замолчать" (р. 239-240, к Ф. Веттори 9 апреля
1513 г.). Однако в жизни Макьявелли, видимо, не было такой полосы,
когда он выбрал бы только "рассуждения о государстве'* или только любовь
и приятельские развлечения. Во всяком случае (в историко-культурном
плане) в других людях и в себе самом Макьявелли устанавливал,
поражался, ценил способность быть двойственными и все-таки "одними и теми
же". Поэтому письма, противопоставляемые Гаагой, понятны лишь взятые
вместе, как необходимые моменты индивидуальной природы в
толковании Макьявелли, как общие условия личного самосознания.
32·
979 —
Примечания
13 См.: Боткин Л.М. Итальянское Возрождение... С. 123-138.
14 Таким образом, анализ писем подтверждает глубокие наблюдения Д.
Барбери-Скуаротти над стилистикой "Государя", расщепляющей и
трагически поляризующей действительность. См.: Barben-Squarotti D. La
forma tragica del "Principe". Firenze, 1966.
15 Через так называемую "Исповедь" Петрарки (Petrarca F. Secretum / А
cura di E. Carrara. Torino, 1977), если прибегнуть к сопоставлению с хри-
стианско-гуманистической традицией, также происходило
противопоставление низкопробных "нравов большинства" ("populäres mores", "piget
referre quid de maiore parte hominum sentiam expertus" - p. 60, 64) и тех
редкостных людей, кто оказывается на высоте нравственных требований
("rarissimum genus hominum" - p. 26, "pauces" - p. 30). Хотя в некоторых
пунктах, особенно в том, что касается любви к женщине, любви,
впрочем, скорее духовной и даже помогающей религиозному чувству, Фран-
ческо настойчиво и долго спорит с Августином (т. е. со своей
конфессиональной совестью), все-таки даже такое слишком земное чувство
должно отступить перед любовью к Богу. "Неужто ты хотел бы, как это
свойственно безумцам, испустить дух посреди шуток и смеха?" (р. 116). Но
показательно даже не это. Мысль об оправдании особенным, личным и
возвышенным характером чувства ("Verum ille de comuni amore hominum
sentiebat; in me autem singularia quedam sunt" - p. 122) мелькает, но тут
же парируется замечанием Августина, что, дескать, всем влюбленным
так кажется ("Enimvero idem de se aliis fortasse videatur"). Франческо как
персонаж диалога - это всякий человек в качестве соединения слабостей,
заблуждений, соблазнов - и способности к раскаянию, уразумению,
озарению благодатью. Надо же подражать не большинству, но немногим
избранным, мудрым, праведным ("paucissimorum signatum vestigiis iter
arripias" - p. 14). А по Макьявелли: никому не надо подражать, и это -
признак "мудрости", избранности.
!6-17 "...Et cosi, secondo il mio iudicio, viene secondando e'tampi et le sua bugie
colorendo". В этом письме мы впервые находим у автора понятие "la
qualité de 'tempi" (или "tale disposition di tempi et d'animi"), столь
необходимое для будущей проблематики Макьявелли.
18 Machiavelli N. Opère scelte. P. 490.
19 Ibid. P. 35-36.
20 Макиавелли H. Избранные сочинения. M., 1982. С. 295. Перевод
"Жизни..." под ред. А.К. Дживелегова. Далее указания страниц - в тексте.
21 Вряд ли и Ф. Веттори подозревал о будущей драме этих понятий, когда
в ноябре 1513 г. рассказывал Макьявелли про свое житье-бытье в Риме,
входя в античную роль: "Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я живу
здесь по посольскому чину, ведь я всегда желал оставаться свободным"
(р. 300). Ср.: "Обычно я, как вы знаете, избегаю, насколько могу,
(официальных) церемоний" (р. 270).
22 Ср. с замечанием кардинала Джованни Сальвиати (к Макьявелли, 6
сентября 1521 г.): "Среди первейших вещей, которых я вам желаю, -
заниматься тем, что было бы вам по душе (e'far qualche cosa che vi piaccia)"
(P 414).
980
Примечания
23 "Почти" - поскольку по крайней мере дважды Макьявелли все-таки сам
столкнул эти разноречивые пункты, сочтя социально неизбежным, как
теперь бы сказали, двойной стандарт поведения. Я имею в виду прежде
всего одно из решающих мест для понимания этики и политологии
Макьявелли ("Discorsi", 1, 26): "Эти способы поведения крайне жестоки и
враждебны всякому не только христианскому, но и вообще человеческому
образу жизни, и каждый должен избегать их, пожелав лучше жить в
качестве частного лица, нежели стать монархом ценою такого несчастья для
людей". Тем не менее, если кто-либо не хочет избрать указанный путь добра,
надлежит, "чтобы он прибегнул к этому злу, коли хочет сохранить
государство". Макьявелли констатирует следующее противоречие: захват
власти оправдан в качестве единственного средства ради исправления
развращенного общества; тому, кто хочет захватить и особенно удержать власть,
следует не бояться никаких мер, и это, следовательно, задача, от которой
откажется человек добродетельный, она не для него; если же это человек
порочный, то трудно рассчитывать, что впоследствии он ограничит свою
власть, дабы применить ее во благо (см. Discorsi, 1,18). Анализ этой
антиномии, осознанной Макьявелли, выходит за рамки настоящей работы.
24 См., напр., р. 267 ("assettare nella fantasia"), p. 233 (судьба Медичи
превосходит "ogni fantasia e discorso"), p. 405 ("Я написал бы вам еще кое о чем,
если бы хотел напрячь воображение (fantasia), но предпочитаю сохранить
его на завтра даже более свежим, чем это в моих силах").
25 С той оговоркой, что "мы во многих вещах, в том числе и самых важных
для нас, совершаем случайные поступки; надо думать, что так же ведут
себя и они" (т. е. государи) - р. 340; кроме того: "обстоятельства меняются
gradatim (исподволь. - Л. />.), и часто люди оказываются вынужденными
делать то, что делать они отнюдь не собирались" (che non era loro animo di
fare) - p. 294. Но и случайность, и вынужденность иных действий - лишь
оттеняют существование поступков, не случайных для того или иного
индивида, соответствующих его душевному складу и склонностям.
26 "Идеальный" политик в данном случае не значит "не существующий в
действительности". Подобное противопоставление было бы непонятно ре-
нессансному сознанию, как, впрочем, и сознанию предшествующих эпох.
Хотя Макьявелли и писал, что его интересует "не воображаемая, а
действительная правда вещей", не то, как должны вести себя люди, а то, как они
себя ведут на самом деле, т. е. констатировал расхождение между
"действительной правдой вещей" и христианской моралью, нам не следует
модернизировать его мышление и считать его эмпиризм чуть ли не
"научным". Макьявелли включал в понятие опыта книги римских историков,
максимы о человеческой природе; он искал в истории неизменные
"ragioni", разумные основания, он пользовался, как и Леонардо да Винчи,
своеобразной логикой "примеров" и "правил"; и он охотно олицетворял
правильность политики, выводя на сцену безупречно эффективных
государей. Можно бы сказать, что на место должного в моральном плане он
поставил тоже должное, но в рациональном и практическом плане. "Мудрый
государь", которого изображает Макьявелли, - это не благое и
несбыточное пожелание и не кабинетная отвлеченность, а вразумляющая и
редчайшая образцовость. "Жизнь Каструччо Кастракани" - вроде биографий
981 —
Примечания
Плутарха, с высоким идейным заданием, хотя и совсем непривычного
рода, сочинение внеморальное, но... традиционно-поучительное!
Макьявелли вливал свое горькое вино в старые жанровые меха. Показателен с
этой точки зрения отзыв о "Жизни КастракашГ просвещенного Дзаноби
Буондельмонти (1520 г.). Хотя он, Дзаноби, и не понимает в этом
столько, сколько другие, и не в состоянии вполне оценить замысел ("quelle
ragione") сочинения Макьявелли, - "все же я чувствую, что эта ваша
образцовая история (vostro modello di storia) услаждает меня точно так же,
как и знатоков (uomini di buon giuditio), которые ее одобряют. И
особенно взвешенной мне кажется эта речь (Кастракани перед смертью. -
Л. Б.). Я думаю, это произошло потому, что вы, как никогда, сумели
возвысить стиль, чего, впрочем, требовал сам предмет" (р. 395).
27 Niccolo ΜαώίαυβΙΙί Ореге, VI, Lettere. A cura di F. Gaeta. Milano, 1961.
P. 228-231. В дальнейшем ссылки на письмо без указания страниц. См.:
Sasso G. Niccolo Machiavelli. Storia del suo pensiero politico. Napoli, 1968.
P. 185-194.
2S~^Castiglione B. Il libra del Cortegiano, 1,24 (Opère di Baldassare Castiglione,
Giovanni délia Casa, Benvenuto Cellini. A cura di Carlo Cordié. Milano-
Napoli, 1960).
30 Например, Луиджи Пульчи писал (в "Великане Моргайте") о Лоренцо
Великолепном, что тому "...не в силах противиться фортуна, ибо
мудрому покоряются звезды, и милость Неба являет великие знаки того, что
он - истинная честь нашего века". (Pulä L Morgante e lettere. Firenze,
1962, XXVIII canto, 149-151).
31 По изданию: Machiavelli N. Opère scelte. Roma, 1973. P. 298.
32 Эта "вненаходимость" составляет существенное преимущество
современного исследования (см.: Бахтин М.М. Эстетика словесного
творчества. С. 333-335,346-347, 369,372-373 и др.). Она не имеет ничего
общего с модернизацией, противостоит ей. Ибо мы не смешиваем ответы
Макьявелли на свои вопросы - и на наши вопросы (т. е. еще один
реально присутствующий в сочинениях Макьявелли смысл, выявляемый,
однако, только в "далеком контексте", только сегодня); поэтому нет
опасности исказить ответы ренессансного автора и приписать Макьявелли
сознание того, чего сознательно и актуально у него, разумеется, нет и не
могло быть. Он не помышлял о "личности"; но затронул нечто, до нее, с
нашей точки зрения, относящееся. Мы не только вправе, но и должны
попытаться разговаривать об этом с Макьявелли, оставаясь людьми
XX века В новом, вполне отрефлектированном, повторяю, контексте
выявляется "другость" Макьявелли, его инаковость для нас - как раз
потому, что у ренессансного писателя обнаруживается совершенно не
предусмотренный им самим и, тем не менее, именно ему принадлежащий
смысл.
33 Ср.: Horkheimer M., Adorno Th. Dialektik der Aufklärung. Frankfurt a. M.,
1969. S. 15.
34 Machiavelli. Lettere. P. 405 (к Ф. Гвиччардини, 17 мая 1521 г.)
35 Machiavelli N. Ореге scelte. P. 293-299. Поскольку, если я не ошибаюсь,
после 1869 г. эти главы не включались в русские переводы из
"Рассуждений...", придется прибегнуть к подробным выдержкам.
_ 9S2
Тосударь" Макьявелли
в контексте новоевропейской идеи личности
1 Среди отечественных публикаций о Никколо Макьявелли: Рутен-
бург В.И. Жизнь и творчество Никколо Макьявелли. // Макьявелли Н.
История Флоренции. Л., 1973; Он же. Титаны Возрождения. М., 1976;
Бурлацкий Ф. Загадка и уроки Никколо Макьявелли. М., 1977; Юсим MA.
Истина у Макьявелли и гуманистов // Проблемы культуры итальянского
Возрождения. М., 1979; Хлодовский Р.И. Кризис в ренессансной Италии и
гуманизм Макьявелли: трагедия м Государя" // Из истории социальных
движений и общественной мысли. М., 1981; Долгов К. Гуманизм,
Возрождение и политическая философия Макиавелли // Макиавелли И.
Избранные сочинения. М., 1982; Юсим MA. Этическая концепция Макиавелли //
Средние века. Μ, 1983. Вып. 46.
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 349.
3 Там же; см. также: Баткин Л.М. О некоторых условиях
культурологического подхода // Античная культура и современная наука. М., 1985.
4 Здесь и далее я стараюсь использовать до некоторой степени перевод
Г. Муравьевой по изд.: Никколо Макиавелли. Избранные сочинения. М.,
1982. Однако переводчица, озабоченная передачей энергии и живости
стиля (ей это часто удается), не всегда сохраняет смысловую точность.
Отсюда необходимость исправлений (подчас обширных), а то и вовсе новых
переводов, сделанных мною по изд.: Niccolo Machiavelli. Opère scelte / A cura
di G. Berardi. Roma, 1973. Далее указания глав даны в тексте в скобках
римскими цифрами.
5 См. превосходную работу: Barben Squarotti D. La farma tragica del
"Principe". Firenze, 1966.
6 Castiglione B. II libro del Cortegiano. Dedicatoria, 3 // Opere di Baldassare
Castiglione, Giovanni délia Casa, Benvenuto Cellini / A cura di Carlo Cordié.
Milano; Napoli, 1960.
7 В последней русской версии "Государя" это место передано так:
"полагаю, что и этих двух (случаев) достаточно для тех, кто ищем примера"
(с. 325). "Кто ищет примера" для подкрепления мысли автора о
"способах", не укладывающихся в оппозицию фортуны и доблести? Для
понимания именно этого "способа"? Истолковать легко, скорее, так. Но в
оригинале речь идет о возможных практических последователях Агафокла и
Оливеротто ("io iudico che basti, a chi fussi necessitato, imitargli"), а не
просто о читателях, которым нужны примеры для уяснения только что
высказанного тезиса.
8 Pico delta Mirandola G. De hominis dignitate. Heptaplus. De Ente et Uni/A
cura di Garin. Firanze, 1942. P. 104-106.
9 Смысловые разрывы и напряжение 25-й главы, а также параллельных
текстов Макьявелли (это известное письмо к Содерини и девятая глава
третьей книги "Рассуждений") не могли, разумеется, остаться
незамеченными в литературе. Но получили недостаточное, сугубо
феноменологическое объяснение. Обратимся, например, к работе Дженнаро Сассо, где
такое объяснение дано более обстоятельно и тщательно, чем в любой другой
ш_
Примечания
(Sasso G. Nicollo Machiavelli: Storia del suo pensiero politico. Napoli, 1958.
P. 185-194, 240, 270 и др.). Автор указывает, что Макьявелли колеблется
между апологией "висту" и признанием решающей роли "фортуны".
Причем мысль 25-й главы "Государя", уже вполне содержащаяся в письме к
Содерини, состоит в том, что "фортуна" теперь понимается тоньше,
по-новому: не как сугубо внешняя (по отношению к доблести индивида) сила
слепого случая, а как ограниченность самой человеческой природы,
неспособной в каждом отдельном человеке к самоизменению. Итак, по Сассо:
1)в 25-й главе заметно пессимистическое разочарование Макьявелли в
способности правителя переломить ход событий, в эффективности его
"вирту"; 2) в рамках оппозиции virtù-fortuna вторая часть проявляется
изнутри первой, через жесткую ее закрепленность. Все это само по себе
справедливо, но оценить теоретическую остроту ситуации вряд ли можно,
не выходя за пределы авторского кругозора, полностью сознательной и
очевидной ренессансной дихотомии "фортуны" и "доблести". Еще и
примем во внимание более глубинный конфликт двух концепций индивидно-
сти, отрефлектированный Макьявелли отчасти. И наконец, благодаря
преимуществу культурной вненаходимости мы в состоянии усмотреть здесь
драматическое разведение, обособление - и, следовательно, выявление -
двух парадоксально совпадающих условий личности (т. е. ее равенства и
ее неравенства себе же).
Равенство задано в виде натуралистического условия; неравенство - в
искаженной форме политологической утопии.
10 Machiavelli N. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Lib. I, ар. 55 // Le
opère/A cura di G. Berardi. Roma, 1973.
11 Ibid. 1,26.
12 Очевидно, Пушкин положил нечто подобное в основу трагической
коллизии "Каменного гостя". Вот почему мы одновременно осуждаем,
содрогаемся и... восхищаемся его Дон Жуаном. Мораль, безусловно, на стороне
Командора Но мы почему-то вслед за шекспировски-объективным
поэтом не торопимся сочувствовать ожившему истукану, смутно угадывая в
донжуанской готовности к ужасному самоутверждению, к своеволию
искренней, хотя и сиюминутной страсти, лишь подогреваемой угрозами
бездны и смерти, лишь преломляющей гораздо более глубокую страсть
личного вызова потусторонним, загадочным, высшим силам не то Неба, не
то замогильного тлена, - угадывая во всем этом нравственную ценность -
да, как ни странно! - или, во всяком случае, необходимый источник
нравственности и вообще любого подлинного человеческого решения (как его
понимает Новое время), источник нравственности... и безнравственности
тоже. Как всегда у Пушкина (ср. особенно Моцарта и Сальери, Евгения и
Медного всадника), трагическая правда находится между персонажами,
дана в их отношении, а не олицетворена одним из них, и поэтому не
поддается какому бы то ни было резюмированию. Кажется, отблеск
проблематики, введенной в европейскую мысль "Государем", лежит на Дон
Жуане, как и - по-разному - на Сальери и пр. С моей точки зрения, трактат
Макьявелли по глубине изображенной в нем интеллектуальной ситуации
близок - окажется со временем близок - к трагизму пушкинско-шекспи-
_ 984
Примечания
ровского типа Нельзя не осуждать ответы, предложенные Макьявелли; но
некуда деться от поставленных им вопросов.
13 В 1785 г. в "Основах метафизики нравственности" Кант обозначил этот
парадокс подчинения индивида тому всеобщему, которое им же,
индивидом, в качестве разумного существа и положено как "принцип автономии
воли" (Кант И. Сочинения: В б т. М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 275). С одной
стороны, если бы нравственная максима исходила из "практической
необходимости возможного поступка как средства к чему-нибудь другому, чего
желают (или же возможно, что желают) достигнуть", то это была бы уже
не нравственная максима, ибо она исходила бы не из "категорического"
императива, т. е. указывала бы не на "хороший сам по себе", а потому
бесцельный поступок, необходимый лишь для свободной и разумной
человеческой воли. (Не бесцельные поступки Кант называет "императивами
умения", и Макьявелли разработал именно такую, "ассерторическую",
систему поведения.) Если бы ичто-то другое" (а не сугубо внутренний закон)
заставляло волю индивида поступать определенным образом, если бы
нравственность могла основываться на долге перед кем-то или перед чем-
то, на опыте, интересе, принуждении или на авторитете высшей
инстанции, - это была бы, по Канту, уже внеморальная воля.
Но, с другой стороны, единственной гарантией априорного императива
оказывается его убедительность для моего умопостижения. Его чистая
разумность! - и притом по необходимости "как чистая самодеятельность",
как истина, удостоверяемая лишь "законодательным" усилием "Я",
которое этому своему же усилию и послушно. Допустим даже, что свободное
мышление личности и надличный Разум совпадают, т. е. логика "Я" (- его
ценности) общезначима. Однако как индивиду отыскать в
умопостигаемом мире, к которому он принадлежит в качестве нравственного человека,
"объект воли, т. е. побудительную причину"? Почему, собственно,
категорический императив, не имеющий по определению никаких внешних
оснований, есть именно императив практического разума? Почему это закон
поведения, почему это нравственность, а не просто разумение? Кант
отвечает: "Разум преступил бы все свои границы, если бы отважился на
объяснение того, как чистый разум может быть практическим". "Понятие
умопостигаемого мира есть, следовательно, только точка зрения, которую
разум вынужден принять вне явлений, для того чтобы мыслить себя
практическим" (Там же. С. 304-305). Хотя у Канта нет и намека на культурно-
историческую природу нравственности, хотя такой взгляд на вещи
совершенно несовместим с его метафизикой, - антиномия необходимого и
вместе с тем невозможного выведения практического закона из
индивидуального умопостижения, можно сказать, обрекает нас на историю. Поэтому
трактат на последней странице приходит, в сущности, к трагическому
аккорду, к "существенному ограничению того же самого разума".
Нравственности нет без абсолютной необходимости. Но, решительно отбросив
дальнейшее условие такой необходимости, разум "не может постичь
необходимости ни того, что существует или что происходит, ни того, что должно
происходить". Таков парадокс беспредпосылочности
(самообоснованности) человека! А если, повторяет еще раз Кант, "условие, при котором это
%5 —
Примечания
существует", установлено, "в таком случае закон не был бы моральным,
т. е. высшим законом свободы". Последняя фраза на последней странице:
"Итак, мы не постигаем практической безусловной необходимости
морального императива, но мы постигаем его непостижимость..." Личность
остается с императивом наедине, здесь тайна его "категоричности": в
новоевропейском индивидуализме; оборотная сторона "категоричности" - то,
что позже назовут "нигилизмом". От Канта неизбежен путь к Ницше и
экзистенциализму - этот вывод, конечно же, тривиален.
14 Ср.: Шкловский В. Художественная проза: Размышления и разборы. М.,
1959. С. 213, 222, 225-226 и др.; Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения.
М., 1961. С. 355; Манн Т. Путешествие по морю с Дон Кихотом // Собр.
соч. М., 1961. Т. 10. С. 185, 197.
15 Здесь и ниже перевод Н. Любимова (М, 1963).
16 Ср.: Пинский Л. Указ. соч. С. 355: "Дон Кихот - сложный психологический
образ, но мы (и кажется, будто и сам автор) не видим его изнутри, хотя
больше всего нас интересует его душевная жизнь. Мы неясно знаем его
"предел", он раскрывается, как герой эпоса, в объективном действии, в
удивительных речах и поступках, мотивированных необычным
характером. Однако сам характер при этом остается в какой-то мере "в себе"
(внутренний монолог новейшего романа был бы здесь невозможен). Это
характер более своеобразный, чем у героя древнего эпоса, и даже
причудливый. Но его "причуды" еще не случайны, не индивидуально неповторимы,
как у позднейших донкихотов...»
17 Напомню, что в гл. XV первой части Дон Кихот развивает излюбленную
тему Макьявелли о правителе, который "должен уметь властвовать
собой", дабы сохранить власть, ибо "во вновь завоеванных королевствах и
провинциях обыкновенно наблюдается брожение умов". Санчо-губерна-
тор, следующий благородным напутствиям хозяина - это антипод макья-
веллиева государя. Тут предполагаемый антимакьявеллизм Сервантеса
особенно нагляден и столь же трагичен - а значит, не сводится к
дидактическому "анти", многомерен. Это очень задумчивый антимакьявеллизм.
Губернаторство Санчо продлилось, как известно, недолго и кончилось
унизительно и плачевно... обстоятельство слишком важное, чтобы можно
было им пренебречь.
18 Вот характерное рассуждение европейца, живущего в послекантовскую
эпоху (в данном случае не так уж важно, что цитируемый текст относится
к XX в.): "Тот факт, что бог или любой другой авторитет велит мне делать
нечто, не гарантирует сам по себе справедливости этого веления. Только я
сам должен решить, считать ли мне нормы, выдвинутые каким-либо
авторитетом... добром или злом. Бог добр, только если его веления добры, и
было бы серьезной ошибкой - фактически внеморальным принятием
авторитаризма (я бы сказал, в соответствии с принимаемым здесь
различением: именно "моральным", парадогматическим, но вненравственным. -
ЛЗ.) - говорить, что его веления добры просто потому, что это - его
веления. Конечно, сказанное верно лишь в том случае, если мы заранее не
решили (на собственный страх и риск), что бог может велеть нам только
справедливое и доброе" (Погтер К. Логика и рост научного знания. М.,
_ m
Примечания
1983. С. 401). Тут вся изюминка в "собственном страхе и риске" при
принятии даже самой что ни на есть традиционной формулы поведения, в
эпохальной принудительности этого "я сам должен решать". Решение,
конечно, должно быть разумно, но это мой разум, а не Разум. Поскольку я
размышляю, мое суждение претендует на всеобщность. Таково условие
существования любой логики. Но я сам претендую только на свое право
размышлять и высказываться. Последней инстанции нет. Или же это
каждый думающий - культура в целом, распахнутая в будущее, где в разговор
вступят новые собеседники и будут приняты новые решения.
19 Поясним: никакой иерархии пониманий, никакого "дальше" и "ближе" в
культурном диалоге с прошлым быть, конечно, не может. Признавая тот
известный факт, что на переходе к Новому времени (и с уже полной
отчетливостью - на входе в XIX в.) мы наблюдаем величайший переворот и
более принципиальное различие, чем между любыми докапиталистическими,
традиционалистскими культурами, - я считаю тем не менее
непродуктивным для понимания старых культур вынесение за скобки их общих
свойств. Хотя, например, "личность" составляет одну из особенностей (но
не преимуществ!) новоевропейской культуры по отношению ко всем
предшествующим, так что мы, следовательно, вправе определить индивидов
всех прежних культурных типов "не-личностями" или обобщить их
позитивно как соотносимых с надличным Смыслом, рефлектировавших на
основе признания некой абсолютной нормы, исходивших из нее или, во
всяком случае, устремлявшихся непременно к такой норме, - это важно лишь
для уразумения своеобразия новоевропейской личности, но ничего не дает
(как ничего не дает всякое надэпохальное общее) для истолкования
прежних культурных своеобразий. Иначе говоря: каждый из
традиционалистских типов индивида и каждый примечательный исторический и
литературный персонаж внутри этих типов - ну да, "не-личность", но ведь "не-
личность" всегда по-разному, в особенном ключе... пусть этой
особенностью дорожим и выделяем - мы, а не "они", не их эпоха. И современная
личность (какая именно?) встречается с гигантской мне-личностыо"
Жанны д'Арк не так, как с "не-личностыо" Элоизы, или трубадура Бертрана де
Борна, или Франциска из Ассизи. И с ними всеми - совсем по-другому,
чем с Антигоной или Сократом... И поскольку общее несходство
европейского Нового времени с традиционализмом все поворачивается и
поворачивается, и преобразуется, и переосмысляется в неповторимых встречах,
поскольку мы конкретно имеем дело не с общим нежеланием доновоевро-
пейских индивидов "быть личностями" (с их незнанием и невозможностью
знания о том, что это такое, зато с их знанием того, что нам "не дано"), а с
желанием быть индивидами в таком-то и таком-то идеальном смысле (что
же общего, кроме отказа от индивидуального самообоснования, в римском
"гражданине" тех времен, о которых тосковал Тацит, и во францисканце
XIII в.?) - словом, поскольку в культуре общее снимается в конкретном,
то и антитеза личности и "не-личности" должна быть принята во внимание
по дороге к анализу каждого исторически особенного (вроде лесов, без
которых нельзя строить, но которые снимают с готового здания).
20 Бахтин ММ Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 101.
21 Там же. С. 160,161.
SUMMARY
THE BOOK contains a series of essays which discuss the
prehistory of what Leonid Batkin calls "sublime individualism,"
referring to the period from the fourth to early sixteenth century.
The author's exposition marks the momentous turning points of
historical development. Each study is a hermeneutic analysis of a
single representative text or a complex of those. These include
essentially St. Augustine's Confessions. Abelard's History of My
Misfortunes (Historia CalamitatumV Héloïse's correspondence
with him, Petrarch's letters in prose and his Canzoniere. Lorenzo
the Magnificent's Commentary on Some Love Sonnets,
Machiavelli's letters, and, finally, his treatise II Principe (The
Sovereign)
In the Introduction the author explicates his version of the
personalized method, closely related to Mikhail Bakhtin's philosophy
of culture. A unique work is always unanticipated, distinct from the
epoch's stereotypes, always incidental (casus), and precisely this
makes it especially indicative of the given type of culture.
Inseparable from specific life circumstances and personal features of
its creator, such a work still tells us a lot more about the type of
culture than trite, mainstream texts. A genius provides us with the
only conceivable form of historical experiment. His unparalleled
intellectual effort brings epochal matrices to the critical point
revealing not only their stereotyped rigidity, but also their ability
to mutate semantically. This kind of transformation, evident as we
proceed with the study of a literary creation, changes the very
individuality of its creator. His interpretation makes it possible not just
to classify general and recurring features of his socio-cultural envi-
_ 988
Summary
to classify general and recurring features of his socio-cultural
environment but also to reconstruct its "purpose," i. e. to go beyond
mere recognition of the empirical existence of matrix mentality. In
other words, it allows one to see it as a form of logical ideation,
thereby making it accessible not only to descriptive studies. A
unique creative incident (casus) makes it possible to put to test
rhetorical and sacral principles, the authority of preaching, hagiog-
raphy, confession, and the Bible. Super-personal stereotypes turn
into inner voices of individualized thought. On the one hand,
established patterns constrain the Self, but on the other, they give the
Self a chance to become free to the extent it is able to use these
patterns. Cultural specificity is inexhaustible within itself, since it
is not part or illustration of the general, but is the immediate being
of the universal. A dramatic mutual transformation takes place: a
unique work gives birth to a new thinking matrix belonging to this
particular work, while the individual thought betrays the
ambiguity and problematic nature of the matrix. Thus, culture can be
characterized by its own potential.
Analyzing material and historical connections between things,
one can see that some of them emerge before adequate words and
notions are formed to denote them. The situation is different with
the existence of the subject as such. If anything is unfamiliar to the
given type of cultural thinking, if it has not received any name, it
does not exist in the structure and life orientation of the given
subject. Batkin gives a detailed exposition of the concepts of
"personality" and "individuality" as related exclusively to the Modernity,
when novel ideas and concepts first appeared.
The concept of personality, the first of the two "regulative
ideas" (to use Kant's term), defines the individual through his
sovereign selfhood, his causa sua property, his specific immaturity, and
not yet realized identity with his own Self, and as well as through
mutual exchange of the Self with other individuals. The second
"regulative" concept, individuality, implies the existence and value
of distinctions between individuals and also points, in principle, to
the originality and uniqueness of each person. "Individuality" and
"personality" mean in essence the existence of the individual within
the mental horizon formed by these two ideas. Ontologically, it
would be an anachronism to try to transfer these ideas to the
traditionalist epochs even with certain reservations.
9S9 —
At the same time, studying other cultures, we can consciously
use as a probe the habitual ideational instruments (bearing in mind,
however, the above ontological observation). Such a dialogically
aloof and transformative approach to research helps to understand
better the originality of the Other as of one's own culture. Mikhail
Bakhtin calls this approach the effect of "outpresence".
Batkin attempts to make practical use of and develop originally
Bakhtin's methodological principles. Each literary source requires
its own hermeneutic key. That is why there is no unified method in
the analysis of the selected texts. The material in each section is
analyzed and expounded in a different and specific manner used
only for this particular case. The thinking process is more essential
to the author than the conclusions, which undergo constant
revision, have no absolute finality, and lose certainty when taken out of
the analyzed context. Hence, this summary is of limited use for
understanding the book's character.
* * *
In the first part (Do Not Fall Into Selfdreaming). dedicated to
the early Christian and medieval paradigms, Batkin addresses the
notion of the "discovery of the unique human personality", often
attributed to St. Augustine, and provides a detailed analysis of the
structure and pattern of self-description and the worldview
groundwork of this notion. Batkin makes an attempt to interpret the
content core of Confessions, and the foundations and limitations of St.
Augustine's self-understanding, restricted as he is by his "minor
time" (Bakhtin). The all-pervading sacrality and personalistic
mysticism of the Bishop of Hippo do not allow one to interpret his Self
in the spirit of the later psychologism and self-assertion of
individuality. St. Augustine's Self shines the brighter, the more it
demonstrates its unconditionally "Self-less" essence, devotes itself to God,
and disavows its own Self. Subtle dialogical relations can be noticed
between the modern European idea of individual ego and
St. Augustine's understanding of it.
In the chapter on Abelard's "confessions", the author seeks to
reconstruct its semantic structure by entering the text and
advancing in accordance with its inner logic. He traces its strange curves
and connections at one moment and keeps away from it at another in
_ 990
Summary
order to perceive it as a whole from a modern, "alienated"
perspective. The author has a two-fold aim: (1) to find out how Abelard's
"individuality" could be recognizable in the historically determined
range of intellectual and rhetorical, confessional and genre patterns
of his epoch; and (2) to understand to what kind of "cultural shift"
those patterns, norms, and prescriptions can be traced.
Leonid Batkin's main focus is the "double semantic center of
narration," i.e. the way Abelard binds the two sins together
(voluptuousness and vanity), his romance with Héloïse and his academic
career, and, similarly, the two "remedies," the penalties coming from
God: castration and the burning of his manuscript by the Council.
However these didactically intertwined narratives later suddenly
diverge according to the lesson derived from them. If before the
two calamities Abelard's narration assumes, more or less, the tone
of confession, then, later, it becomes a sort of "autohagiography".
For, once the lecturer has taken monastic vows, he began teaching
chiefly theology, rather than philosophy, "for the love of God", not
"craving for money or praise." This affected the purification of glory,
making it pious and deserved. At the same time, castration was the
means of purification of love (as Héloïse became a "sister in Christ"
to her spiritual teacher, not to a lover or husband).
But the two motifs which are intertwined and mingled with
each other ( penance and self-congratulation on his orthodoxy and
martyrdom which Abelard compares to the lives of St. Anthony, St.
Jerome, St. Benedict, and St. Athanasius) do not exhaust the genre.
In Abelard's work one can discern elements not only of confession
and hagiography but also sermon, exemplum, love favola, treatise,
Church chronicle, invective, letter, etc.. "The aspects of genre
which have no analogy make themselves evident through the way
the material is arranged and through the convergence of the almost
all genre patterns possible in that age." This work of Abelard may
be interpreted as a "summa summarum" of the medieval genre
system. Thus - as in any other historically unique composition — we
observe a sort of "experiment" with possibilities of contemporary
patterns and their ability to mutate. At the same time "at the point
of their intersection and collision... an individual appears at the
crossroads." "An unusual individual ushers into daylight the
cultural potentis which have been dozing in the mass consciousness".
991 —
Summary
Analyzing the correspondence between Héloïse and Abelard,
Batkin concentrates his attention on the forms of greeting (saluta·
tio) with which the letters begin and which reflect the dramatically
growing intensity of the correspondents' argument. Oxymorons,
generally characteristic of medieval thinking, serve for Héloïse as a
means of expressing deeply personalized Self-consciousness. The
author rejects two common interpretations of Héloïse's letters.
According to one, the originality of her letters seems discrepant
with the general picture of medieval mentality and is seen as a
bright episode with no deep-set significance attached. Following
this logic, Héloïse is just one among other writers of the twelfth and
thirteenth centuries, and her strikingly personal intimate
confessions can be reduced to existing matrices. The uniqueness of her
letters is thereby denied any scholarly or historical importance. Such
an approach is nothing but a positivist reduction to a general and
average medieval standard.
Other interpreters of Héloïse's letters hear in them the eternal
words of human passion, though draped in alien stylistic clothes.
Her words, however, bear a powerful message that rises above
the epoch and breaks through rhetorical rules of the time,
appealing to something very personal that goes beyond any epoch.
Both approaches, however, demonstrate indifference to historical
specificity.
The author, on the contrary, sees Héloïse as a phenomenon that
brings to focus the totalité of religious culture of the twelfth
century, his main interest being the basic relationship between the nun's
vibrant self-expression and the mediative role of the cultural
environment matrices. Finding in Héloïse's letters overt and covert
reminiscences of the biblical Song of Songs, the author draws our
attention to the mystical superposition of the images of her beloved
Abelard and King Solomon, of the desired spouse and the Heavenly
Betrothed, of the spiritual confessor priest and brother in Christ, of
the earthly and heavenly love. The historically rigid spiritual
principles contribute in a paradoxical way to the evolution of Héloïse's
individuality and help her to acquire her first emotional experience
as a person. In her case, predestination, as a medieval attribute,
does not make her humble consciousness fully resign to fate, but
affects on her Self from within, thereby developing it. Thus, the
incidental (casus) makes the norm excitingly problematic. Héloïse
_ 992
Summary
seeks answers that are unconventional for the Middle Ages, and
precisely this circumstance makes her answers so typical of the age.
With the appearance of Héloïse we find culture somewhat changed,
though her motifs could be found in later "greater times,",i.e. in new
cultural contexts, only by way of new interpretations and
metamorphoses (e.g., in Russia in Alexander Blok's Poems of the Beautiful
Dame).
* * *
The second part constitutes the largest portion of the book's
volume and is the centerpiece of its content. The objects of analysis
are Petrarch's letters and Canzoniere. In this diptych dedicated to
the poet, Batkin for the first time uses concepts and methods of
analysis based on the logic of cultural development. This enables him
to go beyond conceptions common for researchers engaged in the
study of ideas, poetic principles, and personality of "the first
humanist." The book offers a new understanding of Petrarch's place
in the history of European culture.
All argument about Petrarch continues to pivot, as in the time
of De Sanctis, around the undeniably obvious literariness,"
artificiality of his works. This is particularly true of Petrarch's rich
epistolary material, which is the gem of his Latin prose and probably of
all his literary heritage (Familiarium rerum libri, his unfinished due
to death Senilium rerum libri and likewise uncompleted letter to
posterity, Posteritati). Petrarch quite deliberately makes his Self the
central point of his work but stylizes it beyond recognition.
Petrarch "as he was in real life", so to speak, can hardly be
discerned through this stylistic drapery. Little is known about the
poet's true biography aside from what he himself allowed us to
know by drawing his all* antica self-portrait. The facts and motives
of his life are surrounded by a thick cloud of secrets and
fabrications.
However, the above impression is counter-balanced by the
poet's sincere and deep human feeling and even spontaneity that
break through his rhetorically polished lines. This is achieved by
the live flexible intonation and the rhythmic and syntactic
structure which emphasize the sincerity of the poet's discourse,
addressed to his friends and his own Self. This accounts for a very
993 —
Summary
personal semantic coloring, which is even more evident in his Latin
prose as compared to his Italian Sonnets. His judgements are
worthy of note, though often they can be reduced to appropriate
quotations and commonplaces, but strangely, for that very reason,
acquire vibrancy and freshness. We are charmed by the sensitive
secular "inner man" despite the fact that his visible specific
characteristics are absent or effaced.
So, the argument between Petrarch researchers tends to form
two poles where the assessments are most extreme: writer or man?
bookishness or vitality and humanism? addiction to style (and even
"fabrication" of declared behavior motives) or sincerity and
authenticity of Petrarch's Self? Accordingly, some researchers (both
Russian and Western) understand the ideas, pronouncements, and
literary skills ofthe first professional writer in the European sense of
the word, leaving no distance between Petrarch's literary activity
and his personality. Yet others (see, for example, Martelli's paper
"Petrarch: Psychology and Style"), on the contrary, point out to
the shocking unbridgeable gap between the author as a real person
and the "rhetorical writer". There is still a third group of scholars
who see in Petrarch solely an author and accept his portrait of
himself as a genuine one, admiring his integrity, wisdom, and nobility of
spirit, thus rejecting the key problem of self-styling on his part..
In the twentieth century Petrarch researchers try to avoid this
anachronistic counterposing. Petrarch's singularity (which thus set
the paradigm for the Renaissance humanism) lies in his "permanent
tendency to identify life with passion for literature" (Fedi); in his
"ability to prescribe to life literature as purpose and supreme goal"
(Sapegno). But it is still unclear by what means of culture logic
Petrarch achieved the paradox of such identification. It is known
that he tried to shape his Self through antique auctores, but what is
his secret of text arrangement, used to achieve the goal? What is
his novel (profoundly personalistic) understanding of authorship as
such?
The first section of the Petrarch part of the book proposes an
answer to the above questions. Analyzing Posteritati, the poet's
most autobiographic and ample work, Batkin comes to the
conclusion that it does not tell us anything definite about the man it
depicts. On the contrary, the work consciously effaces all specific
characteristics and presents the portrait of an average, mediocre
_ 994
Summary
person, not a person of golden mean, but a nobody, "one of your
own crowd." Petrarch pictures himself as a man not connected with
any definite place, time or social environment. He is a poet, auctor,
and as such is absolutely free. Indeed, it does not matter very much
that the proud posture does not quite agree with the prosaic life
circumstances. Petrarch is the first private person in the history of
culture or, to be more precise, the cultural outline of such a person,
who appeared before his historical time. Yet, it is the poet's author-
Self that socially determines his distinction and dignity as a person
and fills his life with meaning. Precisely this circumstance makes
him ever more zealous in negating or smoothing over the slightest
trace of any other definiteness or fixity.
This thought-out approach greatly contrasts with the
spontaneous creative inspiration experienced by Petrarch in Parma when
he completed his AfncaJBut we would look in vain for a key that
could reveal for us the details of the very process of writing.
This key, however, is provided by the main body of Petrarch's
letters. As is known, the poet discovered Cicero's Letters to Attic in
Verona in 1345. Petrarch artfully imitated their spontaneous,
improvisatory style with its roughness and "homeliness" not
intended for reading by a stranger, which, however, in no way
prevented him from polishing the style of his letters during all his life.
Batkin analyzes the specific methods, paradoxes and results of
this kind of stylizing which gave Petrarch's letters an extremely
personalized form of ceaseless self-reflection. The poet thus creates
a very specific Self in which there is no borderline between life and
literature. He emerges from within his text not only as the usual
narrative Self, but also as the Self on the eve of text. It seems as if
Petrarch easily breaks through his letters into the exterior reality
and as easily returns back. For him coincidence of life and
authorship is not something given once and forever but a constantly
revived effort. Petrarch takes the material for molding his author-
Self from his own life and from books. Both components are
merged, mixed, and molded into the "portrait of my soul and
reflection of my frame of mind," and become the true Petrarch.
It would be unproductive to see his poetic Ego-centrism as
something artificial and not genuinely personal. Petrarch was
original and unique in his unceasing effort to write and live as if he
belonged to antiquity. The result of this effort was the emergence of
995 —
Summary
a new meaningful historical Self in cultural environment. The book
analyzes in detail the technology of the process.
The author brings to light considerable tensions and twists in
Petrarch's consciousness traditionally viewed as psychologically
"comfortable." This was the price he had to pay for his
unprecedented "life-building" effort to make "what happened" pass for
"what should have happened."
In order to be able to create himself, Petrarch had to develop to
the extreme the formal aspect of his authorship, to produce author-
Self in its purest form, i.e. to fully dissolve in it the natural and
singular person he was. This is, probably, the most important
conclusion drawn in this volume. Petrarch's style became the man himself,
the image of his Self. His stylizing manner was unsurpassed and
henceforward could only be imitated, which was commonly done in
consequent periods up to the seventeenth century. Petrarch
invented the Author-for-himself paradigm and obviously merged this role
with his singular fate. Such a man could appear in history only
once.
* * *
In the second section of the part on Petrarch Batkin analyzes
the poet's love lyrics. The aim is to prove that Petrarch's
self-realization as an author gave an impulse to the emergence of what later
became known as individualistic ego. Batkin believes that the
history of culture became noticeably richer if only due to Petrarch's
endeavour to write a book of lyric poems which is held together not
by a plot (which, in fact, is practically absent, with the exception of
the first meeting with Laura and her death) and not by the love
sentiment (this collection is in essence selected poetry in volgare
including verses on occasion, on political and other matters), but by
a single subject and composition. And it does not matter whether
Petrarch succeeded in achieving this unity, if we judge his attempt
by traditional criteria used in literary studies. What matters is his
reflective aspirations openly and repeatedly introduced in his text.
Similarly important is the fact that the poet declares a change in his
style, especially after the death of his beloved, and provides proof of
this change. Actually, he is very thorough and consistent in
preserving the uniformity of his linguistic style in Canzoniere. Batkin
_ 996
Summary
draws our attention to the "verses about verses", as distinct from
his love lyrics proper written in the tradition of the "new sweet
style," renovated by Petrarch. The genuine and overt pivot that
holds together Rerum vulgarium fragmenta is the poet's author-
Self.
The Canzoniere's two main motifs find reflection and
intertwine in the meaningful twinship Laura - lauro, which in Batkin's
opinion, expresses not so much the poet's love for Laura and
craving for poetic glory, but a much deeper passion: the poet is
overwhelmingly captured by the very love sentiment and by the very
process of writing. Mediated by the lauro, Petrarch's love for Laura
expresses his love for Rome. Classic Latin poetry now and then
transpires through Petrarch's lines. His lover-Self and author-Self
are interrelated in such a manner that the common opinion that
verses are born out of love becomes its reverse. Versewriting
becomes the true reality for the poet, and though he praises Laura
because he is in love with her, the fire of his love is to a great degree
kept up by his writing about it.
There are more than one introduction to Canzoniere in which
Petrarch explains and extols his book's conception. He discusses its
"mixed" genre and even has the courage to lift Italian poetry up the
hierarchical ladder and place himself as an author at the same level
with Homer and Virgil. Addressing his readers, he is anxious to
justify himself for ending the book despite his undying love for Laura.
Precisely the poet's ever present reflection constitutes the
framework of the book and adds weight to the author-Self which
together with love forms the twin focus of the book. The literary nature of
Laura's image does not make her existence a mere fiction and the
poet's love for her - a mere play of fantasy. Imagination is not only
inseparable from Petrarch as a real living person but in many ways
contributes to forming his Self.
• * *
Italian Renaissance writers ushered in the idea of autonomous
personality and actively looked for new cultural grounds needed by
the Self to realize its potential. Some most important and novel
aspects of this process are discussed in the third part of the book.
The first chapter deals with the Renaissance paradoxical views of
»7_
Summary
literary imitation of ancient authors from Petrarch to Poliziano,
Pico della Mirandola and Firenzuola, as well as of the changing
function of rhetorical tradition in every new historical context. In
our case, the subject under discussion is the literary culture of
humanists, who interpret imitatio as invermo and vice versa. Two
principles interact and come into opposition in this culture, though
one becomes meaningless without the other. The Renaissance
writer cannot think of himself as such without imitating ancient
writers, but this in no way excludes creativity and self-assertion.
These two principles seem incompatible, but it was vital to combine
them. Already Petrarch tried to solve this contradiction through
the idea of inimitable imitation, the way the son looks like his
father but at the same time differs from him. The traditional ideal of
returning to the origins made its final appearance resulting in its
own complete denial. The principle of imitation was ousted by that
of stylisation first discovered by the Italian Renaissance.
The problem is further discussed in the second chapter and
illustrated by the works of Lorenzo the Magnificent, and in
particular by his little known and incomplete treatise, Commentary on
Some Love Sonnets. Batkin detects a very important
methodological message in the epigraph to a chapter from one of Yuri Tynianov's
studies: "Literary evolution happens not only trough the invent of
new forms, but mainly, us of old forms in a new function."This is
fully applicable to the rhetorical tradition, which does not remain
identical to itself even with the ancient writers. Batkin disagrees
with Sergey Averintsev's assertion that tradition continues to play
the same unchanged role in the humanistic context. It cannot be
denied that rhetorical devices still preserve their formalistic rigidity
and more often than not are directly borrowed from the ancient
literature, but the Renaissance Self is no longer an element of rhetoric;
on the contrary, this unknown Self wilfully dallies with rhetoric
making it a part of itself. This humanist approach to rhetoric,
originating from the striving for self-expression and desire to understand
one's mission as a writer, is illustrated by the Commentary of
Lorenzo the Magnificent or his Fowling Partridge, and by
Poliziano's StMlBKi пг Orpheus. Batkin shows how their creative
will makes itself evident in the composition and style. Besides, he
draws a parallel between the concept of Self in refined poetry in vol·
gare and the assertion of Self in Velluti's "domestic chronicles."
_ m
Summary
The third chapter deals with the notion of variety (varietà) as
it is worded by Lorenzo the Magnificent in his treatise and
presenting the most fundamental and even philosophical explanation of the
budding idea of individuality. Considerable attention is paid to
Castiglione's attempt to develop the concept of individual style.
This chapter is a kind of bridge between the present volume and
another fundamental monograph by the same author entitled
Leonardo da Vinci and the Characteristic Features of the
Renaissance Creative Thinking,
Renaissance views the individual as one of a variety of human
beings. He is specific, distinctive, and, concequently, incomplete,
while the generic person is seen as the sum-total of different,
diverse people. On the other hand individual is homo universale. He
is supposed to be the ideal Universal Man, at least in his aspiration,
in his supreme goal. This explains the Renaissance tendency to
deify man.The individual exists exclusively as his own potential,
and its realization demands of him immense efforts, the renowned
virtu.
Mutual superposition of two such divergent notions as
"variety" and "universality" forced abstract thinking to work in a
specific historical situation which constitutes the basic logical paradox of
this type of culture. That is why individuality and personality exist
so far in the quality of pre-notions when they reciprocate in
argument but are not yet aware of themselves as of given, the
prerequisite. This cultural and logic paradigm quite strongly reminds one of
itself in the political philosophy of Niccolo Machiavelli, especially
whem he tries to apply it to practical social activity. The concept of
man shaped by the Italian Renaissance obviously comes to its crisis.
* · ·
The last statement constitutes the subject of the fourth part. Its
first section is dedicated to the analysis of the concept of the
individual as it is formulated in Machiavelli's letters, particularly to
Francesco Vettori. Batkin finds a very meaningful phrase in
Machiavelli's characteristic of Lorenzo Medici: "Watching his life
now flippant, now preoccupied with duties and cares, one could
think that two different natures combine in him in a most
inconceivable manner. The same observation is made in another letter where
999 —
Summary
Machiavelli contraposes la vita grave e voluttiosa as applied to
himself and Vettori. He postulates his idea of individuality as variety in
a developed syllogistic form in still another letter to Vettori of
December 15,1514.
Elaborating his idea of individuality, Machiavelli takes as an
example his own behavior during his exile in San Casciano. He
shows how most contrasting low and noble qualities can combine in
the soul and behavior of one man, who is guided by his whims and
calculations which in turn dictate contrary thoughts and deeds.
Man becomes a surprise for himself because of unexpectedness of
his decisions. It is unfathomable how he, the "universal" man,
makes his most desired individual choice from a variety of attitudes
offered by life at a given moment. "Each man makes use of himself
according to his innate qualities and imagination." This is the
cornerstone theoretical postulate of Machiavelli's political philosophy
as a whole.
The second, conclusive, section contains the author's new and
original interpretation of an overt cultural and logic collision that
can be discerned in II Principe. To support his ideas the author
draws a retrospective comparison, even if a cursory one, with the
seventeenth-century culture (Hamlet. Don Qujjote). The "wise
sovereign" is always obliged to behave rightly to be adequate to the
given historical moment, to the variable "qualities of time." The
ideal politician is able "to be what he wants to be," this being his
inner variety. This universality makes him a monster possessing all
possible virtues and vices, and in order to reach the set goal he
plays upon himself as on a multi-key flute. On the other hand, since
individuals vary among themselves, each man chooses his own mode
of behavior (il modo del procedere) and "there is no wise enough
man to adapt himself to this (i.e. "the qualities of time") because it
is impossible to force one's natural inclinations and developed
habits." The qualities of the given man encounter the qualities of
the given time and his final success or defeat depend on whether
these qualities come into harmony or clash.
Thus Machiavelli tries to dovetail the two principles of
behavior for the sovereign, who wants to be unfailingly successful despite
the limited nature of human universality as applied to any living
individual. Machiavelli does more than merely discuss "the true
essence of things," regardless of any moral considerations, when
_ 1000
Swittnojy
practical political actions are needed, he constructs an inner
framework of the acting subject. This construct of Machiavelli's is the
most important cultural moment, though it is unfairly
overshadowed by his horrible and bitter "examples" and "advice" to the
sovereign, Machiavelli is fully aware of the fact that the "ideal"
individual fitting into all possible circumstances is only a scheme built
on the sum-total of historical experience.
Nevertheless, when a free man is compelled by exterior forces to
take some social action, he cannot ignore this test. It gives origin to
such tragic and tragicomical conflicts which inspired Shakespeare
and Cervantes.
* * *
The Postscript treats the correlation between historical forms
of a person's self-understanding and individualism of the Modernity
up to the present day. The author centers his argument around the
new genre of autobiographic writing, beginning with Rousseau,
which serves for the writer as a means to understand and express
his Self, no matter how high the price for such an attempt may be.
Batkin highly estimates the culture of "sublime individualism" and
interprets it as stoic solitude of the individual vis-a-vis death, as full
responsibility for his destiny, for the values he upholds, and for the
world he is building.
LIST OF MAIN PUBLICATIONS
0) Die italienische Renaissance. Versuch einer Characterisiening eines
Kulturtyps. Strömfeld/Roter Stern, Basel-Frankfurt/M., 1981.
(2) Leonardo da Vinci. Laterza. Bah. 1988.
(3) Gli umanisti italiani. Stile di vita e di pensiero. Laterza, Bari, 1990.
W Leonardo da Vinci i osobennosti renessansnogo tvorcheskogo myshliniya
Moscow, 1990.
(5) L'idea dell'individualitü nel Rinascimento italiano. Laterza, Bari, 1992.
(°) Pristrastiya. Izbrannye esse i statyi о kulture. Moscow, 1994.
Italyanskoye vozrozhdeniye: Problemy i Iyndi. Moscow, 1994.
Tridtsat tretya bukva. Zametki chitatelya na polyakh stikhov losifa
Brodskogo. Moscow, 1997.
ι
— ж
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
Часть первая
"НЕ МЕЧТАЙТЕ О СЕБЕ"
О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ "Я"
В "ИСПОВЕДИ" БЛ. АВГУСТИНА
От покаяния к теологии творения: логика целого - с. 62. Как отчитаться о
младенчестве? - с. 68. "Всё, что я есмь, рассеяно и бесформенно" - с 71. Ночной набег
на соседский сад - с 74. Не "ты" - но "Ты, Господи!" - с 80. Для чего была
написана "Исповедь" - с. 82. Трудность истолкования религиозного как
культурного у М.М. Бахтина - с. 86. "Mens singula": индивидуальна ли свобода воли - с 91.
Послания апостола Павла. О персонализме и Божьем суде - с 107. "Троянский
конь" мистики? - с. 114. Попытка самовозражения - с. 121. И все-таки... - с 131.
РАДИ ЧЕГО АБЕЛЯР НАПИСАЛ АВТОБИОГРАФИЮ
137
ПИСЬМА ЭЛОИЗЫ К АБЕЛЯРУ. ЛИЧНОЕ ЧУВСТВО И МАТРИЦЫ
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
183
Часть вторая
ПЕТРАРКА НА ОСТРИЕ
СОБСТВЕННОГО ПЕРА
АВТОРСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ В ПИСЬМАХ ПОЭТА
Однажды, близ Пармы - с. 240. "По обыкновению Цицерона" - с. 268. Привычка
постукивать пером - с. 298. "Не то, чему следовало нрои.юйти, а то, что произош·
1003 _
ло". Хлопоты в Авиньоне - с 305. Прерванное письмо и отплывающий корабль -
с. 352. Жить значит сочинять - с. 363. Ум Петрарки и безумие Дон Кихота - с. 375.
СОЧИНЯТЬ И ЛЮБИТЬ.
ОБ АВТОРСКОМ ЕДИНСТВЕ КНИГИ СТИХОВ К ЛАУРЕ
Исходные соображения. "Перо и плач" - с 411. Из истории создания "Книги
песен" - с. 439. О приемах построения "Книги песен" через авторскую
рефлексию. От вступления к началу второй части - с. 457. Стихи о
стихах - с. 484. Любовь к Лауре - реальная или вымышленная? - с. 522.
Как закончить рассказ о бесконечной любви - с. 576.
Часть третья
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА
И ПОИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
СТРАННОСТИ РЕНЕССАНСНОЙ ИДЕИ "ПОДРАЖАНИЯ" ДРЕВНИМ
Письмо Петрарки к Боккаччо - с. 615. "Изобретение" через "подражание" - с. 624.
Открытие принципа стилизации - с 631. Фиренцуола о самоценности новизны -
с. 637.
РИТОРИКА И ТВОРЧЕСКАЯ ВОЛЯ
Гуманисты и риторика - с 642. Об исторических изменениях и риторической
традиции - с 648. Установка на самовыражение - с. 653. Осгранение риторического
приема - с. 661. Поэтические переодевания на античный лад - с 670. Зарисовки
с натуры хрониста Веллути - с. 675. Художественные опыты Полициано - с 682.
ТРАКТАТ ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕПНОГО.
НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ПОНЯТИЮ ЛИЧНОСТИ
Облик Лорснцо Великолепного - с. 689. О самосознании индивида - с. 695.
Мотив "разнообразия" - с. 702. Трудность индивидуации - с. 714. На пути к понятию
личности - с. 718. Кастильоне и Цицерон: ренессансное понимание
индивидуального творческого начала - с 723.
Часть четвертая
МАКЬЯВЕЛЛИ И ПАРАДОКСЫ ИЯИ
НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ПОНЯТИЕ ОБ ИНДИВИДЕ ПО ПЕРЕПИСКЕ НИККОЛО МАКЬЯВЕЛЛИ
С ФРАНЧЕСКО ВЕТТОРИ И ДРУГИМИ
741
"ГОСУДАРЬ" МАКЬЯВЕЛЛИ В КОНТЕКСТЕ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ
ИДЕИ ЛИЧНОСТИ
807
Постановка проблемы - с 807. Два понимания индивидности - с. 820. Чезаре
Борджа: чудовище универсальности. - с. 827. ...И простой злодей Агафокл -
_ 1004
с. 834. От Пико делла Мирандолы к Макьявелли - с. 838. Должен ли Сципион
подражать Киру - с. 841. Казаться - то же, что и быть - с. 845. Кентавр - с. 850.
Предположения о логико-культурных следствиях - с. 856 . О понятии личности
с исторической точки зрения - с. 865. Личность как поступок - с. 882.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 889
POST SCRIPTUM 893
ПРИМЕЧАНИЯ 904
SUMMARY 988
List of main publications 1002
Баткин Л.М.
Б 28 Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-
исторических основаниях и пределах личного самосознания.
М.: Российск. гос. гумат. ун-т, 2000 1005 с.
ISBN 5-7281-0405-3
В книге завершен и объединен в целое, определяемое хронологической
последовательностью и сквозной теоретической и методологической задачей, цикл
работ, начатый еще в книге "Итальянское Возрождение в поисках
индивидуальности" (1989). Содержание книги - по самым высоким точкам культуры -
охватывает античную христианскую патристику, французское средневековье XII в.,
возникновение гуманистического самосознания в XIV в. и его кризис в начале века· XVI.
Среди разделов книги: "Макьявелли: индивидуальность и проблема
социального действия", «Блаж. Августин: "Не мечтайте о себе"», "Абеляр и Элоиза: личное
чувство и матрицы эпохального умонастроения", «Любить и сочинять: Два "Я" в
лирике Петрарки» и др.
Для историков, культурологов и широкого круга читателей.
Научное издан ие
БАТКИН
Леонид Михайлович
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЧЕЛОВЕК
НАЕДИНЕ С СОБОЙ
Очерки
о культурно-исторических
основаниях и пределах
личного сомосознания
Редакторы
О. Б. Константинова
Е.П. Шумилова
Художник
В. В. Сурков
Корректоры
Т.М. Козлова
Н.П. Гаврикова
Технический редактор
Г. П. Каренина
Компьютерная верстка
H.H. Аксенова
Компьютерная графика
Е. Спиридонова
Техническое обеспечение
О. Кормышев
ниш!
нтарныи
юитет