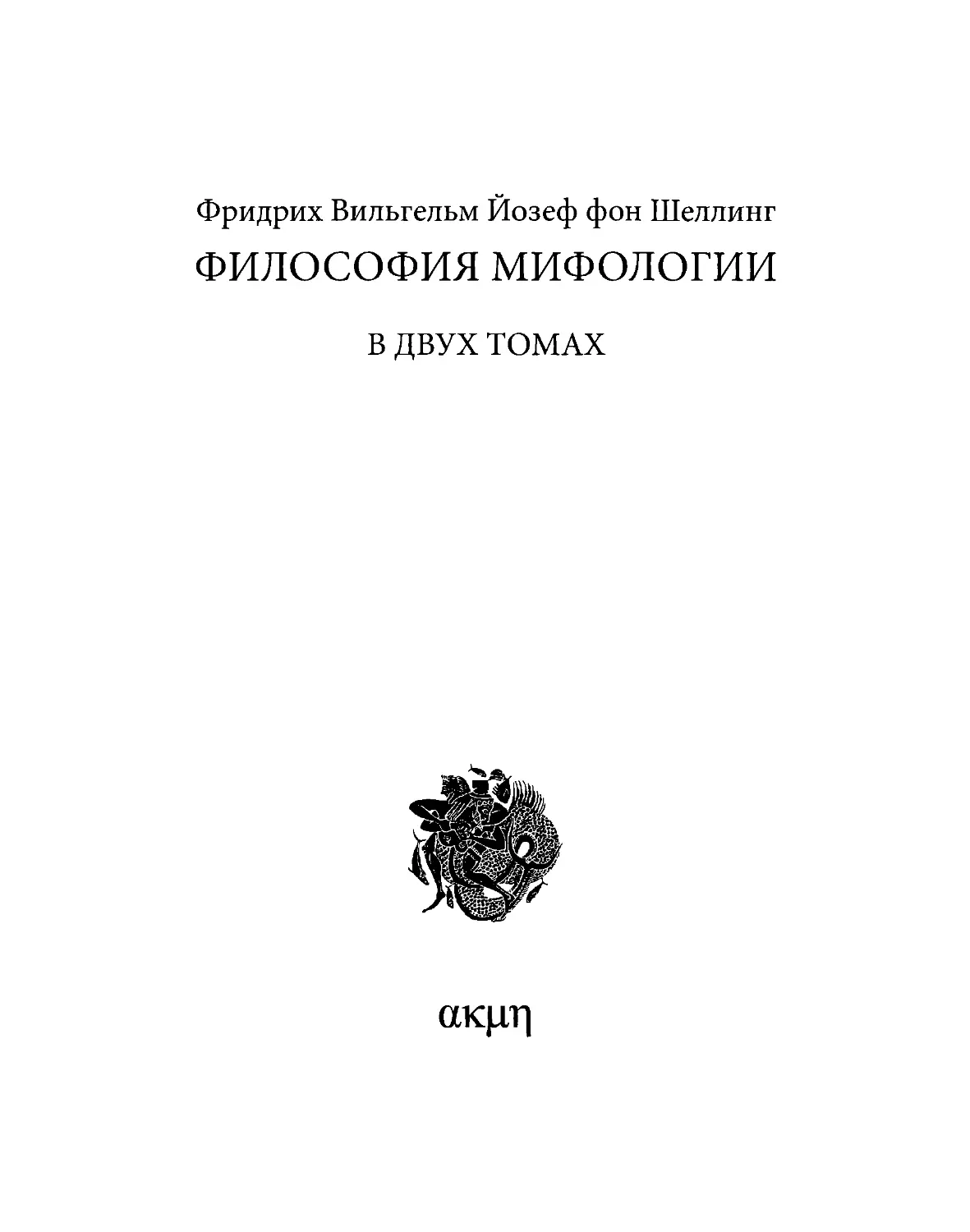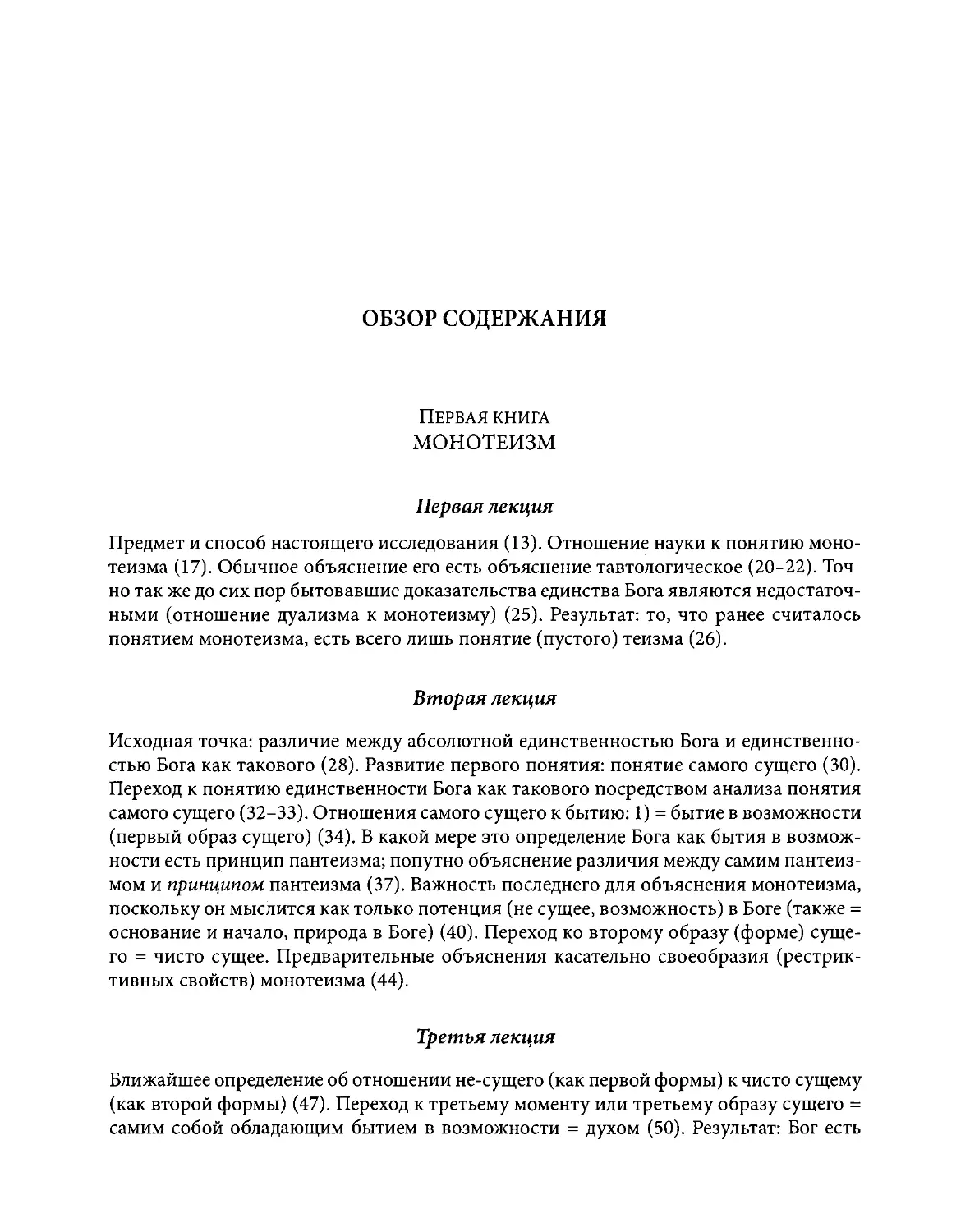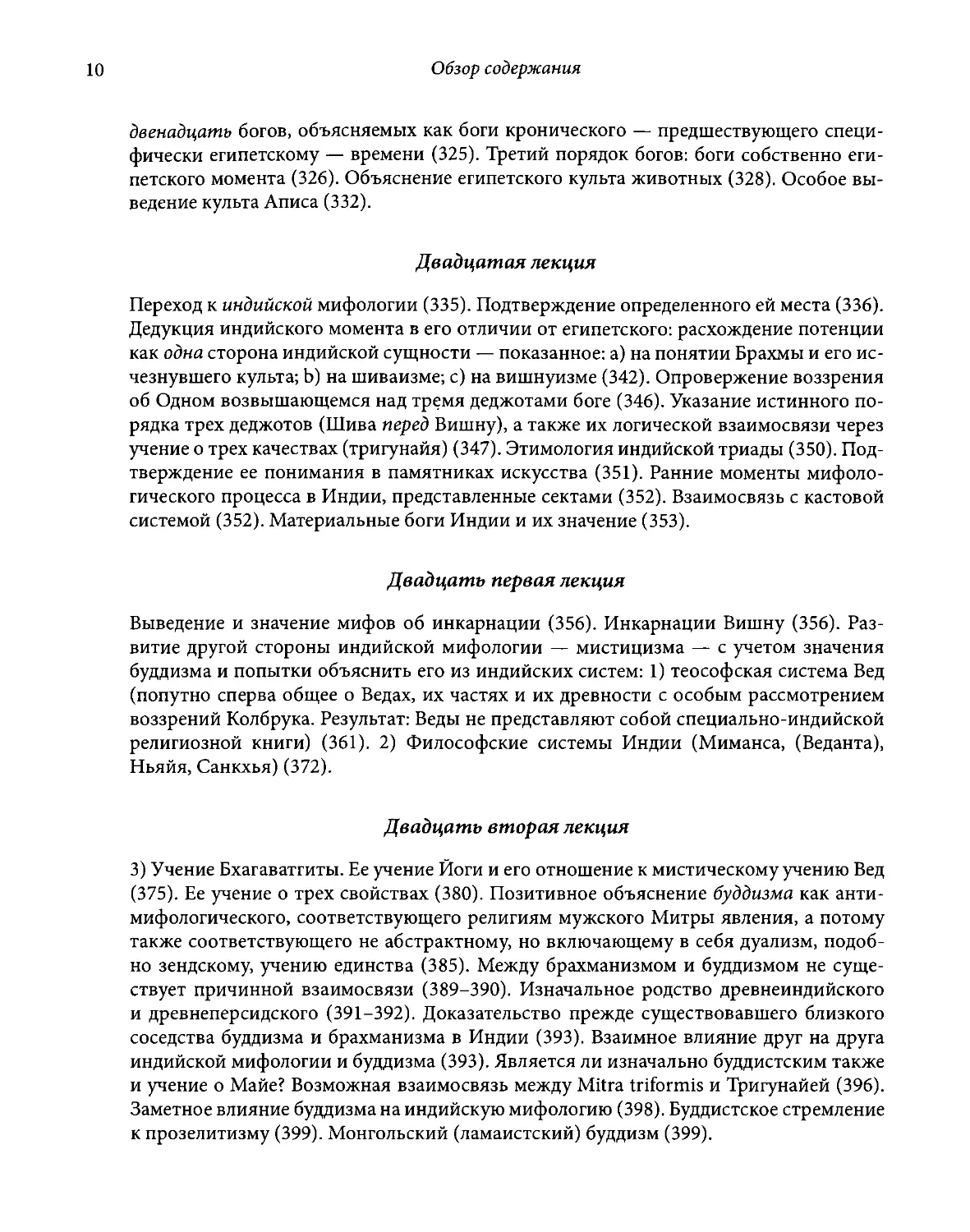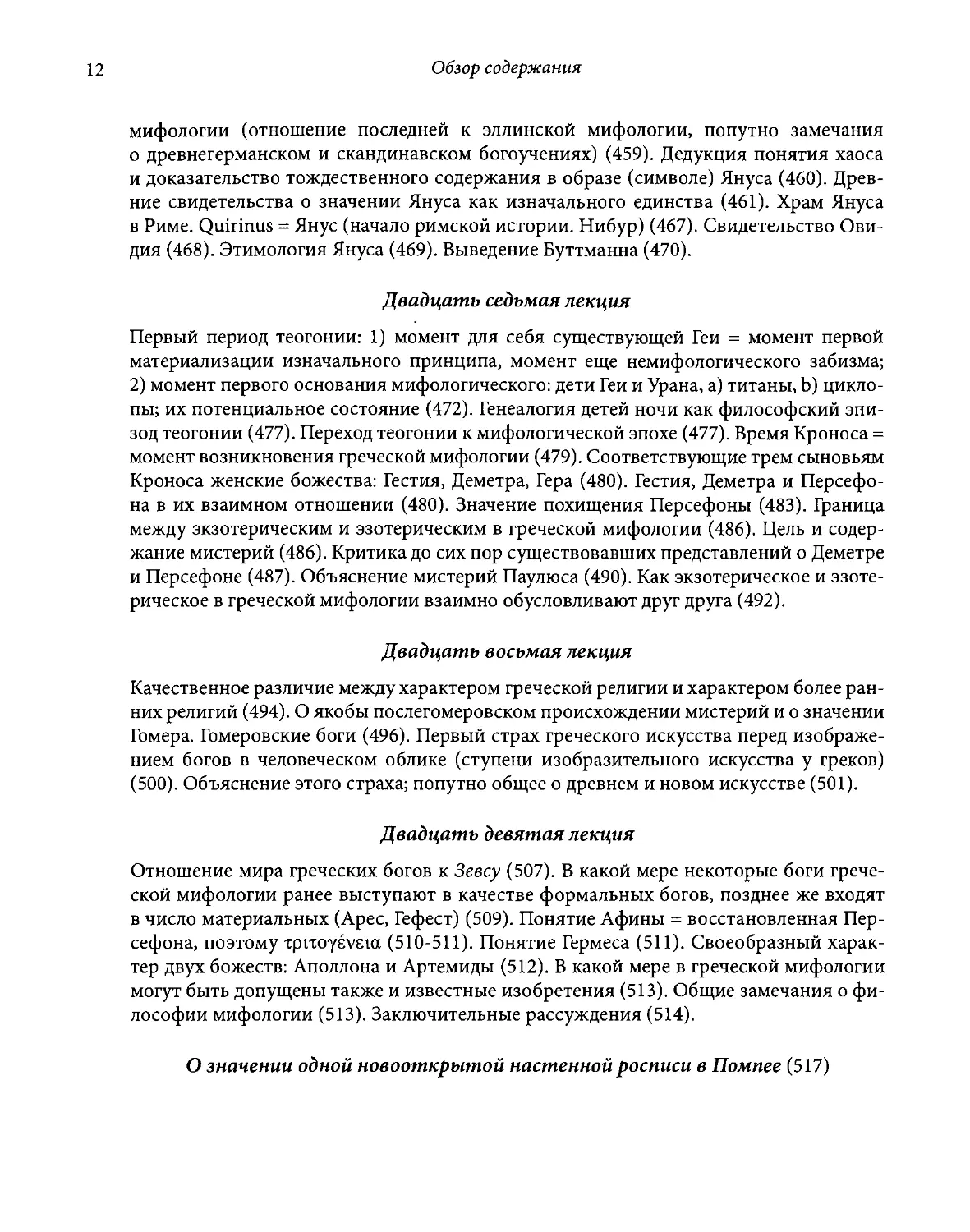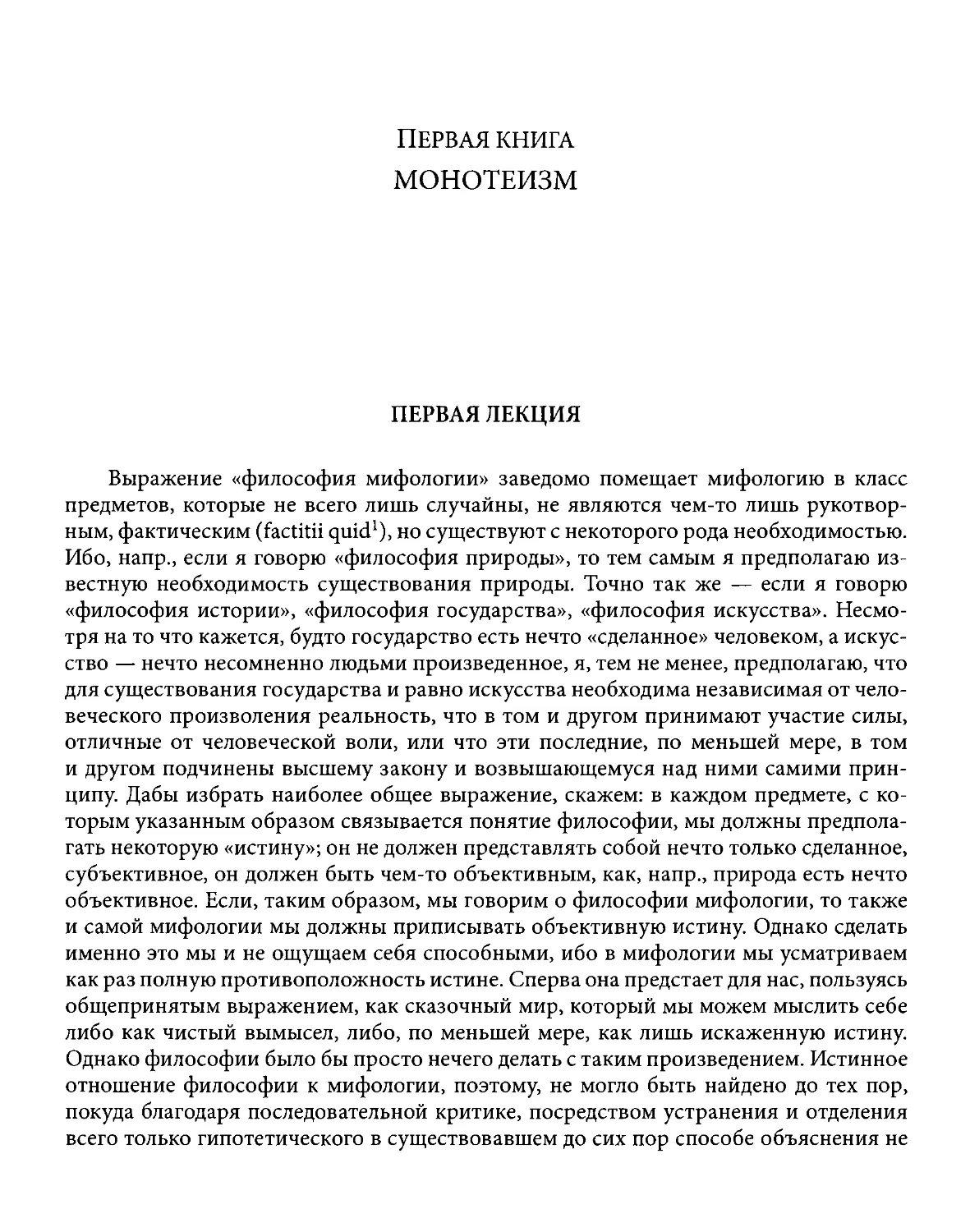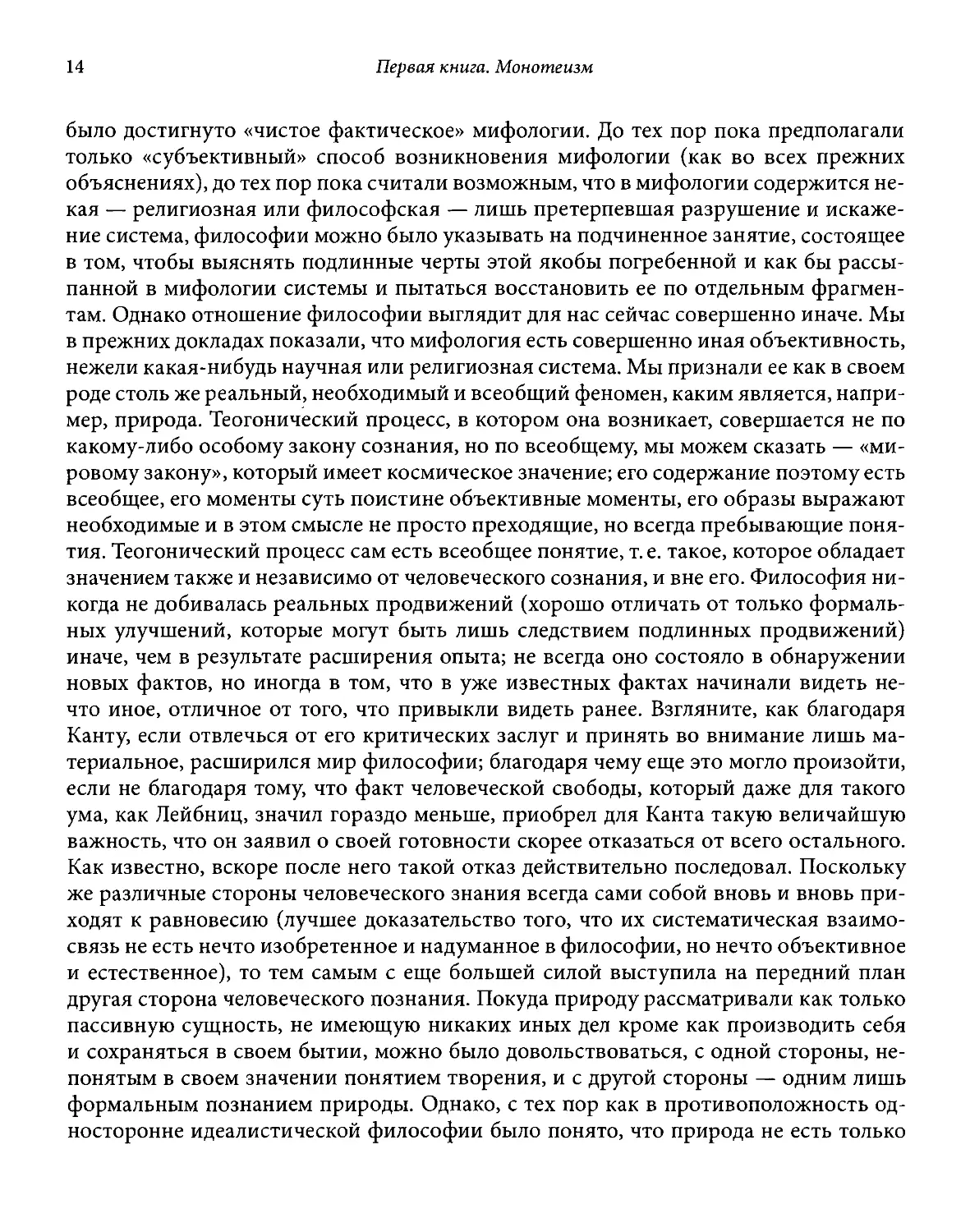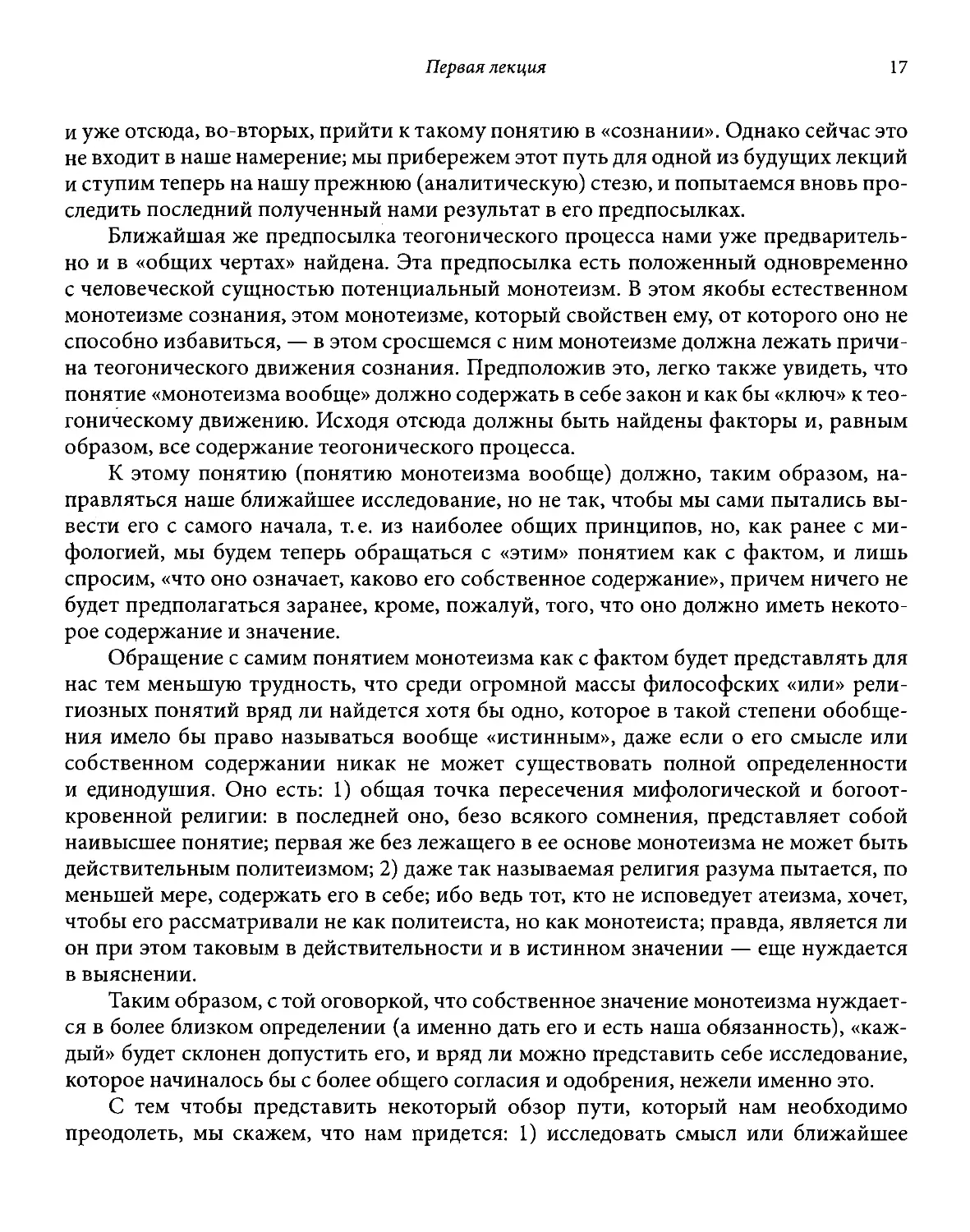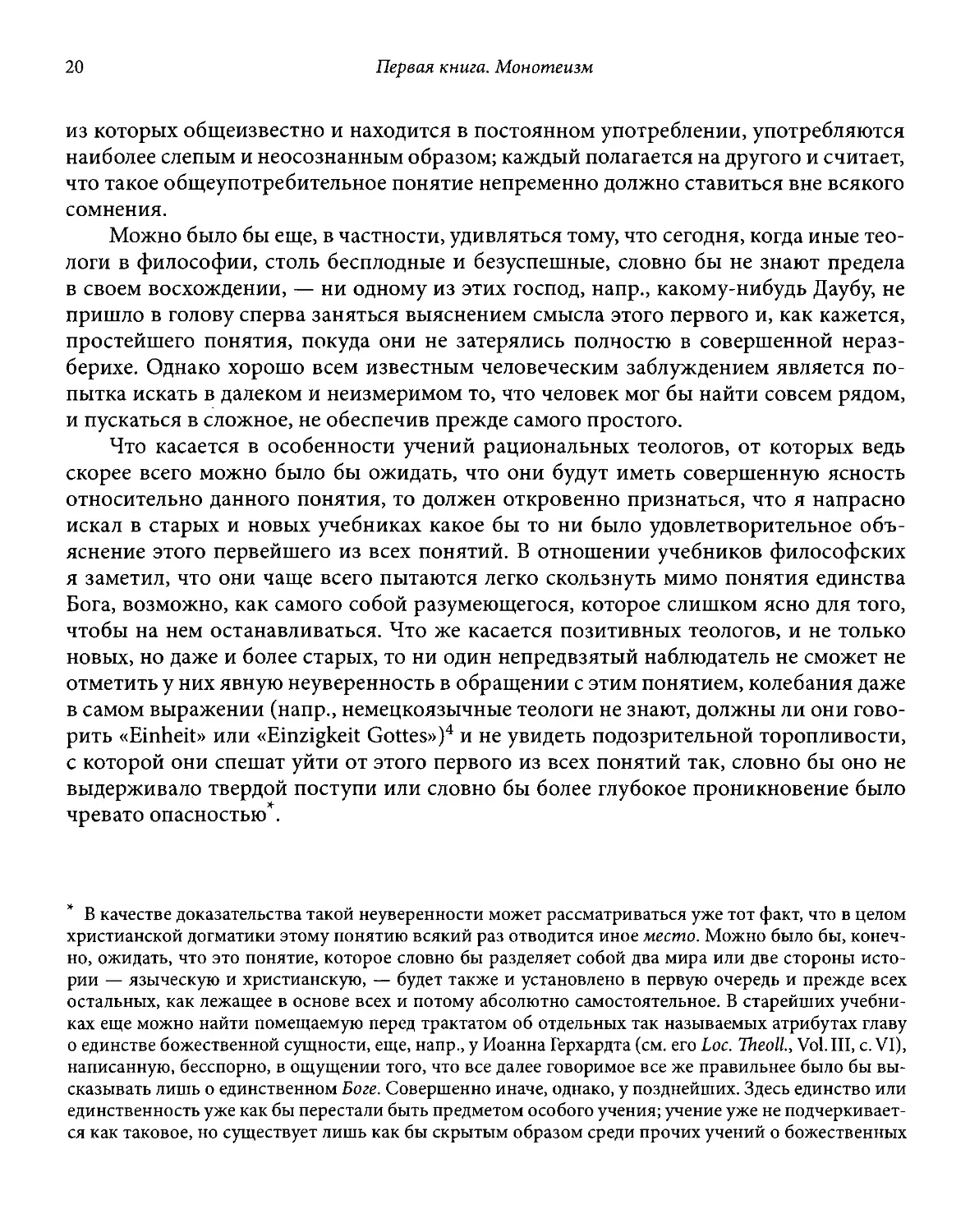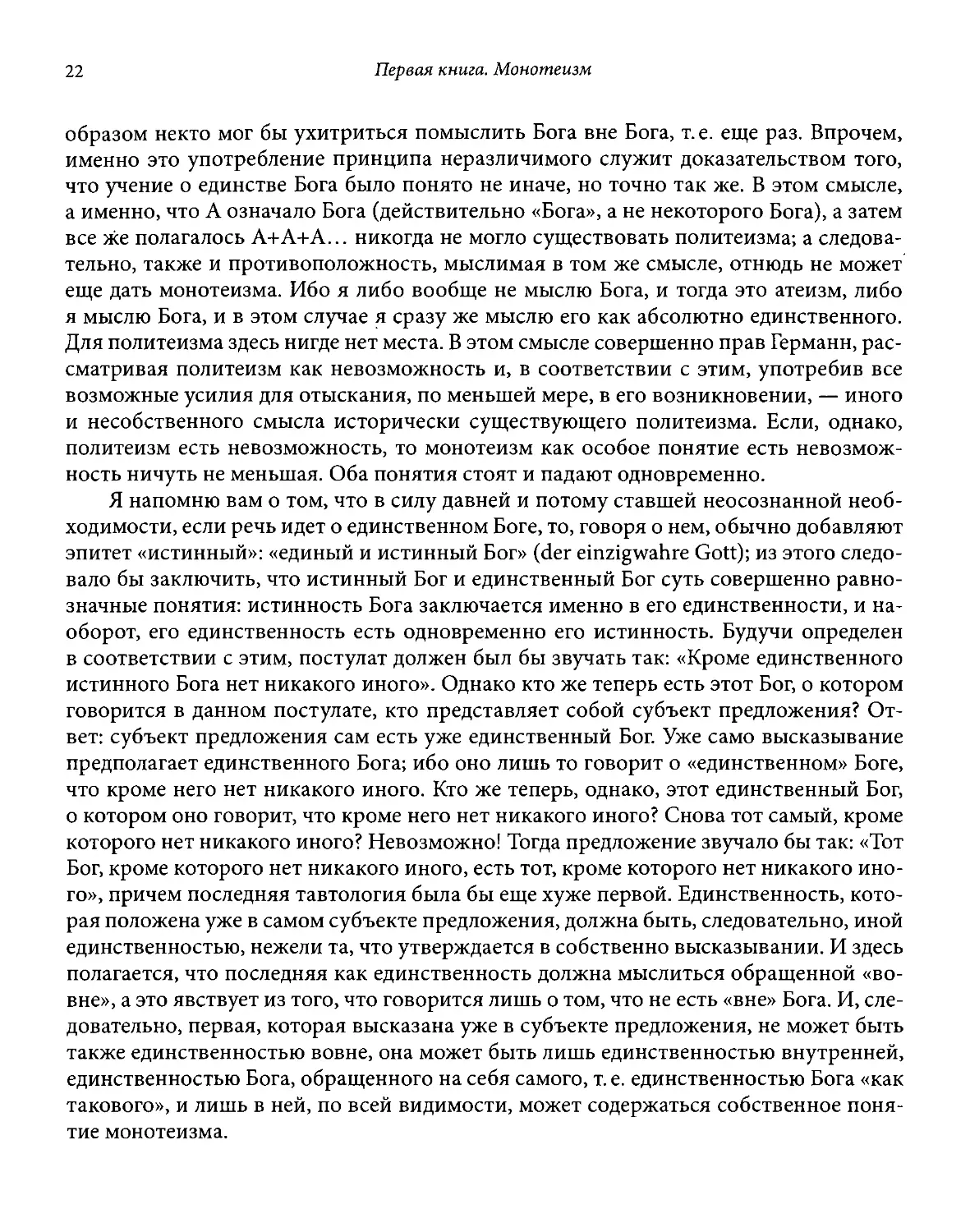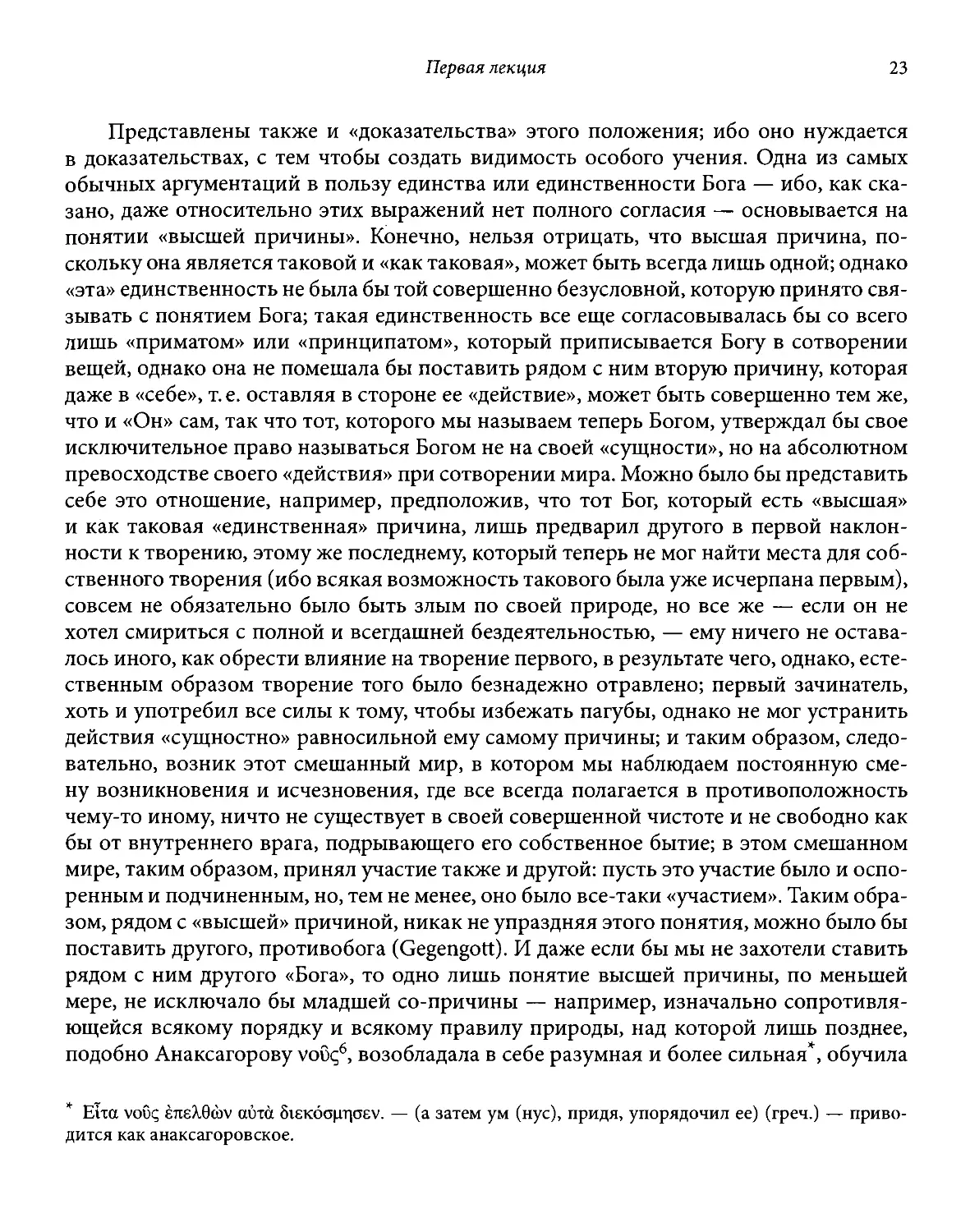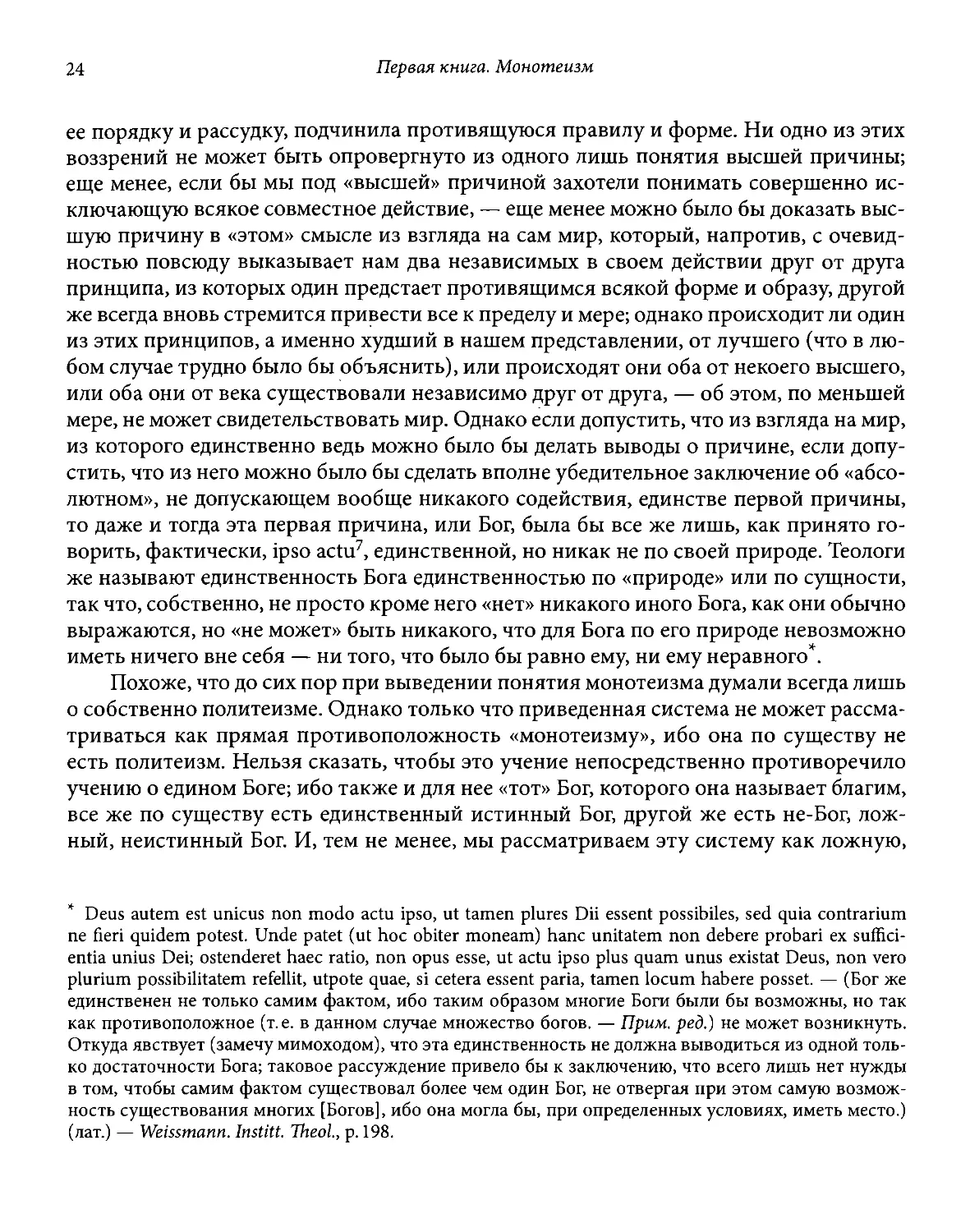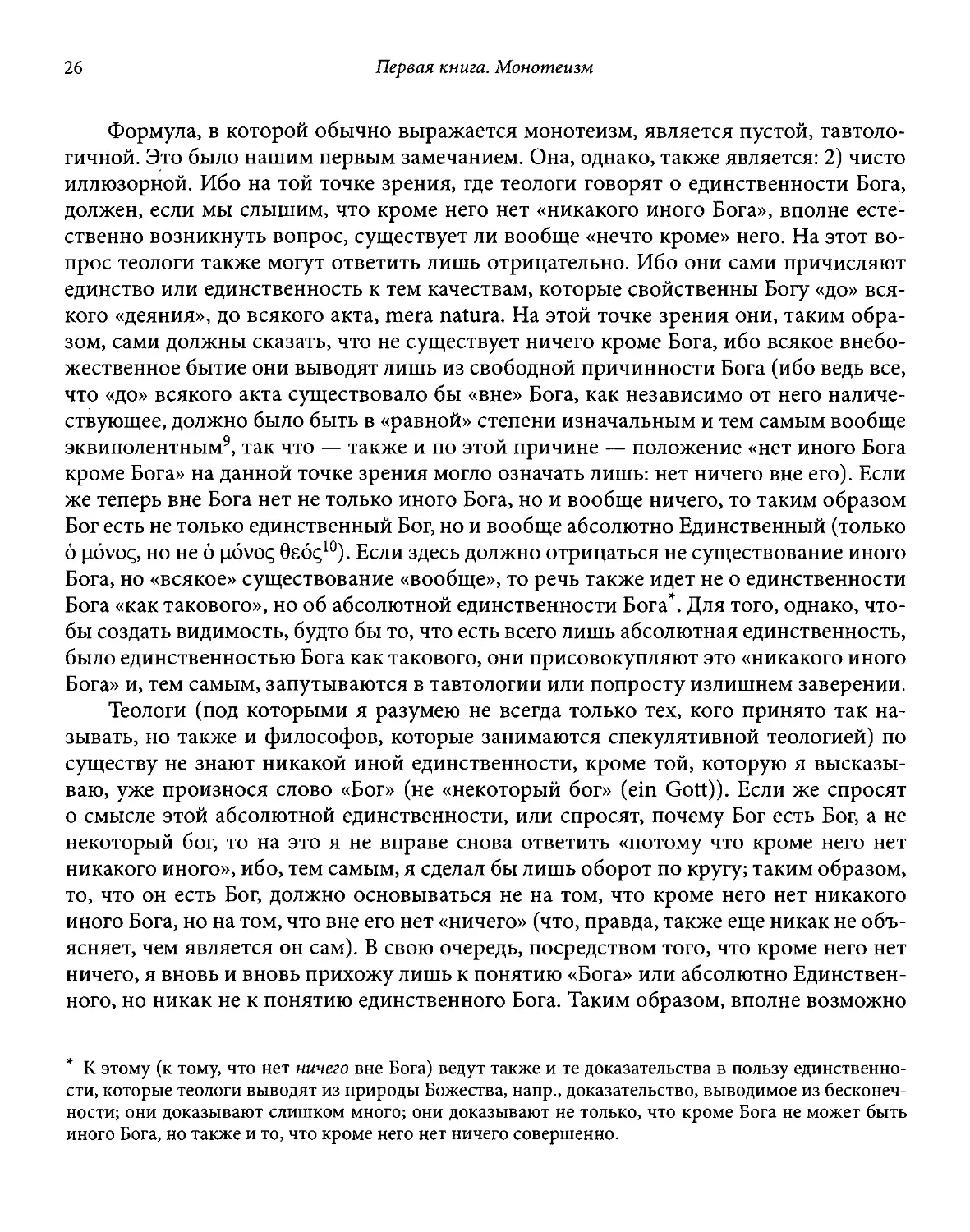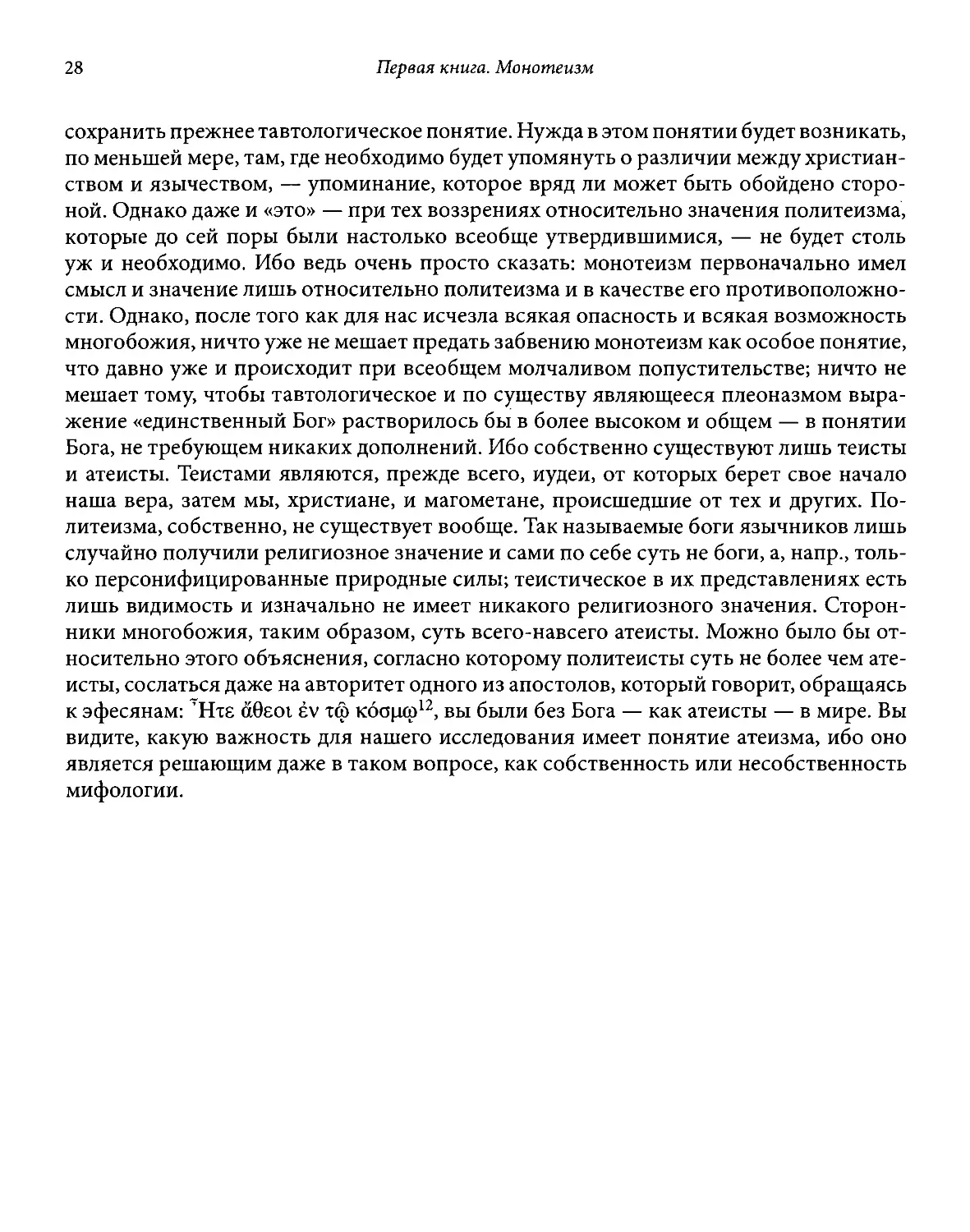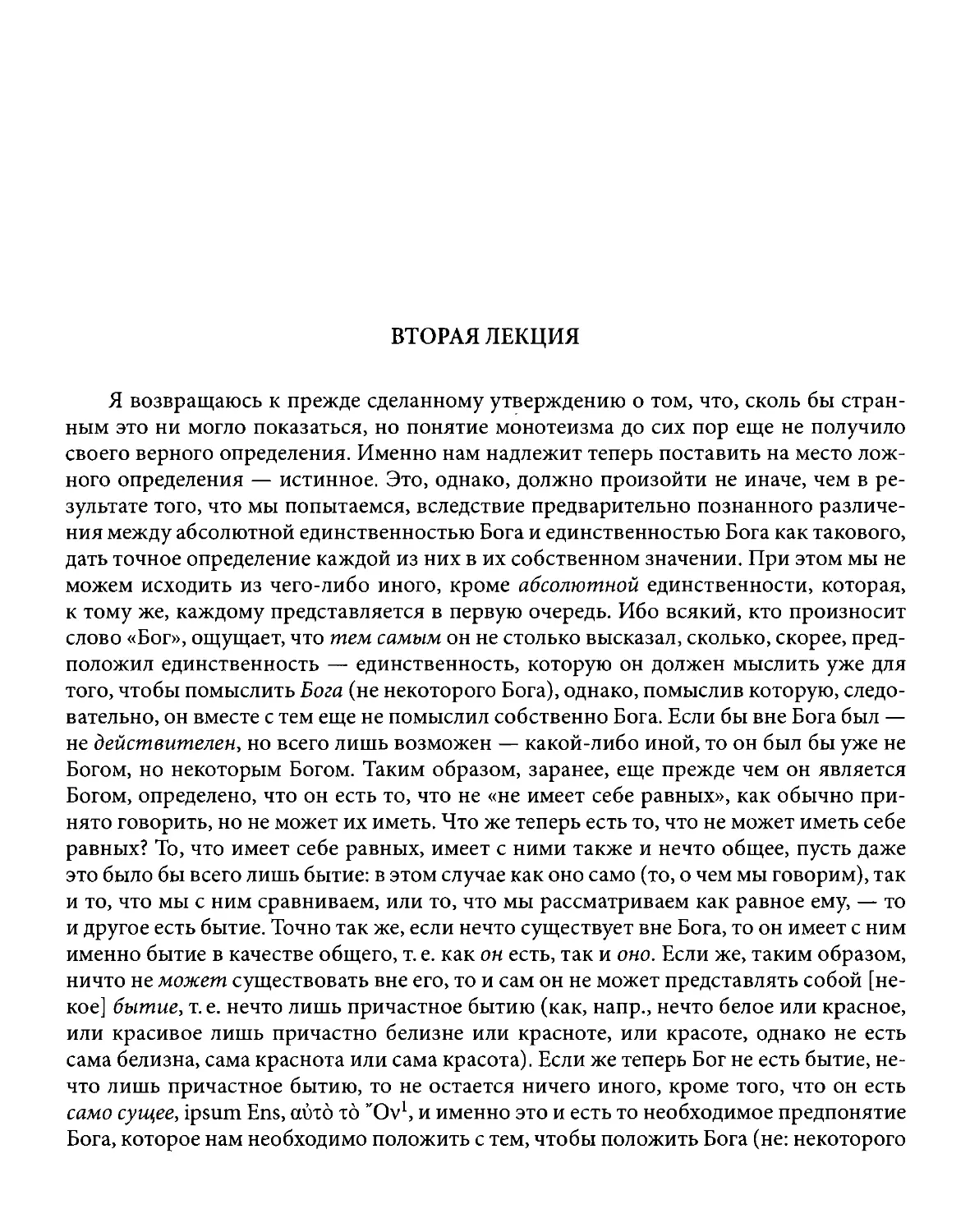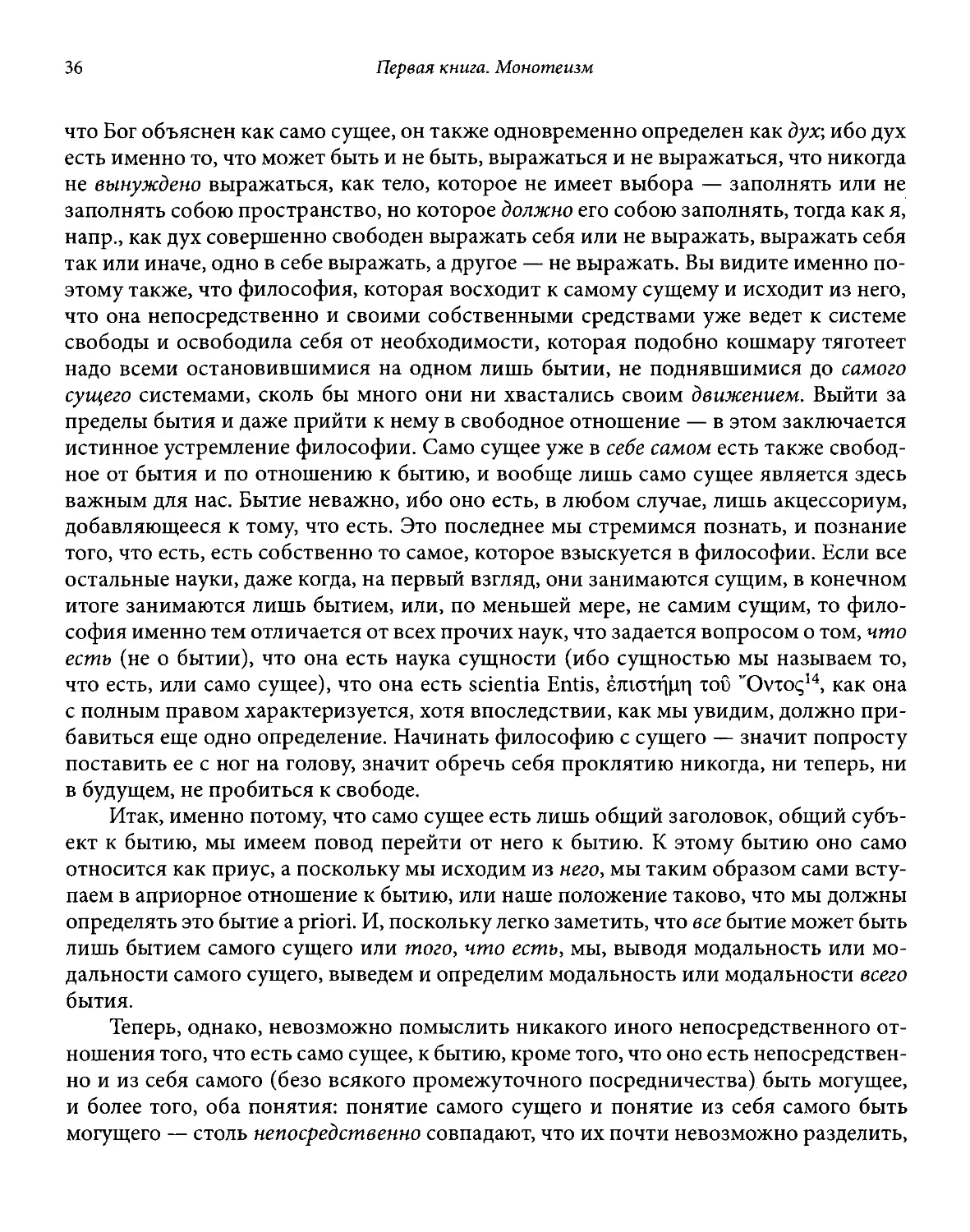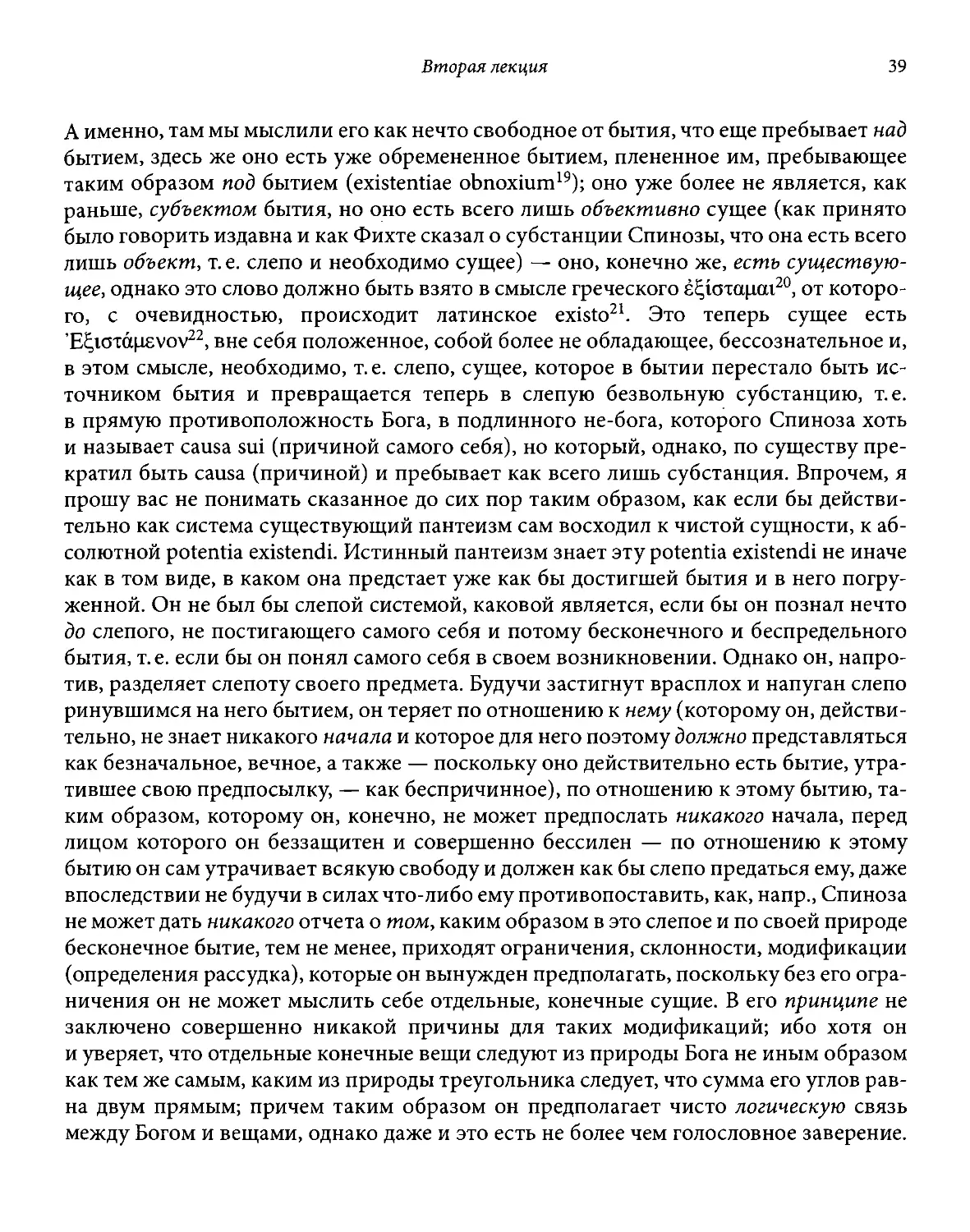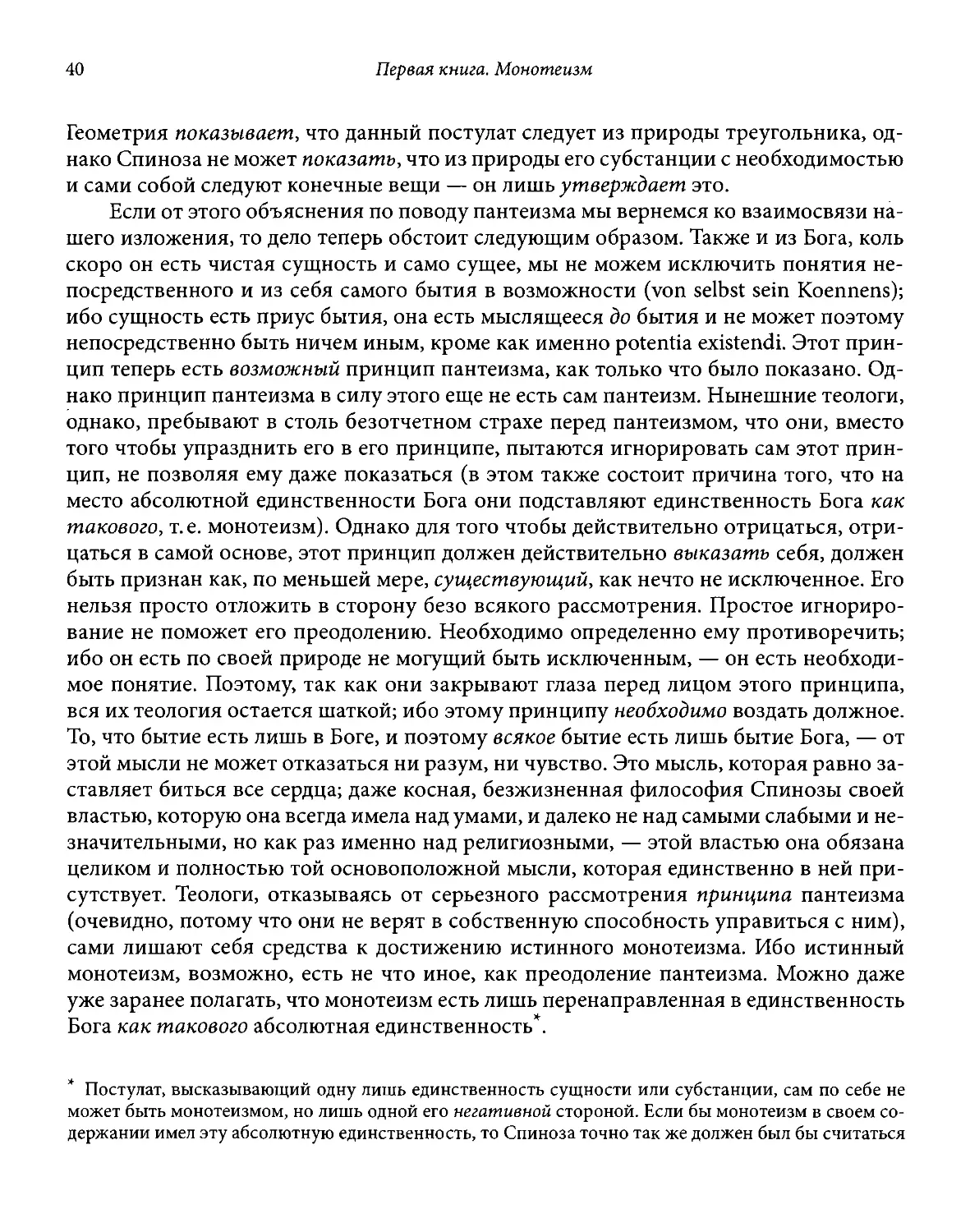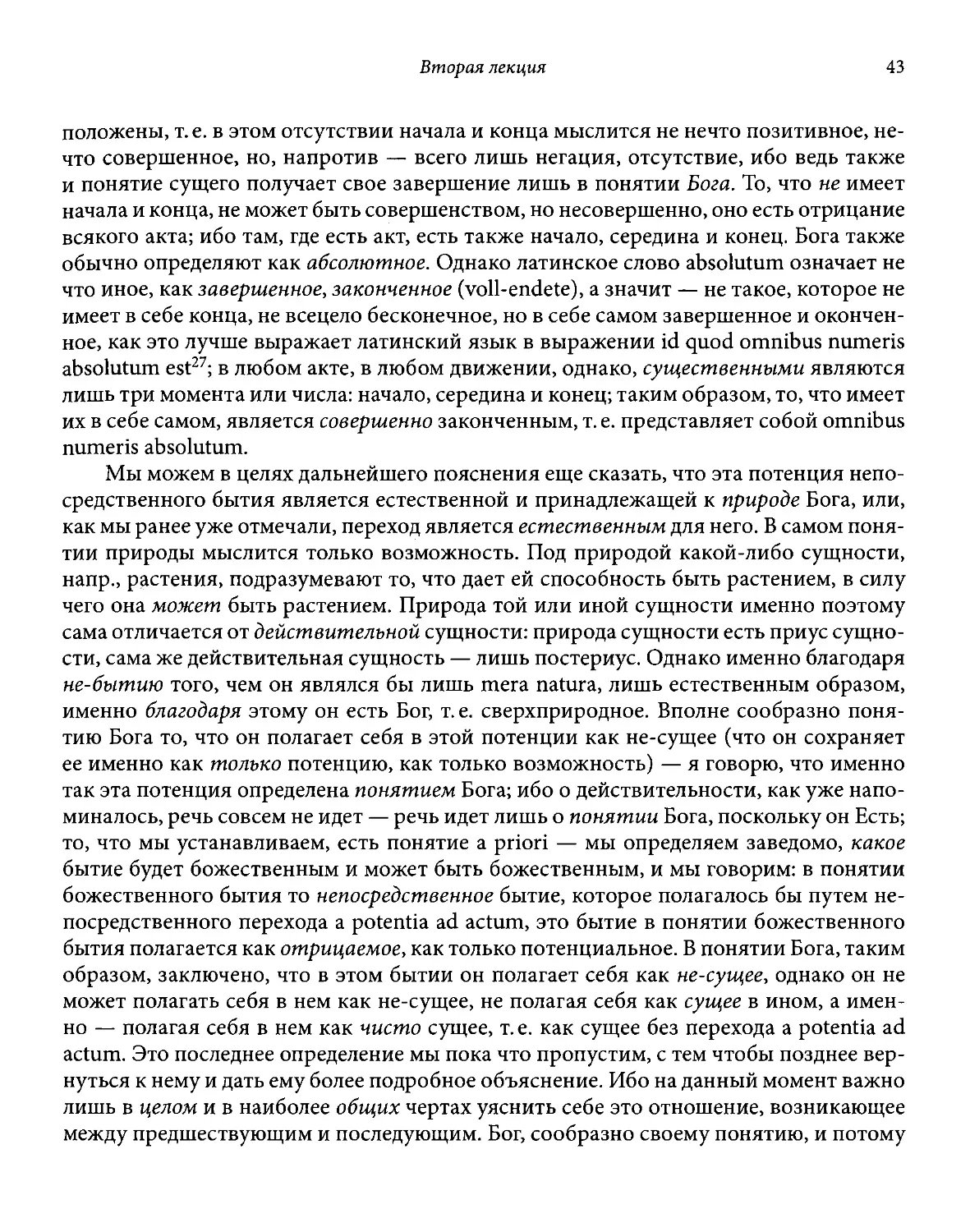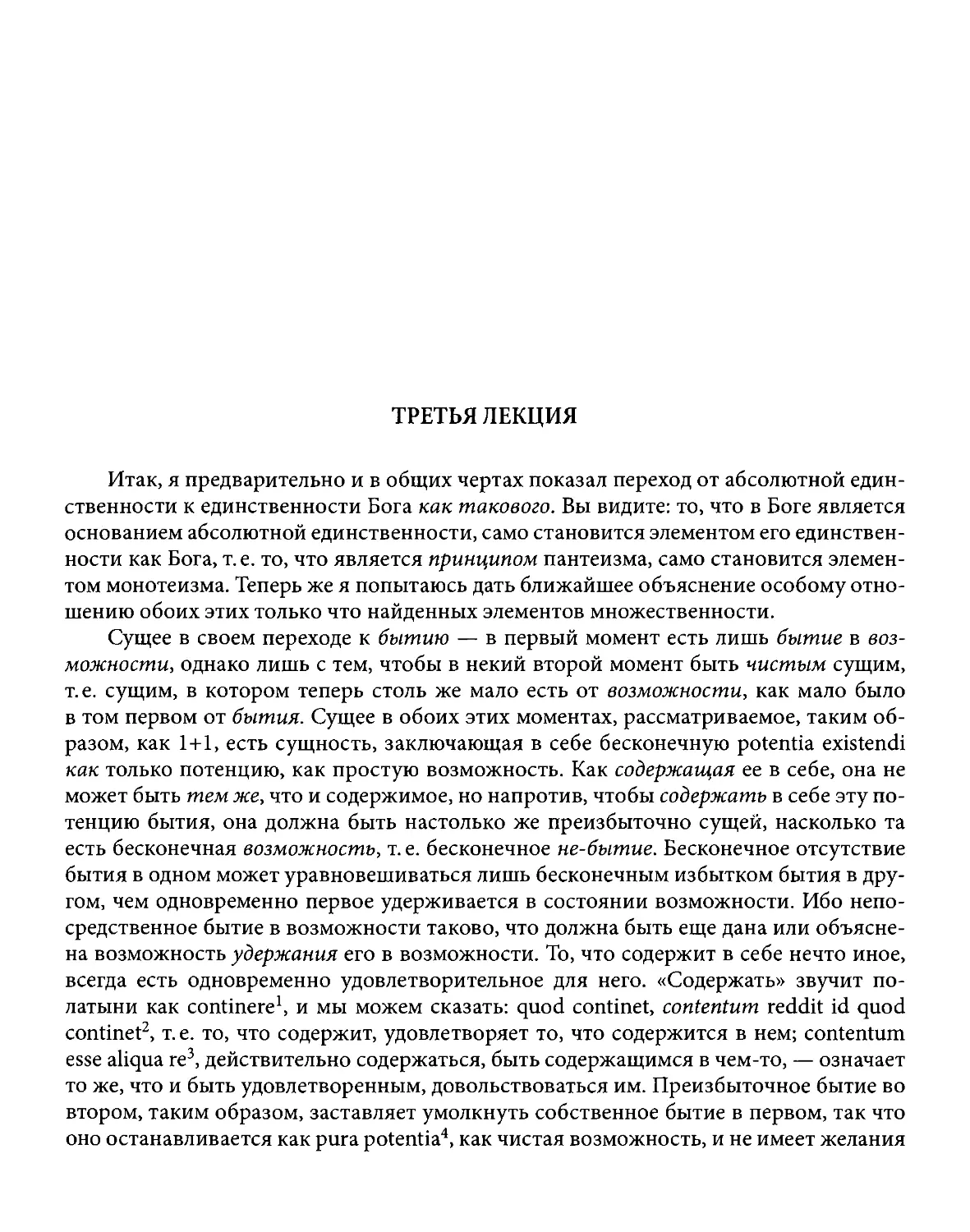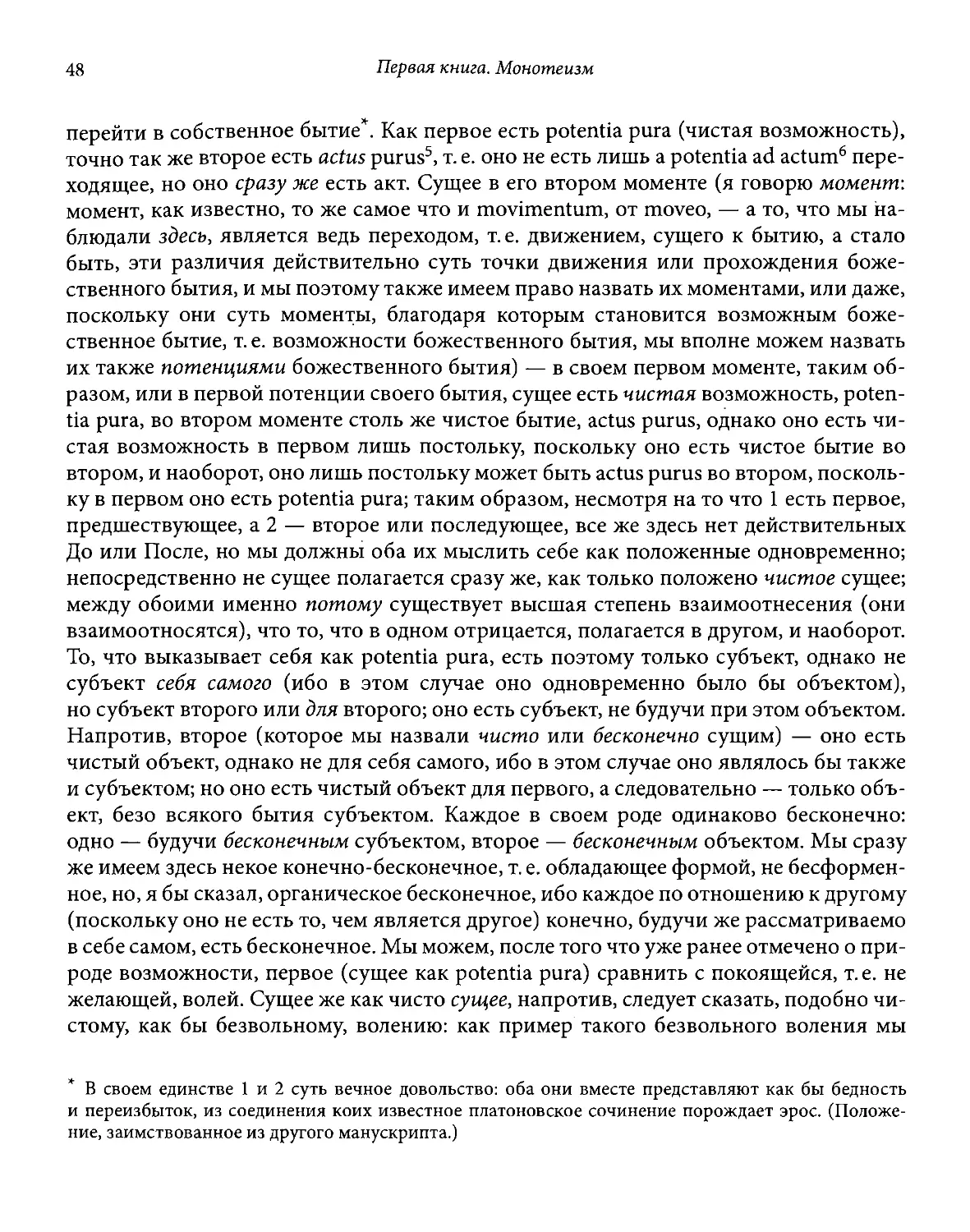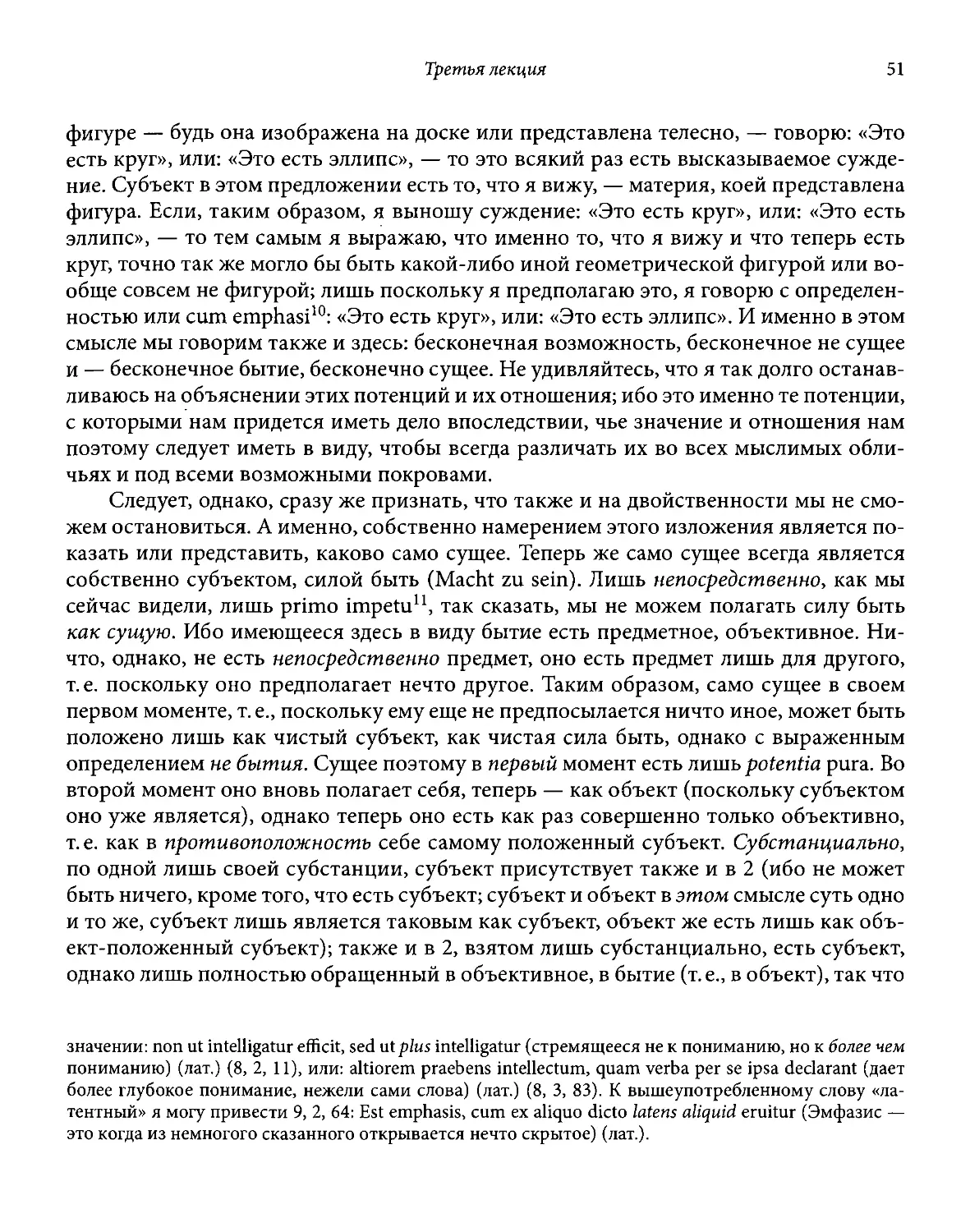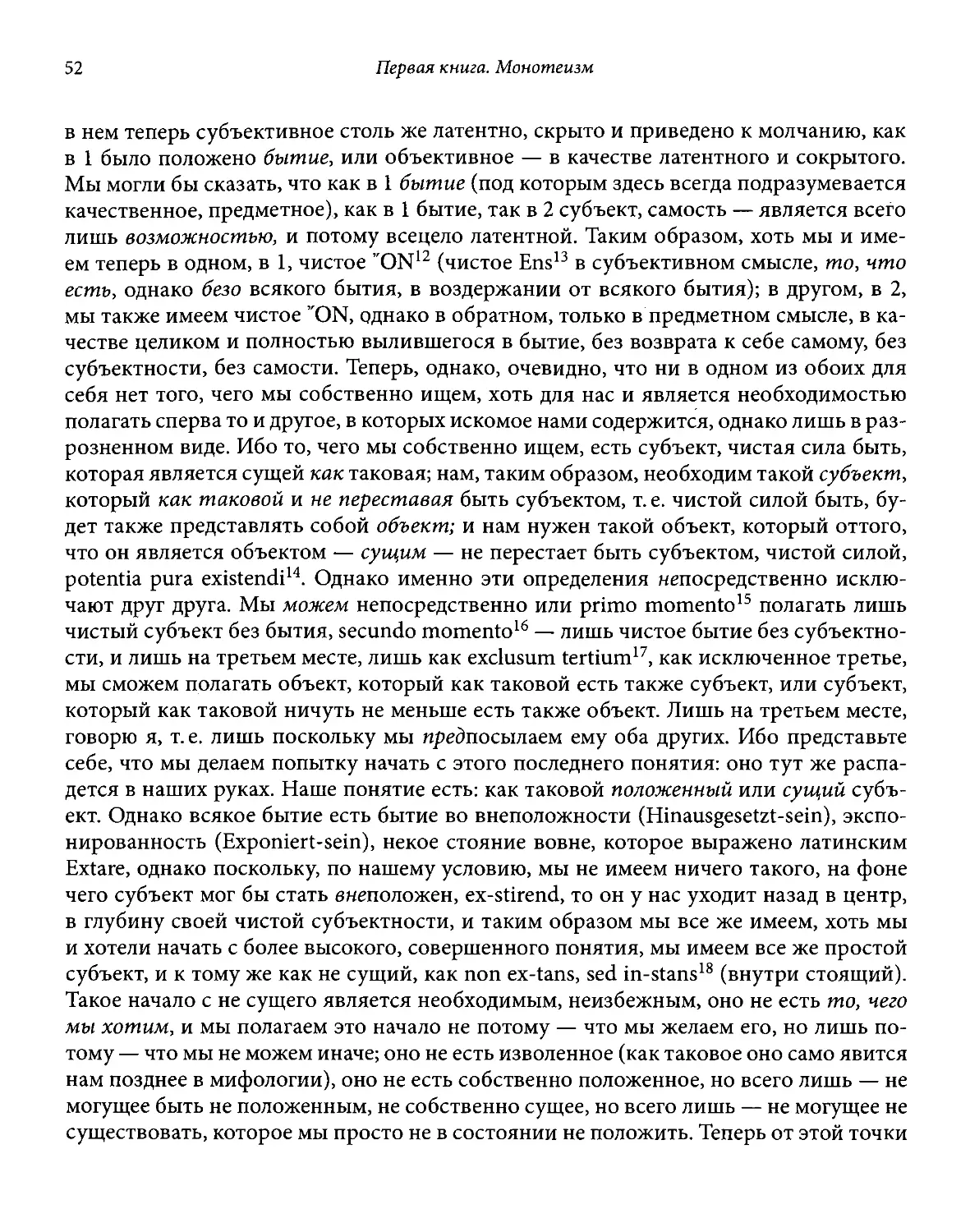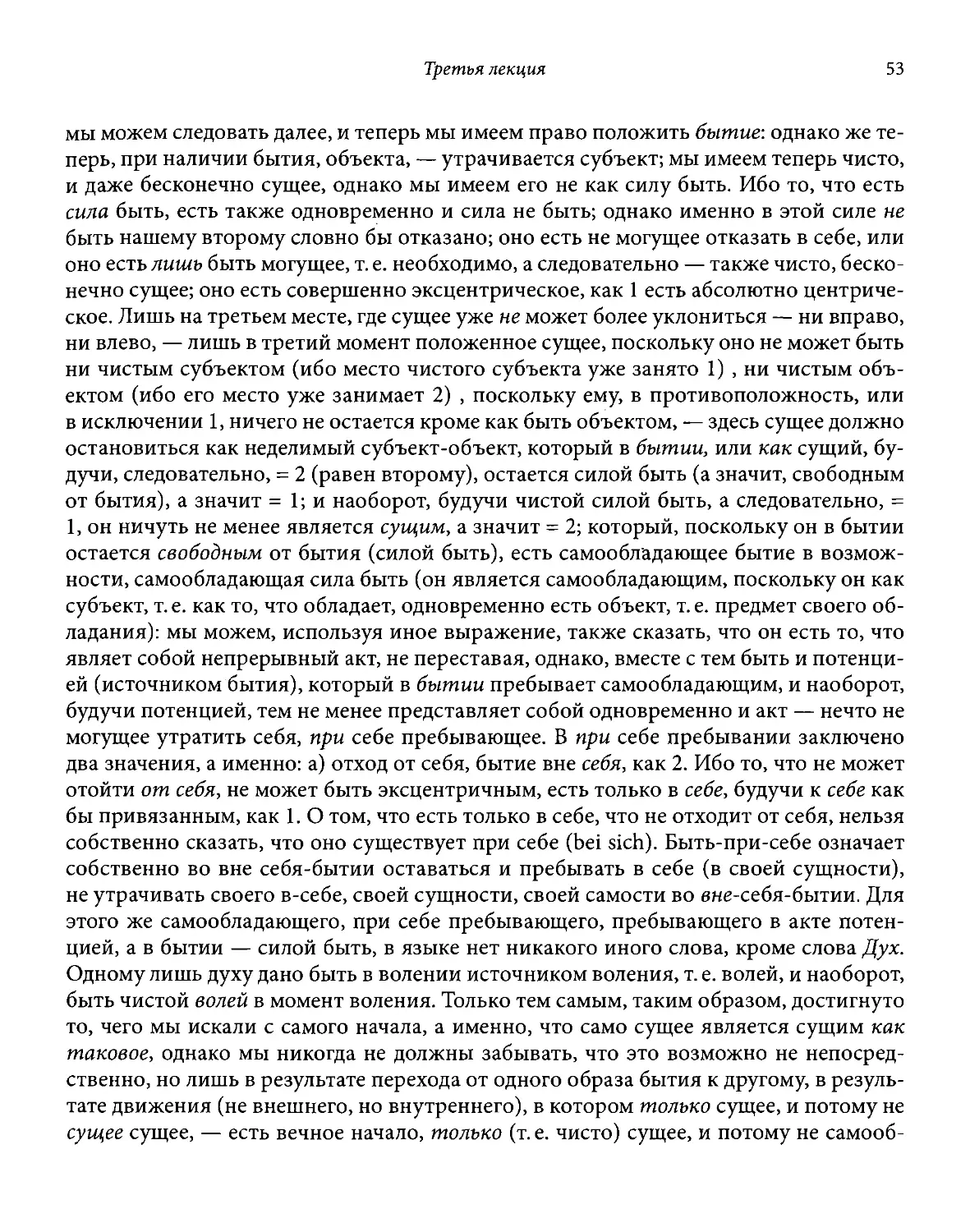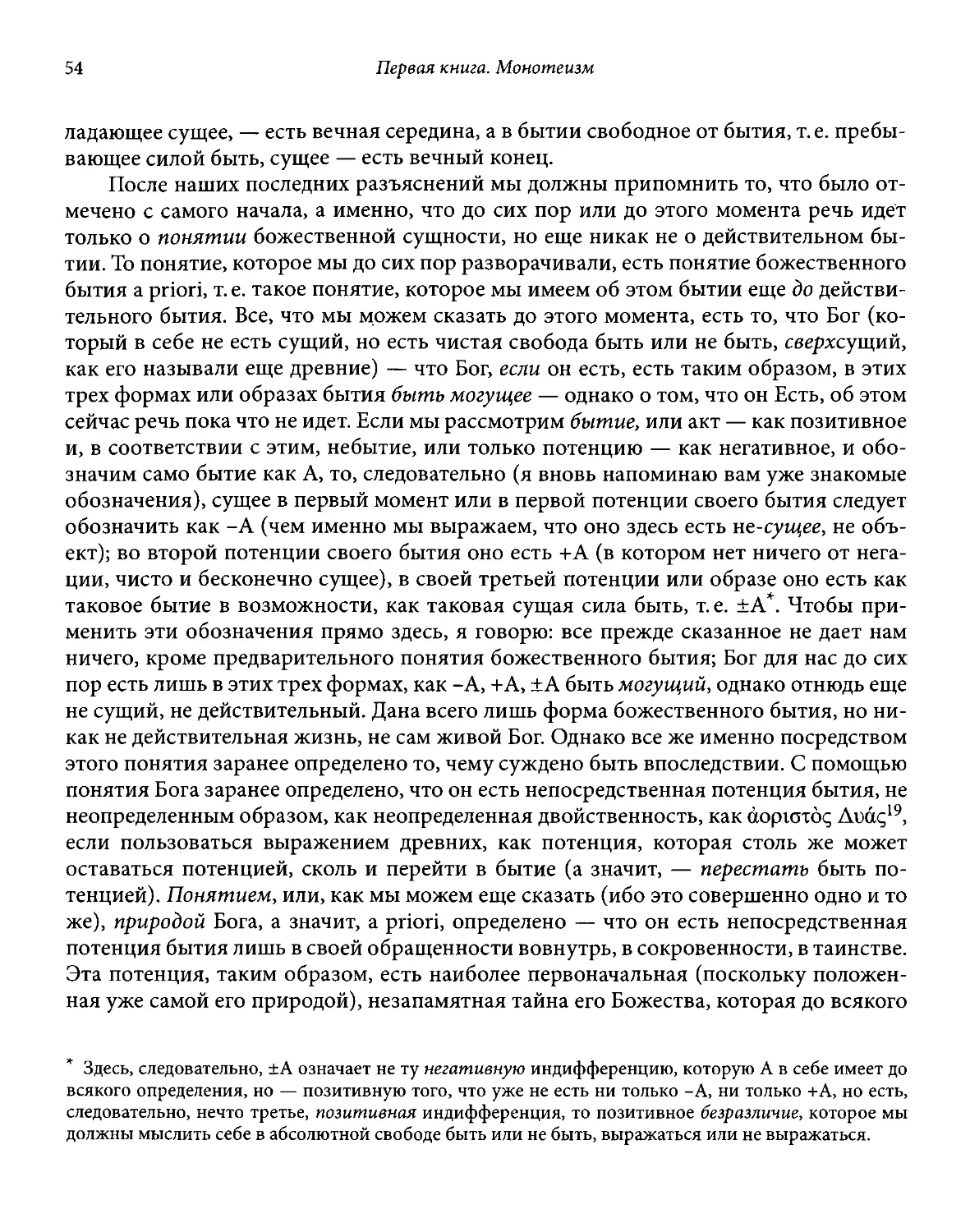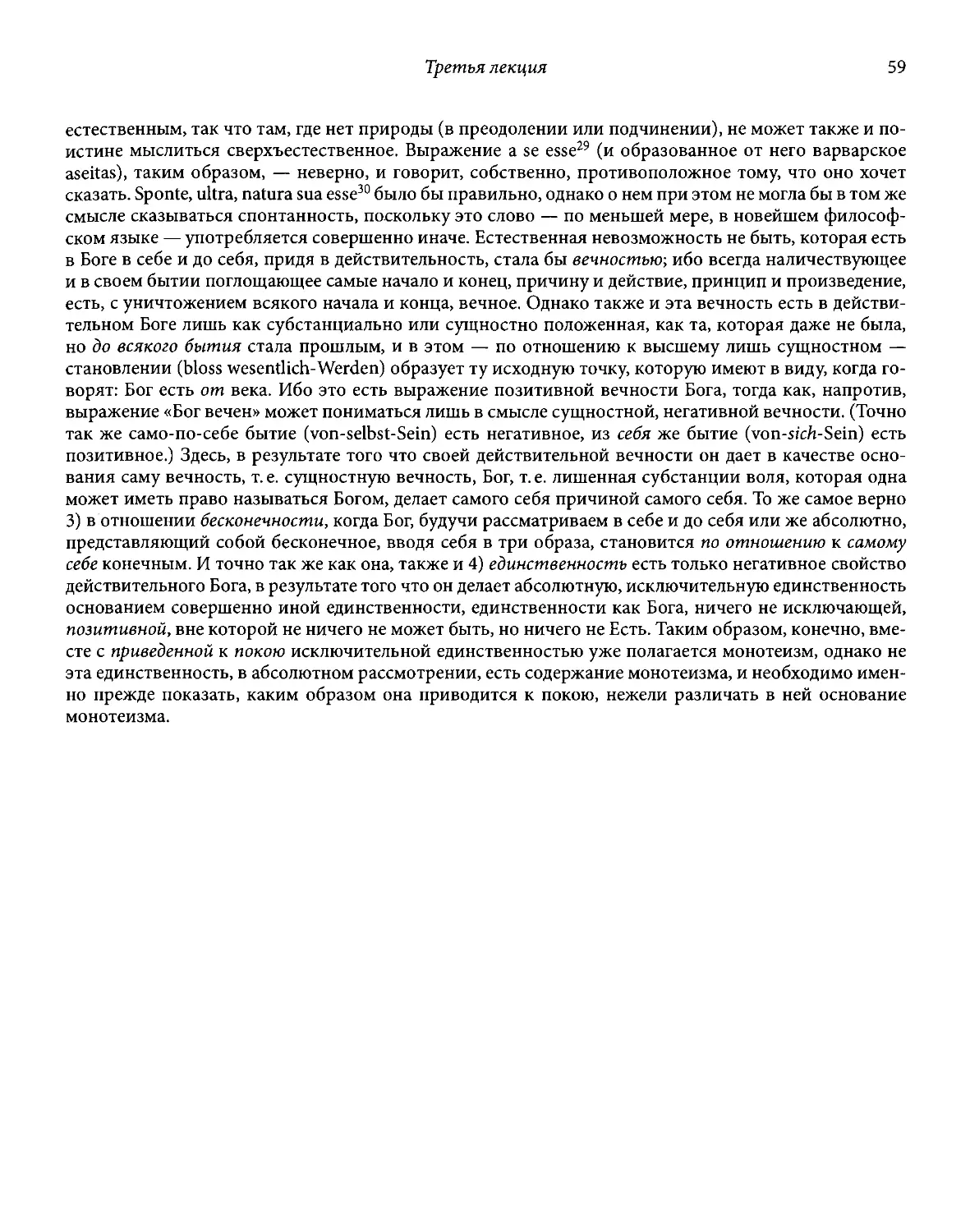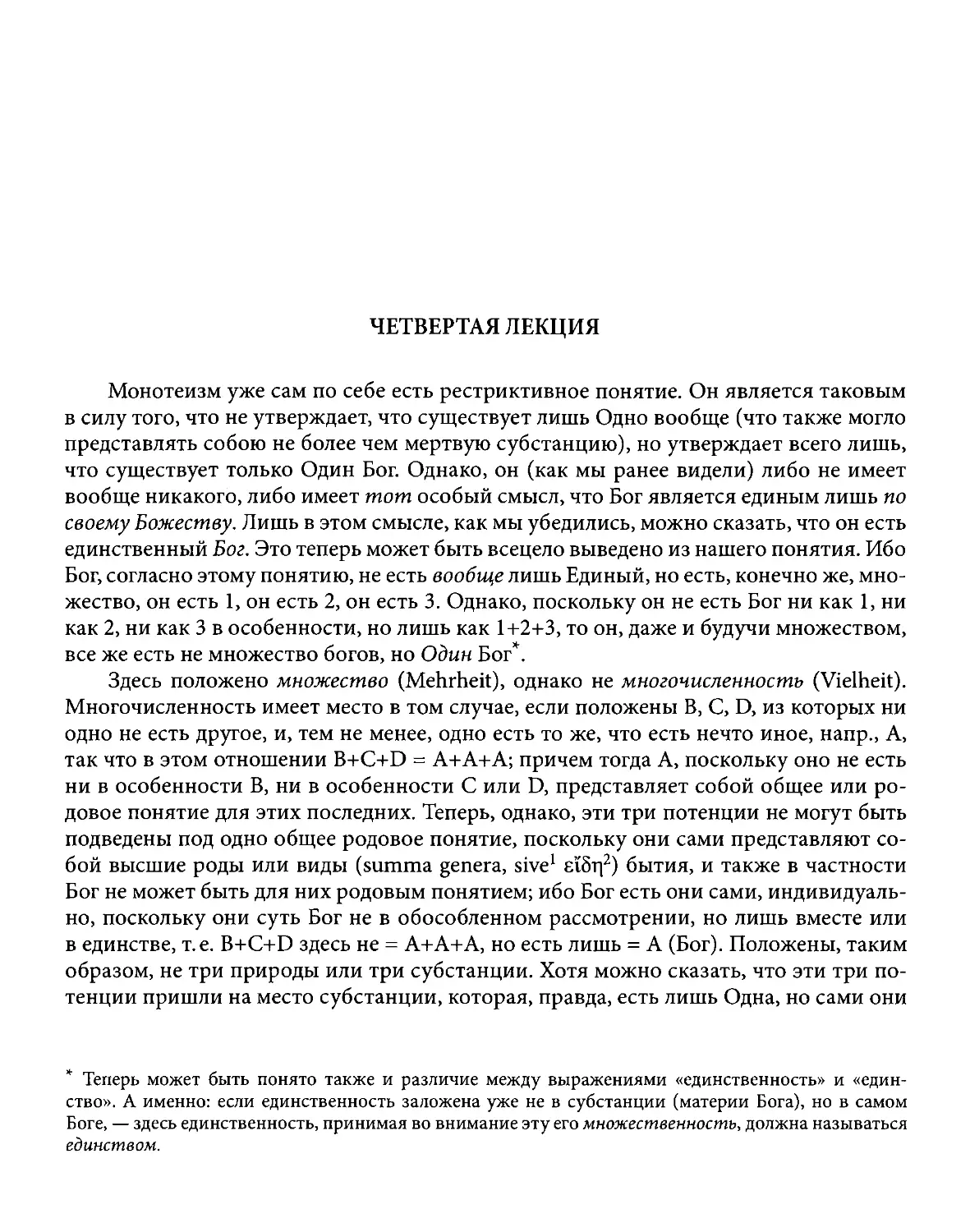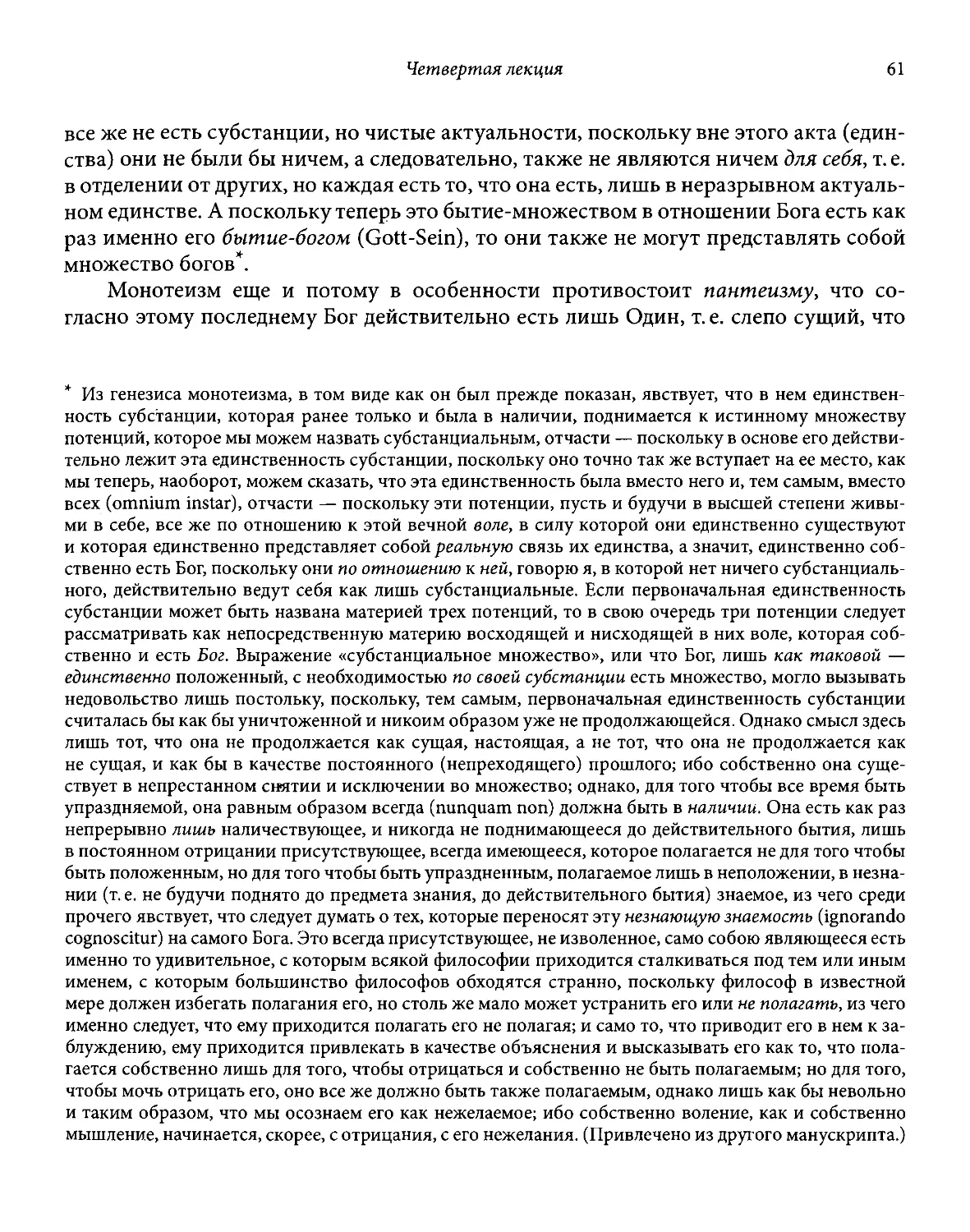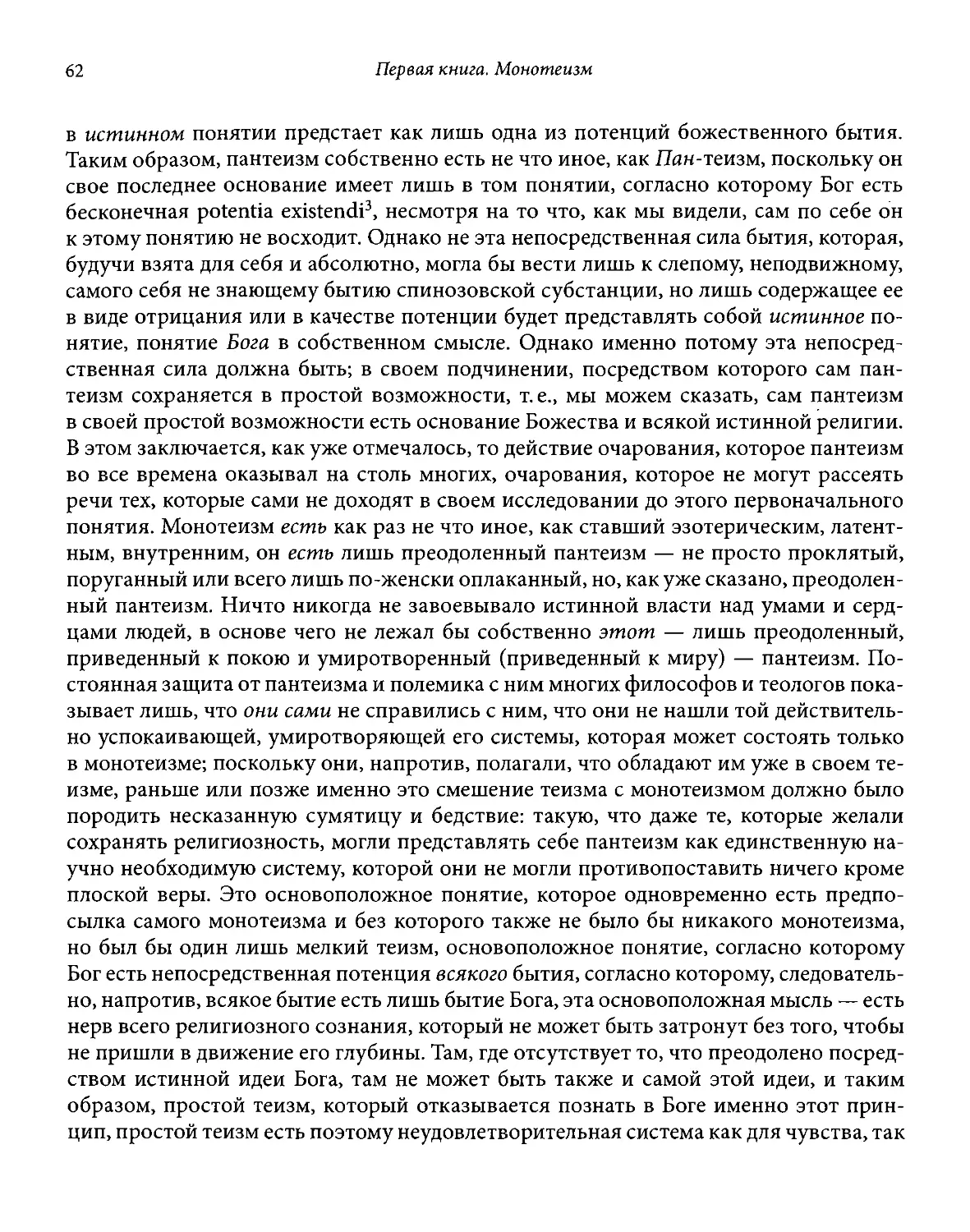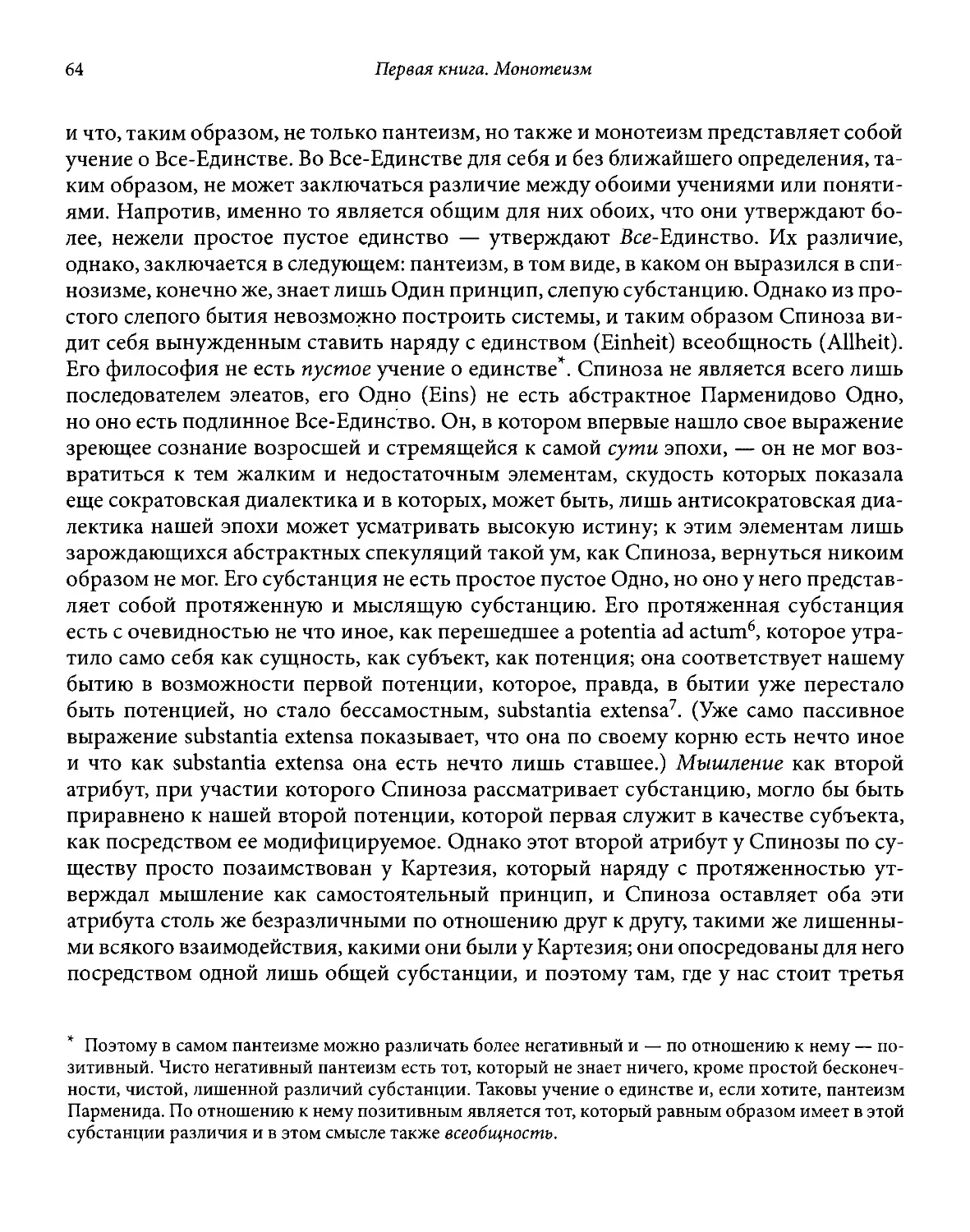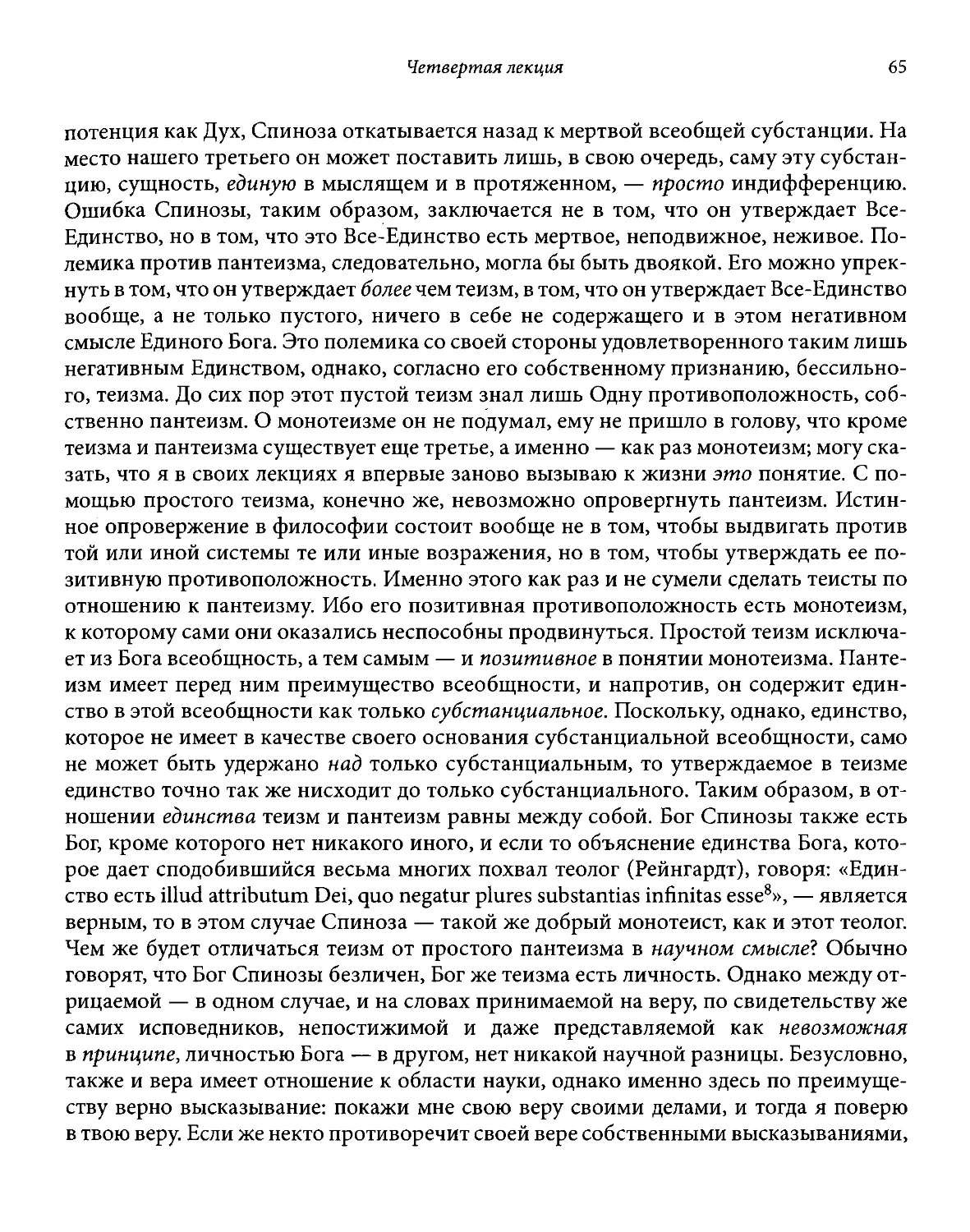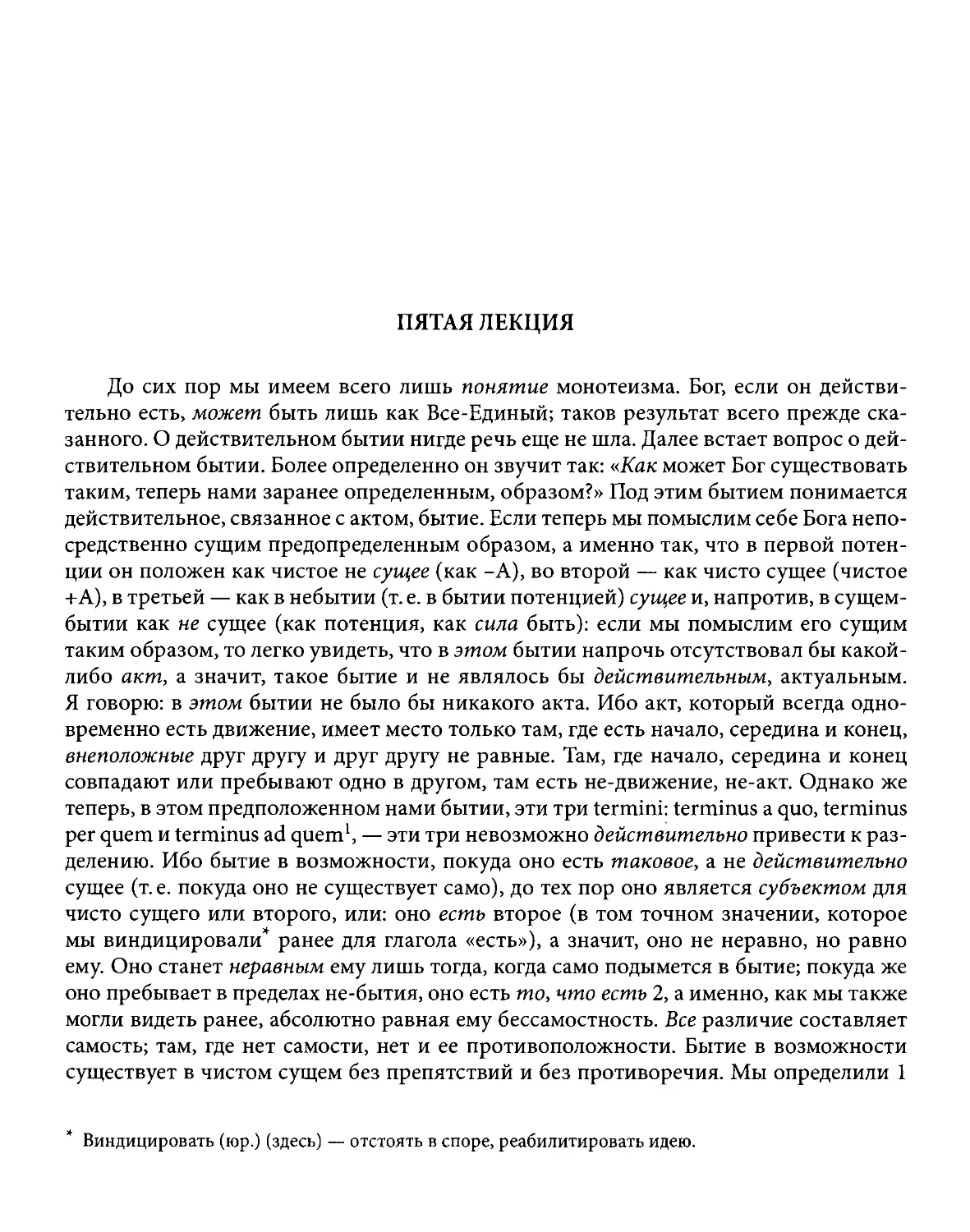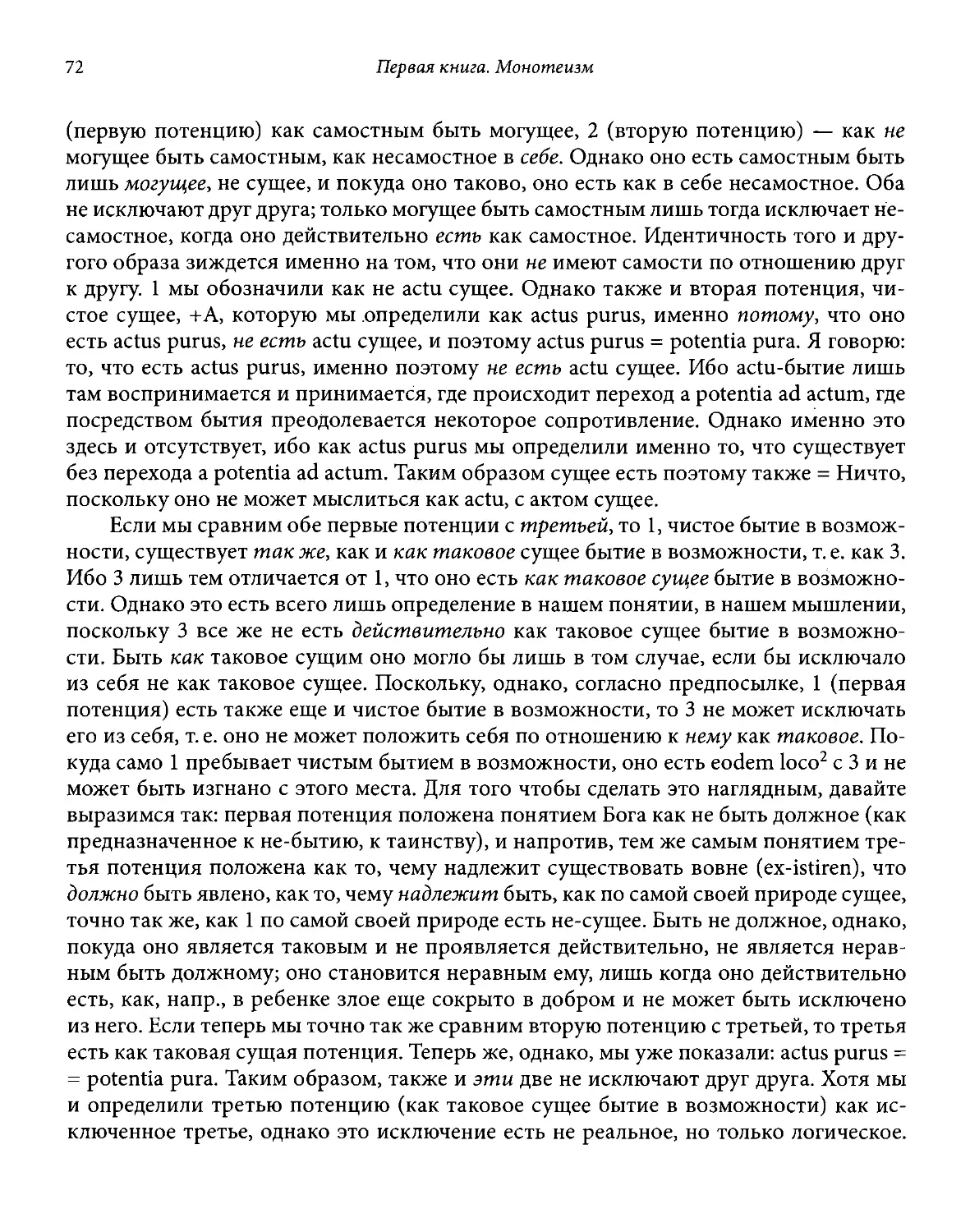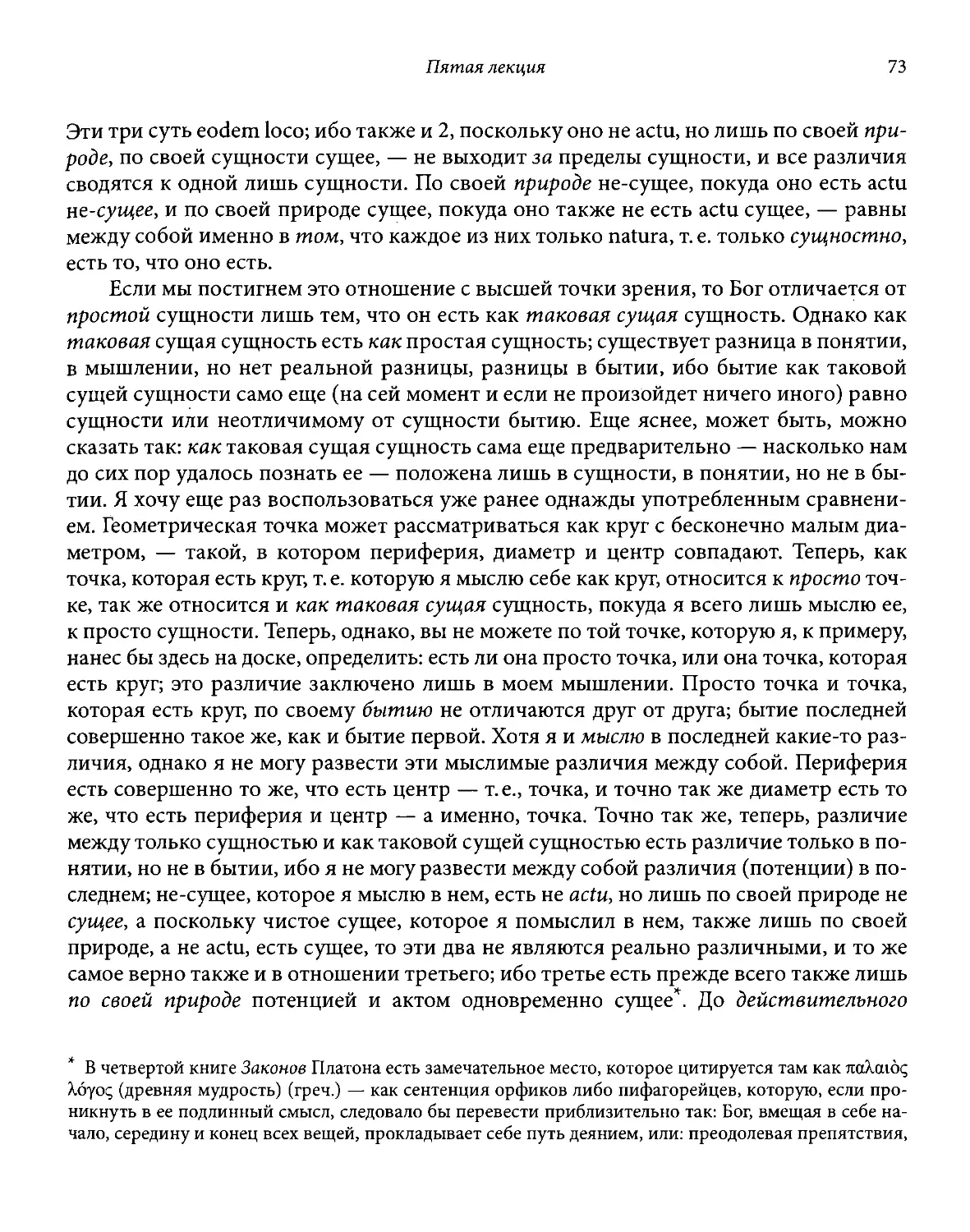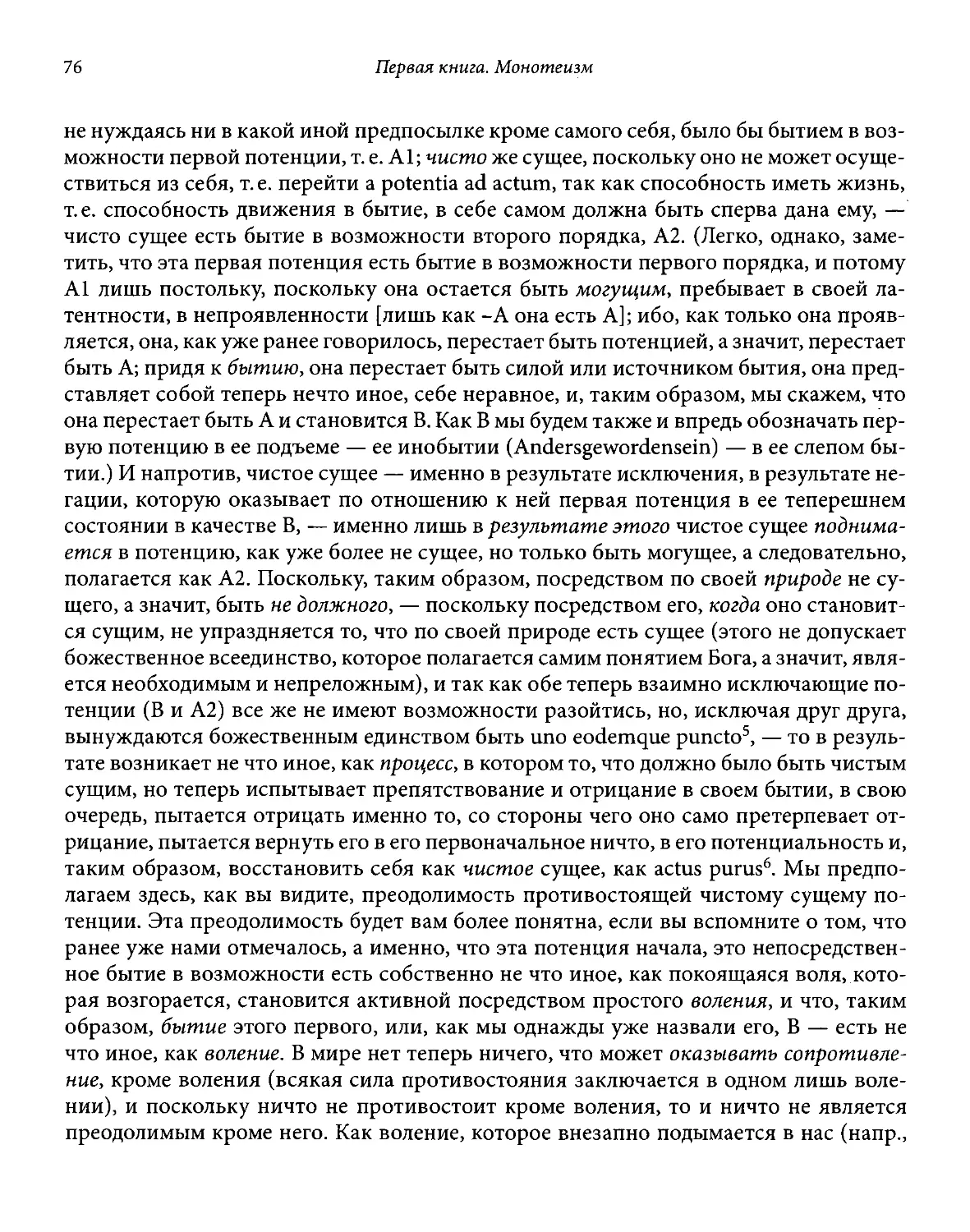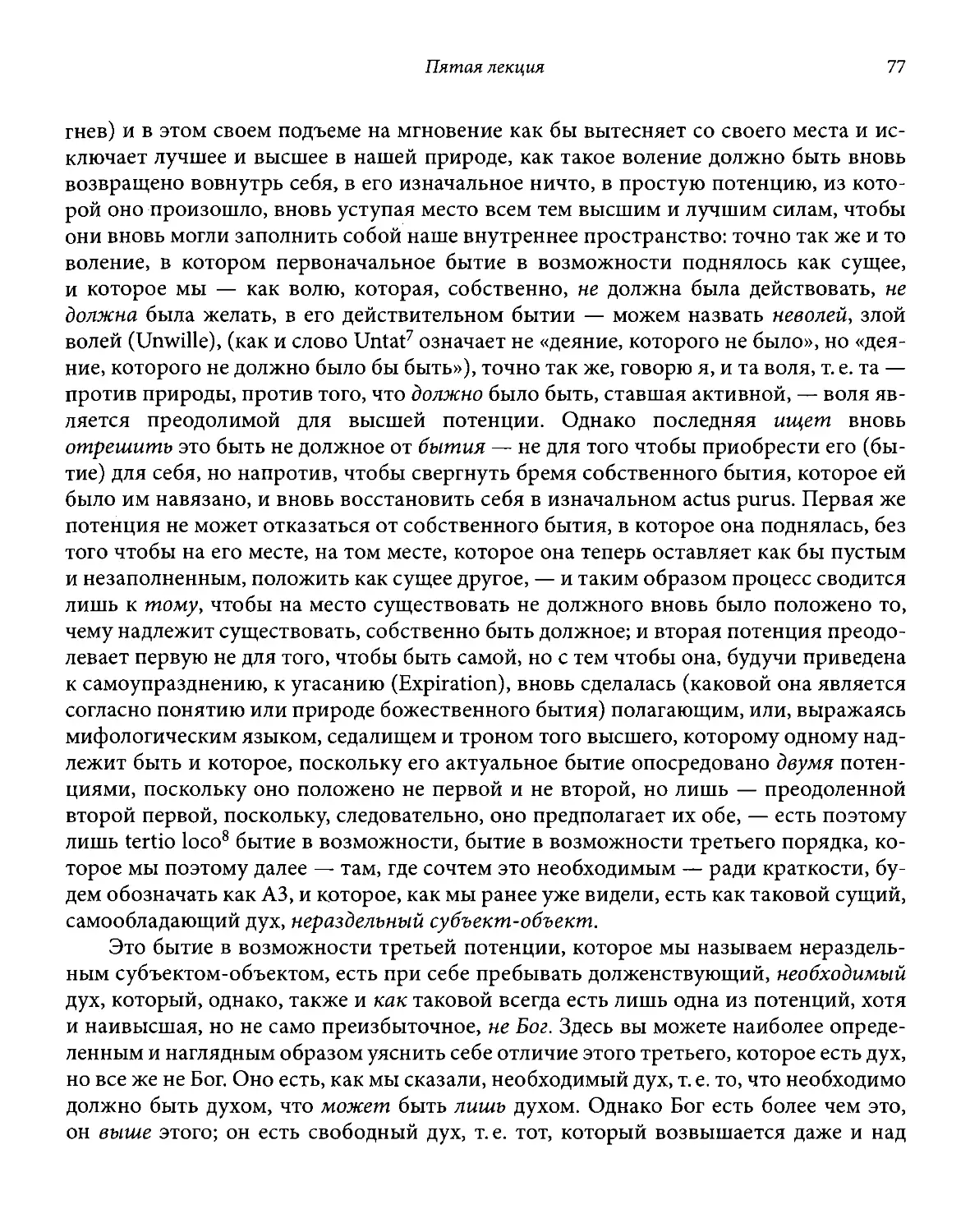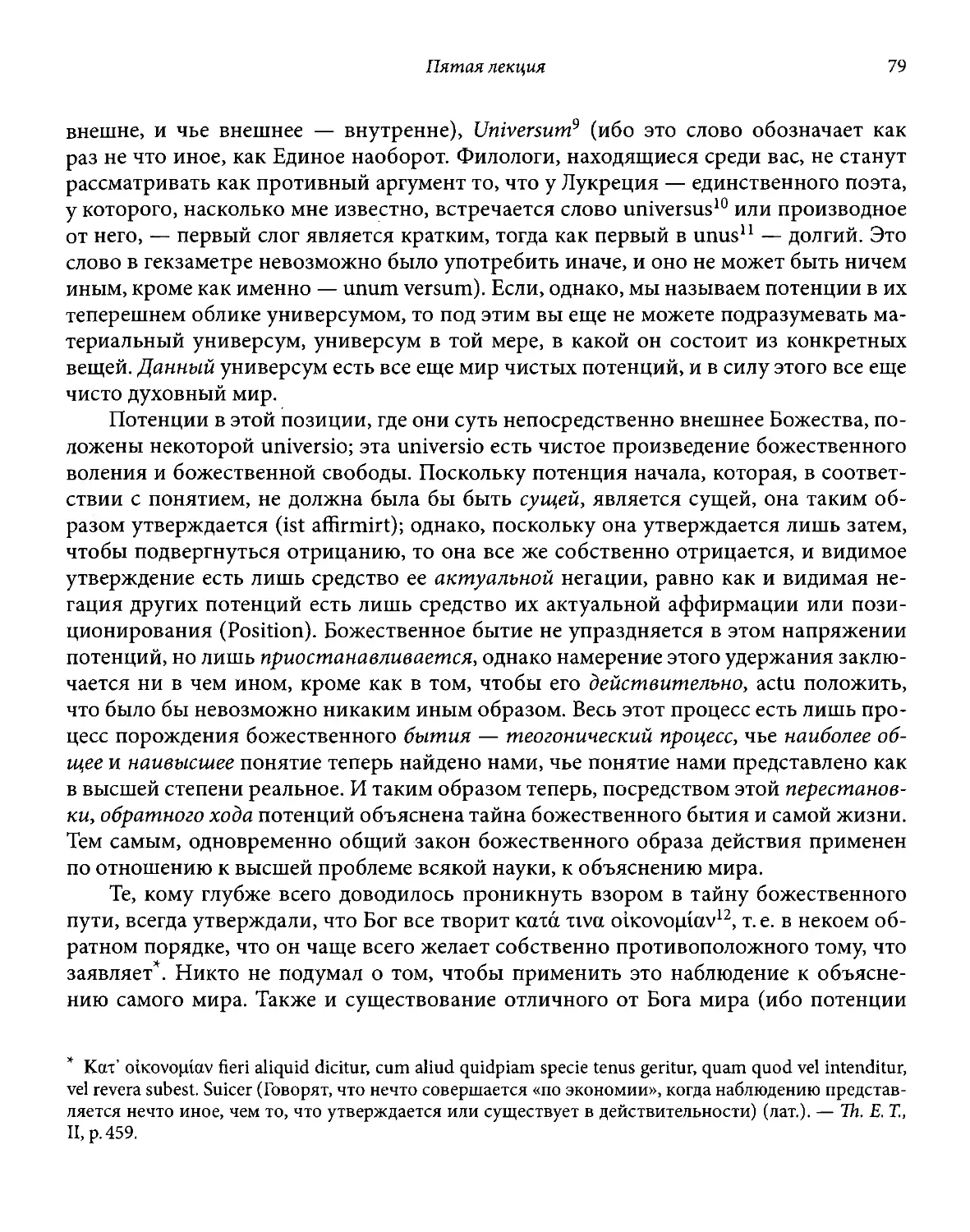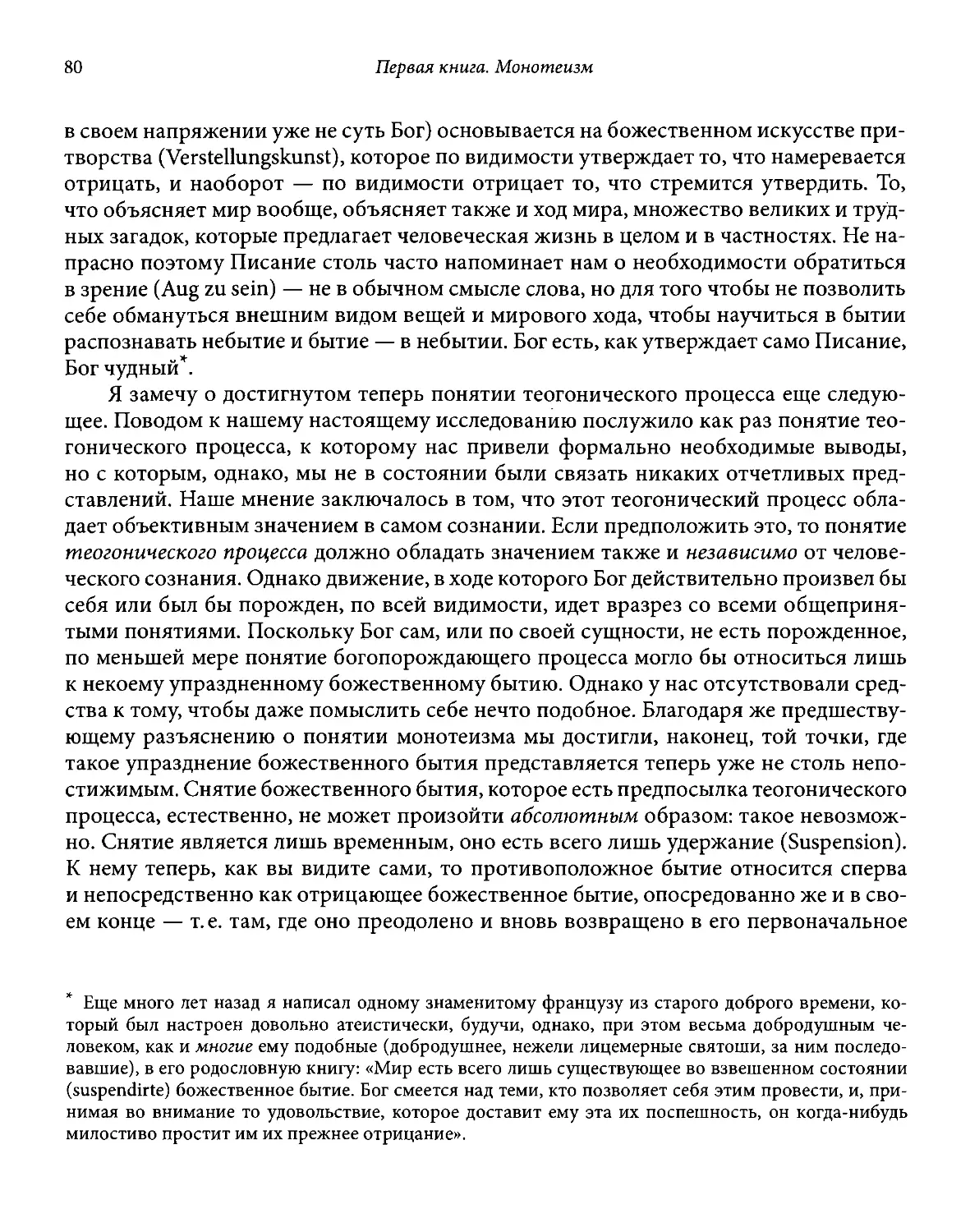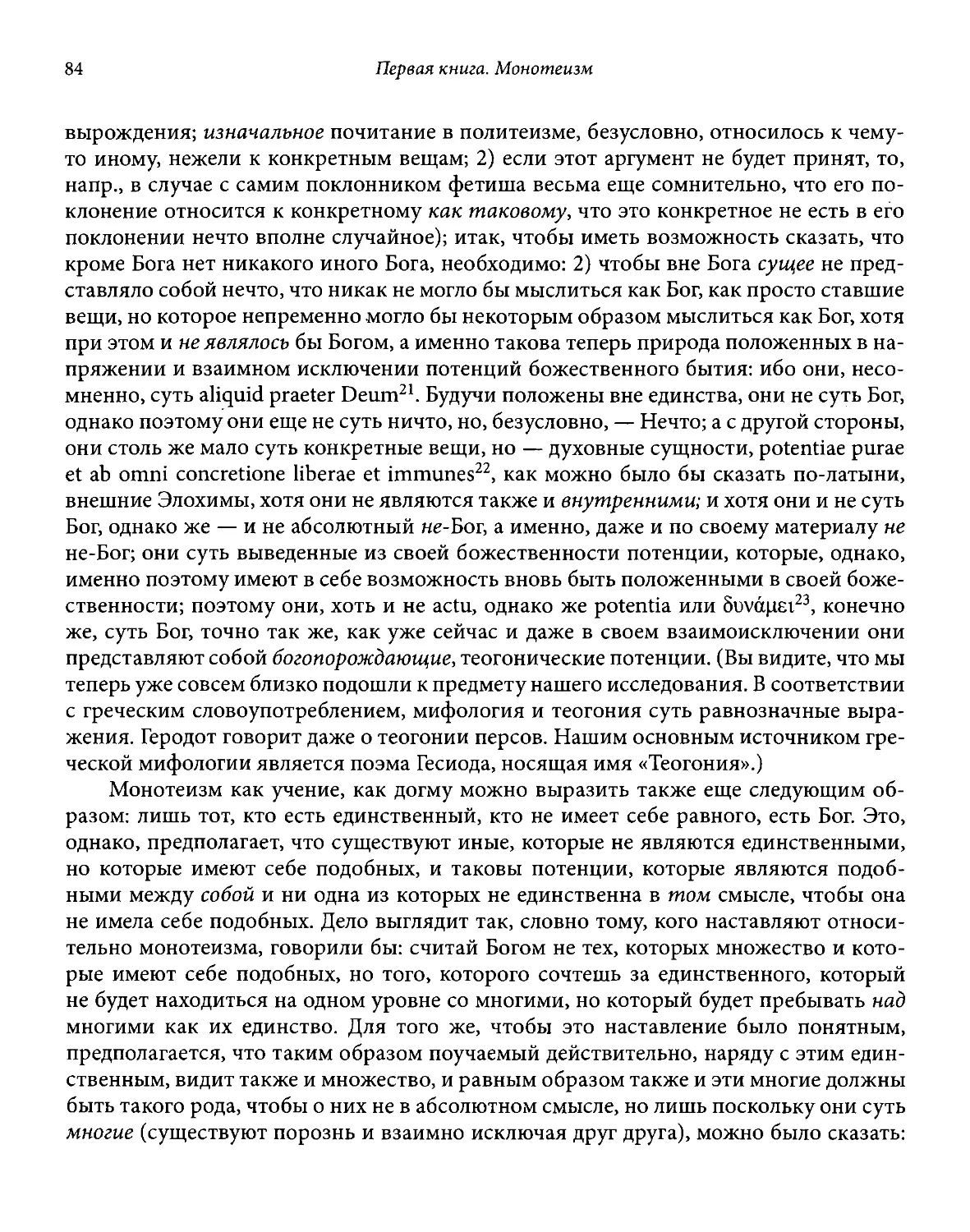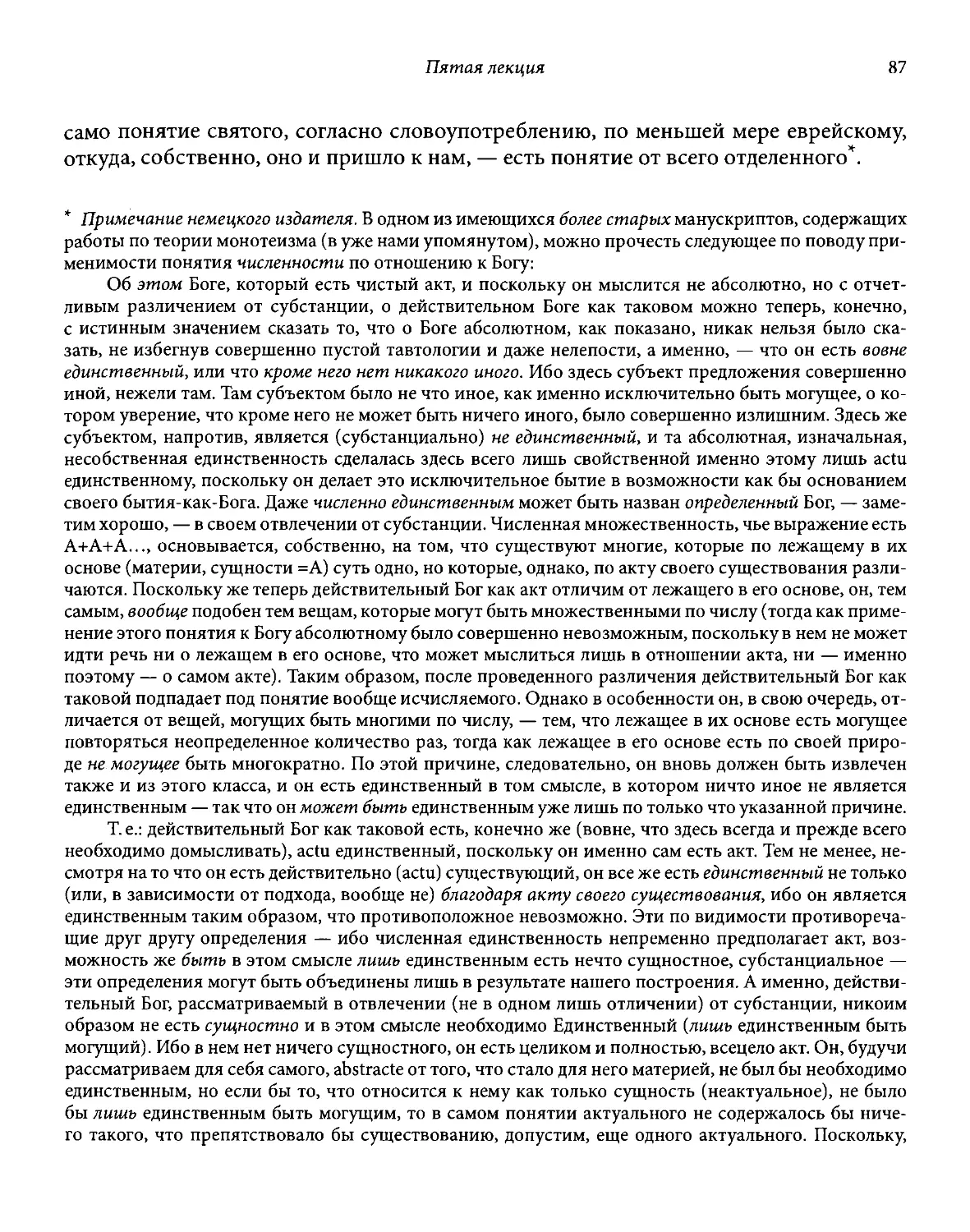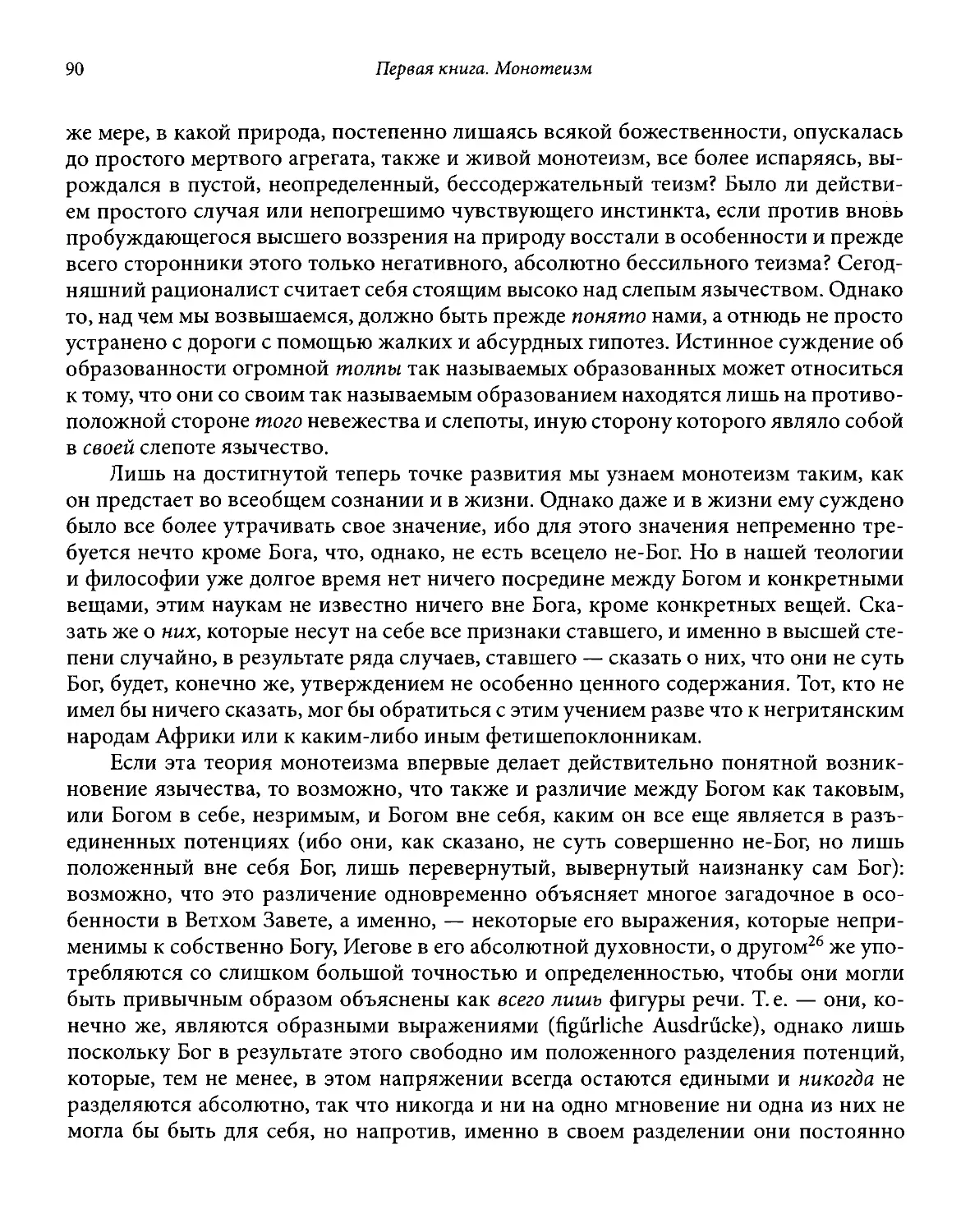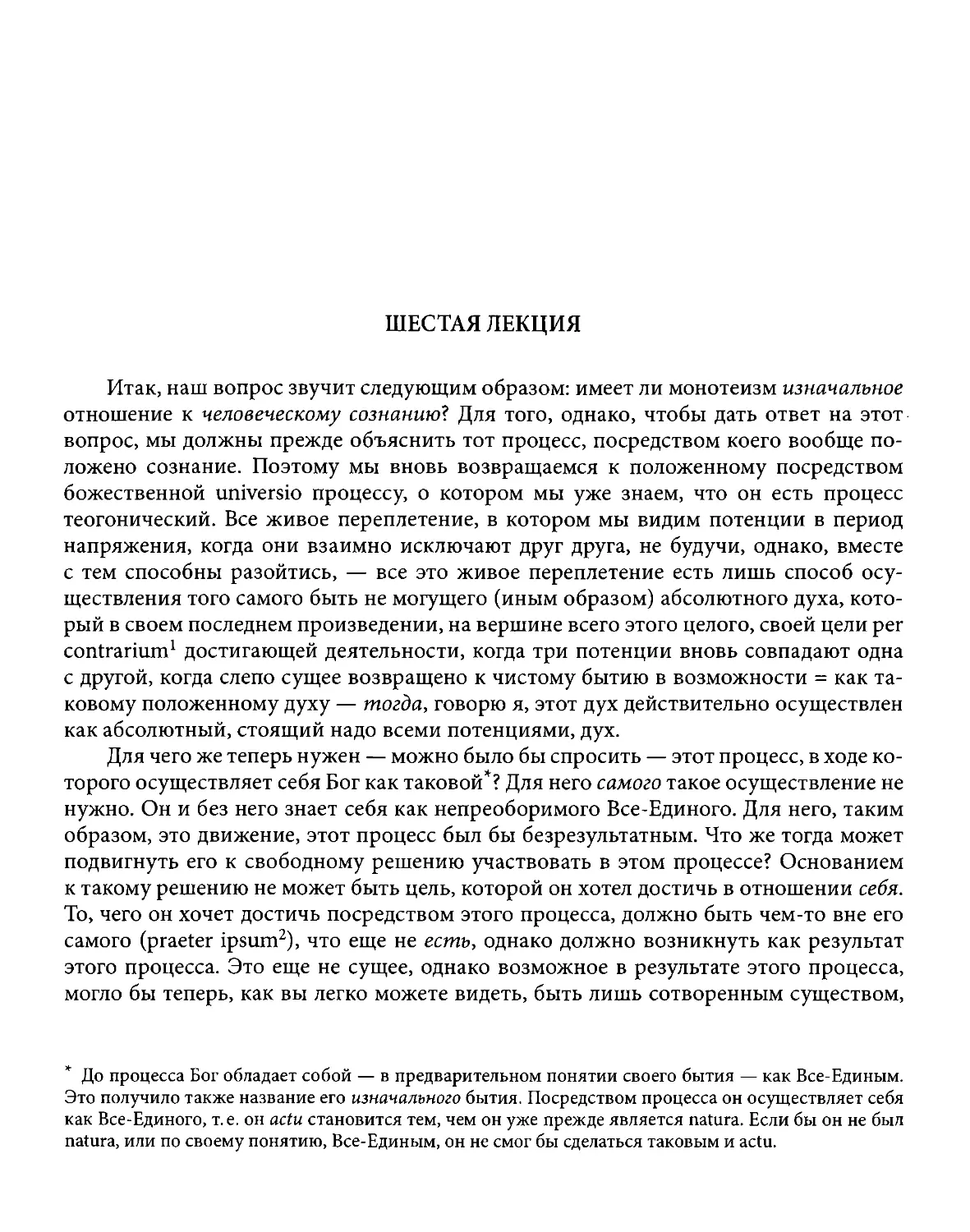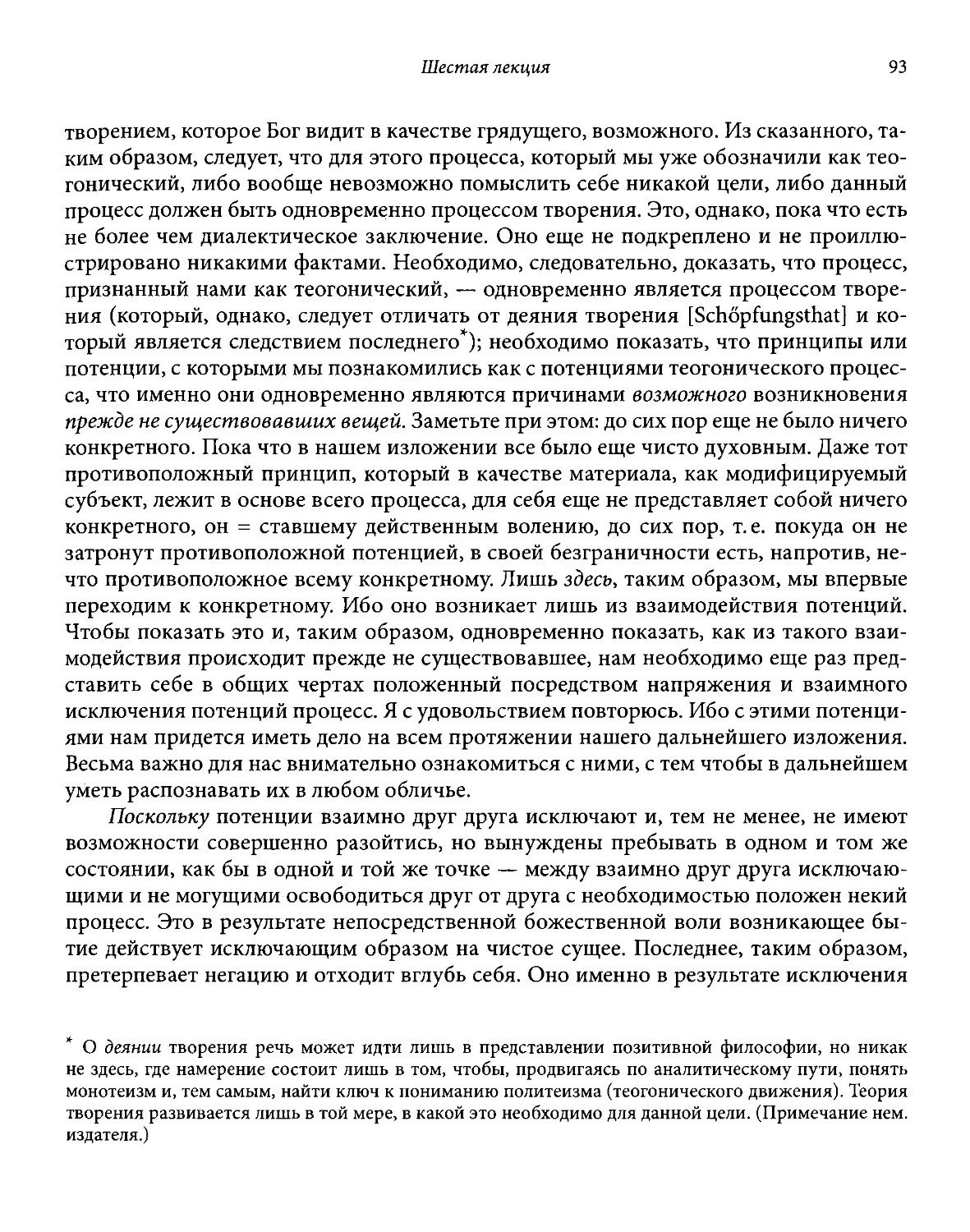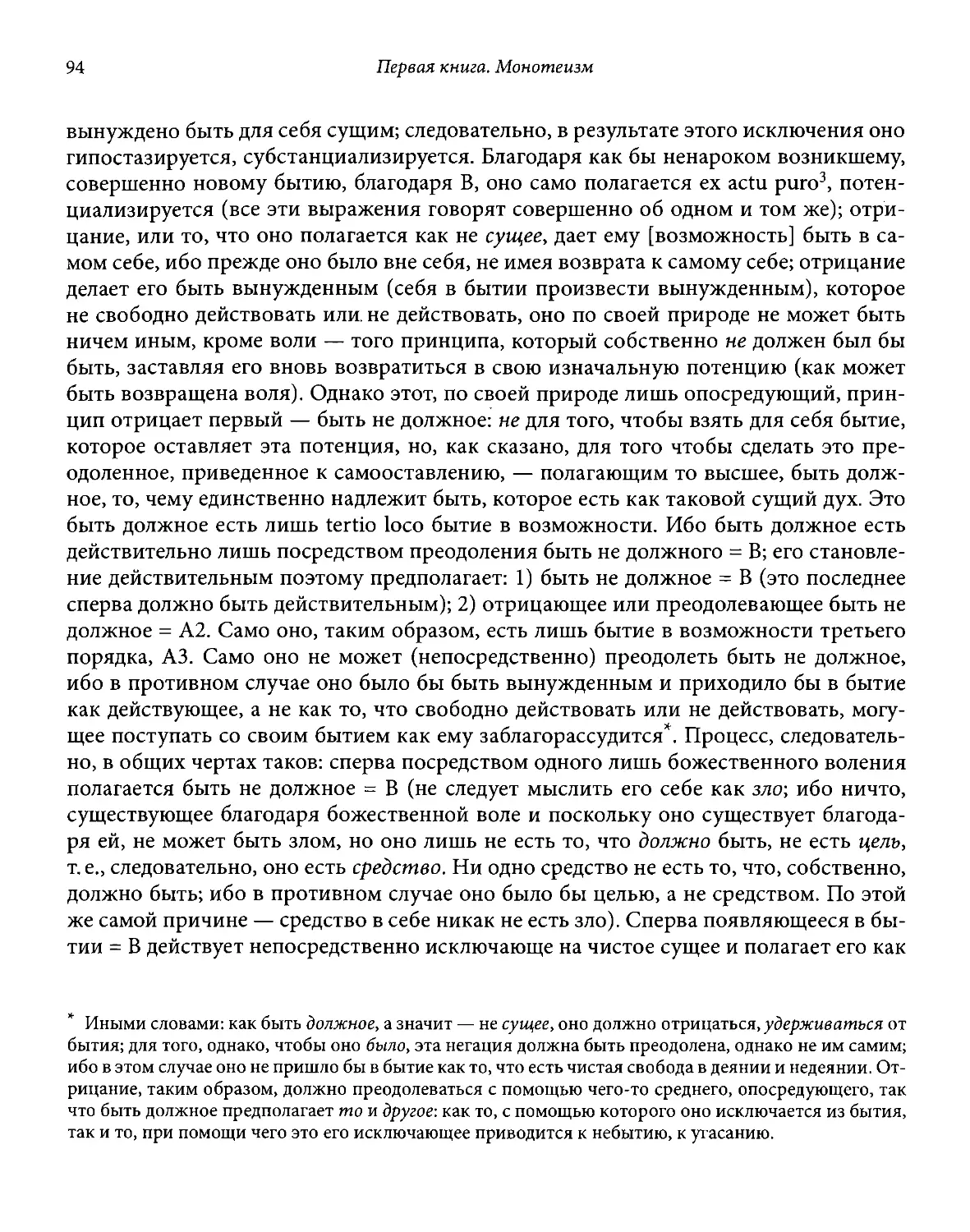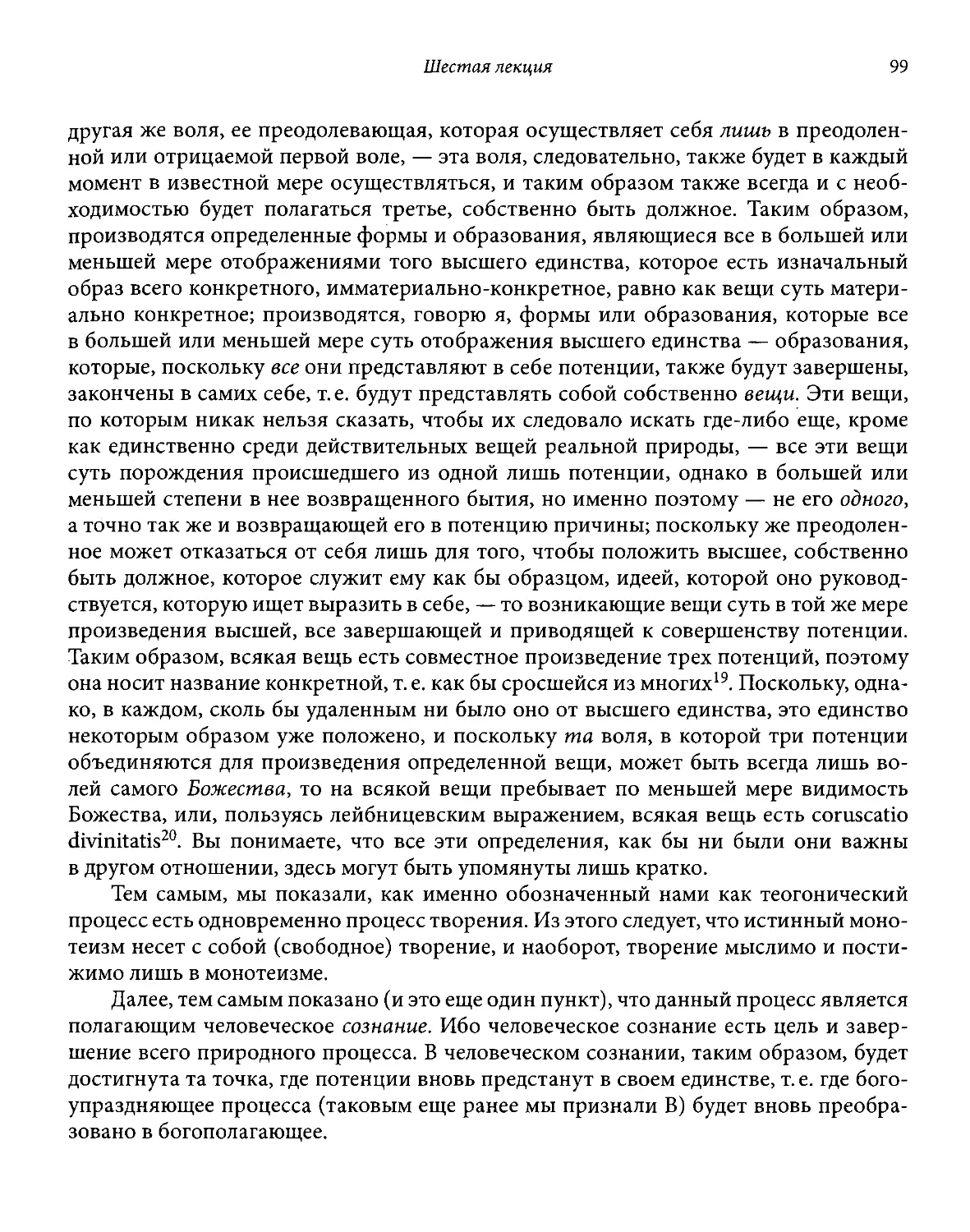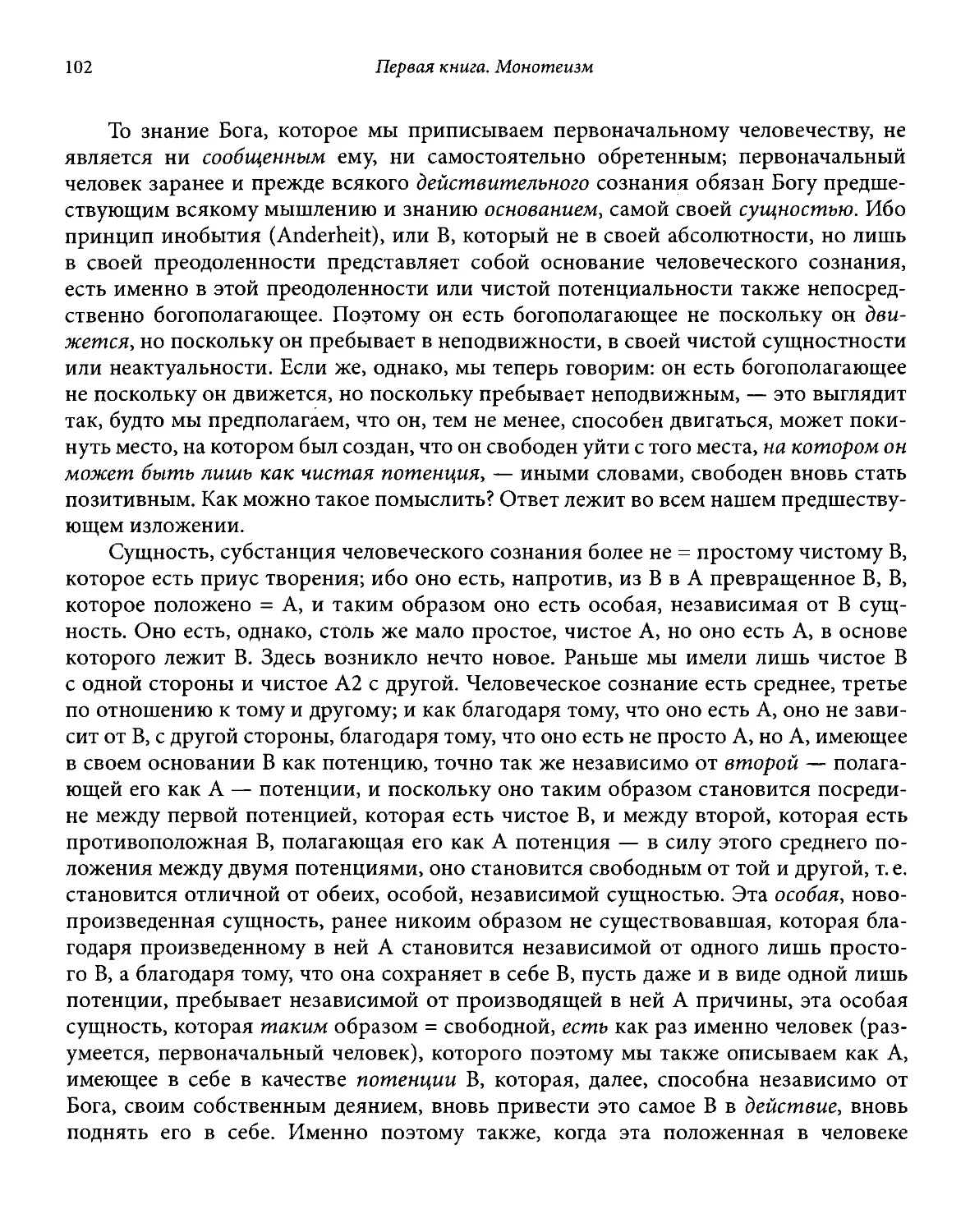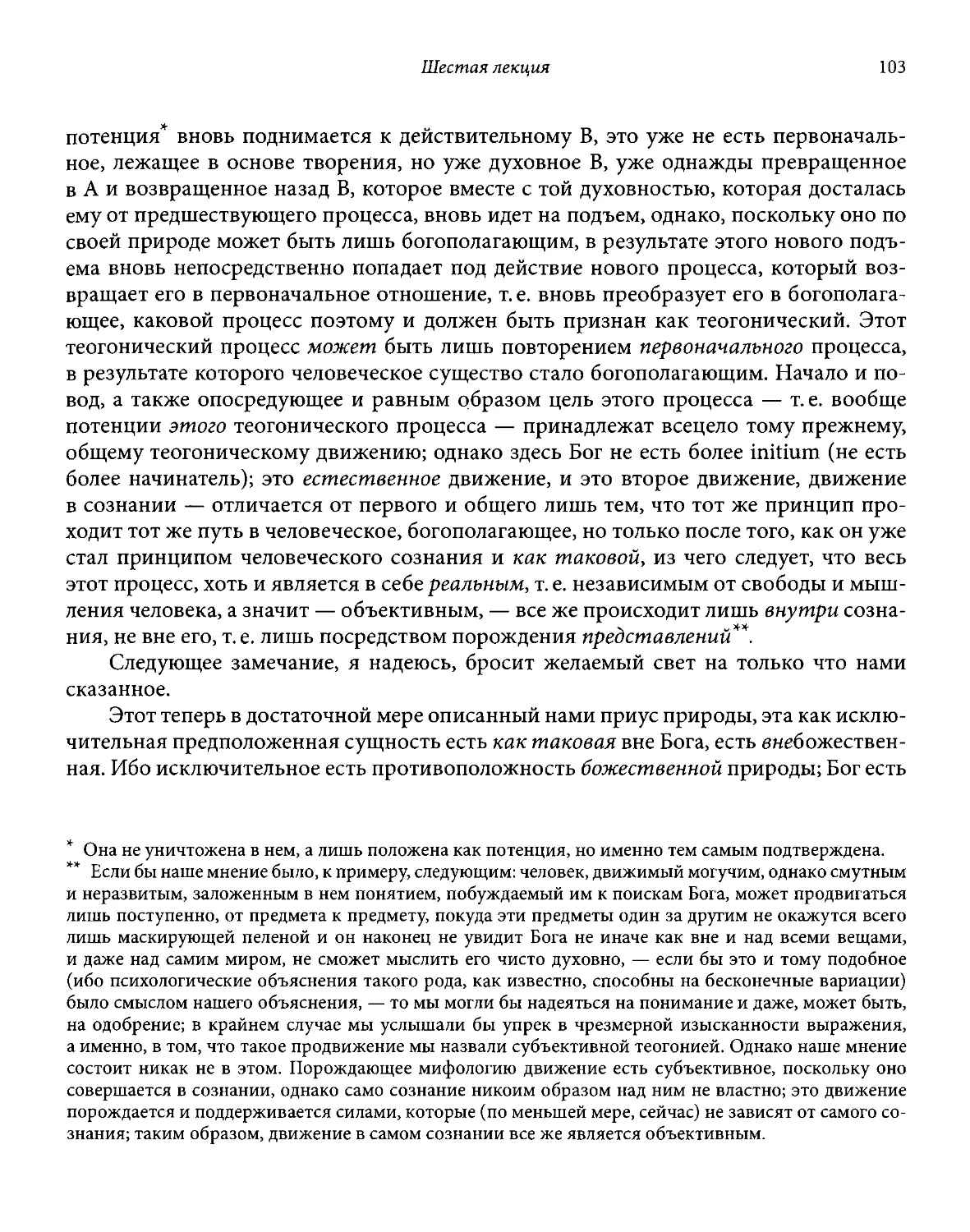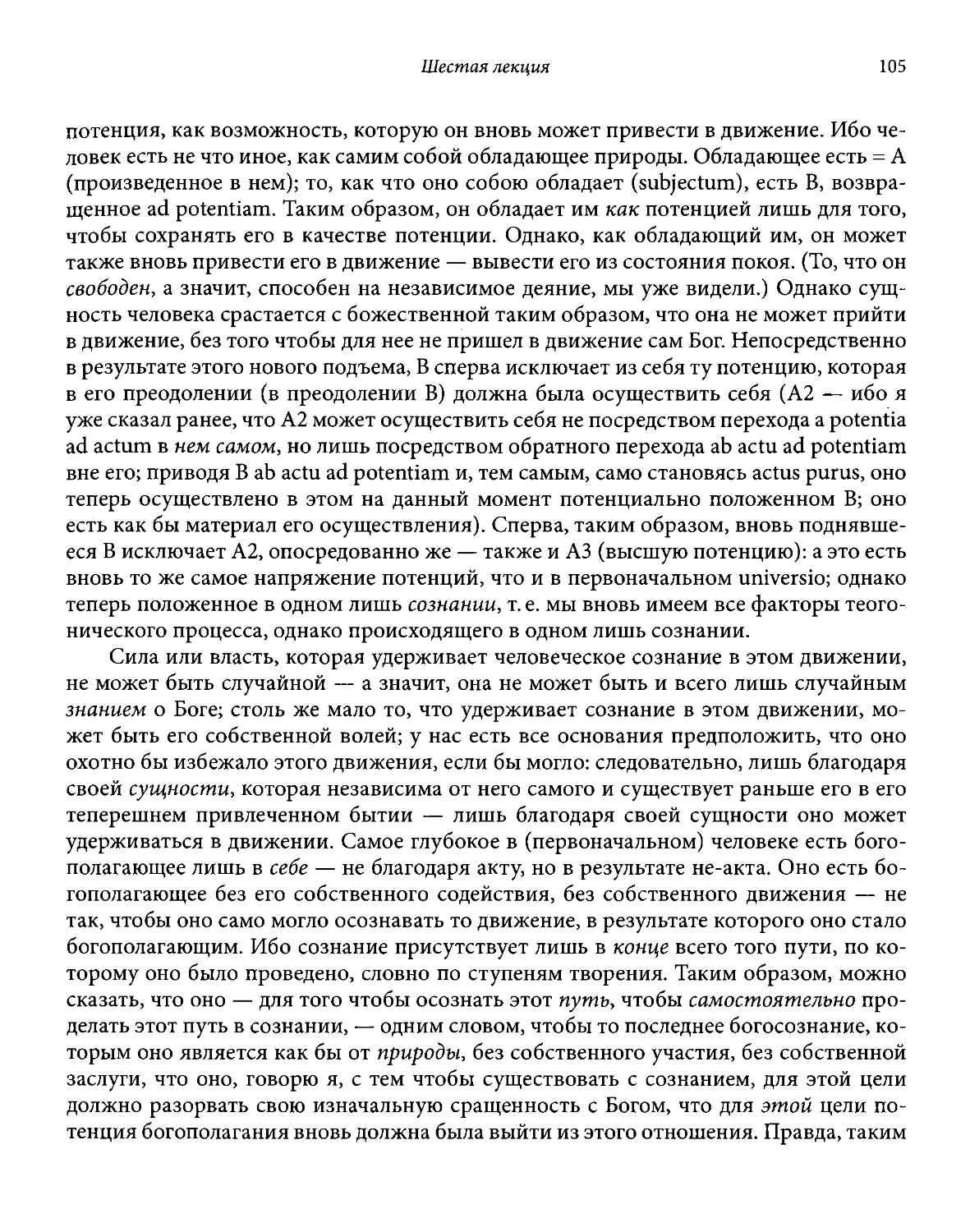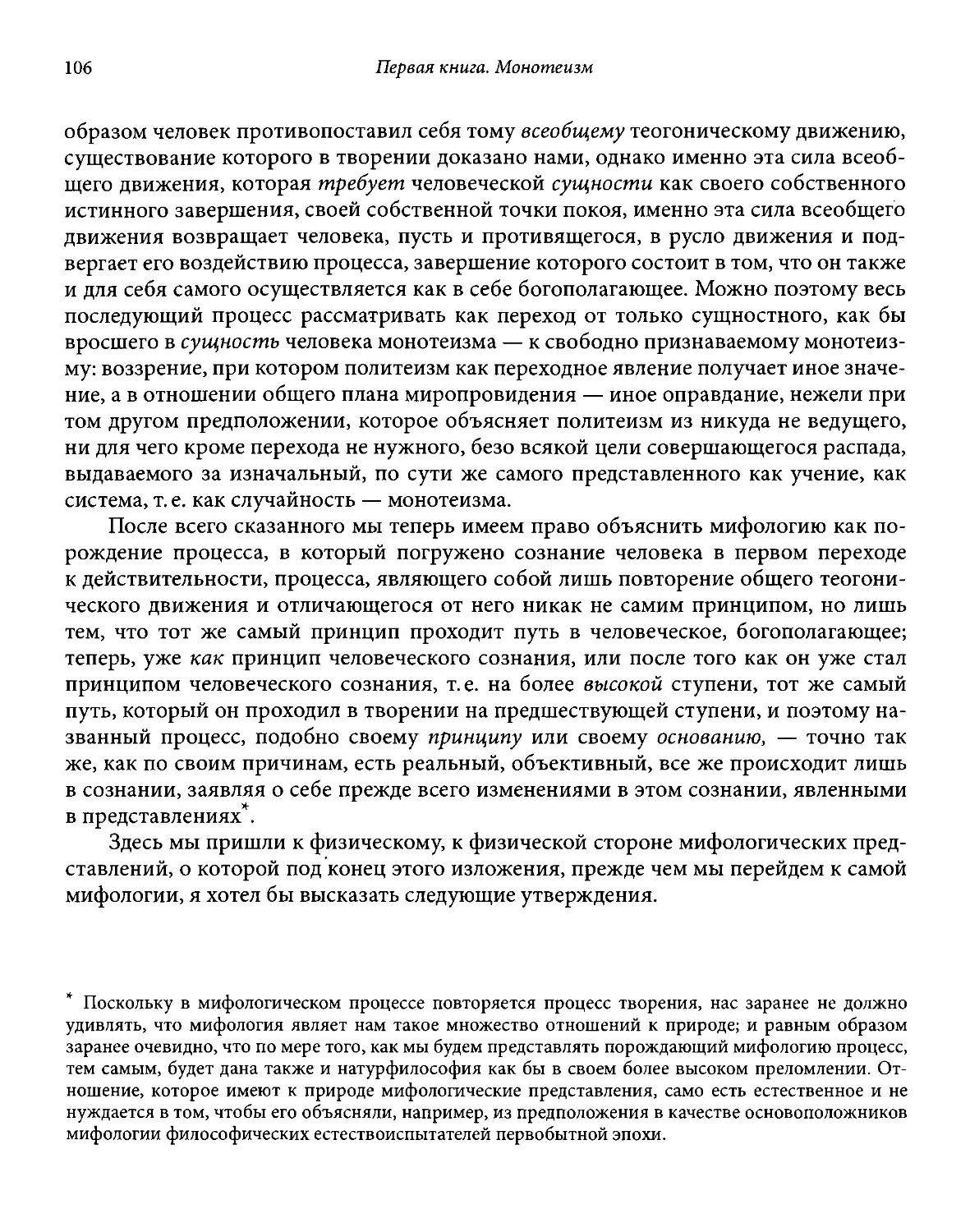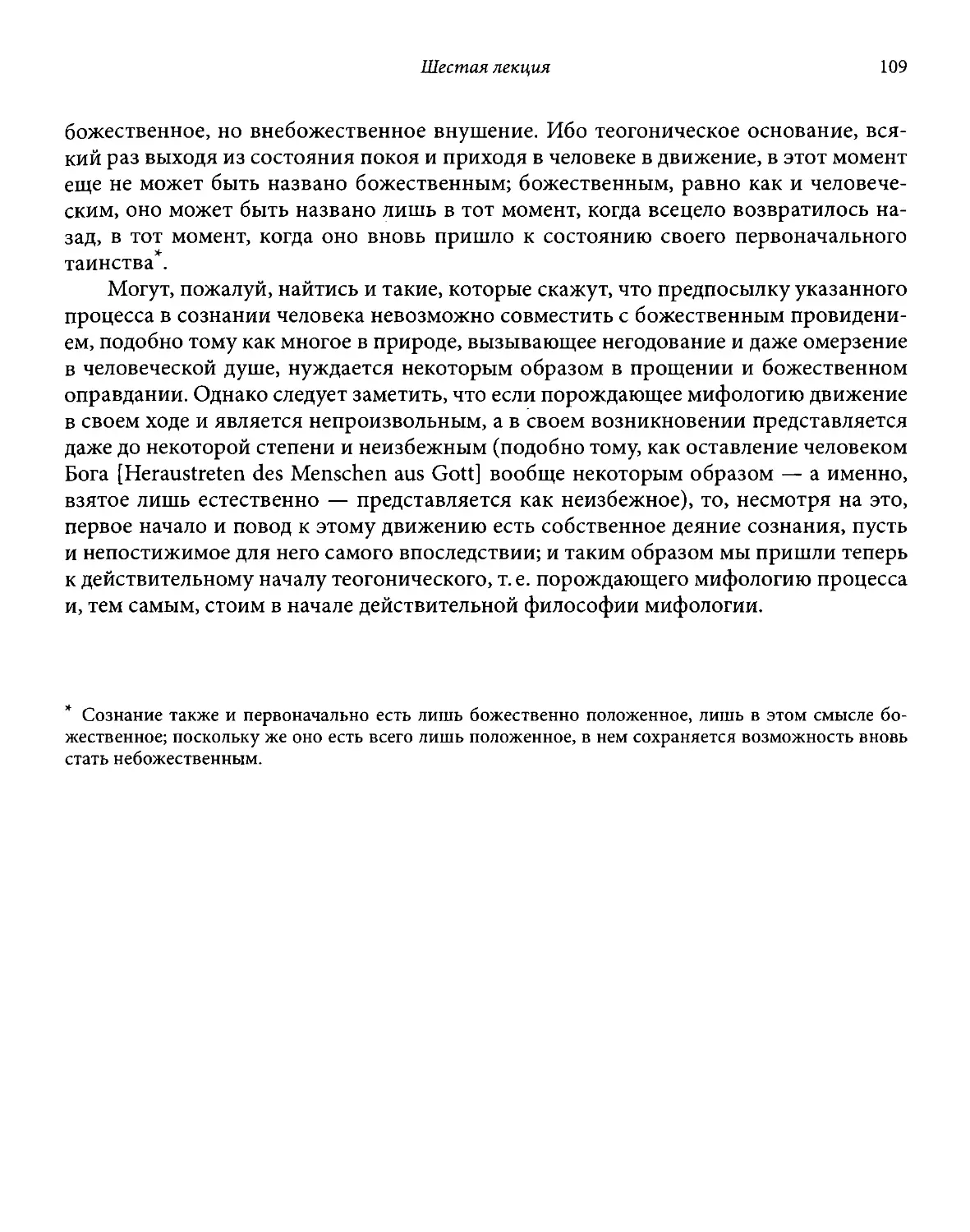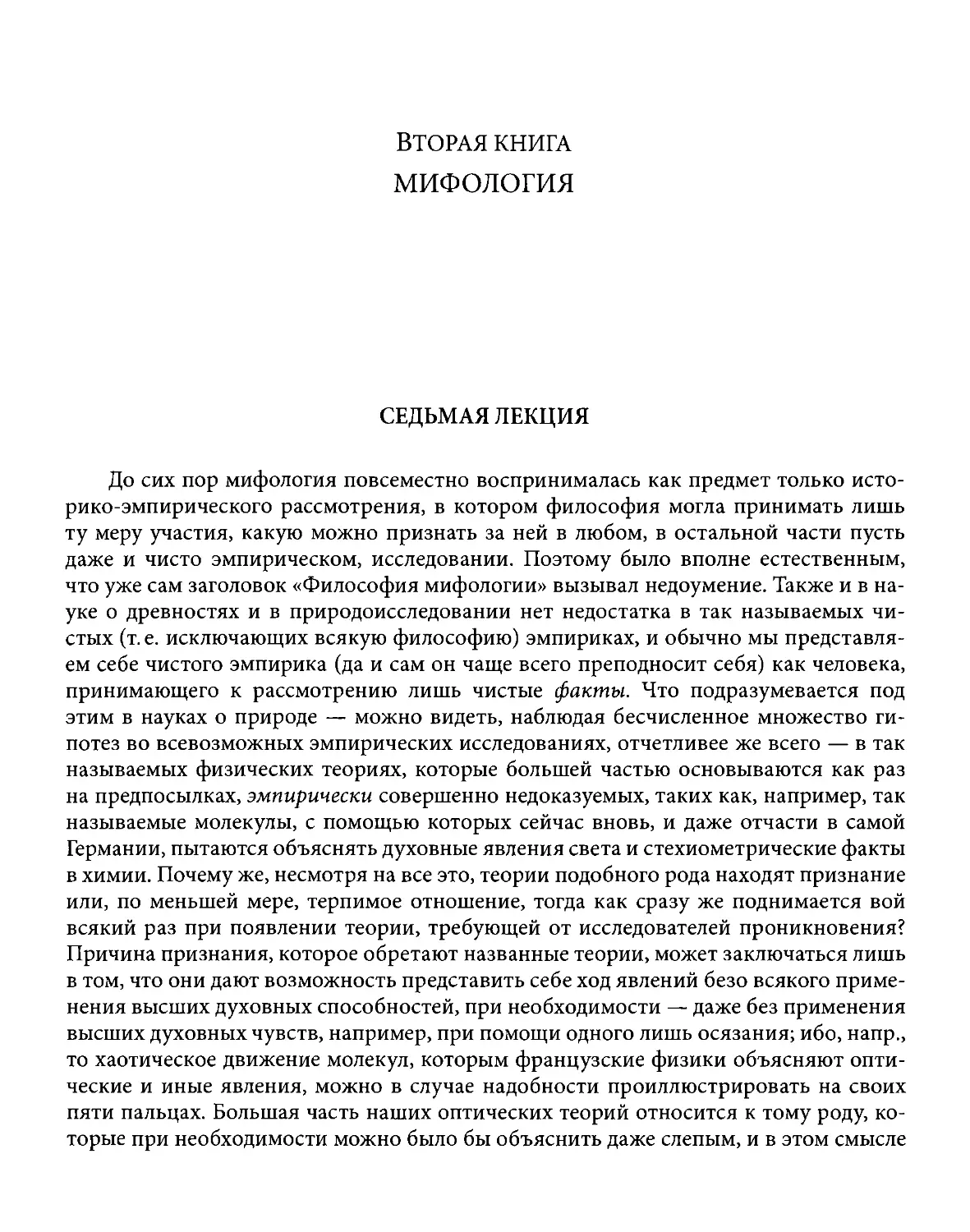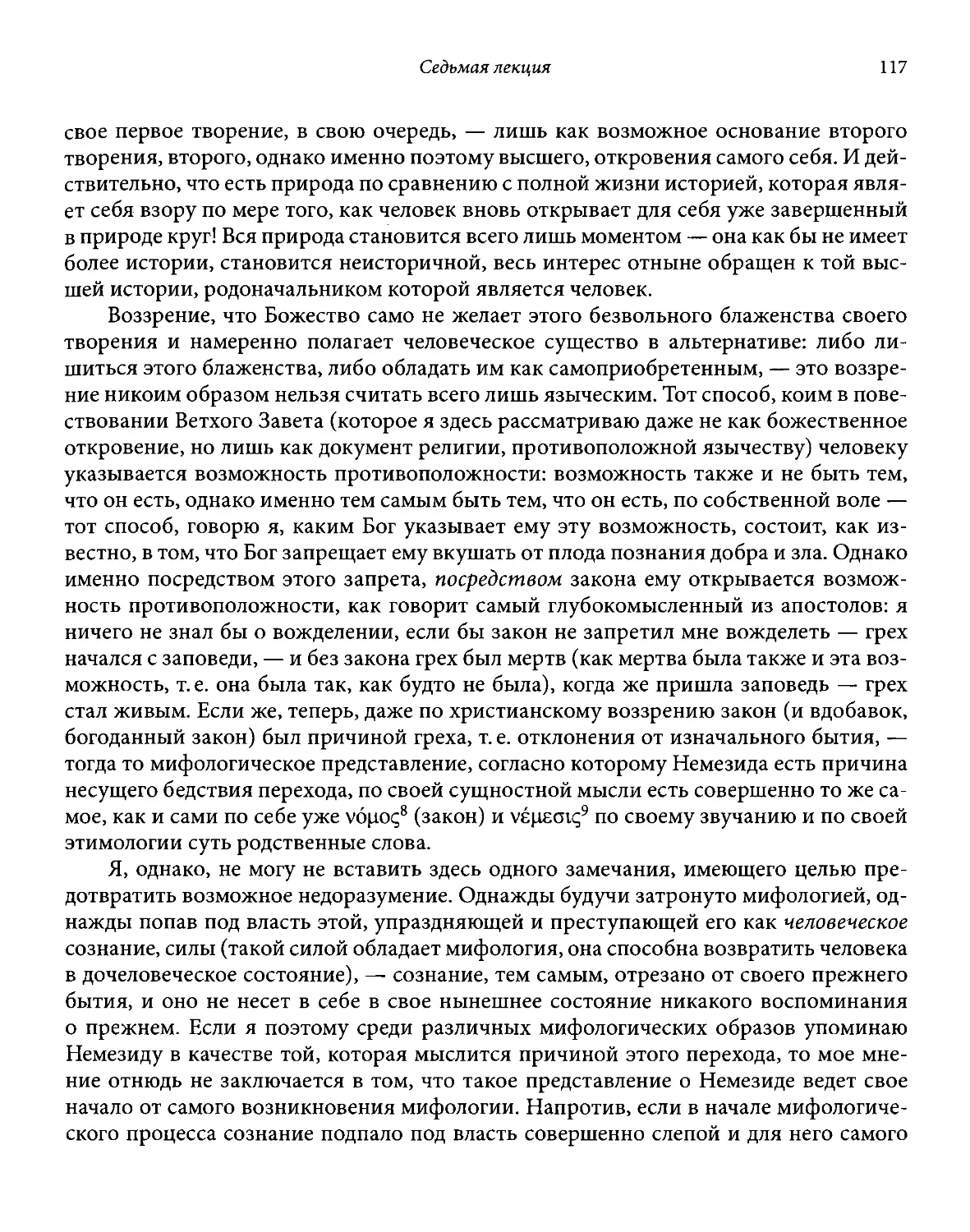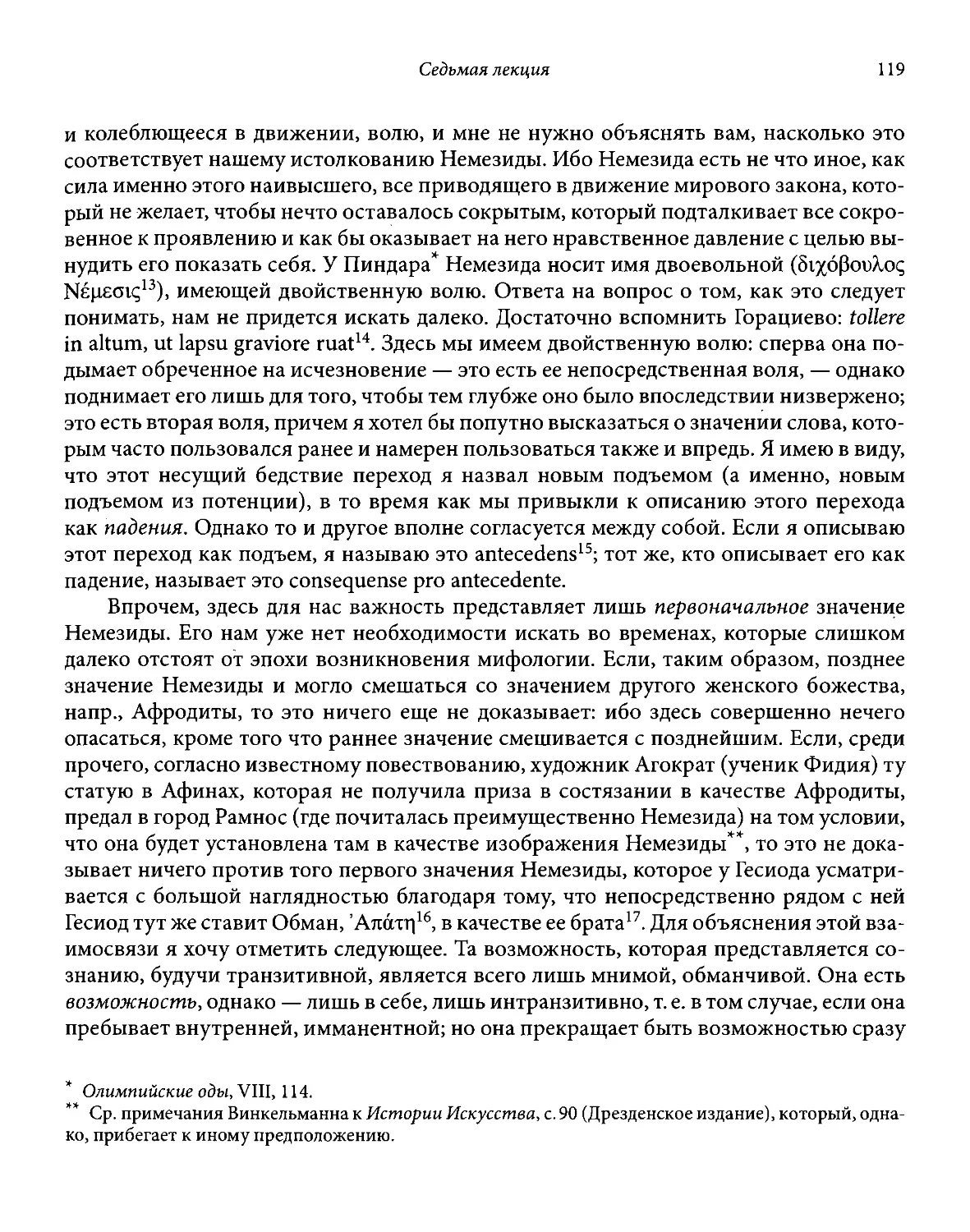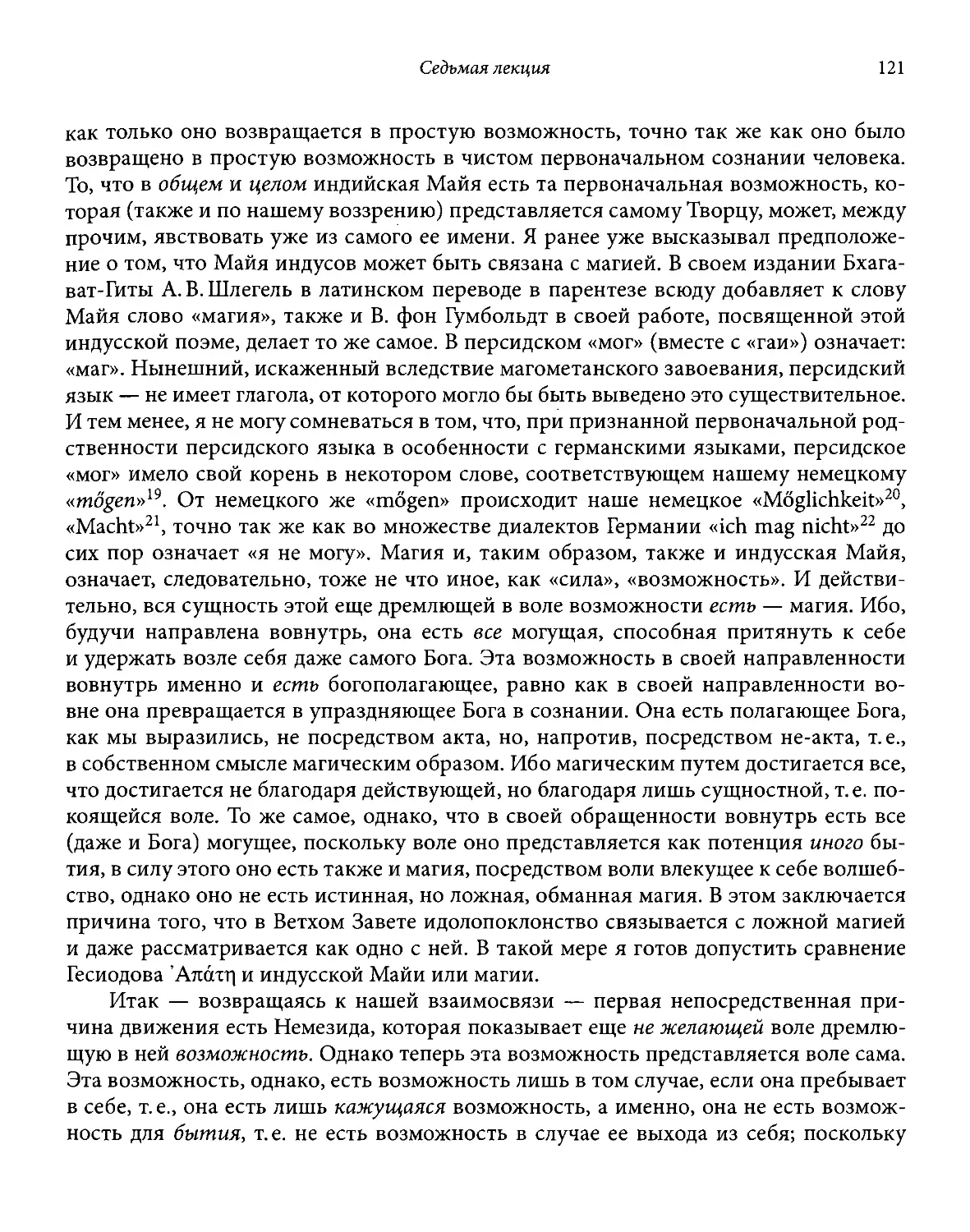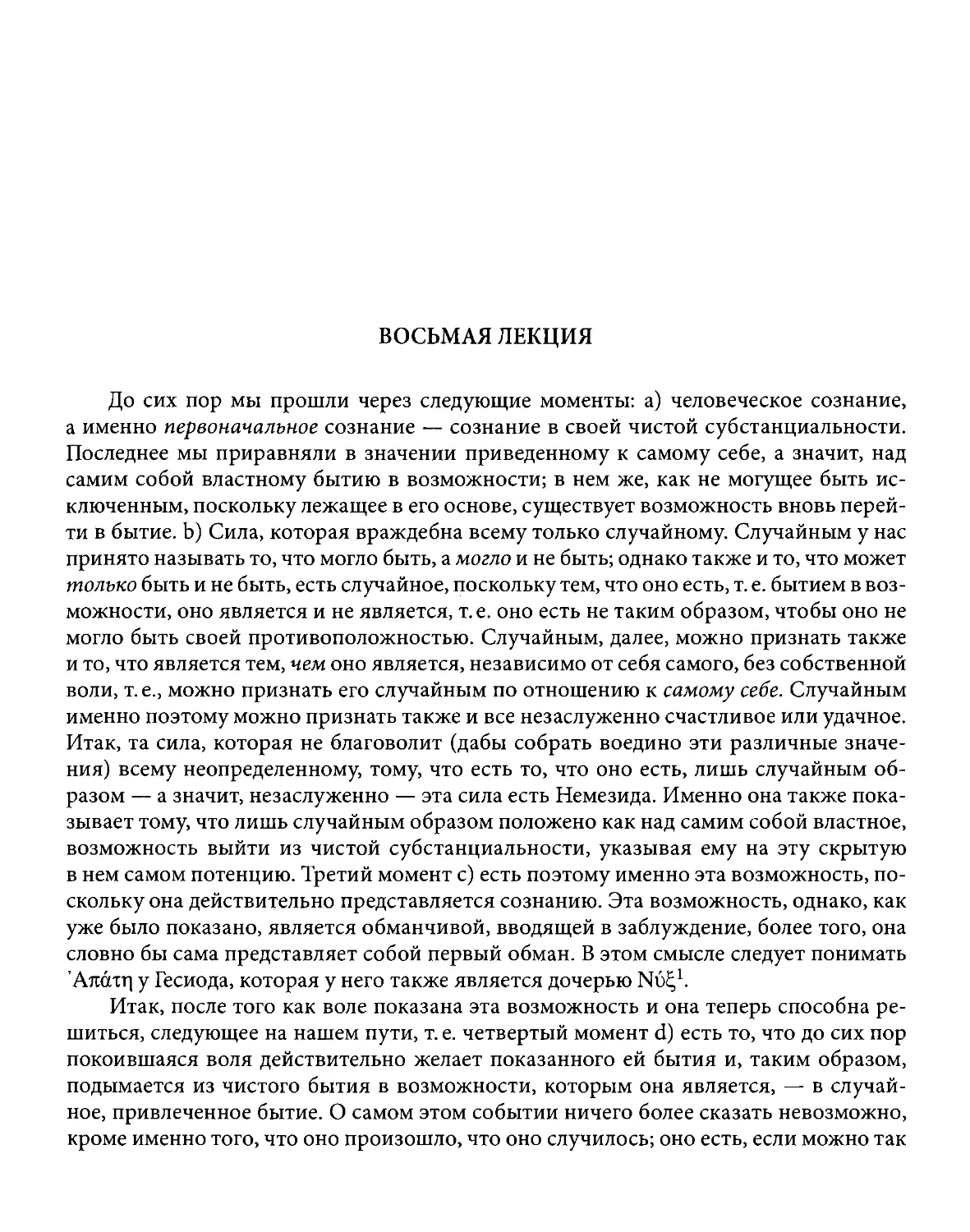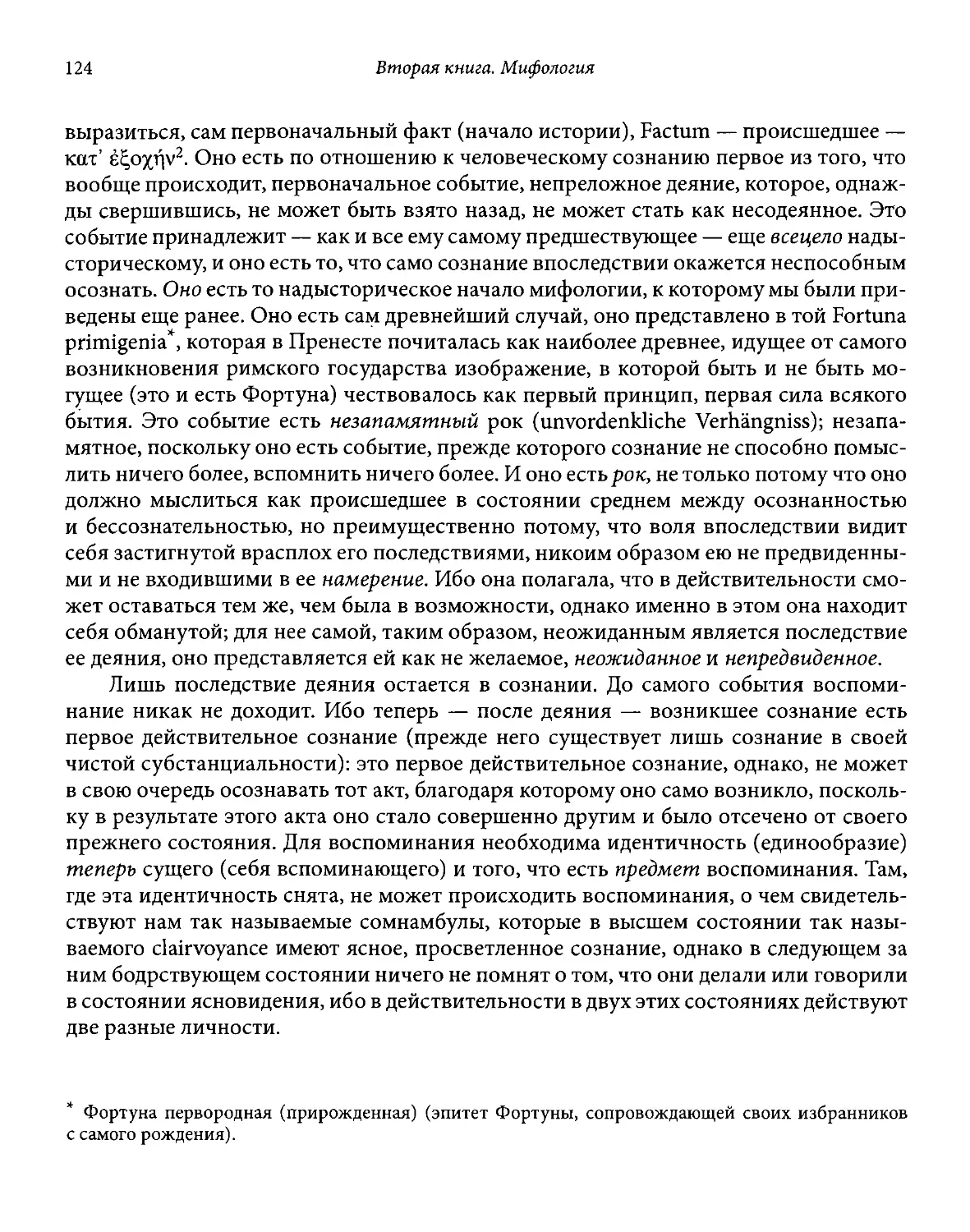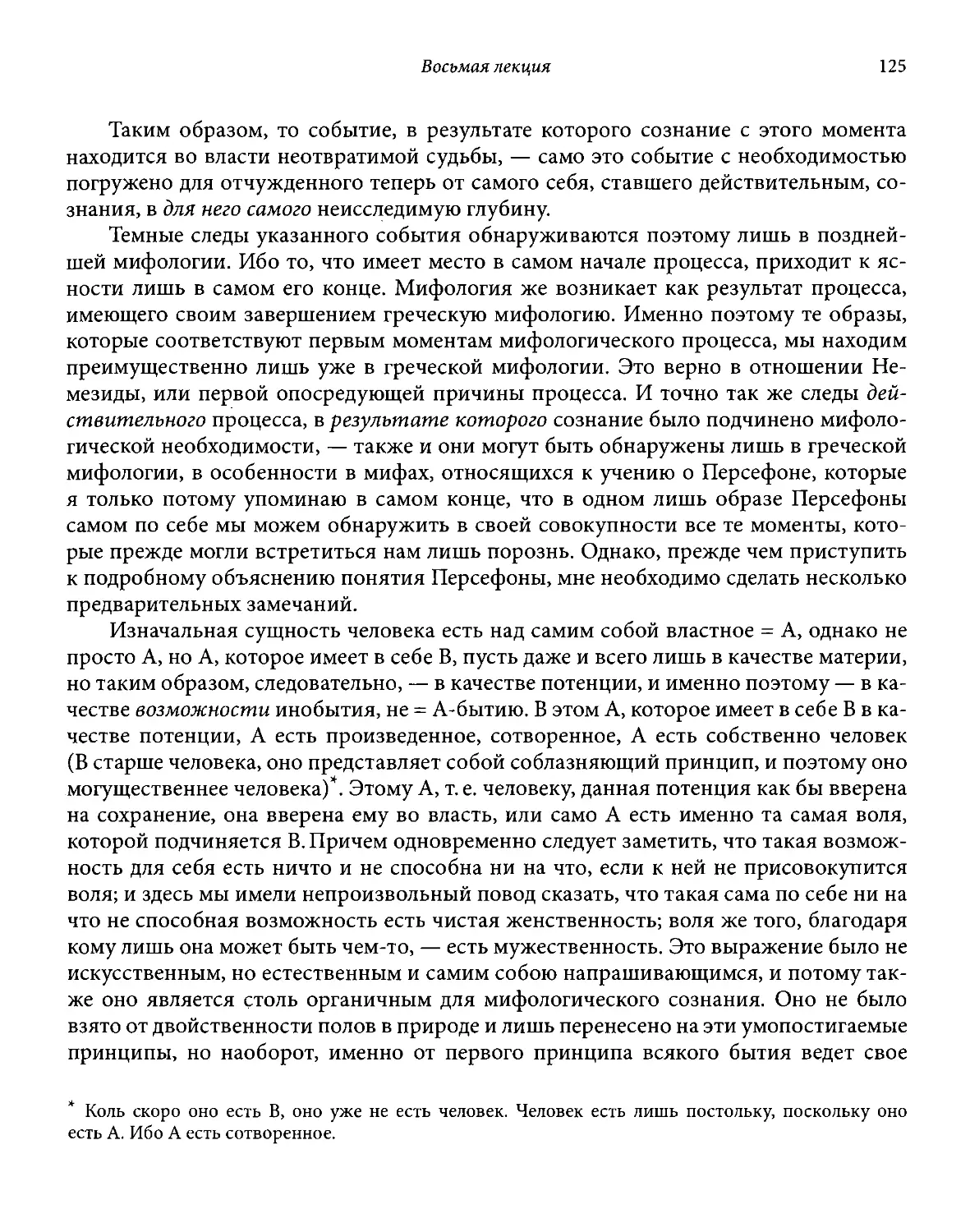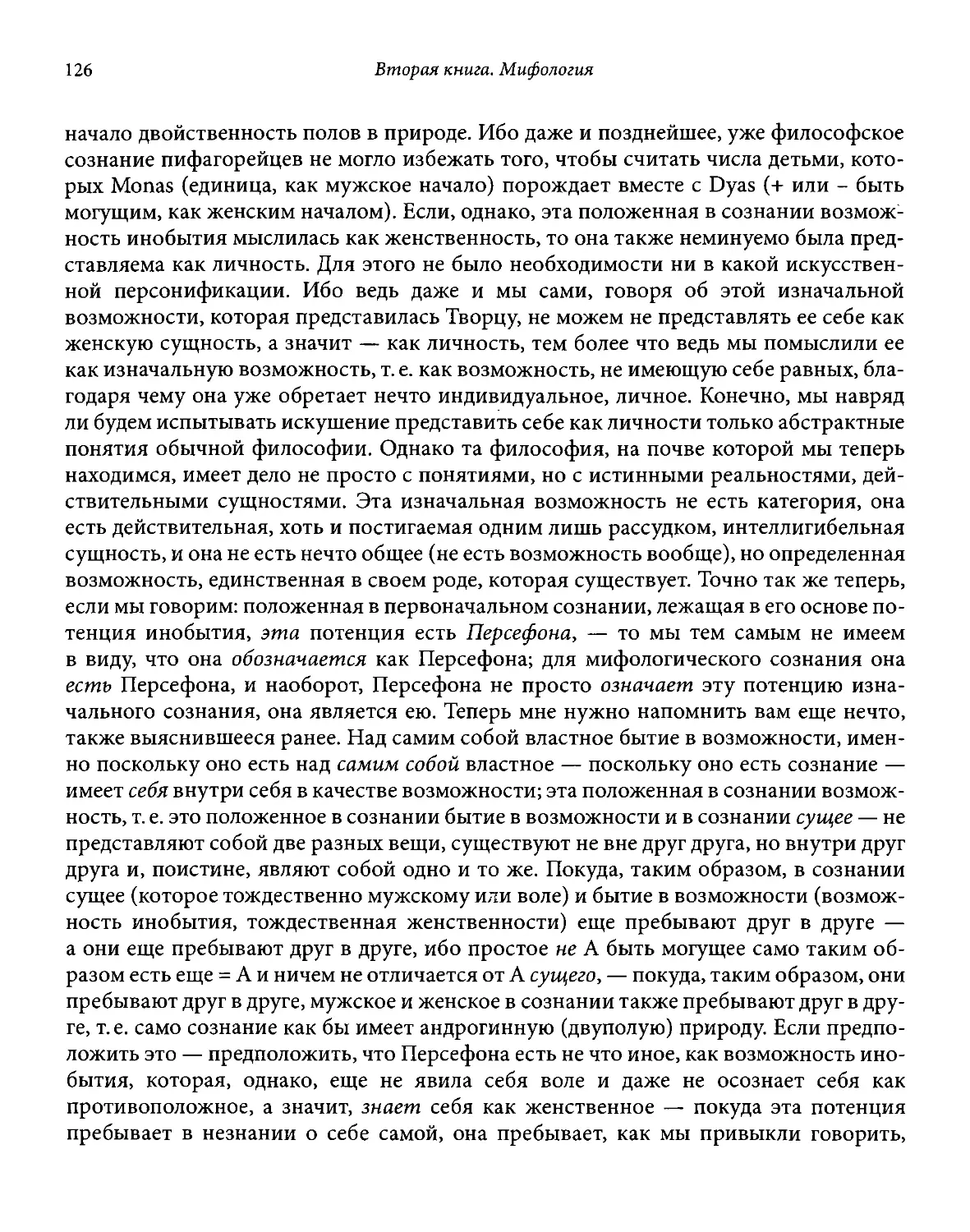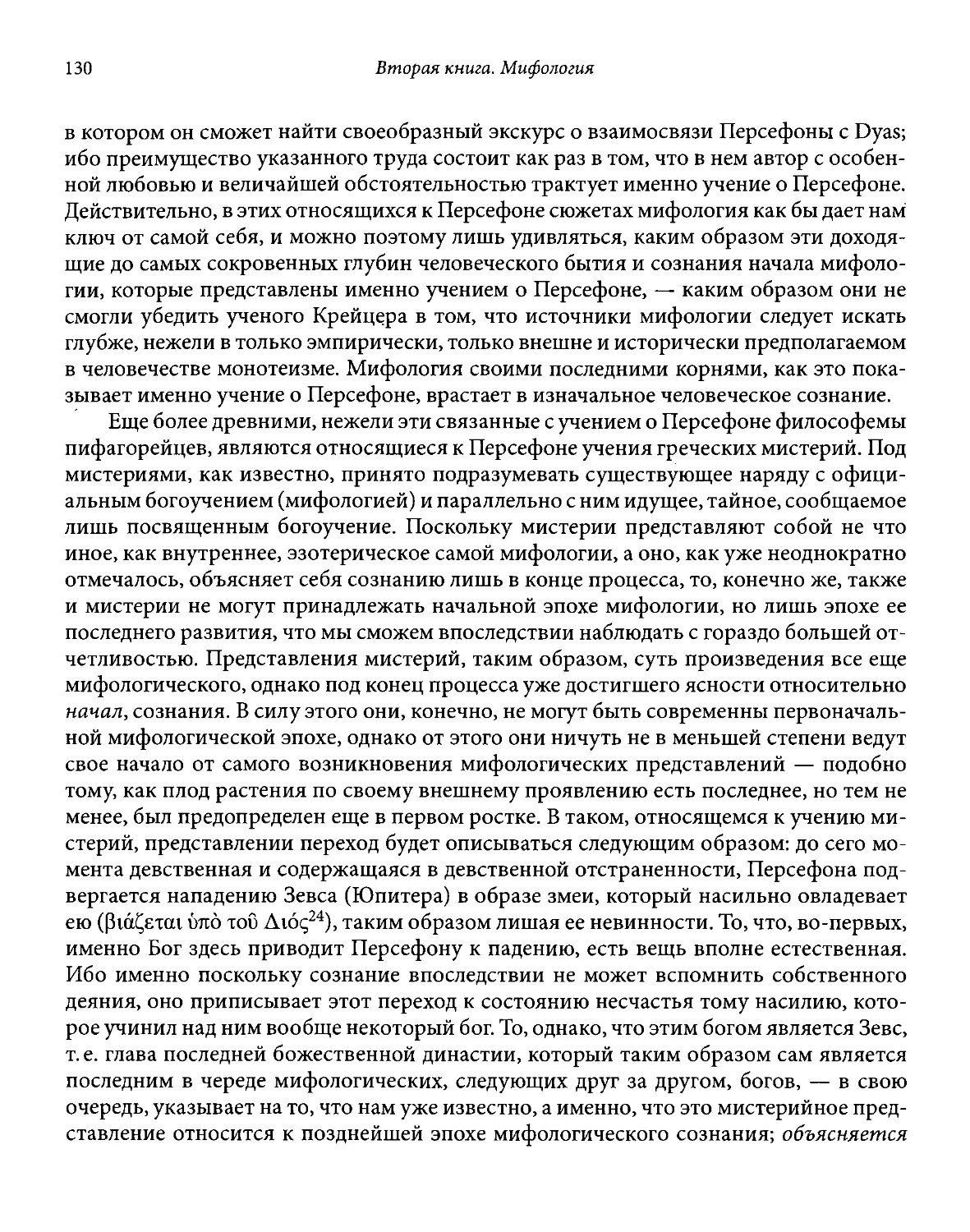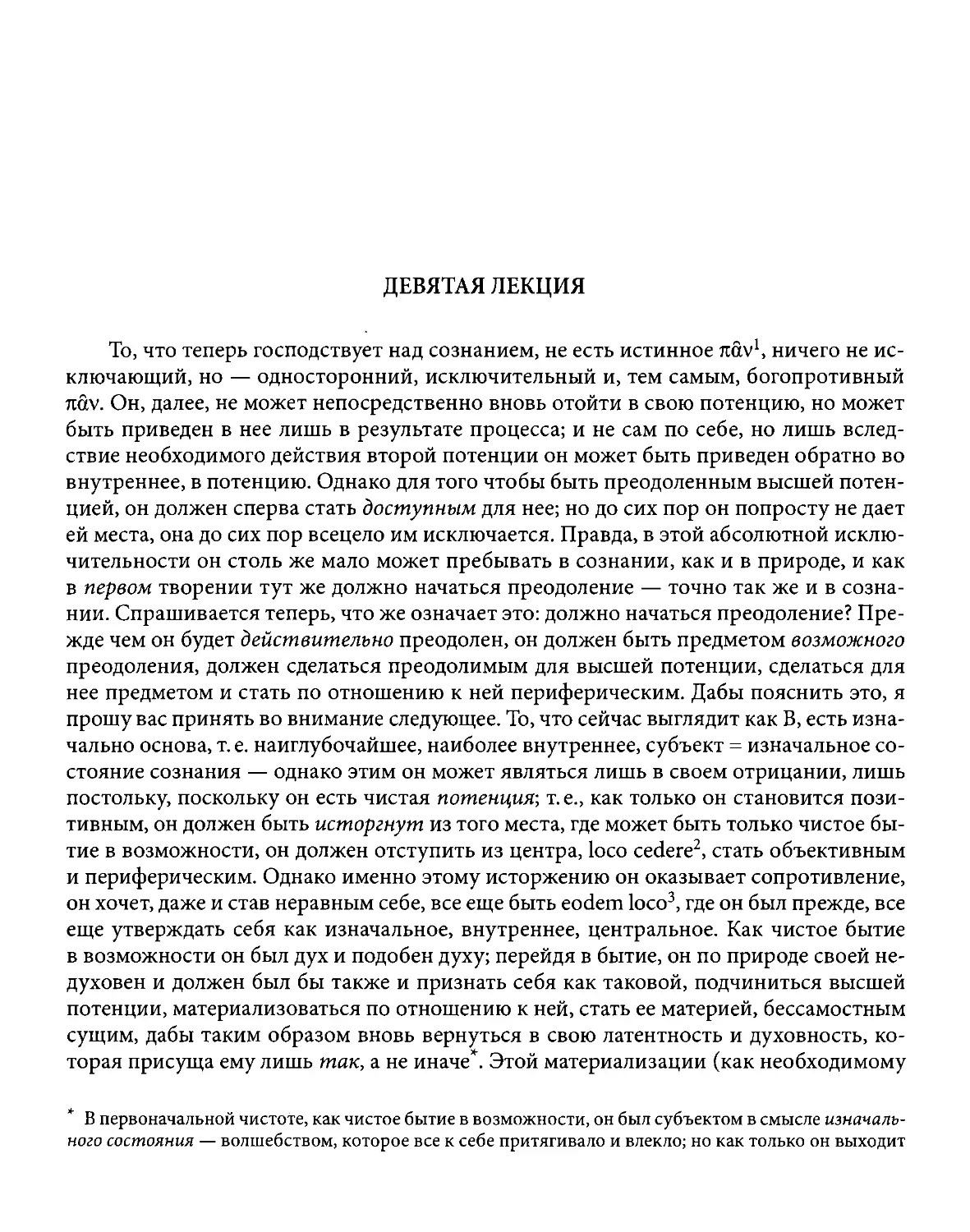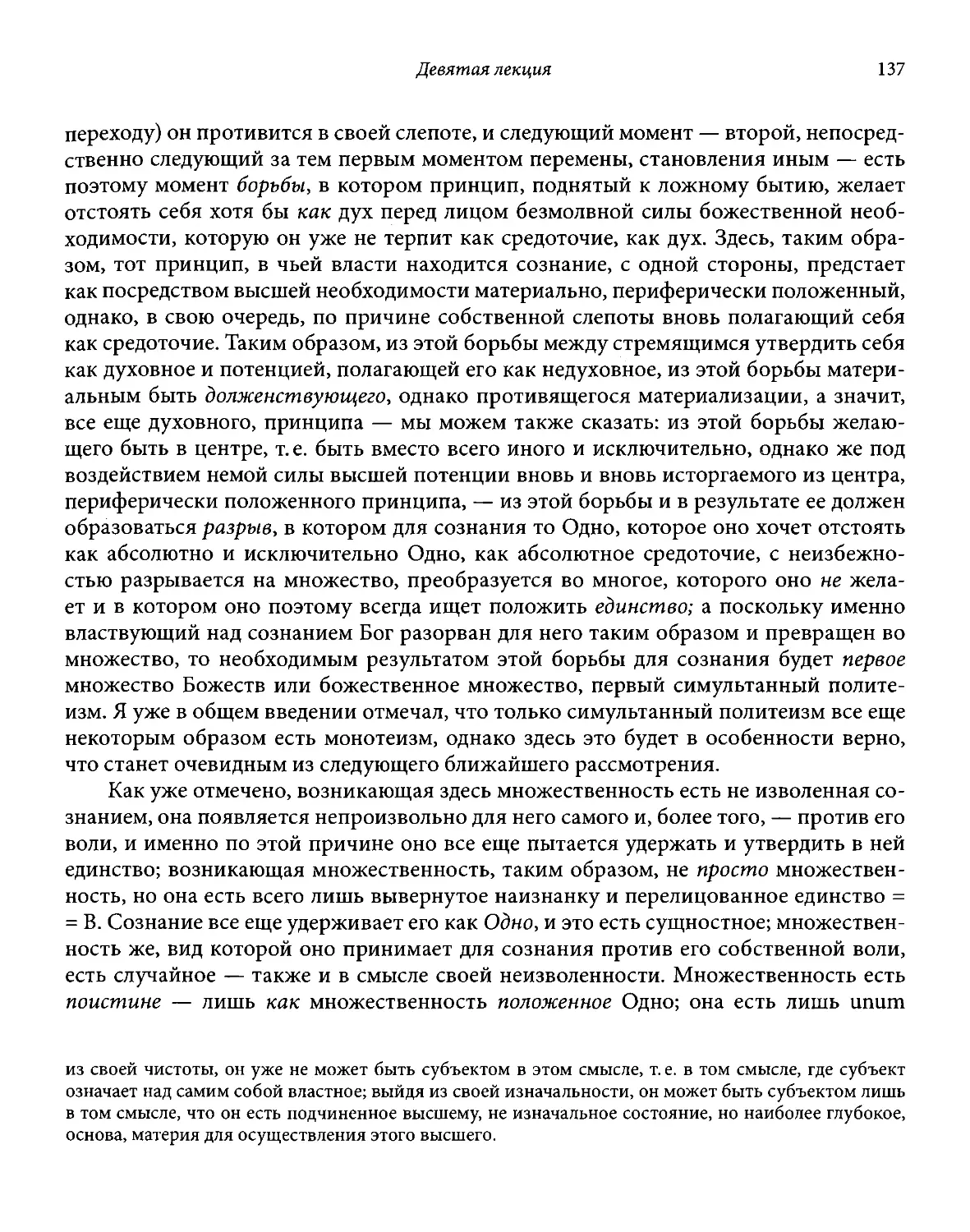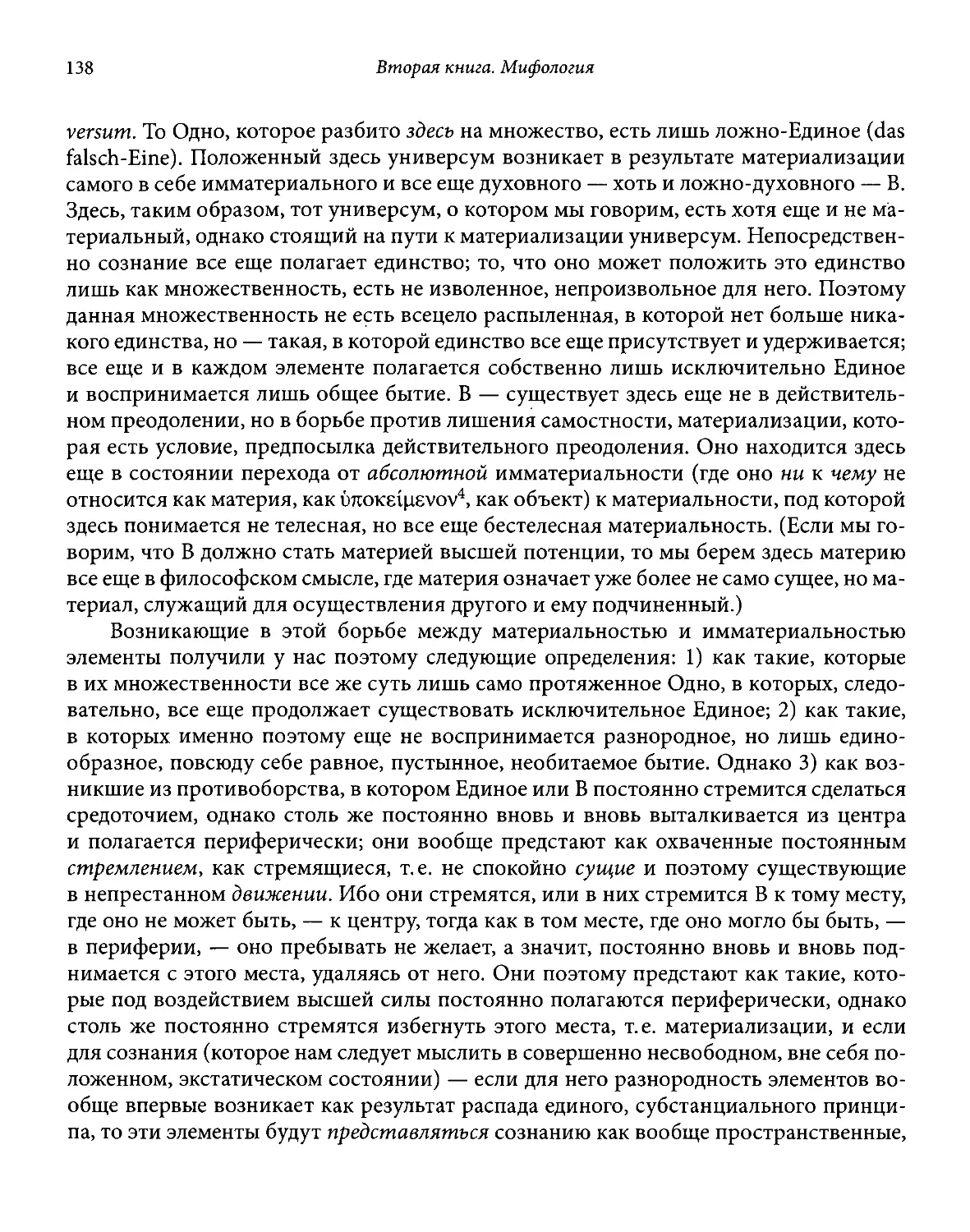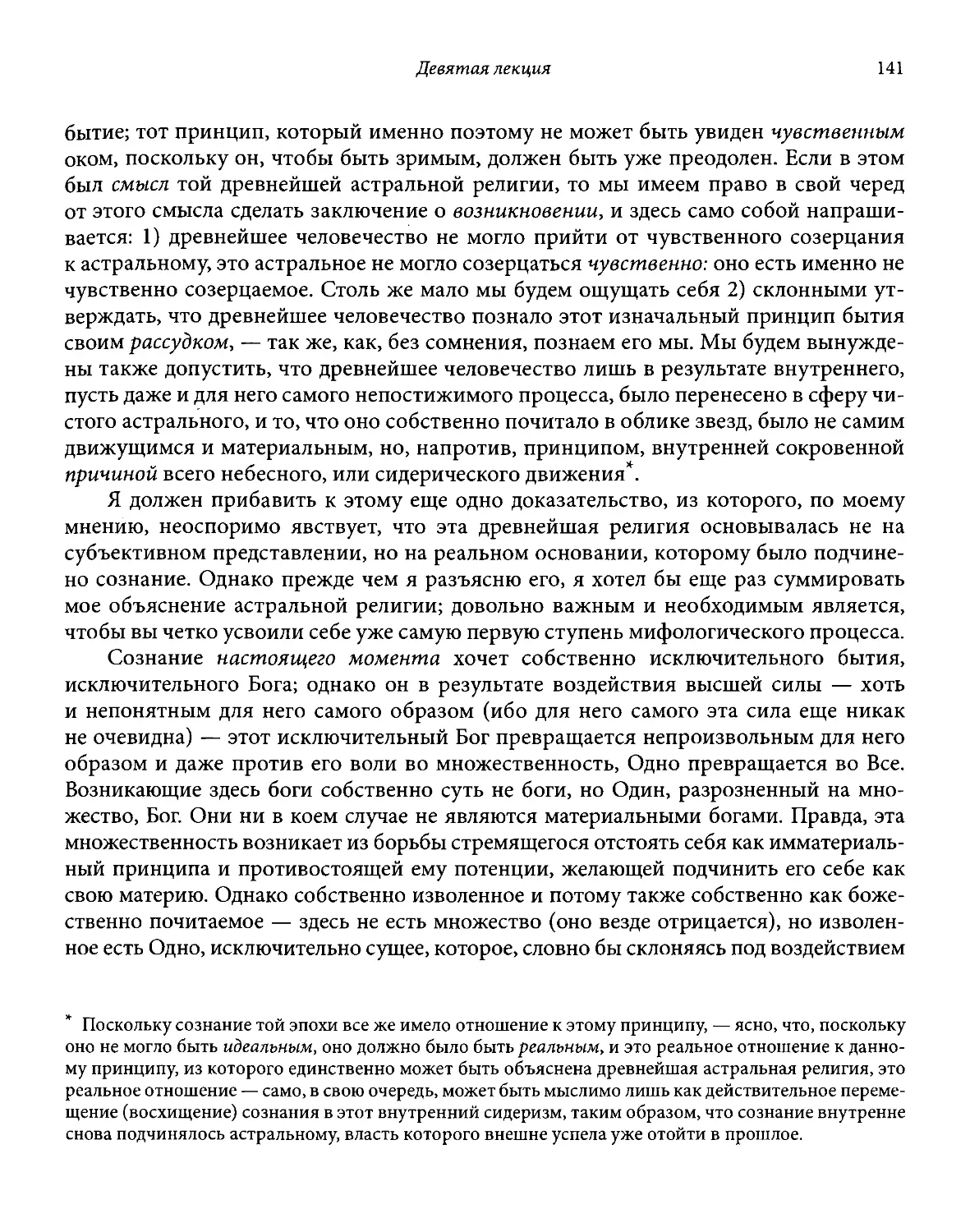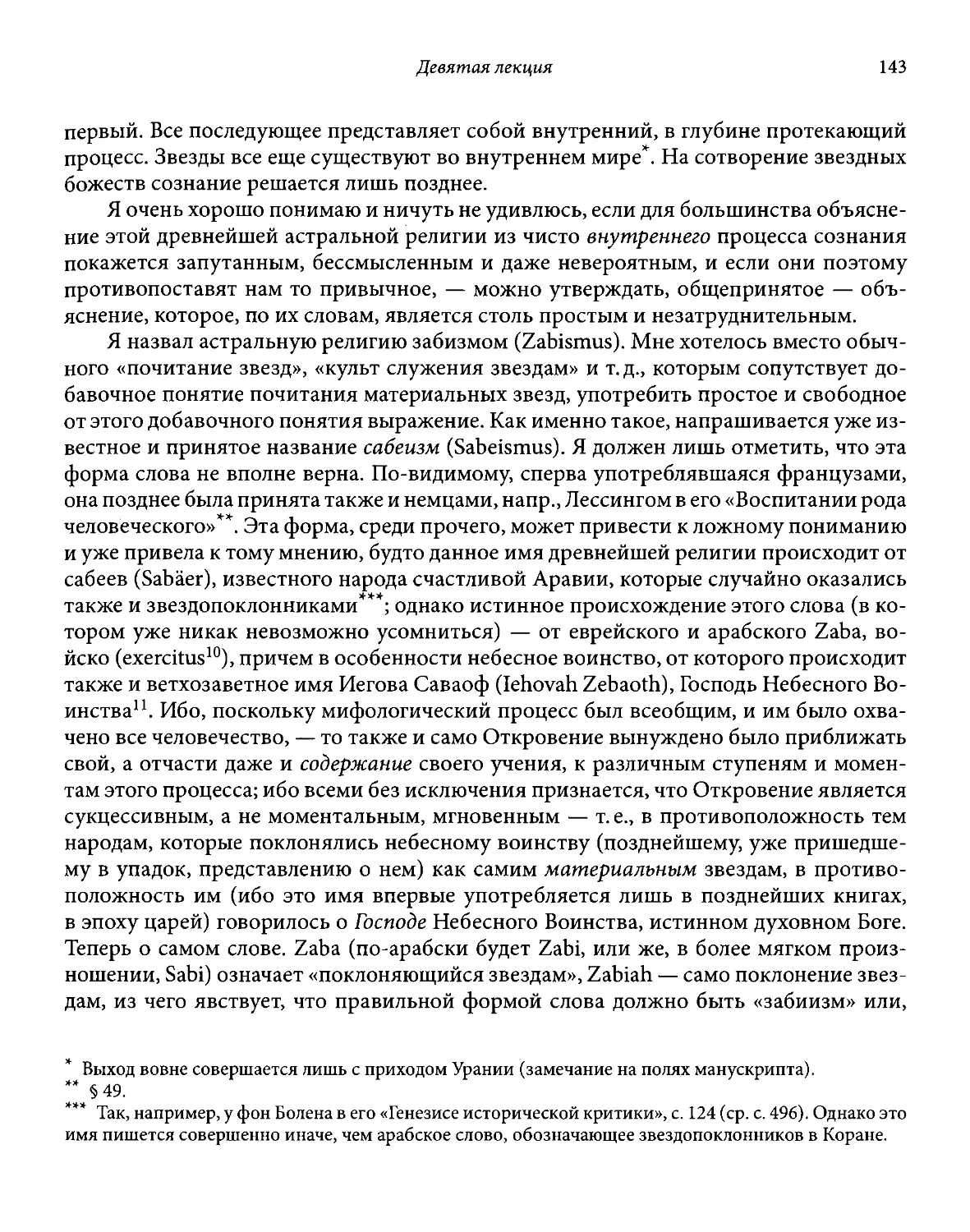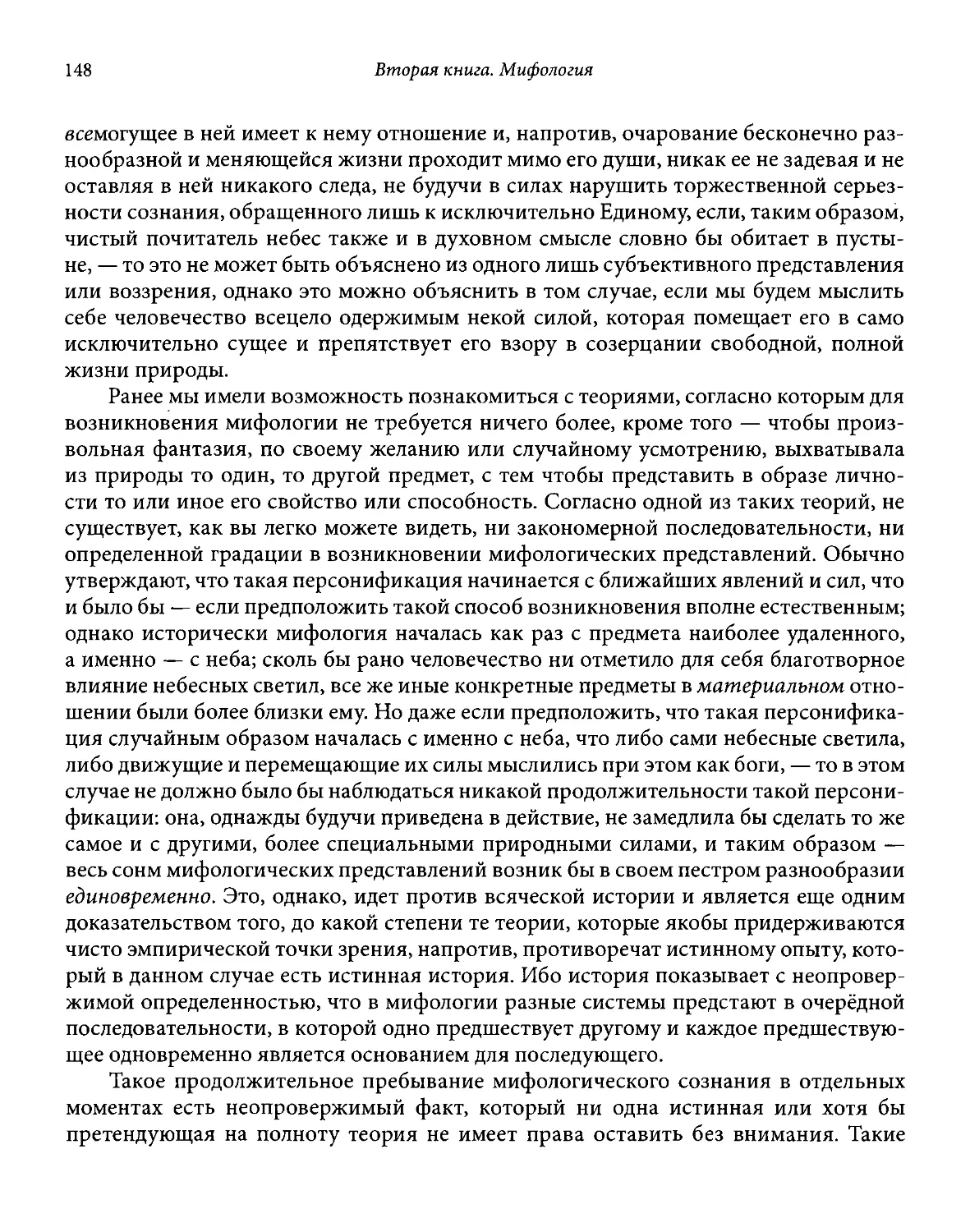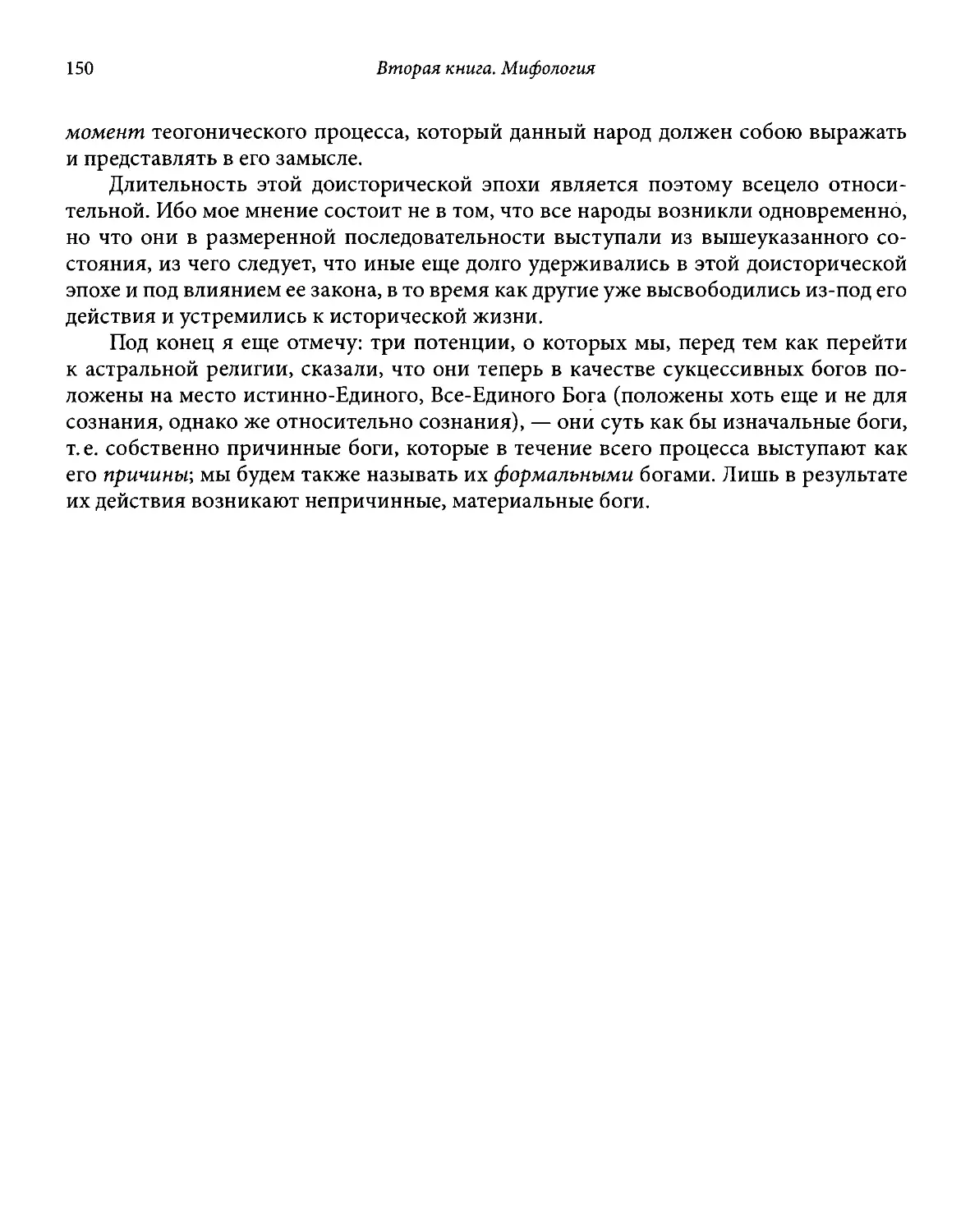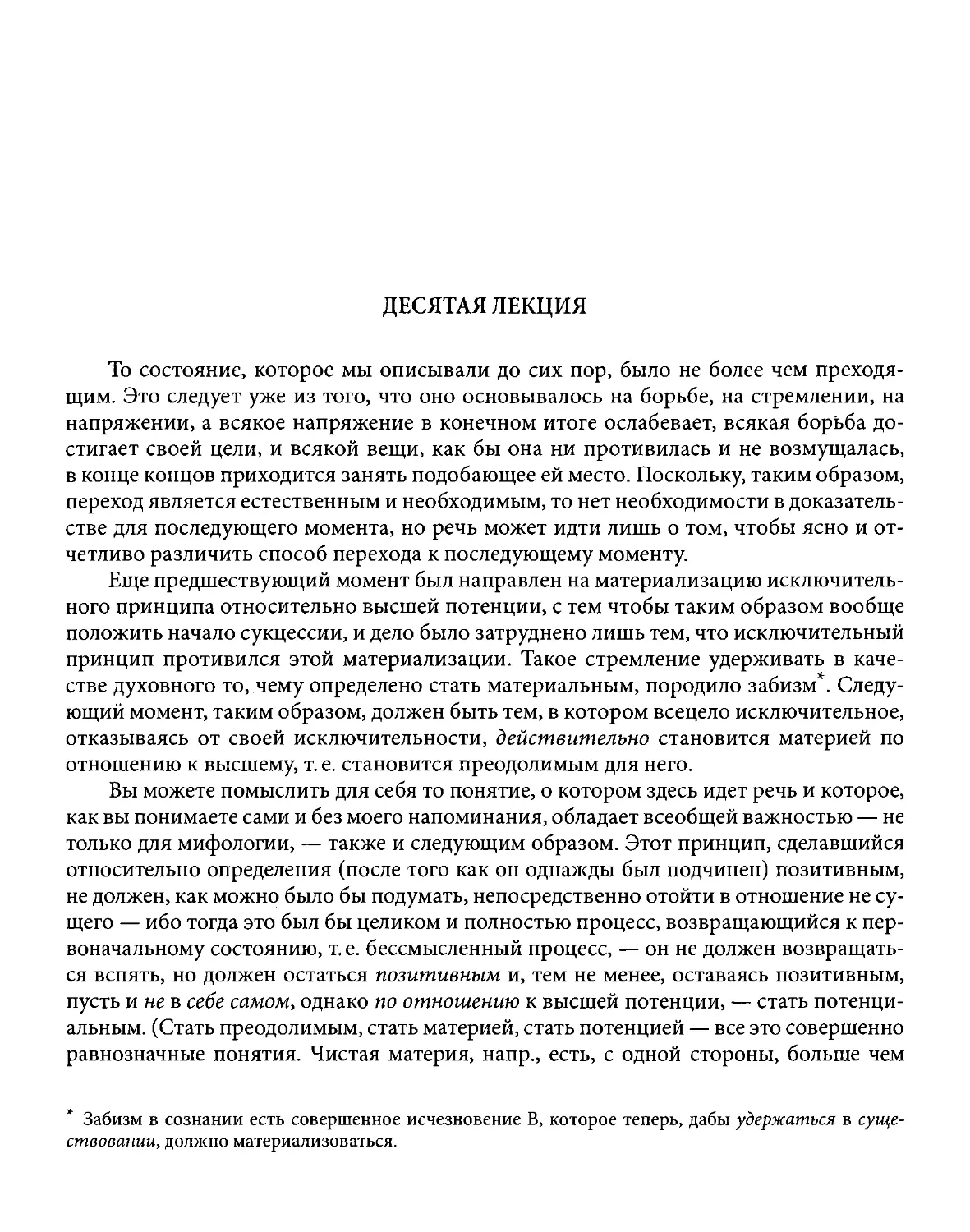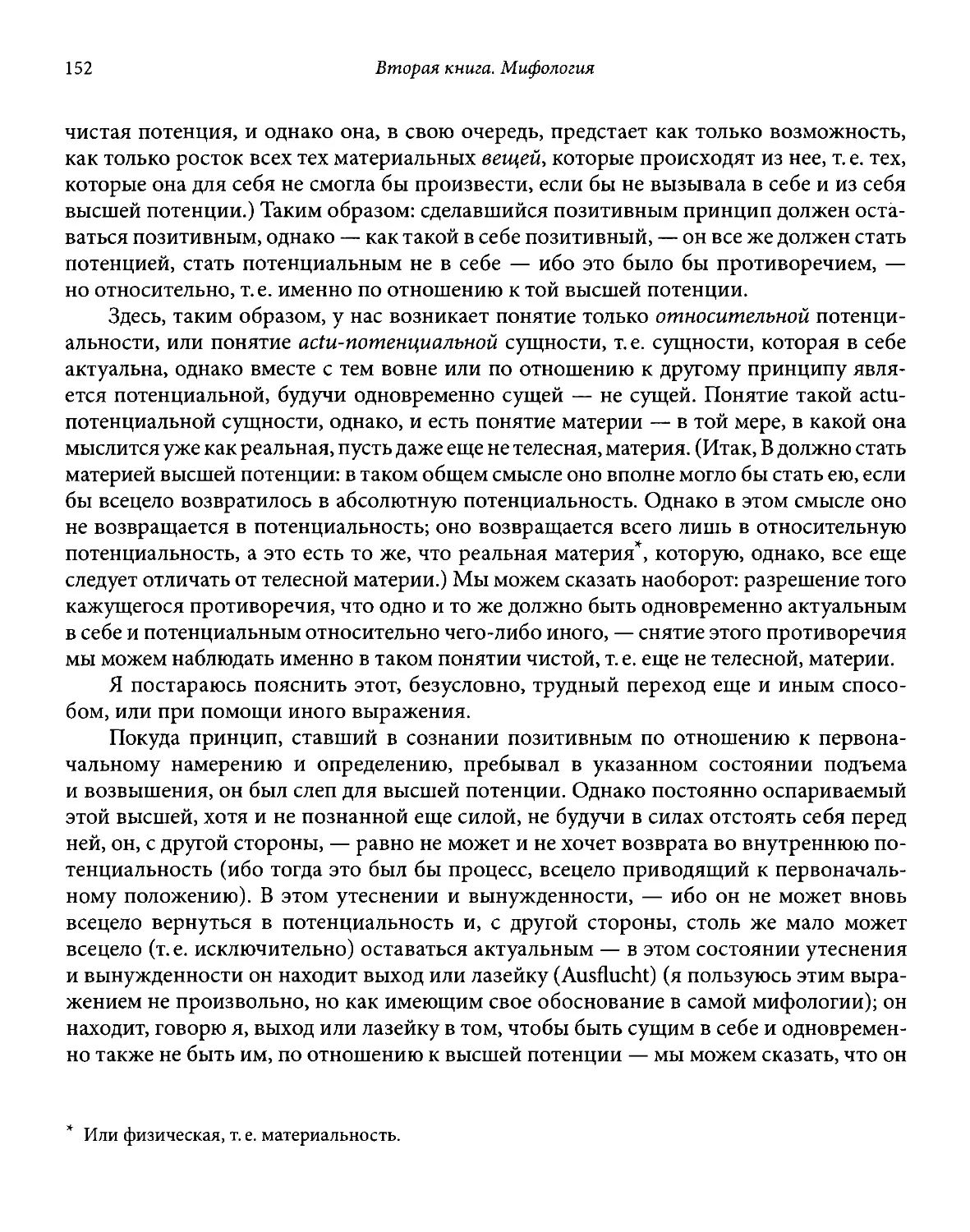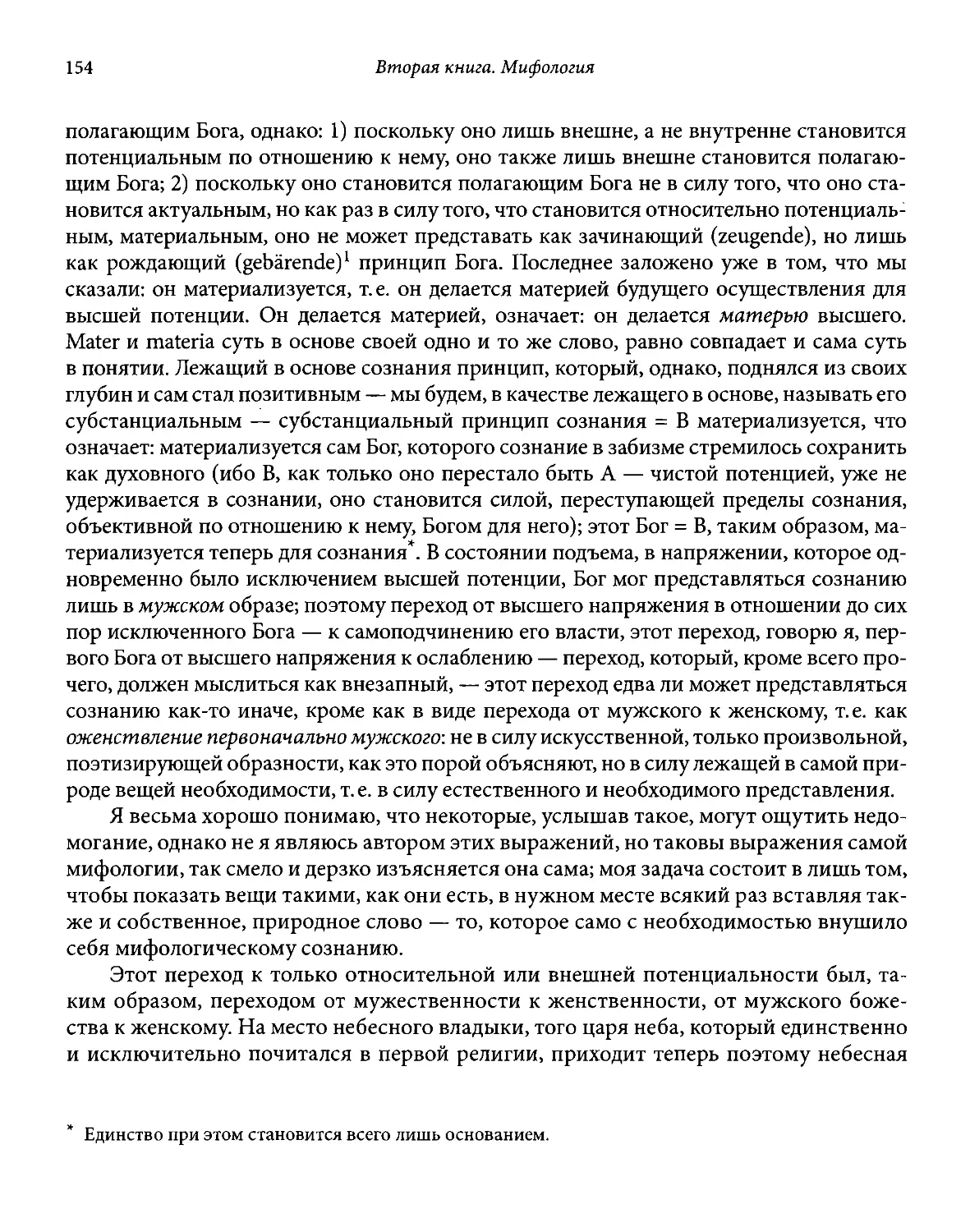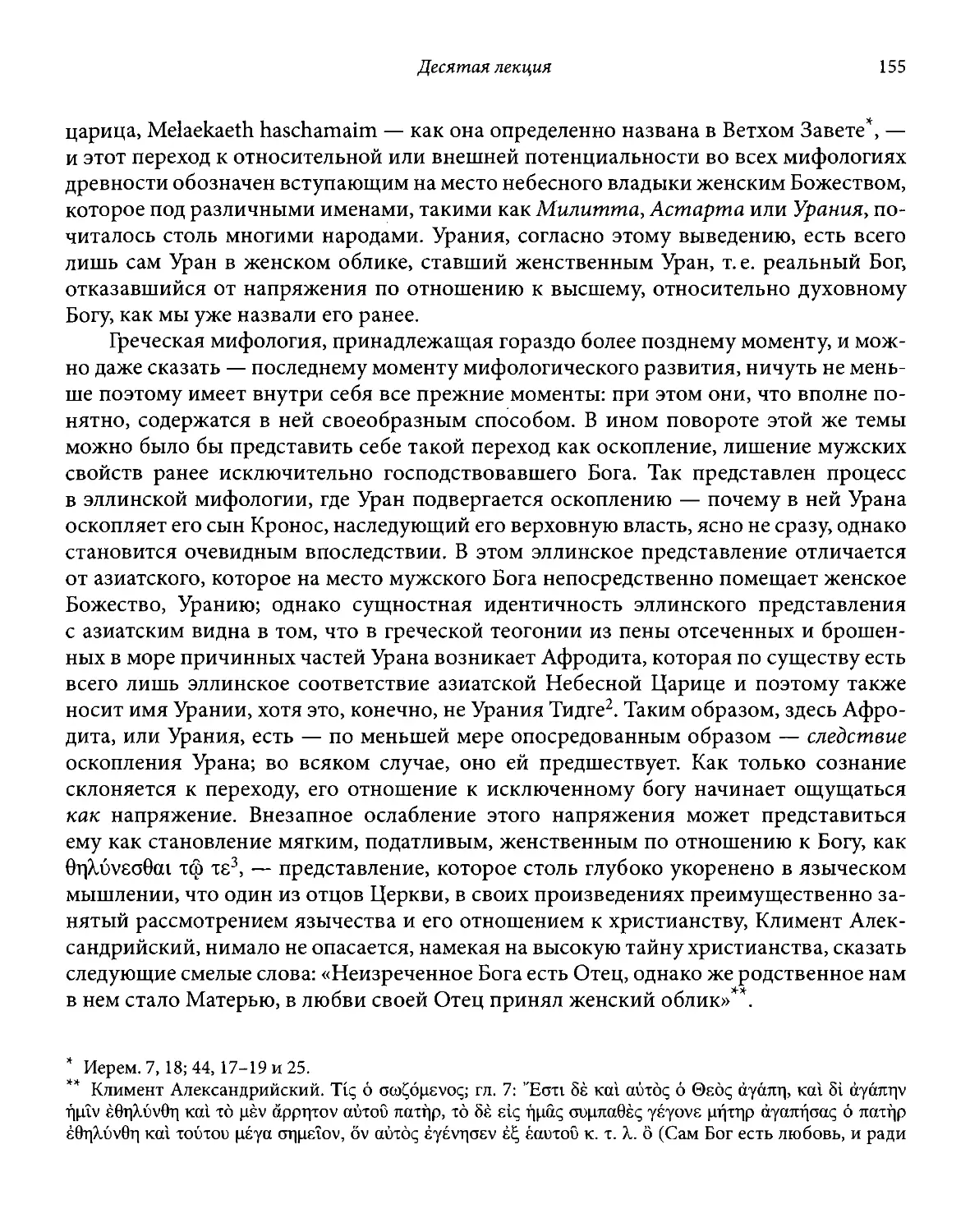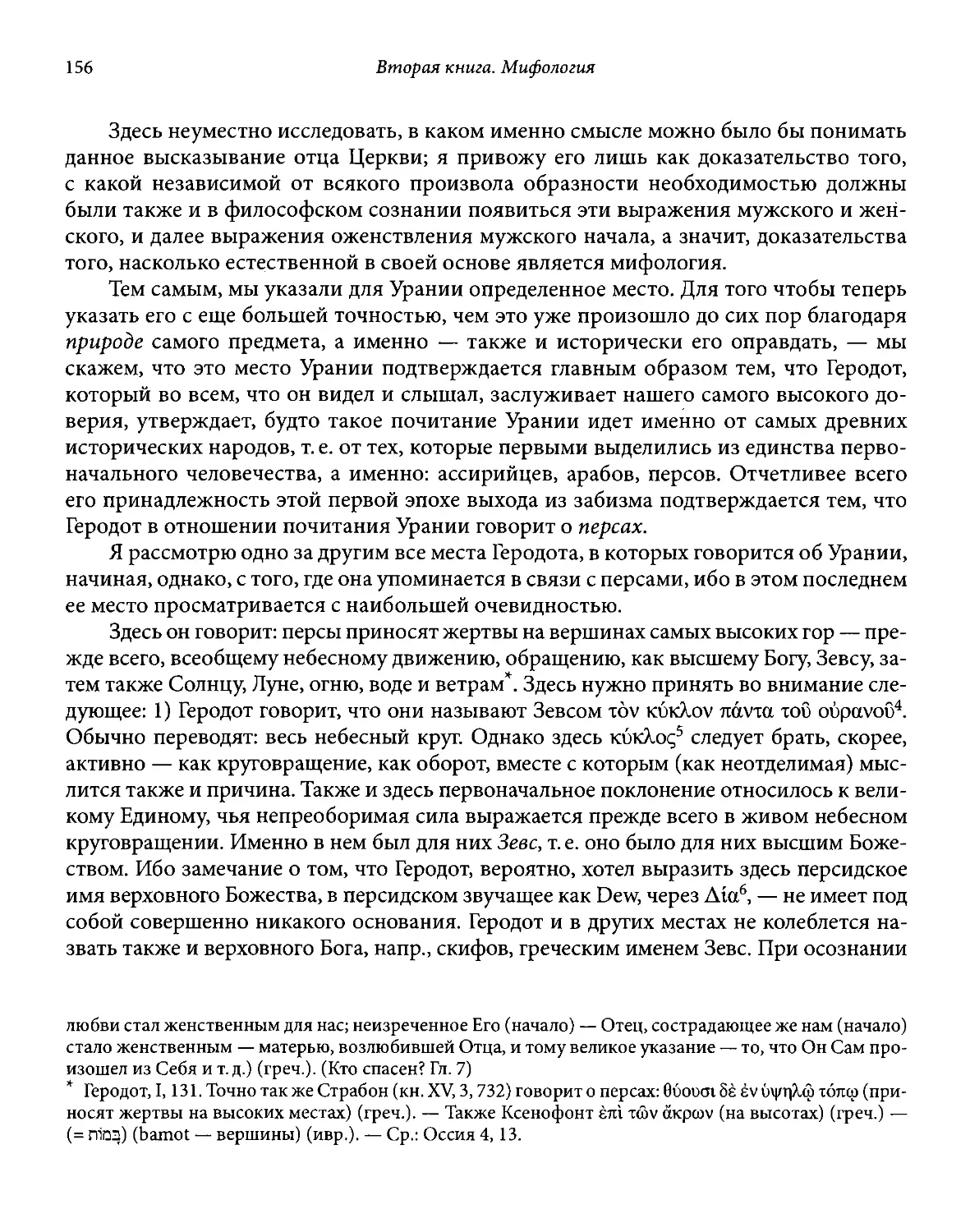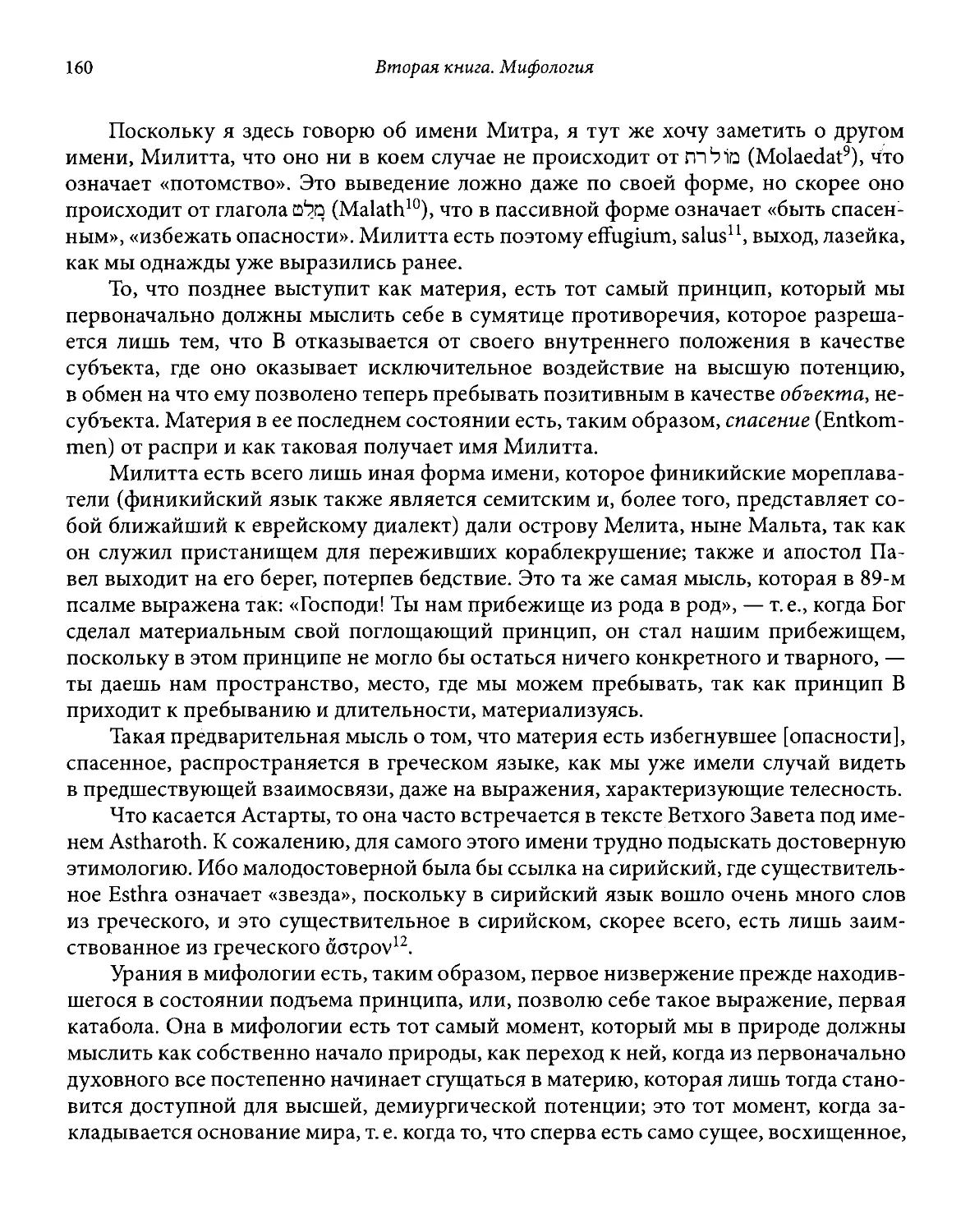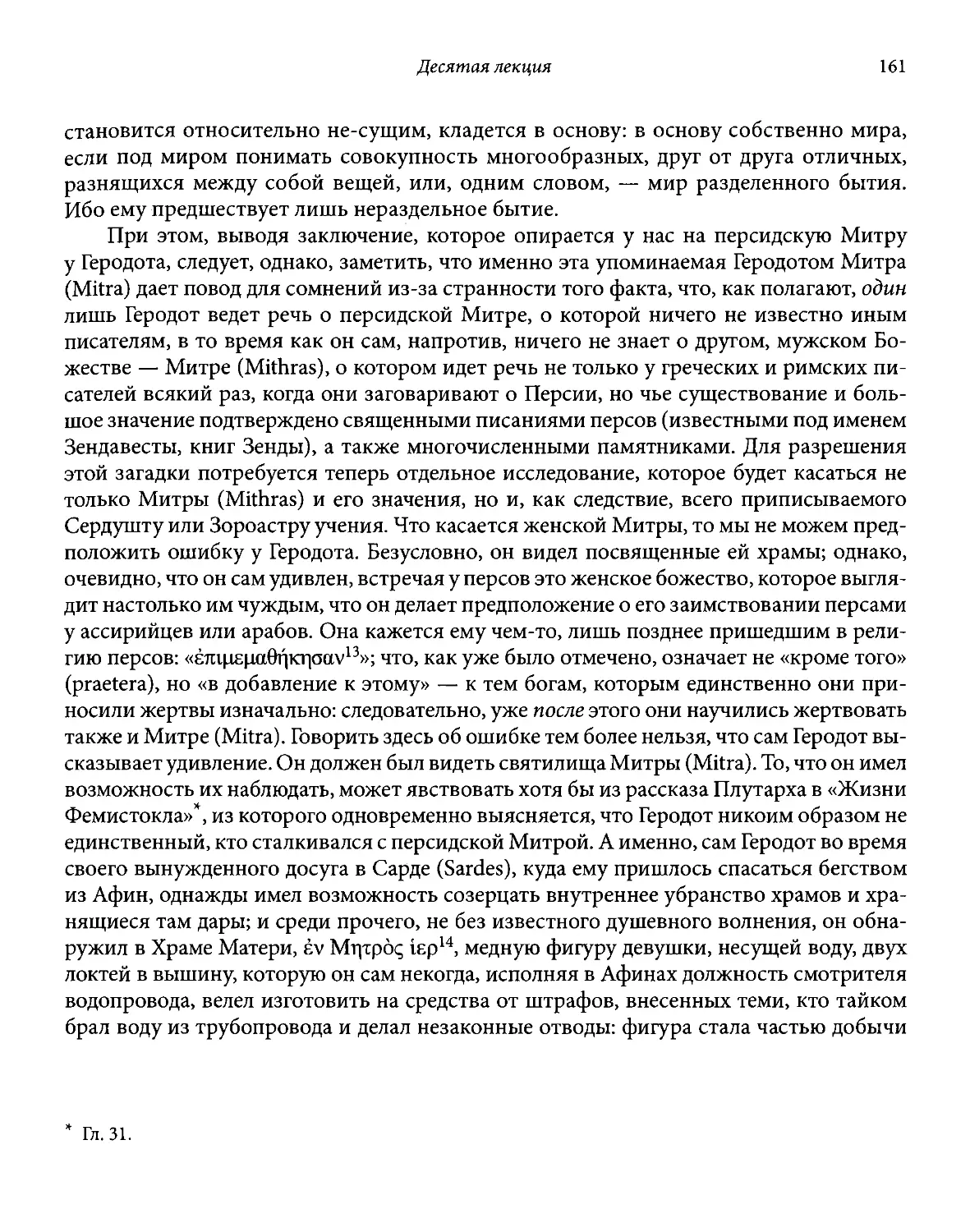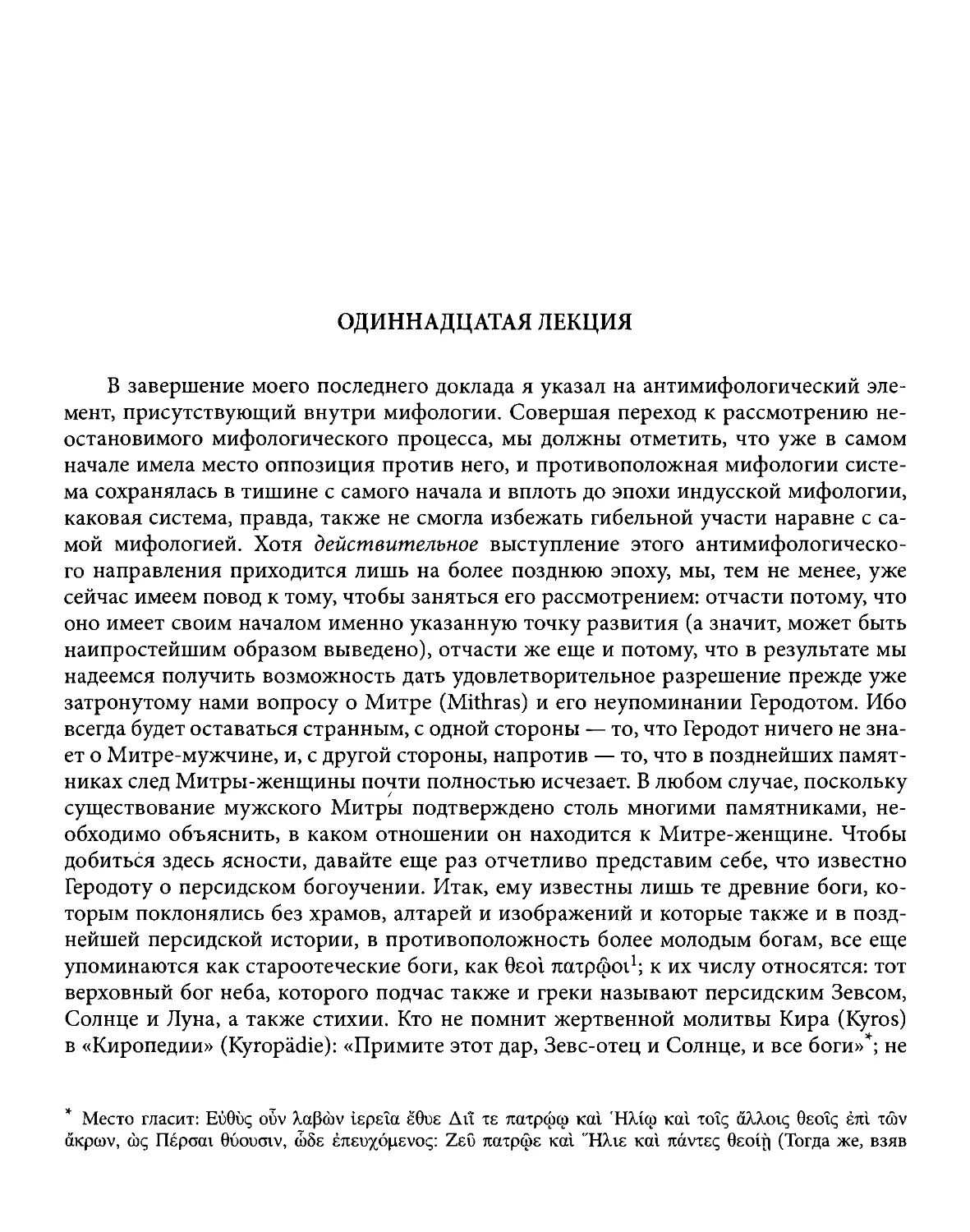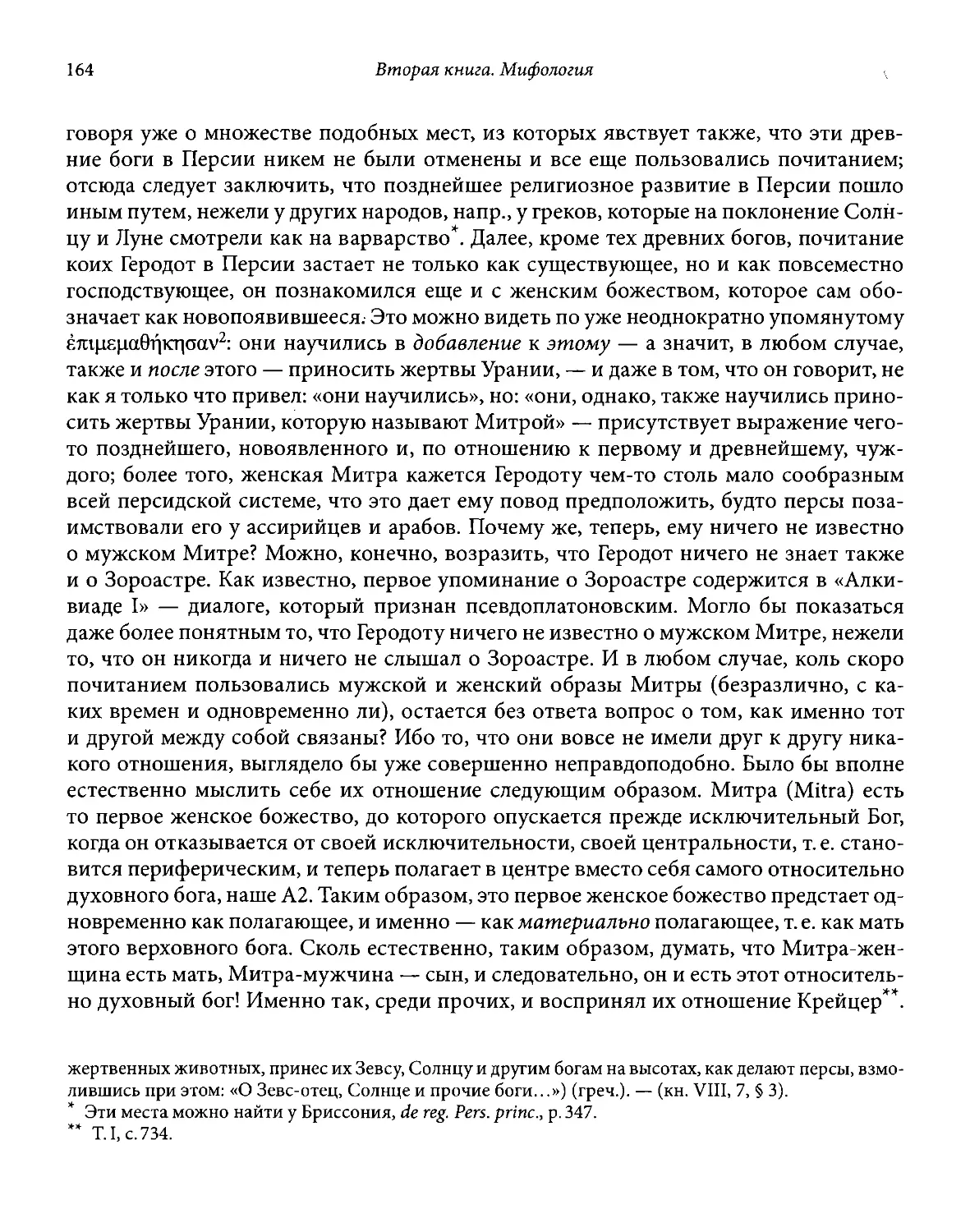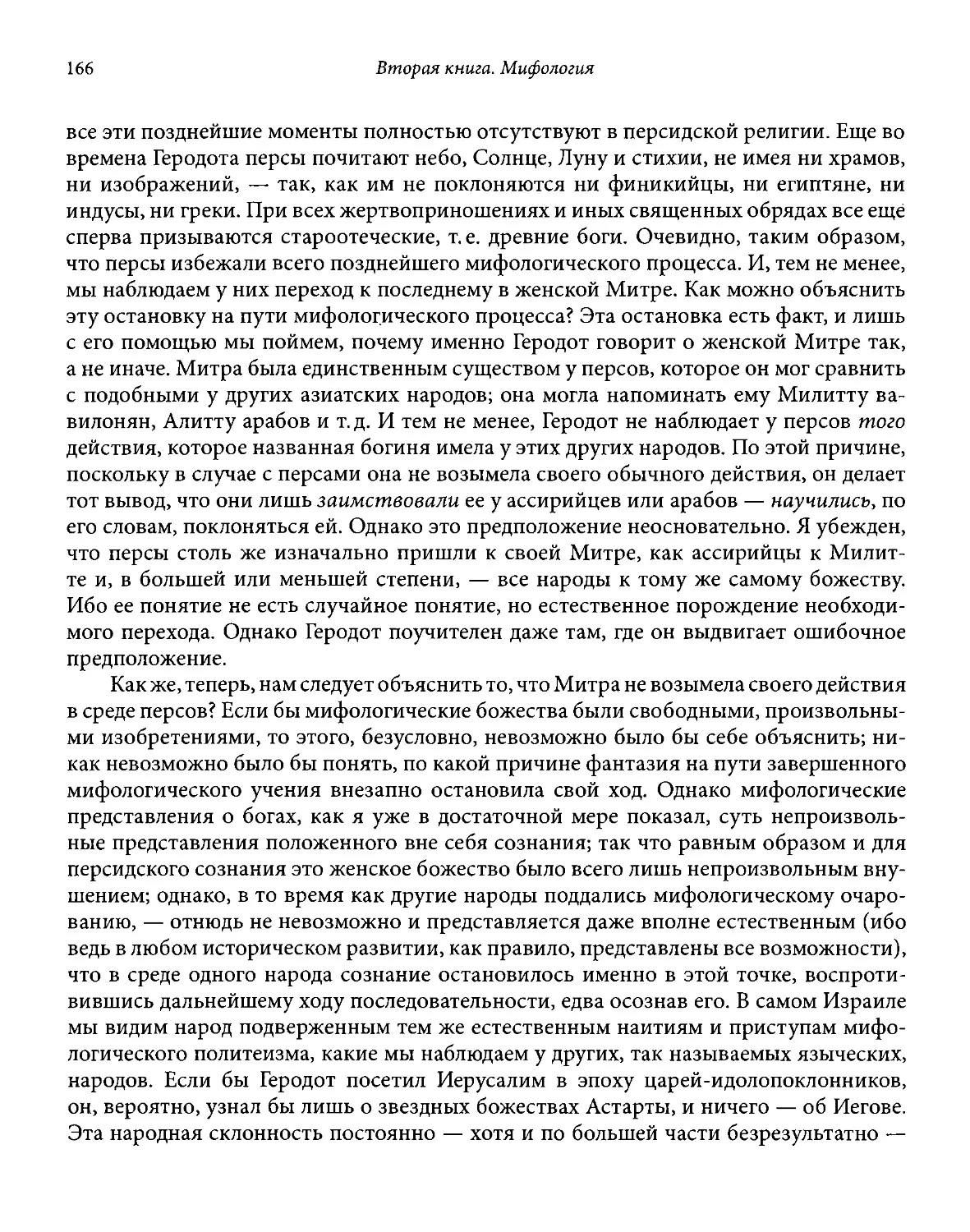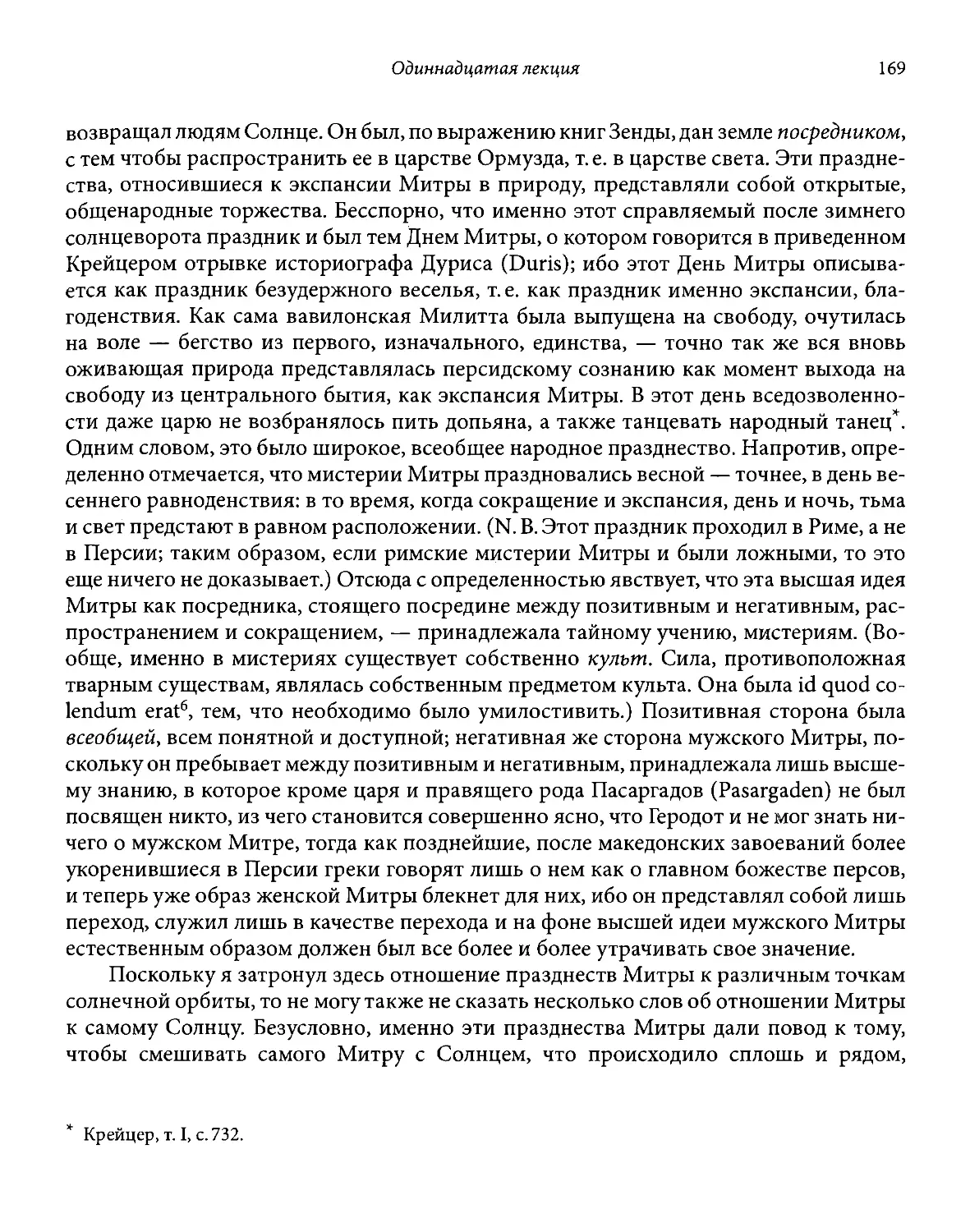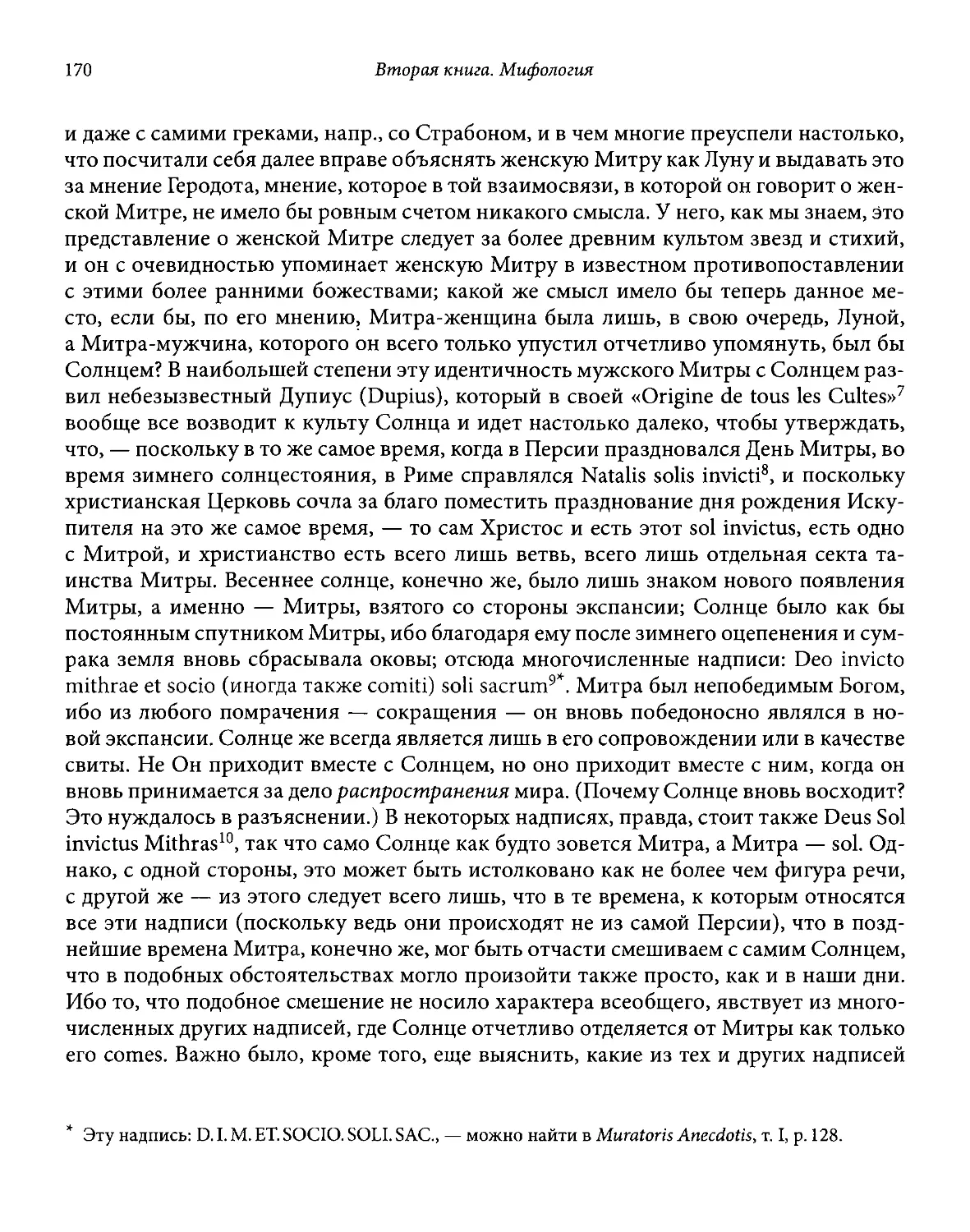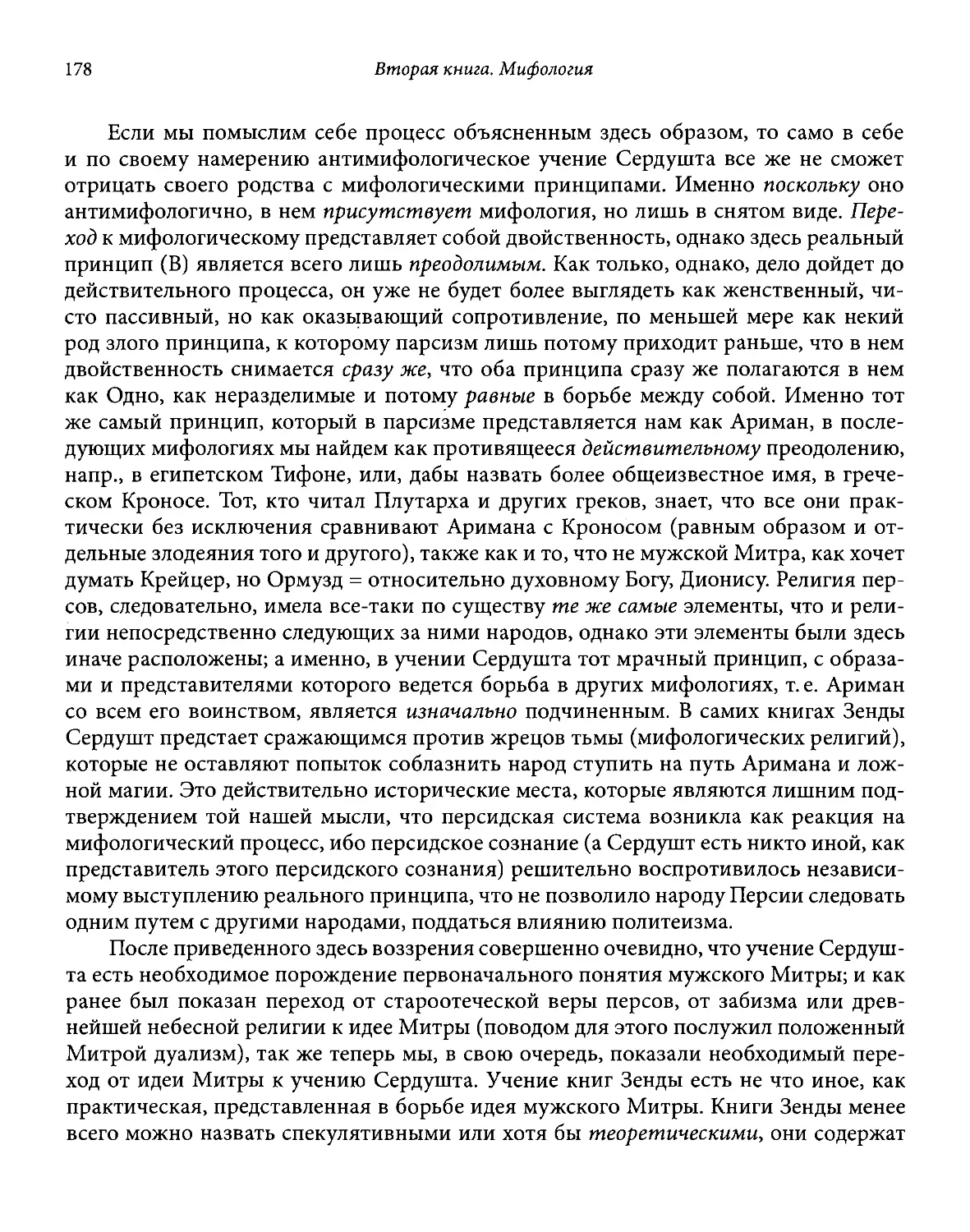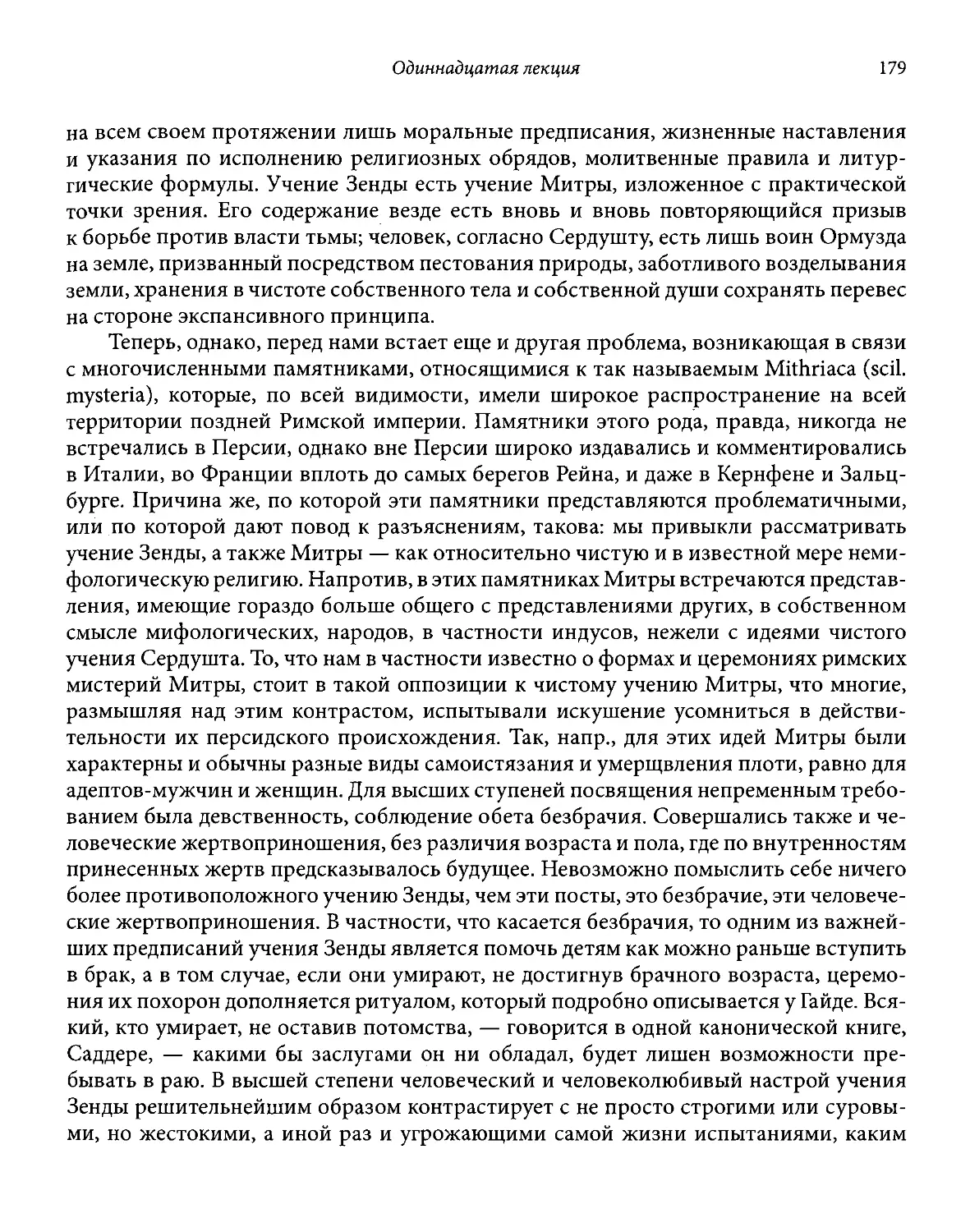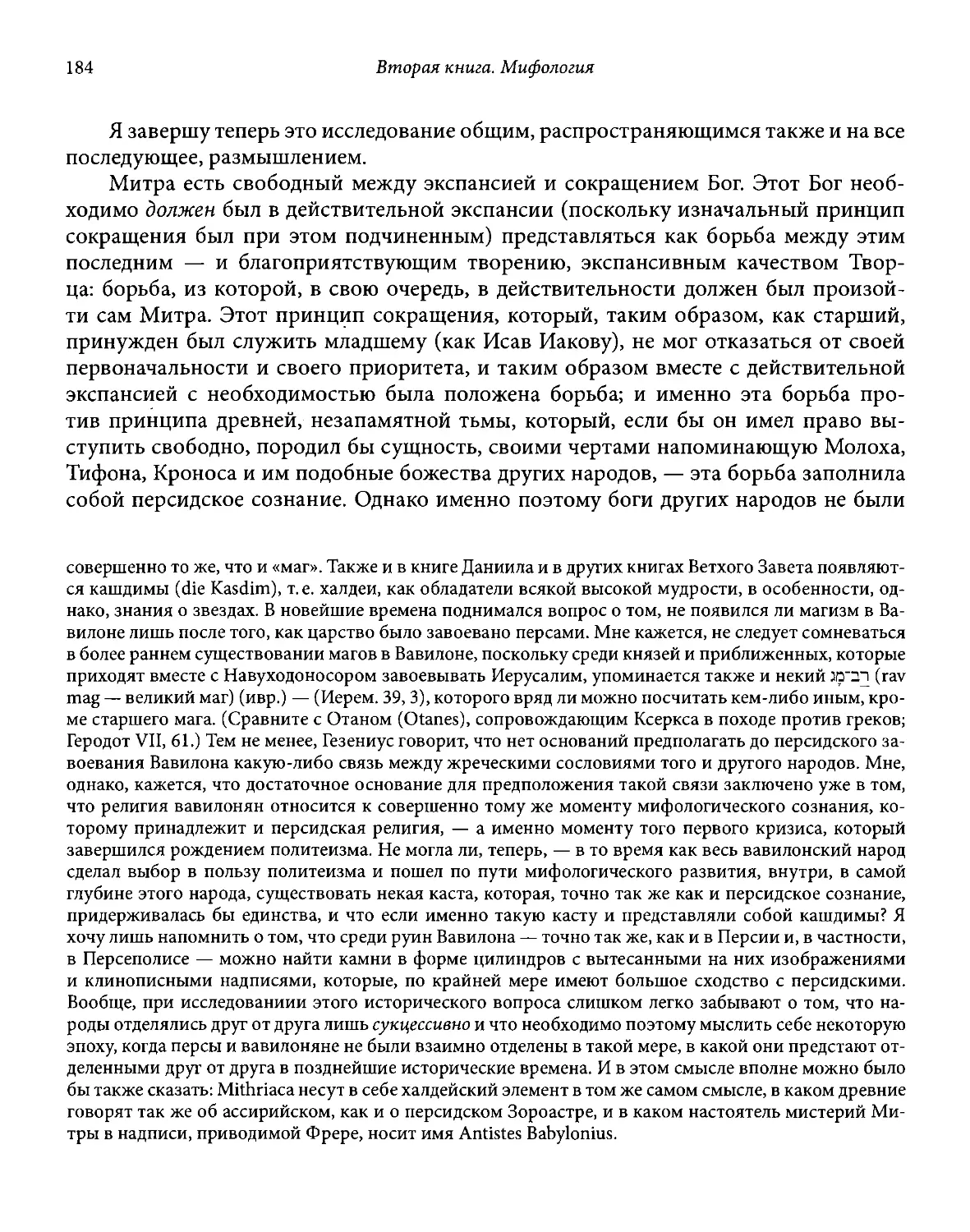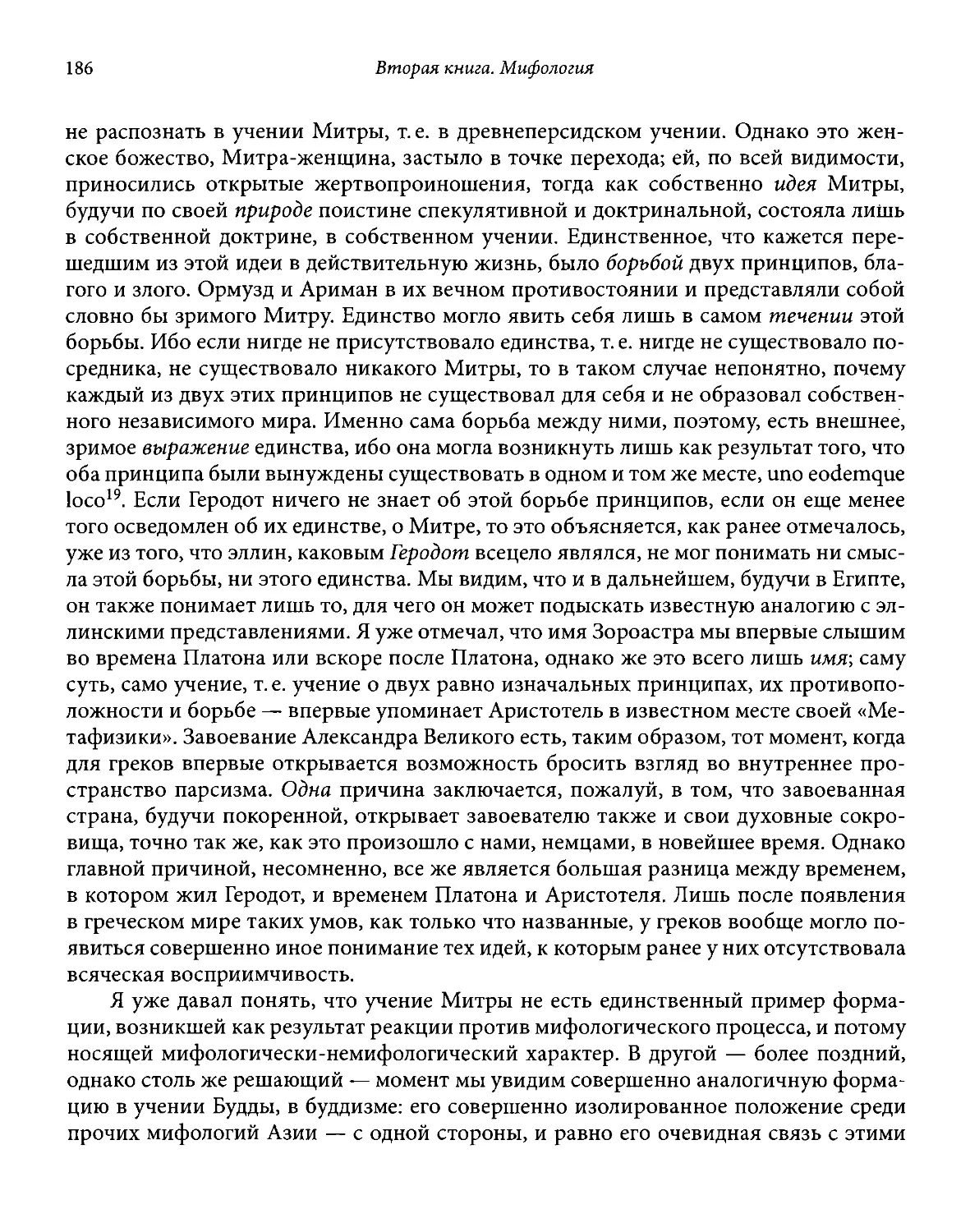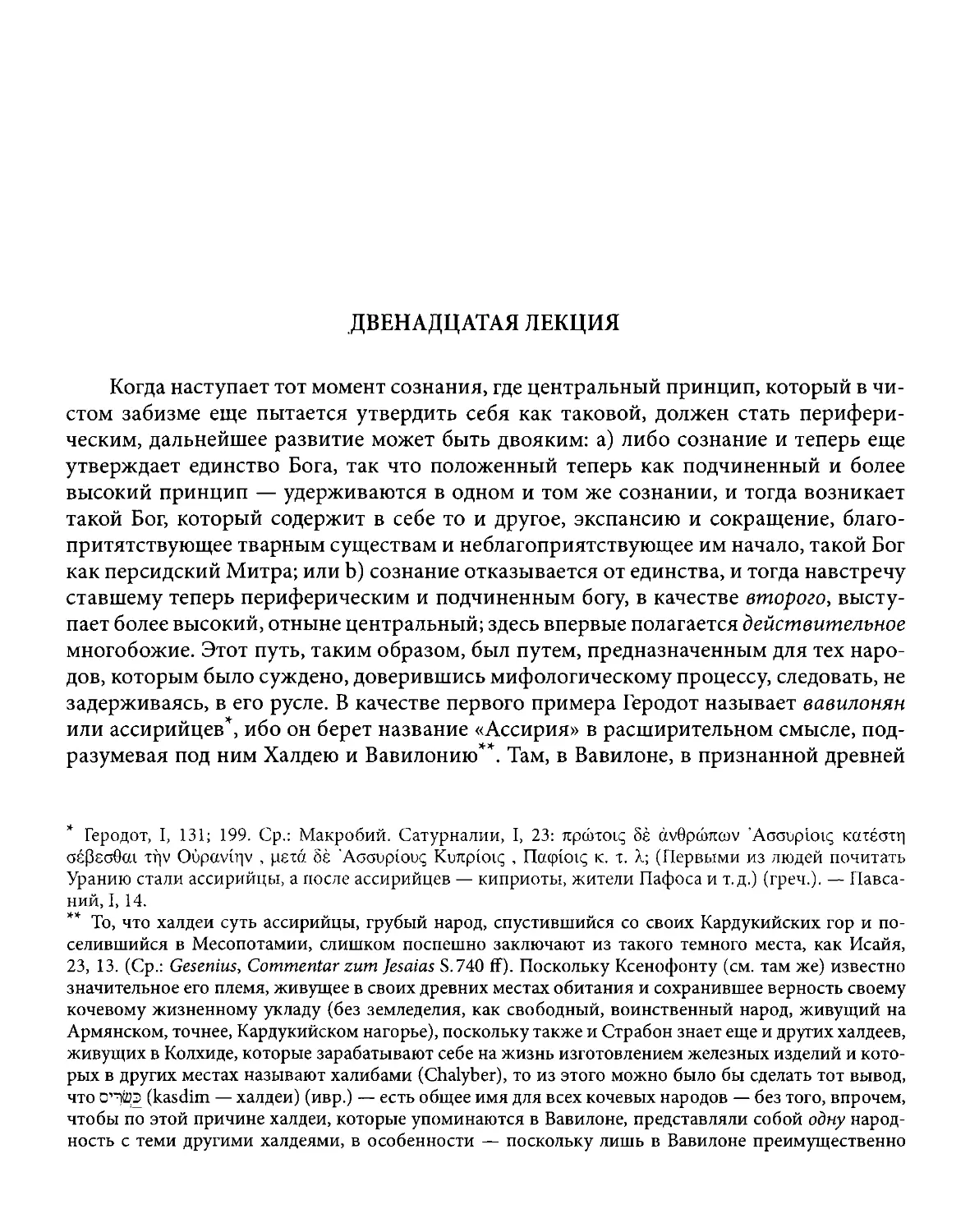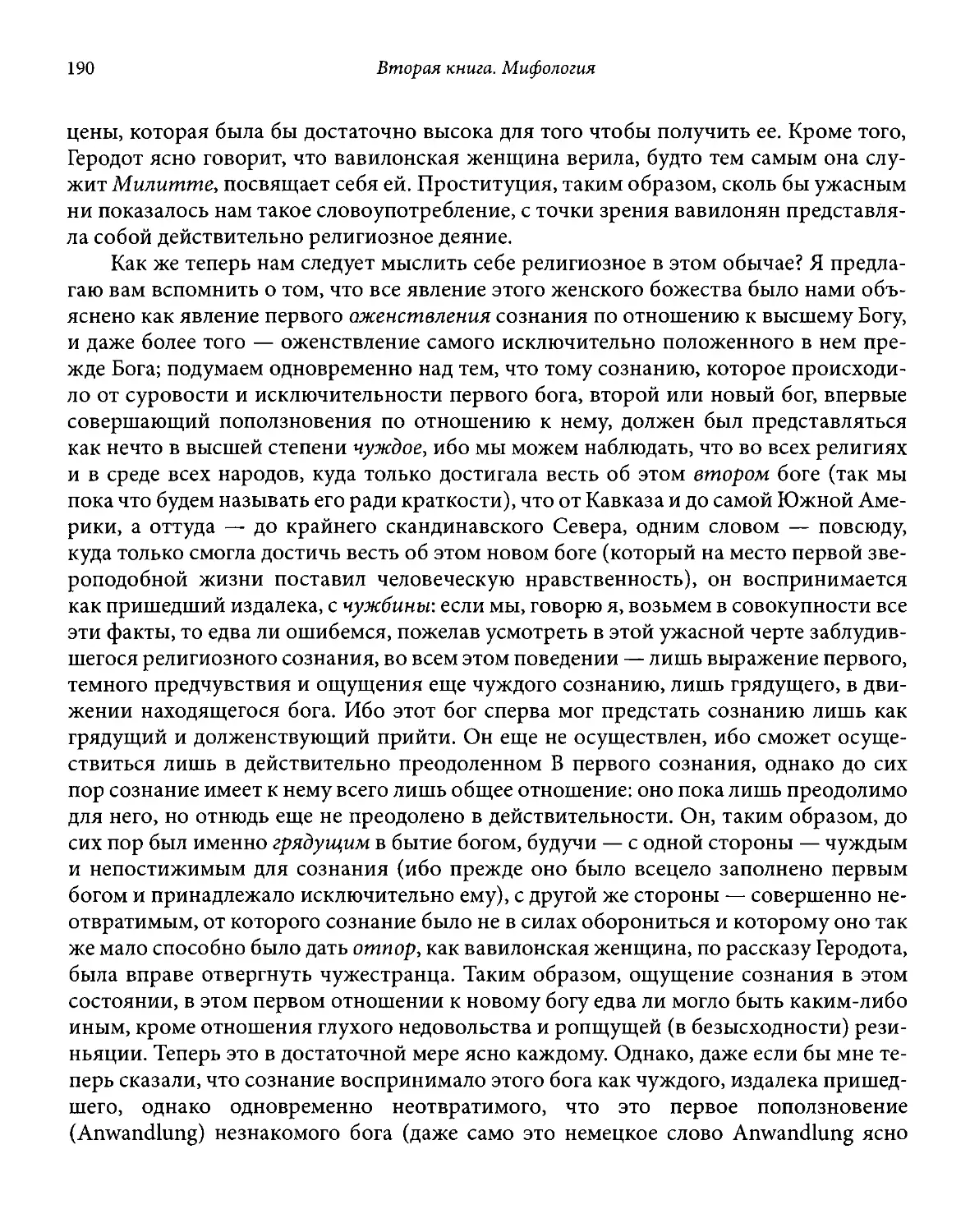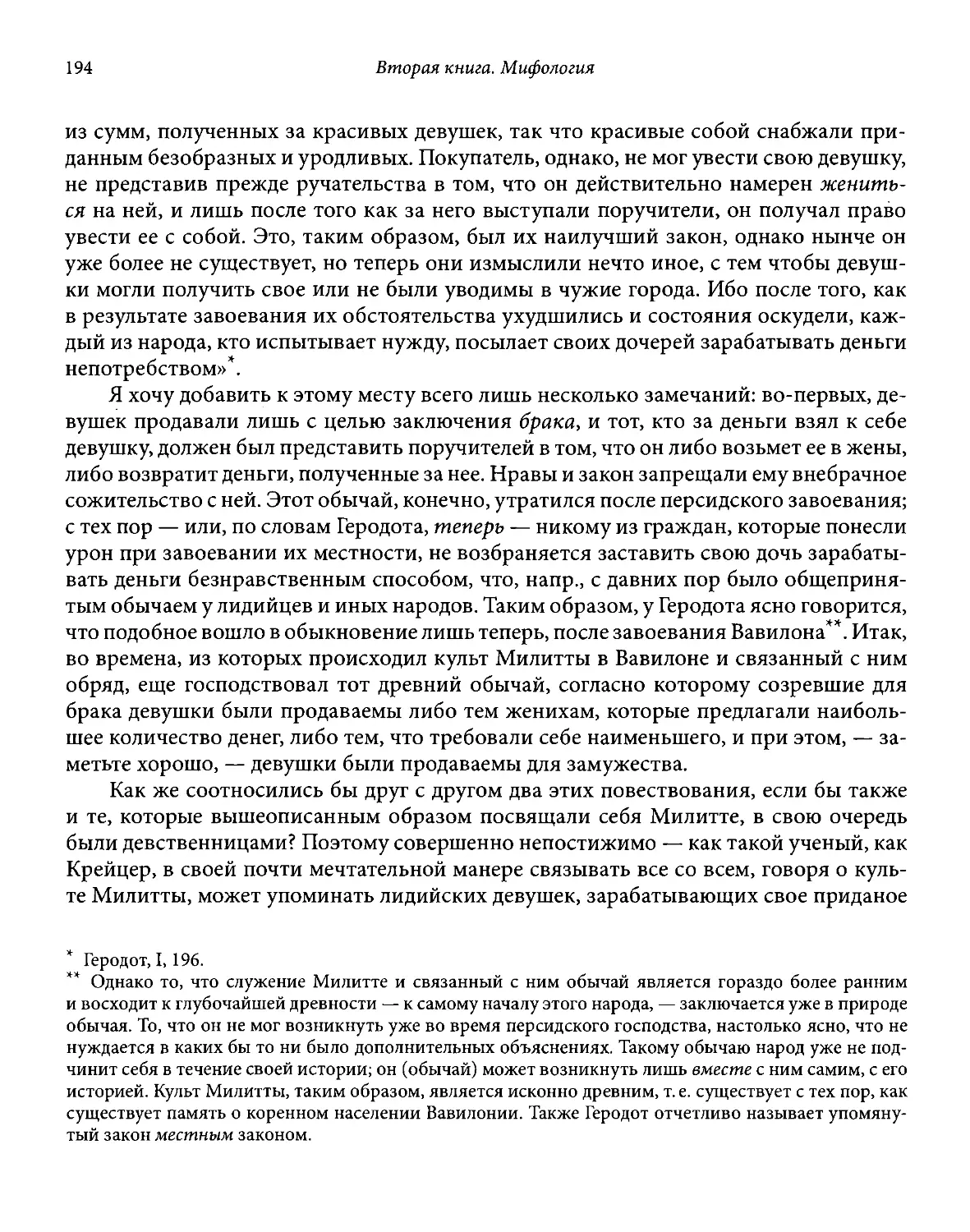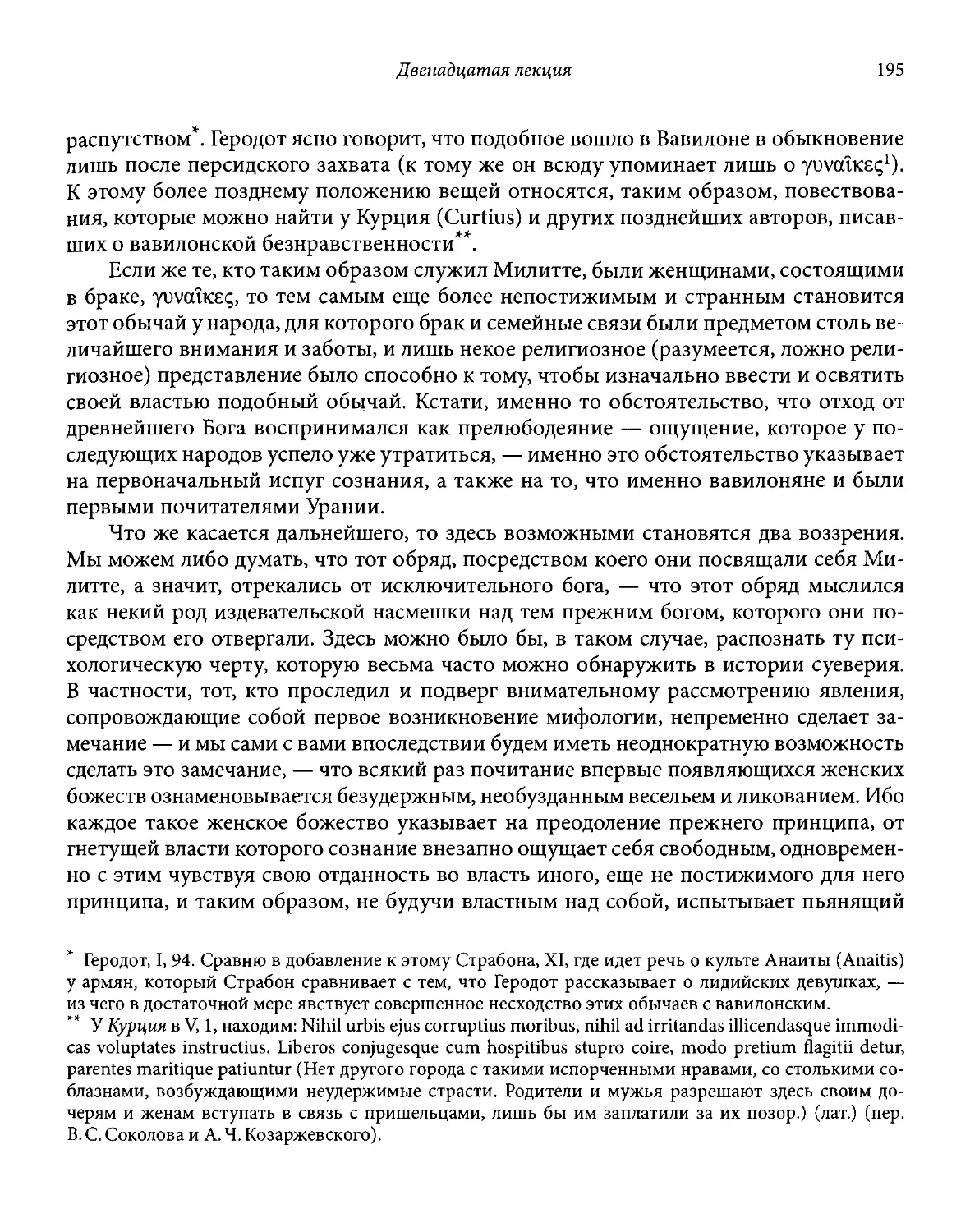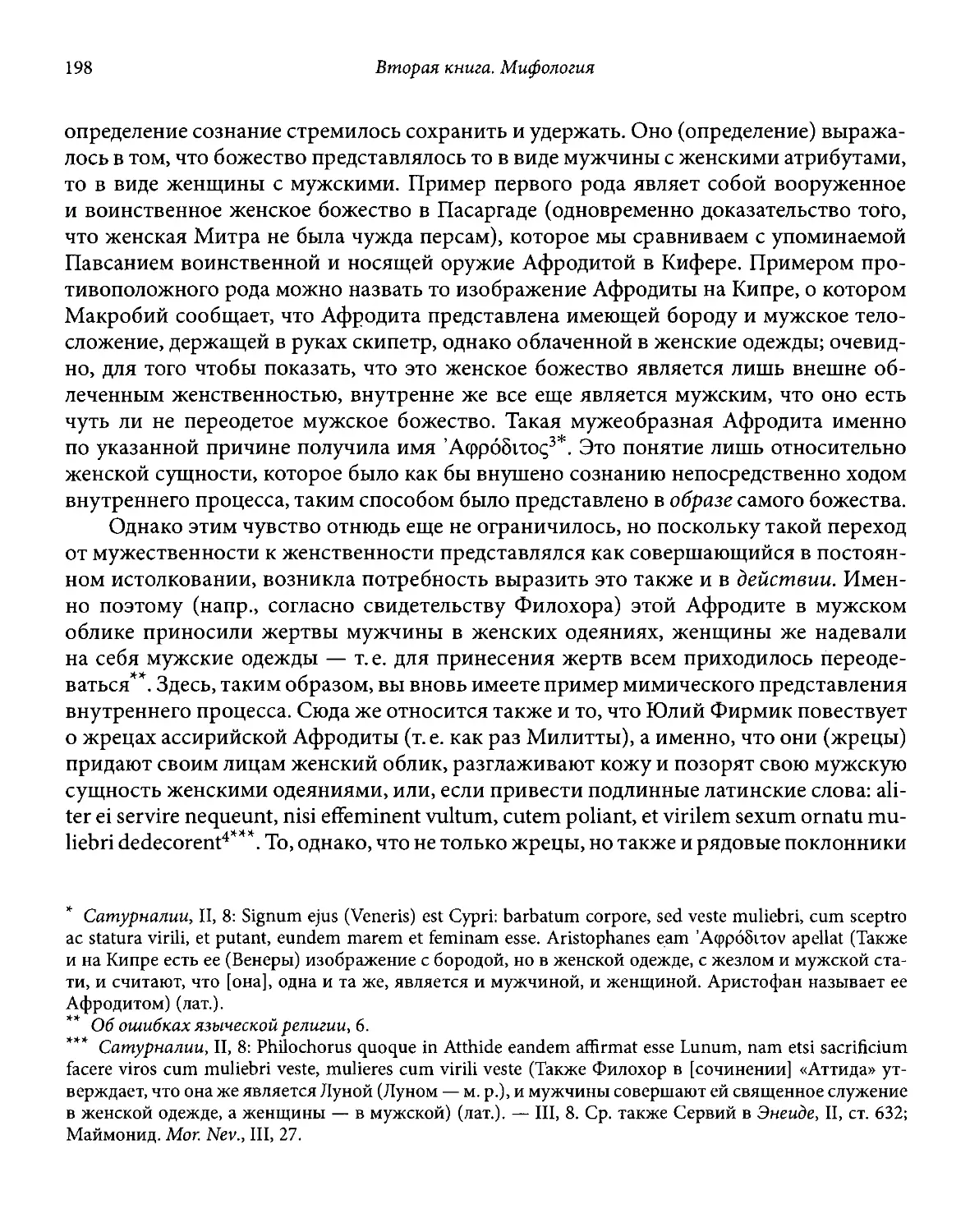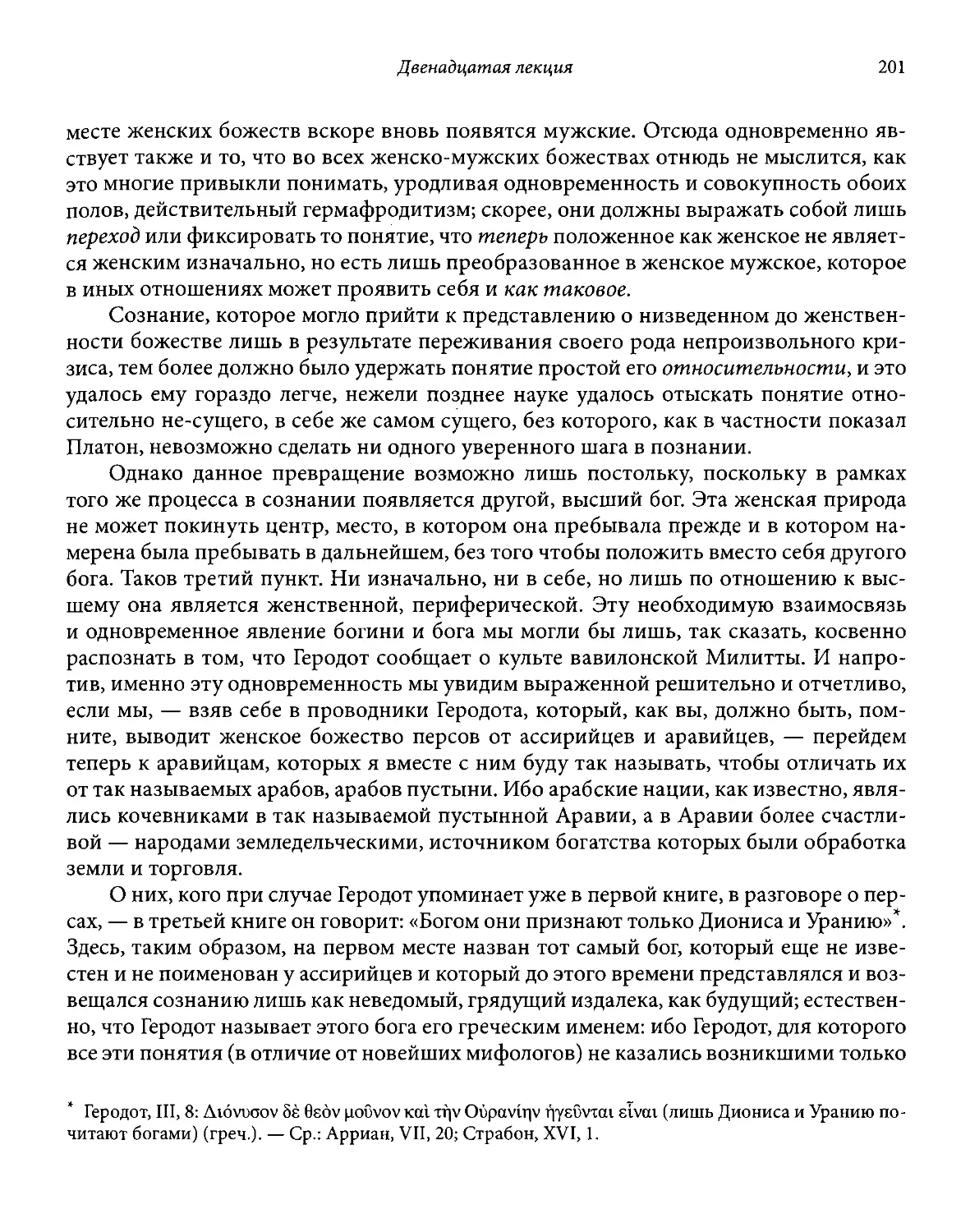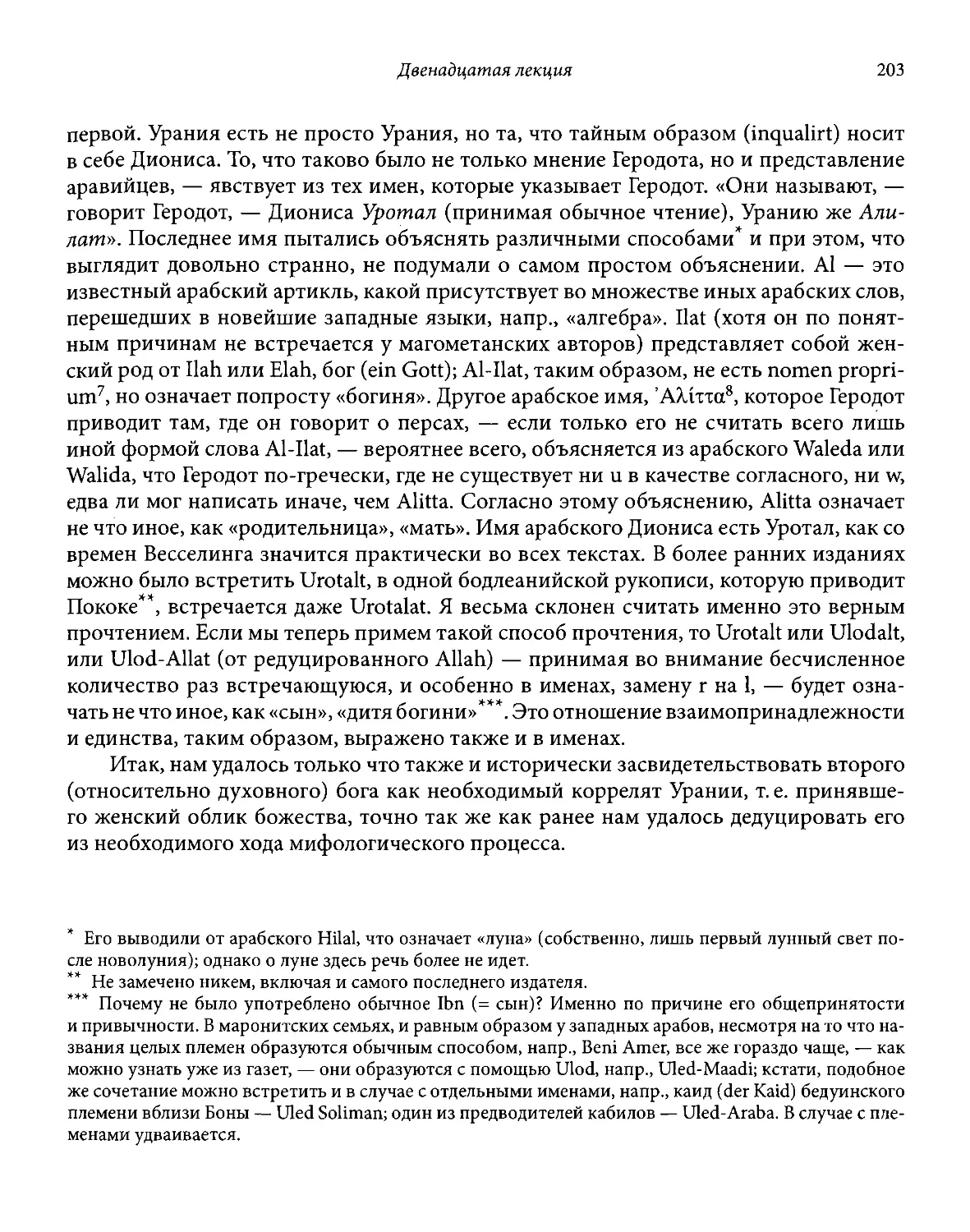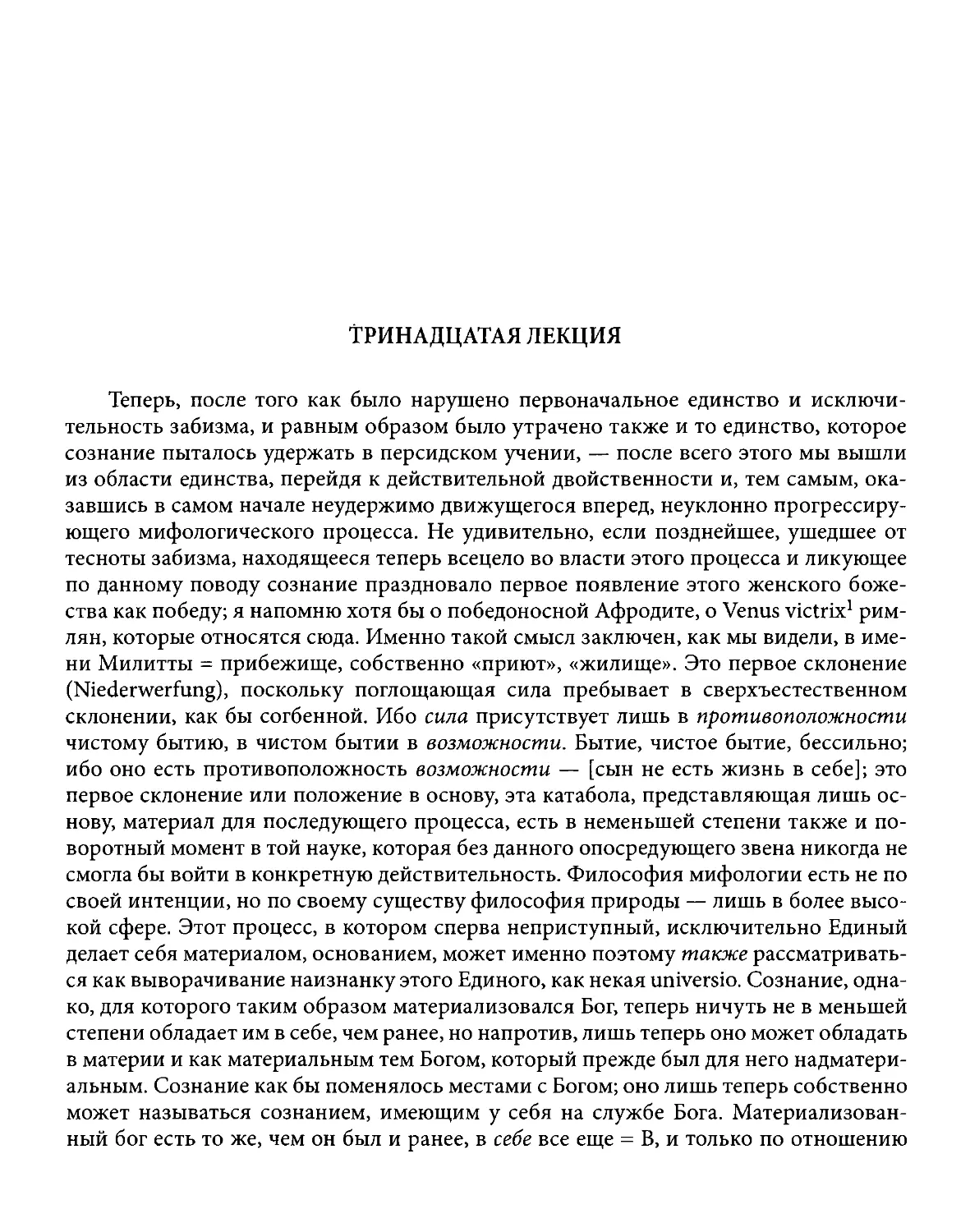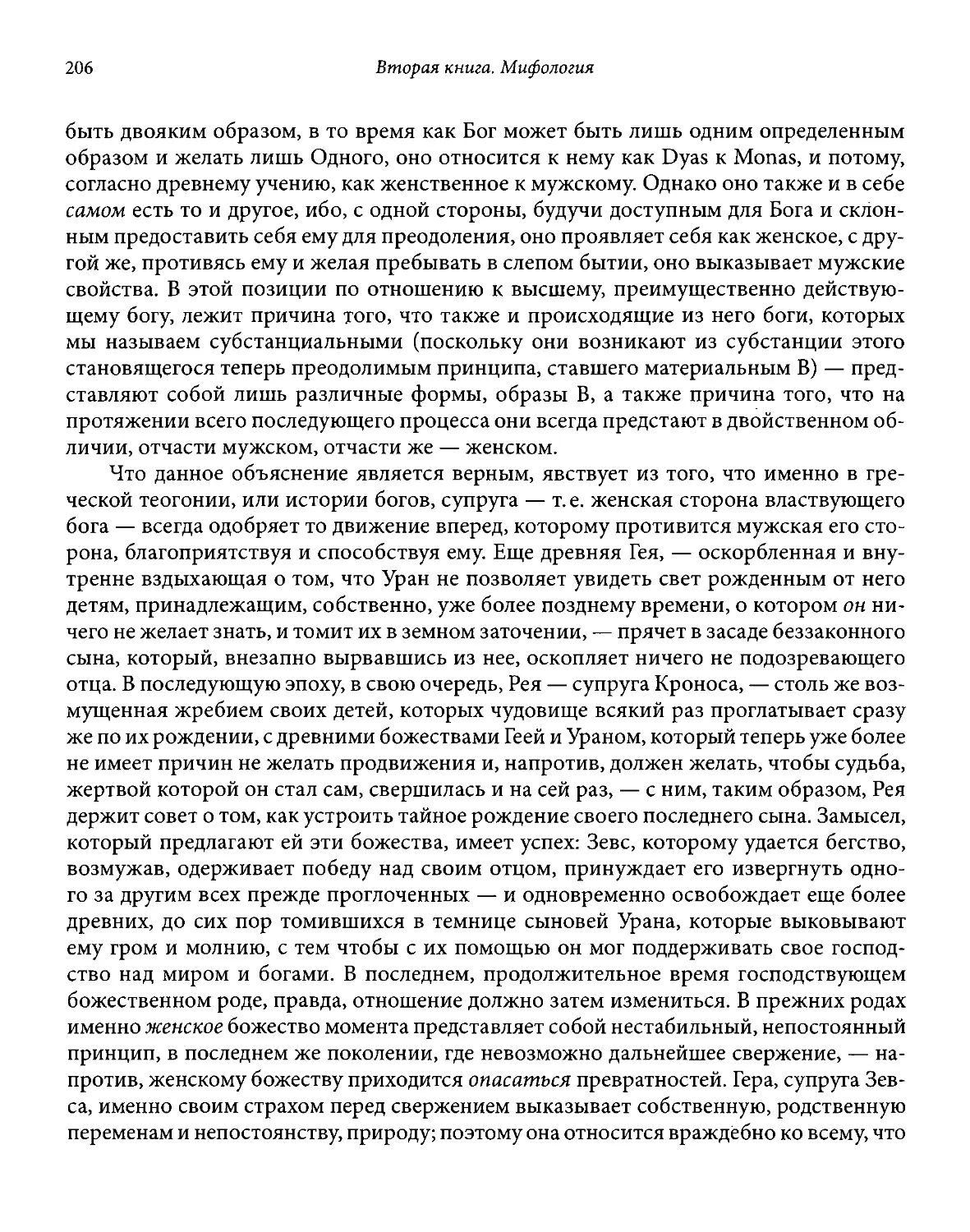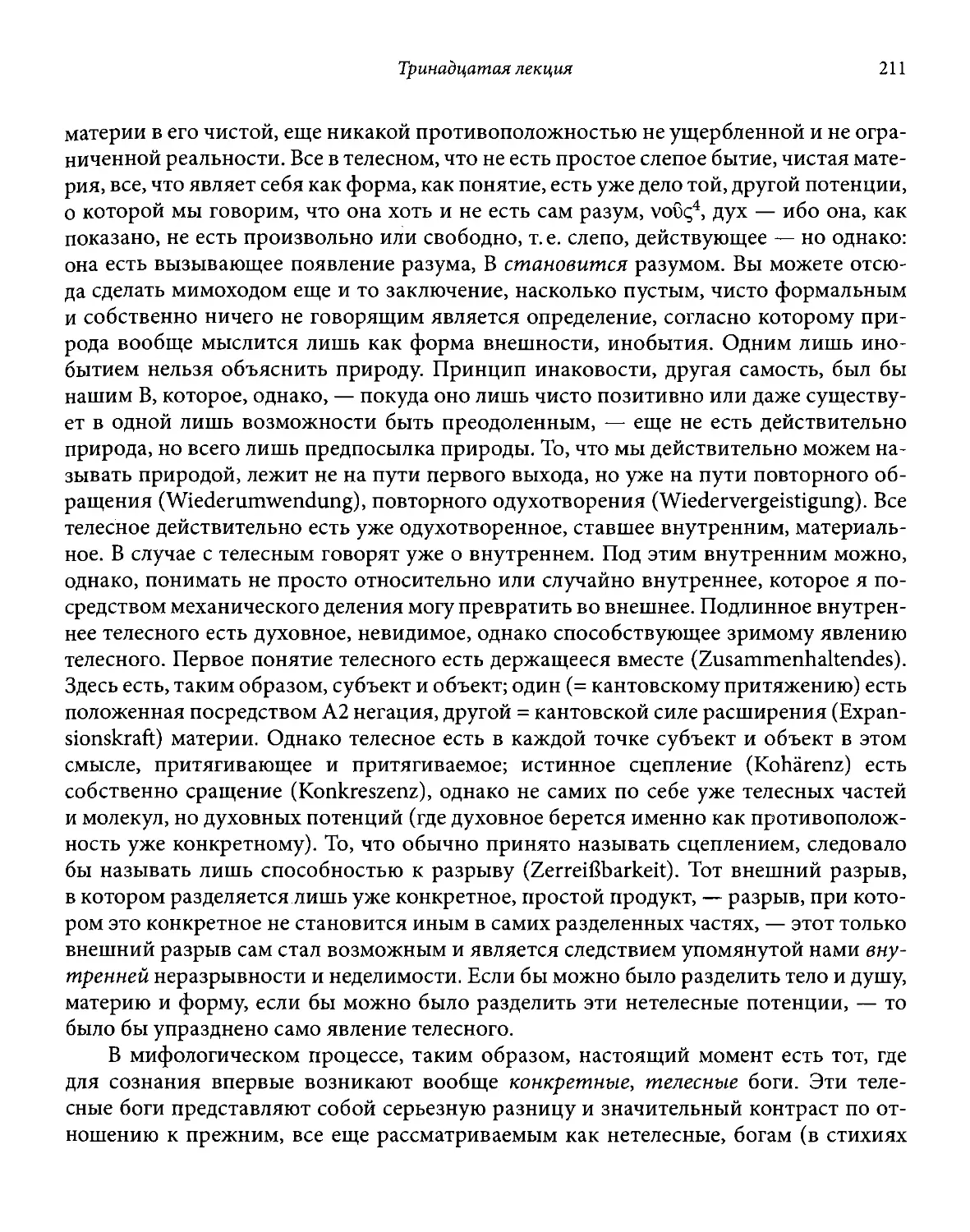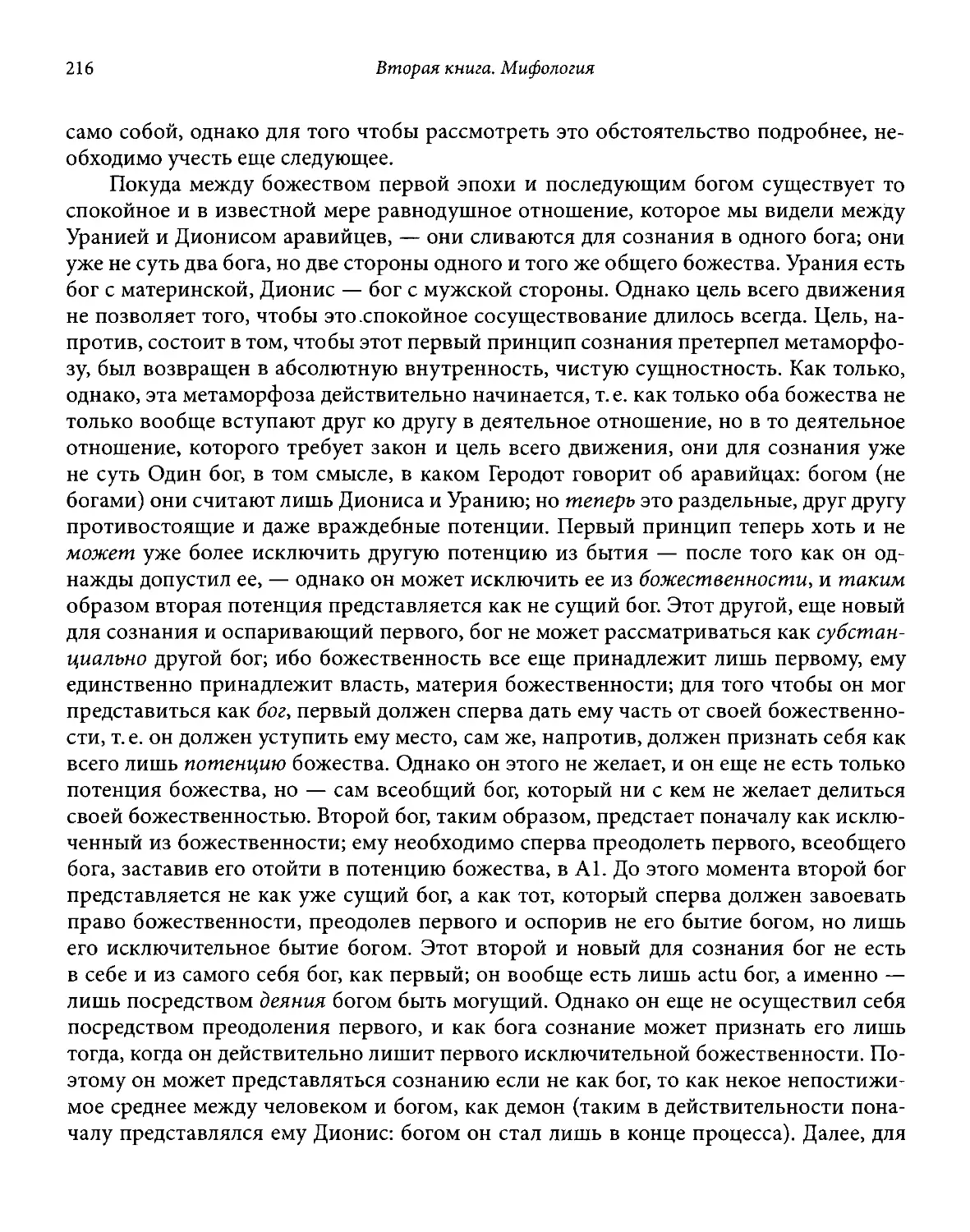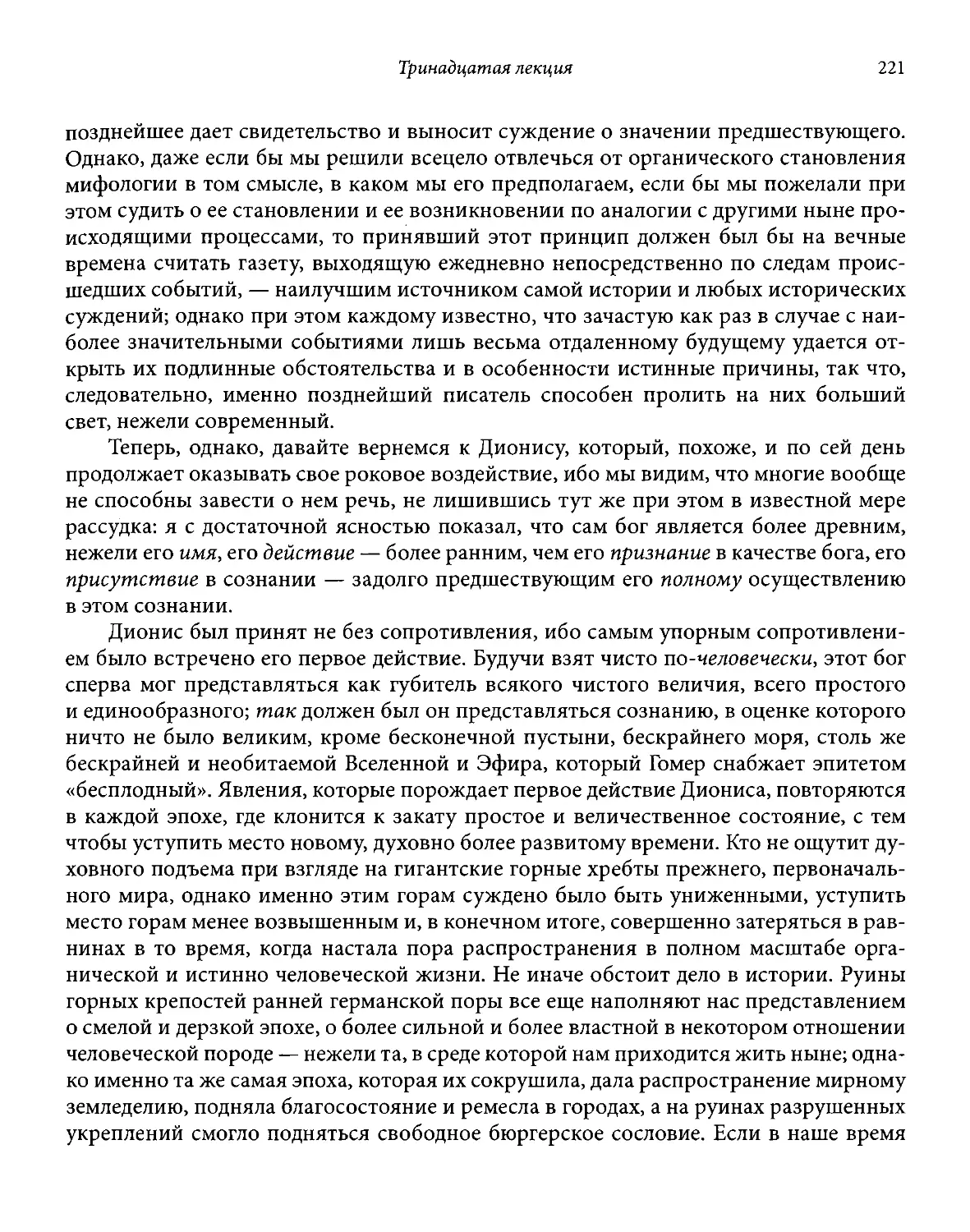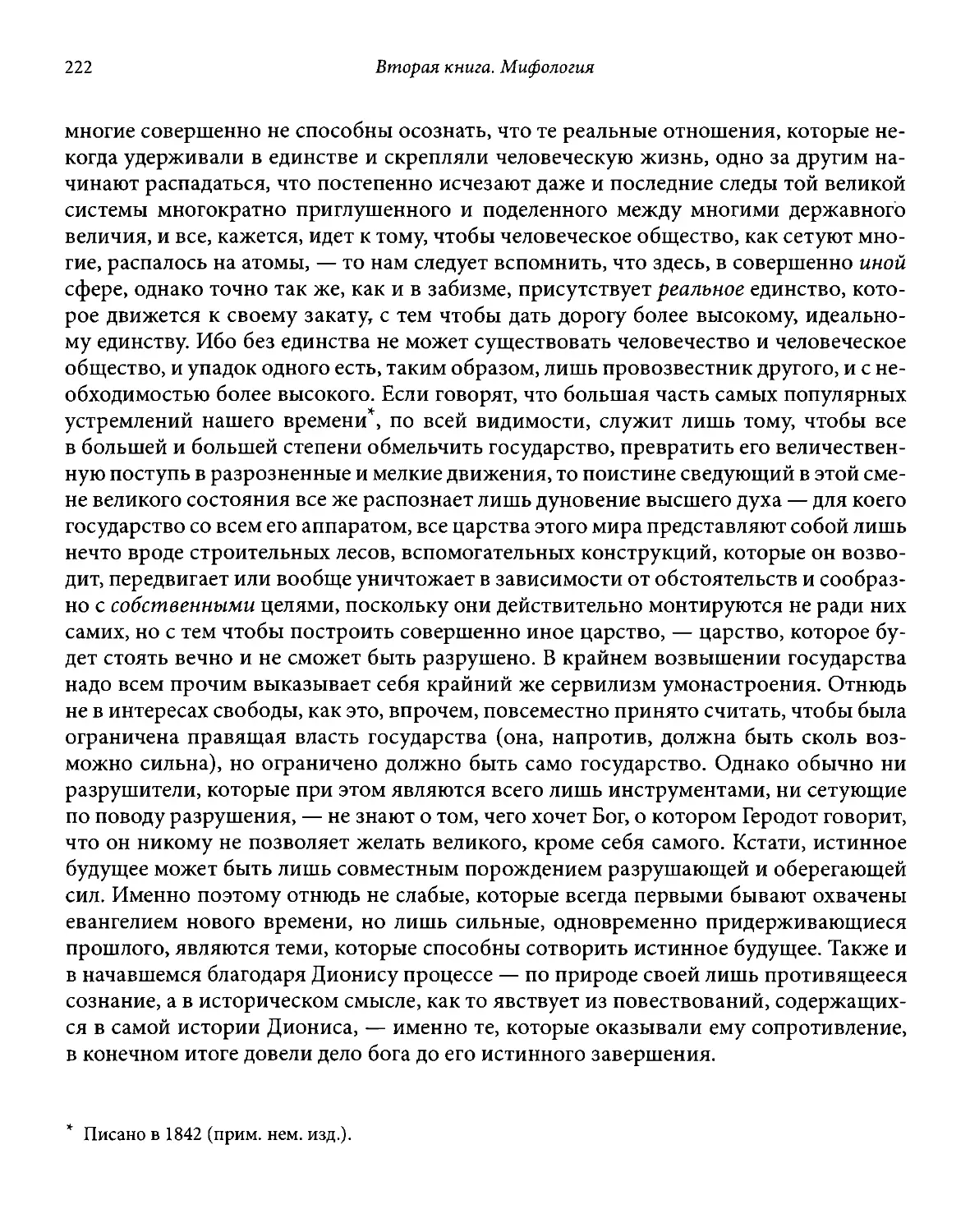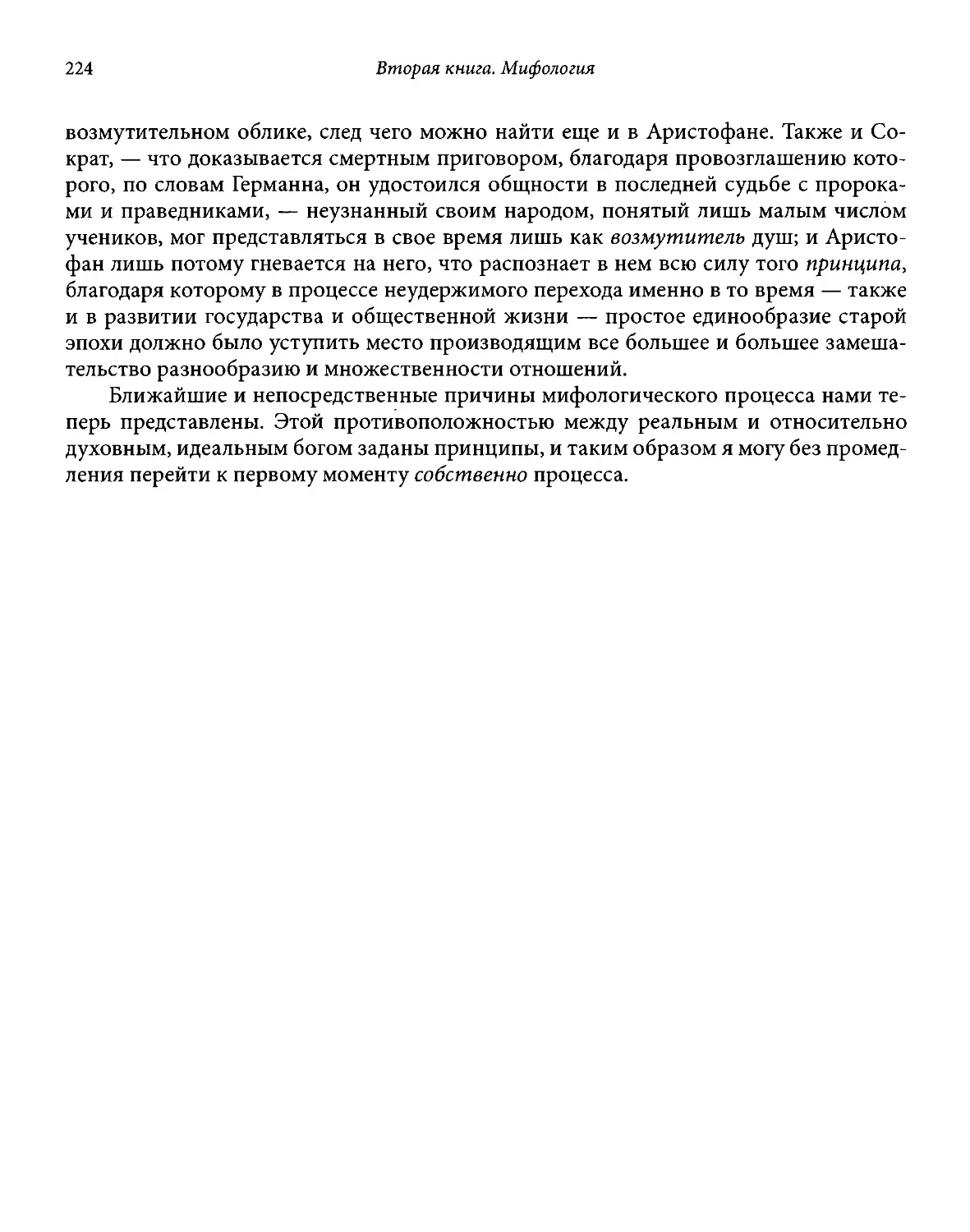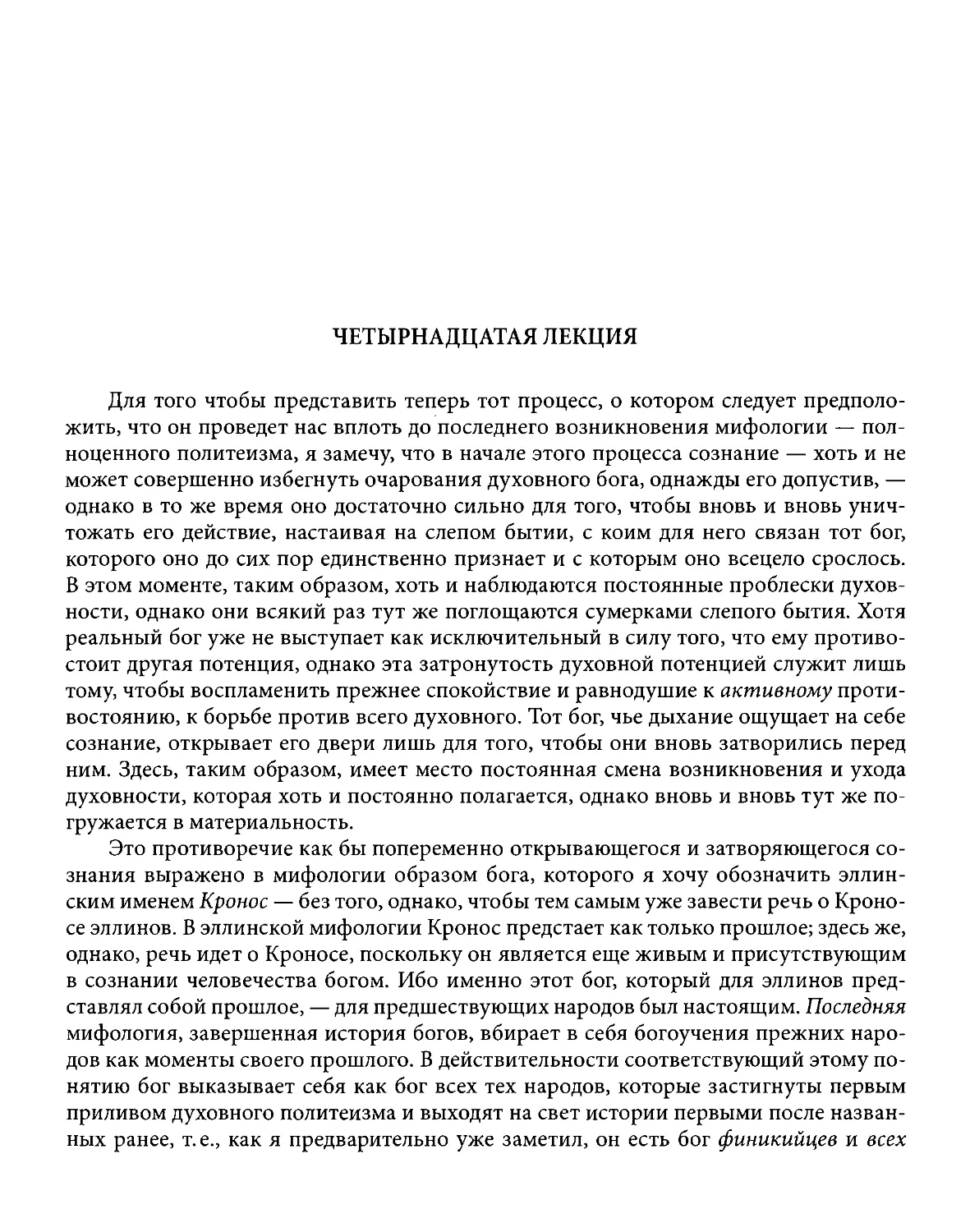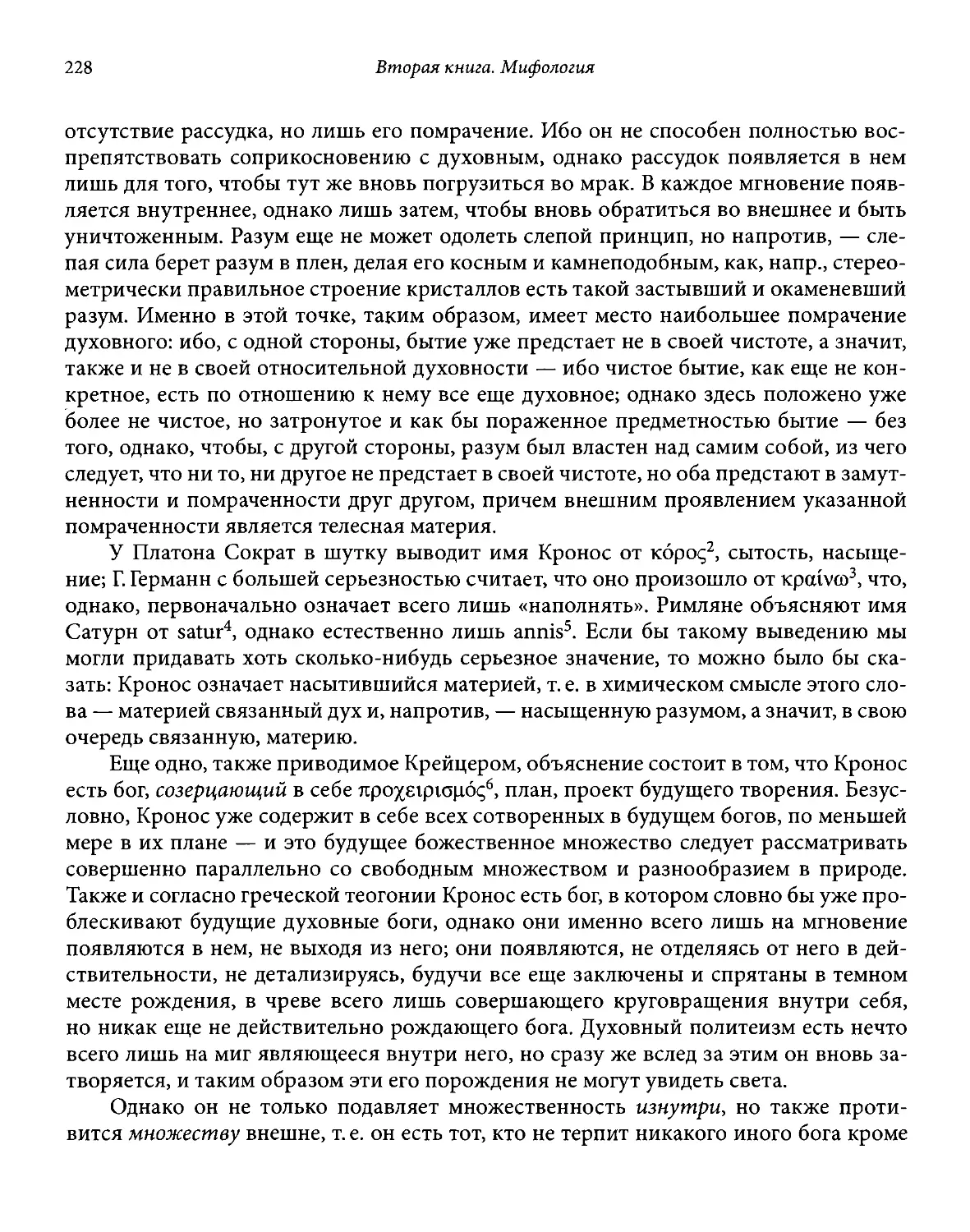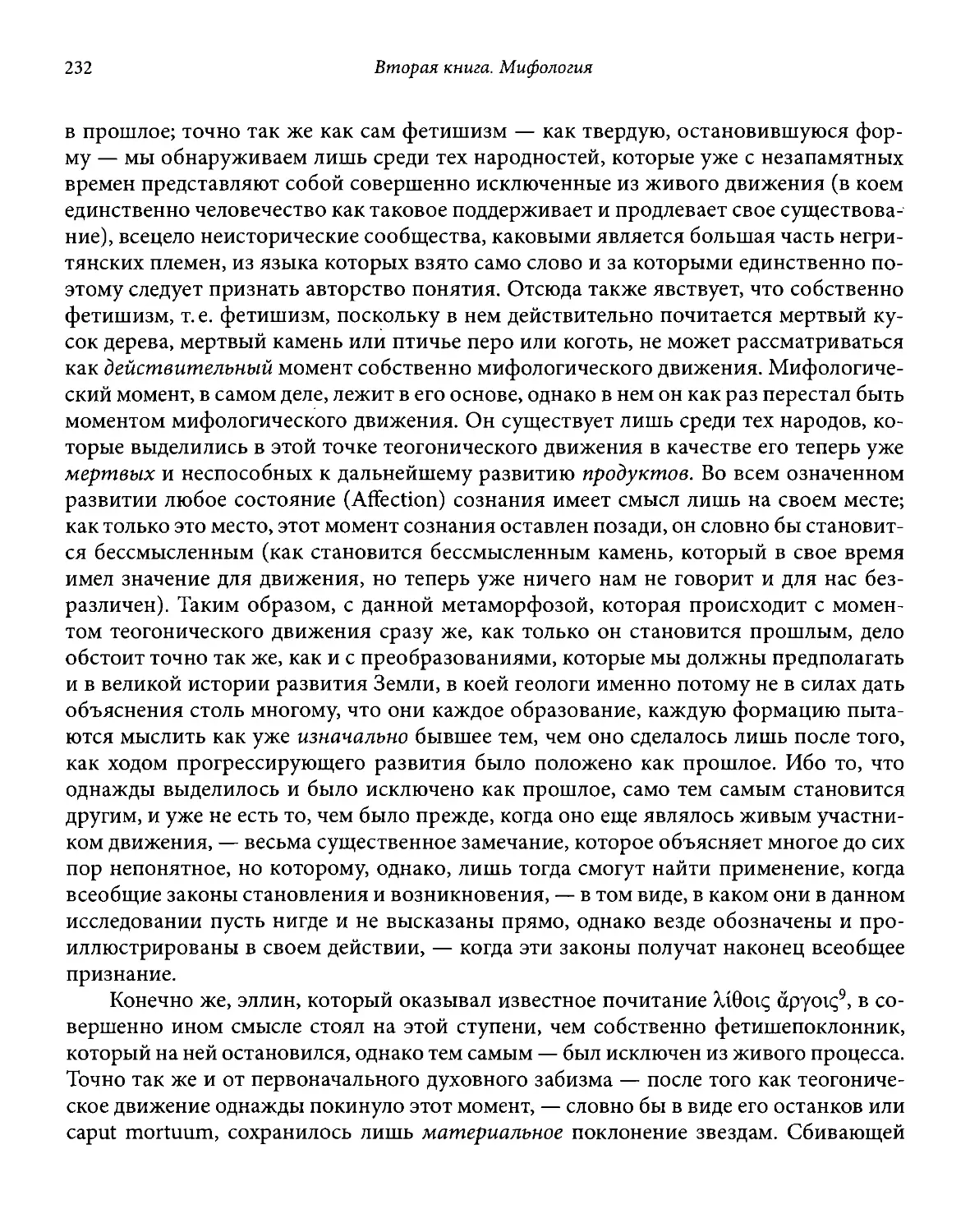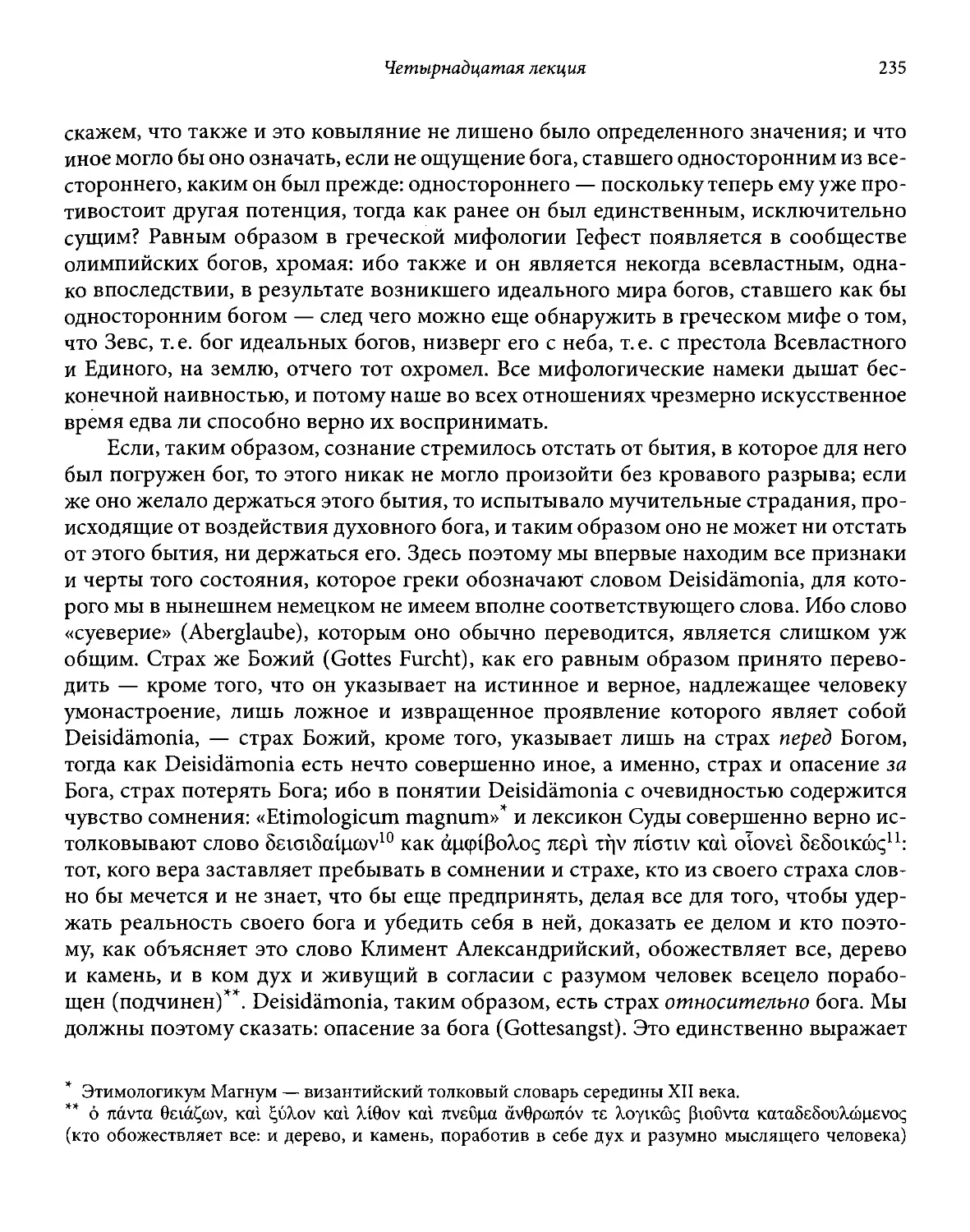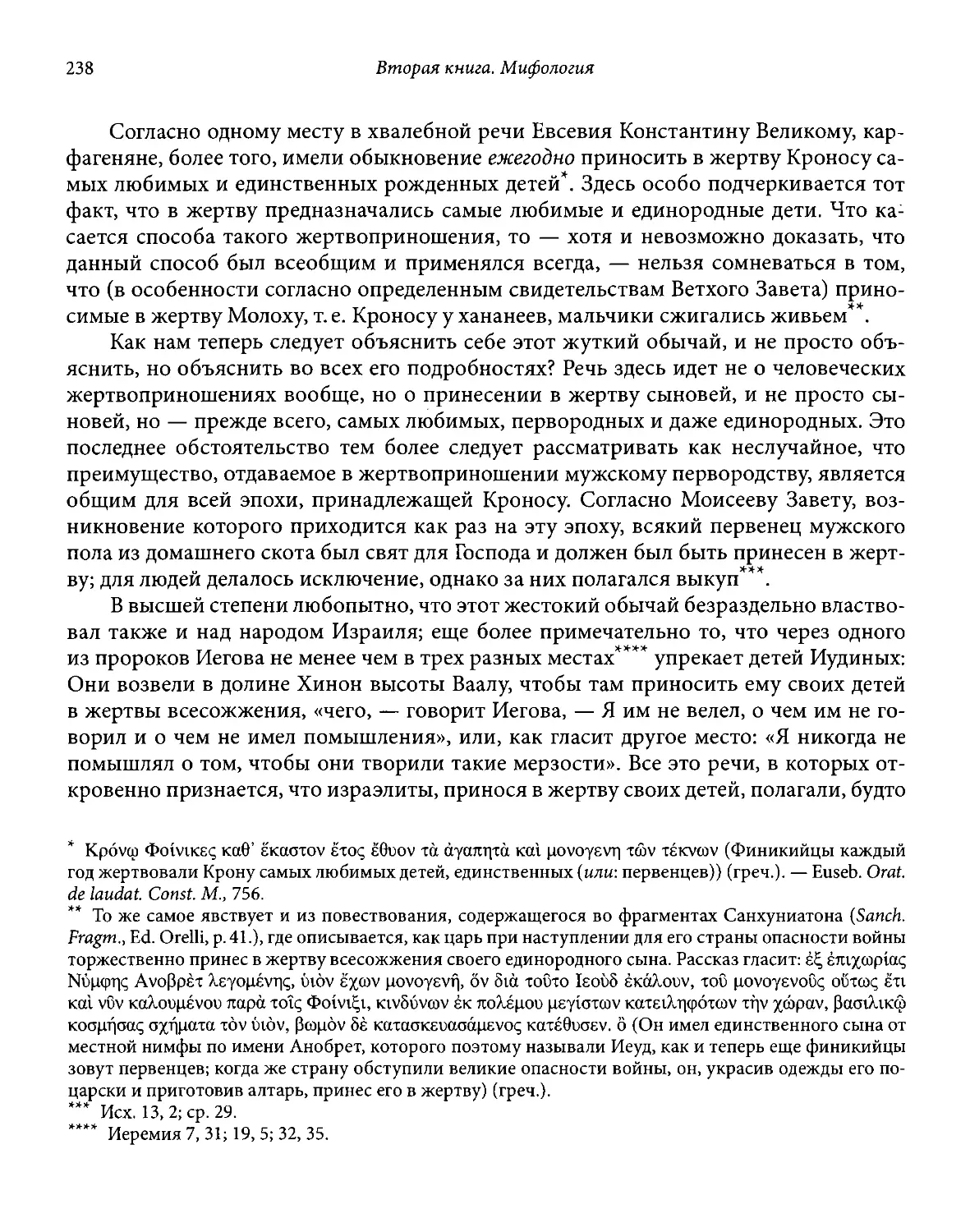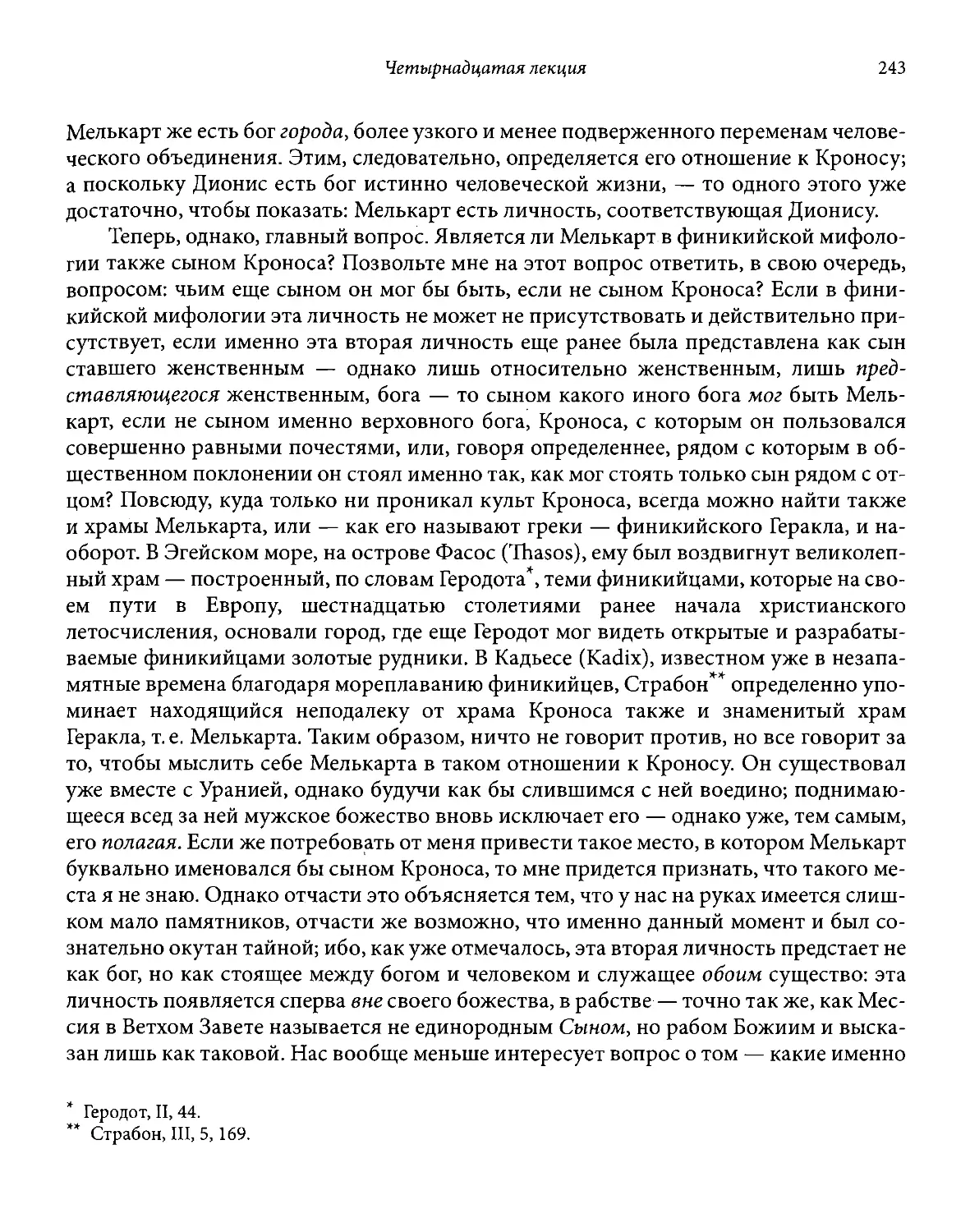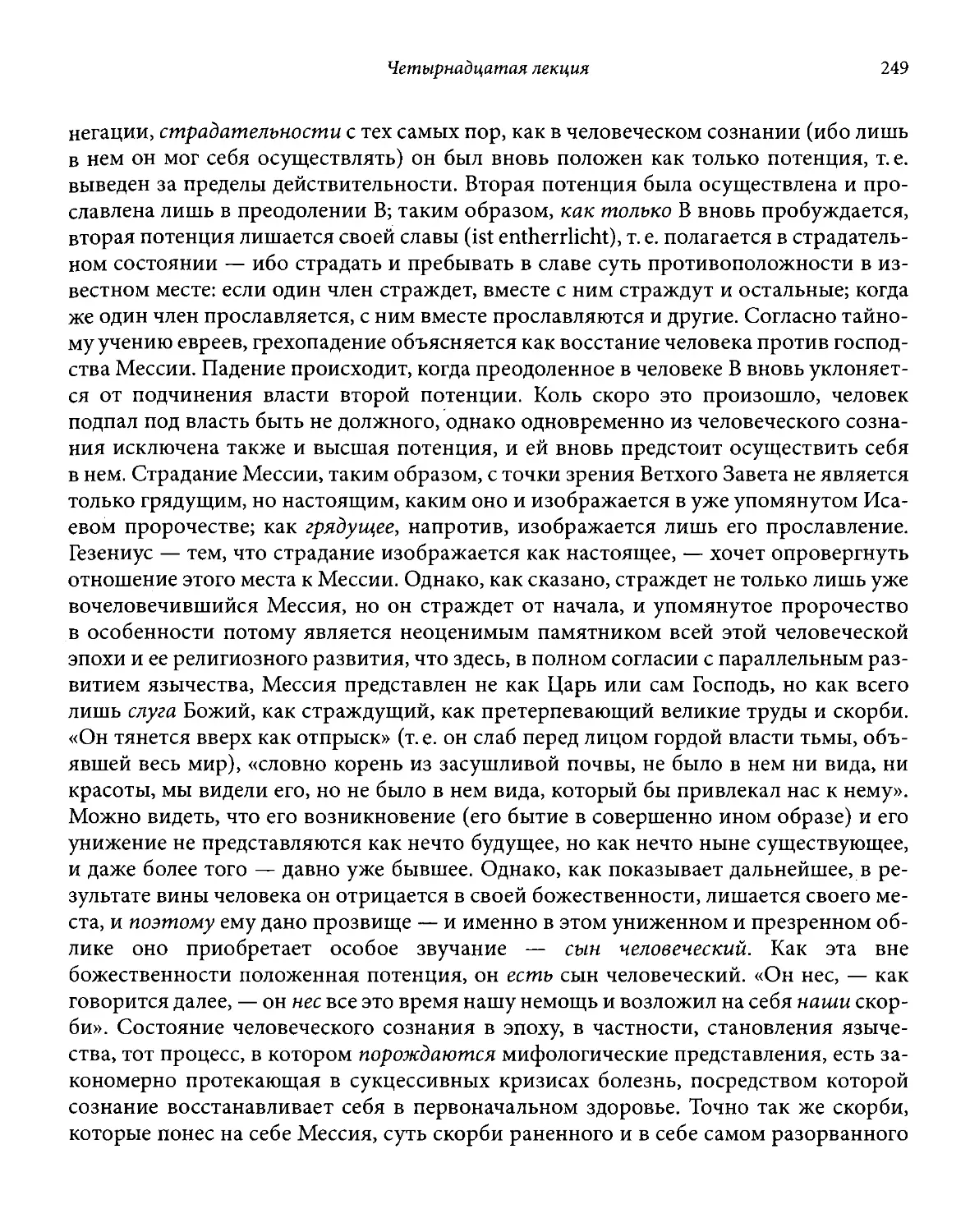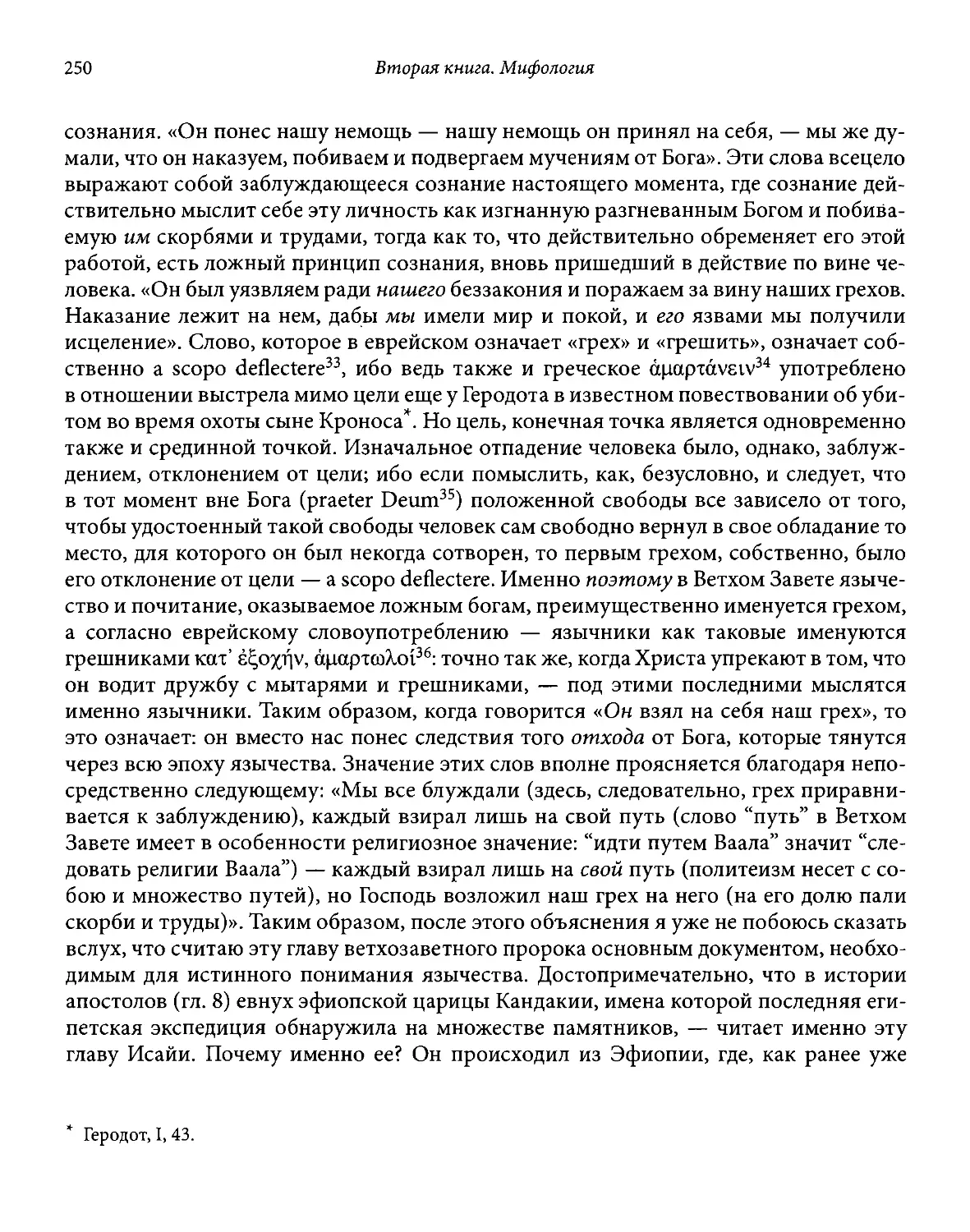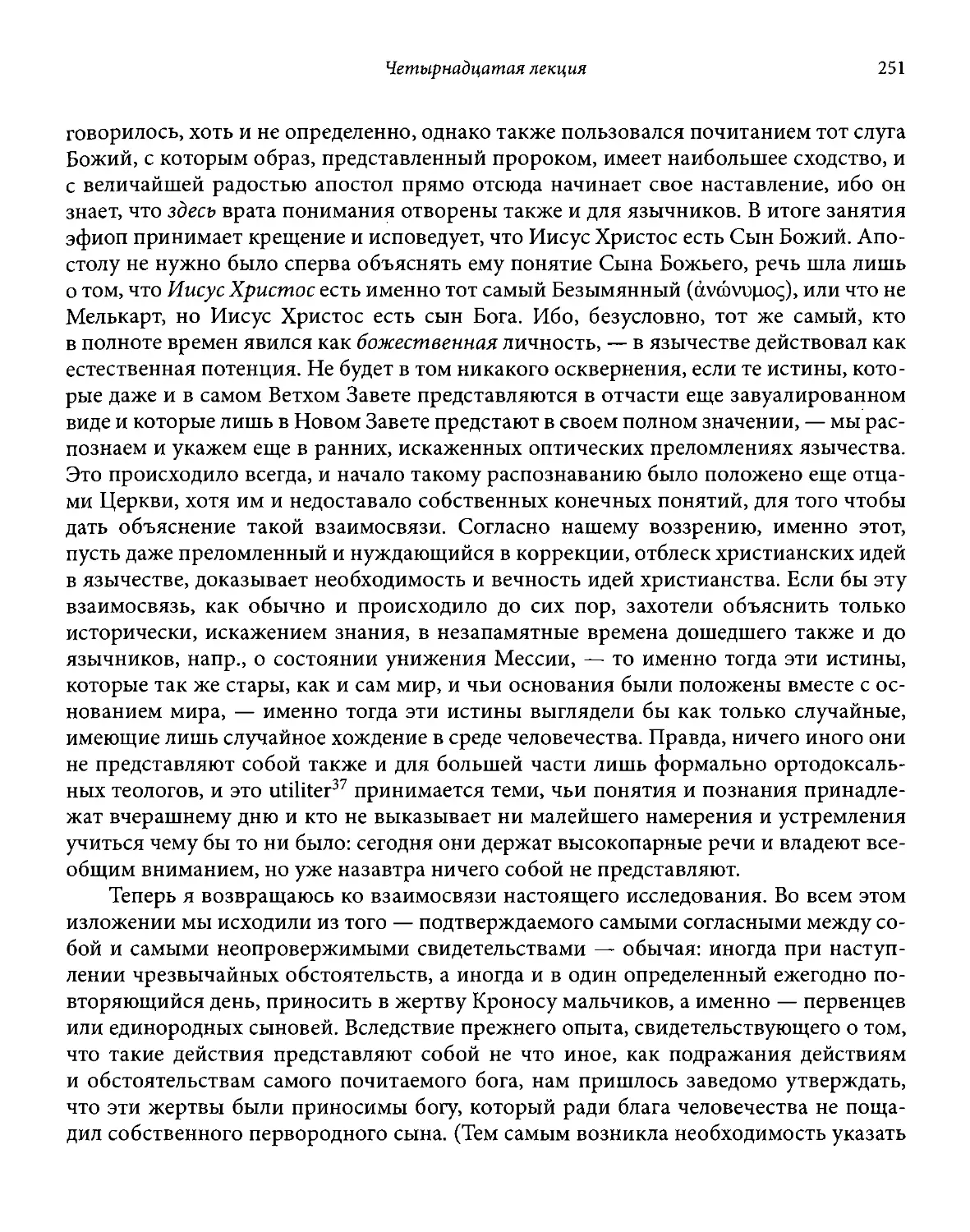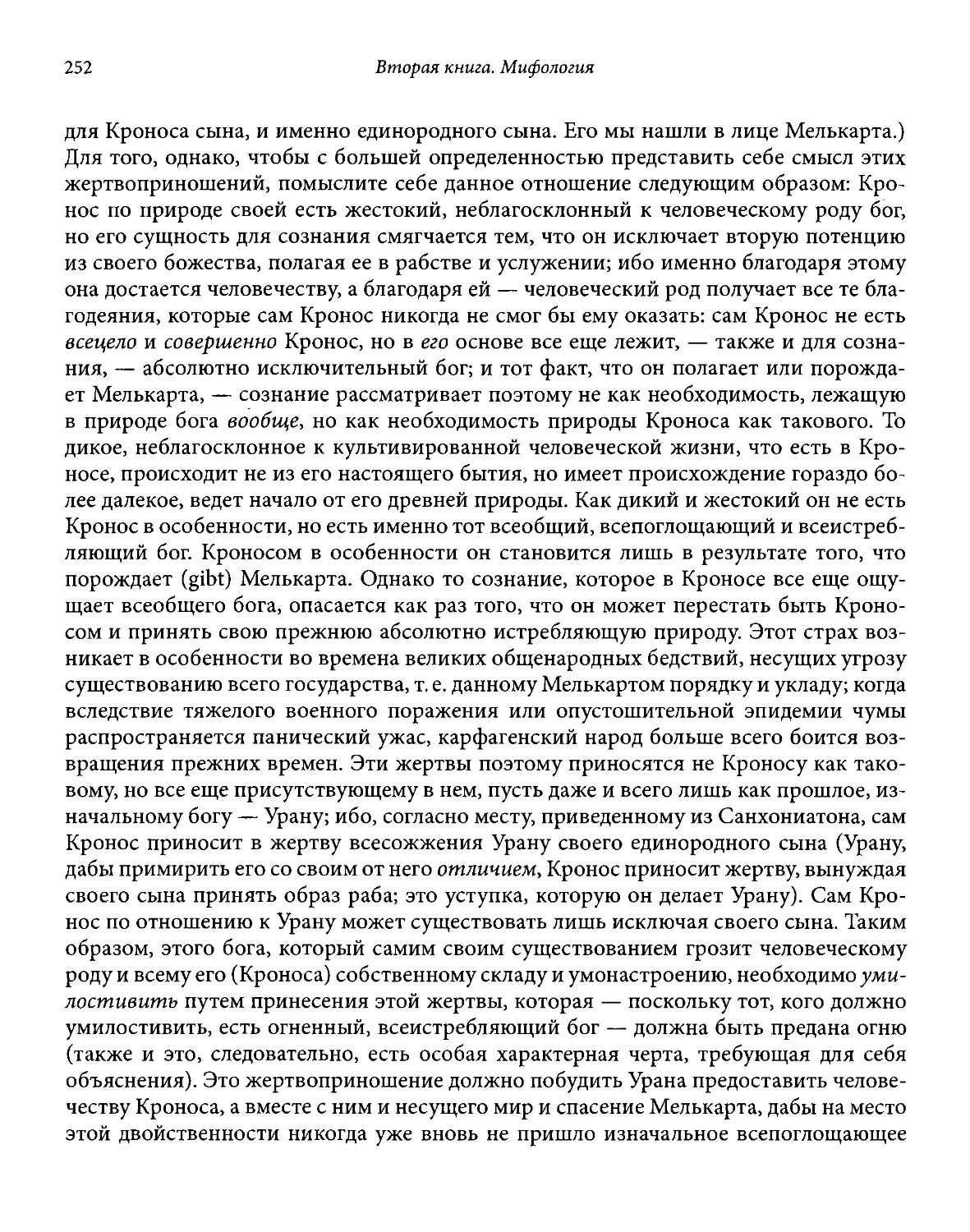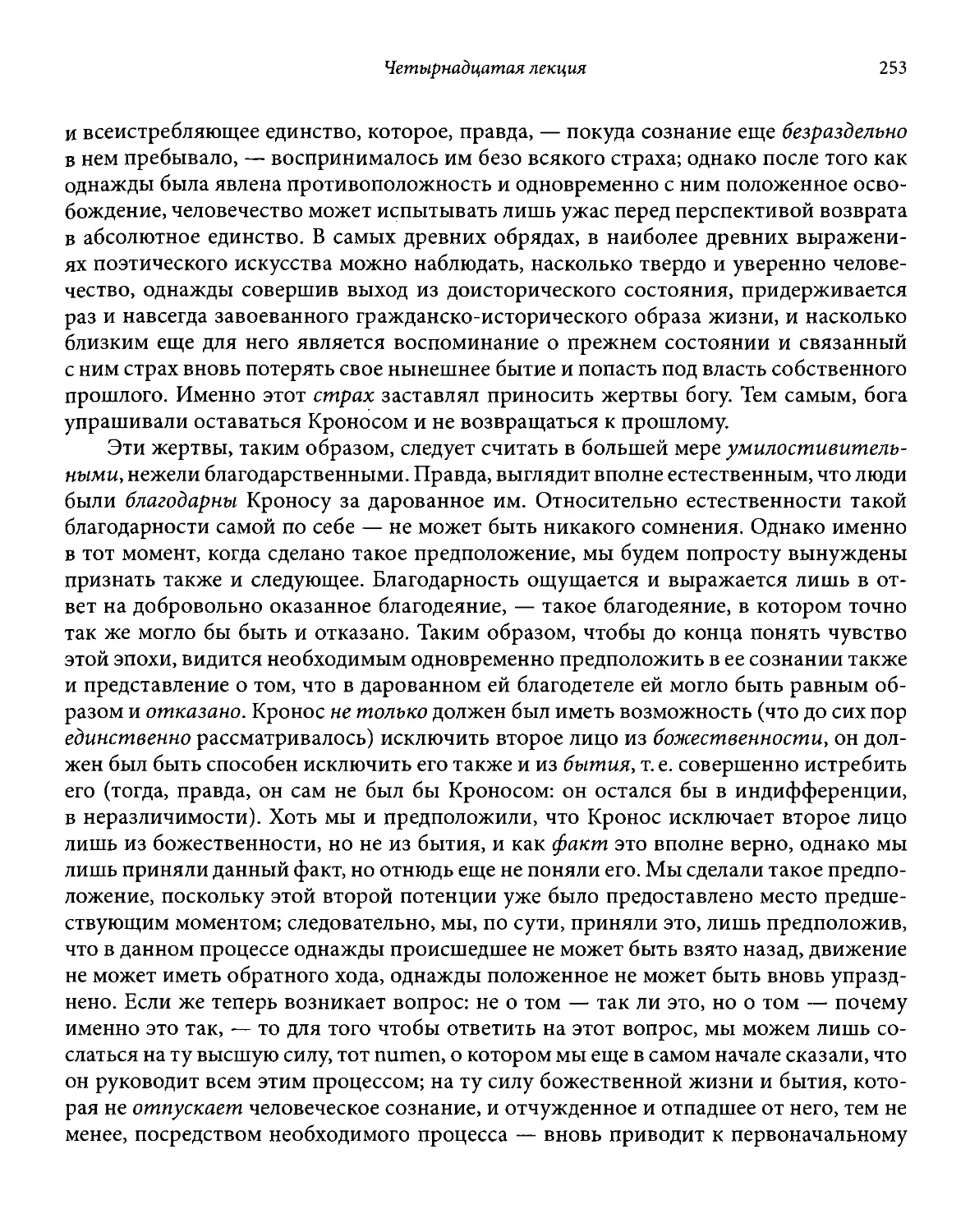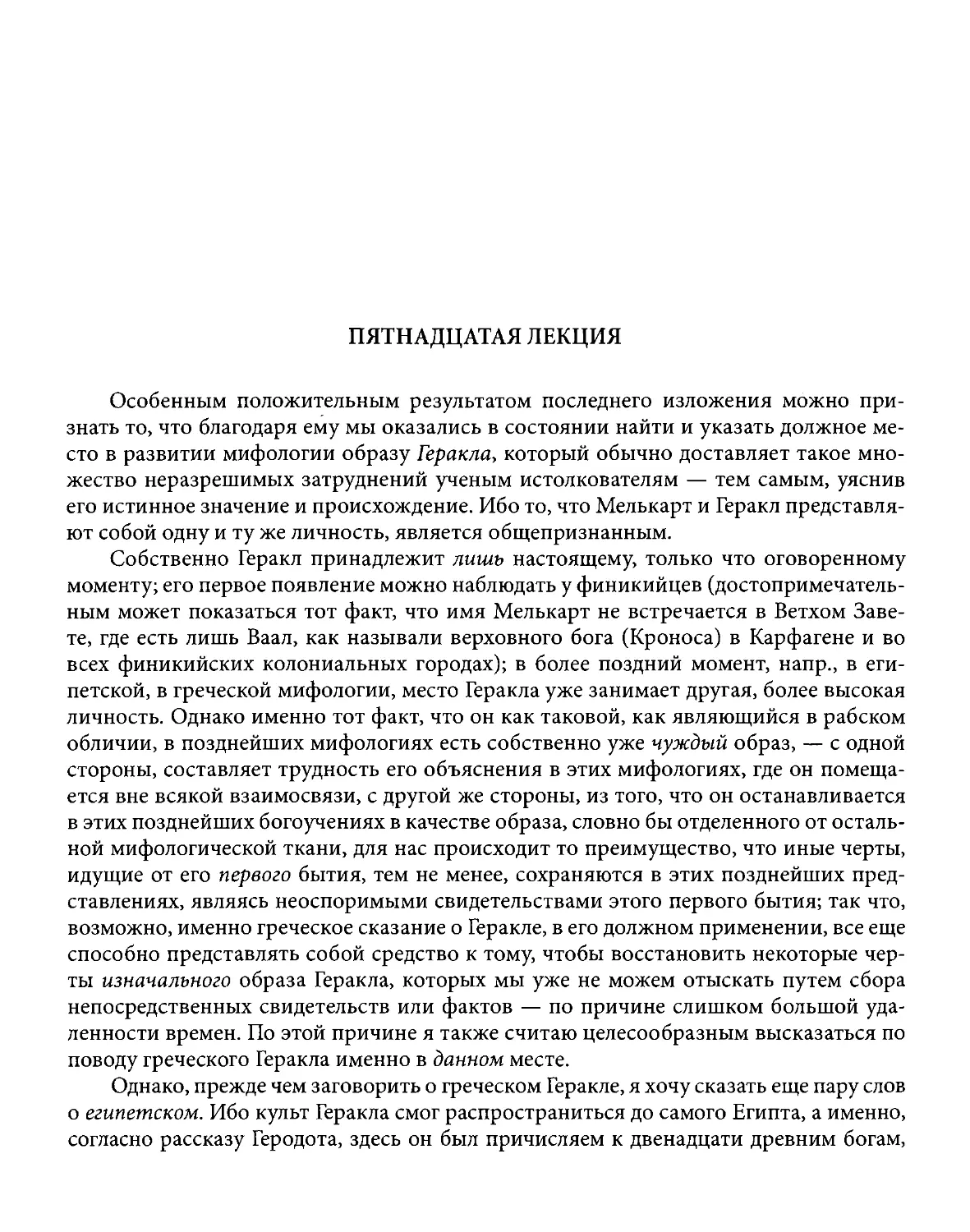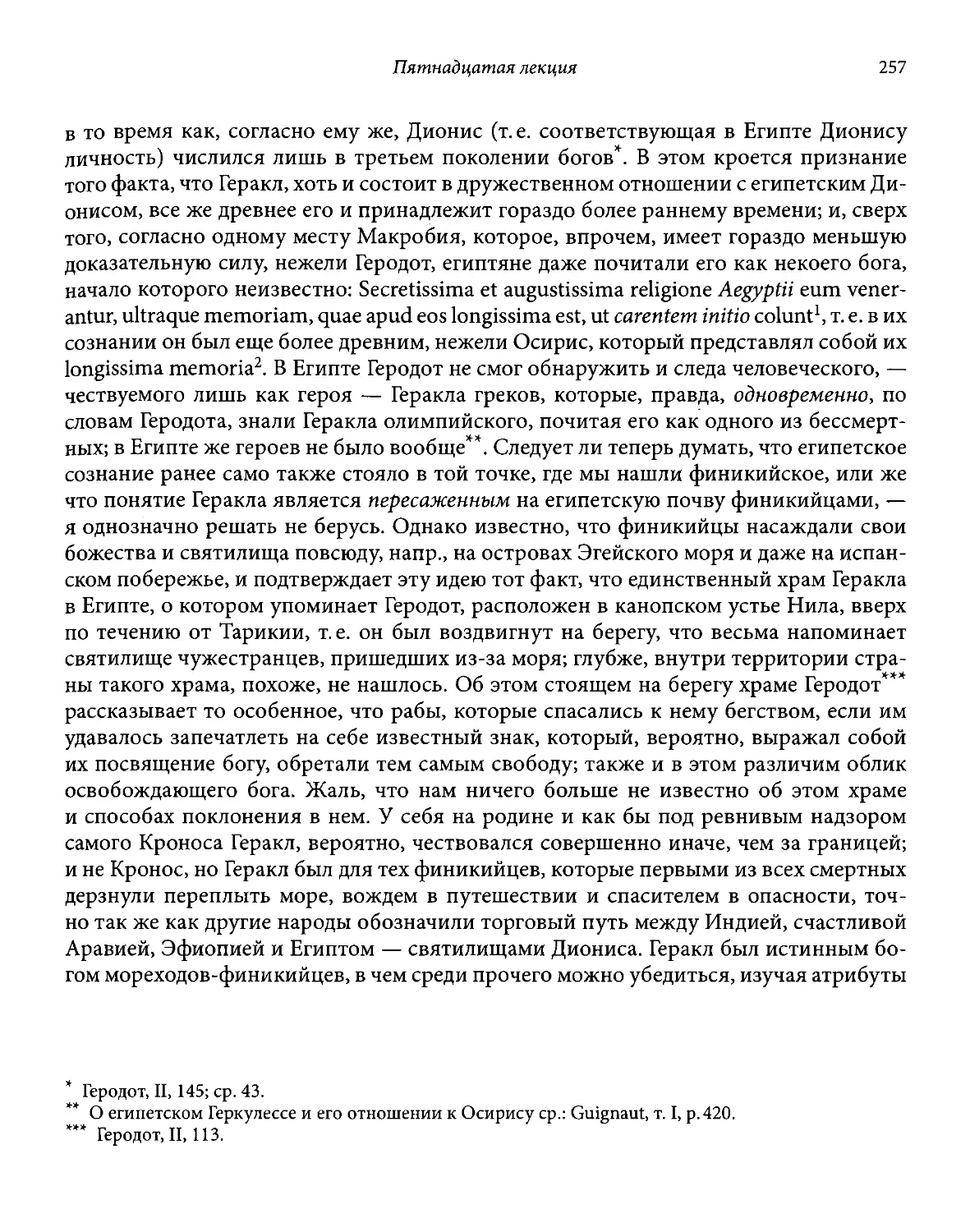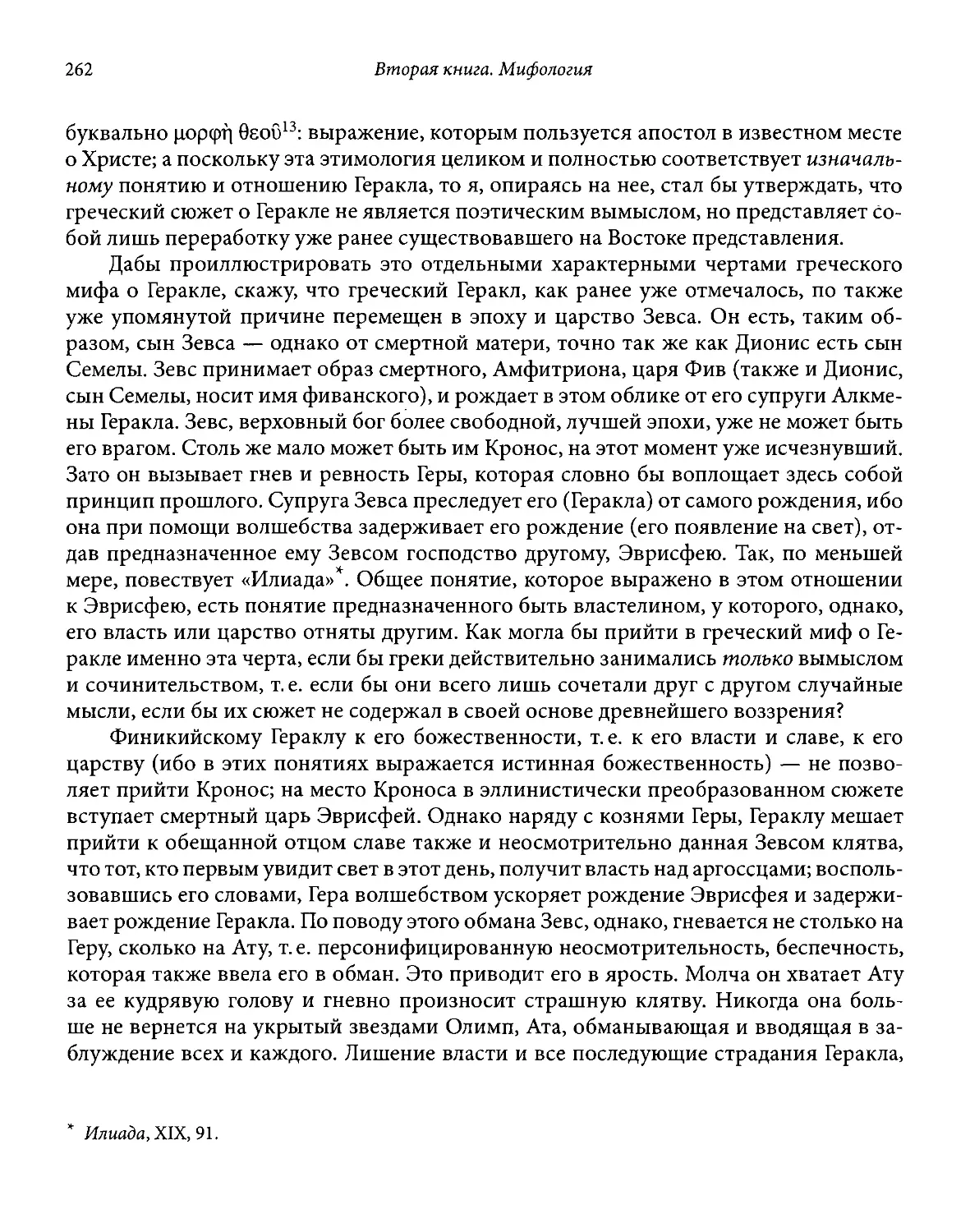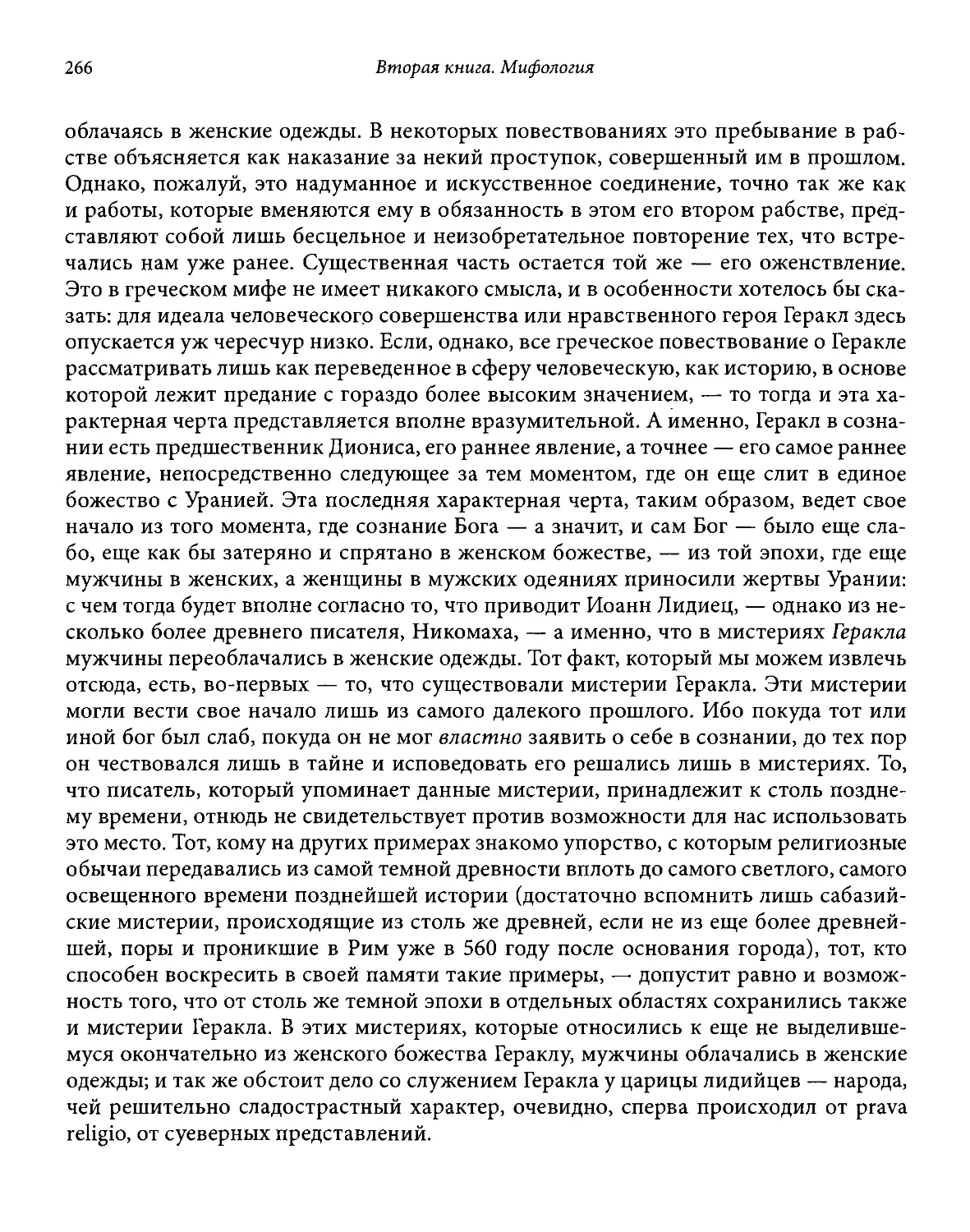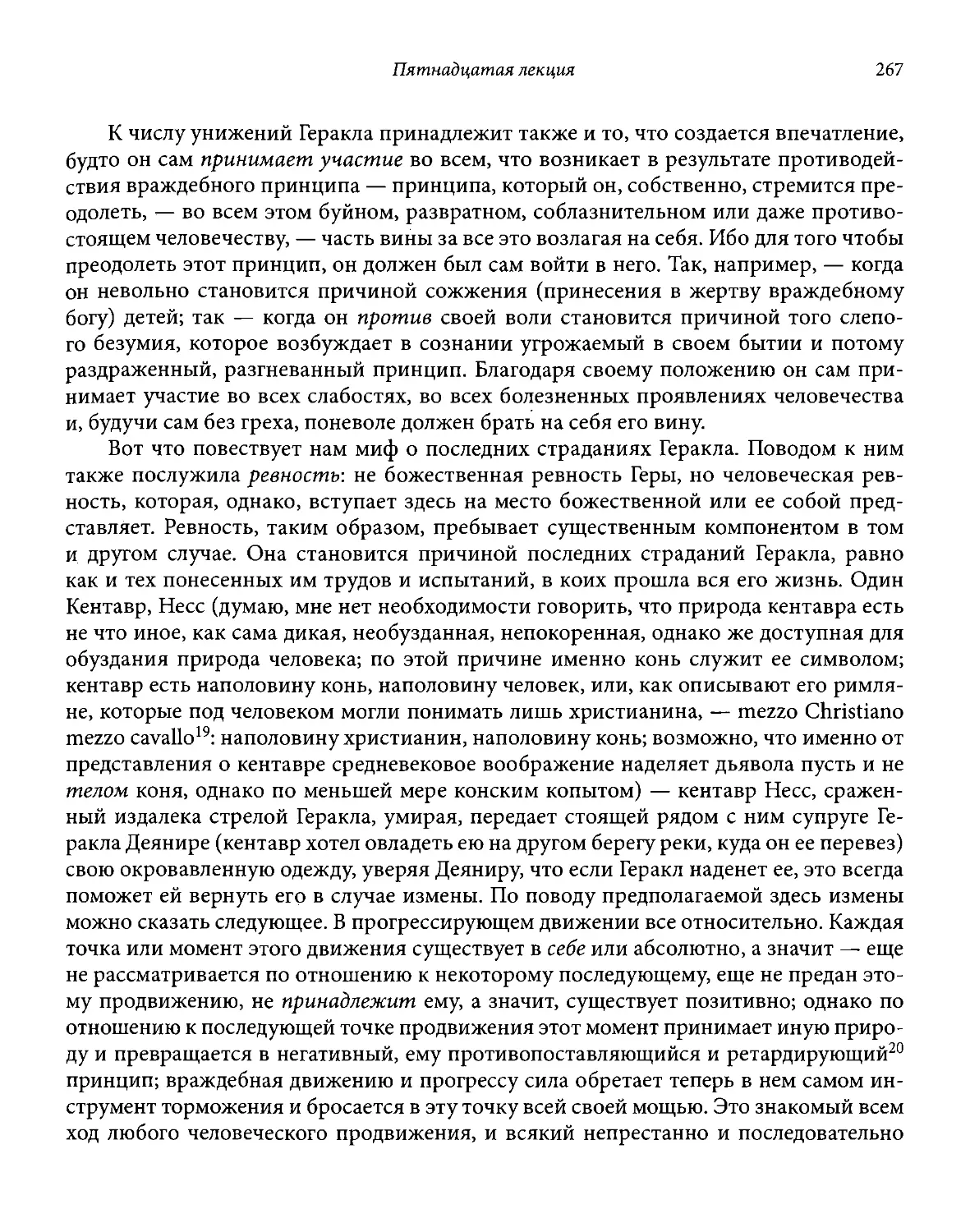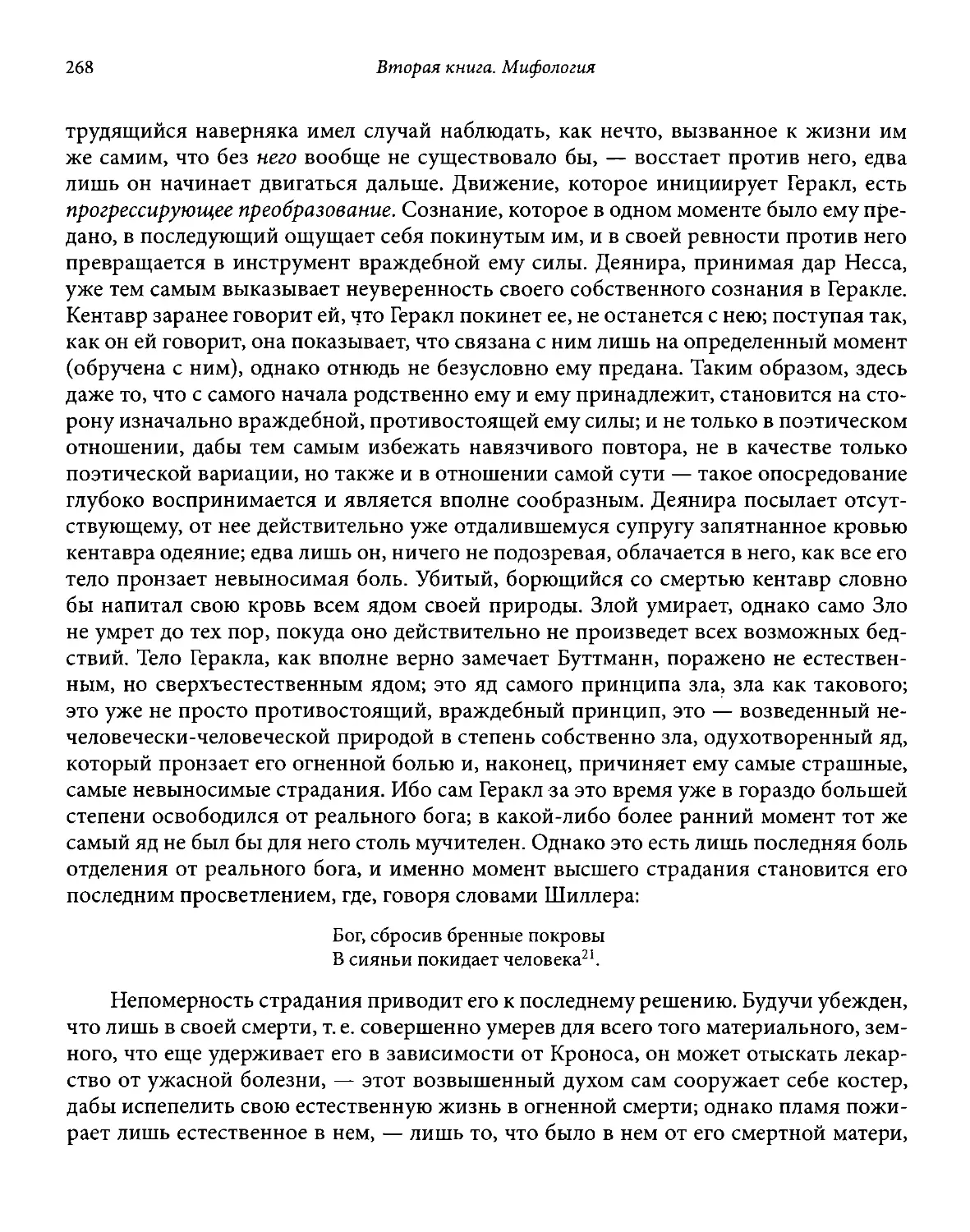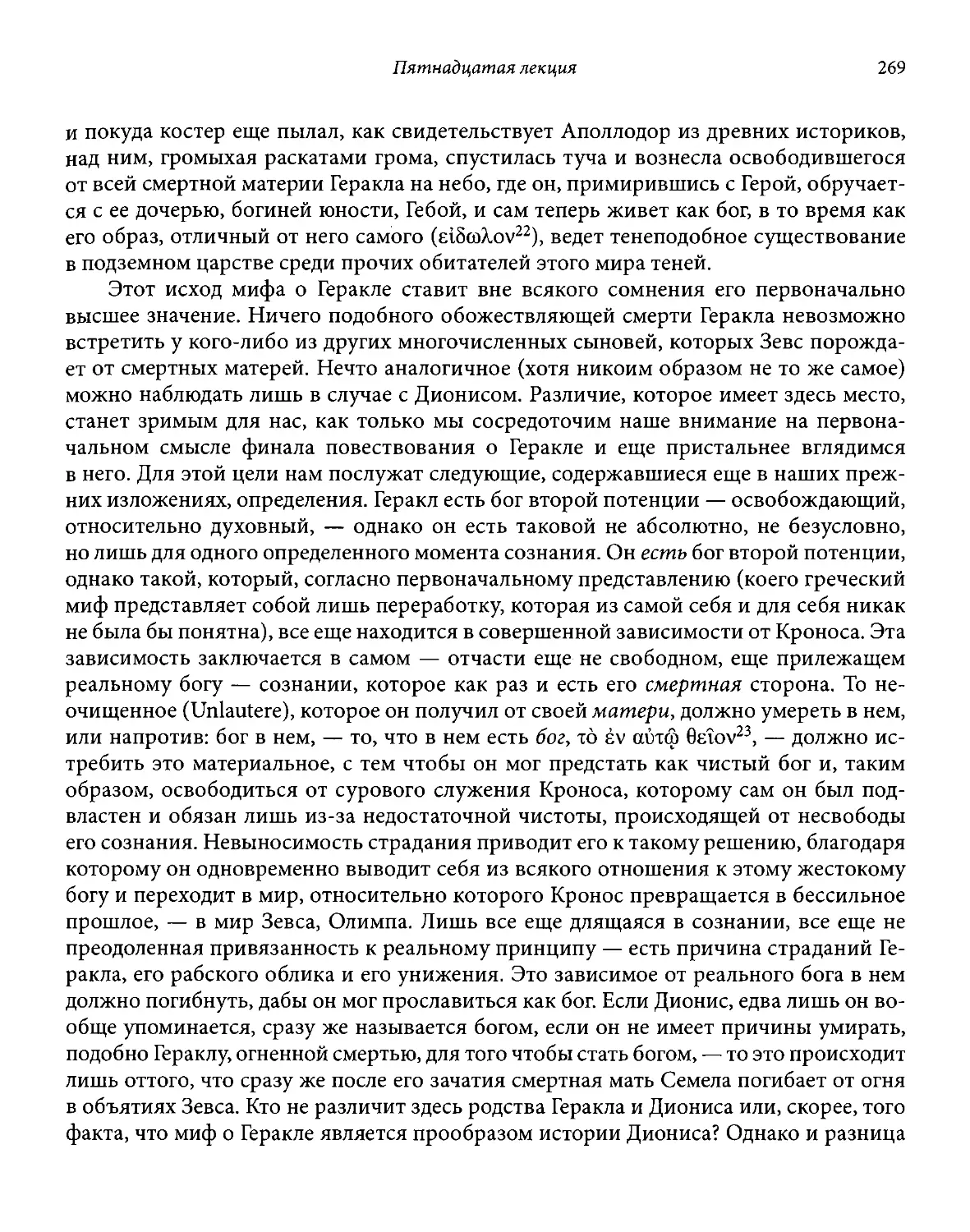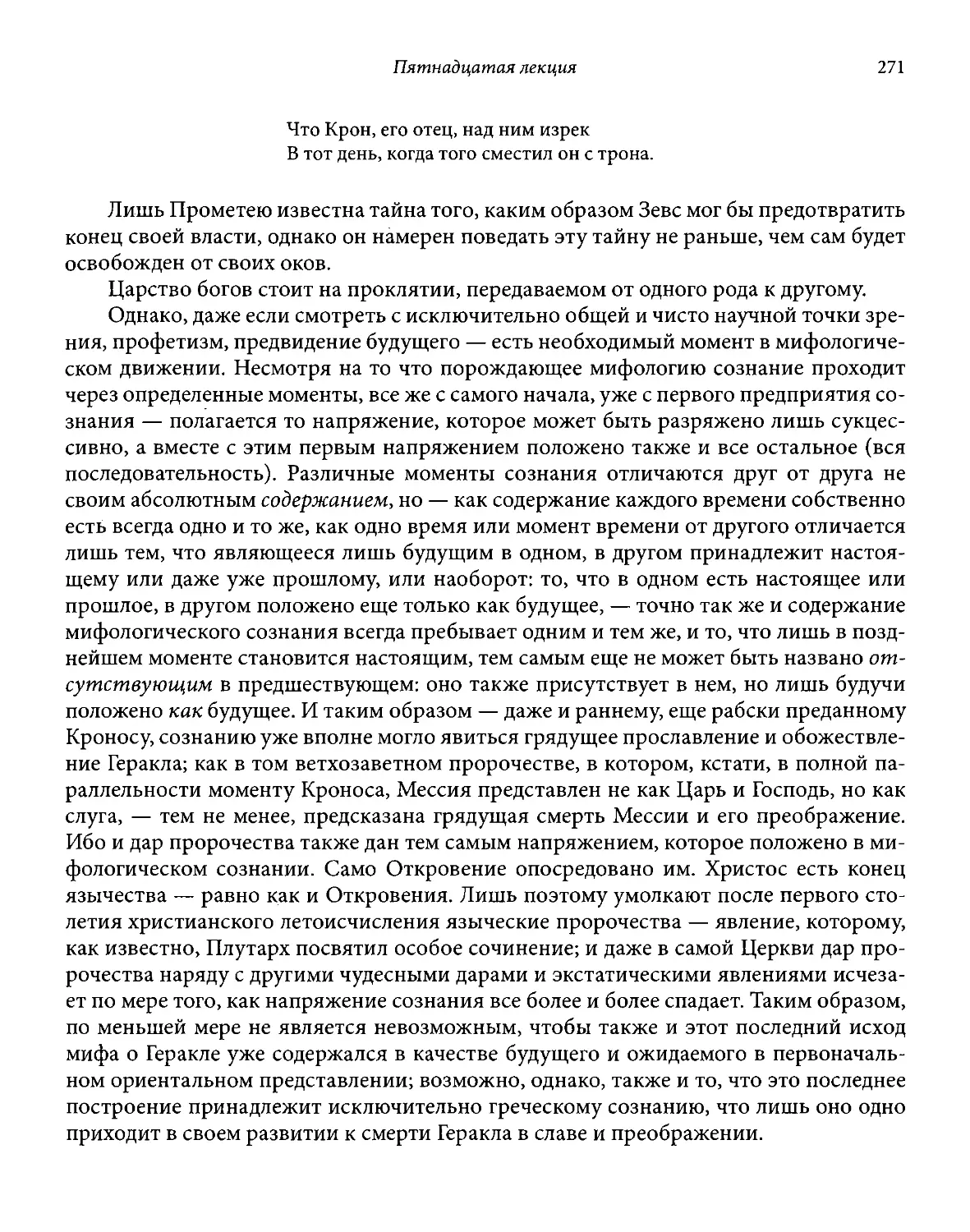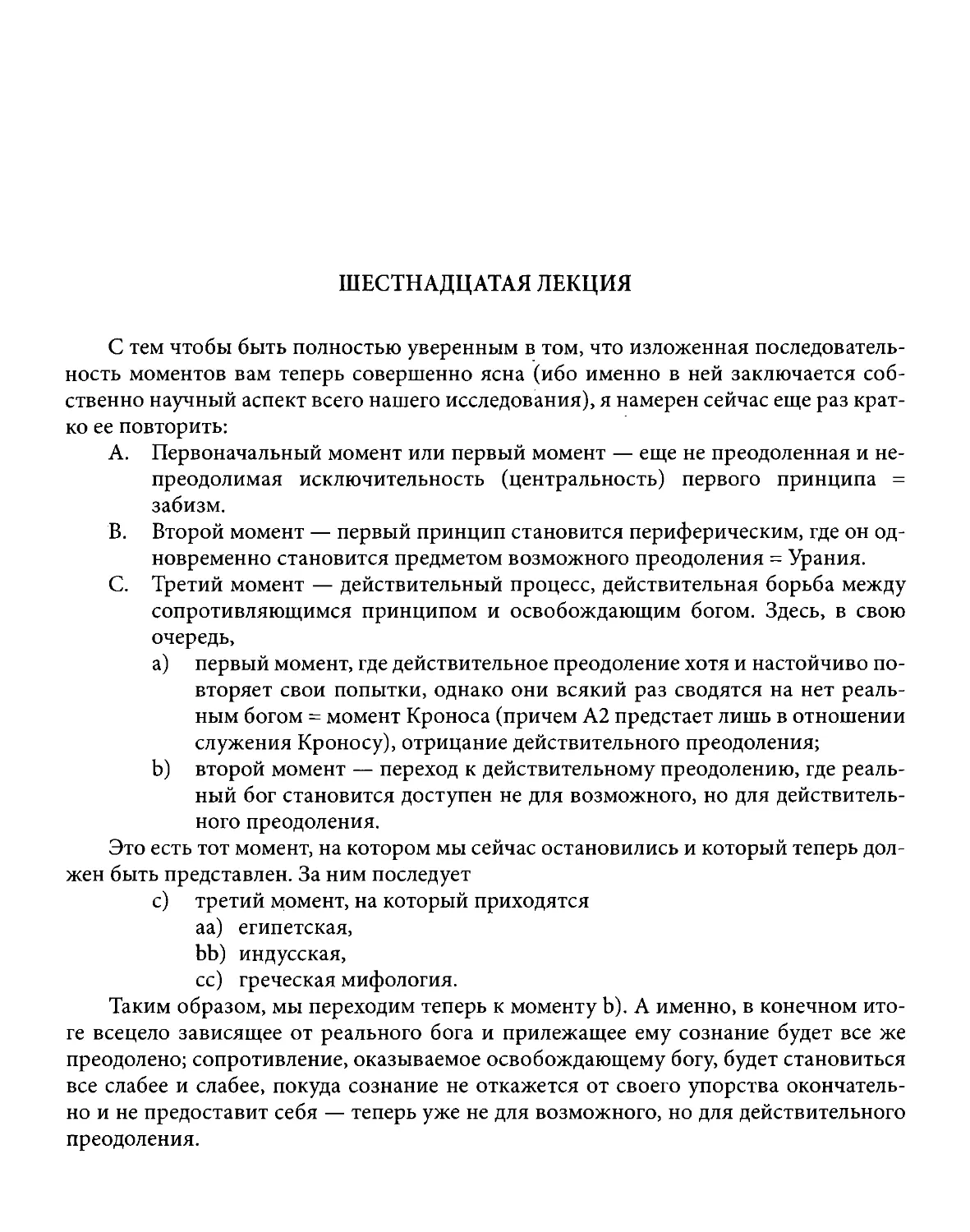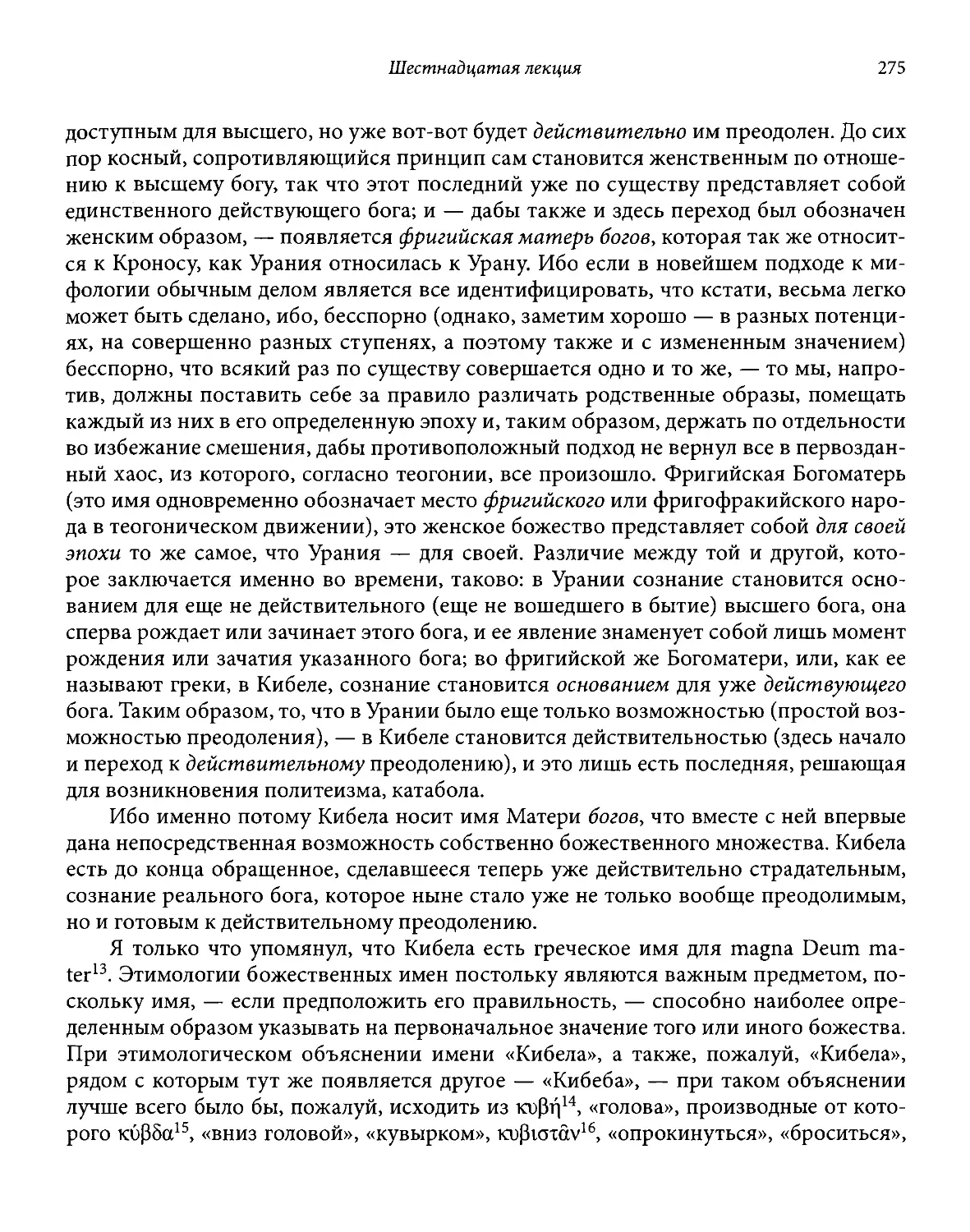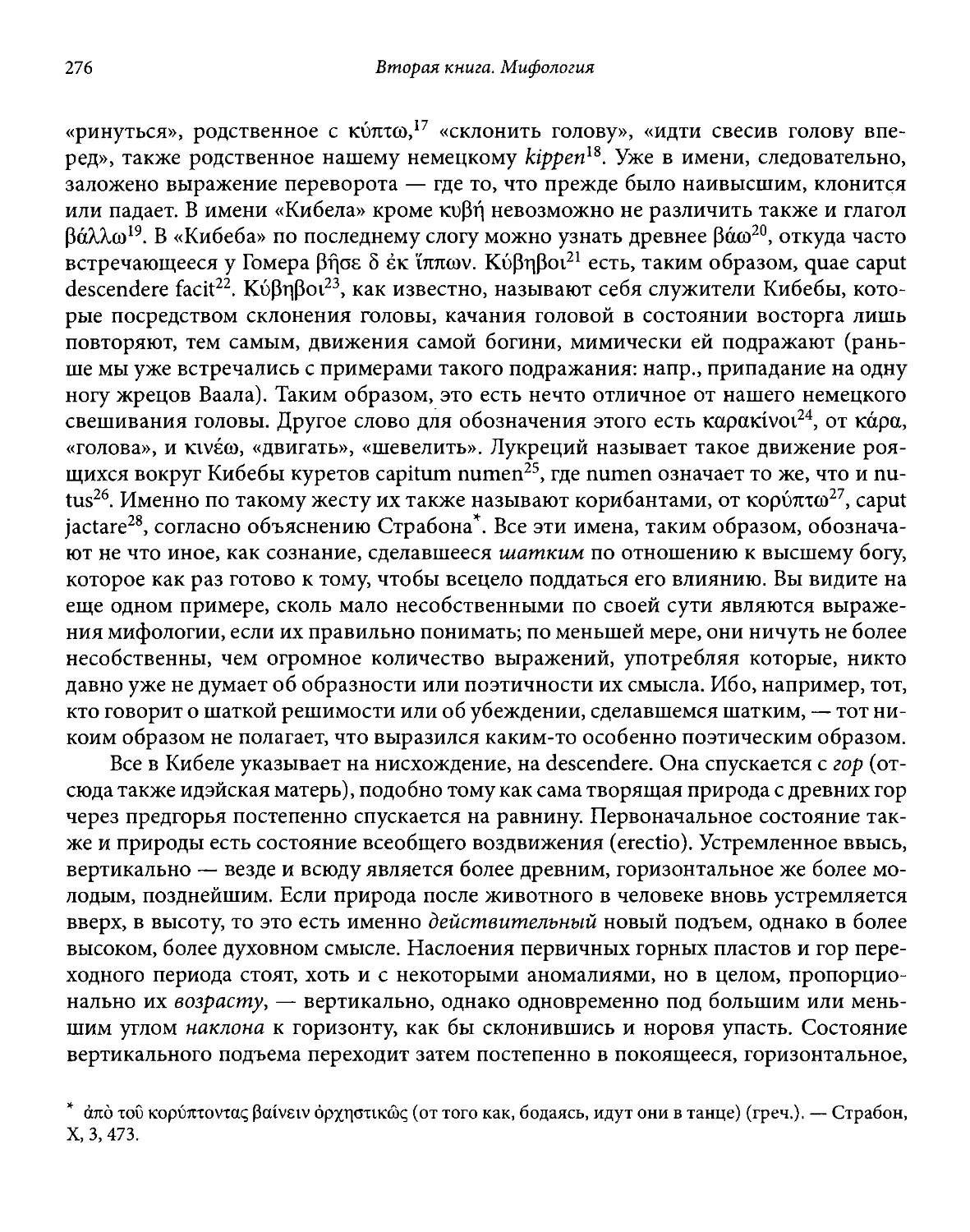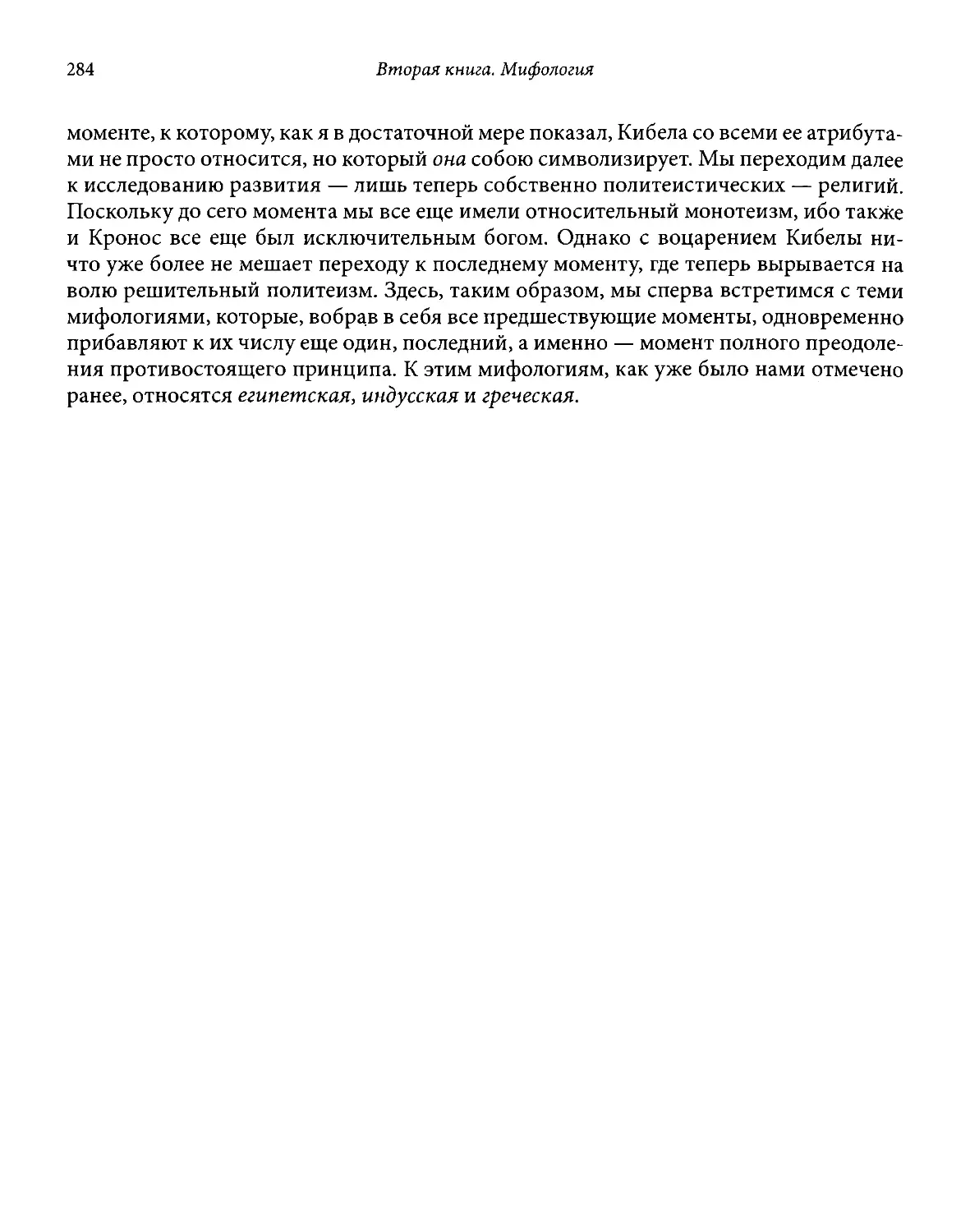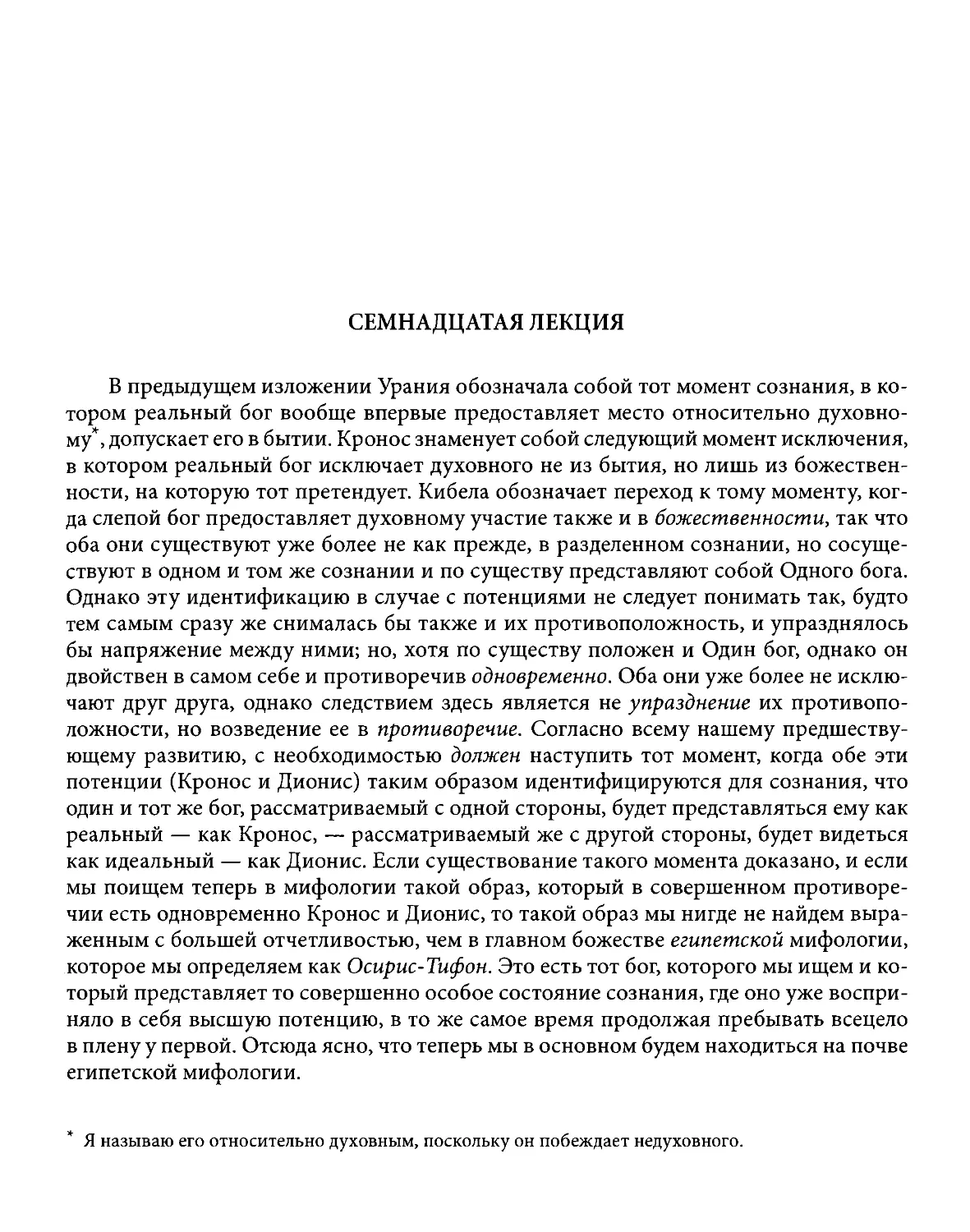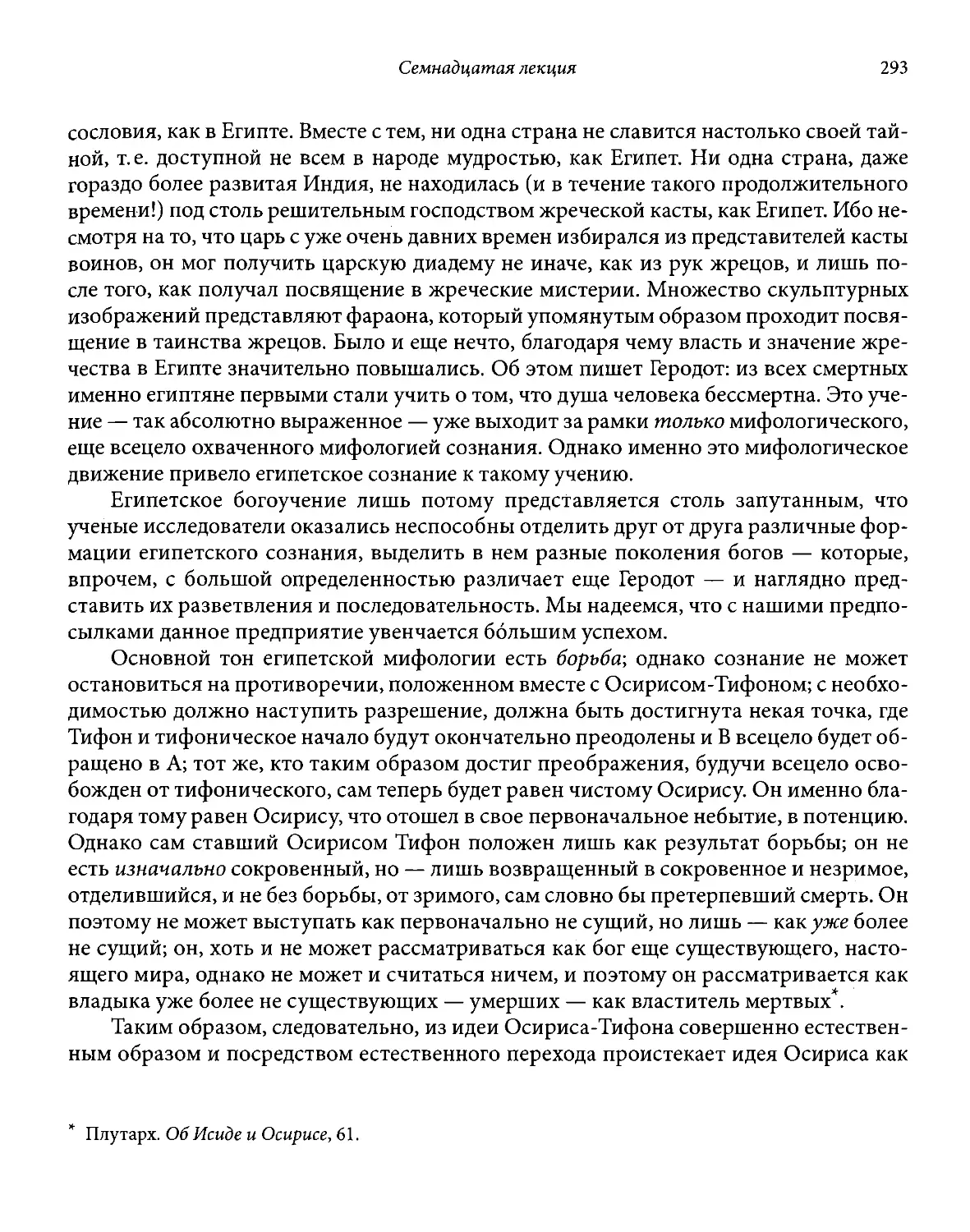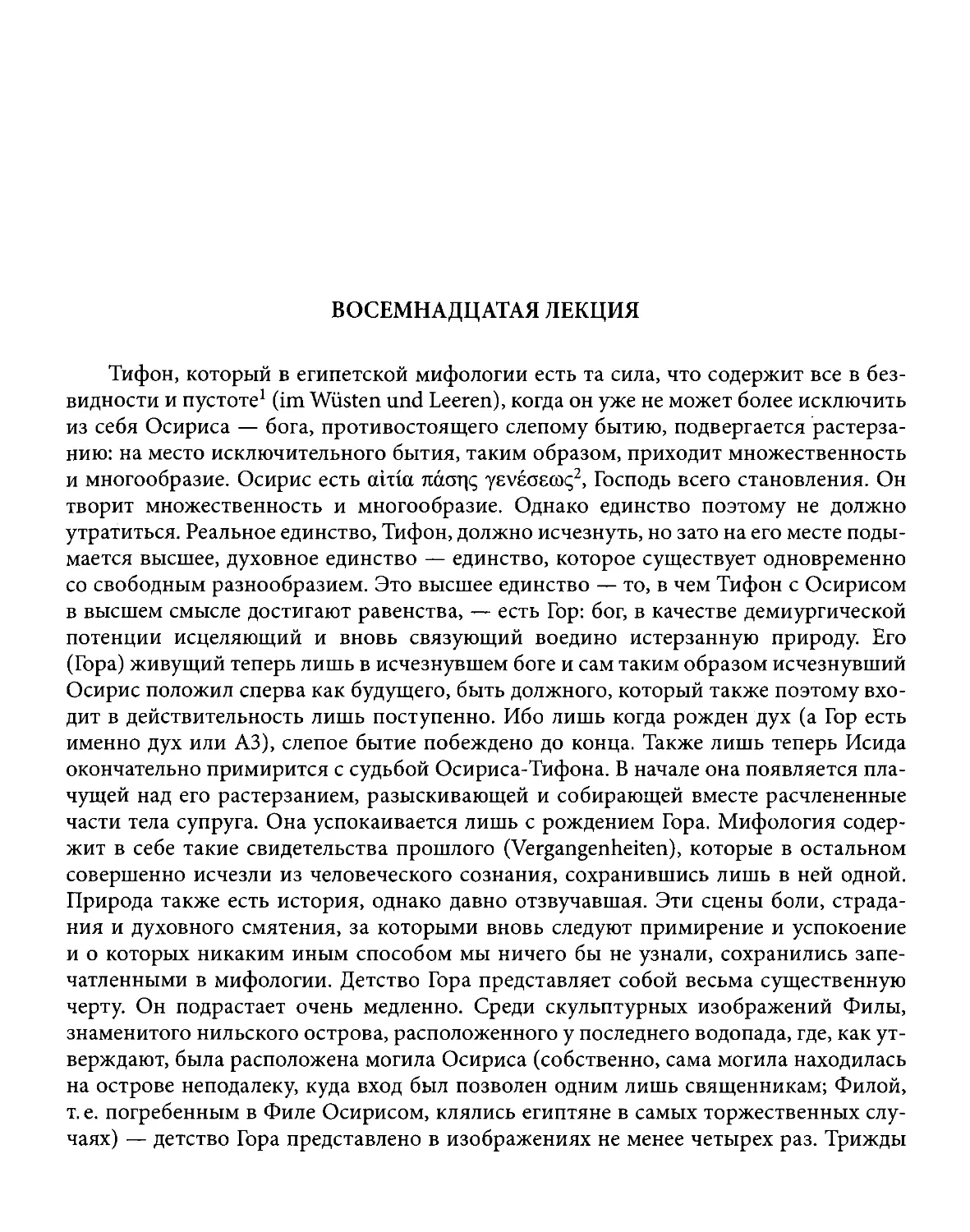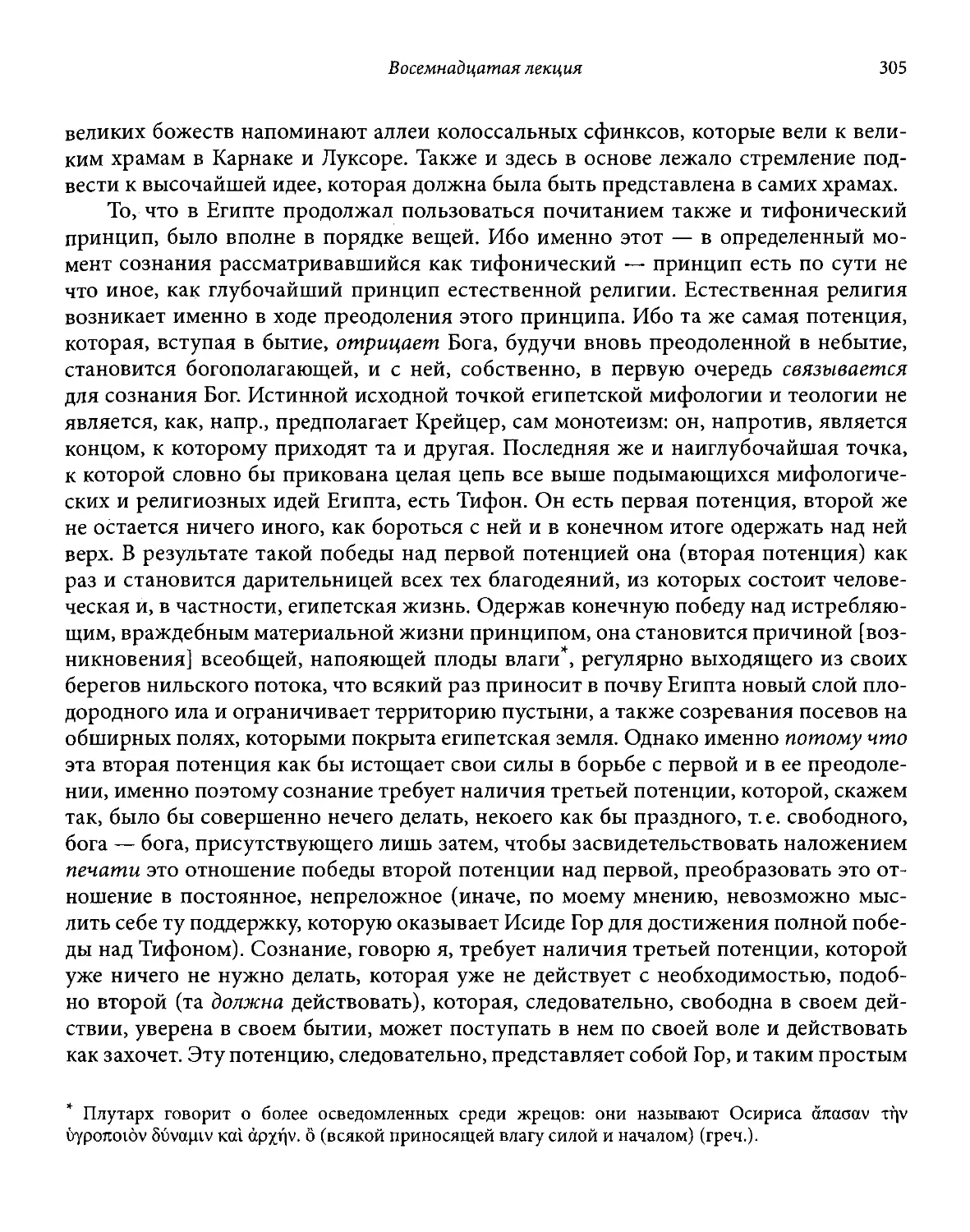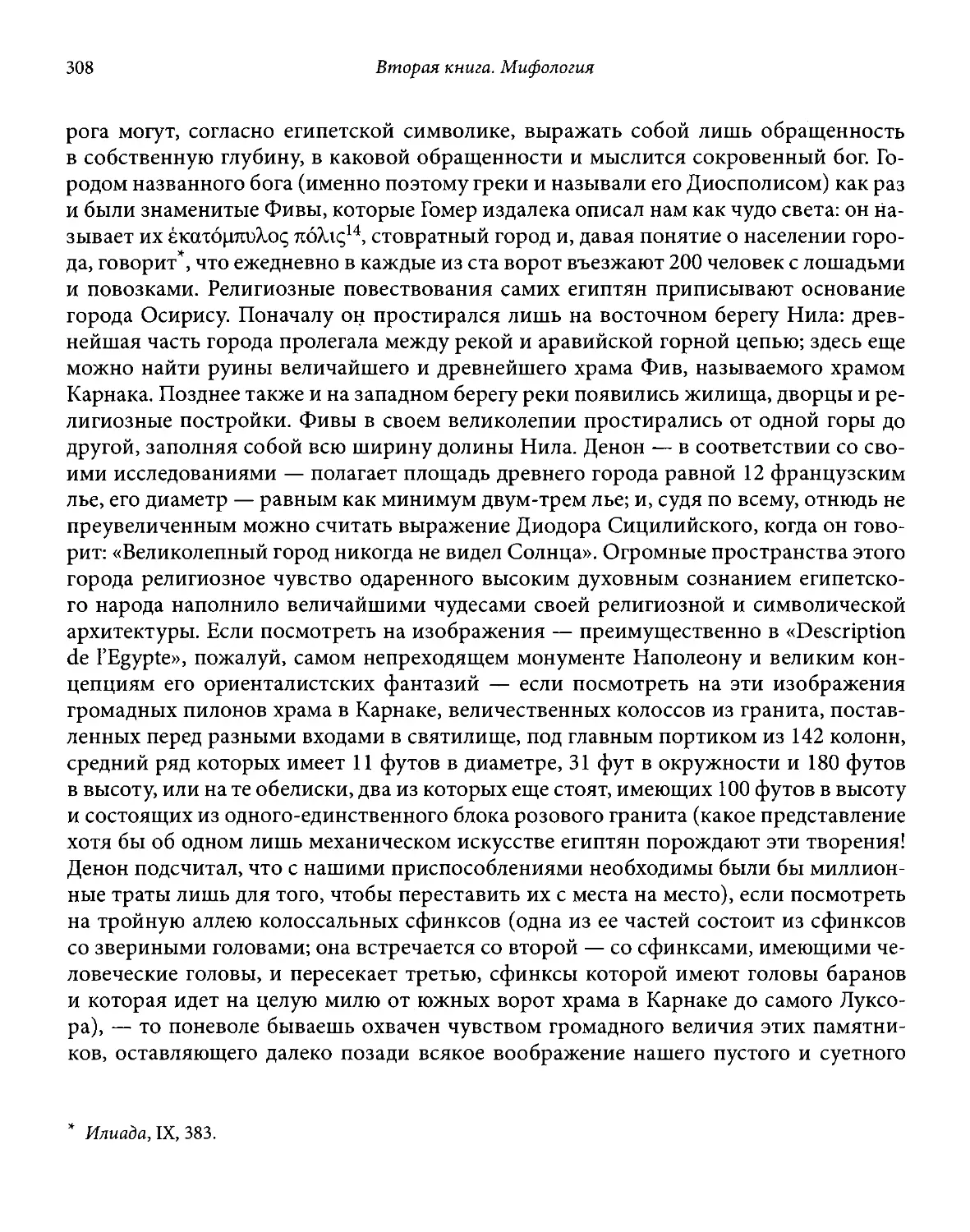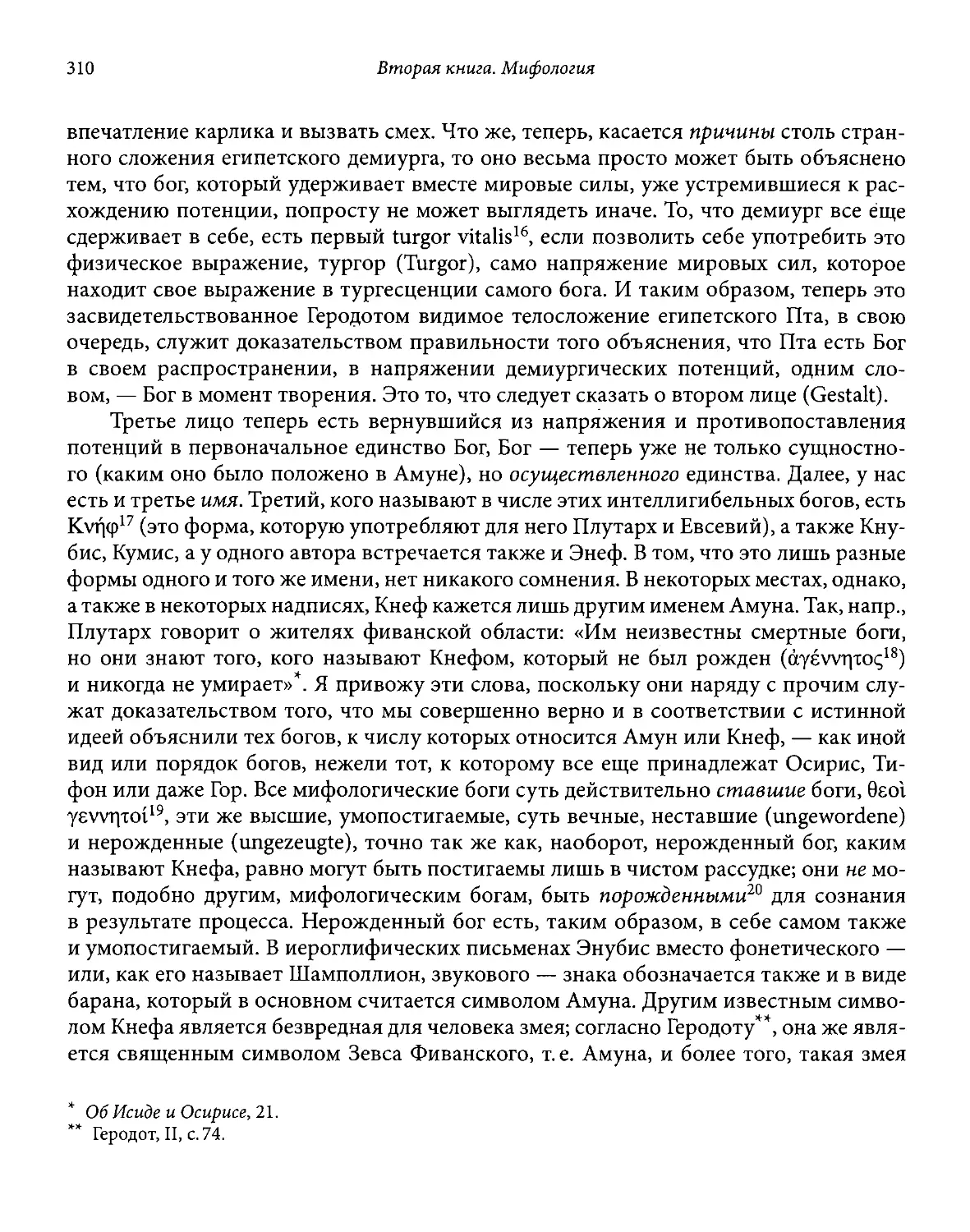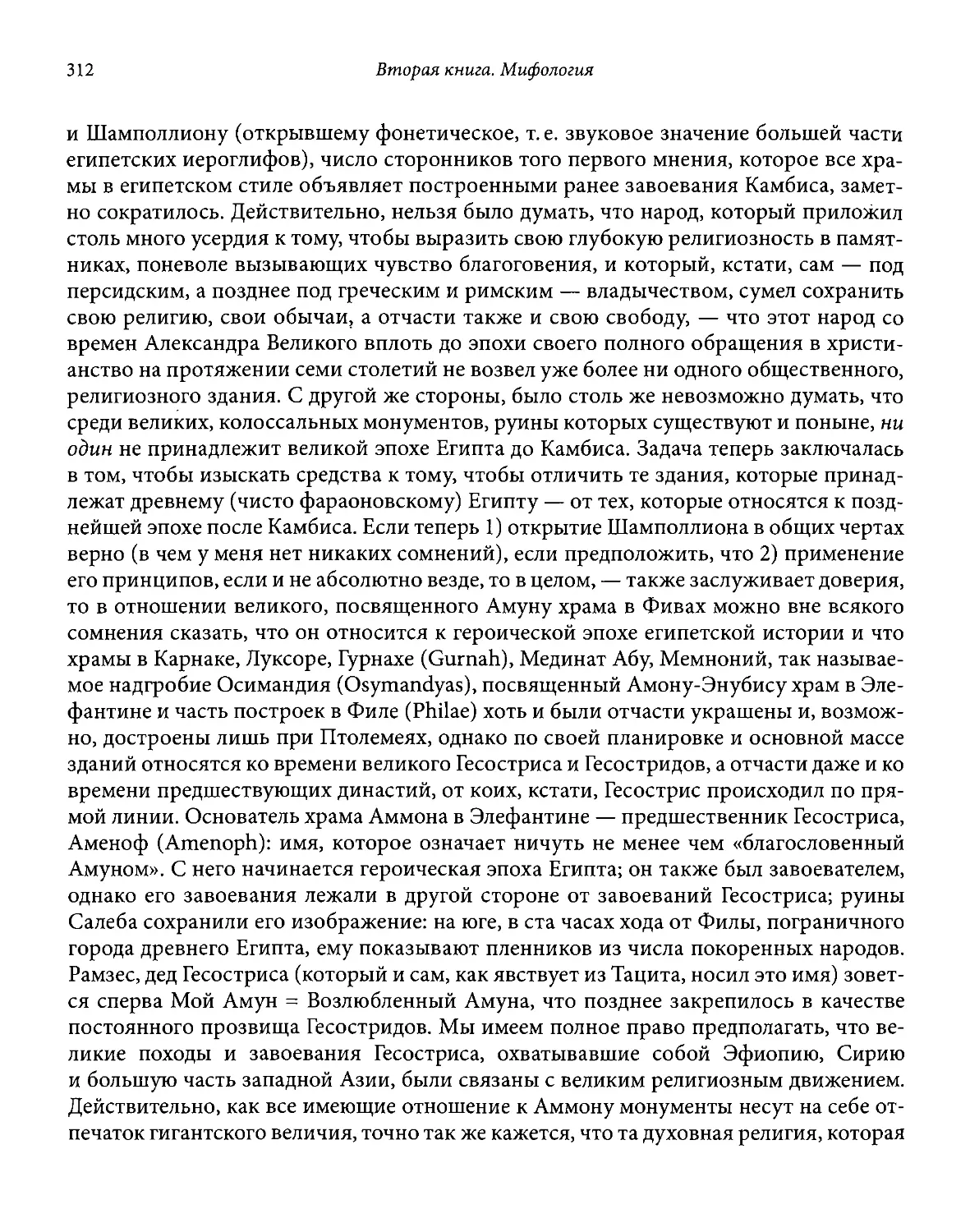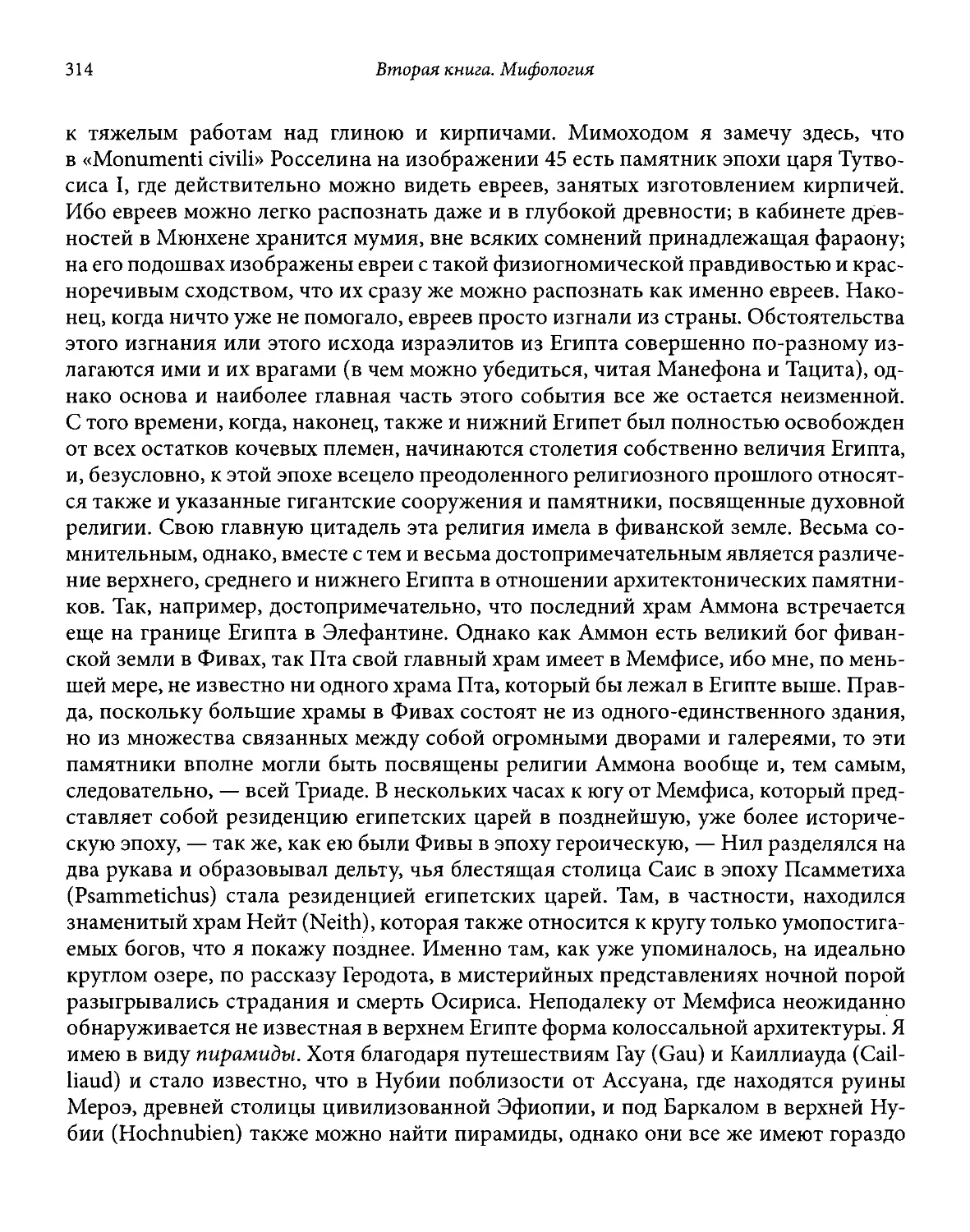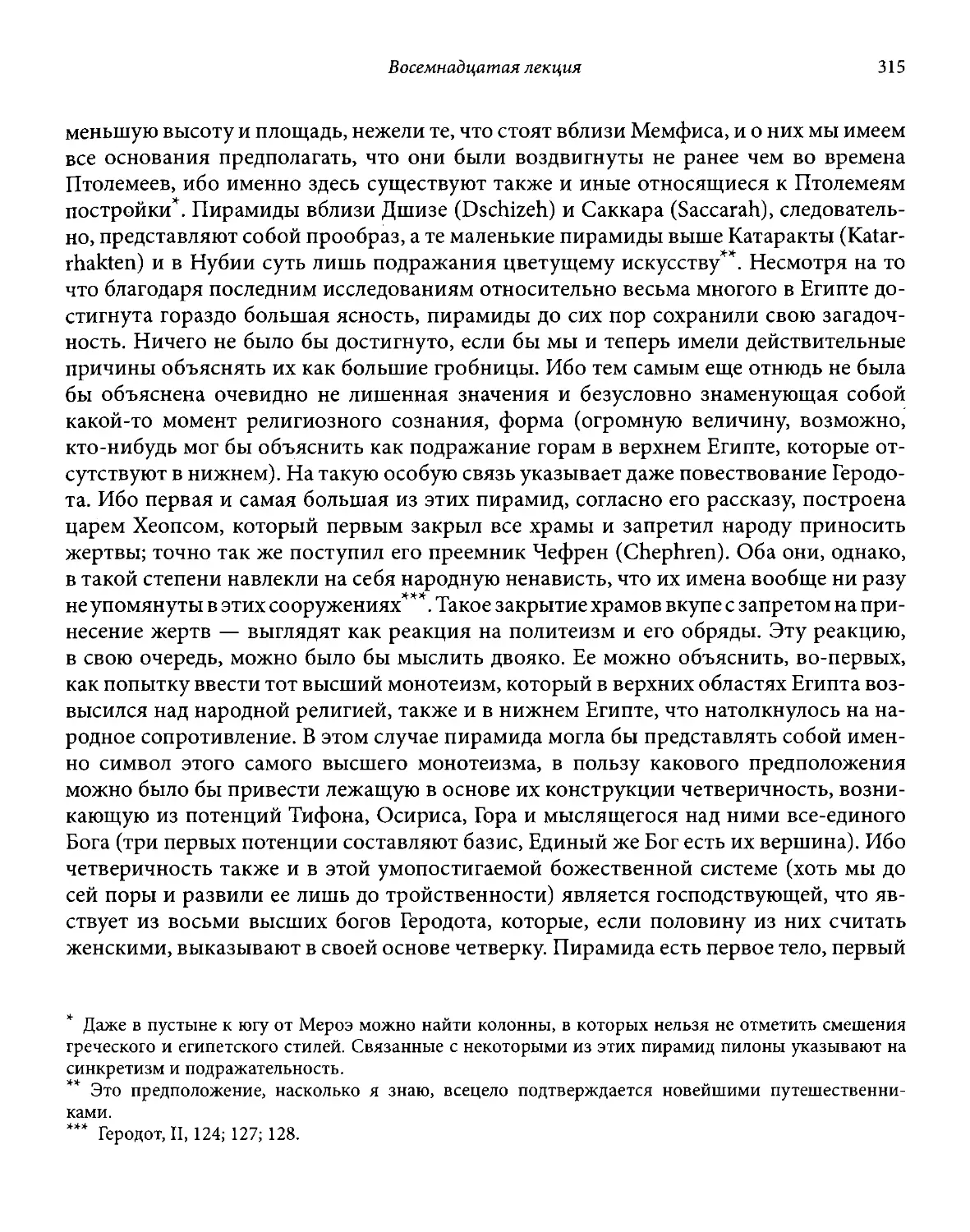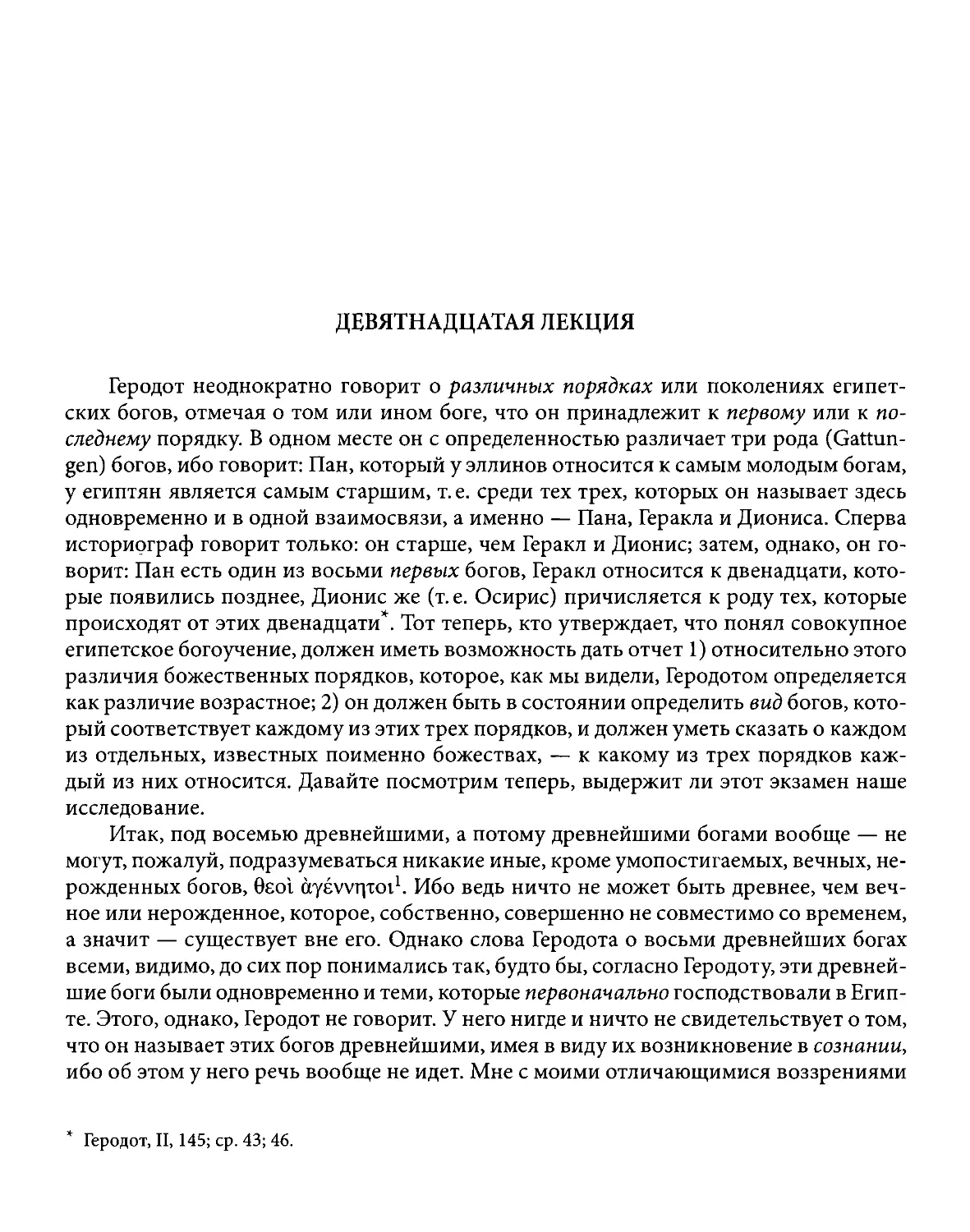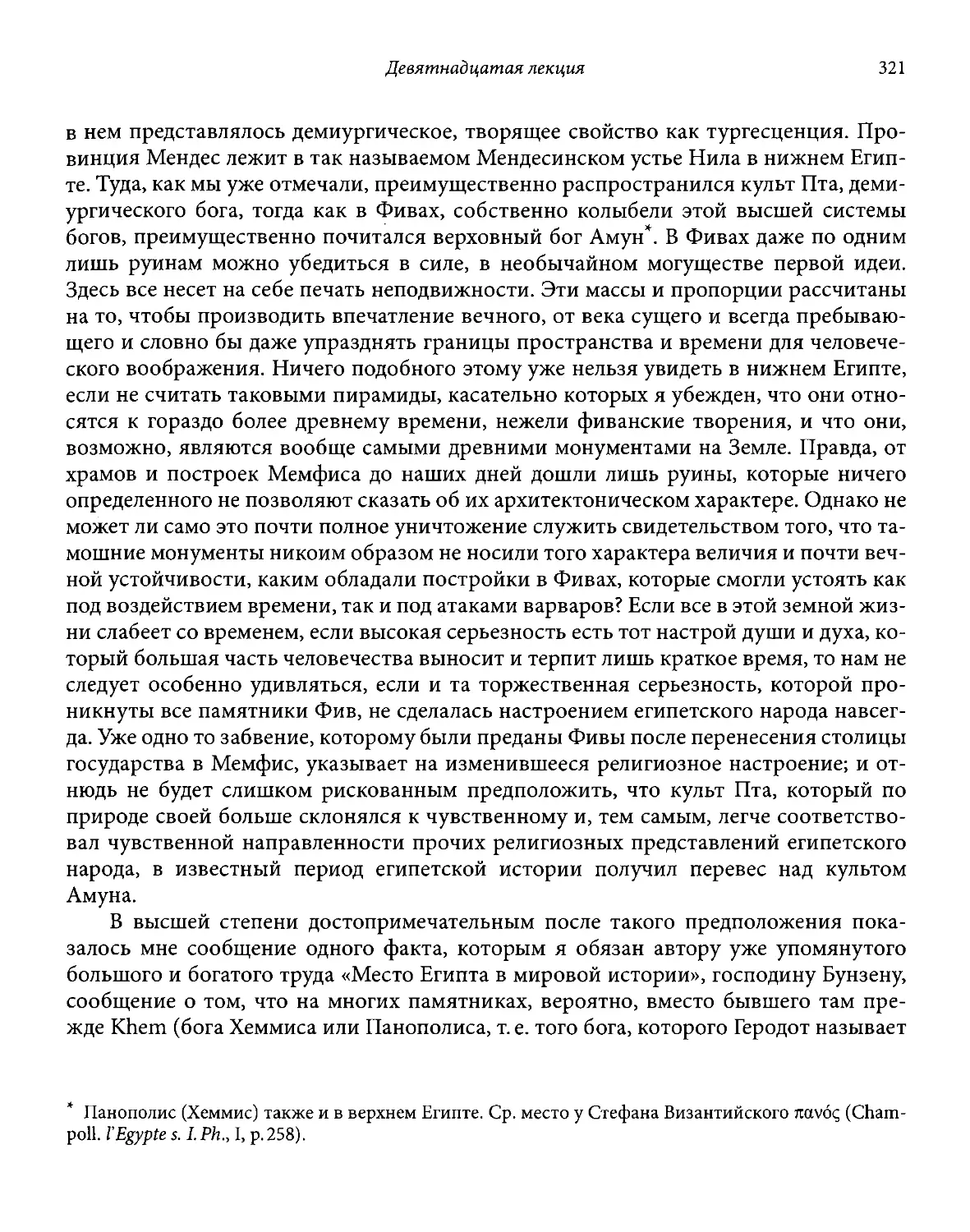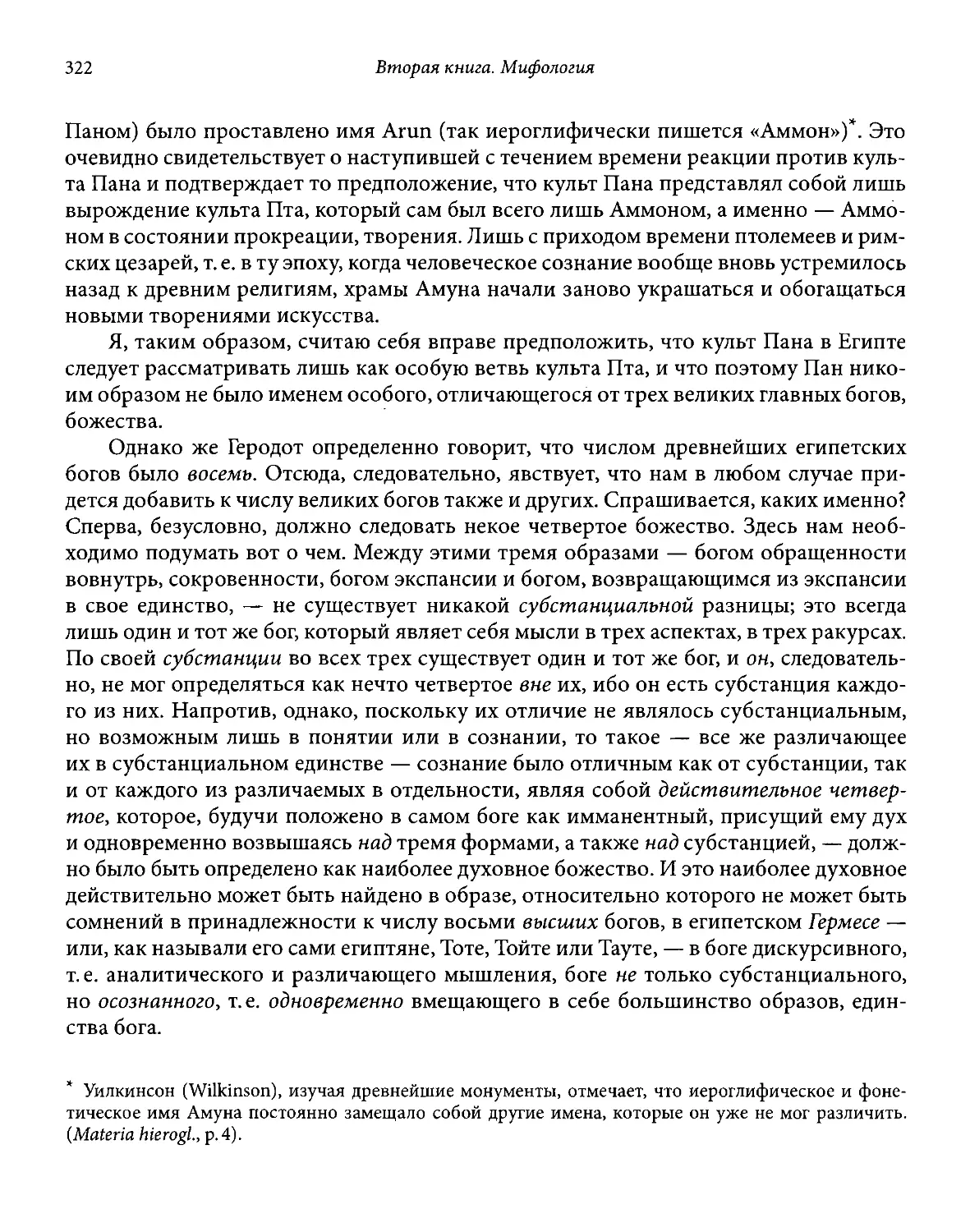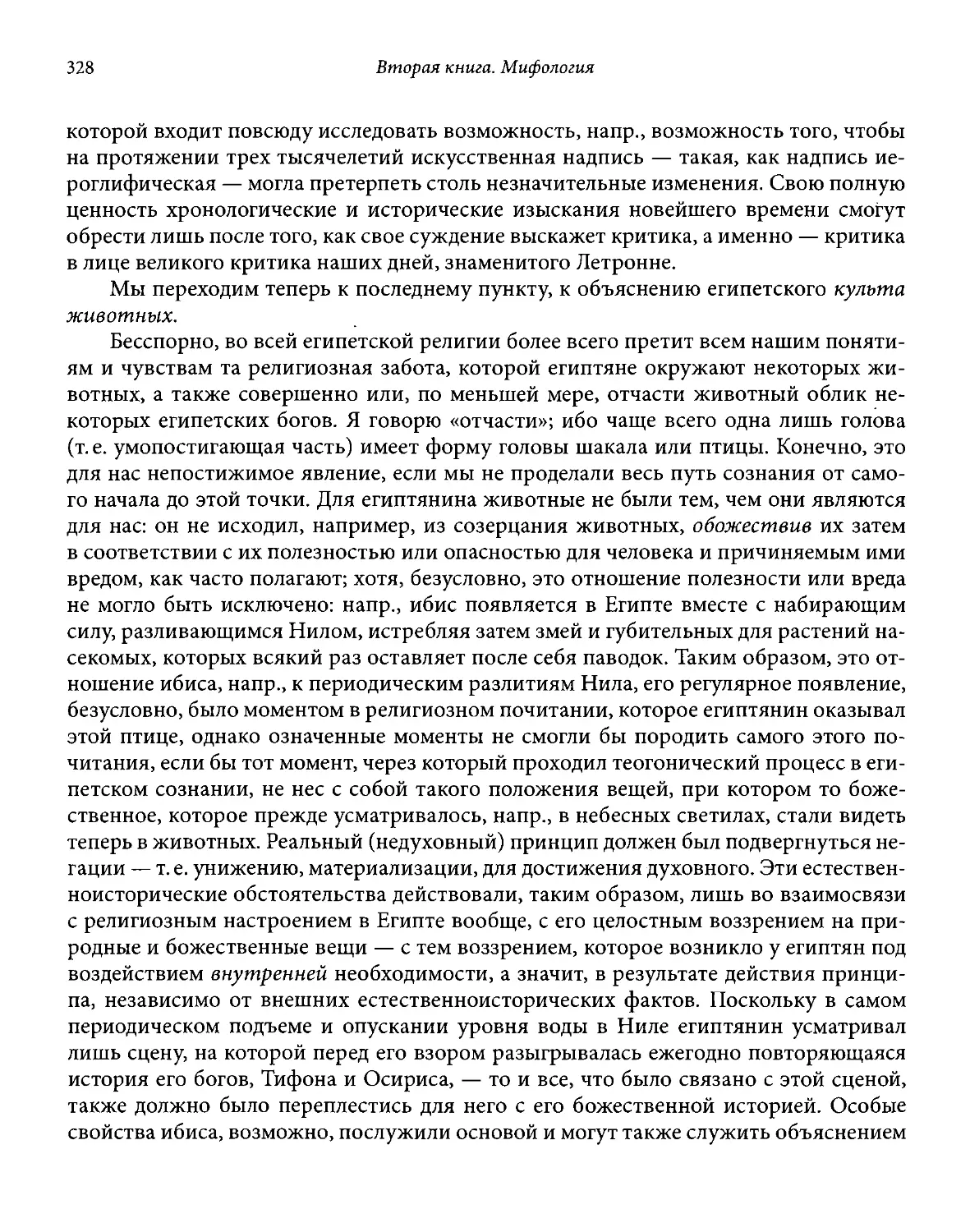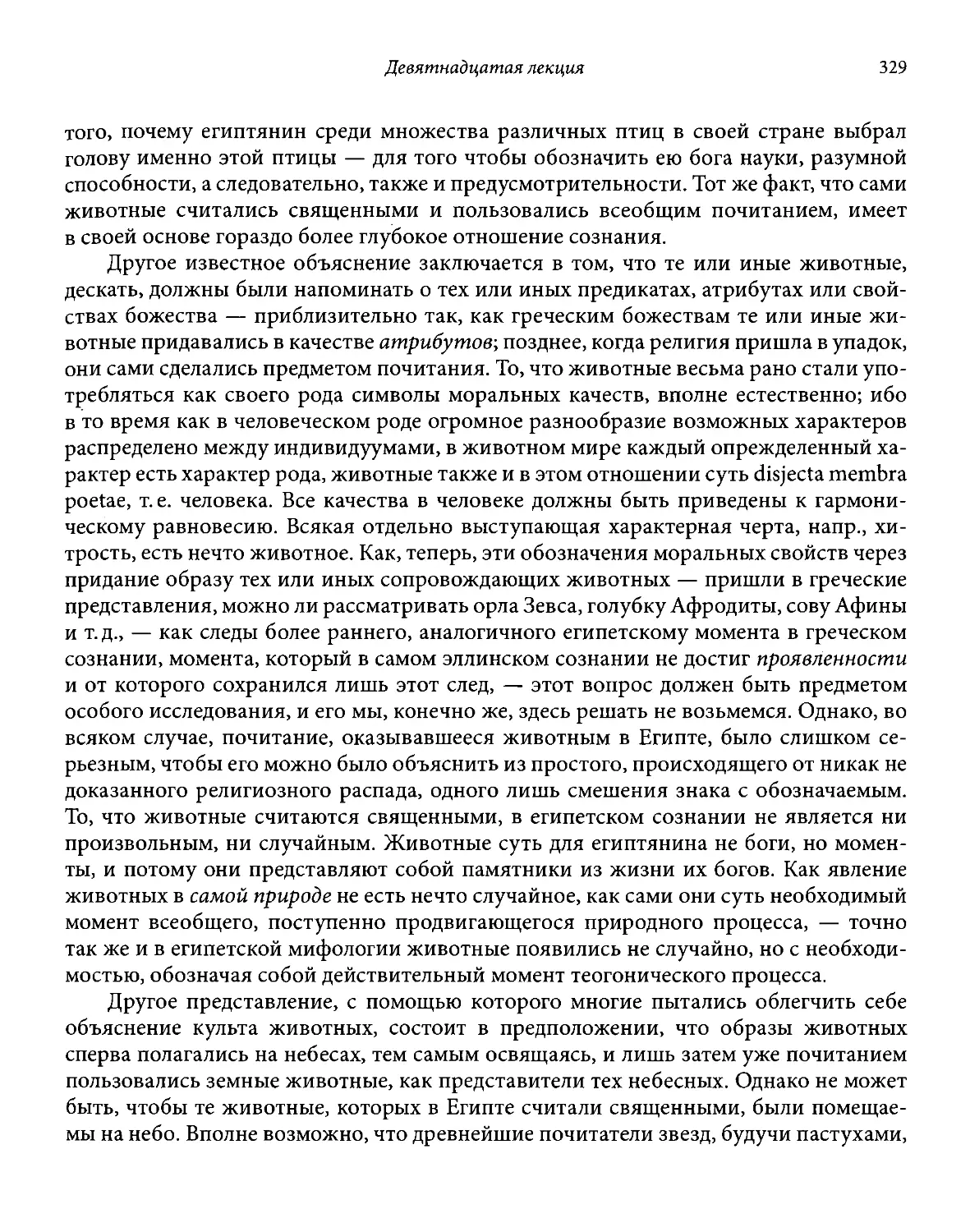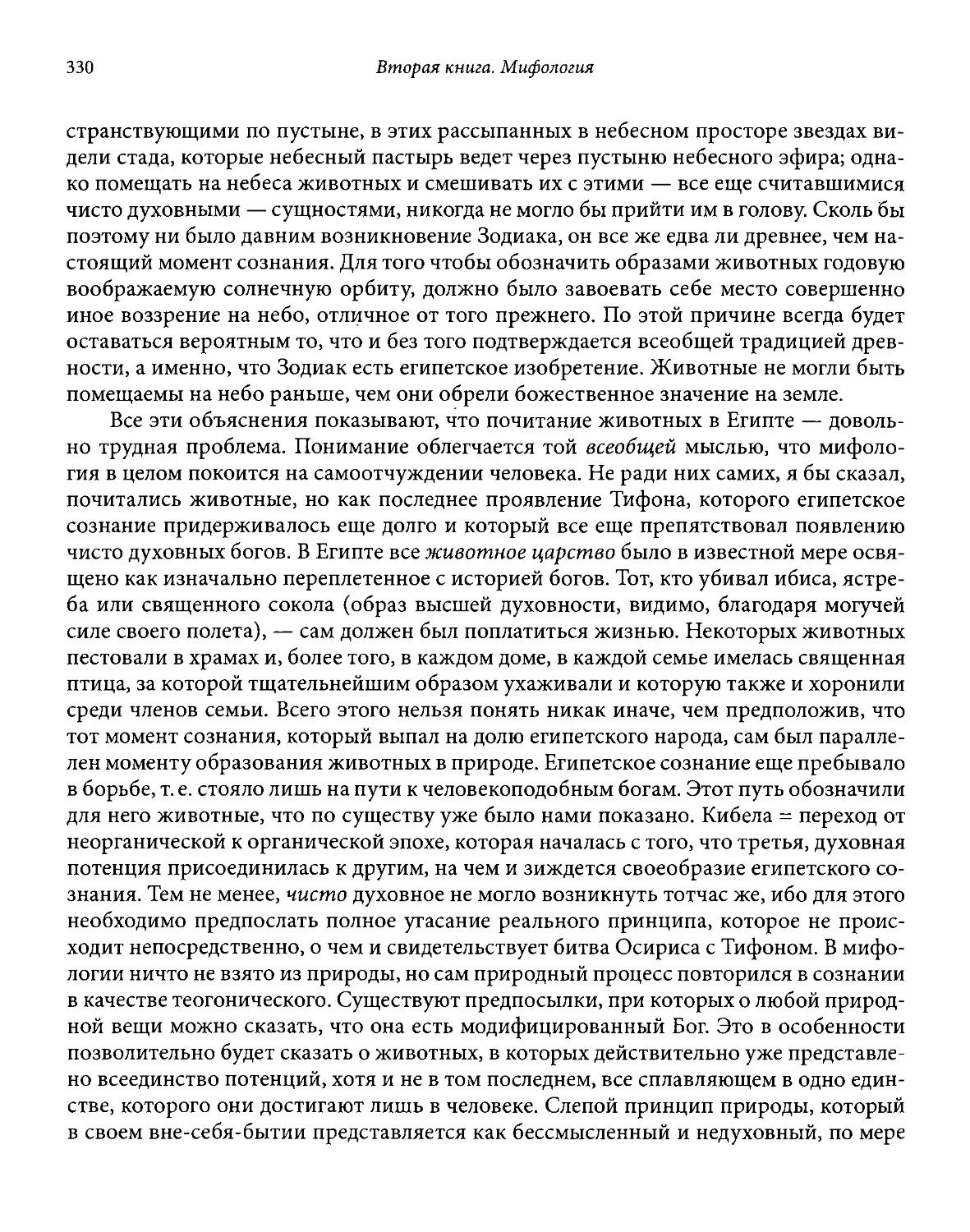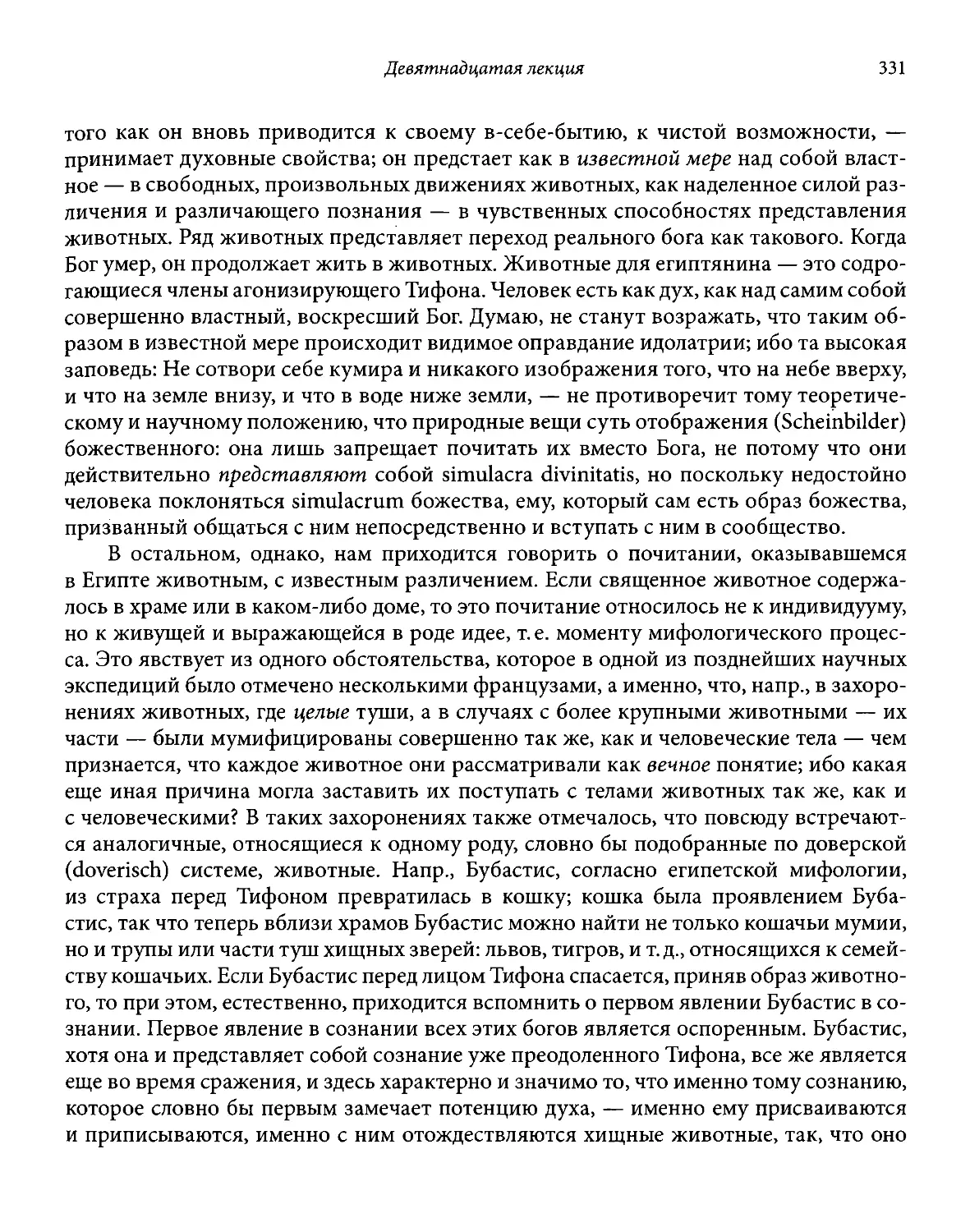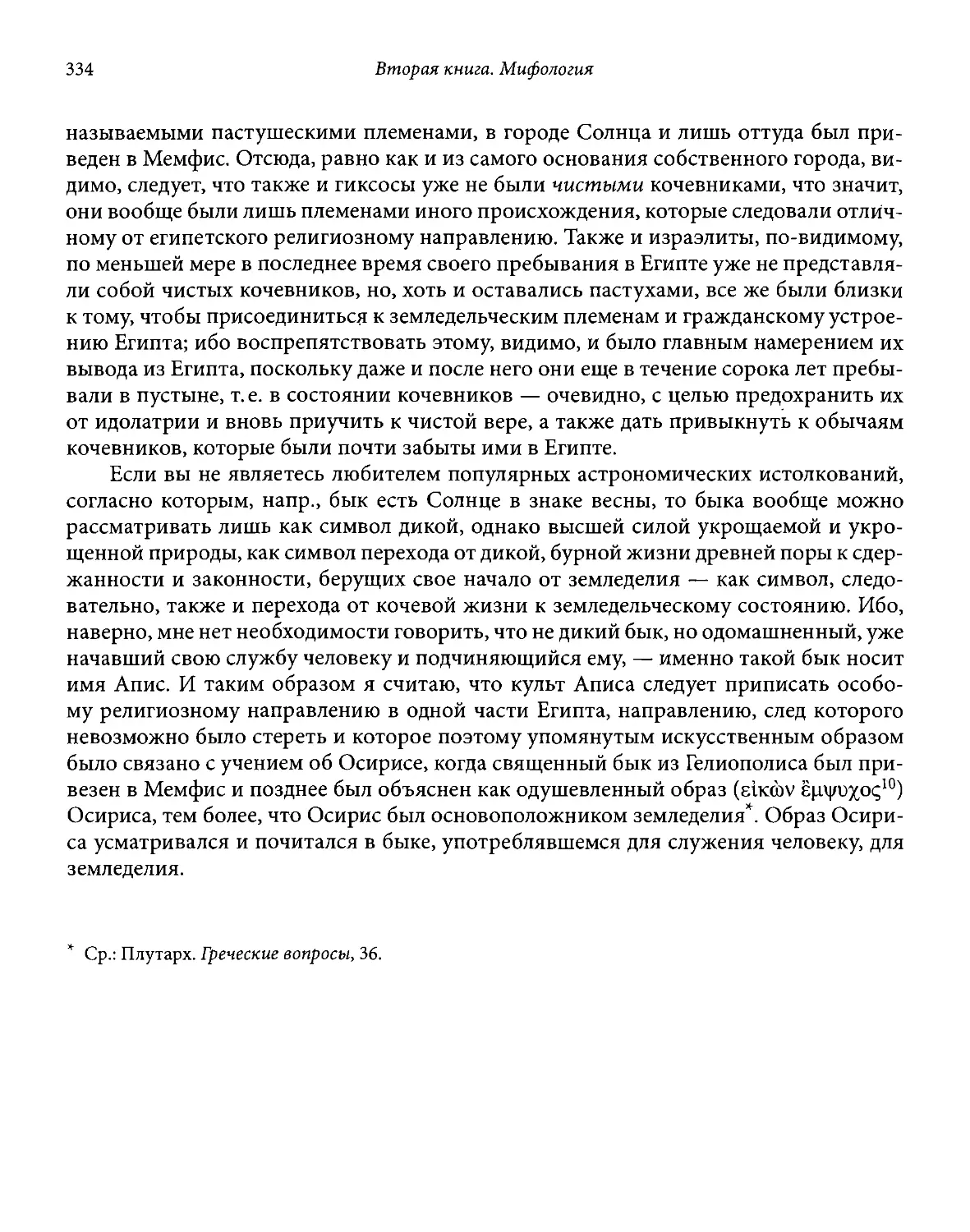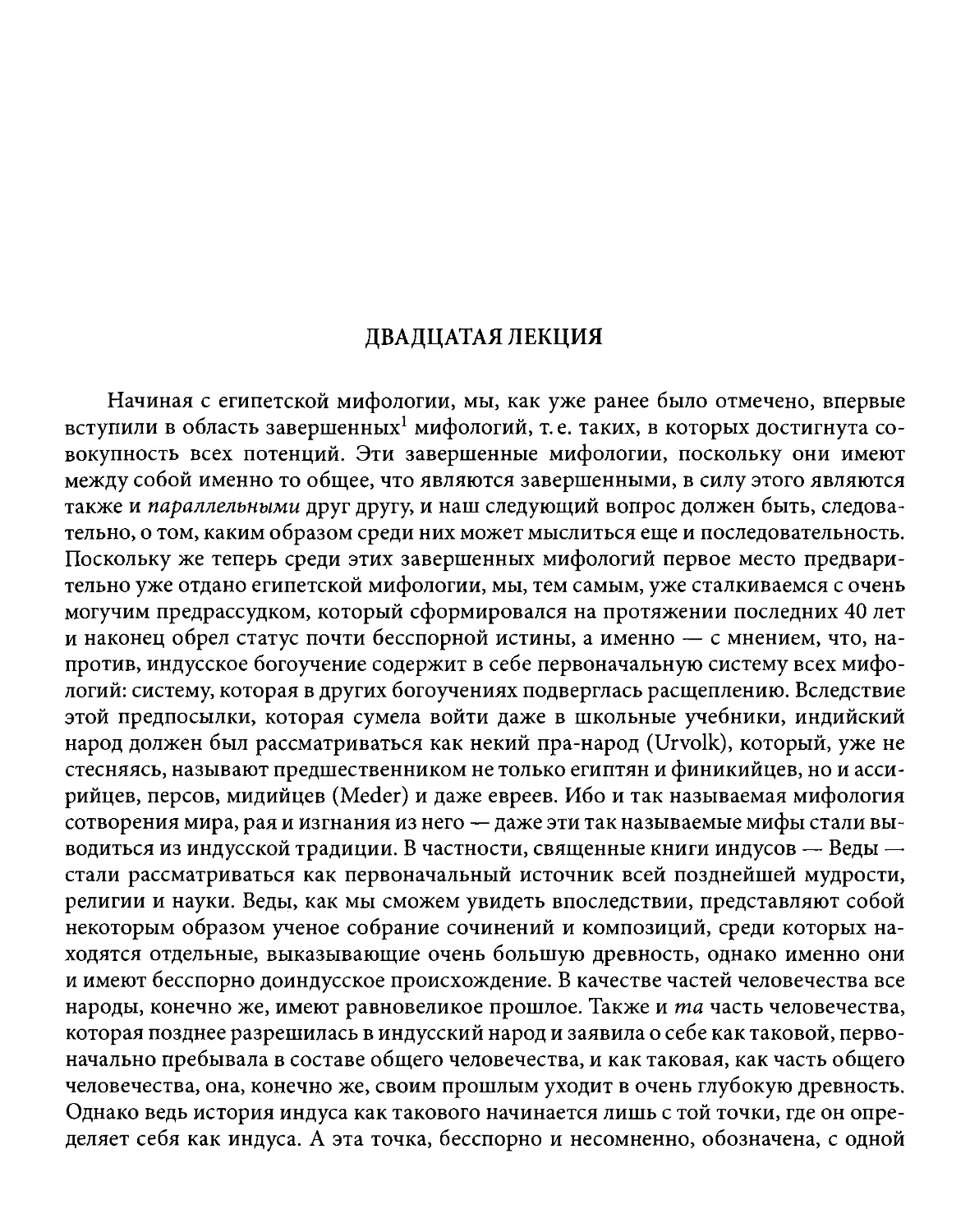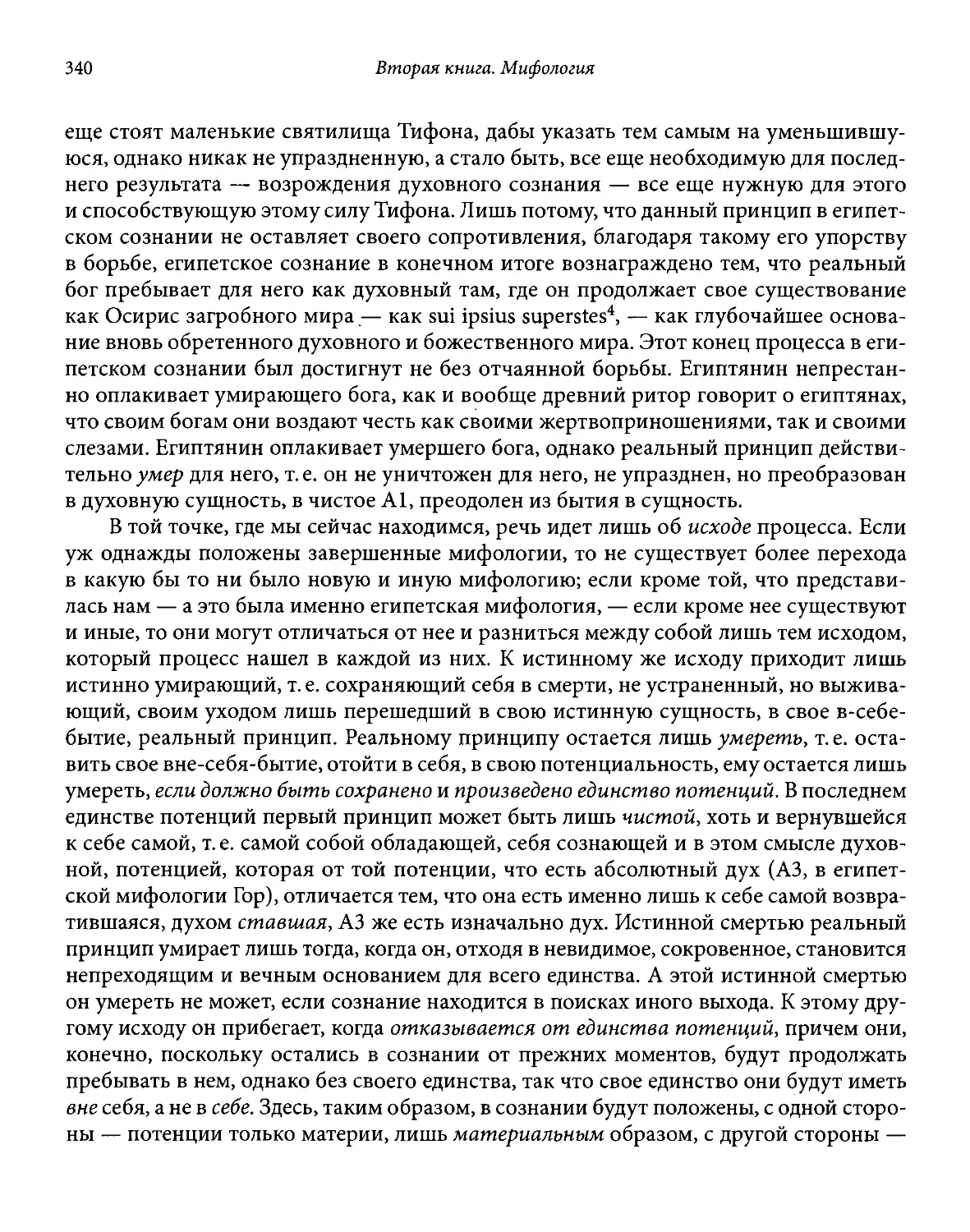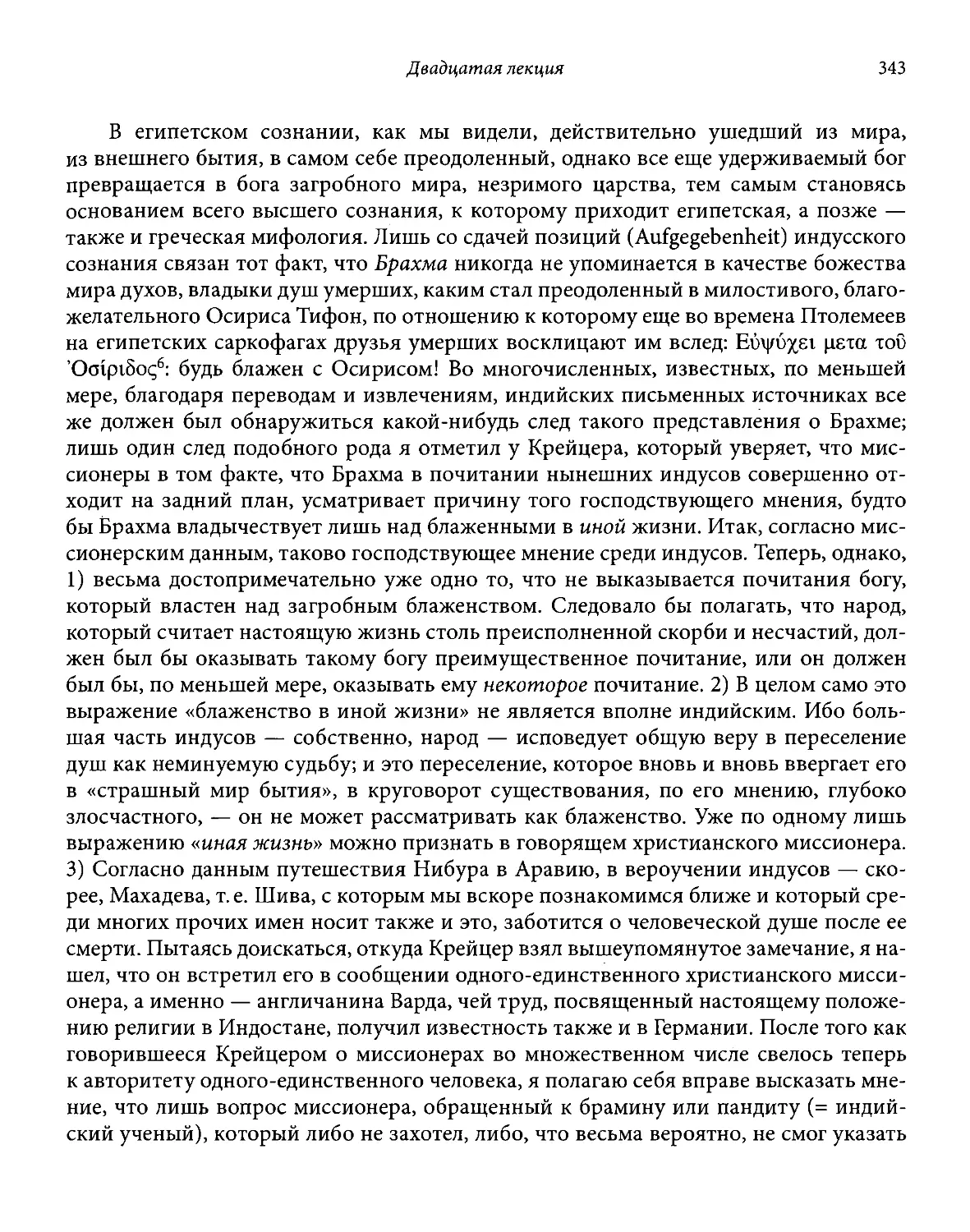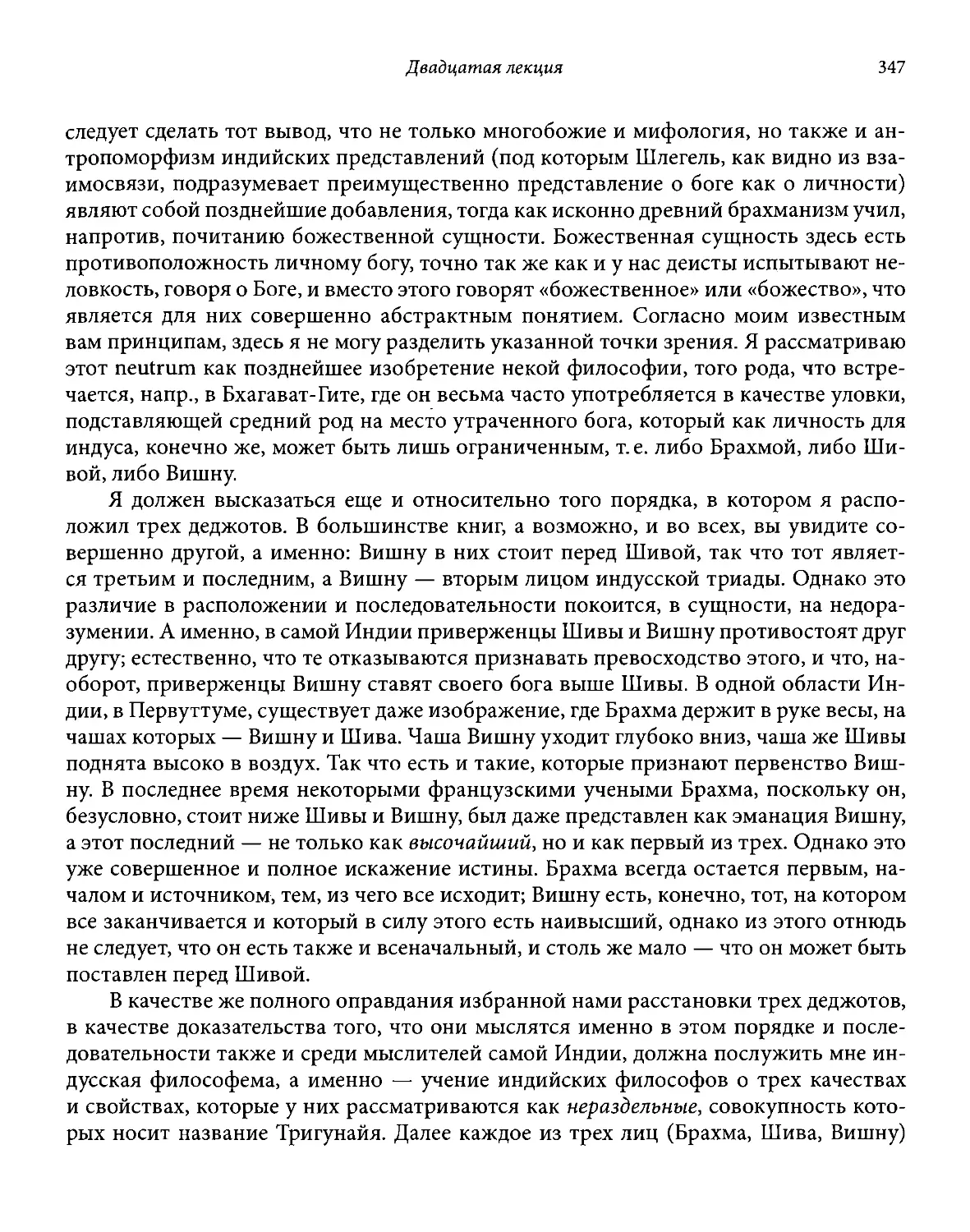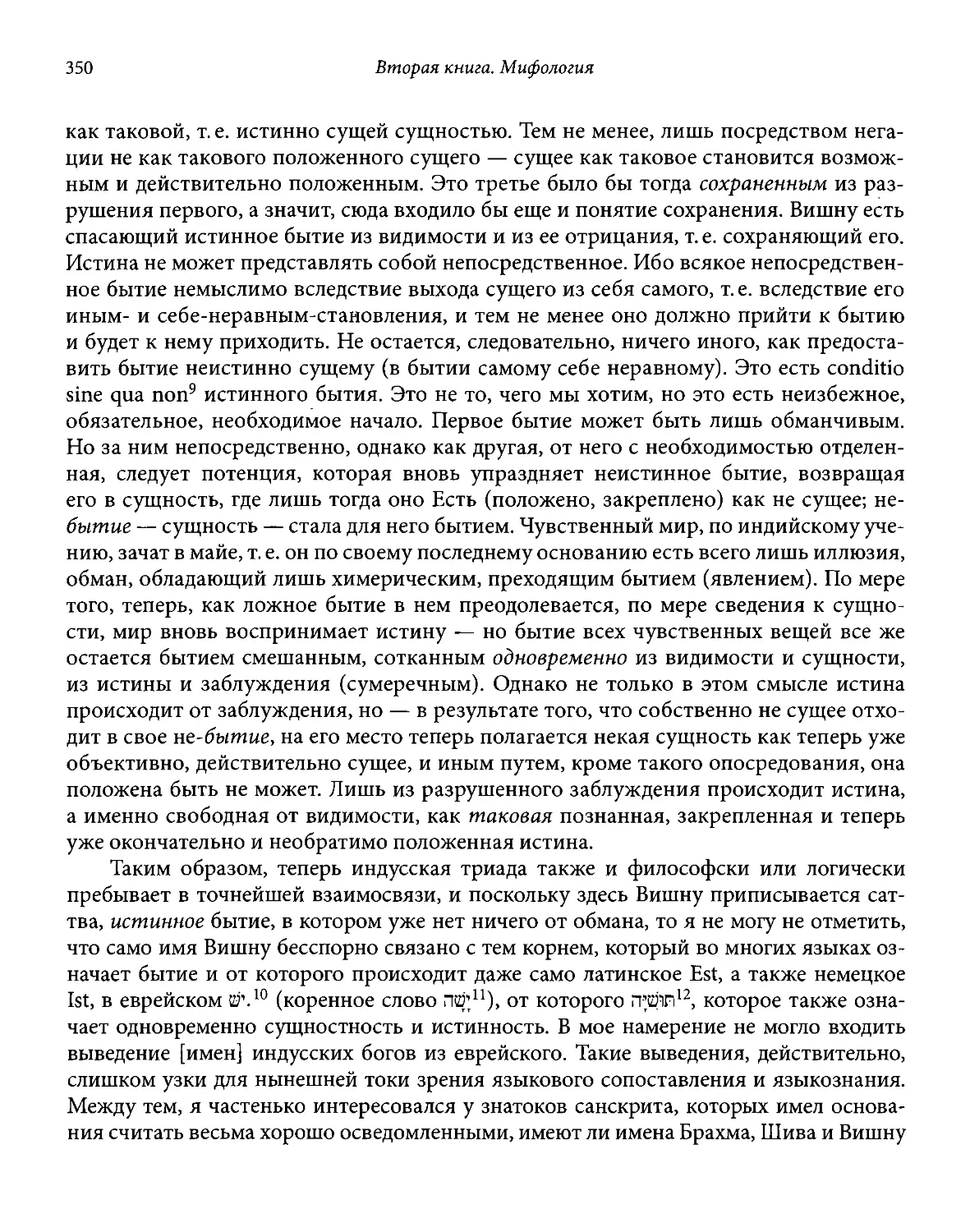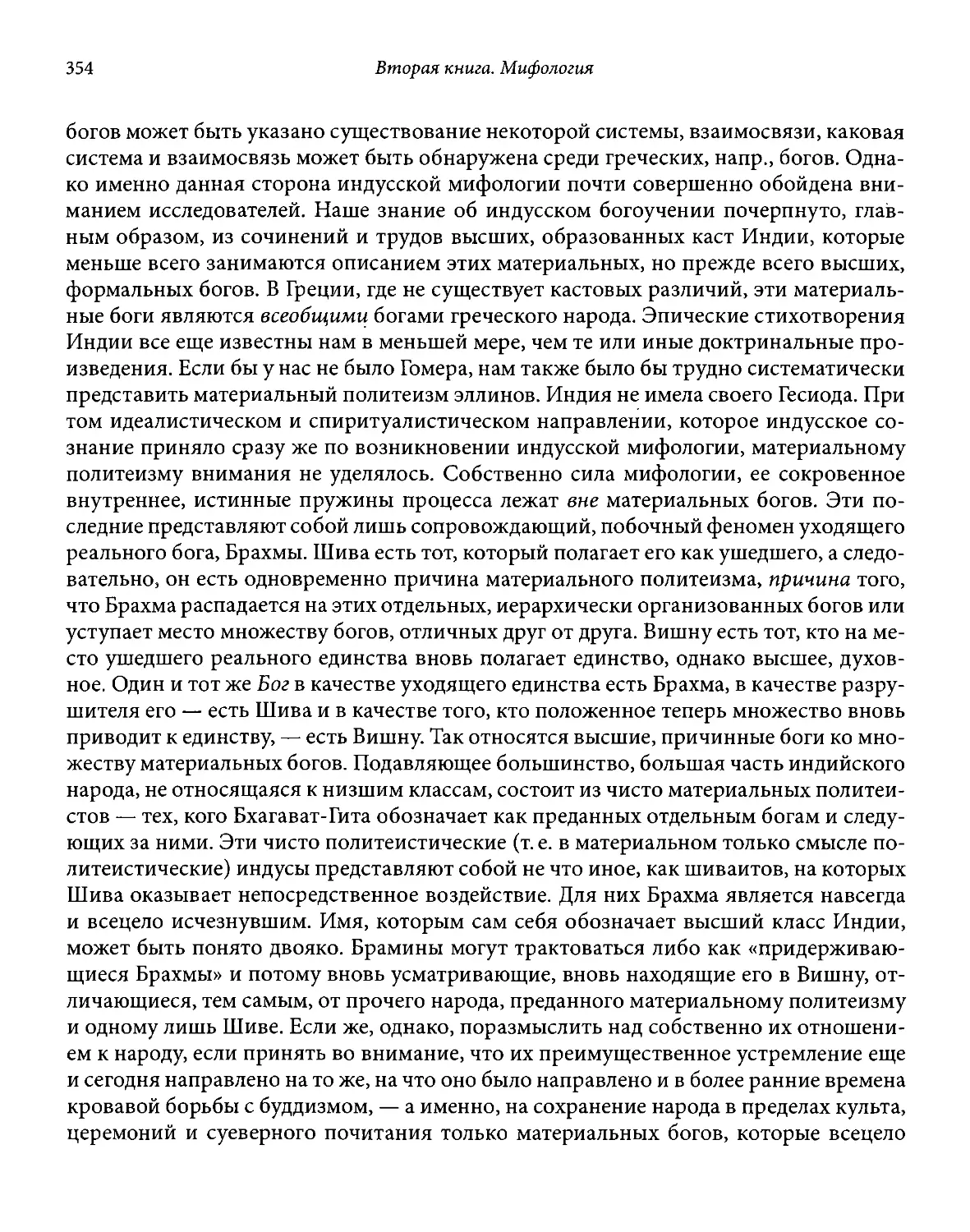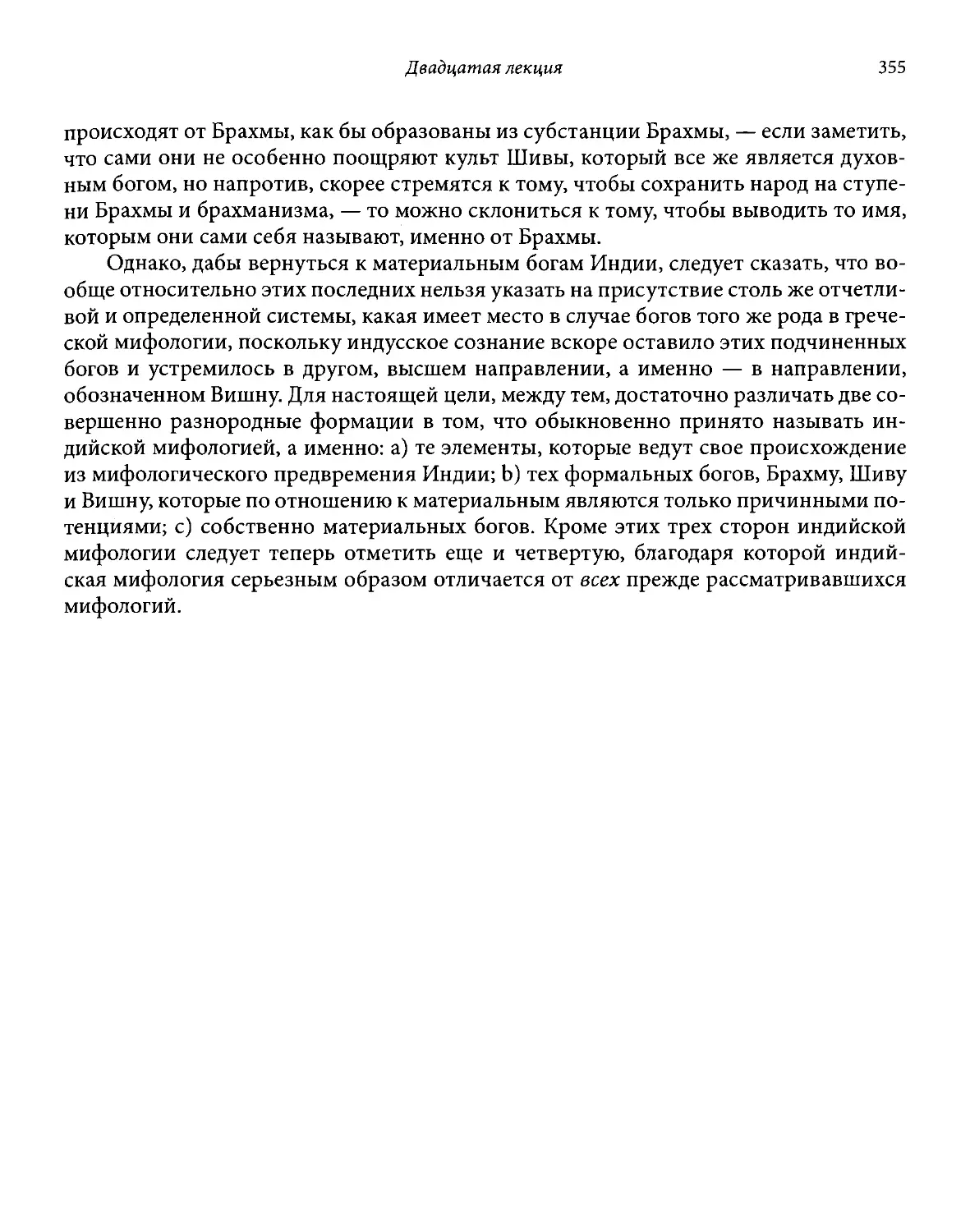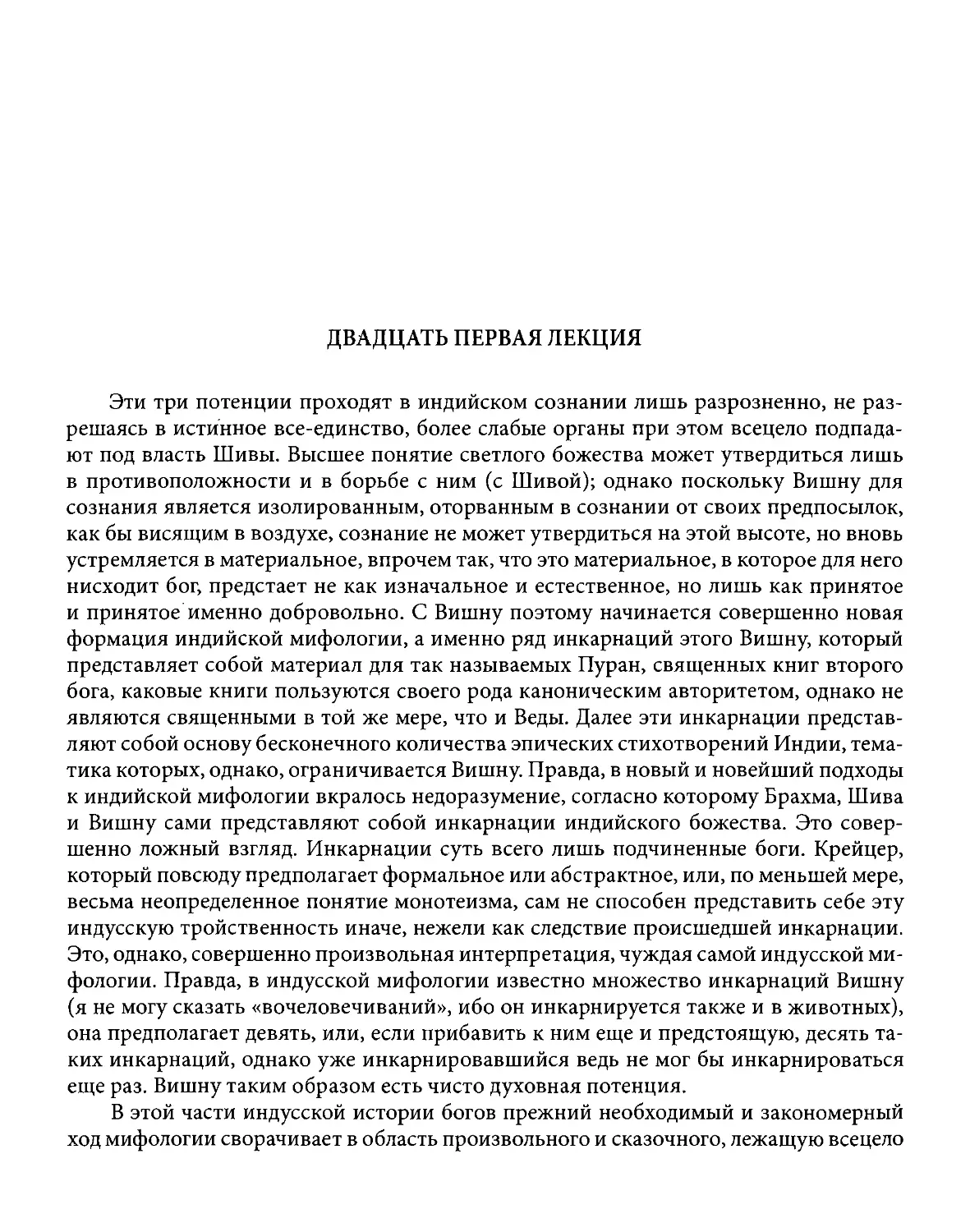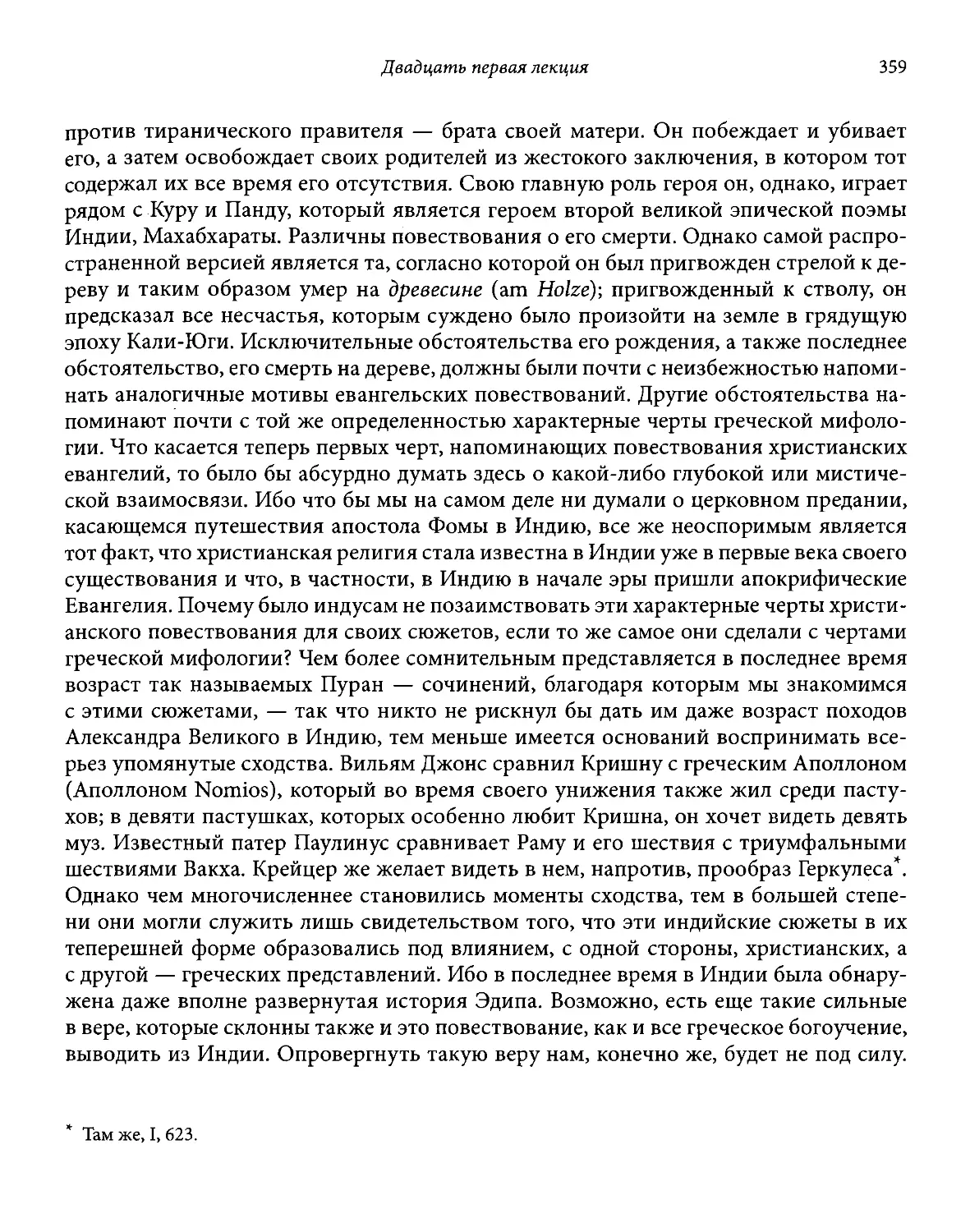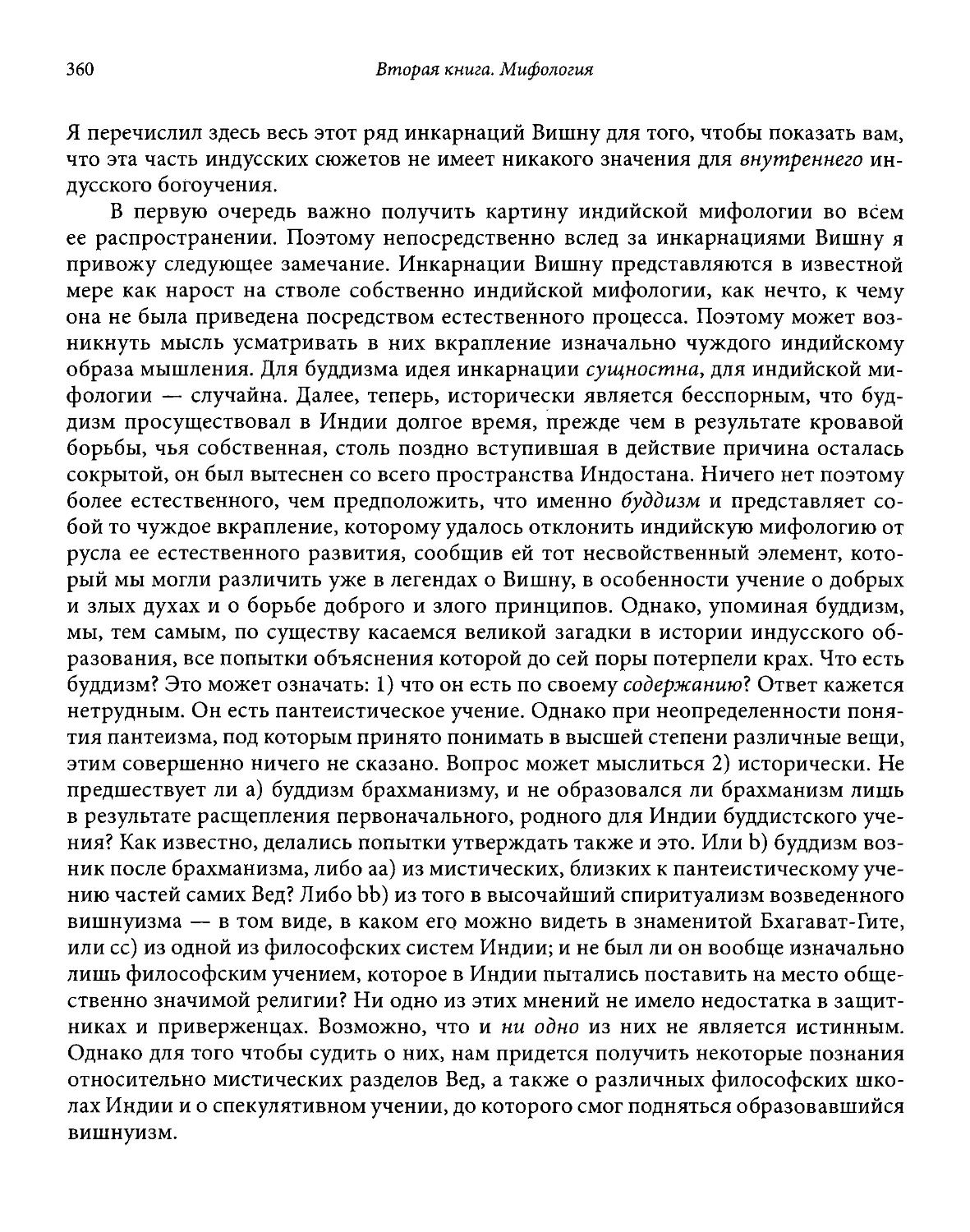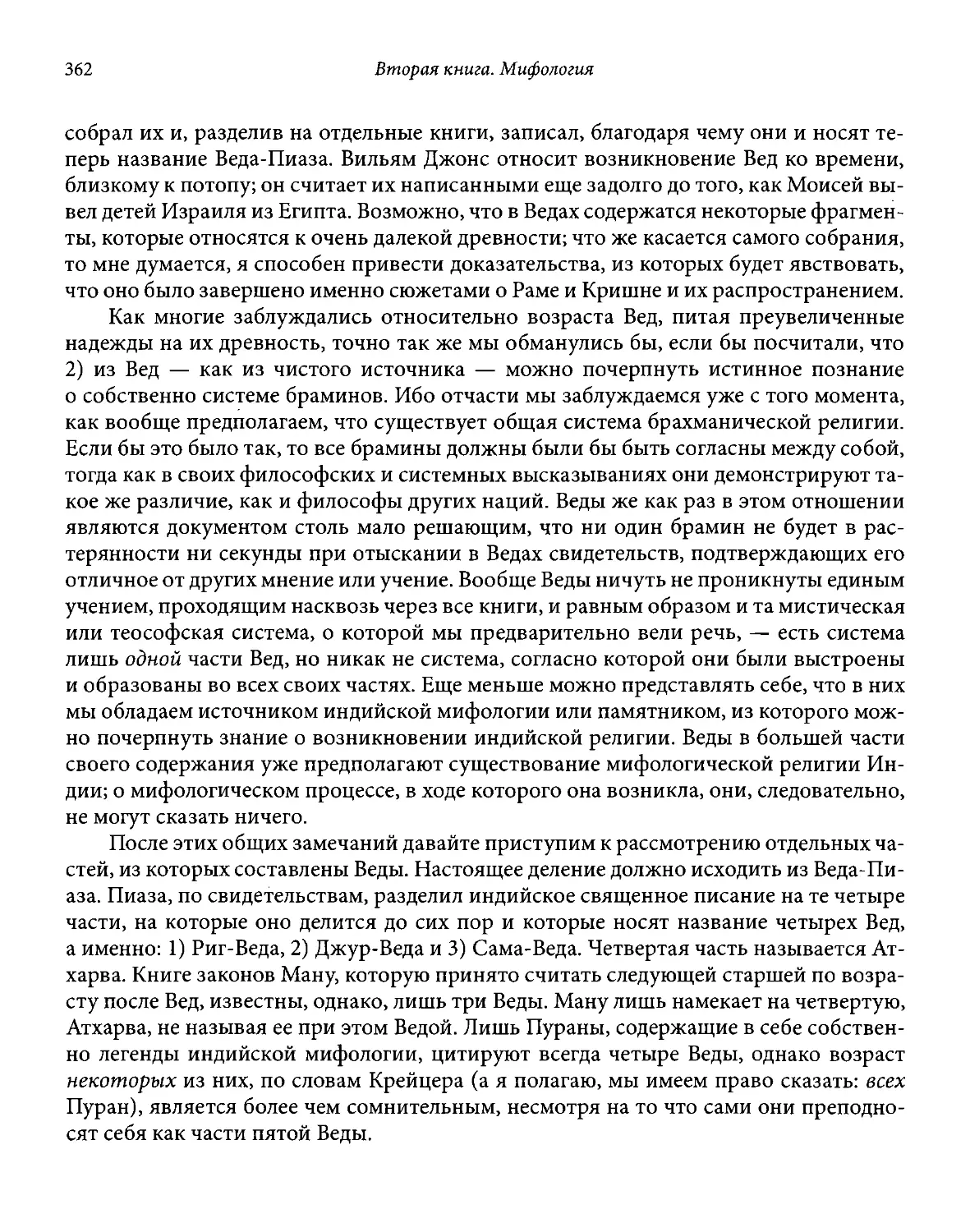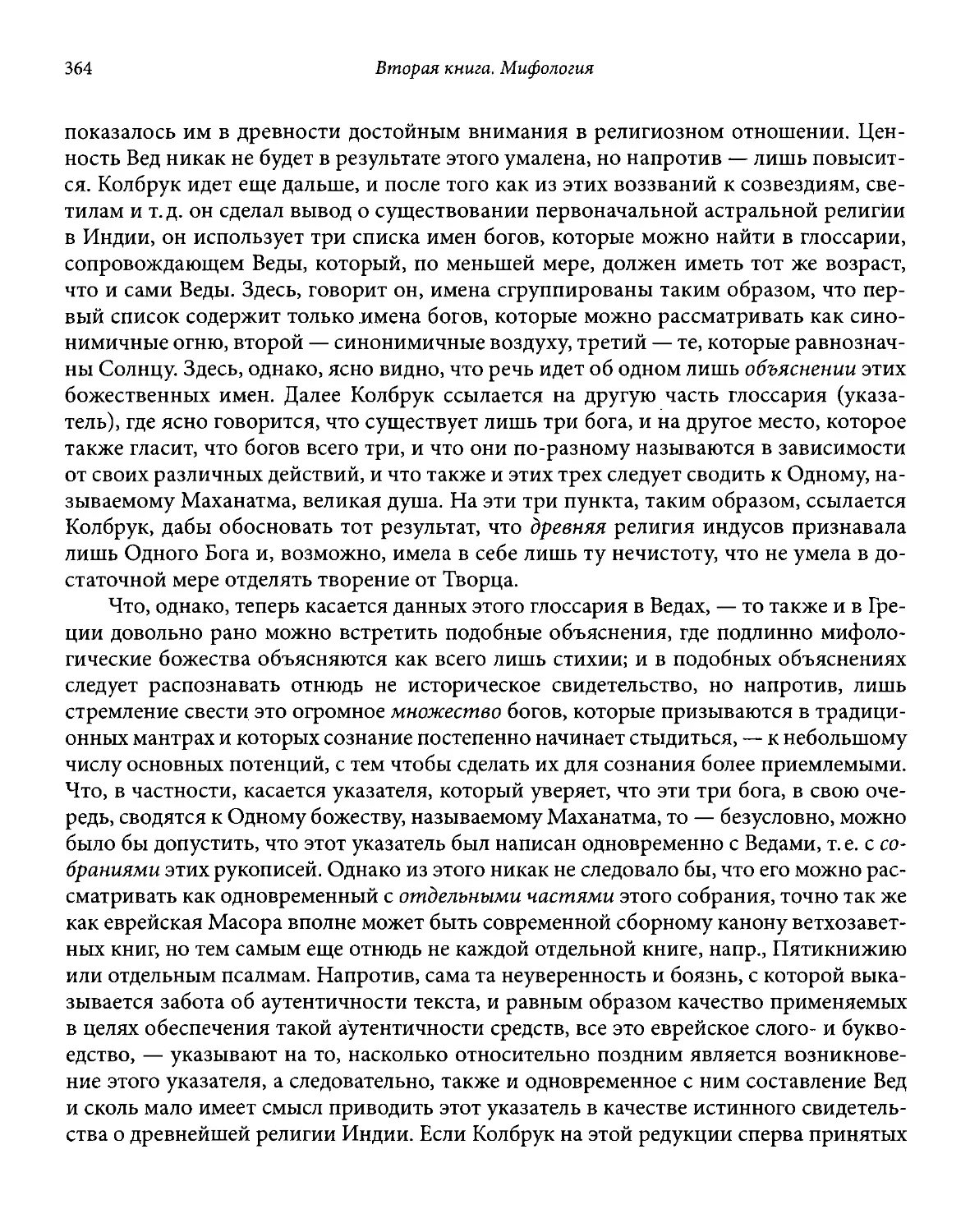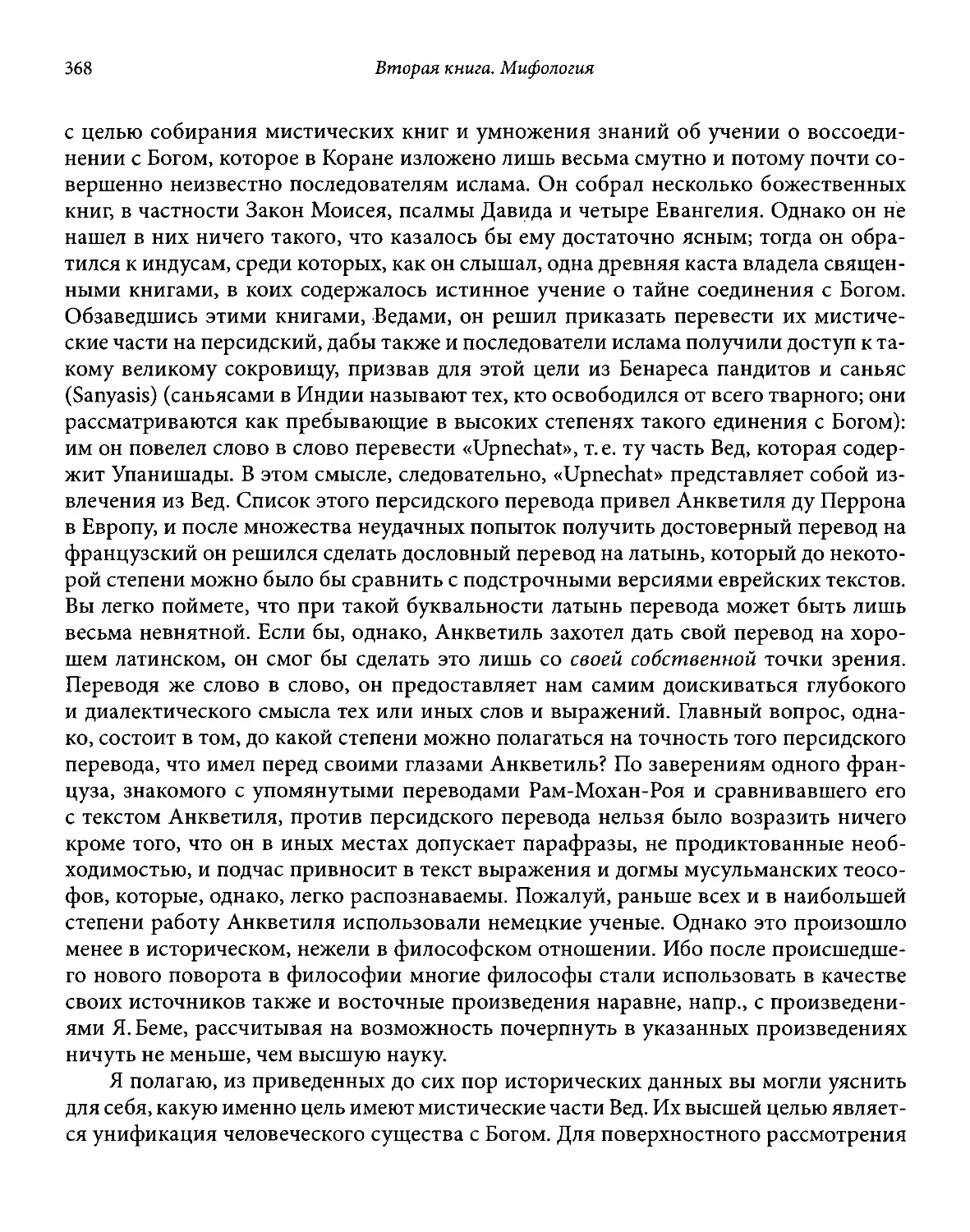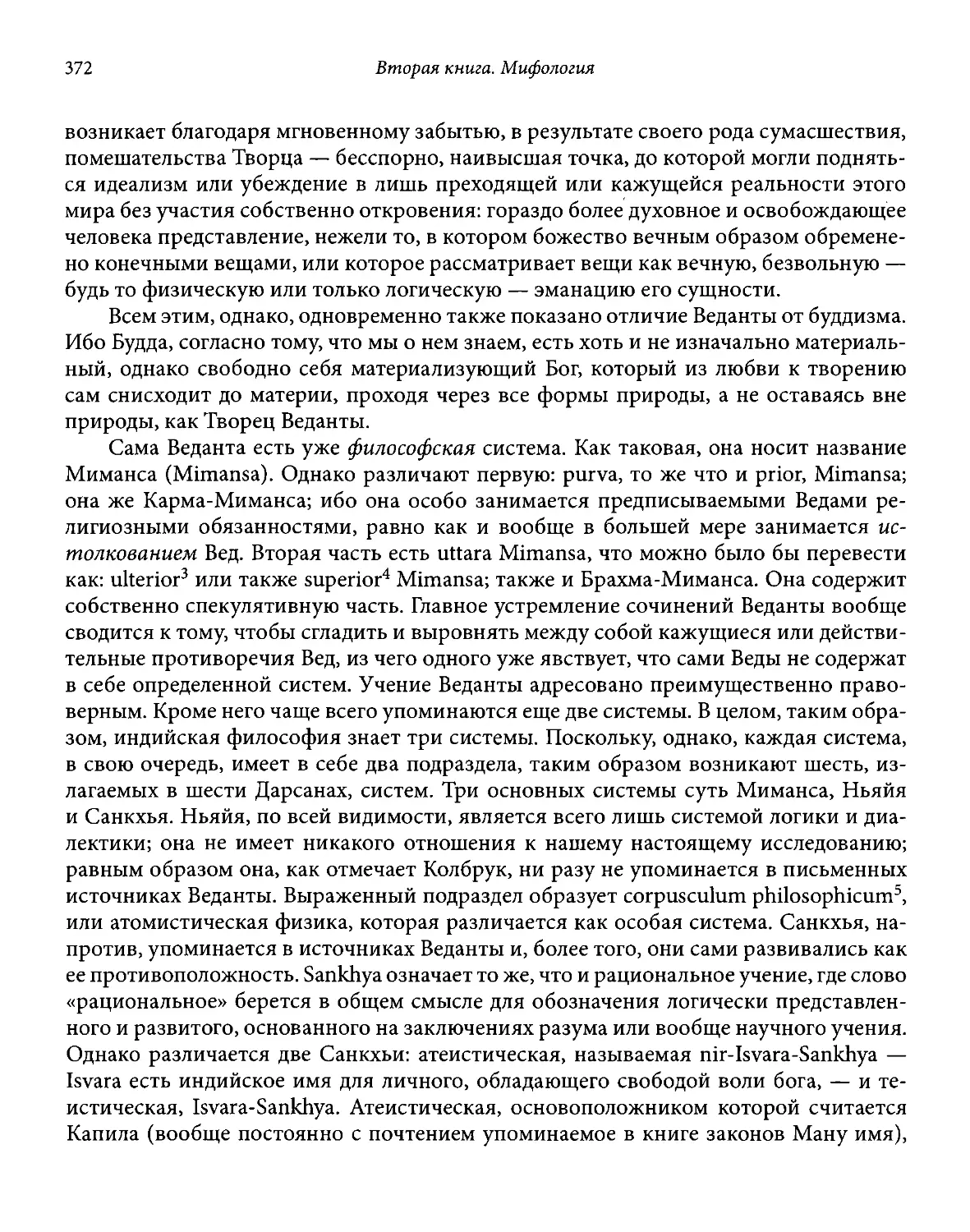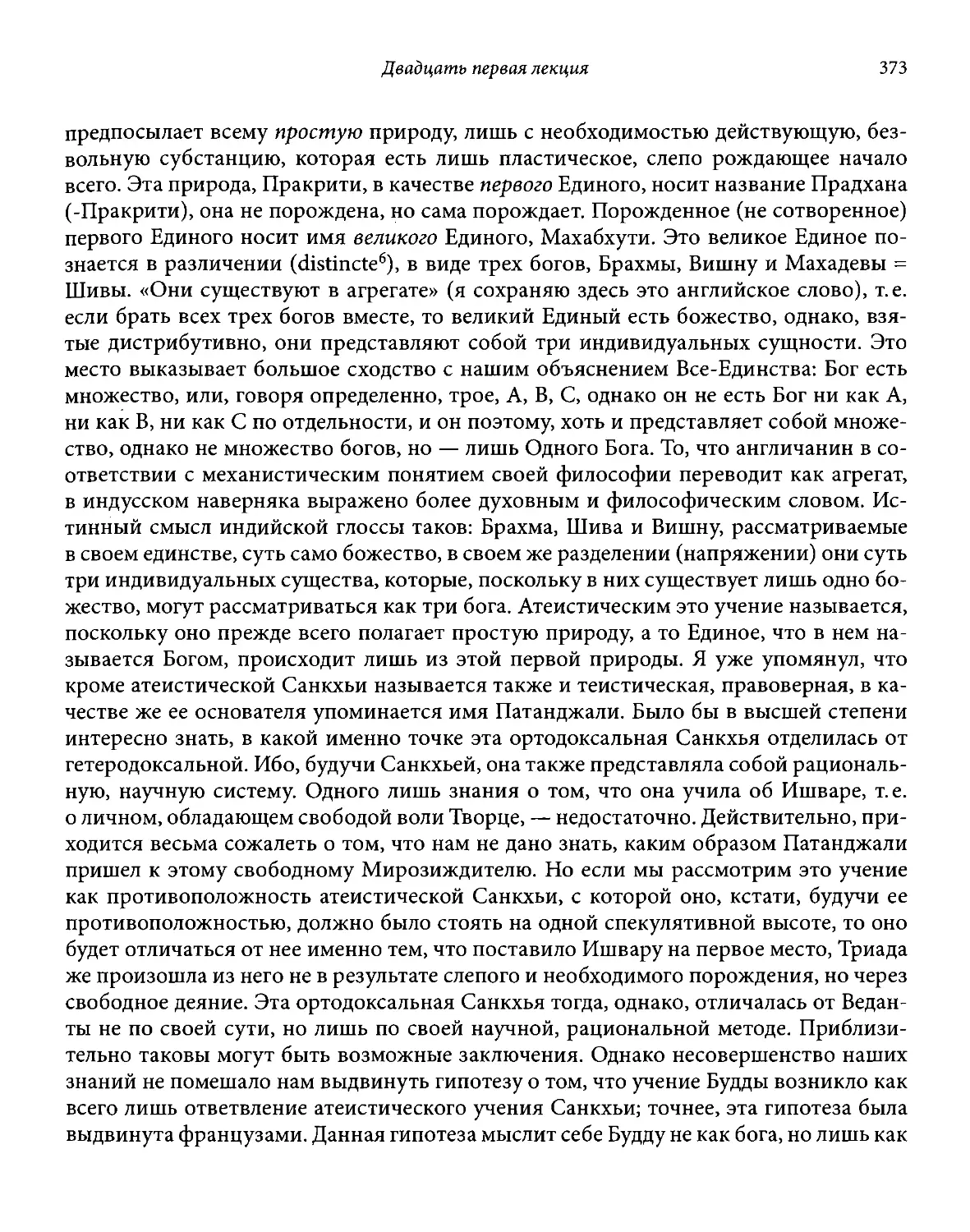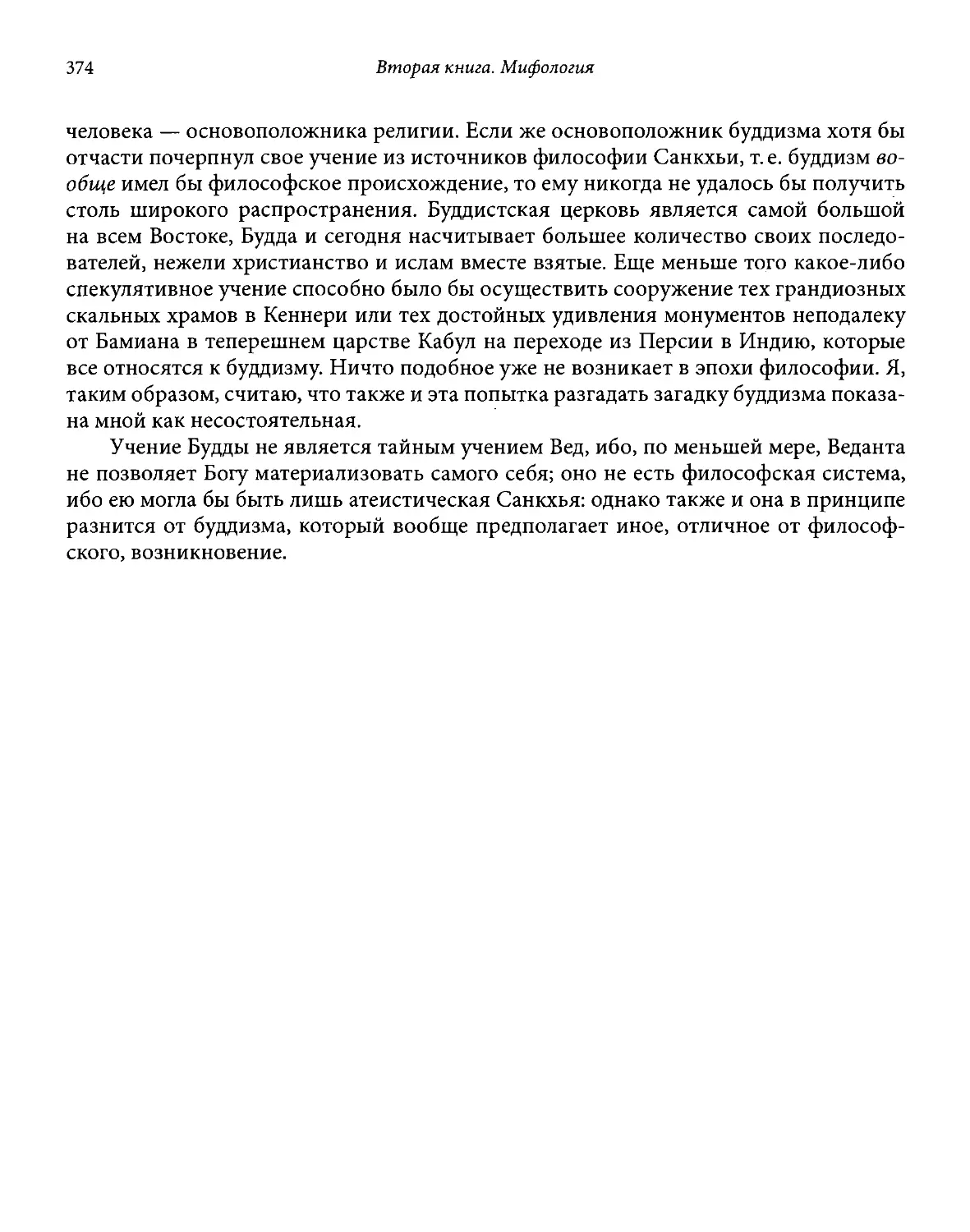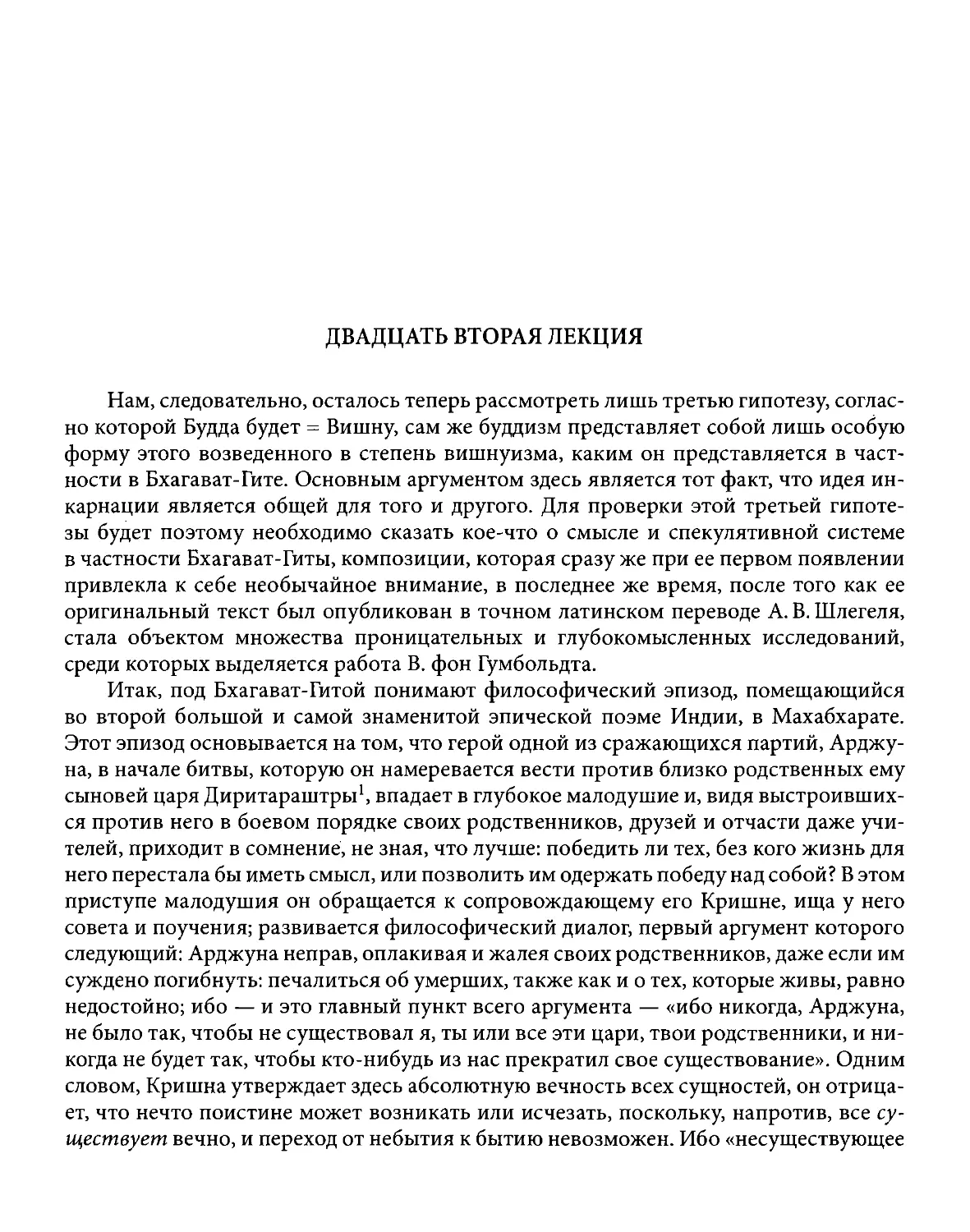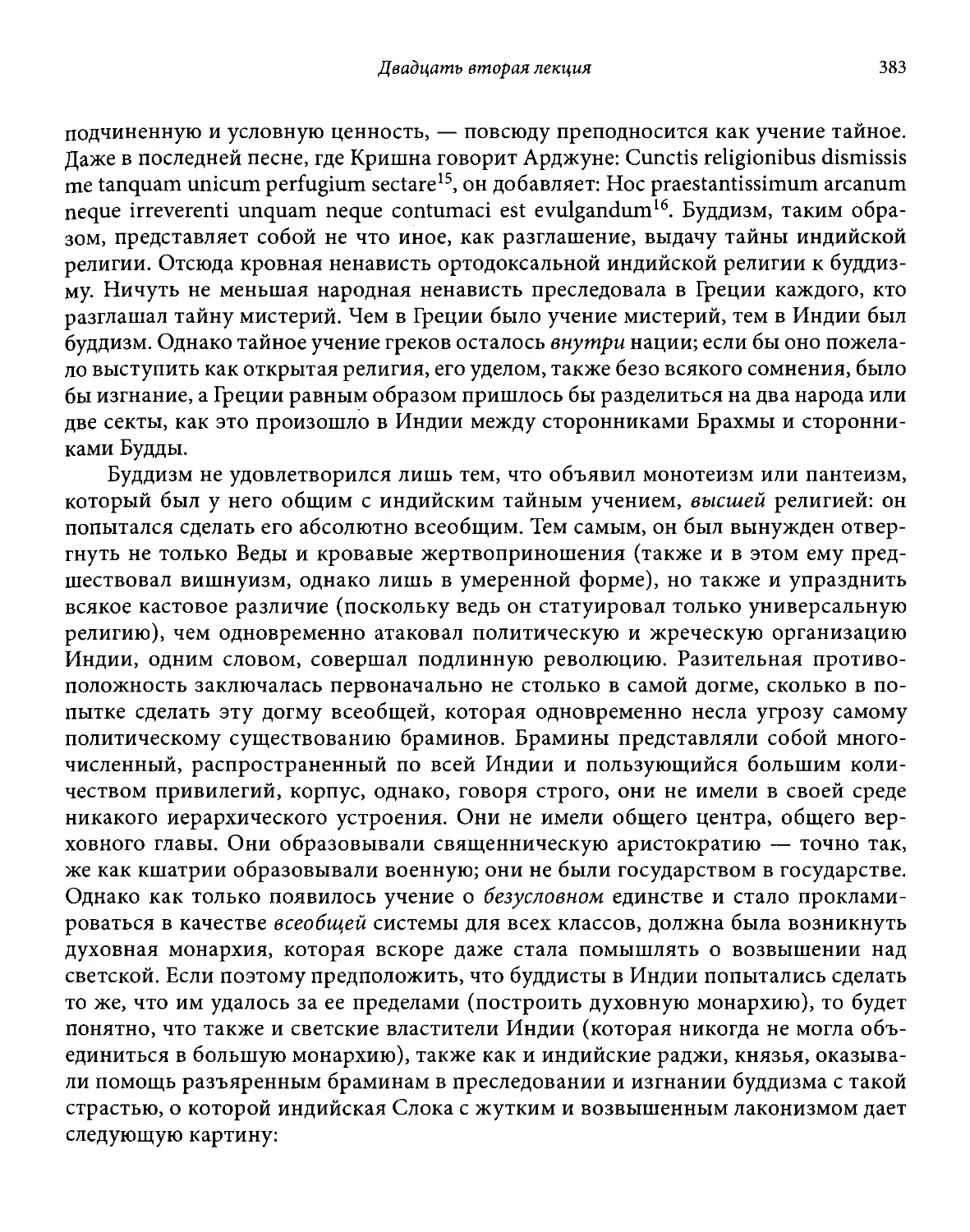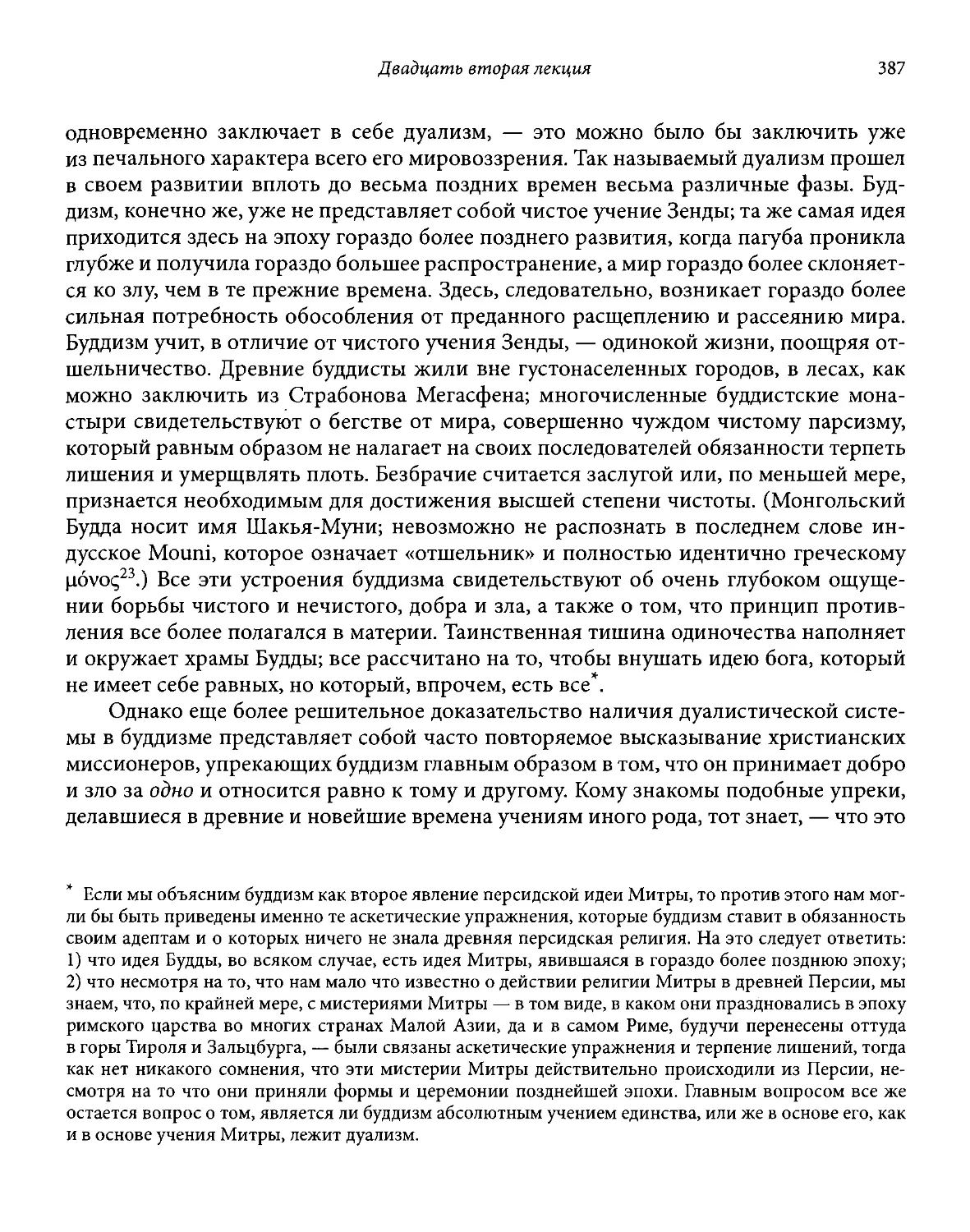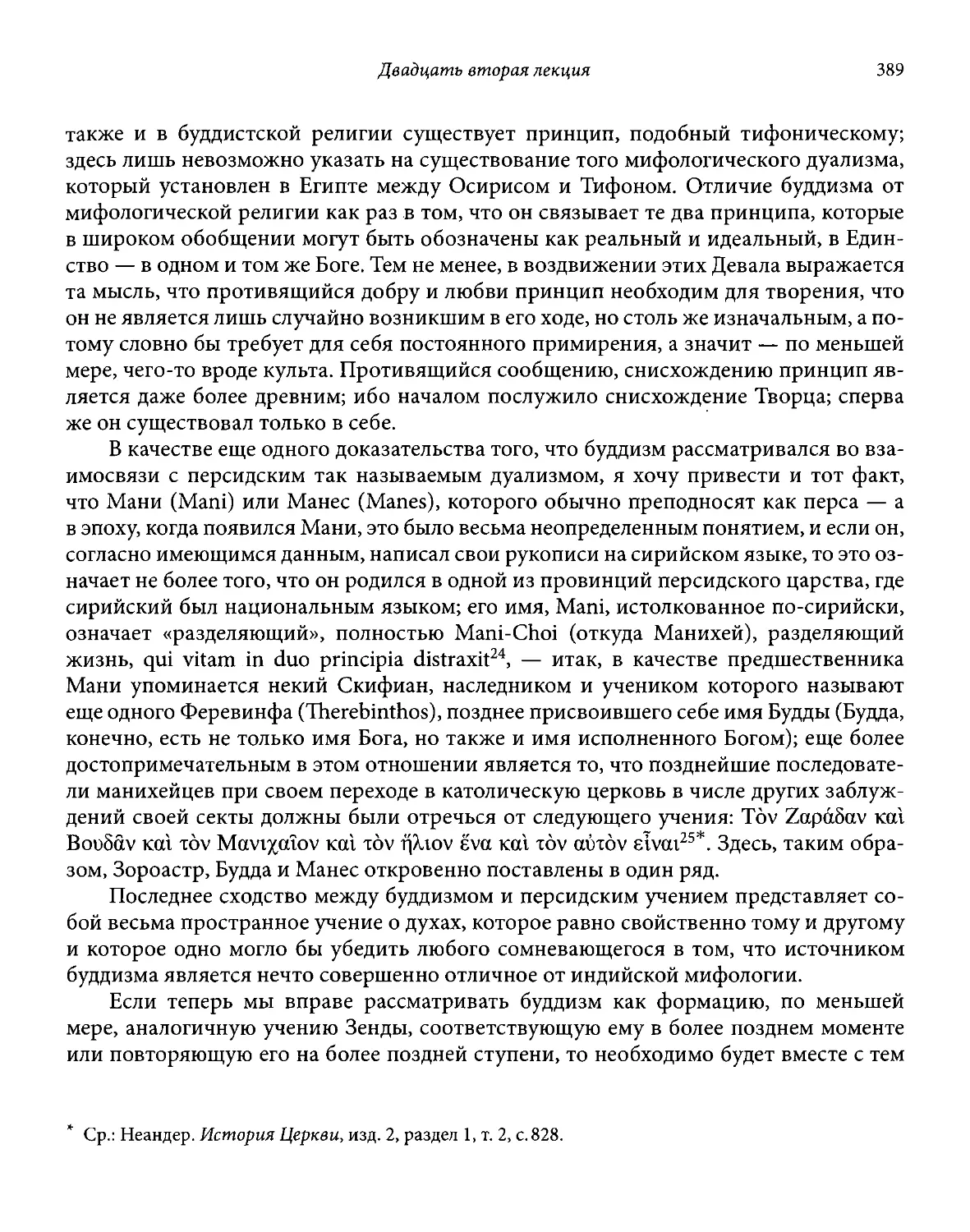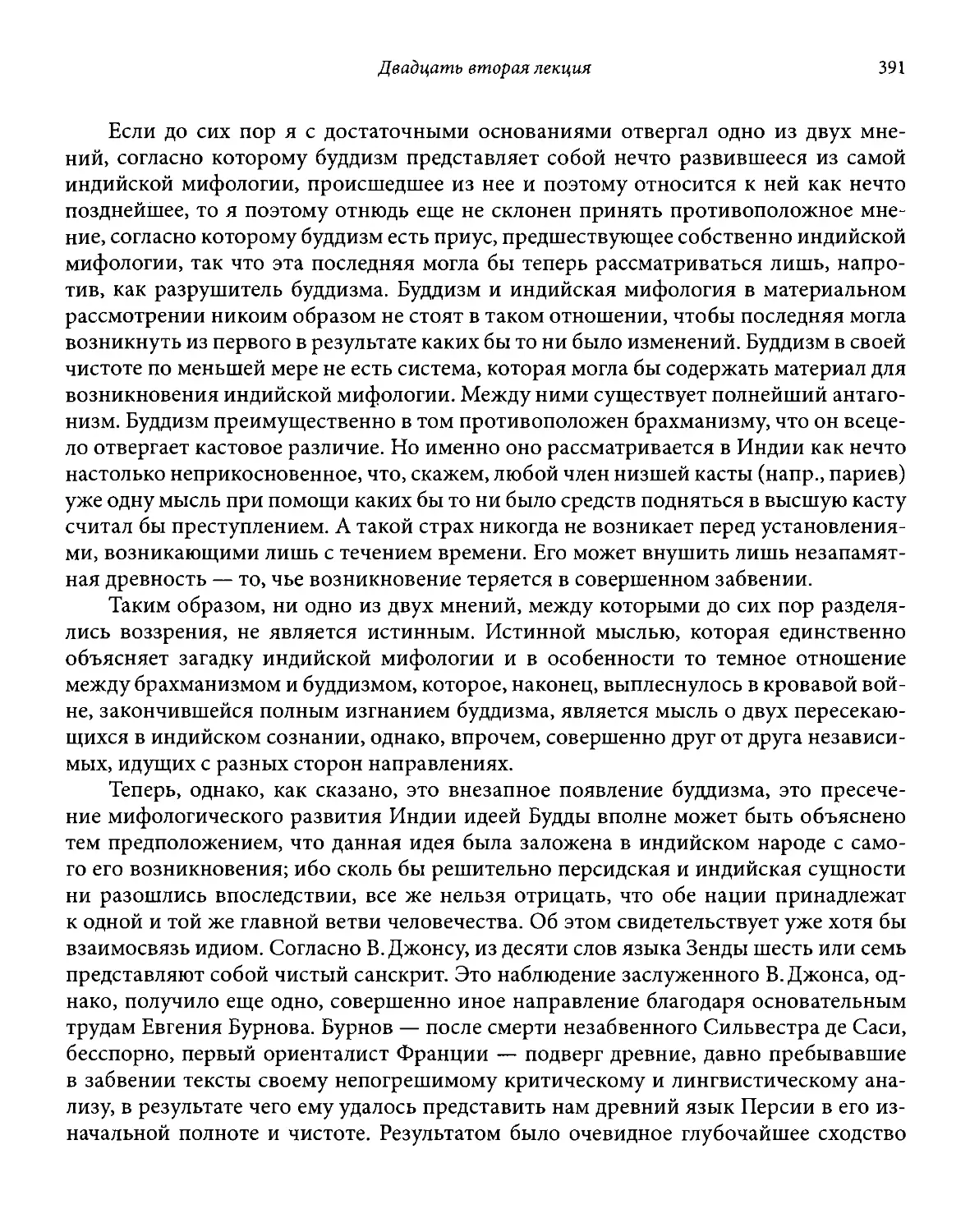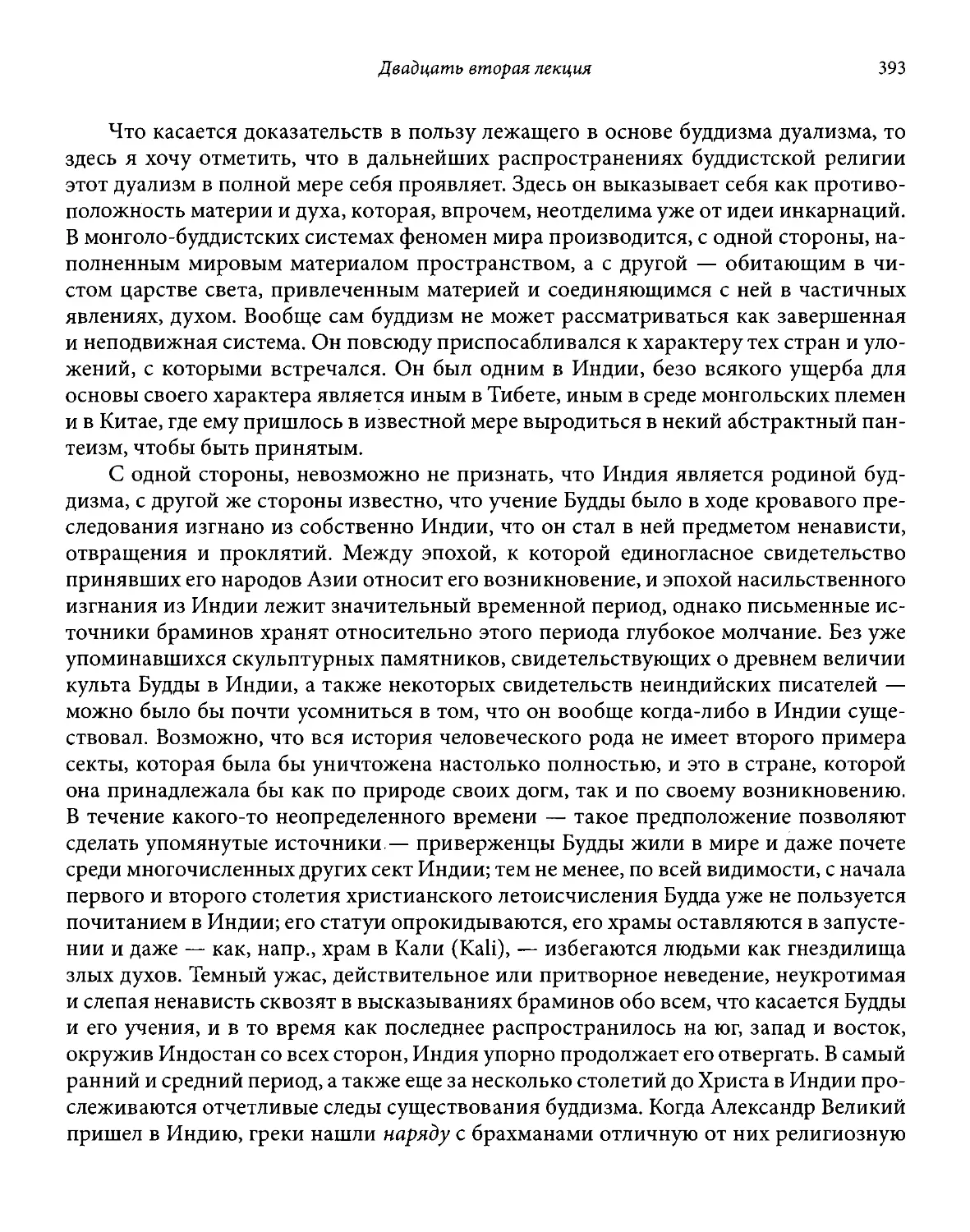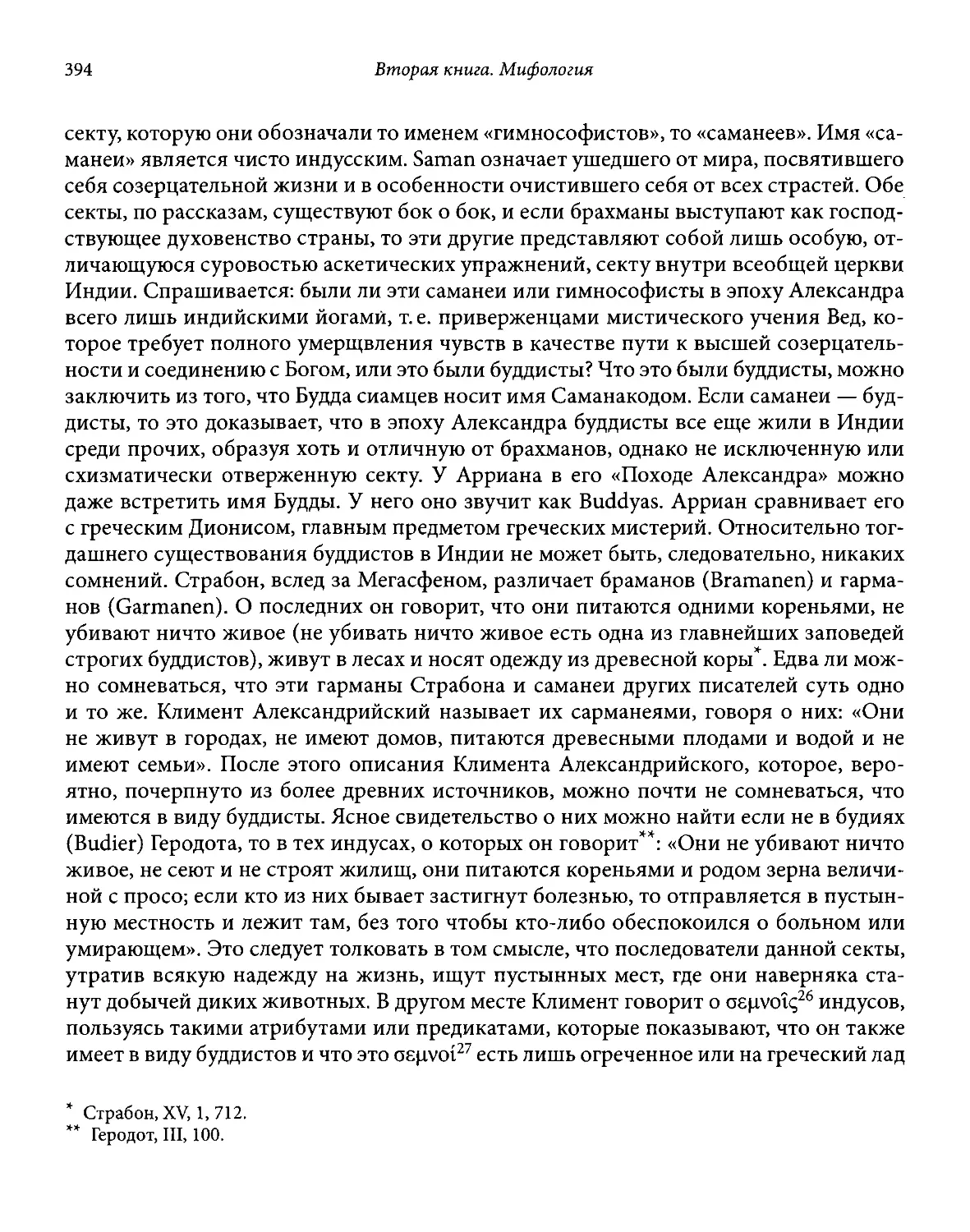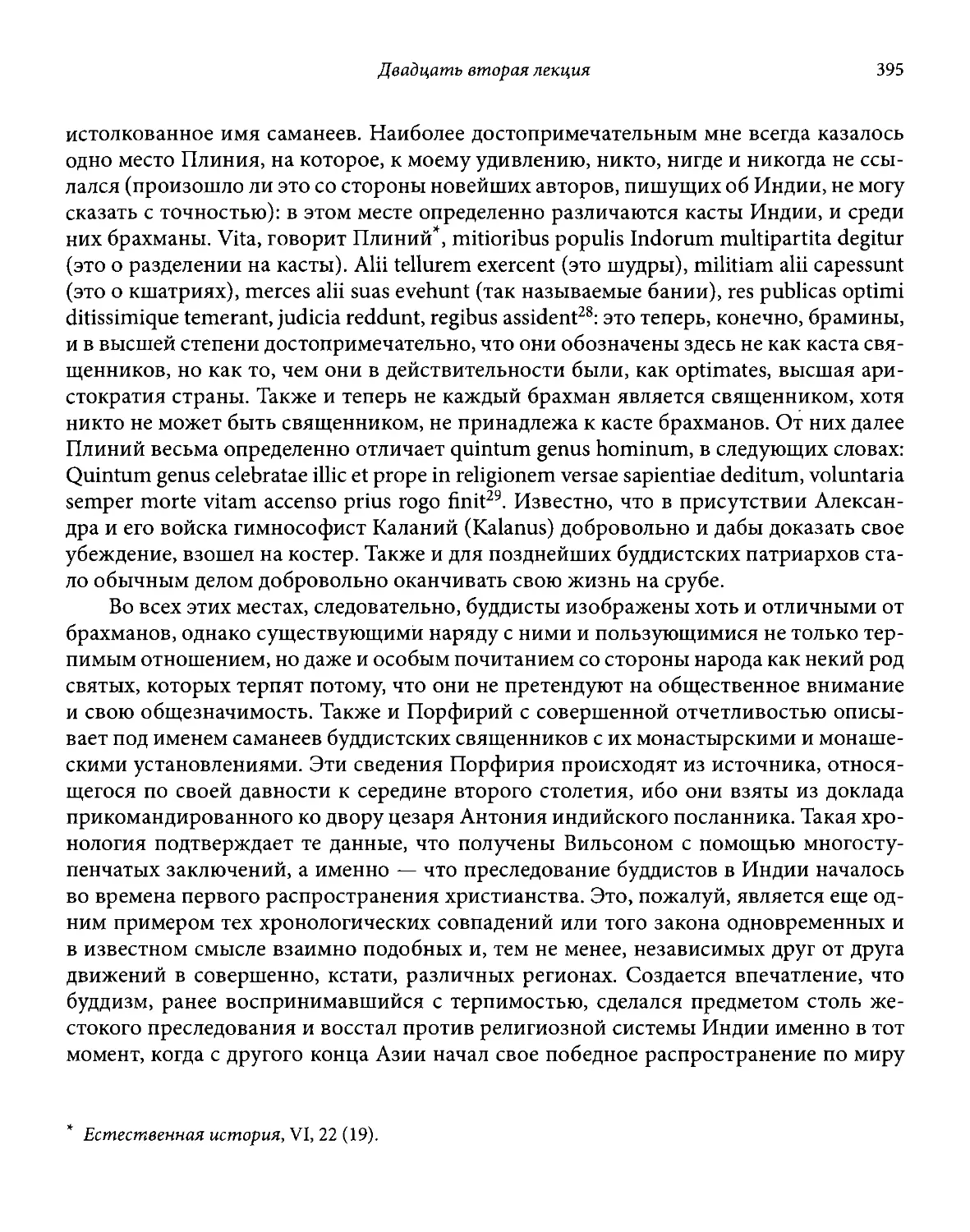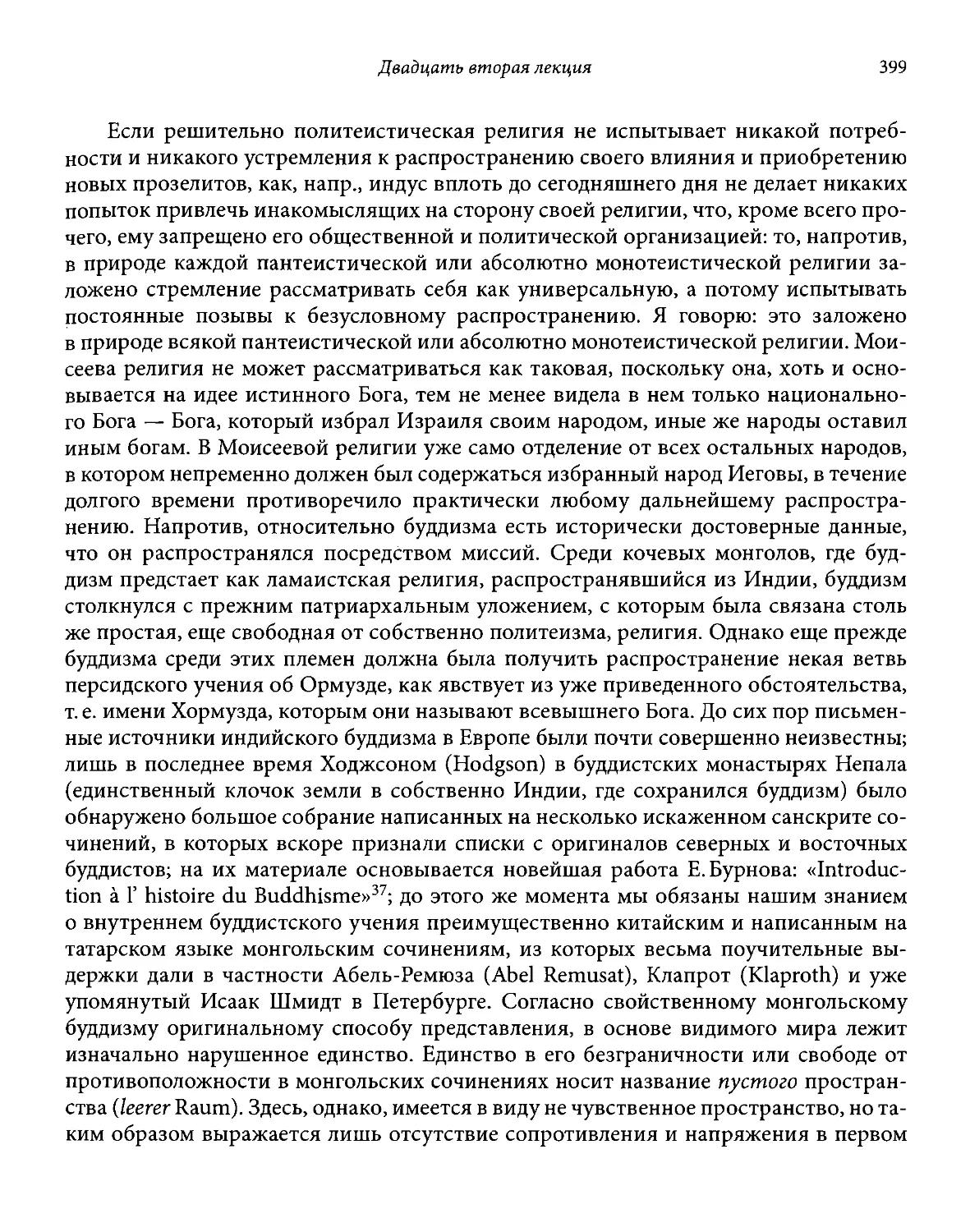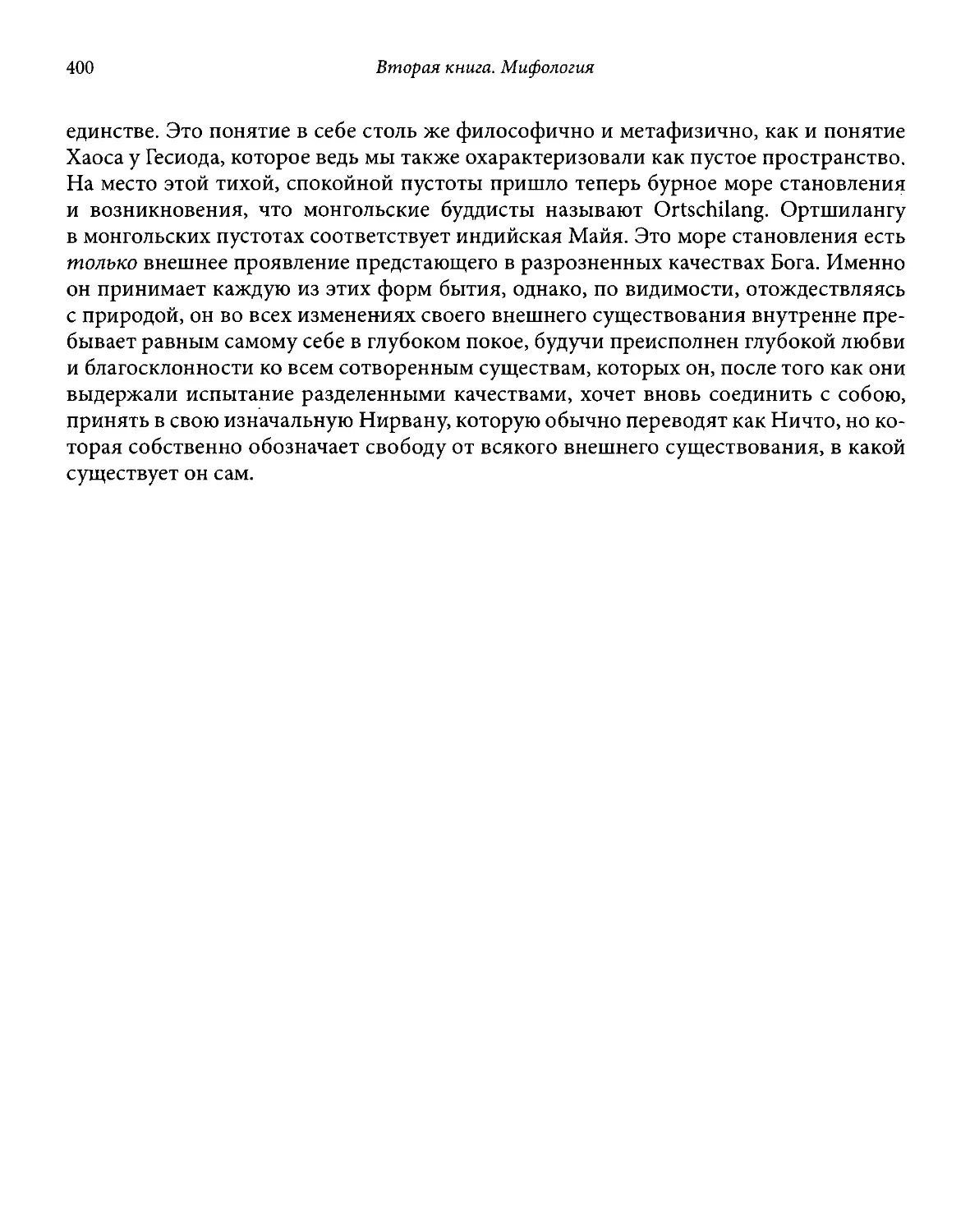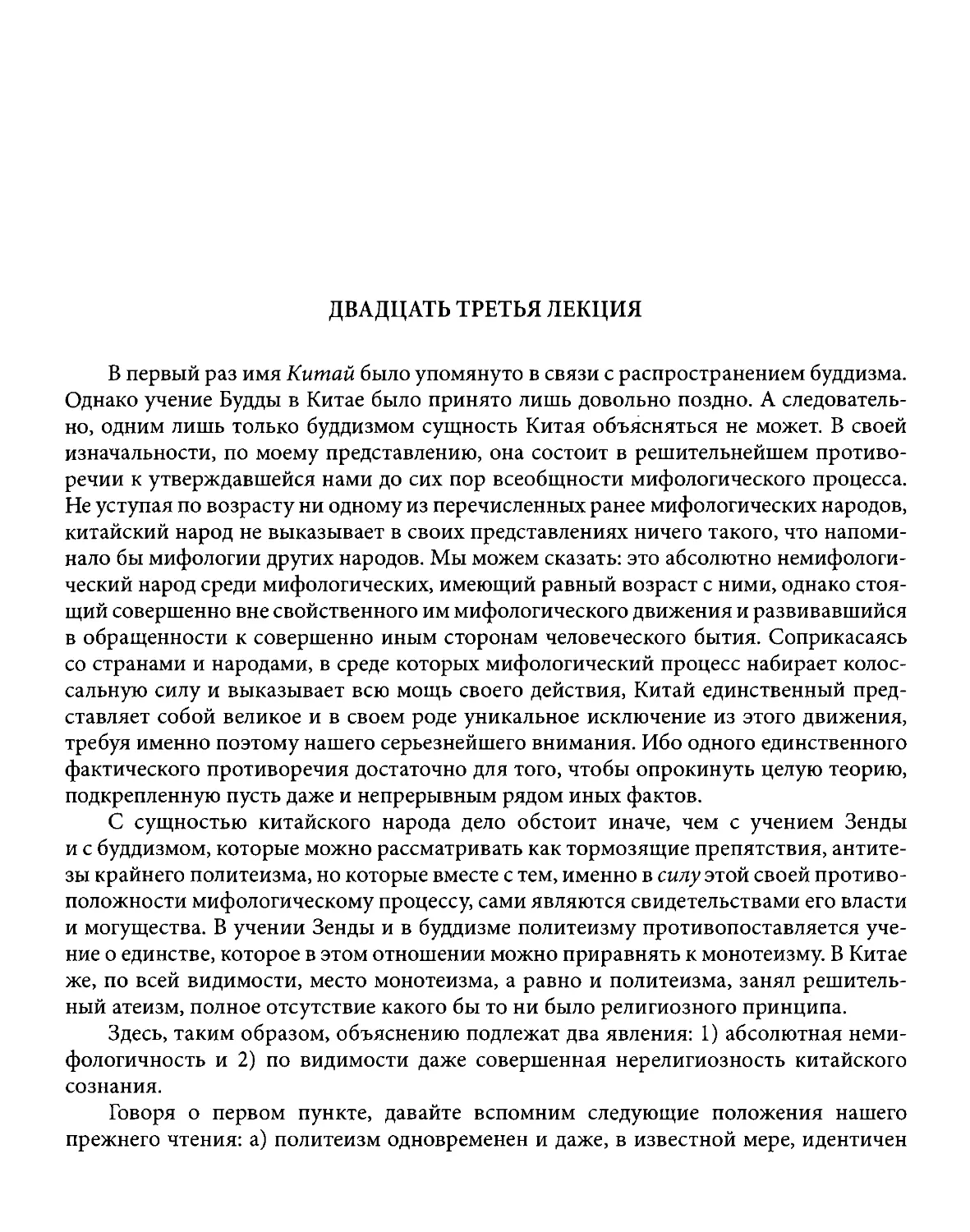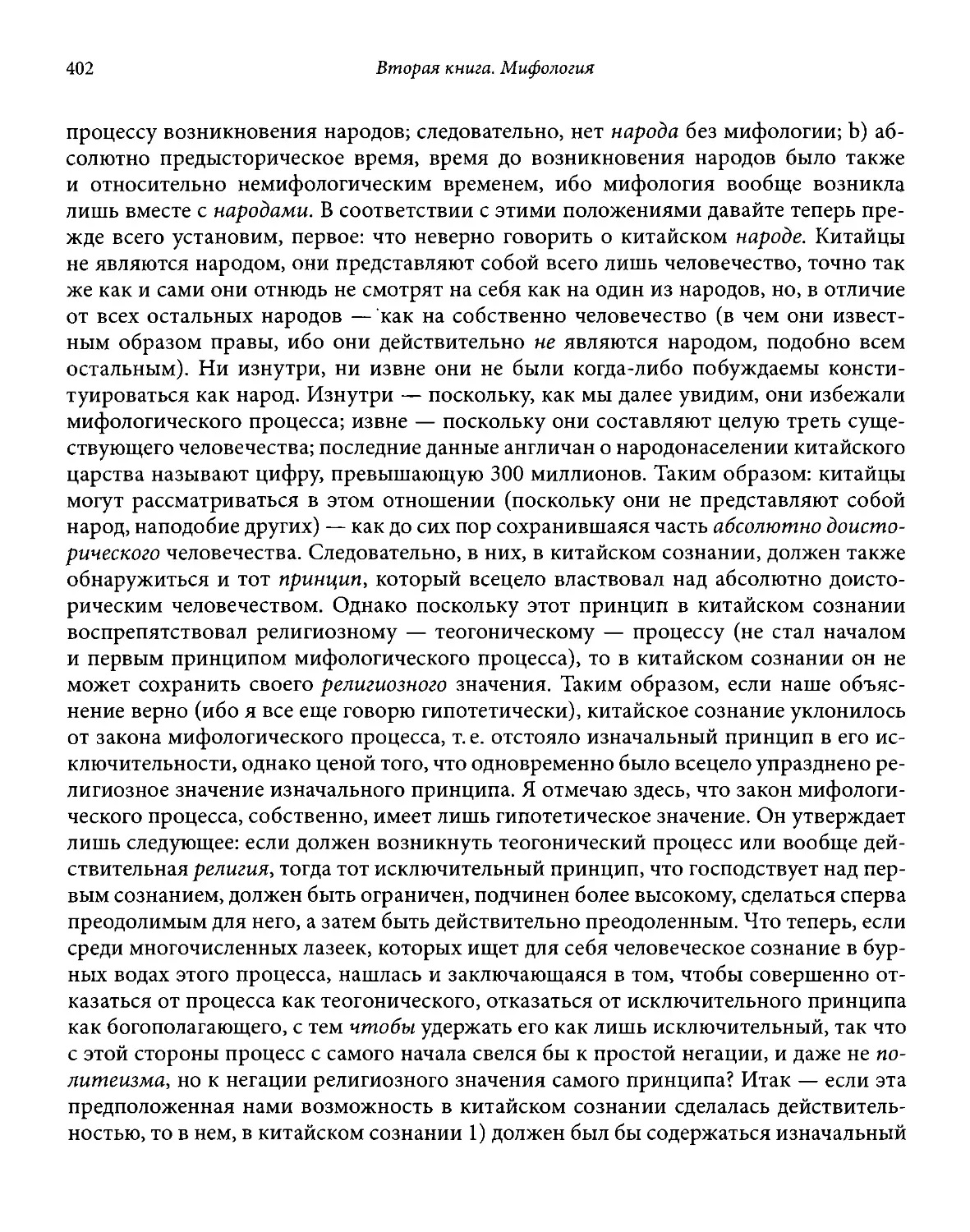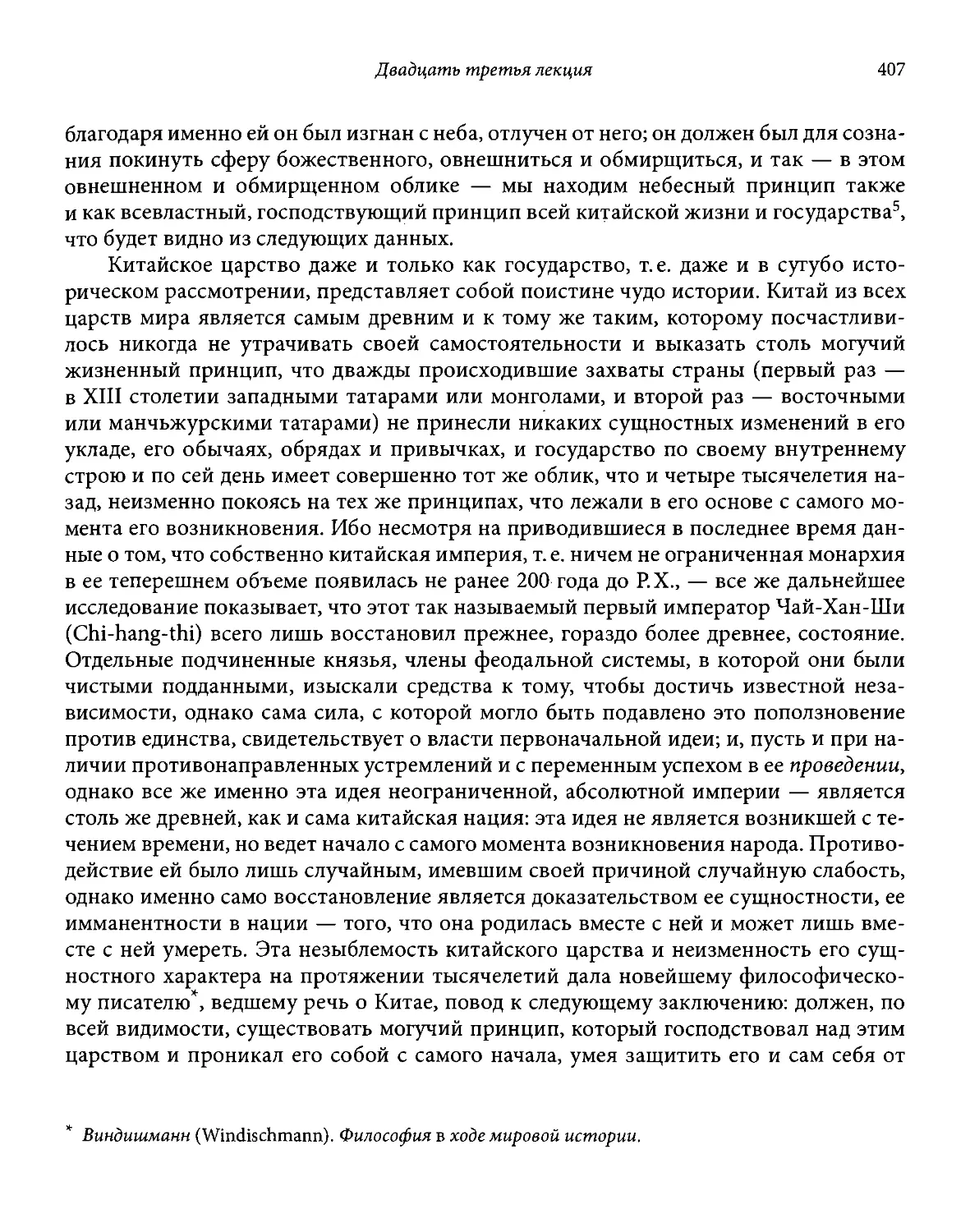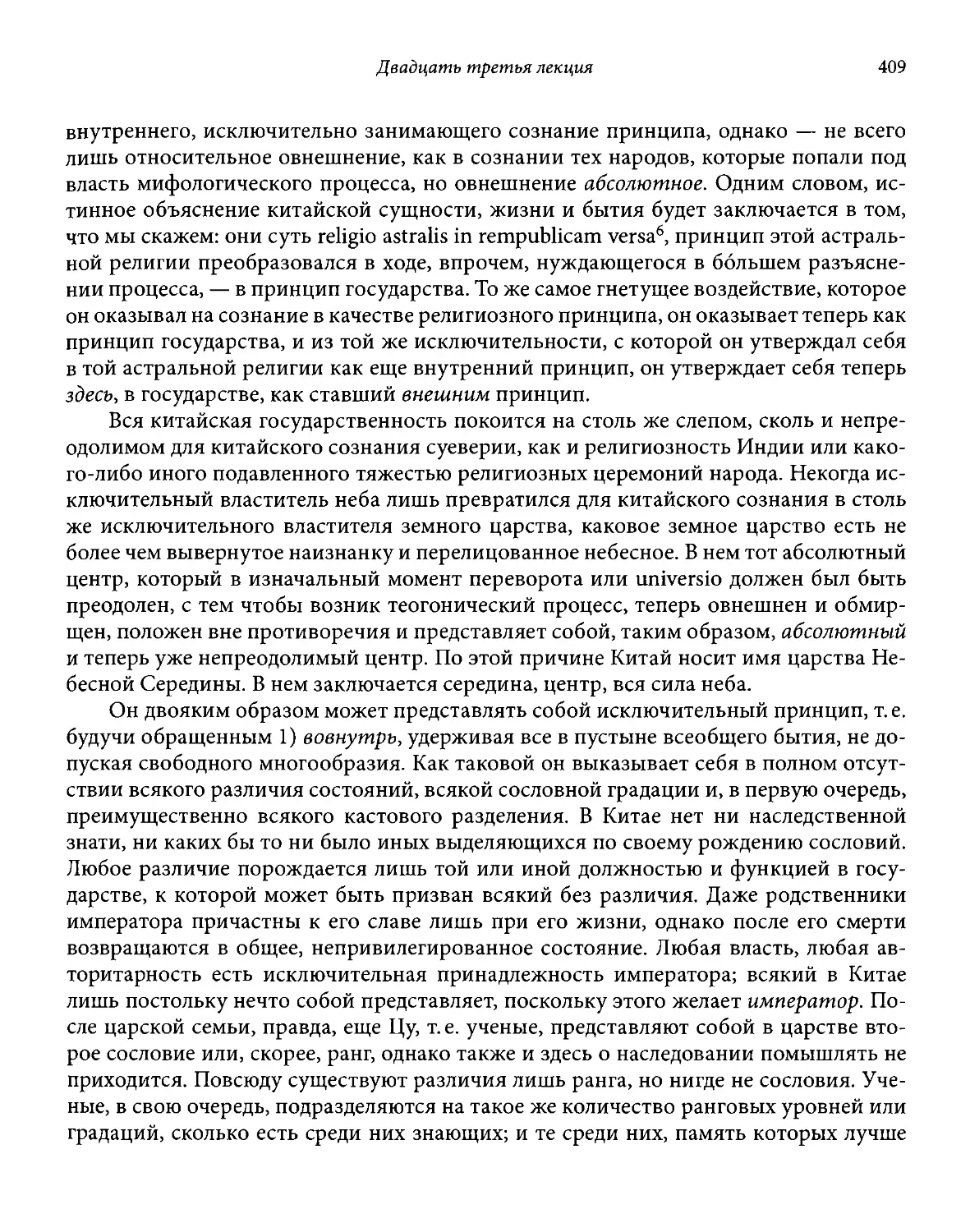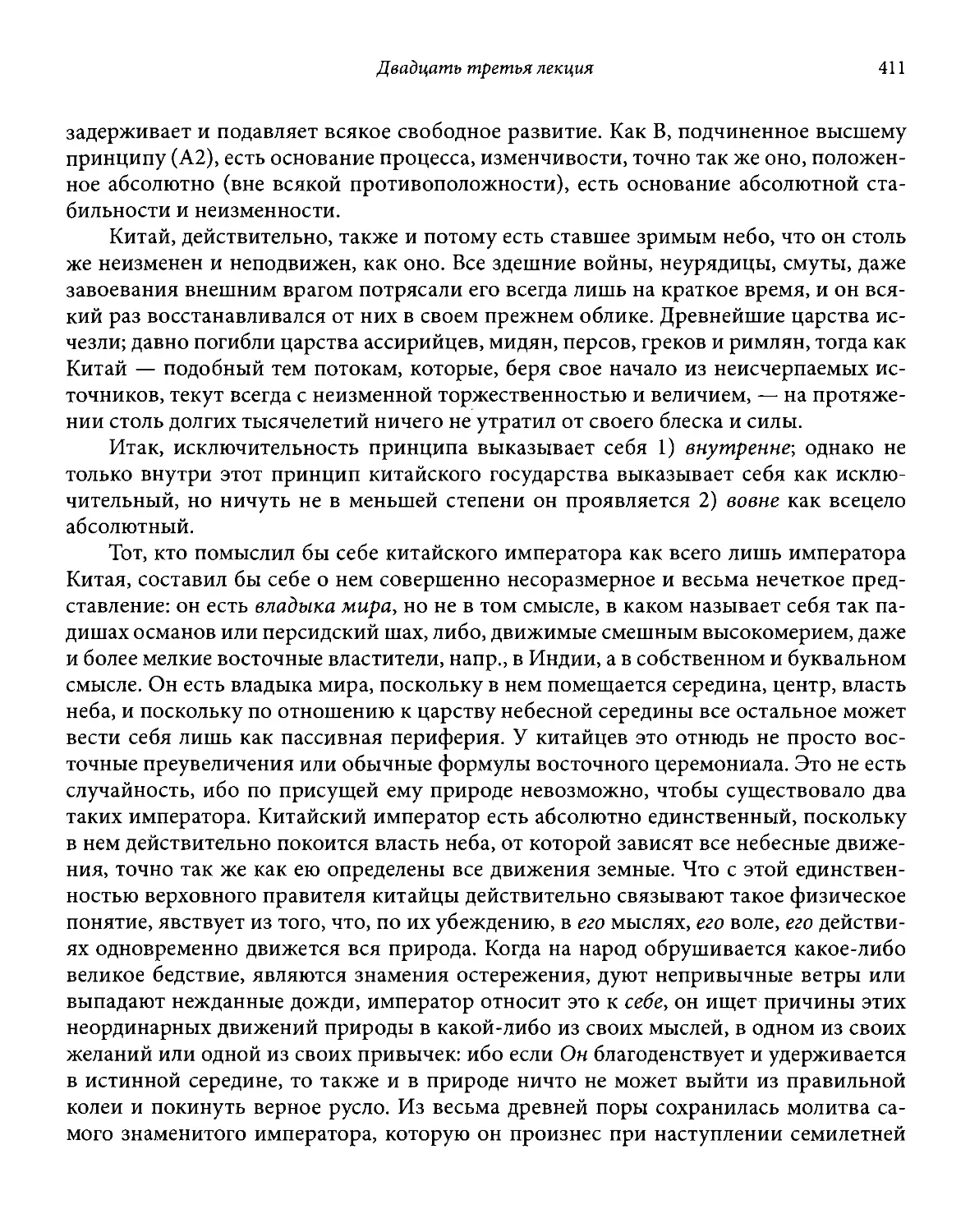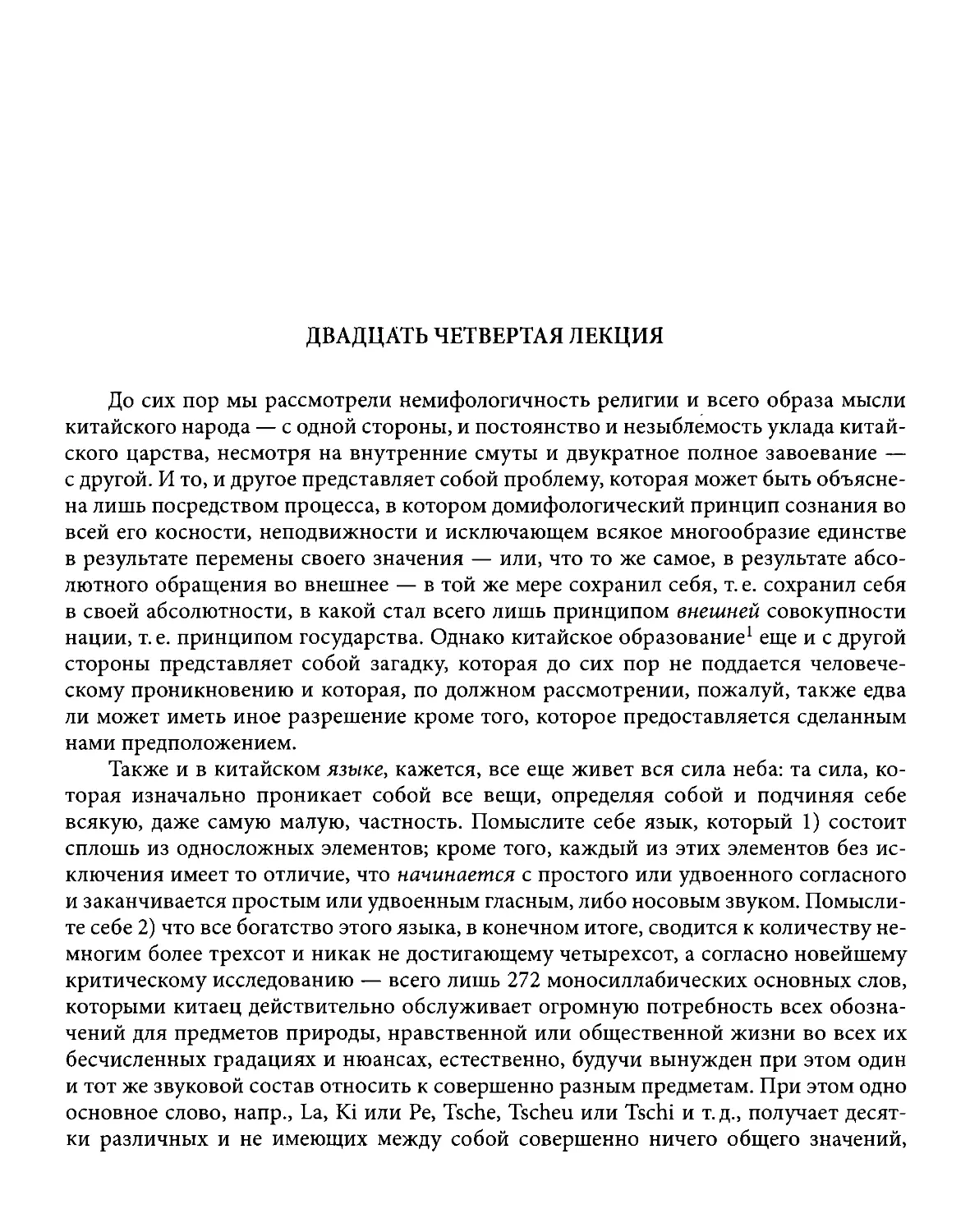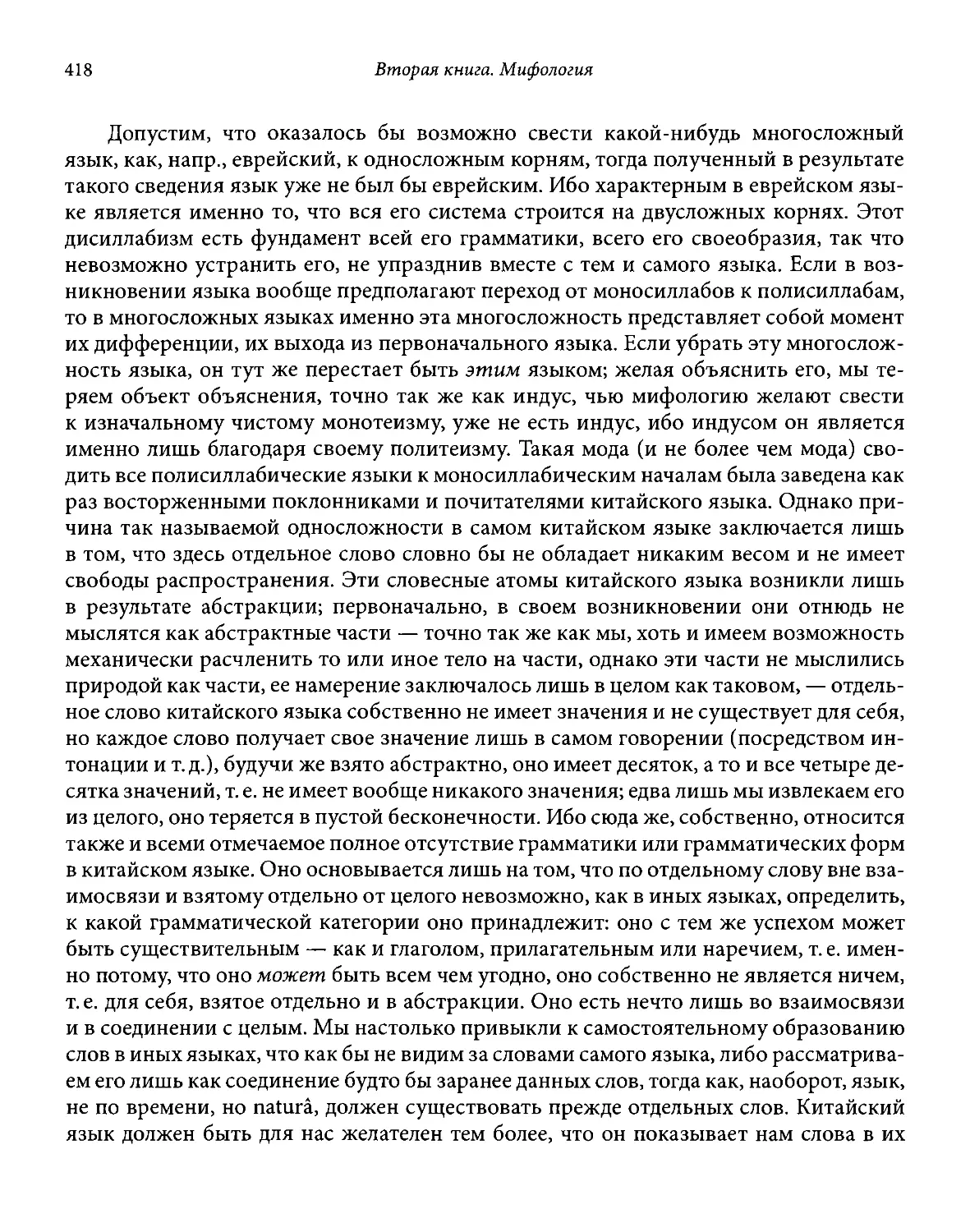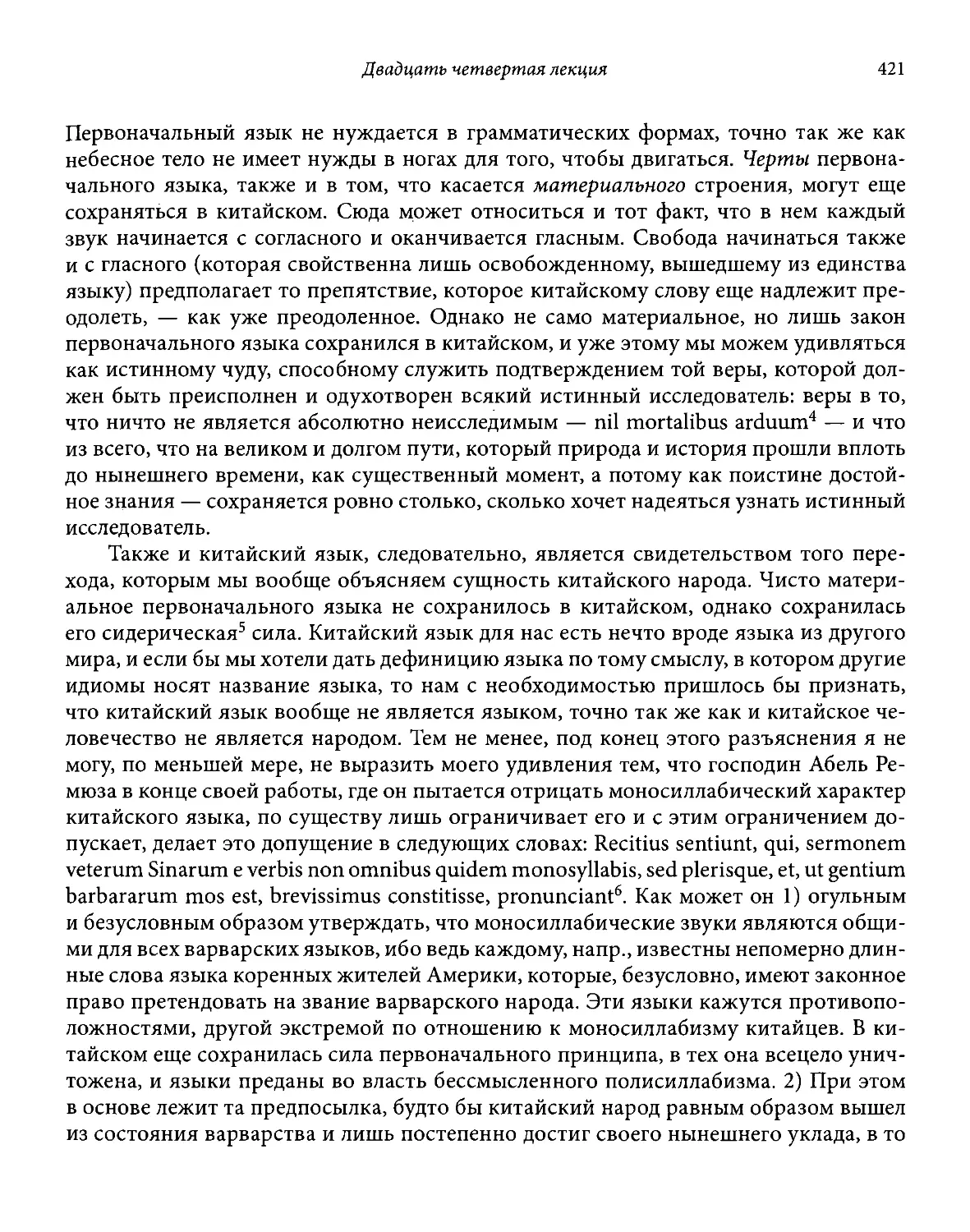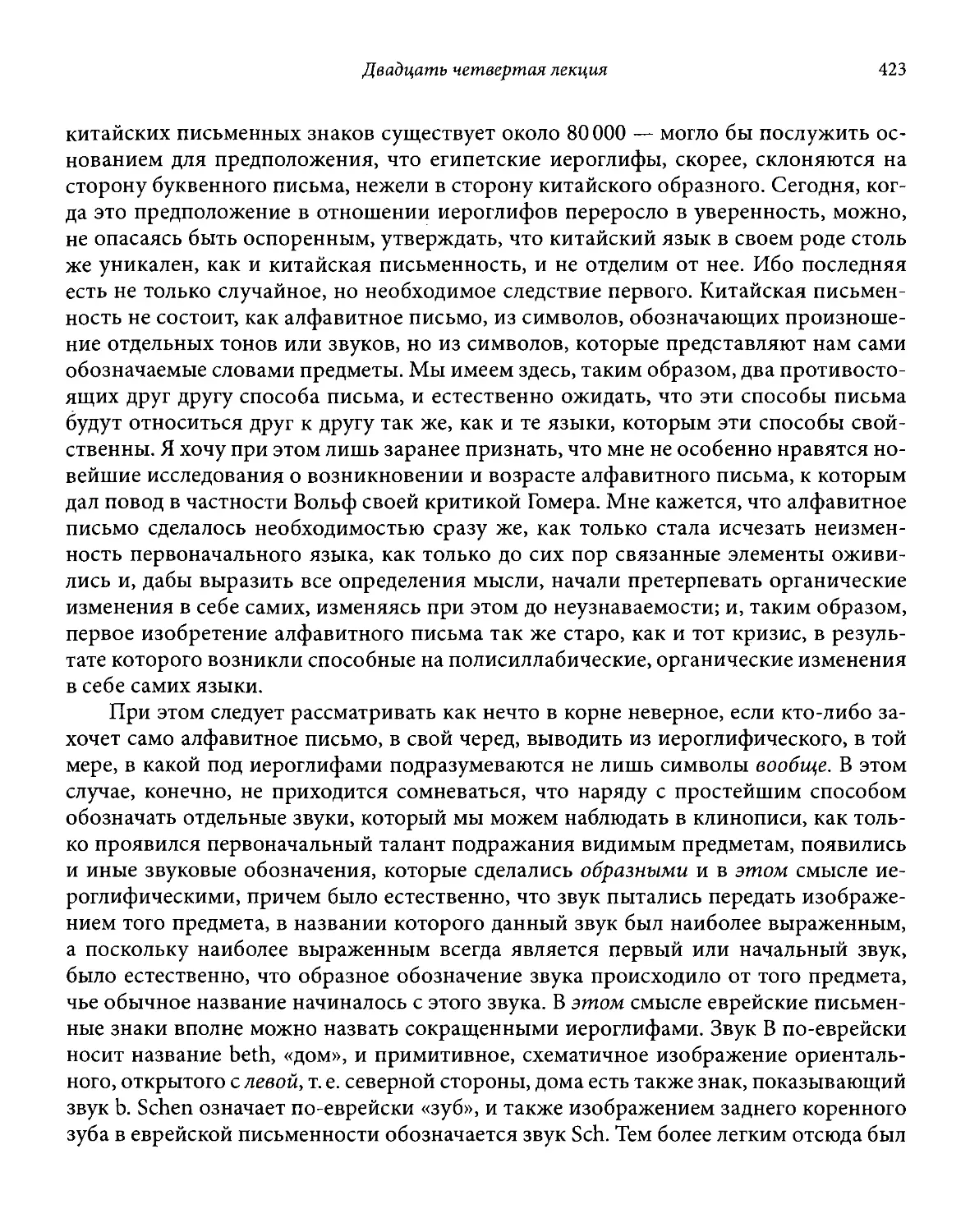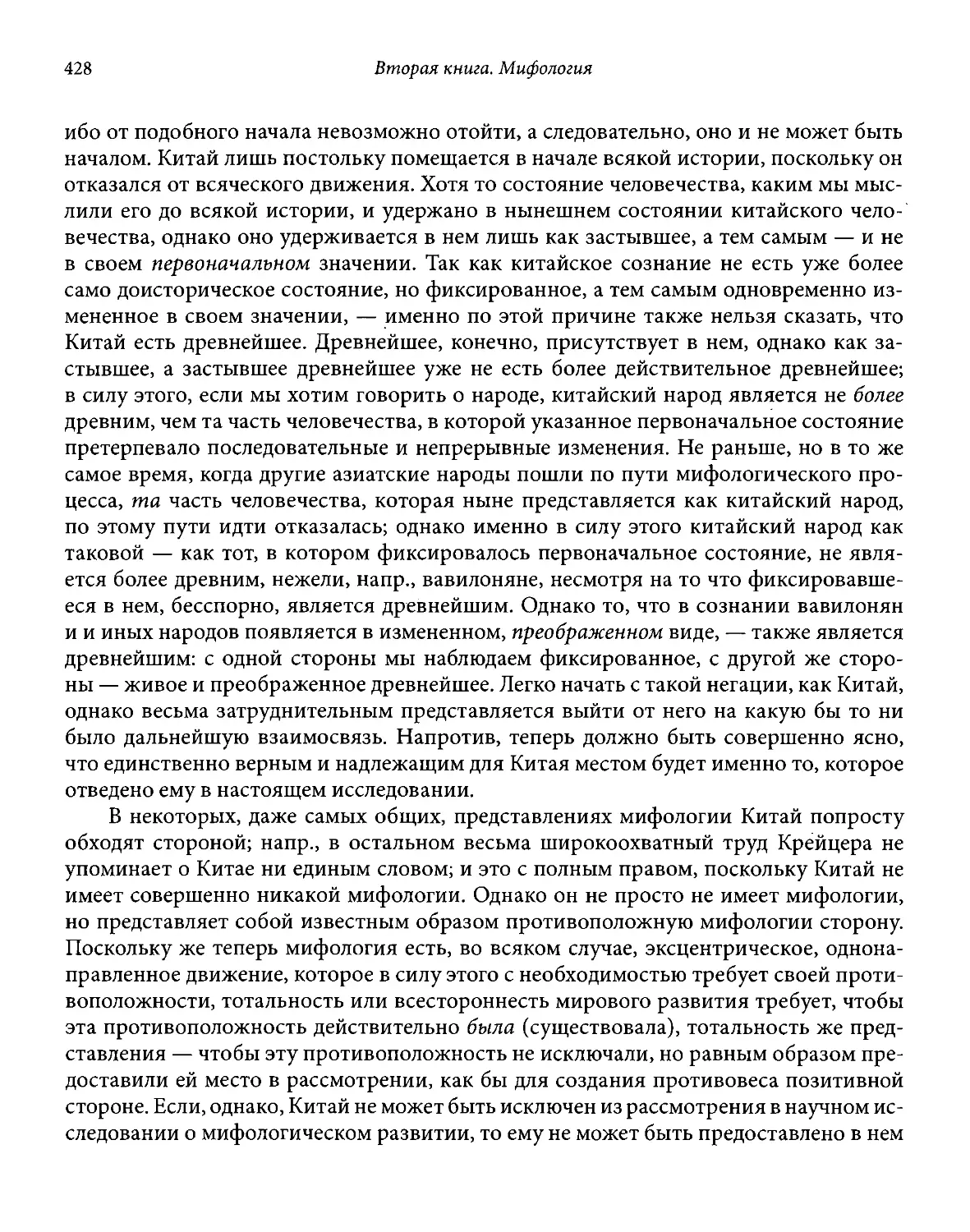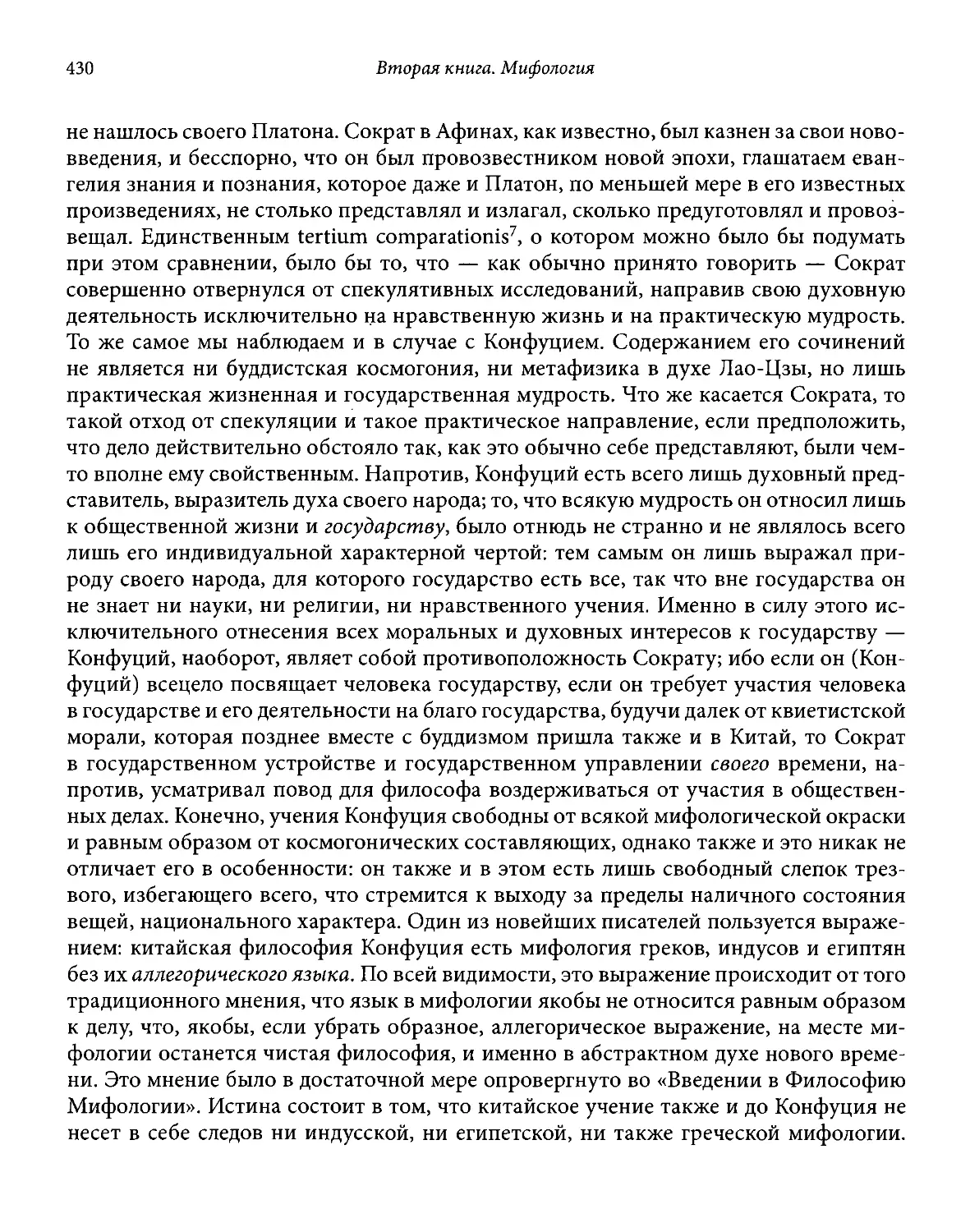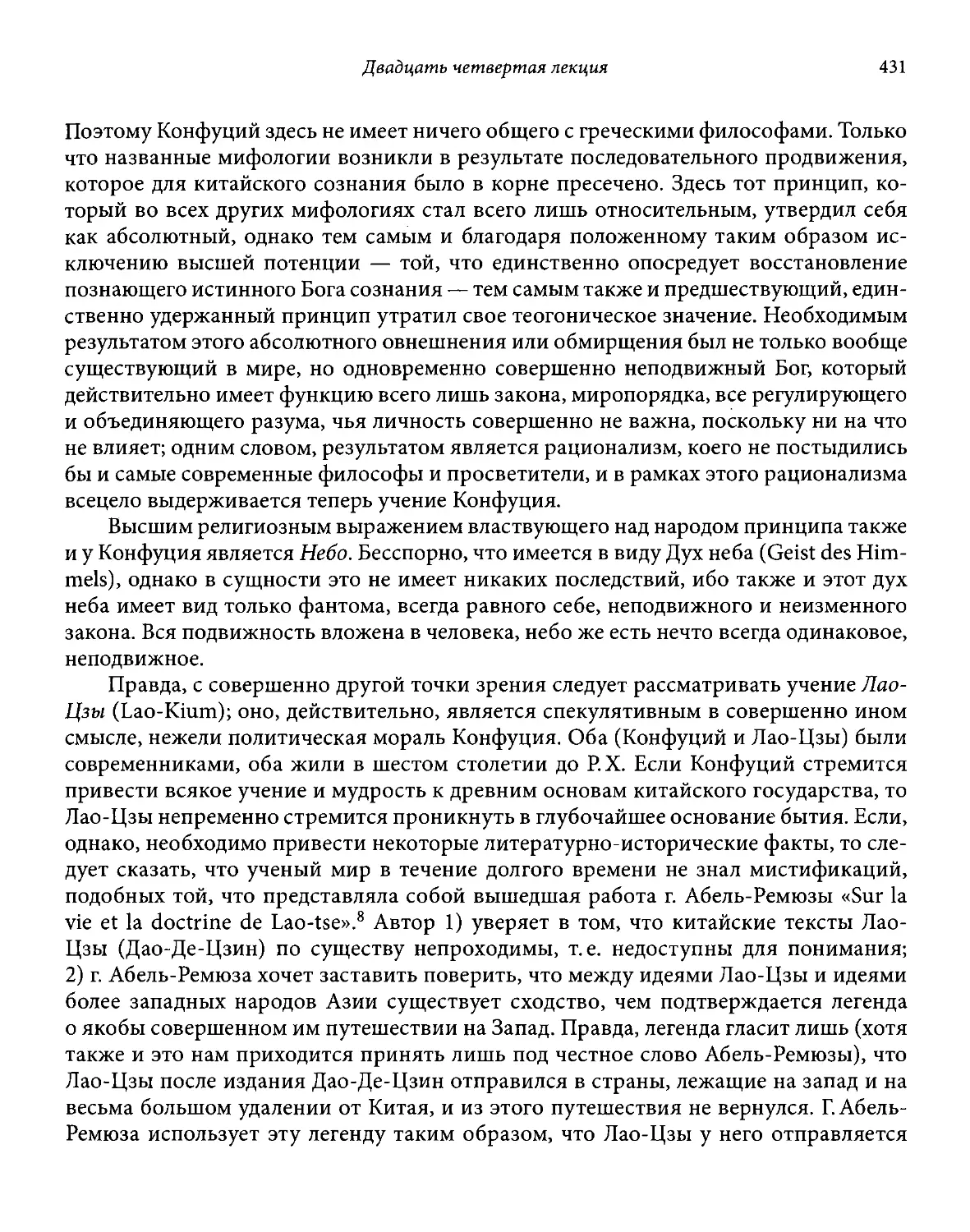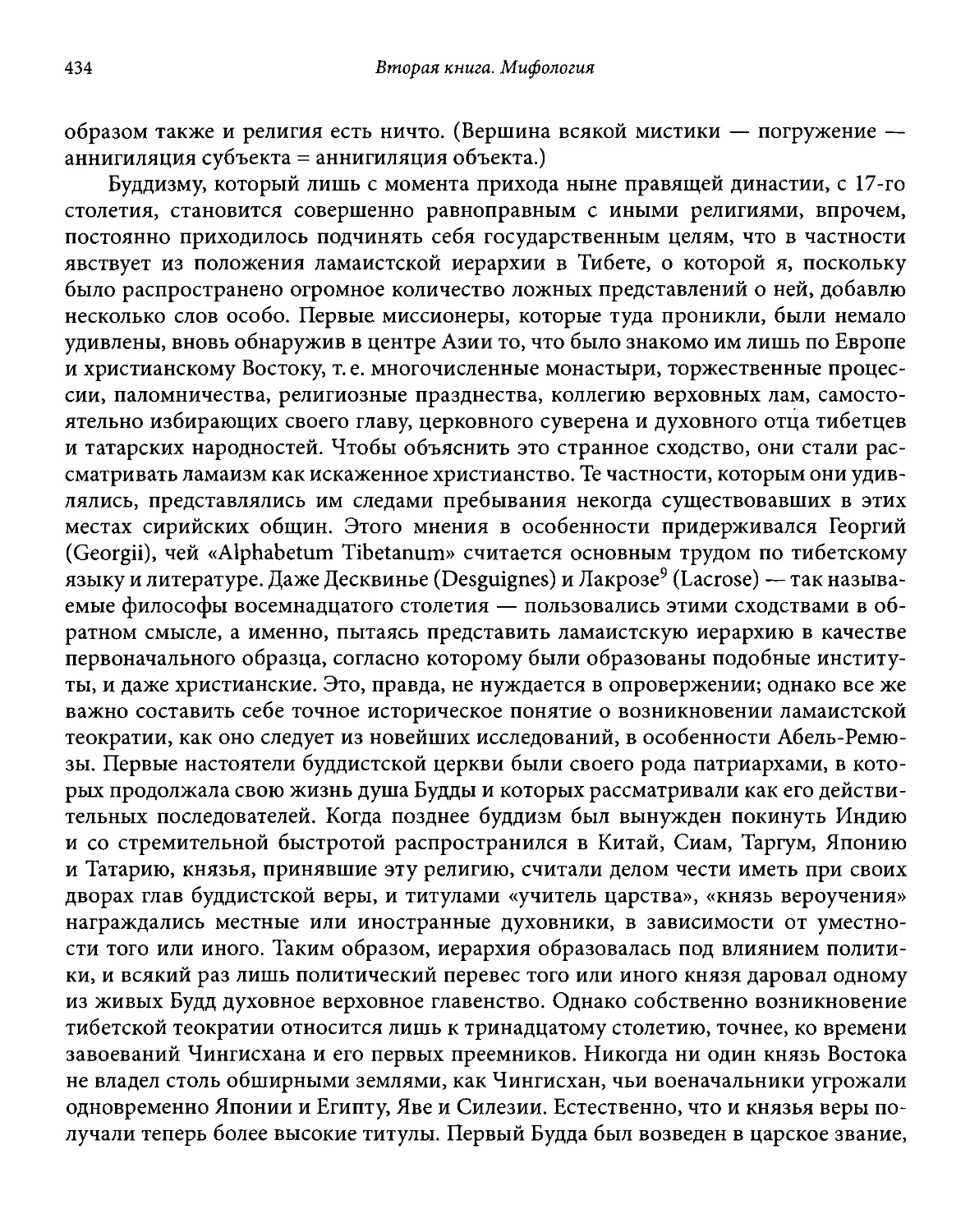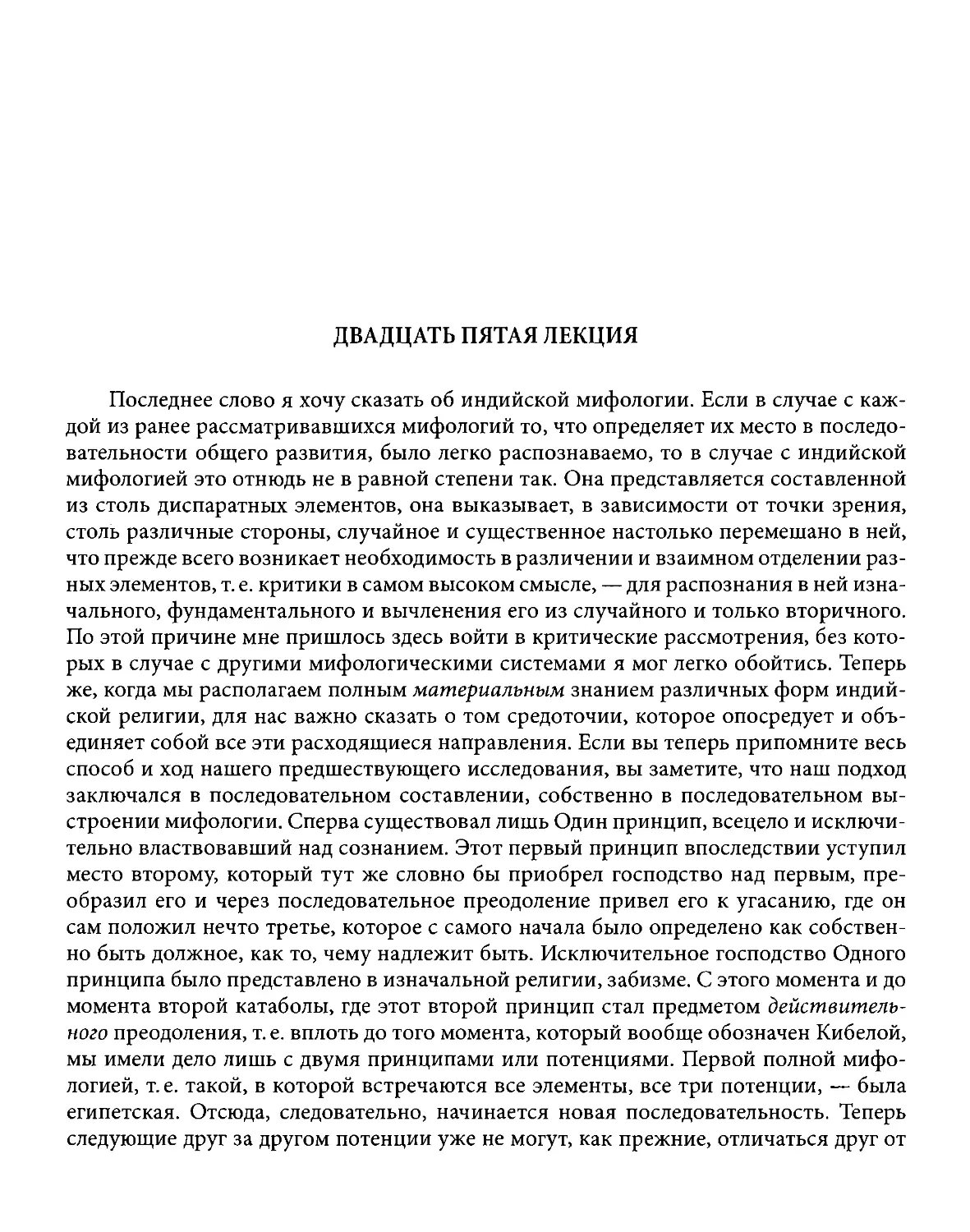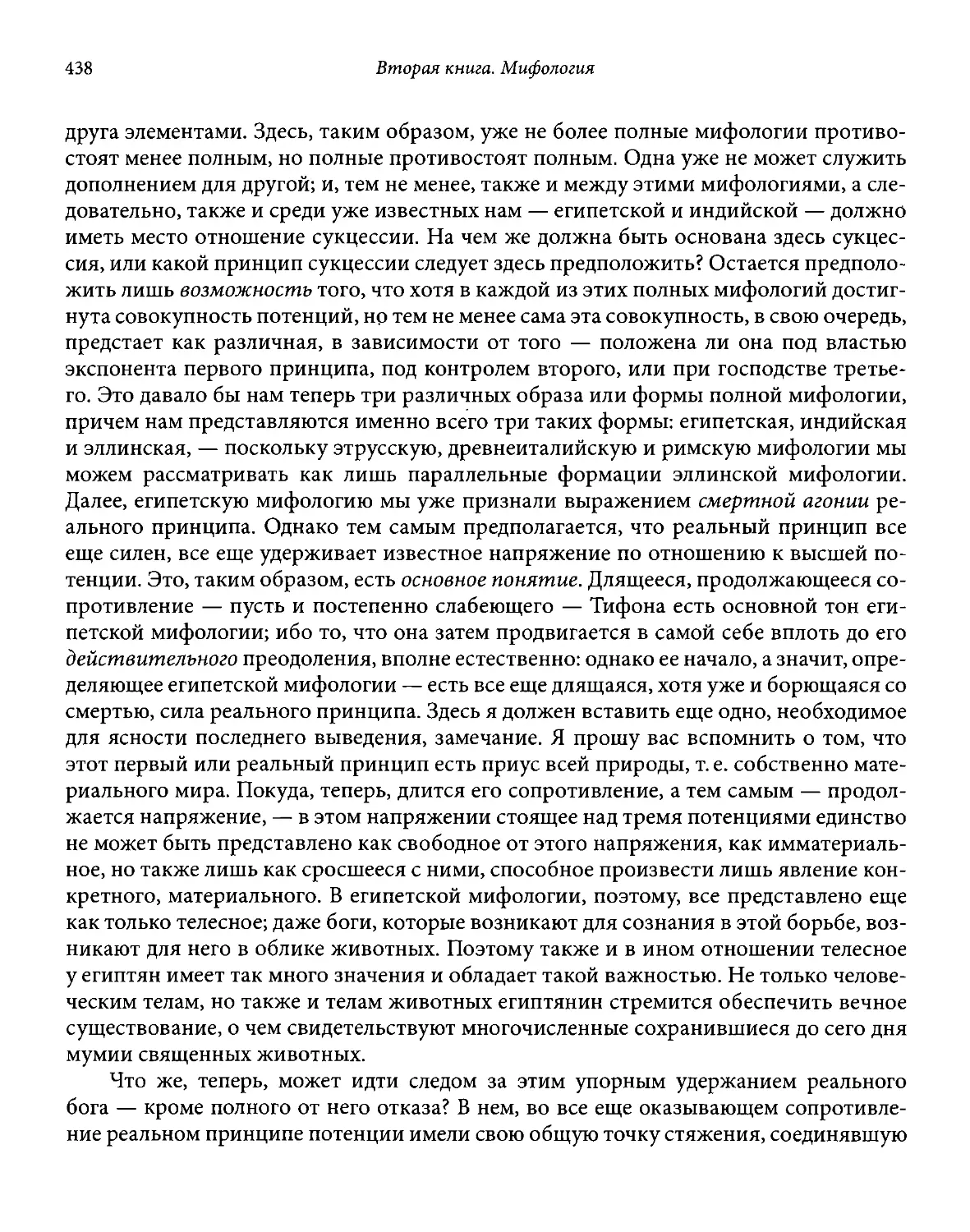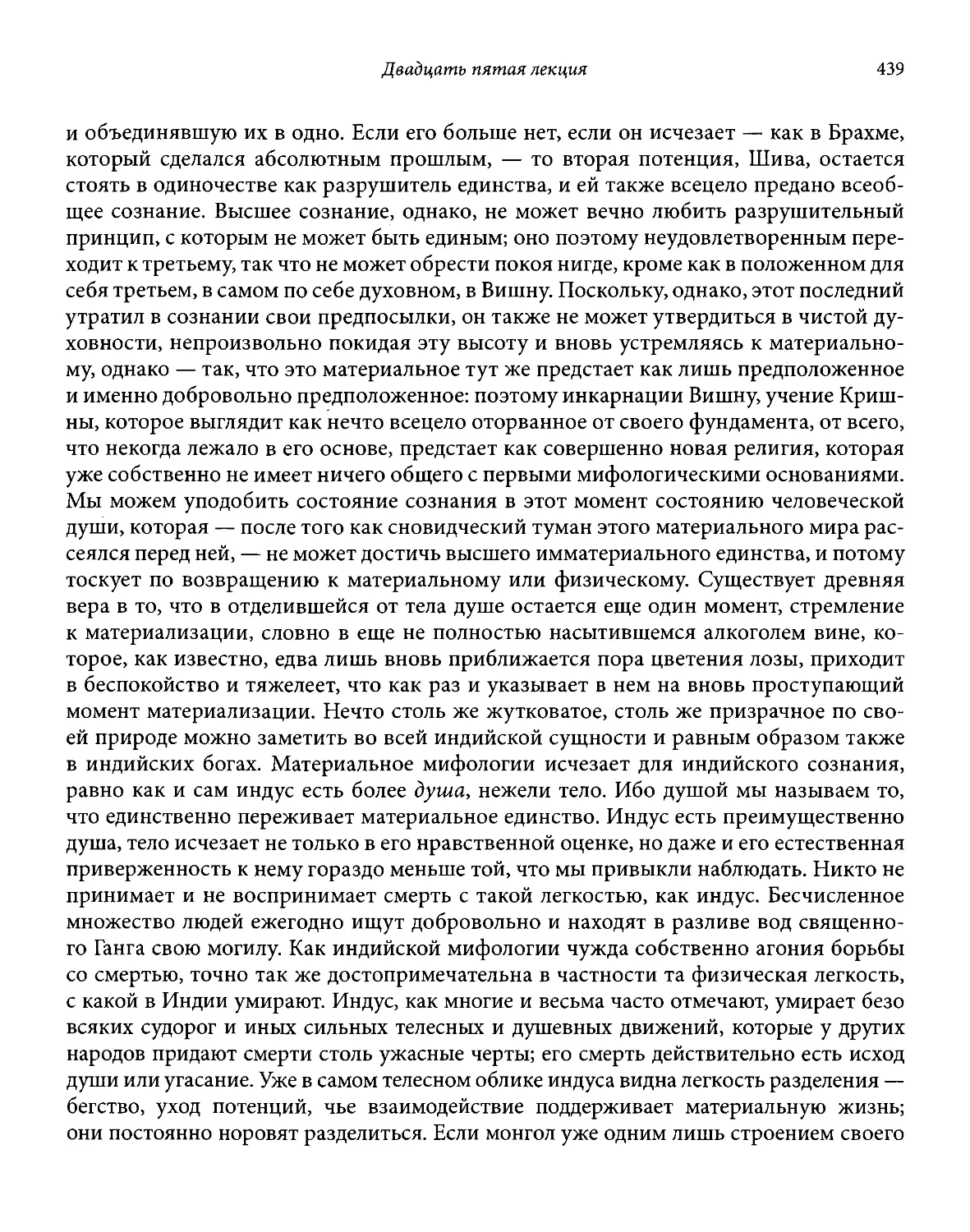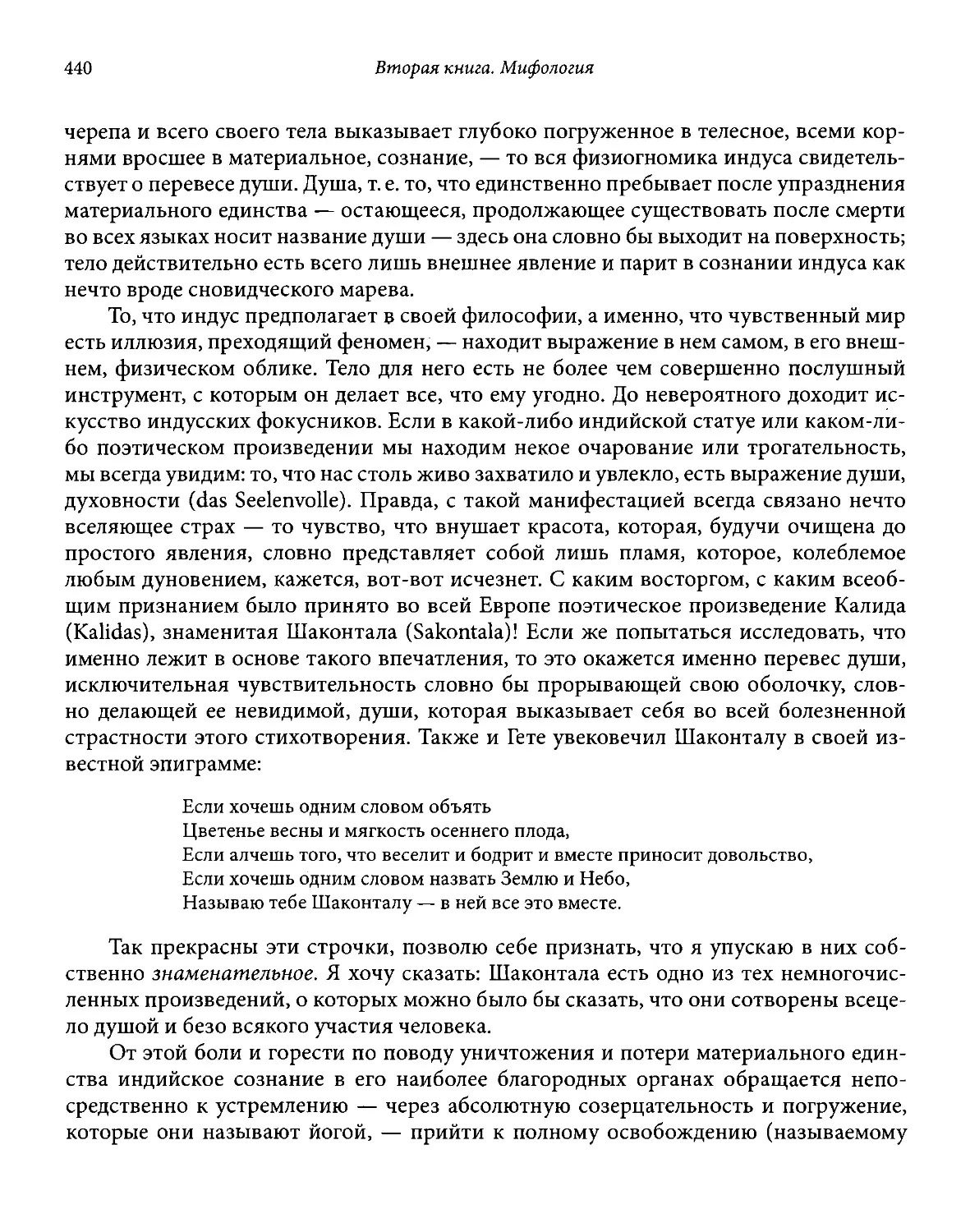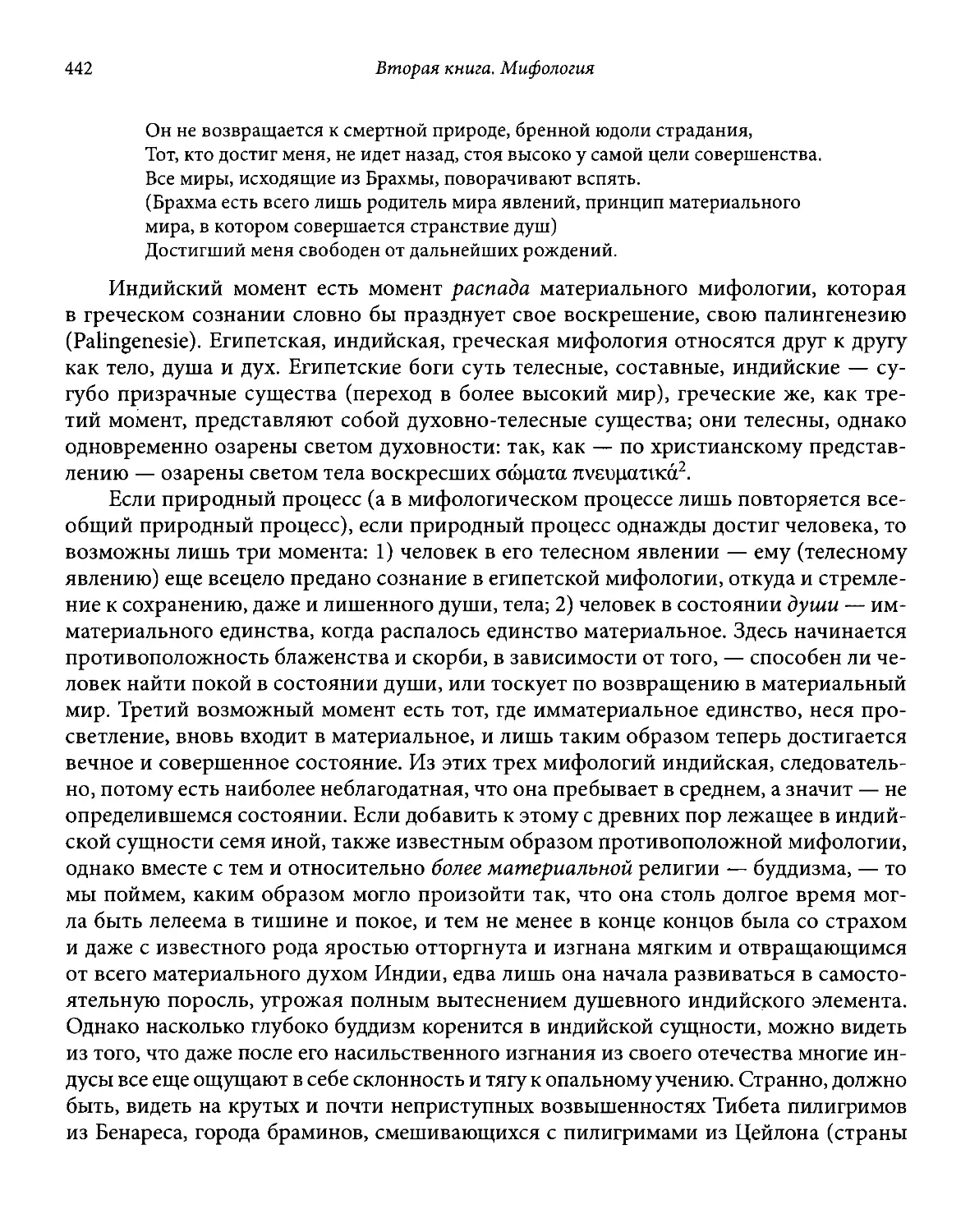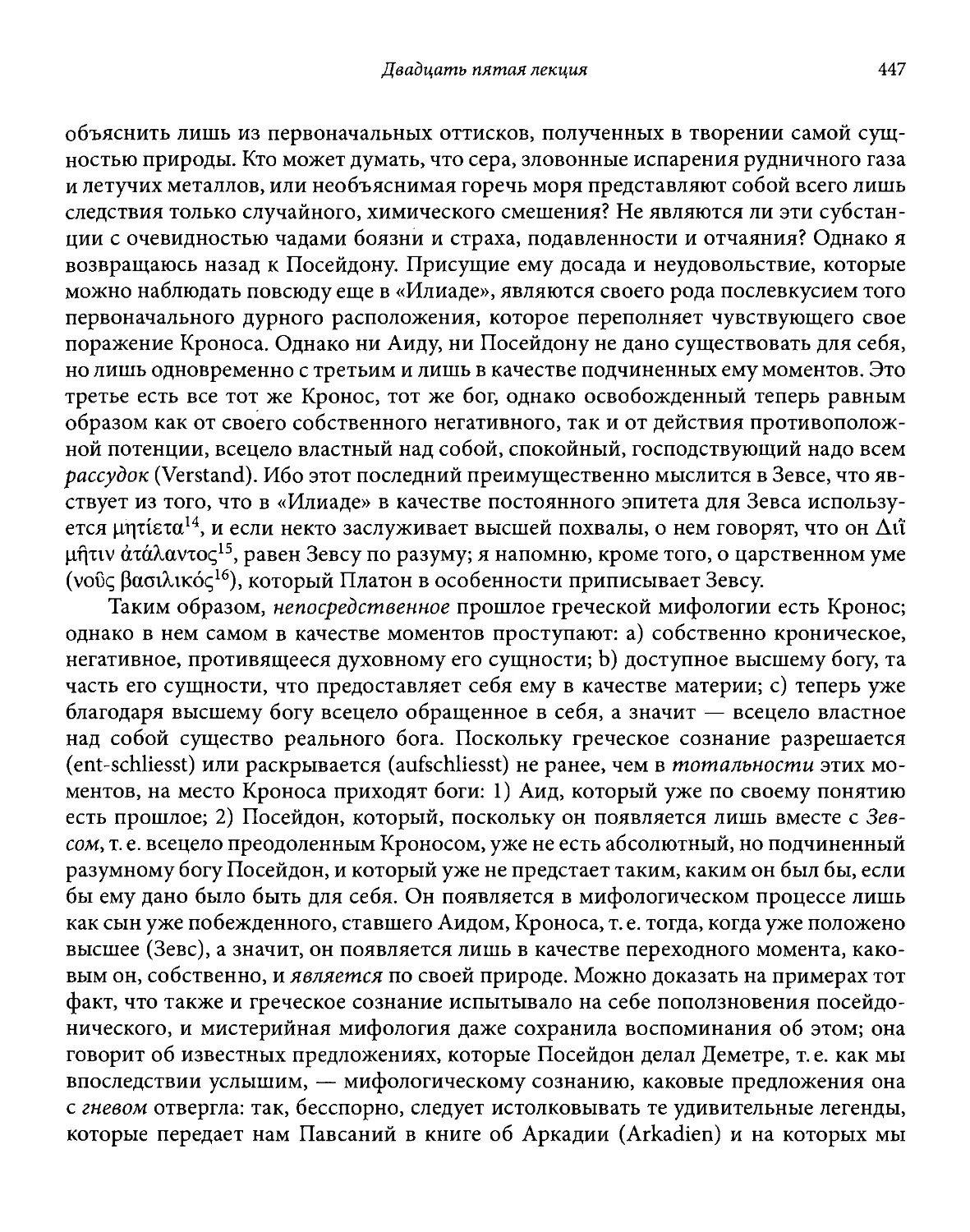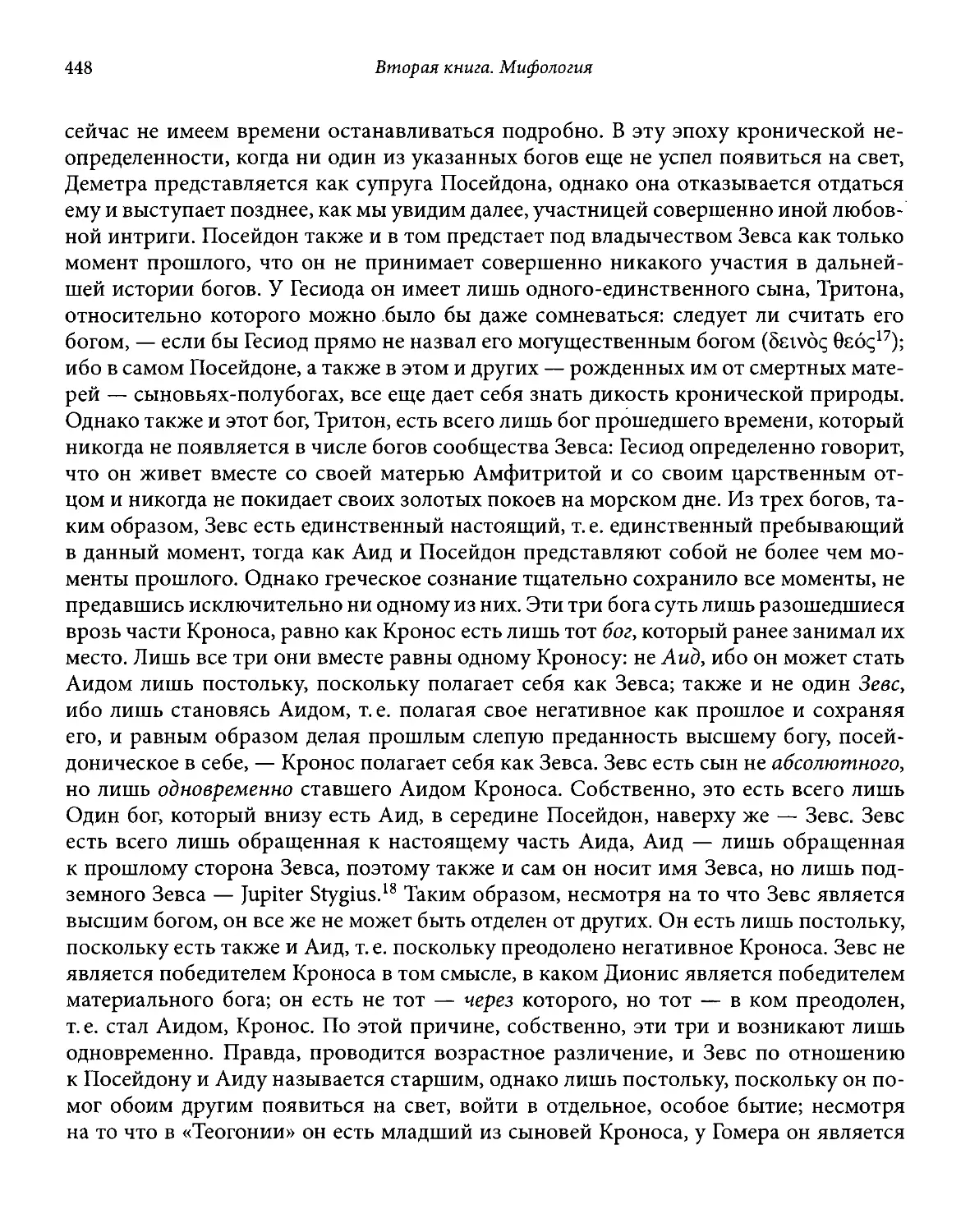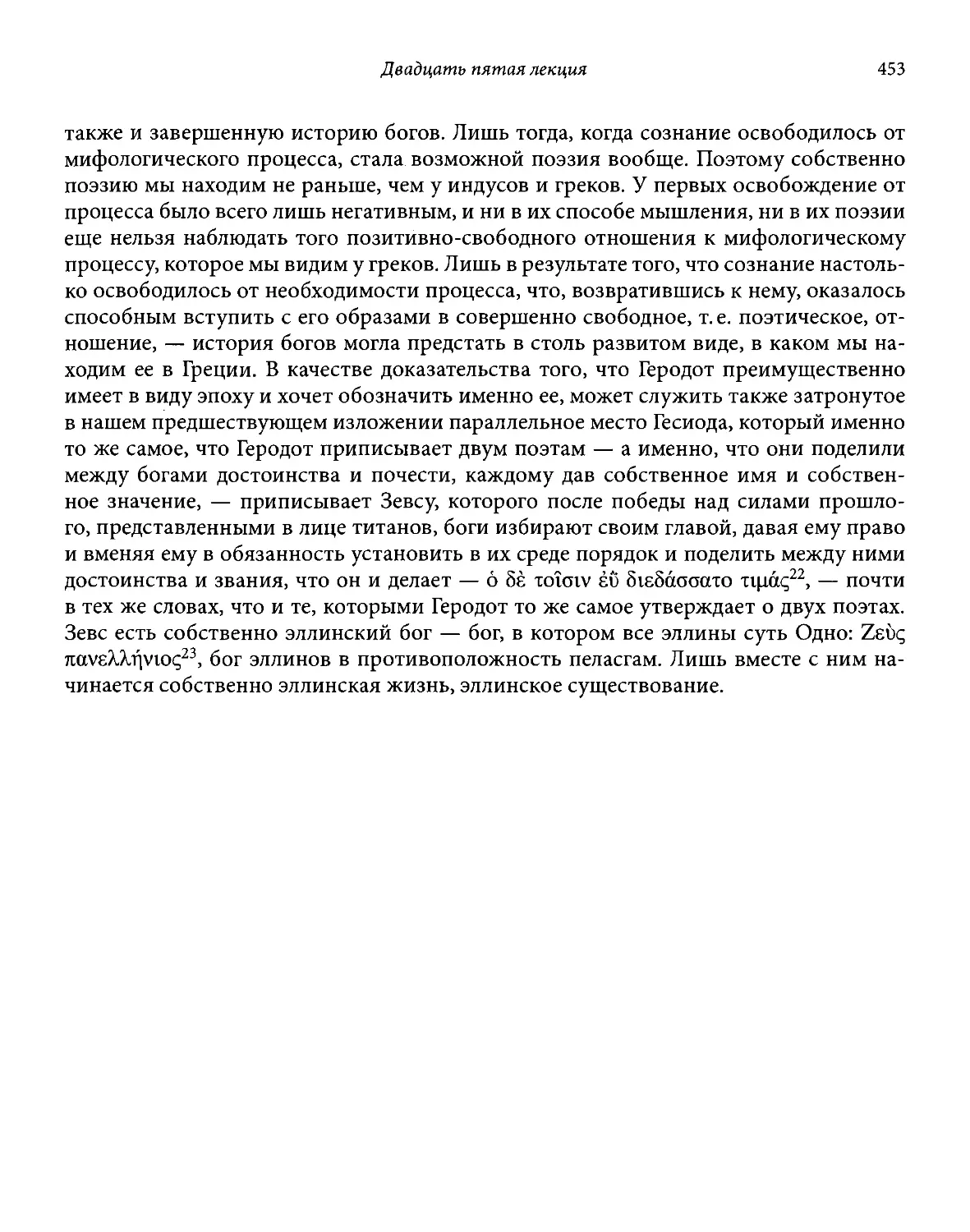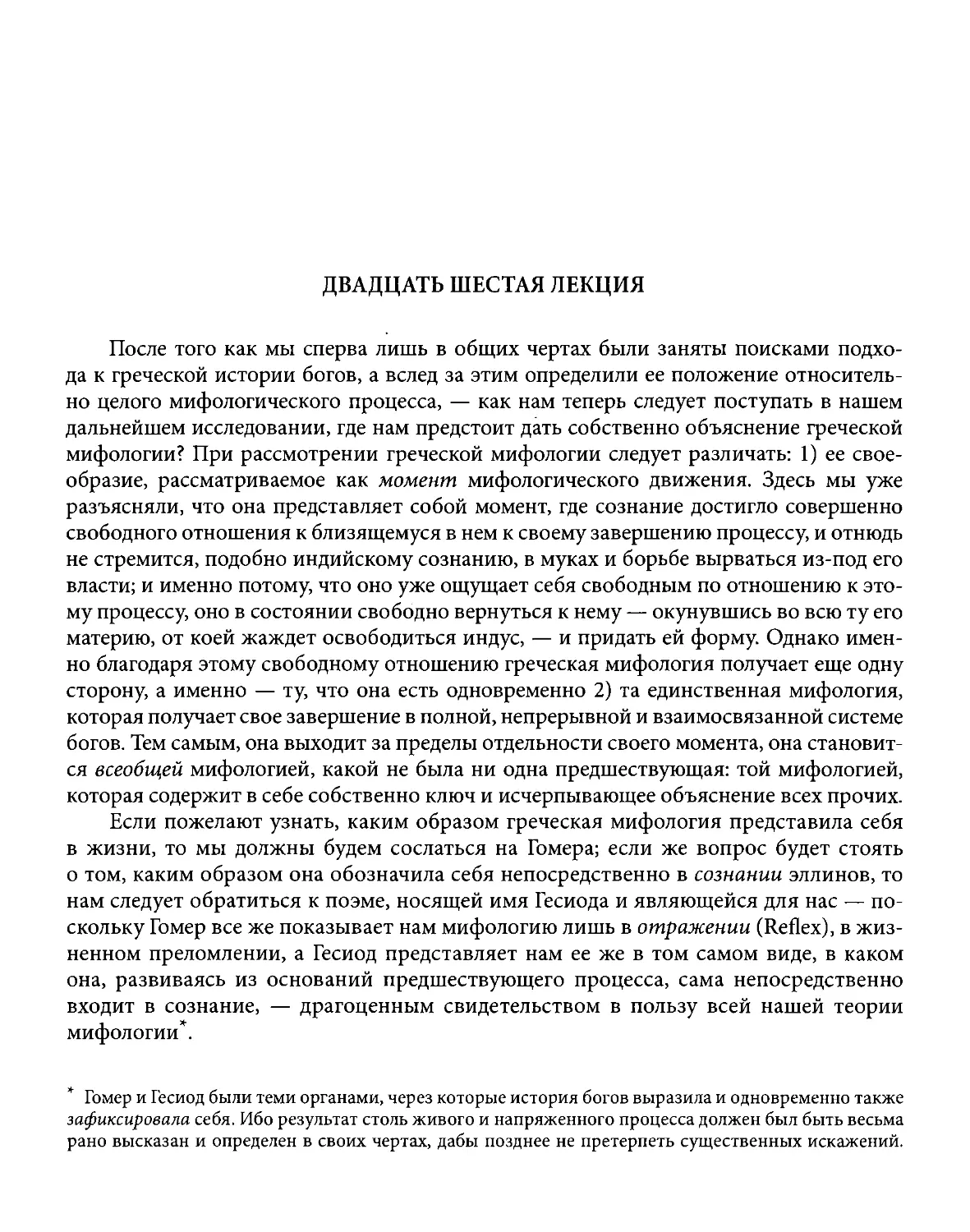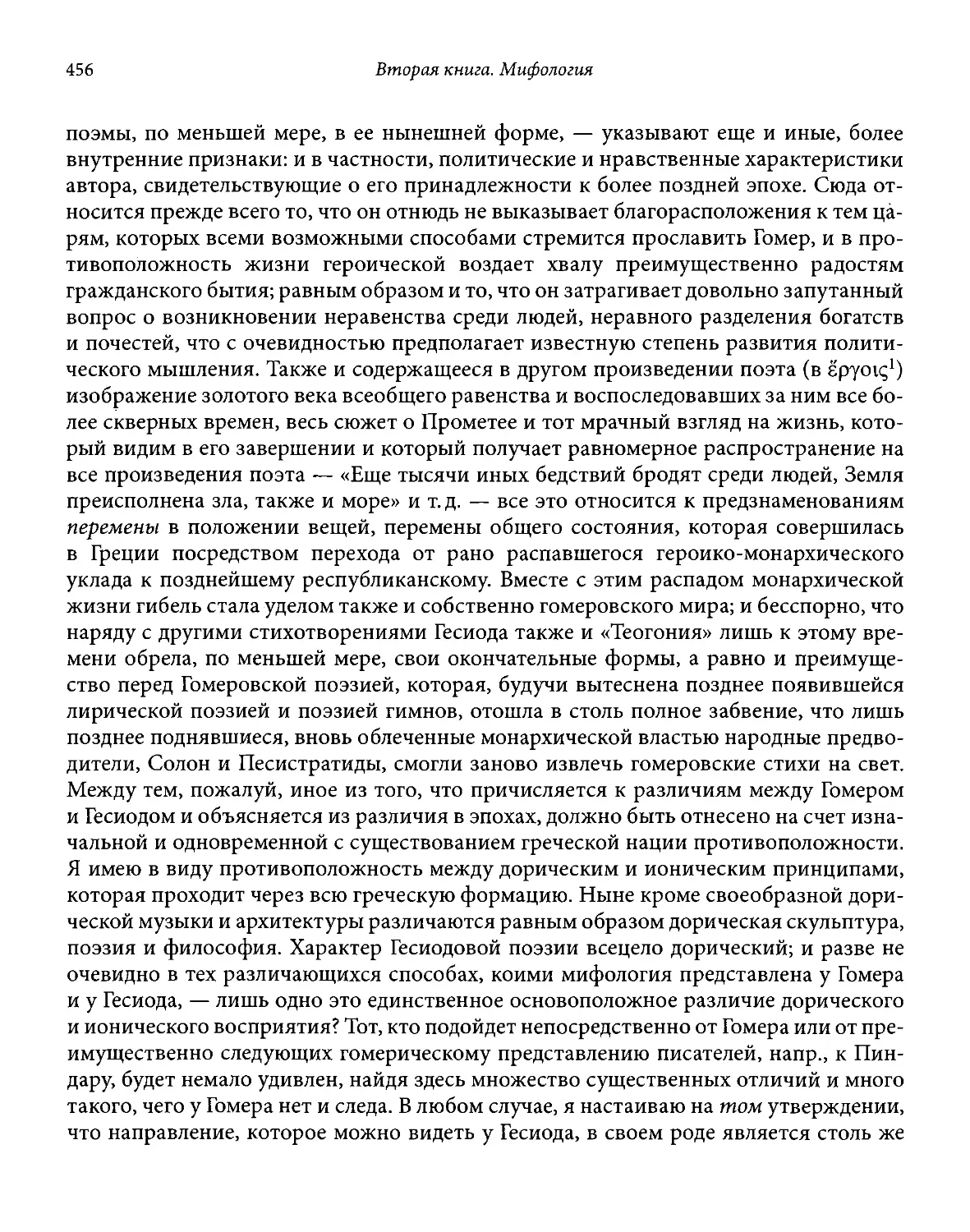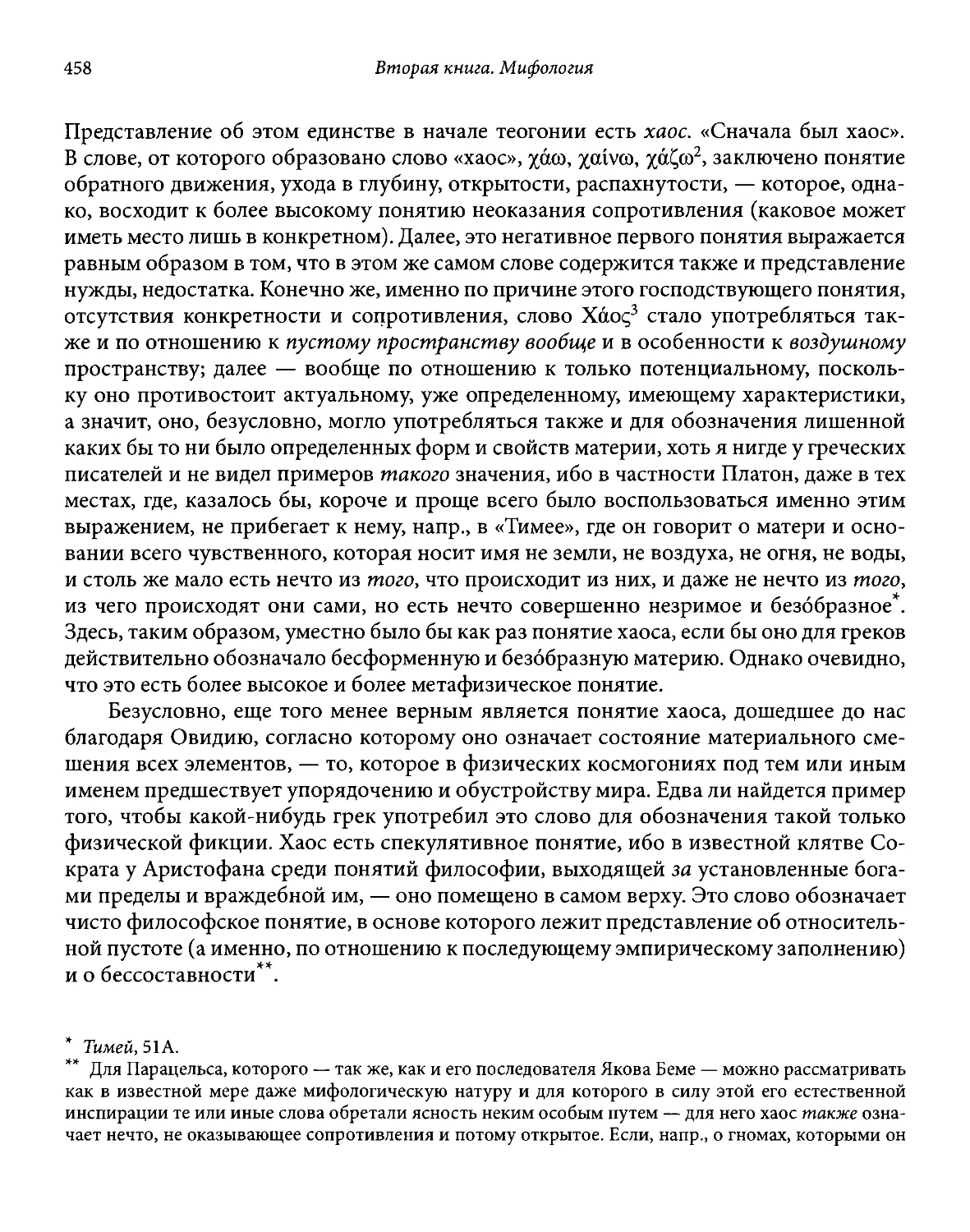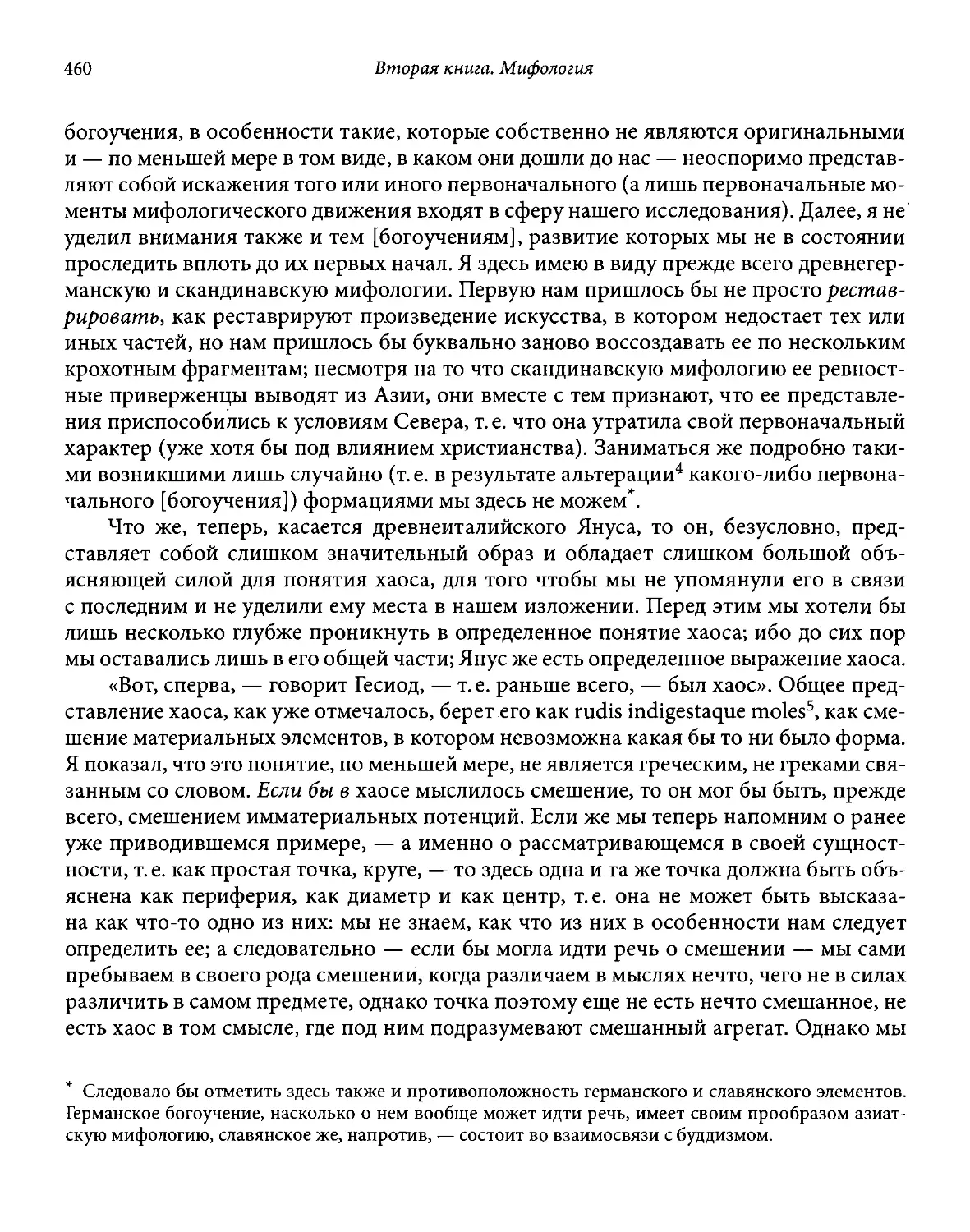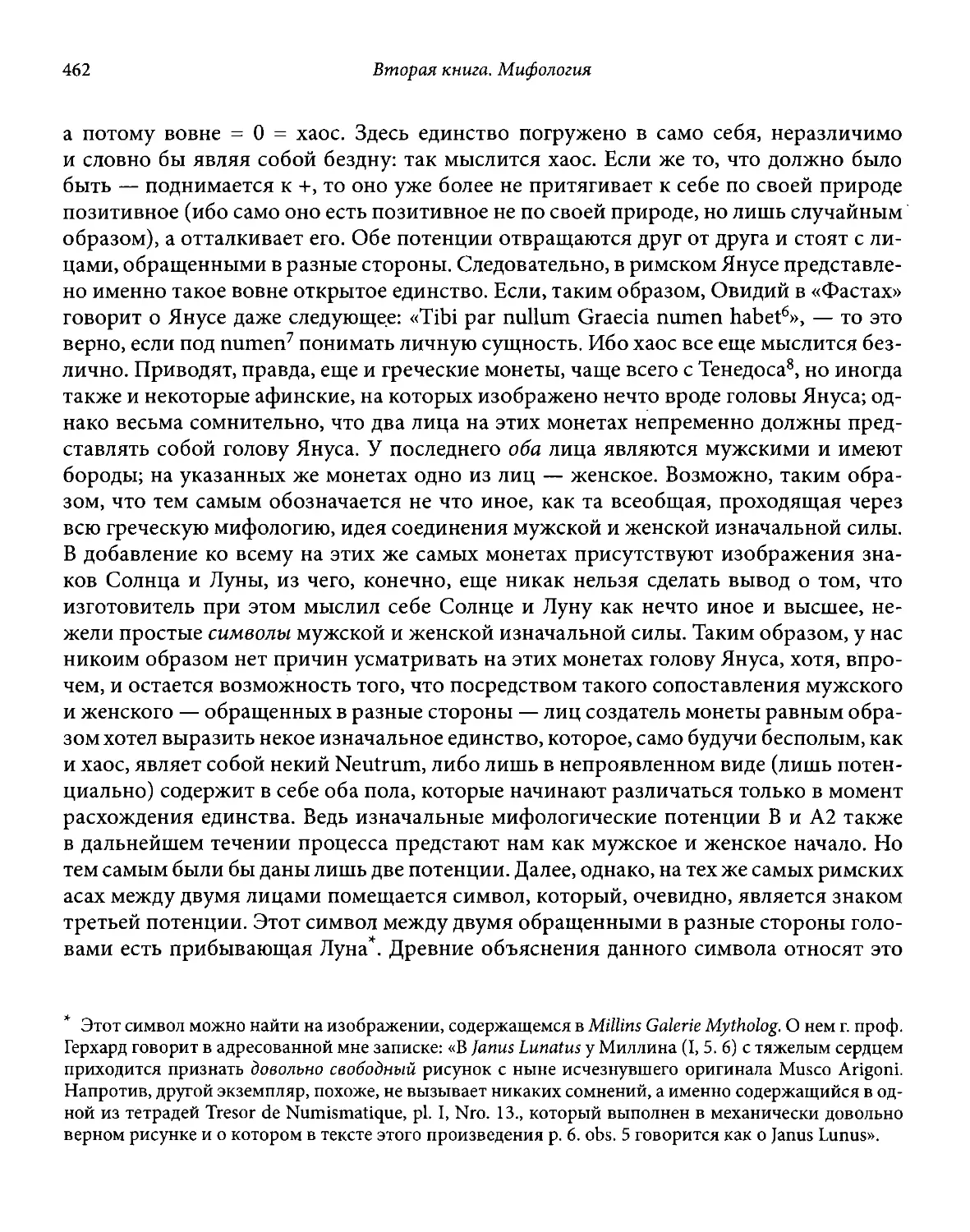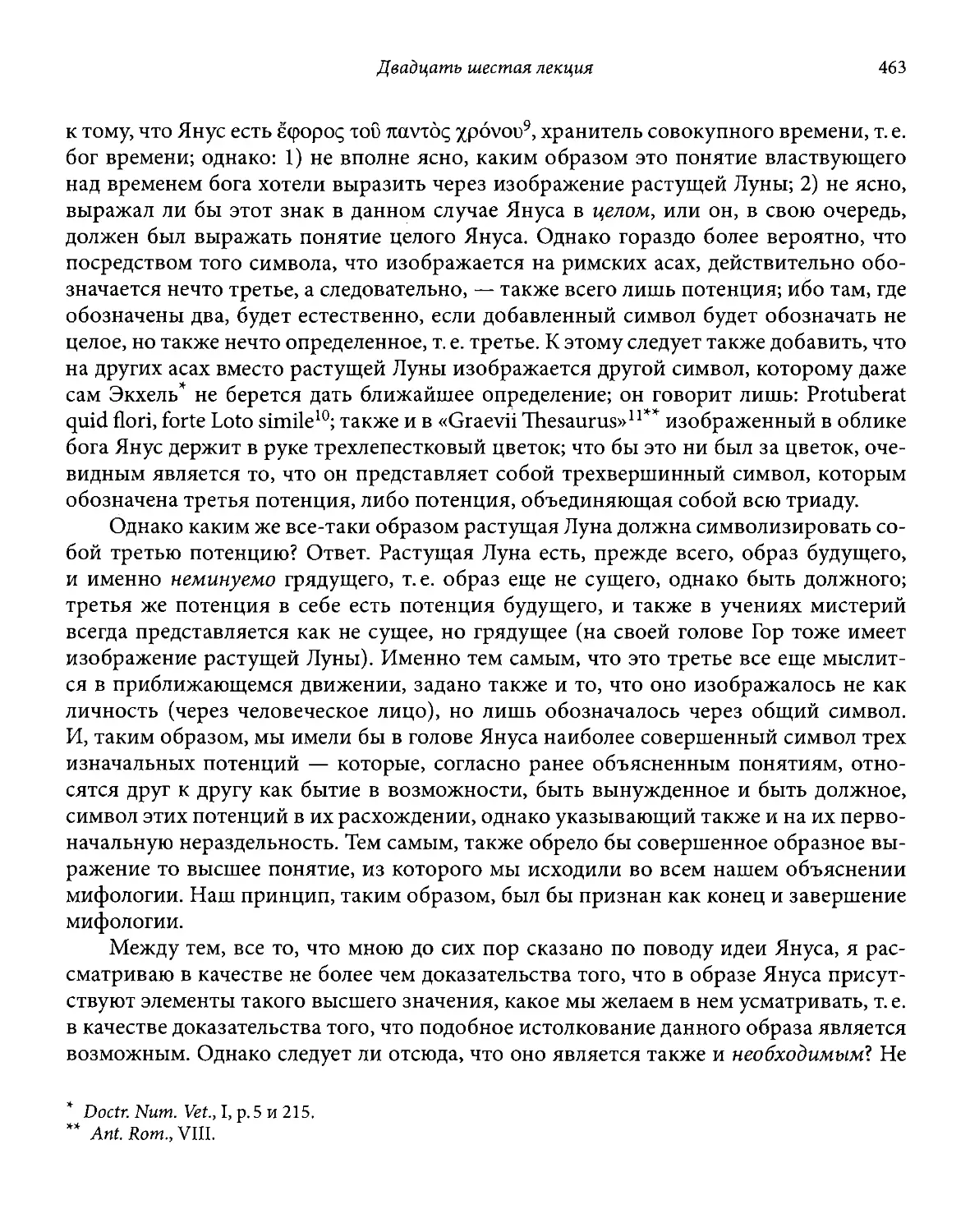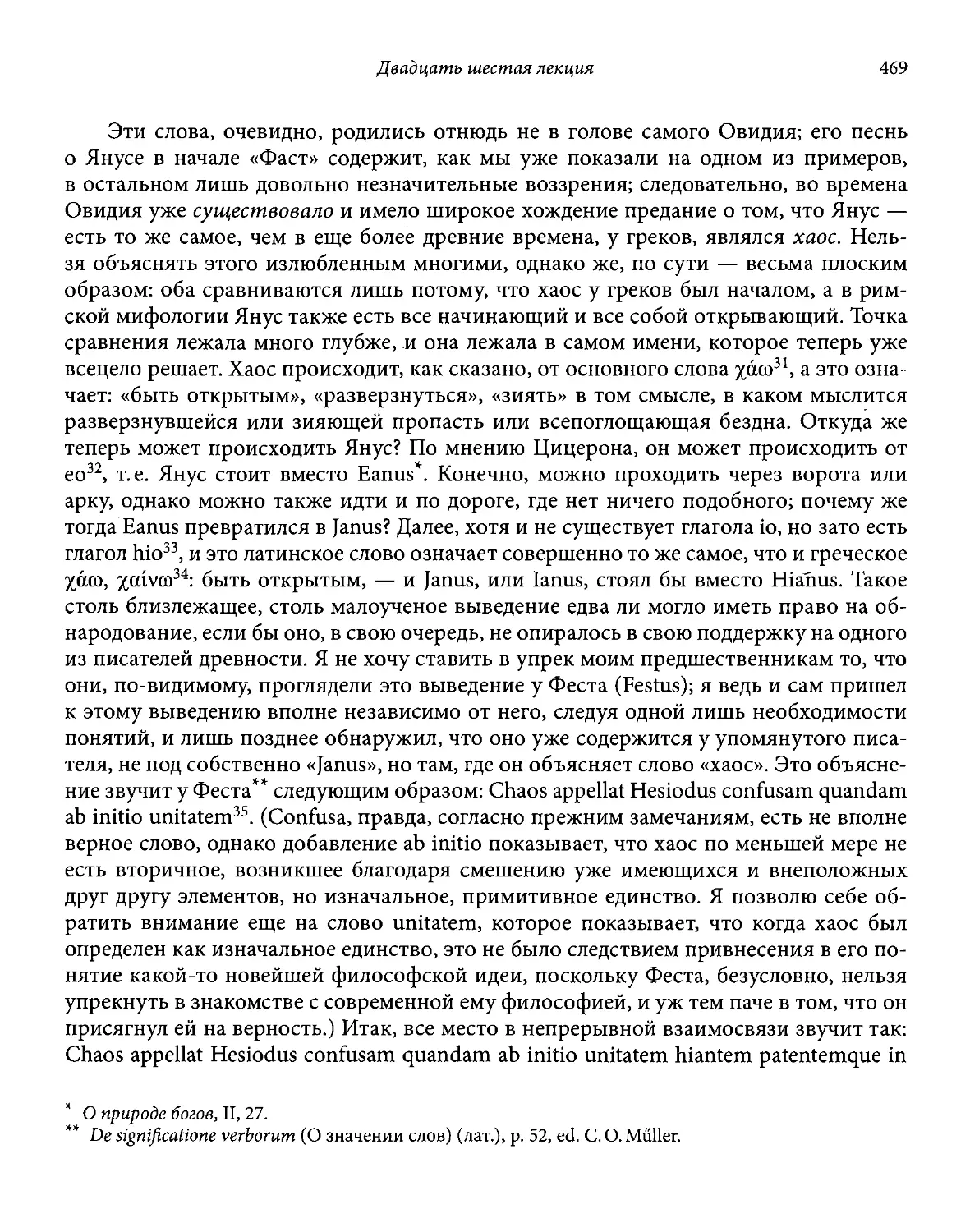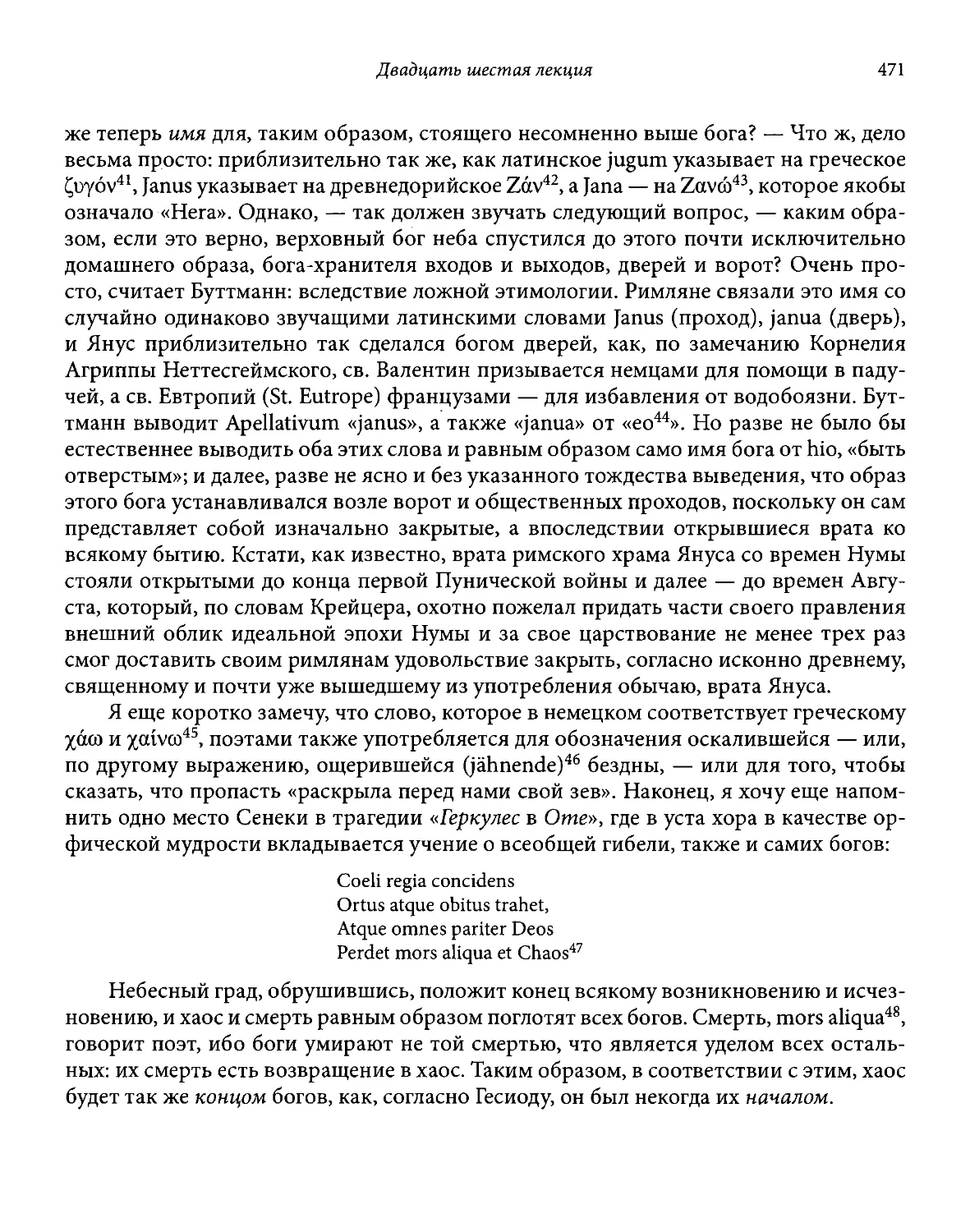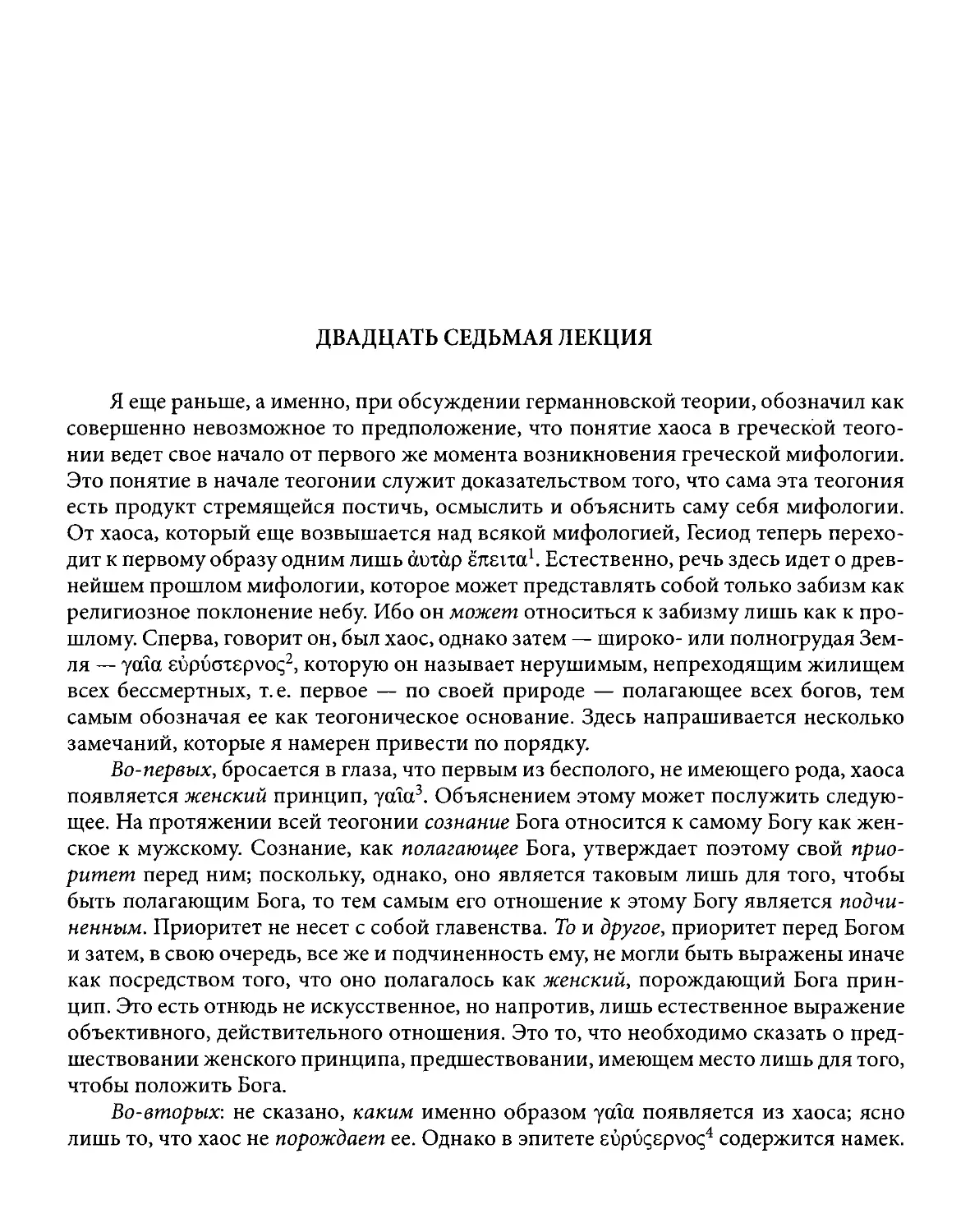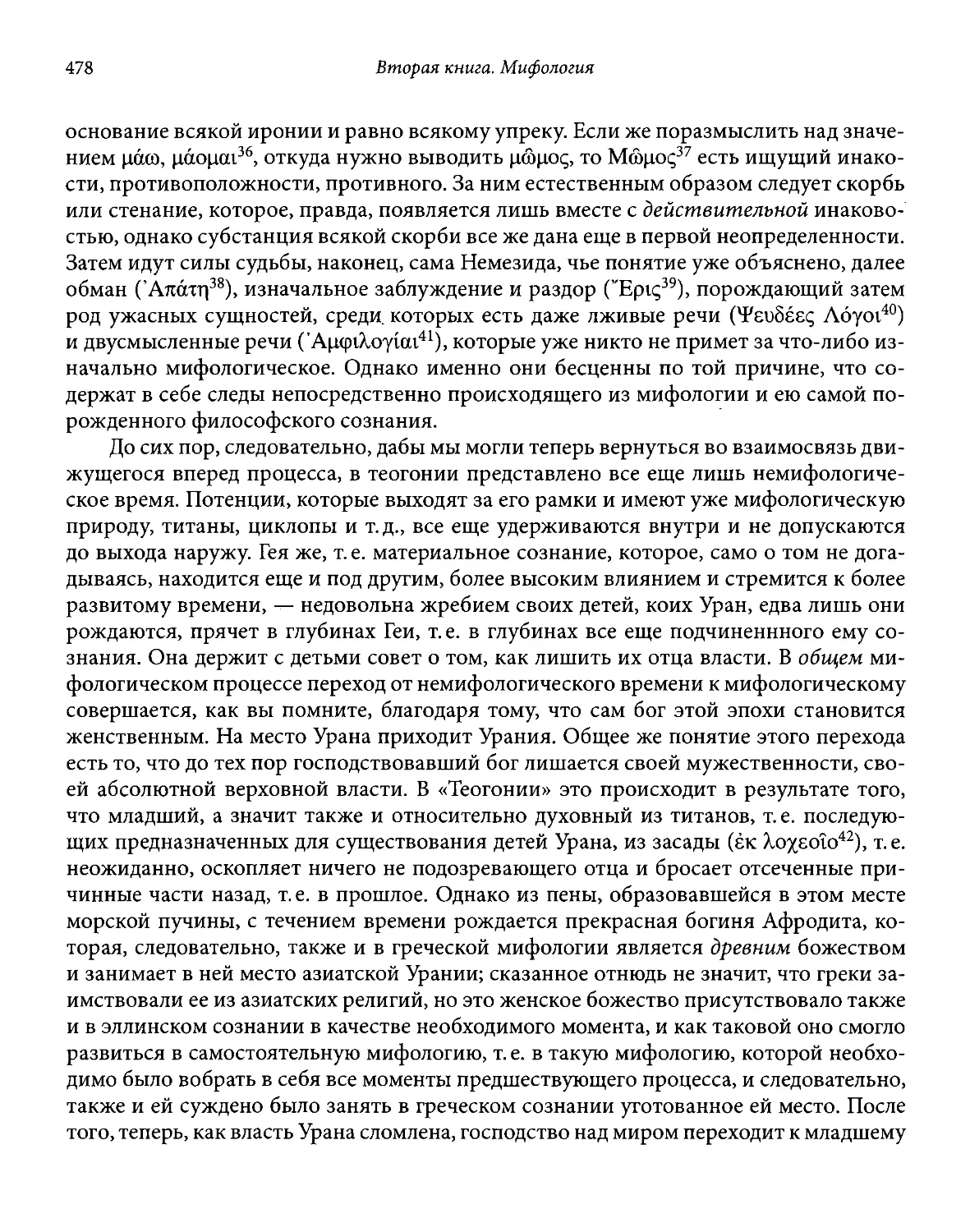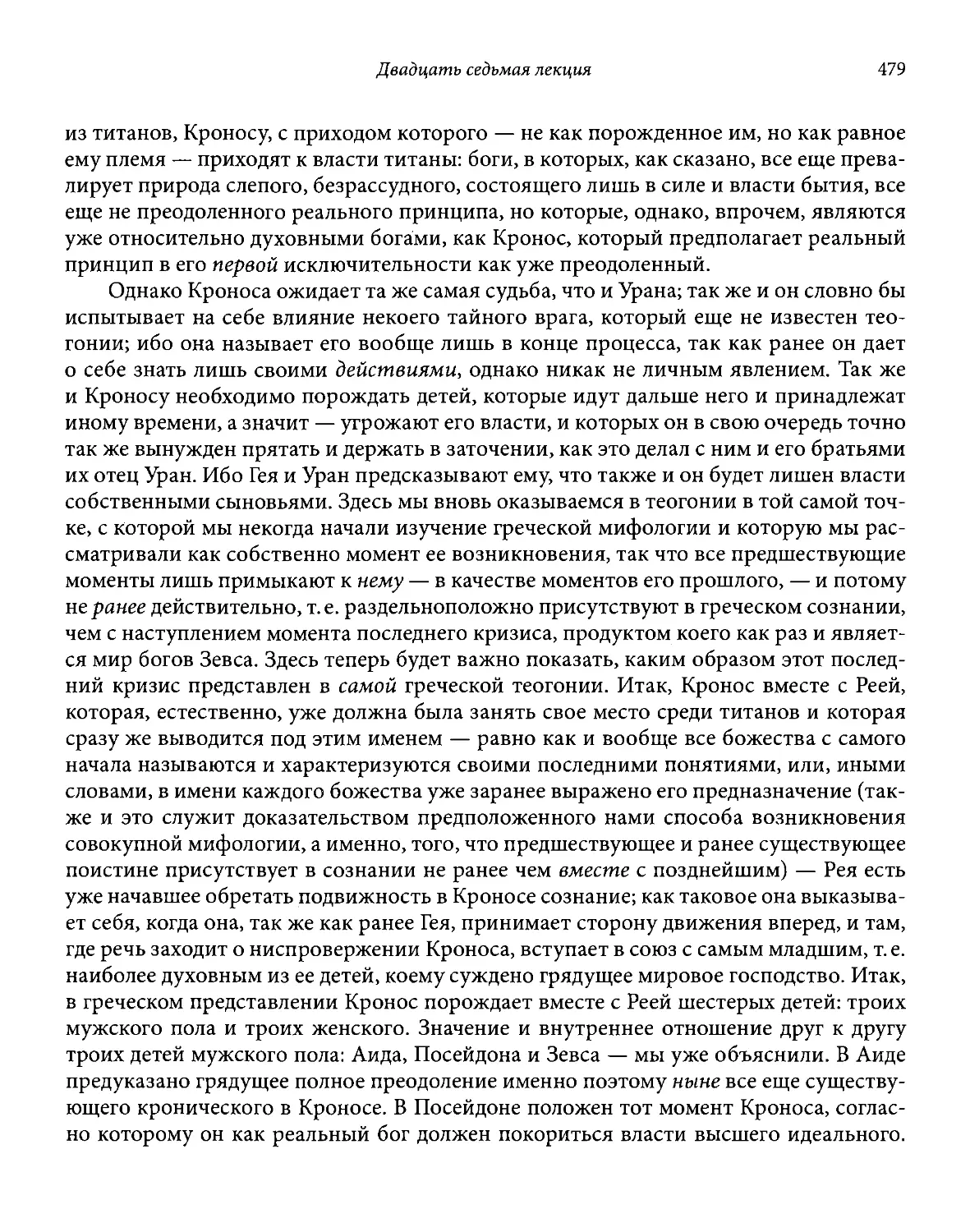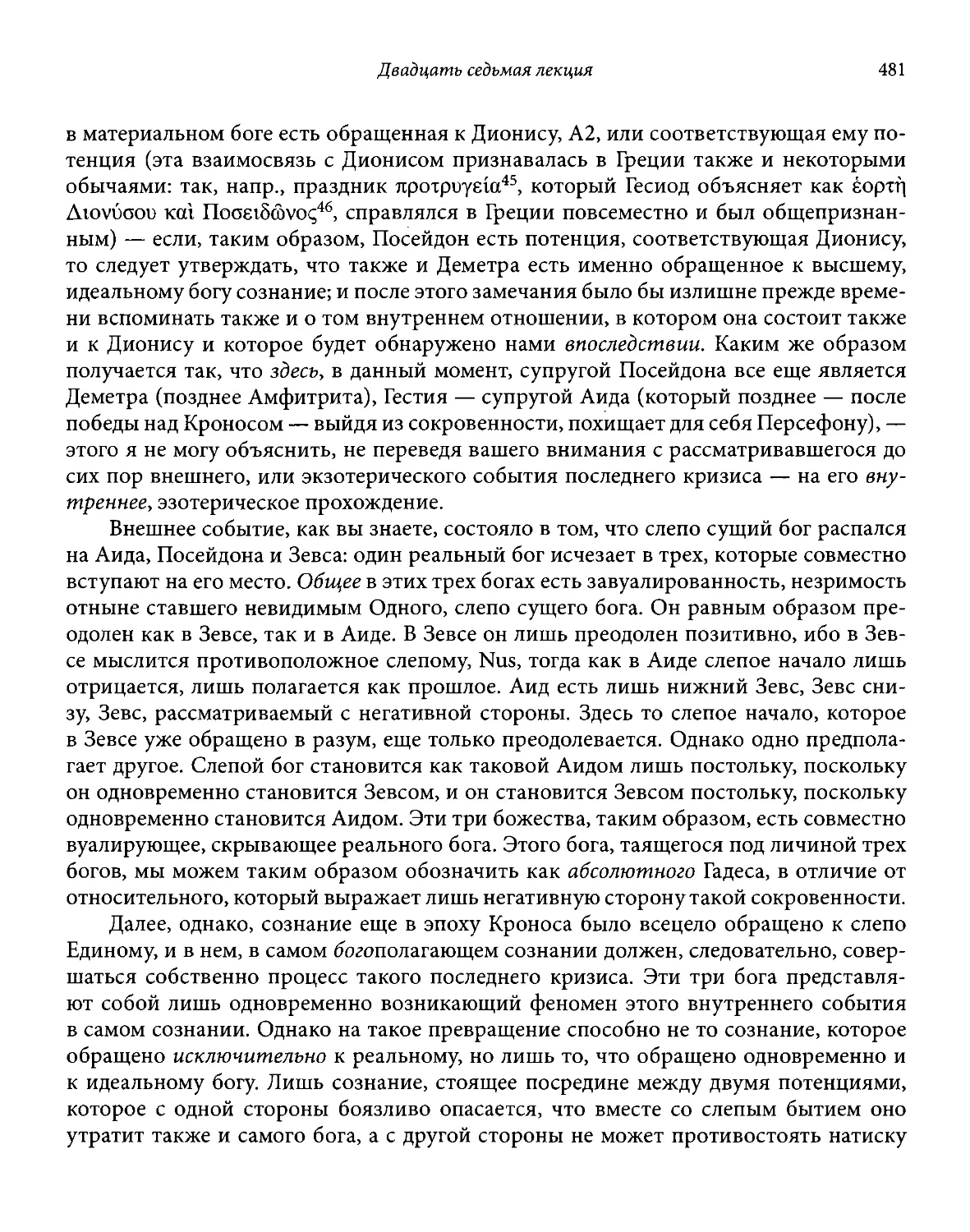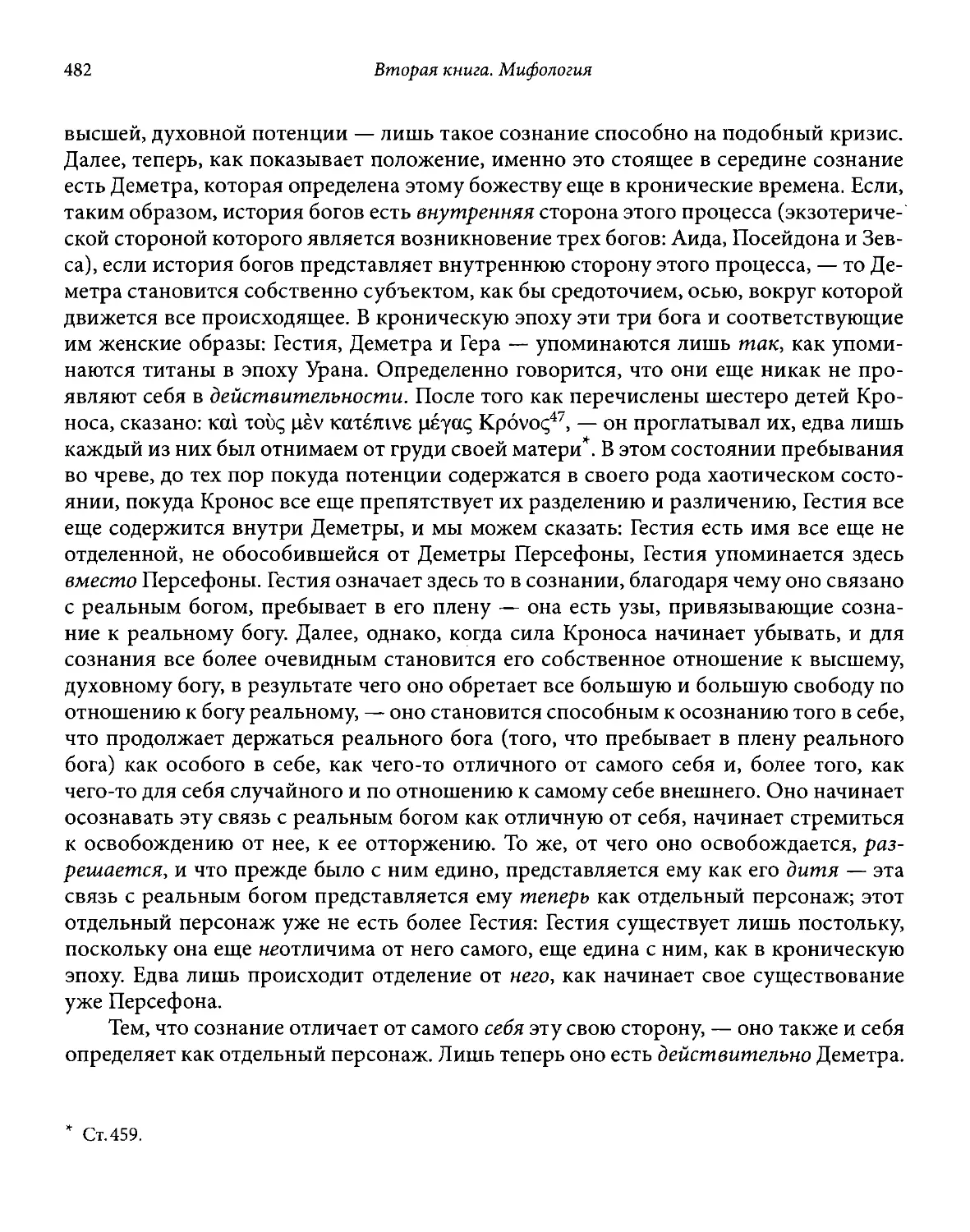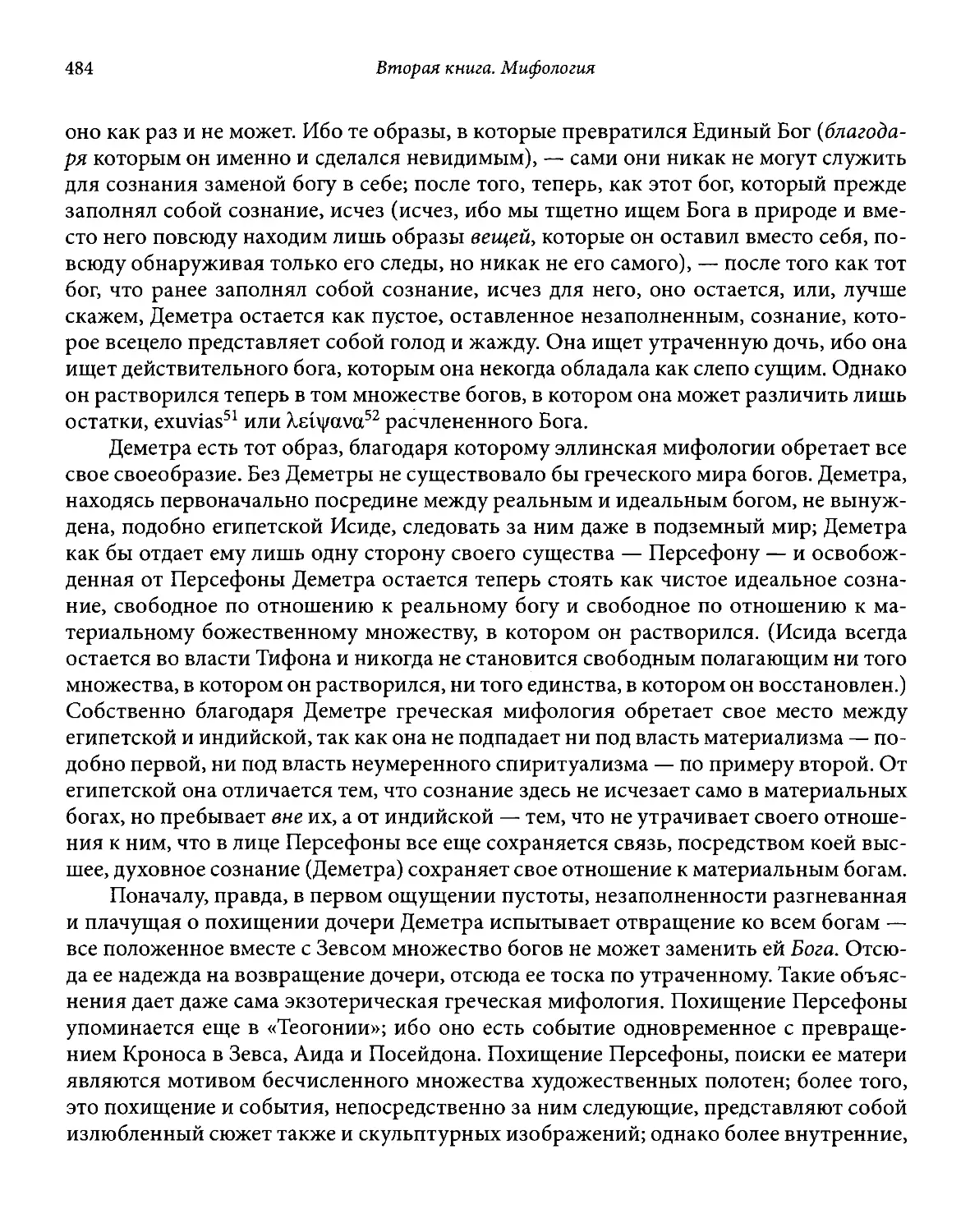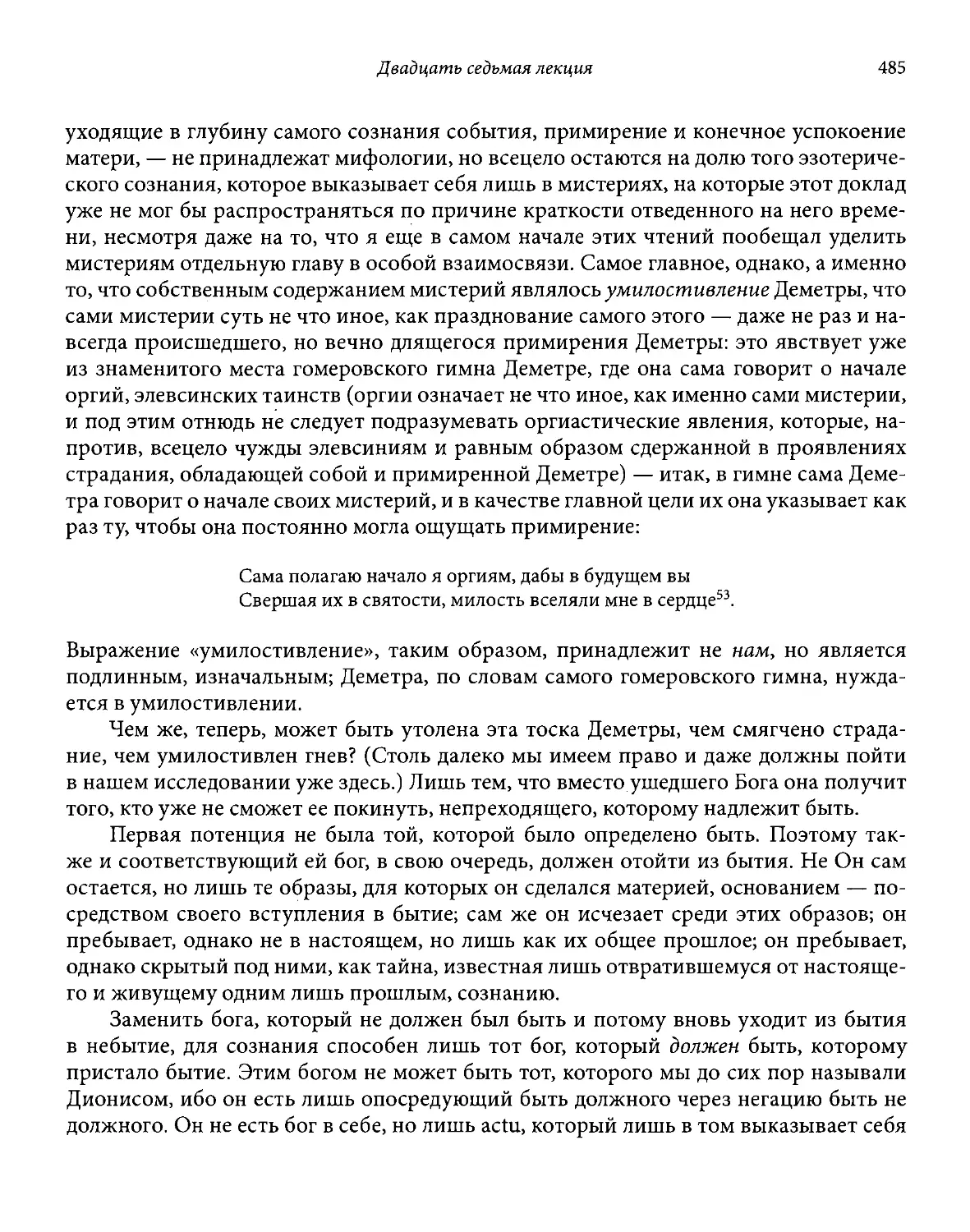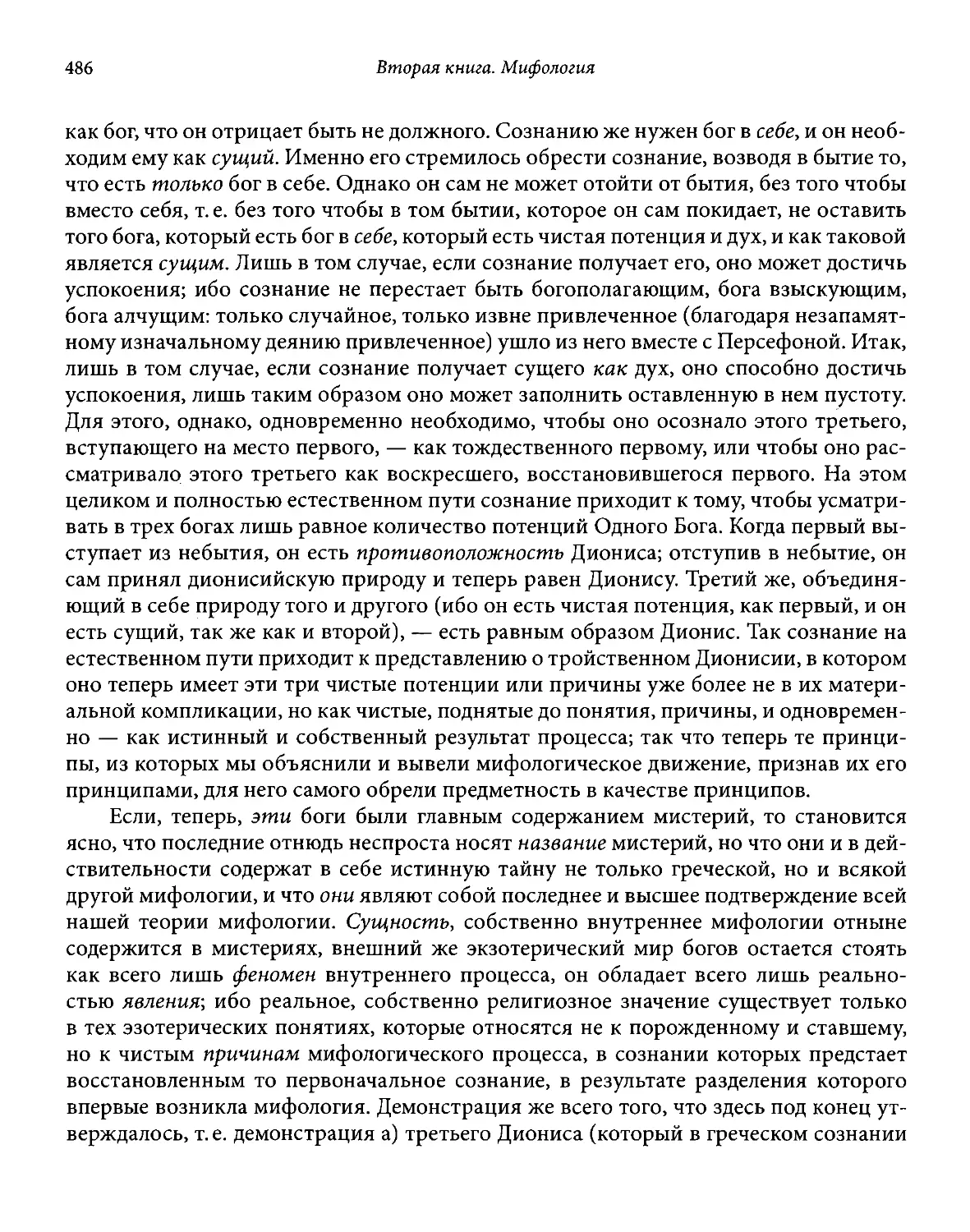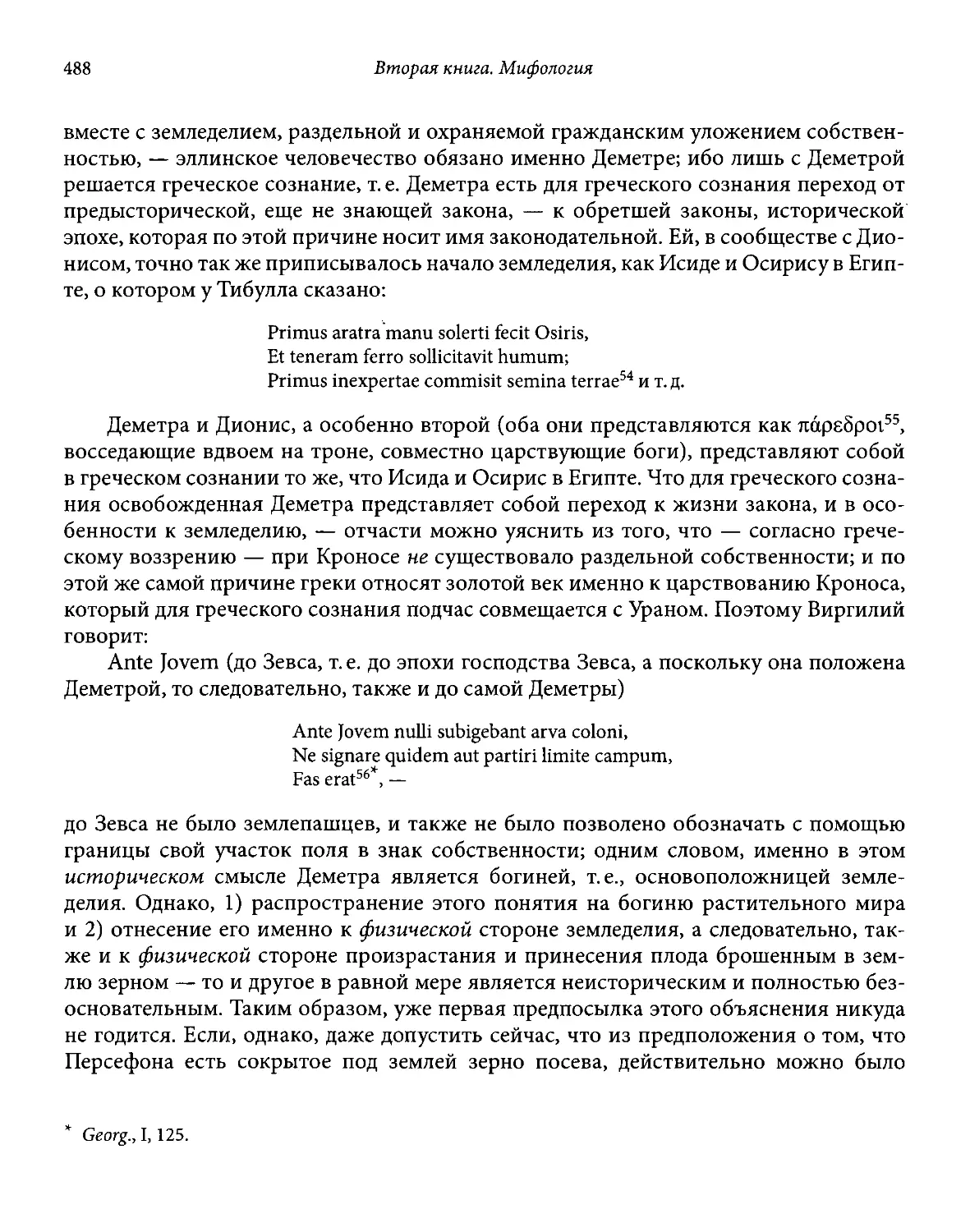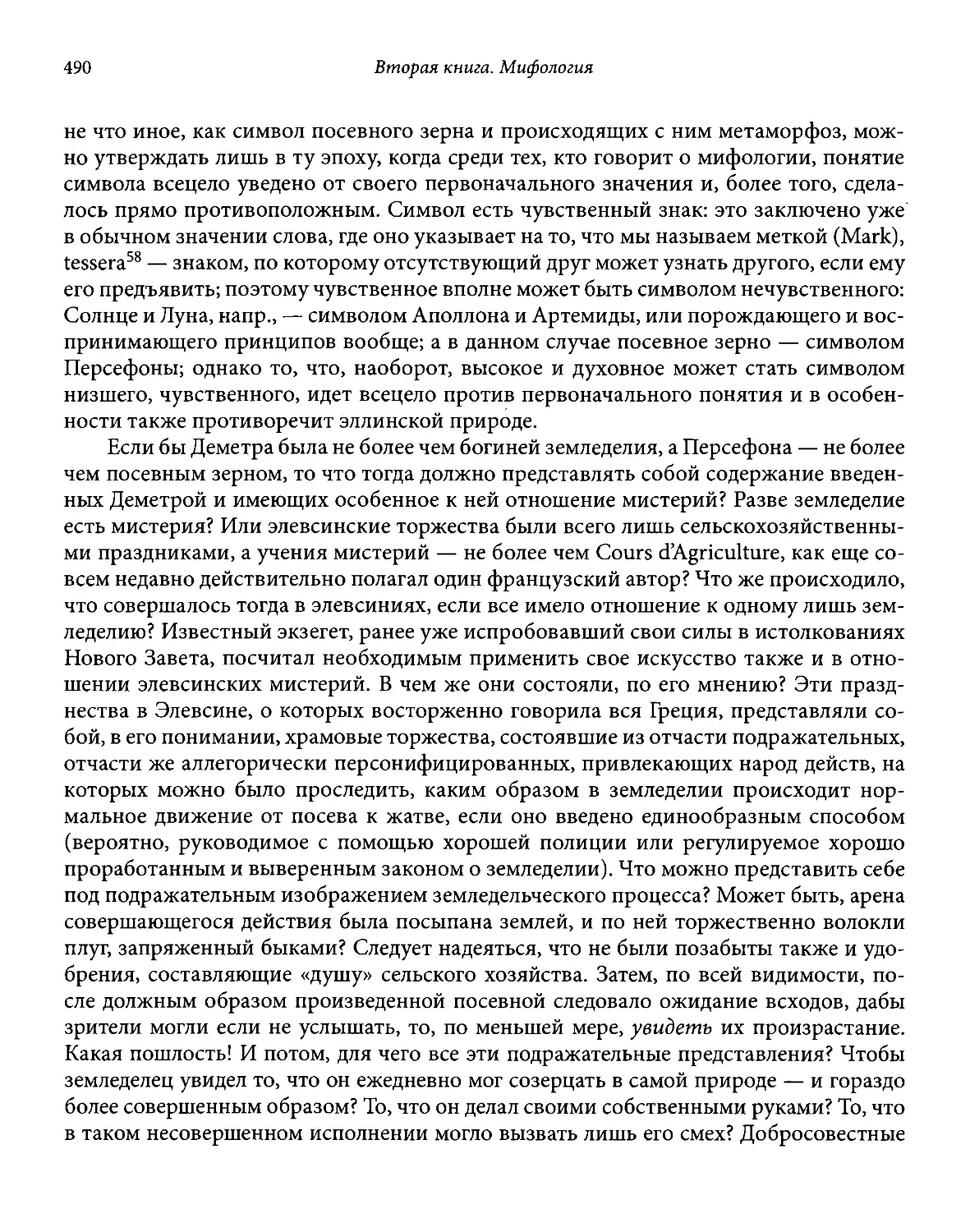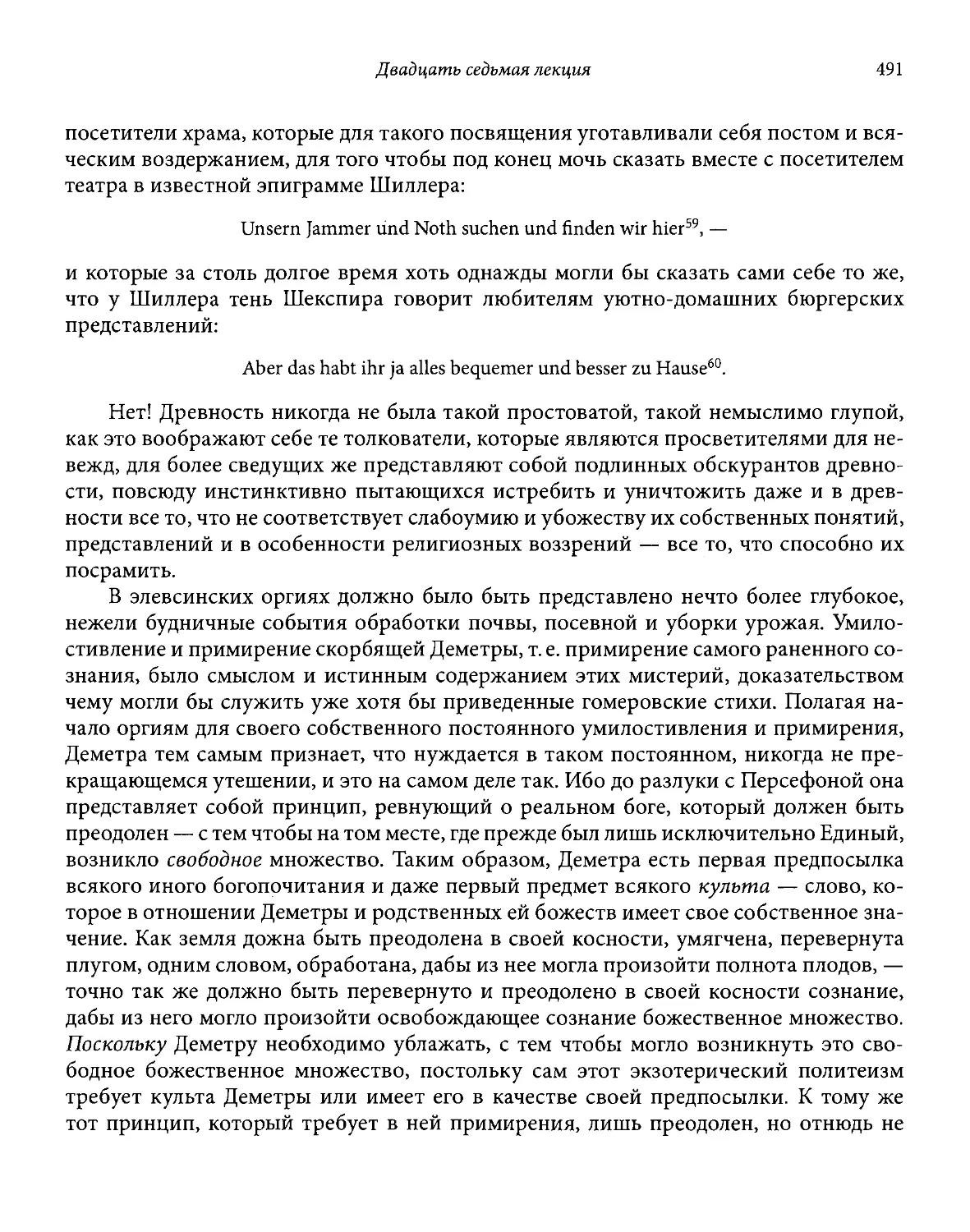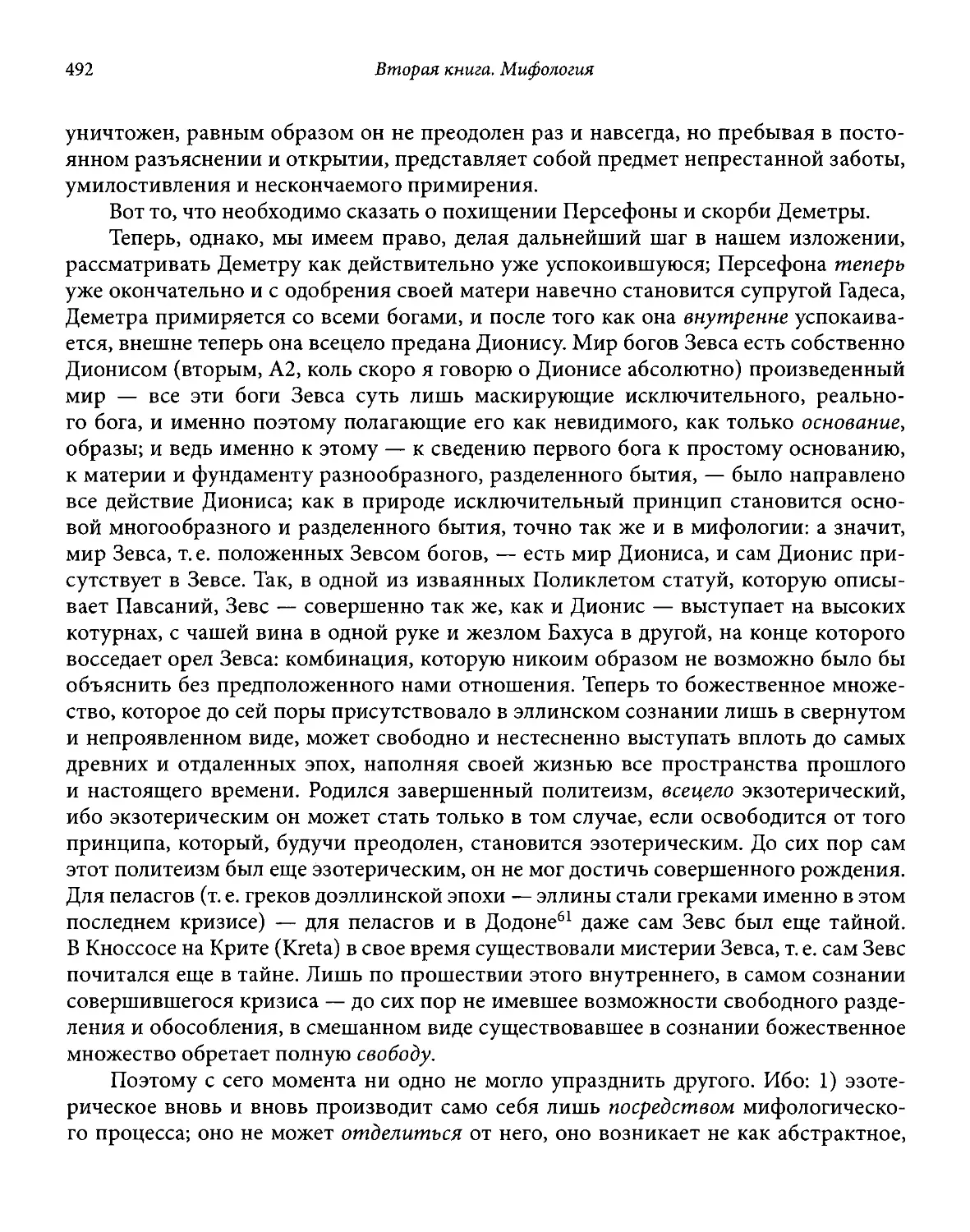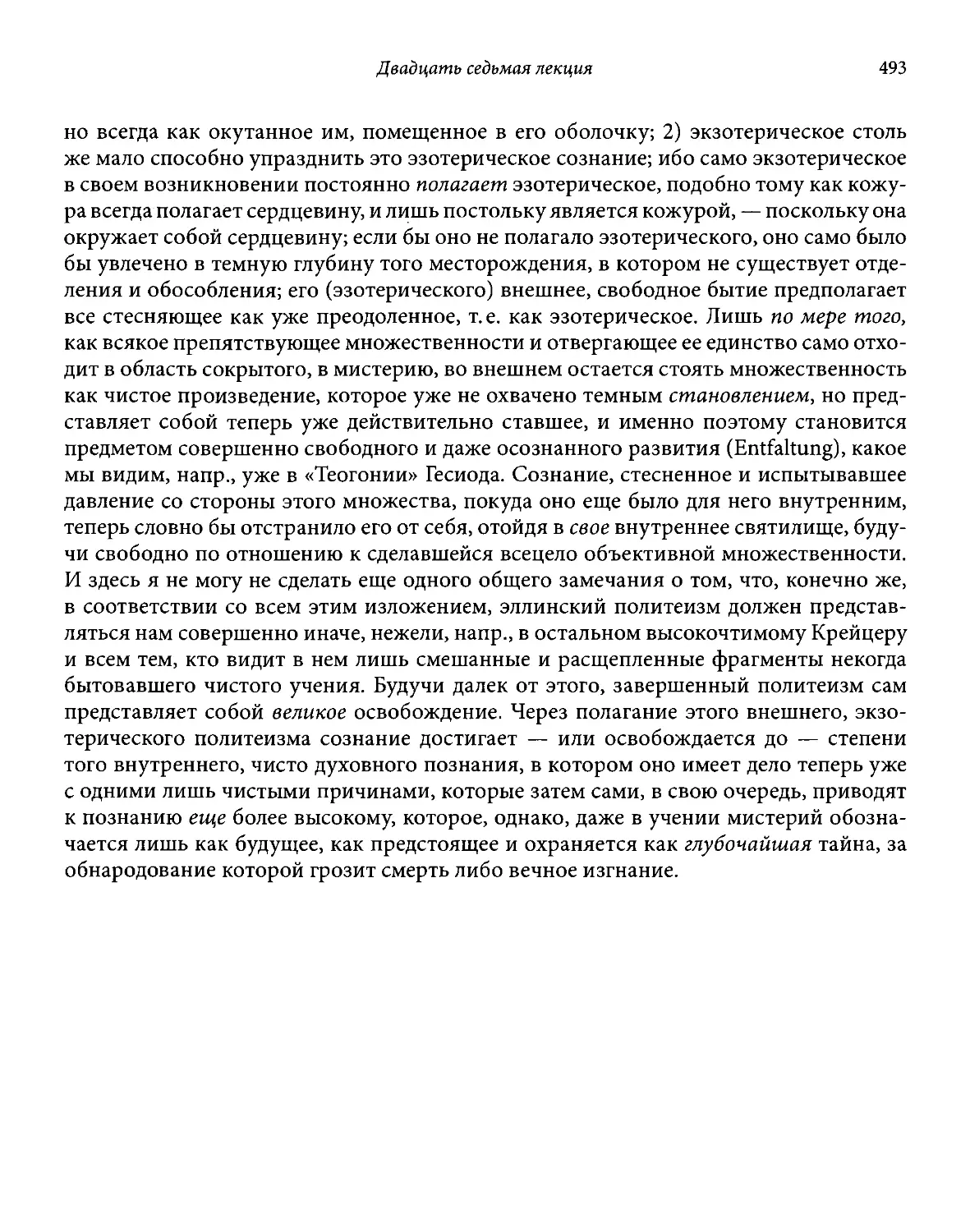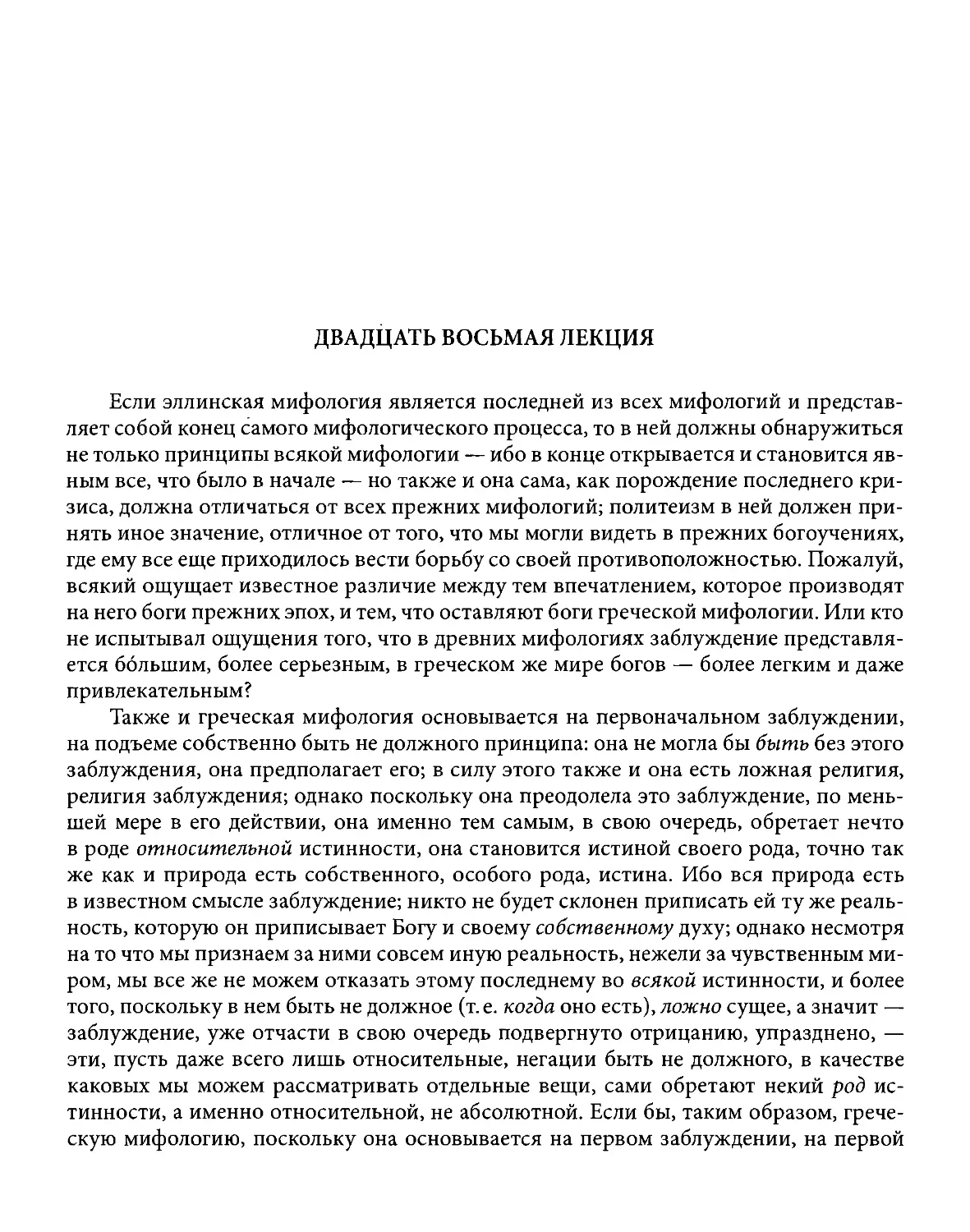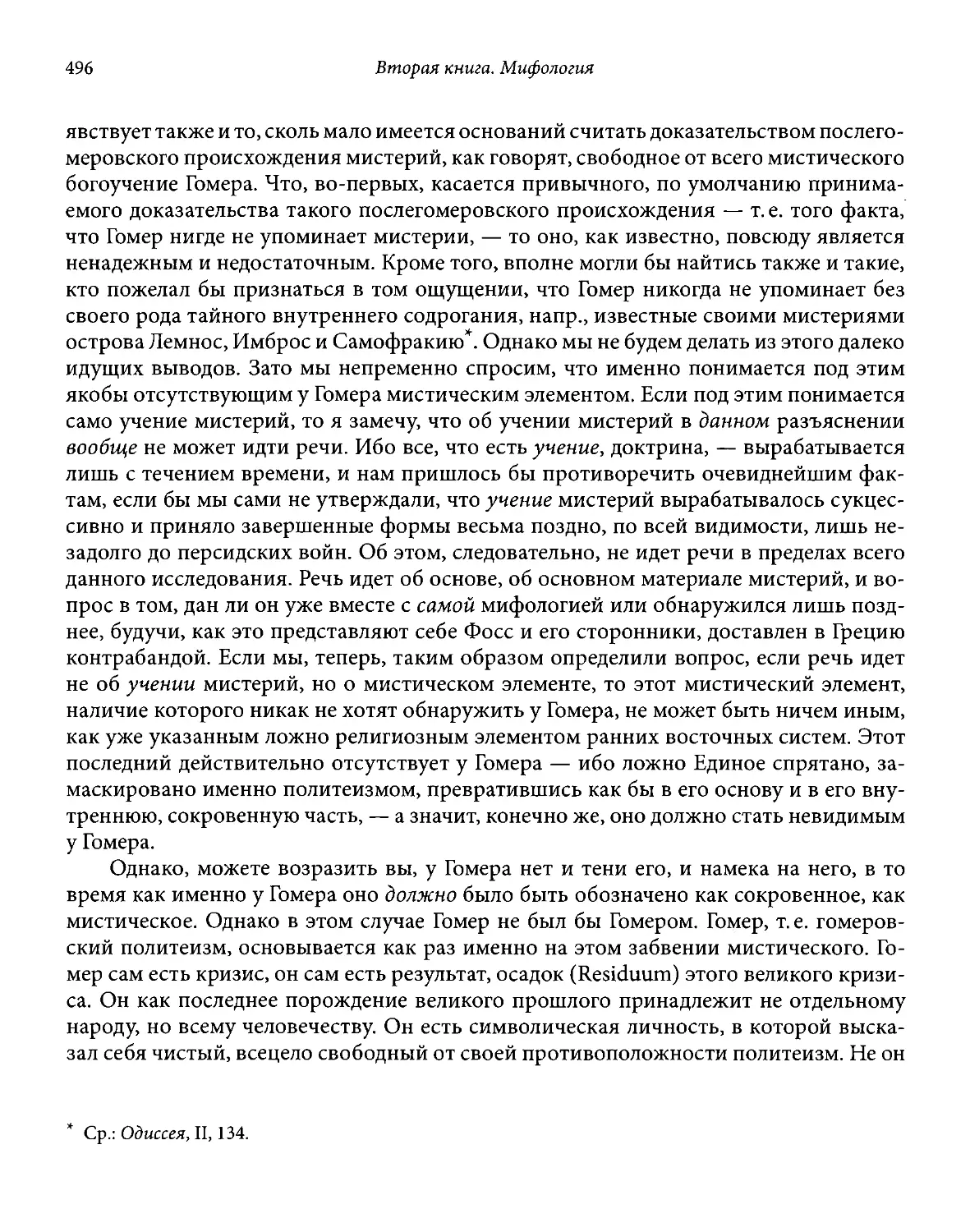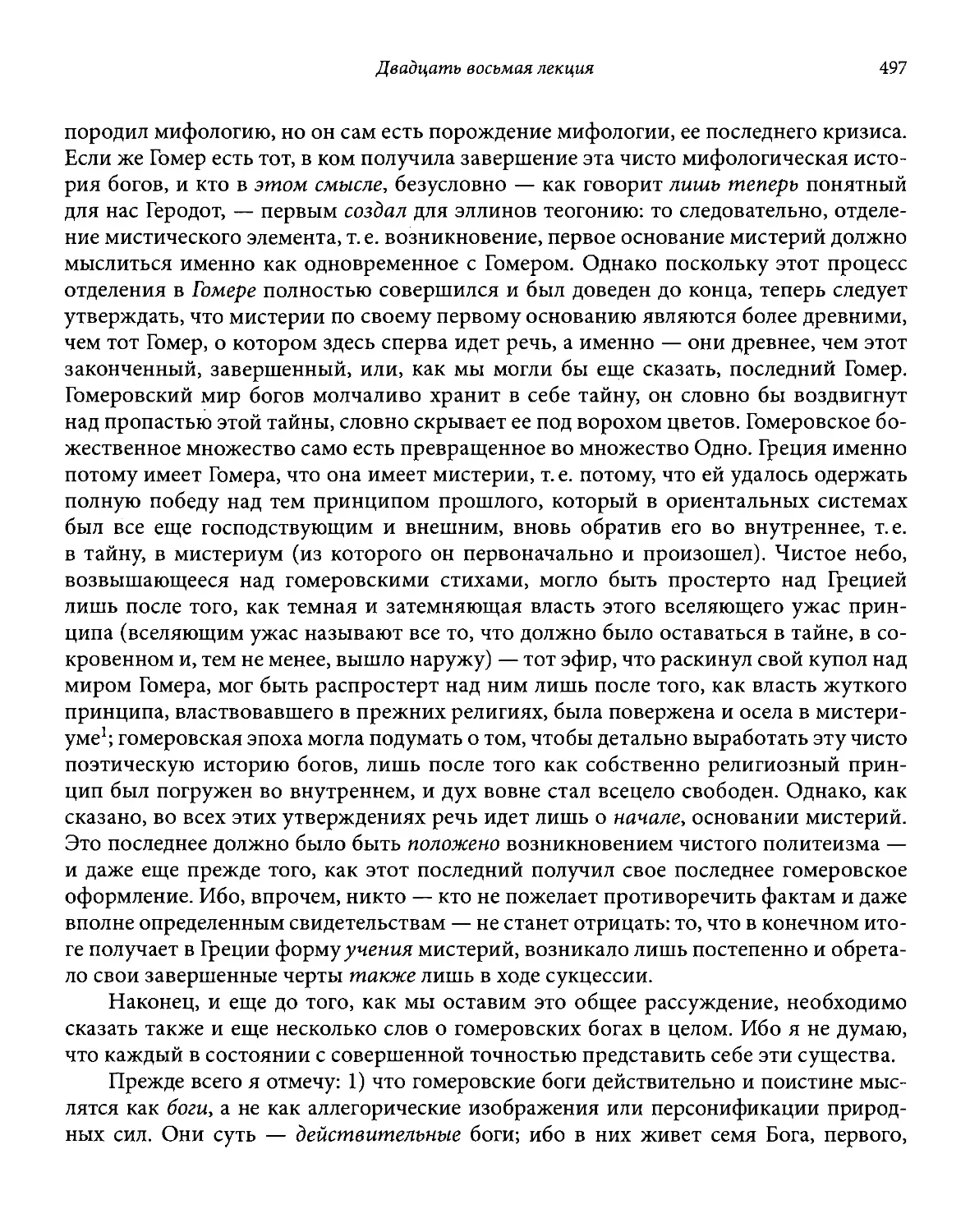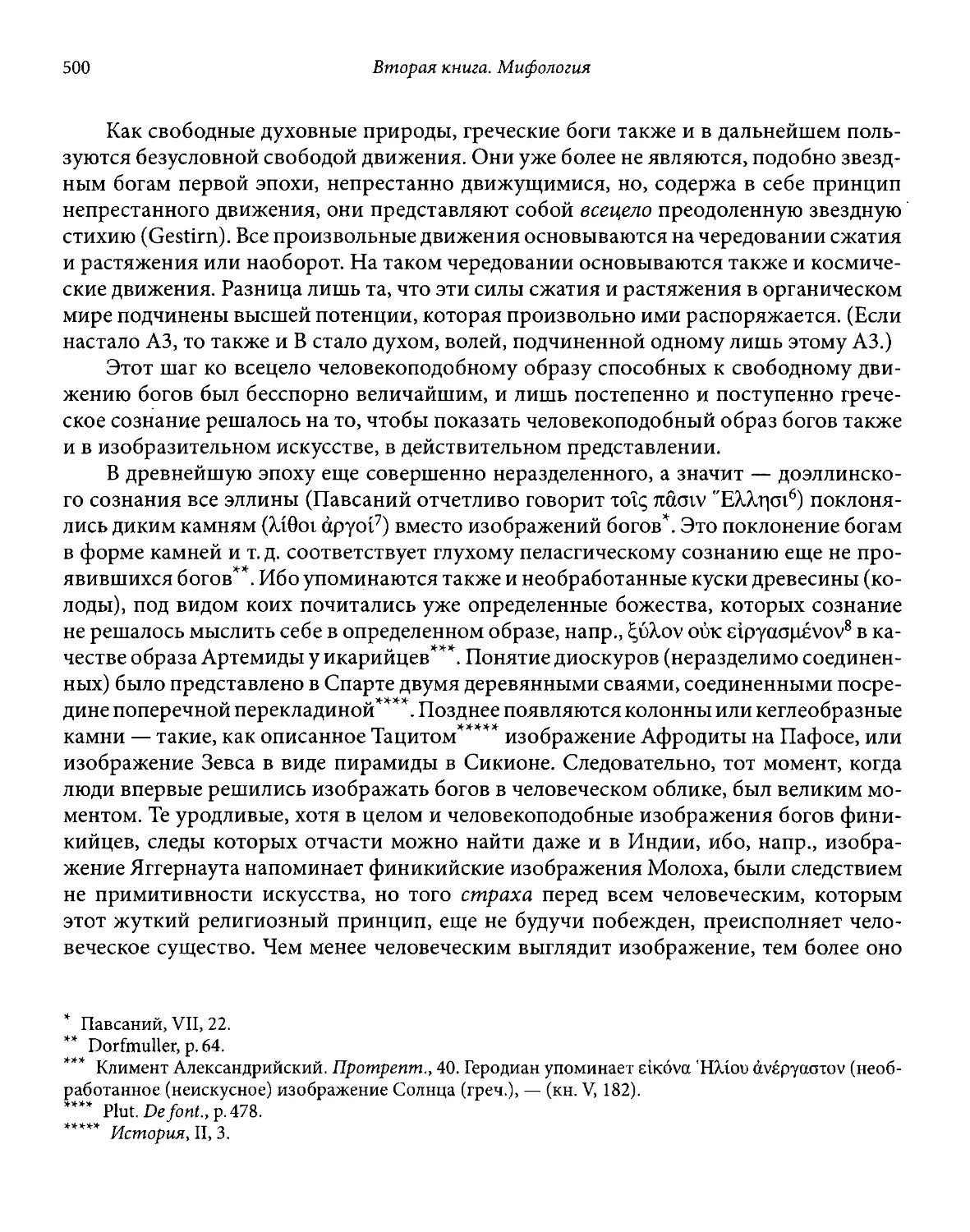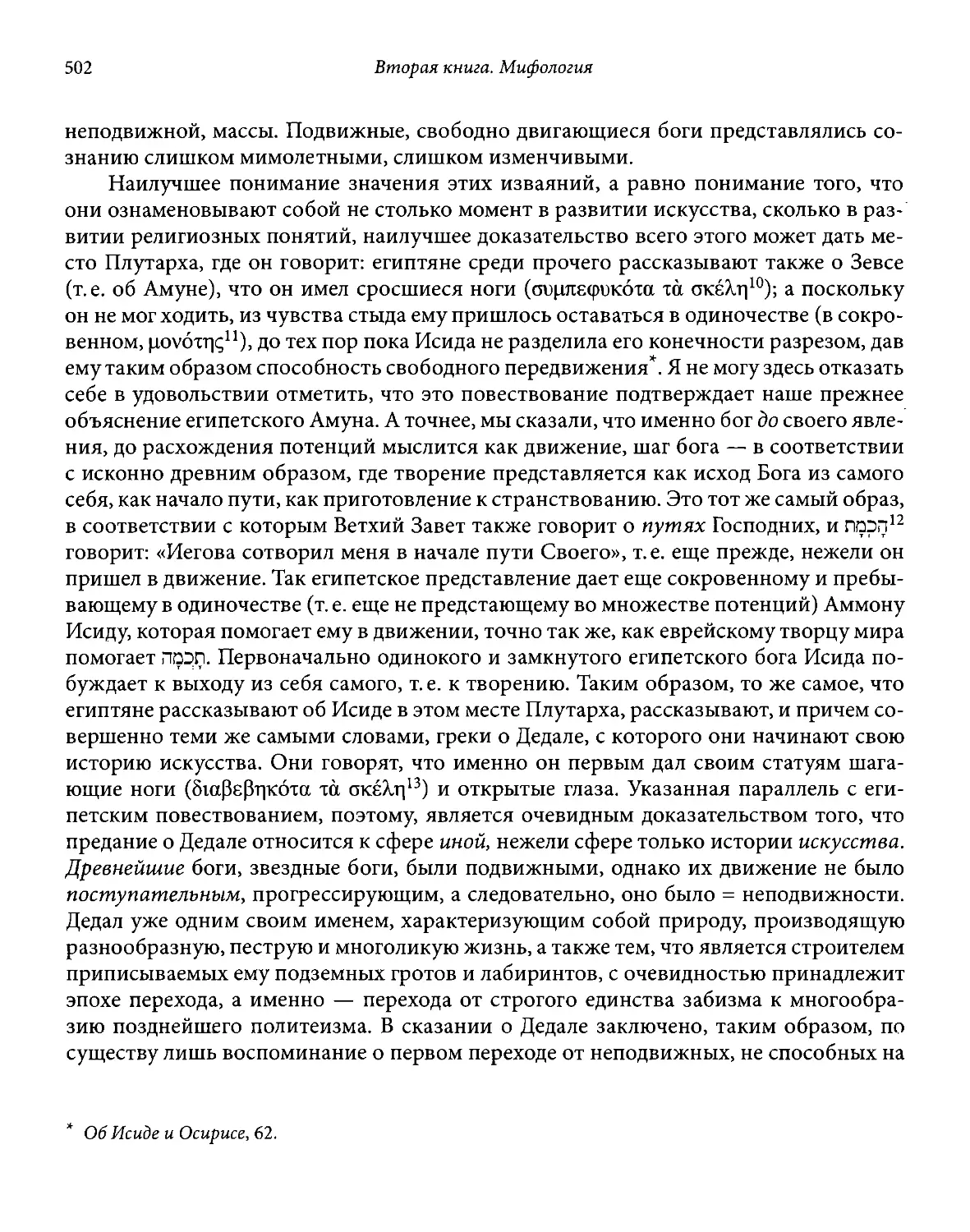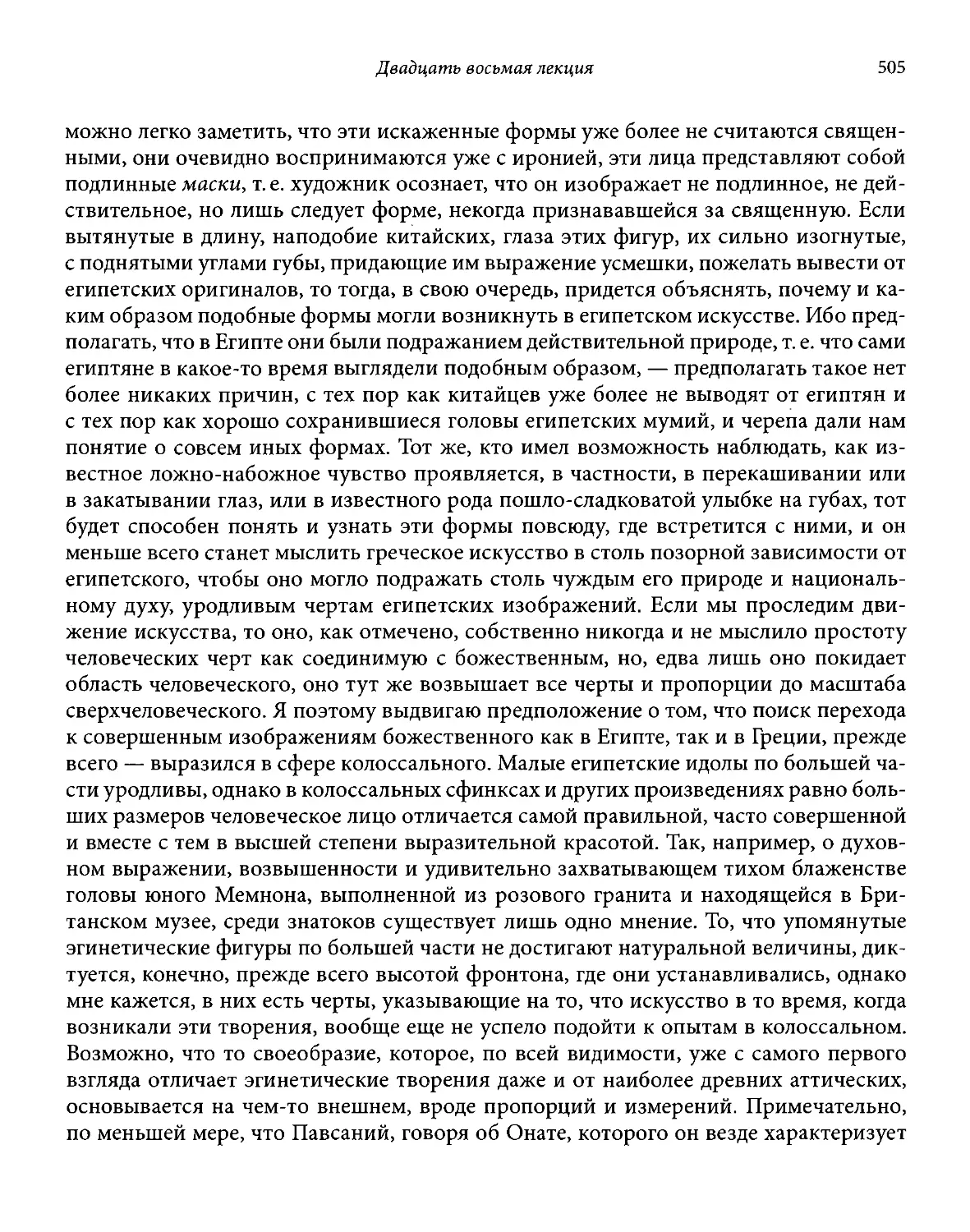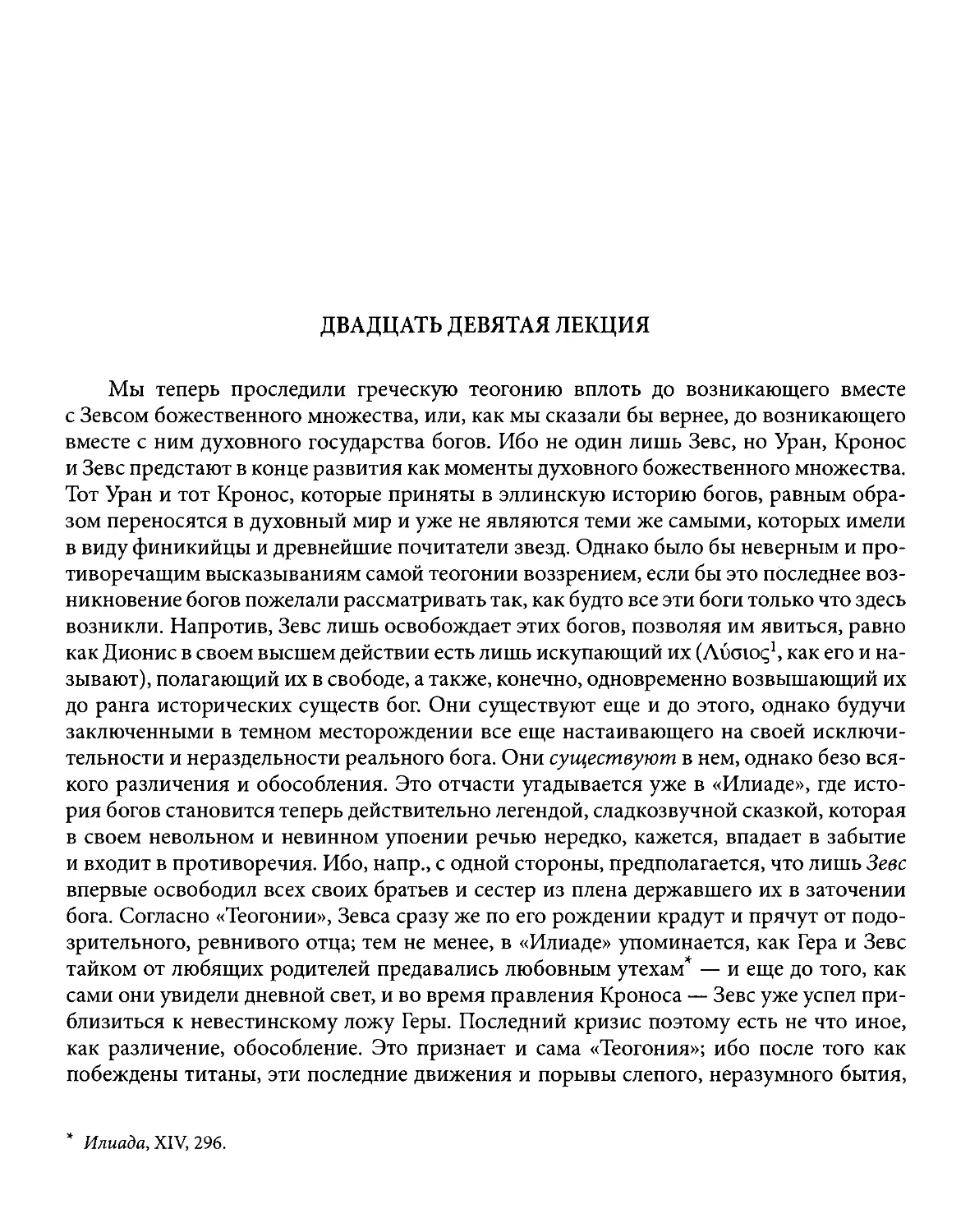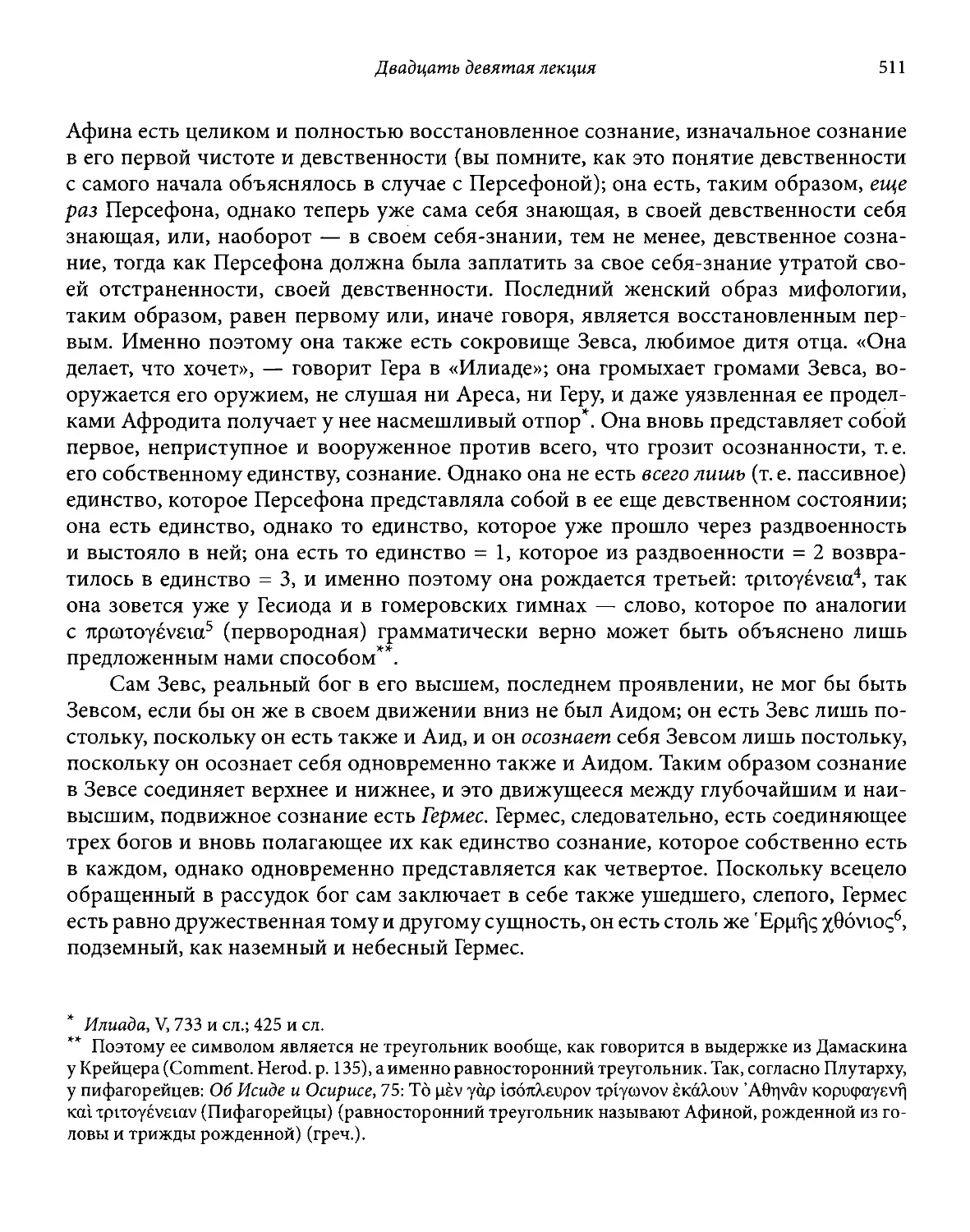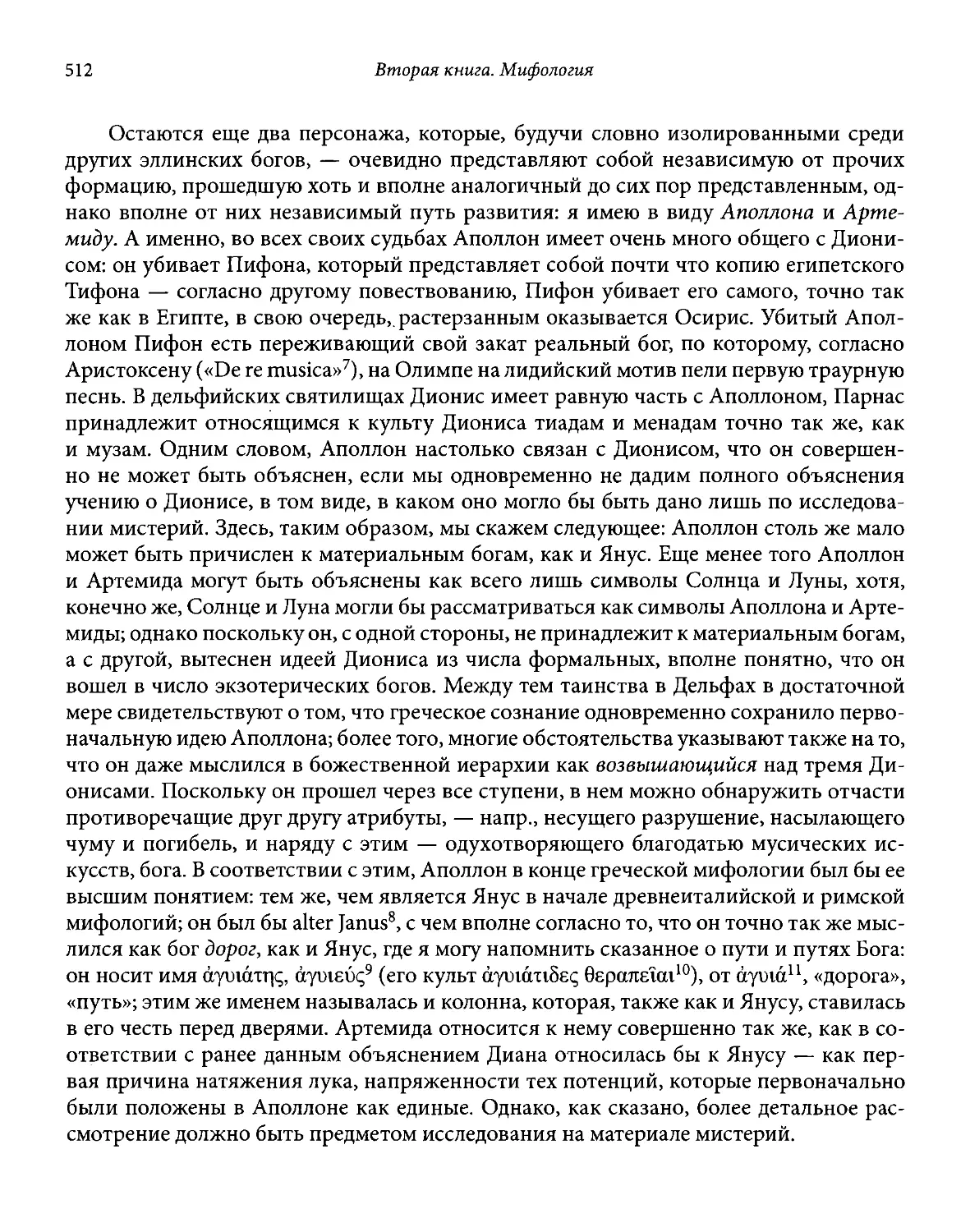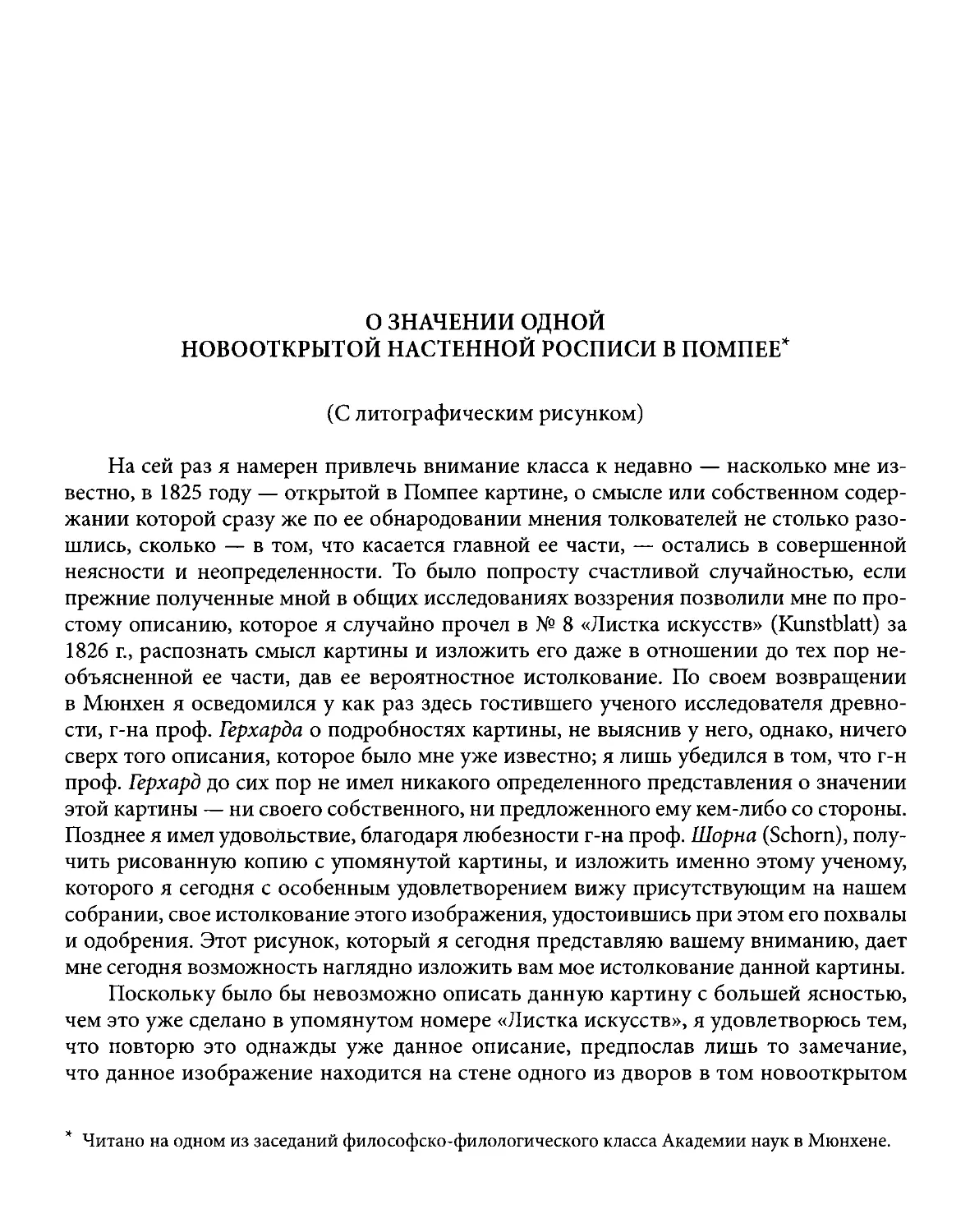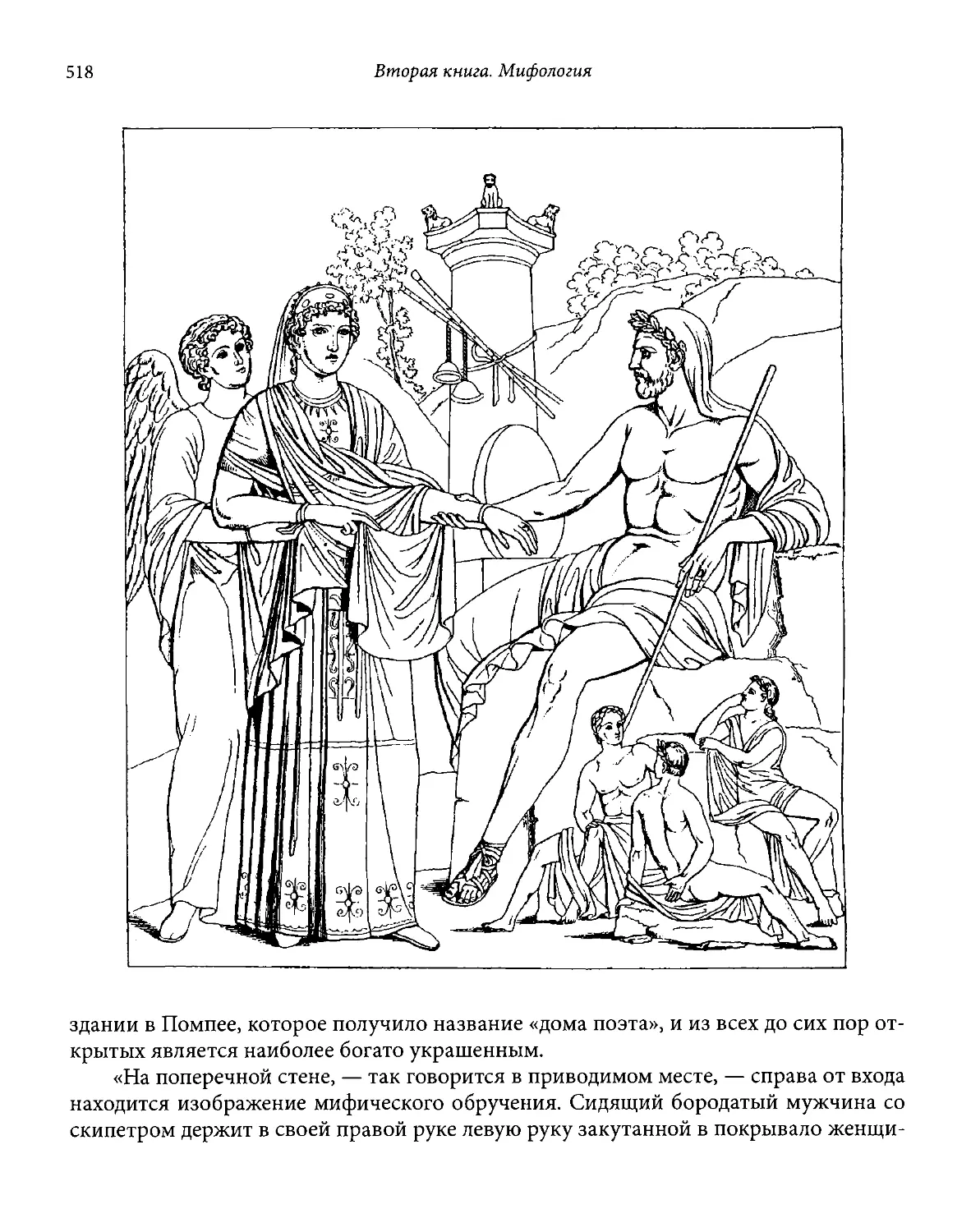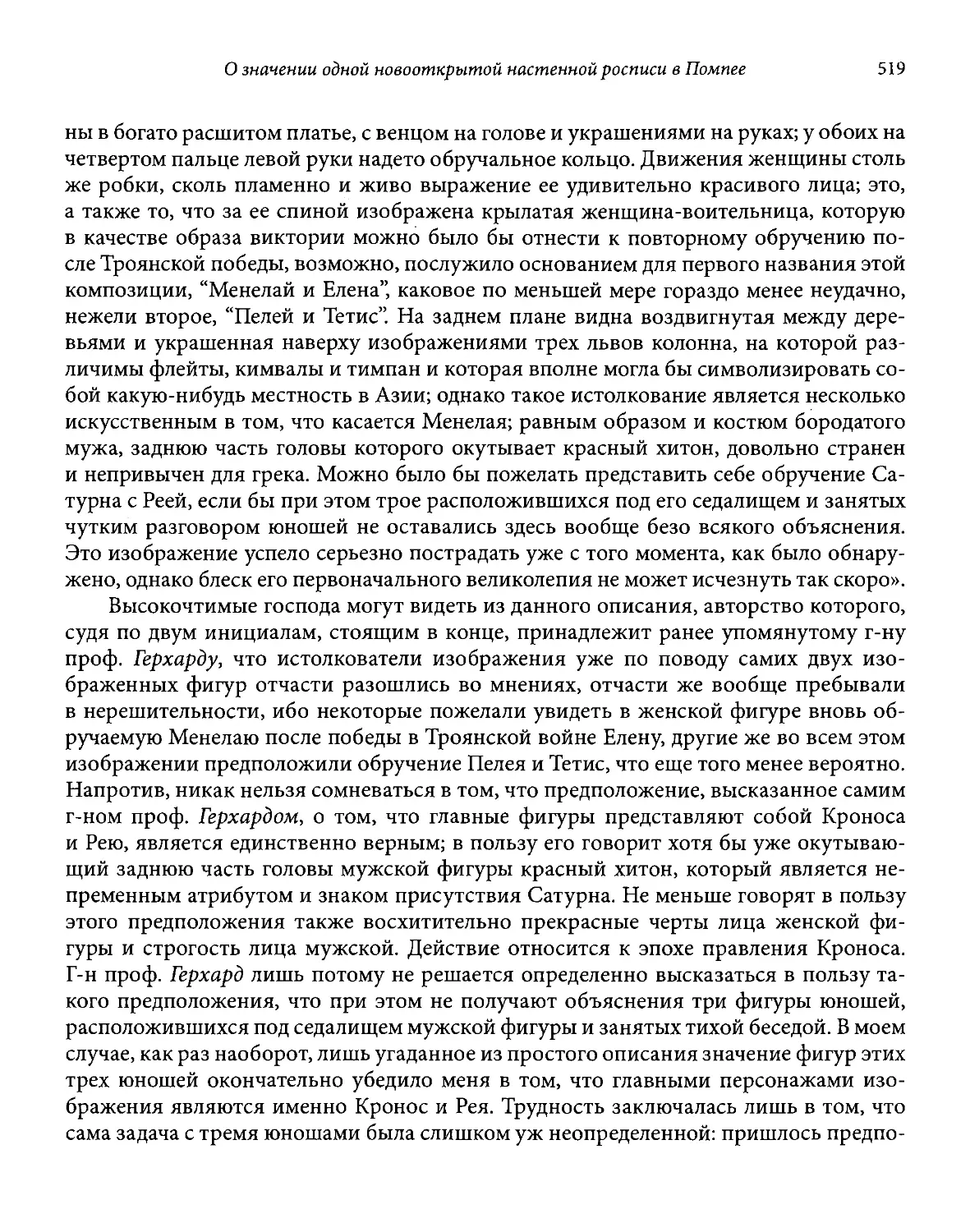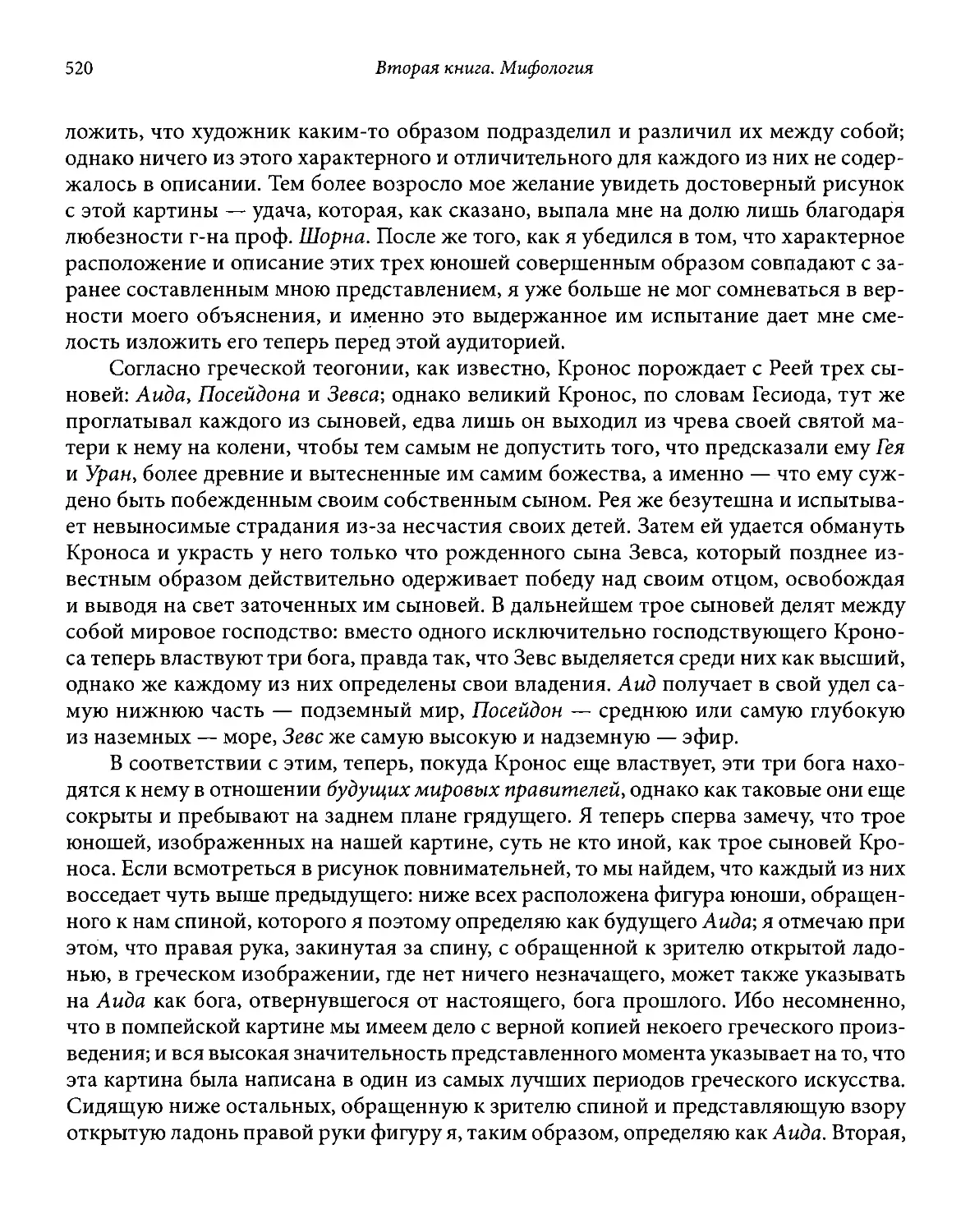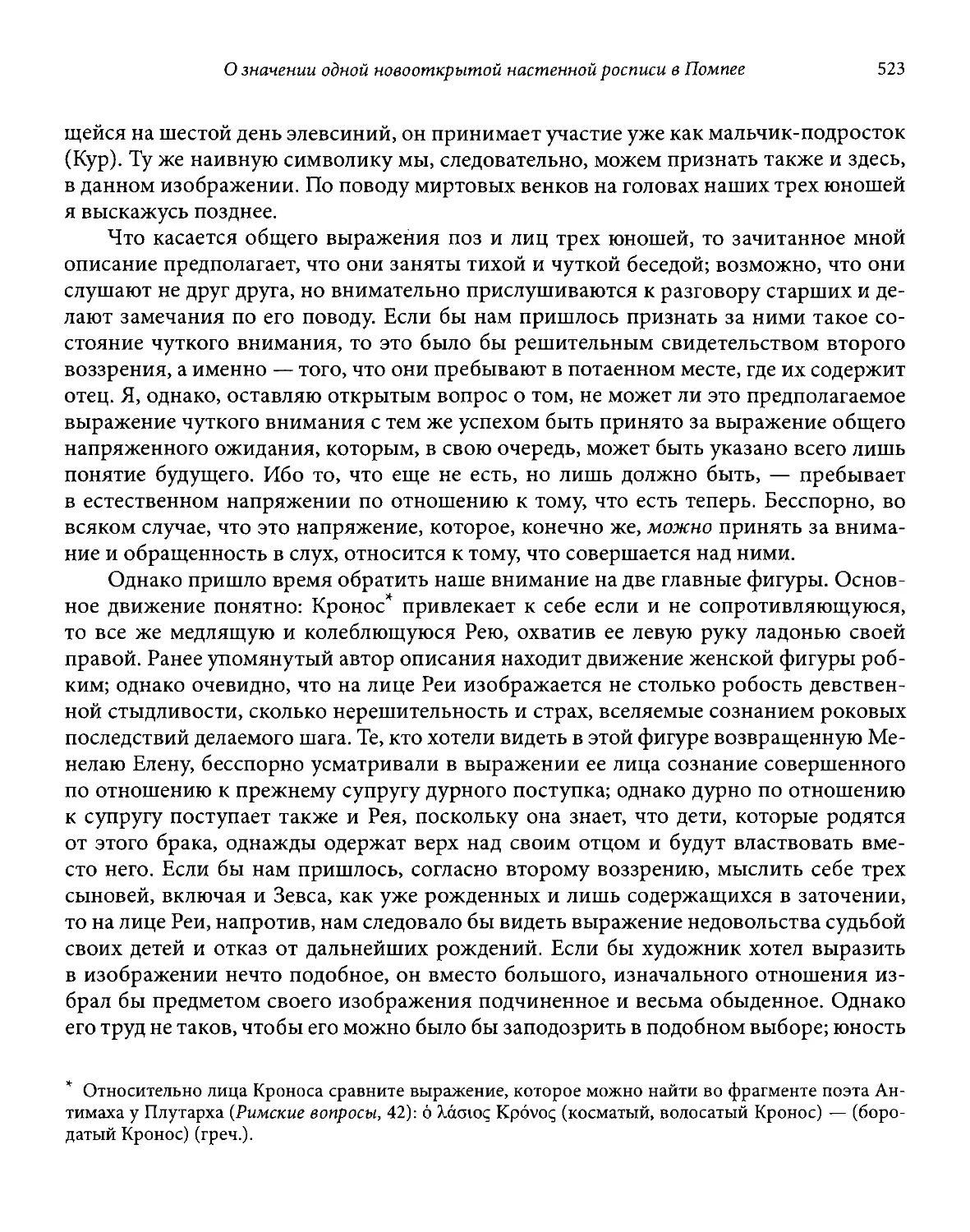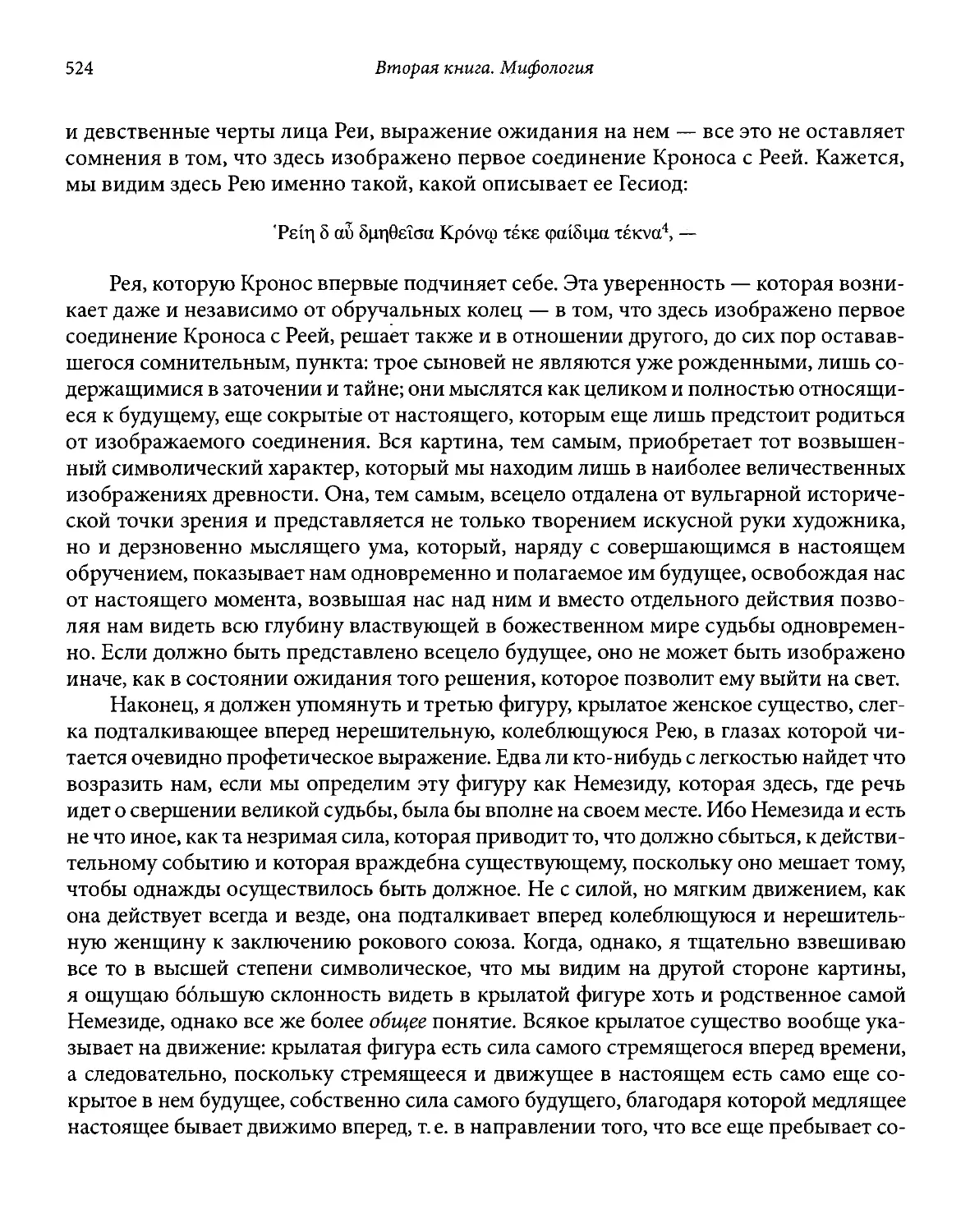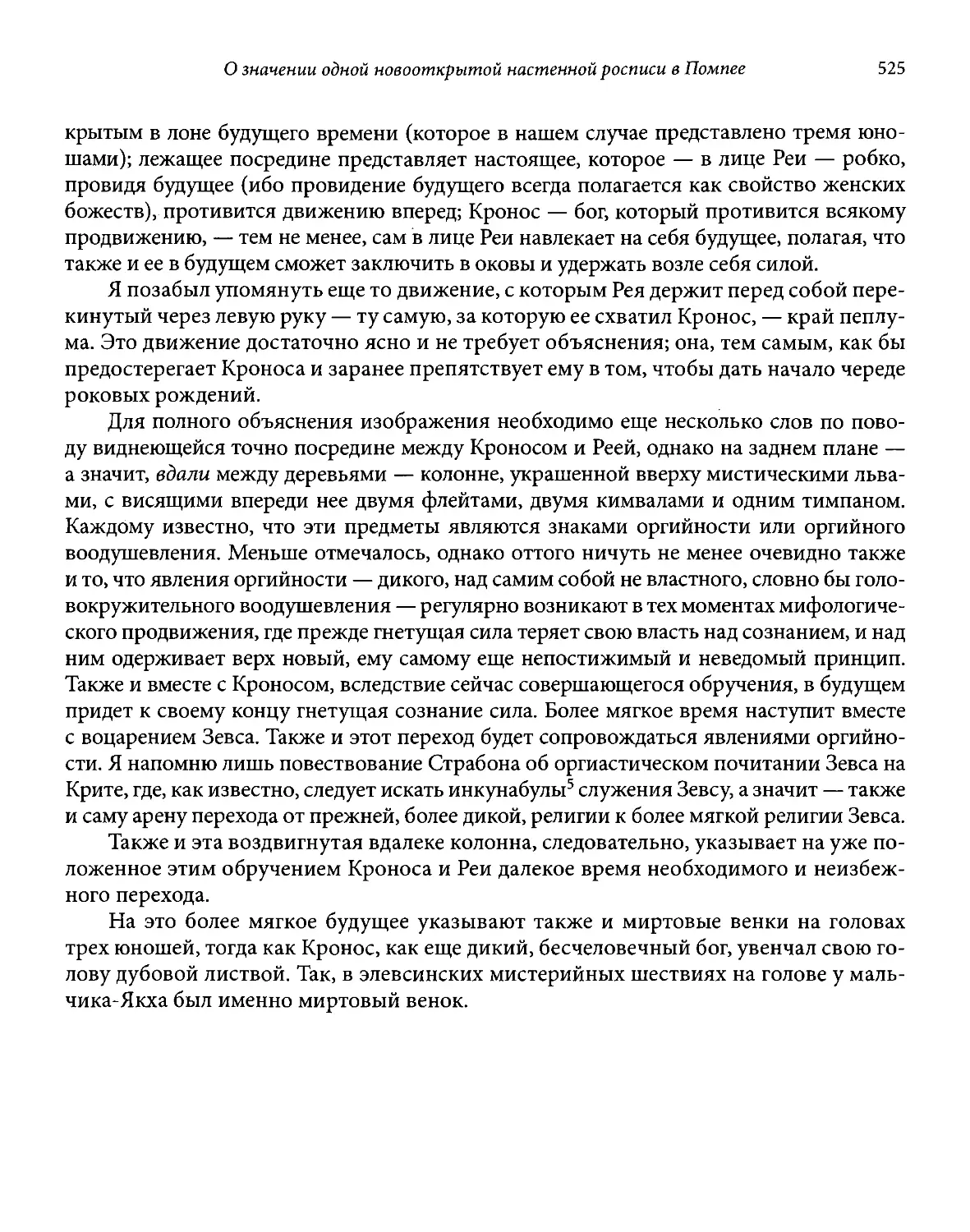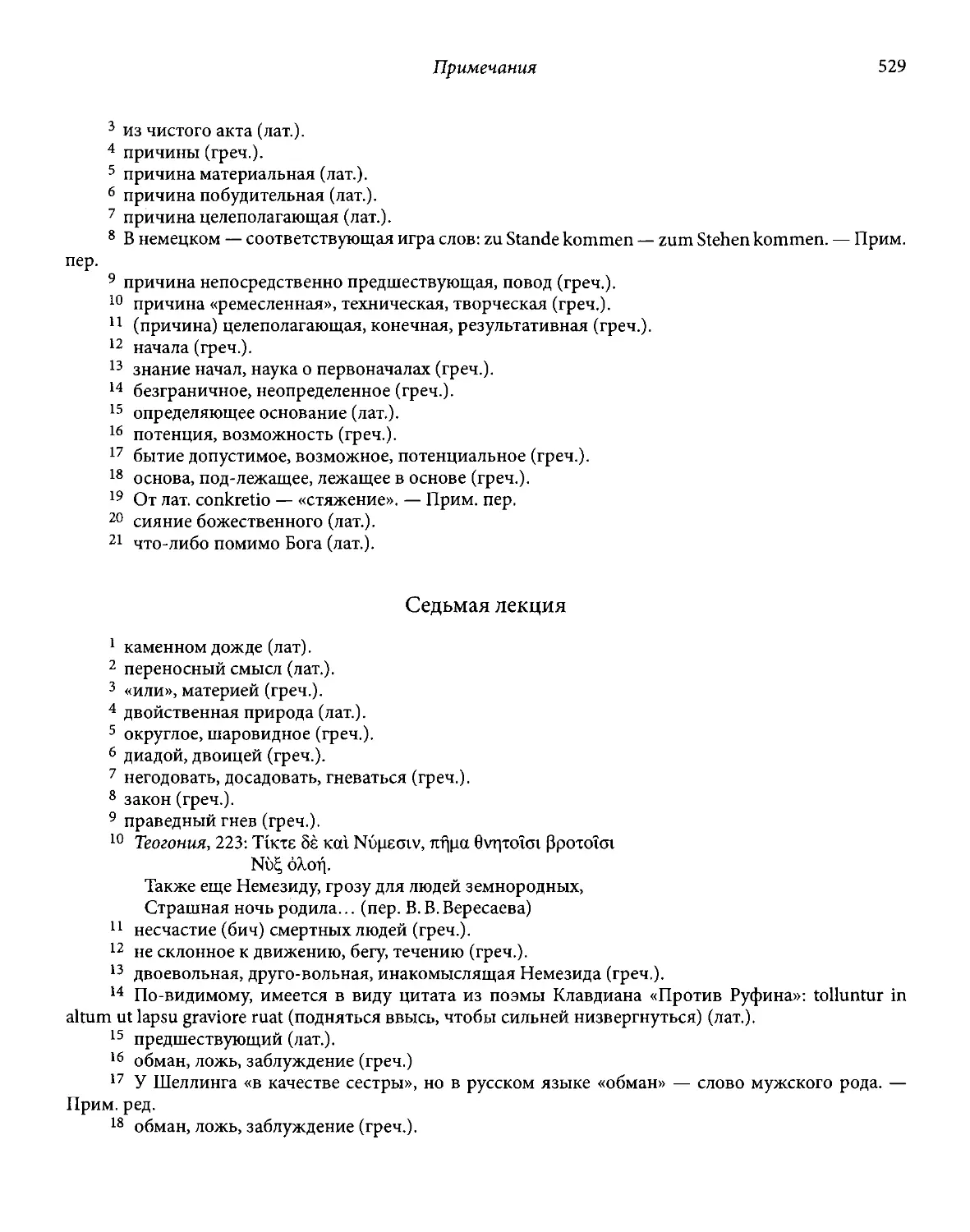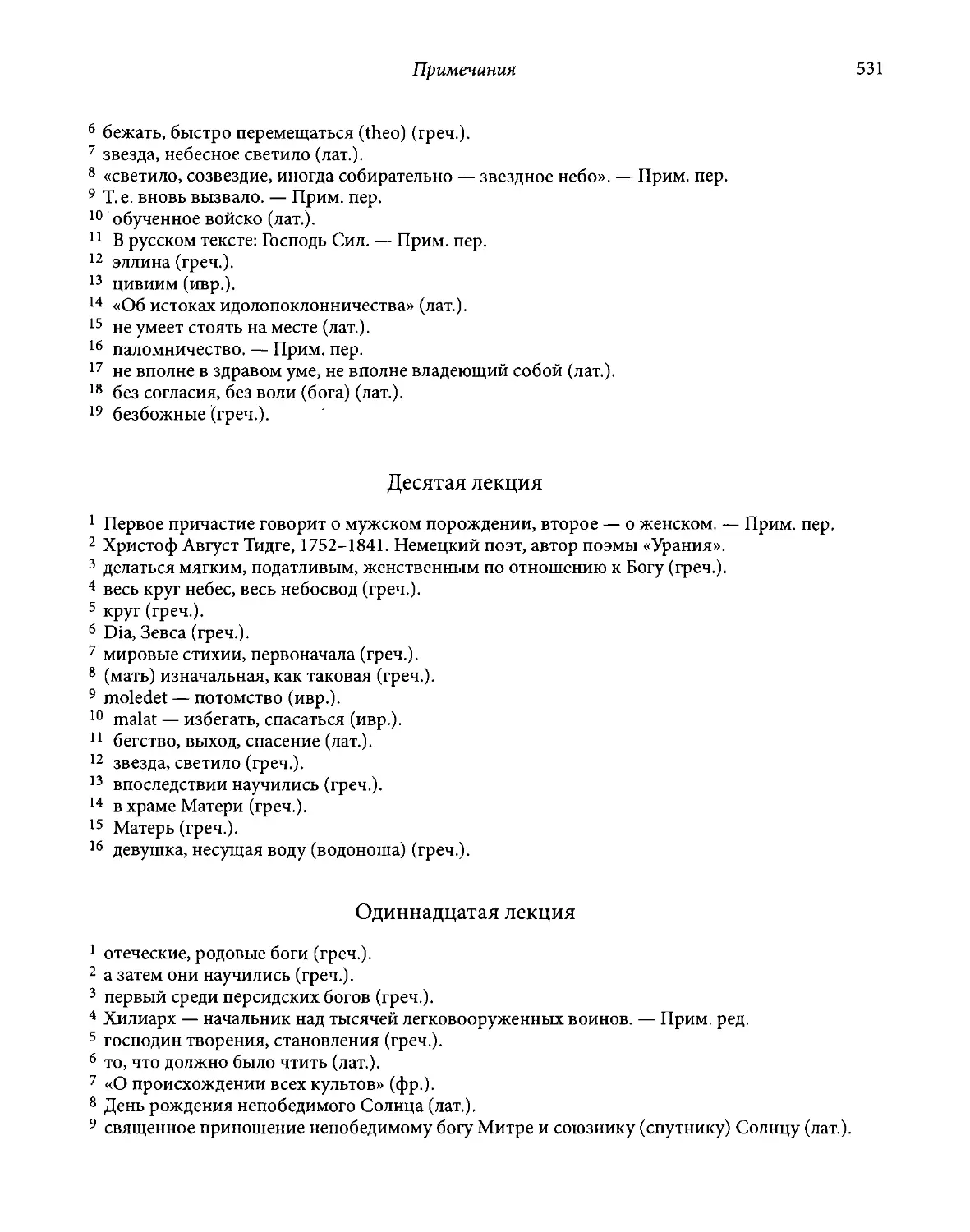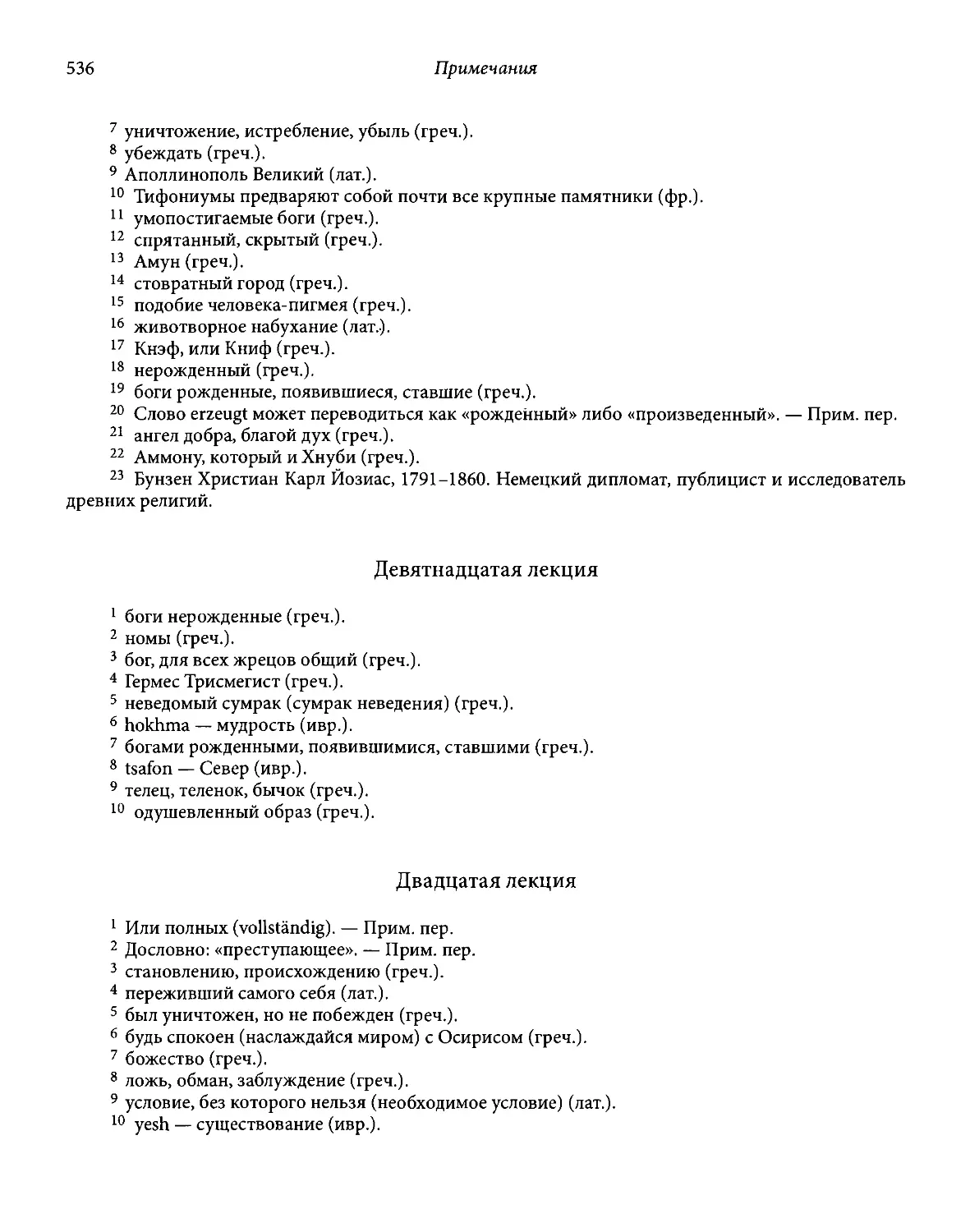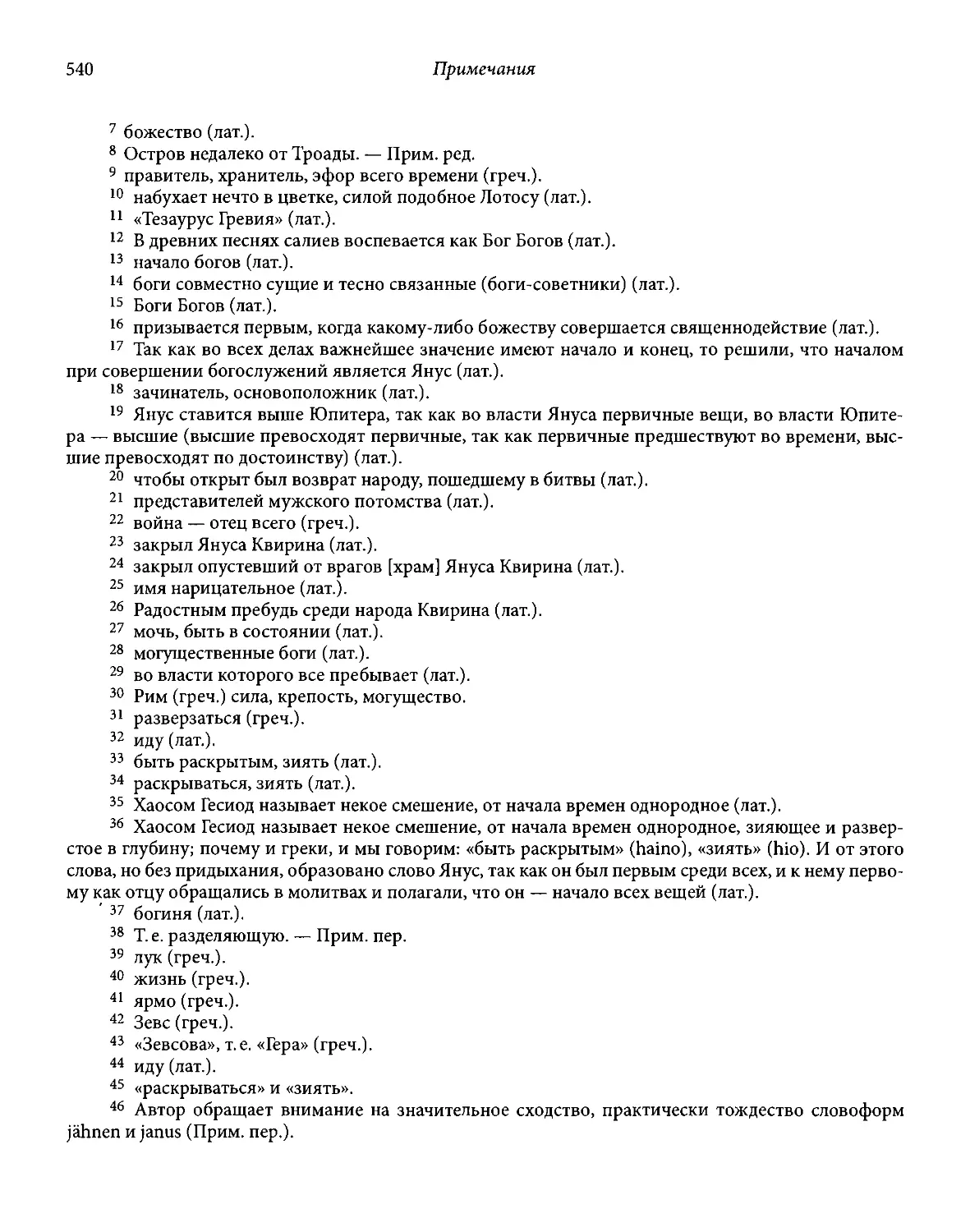Author: Шеллинг Ф.В.
Tags: всемирная история философии философия немецкая философия
ISBN: 978-5-288-05370-2
Year: 2013
Text
Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг
ФИЛОСОФИЯ МИФОЛОГИИ
в ДВУХ ТОМАХ
ακμή
jf ncûrtcl] ШЩйга | m p f y utm îbct)tUmg
îJcr
2ШЕ1
Φ. Β. ШЕЛЛИНГ
ФИЛОСОФИЯ
МИФОЛОГИИ
МОНОТЕИЗМ.
ФИЛОСОФИЯ
II
ББК 87.3(0)
Ш44
Над переводом работали: Вадим Линейкин (немецкий), Александр Карначев (латынь, гре-.
ческий), Зоя Барзах (греческий), Анна Беспятых (французский), Тамара
Соломатина (иврит)
Под общей редакцией Т.Г. Сидашау С.Д. Сапожниковой
Ш44
Шеллинг Ф. В.
Философия мифологии. В 2-х т. Т. 2. Монотеизм. Мифология / Пер. с нем.
В.М.Линейкина; под ред. Т. Г.Сидаша, С. Д. Сапожниковой. — СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2013. — 544 с.
ISBN 978-5-288-05368-9
ISBN 978-5-288-05370-2 (T. 2)
Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775-1854) — философ, представитель немецкого классического идеализма. «Философия Мифологии» — одна из трех основных
работ, наряду с «Философией Откровения» и «Системой Мировых Эпох» завершающих
путь философского развития Шеллинга. Данная публикация является первым полным
переводом издания, вышедшего в свет в Германии в издательстве Stuttgart und Augsburg.
]. G. Cotta'scher Verlag в 1856 году.
В первый том вошли «Историко-критическое введение в философию мифологии»
(24 лекции) и «Сочинение об источнике вечных истин». Помимо основного текста первый том включает краткое изложение учения философа. Во второй — «Монотеизм»
(6 лекций), «Мифология» (23 лекции) и «О значении одной новооткрытой настенной
росписи в Помпее».
Книга предназначена философам и всем читателям, интересующимся немецкой классической философией.
ББК 87.3(0)
Î Издание осуществлено в рамках
партнерского сотрудничества
серии «Акме» и проекта
UADRIVIUM
ISBN 978-5-288-05368-9
ISBN 978-5-288-05370-2 (Т. 2)
© В.М. Линейкин, пер. с нем., 2013
© Издательство С.-Петербургского
университета, 2013
ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ
ПЕРВАЯ КНИГА
МОНОТЕИЗМ
Первая лекция
Предмет и способ настоящего исследования (13). Отношение науки к понятию монотеизма (17). Обычное объяснение его есть объяснение тавтологическое (20-22). Точно так же до сих пор бытовавшие доказательства единства Бога являются недостаточными (отношение дуализма к монотеизму) (25). Результат: то, что ранее считалось
понятием монотеизма, есть всего лишь понятие (пустого) теизма (26).
Вторая лекция
Исходная точка: различие между абсолютной единственностью Бога и единственностью Бога как такового (28). Развитие первого понятия: понятие самого сущего (30).
Переход к понятию единственности Бога как такового посредством анализа понятия
самого сущего (32-33). Отношения самого сущего к бытию: 1) = бытие в возможности
(первый образ сущего) (34). В какой мере это определение Бога как бытия в возможности есть принцип пантеизма; попутно объяснение различия между самим пантеизмом и принципом пантеизма (37). Важность последнего для объяснения монотеизма,
поскольку он мыслится как только потенция (не сущее, возможность) в Боге (также =
основание и начало, природа в Боге) (40). Переход ко второму образу (форме) сущего = чисто сущее. Предварительные объяснения касательно своеобразия (рестриктивных свойств) монотеизма (44).
Третья лекция
Ближайшее определение об отношении не-сущего (как первой формы) к чисто сущему
(как второй формы) (47). Переход к третьему моменту или третьему образу сущего =
самим собой обладающим бытием в возможности = духом (50). Результат: Бог есть
Обзор содержания
могущий быть в этих трех образах (формах): одновременно это есть полное понятие
(в отличие от догмы) монотеизма (55). Замечание о негативных и позитивных свойствах и их отношении к простому теизму (или пантеизму) и к монотеизму (56-59).
Четвертая лекция
Отношение множества к единству в понятии монотеизма (60). Общее разъяснение
о трех способах мышления: теизме, пантеизме, монотеизме (Спиноза, Якоби) (62).
О взаимосвязи между монотеизмом и учением о Троице (Trinitaetslehre) (69).
Пятая лекция
Переход от потенциального (понятийного) бытия Бога к актуальному (от могущего
быть в трех формах — к actu сущему в них Богу) (71). Разделение (напряжение) потенций в результате действия божественной воли (76). Изображение происходящего
отсюда процесса и расположения потенций относительно друг друга в этом процессе
(77). Отношение обратных потенций к Богу (78). Universum. Характер этого процесса
как теогонический в высшем смысле (79). Достигнутая точка зрения на монотеизм
как на догму (а не только уже на просто понятие) (84). Важность потенций для объяснения монотеизма и политеизма (86).
Шестая лекция
Экспликация теогонического процесса как процесса первоначального творения; попутно характеристика потенций как причин творения (91). Общее о выражении потенций и их значении в мире познания (95). Конец творения — как теогонического
процесса — = богополагающее (а именно субстанциально-богополагающее) человеческое сознание (совпадение с результатом историко-критического введения) (99). Свободное положение первоначального человека между потенциями и возможность заново положенного, протекающего в (мифологических) представлениях теогонического
процесса в альтерированном сознании человека, чья цель есть свободно познанный
монотеизм (102). Мифологические представления с их психической стороны (107).
ВТОРАЯ КНИГА
МИФОЛОГИЯ
Седьмая лекция
Вводные замечания о философии мифологии (ПО). Определение исходной точки
развития: возможность человеческой альтерации (115). Соответствующие этой возможности выражения в мифологии: понятие Немезиды, Апаты (Майи), понятие искушения (116).
Обзор содержания
Восьмая лекция
Действительная альтерация человека = первоначальная случайность (Fortuna primigenia) (124). Следы этого события в позднейшей мифологии (125). Образ Персефоны.
Первое состояние Персефоны, его сравнение с пребыванием в раю (127). Двойственность в Персефоне согласно древним философам, в особенности пифагорейцам (129).
Описание этого перехода Персефоны в мистериях (130). Объективное следствие
вновь пробуждения В со стороны человека: предрасположенность к сукцессивному
политеизму (134).
Девятая лекция
Начало процесса в человеческом сознании (136). Первый момент: сопротивление односторонне положенного в человеке принципа (В) преодолению со стороны высшей
потенции (А2) (137). Продукт этого момента: абстрактная религия, или забизм, в его
первом образе (143). Сопровождающее явление этой древнейшей религии, кочевническая религия в первом — нераздельном — человечестве (144). Понятие формальных
богов (150).
Десятая лекция
Переход к следующему моменту (151). Природа этого момента: принцип (В) материализуется, становится периферическим и выступает как полагающий (порождающий)
относительно-духовного бога, чем создается переход к женским божествам (154).
Культ Урании у персову в дополнение к — уже связанному с почитанием стихий — забизму (Геродот, I, 131) (156). Митра, Милитта, Астарта = Урания (160). Этимология
этих имен (160). Поворотный момент мифологии в лице Урании в сравнении с соответствующим моментом в природообразовании (160). Влажная стихия как представитель этого момента (162).
Одиннадцатая лекция
Персидская религия как остановившаяся на моменте первой материализации (165).
Отсюда объяснение отношения женской митры (Mitra) к мужскому (Mithras) (166).
Дедукция религии мужского Митры (167). Отношение мужского Митры к учению
Зенды (169). Дуализм последнего, указание на учение Сердушта (Zerdutschlehre) как
на порождение понятия мужского Митры (178). Проблема Mithriaca (180). Общее об
идее мужского Митры как реакции на мифологический процесс (сравнение с явлением буддизма) (185).
Двенадцатая лекция
Переход к действительному многобожию, а именно: 1) через переход к решительному
культу женского божества (188). Этот переход можно наблюдать а) в культе Милитты у вавилонян. Объяснение последнего (189); Ь) в представлении мужского божества
Обзор содержания
с женскими атрибутами и наоборот, использование мужского и женского одеяний
(= мимические изображения перехода от мужского к женскому), иеродулы и т.д. (198).
Обоеполые божества как включающие в себя понятие относительности (198); 2) через
одновременное явление богини и второго бога, причем этот последний (= Дионис) все
еще всецело заключен в ней, представляет одно с ней: религия арабов (202). Экзегеза
места Геродота III, 8; попутно объяснение имен Уротал и Алилат (203).
Тринадцатая лекция
Более определенное установление настоящей точки научного исследования (204). Дедукция открывающегося теперь параллельного явления мужских и женских божеств
и отношения их друг к другу (206). Постепенность процесса в отношении к властвующему над ним божественному numen (207). Предварительное перечисление ступеней
мифологического процесса, а также соответствующих моментов в природообразовании (209). Траур по гибели первого Бога (215). Ближайшее обозначение первоначального положения теперь выступающего самостоятельно — однако все еще пребывающего в состоянии негации — второго бога (216). Разъяснение важности различения
двух эпох бога, эпохи его подчиненного состояния и негации и эпохи его признания
как бога (218). Попутно общее о до сих пор бытовавших подходах к этой теме в мифологии (218). Почему первое действие второго бога есть действие, встречающее сопротивление и вносящее смуту (221). Параллельный ход мифологического развития
и истории греческой философии (223).
Четырнадцатая лекция
Момент Кроноса, религия финикийцев (225). Кронос = вторая форма Урана (226). Различие между относительно сукцессивным и абсолютно сукцессивным политеизмом
(229). Дальнейшие разъяснения относительно понятия Кроноса (229). Сходство истолкования этого понятия с его истолкованием у древних (229). Первый шаг к наглядному изображению (230). Истолкование этого шага (231). Внесение исправления в понятие фетишизма (231). Собственное понятие идолослужения (233). Разорванность
сознания в этом моменте процесса (234). Внешние признаки этого состояния (234).
Понятие дейсидемонии (235). Явление человеческих жертвоприношений (принесение в жертву мальчиков) (236). Недостаточность традиционных объяснений этого
явления (238). Переход к действительному объяснению посредством вопроса о сыне
Кроноса — Мелъкарте финикийцев (240). Доказательство того, что Мелькарт есть
сын Кроноса (241). Тот же образ у эфиопов (244). Понятие Мелькарта (246). Сравнение его со слугой Божиим у Исайи (247). Позитивное объяснение принесения в жертву мальчиков (251).
Пятнадцатая лекция
Эпизод о греческом Геракле (256). Предварительное объяснение о египетском Геракле (256). Отношение мифа о Геракле к общей греческой мифологии (259). Значение
Обзор содержания
гераклий (260). Греческий сюжет о Геракле как видоизмененное восточное представление (260). Возврат к мифологической взаимосвязи (261).
Шестнадцатая лекция
Начало второй (полной) материализации (катаболы) реального принципа (273). Оно
возвещает о себе через оргийностъ (274). Представитель этого продвижения: фригийская Матерь богов, Кибела (275). Этимология этого имени (275). Параллельный
момент в природообразовании (образование Земли) (277). Упавший с неба камень —
образ Кибелы: попутно о возникновении метеоритных камней (и терм) (278). Значение Кибелы, доказанное из способа ее появления (281).
Семнадцатая лекция
Момент коэкзистенции двух потенций или богов в сознании: Осирис-Тифон египтян
(285). Конструкция Осирис-Тифон (животный облик богов — параллельный момент
образования животных в природе) (285). Подтверждение этой конструкции высказываниями древних (286). Миф о растерзании (287-288). Возникающее вследствие
разрешения противоречия Осириса-Тифона отношение богов: Осирис — в силу отождествления побежденного Тифона с Осирисом — повелитель загробного мира (Гадес = Дионис) (293). Гор = воскресшему Осирису = A3 (294). Понятие Гора согласно
Плутарху (294-295). Гор в детстве (= греческому Гарпократу) (296).
Восемнадцатая лекция
Завершение разъяснения об отдельных образах египетской мифологии на понятии
Бубастис (297). Результат всей египетской мифологии: тройственный Осирис (= снятое напряжение потенций) (300). Возникновение монотеизма египетской теологии
(301). Из характера этого монотеизма как исторически возникшего объясняется
а) календарная система, Ь) все еще отчасти длящееся почитание Тифона (302). Тифониумы (303). Развитие системы египетской теологии и ее триады: Аммон = бог в сокровенности, Пта = Бог в момент экспансии, Кнеф = Бог осуществленного единства
(306). Взаимосвязь между возникновением этой высшей теологии и зодчества Египта
(307). Разъяснения относительно последних и их отношения к периодам египетской
истории, в особенности относительно пирамид (314).
Девятнадцатая лекция
Совпадение проведенной до сих пор дедукции египетской мифологии и теогонии с Геродотом и его божественными порядками (317). О первом из них: восемь древнейших
богов (317). Особое разъяснение об отношении Амуна к Пану и культа Пана к культу Пта (319). Египетский Гермес как четвертое божество (322). Его понятие (323).
Герметические книги (323). Восьмерка как полное число для соответствующих женских божеств (324). Среди них Хатхор, Нейт (324). Второе поколение богов Геродота:
10
Обзор содержания
двенадцать богов, объясняемых как боги кронического — предшествующего специфически египетскому — времени (325). Третий порядок богов: боги собственно египетского момента (326). Объяснение египетского культа животных (328). Особое выведение культа Аписа (332).
Двадцатая лекция
Переход к индийской мифологии (335). Подтверждение определенного ей места (336).
Дедукция индийского момента в его отличии от египетского: расхождение потенции
как одна сторона индийской сущности — показанное: а) на понятии Брахмы и его исчезнувшего культа; Ь) на шиваизме; с) на вишнуизме (342). Опровержение воззрения
об Одном возвышающемся над тремя деджотами боге (346). Указание истинного порядка трех деджотов (Шива перед Вишну), а также их логической взаимосвязи через
учение о трех качествах (тригунайя) (347). Этимология индийской триады (350). Подтверждение ее понимания в памятниках искусства (351). Ранние моменты мифологического процесса в Индии, представленные сектами (352). Взаимосвязь с кастовой
системой (352). Материальные боги Индии и их значение (353).
Двадцать первая лекция
Выведение и значение мифов об инкарнации (356). Инкарнации Вишну (356). Развитие другой стороны индийской мифологии — мистицизма — с учетом значения
буддизма и попытки объяснить его из индийских систем: 1) теософская система Вед
(попутно сперва общее о Ведах, их частях и их древности с особым рассмотрением
воззрений Колбрука. Результат: Веды не представляют собой специально-индийской
религиозной книги) (361). 2) Философские системы Индии (Миманса, (Веданта),
Ньяйя, Санкхья) (372).
Двадцать вторая лекция
3) Учение Бхагаватгиты. Ее учение Йоги и его отношение к мистическому учению Вед
(375). Ее учение о трех свойствах (380). Позитивное объяснение буддизма как антимифологического, соответствующего религиям мужского Митры явления, а потому
также соответствующего не абстрактному, но включающему в себя дуализм, подобно зендскому, учению единства (385). Между брахманизмом и буддизмом не существует причинной взаимосвязи (389-390). Изначальное родство древнеиндийского
и древнеперсидского (391-392). Доказательство прежде существовавшего близкого
соседства буддизма и брахманизма в Индии (393). Взаимное влияние друг на друга
индийской мифологии и буддизма (393). Является ли изначально буддистским также
и учение о Майе? Возможная взаимосвязь между Mitra triformis и Тригунайей (396).
Заметное влияние буддизма на индийскую мифологию (398). Буддистское стремление
к прозелитизму (399). Монгольский (ламаистский) буддизм (399).
Обзор содержания
Двадцать третья лекция
Переход к Китаю (401). Определение своеобразия задачи при объяснении китайской сущности (401). Изначальный принцип религии здесь в своем измененном
значении — лишь со своей формальной стороны, — однако действующий с той же
исключительностью (403). Историческое доказательство верности такой дедукции,
выведенное: 1) из понятия китайского царства, попутно его выведение из астрального момента — вследствие катастрофы; 2) из абсолютности и стабильности китайского
государства, которую мы можем наблюдать а) изнутри; Ь) вовне (405). Император —
властелин мира, также и в физическом смысле (411). Истолкование символа китайского царства (дракон) (413). Чисто светский — нежреческий — характер китайского
императора и самого Китая (413-414).
Двадцать четвертая лекция
Абсолютное (немифологическое) китайского принципа выказывает себя 3) в языке
Китая — замечания против отрицаемой Абель-Ремюзой односложности китайского
языка (417). Истинная причина моносиллабической природы китайского языка —
взгляд назад на первоначальный язык человеческого рода и смешение языков (420).
Опровержение выведения характера китайского языка из состояния варварства (Ремюза) (421). Равная уникальность китайского письма — параллелизм способов письма и языков (422). Китайское письмо следует за своим языком, а не наоборот (как
у Ремюза) (423-426). Уходящая в глубь (абсолютно) доисторического человечества
древность китайцев (427). О правильном месте Китая в развитии мифологии (428).
Переход к имеющимся в Китае религиозным системам: 1) учение Конфуция; 2) система Лао-Цзы; 3) буддизм (429).
Двадцать пятая лекция
Рекапитуляция (437). Повторная характеристика индийского элемента (439). Преобладание душевного начала в индусе; в соответствии с этим его физическое сложение и проникновенность его поэзии (Шаконтала) (439). Дальнейшее о спиритуализме индуса
в сравненнии с материализмом египтянина (441). Переход к греческому моменту (443).
Трилогия египетской, индийской и греческой мифологии (443). Начальная точка эллинской мифологии в Кроносе (444). Его очаги (моменты) в греческом сознании, Аид, Посейдон, Зевс. Аид и Посейдон в сравнении с Зевсом в отношении подчинения (прошлого) (444). Представление этого отношения в «Илиаде» (444). Свобода и необходимость
в образовании эллинской мифологии (451). Пеласги и эллины (Геродот, II, 52; 53) (452).
Двадцать шестая лекция
Характер греческой мифологии как общей мифологии (как системы богов) (454). Гомер и Гесиод в их различном отношении к греческой мифологии (454). Первое понятие теогонии: хаос (458). Параллельное хаосу понятие Януса в древнеиталийской
11
12
Обзор содержания
мифологии (отношение последней к эллинской мифологии, попутно замечания
о древнегерманском и скандинавском богоучениях) (459). Дедукция понятия хаоса
и доказательство тождественного содержания в образе (символе) Януса (460). Древние свидетельства о значении Януса как изначального единства (461). Храм Януса
в Риме. Quirinus = Янус (начало римской истории. Нибур) (467). Свидетельство Овидия (468). Этимология Януса (469). Выведение Буттманна (470).
Двадцать седьмая лекция
Первый период теогонии: 1) момент для себя существующей Геи = момент первой
материализации изначального принципа, момент еще немифологического забизма;
2) момент первого основания мифологического: дети Геи и Урана, а) титаны, Ь) циклопы; их потенциальное состояние (472). Генеалогия детей ночи как философский эпизод теогонии (477). Переход теогонии к мифологической эпохе (477). Время Кроноса =
момент возникновения греческой мифологии (479). Соответствующие трем сыновьям
Кроноса женские божества: Гестия, Деметра, Гера (480). Гестия, Деметра и Персефона в их взаимном отношении (480). Значение похищения Персефоны (483). Граница
между экзотерическим и эзотерическим в греческой мифологии (486). Цель и содержание мистерий (486). Критика до сих пор существовавших представлений о Деметре
и Персефоне (487). Объяснение мистерий Паулюса (490). Как экзотерическое и эзотерическое в греческой мифологии взаимно обусловливают друг друга (492).
Двадцать восьмая лекция
Качественное различие между характером греческой религии и характером более ранних религий (494). О якобы послегомеровском происхождении мистерий и о значении
Гомера. Гомеровские боги (496). Первый страх греческого искусства перед изображением богов в человеческом облике (ступени изобразительного искусства у греков)
(500). Объяснение этого страха; попутно общее о древнем и новом искусстве (501).
Двадцать девятая лекция
Отношение мира греческих богов к Зевсу (507). В какой мере некоторые боги греческой мифологии ранее выступают в качестве формальных богов, позднее же входят
в число материальных (Apec, Гефест) (509). Понятие Афины = восстановленная Персефона, поэтому τριτογένεια (510-511). Понятие Гермеса (511). Своеобразный характер двух божеств: Аполлона и Артемиды (512). В какой мере в греческой мифологии
могут быть допущены также и известные изобретения (513). Общие замечания о философии мифологии (513). Заключительные рассуждения (514).
О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее (517)
ПЕРВАЯ КНИГА
МОНОТЕИЗМ
ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ
Выражение «философия мифологии» заведомо помещает мифологию в класс
предметов, которые не всего лишь случайны, не являются чем-то лишь рукотворным, фактическим (factitii quid1), но существуют с некоторого рода необходимостью.
Ибо, напр., если я говорю «философия природы», то тем самым я предполагаю известную необходимость существования природы. Точно так же — если я говорю
«философия истории», «философия государства», «философия искусства». Несмотря на то что кажется, будто государство есть нечто «сделанное» человеком, а искусство — нечто несомненно людьми произведенное, я, тем не менее, предполагаю, что
для существования государства и равно искусства необходима независимая от человеческого произволения реальность, что в том и другом принимают участие силы,
отличные от человеческой воли, или что эти последние, по меньшей мере, в том
и другом подчинены высшему закону и возвышающемуся над ними самими принципу. Дабы избрать наиболее общее выражение, скажем: в каждом предмете, с которым указанным образом связывается понятие философии, мы должны предполагать некоторую «истину»; он не должен представлять собой нечто только сделанное,
субъективное, он должен быть чем-то объективным, как, напр., природа есть нечто
объективное. Если, таким образом, мы говорим о философии мифологии, то также
и самой мифологии мы должны приписывать объективную истину. Однако сделать
именно это мы и не ощущаем себя способными, ибо в мифологии мы усматриваем
как раз полную противоположность истине. Сперва она предстает для нас, пользуясь
общепринятым выражением, как сказочный мир, который мы можем мыслить себе
либо как чистый вымысел, либо, по меньшей мере, как лишь искаженную истину.
Однако философии было бы просто нечего делать с таким произведением. Истинное
отношение философии к мифологии, поэтому, не могло быть найдено до тех пор,
покуда благодаря последовательной критике, посредством устранения и отделения
всего только гипотетического в существовавшем до сих пор способе объяснения не
14
Первая книга. Монотеизм
было достигнуто «чистое фактическое» мифологии. До тех пор пока предполагали
только «субъективный» способ возникновения мифологии (как во всех прежних
объяснениях), до тех пор пока считали возможным, что в мифологии содержится некая — религиозная или философская — лишь претерпевшая разрушение и искажение система, философии можно было указывать на подчиненное занятие, состоящее
в том, чтобы выяснять подлинные черты этой якобы погребенной и как бы рассыпанной в мифологии системы и пытаться восстановить ее по отдельным фрагментам. Однако отношение философии выглядит для нас сейчас совершенно иначе. Мы
в прежних докладах показали, что мифология есть совершенно иная объективность,
нежели какая-нибудь научная или религиозная система. Мы признали ее как в своем
роде столь же реальный, необходимый и всеобщий феномен, каким является, например, природа. Теогонический процесс, в котором она возникает, совершается не по
какому-либо особому закону сознания, но по всеобщему, мы можем сказать — «мировому закону», который имеет космическое значение; его содержание поэтому есть
всеобщее, его моменты суть поистине объективные моменты, его образы выражают
необходимые и в этом смысле не просто преходящие, но всегда пребывающие понятия. Теогонический процесс сам есть всеобщее понятие, т. е. такое, которое обладает
значением также и независимо от человеческого сознания, и вне его. Философия никогда не добивалась реальных продвижений (хорошо отличать от только формальных улучшений, которые могут быть лишь следствием подлинных продвижений)
иначе, чем в результате расширения опыта; не всегда оно состояло в обнаружении
новых фактов, но иногда в том, что в уже известных фактах начинали видеть нечто иное, отличное от того, что привыкли видеть ранее. Взгляните, как благодаря
Канту, если отвлечься от его критических заслуг и принять во внимание лишь материальное, расширился мир философии; благодаря чему еще это могло произойти,
если не благодаря тому, что факт человеческой свободы, который даже для такого
ума, как Лейбниц, значил гораздо меньше, приобрел для Канта такую величайшую
важность, что он заявил о своей готовности скорее отказаться от всего остального.
Как известно, вскоре после него такой отказ действительно последовал. Поскольку
же различные стороны человеческого знания всегда сами собой вновь и вновь приходят к равновесию (лучшее доказательство того, что их систематическая взаимосвязь не есть нечто изобретенное и надуманное в философии, но нечто объективное
и естественное), то тем самым с еще большей силой выступила на передний план
другая сторона человеческого познания. Покуда природу рассматривали как только
пассивную сущность, не имеющую никаких иных дел кроме как производить себя
и сохраняться в своем бытии, можно было довольствоваться, с одной стороны, непонятым в своем значении понятием творения, и с другой стороны — одним лишь
формальным познанием природы. Однако, с тех пор как в противоположность односторонне идеалистической философии было понято, что природа не есть только
Первая лекция
15
не-Я, не-сущее, но сама представляет собой нечто позитивное, Я, субъект-объект, —
она должна была войти в философию как необходимый элемент, чего одного было
достаточно для такого внутреннего изменения последней, что возврат к прежним
точкам зрения сделался для нее невозможным.
Как бы в общем и целом мы ни противились расширению однажды составленных понятий, ставшим известными фактам не сможет долго противостоять ни один,
даже и глубоко укоренившийся, способ мышления. Можно с уверенностью предполагать, что то, что считается в ту или иную эпоху философией, всегда представляет
собой результат известной суммы фактов либо сообразуется с ней; то же, что лежит
вне этого ограниченного круга, игнорируется, держится подальше от дневного света, либо делаются попытки управиться с ним при помощи более или менее мелких
и поверхностных гипотез. Естественно, что такой, считающийся прямым, способ
мышления не особенно охотно видит, если те факты, которые он полагал уже устраненными, вновь выступают на поверхность либо оказываются на свету в большей
мере, нежели он считал за благо это позволить. Даже и сам Гёте лишь по прошествии долгого времени вынужден был признать, что новые геогностические2 факты
способны потребовать для себя иных толкований, нежели те, которые он сам до сих
пор считал достаточными*.
Понятия философии, пришедшей после Фихте, сообразовывались с тем, что ей
было «известно», и даже и теперь многие еще не способны представить себе, что речь
идет об ином мире, нежели тот, который они видели 50 лет назад. Однако кроме него
существует и еще один, ничуть не менее реальный, показать который входит в задачу наших чтений, поприсутствовав на которых, правда, иные, ожидавшие только
исторического исследования, могли почувствовать себя не иначе, чем ощутили себя
после Гераклита те, кто действительно ступил в подземное царство, повсюду встречаясь с тем, чего они не ожидали и не рассчитывали увидеть**.
Если же речь заходит о том, чтобы от неестественной и формальной, дутой учености привести к естеству и к здоровому, сильному и существенному знанию, то
здесь позволительно вспомнить о том, как поступает Сократ в некоторых платоновских диалогах, где ему удается исходя из неприметных и, на первый взгляд, даже чужеродных предпосылок путем вопросов, которые кажутся нам попросту детскими,
освободить ученика от ложно-философского нарыва, и затем, когда этот нарыв исчезает как дым***, посредством неожиданного поворота умудряется поставить его лицом
к лицу с высшими предметами, так что для него то, что казалось прежде находящимся
Незаконченные произведения, т. 11, ст. 190.
"Ασσα ούκ ελπονται ουδέ δοκέουσιν. — (чего не ждали, не ведали) (греч.) — Климент Александрийский. СтроматЫу IV, 26.
Sic! Намек на выражения Плутарха в de Deo Socratis.
16
Первая книга. Монотеизм
в недосягаемой дали, предстает в неожиданной близости и такой ясности, впечатление от которой остается с ним навсегда, и навсегда защищает его от любого вида
напыщенности и пустого чванства. Сократические беседы уже не для слуха нашего
времени, но именно подобным же образом мыслилось исхождение из начал мифологии, и в то время, когда я начал эти чтения, такое исхождение из начал великого, всеобщего и для каждого открытого явления сослужило мне самому подобную
же благотворную службу. Если сухому формализму при благоприятных случайных
обстоятельствах удалось иссушить источники истинного познания, поразить на некоторое время философию неким родом ступора (stuporem philosophiae inducere3),
то можно было надеяться, что уже одно прикосновение к свежему, до сих пор философии не известному предмету способно будет придать ей самой новое движение.
Если узкие и стесненные взгляды в философии имели своим следствием столь же
узкий и стесненный «язык» выражений, в котором невозможна никакая членораздельность и который, применяя по отношению ко всему лишь один известный круг
формул и выражений, в конце концов вырождается в настоящий бред, то многое
достигнуто уже тем, что исследование переносится на почву и направляется на предмет, требующий новых методов постижения и, не допуская более применения старых
путаных формулировок, принуждает к свободному и ясному выражению мыслей.
Мы, таким образом, будем тем более ощущать потребность дальнейшего исследования факта мифологии, который мы стремились обосновать в первой части
этих лекций, начиная с той точки, на которой мы остановились. Более того, все наше
прежнее исследование привело нас к результату, останавливаться на котором мы попросту не можем.
Мифология признана нами как произведение теогонического процесса, в который ввергнуто внутреннее существо человечества с наступлением первого действительного сознания; но само это понятие теогонического процесса найдено и познано
нами лишь в результате заключений, пусть и неопровержимых, однако оно найдено
и познано «не» из «себя самого, не» из «его собственных начал». Оно представляет
собой лишь ту границу, до которой мы дошли в своем продвижении на пути историко-философского исследования, ту точку, на которой это последнее впервые было
прервано. Ибо, поскольку мы должны были признаться, что для того чтобы понять
такой процесс, основывающийся на реальном, независимом от разума отношении
человеческого сознания к Богу, нынешняя философия не располагает никакими
средствами, — это побудило нас на некоторое время отвлечься от нашего непосредственного предмета, перейти к чисто философскому исследованию и представить
всю рациональную философию, дабы показать, каким образом сама она заканчивает требованием позитивной философии. Мы могли бы теперь, таким образом, начать развивать эту последнюю, сделав попытку непосредственно из начал позитивной философии, во-первых, прийти к понятию теогонического процесса «вообще»,
Первая лекция
17
и уже отсюда, во-вторых, прийти к такому понятию в «сознании». Однако сейчас это
не входит в наше намерение; мы прибережем этот путь для одной из будущих лекций
и ступим теперь на нашу прежнюю (аналитическую) стезю, и попытаемся вновь проследить последний полученный нами результат в его предпосылках.
Ближайшая же предпосылка теогонического процесса нами уже предварительно и в «общих чертах» найдена. Эта предпосылка есть положенный одновременно
с человеческой сущностью потенциальный монотеизм. В этом якобы естественном
монотеизме сознания, этом монотеизме, который свойствен ему, от которого оно не
способно избавиться, — в этом сросшемся с ним монотеизме должна лежать причина теогонического движения сознания. Предположив это, легко также увидеть, что
понятие «монотеизма вообще» должно содержать в себе закон и как бы «ключ» к теогоническому движению. Исходя отсюда должны быть найдены факторы и, равным
образом, все содержание теогонического процесса.
К этому понятию (понятию монотеизма вообще) должно, таким образом, направляться наше ближайшее исследование, но не так, чтобы мы сами пытались вывести его с самого начала, т. е. из наиболее общих принципов, но, как ранее с мифологией, мы будем теперь обращаться с «этим» понятием как с фактом, и лишь
спросим, «что оно означает, каково его собственное содержание», причем ничего не
будет предполагаться заранее, кроме, пожалуй, того, что оно должно иметь некоторое содержание и значение.
Обращение с самим понятием монотеизма как с фактом будет представлять для
нас тем меньшую трудность, что среди огромной массы философских «или» религиозных понятий вряд ли найдется хотя бы одно, которое в такой степени обобщения имело бы право называться вообще «истинным», даже если о его смысле или
собственном содержании никак не может существовать полной определенности
и единодушия. Оно есть: 1) общая точка пересечения мифологической и богооткровенной религии: в последней оно, безо всякого сомнения, представляет собой
наивысшее понятие; первая же без лежащего в ее основе монотеизма не может быть
действительным политеизмом; 2) даже так называемая религия разума пытается, по
меньшей мере, содержать его в себе; ибо ведь тот, кто не исповедует атеизма, хочет,
чтобы его рассматривали не как политеиста, но как монотеиста; правда, является ли
он при этом таковым в действительности и в истинном значении — еще нуждается
в выяснении.
Таким образом, с той оговоркой, что собственное значение монотеизма нуждается в более близком определении (а именно дать его и есть наша обязанность), «каждый» будет склонен допустить его, и вряд ли можно представить себе исследование,
которое начиналось бы с более общего согласия и одобрения, нежели именно это.
С тем чтобы представить некоторый обзор пути, который нам необходимо
преодолеть, мы скажем, что нам придется: 1) исследовать смысл или ближайшее
18
Первая книга. Монотеизм
содержание понятия, занятие, которого нельзя было бы избежать ни при каком возможном воззрении. В исследовании, которое имеет своим предметом политеизм, все
должно пребывать в неопределенности до тех пор, покуда нам не будет с полной достоверностью известно, что означает его противоположность. В более раннем изложении мы, правда, определили это понятие уже в противоположность к просто теизму, который лишь вообще и неопределенным образом полагает «Бога», и с другой
стороны — в противоположность к только относительному монотеизму, который по
существу уже есть политеизм, в одном отношении как определенное понятие «истинного» Бога, в другом же — как понятие абсолютно и истинно Единого. На первых
порах этого было вполне достаточно. Однако нам остается ответить на вопрос о том,
в чем состоит «истинное» единство и, тем самым, вообще истинность Бога, и если,
несмотря на все старания, в нашем прежнем изложении остались темные места, которые мы не могли устранить, то лишь именно такие, которые связаны с ответом на
указанный вопрос. При таком способе исследования как данный, который достигает
истинного, лишь исходя из еще не определенного и продвигаясь через следующие
друг за другом определения, — лишь конечный, последний результат может дать
полное удовлетворение. Учитель должен здесь иметь право рассчитывать на доверие
слушателей, на их веру в то, что он не ведет их напрасной дорогой. Если предположить затем — а у нас есть все причины предполагать это, — что в осознанном нами
понятии (монотеизма) нашлись бы элементы, которые дали бы нам возможность
понимать «теогонический процесс вообще», то нам были бы даны также и средства
к тому, чтобы рассматривать теогонический процесс сознания как «возможный»,
а при известной предпосылке — и необходимый; и лишь затем, когда в сознании
будет дана возможность теогонического процесса, мы сможем: 2) подумать о том,
чтобы показать «действительность» такого (теогонического) движения сознания на
материале самой мифологии. Лишь это последнее будет представлять собой непосредственное объяснение, оно будет самой «философией мифологии».
Мы, таким образом, предполагаем теперь понятие монотеизма как «наличествующее», и вопрос лишь в том, что оно в себе содержит. Речь идет не о том, чтобы
получить или произвести еще нигде и никогда не существовавшее понятие, но лишь
о том, чтобы осознать, что именно «мыслится» в уже существующем и общепринятом
понятии, и что в нем «не мыслится». Правда, это разъяснение тут же могло бы быть
встречено вопросом о том, что же может нуждаться в особом разъяснении в столь
простом и известном любому ребенку, получившему начальные христианские религиозные сведения, понятии, и на этот вопрос я и хочу дать ответ в первую очередь.
Всякое разъяснение понятия предполагает сомнение относительно научного смысла
Первая лекция
19
и содержания этого понятия. Однако как могло бы быть сомнительным содержание понятия, в котором мы все родились и воспитаны и которое мы должны признавать как первую основу всего нашего духовного и нравственного образования?
Даже если бы какое-то иное понятие и могло представляться спорным, то все же это
последнее (как кажется) следовало бы оставить вне всякого сомнения, ибо оно принадлежит даже не какой-то одной особой школе, но всему человечеству, и является
не только научным, но всемирно-историческим. Прежде всего, я не стану отрицать,
что, в соответствии с обычным объяснением, понятие монотеизма, конечно же, есть
нечто само разумеющееся, а значит, совершенно ясное. Однако именно это само собой разумеющееся понятие представляет здесь трудность. Следовало бы думать, что
понятие, утверждение которого в человечестве потребовало столь долгой борьбы,
которое сделалось господствующим всего лишь каких-нибудь полтора тысячелетия
назад и которым даже теперь обладает пусть и лучшая и более нравственная, однако
меньшая половина человеческого рода, — такое понятие должно быть понятием, несущим «особое содержание», а не непосредственно и самим собою ясным. Чем более
важным и, благодаря своему всемирно-историческому успеху, значительным стало
это понятие, тем более позволительным должно быть сомнение в том, что то, что
выдается за его содержание, есть нечто истинное и действительное. На это, правда,
можно было бы возразить: если данное понятие не понято в своем истинном содержании, то каким образом оно смогло завоевать это господство в умудренной, научно
образованной части человечества? Однако в человечестве можно указать на явления и более древние, чем его научные понятия, как, например, королевская власть,
существующая в мире с незапамятных времен, и, тем не менее, если бы сегодня мы
захотели провести опрос по поводу ее истинной причины и значения, мы получили
бы самые разные ответы. Как бы ни был опосредован этот первый великий переход
от многобожия к признанию единого Бога, он не был осуществлен ни через науку,
ни, может быть, вообще каким-либо понятным жившему в те времена человечеству
образом; легко, следовательно, могло случиться и так, что рефлексия, принявшаяся за свое дело позднее, сделала ошибочные выводы о собственной причине, т.е. об
истинном содержании понятия, посредством коего была вызвана эта великая перемена. Если же теперь желанное и для каждого удобное состояние достигнуто и обосновано, то никто уже не спрашивает о его возникновении, все желают лишь наслаждаться им и его использовать, не пытаясь исследовать далее его основу, более
того, не рискуя долгое время свободно рассматривать ее — отчасти из страха, что
все здание принятых на веру учений и понятий может в результате поколебаться.
Всеобщее признание того или иного понятия еще не дает уверенности в его научной обоснованности, и, напротив, можно было бы безо всякого парадокса утверждать, что научная обоснованность понятия чаще всего стоит в обратной пропорции
с общепринятостью его употребления. Как правило, именно те понятия, каждое
20
Первая книга. Монотеизм
из которых общеизвестно и находится в постоянном употреблении, употребляются
наиболее слепым и неосознанным образом; каждый полагается на другого и считает,
что такое общеупотребительное понятие непременно должно ставиться вне всякого
сомнения.
Можно было бы еще, в частности, удивляться тому, что сегодня, когда иные теологи в философии, столь бесплодные и безуспешные, словно бы не знают предела
в своем восхождении, — ни одному из этих господ, напр., какому-нибудь Даубу, не
пришло в голову сперва заняться выяснением смысла этого первого и, как кажется,
простейшего понятия, покуда они не затерялись полностю в совершенной неразберихе. Однако хорошо всем известным человеческим заблуждением является попытка искать в далеком и неизмеримом то, что человек мог бы найти совсем рядом,
и пускаться в сложное, не обеспечив прежде самого простого.
Что касается в особенности учений рациональных теологов, от которых ведь
скорее всего можно было бы ожидать, что они будут иметь совершенную ясность
относительно данного понятия, то должен откровенно признаться, что я напрасно
искал в старых и новых учебниках какое бы то ни было удовлетворительное объяснение этого первейшего из всех понятий. В отношении учебников философских
я заметил, что они чаще всего пытаются легко скользнуть мимо понятия единства
Бога, возможно, как самого собой разумеющегося, которое слишком ясно для того,
чтобы на нем останавливаться. Что же касается позитивных теологов, и не только
новых, но даже и более старых, то ни один непредвзятый наблюдатель не сможет не
отметить у них явную неуверенность в обращении с этим понятием, колебания даже
в самом выражении (напр., немецкоязычные теологи не знают, должны ли они говорить «Einheit» или «Einzigkeit Gottes»)4 и не увидеть подозрительной торопливости,
с которой они спешат уйти от этого первого из всех понятий так, словно бы оно не
выдерживало твердой поступи или словно бы более глубокое проникновение было
чревато опасностью*.
В качестве доказательства такой неуверенности может рассматриваться уже тот факт, что в целом
христианской догматики этому понятию всякий раз отводится иное место. Можно было бы, конечно, ожидать, что это понятие, которое словно бы разделяет собой два мира или две стороны истории — языческую и христианскую, — будет также и установлено в первую очередь и прежде всех
остальных, как лежащее в основе всех и потому абсолютно самостоятельное. В старейших учебниках еще можно найти помещаемую перед трактатом об отдельных так называемых атрибутах главу
о единстве божественной сущности, еще, напр., у Иоанна Герхардта (см. его Loc. TheolL, Vol. III, с. VI),
написанную, бесспорно, в ощущении того, что все далее говоримое все же правильнее было бы высказывать лишь о единственном Боге. Совершенно иначе, однако, у позднейших. Здесь единство или
единственность уже как бы перестали быть предметом особого учения; учение уже не подчеркивается как таковое, но существует лишь как бы скрытым образом среди прочих учений о божественных
Первая лекция
21
Причину подобного замешательства также довольно легко распознать; ибо формула, в которой они выражают понятие и учение о единстве Бога, есть известное:
«кроме Бога нет никакого иного». (Исходя в моей критике понятия из этой формулы,
я предлагаю вам всем попытаться вспомнить, случалось ли вам встретить где-либо
иное объяснение понятия монотеизма.)
Ибо если мы рассмотрим это объяснение, то само собой станет понятно, что положение «кроме Бога нет никакого иного», собственно, содержит в себе совершенно
излишнее заверение. Ибо, действительно, можно было бы попытаться помыслить
себе кроме одного предположенного мною Бога еще «одного» или нескольких иных.
После того же, однако, как мною однажды положен не «один» Бог («ein» Gott), но абсолютный Бог, совершенно не видно, какой повод мог бы найтись у меня и, более
того, как вообще могло бы быть возможным полагать Бога еще раз, а тем более, несколько раз: это было бы явной нелепостью. Если, однако, не возможным заблуждением, но чистой нелепостью является полагать кроме Бога, которого я однажды
положил как Бога, еще другого или множество, то также нелепостью будет и противоположное уверение, поданное в виде однозначного утверждения. Отсюда, таким
образом, можно в достаточной мере объяснить тот род слабости зрения, который
овладевает теологами, как только им случается необходимость дать отчет о понятии
единственности Бога или монотеизма. Ибо как можно доказывать то, что никому не
придет в голову отрицать, или опровергать то, что столь же мало кто-либо намерен
утверждать? Если бы вне Бога я имел возможность хотя бы помыслить какого-то
иного, то, следовательно, первого я должен был бы положить не как Бога, но как «некоторого» бога («einen» Gott). И напротив, следовательно, если я отрицаю, что кроме
Бога есть еще какой-либо иной, то тем самым я вновь положил его лишь как «Бога»,
но не как единственного Бога, — выражение, которое было бы здесь вполне плеонастическим. Теология сталкивается здесь с чем-то, в известной мере прямо противоположным тому, с чем она встречается в других догмах, доставляющих ей хлопоты по причине своей слишком большой темноты; ибо здесь причиной неудобства
является, напротив, чрезмерная ясность; приходится испытывать некоторый стыд,
высказывая как особое учение и даже как догму положение, которое настолько разумеется само собой.
Если прежние вольфианцы немало гордились способностью доказать из своего
Principium indiscernibilium5, что даже и Бог вне Бога, или Бог, положенный еще раз,
мыслился бы все же как Один Бог (не действительно вторая сущность, но та же сущность еще раз)*, то по всей справедливости им следовало бы сперва показать, каким
качествах, которые рассматриваются как (сами собой) разумеющиеся, таких как вечность, бытие
из себя самого, бесконечность и т.д.
См. весь Usus philos. Leibniz. Theologia, p. 275.
22
Первая книга. Монотеизм
образом некто мог бы ухитриться помыслить Бога вне Бога, т.е. еще раз. Впрочем,
именно это употребление принципа неразличимого служит доказательством того,
что учение о единстве Бога было понято не иначе, но точно так же. В этом смысле,
а именно, что А означало Бога (действительно «Бога», а не некоторого Бога), а затем
все же полагалось А+А+А... никогда не могло существовать политеизма; а следовательно, также и противоположность, мыслимая в том же смысле, отнюдь не может
еще дать монотеизма. Ибо я либо вообще не мыслю Бога, и тогда это атеизм, либо
я мыслю Бога, и в этом случае я сразу же мыслю его как абсолютно единственного.
Для политеизма здесь нигде нет места. В этом смысле совершенно прав Германн, рассматривая политеизм как невозможность и, в соответствии с этим, употребив все
возможные усилия для отыскания, по меньшей мере, в его возникновении, — иного
и несобственного смысла исторически существующего политеизма. Если, однако,
политеизм есть невозможность, то монотеизм как особое понятие есть невозможность ничуть не меньшая. Оба понятия стоят и падают одновременно.
Я напомню вам о том, что в силу давней и потому ставшей неосознанной необходимости, если речь идет о единственном Боге, то, говоря о нем, обычно добавляют
эпитет «истинный»: «единый и истинный Бог» (der einzigwahre Gott); из этого следовало бы заключить, что истинный Бог и единственный Бог суть совершенно равнозначные понятия: истинность Бога заключается именно в его единственности, и наоборот, его единственность есть одновременно его истинность. Будучи определен
в соответствии с этим, постулат должен был бы звучать так: «Кроме единственного
истинного Бога нет никакого иного». Однако кто же теперь есть этот Бог, о котором
говорится в данном постулате, кто представляет собой субъект предложения? Ответ: субъект предложения сам есть уже единственный Бог. Уже само высказывание
предполагает единственного Бога; ибо оно лишь то говорит о «единственном» Боге,
что кроме него нет никакого иного. Кто же теперь, однако, этот единственный Бог,
о котором оно говорит, что кроме него нет никакого иного? Снова тот самый, кроме
которого нет никакого иного? Невозможно! Тогда предложение звучало бы так: «Тот
Бог, кроме которого нет никакого иного, есть тот, кроме которого нет никакого иного», причем последняя тавтология была бы еще хуже первой. Единственность, которая положена уже в самом субъекте предложения, должна быть, следовательно, иной
единственностью, нежели та, что утверждается в собственно высказывании. И здесь
полагается, что последняя как единственность должна мыслиться обращенной «вовне», а это явствует из того, что говорится лишь о том, что не есть «вне» Бога. И, следовательно, первая, которая высказана уже в субъекте предложения, не может быть
также единственностью вовне, она может быть лишь единственностью внутренней,
единственностью Бога, обращенного на себя самого, т. е. единственностью Бога «как
такового», и лишь в ней, по всей видимости, может содержаться собственное понятие монотеизма.
Первая лекция
23
Представлены также и «доказательства» этого положения; ибо оно нуждается
в доказательствах, с тем чтобы создать видимость особого учения. Одна из самых
обычных аргументаций в пользу единства или единственности Бога — ибо, как сказано, даже относительно этих выражений нет полного согласия — основывается на
понятии «высшей причины». Конечно, нельзя отрицать, что высшая причина, поскольку она является таковой и «как таковая», может быть всегда лишь одной; однако
«эта» единственность не была бы той совершенно безусловной, которую принято связывать с понятием Бога; такая единственность все еще согласовывалась бы со всего
лишь «приматом» или «принципатом», который приписывается Богу в сотворении
вещей, однако она не помешала бы поставить рядом с ним вторую причину, которая
даже в «себе», т.е. оставляя в стороне ее «действие», может быть совершенно тем же,
что и «Он» сам, так что тот, которого мы называем теперь Богом, утверждал бы свое
исключительное право называться Богом не на своей «сущности», но на абсолютном
превосходстве своего «действия» при сотворении мира. Можно было бы представить
себе это отношение, например, предположив, что тот Бог, который есть «высшая»
и как таковая «единственная» причина, лишь предварил другого в первой наклонности к творению, этому же последнему, который теперь не мог найти места для собственного творения (ибо всякая возможность такового была уже исчерпана первым),
совсем не обязательно было быть злым по своей природе, но все же — если он не
хотел смириться с полной и всегдашней бездеятельностью, — ему ничего не оставалось иного, как обрести влияние на творение первого, в результате чего, однако, естественным образом творение того было безнадежно отравлено; первый зачинатель,
хоть и употребил все силы к тому, чтобы избежать пагубы, однако не мог устранить
действия «сущностно» равносильной ему самому причины; и таким образом, следовательно, возник этот смешанный мир, в котором мы наблюдаем постоянную смену возникновения и исчезновения, где все всегда полагается в противоположность
чему-то иному, ничто не существует в своей совершенной чистоте и не свободно как
бы от внутреннего врага, подрывающего его собственное бытие; в этом смешанном
мире, таким образом, принял участие также и другой: пусть это участие было и оспоренным и подчиненным, но, тем не менее, оно было все-таки «участием». Таким образом, рядом с «высшей» причиной, никак не упраздняя этого понятия, можно было бы
поставить другого, противобога (Gegengott). И даже если бы мы не захотели ставить
рядом с ним другого «Бога», то одно лишь понятие высшей причины, по меньшей
мере, не исключало бы младшей со-причины — например, изначально сопротивляющейся всякому порядку и всякому правилу природы, над которой лишь позднее,
подобно Анаксагорову νους6, возобладала в себе разумная и более сильная*, обучила
Είτα νους έπελθών αυτά διεκόσμησεν. — (а затем ум (нус), придя, упорядочил ее) (греч.) — приводится как анаксагоровское.
24
Первая книга. Монотеизм
ее порядку и рассудку, подчинила противящуюся правилу и форме. Ни одно из этих
воззрений не может быть опровергнуто из одного лишь понятия высшей причины;
еще менее, если бы мы под «высшей» причиной захотели понимать совершенно исключающую всякое совместное действие, — еще менее можно было бы доказать высшую причину в «этом» смысле из взгляда на сам мир, который, напротив, с очевидностью повсюду выказывает нам два независимых в своем действии друг от друга
принципа, из которых один предстает противящимся всякой форме и образу, другой
же всегда вновь стремится привести все к пределу и мере; однако происходит ли один
из этих принципов, а именно худший в нашем представлении, от лучшего (что в любом случае трудно было бы объяснить), или происходят они оба от некоего высшего,
или оба они от века существовали независимо друг от друга, — об этом, по меньшей
мере, не может свидетельствовать мир. Однако если допустить, что из взгляда на мир,
из которого единственно ведь можно было бы делать выводы о причине, если допустить, что из него можно было бы сделать вполне убедительное заключение об «абсолютном», не допускающем вообще никакого содействия, единстве первой причины,
то даже и тогда эта первая причина, или Бог, была бы все же лишь, как принято говорить, фактически, ipso actu7, единственной, но никак не по своей природе. Теологи
же называют единственность Бога единственностью по «природе» или по сущности,
так что, собственно, не просто кроме него «нет» никакого иного Бога, как они обычно
выражаются, но «не может» быть никакого, что для Бога по его природе невозможно
иметь ничего вне себя — ни того, что было бы равно ему, ни ему неравного*.
Похоже, что до сих пор при выведении понятия монотеизма думали всегда лишь
о собственно политеизме. Однако только что приведенная система не может рассматриваться как прямая противоположность «монотеизму», ибо она по существу не
есть политеизм. Нельзя сказать, чтобы это учение непосредственно противоречило
учению о едином Боге; ибо также и для нее «тот» Бог, которого она называет благим,
все же по существу есть единственный истинный Бог, другой же есть не-Бог, ложный, неистинный Бог. И, тем не менее, мы рассматриваем эту систему как ложную,
Deus autem est unicus non modo actu ipso, ut tamen plures Dii essent possibiles, sed quia contrarium
ne fieri quidem potest. Unde patet (ut hoc obiter moneam) hanc unitatem non debere probari ex sufficientia unius Dei; ostenderet haec ratio, non opus esse, ut actu ipso plus quam unus existât Deus, non vero
plurium possibilitatem refellit, utpote quae, si cetera essent paria, tamen locum habere posset. — (Бог же
единственен не только самим фактом, ибо таким образом многие Боги были бы возможны, но так
как противоположное (т.е. в данном случае множество богов. — Прим. ред.) не может возникнуть.
Откуда явствует (замечу мимоходом), что эта единственность не должна выводиться из одной только достаточности Бога; таковое рассуждение привело бы к заключению, что всего лишь нет нужды
в том, чтобы самим фактом существовал более чем один Бог, не отвергая при этом самую возможность существования многих [Богов], ибо она могла бы, при определенных условиях, иметь место.)
(лат.) — Weissmann. Institt. Theol., p. 198.
Первая лекция
25
противоположную «истинной» религии систему. Ибо истинный Бог дуалистической
системы есть собственно лишь случайно истинный, равно как лишь случайно он
называется «благим». Поскольку другой, который в системе двух принципов рассматривается как принцип или причина зла, имеет предположительно совершенно
равную силу с первым, а следовательно, совершенно равные основания и права на
то чтобы быть, т.е. выражать себя и действовать, окружать себя бытием, творить
для себя бытие, царство; таким образом, он имеет с первым совершенно одинаковое
право называть злом то, что противоположно ему и что препятствует ему в «его»
бытии, что оспаривает его бытие и подвергает его нападкам — для него зло есть то,
что для нас, живущих в творении первого Бога, есть благо, и наоборот, добро для
него есть то, что для нас есть зло: все зависит лишь от точки зрения; поэтому непостижимо, каким образом новейший писатель (Фридрих Шлегель) мог настолько
увлечься борьбой против системы пантеизма и восхвалять и представлять как лучшую систему дуализма — лишь потому, что она утверждает вечное различие добра
и зла в качестве абсолютного. Мы только что наблюдали совершенно обратное, т. е.
что как раз именно дуализм превращает эту противоположность во всего лишь относительную, которая всякий раз устанавливается лишь с частичной, т. е. партийной
(partaisch)8, точки зрения. Если поэтому дуализм, который не может быть обойден
в полном перечислении возможных религиозных систем — это известный факт, что
в целом взаимодополняющих и к одному предмету относящихся понятий ни одно
отдельное не может получить полного определения без других — при этом рассмотрении или упоминании дуализма, кстати, вполне может оставаться открытым вопрос о том, существовала ли когда-либо данная система исторически, в частности,
вполне может оставаться открытым вопрос о том, действительно ли парсийский дуализм в своем возникновении мыслился как именно дуализм; достаточно того, что
дуализм как отличная от политеизма и монотеизма система занимает особое место
среди возможных религиозных систем — если, таким образом, эта система с одной
стороны есть бесспорно ложная и непригодная, с другой же, тем не менее, она не
является непосредственно или прямо противоположной монотеизму, то она должна находиться в противоположности с «другим» понятием, однако с таким, которое
требуется для истинной системы, т. е. для монотеизма, которое, следовательно, уже
предполагается самим монотеизмом. Ибо истинное понятие везде и всюду есть последнее, окончательное и наиболее полное, то, к которому «переходят», но которое,
однако, именно поэтому должно иметь и исходную точку. Этой же исходной точкой
для монотеизма не может быть ничто другое, кроме только теизма, и мы поэтому совершенно правильно определим отношение, если скажем: политеизм противоположен монотеизму, дуализм же — уже просто теизму. Что же теперь следует понимать
под просто теизмом в его отличии от монотеизма, — это будет пояснено следующим
наблюдением, к которому мы теперь и переходим.
26
Первая книга. Монотеизм
Формула, в которой обычно выражается монотеизм, является пустой, тавтологичной. Это было нашим первым замечанием. Она, однако, также является: 2) чисто
иллюзорной. Ибо на той точке зрения, где теологи говорят о единственности Бога,
должен, если мы слышим, что кроме него нет «никакого иного Бога», вполне естественно возникнуть вопрос, существует ли вообще «нечто кроме» него. На этот вопрос теологи также могут ответить лишь отрицательно. Ибо они сами причисляют
единство или единственность к тем качествам, которые свойственны Богу «до» всякого «деяния», до всякого акта, mera natura. На этой точке зрения они, таким образом, сами должны сказать, что не существует ничего кроме Бога, ибо всякое внебожественное бытие они выводят лишь из свободной причинности Бога (ибо ведь все,
что «до» всякого акта существовало бы «вне» Бога, как независимо от него наличествующее, должно было быть в «равной» степени изначальным и тем самым вообще
эквиполентным9, так что — также и по этой причине — положение «нет иного Бога
кроме Бога» на данной точке зрения могло означать лишь: нет ничего вне его). Если
же теперь вне Бога нет не только иного Бога, но и вообще ничего, то таким образом
Бог есть не только единственный Бог, но и вообще абсолютно Единственный (только
о μόνος, но не о μόνος θεός10). Если здесь должно отрицаться не существование иного
Бога, но «всякое» существование «вообще», то речь также идет не о единственности
Бога «как такового», но об абсолютной единственности Бога*. Для того, однако, чтобы создать видимость, будто бы то, что есть всего лишь абсолютная единственность,
было единственностью Бога как такового, они присовокупляют это «никакого иного
Бога» и, тем самым, запутываются в тавтологии или попросту излишнем заверении.
Теологи (под которыми я разумею не всегда только тех, кого принято так называть, но также и философов, которые занимаются спекулятивной теологией) по
существу не знают никакой иной единственности, кроме той, которую я высказываю, уже произнося слово «Бог» (не «некоторый бог» (ein Gott)). Если же спросят
о смысле этой абсолютной единственности, или спросят, почему Бог есть Бог, а не
некоторый бог, то на это я не вправе снова ответить «потому что кроме него нет
никакого иного», ибо, тем самым, я сделал бы лишь оборот по кругу; таким образом,
то, что он есть Бог, должно основываться не на том, что кроме него нет никакого
иного Бога, но на том, что вне его нет «ничего» (что, правда, также еще никак не объясняет, чем является он сам). В свою очередь, посредством того, что кроме него нет
ничего, я вновь и вновь прихожу лишь к понятию «Бога» или абсолютно Единственного, но никак не к понятию единственного Бога. Таким образом, вполне возможно
К этому (к тому, что нет ничего вне Бога) ведут также и те доказательства в пользу единственности, которые теологи выводят из природы Божества, напр., доказательство, выводимое из бесконечности; они доказывают слишком много; они доказывают не только, что кроме Бога не может быть
иного Бога, но также и то, что кроме него нет ничего совершенно.
Первая лекция
27
было бы придать обычному выражению форму, в которой оно действительно имело
бы «некоторый» смысл и, тем самым, избежать обычной тавтологии. А именно, следовало бы сформулировать положение не так, что есть «один» Бог, кроме которого
могли бы существовать еще один или несколько иных, — но лишь Бог; однако при
этом выражении одновременно было бы также очевидно, что положение содержит
в себе не более, чем прежнее «Бог Есть»; было бы очевидно, что предложение ничего
не говорит о Боге, но всего лишь повторяет само понятие «Бога»; т. е. таким образом
было бы очевидно, что положение содержит в себе не монотеизм, но именно один
лишь теизм. Для того чтобы выразить содержание этого положения: «Существует —
не один Бог, кроме которого могли бы существовать один или несколько иных богов, но — лишь Бог», — чтобы выразить содержание этого положения, вполне достаточно было бы слова «теизм», сложносоставное же «монотеизм» было бы здесь
совершенно излишним*. Отсюда явствует, что традиционное объяснение понятия
монотеизма, будучи приведено к своему истинному значению, т.е. освобождено от
только кажущегося, собственно лишь тавтологического, — содержит в себе лишь
теизм, но никак не монотеизм. Это весьма важное и большое отличие. Несмотря на
это, я не хотел бы утверждать, что не может существовать таких людей, которые выразили бы свою полную удовлетворенность указанным положением и придерживались бы того мнения, что в теологии нет необходимости в чем-либо ином, так как
вполне достаточно именно одного лишь теизма, и особое понятие, именуемое монотеизмом, есть совершенное излишество. Правда, в прежние времена понятие теизма
было не на самом хорошем счету, и если о ком-либо говорили: он только теист, то это
означало почти что: он атеист, т. е. тот, кто утверждает не «истинного» Бога, но вместо него всего лишь какой-то фантом или simulacrum11 истинного Бога. Однако это
неприятное побочное значение, которое обычно было связано со словом «теизм»,
в новейшее время было полностью утрачено, причем утрачено не только оно само,
но даже и самое о нем воспоминание**. Правда, похоже, что в христианском вероучении едва ли можно обойтись без понятия монотеизма и что уже поэтому придется
Шлеермахер хорошо видит истинное положение вещей, когда говорит (christl. Glaube 1. Th. S. 306),
что единство Бога столь же мало могло бы быть доказано, сколь и его бытие, а это означает, что оно
содержит в себе не более, чем только теизм.
Можно было бы спросить: каким образом теизм может быть равен атеизму? Ответ: нельзя говорить о Боге вообще, когда действительно говоришь о Боге. Тот, кто говорит о Боге вообще, говорит
не об истинном Боге, а следовательно — о чем-то ином, к чему он относит имя Бога. Его теизм, таким
образом, равен атеизму, беря это слово в негативном смысле. Одно лишь понятие Бог, θεός, само по
себе является пустым, представляет собой одно лишь слово; чтобы говорить о действительном Боге,
который не есть только θεός, но, как различают сами греки, ό θεός, определенный Бог, необходимо
добавление определения. Ибо ведь также не говорят: θεός есть единый, но ό θεός εις έστιν — сей бог
есть единый (греч.).
28
Первая книга. Монотеизм
сохранить прежнее тавтологическое понятие. Нужда в этом понятии будет возникать,
по меньшей мере, там, где необходимо будет упомянуть о различии между христианством и язычеством, — упоминание, которое вряд ли может быть обойдено стороной. Однако даже и «это» — при тех воззрениях относительно значения политеизма,
которые до сей поры были настолько всеобще утвердившимися, — не будет столь
уж и необходимо. Ибо ведь очень просто сказать: монотеизм первоначально имел
смысл и значение лишь относительно политеизма и в качестве его противоположности. Однако, после того как для нас исчезла всякая опасность и всякая возможность
многобожия, ничто уже не мешает предать забвению монотеизм как особое понятие,
что давно уже и происходит при всеобщем молчаливом попустительстве; ничто не
мешает тому, чтобы тавтологическое и по существу являющееся плеоназмом выражение «единственный Бог» растворилось бы в более высоком и общем — в понятии
Бога, не требующем никаких дополнений. Ибо собственно существуют лишь теисты
и атеисты. Теистами являются, прежде всего, иудеи, от которых берет свое начало
наша вера, затем мы, христиане, и магометане, происшедшие от тех и других. Политеизма, собственно, не существует вообще. Так называемые боги язычников лишь
случайно получили религиозное значение и сами по себе суть не боги, а, напр., только персонифицированные природные силы; теистическое в их представлениях есть
лишь видимость и изначально не имеет никакого религиозного значения. Сторонники многобожия, таким образом, суть всего-навсего атеисты. Можно было бы относительно этого объяснения, согласно которому политеисты суть не более чем атеисты, сослаться даже на авторитет одного из апостолов, который говорит, обращаясь
к эфесянам: Ήτε άθεοι εν τω κόσμφ12, вы были без Бога — как атеисты — в мире. Вы
видите, какую важность для нашего исследования имеет понятие атеизма, ибо оно
является решающим даже в таком вопросе, как собственность или несобственность
мифологии.
ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ
Я возвращаюсь к прежде сделанному утверждению о том, что, сколь бы странным это ни могло показаться, но понятие монотеизма до сих пор еще не получило
своего верного определения. Именно нам надлежит теперь поставить на место ложного определения — истинное. Это, однако, должно произойти не иначе, чем в результате того, что мы попытаемся, вследствие предварительно познанного различения между абсолютной единственностью Бога и единственностью Бога как такового,
дать точное определение каждой из них в их собственном значении. При этом мы не
можем исходить из чего-либо иного, кроме абсолютной единственности, которая,
к тому же, каждому представляется в первую очередь. Ибо всякий, кто произносит
слово «Бог», ощущает, что тем самым он не столько высказал, сколько, скорее, предположил единственность — единственность, которую он должен мыслить уже для
того, чтобы помыслить Бога (не некоторого Бога), однако, помыслив которую, следовательно, он вместе с тем еще не помыслил собственно Бога. Если бы вне Бога был —
не действителен, но всего лишь возможен — какой-либо иной, то он был бы уже не
Богом, но некоторым Богом. Таким образом, заранее, еще прежде чем он является
Богом, определено, что он есть то, что не «не имеет себе равных», как обычно принято говорить, но не может их иметь. Что же теперь есть то, что не может иметь себе
равных? То, что имеет себе равных, имеет с ними также и нечто общее, пусть даже
это было бы всего лишь бытие: в этом случае как оно само (то, о чем мы говорим), так
и то, что мы с ним сравниваем, или то, что мы рассматриваем как равное ему, — то
и другое есть бытие. Точно так же, если нечто существует вне Бога, то он имеет с ним
именно бытие в качестве общего, т. е. как он есть, так и оно. Если же, таким образом,
ничто не может существовать вне его, то и сам он не может представлять собой [некое] бытие, т.е. нечто лишь причастное бытию (как, напр., нечто белое или красное,
или красивое лишь причастно белизне или красноте, или красоте, однако не есть
сама белизна, сама краснота или сама красота). Если же теперь Бог не есть бытие, нечто лишь причастное бытию, то не остается ничего иного, кроме того, что он есть
само сущее, ipsum Ens, αυτό το Ό ν 1 , и именно это и есть то необходимое предпонятие
Бога, которое нам необходимо положить с тем, чтобы положить Бога (не: некоторого
30
Первая книга. Монотеизм
Бога). Бог, таким образом, есть само сущее. Однако то, что он есть само сущее, не
есть еще божественность в нем, но лишь предпосылка его божественности. Бог может быть лишь тем, что есть само сущее, однако сущее, тем самым, еще не есть для
себя самого Бог, но должно добавиться определение, что оно есть Бог*, а поскольку
то, что принимает определение или способно его удержать, в логическом смысле называется материей, мы можем сказать: бытие сущим есть материя Божества, однако
еще не само Божество. Если бы Бог не был ничем кроме сущего, то было бы абсурдно
говорить об одном единственном Боге. Ибо сколь мало о том, что есть само белое
или само красное, я могу сказать, что оно есть единственное белое или единственное
красное (это можно было бы сказать лишь об определенном белом или красном),
столь же мало о том, что есть само сущее, я могу сказать, что оно есть единственное
сущее. Напротив, именно поскольку оно есть «само сущее, общая сущность» (Ens
universale2), поскольку оно, как сказано, есть материя Божества, я, конечно же, —
хоть и не могу сказать о самом сущем «оно есть единственное сущее», однако могу
сказать о Боге «он есть единственный Бог»; я могу сказать это не так, словно бы он
был им случайным образом, но я должен при этом помыслить, что он является таковым не случайно, а с необходимостью, и это нельзя выразить тем положением, что
кроме Бога нет иного Бога, или что Бог не имеет себе равных (как выражается также
и Шлеермахер**). Ибо если Бог и отличается от сущего (Ens universale) (или если
в его понятии мыслится еще больше, чем в понятии только сущего), но при этом его
единственность выводится лишь из того, что он есть само сущее, если все это обстоит так, то такая единственность есть лишь его необходимая единственность,
и можно лишь сказать, что не может быть иного кроме него. Это, таким образом, не
есть его фактическая единственность, как та, которая мыслится в монотеизме. Ибо
ведь эта последняя вполне может быть всего лишь его фактической единственностью. Если бы мыслимая в монотеизме единственность была необходимой, то как бы
мы объяснили тот факт, что монотеизм сделался общепризнанным понятием лишь
благодаря христианству, т.е. лишь приблизительно 1500 лет назад? Единственность,
которая утверждается в монотеизме, должна быть такой, о которой можно лишь сказать, что она Есть, но не что она совершенно не могла бы не быть; она не есть сама
собой разумеющаяся единственность. Это, среди прочего, хорошо разглядел человек
большого опыта и практического рассудка, знаменитый Г. Гротиус, который об этом
учении высказывается прямо противоположным Шлеермахеру образом. Последний
говорит, как уже отмечалось ранее, что единственность Бога столь же мало нуждается в объяснении, как и его бытие. Гуго Гротиус же — не в своей весьма достойной
рекомендации книге «De veritate religionis christianae»3, как вы могли бы подумать,
Добавляющееся определение сперва есть то, что он есть actu оно.
** Christi Glaube Th. 1, S. 305.
Вторая лекция
31
но в своем не менее знаменитом произведении «De jure belli et paris»4* — говорит:
понятие единства Бога менее очевидно, чем понятие его существования (очевидным
было для прежней философии все, что с необходимостью следует из какого-либо понятия; Гуго Гротиус должен был, следовательно, подразумевать под единством Бога
нечто иное, нежели то единство, которое с необходимостью следует из его понятия).
Более поздний, известный своей проницательностью, теолог (д-р Шторр) идет еще
дальше, приписывая человеку лишь не более чем suspicio5 (предположение) единства
Бога, на что никак не был бы способен, если бы не усмотрел в учении о единственном
Боге более того, что с необходимостью следует из одного лишь понятия Бога; ибо
о постулате, который с необходимостью следует из понятия некоторой сущности,
может быть, нельзя помышлять — такое возможно; однако если уж о нем мыслят, то
не с одним лишь suspicio или предположением, но лишь будучи уверенными в нем
как в таком, противоположность которому невозможна. Итак, дабы вернуться теперь назад от этого промежуточного разъяснения, я прошу вас теперь различить два
способа понимания. Я могу: 1) повсюду мыслить под словом Бог не что иное, как
только лишь само сущее, или общую сущность. В этом случае я не имею права использовать это слово изолированно в качестве предиката; именно поскольку я говорю «Бог есть само сущее», я не могу сказать «Он есть единственное сущее»; поскольку я говорю «Он есть само сущее», я также должен говорить «Он есть само Единое»,
чем как раз и выражается, что единство не приписывается ему в качестве предиката,
не сказывается о нем (т. е. так, чтобы он при этом рассматривался бы как terminus a
6
quo ), но что он сам есть Одно . Здесь, таким образом, где я не могу сделать единственность предикатом, любое высказывание единственности было бы невозможным, и уже только поэтому на данной точке зрения не могло бы существовать ничего
такого, что можно было назвать монотеизмом. Или же: 2) я отличаю Бога от только
сущего, т. е. я мыслю в Боге еще нечто иное и большее, нежели только само сущее,
хотя я мыслю его также и как сущее. Здесь, правда, вышеупомянутое высказывание
возможно, я могу сказать «Бог есть единственный Бог»; однако это высказывание
имеет смысл: «Он есть с необходимостью единственный Бог». Положение гласило бы
не то, что кроме Бога нет никакого иного, но что кроме него никакого иного быть не
может. Т. е. здесь, где я отличаю Бога от только сущего, только общей сущности, я
уже определил его как материю его божественности (уже отмечено, что здесь не мыслится ничего телесного — материя должна браться в логическом и метафизическом
смысле). Постулат «Он есть с необходимостью единственный Бог, т.е. он есть Бог,
* Lib. II, 47.
На этой точке зрения верным является древнее изречение imitas non superadditur essentiae, «единство не дополняет сущности», т.е. его нельзя мыслить как предикат; ср.: Gerhard. Loc. Theoll,. т. Ι,
p. 106.
32
Первая книга. Монотеизм
кроме которого не может быть никакого иного» имеет поэтому следующий смысл:
отсутствует как бы материя, материал для иного Бога; то, что есть само сущее, не
может быть многократно, поскольку оно вообще не может быть в том смысле, в каком единственно возможно многократное бытие. То же, что есть истинный Бог,
должно быть прежде, в себе и как бы до самого себя*, т. е. до своего Божества уже
быть самим сущим, общей сущностью, или оно имеет своим основанием, ύποκείμενον7,
материей своего Божества то, что оно есть общая сущность. Если же это, т. е. бытие
общей сущностью, есть основание Божества, то абсолютное единство общей сущности, которое есть именно само Одно, абсолютное единство общей сущности делает невозможным существование более чем Одного Бога, поскольку именно основание, материал для второго уже отсутствует, так что собственно отрицается не другой
Бог (как это выражают теологи), но сама возможность (предпосылка, материя) какого-либо иного. Это определение важно, ибо весьма многие философы и теологи,
ощущавшие затруднение в этом учении и пытавшиеся разными способами от него
уйти, среди прочего пытались также и эту единственность Бога, о которой в данный
момент идет речь, доказать из того, что для полного объяснения мира необходим не
более чем один Бог, или одного Бога вполне достаточно для такого объяснения. Тем
самым, однако, полностью искажается смысл понятия. Предполагается, что со стороны Божества, безусловно, возможен более чем Один Бог: если бы явление мира
понуждало нас к тому, чтобы предположить более чем Одного Бога, то со стороны
Божества этому бы ничто не препятствовало. Также и здесь можно видеть стремление уйти от необходимо единственного, т. е. ощущение того, что собственно монотеизм, собственно догма о единственном Боге не может содержаться в той необходимой единственности, которая следует уже из того, что я говорю: Бог (не: некоторый
Бог); равно как именно то, что я говорю: Бог (а не: некоторый Бог), происходит от
того (или, что то же, происходит от единственности, которая имеет здесь свое основание), что я помыслил в нем не некоторое сущее, но само сущее. Если эта необходимость происходит от того, что Бог есть само сущее, то эта единственность возникает
не от его божественности, не от того, что он есть как Божество, но от того, что он
есть в себе и как бы до себя самого, т. е. до своей божественности: она происходит от
основания, как бы от материи его Божества. Я, таким образом, мыслю — также и
в этой необходимой единственности — Бога не специально как единственного Бога,
но лишь как вообще единственного, не по своей божественности, но лишь субстанционально (по своей субстанции — substantia est id quod substat8; субстанция есть
поэтому то же, что и основание, ύποκείμενον9), я мыслю его как только субстанциально, но не по своему Божеству единственного, т.е. я в этой единственности вообще
Попутно пусть будет отмечено здесь, что лишь таким образом формула будет верной, а не в себе
и для себя.
Вторая лекция
33
никак не мыслю монотеизма. Если монотеизм есть догма, т.е. нечто, требующее
определенности утверждения, то мыслящаяся в нем единственность не может быть
этой необходимой, не могущей иметь своей противоположности; она сама может
быть только фактической, ибо ведь утверждается собственно только лишь фактическое. Эта необходимая единственность, происходящая от только субстанциального
Бога, есть все еще его единственность вообще, или абсолютная единственность: я
могу, в силу ее, сказать, что вне Бога ничто не возможно, равно как и сказать, что
кроме него не может быть никакого иного Бога; или, скорее, лишь потому вне его
невозможен иной Бог, что вне его невозможно ничего, ибо вне его отсутствует материал, возможность бытия, поскольку он есть наиболее общая сущность.
Таким образом, теперь нам надлежит отыскать путь от этой абсолютной единственности к единственности Бога как такового. Ибо только вместе с ней мы станем
обладателями третьего, т.е. монотеизма. Для этой цели мы, однако, должны дать
в качестве нашей отправной точки еще более близкое, чем в том возникала необходимость ранее, определение.
Нашей отправной точкой служил постулат «Бог есть само сущее». Призываю вас
хорошо обдумать это понятие, о котором можно сказать, что оно есть понятие всех
понятий, наивысшее из всех тех, которые вообще могут служить исходной точкой,
а значит — наивысшее также и во всей философии. Я говорю: оно есть понятие всех
понятий; ибо любой предмет лишь постольку может мыслиться мною, поскольку я
мыслю в нем сущее, последнее содержание всякого понятия есть именно лишь сущее, Ens universale10, что хорошо сумела разглядеть старая схоластическая философия. Если животное не мыслит вещи, то именно потому, что оно лишено понятия
сущего; в этом понятии сущего, которым обладает человек, и заключается как раз
все отличие человека от животного. Далее, мы прежде всего узнаем из этого понятия,
что оно еще не заключает в себе действительного бытия; скорее, оно есть всего лишь
нечто вроде заглавия, общего субъекта, общей возможности бытия, однако для себя
оно еще не заключает в себе действительного бытия. Оно (действительное бытие),
таким образом, и есть то, переход к чему становится теперь возможен; ибо то, к чему
я должен теперь перейти, еще не должно быть положено вместе с тем, из чего я исхожу. В этом направлении, следовательно, и должно двигаться наше исследование,
коль скоро оно, как мы сказали, должно перейти от абсолютной единственности,
основывающейся лишь на том, что Бог есть само сущее, — к единственности Бога
как такового.
Было бы, кстати, вполне естественно, если бы нам, после всего сказанного, предложили следующий вопрос: если само сущее есть еще всего лишь общая возмож11
ность бытия (старая схоластика говорила: aptitudo ad existendum ; это, однако, выражение, благодаря которому само сущее предстает как только пассивное, как всего
лишь необходимая наличность (disponibel) для действительного бытия, что не есть
34
Первая книга. Монотеизм
истинный смысл) — если само сущее есть только общая возможность бытия, и я поэтому еще не мыслю его само как существующее, именно потому, что оно есть не
более чем заголовок бытия, — то как же мне следует мыслить его? Не как существующее, как мы только что слышали, — однако я также не могу мыслить его как целиком и полностью несуществующее — оно должно, даже как только общий субъект
бытия, все же некоторым образом существовать. Здесь, следовательно, необходимо
проводить различение между тем бытием, которое дано уже благодаря тому, что оно
есть само сущее, и тем бытием, для которого оно есть всего лишь общая возможность. Это последнее бытие есть, как вы, вероятно, видите, лишь к нему добавляющееся, а значит, с точки зрения настоящего, — есть будущее. Далее, поскольку оно
к нему добавляетсЯу и может добавиться лишь в результате акта, оно есть актуальное
(действительное) бытие; то же бытие, которое положено в нем, уже тем самым, что
мы мыслим его как само сущее, есть именно бытие лишь в понятии, и вы можете
видеть из этого, что сущее само, поскольку оно не имеет бытия вне своего понятия,
существует лишь как понятие; и что именно здесь — то место, где можно сказать,
что понятие и предмет понятия суть одно и то же, а это значит, что сам предмет
здесь не имеет иного существования кроме существования в понятии, или, как это
еще выражают, что понятие и бытие здесь едины — а это, опять же, значит всего
лишь, что бытие здесь не вне понятия, но в самом понятии. То, что есть само сущее, имеет свое бытие уже в своем понятии, а не вне его, как нечто особое и от него
отличное. Вы, однако, сами видите, каким узким и бедным выглядит это понятие
и как мало мы можем предпринять с этим единством бытия и понятия, поскольку
по существу своему оно целиком и полностью негативно. Сюда же относится также и формула, которая весьма употребительна в философии и теологии, гласящая,
что в Боге сущность и бытие суть одно, но которая также говорит не более, чем что
в Боге (а именно — лишь с определенной точки зрения: с той, на которой он мыслится лишь как само сущее), — что в Боге не мыслится никакого отличного от сущности,
выходящего за рамки сущности бытия, но мыслится лишь такое, которое мыслится
уже в силу того, что он определяется как само сущее. Этот постулат, однако, был бы
совершенно ложен, если бы он сказывался о Боге вообще, т. е. для каждой возможной точки зрения. Он истинен, как сказано, лишь для той точки зрения, где действительно Бог мыслится всего лишь как само сущее. Никоим образом не в интересах
философии оставаться в этой тесноте, и то была бы печальная и в высшей степени
стесненная философия, которая знала бы о Боге лишь постольку, поскольку бытие
в нем едино с сущностью или есть сама сущность. В интересах философии как раз,
напротив, — вывести Бога из этого идентичного с сущностью бытия в отличное от
сущности, в выраженное, проявленное, действительное бытие, и в этом собственно
заключается триумф философии. Если это идентичное с сущностью бытие захотят
назвать необходимым бытием, то против этого не будет никаких возражений. Оно
Вторая лекция
35
в этом случае лишь не будет бытием Бога как такового, но также лишь бытием в себе
и до себя (an und vor sich). В своем в-себе-и-до-себя Бог есть необходимое бытие,
т. е. такое, бытие которого возвращается в сущность и тем самым — есть его бытие
сущностное, но не действительное.
Само сущее — в силу того, что оно прежде всего есть лишь общее заглавие к бытию, — никоим образом не есть ничто, или ούκ öv12. Оно, правда, не есть то, что уже
Есть, если я под бытием понимаю то прибавляющееся к сущности, которое есть вне
сущности, а следовательно — особо положенное (я мог бы назвать его также и свойственным, тем, которое может высказываться, предицироваться из сущности, что не
так в случае с тем, что, собственно, не добавляется к самому сущему, не может быть
приложено к нему, поскольку именно оно не есть нечто от него самого отличное), т. е.
само сущее, конечно, не есть то, что уже Есть, т. е. в только что обозначенном смысле,
однако, тем самым, оно еще не есть ничто, но, скорее, оно есть то, что имеет быть.
Это последнее определение есть то, что должно внести для вас в дело окончательную
ясность. То, что имеет быть, еще не является, конечно, именно поэтому существующим, однако оно все же не есть ничто, и таким образом то, что есть само сущее,
мыслимое чистым образом как таковое, хоть еще и не представляет собой нечто существующее, однако, тем самым, еще не есть ничто; ибо оно есть то, что имеет быть.
«Бог есть само сущее» — означает после всего сказанного то же, что и: «Бог в себе
и до себя, рассматриваемый в своей чистой сущности, есть только то, что имеет
быть»; и здесь я вновь напоминаю вам о том, что в самом древнем документе, в котором идет речь об истинном Боге, этот Бог сам дает себе имя: Я буду быть (Ich werde
sein); при этом вполне естественно, что именно тот, который, когда он говорит от
первого лица, а значит, о самом себе, называет себя Aejaeh, т. е. «я буду быть», что он,
когда о нем речь идет в третьем лице, когда о нем говорит другой, именуется Jehwo
или Jiwaeh, что кратко есть: Он будет быть. И лишь это теперь собственно ведет нас
к высшему понятию Бога, поскольку он определяется как само сущее. А именно, мы
видим, что в этом выражено свободное отношение Бога к бытию, что он определен не
только как еще свободный от бытия, бытием не обремененный (все, что есть некоторое сущее, как бы обязано бытию, пленено им, не имеет, поскольку оно есть бытие,
выбора существовать или не существовать, быть тем или иным образом, и именно
на этом основывается древнее как мир мнение об изначальном несчастии всякого
бытия, или, как это выразил один французский философ, о malheur de l'Existence13).
Бог в этом смысле пребывает вне бытия, над бытием, однако он не просто в себе
самом свободен от бытия, чистая сущность, но он также свободен по отношению
к бытию, т. е. чистая свобода быть или не быть, принимать бытие или не принимать;
что заключено также в «Я буду тем, чем буду быть» (Ich werde sein, was ich sein werde).
Это можно перевести также и как «...чем захочу быть» — «я не есть необходимо сущее (в этом смысле), но Господь бытия». Вы видите из этого, что уже благодаря тому,
36
Первая книга. Монотеизм
что Бог объяснен как само сущее, он также одновременно определен как дух; ибо дух
есть именно то, что может быть и не быть, выражаться и не выражаться, что никогда
не вынуждено выражаться, как тело, которое не имеет выбора — заполнять или не
заполнять собою пространство, но которое должно его собою заполнять, тогда как я,
напр., как дух совершенно свободен выражать себя или не выражать, выражать себя
так или иначе, одно в себе выражать, а другое — не выражать. Вы видите именно поэтому также, что философия, которая восходит к самому сущему и исходит из него,
что она непосредственно и своими собственными средствами уже ведет к системе
свободы и освободила себя от необходимости, которая подобно кошмару тяготеет
надо всеми остановившимися на одном лишь бытии, не поднявшимися до самого
сущего системами, сколь бы много они ни хвастались своим движением. Выйти за
пределы бытия и даже прийти к нему в свободное отношение — в этом заключается
истинное устремление философии. Само сущее уже в себе самом есть также свободное от бытия и по отношению к бытию, и вообще лишь само сущее является здесь
важным для нас. Бытие неважно, ибо оно есть, в любом случае, лишь акцессориум,
добавляющееся к тому, что есть. Это последнее мы стремимся познать, и познание
того, что есть, есть собственно то самое, которое взыскуется в философии. Если все
остальные науки, даже когда, на первый взгляд, они занимаются сущим, в конечном
итоге занимаются лишь бытием, или, по меньшей мере, не самим сущим, то философия именно тем отличается от всех прочих наук, что задается вопросом о том, что
есть (не о бытии), что она есть наука сущности (ибо сущностью мы называем то,
что есть, или само сущее), что она есть scientia Entis, επιστήμη του Όντος 1 4 , как она
с полным правом характеризуется, хотя впоследствии, как мы увидим, должно прибавиться еще одно определение. Начинать философию с сущего — значит попросту
поставить ее с ног на голову, значит обречь себя проклятию никогда, ни теперь, ни
в будущем, не пробиться к свободе.
Итак, именно потому, что само сущее есть лишь общий заголовок, общий субъект к бытию, мы имеем повод перейти от него к бытию. К этому бытию оно само
относится как приус, а поскольку мы исходим из негоу мы таким образом сами вступаем в априорное отношение к бытию, или наше положение таково, что мы должны
определять это бытие a priori. И, поскольку легко заметить, что все бытие может быть
лишь бытием самого сущего или того, что есть, мы, выводя модальность или модальности самого сущего, выведем и определим модальность или модальности всего
бытия.
Теперь, однако, невозможно помыслить никакого иного непосредственного отношения того, что есть само сущее, к бытию, кроме того, что оно есть непосредственно и из себя самого (безо всякого промежуточного посредничества) быть могущее,
и более того, оба понятия: понятие самого сущего и понятие из себя самого быть
могущего — столь непосредственно совпадают, что их почти невозможно разделить,
Вторая лекция
37
и второе понятие тут же могло бы быть подставлено на место первого. Мы, в соответствии с этим, точно так же могли бы вывести необходимую единственность Бога.
Бог, по достигнутому определению, есть то, кроме чего ничего не может быть, т. е.
ничто не имеет власти существовать. Таким образом, Бог есть единственная власть
существования (Die Macht zu existieren). Он есть то — pênes quod solum est Esse15 (что
единственно обладает бытием), т.е. общий принцип бытия, общая potentia existendi 16 , из чего теперь следует, что всякое бытие есть лишь бытие Бога. Последнее ныне
обычно называют пантеизмом. В этом, следовательно, в определении, что Бог есть
непосредственно быть могущее (я отмечаю, что бытие в возможности здесь не должно мыслиться в том пассивном смысле, в котором мы о случайных вещах говорим,
что они могут быть, а могут и не быть, т. е. при определенных условиях и в том случае, если они даны; здесь, однако, подразумевается безусловное бытие в возможности, чистая сила и власть существовать, и если мы говорим: «Бог есть непосредственно быть могущее», то мы, тем самым, хотим выразить, что он может быть сущим
посредством одной лишь своей воли, не нуждаясь для этого ни в чем ином, кроме
одного лишь воления) — это определение, таким образом, что Бог есть бесконечное
бытие в возможности, конечно, можно рассматривать как принцип пантеизма, и если
бы теологи и философы говорили только это, мы ничего не имели бы им возразить.
Ибо пантеизм, конечно, не состоит, как это зачастую себе представляют, в том, что
говорят, что все бытие есть лишь бытие Бога. Ибо еще никто не изыскал средств отрицать это, хотя обычно также и не желают допускать таких утверждений. Но не
в этом заключается пантеизм, а в том, чтобы приписывать Богу слепое и в этом
смысле необходимое бытие — бытие, в котором он не имеет своей воли и лишен всяческой свободы, как это мы наблюдаем, например, в системе Спинозы. Лишь это
можно было бы назвать пантеизмом, если вообще хотят сохранить данное название.
В этом смысле я говорю теперь, что тот принцип, который выражает первое отношение Бога к бытию, есть принцип пантеизма. Уже отмечалось также и другими, что
то постоянство, с каким эта система вновь и вновь порождала себя в различные эпохи (напр., в эпоху индусского Будды точно так же, как и в эпоху греческого Ксенофана) и в самых разных областях мира (напр., на горных вершинах Тибета, так же как и
в низовьях Голландии), — что это постоянство не позволяет рассматривать его как
только случайное порождение, оно должно быть порождением естественным, начальный росток которого должен содержаться уже в необходимых исконных понятиях всякого бытия. И именно это открывается здесь. Мы не можем не определить
Бога как непосредственную potentia existendi. Если бы он не был ничем, кроме этого,
то это неизбежно привело бы к пантеизму, т. е. к системе слепого бытия, при которой
сам Бог есть лишь потенция своего бытия. Existentia sequitur essentiam (causa sui) —
Deus non alio modo causa rerum quam suae Existentiae17. Можно поэтому сказать, что
в этом состоит принцип пантеизма, однако поспешно было бы сказать, что в этом
38
Первая книга. Монотеизм
заключается сам пантеизм. Я говорю: одно лишь единственно и исключительно положенное понятие potentia existendi, непосредственно быть-, перейти в бытие-могущего, — вело бы нас к пантеизму. Я поясню это подробнее следующим образом. Чистая potentia existendi не просто может перейти в акт, подняться в бытие, но, более
того, для нее совершение такого перехода естественно', только естественным образом она, непосредственно так как она есть, поднимается к действительному бытию.
Ибо всякая возможность есть собственно еще действительно не желающее, т. е. покоящееся, воление. Воля есть потенция, возможность воления, сама же воля есть акт.
Однако желание естественно для воли в том же смысле, в каком мы говорим о способном к свободному передвижению существе, что для него естественно двигаться,
т. е. (ибо это есть собственный смысл данного выражения) для этого не нужно никакого особого воления, но лишь отсутствие не-воления; собственно, таким образом,
нужна была бы противоположная (выраженная) воля для того, чтобы оно не двигалось. Также и та покоящаяся воля, которая предполагается в абсолютной potentia existendi, нуждается таким образом, для того чтобы перейти в бытие, не более чем
в простом желании, точнее, не в желании чего-то (ибо она ничего не имеет перед
собою, чего она могла-бы пожелать, она есть абсолютно беспредметная воля),
но лишь в желании вообще. Ничто так не трудно, как понять первоначальное возникновение или сотворение бытия. Однако многие вещи потому лишь так трудны,
что они слишком уж близко от нас лежат. По существу всякое бытие есть акт, что
также признано в общем философском словоупотреблении. Но всякий не первоначальный акт, т. е. всякий акт, имеющий своей предпосылкой потенцию, может быть
лишь волением, поэтому все первоначальное порождение бытия происходит лишь
в волении. Всякая воля, которая возникает внутри меня после той или иной продолжительности состояния покоя, есть некоторое бытие, которого прежде не было
и которое состоит в одном лишь волении. Чистая potentia existendi представляет
собой, таким образом, свободную от всякой примеси нежелающую волю, и уже одним тем, что она желает, она дает себе или привлекает к себе бытие; она является
сущей в волении, или само воление есть для нее бытие. Между небытием и бытием
ничто не стоит для нее посредине, кроме одного лишь простого воления, т. е. простой деятельности, выраженности, позитивности воления, которое, поскольку оно
ничего не имеет перед собой, чего оно могло бы желать, может таким образом не
желать чего-то, но лишь воспаляться в себе, активизироваться. Теперь, однако, легко увидеть, что таким образом, в результате непосредственного подъема ex potentia
in actum18 ставшая сущей потенция представляла бы собой уже не потенцию, а значит, более не воление, но теперь уже лишенное воли и в этом смысле необходимое
сущее; оно есть вне себя положенная, ушедшая от себя потенция, то, что, будучи над
бытием, перестало быть сущим: т. е. оно хоть и теперь еще есть сущее, однако в смысле совершенно противоположном тому, в котором мы называли его самим сущим.
Вторая лекция
39
А именно, там мы мыслили его как нечто свободное от бытия, что еще пребывает над
бытием, здесь же оно есть уже обремененное бытием, плененное им, пребывающее
таким образом под бытием (existentiae obnoxium19); оно уже более не является, как
раньше, субъектом бытия, но оно есть всего лишь объективно сущее (как принято
было говорить издавна и как Фихте сказал о субстанции Спинозы, что она есть всего
лишь объект, т. е. слепо и необходимо сущее) — оно, конечно же, есть существующее, однако это слово должно быть взято в смысле греческого εξίσταμαι20, от которого, с очевидностью, происходит латинское existo21. Это теперь сущее есть
Έξιστάμενον22, вне себя положенное, собой более не обладающее, бессознательное и,
в этом смысле, необходимо, т. е. слепо, сущее, которое в бытии перестало быть источником бытия и превращается теперь в слепую безвольную субстанцию, т.е.
в прямую противоположность Бога, в подлинного не-бога, которого Спиноза хоть
и называет causa sui (причиной самого себя), но который, однако, по существу прекратил быть causa (причиной) и пребывает как всего лишь субстанция. Впрочем, я
прошу вас не понимать сказанное до сих пор таким образом, как если бы действительно как система существующий пантеизм сам восходил к чистой сущности, к абсолютной potentia existendi. Истинный пантеизм знает эту potentia existendi не иначе
как в том виде, в каком она предстает уже как бы достигшей бытия и в него погруженной. Он не был бы слепой системой, каковой является, если бы он познал нечто
до слепого, не постигающего самого себя и потому бесконечного и беспредельного
бытия, т.е. если бы он понял самого себя в своем возникновении. Однако он, напротив, разделяет слепоту своего предмета. Будучи застигнут врасплох и напуган слепо
ринувшимся на него бытием, он теряет по отношению к нему (которому он, действительно, не знает никакого начала и которое для него поэтому должно представляться
как безначальное, вечное, а также — поскольку оно действительно есть бытие, утратившее свою предпосылку, — как беспричинное), по отношению к этому бытию, таким образом, которому он, конечно, не может предпослать никакого начала, перед
лицом которого он беззащитен и совершенно бессилен — по отношению к этому
бытию он сам утрачивает всякую свободу и должен как бы слепо предаться ему, даже
впоследствии не будучи в силах что-либо ему противопоставить, как, напр., Спиноза
не может дать никакого отчета о том, каким образом в это слепое и по своей природе
бесконечное бытие, тем не менее, приходят ограничения, склонности, модификации
(определения рассудка), которые он вынужден предполагать, поскольку без его ограничения он не может мыслить себе отдельные, конечные сущие. В его принципе не
заключено совершенно никакой причины для таких модификаций; ибо хотя он
и уверяет, что отдельные конечные вещи следуют из природы Бога не иным образом
как тем же самым, каким из природы треугольника следует, что сумма его углов равна двум прямым; причем таким образом он предполагает чисто логическую связь
между Богом и вещами, однако даже и это есть не более чем голословное заверение.
40
Первая книга. Монотеизм
Геометрия показывает, что данный постулат следует из природы треугольника, однако Спиноза не может показать, что из природы его субстанции с необходимостью
и сами собой следуют конечные вещи — он лишь утверждает это.
Если от этого объяснения по поводу пантеизма мы вернемся ко взаимосвязи нашего изложения, то дело теперь обстоит следующим образом. Также и из Бога, коль
скоро он есть чистая сущность и само сущее, мы не можем исключить понятия непосредственного и из себя самого бытия в возможности (von selbst sein Koennens);
ибо сущность есть приус бытия, она есть мыслящееся до бытия и не может поэтому
непосредственно быть ничем иным, кроме как именно potentia existendi. Этот принцип теперь есть возможный принцип пантеизма, как только что было показано. Однако принцип пантеизма в силу этого еще не есть сам пантеизм. Нынешние теологи,
однако, пребывают в столь безотчетном страхе перед пантеизмом, что они, вместо
того чтобы упразднить его в его принципе, пытаются игнорировать сам этот принцип, не позволяя ему даже показаться (в этом также состоит причина того, что на
место абсолютной единственности Бога они подставляют единственность Бога как
такового, т.е. монотеизм). Однако для того чтобы действительно отрицаться, отрицаться в самой основе, этот принцип должен действительно выказать себя, должен
быть признан как, по меньшей мере, существующий, как нечто не исключенное. Его
нельзя просто отложить в сторону безо всякого рассмотрения. Простое игнорирование не поможет его преодолению. Необходимо определенно ему противоречить;
ибо он есть по своей природе не могущий быть исключенным, — он есть необходимое понятие. Поэтому, так как они закрывают глаза перед лицом этого принципа,
вся их теология остается шаткой; ибо этому принципу необходимо воздать должное.
То, что бытие есть лишь в Боге, и поэтому всякое бытие есть лишь бытие Бога, — от
этой мысли не может отказаться ни разум, ни чувство. Это мысль, которая равно заставляет биться все сердца; даже косная, безжизненная философия Спинозы своей
властью, которую она всегда имела над умами, и далеко не над самыми слабыми и незначительными, но как раз именно над религиозными, — этой властью она обязана
целиком и полностью той основоположной мысли, которая единственно в ней присутствует. Теологи, отказываясь от серьезного рассмотрения принципа пантеизма
(очевидно, потому что они не верят в собственную способность управиться с ним),
сами лишают себя средства к достижению истинного монотеизма. Ибо истинный
монотеизм, возможно, есть не что иное, как преодоление пантеизма. Можно даже
уже заранее полагать, что монотеизм есть лишь перенаправленная в единственность
Бога как такового абсолютная единственность*.
Постулат, высказывающий одну лишь единственность сущности или субстанции, сам по себе не
может быть монотеизмом, но лишь одной его негативной стороной. Если бы монотеизм в своем содержании имел эту абсолютную единственность, то Спиноза точно так же должен был бы считаться
Вторая лекция
41
Таким образом — дабы показать теперь этот переход — данный принцип непосредственного бытия, непосредственная сила поднять себя в бытие, с которой начинается всякое отношение сущего к бытию, не может быть исключен из Бога, однако
он имеет ее в себе не как материю своего бытия вообще, но своего бытия как Бога.
Ибо если бы он действительно проявлялся в том бытии, непосредственной потенцией коего он является, то был бы в этом бытии слепым бытием, т. е. не-духом (Ungeist), а следовательно, также и не-Богом (Ungott); однако, отрицая себя как не-дух,
он именно посредством этой негации приходит к тому, чтобы положить себя как цуху
и таким образом сам этот принцип должен служить его бытию как Бога. Бог, таким
образом, не есть только само сущее, но (здесь появляется затем то определение,
о котором мы сказали, что оно должно прибавиться к понятию самого сущего, для
того чтобы понятие стало совершенно идентичным понятию Бога) — Бог есть само
сущее, которое есть, т. е. которое поистине есть — он есть το όντως öv23, и это означает здесь то же что и: «Он есть само сущее, которое также и в бытии не перестает
быть самим сущим, т. е. духом» (которое также и в бытии сохраняет себя как сущность, как само сущее, т. е. как дух). В соответствии с этим уже не будет представлять
большой трудности показать переход к монотеизму.
Бог, поскольку он есть само сущее, есть также непосредственно в бытие перейти,
в бытие подняться могущее. Те, кто отрицает это и оспаривает способность Бога непосредственно проявиться в бытии — а тем самым быть способным выйти из самого себя, те, кто оспаривает эту его способность, — лишают его, тем самым, всякой
возможности движения и превращают его, лишь иным способом нежели Спиноза,
в не менее неподвижную и абсолютно лишенную способностей сущность, и именно
поэтому они видят необходимость для себя в утверждении, что, напр., всякое истинное творение есть нечто совершенно непостижимое уму. Именно так и возникает тот мелкий, абсолютно бессильный, вообще ничего не способный объяснить
теизм и деизм, который составляет единственное содержание наших так называемых чисто моральных и надутых религиозных учений. Та сила непосредственного
бытия, сила способности выхода из самого себя, становления неравным самому
монотеистом, как и самый убежденный христианин. Действительно, Гегель в своей «Энциклопедии»
приводит элеатскую систему, систему Спинозы и другие подобные как примеры монотеизма, при
этом даже говоря о монотеизме во множественном числе, что свидетельствует о том, что он, который
всегда искал связать церковные догмы со своей философией, никогда даже и не пытался исследовать это первое из всех понятий. Ибо монотеизмы (во множественном числе) столь же мало могут
существовать, как, например, множество единственных богов. Одно столь же противоречиво, как
и другое. Правда, еще более примечательно то, как другие могли взять за основу систему, которая
даже не попыталась выяснить столь существенного понятия, определяющего и содержащего в себе
все христианское учение, как монотеизм, с тем чтобы с помощью этой системы начать якобы разрушительную критику, направленную против всего здания христианских истин.
42
Первая книга. Монотеизм
себе, — эта сила экстазиса и есть собственно порождающая сила в Боге, которой
они таким образом его лишают. Ибо именно в том, что он есть это (непосредственная сила быть), он имеет уже не просто общую материю, но ближайший материал
своего Божества. Эта потенция — конечно, в своей направленности вовне — есть потенция небожественного и даже противобожественного бытия, однако именно поэтому в своей обращенности вовнутрь — потенция, основание, начало, полагающее
(das Setzende) божественного бытия — το γόνιμον24, или, если мне будет позволено
смелое выражение одного из апостолов, το σπέρμα τοϋ θεοϋ25. Бог не есть Бог благодаря этой потенции, однако он столь же мало есть Бог без нее. Истинное понятие Бога
(о действительности речь еще не идет, я прошу вас это отметить), однако истинное
понятие Бога есть: бытие сущностью, которая лишь через негацию противоположного бытия может быть как сущность, как дух. Уберите, таким образом, потенцию
этого противоположного бытия, и вы лишите Бога возможности быть как дух, полагать себя, порождать себя как дух. Возможность противоположного бытия как раз
и дана в этом непосредственном бытии в возможности. Однако Бог — по своему
понятию есть бытие в возможности: не для того чтобы быть соответственно ему
(бытию в возможности) сущим (т.е., слепо сущим), но чтобы не быть таким образом, чтобы, следовательно, иметь в себе это бытие как только возможное, как всего
лишь основу (то, что есть лишь основа, само никогда не является сущим), как только
начало своего бытия. Не удивляйтесь, что я говорю здесь о начале божественного
бытия; поскольку я пользуюсь здесь этим выражением впервые, то поясню его. Вы
можете видеть сами, что здесь речь идет не о внешнем, но о внутреннем начале божественного бытия, которое именно поэтому само может мыслиться как вечное, т. е.
как всегда пребывающее и никогда не перестающее: не как начало, которое однажды
стало началом, а затем прекратило им быть, но которое всегда есть начало, и сегодня является началом ничуть не менее, чем являлось им в незапамятные времена.
Вечное, непрестанное начало божественного бытия, в котором Бог не положил себя
единожды и теперь более не полагает, но в котором он вечно начинает полагать себя,
есть эта положенная только как основание непосредственная сила быть (unmittelbare
Macht zu sein). Вообще-то принято говорить, что в Боге нет ни начала, ни конца. Однако как только мы переходим к бытию, т. е. как только мы то, что есть само сущее,
начинаем также как сущее желать или мыслить, то в этом бытии с необходимостью
есть начало, середина и конец — однако, как сказано, вечное начало, вечная середина и вечный конец; и постулат «в Боге нет ни начала, ни конца» означает в отношении божественного бытия лишь следующее: в Боге нет ни начала его начала, ни
конца его конца. Лишь это будет позитивным понятием вечного и вечности, тогда
как та обычная формула Aeternum est, quod fino et initio caret26 есть всего лишь негативное понятие вечности. Когда говорят, что в чистом понятии самого сущего не
мыслится ни начала, ни конца, то этим лишь сказано, что начало и конец еще не
Вторая лекция
43
положены, т. е. в этом отсутствии начала и конца мыслится не нечто позитивное, нечто совершенное, но, напротив — всего лишь негация, отсутствие, ибо ведь также
и понятие сущего получает свое завершение лишь в понятии Бога. То, что не имеет
начала и конца, не может быть совершенством, но несовершенно, оно есть отрицание
всякого акта; ибо там, где есть акт, есть также начало, середина и конец. Бога также
обычно определяют как абсолютное. Однако латинское слово absolutum означает не
что иное, как завершенное, законченное (voll-endete), a значит — не такое, которое не
имеет в себе конца, не всецело бесконечное, но в себе самом завершенное и оконченное, как это лучше выражает латинский язык в выражении id quod omnibus numeris
absolutum est27; в любом акте, в любом движении, однако, существенными являются
лишь три момента или числа: начало, середина и конец; таким образом, то, что имеет
их в себе самом, является совершенно законченным, т.е. представляет собой omnibus
numeris absolutum.
Мы можем в целях дальнейшего пояснения еще сказать, что эта потенция непосредственного бытия является естественной и принадлежащей к природе Бога, или,
как мы ранее уже отмечали, переход является естественным для него. В самом понятии природы мыслится только возможность. Под природой какой-либо сущности,
напр., растения, подразумевают то, что дает ей способность быть растением, в силу
чего она может быть растением. Природа той или иной сущности именно поэтому
сама отличается от действительной сущности: природа сущности есть приус сущности, сама же действительная сущность — лишь постериус. Однако именно благодаря
не-бытию того, чем он являлся бы лишь mera natura, лишь естественным образом,
именно благодаря этому он есть Бог, т. е. сверхприродное. Вполне сообразно понятию Бога то, что он полагает себя в этой потенции как не-сущее (что он сохраняет
ее именно как только потенцию, как только возможность) — я говорю, что именно
так эта потенция определена понятием Бога; ибо о действительности, как уже напоминалось, речь совсем не идет — речь идет лишь о понятии Бога, поскольку он Есть;
то, что мы устанавливаем, есть понятие a priori — мы определяем заведомо, какое
бытие будет божественным и может быть божественным, и мы говорим: в понятии
божественного бытия то непосредственное бытие, которое полагалось бы путем непосредственного перехода a potentia ad actum, это бытие в понятии божественного
бытия полагается как отрицаемое, как только потенциальное. В понятии Бога, таким
образом, заключено, что в этом бытии он полагает себя как не-сущее, однако он не
может полагать себя в нем как не-сущее, не полагая себя как сущее в ином, а именно — полагая себя в нем как чисто сущее, т. е. как сущее без перехода a potentia ad
actum. Это последнее определение мы пока что пропустим, с тем чтобы позднее вернуться к нему и дать ему более подробное объяснение. Ибо на данный момент важно
лишь в целом и в наиболее общих чертах уяснить себе это отношение, возникающее
между предшествующим и последующим. Бог, сообразно своему понятию, и потому
44
Первая книга. Монотеизм
как Бог — полагает себя в этом первом бытии как не-сущее, однако лишь с тем, чтобы во втором бытии положить себя как чисто сущее. То первое бытие, в его отрицании, есть, таким образом, возможность или потенция второго, или это второе имеет
в том первом, а точнее — в отрицаемом первом, свою потенцию, свою возможность,
мы можем также сказать, свой материал. Оба они — не-сущее там и чистое сущее
здесь, — таким образом, неразрывно друг с другом связаны и не могут быть отделены друг от друга. И если теперь мы спросим, что же такое есть собственно Бог как
таковой, то очевидно, что он не есть в особенности ни то первое отрицаемое бытие,
которое мы обозначим здесь как 1, ни то позитивное бытие, которое мы обозначим
как 2, что он не есть Бог в качестве какого-либо из них в отдельности, но Бог есть Бог
лишь в качестве 1+2, т.е. в качестве положенного как сущее через негацию 1 в 2; и,
поскольку он не есть Бог ни в качестве 1, ни в качестве 2, но лишь в качестве 1+2, то
именно поэтому положены не два Бога, но лишь Один Бог, хотя положены Два, однако не два Бога, — мы можем лишь сказать, что они суть два образа Одного, сущего
в 1+2, Бога. Вы заранее можете видеть здесь (ибо, оставляя на потом более подробное определение 2, я лишь для того пускаюсь здесь в это объяснение, чтобы вы тем
с большей охотой следовали за мною, видя, куда ведет нас наше исследование). Вы
можете заметить здесь, говорю я, заранее, что здесь, безусловно, возникает нечто,
о чем мы можем сказать, что оно содержит в себе единство Бога как такового или по
своему Божеству, а значит — нечто, что действительно ограничивает единство или
единственность сферой Божества.
То, что в понятии монотеизма заключено нечто ограничительное, рестриктивное, — признавалось самим способом выражения о нем, который, впрочем, как мы
показали, не является сообразным. Те, кто говорил о нем, ощущали, что недостаточно для монотеизма отрицать, что существует вообще нечто иное кроме Бога,
и таким образом они отрицали, что существует какой-либо еще Бог кроме Бога, т. е.
отрицание в постулате было ограничено сферой Божества. Ошибка, однако, была
в том, что при этом думали лишь о единственности вовне, вместо того чтобы обратить единственность на самого Бога. В качестве непосредственного содержания
монотеизма видели не понятие единственного Бога, но сразу же высказывание единственности. Поскольку же единственность искали лишь на стороне высказывания,
то на стороне субъекта высказывания оставалось лишь неопределенное и общее понятие Бога. Если же теперь мы предположили, как следует предположить, что в понятии единственного Бога, т.е. в понятии монотеизма, речь могла идти не о чем-то
вне Бога, но лишь о самом Боге, однако одновременно полагаем, что в этом понятии
с необходимостью заложено ограничение, т.е. что единственность ограничивается
Богом как таковым, т. е. Божественностью Бога, то единственный еще остающийся
смысл есть тот, что Бог является единственным — лишь как Бог, или по своему Божеству, а значит — в другом отношении, или, в том, что не касается его Божественности,
Вторая лекция
45
не является единственным, но — поскольку здесь не может мыслиться иной противоположности — есть множество.
С самого начала, среди прочих выдвигаемых против обычных объяснений монотеизма оснований, могло бы быть приведено и то, что монотеизм как догма, как
отличительное учение, каковым ведь он является, должен иметь некое позитивное
содержание и, тем самым, не может состоять из одного лишь простого отрицания,
как то, в котором лишь утверждается, что не существует одного или нескольких иных
Богов кроме Бога, или, как, собственно, следовало бы говорить, не может существовать. Здесь отсутствует какое бы то ни было утверждение. Однако утверждение и вообще не может заключаться в том, что Бог есть Одно; ибо этим сказано все еще не
более, чем то, что он не есть множество, а следовательно — это всего лишь негация.
Собственно утверждение может, таким образом, напротив, заключаться именно
в противоположном — в высказывании того, что он не есть Одно, но есть множество, хотя и не как Бог, или не по своему Божеству. Эта ошибка обычного прочтения
состоит поэтому в представлении, будто то, что непосредственно утверждается в понятии монотеизма, есть единство, тогда как непосредственно утверждаемое есть, напротив, множественность, и лишь опосредованно, т. е. лишь в противоположность
ей, утверждается единство, а именно — единство Бога как такового. В наиболее точном выражении мы, следовательно, должны сказать: в истинном понятии единство
далеко не есть непосредственно утверждаемое, но, напротив, оно есть скорее непосредственно оспариваемое: отрицается, что Бог единствен в том же смысле, в каком
Один принцип, — напр., обозначенный нами как 1, — есть Одно. В этом смысле Бог,
напротив, не является единственным. Правильно ощущая в этом смысле (в смысле исключительности), скорее, отрицаемую единственность, самые старые теологи,
напр., Иоанн Дамаскин, от которого в значительной мере ведет свое происхождение
все, что есть спекулятивного в нынешней теологии, говорят: Бог не столько единствен, сколько сверхъединствен: более нежели лишь Один, unus sive singularis quis28.
Множественность отрицается не в Боге вообще, но лишь в Боге как таковом; Бог
есть лишь как Бог Одно, т. е. не множество, или: он есть лишь не множество Богов;
однако это не мешает, но — если он действительно есть единственный Бог, который
по своему Божеству есть единственный, — это высказывание даже требует, чтобы
он в другом отношении, т. е. поскольку он не есть Бог, представлял собою множество. То, что Бог как Бог есть единственный, имеет смысл лишь тогда (и лишь в этом
случае может быть предметом утверждения), если он не вообще является единственным, если он, следовательно — не как Бог или, будучи рассматриваем вне своей божественности, есть множество. Вообще, если вы пожелали узнать, что именно означает данное всемирно-историческое понятие, вам не следует обращаться с вопросом
к учебникам и компендиумам. Ибо каким бы образом мы ни представляли себе первое возникновение этого понятия единственного Бога в человечестве, оно точно не
46
Первая книга. Монотеизм
возникло благодаря простой рефлексии или школьной премудрости. В частности,
мы знаем, что мы, т.е. новейшее человечество, вообще не придумали этого понятия,
что оно досталось нам лишь благодаря христианству. Однако вполне можно было
бы объяснить, почему в последствии почли за благо скрыть собственно позитивное
этого понятия, относясь к нему как к тайне, так что это позитивное, тем самым, обречено было утратиться, и ничуть не менее очевидно то, что это понятие, как только
оно вообще получило власть, тут же было поднято в ранг канона всякого высокого исследования, священной предпосылки, но одновременно, тем самым, выведено
из сферы действия какой бы то ни было критики. Если, таким образом, мы желаем
ознакомиться с действительным значением этого понятия, которое принадлежит не
какой-то одной отдельной школе, но всему человечеству, то необходимо обратить
внимание на то, каким образом оно впервые заявило о себе в мире. Теперь, однако, не существует более изначальных слов о единстве Бога, нежели те капитальные
и классические, что звучат в обращении к Израилю: «Слушай, Израиль, Иегова твой
Элохим есть единственный Иегова — "Ш nirr29»; здесь не говорится: «он единственный»; «он есть ΊΠΚ30» или Один всецело, но: «Он есть единственный Иегова», т. е. он
един лишь как Иегова, как истинный Бог, или по своему Божеству, — чем, таким
образом, допускается, что он, если отвлечься от его бытия Иеговой, может быть множеством*. Здесь, таким образом, в самом первом изречении, в котором выражено
учение о единственном Боге, мы имеем то ограничение, которое должно мыслиться
в понятии монотеизма, высказанным в ясных и понятных терминах.
Ни в грамматике, ни в гении еврейского языка, насколько он мне знаком, не заключено ничего
такого, что помешало бы вместо та πίτη Ч'пЪк nirr (yahwe eloheykha yahwe ehad), Иегова твой Бог
есть единственный Иегова, сказать: та ^ргтЪк гпгггг yahwe (eloheykha ehad), Иегова твой Бог есть
единственный; нужно, следовательно, предполагать, что это повторение главного слова является намеренным. Ср.: Захария 14, 9.
ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ
Итак, я предварительно и в общих чертах показал переход от абсолютной единственности к единственности Бога как такового. Вы видите: то, что в Боге является
основанием абсолютной единственности, само становится элементом его единственности как Бога, т. е. то, что является принципом пантеизма, само становится элементом монотеизма. Теперь же я попытаюсь дать ближайшее объяснение особому отношению обоих этих только что найденных элементов множественности.
Сущее в своем переходе к бытию — в первый момент есть лишь бытие в возможности, однако лишь с тем, чтобы в некий второй момент быть чистым сущим,
т.е. сущим, в котором теперь столь же мало есть от возможности, как мало было
в том первом от бытия. Сущее в обоих этих моментах, рассматриваемое, таким образом, как 1 + 1, есть сущность, заключающая в себе бесконечную potentia existendi
как только потенцию, как простую возможность. Как содержащая ее в себе, она не
может быть тем же, что и содержимое, но напротив, чтобы содержать в себе эту потенцию бытия, она должна быть настолько же преизбыточно сущей, насколько та
есть бесконечная возможность, т. е. бесконечное не-бытие. Бесконечное отсутствие
бытия в одном может уравновешиваться лишь бесконечным избытком бытия в другом, чем одновременно первое удерживается в состоянии возможности. Ибо непосредственное бытие в возможности таково, что должна быть еще дана или объяснена возможность удержания его в возможности. То, что содержит в себе нечто иное,
всегда есть одновременно удовлетворительное для него. «Содержать» звучит полатыни как continere1, и мы можем сказать: quod continet, contentum reddit id quod
continet2, т. е. то, что содержит, удовлетворяет то, что содержится в нем; contentum
esse aliqua re3, действительно содержаться, быть содержащимся в чем-то, — означает
то же, что и быть удовлетворенным, довольствоваться им. Преизбыточное бытие во
втором, таким образом, заставляет умолкнуть собственное бытие в первом, так что
оно останавливается как pura potentia4, как чистая возможность, и не имеет желания
48
Первая книга. Монотеизм
перейти в собственное бытие*. Как первое есть potentia pura (чистая возможность),
точно так же второе есть actus purus5, т. е. оно не есть лишь a potentia ad actum6 переходящее, но оно сразу же есть акт. Сущее в его втором моменте (я говорю момент:
момент, как известно, то же самое что и movimentum, от moveo, — а то, что мы наблюдали здесь, является ведь переходом, т. е. движением, сущего к бытию, а стало
быть, эти различия действительно суть точки движения или прохождения божественного бытия, и мы поэтому также имеем право назвать их моментами, или даже,
поскольку они суть моменты, благодаря которым становится возможным божественное бытие, т. е. возможности божественного бытия, мы вполне можем назвать
их также потенциями божественного бытия) — в своем первом моменте, таким образом, или в первой потенции своего бытия, сущее есть чистая возможность, potentia pura, во втором моменте столь же чистое бытие, actus purus, однако оно есть чистая возможность в первом лишь постольку, поскольку оно есть чистое бытие во
втором, и наоборот, оно лишь постольку может быть actus purus во втором, поскольку в первом оно есть potentia pura; таким образом, несмотря на то что 1 есть первое,
предшествующее, а 2 — второе или последующее, все же здесь нет действительных
До или После, но мы должны оба их мыслить себе как положенные одновременно;
непосредственно не сущее полагается сразу же, как только положено чистое сущее;
между обоими именно потому существует высшая степень взаимоотнесения (они
взаимоотносятся), что то, что в одном отрицается, полагается в другом, и наоборот.
То, что выказывает себя как potentia pura, есть поэтому только субъект, однако не
субъект себя самого (ибо в этом случае оно одновременно было бы объектом),
но субъект второго или для второго; оно есть субъект, не будучи при этом объектом.
Напротив, второе (которое мы назвали чисто или бесконечно сущим) — оно есть
чистый объект, однако не для себя самого, ибо в этом случае оно являлось бы также
и субъектом; но оно есть чистый объект для первого, а следовательно — только объект, безо всякого бытия субъектом. Каждое в своем роде одинаково бесконечно:
одно — будучи бесконечным субъектом, второе — бесконечным объектом. Мы сразу
же имеем здесь некое конечно-бесконечное, т.е. обладающее формой, не бесформенное, но, я бы сказал, органическое бесконечное, ибо каждое по отношению к другому
(поскольку оно не есть то, чем является другое) конечно, будучи же рассматриваемо
в себе самом, есть бесконечное. Мы можем, после того что уже ранее отмечено о природе возможности, первое (сущее как potentia pura) сравнить с покоящейся, т.е. не
желающей, волей. Сущее же как чисто сущее, напротив, следует сказать, подобно чистому, как бы безвольному, волению: как пример такого безвольного воления мы
В своем единстве 1 и 2 суть вечное довольство: оба они вместе представляют как бы бедность
и переизбыток, из соединения коих известное платоновское сочинение порождает эрос. (Положение, заимствованное из другого манускрипта.)
Третья лекция
49
могли бы рассматривать преизбыточную благость словно бы не могущей отказать
в себе сущности. Potentia pura из них двоих есть то, что может или могло бы в себе
отказать; а именно, если бы оно желало быть субъектом, возможностью, потенцией
себя самого, т. е. если бы оно желало или предполагало собственное бытие, оно именно тем самым отказало бы в себе второму и исключило бы его из себя. Potentia pura
есть могущая существовать самостно, однако, именно потому что лишь самостно
существовать могущая, — не самостно сущая, а значит, все же бескорыстная, воля.
Однако второе есть никак не могущее в себе отказать, в себе самом бескорыстное,
могущее лишь принадлежать первому. Первое есть волшебство, магия, благодаря которой второе, будучи подъято надо всякой самостью, приводится или предназначается к чистому преизбыточному бытию. Чем глубже углубление, т. е. отрицание самости в одном, тем больше возвышение надо всякой самостью в другом. Первое
должно быть Ничем (т. е. ничем не быть само), с тем чтобы преизбыточно сущее могло стать для него Чем-то, и наоборот, второе должно быть бесконечно сущим, с тем
чтобы сохранить первое в его несамостном бытии (nicht-selbst-Sein). В обоих, таким
образом, присутствует одно и то же бескорыстие, или, пользуясь старым, однако же
точным выражением, совершенно равное самонеприятие (Selbstunannehmlichkeit),
а следовательно, тем самым величайшее взаимное приятие, ибо первое есть абсолютное отрицание вне-себя-бытия, второе же — столь же совершенное отрицание
ß-себе-бытия. Первое (potentia pura) не привлекает к себе бытия, которое содержится в нем как возможность, однако именно поэтому второе не есть себе сущее (Sich
Seiende), но лишь первому сущее, более того, лишь для него быть могущее и таким
образом его предполагающее. Ибо первое, начало, всегда и везде может быть только
субъектом. Сущее не может непосредственно быть объектом; бытие-объектом есть
второе, и оно предполагает то, для чего оно есть объект. Поэтому сущее непосредственно может быть лишь субъектом, и оно есть чистый субъект, только субъект,
если оно не есть субъект самого себя, т. е. если оно не таково, что может быть одновременно своим объектом. Сущее, таким образом, с необходимостью есть одно —
в той мере, в какой оно есть субъект, и иное — в той мере, в какой оно есть объект;
конечно, оно есть одно и то же сущее, однако одно и то же сущее есть одно в качестве 1 и иное в качестве 2, и таким образом оно представляет собой действительное
множество. В качестве 1 оно есть субъект самого себя как 2, поскольку оно есть одно
и то же сущее, однако 1 и 2 не суть одно и то же, но каждое есть иное, ибо каждое
исключает именно то и не является именно тем, что представляет собой другое.
2 есть только объект, и именно поэтому оно может быть лишь 2, лишь secundo loco7,
т. е. оно предполагает нечто другое. Напротив, та только бесконечная возможность
может быть началом, и именно тем самым — является началом (пусть предварительно и всего лишь внутренним), она есть начало именно благодаря тому, что она привлекает к себе это бесконечно сущее в качестве объекта. Ибо начинать (anfangen),
50
Первая книга. Монотеизм
или, как еще принято говорить, anfahen8 и привлекать (anziehen) есть по сути одно
и то же слово. Начало заключается в привлечении, само же привлекающее должно
представлять собой недостаток, бедность собственного бытия; как говорит Христос:
блаженны нищие Духу, т. е. для Духа, так что они привлекут к себе Дух. Ибо если бы
оно было полно собственным бытием*, оно не могло бы при-влечь к себе никакого
бытия, но напротив, отталкивало бы его от себя. (Вы сами чувствуете, какое глубоко
нравственное значение заключено в этих высших понятиях. Однако именно оно есть
одновременно и высшее доказательство истинности этих понятий, и само это нравственное значение в то же самое время способствует их понятности.) Но также и
в другом значении, которое имеет слово anziehen, где оно означает то же, что
bekleiden9 — «надевать», — также и в нем первая потенция является привлекающей
для другой; а именно, эта чистая (лишенная всякого бытия), голая возможность,
привлекая бесконечное бытие, как бы облачается или покрывает себя этим бытием,
так что мы видим лишь его, а не ее саму; сама она сокрыта в глубине, она есть собственно мистерия божественного бытия, которое, будучи лишено в себе какого бы
то ни было бытия, внешне покрывает себя бесконечно сущим, и для себя будучи ничем, именно поэтому есть иное (а именно бесконечно сущее). Ибо истинное значение
выражения «быть чем-либо» именно таково. А именно, если бытие сказывается cum
emphasi, то выражение «быть чем-либо» (etwas sein) = быть для него, для этого чегото, субъектом. Есть (das ist), глагол-связка в каждом предложении, напр., в предложении А есть В, если он вообще является значимым, эмфатическим, т. е. частицей
действительного суждения, то «А есть В» означает то же, что и: А есть субъект для В,
т. е. оно не есть само и по своей природе В (в этом случае предложение было бы пустой
тавтологией), но: А есть также и не В быть могущее. Если бы то, что в предложении
стоит на месте субъекта, т. е. если бы А в вышеуказанном случае было таково, что оно
могло бы лишь — быть на месте предиката, но не также и не быть, то такое предложение было бы ничего не говорящим, лишенным значения. Я лишь тогда могу сказать
о человеке «он здоров», если предполагаю, что он не находится вне пределов всякой
возможности болезни (ибо тогда предложение было бы ничего не говорящим), но,
напротив, лишь тогда, когда эта возможность в нем побеждена, т.е. когда она представляет собой лишь субъект или — является латентной. Когда я отрицаю, что он
болен, я одновременно допускаю возможность противоположности (собственное
значение слова Emphasis**). Точно так же, если я о какой-либо геометрической
Если бы оно было самостью.
Значение эмфазиса следует определять не по современному употреблению, напр., по «avec emphase» («настойчиво») (φρ.) французов, где сохранилась лишь часть прежнего значения, но руководствуясь объяснениями Квинктилиана, который (Institut. Orat. 9,2, 3) объясняет слово как «plus quam
dixeris significationem» (подразумевающее больше, чем сказано) (лат.), а в другом месте говорит о его
Третья лекция
51
фигуре — будь она изображена на доске или представлена телесно, — говорю: «Это
есть круг», или: «Это есть эллипс», — то это всякий раз есть высказываемое суждение. Субъект в этом предложении есть то, что я вижу, — материя, коей представлена
фигура. Если, таким образом, я выношу суждение: «Это есть круг», или: «Это есть
эллипс», — то тем самым я выражаю, что именно то, что я вижу и что теперь есть
круг, точно так же могло бы быть какой-либо иной геометрической фигурой или вообще совсем не фигурой; лишь поскольку я предполагаю это, я говорю с определенностью или cum emphasi10: «Это есть круг», или: «Это есть эллипс». И именно в этом
смысле мы говорим также и здесь: бесконечная возможность, бесконечное не сущее
и — бесконечное бытие, бесконечно сущее. Не удивляйтесь, что я так долго останавливаюсь на объяснении этих потенций и их отношения; ибо это именно те потенции,
с которыми нам придется иметь дело впоследствии, чье значение и отношения нам
поэтому следует иметь в виду, чтобы всегда различать их во всех мыслимых обличьях и под всеми возможными покровами.
Следует, однако, сразу же признать, что также и на двойственности мы не сможем остановиться. А именно, собственно намерением этого изложения является показать или представить, каково само сущее. Теперь же само сущее всегда является
собственно субъектом, силой быть (Macht zu sein). Лишь непосредственно, как мы
сейчас видели, лишь primo impetu11, так сказать, мы не можем полагать силу быть
как сущую. Ибо имеющееся здесь в виду бытие есть предметное, объективное. Ничто, однако, не есть непосредственно предмет, оно есть предмет лишь для другого,
т. е. поскольку оно предполагает нечто другое. Таким образом, само сущее в своем
первом моменте, т. е., поскольку ему еще не предпосылается ничто иное, может быть
положено лишь как чистый субъект, как чистая сила быть, однако с выраженным
определением не бытия. Сущее поэтому в первый момент есть лишь potentia pura. Во
второй момент оно вновь полагает себя, теперь — как объект (поскольку субъектом
оно уже является), однако теперь оно есть как раз совершенно только объективно,
т. е. как в противоположность себе самому положенный субъект. Субстанциально,
по одной лишь своей субстанции, субъект присутствует также и в 2 (ибо не может
быть ничего, кроме того, что есть субъект; субъект и объект в этом смысле суть одно
и то же, субъект лишь является таковым как субъект, объект же есть лишь как объект-положенный субъект); также и в 2, взятом лишь субстанциально, есть субъект,
однако лишь полностью обращенный в объективное, в бытие (т.е., в объект), так что
значении: non ut intelligatur efficit, sed ut plus intelligatur (стремящееся не к пониманию, но к более чем
пониманию) (лат.) (8, 2, 11), или: altiorem praebens intellectum, quam verba per se ipsa déclarant (дает
более глубокое понимание, нежели сами слова) (лат.) (8, 3, 83). К вышеупотребленному слову «латентный» я могу привести 9, 2, 64: Est emphasis, cum ex aliquo dicto latens aliquid eruitur (Эмфазис —
это когда из немногого сказанного открывается нечто скрытое) (лат.).
52
Первая книга. Монотеизм
в нем теперь субъективное столь же латентно, скрыто и приведено к молчанию, как
в 1 было положено бытие, или объективное — в качестве латентного и сокрытого.
Мы могли бы сказать, что как в 1 бытие (под которым здесь всегда подразумевается
качественное, предметное), как в 1 бытие, так в 2 субъект, самость — является всего
лишь возможностью, и потому всецело латентной. Таким образом, хоть мы и имеем теперь в одном, в 1, чистое Ό Ν 1 2 (чистое Ens13 в субъективном смысле, то, что
есть, однако безо всякого бытия, в воздержании от всякого бытия); в другом, в 2,
мы также имеем чистое Ό Ν , однако в обратном, только в предметном смысле, в качестве целиком и полностью вылившегося в бытие, без возврата к себе самому, без
субъектности, без самости. Теперь, однако, очевидно, что ни в одном из обоих для
себя нет того, чего мы собственно ищем, хоть для нас и является необходимостью
полагать сперва то и другое, в которых искомое нами содержится, однако лишь в разрозненном виде. Ибо то, чего мы собственно ищем, есть субъект, чистая сила быть,
которая является сущей как таковая; нам, таким образом, необходим такой субъект,
который как таковой и не переставая быть субъектом, т. е. чистой силой быть, будет также представлять собой объект; и нам нужен такой объект, который оттого,
что он является объектом — сущим — не перестает быть субъектом, чистой силой,
potentia pura existendi14. Однако именно эти определения непосредственно исключают друг друга. Мы можем непосредственно или primo momento15 полагать лишь
чистый субъект без бытия, secundo momento16 — лишь чистое бытие без субъектности, и лишь на третьем месте, лишь как exclusum tertium17, как исключенное третье,
мы сможем полагать объект, который как таковой есть также субъект, или субъект,
который как таковой ничуть не меньше есть также объект. Лишь на третьем месте,
говорю я, т. е. лишь поскольку мы предпосылаем ему оба других. Ибо представьте
себе, что мы делаем попытку начать с этого последнего понятия: оно тут же распадется в наших руках. Наше понятие есть: как таковой положенный или сущий субъект. Однако всякое бытие есть бытие во внеположности (Hinausgesetzt-sein), экспонированность (Exponiert-sein), некое стояние вовне, которое выражено латинским
Extare, однако поскольку, по нашему условию, мы не имеем ничего такого, на фоне
чего субъект мог бы стать внеположен, ex-stirend, то он у нас уходит назад в центр,
в глубину своей чистой субъектности, и таким образом мы все же имеем, хоть мы
и хотели начать с более высокого, совершенного понятия, мы имеем все же простой
субъект, и к тому же как не сущий, как non ex-tans, sed in-stans18 (внутри стоящий).
Такое начало с не сущего является необходимым, неизбежным, оно не есть то, чего
мы хотим, и мы полагаем это начало не потому — что мы желаем его, но лишь потому — что мы не можем иначе; оно не есть изволенное (как таковое оно само явится
нам позднее в мифологии), оно не есть собственно положенное, но всего лишь — не
могущее быть не положенным, не собственно сущее, но всего лишь — не могущее не
существовать, которое мы просто не в состоянии не положить. Теперь от этой точки
Третья лекция
53
мы можем следовать далее, и теперь мы имеем право положить бытие: однако же теперь, при наличии бытия, объекта, — утрачивается субъект; мы имеем теперь чисто,
и даже бесконечно сущее, однако мы имеем его не как силу быть. Ибо то, что есть
сила быть, есть также одновременно и сила не быть; однако именно в этой силе не
быть нашему второму словно бы отказано; оно есть не могущее отказать в себе, или
оно есть лишь быть могущее, т. е. необходимо, а следовательно — также чисто, бесконечно сущее; оно есть совершенно эксцентрическое, как 1 есть абсолютно центрическое. Лишь на третьем месте, где сущее уже не может более уклониться — ни вправо,
ни влево, — лишь в третий момент положенное сущее, поскольку оно не может быть
ни чистым субъектом (ибо место чистого субъекта уже занято 1) , ни чистым объектом (ибо его место уже занимает 2) , поскольку ему, в противоположность, или
в исключении 1, ничего не остается кроме как быть объектом, — здесь сущее должно
остановиться как неделимый субъект-объект, который в бытии, или как сущий, будучи, следовательно, = 2 (равен второму), остается силой быть (а значит, свободным
от бытия), а значит = 1; и наоборот, будучи чистой силой быть, а следовательно, =
1, он ничуть не менее является сущиму а значит = 2; который, поскольку он в бытии
остается свободным от бытия (силой быть), есть самообладающее бытие в возможности, самообладающая сила быть (он является самообладающим, поскольку он как
субъект, т.е. как то, что обладает, одновременно есть объект, т.е. предмет своего обладания): мы можем, используя иное выражение, также сказать, что он есть то, что
являет собой непрерывный акт, не переставая, однако, вместе с тем быть и потенцией (источником бытия), который в бытии пребывает самообладающим, и наоборот,
будучи потенцией, тем не менее представляет собой одновременно и акт — нечто не
могущее утратить себя, при себе пребывающее. В при себе пребывании заключено
два значения, а именно: а) отход от себя, бытие вне себя, как 2. Ибо то, что не может
отойти от себя, не может быть эксцентричным, есть только в себе, будучи к себе как
бы привязанным, как 1. О том, что есть только в себе, что не отходит от себя, нельзя
собственно сказать, что оно существует при себе (bei sich). Быть-при-себе означает
собственно во вне себя-бытии оставаться и пребывать в себе (в своей сущности),
не утрачивать своего в-себе, своей сущности, своей самости во вне-себя-бытии. Для
этого же самообладающего, при себе пребывающего, пребывающего в акте потенцией, а в бытии — силой быть, в языке нет никакого иного слова, кроме слова Дух.
Одному лишь духу дано быть в волении источником воления, т. е. волей, и наоборот,
быть чистой волей в момент воления. Только тем самым, таким образом, достигнуто
то, чего мы искали с самого начала, а именно, что само сущее является сущим как
таковое, однако мы никогда не должны забывать, что это возможно не непосредственно, но лишь в результате перехода от одного образа бытия к другому, в результате движения (не внешнего, но внутреннего), в котором только сущее, и потому не
сущее сущее, — есть вечное начало, только (т. е. чисто) сущее, и потому не самооб-
54
Первая книга. Монотеизм
ладающее сущее, — есть вечная середина, а в бытии свободное от бытия, т. е. пребывающее силой быть, сущее — есть вечный конец.
После наших последних разъяснений мы должны припомнить то, что было отмечено с самого начала, а именно, что до сих пор или до этого момента речь идет
только о понятии божественной сущности, но еще никак не о действительном бытии. То понятие, которое мы до сих пор разворачивали, есть понятие божественного
бытия a priori, т. е. такое понятие, которое мы имеем об этом бытии еще до действительного бытия. Все, что мы можем сказать до этого момента, есть то, что Бог (который в себе не есть сущий, но есть чистая свобода быть или не быть, сверхсущий,
как его называли еще древние) — что Бог, если он есть, есть таким образом, в этих
трех формах или образах бытия быть могущее — однако о том, что он Есть, об этом
сейчас речь пока что не идет. Если мы рассмотрим бытие, или акт — как позитивное
и, в соответствии с этим, небытие, или только потенцию — как негативное, и обозначим само бытие как А, то, следовательно (я вновь напоминаю вам уже знакомые
обозначения), сущее в первый момент или в первой потенции своего бытия следует
обозначить как -А (чем именно мы выражаем, что оно здесь есть не-сущее, не объект); во второй потенции своего бытия оно есть +А (в котором нет ничего от негации, чисто и бесконечно сущее), в своей третьей потенции или образе оно есть как
таковое бытие в возможности, как таковая сущая сила быть, т. е. ±А . Чтобы применить эти обозначения прямо здесь, я говорю: все прежде сказанное не дает нам
ничего, кроме предварительного понятия божественного бытия; Бог для нас до сих
пор есть лишь в этих трех формах, как -А, +А, ±А быть могущий, однако отнюдь еще
не сущий, не действительный. Дана всего лишь форма божественного бытия, но никак не действительная жизнь, не сам живой Бог. Однако все же именно посредством
этого понятия заранее определено то, чему суждено быть впоследствии. С помощью
понятия Бога заранее определено, что он есть непосредственная потенция бытия, не
неопределенным образом, как неопределенная двойственность, как αόριστος Δυάς19,
если пользоваться выражением древних, как потенция, которая столь же может
оставаться потенцией, сколь и перейти в бытие (а значит, — перестать быть потенцией). Понятием, или, как мы можем еще сказать (ибо это совершенно одно и то
же), природой Бога, а значит, a priori, определено — что он есть непосредственная
потенция бытия лишь в своей обращенности вовнутрь, в сокровенности, в таинстве.
Эта потенция, таким образом, есть наиболее первоначальная (поскольку положенная уже самой его природой), незапамятная тайна его Божества, которая до всякого
Здесь, следовательно, ±А означает не ту негативную индифференцию, которую А в себе имеет до
всякого определения, но — позитивную того, что уже не есть ни только -А, ни только +А, но есть,
следовательно, нечто третье, позитивная индифференция, то позитивное безразличие^ которое мы
должны мыслить себе в абсолютной свободе быть или не быть, выражаться или не выражаться.
Третья лекция
55
мышления, уже самой природой Бога (еще не идет речи ни о каком акте) положена
как подчиненное, как латентное Божества; она есть, таким образом, даже не благодаря природе Божества, но, в том случае, если она становится явной, лишь посредством его вопи быть явным могущее (вы можете уже сейчас видеть то большое, что
сделалось возможным благодаря нашему исследованию); эта потенция есть таким
образом то, что мы всегда впоследствии, какой бы мы ее ни находили, всегда будем
видеть как предназначенное божественной природой к таинству (к потенции).
Если теперь всем прежде сказанным нам дано хоть и всего лишь понятие, однако же все-таки понятие Бога, то нам также, тем самым, дано и то, чего мы собственно и единственно ищем в данной связи, т. е. понятие монотеизма, и теперь уже,
наконец, в его совершенной полноте. А именно этого — лишь таким образом, лишь
как -А +А ±А быть могущего, понятием которого, таким образом, эти формы и образы бытия нерасторжимо соединены между собой еще до всякого действительного
бытия, — его нам безусловно подобает называть Все-Единым (All-Einen), и причем
natura sua. Он есть ßce-Единый. Ибо эти формы представляют собой не простое неопределенное, но в себе завершенное множество, т. е. они суть истинное Все (das All)
или παν 20 ; и то, что мы уже заранее признали как необходимое следствие понятия,
а именно, — что Бог Есть тот, который единственно обладает бытием, pênes quem solum est Esse21, и равно то, что модальности божественного бытия непременно должны представлять собой модальности всякого бытия*, — это можно было бы теперь
Примечание немецкого издателя. В манускрипте здесь на полях стоит пометка «Гегелевская логика,
Часть I, с. 393». В указанном месте находится известная критика теории потенций. Я прилагаю ее
здесь для сравнения. Место гласит: «В особенности именно отношение потенций в последнее время
использовалось применительно к определениям понятий. Понятие в его непосредственности было
названо первой потенцией, в его инобытии или дифференции, в здесь-бытии его моментов — второй, и в его возвращении в себя или в качестве совокупности — третьей. Однако, напротив, тут же
бросается в глаза, что потенция, таким образом примененная, есть категория, сущностно относящаяся к количеству (Quantum); эти потенции ничуть не мыслятся как сходные с potentia, δύναμις (сила,
энергия) (греч.) Аристотеля. Так, отношение потенций выражает определенность — в том виде, как
она существует в момент, когда различие, присутствующее в особом понятии количества, достигает
своей истины, однако отнюдь не в том виде, как оно существует в понятии как таковом. Количество
содержит в себе негативность, которая принадлежит природе понятия, еще отнюдь не положенного
в свойственном ему определении; различия, свойственные количеству, суть поверхностные определения для самого понятия; они далеки от того, чтобы быть определенными в той степени, в какой это
входит в их намерение. Это было детством философии, когда пифагоровы числа — а первая, вторая
и т. д. потенции не имеют по сути никакого преимущества перед числами — использовались для обозначения общих, сущностных различий. Это была всего лишь предварительная ступень к чистому
мыслящему постижению, лишь после Пифагора были изобретены сами мыслительные определения,
т.е. для себя представлены сознанию. Но возвращаться от них назад к числовым определениям может лишь мышление, ощущающее собственную несостоятельность, которое теперь, в противоположность существующему философскому образованию, привыкшему к мыслительным определениям,
56
Первая книга. Монотеизм
с определенностью показать, если бы в мое намерение не входило приберечь данную
тему для будущего разъяснения. Предположите, однако, что в этих трех формах содержатся все возможности, все принципы бытия (и действительно, — эти три понятия суть истинные изначальные понятия, изначальные потенции всякого бытия;
в них заключена вся логика, равно как и вся метафизика), предположите это, и тогда
также и в этом смысле Бог есть Бсе-Единый; он есть ßce-Единый — не потому, что он
что-то из себя исключает, как в пантеизме, который знает Бога лишь как слепо сущего, но — поскольку он ничего це исключает; однако он есть не только Все, но он есть
также и Все-Единый, поскольку он не есть Бог для себя в какой-либо одной из этих
форм: не как -А, не как +А, и даже не как ±А. Эти формы суть лишь точки прохождения для его бытия, и поэтому он не есть Бог в качестве какой-либо одной из них для
себя, но лишь как нерасторжимое (духовное, личное) единство и сплетение их всех;
поэтому, таким образом, он есть Все-Единый — и именно Все-Единый по своему понятию или по своей природе, и именно поэтому сущностно, нерасторжимо и необходимо Все-Единый; однако именно то, что он есть Все-Единый, или, скорее, как мы
должны выразиться, стоя на нашей нынешней точке зрения, лишь все-единым быть
могущий, это есть теперь также единственное подлинное содержание понятия монотеизма. Мы, таким образом, получили то, что искали, однако, поскольку мы знаем Бога предварительно лишь как по его понятию (как сущностно) Все-Единого, то
также и монотеизм мы имеем всего лишь как понятие или в понятии, но еще не как
догму; это нам предстоит впереди, к этому нам еще нужно перейти; однако мы уже
имеем монотеизм как понятие. Ибо единственным Богом может быть назван лишь
тот, который по своему понятию есть Все-Единый, который не является единственным лишь в негативном, исключительном смысле*.
прибавляет еще то смешное и забавное, что пытается представить эту слабость как нечто новое,
благородное и ведущее вперед...» Общие рассуждения о значении учения о потенциях можно найти
ниже, в начале шестой лекции. Сравните также то, что говорится об использовании чисел в философии во «Введении в философию мифологии».
Мы вполне можем назвать негативной также и ту абсолютную единственность, из которой мы исходили, поскольку она не включает в себя совершенно никакого отношения Бога. Если теология не
знает для учения о единственном Боге никакого иного места, кроме как среди так называемых негативных атрибутов, т. е. тех, которые присущи Богу до и вне всякого деяния, а значит, также и до и вне
всякого отношения, если она, таким образом, представляет себе значение монотеизма состоящим
лишь в этой негативной единственности, то становится очевидно, что теология до сих пор не располагает собственным понятием монотеизма. Как известно, теологи противопоставляют негативным
атрибутам позитивные. Бесспорно, это очень старое различение между негативными и позитивными
атрибутами основывается на еще более ранней догматической традиции, которая, однако, уже в самых ранних представлениях была низведена до популярного уровня и утратила свой научный характер. Можно было бы сказать: среди принятых божественных атрибутов негативные являются только
теистическими, позитивные же суть монотеистические, или возможные лишь вместе с монотеизмом
Третья лекция
57
и привходящие. Именно поэтому можно легко ожидать, что те, кто испытывает склонность к простому теизму, чаще всего для обозначения Бога употребляют негативные атрибуты: как, напр., французы, называя Бога, говорят: l'Eternel (Вечный), l'être infini (бесконечная сущность) и т.д., что и действительно будет истинным в отношении Бога, однако никоим образом не выражает собственно его
божественности. Не отмечалось, что от негативных атрибутов к позитивным не существует совершенно никакого перехода, ибо, напр., никому до сих пор еще не удалось показать, что вечность, бесконечность, и т.д. несут с собой также мудрость, благость и справедливость, хотя довольно легко одно
из этих негативных свойств вывести из другого.
Примечание немецкого издателя. Более подробное представление последней мысли (о диалектике негативных и позитивных свойств) можно найти в одном более раннем манускрипте. Хотя
представление в этом манускрипте отличается от настоящего, однако, я полагаю, что данное ниже
извлечение из него будет небесполезно для читателя.
*
* *·
Если бы мы следовали объяснениям новейших, то под негативными свойствами нам надлежало бы понимать не что иное, как те предикаты, что возникают посредством выражений, в которых
устраняется какое-либо несовершенство в Боге, напр., невидимость, нетелесность, смертность и т.д.
Однако старые теологи, благодаря которым через традицию он получил эти предикаты, мыслили
в этом понятии еще и нечто иное, более глубокое. След этого иного и более глубокого содержания
можно обнаружить в следующей манере выражения: то, что о Боге сказывается утвердительно
(καταφατικώς22), указывает не на природу, но на то, что окружает природу (τα περί την φύσιν23), т. е. на
то, что добавляется к природе и располагается над природой, как бы окутывая и накрывая ее; и что
один называет природой, называется для другого сущностью, и он говорит: Святое, праведное бытие следует природе (παρέπεται τη φύσει24), однако не показывает самой сущности (ούκ αυτήν δέ την
ούσίαν δήλοι25) (Suicer, т. Ι, ρ. 488; 1376). Действительно, если, не принимая во внимание их объяснений, исследовать, какие свойства новейшие причисляют к негативным, а какие — к позитивным, то
мы быстро убедимся в том, что они — бесспорно, также вследствие традиции — к первым относят
исключительно те, которые ничуть не меньше признает простой теизм (и, значит — пантеизм ничуть не меньше, чем монотеизм), а именно: из-самого-себя-бытие (aseitas), вечность, бесконечность,
единственность и т. д., кроме которых (сделавшихся позитивными, реальными) Спиноза для своей
системы не нуждается ни в каких иных. К позитивным же они причисляют рассудок, свободную
волю и то, что происходит от этих двух: мудрость, благость, справедливость и т.д., — одним словом,
те, которые в собственном понимании признает лишь монотеизм.
Теперь, однако, поставьте рядом оба эти класса свойств, не объясняя — каким образом либо позитивные возобладали над слепыми, негативными, либо эти перешли в те и подчинились им как негативные. Здесь собственно имеет место пустота, лакуна во всей прежней теологии. Отсюда происходит ее научная шаткость и неуверенность ее позиции в отношении простого теизма и пантеизма.
По сути, переход от негативных свойств к позитивным есть не что иное, как сам переход от теизма
к монотеизму. Вследствие первых свойств, т. е. если бы они мыслились как единственные, не возникало бы ничего, кроме слепой, безначальной и бесконечной, всепоглощающей субстанции. Однако
же теперь именно то, что из себя было бы лишь этим (слепой субстанцией), не может также из себя
быть одновременно свободно волящим субъектом, глубокой мудростью, любовью и благостью.
Лишь в результате посредничества некоего второго возможно, чтобы тот же самый субъект, который в себе и до себя или предшествующим образом (antecedenter, a priori) может быть лишь слепо
сущим, последующим образом (consequenter или a posteriori) есть чистая любовь и абсолютный разум (absolute Intelligenz). Первые свойства суть, если мы применим здесь отношения в Откровении,
простая природа Отца, абстрактно наблюдаемая Сыном, другие — свойства Отца как такового или
58
Первая книга. Монотеизм
в его отношении к Сыну, ибо лишь по отношению к Сыну и в Сыне он есть Отец. Точно так же истинным будет и для строго научного рассмотрения: никто не приходит к Отцу, кроме как через Сына.
Если бы от свойств первого рода можно было найти непосредственный и необходимый переход
к свойствам второго рода, то его вполне могли бы отыскать также и пантеисты.
На место различения позитивных и негативных позднейшие теологи ставят, впрочем, совершенно равнозначные обозначения покоящихся и деятельных или указывающих на деятельность
свойств (attributa quescentia et operativa26). (Было бы весьма желательно знать, какие именно теологи
и с какими объяснениями впервые ввели эти выражения.) Правда, не видно, каким образом они намеревались привести недеятельные свойства в соответствие с постулатом о том, что Бог есть чистое
действование, если не полагали это дёйствование именно в недеятельном (недейственном) делании
{Machen) того, что лежит в основе данных свойств. Тогда, таким образом, эти последние должны
были представляться не как нечто изначально недейственное, но лишь как нечто к недейственности
приведенное, или, пользуясь весьма обычным у нас, хотя не особенно любимым и, будучи злокачественным солицизмом, не особенно рекомендуемым выражением — Quiescirtes27.
Негативные атрибуты суть, таким образом, свойства действительного Бога, которые, однако,
сказываются о нем лишь в силу субстанции, т. е. в силу лишь негативно (а именно — как только
сущностно) положенного. Они, таким образом, суть: 1) не качества Бога в себе: абсолютный Бог
не един, вечен и т.д., но есть Единый, Вечный и т.д., т.е. то, что позднее полагается в действительном Боге как предикат (posterius), в абсолютном Боге положено еще как субъект (как prius). Отсюда,
конечно, повсюду и невозможность сказывать их как позитивные свойства. Ибо там, где они еще
позитивны, они не являются предикатами, а здесь, где они суть предикаты, они скорее отрицаются,
нежели утверждаются. Однако даже и там они могут называться позитивными не по причине действительного бытия, но лишь по причине все еще существующей его возможности; негативными же
(хотя и не свойствами) — именно потому, что в них еще не положено никакое действительное бытие,
как субъект в предложении может называться негативным, поскольку он не есть предмет, не есть
собственно изволенное, ибо они суть нечто представляющееся само собой, т. е. без какого-либо акта,
без мышления. Мышление, как в Боге воление, начинается лишь с отрицания их как действительных. Они могут называться негативными в том смысле, в каком исходная точка (terminus a quo) того
или иного движения может называться так по отношению к нему самому, поскольку сама она не есть
порождение движения и не полагается движением, но предполагается этим движением. Однако они
полагаются как негативные, т.е. действительно отрицаются как позитивные, — лишь тогда, когда
полагаются как предикаты. Здесь, следовательно, они не суть свойства, но лишь различные аспекты
или выражения единого абсолютного субъекта, поэтому они постоянно взаимно разрешаются друг
в друга и друг из друга выводятся, как это издавна происходило в так называемых доказательствах,
в то время как никто не считал возможным выводить позитивные атрибуты из негативных и, напр.,
доказать, что то, что является вечным, также по своей природе непременно должно быть мудрым,
благостным и т. д.
Свойствами они становятся 2) в действительном Боге, однако лишь в результате того, что он
отрицает их как реальные, либо полагает как такие, которыми он обладает лишь в себе, не поднимая
их, однако, до действительности. Поскольку Бог есть действительный Бог лишь в преодолении своей
первоначальной исключительной сущности, то именно она и есть не преходящий, но вечный и непрерывный приус его богобытия. В действительном Боге: 1) отрицается из-самого-себя-бытие (vonselbst-Sein), хотя последнее как отрицаемое также и полагается, а именно — как основание высшей
жизни, в которой он есть не из самого себя, т. е. от природы, но посредством одного лишь чистого воления и свободы, как истинная causa sui 28 (т. е. такая, которая в бытии остается причиной, не
как спинозовская, которая в бытии поглощает саму себя и превращается в субстанцию)*, в сверхъестественном бытии, которое ведь может быть мыслимо лишь в действительном возвышении над
Третья лекция
59
естественным, так что там, где нет природы (в преодолении или подчинении), не может также и поистине мыслиться сверхъестественное. Выражение a se esse29 (и образованное от него варварское
aseitas), таким образом, — неверно, и говорит, собственно, противоположное тому, что оно хочет
сказать. Sponte, ultra, natura sua esse30 было бы правильно, однако о нем при этом не могла бы в том же
смысле сказываться спонтанность, поскольку это слово — по меньшей мере, в новейшем философском языке — употребляется совершенно иначе. Естественная невозможность не быть, которая есть
в Боге в себе и до себя, придя в действительность, стала бы вечностью; ибо всегда наличествующее
и в своем бытии поглощающее самые начало и конец, причину и действие, принцип и произведение,
есть, с уничтожением всякого начала и конца, вечное. Однако также и эта вечность есть в действительном Боге лишь как субстанциально или сущностно положенная, как та, которая даже не была,
но до всякого бытия стала прошлым, и в этом — по отношению к высшему лишь сущностном —
становлении (bloss wesentlich-Werden) образует ту исходную точку, которую имеют в виду, когда говорят: Бог есть от века. Ибо это есть выражение позитивной вечности Бога, тогда как, напротив,
выражение «Бог вечен» может пониматься лишь в смысле сущностной, негативной вечности. (Точно
так же само-по-себе бытие (von-selbst-Sein) есть негативное, из себя же бытие (von-s/dz-Sein) есть
позитивное.) Здесь, в результате того что своей действительной вечности он дает в качестве основания саму вечность, т. е. сущностную вечность, Бог, т. е. лишенная субстанции воля, которая одна
может иметь право называться Богом, делает самого себя причиной самого себя. То же самое верно
3) в отношении бесконечности, когда Бог, будучи рассматриваем в себе и до себя или же абсолютно,
представляющий собой бесконечное, вводя себя в три образа, становится по отношению к самому
себе конечным. И точно так же как она, также и 4) единственность есть только негативное свойство
действительного Бога, в результате того что он делает абсолютную, исключительную единственность
основанием совершенно иной единственности, единственности как Бога, ничего не исключающей,
позитивной^ вне которой не ничего не может быть, но ничего не Есть. Таким образом, конечно, вместе с приведенной к покою исключительной единственностью уже полагается монотеизм, однако не
эта единственность, в абсолютном рассмотрении, есть содержание монотеизма, и необходимо именно прежде показать, каким образом она приводится к покою, нежели различать в ней основание
монотеизма.
ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ
Монотеизм уже сам по себе есть рестриктивное понятие. Он является таковым
в силу того, что не утверждает, что существует лишь Одно вообще (что также могло
представлять собою не более чем мертвую субстанцию), но утверждает всего лишь,
что существует только Один Бог. Однако, он (как мы ранее видели) либо не имеет
вообще никакого, либо имеет тот особый смысл, что Бог является единым лишь по
своему Божеству. Лишь в этом смысле, как мы убедились, можно сказать, что он есть
единственный Бог. Это теперь может быть всецело выведено из нашего понятия. Ибо
Бог, согласно этому понятию, не есть вообще лишь Единый, но есть, конечно же, множество, он есть 1, он есть 2, он есть 3. Однако, поскольку он не есть Бог ни как 1, ни
как 2, ни как 3 в особенности, но лишь как 1+2+3, то он, даже и будучи множеством,
все же есть не множество богов, но Один Бог*.
Здесь положено множество (Mehrheit), однако не многочисленность (Vielheit).
Многочисленность имеет место в том случае, если положены В, С, D, из которых ни
одно не есть другое, и, тем не менее, одно есть то же, что есть нечто иное, напр., А,
так что в этом отношении B+C+D = А+А+А; причем тогда А, поскольку оно не есть
ни в особенности В, ни в особенности С или D, представляет собой общее или родовое понятие для этих последних. Теперь, однако, эти три потенции не могут быть
подведены под одно общее родовое понятие, поскольку они сами представляют собой высшие роды или виды (summa gênera, sive1 εϊδη2) бытия, и также в частности
Бог не может быть для них родовым понятием; ибо Бог есть они сами, индивидуально, поскольку они суть Бог не в обособленном рассмотрении, но лишь вместе или
в единстве, т.е. B+C+D здесь не = А+А+А, но есть лишь = А (Бог). Положены, таким
образом, не три природы или три субстанции. Хотя можно сказать, что эти три потенции пришли на место субстанции, которая, правда, есть лишь Одна, но сами они
Теперь может быть понято также и различие между выражениями «единственность» и «единство». А именно: если единственность заложена уже не в субстанции (материи Бога), но в самом
Боге, — здесь единственность, принимая во внимание эту его множественность, должна называться
единством.
Четвертая лекция
61
все же не есть субстанции, но чистые актуальности, поскольку вне этого акта (единства) они не были бы ничем, а следовательно, также не являются ничем для себя, т. е.
в отделении от других, но каждая есть то, что она есть, лишь в неразрывном актуальном единстве. А поскольку теперь это бытие-множеством в отношении Бога есть как
раз именно его бытие-богом (Gott-Sein), то они также не могут представлять собой
множество богов*.
Монотеизм еще и потому в особенности противостоит пантеизму, что согласно этому последнему Бог действительно есть лишь Один, т. е. слепо сущий, что
Из генезиса монотеизма, в том виде как он был прежде показан, явствует, что в нем единственность субстанции, которая ранее только и была в наличии, поднимается к истинному множеству
потенций, которое мы можем назвать субстанциальным, отчасти — поскольку в основе его действительно лежит эта единственность субстанции, поскольку оно точно так же вступает на ее место, как
мы теперь, наоборот, можем сказать, что эта единственность была вместо него и, тем самым, вместо
всех (omnium instar), отчасти — поскольку эти потенции, пусть и будучи в высшей степени живыми в себе, все же по отношению к этой вечной воле, в силу которой они единственно существуют
и которая единственно представляет собой реальную связь их единства, а значит, единственно собственно есть Бог, поскольку они по отношению к ней, говорю я, в которой нет ничего субстанциального, действительно ведут себя как лишь субстанциальные. Если первоначальная единственность
субстанции может быть названа материей трех потенций, то в свою очередь три потенции следует
рассматривать как непосредственную материю восходящей и нисходящей в них воле, которая собственно и есть Бог. Выражение «субстанциальное множество», или что Бог, лишь как таковой —
единственно положенный, с необходимостью по своей субстанции есть множество, могло вызывать
недовольство лишь постольку, поскольку, тем самым, первоначальная единственность субстанции
считалась бы как бы уничтоженной и никоим образом уже не продолжающейся. Однако смысл здесь
лишь тот, что она не продолжается как сущая, настоящая, а не тот, что она не продолжается как
не сущая, и как бы в качестве постоянного (непреходящего) прошлого; ибо собственно она существует в непрестанном снятии и исключении во множество; однако, для того чтобы все время быть
упраздняемой, она равным образом всегда (nunquam non) должна быть в наличии. Она есть как раз
непрерывно лишь наличествующее, и никогда не поднимающееся до действительного бытия, лишь
в постоянном отрицании присутствующее, всегда имеющееся, которое полагается не для того чтобы
быть положенным, но для того чтобы быть упраздненным, полагаемое лишь в неположении, в незнании (т. е. не будучи поднято до предмета знания, до действительного бытия) знаемое, из чего среди
прочего явствует, что следует думать о тех, которые переносят эту незнающую знаемостъ (ignorando
cognoscitur) на самого Бога. Это всегда присутствующее, не изволенное, само собою являющееся есть
именно то удивительное, с которым всякой философии приходится сталкиваться под тем или иным
именем, с которым большинство философов обходятся странно, поскольку философ в известной
мере должен избегать полагания его, но столь же мало может устранить его или не полагать, из чего
именно следует, что ему приходится полагать его не полагая; и само то, что приводит его в нем к заблуждению, ему приходится привлекать в качестве объяснения и высказывать его как то, что полагается собственно лишь для того, чтобы отрицаться и собственно не быть полагаемым; но для того,
чтобы мочь отрицать его, оно все же должно быть также полагаемым, однако лишь как бы невольно
и таким образом, что мы осознаем его как нежелаемое; ибо собственно воление, как и собственно
мышление, начинается, скорее, с отрицания, с его нежелания. (Привлечено из другого манускрипта.)
62
Первая книга. Монотеизм
в истинном понятии предстает как лишь одна из потенций божественного бытия.
Таким образом, пантеизм собственно есть не что иное, как Яан-теизм, поскольку он
свое последнее основание имеет лишь в том понятии, согласно которому Бог есть
бесконечная potentia existendi3, несмотря на то что, как мы видели, сам по себе он
к этому понятию не восходит. Однако не эта непосредственная сила бытия, которая,
будучи взята для себя и абсолютно, могла бы вести лишь к слепому, неподвижному,
самого себя не знающему бытию спинозовской субстанции, но лишь содержащее ее
в виде отрицания или в качестве потенции будет представлять собой истинное понятие, понятие Бога в собственном смысле. Однако именно потому эта непосредственная сила должна быть; в своем подчинении, посредством которого сам пантеизм сохраняется в простой возможности, т.е., мы можем сказать, сам пантеизм
в своей простой возможности есть основание Божества и всякой истинной религии.
В этом заключается, как уже отмечалось, то действие очарования, которое пантеизм
во все времена оказывал на столь многих, очарования, которое не могут рассеять
речи тех, которые сами не доходят в своем исследовании до этого первоначального
понятия. Монотеизм есть как раз не что иное, как ставший эзотерическим, латентным, внутренним, он есть лишь преодоленный пантеизм — не просто проклятый,
поруганный или всего лишь по-женски оплаканный, но, как уже сказано, преодоленный пантеизм. Ничто никогда не завоевывало истинной власти над умами и сердцами людей, в основе чего не лежал бы собственно этот — лишь преодоленный,
приведенный к покою и умиротворенный (приведенный к миру) — пантеизм. Постоянная защита от пантеизма и полемика с ним многих философов и теологов показывает лишь, что они сами не справились с ним, что они не нашли той действительно успокаивающей, умиротворяющей его системы, которая может состоять только
в монотеизме; поскольку они, напротив, полагали, что обладают им уже в своем теизме, раньше или позже именно это смешение теизма с монотеизмом должно было
породить несказанную сумятицу и бедствие: такую, что даже те, которые желали
сохранять религиозность, могли представлять себе пантеизм как единственную научно необходимую систему, которой они не могли противопоставить ничего кроме
плоской веры. Это основоположное понятие, которое одновременно есть предпосылка самого монотеизма и без которого также не было бы никакого монотеизма,
но был бы один лишь мелкий теизм, основоположное понятие, согласно которому
Бог есть непосредственная потенция всякого бытия, согласно которому, следовательно, напротив, всякое бытие есть лишь бытие Бога, эта основоположная мысль — есть
нерв всего религиозного сознания, который не может быть затронут без того, чтобы
не пришли в движение его глубины. Там, где отсутствует то, что преодолено посредством истинной идеи Бога, там не может быть также и самой этой идеи, и таким
образом, простой теизм, который отказывается познать в Боге именно этот принцип, простой теизм есть поэтому неудовлетворительная система как для чувства, так
Четвертая лекция
63
равным образом и для рассудка. Именно к этому принципу, согласно которому всякое бытие есть лишь у Бога и бытие принадлежит Богу, обращено истинное чувство.
Поскольку в высшей степени важно не только для настоящего времени, но также
и для дальнейшей части настоящего исследования, чтобы вы хорошо различали эти
три способа мышления, которые принято обозначать как теизм, пантеизм и монотеизм, и их различия глубоко запечатлелись в вашей памяти, пользуясь данным поводом, я хочу сделать еще несколько замечаний об этих различиях религиозного мышления, среди которых два: монотеизм и пантеизм, — во всяком случае, лежат ближе
друг к другу и более родственны между собой, чем какой-либо из них с теизмом.
Поскольку важно не просто познавать Бога вообще, т. е. видеть в нем лишь сущее
вообще, но видеть в нем также сущего как Дух, определенное сущее, которое он
есть, — поэтому, как уже ранее отмечалось, необходимо добавление к слову «теизм».
Теизм есть такое понятие, в котором положен лишь Бог вообще (θεός4), но не определенный Бог (ό θεός5), тот Бог, который есть*. Истинный Бог, также и сущий как Дух,
может быть, как доказано, лишь Все-Единым. Под теизмом можно поэтому понимать тот способ мышления, который еще не продвинулся до познания живого, т. е.
все-единого Бога. Таким образом, теизм есть всего лишь некая недостаточность; поэтому истинная, т. е. научная философия не может остановиться на нем, но с необходимостью переходит либо к пантеизму, либо к монотеизму. Теизм есть неопределенное; для обозначения верного способа мышления, в любом случае, необходимо
добавление. Составных же слов, содержащих в себе элемент «теизм», у нас имеется
только два: пантеизм и монотеизм. Оба способа мышления имеют между собой то
общее, что и тот, и другой представляют собой нечто большее, чем просто теизм.
Якоби, хвалившийся тем, что является чистым теистом, хотя он при этом попутно
и утверждал, что в соответствии с понятиями разума мысль о личном, т. е. живом
Боге, есть мысль невозможная, — Якоби в своей полемике против так называемой
философии идентичности без стеснения переводил слово «пантеизм» как «учение
о Все-Единстве» — бесспорно, для того чтобы представить его, тем самым, как спинозизм. Он, однако, не учитывал того, что уже давно как во всеобщем, так и в христианском словоупотреблении единственный Бог равно имеет название Все-Единого,
Впрочем, уже в самом понятии Бога должна быть заложена характерная особенность, содержащая
в себе основание того, что Бог может быть положен также и неопределенным образом, только как
θεός (бог) (греч.) — не обязательно определенно, как ό θεός (сей бог) (греч.). Это ό θεός означает
в греческом то же самое, что и ό ν θεός (сущий бог) (греч.), что нам приходится передавать описательно: Бог, который есть. Этому Богу, который есть, должен противопоставляться не Бог, который
не есть, но лишь Бог, который не естъу — различие, при передаче которого немецкий язык также испытывает затруднение; «Бог, который не есть» — по-гречески звучало бы как ό ούκ ν θεός {не сущий
Бог) (греч.). Бог же, который всего лишь не есть (которому лишь чего-то недостает для собственно
понятия Бога), обозначался бы лишь как ό μη ων θεός (не существующий Бог) (греч.).
64
Первая книга. Монотеизм
и что, таким образом, не только пантеизм, но также и монотеизм представляет собой
учение о Все-Единстве. Во Все-Единстве для себя и без ближайшего определения, таким образом, не может заключаться различие между обоими учениями или понятиями. Напротив, именно то является общим для них обоих, что они утверждают более, нежели простое пустое единство — утверждают Бсе-Единство. Их различие,
однако, заключается в следующем: пантеизм, в том виде, в каком он выразился в спинозизме, конечно же, знает лишь Один принцип, слепую субстанцию. Однако из простого слепого бытия невозможно построить системы, и таким образом Спиноза видит себя вынужденным ставить наряду с единством (Einheit) всеобщность (Allheit).
Его философия не есть пустое учение о единстве*. Спиноза не является всего лишь
последователем элеатов, его Одно (Eins) не есть абстрактное Парменидово Одно,
но оно есть подлинное Все-Единство. Он, в котором впервые нашло свое выражение
зреющее сознание возросшей и стремящейся к самой сути эпохи, — он не мог возвратиться к тем жалким и недостаточным элементам, скудость которых показала
еще сократовская диалектика и в которых, может быть, лишь антисократовская диалектика нашей эпохи может усматривать высокую истину; к этим элементам лишь
зарождающихся абстрактных спекуляций такой ум, как Спиноза, вернуться никоим
образом не мог. Его субстанция не есть простое пустое Одно, но оно у него представляет собой протяженную и мыслящую субстанцию. Его протяженная субстанция
есть с очевидностью не что иное, как перешедшее a potentia ad actum6, которое утратило само себя как сущность, как субъект, как потенция; она соответствует нашему
бытию в возможности первой потенции, которое, правда, в бытии уже перестало
быть потенцией, но стало бессамостным, substantia extensa7. (Уже само пассивное
выражение substantia extensa показывает, что она по своему корню есть нечто иное
и что как substantia extensa она есть нечто лишь ставшее.) Мышление как второй
атрибут, при участии которого Спиноза рассматривает субстанцию, могло бы быть
приравнено к нашей второй потенции, которой первая служит в качестве субъекта,
как посредством ее модифицируемое. Однако этот второй атрибут у Спинозы по существу просто позаимствован у Картезия, который наряду с протяженностью утверждал мышление как самостоятельный принцип, и Спиноза оставляет оба эти
атрибута столь же безразличными по отношению друг к другу, такими же лишенными всякого взаимодействия, какими они были у Картезия; они опосредованы для него
посредством одной лишь общей субстанции, и поэтому там, где у нас стоит третья
Поэтому в самом пантеизме можно различать более негативный и — по отношению к нему — позитивный. Чисто негативный пантеизм есть тот, который не знает ничего, кроме простой бесконечности, чистой, лишенной различий субстанции. Таковы учение о единстве и, если хотите, пантеизм
Парменида. По отношению к нему позитивным является тот, который равным образом имеет в этой
субстанции различия и в этом смысле также всеобщность.
Четвертая лекция
65
потенция как Дух, Спиноза откатывается назад к мертвой всеобщей субстанции. На
место нашего третьего он может поставить лишь, в свою очередь, саму эту субстанцию, сущность, единую в мыслящем и в протяженном, — просто индифференцию.
Ошибка Спинозы, таким образом, заключается не в том, что он утверждает ВсеЕдинство, но в том, что это Все-Единство есть мертвое, неподвижное, неживое. Полемика против пантеизма, следовательно, могла бы быть двоякой. Его можно упрекнуть в том, что он утверждает более чем теизм, в том, что он утверждает Все-Единство
вообще, а не только пустого, ничего в себе не содержащего и в этом негативном
смысле Единого Бога. Это полемика со своей стороны удовлетворенного таким лишь
негативным Единством, однако, согласно его собственному признанию, бессильного, теизма. До сих пор этот пустой теизм знал лишь Одну противоположность, собственно пантеизм. О монотеизме он не подумал, ему не пришло в голову, что кроме
теизма и пантеизма существует еще третье, а именно — как раз монотеизм; могу сказать, что я в своих лекциях я впервые заново вызываю к жизни это понятие. С помощью простого теизма, конечно же, невозможно опровергнуть пантеизм. Истинное опровержение в философии состоит вообще не в том, чтобы выдвигать против
той или иной системы те или иные возражения, но в том, чтобы утверждать ее позитивную противоположность. Именно этого как раз и не сумели сделать теисты по
отношению к пантеизму. Ибо его позитивная противоположность есть монотеизм,
к которому сами они оказались неспособны продвинуться. Простой теизм исключает из Бога всеобщность, а тем самым — и позитивное в понятии монотеизма. Пантеизм имеет перед ним преимущество всеобщности, и напротив, он содержит единство в этой всеобщности как только субстанциальное. Поскольку, однако, единство,
которое не имеет в качестве своего основания субстанциальной всеобщности, само
не может быть удержано над только субстанциальным, то утверждаемое в теизме
единство точно так же нисходит до только субстанциального. Таким образом, в отношении единства теизм и пантеизм равны между собой. Бог Спинозы также есть
Бог, кроме которого нет никакого иного, и если то объяснение единства Бога, которое дает сподобившийся весьма многих похвал теолог (Рейнгардт), говоря: «Единство есть illud attributum Dei, quo negatur plures substantias infinitas esse8», — является
верным, то в этом случае Спиноза — такой же добрый монотеист, как и этот теолог.
Чем же будет отличаться теизм от простого пантеизма в научном смысле7. Обычно
говорят, что Бог Спинозы безличен, Бог же теизма есть личность. Однако между отрицаемой — в одном случае, и на словах принимаемой на веру, по свидетельству же
самих исповедников, непостижимой и даже представляемой как невозможная
в принципе, личностью Бога — в другом, нет никакой научной разницы. Безусловно,
также и вера имеет отношение к области науки, однако именно здесь по преимуществу верно высказывание: покажи мне свою веру своими делами, и тогда я поверю
в твою веру. Если же некто противоречит своей вере собственными высказываниями,
66
Первая книга. Монотеизм
напр., говоря: «Личный Бог невозможен, т. е. неразумен», — то его вера, по меньшей
мере, не заслуживает называться разумной верой. Еще одно общепринятое различение есть следующее: «Бог пантеизма есть бессознательный Бог, Бог же теизма себя
осознает». Однако самосознание совершенно не мыслимо без того, чтобы не положить в самосознающем, по меньшей мере, три внутренних различия. Самосознающий есть: 1) тот, кто себя осознает, 2) тот, кем он себя осознает, и лишь поскольку
этот последний не есть другой и вне его самого наличествующий, но есть одно с ним,
т. е. лишь tertio loco, он может мыслиться как самосознающий. В пустой, лишенной
различий бесконечности, которую простой теизм полагает в Боге, самосознание
столь же непостижимо, сколько и личность — и более того, приходится вместе
с Фихте, который на этом основании более тридцати лет назад был обвинен в атеизме, утверждать, что в такой простой пустой бесконечности совершенно не возможны ни сознание, ни личность.
В отношении творения теизм столь же несостоятелен или даже еще более несостоятелен, нежели пантеизм. Хоть теизм и утверждает точно так же, что всякое бытие
есть у Бога, однако это мыслится лишь негативно, этим утверждается лишь то, что
вне Бога нет возможности бытия, однако и у него самого также нет такой возможности, и потому он есть совершенно немощный Бог. Якоби, в желудке у которого,
по словам его собственного друга Й. Г. Гамана, спинозизм остался лежать непереваренным подобно грубому булыжнику, пытался делать вид, что отвергает пантеизм,
однако он не принимал и того, что собственно его упраздняет, но напротив, точно
так же выражал страх и недоверие по отношению ко всему, что выходило за рамки
плоского теизма так называемой эпохи Просвещения, которая с течением времени
вобрала в себя также и его самого. Однако пантеизм невозможно устранить безо
всяких объяснений; чтобы покончить с ним, необходимо стремиться к его противоположности. В таких обстоятельствах названному философу не оставалось ничего
иного, кроме как признать теоретическую правоту пантеизма. Якоби был терпим
по отношению к пантеизму: последний в сущности был единственным содержанием его собственной философии. Он должен был желать продолжения пантеизма,
ибо пантеизм был тем единственным, что придавало интерес его философии; как
есть люди, которые хотят быть больными, так как это дает им возможность говорить
о самих себе, придавая тем самым интерес собственной личности, которая в иных
обстоятельствах никакого интереса собой не представляет. У Спинозы совершенно
9
отсутствовало понятие развития (Steigerung) и равным образом идея живого процесса. Однако, предположительно, именно поэтому он пользовался признанием со
стороны такого плоского теизма или, как минимум, был терпим им. Но как только
позднейшая философия сделала попытку из мертвого и неподвижного Все-Единства
Спинозы создать внутреннее, и потому творящее, — с этого момента даже само слово «пантеизм» уже перестало быть достаточно суровым приговором; Якоби называл
Четвертая лекция
67
эту философию, в которой, конечно же, шла речь о творении, становлении, о некотором процессе, — голым натурализмом, которому он противопоставлял свой чистый
теизм, ничуть не заботясь о том (или, может быть, попросту не зная), что в языке
теологии натурализм и теизм были полностью равнозначными понятиями.
Глубоким теологам, впрочем, ведома подлинная глубина пантеизма, и они знают,
что он не может быть преодолен одними лишь простыми словами, но лишь посредством противоположного ему позитивного знания. А если учесть, что как раз именно те, которые похваляются своим чистым теизмом, больше всего подымают крика
и предостережений против натиска пришедшего пантеизма, и не только в ученых
исследованиях и в аудиториях, но и с церковной кафедры, и со страниц школьных
учебников, то необходимо полагать, что за этим страхом перед пантеизмом может
скрываться лишь страх перед монотеизмом, т. е. страх того, что наука, в конце концов, может прийти к чему-то позитивному и что та пустая теистическая болтовня,
которая уже долгое время имеет хождение в народном образовании, — что она в сочетании с душеполезными речами о каком-то личном ощущении, в котором ораторы
стремятся прославить отнюдь не Бога, но лишь самих себя, и в котором лишь их собственная личность все еще может сохранять хоть какое-то значение, — что все это
может уступить место истинному и позитивному познанию, со стороны которого
они, может быть, небезосновательно, опасаются одновременно гибели того, что они
называют своей свободой мысли, под которой они собственно подразумевают свою
свободу от мысли, свободу не мыслить, свободу произвольной и бездумной болтовни о высших целях государства, науки и религии.
После того как я показал, что монотеизм лишь в том случае имеет смысл, если он
мыслится как понятие, согласно которому Бог собственно есть не Одно, но Многие,
и лишь как Бог или Божество представляет собой Одно, вам невольно и само собой
должно было прийти на ум учение, которое повсеместно рассматривается как специфически христианское, а именно — учение о триединстве Бога. Было бы странно
и неестественно, если бы я захотел избегнуть необходимости высказаться по поводу этой взаимосвязи. Итак, я хочу сразу же отметить, что если бы вместо «ВсеЕдиный» употреблялось бы слово «Триединый», то это было бы всего лишь более
определенным выражением для Все-Единого. Для некоторых это может показаться
неожиданным: либо по той причине, что они привыкли рассматривать учение, в котором встречается выражение «триединый» как исключительно христианское, или
даже как только произвольное, случайное положение христианства, либо потому
что они склонны представлять себе учение о триедином Боге как непроницаемую
и непостижимую тайну. Как для тех, так и для других будет неожиданностью, если
столкнутся со свидетельствами того, что это учение является общечеловеческим,
и именно таким, которое уже всецело дано в понятии монотеизма, т. е. Все-Единого
Бога. Что касается первых, для которых было бы удивительно видеть, что учение,
68
Первая книга. Монотеизм
которое они считают сугубо (partiell) христианским и которому уже по одной этой
причине считают необходимым отказать в одобрении того, что они называют своим разумом, — видеть это учение в последнем своем основании идентичным с тем
учением, на котором они основываются сами, оспаривать которое они себе никак не
могли бы позволить, а именно, с учением о единственном Боге, — что касается их,
то я хотел бы обратиться к ним с одним-единственным вопросом. Если это якобы
принадлежащее исключительно христианству учение о триедином Боге не связано
каким-то особым образом, а в последнем принципе не идентично с монотеизмом,
то как они собираются объяснить то, что является очевидным и что они никак не
смогут отрицать, а именно, что монотеизм сделался всемирно-историческим явлением лишь с появлением христианства и благодаря ему? Других же, которые хотели
бы сохранить это христианское учение если и не как абсолютную тайну (ибо оно
должно, по крайней мере, проповедоваться), то по меньшей мере как непонятое, я
хотел бы спросить о том, не замечают ли они — уже хотя бы по той очевидной растерянности, в которую попадают сами, как только им приходится раскрывать учение
о единственном Боге, — что это учение никоим образом не представляет собой нечто настолько саморазумеющееся, как это принято считать и как в частности полагают они сами.
Если в соответствии со всем этим любое учение, в котором отсутствует понятие все-единого Бога, может быть лишь теизмом, то подлинным проявлением такта
было стремление тех, кто не принимал Откровения и, следовательно, всех его позитивных учений и получил от своих противников прозвище натуралистов, — назвать
самих себя деистами. В особенности под деистами подразумевают так называемых
унитариев, т. е. всех, кто отрицает множественность в Боге. В новейшее время (я не
знаю точно, кому принадлежит честь этого глубокомысленного изобретения) теисты хотели отличить себя от них — вероятно, лишь для того, чтобы избегнуть необходимости называть себя натуралистами, или же попросту по той причине, что
любая секта весьма охотно желает иметь под собой еще одну, по отношению к которой она может представить себя как чистую и незамутненную. Кант объясняет
отличие так: деист есть тот, для коего Бог есть всего лишь слепой корень бытия, т. е.
преимущественно, например, спинозист; теист же есть тот, кто предполагает разумного миросоздателя. Однако из тех, которые некогда называли себя деистами, напр.,
английские натуралисты XVII столетия, также не все являлись спинозистами, и напротив, большинство из них было, возможно, слишком умеренными и разумными
людьми, чтобы оказаться неспособными с тем же успехом соединить веру в разумного миросоздателя со своим рационализмом, с каким это делают иные, еще и поныне
называющие себя чистыми теистами или рационалистами. Ибо ведь то и другое равно сводится к одному. То, что не есть монотеизм, зовись оно деизмом или теизмом,
не соответствует и не приличествует христианству; ибо последнее есть сущностно
Четвертая лекция
69
монотеизм, так что все его отличие от так называемой только религии разума состоит лишь в том, что оно есть монотеизм, и что приятие или неприятие этого монотеизма означают приятие или неприятие самого христианства.
Для меня невозможно не сделать здесь и еще одного замечания, касающегося
теологии. Если мы пришли к тому (а я полагаю, что привел этому неопровержимые
доказательства), что мы лишь тогда действительно говорим о Боге, когда говорим о —
сущностно или действительно — Все-Едином, то можно спросить, чем же следует
считать то, что в обычной теологии преподносится под заголовком de Deo10, за которым лишь следует заголовок de Deo ut trino11? Что еще кроме именно простого теизма
можно проповедовать там, где все еще исключают учение о Три-, т. е. Все-Единстве
собственно монотеизма? Если это так, то нельзя особенно удивляться тому, что борьба, которую ведут против рационализма теологи, до сей поры была увенчана столь
малыми успехами; ибо исход этой борьбы не должен решаться в той точке, где она до
сих пор велась, но должен быть решен значительно ранее. К тому же рационалисты
восстают лишь против невразумительности основополагающих учений, с которыми
христианство стоит или падает, и, кстати, будет вполне справедливым требованием,
чтобы каждый с тем, во что от него требуют веры, даже если он не вполне и не во
всей глубине способен этого уразуметь (для такого понимания необходимо нечто
большее), все же мог связать с ним, по меньшей мере, некоторое понятие, некоторый смысл или истолкование. Рационалисты требуют общечеловеческих учений. Они
лишь не видят таковых в учениях христианских — однако и теологи также; следовательно, ни тем, ни другим совершенно не в чем себя упрекнуть. Невразумительность,
однако, происходит не от собственно учений, но от тех принципов, которые с самого
начала устанавливают сами теологи. От этих принципов, конечно же, нет пути в христианство, ибо они настолько пусты, настолько мало позитивны в себе самих (в том
смысле, в каком должны быть позитивными также и учения философии), что от такой пустоты и негативности не существует удобопонятного перехода к христианским
учениям — не потому что они являются христианскими или по своему возникновению позитивными, но потому что они позитивны по самому своему содержанию.
Относительно же того мнения, что понятие Триединства является исключительно христианским, — впоследствии мы будем иметь достаточно возможности показать, что это не так. Издавна вошло в обыкновение искать следы и симптомы христианской идеи в языческих религиях. Совсем необязательно вспоминать здесь именно
индийскую Тримурти, которая, как будет ясно позднее, являет собой лишь весьма
частную форму этой идеи, — однако тройственность потенций выказывает себя
как собственно ее основание*. Однако что вообще должно означать: эта идея есть
Посмотрите, как Плутарх, ничего не зная об упомянутой христианской идее, пытается это доказать. Об Исиде и Осирисе, 36.
70
Первая книга. Монотеизм
специфически христианская? Из монотеизма выросла всякая религия, а следовательно, естественно, также и христианская. Истинное отношение есть поэтому как раз
обратное тому, которое тем самым пытаются выразить. Не христианство породило
эту идею, но наоборот, эта идея породила христианство; она есть уже все христианство в своем ростке, в зародыше, она поэтому должна быть древнее, нежели являющееся в истории христианство. Впрочем, мое мнение сводится лишь к следующему:
последний корень христианской Троицы лежит в идее Все-Единства. Итак, пусть никто не думает, что сказанным прежде, одним лишь понятием монотеизма дано также
и все христианское учение со всеми своими определениями (все наше настоящее изложение вообще имеет в виду мифологию, а не Откровение). Вполне можно думать,
что это древо всякой религии, имеющее свои корни в монотеизме, в конечном итоге
с необходимостью возрастает к высшему проявлению монотеизма, т.е. христианству. Христианское учение о Триединстве материально содержит то же самое, что
содержит наше понятие монотеизма, однако оно содержит его в такой степени (Steigerung), которая нам до сих пор еще не доступна*. Поэтому я сейчас, напротив, хотел бы, чтобы вы предварительно отложили в сторону это воспоминание и следили
бы за ходом дальнейшего изложения как за целиком и полностью философским. Я
упомянул об этой взаимосвязи не для того, чтобы основать на ней что-либо, но, напротив, с тем чтобы воспрепятствовать любому преждевременному вмешательству,
и поэтому возвращаюсь теперь к чисто научному изложению.
Пока что прочерчены всего лишь первые линии, которые, может быть, в итоге и в последнем построении достигнут такого высокого учения; но этого еще приходится ждать. Однако еще большей
несправедливостью по отношению ко мне было бы, если бы мое изложение, которое, как сказано,
всецело ограничивается понятием монотеизма и пока что не имеет более далеких видов, — если
бы это мое изложение было поставлено вровень с теми дедукциями учения о Триединстве, которые
с такой легкостью появляются ныне всюду, где только возможно.
ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ
До сих пор мы имеем всего лишь понятие монотеизма. Бог, если он действительно есть, может быть лишь как Все-Единый; таков результат всего прежде сказанного. О действительном бытии нигде речь еще не шла. Далее встает вопрос о действительном бытии. Более определенно он звучит так: «Как может Бог существовать
таким, теперь нами заранее определенным, образом?» Под этим бытием понимается
действительное, связанное с актом, бытие. Если теперь мы помыслим себе Бога непосредственно сущим предопределенным образом, а именно так, что в первой потенции он положен как чистое не сущее (как -А), во второй — как чисто сущее (чистое
+А), в третьей — как в небытии (т. е. в бытии потенцией) сущее и, напротив, в сущембытии как не сущее (как потенция, как сила быть): если мы помыслим его сущим
таким образом, то легко увидеть, что в этом бытии напрочь отсутствовал бы какойлибо акт, а значит, такое бытие и не являлось бы действительным, актуальным.
Я говорю: в этом бытии не было бы никакого акта. Ибо акт, который всегда одновременно есть движение, имеет место только там, где есть начало, середина и конец,
внеположные друг другу и друг другу не равные. Там, где начало, середина и конец
совпадают или пребывают одно в другом, там есть не-движение, не-акт. Однако же
теперь, в этом предположенном нами бытии, эти три termini: terminus a quo, terminus
per quem и terminus ad quem1, — эти три невозможно действительно привести к разделению. Ибо бытие в возможности, покуда оно есть таковое, а не действительно
сущее (т.е. покуда оно не существует само), до тех пор оно является субъектом для
чисто сущего или второго, или: оно есть второе (в том точном значении, которое
мы виндицировали* ранее для глагола «есть»), а значит, оно не неравно, но равно
ему. Оно станет неравным ему лишь тогда, когда само подымется в бытие; покуда же
оно пребывает в пределах не-бытия, оно есть то, что есть 2, а именно, как мы также
могли видеть ранее, абсолютно равная ему бессамостность. Все различие составляет
самость; там, где нет самости, нет и ее противоположности. Бытие в возможности
существует в чистом сущем без препятствий и без противоречия. Мы определили 1
Виндицировать (юр.) (здесь) — отстоять в споре, реабилитировать идею.
72
Первая книга. Монотеизм
(первую потенцию) как самостным быть могущее, 2 (вторую потенцию) — как не
могущее быть самостным, как несамостное в себе. Однако оно есть самостным быть
лишь могущее, не сущее, и покуда оно таково, оно есть как в себе несамостное. Оба
не исключают друг друга; только могущее быть самостным лишь тогда исключает несамостное, когда оно действительно есть как самостное. Идентичность того и другого образа зиждется именно на том, что они не имеют самости по отношению друг
к другу. 1 мы обозначили как не actu сущее. Однако также и вторая потенция, чистое сущее, +А, которую мы .определили как actus purus, именно потому, что оно
есть actus purus, не есть actu сущее, и поэтому actus purus = potentia pura. Я говорю:
то, что есть actus purus, именно поэтому не есть actu сущее. Ибо actu-бытие лишь
там воспринимается и принимается, где происходит переход a potentia ad actum, где
посредством бытия преодолевается некоторое сопротивление. Однако именно это
здесь и отсутствует, ибо как actus purus мы определили именно то, что существует
без перехода a potentia ad actum. Таким образом сущее есть поэтому также = Ничто,
поскольку оно не может мыслиться как actu, с актом сущее.
Если мы сравним обе первые потенции с третьей, то 1, чистое бытие в возможности, существует так же, как и как таковое сущее бытие в возможности, т. е. как 3.
Ибо 3 лишь тем отличается от 1, что оно есть как таковое сущее бытие в возможности. Однако это есть всего лишь определение в нашем понятии, в нашем мышлении,
поскольку 3 все же не есть действительно как таковое сущее бытие в возможности. Быть как таковое сущим оно могло бы лишь в том случае, если бы исключало
из себя не как таковое сущее. Поскольку, однако, согласно предпосылке, 1 (первая
потенция) есть также еще и чистое бытие в возможности, то 3 не может исключать
его из себя, т. е. оно не может положить себя по отношению к нему как таковое. По2
куда само 1 пребывает чистым бытием в возможности, оно есть eodem loco с 3 и не
может быть изгнано с этого места. Для того чтобы сделать это наглядным, давайте
выразимся так: первая потенция положена понятием Бога как не быть должное (как
предназначенное к не-бытию, к таинству), и напротив, тем же самым понятием третья потенция положена как то, чему надлежит существовать вовне (ex-istiren), что
должно быть явлено, как то, чему надлежит быть, как по самой своей природе сущее,
точно так же, как 1 по самой своей природе есть не-сущее. Быть не должное, однако,
покуда оно является таковым и не проявляется действительно, не является неравным быть должному; оно становится неравным ему, лишь когда оно действительно
есть, как, напр., в ребенке злое еще сокрыто в добром и не может быть исключено
из него. Если теперь мы точно так же сравним вторую потенцию с третьей, то третья
есть как таковая сущая потенция. Теперь же, однако, мы уже показали: actus purus =
= potentia pura. Таким образом, также и эти две не исключают друг друга. Хотя мы
и определили третью потенцию (как таковое сущее бытие в возможности) как исключенное третье, однако это исключение есть не реальное, но только логическое.
Пятая лекция
73
Эти три суть eodem loco; ибо также и 2, поскольку оно не actu, но лишь по своей природе, по своей сущности сущее, — не выходит за пределы сущности, и все различия
сводятся к одной лишь сущности. По своей природе не-сущее, покуда оно есть actu
не-сущее, и по своей природе сущее, покуда оно также не есть actu сущее, — равны
между собой именно в том, что каждое из них только natura, т. е. только сущностно,
есть то, что оно есть.
Если мы постигнем это отношение с высшей точки зрения, то Бог отличается от
простой сущности лишь тем, что он есть как таковая сущая сущность. Однако как
таковая сущая сущность есть как простая сущность; существует разница в понятии,
в мышлении, но нет реальной разницы, разницы в бытии, ибо бытие как таковой
сущей сущности само еще (на сей момент и если не произойдет ничего иного) равно
сущности или неотличимому от сущности бытию. Еще яснее, может быть, можно
сказать так: как таковая сущая сущность сама еще предварительно — насколько нам
до сих пор удалось познать ее — положена лишь в сущности, в понятии, но не в бытии. Я хочу еще раз воспользоваться уже ранее однажды употребленным сравнением. Геометрическая точка может рассматриваться как круг с бесконечно малым диаметром, — такой, в котором периферия, диаметр и центр совпадают. Теперь, как
точка, которая есть круг, т. е. которую я мыслю себе как круг, относится к просто точке, так же относится и как таковая сущая сущность, покуда я всего лишь мыслю ее,
к просто сущности. Теперь, однако, вы не можете по той точке, которую я, к примеру,
нанес бы здесь на доске, определить: есть ли она просто точка, или она точка, которая
есть круг; это различие заключено лишь в моем мышлении. Просто точка и точка,
которая есть круг, по своему бытию не отличаются друг от друга; бытие последней
совершенно такое же, как и бытие первой. Хотя я и мыслю в последней какие-то различия, однако я не могу развести эти мыслимые различия между собой. Периферия
есть совершенно то же, что есть центр — т.е., точка, и точно так же диаметр есть то
же, что есть периферия и центр — а именно, точка. Точно так же, теперь, различие
между только сущностью и как таковой сущей сущностью есть различие только в понятии, но не в бытии, ибо я не могу развести между собой различия (потенции) в последнем; не-сущее, которое я мыслю в нем, есть не actu, но лишь по своей природе не
сущее, а поскольку чистое сущее, которое я помыслил в нем, также лишь по своей
природе, а не actu, есть сущее, то эти два не являются реально различными, и то же
самое верно также и в отношении третьего; ибо третье есть прежде всего также лишь
по своей природе потенцией и актом одновременно сущее*. До действительного
В четвертой книге Законов Платона есть замечательное место, которое цитируется там как παλαιός
λόγος (древняя мудрость) (греч.) — как сентенция орфиков либо пифагорейцев, которую, если проникнуть в ее подлинный смысл, следовало бы перевести приблизительно так: Бог, вмещая в себе начало, середину и конец всех вещей, прокладывает себе путь деянием, или: преодолевая препятствия,
74
Первая книга. Монотеизм
бытия, таким образом, дело дошло бы лишь в том случае, если бы до сей поры лишь
по своей природе не сущее стало бы actu не сущим. Это же, однако, может произойти
не иначе, чем если оно посредством действительного акта будет положено как не
сущее, а такой акт его не-сущим-становления предполагает, как вы сами видите, что
прежде оно полагалось как сущее; ибо, если оно уже есть не сущее, оно не может
более полагаться как не сущее. Однако теперь оно, в свою очередь, не может полагаться как сущее в силу простого понятия или в силу одной лишь природы Бога (ибо
в силу этого понятия оно есть не сущее); и таким образом не остается ничего иного,
как чтобы оно было положено как сущее посредством божественной вопи, в результате божественного деяния. Теперь вы, вероятно, могли бы сказать: но ведь тем самым упразднялось бы само божественное понятие, и мало того что Бог, тем самым, не
полагался бы как действительно сущий, но напротив, он был бы в результате положен именно как не сущий. Однако на деле все не так. Напротив, именно поскольку
Бог по своему понятию, т. е., по своей природе, есть так сущее, а именно -А+А±А
сущее, или, коротко говоря, поскольку Бог есть по своей природе, а значит, с необходимостью и непреложно все-единый (= абсолютная личность), именно поэтому он
может быть actu противоположностью, поскольку он, в силу непреложности своей
природы, тем самым не становится действительно иным. Как раз из того, что уже
в его понятии первая потенция полагается как таковая, а значит, как не сущее, как
-А, — из этого следует, что даже если она действительно, т. е. actu, есть противоположность этому, она есть эта противоположность лишь для того, чтобы как таковая
достигает движения, тогда как по своей природе он шел бы по кругу. Это следует понимать так:
если начало, середина и конец совпадают как одно, то невозможно никакое движение. Для того чтобы движение сделалось возможным, начало, или terminus a quo, середина, или terminus per quem,
и конец, terminus ad quem, должны быть разведены между собой. В божественном понятии, как мы
видели, начало, середина и конец суть одно и не исключают друг друга. Бытие в возможности, которое имеет бытие еще до себя (чистое бытие в возможности) и которое, как не сущее, может быть
противоположностью себя самого, слепо сущим (оно есть первое в бытии, т. е. начало), оно еще = как
таковому сущему и потому непреходящему бытию в возможности, которое имеет бытие уже после
себя и как бы в уже преодоленном виде (каковое есть конец); и точно так же то, что есть середина, поскольку оно есть actus purus, однако не actu, но по своей природе, оно само = бытию в возможности,
и поскольку оно = первому, оно = также и третьему. Таким образом, потенции не могут быть разведены порознь в силу одного лишь божественного понятия. Если бы мы здесь захотели, в то время
как Бог еще пребывает в своей сущности или в своей природе, помыслить какое-либо движение, то
оно могло бы быть лишь ротационным. Ибо ротационное движение есть движение, пребывающее
в одной точке. Поэтому в одном месте говорится: для того чтобы могло совершаться действительное движение, чтобы мог иметь место действительный путь Бога (ибо слово «движение» происходит от слова «путь» [в немецком языке: «Bewegung» и «Weg» — однокоренные слова. — Прим. пер.]у
и о «пути Бога» говорят не только Ветхий Завет и другие восточные писания, но и, в связи с этим
местом, также Платон и Пиндар) — для того чтобы могло совершаться действительное движение,
начало, середина и конец должны перестать быть равными.
Пятая лекция
75
отрицаться, а значит, все же actu быть -А. Из того, что Бог есть по своей природе,
а значит, непреложно, все-единый, — следует именно, что, когда он действительно
проявляется в этой потенции, которая его собственной природой обречена быть
только потенцией, то из нее хоть и исключается теперь чистое сущее (+А), однако
сама она, тем самым, не упраздняется (этого не допускает божественная природа,
которая нераздельно все-едина). Последнее (т. е. упразднение) невозможно, поскольку Бог не может перестать быть Все-Единым, т. е. быть единством трех потенций.
Чистое сущее (+А), таким образом, в результате того что не сущее становится позитивным или сущим, не упраздняется, но напротив, поскольку оно прежде или по
одному лишь своему понятию было не собою сущим {sich Seiende), оно лишь теперь,
в результате исключения первой потенции, становится собою сущим, т. е. вступает
в собственное бытие. Поскольку первая потенция не является более его субъектом
(она может быть таковым, лишь покуда сама она не является сущей), поскольку первая потенция отказывает ему в себе, не дает ему более места, — не есть более его
полагающее, то оно именно тем самым вынуждено возвратиться вовнутрь самого
себя, само стать субъектом; и если прежде оно было чистым сущим безо всякой возможности, чистое сущее — именно в результате исключения, или негации, которую
оно претерпевает со стороны первой потенции, само получает в себе возможность,
потенцию, оно становится самостоятельной потенцией; поскольку, однако, эта возможность противоречит его природе (ибо оно есть по природе своей чистое сущее),
то оно должно стремиться к тому, чтобы вновь упразднить в себе эту возможность,
это отрицание (ибо всякая возможность есть отрицание бытия), вновь восстановить
себя в том, что оно есть по своей природе, в actus purus; это, однако, возможно для
него, поскольку оно, в свою очередь, стремится привести отрицающее его (полагающее его в негации — в потенции), привести это — как бы против природы и против
понятия ставшее сущим, позитивным — вновь к его изначальному небытию, к надлежащей и приличествующей ему потенциальности, так что оно осуществляет себя
как акт не столько посредством перехода a potentia ad actum3 в самом себе, сколько
посредством обратного перехода ab actu ad potentiam4 вне себя. Именно поскольку
оно по своей природе есть не потенцией, но actus purus сущее, оно не может осуществить себя непосредственно, подобно первому, которое в себе есть потенция и поэтому может непосредственно перейти a potentia, т. е. из себя, ad actum, но ему сперва
должна быть дана потенция, чтобы оно могло быть actu : таким образом оно есть
лишь на втором месте быть могущее, бытие в возможности второй потенции, и если
мы бытие в возможности вообще обозначим как А, то могущее перейти непосредственно a potentia ad actum, поскольку оно может осуществить себя непосредственно,
Напротив, то, что дает ему потенцию, что полагает его в потенции, само не может быть изначально
сущим, оно может быть сущим лишь посредством перехода a potentia ad actum.
76
Первая книга. Монотеизм
не нуждаясь ни в какой иной предпосылке кроме самого себя, было бы бытием в возможности первой потенции, т. е. AI; чисто же сущее, поскольку оно не может осуществиться из себя, т.е. перейти a potentia ad actum, так как способность иметь жизнь,
т.е. способность движения в бытие, в себе самом должна быть сперва дана ему, —
чисто сущее есть бытие в возможности второго порядка, А2. (Легко, однако, заметить, что эта первая потенция есть бытие в возможности первого порядка, и потому
AI лишь постольку, поскольку она остается быть могущим, пребывает в своей латентности, в непроявленности [лишь как -А она есть А]; ибо, как только она проявляется, она, как уже ранее говорилось, перестает быть потенцией, а значит, перестает
быть А; придя к бытию, она перестает быть силой или источником бытия, она представляет собой теперь нечто иное, себе неравное, и, таким образом, мы скажем, что
она перестает быть А и становится В. Как В мы будем также и впредь обозначать первую потенцию в ее подъеме — ее инобытии (Andersgewordensein) — в ее слепом бытии.) И напротив, чистое сущее — именно в результате исключения, в результате негации, которую оказывает по отношению к ней первая потенция в ее теперешнем
состоянии в качестве В, — именно лишь в результате этого чистое сущее поднимается в потенцию, как уже более не сущее, но только быть могущее, а следовательно,
полагается как А2. Поскольку, таким образом, посредством по своей природе не сущего, а значит, быть не должного, — поскольку посредством его, когда оно становится сущим, не упраздняется то, что по своей природе есть сущее (этого не допускает
божественное всеединство, которое полагается самим понятием Бога, а значит, является необходимым и непреложным), и так как обе теперь взаимно исключающие потенции (В и А2) все же не имеют возможности разойтись, но, исключая друг друга,
вынуждаются божественным единством быть uno eodemque puncto5, — то в результате возникает не что иное, как процесс, в котором то, что должно было быть чистым
сущим, но теперь испытывает препятствование и отрицание в своем бытии, в свою
очередь, пытается отрицать именно то, со стороны чего оно само претерпевает отрицание, пытается вернуть его в его первоначальное ничто, в его потенциальность и,
таким образом, восстановить себя как чистое сущее, как actus purus6. Мы предполагаем здесь, как вы видите, преодолимость противостоящей чистому сущему потенции. Эта преодолимость будет вам более понятна, если вы вспомните о том, что
ранее уже нами отмечалось, а именно, что эта потенция начала, это непосредственное бытие в возможности есть собственно не что иное, как покоящаяся воля, которая возгорается, становится активной посредством простого воления, и что, таким
образом, бытие этого первого, или, как мы однажды уже назвали его, В — есть не
что иное, как воление. В мире нет теперь ничего, что может оказывать сопротивление, кроме воления (всякая сила противостояния заключается в одном лишь волении), и поскольку ничто не противостоит кроме воления, то и ничто не является
преодолимым кроме него. Как воление, которое внезапно подымается в нас (напр.,
Пятая лекция
77
гнев) и в этом своем подъеме на мгновение как бы вытесняет со своего места и исключает лучшее и высшее в нашей природе, как такое воление должно быть вновь
возвращено вовнутрь себя, в его изначальное ничто, в простую потенцию, из которой оно произошло, вновь уступая место всем тем высшим и лучшим силам, чтобы
они вновь могли заполнить собой наше внутреннее пространство: точно так же и то
воление, в котором первоначальное бытие в возможности поднялось как сущее,
и которое мы — как волю, которая, собственно, не должна была действовать, не
должна была желать, в его действительном бытии — можем назвать неволей, злой
волей (Unwille), (как и слово Untat7 означает не «деяние, которого не было», но «деяние, которого не должно было бы быть»), точно так же, говорю я, и та воля, т. е. та —
против природы, против того, что должно было быть, ставшая активной, — воля является преодолимой для высшей потенции. Однако последняя ищет вновь
отрешить это быть не должное от бытия — не для того чтобы приобрести его (бытие) для себя, но напротив, чтобы свергнуть бремя собственного бытия, которое ей
было им навязано, и вновь восстановить себя в изначальном actus purus. Первая же
потенция не может отказаться от собственного бытия, в которое она поднялась, без
того чтобы на его месте, на том месте, которое она теперь оставляет как бы пустым
и незаполненным, положить как сущее другое, — и таким образом процесс сводится
лишь к тому, чтобы на место существовать не должного вновь было положено то,
чему надлежит существовать, собственно быть должное; и вторая потенция преодолевает первую не для того, чтобы быть самой, но с тем чтобы она, будучи приведена
к самоупразднению, к угасанию (Expiration), вновь сделалась (каковой она является
согласно понятию или природе божественного бытия) полагающим, или, выражаясь
мифологическим языком, седалищем и троном того высшего, которому одному надлежит быть и которое, поскольку его актуальное бытие опосредовано двумя потенциями, поскольку оно положено не первой и не второй, но лишь — преодоленной
второй первой, поскольку, следовательно, оно предполагает их обе, — есть поэтому
лишь tertio loco8 бытие в возможности, бытие в возможности третьего порядка, которое мы поэтому далее — там, где сочтем это необходимым — ради краткости, будем обозначать как A3, и которое, как мы ранее уже видели, есть как таковой сущий,
самообладающий дух, нераздельный субъект-объект.
Это бытие в возможности третьей потенции, которое мы называем нераздельным субъектом-объектом, есть при себе пребывать долженствующий, необходимый
дух, который, однако, также и как таковой всегда есть лишь одна из потенций, хотя
и наивысшая, но не само преизбыточное, не Бог. Здесь вы можете наиболее определенным и наглядным образом уяснить себе отличие этого третьего, которое есть дух,
но все же не Бог. Оно есть, как мы сказали, необходимый дух, т. е. то, что необходимо
должно быть духом, что может быть лишь духом. Однако Бог есть более чем это,
он выше этого; он есть свободный дух, т. е. тот, который возвышается даже и над
78
Первая книга. Монотеизм
тем, в чем он существует как дух, будучи свободным от него и не привязанным даже
к себе как к духу, также и его считая всего лишь потенцией себя, который, следовательно, есть не просто дух, но также и другие потенции, хотя и ни одна из них не для
себя, но лишь в их нерасторжимом и неуничтожимом единстве. Ибо Бог есть лишь
в трех потенциях, как все во всех совершающий, однако именно потому надо всеми
ими возвышающийся и, хотя и действующий в них, однако отличный от них нерасторжимостью своего единства или Все-Единства.
Если мы теперь сравним представленный процесс с ранее выведенным понятием, то в нем эта первая потенция бытия, конечно, определена как не сущее, как подчиненное высшему, представляющее собой его субъект и само по отношению к нему
не являющееся сущим. Оно определено как не сущее, однако не сказано, является
ли оно таковым непосредственно или опосредованно. В силу божественного понятия оно, конечно же, может быть лишь -А, однако ничто не мешает тому, чтобы
посредством божественной воли, божественной свободы оно превращалось в позитивное, активное. Эта свобода дана Богу именно посредством необходимости его
природы — посредством того, что его Все-Единство есть необходимое Все-Единство,
из чего следует, что Он всегда и с необходимостью есть Все-Единый, каким бы образом он ни существовал. В этом смысле или с этой точки зрения можно сказать,
что необходимость Бога есть его свобода, поскольку необходимость и свобода суть
в нем одно. Однако в случае с подобными формулировками все зависит от правильного их понимания. Опасность философии состоит именно в том, что иные определения могут быть произведены посредством одного лишь формального комбинирования. Однако философия не есть то же, что и математика, которая располагет
формулами даже и для недействительных вещей. В философии формула бесполезна
для меня, если ей не соответствует вещь, и ничего более скверного не может случиться в философии, чем когда формулы, основывавшиеся на знании предмета, начинают произноситься и приниматься теми, кто никогда и ничего не знал о самом
предмете. Ничто не мешает тому, говорю я, чтобы та потенция бытия, которая по
своему понятию всегда должна была оставаться потенцией, поднялась в акт — не
для того, чтобы остаться в акте, но чтобы actu претерпеть негацию, actu быть положенной как потенция, посредством чего, таким образом, понятие (или в себе неупразднимая и непреложная божественная природа) все же себя сохраняет. Бог есть
лишь внешне и по видимости иной, внутренне же — тот же самый. Потенции в их
взаимном исключении и своем взаимно обратном расположении суть лишь в результате божественной иронии внешне измененный Бог; они суть вывернутый наизнанку
Единый, поскольку, по видимости, то, что сокрыто и не должно было бы действовать,
становится явным и действующим, а то, что должно было быть позитивным и очевидным, отрицается и полагается в состояние потенции. Потенции в этом положении суть поэтому перевернутый и вывернутый наоборот Единый (чье внутреннее —
Пятая лекция
79
внешне, и чье внешнее — внутренне), Universum9 (ибо это слово обозначает как
раз не что иное, как Единое наоборот. Филологи, находящиеся среди вас, не станут
рассматривать как противный аргумент то, что у Лукреция — единственного поэта,
у которого, насколько мне известно, встречается слово universus10 или производное
от него, — первый слог является кратким, тогда как первый в unus 11 — долгий. Это
слово в гекзаметре невозможно было употребить иначе, и оно не может быть ничем
иным, кроме как именно — unum versum). Если, однако, мы называем потенции в их
теперешнем облике универсумом, то под этим вы еще не можете подразумевать материальный универсум, универсум в той мере, в какой он состоит из конкретных
вещей. Данный универсум есть все еще мир чистых потенций, и в силу этого все еще
чисто духовный мир.
Потенции в этой позиции, где они суть непосредственно внешнее Божества, положены некоторой universio; эта universio есть чистое произведение божественного
воления и божественной свободы. Поскольку потенция начала, которая, в соответствии с понятием, не должна была бы быть сущей, является сущей, она таким образом утверждается (ist affirmirt); однако, поскольку она утверждается лишь затем,
чтобы подвергнуться отрицанию, то она все же собственно отрицается, и видимое
утверждение есть лишь средство ее актуальной негации, равно как и видимая негация других потенций есть лишь средство их актуальной аффирмации или позиционирования (Position). Божественное бытие не упраздняется в этом напряжении
потенций, но лишь приостанавливается, однако намерение этого удержания заключается ни в чем ином, кроме как в том, чтобы его действительно, actu положить,
что было бы невозможно никаким иным образом. Весь этот процесс есть лишь процесс порождения божественного бытия — теогонический процесс, чье наиболее общее и наивысшее понятие теперь найдено нами, чье понятие нами представлено как
в высшей степени реальное. И таким образом теперь, посредством этой перестановки, обратного хода потенций объяснена тайна божественного бытия и самой жизни.
Тем самым, одновременно общий закон божественного образа действия применен
по отношению к высшей проблеме всякой науки, к объяснению мира.
Те, кому глубже всего доводилось проникнуть взором в тайну божественного
пути, всегда утверждали, что Бог все творит κατά τίνα οίκονομίαν12, т. е. в некоем обратном порядке, что он чаще всего желает собственно противоположного тому, что
заявляет*. Никто не подумал о том, чтобы применить это наблюдение к объяснению самого мира. Также и существование отличного от Бога мира (ибо потенции
Κατ' οίκονομίαν fieri aliquid dicitur, cum aliud quidpiam specie tenus geritur, quam quod vel intenditur,
vel rêvera subest. Suicer (Говорят, что нечто совершается «по экономии», когда наблюдению представляется нечто иное, чем то, что утверждается или существует в действительности) (лат.). — Th. Ε. T.,
И, p. 459.
80
Первая книга. Монотеизм
в своем напряжении уже не суть Бог) основывается на божественном искусстве притворства (Verstellungskunst), которое по видимости утверждает то, что намеревается
отрицать, и наоборот — по видимости отрицает то, что стремится утвердить. То,
что объясняет мир вообще, объясняет также и ход мира, множество великих и трудных загадок, которые предлагает человеческая жизнь в целом и в частностях. Не напрасно поэтому Писание столь часто напоминает нам о необходимости обратиться
в зрение (Aug zu sein) — не в обычном смысле слова, но для того чтобы не позволить
себе обмануться внешним видом вещей и мирового хода, чтобы научиться в бытии
распознавать небытие и бытие — в небытии. Бог есть, как утверждает само Писание,
Бог чудный*.
Я замечу о достигнутом теперь понятии теогонического процесса еще следующее. Поводом к нашему настоящему исследованию послужило как раз понятие теогонического процесса, к которому нас привели формально необходимые выводы,
но с которым, однако, мы не в состоянии были связать никаких отчетливых представлений. Наше мнение заключалось в том, что этот теогонический процесс обладает объективным значением в самом сознании. Если предположить это, то понятие
теогонического процесса должно обладать значением также и независимо от человеческого сознания. Однако движение, в ходе которого Бог действительно произвел бы
себя или был бы порожден, по всей видимости, идет вразрез со всеми общепринятыми понятиями. Поскольку Бог сам, или по своей сущности, не есть порожденное,
по меньшей мере понятие богопорождающего процесса могло бы относиться лишь
к некоему упраздненному божественному бытию. Однако у нас отсутствовали средства к тому, чтобы даже помыслить себе нечто подобное. Благодаря же предшествующему разъяснению о понятии монотеизма мы достигли, наконец, той точки, где
такое упразднение божественного бытия представляется теперь уже не столь непостижимым. Снятие божественного бытия, которое есть предпосылка теогонического
процесса, естественно, не может произойти абсолютным образом: такое невозможно. Снятие является лишь временным, оно есть всего лишь удержание (Suspension).
К нему теперь, как вы видите сами, то противоположное бытие относится сперва
и непосредственно как отрицающее божественное бытие, опосредованно же и в своем конце — т. е. там, где оно преодолено и вновь возвращено в его первоначальное
Еще много лет назад я написал одному знаменитому французу из старого доброго времени, который был настроен довольно атеистически, будучи, однако, при этом весьма добродушным человеком, как и многие ему подобные (добродушнее, нежели лицемерные святоши, за ним последовавшие), в его родословную книгу: «Мир есть всего лишь существующее во взвешенном состоянии
(suspendirte) божественное бытие. Бог смеется над теми, кто позволяет себя этим провести, и, принимая во внимание то удовольствие, которое доставит ему эта их поспешность, он когда-нибудь
милостиво простит им их прежнее отрицание».
Пятая лекция
81
небытие, — оно выказывает себя как божественное бытие, отчетливо полагающее,
богоутверждающее, в переходе же, т. е. в процессе, — как порождающий божественное бытие, теогонический принцип. Прежде чем, однако, мы приступим к подробному развитию этой мысли, для нас важно показать, в какой мере вместе с universio
и с вызванным ею разделением потенций дан монотеизм как догма и тем самым,
однако, существует также и (объективная) возможность политеизма.
А именно, если мы рассмотрим целое в соответствии с universio или внутри самой universio, то исключающие друг друга и пребывающие во взаимном напряжении
потенции представляют собой внешнее и экзотерическое Божества. Они суть таким
образом истинное, действительное множество (поскольку в понятии, как мы видели, их невозможно было развести и отделить друг от друга, поскольку они не исключали друг друга, они теперь действительно исключают друг друга, поскольку каждая
из трех потенций вступила в собственную самость и пребывает в напряжении по
отношению к остальным. Причина исключения, все исключающая, все полагающая
в напряжении потенция есть именно первая, тот принцип начала, который не должен был бы быть сущим; он как omnia excludens13 есть — если мы вспомним об ином
значении латинского excludere, где оно означает то же, что и parère14, — он есть
omniparens natura или potentia*). Потенции в своем взаимном исключении, таким
образом, суть внешнее, экзотерическое, внутреннее же, эзотерическое есть Бог. Он
есть во всех потенциях собственно сущее, Он есть тот, кто в небытии есть сущий, Он
есть все творящий и во всем действующий, как говорит апостол: о τα πάντα ενεργών
κατά την βουλήν του θελήματος αύτοΰ15, где косвенно признается даже двойственная
воля; ибо θέλημα16 есть внешняя, полагающая напряжение воля (которая пребывает
как несокрушимая воля, как абсолютно изначальная, которая сама не входит в напряжение, хотя она также и теперь столь же мало, сколь и в изначальном единстве,
может мыслиться вне потенций — как, допустим, некое четвертое, отдельно существующее, но она пребывает внутри них, не будучи вместе с тем ими самими: она
есть именно поэтому в них как наиболее духовное — она существует не вне их, вывернутых наизнанку, но внутри, совершая все во всем); βουλή17 же есть собственно
Из трех потенций первая ведет себя как сама не могущая быть исключенной, однако исключающая
все остальное. Как только неисключаемое — не собственно утверждаемое, но лишь не подлежащее
отрицанию, — мы узнали ее уже с самого начала. Однако именно как сама не подлежащая исключению, она есть все исключающая (omnia excludens), причем вполне целесообразно держать в уме
не только чисто логическое, но одновременно и реальное значение слова excludere = parère. (Здесь
можно видеть, каким образом логические понятия суть одновременно реальные, живые понятия, каковыми они никогда не смогли бы стать в результате своего собственного, т. е. в свою очередь только
логического, движения. Идти против этих одновременно логических и реальных понятий, имея на
руках понятия только логические, будет не многим лучше, чем выступать с оловянными солдатиками против живых, действительных.)
82
Первая книга. Монотеизм
воля — воля, в которой присутствует намерение*, для нее напряжение есть не более
чем средство и она, напротив, стремится к единству, которое не было действительным в одном лишь понятии — единства, следовательно, как действительно осуществленного**. Теперь у нас есть Бог, который в каждой потенции делает нечто иное и желает чего-то иного (т.е., в соответствии с θέλημα18 или внешней волей); ибо в В он
желает слепого бытия, которое он в А2 отрицает и преодолевает; однако по своей
истинной, внутренней воле он есть Один, который желает лишь Одного, т.е., Единства: оно есть его намерение. Можно сказать: Бог в каждой потенции есть иная личность; ибо та личность, которая желает В, есть с очевидностью отличная от той, которая В преодолевает; однако сам он за всем этим не становится многими; Он сам
пребывает Одним. На этой точке зрения, таким образом, мы находим теперь нечто
подобное христианскому учению о трех лицах Бога, и мы видим, каким именно образом это учение, хотя и взаимосвязано с монотеизмом, однако уже являет собой
более высокое применение мыслящегося в последнем понятия***. Если мы имеем право предположить (что еще не доказано, однако будет доказано несколько позже), что
положенный посредством universo процесс есть процесс творения, то творение собственно основывается на действии Бога в трех различных лицах. Они суть эти Элохимы, которые составляют внутреннюю, эзотерическую историю творения, которые
представлены также в Моисеевой истории сотворения, где они держат между собой
совет, говоря: «Сделаем себе человеков!» Если бы теперь человек остался во внутреннем, как он пребывал в нем изначально, он пребывал бы в общении с этими божественными личностями как таковыми, с самими этими Элохимами. Однако человек
извергнут из внутреннего, и на этой только внешней и экзотерической точке зрения
он подпадает также и власти чистых потенций для себя. На этой точке зрения возможен теперь и политеизм, и именно только лишь на этой точке зрения становится
возможен и имеет значение также и монотеизм как догма. Догма есть только то, что
имеет свою противоположность. Учения математики, чистых наук разума вообще,
которые не знают себе противоположности, аподиктические истины не являются
догмами****. Л ишь на этой настоящей точке зрения, следовательно, монотеизм как догма имеет смысл. Лишь здесь можно осмысленно сказать, что кроме Бога, т. е. кроме
Ср. значимое «βουληθείς» — («восхотев») (греч.).— Иак. 1,18.
Бог делает в его самопонятии положенное единство, дабы оно было действительно положено,
целью и концом процесса, который поэтому с необходимостью исходит из перестановленного и превращенного единства (Umkehrung der Einheit).
Монотеизм взаимосвязан с учением о Триединстве, однако он не есть одно с ним.
Со времен Канта сделалось общепринятым представлять спинозизм преимущественно как догматизм и, даже более того, как совершенно законченную систему догматизма, против которой, если
речь идет о методе, невозможно выдвинуть сколько-нибудь значимых возражений. Однако, если вести речь о содержании системы, то нужно сказать: ее своеобразие состоит, напротив, в совершенном
Пятая лекция
83
сущностно Все-Единого, не существует никакого иного Бога (не: «не может существовать никакого иного Бога», — как на той точке зрения, где всякое бытие относится к Богу, а значит, вне его — где не существует не самого другого, но не существует
возможности другого. Здесь же мы можем теперь сказать, что кроме Бога, кроме
сущностно, необходимо все-единого нет никакого иного, или что сущностно ВсеЕдиный есть единственный Бог*. Для этого — для того чтобы иметь возможность это
сказать, — необходимо: 1) чтобы вообще сперва было нечто кроме Бога. Ибо также и
в этом моменте монотеизм является рестриктивным**; отрицается не то, что существует нечто кроме Бога, но лишь то, что вне Бога сущее (которое поэтому здесь уже
предполагается, на самой же первой точке зрения, где Бог есть всего лишь само сущее, общая сущность, — предполагаться не может), — что вне Бога сущее есть Бог;
отрицается здесь не само бытие, но лишь божественность этого бытия. Смысл утверждения есть не: «Только Все-Единый Есть», но: «Только Все-Единый как таковой,
т. е. сущностно Все-Единый (Все-Единый, который является таковым и как таковой
пребывает даже и в разделении) есть истинный Бог». Как лишь именно на этой точке
зрения может идти речь о единственном Боге в том смысле, что вне его отрицается
всякий иной Бог, точно так же теперь только с этого момента может идти речь об истинном Боге, что будет явствовать из дальнейшего. А именно, чтобы иметь возможность сказать, что кроме Бога нет никакого иного, необходимо: 1) чтобы (как уже
говорилось) вообще нечто было кроме него, что становится возможным лишь на
самой этой точке зрения, поскольку потенции, конечно, представляют собой нечто
вне Бога (если не extra19, то, во всяком случае, praeter Deum20); 2) необходимо, чтобы
это вне Бога сущее не было абсолютно Яе-Богом, каковыми, напр., являются конкретные и всего лишь ставшие вещи, которые не допускают никакого сравнения с Богом
(если бы захотели возразить, что ведь в политеизме оказываются божественные почести также и конкретным вещам, напр., фетишисты обожествляют камни, деревянные чурбаны, копыта животных и т.д., что в самом Египте божественные почести
воздаются животным, таким как божественный бык Апис, то все же: 1) возможно,
чтобы и внутри самого политеизма возникали искажения или являлись случаи
отсутствии всего догматического и позитивного, и она есть целиком и полностью недогматическая
система.
Там единственность не происходила из богобытия; ибо лишь в силу этой исключительности (абсолютной единственности, как мы ее назвали) он сам, напротив, только и является Богом. Здесь же
единственность происходит из самого богобытия. Мы можем сказать: она не есть только единственность Бога, но она есть Бого-единственность. Здесь утверждается единственность, которая есть в самом Боге: не всего лишь естественная, материальная, принадлежащая ему лишь в силу того, что
не есть собственно он сам, но формальная, актуальная, духовная и, одним словом, божественная
единственность.
Т. е. ограничительным.
84
Первая книга. Монотеизм
вырождения; изначальное почитание в политеизме, безусловно, относилось к чемуто иному, нежели к конкретным вещам; 2) если этот аргумент не будет принят, то,
напр., в случае с самим поклонником фетиша весьма еще сомнительно, что его поклонение относится к конкретному как таковому, что это конкретное не есть в его
поклонении нечто вполне случайное); итак, чтобы иметь возможность сказать, что
кроме Бога нет никакого иного Бога, необходимо: 2) чтобы вне Бога сущее не представляло собой нечто, что никак не могло бы мыслиться как Бог, как просто ставшие
вещи, но которое непременно могло бы некоторым образом мыслиться как Бог, хотя
при этом и не являлось бы Богом, а именно такова теперь природа положенных в напряжении и взаимном исключении потенций божественного бытия: ибо они, несомненно, суть aliquid praeter Deum21. Будучи положены вне единства, они не суть Бог,
однако поэтому они еще не суть ничто, но, безусловно, — Нечто; а с другой стороны,
они столь же мало суть конкретные вещи, но — духовные сущности, potentiae purae
et ab omni concretione liberae et immunes22, как можно было бы сказать по-латыни,
внешние Элохимы, хотя они не являются также и внутренними; и хотя они и не суть
Бог, однако же — и не абсолютный не-Бог, а именно, даже и по своему материалу не
не-Бог; они суть выведенные из своей божественности потенции, которые, однако,
именно поэтому имеют в себе возможность вновь быть положенными в своей божественности; поэтому они, хоть и не actu, однако же potentia или δυνάμει23, конечно
же, суть Бог, точно так же, как уже сейчас и даже в своем взаимоисключении они
представляют собой богопорождающие, теогонические потенции. (Вы видите, что мы
теперь уже совсем близко подошли к предмету нашего исследования. В соответствии
с греческим словоупотреблением, мифология и теогония суть равнозначные выражения. Геродот говорит даже о теогонии персов. Нашим основным источником греческой мифологии является поэма Гесиода, носящая имя «Теогония».)
Монотеизм как учение, как догму можно выразить также еще следующим образом: лишь тот, кто есть единственный, кто не имеет себе равного, есть Бог. Это,
однако, предполагает, что существуют иные, которые не являются единственными,
но которые имеют себе подобных, и таковы потенции, которые являются подобными между собой и ни одна из которых не единственна в том смысле, чтобы она
не имела себе подобных. Дело выглядит так, словно тому, кого наставляют относительно монотеизма, говорили бы: считай Богом не тех, которых множество и которые имеют себе подобных, но того, которого сочтешь за единственного, который
не будет находиться на одном уровне со многими, но который будет пребывать над
многими как их единство. Для того же, чтобы это наставление было понятным,
предполагается, что таким образом поучаемый действительно, наряду с этим единственным, видит также и множество, и равным образом также и эти многие должны
быть такого рода, чтобы о них не в абсолютном смысле, но лишь поскольку они суть
многие (существуют порознь и взаимно исключая друг друга), можно было сказать:
Пятая лекция
85
они не суть Бог. Монотеизм (не только как понятие, но теперь уже и как учение) не
имел бы, таким образом, никакого смысла, если бы действительно не существовало
множества взаимоисключающих, и именно таких, которые не в абсолютном смысле,
но лишь как многие и во взаимном исключении не суть Бог, но о которых, однако,
вместе с тем можно было бы утверждать, что в своем единстве они, безусловно, были
бы Богом; которые в качестве внешних Элохимов (каковы они сейчас), конечно же,
не суть Бог, однако в качестве внутренних Элохимов были бы Богом. Как могли бы
мы говорить даже и об истинном Боге, как мы говорим о нем в утверждаемом как
учение монотеизме — ибо его смысл есть: тот есть истинный Бог, который является
единственным*, — как мог бы я говорить так, если бы кроме истинного Бога находил
множество тех, которые, будучи лишь материально рассматриваемы, не будут абсолютно не-Богом, но которые суть лишь не истинный Бог и которые, таким образом,
несомненно суть боги по видимости**? Обычная теология кроме Бога не содержит
в себе ничего, кроме конкретных, сотворенных вещей; постулат, что кроме Бога ничто не есть Бог, в ней, таким образом, имеет лишь тот смысл, что вещи не суть Бог:
однако всего лишь вещи не могут рассматриваться ни как истинные боги, ни как
ложные. Ложными богами могут быть только те, которые — по меньшей мере —
имеют видимость богов. Однако простые вещи не являются богами даже и по видимости. Напротив, потенции в их разделении могут — хотя и ошибочно, однако все
же могут — рассматриваться как боги, поскольку они, конечно же, не суть истинный Бог, однако вместе с тем и не являются во всех отношениях не-Богом. Несмотря
на то что они существуют в этом напряжении и поскольку они в нем существуют,
в действительности не являясь уже Богом, они тем самым еще не перестают быть
именно тем, что в своем единстве есть Бог, и не только не суть ничто, и даже не,
например — вещи, но чистые потенции, чистые и потому божественные сипы, которые, хоть и в разделении, не Бог, но именно поэтому всего лишь не actu Бог, а значит,
не абсолютно, не в любом смысле, т. е. также и по своей силе суть не-Бог; однако
в данном исследовании важно именно то, как нечто может не быть истинным Богом,
но вместе с тем не быть абсолютным не-Богом и действительно представлять собой
Один из апостолов выражает монотеизм как догму словами: ό θεός εις έστι (а Бог один) (греч.) —
(Гал. 30, 20), что можно перевести словами: тот, кто есть Бог, есть Единственный, или Единый.
В монотеизме как только понятии (не как догме) это множество было только потенциальным,
имелась возможность отрицать это множество как возможное множество богов и в результате антиципации или предварительного утверждения (пролепсиса) говорить, что эти многие, даже если они
и действительно проявятся как таковые, не будут являться множеством богов, а это равнозначно
высказыванию, что они не суть действительные боги. Если это означало объявить заведомо невозможными будущих действительных богов, то, напротив, монотеизм содержит в себе в качестве выраженной догмы то, что кроме Бога не существует никаких действительных богов. Оба утверждения,
однако, предполагают, что эти многие являются богами по видимости.
86
Первая книга. Монотеизм
господствующую силу, поскольку это исследование имеет своей целью не что иное,
как дать объяснение язычества или политеизма. Даже и Ветхий Завет во многих местах не оспаривает реальности богов; но говорит лишь, что ни один из них не есть
истинный, собственно Бог*. Истинный Бог, собственно Бог, учит Ветхий Завет, есть
всегда лишь Единственный, т.е. тот, который является единственным**. В качестве
такого единственного, в своей единственности он выступает в тот момент, когда потенции положены в напряжении. Ибо потенции для него равны ему самому и, тем не
менее, не суть он сам. Поэтому, когда он полагает их в напряжении, так что они более
уже не равны ему, он предстает теперь как Он сам и стоит в своей абсолютной наготе,
после того как словно бы отторг от себя материю своего бытия, где для него сущность = бытию (вместо бытия)***. Монотеизм в этом смысле прямо противоположен
спинозизму, где Бог есть абсолютная субстанция, или Одно. Т. е., покуда Бог положен
лишь абсолютно, сам Бог (Он сам) как бы все еще скрыт тем бытием, которое он
имеет в себе в качестве потаенного. Там он точно так же есть παν: таким образом, он
должен иметь возможность освободиться от него, дабы предстать в своей истинной
единственности. Изначальное бытие Бога есть именно то, что он есть единство всех
потенций. И наоборот, следовательно, потенции в своем единстве, не-различении,
суть бытие Бога. Таким образом, полагая их в напряжении, он собственно отходит
от этого бытия, представая теперь сам по себе, как Он есть, в своем надо всем возвышающемся одиночестве и единственности. В понятии единственности заключено
понятие обособления (Absonderung), отделения, и можно сказать, что именно в том
есть изначальное понятие Бога, что он есть отделенный от всего остального, и никак
не равный всему, но напротив — не равный ничему (άτερος των άλλων24, как говорят пифагорейцы) и в этом смысле единственный****. Часто приходилось слышать, что
высшее понятие, под которым может мыслиться Бог, есть понятие святого. Однако
Напр.: 2 Цар. 7, 22-23. Моисей восклицает: «Кто среди богов подобен тебе?» (Исх. 15,11).
** Ис.45, 18.
В качестве ουσία ύπερούσιος, сверхсубстанциальное существо, как выражаются древние теологи,
как напр., Пахмер (Дионисий Ареопагит, De div. Nom., 5: Κυρίως ουσία έπι θεού ούκ αν λέγοιτο, εστί
γαρ ύπερούσιος (Говоря о Господе, не следует упоминать «сущность», ибо он надсущен) (греч.). — Из
позднейших сравн. J.Gerhard, Loc. Theoll, т. III, p.251. §. 60. Иоанн Дамаскин говорит в этом смысле
даже, что Бог есть ανούσιος (не сущий) (греч.). — Определение ύπερουσιότης (надсущий) (греч.) —
кстати, положено уже тем, что он есть Он, а не всего лишь Оно (ибо то, что есть Он, всегда может
быть рассмотрено как Оно, но не наоборот).
Бог сам не есть абсолютная индифференция (= тот, которому ничто не может быть неравно),
но напротив, он есть абсолютная дифференция (= тот, кому ничто не равно), а значит — абсолютно определенное (id quod absolute praecisum est), своей природой от всего остального отрезанное,
абсолютно одинокое и, одним словом, в высшей степени единственное, — слово, которое было бы
употреблено совершенно неправильно, если бы Бог был всего лишь общей сущностью.
Пятая лекция
87
само понятие святого, согласно словоупотреблению, по меньшей мере еврейскому,
откуда, собственно, оно и пришло к нам, — есть понятие от всего отделенного*.
* Примечание немецкого издателя. В одном из имеющихся более старых манускриптов, содержащих
работы по теории монотеизма (в уже нами упомянутом), можно прочесть следующее по поводу применимости понятия численности по отношению к Богу:
Об этом Боге, который есть чистый акт, и поскольку он мыслится не абсолютно, но с отчетливым различением от субстанции, о действительном Боге как таковом можно теперь, конечно,
с истинным значением сказать то, что о Боге абсолютном, как показано, никак нельзя было сказать, не избегнув совершенно пустой тавтологии и даже нелепости, а именно, — что он есть вовне
единственный, или что кроме него нет никакого иного. Ибо здесь субъект предложения совершенно
иной, нежели там. Там субъектом было не что иное, как именно исключительно быть могущее, о котором уверение, что кроме него не может быть ничего иного, было совершенно излишним. Здесь же
субъектом, напротив, является (субстанциально) не единственный, и та абсолютная, изначальная,
несобственная единственность сделалась здесь всего лишь свойственной именно этому лишь actu
единственному, поскольку он делает это исключительное бытие в возможности как бы основанием
своего бытия-как-Бога. Даже численно единственным может быть назван определенный Бог, — заметим хорошо, — в своем отвлечении от субстанции. Численная множественность, чье выражение есть
А+А+А..., основывается, собственно, на том, что существуют многие, которые по лежащему в их
основе (материи, сущности =А) суть одно, но которые, однако, по акту своего существования различаются. Поскольку же теперь действительный Бог как акт отличим от лежащего в его основе, он, тем
самым, вообще подобен тем вещам, которые могут быть множественными по числу (тогда как применение этого понятия к Богу абсолютному было совершенно невозможным, поскольку в нем не может
идти речь ни о лежащем в его основе, что может мыслиться лишь в отношении акта, ни — именно
поэтому — о самом акте). Таким образом, после проведенного различения действительный Бог как
таковой подпадает под понятие вообще исчисляемого. Однако в особенности он, в свою очередь, отличается от вещей, могущих быть многими по числу, — тем, что лежащее в их основе есть могущее
повторяться неопределенное количество раз, тогда как лежащее в его основе есть по своей природе не могущее быть многократно. По этой причине, следовательно, он вновь должен быть извлечен
также и из этого класса, и он есть единственный в том смысле, в котором ничто иное не является
единственным — так что он может быть единственным уже лишь по только что указанной причине.
Т. е.: действительный Бог как таковой есть, конечно же (вовне, что здесь всегда и прежде всего
необходимо домысливать), actu единственный, поскольку он именно сам есть акт. Тем не менее, несмотря на то что он есть действительно (actu) существующий, он все же есть единственный не только
(или, в зависимости от подхода, вообще не) благодаря акту своего существования, ибо он является
единственным таким образом, что противоположное невозможно. Эти по видимости противоречащие друг другу определения — ибо численная единственность непременно предполагает акт, возможность же быть в этом смысле лишь единственным есть нечто сущностное, субстанциальное —
эти определения могут быть объединены лишь в результате нашего построения. А именно, действительный Бог, рассматриваемый в отвлечении (не в одном лишь отличении) от субстанции, никоим
образом не есть сущностно и в этом смысле необходимо Единственный (лишь единственным быть
могущий). Ибо в нем нет ничего сущностного, он есть целиком и полностью, всецело акт. Он, будучи
рассматриваем для себя самого, abstracte от того, что стало для него материей, не был бы необходимо
единственным, но если бы то, что относится к нему как только сущность (неактуальное), не было
бы лишь единственным быть могущим, то в самом понятии актуального не содержалось бы ничего такого, что препятствовало бы существованию, допустим, еще одного актуального. Поскольку,
88
Первая книга. Монотеизм
Если политеизм невозможно объяснить без потенций, и если монотеизм как
учение имеет смысл лишь по отношению к этим потенциям, то легко увидеть, почему философы и теологи не только встретились с большими затруднениями, пытаясь
объяснить политеизм, но оказались неспособными изложить даже и сам монотеизм
(первое и наиболее существенное из всех учений) таким образом, чтобы он имел
при этом действительный смысл и не выглядел бы как бессмысленная тавтология.
Согласно обычному объяснению, монотеизм имел бы лишь то значение, что кроме все-единого Бога не существует еще одного, который также был бы все-единым,
что является совершенно бессмысленным высказыванием. Политеизм не может
заключаться в том, что истинный Бог, т.е. сущностно все-единый, берется многократно, но лишь в том, что он не берется вообще, но вместо него познаются разрозненные потенции и принимаются за множество богов. Если, далее, разделение
потенций, как нам приходится предположить, имеет своим следствием процесс, то
таким образом на каждой ступени Бог существует как бы в становлении, а значит, на
каждой ступени существует и образ этого пребывающего в становлении Бога — некий Бог; поскольку же это становление является прогрессирующим, то, тем самым,
возникает череда, последовательность богов, и таким образом лишь собственно
политеизм — многобожие.
однако, оно есть исключительное бытие в возможности или, иными словами, исключительно сущее
в одной лишь возможности, для которого по его природе невозможно быть многократно, то в силу
этого невозможен и второй Бог. Действительный Бог, таким образом, является единственным по
числу, поскольку он есть акт, численно могущий быть лишь единожды вследствие своей сущности
(тем самым также еще не численно единственный). Подлинный смысл постулата, выражающего вовне единственность, таков: Тот, который actu есть единственный или единственно существующий,
есть одновременно также и единственный возможный существующий. Причина этой единственности лежит не в акте, она лежит в возможности. Отсутствует лишь возможность, лишь предпосылка
и как бы, чтобы выразиться по возможности ясно, материя для второго Бога. Не Бог, который есть,
исключает наряду с собой любого другого, ибо понятие исключительности не имеет совершенно
никакого применения к Богу, но поскольку сама возможность Бога имеет всецело исключительную
природу и не может существовать многократно, поэтому актуальный Бог является и может быть
лишь Единственным.
Именно это воззрение объясняет теперь также и кое-что иное, напр., почему теологи (в чем
можно убедиться на примере Я.Герхарда), так сказать, на одном дыхании то полагают численную
единственность, то вновь упраздняют ее как таковую. Далее, различие выражения, по причине которого они, хотя среди них нет ни одного, кто не признавал бы эту единственность вовне как необходимую, все же в большинстве случаев довольствуются тем утверждением, что кроме Бога не
существует никакого иного. Ибо о том, кто есть чистый акт, действительно можно сказать лишь то,
что он есть единственный, хотя это и не снимает того, что он в другом отношении, а именно по своей
материи, может быть только единственным. Далее, чисто негативное объяснение этой единственности. Ибо, когда мы слышим выражение «Бог есть единственный», то ожидаем услышать позитивную, в самом Боге, т. е. в том, о ком сказывается единственность, лежащую причину.
Пятая лекция
89
Лишь это, следовательно: что один и тот же, т.е., Бог, может быть Одним и не
Одним, или что именно то, что в его сверхсубстанциальном единстве есть Бог, может
быть разделено как субстанция (а монотеизм отрицает отнюдь не это, но лишь то,
что это разделенное есть Бог), — лишь это одно делает возможным политеизм. Поэтому если многие из тех, кто философствовал о мифологии, в понятии монотеизма
хотели видеть средство наглядно представить невозможность собственно политеизма, тем самым, оказав поддержку своей гипотезе: что боги язычества суть всего лишь
ложно понятые персонификации природных сил, — это говорит только о том, что
называемое в этих объяснениях монотеизмом не есть действительный монотеизм.
Монотеизм не может утверждать необходимой единственности в том смысле, чтобы
политеизм в результате представлял собой абсолютную невозможность. Напротив,
монотеизм сам может быть догмой лишь постольку, поскольку политеизм есть нечто, и нечто объективно возможное. Догма, как известно, означает, как и латинское
decretum25, которое ведь также употребляется в отношении утверждений и постулатов, сперва решение и затем лишь утверждение. Догма есть нечто, что должно утверждаться и что, следовательно, не может мыслиться без некоторого противоречия
(без своей противоположности). Вера в то, что Бог един, — Бог, который, по словам
одного из апостолов, заставляет трепетать бесов, т.е. совершенно отвратившиеся от
божественной природы существа, — должна быть совершенно иной и гораздо более
сильной верой, чем вера наших морализирующих теологов, у которых Бог, как говорит пословица, не более чем добрый человек и которого они мыслят удаленным от
мира и, самое большее, в негативном отношении к положенному в мире разделению
потенций. Если потенции, сверхсубстанциальное единство которых есть Бог, в мире
представляют собой внешнее и очевидное, Бог же, напротив, скрытое и потаенное,
и если человеческое сознание своим первым шагом из первоначальной сущностности попало во власть разделенных потенций, то политеизм для него был чем-то
естественным, а монотеизм, напротив, мог бы показаться ему лишь чем-то утверждаемым в противоречии с действительностью. Если нам это представляется иначе,
если монотеизм кажется нам самой простой вещью из всех возможных, то это происходит лишь от того, что наше сознание — правда, таким образом, который сейчас
еще не может найти объяснения — выведено из сферы реального напряжения потенций, под властью которого пребывало прежнее человечество; однако вследствие
того направления, которое с тех пор все более и более принимало свободное мышление, мы тем самым точно так же выведены и из сферы живого единства и находимся
на некотором нулевом уровне, который сегодня принято называть чисто духовной
или также — чисто моральной религией*. Разве не является очевидным, что в той
Живое единство есть то, которое есть одновременно всеобщность (Allheit); благодаря всеобщности единство становится наполненным, живым.
90
Первая книга. Монотеизм
же мере, в какой природа, постепенно лишаясь всякой божественности, опускалась
до простого мертвого агрегата, также и живой монотеизм, все более испаряясь, вырождался в пустой, неопределенный, бессодержательный теизм? Было ли действием простого случая или непогрешимо чувствующего инстинкта, если против вновь
пробуждающегося высшего воззрения на природу восстали в особенности и прежде
всего сторонники этого только негативного, абсолютно бессильного теизма? Сегодняшний рационалист считает себя стоящим высоко над слепым язычеством. Однако
то, над чем мы возвышаемся, должно быть прежде понято нами, а отнюдь не просто
устранено с дороги с помощью жалких и абсурдных гипотез. Истинное суждение об
образованности огромной толпы так называемых образованных может относиться
к тому, что они со своим так называемым образованием находятся лишь на противоположной стороне того невежества и слепоты, иную сторону которого являло собой
в своей слепоте язычество.
Лишь на достигнутой теперь точке развития мы узнаем монотеизм таким, как
он предстает во всеобщем сознании и в жизни. Однако даже и в жизни ему суждено
было все более утрачивать свое значение, ибо для этого значения непременно требуется нечто кроме Бога, что, однако, не есть всецело не-Бог. Но в нашей теологии
и философии уже долгое время нет ничего посредине между Богом и конкретными
вещами, этим наукам не известно ничего вне Бога, кроме конкретных вещей. Сказать же о них, которые несут на себе все признаки ставшего, и именно в высшей степени случайно, в результате ряда случаев, ставшего — сказать о них, что они не суть
Бог, будет, конечно же, утверждением не особенно ценного содержания. Тот, кто не
имел бы ничего сказать, мог бы обратиться с этим учением разве что к негритянским
народам Африки или к каким-либо иным фетишепоклонникам.
Если эта теория монотеизма впервые делает действительно понятной возникновение язычества, то возможно, что также и различие между Богом как таковым,
или Богом в себе, незримым, и Богом вне себя, каким он все еще является в разъединенных потенциях (ибо они, как сказано, не суть совершенно не-Бог, но лишь
положенный вне себя Бог, лишь перевернутый, вывернутый наизнанку сам Бог):
возможно, что это различение одновременно объясняет многое загадочное в особенности в Ветхом Завете, а именно, — некоторые его выражения, которые неприменимы к собственно Богу, Иегове в его абсолютной духовности, о другом26 же употребляются со слишком большой точностью и определенностью, чтобы они могли
быть привычным образом объяснены как всего лишь фигуры речи. Т.е. — они, конечно же, являются образными выражениями (figürliche Ausdrücke), однако лишь
поскольку Бог в результате этого свободно им положенного разделения потенций,
которые, тем не менее, в этом напряжении всегда остаются едиными и никогда не
разделяются абсолютно, так что никогда и ни на одно мгновение ни одна из них не
могла бы быть для себя, но напротив, именно в своем разделении они постоянно
Пятая лекция
91
полагаются как единые, и именно это полагает их в необходимости процесса; ибо
если бы они могли совершенно разойтись, процесс был бы невозможен: поскольку
же они все время пребывают некоторым образом едиными, и даже суть всего лишь
перевернутое единое, то они и на самом деле суть положенный вне себя образ Бога
(figürliche Gott), и таким образом, т.е. так что эти так называемые образные выражения употребляются не столько о Боге в его сущности, сколько о Боге, существующем
в напряжении потенций, лишь в этом смысле данные выражения могут быть названы образными. Существует огромная разница, принимаются ли потенции за самого
Бога, или они повсюду не принимаются за Бога, даже за его образ — и это тоже есть
некий род атеизма; именно поэтому лишь абстрактный теизм выказывает себя столь
неспособным понять не только эти выражения*, но также и многие иные явления,
среди которых в качестве наиболее выдающихся можно назвать как раз язычество
и мифологию.
И таким образом я показал вам не только истинное понятие монотеизма — как
в той мере, в какой он есть лишь понятие, так и в той мере, в какой он есть высказывание, — но показал также, как именно из него появляется политеизм как нечто
в известной мере естественное, не лежащее вне пределов всякой возможности. После того теперь, как я показал это о монотеизме вообще, мне остается лишь показать
монотеизм в человеческом сознании, а от него показать переход к мифологии (к политеизму) также в человеческом сознании.
Возможно, к их числу относится также и нередко встречающаяся ирония, когда, против обыкновения, главное слово «Бог» в единственном числе соединяется с указывающим на действие глаголом
во множественном, как, например, Иов 35,10: «Бог, мои Творцы», т.е. которые actu кажутся многими
и лишь суть одно.
ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ
Итак, наш вопрос звучит следующим образом: имеет ли монотеизм изначальное
отношение к человеческому сознанию7. Для того, однако, чтобы дать ответ на этот
вопрос, мы должны прежде объяснить тот процесс, посредством коего вообще положено сознание. Поэтому мы вновь возвращаемся к положенному посредством
божественной universio процессу, о котором мы уже знаем, что он есть процесс
теогонический. Все живое переплетение, в котором мы видим потенции в период
напряжения, когда они взаимно исключают друг друга, не будучи, однако, вместе
с тем способны разойтись, — все это живое переплетение есть лишь способ осуществления того самого быть не могущего (иным образом) абсолютного духа, который в своем последнем произведении, на вершине всего этого целого, своей цели per
contrarium1 достигающей деятельности, когда три потенции вновь совпадают одна
с другой, когда слепо сущее возвращено к чистому бытию в возможности = как таковому положенному духу — тогда, говорю я, этот дух действительно осуществлен
как абсолютный, стоящий надо всеми потенциями, дух.
Для чего же теперь нужен — можно было бы спросить — этот процесс, в ходе которого осуществляет себя Бог как таковой*? Для него самого такое осуществление не
нужно. Он и без него знает себя как непреоборимого Все-Единого. Для него, таким
образом, это движение, этот процесс был бы безрезультатным. Что же тогда может
подвигнуть его к свободному решению участвовать в этом процессе? Основанием
к такому решению не может быть цель, которой он хотел достичь в отношении себя.
То, чего он хочет достичь посредством этого процесса, должно быть чем-то вне его
самого (praeter ipsum2), что еще не есть, однако должно возникнуть как результат
этого процесса. Это еще не сущее, однако возможное в результате этого процесса,
могло бы теперь, как вы легко можете видеть, быть лишь сотворенным существом,
До процесса Бог обладает собой — в предварительном понятии своего бытия — как Все-Единым.
Это получило также название его изначального бытия. Посредством процесса он осуществляет себя
как Все-Единого, т.е. он actu становится тем, чем он уже прежде является natura. Если бы он не был
natura, или по своему понятию, Все-Единым, он не смог бы сделаться таковым и actu.
Шестая лекция
93
творением, которое Бог видит в качестве грядущего, возможного. Из сказанного, таким образом, следует, что для этого процесса, который мы уже обозначили как теогонический, либо вообще невозможно помыслить себе никакой цели, либо данный
процесс должен быть одновременно процессом творения. Это, однако, пока что есть
не более чем диалектическое заключение. Оно еще не подкреплено и не проиллюстрировано никакими фактами. Необходимо, следовательно, доказать, что процесс,
признанный нами как теогонический, — одновременно является процессом творения (который, однако, следует отличать от деяния творения [Schöpfungsthat] и который является следствием последнего*); необходимо показать, что принципы или
потенции, с которыми мы познакомились как с потенциями теогонического процесса, что именно они одновременно являются причинами возможного возникновения
прежде не существовавших вещей. Заметьте при этом: до сих пор еще не было ничего
конкретного. Пока что в нашем изложении все было еще чисто духовным. Даже тот
противоположный принцип, который в качестве материала, как модифицируемый
субъект, лежит в основе всего процесса, для себя еще не представляет собой ничего
конкретного, он = ставшему действенным волению, до сих пор, т. е. покуда он не
затронут противоположной потенцией, в своей безграничности есть, напротив, нечто противоположное всему конкретному. Лишь здесь, таким образом, мы впервые
переходим к конкретному. Ибо оно возникает лишь из взаимодействия потенций.
Чтобы показать это и, таким образом, одновременно показать, как из такого взаимодействия происходит прежде не существовавшее, нам необходимо еще раз представить себе в общих чертах положенный посредством напряжения и взаимного
исключения потенций процесс. Я с удовольствием повторюсь. Ибо с этими потенциями нам придется иметь дело на всем протяжении нашего дальнейшего изложения.
Весьма важно для нас внимательно ознакомиться с ними, с тем чтобы в дальнейшем
уметь распознавать их в любом обличье.
Поскольку потенции взаимно друг друга исключают и, тем не менее, не имеют
возможности совершенно разойтись, но вынуждены пребывать в одном и том же
состоянии, как бы в одной и той же точке — между взаимно друг друга исключающими и не могущими освободиться друг от друга с необходимостью положен некий
процесс. Это в результате непосредственной божественной воли возникающее бытие действует исключающим образом на чистое сущее. Последнее, таким образом,
претерпевает негацию и отходит вглубь себя. Оно именно в результате исключения
О деянии творения речь может идти лишь в представлении позитивной философии, но никак
не здесь, где намерение состоит лишь в том, чтобы, продвигаясь по аналитическому пути, понять
монотеизм и, тем самым, найти ключ к пониманию политеизма (теогонического движения). Теория
творения развивается лишь в той мере, в какой это необходимо для данной цели. (Примечание нем.
издателя.)
94
Первая книга. Монотеизм
вынуждено быть для себя сущим; следовательно, в результате этого исключения оно
гипостазируется, субстанциализируется. Благодаря как бы ненароком возникшему,
совершенно новому бытию, благодаря В, оно само полагается ex actu puro3, потенциализируется (все эти выражения говорят совершенно об одном и том же); отрицание, или то, что оно полагается как не сущее, дает ему [возможность] быть в самом себе, ибо прежде оно было вне себя, не имея возврата к самому себе; отрицание
делает его быть вынужденным (себя в бытии произвести вынужденным), которое
не свободно действовать или. не действовать, оно по своей природе не может быть
ничем иным, кроме воли — того принципа, который собственно не должен был бы
быть, заставляя его вновь возвратиться в свою изначальную потенцию (как может
быть возвращена воля). Однако этот, по своей природе лишь опосредующий, принцип отрицает первый — быть не должное: не для того, чтобы взять для себя бытие,
которое оставляет эта потенция, но, как сказано, для того чтобы сделать это преодоленное, приведенное к самооставлению, — полагающим то высшее, быть должное, то, чему единственно надлежит быть, которое есть как таковой сущий дух. Это
быть должное есть лишь tertio loco бытие в возможности. Ибо быть должное есть
действительно лишь посредством преодоления быть не должного = В; его становление действительным поэтому предполагает: 1) быть не должное = В (это последнее
сперва должно быть действительным); 2) отрицающее или преодолевающее быть не
должное = А2. Само оно, таким образом, есть лишь бытие в возможности третьего
порядка, A3. Само оно не может (непосредственно) преодолеть быть не должное,
ибо в противном случае оно было бы быть вынужденным и приходило бы в бытие
как действующее, а не как то, что свободно действовать или не действовать, могущее поступать со своим бытием как ему заблагорассудится*. Процесс, следовательно, в общих чертах таков: сперва посредством одного лишь божественного воления
полагается быть не должное = В (не следует мыслить его себе как зло; ибо ничто,
существующее благодаря божественной воле и поскольку оно существует благодаря ей, не может быть злом, но оно лишь не есть то, что должно быть, не есть цель,
т.е., следовательно, оно есть средство. Ни одно средство не есть то, что, собственно,
должно быть; ибо в противном случае оно было бы целью, а не средством. По этой
же самой причине — средство в себе никак не есть зло). Сперва появляющееся в бытии = В действует непосредственно исключающе на чистое сущее и полагает его как
Иными словами: как быть должное, а значит — не сущее, оно должно отрицаться, удерживаться от
бытия; для того, однако, чтобы оно было, эта негация должна быть преодолена, однако не им самим;
ибо в этом случае оно не пришло бы в бытие как то, что есть чистая свобода в деянии и недеянии. Отрицание, таким образом, должно преодолеваться с помощью чего-то среднего, опосредующего, так
что быть должное предполагает то и другое: как то, с помощью которого оно исключается из бытия,
так и то, при помощи чего это его исключающее приводится к небытию, к угасанию.
Шестая лекция
95
быть вынужденное, опосредованно же оно действует также и на третье; ибо там, где
есть быть не должное, быть должное быть не может. Когда же, однако, тот принцип,
который, появившись в бытии, исключает из него все остальное, вновь возвращен
вовнутрь себя, он оставляет пространство, занимаемое им до этого момента, как бы
незаполненным, он не может поэтому сам отступить в небытие, чтобы не положить
одновременно вместо себя на оставляемом им пространстве нечто иное — не то,
чем он был преодолен, которое как раз только и Есть для того чтобы его преодолеть
и которое вообще не требует ничего иного, кроме как возвратиться в свое первоначальное, лишенное всякой потенции, умиротворенное бытие (умиротворенное =
такое, в котором отсутствует воля; воля полагается в нем лишь посредством негации; оно не имеет ничего такого, чего оно могло бы желать, ибо ведь оно есть чистое
сущее, ему нужно стать не-сущим, чтобы начать желать): В, таким образом, будучи
приведено к угасанию, оставляет ранее занимаемое им пространство, можно сказать, пустым и не может поэтому отойти в небытие, не положив вместо себя нечто
иное, — не то, посредством чего оно было преодолено, но нечто третье, а именно то
самое быть должное, о котором мы также заранее уже сказали, что оно может занимать лишь третье место.
В потенциях, таким образом, мы имеем равное количество причин (αίτίαι4) вообще, и именно чистых (чисто духовных) причин, в частности же те три причины,
которые постоянно должны взаимодействовать, для того чтобы нечто возникло или
состоялось, и которые еще до Аристотеля были известны пифагорейцам. А именно:
5
1) causa materialis (так называется та, из которой нечто возникает); causa materialis
есть быть не должное = В, ибо оно есть то, что в ходе процесса изменяется, модифицируется и даже последовательно преображается в не-бытие, в простую воз6
можность; 2) causa efficiens , посредством которой все возникает; она в настоящем
процессе есть А2, ибо она есть преображающее, преобразующее первой потенции,
7
В; 3) causa finalis , по направлению к которой или в которую как в завершение или
цель все становится. Эта последняя есть A3. Для того чтобы нечто состоялось, всегда
8
необходима causa finalis. Ибо состояться означает прийти к стоянию , как в Ветхом
Завете говорится о Боге: он повелит — и станет (не как обычно переводят: предстанет), т. е. нечто останавливается, не развивается далее; ибо лишь благодаря этому
оно есть именно это, это определенное, а не что-либо иное. Еще один, иной способ
выразить данные три причины также можно найти еще у древних: первый прин9
цип — В — есть αιτία προκαταρκτική , предначальная причина, дающая первый повод
10
и начало всему процессу, вторая есть αιτία δημιουργική — собственно творческая
11
причина, третья есть τελειωτική , все приводящая к завершению, которая как бы
налагает печать на все возникающее.
Однако эти три причины предназначены к совместному действию и, в конечном итоге, к согласованному произведению лишь тем, кто есть causa causarum,
96
Первая книга. Монотеизм
причина причин, как называли Бога еще пифагорейцы. Воля, в которой три причины согласуются для произведения определенного ставшего, всегда может быть лишь
божественной, волей самого Божества. Поэтому всякое ставшее есть произведение
божественной воли. Нам весьма привычно слышать, что в каждой вещи открывает
себя Божество, лишь в одной менее совершенно и скрыто, в другой же более совершенно и явно. То, что совершают три потенции, совершает Божество, и наоборот.
Естественное объяснение вещей (объяснение из трех причин) не исключает поэтому
религиозного, и наоборот. .
Эти причины суть принципы, или άρχαί,12 исследование и изучение которых
с самых древних времен рассматривалось как основная задача философии. Философия есть не что иное, как επιστήμη των άρχων13, наука чистых принципов. Они
могут различным образом выводиться и по-разному называться, однако их отношение и сущность каждой αρχή в любом выражении будет оказываться одной и той же.
Приближаясь к платоновскому представлению, первый принцип выказывает себя
как выведенное из своей потенции и, тем самым, из своих границ, как неограниченное, το άπειρον14, нуждающееся в границе. Вторая αρχή представляет собой определяющую, ratio determinans15 всей природы, полагающую границу (там, где есть нечто, могущее быть + или -, что может быть и не быть, — там должна существовать
детерминирующая причина). Третья αρχή есть сама себя определяющая причина,
причина, которая сама для себя есть материал или предмет и причина определения
и ограничения: субъект и объект = дух. Последовательность представляется здесь
таким образом: 1) неограниченное, неопределенное; 2) ограничивающее, определяющее; 3) сама себя содержащая, сама себя определяющая субстанция, каковой является только дух.
Мы назвали эти причины или принципы потенциями, поскольку они действительно являются таковыми: в божественном предпонятии (Vorbegriff) они суть возможности еще грядущего, отличного от Бога бытия — в действительном процессе
(после того как они сами приведены в действие) они суть потенции божественного, богоподобного бытия, которое должно быть произведено с их помощью*. К выражению
«потенции», и в особенности «первая», «вторая», «третья» потенции, предъявлялся
До процесса в них нет ничего от потенции, и поэтому они не могут быть в собственном смысле
названы потенциями. Их потенция, т. е. их возможность быть также и противоположностью того,
чем они являются в божественном предпонятии, полностью снята актом изначальной божественной
жизни; они как бы всецело увлечены и поглощены божественной жизнью, и ни одна из них не есть
нечто для себя. Однако для того чтобы мыслить их как растворенные в божественной жизни, мы
с необходимостью должны мыслить их и как те, которые могли бы быть чем-то также и независимо
от божественной жизни. Мы отрицаем их для-себя-бытие, однако для того чтобы отрицать его, мы
непроизвольно мыслим себе его, и поэтому мы можем затем обозначить их как потенции. (Привлечено из другого манускрипта.)
Шестая лекция
97
тот упрек, что они перешли в философию из математики. Однако это возражение основывается на простом неведении и незнании предмета. Потенция (δύναμις16) есть,
по меньшей мереу столь же исконное выражение философии, как и математики: потенция означает бытие в возможности, το ένδεχόμενον είναι17, как называет это Аристотель. Мы видели, что бытие в возможности, под которым мы понимаем в данном
случае непосредственное бытие в возможности, быть вынужденное и быть должное,
что все они вместе суть быть могущие, а значит — потенции, лишь представляющие
собой бытие в возможности разного порядка; ибо специально так называемое —
есть непосредственное бытие в возможности, быть вынужденное есть лишь опосредованное бытие в возможности, быть же должное — представляет собой дважды
опосредованное бытие в возможности, т. е. бытие в возможности третьего порядка.
Ничего иного не имеется в виду, когда мы говорим об А первой, А второй и А третьей потенции — и ничего иного не имеется в виду кроме того, что бытие в возможности здесь действительно предстает возводимым в разные степени и на разных
ступенях. Следующее, правда, для многих является непонятным и представляет собой затруднение. Большинство понимает лишь конкретное и осязаемое, — то, что
представляется чувствам как отдельное тело, отдельное растение и т.д. Однако эти
чистые причины не являются осязаемыми, но они могут быть охвачены и постигнуты лишь чистым рассудком. Помимо явственного для чувств, осязаемого многие
не находят в себе ничего иного, кроме запаса абстрактных понятий, за которыми
не может быть признано никакого существования вне нас самих, таких как: бытие,
становление, количество, качество, субстанциальность, причинность и т.д.; и одна
новейшая система даже верила, что сможет основать целую философию на совокупности этих абстрактных понятий — при этом она, кстати, и сама избрала в качестве своего рабочего метода последовательное восхождение от понятия к понятию,
последовательное возведение в степень, движение от самого бедного содержанием
понятия к самому наполненному. Однако этот трюк плохо примененного, а потому
также и не понятого, метода потерпел неудачу и позорное кораблекрушение сразу
же, как только этой философии пришлось перейти к действительному существованию, прежде всего — к природе.
Потенции, о которых мы говорим, не являются чем-то осязаемым, но они не
представляют собой также и простые абстракции (абстрактные понятия); они суть
реальные, действующие, а значит, действительные силы; они, следовательно, стоят
посредине между конкретными и абстрактным понятиями, поскольку ничуть не менее чем те, однако в более высоком смысле — они суть подлинные Universalia, которые, к тому же, одновременно суть действительности, а не недействительности, как
абстрактные понятия. Однако именно эта сфера истинных, т. е. реальных универсалий для весьма многих является недоступной. Грубые эмпирики говорят (словно бы
в мире не было ничего, кроме конкретного и осязаемого), что они не видят, напр.,
98
Первая книга. Монотеизм
что тяжесть, свет, звук, тепло, электричество, магнетизм — суть не осязаемые вещи,
но подлинные Universalia; еще менее того они замечают, что именно эти общие потенции природы суть единственно достойное знания и способное занять собой ум
и стать предметом научного исследования. К этим универсалиям в природе (тяжести, свету) наши постигаемые лишь рассудком, и в этом смысле — чисто интеллигибельные потенции относятся как Universalissima, и возможно, что также и в этом
нашем исследовании нам представится случай показать или, по меньшей мере, намекнуть, что те Universalia могут быть выведены лишь из этих Universalissima. Я,
впрочем, отмечу еще здесь, что эти άρχαί, потенции или принципы — точно так же
могут быть строго выведены чисто рациональным путем*, как они здесь, в соответствии с особой природой предмета, выводились с той точки зрения, на которой Бог
уже предпослан.
Теперь, после этих объяснений, относящихся к действующим причинам, силам
или потенциям процесса, который мы обозначили: 1) как теогонический, поскольку в нем восстанавливается, вновь производится снятое божественное бытие, 2) как
процесс творения, поскольку было показано, как из взаимодействия нерасторжимо
сплетенных между собой потенций с необходимостью возникает конкретное бытие,
которого ранее не было, — мы переходим к дальнейшему рассмотрению самого процесса. Если этот процесс есть процесс творения, то он должен производить не конкретное бытие вообще, но конкретное бытие во всем многообразии своих градаций
и разветвлений. Для этой цели совершенно необходимо предпосылать или предполагать, что этот процесс происходит только поступенно, т. е. что принцип, который
в процессе есть предмет преодоления, преодолевается лишь последовательно, что,
конечно же, мыслимо лишь как следствие определенной божественной воли к тому,
чтобы было произведено множественное разнообразие отличных от Бога вещей.
Если бы тот принцип, который есть ύποκείμενον18, субъект, основание или предмет всего процесса, — если бы он был преодолен в одном непрерывном действии,
как бы в одно мгновение, тогда единство было бы восстановлено непосредственно,
без участия каких бы то ни было опосредующих звеньев; однако, согласно божественному намерению, должны существовать опосредующие звенья, с тем чтобы
все моменты процесса не просто как различимые, но как действительно различные,
вошли в конечное сознание, которое и является единственно важным. Если же теперь
действительно предположено последовательное преодоление, то не сразу будет достигнуто то последнее единство, которое является целью процесса; однако все же
в каждый момент та воля, которая есть предмет преодоления, о которой мы можем
сказать, что она желает лишь самой себя, будет преодолеваться некоторым образом,
Каковое выведение дано в рациональной философии (прим. нем. изд.).
Шестая лекция
99
другая же воля, ее преодолевающая, которая осуществляет себя лишь в преодоленной или отрицаемой первой воле, — эта воля, следовательно, также будет в каждый
момент в известной мере осуществляться, и таким образом также всегда и с необходимостью будет полагаться третье, собственно быть должное. Таким образом,
производятся определенные формы и образования, являющиеся все в большей или
меньшей мере отображениями того высшего единства, которое есть изначальный
образ всего конкретного, имматериально-конкретное, равно как вещи суть материально конкретное; производятся, говорю я, формы или образования, которые все
в большей или меньшей мере суть отображения высшего единства — образования,
которые, поскольку все они представляют в себе потенции, также будут завершены,
закончены в самих себе, т.е. будут представлять собой собственно вещи. Эти вещи,
по которым никак нельзя сказать, чтобы их следовало искать где-либо еще, кроме
как единственно среди действительных вещей реальной природы, — все эти вещи
суть порождения происшедшего из одной лишь потенции, однако в большей или
меньшей степени в нее возвращенного бытия, но именно поэтому — не его одного,
а точно так же и возвращающей его в потенцию причины; поскольку же преодоленное может отказаться от себя лишь для того, чтобы положить высшее, собственно
быть должное, которое служит ему как бы образцом, идеей, которой оно руководствуется, которую ищет выразить в себе, — то возникающие вещи суть в той же мере
произведения высшей, все завершающей и приводящей к совершенству потенции.
Таким образом, всякая вещь есть совместное произведение трех потенций, поэтому
она носит название конкретной, т. е. как бы сросшейся из многих19. Поскольку, однако, в каждом, сколь бы удаленным ни было оно от высшего единства, это единство
некоторым образом уже положено, и поскольку та воля, в которой три потенции
объединяются для произведения определенной вещи, может быть всегда лишь волей самого Божества, то на всякой вещи пребывает по меньшей мере видимость
Божества, или, пользуясь лейбницевским выражением, всякая вещь есть coruscatio
divinitatis20. Вы понимаете, что все эти определения, как бы ни были они важны
в другом отношении, здесь могут быть упомянуты лишь кратко.
Тем самым, мы показали, как именно обозначенный нами как теогонический
процесс есть одновременно процесс творения. Из этого следует, что истинный монотеизм несет с собой (свободное) творение, и наоборот, творение мыслимо и постижимо лишь в монотеизме.
Далее, тем самым показано (и это еще один пункт), что данный процесс является
полагающим человеческое сознание. Ибо человеческое сознание есть цель и завершение всего природного процесса. В человеческом сознании, таким образом, будет
достигнута та точка, где потенции вновь предстанут в своем единстве, т. е. где богоупраздняющее процесса (таковым еще ранее мы признали В) будет вновь преобразовано в богополагающее.
100
Первая книга. Монотеизм
Все иные вещи суть лишь сдвинутые, искаженные образы единства; хоть
каждая из них и есть известное единство потенций, однако — не само единство,
но лишь идол, видимое его изображение. Во всех иных вещах есть лишь видимость
Божества; в человеке же, как в завершении целого, можно наблюдать само осуществленное Божество. Изначальный человек, однако, сущностно есть всего лишь сознание; ибо он сущностно есть всего лишь возвращенное в себя само, к себе самому
возвратившееся В; к себе же самому возвратившееся есть как раз именно себя само
сознающее.
Субстанция человеческого сознания есть поэтому как раз именно это В, которое
во всей прочей природе существует более или менее вне себя, в человеке же пребывает в себе; однако именно это В в своей потенциальности или центрированности
(Zentralität) показало себя нам в предпонятии как основа всего Божества, как богополагающее; в своей эксцентричности, где оно подвержено необходимому процессу,
оно выказывает себя как лишь опосредованноу а именно лишь в результате процесса,
вновь полагающее Бога, т. е. оно выказывает себя как богопорождающее, теогоническое. Как таковое, как теогонический принцип, оно проходит через всю природу.
В человеческом сознании, где оно вновь приведено к первоначальному положению,
вновь обращено вовнутрь себя и вновь сделалось = А, оно вновь представляет собой
ботополагающее. Однако это происходит лишь в том случае, если оно продолжает
пребывать в своей чистой внутреннести и не выходит вновь наружу и не подымается к новому бытию. Таким образом, чистая субстанция человеческого сознания (то,
что лежит в его основании), и именно в его чистой субстанции, т.е. прежде всякого
акта, в себе оно есть естественно (от природы, по своему первому происхождению)
богополагающее; и потому, конечно же, не от первоначального атеизма будет происходить у нас сознание, однако столь же мало — и от монотеизма, самоизобретенного либо сообщенного ему в откровении. Ибо прежде всякого изобретения и науки,
и точно так же — прежде всякого откровения, более того — прежде, чем таковое
сделалось возможным, одним словом — уже по своей природе, благодаря самой субстанции своего сознания оно есть не actu: не посредством знания и воли, для которых здесь нет места, но напротив, в не-акте, в не-волении, в не-знании, — оно есть
полагающий Бога принцип.
Здесь мы, тем самым, возвращаемся к той субстанции сознания, которая ранее
представилась нам как подлинная начальная и исходная точка всякого исследования, ищущего объяснения мифологии. Первое действительное сознание показало
себя нам как уже затронутое мифологией; по ту сторону первого действительного сознания, однако, уже невозможно было помыслить ничего более, кроме чистой
субстанции сознания; с ним, таким образом, у человека должен быть неразрывно
связан Бог. Субстанция же человеческого сознания есть именно тот приус, тот принцип творения, который, оказывая сопротивление единству, в этой своей инаковости
Шестая лекция
101
есть = В; однако, будучи обращен вспять, вовнутрь самого себя и вновь став = А, он
есть именно человеческое сознание и одновременно теперь Бога полагающее.
Представьте себе теперь дело так: в качестве В этот принцип, как отмечалось ранее, есть вне себя сущий, вне себя самого положенный. Возвращенный же вовнутрь
себя и вновь положенный = А, он есть, таким образом, вновь к самому себе возвращенное, к себе пришедшее, т. е. сознание. Однако именно оно есть в Бога полагающее
вновь обращенное, а значит, в этом своем пребывании внутри, в этой своей остановке, — с необходимостью Бога полагающее. Таким образом, также и человеческое
сознание в себе и до себя, до начала нового движения, в своей уравновешенности
(Innestehen) — не actu, но, напротив, в не-акте, есть Бога полагающее. Итак (повторим
это), будучи далек от утверждения изначального а-теизма человеческого сознания,
в пользу которого пришлось высказаться всем тем, которые желают произвести богоучение без Бога*, я, однако, столь же далек от того, чтобы выводить человечество
от некоторой системы или даже от одного лишь понятия Бога. Человеческое сознание, напротив, изначально как бы сращено с Богом (ибо оно само есть лишь порождение выразившегося в творении монотеизма, осуществленного Все-Единства)** —
сознание имеет Бога внутри себя, а не, как предмет, перед собою. Уже своим первым
движением сознание подвержено теогоническому процессу. Мы, следовательно, не
можем сказать, каким образом оно приходит к Богу. Оно не имеет времени на то,
чтобы составлять себе представления и понятия о Боге, и затем, в свою очередь, —
столь же мало времени на то, чтобы затемнять или искажать внутри себя эти понятия. Его первое движение не есть движение, посредством коего оно ищет Бога,
но движение, посредством коего оно от Бога удаляется. Оно, таким образом, обладает Богом a priori, т. е. до всякого действительного движения, т. е. сущностно, в себе.
Те, кто пытается вывести человечество из понятия Бога, никогда не смогут объяснить, каким образом из этого понятия могла возникнуть мифология; мало того, они
не подумали также и о том, что — как бы они ни мыслили себе возникновение этого
понятия: приобретено ли оно, по их мнению, человечеством в результате собственной деятельности, или получено им через откровение, — что в обоих случаях они
сами утверждают изначальный атеизм сознания, которому в другом отношении они
себя противопоставляют.
Если мы вообще утверждаем непременную собственность мифологии в отношении понятия
богову то у нас с этим связывается то определенное понятие, что в основе богов действительно лежит Бог; и Бог, таким образом, есть истинная материя и последнее содержание мифологических
представлений.
Это сращение часто представляли в образе обручения человеческой сущности с Богом — воззрение, которое может показать себя как более родственное мифологическим представлениям, нежели
это казалось возможным ранее.
102
Первая книга. Монотеизм
То знание Бога, которое мы приписываем первоначальному человечеству, не
является ни сообщенным ему, ни самостоятельно обретенным; первоначальный
человек заранее и прежде всякого действительного сознания обязан Богу предшествующим всякому мышлению и знанию основанием, самой своей сущностью. Ибо
принцип инобытия (Anderheit), или В, который не в своей абсолютности, но лишь
в своей преодоленности представляет собой основание человеческого сознания,
есть именно в этой преодоленности или чистой потенциальности также непосредственно богополагающее. Поэтому он есть богополагающее не поскольку он движется, но поскольку он пребывает в неподвижности, в своей чистой сущностности
или неактуальности. Если же, однако, мы теперь говорим: он есть богополагающее
не поскольку он движется, но поскольку пребывает неподвижным, — это выглядит
так, будто мы предполагаем, что он, тем не менее, способен двигаться, может покинуть место, на котором был создан, что он свободен уйти с того места, на котором он
может быть лишь как чистая потенция, — иными словами, свободен вновь стать
позитивным. Как можно такое помыслить? Ответ лежит во всем нашем предшествующем изложении.
Сущность, субстанция человеческого сознания более не = простому чистому В,
которое есть приус творения; ибо оно есть, напротив, из В в А превращенное В, В,
которое положено = А, и таким образом оно есть особая, независимая от В сущность. Оно есть, однако, столь же мало простое, чистое А, но оно есть А, в основе
которого лежит В. Здесь возникло нечто новое. Раньше мы имели лишь чистое В
с одной стороны и чистое А2 с другой. Человеческое сознание есть среднее, третье
по отношению к тому и другому; и как благодаря тому, что оно есть А, оно не зависит от В, с другой стороны, благодаря тому, что оно есть не просто А, но А, имеющее
в своем основании В как потенцию, точно так же независимо от второй — полагающей его как А — потенции, и поскольку оно таким образом становится посредине между первой потенцией, которая есть чистое В, и между второй, которая есть
противоположная В, полагающая его как А потенция — в силу этого среднего положения между двумя потенциями, оно становится свободным от той и другой, т. е.
становится отличной от обеих, особой, независимой сущностью. Эта особая, новопроизведенная сущность, ранее никоим образом не существовавшая, которая благодаря произведенному в ней А становится независимой от одного лишь простого В, а благодаря тому, что она сохраняет в себе В, пусть даже и в виде одной лишь
потенции, пребывает независимой от производящей в ней А причины, эта особая
сущность, которая таким образом = свободной, есть как раз именно человек (разумеется, первоначальный человек), которого поэтому мы также описываем как А,
имеющее в себе в качестве потенции В, которая, далее, способна независимо от
Бога, своим собственным деянием, вновь привести это самое В в действие, вновь
поднять его в себе. Именно поэтому также, когда эта положенная в человеке
Шестая лекция
103
потенция* вновь поднимается к действительному В, это уже не есть первоначальное, лежащее в основе творения, но уже духовное В, уже однажды превращенное
в А и возвращенное назад В, которое вместе с той духовностью, которая досталась
ему от предшествующего процесса, вновь идет на подъем, однако, поскольку оно по
своей природе может быть лишь богополагающим, в результате этого нового подъема вновь непосредственно попадает под действие нового процесса, который возвращает его в первоначальное отношение, т. е. вновь преобразует его в богополагающее, каковой процесс поэтому и должен быть признан как теогонический. Этот
теогонический процесс может быть лишь повторением первоначального процесса,
в результате которого человеческое существо стало богополагающим. Начало и повод, а также опосредующее и равным образом цель этого процесса — т. е. вообще
потенции этого теогонического процесса — принадлежат всецело тому прежнему,
общему теогоническому движению; однако здесь Бог не есть более initium (не есть
более начинатель); это естественное движение, и это второе движение, движение
в сознании — отличается от первого и общего лишь тем, что тот же принцип проходит тот же путь в человеческое, богополагающее, но только после того, как он уже
стал принципом человеческого сознания и как таковой, из чего следует, что весь
этот процесс, хоть и является в себе реальным, т. е. независимым от свободы и мышления человека, а значит — объективным, — все же происходит лишь внутри сознания, не вне его, т.е. лишь посредством порождения представлений**.
Следующее замечание, я надеюсь, бросит желаемый свет на только что нами
сказанное.
Этот теперь в достаточной мере описанный нами приус природы, эта как исключительная предположенная сущность есть как таковая вне Бога, есть внебожественная. Ибо исключительное есть противоположность божественной природы; Бог есть
Она не уничтожена в нем, а лишь положена как потенция, но именно тем самым подтверждена.
Если бы наше мнение было, к примеру, следующим: человек, движимый могучим, однако смутным
и неразвитым, заложенным в нем понятием, побуждаемый им к поискам Бога, может продвигаться
лишь поступенно, от предмета к предмету, покуда эти предметы один за другим не окажутся всего
лишь маскирующей пеленой и он наконец не увидит Бога не иначе как вне и над всеми вещами,
и даже над самим миром, не сможет мыслить его чисто духовно, — если бы это и тому подобное
(ибо психологические объяснения такого рода, как известно, способны на бесконечные вариации)
было смыслом нашего объяснения, — то мы могли бы надеяться на понимание и даже, может быть,
на одобрение; в крайнем случае мы услышали бы упрек в чрезмерной изысканности выражения,
а именно, в том, что такое продвижение мы назвали субъективной теогонией. Однако наше мнение
состоит никак не в этом. Порождающее мифологию движение есть субъективное, поскольку оно
совершается в сознании, однако само сознание никоим образом над ним не властно; это движение
порождается и поддерживается силами, которые (по меньшей мере, сейчас) не зависят от самого сознания; таким образом, движение в самом сознании все же является объективным.
104
Первая книга. Монотеизм
ничего не исключающий, Все-Единый. Бог есть, конечно же, — непосредственно желать или, что то же, непосредственно быть могущее, однако он является таковым
в себе самом не исключительно, и он есть Бог не как таковой, не как 1, но лишь как
1+2+3, как Все-Единый. Именно поэтому он не есть Бог в этой воле, если она выступает для себя или в исключении; такая исключающая воля есть поэтому вне Бога. Теперь, однако, мы предположили, что эта воля в своей исключительности проявилась
лишь для того, чтобы вновь быть возвращенной в отношение, где она, вместо того
чтобы быть исключающей другие потенции, напротив, в результате своего собственного не-бытия являет собой их субъект, их полагающее, их седалище и трон. Это
преодоление или обращение могло бы теперь быть понято так, будто бы воля, тем
самым, что она возвращена теперь в самого Бога, перестала быть внебожественной.
Однако в этом случае вновь было бы положено всего лишь первоначальное единство, мы вновь очутились бы там же, где были в самом начале. Это, следовательно,
необходимо понимать иначе. Такая исключительная воля остается в себе самой тем,
чем она была в начале, чем-то внебожественным, чем-то в относительном смысле
пребывающим вне Бога; ибо Бог ничего не берет назад; то, что он однажды совершил, остается совершенным; таким образом, воля в процессе не перестает быть по
отношению к Богу чем-то внешним. Намерение состоит как раз в том, чтобы она
в этой внешности, или как внебожественное, вновь была возвращена во внутреннее
(т.е., в свое собственное); она должна оставаться внебожественной и в этой своей
внебожественности, в свою очередь, быть божественной — возвратить ее назад всецело шло бы вразрез с первоначальным намерением, ибо при этом ничего не было
бы произведено; поскольку же она пребывает в своей внебожественности, однако
в ней возвращается к божественности (т.е., к внутренности, неисключительности),
то, тем самым, производится нечто отличное от Бога (aliquid praeter Deum21), что, однако же, = Богу; нечто внебожественно-божественное, и это есть (первоначальный)
человек, который по сути есть лишь внешне произведенный, сотворенный, ставший
Бог, Бог в тварном образе. Именно потому, однако, что эта исключительная воля, т. е.
В не возвращается собственно в Бога — именно по этой причине оно (В) также остается, сохраняется в сущности человека как возможность, как потенция, чего никак не
могло бы быть, если бы Бог взял его назад. То, что положено теперь и что вам следует
принять во внимание как предмет дальнейшего рассмотрения, есть А, которое содержит в себе В в качестве потенции, что есть совершенно новое понятие; ибо о Боге,
хотя он, будучи рассматриваем с одной из своих сторон, и был В быть могущим, —
о Боге все же поэтому еще нельзя было бы сказать, что он содержит в себе В в качестве
потенции: он был всецело властен быть В и не быть им, как я властен пошевелить
или не пошевелить своей рукой, однако В не заключалось в нем в качестве возможности, как, например, болезнь заключается в здоровом человеке в качестве потенции, в качестве возможности, и напротив, в человеке В, несомненно, положено как
Шестая лекция
105
потенция, как возможность, которую он вновь может привести в движение. Ибо человек есть не что иное, как самим собой обладающее природы. Обладающее есть = А
(произведенное в нем); то, как что оно собою обладает (subjectum), есть В, возвращенное ad potentiam. Таким образом, он обладает им как потенцией лишь для того,
чтобы сохранять его в качестве потенции. Однако, как обладающий им, он может
также вновь привести его в движение — вывести его из состояния покоя. (То, что он
свободен, а значит, способен на независимое деяние, мы уже видели.) Однако сущность человека срастается с божественной таким образом, что она не может прийти
в движение, без того чтобы для нее не пришел в движение сам Бог. Непосредственно
в результате этого нового подъема, В сперва исключает из себя ту потенцию, которая
в его преодолении (в преодолении В) должна была осуществить себя (А2 — ибо я
уже сказал ранее, что А2 может осуществить себя не посредством перехода a potentia
ad actum в нем самом, но лишь посредством обратного перехода ab actu ad potentiam
вне его; приводя В ab actu ad potentiam и, тем самым, само становясь actus purus, оно
теперь осуществлено в этом на данный момент потенциально положенном В; оно
есть как бы материал его осуществления). Сперва, таким образом, вновь поднявшееся В исключает А2, опосредованно же — также и A3 (высшую потенцию): а это есть
вновь то же самое напряжение потенций, что и в первоначальном universio; однако
теперь положенное в одном лишь сознании, т. е. мы вновь имеем все факторы теогонического процесса, однако происходящего в одном лишь сознании.
Сила или власть, которая удерживает человеческое сознание в этом движении,
не может быть случайной — а значит, она не может быть и всего лишь случайным
знанием о Боге; столь же мало то, что удерживает сознание в этом движении, может быть его собственной волей; у нас есть все основания предположить, что оно
охотно бы избежало этого движения, если бы могло: следовательно, лишь благодаря
своей сущности, которая независима от него самого и существует раньше его в его
теперешнем привлеченном бытии — лишь благодаря своей сущности оно может
удерживаться в движении. Самое глубокое в (первоначальном) человеке есть богополагающее лишь в себе — не благодаря акту, но в результате не-акта. Оно есть богополагающее без его собственного содействия, без собственного движения — не
так, чтобы оно само могло осознавать то движение, в результате которого оно стало
богополагающим. Ибо сознание присутствует лишь в конце всего того пути, по которому оно было проведено, словно по ступеням творения. Таким образом, можно
сказать, что оно — для того чтобы осознать этот путь, чтобы самостоятельно проделать этот путь в сознании, — одним словом, чтобы то последнее богосознание, которым оно является как бы от природы, без собственного участия, без собственной
заслуги, что оно, говорю я, с тем чтобы существовать с сознанием, для этой цели
должно разорвать свою изначальную сращенность с Богом, что для этой цели потенция богополагания вновь должна была выйти из этого отношения. Правда, таким
106
Первая книга. Монотеизм
образом человек противопоставил себя тому всеобщему теогоническому движению,
существование которого в творении доказано нами, однако именно эта сила всеобщего движения, которая требует человеческой сущности как своего собственного
истинного завершения, своей собственной точки покоя, именно эта сила всеобщего
движения возвращает человека, пусть и противящегося, в русло движения и подвергает его воздействию процесса, завершение которого состоит в том, что он также
и для себя самого осуществляется как в себе богополагающее. Можно поэтому весь
последующий процесс рассматривать как переход от только сущностного, как бы
вросшего в сущность человека монотеизма — к свободно признаваемому монотеизму: воззрение, при котором политеизм как переходное явление получает иное значение, а в отношении общего плана миропровидения — иное оправдание, нежели при
том другом предположении, которое объясняет политеизм из никуда не ведущего,
ни для чего кроме перехода не нужного, безо всякой цели совершающегося распада,
выдаваемого за изначальный, по сути же самого представленного как учение, как
система, т. е. как случайность — монотеизма.
После всего сказанного мы теперь имеем право объяснить мифологию как порождение процесса, в который погружено сознание человека в первом переходе
к действительности, процесса, являющего собой лишь повторение общего теогонического движения и отличающегося от него никак не самим принципом, но лишь
тем, что тот же самый принцип проходит путь в человеческое, богополагающее;
теперь, уже как принцип человеческого сознания, или после того как он уже стал
принципом человеческого сознания, т.е. на более высокой ступени, тот же самый
путь, который он проходил в творении на предшествующей ступени, и поэтому названный процесс, подобно своему принципу или своему основанию, — точно так
же, как по своим причинам, есть реальный, объективный, все же происходит лишь
в сознании, заявляя о себе прежде всего изменениями в этом сознании, явленными
в представлениях*.
Здесь мы пришли к физическому, к физической стороне мифологических представлений, о которой под конец этого изложения, прежде чем мы перейдем к самой
мифологии, я хотел бы высказать следующие утверждения.
Поскольку в мифологическом процессе повторяется процесс творения, нас заранее не должно
удивлять, что мифология являет нам такое множество отношений к природе; и равным образом
заранее очевидно, что по мере того, как мы будем представлять порождающий мифологию процесс,
тем самым, будет дана также и натурфилософия как бы в своем более высоком преломлении. Отношение, которое имеют к природе мифологические представления, само есть естественное и не
нуждается в том, чтобы его объясняли, например, из предположения в качестве основоположников
мифологии философических естествоиспытателей первобытной эпохи.
Шестая лекция
107
1) Мифологические представления вообще представляют собой чистые внутренние порождения человеческого сознания. Они не могут прийти к человеку извне, и он не может осознавать их как только внешне ему привнесенные (например,
как предполагает Германн, — преподанные в качестве учения). Если бы они были
лишь привнесены в сознание извне, то такое сознание, которое, кстати, признается
большинством теорий как подобное и даже равное нашему нынешнему, относилось
бы к этим представлениям точно так же, как наше — т. е. оно было бы не более способно воспринять их в себя, чем способно воспринять и принять их наше с вами сознание. Человек должен был осознавать эти представления как с неодолимой силой
родившиеся в нем самом; они могли возникнуть и возрасти лишь вместе с однажды
положенным вне себя самого сознанием. Они, таким образом,
2) не могли возникнуть как произведения какой-либо особой деятельности,
напр., фантазии и т.д., но лишь как порождения самого сознания в его субстанции.
Лишь таким образом может быть понята их субстанциальность, их сращенность
с сознанием, та неотделимость от него, которая единственно объясняет, — почему
потребовалась тысячелетняя, в некоторой части человечества даже и теперь еще
не оконченная, борьба, для того чтобы вырвать их из сознания с корнем. С самого начала политеистические представления настолько сильно переплетены с самим
сознанием, как никогда не бывают сплетены с ним те представления, что являются
результатом взвешенных размышлений и осознающего все причины познания. Однако они также
3) не могут быть рассматриваемы как порождения сознания в его чистой сущностности или субстанциальности, но лишь как произведения — хотя и всего лишь
субстанциального, однако вышедшего за пределы своей сущностности, а значит, вне
себя сущего и пребывающего под властью непроизвольного процесса — сознания.
Далее, являясь порождениями человеческого сознания, они, тем не менее,
4) не являются его порождениями, поскольку оно есть человеческое сознание;
но, напротив, поскольку принцип человеческого сознания вышел из того отношения, в котором единственно он был основанием человеческого сознания, а именно,
из отношения покоя, чистой сущностности или потенциальности, — они суть порождения вышедшего из своего основания человеческого сознания, которое лишь
в результате этого процесса вновь приводится к тому отношению, когда оно действительно есть человеческое сознание. Поэтому мифологические представления
могут или должны рассматриваться как порождения относительно дочеловеческого сознания — т. е., хотя и как порождения человеческого сознания (следовательно,
также субстанциального сознания), однако — поскольку это последнее вновь приведено в его дочеловеческое отношение. В обозначенном нами смысле мифологические представления можно сравнить с земными формами и образованиями дочеловеческой эпохи, как это сделал Александр фон Гумбольдт — не осмелюсь, правда,
108
Первая книга. Монотеизм
сказать, в каком именно смысле (ибо он вряд ли имел в виду чудовищную колоссальность того и другого). Не могу обойтись здесь и без замечания о том, что совершенно неверно полагать, будто мифология персонифицирует предметы действительной
природы. Идеи мифологии выходят за рамки природы и равным образом за рамки сегодняшнего ее состояния. Человеческое сознание в порождающем мифологию
процессе вновь возвращено в эпоху той борьбы, которая нашла свое завершение как
раз с наступлением человеческого сознания — в сотворении человека. Мифологические представления возникают как раз в результате того, что уже преодоленное
в природе прошедшее вновь возникает в сознании, этот уже покоренный в природе
принцип еще раз овладевает теперь уже самим сознанием. Никак не пребывая в ходе
порождения мифологических представлений внутри природы, человек, напротив,
находится вне ее, будучи как бы отвержен от природы и находясь под ярмом власти,
которую по отношению к настоящей (к стоянию, к покою пришедшей) природе или
в сравнении с ней следует назвать сверхприродной или надприродной. Из этого генезиса мифологических представлений можно теперь, наконец, понять то,
5) что никак невозможно было объяснить при ином способе происхождения,
а именно, каким образом данные представления могли видеться погруженному
в них человечеству как объективно-истинные или действительные. Сперва негативно, поскольку человечество не могло осознавать эти представления как от него
самого происходящие, свободно им самим порожденные, ибо они были порождены
чем-то ставшим по отношению к человеку объективным — перешедшим пределы
того отношения, в котором оно есть основание человеческого сознания, принципа,
который лишь под конец в своей восстановленной субъективности вновь полагает
человеческое сознание.
Однако также и в позитивном отношении они должны были выглядеть как
объективно истинные, поскольку порождающее основание этих представлений есть
объективно или в себе теогонический принцип, благодаря чему именно и происходит так, что сознание воспринимает собственное движение как движение Бога.
Лишь этим объясняется та реальность, которую мы с необходимостью признаем
в религиозных верованиях. Ибо покуда мы еще не можем объяснить, как именно
верующий мог быть убежден в реальности этих представлений самым несомненным образом, мы, конечно, будем предпринимать те или иные попытки объяснения
этого феномена, однако никогда не поймем и не объясним его в действительности.
Мифология не была произведением или изделием человека: она основывается на
непосредственном присутствии действительных теогонических потенций; именно
борьба изначальных, в себе теогонических сил порождает в человеческом сознании
мифологические представления. Если бы по этой причине кто-то, может быть, счел
себя в праве сказать, что мифология является порождением некоего внушения,
вдохновения, то я ничего не имел бы возразить, если подразумевать при этом не
Шестая лекция
109
божественное, но внебожественное внушение. Ибо теогоническое основание, всякий раз выходя из состояния покоя и приходя в человеке в движение, в этот момент
еще не может быть названо божественным; божественным, равно как и человеческим, оно может быть названо лишь в тот момент, когда всецело возвратилось назад, в тот момент, когда оно вновь пришло к состоянию своего первоначального
таинства*.
Могут, пожалуй, найтись и такие, которые скажут, что предпосылку указанного
процесса в сознании человека невозможно совместить с божественным провидением, подобно тому как многое в природе, вызывающее негодование и даже омерзение
в человеческой душе, нуждается некоторым образом в прощении и божественном
оправдании. Однако следует заметить, что если порождающее мифологию движение
в своем ходе и является непроизвольным, а в своем возникновении представляется
даже до некоторой степени и неизбежным (подобно тому, как оставление человеком
Бога [Heraustreten des Menschen aus Gott] вообще некоторым образом — а именно,
взятое лишь естественно — представляется как неизбежное), то, несмотря на это,
первое начало и повод к этому движению есть собственное деяние сознания, пусть
и непостижимое для него самого впоследствии; и таким образом мы пришли теперь
к действительному началу теогонического, т. е. порождающего мифологию процесса
и, тем самым, стоим в начале действительной философии мифологии.
Сознание также и первоначально есть лишь божественно положенное, лишь в этом смысле божественное; поскольку же оно есть всего лишь положенное, в нем сохраняется возможность вновь
стать небожественным.
ВТОРАЯ КНИГА
МИФОЛОГИЯ
СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
До сих пор мифология повсеместно воспринималась как предмет только историко-эмпирического рассмотрения, в котором философия могла принимать лишь
ту меру участия, какую можно признать за ней в любом, в остальной части пусть
даже и чисто эмпирическом, исследовании. Поэтому было вполне естественным,
что уже сам заголовок «Философия мифологии» вызывал недоумение. Также и в науке о древностях и в природоисследовании нет недостатка в так называемых чистых (т. е. исключающих всякую философию) эмпириках, и обычно мы представляем себе чистого эмпирика (да и сам он чаще всего преподносит себя) как человека,
принимающего к рассмотрению лишь чистые факты. Что подразумевается под
этим в науках о природе — можно видеть, наблюдая бесчисленное множество гипотез во всевозможных эмпирических исследованиях, отчетливее же всего — в так
называемых физических теориях, которые большей частью основываются как раз
на предпосылках, эмпирически совершенно недоказуемых, таких как, например, так
называемые молекулы, с помощью которых сейчас вновь, и даже отчасти в самой
Германии, пытаются объяснять духовные явления света и стехиометрические факты
в химии. Почему же, несмотря на все это, теории подобного рода находят признание
или, по меньшей мере, терпимое отношение, тогда как сразу же поднимается вой
всякий раз при появлении теории, требующей от исследователей проникновения?
Причина признания, которое обретают названные теории, может заключаться лишь
в том, что они дают возможность представить себе ход явлений безо всякого применения высших духовных способностей, при необходимости — даже без применения
высших духовных чувств, например, при помощи одного лишь осязания; ибо, напр.,
то хаотическое движение молекул, которым французские физики объясняют оптические и иные явления, можно в случае надобности проиллюстрировать на своих
пяти пальцах. Большая часть наших оптических теорий относится к тому роду, которые при необходимости можно было бы объяснить даже слепым, и в этом смысле
Седьмая лекция
111
для слепого, без сомнения, есть теперь возможность говорить о цвете. Если теперь,
возвращаясь к нашему предмету, понаблюдать ту серьезность, с которой, напр., Германн в своем объяснении мифологии говорит о вещах, коих он попросту не может
знать — о мудрецах Востока, размышлявших о природе и изобретавших теории,
и о том, как искусно им удалось устроить, чтобы народ мог понимать их поэтически
завуалированные идеи, однако не вполне и не всецело и т.д., — тот, кто понаблюдает эту серьезность и даже елейность, с какой столь достопочтенный исследователь
древностей преподносит столь совершенно недоказуемые вещи, в то время как все,
что хотя бы издалека нацеливается на обладание какой бы то ни было духовной идеей, он тут же называет восторженным сумасбродством, тот должен будет признать,
что сумасбродством, напротив, следует назвать саму эту измышляющую недоказуемые факты теорию, пусть и совершенно трезвую и свободную от всяческой идеи,
однако, тем самым, ничуть не менее мистически-сумасбродную. И однако же, никто
не назовет так его теорию, поскольку она пытается объяснить появление мифологии
из тех же самых обстоятельств и событий, которые в любое время могут случиться
у нас и которые всегда могут быть наблюдаемы в кругу нашего повседневного опыта;
поэтому такую теорию называют благоразумной, осмотрительной, т. е. пребывающей в кругу повседневности, теорией; и напротив, вполне могло бы случиться так,
что теория, попытавшаяся также из общих причин объяснить явление, по своей глубине, длительности и всеобщности сопоставимое лишь с самой природой, была бы
названа сумасбродством, — и даже притом, что она действительно объясняла бы
факты, которые все прежние теории оставляли без объяснения.
Не минуло еще и пятидесяти лет с того момента, когда все ветхозаветные филологи вдоволь посмеялись бы над толкователем, которому вздумалось бы увидеть
в дожде из камней, упоминающемся в книге Иисуса Навина, действительный каменный дождь, а не просто заурядный град; ибо это есть наиболее простой способ
душевной разгрузки, который всякий может позволить себе перед лицом неудобных ему и некстати пришедшихся идей. То же самое могло случиться и с каждым,
кто осмелился бы признать, что знаменитый, упавший при Эгоспотамах метеорит
или часто повторяющиеся рассказы Ливия о lapidibus pluisse1 отнюдь не представляют собой пустые россказни или плод суеверия. Сегодня такого, конечно же, уже
не произойдет, по меньшей мере — в том, что касается повествования о каменном
дожде, и таким образом можно надеяться, что в будущем не покажется странным
также и наше признание истинности за мифологическими представлениями, разумеется, с теми ближайшими определениями, которые мы ранее связали с данным
утверждением.
Первым и наиболее важным требованием при любом истолковании является нахождение справедливого подхода к объясняемому явлению: не подавлять, не
унижать, не умалять и не искажать его в целях более легкого объяснения. Здесь не
112
Вторая книга. Мифология
спрашивается, какой взгляд необходим на тот или иной предмет — с тем чтобы он
мог быть с удобством объяснен в русле той или иной философии, но напротив, спрашивается — какая философия необходима, какая философия сможет оказаться на
одной высоте с данным предметом. Речь идет не о том, каким образом феномен должен быть повернут, вывернут наизнанку или на одну сторону, или низведен в ранге — с тем чтобы в случае надобности быть объясненным из тех принципов, которые
мы однажды взяли себе за правило не преступать, но: в каком направлении нам необходимо расширять наше мышление, чтобы стать в истинное отношение к феномену.
Тот же, кто по какой-либо причине испытывает боязнь перед таким расширением,
должен был бы — вместо того чтобы низводить явление до уровня своих понятий
и уплощать его, — по меньшей мере, иметь достаточно искренности, для того чтобы
поместить его в ряд тех вещей, которые он не понимает и которых для каждого все
еще может найтись изрядное количество; и если даже он неспособен подняться до
уровня, соотносимого с рассматриваемыми явлениями, то ему все же следует как
минимум воздержаться от высказываний совершенно несообразных.
В более ранних попытках объяснить мифологию нетрудно было распознать влияние известных, принятых прежде всякого исследования и совершенно независимо
от фактов (а priori, как говорится) и при этом считающихся философскими, принципов; отсюда здесь и эта мутная смесь эмпирии и чего-то выдаваемого за философию,
которую в других науках мы можем встретить под именем теорий, где философия
и эмпирия располагаются бок о бок, при этом, однако, нисколько друг другом не
проникаясь. Тот же, кто не в силах расширить свою философию настолько, чтобы
она стала вровень с предметом — была бы на одной высоте с ним — так, чтобы иметь
возможность образовать теорию, которая была бы одновременно всецело научной
и всецело историчной, вполне эмпирической и вполне философской, — тот сделает
лучше, если вообще воздержится от построения какой бы то ни было теории.
Теория, которая объясняет мифологические представления лишь приблизительно и лишь в их отдельности, не демонстрируя при этом их столь же глубинной,
сколь и широкоохватной, взаимосвязи, не передавая их в их определенности, — уже
этим одним выказывает себя как равным образом не подлинно историческая и не
подлинно научная. Подлинно историческое есть всецело одно с научным. Противопоставление исторической и философской школы в отношении таких предметов,
как данный, — совершенно неуместно. Ибо истинно историческое состоит не в том,
что мы внешне дополняем наши утверждения отдельными фактами (нет неспособных к этому, и особенно в науке о древности; совсем ведь еще не так давно один
почтенный ученый муж обнародовал факты, доказывающие, по его мнению, что
райские кущи находились в королевстве Прусском). Истинно историческое заключается в обнаружении лежащей в самом предмете, т. е., внутренней, объективной основы развития; и коль скоро этот принцип развития найден в самом предмете, все
Седьмая лекция
113
преждевременные, несвойственные определения с необходимостью должны обнаружить свою ложность; с этого момента нужно всего лишь следовать за предметом
в его саморазвитии.
Лишь о такой — одновременно философской и эмпирической, научной и исторической, в самом предмете и вместе с ним развивающейся — теории только и будет идти речь в дальнейшем. На ту точку зрения, с которой мы теперь намерены
рассматривать мифологию, не мы поставили мифологию, но мифология поставила нас. Таким образом, начиная с этого момента содержание нашего доклада будет
представлять собой не нами объясняемую, но саму себя объясняющую мифологию.
При этом самообъяснении мифологии у нас также не будет необходимости избегать
выражений самой мифологии, мы по большей части предоставим ей говорить на
своем собственном языке, после того как этот язык станет понятен нам благодаря
достигнутой теперь точке зрения. Мифология, как мы знаем, говорит на языке образов. Это в известном смысле так, однако такие образные выражения являются не
в большей мере несобственными для мифологического сознания, чем является несобственной большая часть наших — также образных — выражений для научного
сознания. Помещая теперь эти — свойственные мифологии — выражения в то место
нашего исследования, где они необходимо должны будут быть понятны благодаря
своей взаимосвязи, мы добиваемся того, что не мы объясняем мифологию, но она
объясняет себя сама, и что нам нет уже необходимости доискиваться для мифологических представлений какого-то несобственного смысла (sensum improprium2), понимать их аллегорически, как, напр., рационалисты, — когда в христианстве речь
идет о Сыне Божием, — хотят понимать это лишь в несобственном, аллегорическом
смысле. Мы оставим мифологические представления в их собственном смысле, поскольку мы вполне уже способны понимать их в их собственности. Если бы, однако,
нашелся некто, кому это самообъяснение мифологии показалось бы не слишком соответствующим его собственной, уже готовой и устоявшейся философии, — то мы
предложили бы ему решать дело не с нами, но с самой мифологией, поскольку не
в нашей власти подгонять ее под привычные, действующие на нынешний день в том
или ином кругу, понятия, либо вообще каким бы то ни было образом ее изменять.
Уже само упрямое нежелание мифологии поддаваться на все до сих пор предпринятые попытки ее объяснения могло бы служить доказательством ее принадлежности
к вещам, полное понимание которых зависело от высшего развития самого человеческого сознания; равным образом это свидетельствовало о том, что нельзя было надеяться рассеять тот мрак, окутывающий как ее смысл, так и ее происхождение — иначе,
чем в результате всеобщего расширения человеческого мышления. Покуда философия
вообще предполагала настоящее положение вещей и человеческого сознания — как
всеобщий и единственно действительный масштаб, и рассматривала такое состояние как необходимое и в логическом смысле вечное, — до тех пор она не в силах была
114
Вторая книга. Мифология
понять ничего из того, что выходит за пределы настоящего человеческого сознания,
трансцендирует его. Если бы мифология могла быть понята из психологических выведений обычного рода, при помощи исторических предположений, аналогичных тем,
что лежат в сфере нашего знания, если бы она вообще могла быть понята из тех оснований, что могут быть найдены в нынешнем сознании, она давно уже была бы понята,
в то время как всякий искренний мыслитель должен будет признать, что это — во все
времена столь высоко чтимое явление — до сих пор стояло в истории человечества как
феномен, не получивший своего объяснения. Данный факт, однако, отнюдь не будет
представлять для нас странности, если мы предположим, что мифология возникла при
обстоятельствах — не допускающих сравнения с обстоятельствами, определяющими
нынешнее сознание, — которые можно постичь, лишь осмелившись выйти за их рамки.
Мы поэтому также не считаем, что те первые, кто свободно размышлял об этом
явлении и стоял к его возникновению намного ближе, чем стоим к нему теперь
мы, — лучше всего сумели его понять. Напротив, именно первые попытки греков
объяснить этот столь близко отстоящий от них феномен выказывают свое полное
несоответствие его глубине; и более того, всякое понимание мифологии кажется
заведомо упраздненным с того самого момента, как мифология имеется в наличии
и всецело порождена, т. е. как только свободная наука вступает в свои права, — в доказательство того, что происхождение ее принадлежит совсем иному сознанию, нежели то, которое начинается вместе со свободным мышлением, и что здесь, как и во
множестве иных случаев, не ближе по времени стоящие, но как раз наиболее удаленные лучше видят, а именно те — которые, в свою очередь, стоят ближе к последнему
развитию нынешнего сознания. Поэтому исследование возникновения и значения
мифологии есть важная и достойная философии нашего времени задача. То, что заставило меня читать открытые лекции по этому предмету, не было случайностью, не
было просто желанием окунуться в новую, на первый взгляд чуждую моим прежним
работам, тему. То, что продиктовало мне это решение, было, напротив, естественной
связью, в которой исследование этого предмета стоит с теми своеобразными требованиями, более того, с глубочайшими нуждами нашего времени, если и не всегда
понимающего, то все же хорошо чувствующего само себя и свою задачу.
Это объяснение я посчитал необходимым еще и для того, чтобы заранее пояснить для вас характер последующего специального исследования, а также мой собственный подход и метод его проведения. Теперь к вопросу.
Принцип, отправная точка исследования дана нам в предыдущем изложении.
Человек (первоначальный, разумеется) есть не что иное, как то самое бытие в возможности, которое во всей природе было вне себя, в человеке же вновь приведено
Седьмая лекция
115
к себе самому и есть теперь самому себе данное, самим собой обладающее, над самим
собой властное бытие в возможности. Такое над самим собою властное бытие в возможности (человек) есть поэтому: 1) над бытием в возможности властное; однако
2) оно обладает бытием в возможности как тем, над чем оно властно, словно бы
невидимой υλη3 — как материей своей власти — в себе. Оно есть, если можно так
сказать, двойственное бытие в возможности: 1) то, что властвует над бытием в возможности; 2) то, над чем оно властно (и это бытие в возможности, хоть и есть сейчас — actu, действительно — в себе (уже не вне себя) сущее); правда, одна лишь действительность, а не также возможность вне-себя-бытия преодолена в нем, и именно
эта сохраняющаяся в нем, неустранимая — не собственно положенная, однако также
и не подлежащая отрицанию возможность, эта сохраняющаяся в нем, не могущая
быть исключенной, возможность инобытия — эта непреодоленная и непреодолимая
двойственность — есть, хотя внешне еще сокрытое и до сего момента только возможное, однако же все-таки возможное, начало нового движения: это бытие в возможности, которое состоит в над самим собою властном, в свою очередь способно
к обращению, оно не лишено этой возможности, оно есть двойственная природа
(natura anceps4), το περιφερές5, как называли этот принцип пифагорейцы, которое
способно обратиться и на глазах стать иным; оно есть двойственность или Dias, ибо
δυάς6 или двойственностью по своей природе является всякий принцип, который
одновременно есть и не есть то, что он есть; напр., А: есть, но именно сейчас — поскольку оно не движется, — не есть, т. е. есть не так, чтобы оно еще не смогло стать
своей противоположностью. Однако чистая возможность для себя есть ничто; она
есть нечто лишь в том случае, если привлечет к себе волю — то, в чью власть она
отдана, если к ней прибавится над самим собой властное — если она начнет желать.
Поскольку эта возможность для себя еще ничего не дает и является бесплодной
(ничего не производит), если к ней не добавляется воля (над самим собой властное
бытие в возможности), — эта возможность предстает как простая женственность,
воля же — как мужественность: здесь уже есть мифологическое выражение, и здесь
уже положено основание в дальнейшем непрерывной и все далее разветвляющейся двуполости мифологических божеств. Далее нам необходимо будет сделать даже
такое замечание: в качестве абсолютно-первого момента следует мыслить, что эта
возможность еще совершенно не является над самим собой властному, пока оно пребывает о ней в блаженном неведении. Однако именно такое, еще пребывающее в неведении о самом себе, бытие, делает все бытие этого момента, бытие над самим собой
властного — случайным, а следовательно — иначе быть могущим и, таким образом,
самим по себе двусмысленным бытием. Эта двусмысленность, скажем так, не должна
оставаться в том виде, как она есть: она непременно должна быть разрешена. Она не
должна оставаться в том виде, как она есть, говорю я и, тем самым, формулирую закон, не допускающий чему бы то ни было пребывать в состоянии неразрешенности;
116
Вторая книга. Мифология
закон, требующий, чтобы ничто не оставалось сокрытым, чтобы все становилось
явным, приходя к ясности и разрешению, чтобы любой враг, в конце концов, был
одолен и, в конечном итоге, — было положено успокоенное, совершенное бытие. Воистину, именно это есть единственный, высший и на все распространяющийся мировой закон.
Поскольку, таким образом, из властного над самим собой бытия в возможности не может быть исключена та возможность, благодаря которой оно может
превращаться в противоположность самого себя, — это должно быть разрешено;
разрешение, однако, может осуществиться лишь в том случае, если воля данную возможность осознает. Следовательно, в силу того же мирового закона необходимым
является также, чтобы эта возможность воле была указана (ибо лишь когда то, в чем
содержится возможность, усмотрело эту возможность и не желает ее, — оно есть со
своим собственным волением то, что оно есть, и таким образом — закреплено в том
месте, где оно сейчас хотя и есть, однако независимо от самого себя, т. е. относительно самого себя есть совершенно случайно). Вследствие этого высшего и единственного мирового закона, который не терпит ничего случайного, необходимо, говорю я,
чтобы такому над самим собой властному бытию в возможности, такой до сих пор
еще покоящейся воле была показана существующая в нем — без его собственного
знания и желания — возможность; или, скорее, необходимо, чтобы эта возможность
была пробуждена в нем, чтобы таким образом эта возможность была в состоянии
явить себя ему, ему представиться. В качестве причины импульса, в результате которого до сих пор единая воля также и для себя самой становится двойственной, или
покоящаяся воля становится способной равно желать или не желать, в качестве причины этого импульса может быть мыслим лишь сам высший мировой закон. Этот
мировой закон, эта власть, которой противно все неопределенное, двойственное, все
вообще случайное, — есть Немезида.
Если мы применим то объяснение, которое Аристотель в своей «Риторике» дает
7
слову νεμεσάν , то Немезида есть не что иное, как сила, которая ненавидит незаслуженно, не по своим заслугам счастливого*. Такое без собственной заслуги счастливое представляло собой это над самим собой властное бытие в возможности —
в своей чистоте, где оно было богоподобно; и Бог, который не хочет, чтобы оно лишь
случайно было тем, что оно есть, сам Бог есть поэтому тот, кто показывает ему возможность также и не быть тем, что оно есть, — не для того чтобы оно действительно
стало противоположностью, но лишь для того чтобы оно, напротив, отнюдь не желая
противоположности, свободно, по свободной воле было тем, что оно есть. Столь высоко в его глазах стоит добрая воля, что он не колеблясь рассматривает наивысшее,
Аристотель. Риторика, IX. (Sylb. 80, 7): ει γάρ έστι το νεμεσάν, λυπεισθαι επί τω φαινομένω άναξίως
εύπραγείν (негодовать же — досадовать при виде несправедливо благоденствующего) (греч.).
Седьмая лекция
117
свое первое творение, в свою очередь, — лишь как возможное основание второго
творения, второго, однако именно поэтому высшего, откровения самого себя. И действительно, что есть природа по сравнению с полной жизни историей, которая являет себя взору по мере того, как человек вновь открывает для себя уже завершенный
в природе круг! Вся природа становится всего лишь моментом — она как бы не имеет
более истории, становится неисторичной, весь интерес отныне обращен к той высшей истории, родоначальником которой является человек.
Воззрение, что Божество само не желает этого безвольного блаженства своего
творения и намеренно полагает человеческое существо в альтернативе: либо лишиться этого блаженства, либо обладать им как самоприобретенным, — это воззрение никоим образом нельзя считать всего лишь языческим. Тот способ, коим в повествовании Ветхого Завета (которое я здесь рассматриваю даже не как божественное
откровение, но лишь как документ религии, противоположной язычеству) человеку
указывается возможность противоположности: возможность также и не быть тем,
что он есть, однако именно тем самым быть тем, что он есть, по собственной воле —
тот способ, говорю я, каким Бог указывает ему эту возможность, состоит, как известно, в том, что Бог запрещает ему вкушать от плода познания добра и зла. Однако
именно посредством этого запрета, посредством закона ему открывается возможность противоположности, как говорит самый глубокомысленный из апостолов: я
ничего не знал бы о вожделении, если бы закон не запретил мне вожделеть — грех
начался с заповеди, — и без закона грех был мертв (как мертва была также и эта возможность, т.е. она была так, как будто не была), когда же пришла заповедь — грех
стал живым. Если же, теперь, даже по христианскому воззрению закон (и вдобавок,
богоданный закон) был причиной греха, т. е. отклонения от изначального бытия, —
тогда то мифологическое представление, согласно которому Немезида есть причина
несущего бедствия перехода, по своей сущностной мысли есть совершенно то же са8
9
мое, как и сами по себе уже νόμος (закон) и νέμεσις по своему звучанию и по своей
этимологии суть родственные слова.
Я, однако, не могу не вставить здесь одного замечания, имеющего целью предотвратить возможное недоразумение. Однажды будучи затронуто мифологией, однажды попав под власть этой, упраздняющей и преступающей его как человеческое
сознание, силы (такой силой обладает мифология, она способна возвратить человека
в дочеловеческое состояние), — сознание, тем самым, отрезано от своего прежнего
бытия, и оно не несет в себе в свое нынешнее состояние никакого воспоминания
о прежнем. Если я поэтому среди различных мифологических образов упоминаю
Немезиду в качестве той, которая мыслится причиной этого перехода, то мое мнение отнюдь не заключается в том, что такое представление о Немезиде ведет свое
начало от самого возникновения мифологии. Напротив, если в начале мифологического процесса сознание подпало под власть совершенно слепой и для него самого
118
Вторая книга. Мифология
непостижимой силы, что я уже показал в общих чертах, а впоследствии покажу более обстоятельно, то мифологическое сознание лишь в конце обретает ясность относительно своего начала — там, где эта слепая сила для него самого и в нем самом уже
вновь преодолена или же близка к преодолению. Само понятие Немезиды, таким
образом, ведет свое начало из последних времен мифологии, которая уже свободна по отношению к самой себе, ищет познания самой себя и уже начинает делать
первые шаги в этом познании. И действительно, сперва мы встречаемся с ней у Гесиода, чья теогоническая поэма, как вы можете помнить, еще ранее была признана
нами как произведение не возникающей, но уже приходящей к ясности относительно самой себя, начинающей себя осознавать, мифологии. (Мифология в своем начале не может объяснять саму себя, понимать свое собственное начало, однако мы
объясняем ее начало так же, как объяснила себя пришедшая к своему завершению
и осознавшая себя мифология.) Немезида появляется у Гесиода среди детей Ночи,
т.е. первой неразличимости, индифференции воли: «Также и губительная (гибель
несущая) Нюкта родила Немезиду, несчастие смертных», — т. е. несущую смертным
несчастие Немезиду10. Все это место Гесиода, где идет речь о детях Ночи, а значит,
также и о Немезиде, — с очевидностью содержит в себе руины глубокого, хотя и не
современного возникновению мифологии, однако все еще борющегося с мифологической сумятицей и путаницей, воззрения. Здесь довольно ясно можно видеть, как
философия — не предшествует мифологии, но — как она происходит из ее недр, как
высвобождающееся из нее, берущее из нее начало сознание непосредственно обращается к философии. Прозвище, которым Гесиод снабжает Немезиду, πήμα θνητοισι
βροτοισιν11 — несчастие смертного человеческого рода, говорит достаточно в пользу
нашего истолкования, согласно которому она мыслится как послужившая причиной
перехода в то состояние несчастия, в которое погружено теперь смертное человечество. Не меньше говорит в пользу такого истолкования позднейшее имя Немезиды.
Ее звали также Адрастейя: не от алтаря, который воздвиг в ее честь царь Адраст, как
объясняли некоторые позднейшие греки. В таких объяснениях не следует излишне
полагаться на самих греков, тем более что сам этот царь Адраст, который появляется
в одном из повествований Геродота также как мифологический персонаж, в свою
очередь нуждается в объяснении. Его имя, равно как и имя «Адрастея», имеет мифологическое происхождение и является мифологически значимым. Адрастею называют Немезидой — как ту, которая приводит несвершившееся к свершению, возможное — к воплощению, к действительности . То άδραστον12 означает неподвижное, то,
что не желает двигаться, покидать своего места. Адрастея, таким образом, есть сила,
которая приводит к движению то, что противится движению, как бы нерешительное
Сопоставления Крейцера, Часть II, с. 501 и 502, также могли бы здесь послужить поводом для тех
или иных подтверждений и прояснений.
Седьмая лекция
119
и колеблющееся в движении, волю, и мне не нужно объяснять вам, насколько это
соответствует нашему истолкованию Немезиды. Ибо Немезида есть не что иное, как
сила именно этого наивысшего, все приводящего в движение мирового закона, который не желает, чтобы нечто оставалось сокрытым, который подталкивает все сокровенное к проявлению и как бы оказывает на него нравственное давление с целью вынудить его показать себя. У Пиндара* Немезида носит имя двоевольной (διχόβουλος
Νέμεσις13), имеющей двойственную волю. Ответа на вопрос о том, как это следует
понимать, нам не придется искать далеко. Достаточно вспомнить Горациево: tollere
in altum, ut lapsu graviore ruât14. Здесь мы имеем двойственную волю: сперва она подымает обреченное на исчезновение — это есть ее непосредственная воля, — однако
поднимает его лишь для того, чтобы тем глубже оно было впоследствии низвержено;
это есть вторая воля, причем я хотел бы попутно высказаться о значении слова, которым часто пользовался ранее и намерен пользоваться также и впредь. Я имею в виду,
что этот несущий бедствие переход я назвал новым подъемом (а именно, новым
подъемом из потенции), в то время как мы привыкли к описанию этого перехода
как падения. Однако то и другое вполне согласуется между собой. Если я описываю
этот переход как подъем, я называю это antecedens15; тот же, кто описывает его как
падение, называет это consequense pro antécédente.
Впрочем, здесь для нас важность представляет лишь первоначальное значение
Немезиды. Его нам уже нет необходимости искать во временах, которые слишком
далеко отстоят от эпохи возникновения мифологии. Если, таким образом, позднее
значение Немезиды и могло смешаться со значением другого женского божества,
напр., Афродиты, то это ничего еще не доказывает: ибо здесь совершенно нечего
опасаться, кроме того что раннее значение смешивается с позднейшим. Если, среди
прочего, согласно известному повествованию, художник Агократ (ученик Фидия) ту
статую в Афинах, которая не получила приза в состязании в качестве Афродиты,
предал в город Рамное (где почиталась преимущественно Немезида) на том условии,
что она будет установлена там в качестве изображения Немезиды**, то это не доказывает ничего против того первого значения Немезиды, которое у Гесиода усматривается с большой наглядностью благодаря тому, что непосредственно рядом с ней
Гесиод тут же ставит Обман, 'Απάτη16, в качестве ее брата17. Для объяснения этой взаимосвязи я хочу отметить следующее. Та возможность, которая представляется сознанию, будучи транзитивной, является всего лишь мнимой, обманчивой. Она есть
возможность, однако — лишь в себе, лишь интранзитивно, т. е. в том случае, если она
пребывает внутренней, имманентной; но она прекращает быть возможностью сразу
Олимпийские одыу VIII, 114.
Ср. примечания Винкельманна к Истории Искусства, с. 90 (Дрезденское издание), который, однако, прибегает к иному предположению.
120
Вторая книга. Мифология
же, как только становится внешней, транзитивной. Эта возможность есть потенция
бытия, однако не для того чтобы быть сущим, не для того чтобы перейти в бытие,
но для того чтобы оставаться возможностью. 'Απάτη18 среди наиболее древних существ у Гесиода означает, таким образом, не обычный обман или заблуждение, но то
изначальное заблуждение, от которого ведут свое происхождение все последующие,
от которого берет начало вся исполненная обмана жизнь отчужденного от своего
изначального бытия человека. Насколько глубоко ощущалась греками эта 'Απάτη,
можно было бы, наверное, заключить из того, что в ее честь проводилось особое
празднество под именем Апатурий (праздник обмана); в любом случае следует сожалеть о том, что нам известно так мало подробностей об этом празднестве. Крейцер
склонен выводить начало греческих Апатурий из Индии. Такие исторические, к слову сказать, исторически недоказуемые, выведения можно пытаться проводить до тех
пор, покуда мы находимся во власти привычки рассматривать мифологические понятия как не более чем случайные. Если же мы, напротив, убедились в том, что эти
понятия — более того, исконные понятия мифологии (к числу которых относится
также и 'Απάτη) — не являются случайными, но — необходимыми и в своем роде
вечными, то на подобные исторические выведения можно уже более не обращать
внимания; это не лучше, чем пытаться вывести из Индии понятия, напр., материи
и формы, причины и действия или подобные им всеобщие понятия — поскольку
индусы, без сомнения, пользовались ими много раньше, нежели греки, или поскольку наиболее древняя известная логика составлена на санскрите, а в ней, что совершенно естественно, свойства и формы силлогизма описываются приблизительно
так же, как они были позднее описаны Аристотелем, — попытаться сказать на этом
основании: силлогизм есть изобретение индусов. Крейцер в целях такого выведения соединяет в одно 'Απάτη Гесиода и индийскую Майю. Однако последняя принадлежит более индийской философии, нежели индийской мифологии. Одно всего
лишь смешивается с другим, поскольку сама индийская философия вообще, в особенности по сравнению с абстрактными философиями европейцев, на всем своем
протяжении носит последовательно мифологический характер. Индийская Майя,
безусловно, также есть возможность инобытия или вне-себя-бытия, однако она есть
изначальная возможность не постольку, поскольку она представляется человеку или
изначальному сознанию: она означает в индусской философии возможность инобытия, а следовательно, и мироздания, которая сама представляется Творцу-Мирозиждителю. Ее представляют себе раскидывающей сети обмана (этот обман именно
и есть инобытие), чтобы уловить в них Творца, который порождает мир в состоянии
самозабвенной опьяненности видимостью. Сущность всего мира есть, согласно индусской философии, Майя, магия, она не есть подлинное, но всего лишь обманчивое
бытие; тот, кто предает себя миру, всегда бывает уловлен тенетами Майи. Истина
того бытия, которое представляется нам в мире чувств, заключается в его небытии,
Седьмая лекция
121
как только оно возвращается в простую возможность, точно так же как оно было
возвращено в простую возможность в чистом первоначальном сознании человека.
То, что в общем и целом индийская Майя есть та первоначальная возможность, которая (также и по нашему воззрению) представляется самому Творцу, может, между
прочим, явствовать уже из самого ее имени. Я ранее уже высказывал предположение о том, что Майя индусов может быть связана с магией. В своем издании Бхагават-Гиты А. В. Шлегель в латинском переводе в парентезе всюду добавляет к слову
Майя слово «магия», также и В. фон Гумбольдт в своей работе, посвященной этой
индусской поэме, делает то же самое. В персидском «мог» (вместе с «гаи») означает:
«маг». Нынешний, искаженный вследствие магометанского завоевания, персидский
язык — не имеет глагола, от которого могло бы быть выведено это существительное.
И тем менее, я не могу сомневаться в том, что, при признанной первоначальной родственности персидского языка в особенности с германскими языками, персидское
«мог» имело свой корень в некотором слове, соответствующем нашему немецкому
«mögen»19. От немецкого же «mögen» происходит наше немецкое «Möglichkeit»20,
«Macht»21, точно так же как во множестве диалектов Германии «ich mag nicht»22 до
сих пор означает «я не могу». Магия и, таким образом, также и индусская Майя,
означает, следовательно, тоже не что иное, как «сила», «возможность». И действительно, вся сущность этой еще дремлющей в воле возможности есть — магия. Ибо,
будучи направлена вовнутрь, она есть все могущая, способная притянуть к себе
и удержать возле себя даже самого Бога. Эта возможность в своей направленности
вовнутрь именно и есть богополагающее, равно как в своей направленности вовне она превращается в упраздняющее Бога в сознании. Она есть полагающее Бога,
как мы выразились, не посредством акта, но, напротив, посредством не-акта, т.е.,
в собственном смысле магическим образом. Ибо магическим путем достигается все,
что достигается не благодаря действующей, но благодаря лишь сущностной, т. е. покоящейся воле. То же самое, однако, что в своей обращенности вовнутрь есть все
(даже и Бога) могущее, поскольку воле оно представляется как потенция иного бытия, в силу этого оно есть также и магия, посредством воли влекущее к себе волшебство, однако оно не есть истинная, но ложная, обманная магия. В этом заключается
причина того, что в Ветхом Завете идолопоклонство связывается с ложной магией
и даже рассматривается как одно с ней. В такой мере я готов допустить сравнение
Гесиодова 'Απάτη и индусской Майи или магии.
Итак — возвращаясь к нашей взаимосвязи — первая непосредственная причина движения есть Немезида, которая показывает еще не желающей воле дремлющую в ней возможность. Однако теперь эта возможность представляется воле сама.
Эта возможность, однако, есть возможность лишь в том случае, если она пребывает
в себе, т.е., она есть лишь кажущаяся возможность, а именно, она не есть возможность для бытия, т.е. не есть возможность в случае ее выхода из себя; поскольку
122
Вторая книга. Мифология
же она представляется сознанию как безусловная возможность, она есть обманчивая возможность, вводящая в заблуждение магия, 'Απάτη. В этой возможности, являющей себя воле в качестве безусловной, заключается соблазн. Соблазн, в любом
случае, необходим для того, чтобы подвигнуть волю к выходу из себя. На этот счет
в представлениях древности не существует никакого сомнения. Непосредственно
соблазняющим была именно эта не могущая быть исключенной, обманчивая возможность, двойственность которой преодолевается лишь позднее; она есть древний
змий, поскольку она рождена вместе с человеком и является столь же древней, как
и само сознание: эту змею он лелеет на своей груди с того момента, как начинает свое
существование, — змею, которая требует долгого времени для победы над собой,
ибо в книге Нового Завета она низвергается в бездну лишь в самом ее конце. Змеи
связаны со всем, что в обычаях древности имеет отношение к этому таинственному
процессу. В облике змеи, как мы увидим далее, согласно греческому мифу, к сознанию — до сих пор свободному и царящему надо всякой необходимостью — приближается обманчивая сила, которая вовлекает его в мифологический процесс. В некоторых обрядах посвящения, о которых говорит Климент Александрийский, по груди
посвящаемого должна была проползти змея*. Символом этой несущей несчастие
двойственности змея стала, видимо, потому, что, свернувшись в себе самой, образовав кольцо, представляя приведенное к себе самому, являет собой образ покоя,
заключенности в себе самом, однако вытянувшись во всю длину и неожиданно поднявшись, способна нанести смертельный укус. Итак, мы объяснили, каким именно
образом воле представляется возможность.
Климент Александрийский. Protrept., 14.
ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
До сих пор мы прошли через следующие моменты: а) человеческое сознание,
а именно первоначальное сознание — сознание в своей чистой субстанциальности.
Последнее мы приравняли в значении приведенному к самому себе, а значит, над
самим собой властному бытию в возможности; в нем же, как не могущее быть исключенным, поскольку лежащее в его основе, существует возможность вновь перейти в бытие. Ь) Сила, которая враждебна всему только случайному. Случайным у нас
принято называть то, что могло быть, а могло и не быть; однако также и то, что может
только быть и не быть, есть случайное, поскольку тем, что оно есть, т. е. бытием в возможности, оно является и не является, т.е. оно есть не таким образом, чтобы оно не
могло быть своей противоположностью. Случайным, далее, можно признать также
и то, что является тем, чем оно является, независимо от себя самого, без собственной
воли, т.е., можно признать его случайным по отношению к самому себе. Случайным
именно поэтому можно признать также и все незаслуженно счастливое или удачное.
Итак, та сила, которая не благоволит (дабы собрать воедино эти различные значения) всему неопределенному, тому, что есть то, что оно есть, лишь случайным образом — а значит, незаслуженно — эта сила есть Немезида. Именно она также показывает тому, что лишь случайным образом положено как над самим собой властное,
возможность выйти из чистой субстанциальности, указывая ему на эту скрытую
в нем самом потенцию. Третий момент с) есть поэтому именно эта возможность, поскольку она действительно представляется сознанию. Эта возможность, однако, как
уже было показано, является обманчивой, вводящей в заблуждение, более того, она
словно бы сама представляет собой первый обман. В этом смысле следует понимать
Απάτη у Гесиода, которая у него также является дочерью Νύξ1.
Итак, после того как воле показана эта возможность и она теперь способна решиться, следующее на нашем пути, т. е. четвертый момент d) есть то, что до сих пор
покоившаяся воля действительно желает показанного ей бытия и, таким образом,
подымается из чистого бытия в возможности, которым она является, — в случайное, привлеченное бытие. О самом этом событии ничего более сказать невозможно,
кроме именно того, что оно произошло, что оно случилось; оно есть, если можно так
124
Вторая книга. Мифология
выразиться, сам первоначальный факт (начало истории), Factum — происшедшее —
κατ' εξοχήν2. Оно есть по отношению к человеческому сознанию первое из того, что
вообще происходит, первоначальное событие, непреложное деяние, которое, однажды свершившись, не может быть взято назад, не может стать как несодеянное. Это
событие принадлежит — как и все ему самому предшествующее — еще всецело надысторическому, и оно есть то, что само сознание впоследствии окажется неспособным
осознать. Оно есть то надысторическое начало мифологии, к которому мы были приведены еще ранее. Оно есть сам древнейший случай, оно представлено в той Fortuna
primigenia*, которая в Пренесте почиталась как наиболее древнее, идущее от самого
возникновения римского государства изображение, в которой быть и не быть могущее (это и есть Фортуна) чествовалось как первый принцип, первая сила всякого
бытия. Это событие есть незапамятный рок (unvordenkliche Verhängniss); незапамятное, поскольку оно есть событие, прежде которого сознание не способно помыслить ничего более, вспомнить ничего более. И оно есть рок, не только потому что оно
должно мыслиться как происшедшее в состоянии среднем между осознанностью
и бессознательностью, но преимущественно потому, что воля впоследствии видит
себя застигнутой врасплох его последствиями, никоим образом ею не предвиденными и не входившими в ее намерение. Ибо она полагала, что в действительности сможет оставаться тем же, чем была в возможности, однако именно в этом она находит
себя обманутой; для нее самой, таким образом, неожиданным является последствие
ее деяния, оно представляется ей как не желаемое, неожиданное и непредвиденное.
Лишь последствие деяния остается в сознании. До самого события воспоминание никак не доходит. Ибо теперь — после деяния — возникшее сознание есть
первое действительное сознание (прежде него существует лишь сознание в своей
чистой субстанциальности): это первое действительное сознание, однако, не может
в свою очередь осознавать тот акт, благодаря которому оно само возникло, поскольку в результате этого акта оно стало совершенно другим и было отсечено от своего
прежнего состояния. Для воспоминания необходима идентичность (единообразие)
теперь сущего (себя вспоминающего) и того, что есть предмет воспоминания. Там,
где эта идентичность снята, не может происходить воспоминания, о чем свидетельствуют нам так называемые сомнамбулы, которые в высшем состоянии так называемого clairvoyance имеют ясное, просветленное сознание, однако в следующем за
ним бодрствующем состоянии ничего не помнят о том, что они делали или говорили
в состоянии ясновидения, ибо в действительности в двух этих состояниях действуют
две разные личности.
Фортуна первородная (прирожденная) (эпитет Фортуны, сопровождающей своих избранников
с самого рождения).
Восьмая лекция
125
Таким образом, то событие, в результате которого сознание с этого момента
находится во власти неотвратимой судьбы, — само это событие с необходимостью
погружено для отчужденного теперь от самого себя, ставшего действительным, сознания, в для него самого неисследимую глубину.
Темные следы указанного события обнаруживаются поэтому лишь в позднейшей мифологии. Ибо то, что имеет место в самом начале процесса, приходит к ясности лишь в самом его конце. Мифология же возникает как результат процесса,
имеющего своим завершением греческую мифологию. Именно поэтому те образы,
которые соответствуют первым моментам мифологического процесса, мы находим
преимущественно лишь уже в греческой мифологии. Это верно в отношении Немезиды, или первой опосредующей причины процесса. И точно так же следы действительного процесса, в результате которого сознание было подчинено мифологической необходимости, — также и они могут быть обнаружены лишь в греческой
мифологии, в особенности в мифах, относящихся к учению о Персефоне, которые
я только потому упоминаю в самом конце, что в одном лишь образе Персефоны
самом по себе мы можем обнаружить в своей совокупности все те моменты, которые прежде могли встретиться нам лишь порознь. Однако, прежде чем приступить
к подробному объяснению понятия Персефоны, мне необходимо сделать несколько
предварительных замечаний.
Изначальная сущность человека есть над самим собой властное = А, однако не
просто А, но А, которое имеет в себе В, пусть даже и всего лишь в качестве материи,
но таким образом, следовательно, — в качестве потенции, и именно поэтому — в качестве возможности инобытия, не = Α-бытию. В этом А, которое имеет в себе В в качестве потенции, А есть произведенное, сотворенное, А есть собственно человек
(В старше человека, оно представляет собой соблазняющий принцип, и поэтому оно
могущественнее человека)*. Этому А, т. е. человеку, данная потенция как бы вверена
на сохранение, она вверена ему во власть, или само А есть именно та самая воля,
которой подчиняется В. Причем одновременно следует заметить, что такая возможность для себя есть ничто и не способна ни на что, если к ней не присовокупится
воля; и здесь мы имели непроизвольный повод сказать, что такая сама по себе ни на
что не способная возможность есть чистая женственность; воля же того, благодаря
кому лишь она может быть чем-то, — есть мужественность. Это выражение было не
искусственным, но естественным и самим собою напрашивающимся, и потому также оно является столь органичным для мифологического сознания. Оно не было
взято от двойственности полов в природе и лишь перенесено на эти умопостигаемые
принципы, но наоборот, именно от первого принципа всякого бытия ведет свое
Коль скоро оно есть В, оно уже не есть человек. Человек есть лишь постольку, поскольку оно
есть А. Ибо А есть сотворенное.
126
Вторая книга. Мифология
начало двойственность полов в природе. Ибо даже и позднейшее, уже философское
сознание пифагорейцев не могло избежать того, чтобы считать числа детьми, которых Monas (единица, как мужское начало) порождает вместе с Dyas (+ или - быть
могущим, как женским началом). Если, однако, эта положенная в сознании возможность инобытия мыслилась как женственность, то она также неминуемо была представляема как личность. Для этого не было необходимости ни в какой искусственной персонификации. Ибо ведь даже и мы сами, говоря об этой изначальной
возможности, которая представилась Творцу, не можем не представлять ее себе как
женскую сущность, а значит — как личность, тем более что ведь мы помыслили ее
как изначальную возможность, т. е. как возможность, не имеющую себе равных, благодаря чему она уже обретает нечто индивидуальное, личное. Конечно, мы навряд
ли будем испытывать искушение представить себе как личности только абстрактные
понятия обычной философии. Однако та философия, на почве которой мы теперь
находимся, имеет дело не просто с понятиями, но с истинными реальностями, действительными сущностями. Эта изначальная возможность не есть категория, она
есть действительная, хоть и постигаемая одним лишь рассудком, интеллигибельная
сущность, и она не есть нечто общее (не есть возможность вообще), но определенная
возможность, единственная в своем роде, которая существует. Точно так же теперь,
если мы говорим: положенная в первоначальном сознании, лежащая в его основе потенция инобытия, эта потенция есть Персефона, — то мы тем самым не имеем
в виду, что она обозначается как Персефона; для мифологического сознания она
есть Персефона, и наоборот, Персефона не просто означает эту потенцию изначального сознания, она является ею. Теперь мне нужно напомнить вам еще нечто,
также выяснившееся ранее. Над самим собой властное бытие в возможности, именно поскольку оно есть над самим собой властное — поскольку оно есть сознание —
имеет себя внутри себя в качестве возможности; эта положенная в сознании возможность, т. е. это положенное в сознании бытие в возможности и в сознании сущее — не
представляют собой две разных вещи, существуют не вне друг друга, но внутри друг
друга и, поистине, являют собой одно и то же. Покуда, таким образом, в сознании
сущее (которое тождественно мужскому или воле) и бытие в возможности (возможность инобытия, тождественная женственности) еще пребывают друг в друге —
а они еще пребывают друг в друге, ибо простое не А быть могущее само таким образом есть еще = А и ничем не отличается от А сущего, — покуда, таким образом, они
пребывают друг в друге, мужское и женское в сознании также пребывают друг в друге, т.е. само сознание как бы имеет андрогинную (двуполую) природу. Если предположить это — предположить, что Персефона есть не что иное, как возможность инобытия, которая, однако, еще не явила себя воле и даже не осознает себя как
противоположное, а значит, знает себя как женственное — покуда эта потенция
пребывает в незнании о себе самой, она пребывает, как мы привыкли говорить,
Восьмая лекция
127
в состоянии невинности, где мужское и женское еще не отделены друг от друга (не
существует различения одного и другого). Невинность, которая ничего не знает
о двойственности полов, есть девственность — девственность не есть в особенности
женственность (ибо она может предицироваться также и о мужском роде), но родовая неопределенность. Персефона есть поэтому девственница, κόρη3, и именно κατ'
εξοχήν4, поскольку она называется ή Κόρη5, дева. Персефона в сознании есть бытие
в возможности, а значит — женственное, которое, однако, еще не противоположно
мужскому, еще не положено как женственное, и поэтому девственное. Покуда теперь
бытие в возможности пребывает в этой чистой сущностности (непротивоположности), оно не подчинено никакой необходимости и возвышается надо всяким искушением*. Поэтому именно Персефона уже в древних (еще греческих) мифологических
философемах представляется как обитающая в неприступной крепости, не подверженной никаким опасностям, как безупречная, которой не грозит низвержение. Выражение «Персефона живет словно в надежном прибежище» напоминает слова пифагорейцев, которые говорили: ύπό του θεοϋ ώσπερ έν φρουρά περιειλήφθαι το παν6
(Бог хранит мироздание; вспомните о том, что стало ясным для нас ранее, как в особенности человек заключен между тремя божественными потенциями). Однако еще
ближе нам то, что в полном соответствии с этим самое древнее повествование (Моисеево) помещает первозданного человека в место радости и блаженства, и именно
радости и блаженства κατ εξοχήν7. Ибо здесь все является первоначальным-, как возможность, о которой мы говорим, есть изначальная возможность, возможность всех
иных возможностей, как та случайность, в результате которой человек отходит от
своей сущности, отпадает от нее, не есть всего лишь случайная, но изначальная случайность, истинная Fortuna pnraigenia, случайность, от которой берут начало все
остальные случайности, — так равно и это место радости есть место радости κατ'
εξοχήν. То, что в мифе о Персефоне, а также у пифагорейцев, носит название божественного града (göttliche Burg) или прибежища (Verwahrsam), в повествовании Ветхого Завета, которое я также и здесь вновь рассматриваю всего лишь как документ
глубочайшей древности, по существу обозначено точно также. Ибо также и для него
эта обитель радости есть огражденное место, также и оно помещает первоначального
человека не в обширное и безграничное (άπειρον8) — туда он, напротив, будет изгнан
лишь позднее, — но эта обитель радости для него представляет собой сад. Сад же
равным образом есть не что иное, как закрытое, охраняемое пространство. Глагол, от
которого в еврейском происходит слово «сад», означает: surcumclusit, circum-munivit,
septo conclusit9, арабское: texit, protexit, tutatus est10. Сюда также относится и понятие
божественной защиты. Великое повсюду равно себе; чувства, которые пробуждает
Ср.: Крейцер, т. IV, с. 546.
128
Вторая книга. Мифология
в нас Софокл, мысли, которыми манит нас к себе Пиндар, и равно то, что есть истинного в мифологии (а именно его поисками заняты мы, не удовлетворяясь тем
мнением, что она есть пустой вымысел), и те взгляды, которые высказывали эти
древние о человеческой жизни и судьбе, — все они уже были заложены в мифологий
в преформйрованном11 виде, а воззрения этих великих древних могут быть найдены
также в книге Иова и в псалмах. Персефона до своего падения живет как бы в божественной обители — и блажен, говорится в псалме, человек, который покоится под
сенью Всевышнего и обитает под покровом Всемогущего. Тот живет под покровом
Всемогущего, кто хранит свою возможность, кто не расточает ее. Ибо как тот называется благородным мужем, кто не делает всего, что он может (напр., он мог бы отомстить, но он не мстит), так и тот заслуживает называться верующим, кто подчиняет
свою возможность Богу, заключает ее в Бога и сохраняет ее в нем. Те принципы, которыми мы здесь занимаемся, являются также и самыми внутренними принципами
философии; однако именно в том познается глубина истинности философских
принципов, что они одновременно обладают наиглубочайшим нравственным значением. Поэтому прошу вас не рассматривать эти нравственные наблюдения как отклонение от темы. Признайте в этом глубокую серьезность и важность тех принципов, значение которых я хочу для вас пояснить. Также и в немецком языке слово
Garten12 означает первоначально всякое огороженное, охраняемое место; оно родственно французскому garder, «охранять», и имеет общее значение спокойного, охраняемого, огороженного места, а в древнейшие времена Gard означало также
и «крепость», что явствует из большого количества оканчивающихся на «gard» названий старых замков и укрепленных городов.
Если я сравнил некоторые черты учения о Персефоне с тем, что повествование
книги Бытия говорит о первом человеке, то такое сходство было бы совершенно неверно пытаться использовать в целях доказательства того, что все мифологические
представления суть лишь искажения библейских, богооткровенных истин. Это было
бы возможно лишь в том случае, если бы сами указанные представления мы могли рассматривать как всего лишь случайные. Однако я показал, или, скорее, сама
природа этих представлений показала, что они являются порождениями необходимости и происходят из глубочайшей, наиболее внутренней природы сознания. Они
почерпнуты из того же источника, из которого почерпнуто Откровение, а именно —
из источника самой сути, и если я обратил ваше внимание на данные сходства, то
главным образом для того, чтобы показать вам эти мысли как необходимые; равно
как вообще намерение всего этого исследования состоит в том, чтобы привести вас
к этим исконно древним, изначальным мыслям, которые, подобно древним горным
хребтам, на фоне коих прошло столь великое множество человеческих поколений,
будут стоять и тогда, когда иные мысли, родившиеся лишь вчера, будут развеяны
бесследно. Это то, что вообще касается объяснения девственности Персефоны, т. е.
Восьмая лекция
129
именно изначального сознания в его изначальном состоянии, объяснения в частности того выражения, что в этом состоянии она была ограждена от всякой опасности
словно стенами неприступной крепости, пребывая недосягаемой для какой бы то ни
было необходимости. Вместе с тем, однако, именно та, которая в этой погруженности вовнутрь и отстраненности от всего внешнего равна самой себе, способна стать
себе неравной. Поэтому еще греческие философы, пифагорейцы и затем, в свою
очередь, неоплатоники, смогли распознать двойственность в Персефоне, различив
в ней две личности: 1) ту, что, по их словам, пребывает всецело внутри, в сокровенном (ένδον ολη μένουσα13), и 2) ту, что вышла наружу (προΐεισα14). Даже в латинском
имени Pro-serpina можно усмотреть значение неожиданного выхода наружу, вовне.
Собственно сущее этого момента есть подъем над самим собой властного бытия
в возможности, однако именно его потенцию инобытия бытие в возможности имеет
в себе как нечто, о чем оно само не знает; потенция есть лишь нечто не могущее быть
исключенным для сущего, пребывающее в этом сущем независимо от его воли и сознания. Поскольку же, однако, она присутствует в сущем, не обращая на него своего
внимания, в ней для него содержится нечто неожиданное и, благодаря неожиданности, — обворожительное и ослепительное. Этот выход вовне есть, таким образом,
pro-serpere15; в данном выражении заключен намек на тихое, неожиданное, непредвиденное движение, и здесь имя (Proserpina) — равным образом, как и сущность, —
напоминает змею (serpens), получившую свое имя от незаметного, тихого движения.
В своем выходе (в своем πρόοδος16, слово, которое пифагорейцы употребляли
в отношении Dyas), когда она впервые (идеально) выходит на поверхность и показывается в сущем, она есть непредвиденное, неожиданное, и уже как таковое она зовется
также Fatum17, судьба, Μόρος18, точно так же — Fortuna19 (все это понятия, которыми
еще древние философы обозначали сущность Персефоны). Fortuna вообще есть всегда подвижное, себе никогда не равное, вообще непостоянное. Однако как действительно вышедшее вовне, Персефона определяется как Fortuna adversa20, несчастие,
злая судьба, и в свою очередь она мыслится здесь не просто как случайное бедствие,
но как несчастие κατ' εξοχήν21, как первое несчастие, как изначальная катастрофа, от
которой берут свое начало все остальные — сплошь определения, которые, конечно
же, само мифологическое сознание при первом появлении этих своих представлений
еще не способно было осознать, но которые, однако, вследствие для нас теперь хорошо понятной необходимости, оно в себе запечатлело. Кстати я замечу еще и то, что
пифагорейцы пытались не Персефону своего учения объяснять посредством Dyas,
но напротив, свое учение о Dyas разъясняли намеками и ссылками на Персефону.
Δυάς22 для пифагорейцев есть не что иное, как потенция, которая, будучи направлена вовнутрь, равна μονάς23, и лишь будучи направленной вовне становится ей неравной. (Понятие этой потенции [появляется] в самом начале философии.) Того, кто
желает почерпнуть в этой связи дальнейшие сведения, я отсылаю к труду Крейцера,
130
Вторая книга. Мифология
в котором он сможет найти своеобразный экскурс о взаимосвязи Персефоны с Dyas;
ибо преимущество указанного труда состоит как раз в том, что в нем автор с особенной любовью и величайшей обстоятельностью трактует именно учение о Персефоне.
Действительно, в этих относящихся к Персефоне сюжетах мифология как бы дает нам
ключ от самой себя, и можно поэтому лишь удивляться, каким образом эти доходящие до самых сокровенных глубин человеческого бытия и сознания начала мифологии, которые представлены именно учением о Персефоне, — каким образом они не
смогли убедить ученого Крейцера в том, что источники мифологии следует искать
глубже, нежели в только эмпирически, только внешне и исторически предполагаемом
в человечестве монотеизме. Мифология своими последними корнями, как это показывает именно учение о Персефоне, врастает в изначальное человеческое сознание.
Еще более древними, нежели эти связанные с учением о Персефоне философемы
пифагорейцев, являются относящиеся к Персефоне учения греческих мистерий. Под
мистериями, как известно, принято подразумевать существующее наряду с официальным богоучением (мифологией) и параллельно с ним идущее, тайное, сообщаемое
лишь посвященным богоучение. Поскольку мистерии представляют собой не что
иное, как внутреннее, эзотерическое самой мифологии, а оно, как уже неоднократно
отмечалось, объясняет себя сознанию лишь в конце процесса, то, конечно же, также
и мистерии не могут принадлежать начальной эпохе мифологии, но лишь эпохе ее
последнего развития, что мы сможем впоследствии наблюдать с гораздо большей отчетливостью. Представления мистерий, таким образом, суть произведения все еще
мифологического, однако под конец процесса уже достигшего ясности относительно
начал, сознания. В силу этого они, конечно, не могут быть современны первоначальной мифологической эпохе, однако от этого они ничуть не в меньшей степени ведут
свое начало от самого возникновения мифологических представлений — подобно
тому, как плод растения по своему внешнему проявлению есть последнее, но тем не
менее, был предопределен еще в первом ростке. В таком, относящемся к учению мистерий, представлении переход будет описываться следующим образом: до сего момента девственная и содержащаяся в девственной отстраненности, Персефона подвергается нападению Зевса (Юпитера) в образе змеи, который насильно овладевает
24
ею (βιάζεται ύπό του Διός ), таким образом лишая ее невинности. То, что, во-первых,
именно Бог здесь приводит Персефону к падению, есть вещь вполне естественная.
Ибо именно поскольку сознание впоследствии не может вспомнить собственного
деяния, оно приписывает этот переход к состоянию несчастья тому насилию, которое учинил над ним вообще некоторый бог. То, однако, что этим богом является Зевс,
т. е. глава последней божественной династии, который таким образом сам является
последним в череде мифологических, следующих друг за другом, богов, — в свою
очередь, указывает на то, что нам уже известно, а именно, что это мистерийное представление относится к позднейшей эпохе мифологического сознания; объясняется
Восьмая лекция
131
же это посредством следующего рассуждения. Для мифологического сознания греков
все предшествующие боги нашли свое завершение в Зевсе. Все прежние боги служили лишь переходом к нему. Следовательно, теперь также и все прежние боги были
Зевсом; ибо все продолжающееся получает свое имя по тому, к чему оно стремилось
в конечном итоге. Во всех прежних богах, собственно, присутствовал лишь Зевс, они
представляли собой лишь предварительные и потому несовершенные проявления
того, кто в своем последнем образе предстает как Зевс. Здесь появилось известное
изречение орфиков: Зевс — первый и Зевс — последний, Зевс — начало, середина
и конец. Поскольку, таким образом, Зевс являлся чем-то вроде наследника всех предшествующих богов, мифологическое воображение могло приписать ему также и то,
что происходило в эпохи неопределенно более ранние. Зевс, можем мы сказать, есть
конец, а следовательно, также и конечная причина всего мифологического движения
греков, и он поэтому представляется также как движущая причина. Без выхода вовне Персефоны не было бы никакой мифологии, а без мифологии не было бы Зевса.
В этом, следовательно, состоит, если можно так выразиться, интерес, а следовательно,
если посмотреть в конец, — также и дело Зевса. Однако покуда Персефона, потенция
изначального сознания, продолжает пребывать в этой чистой, о себе самой не знающей отстраненности, она совершенно непреоборима, словно будучи помещена в неприступной крепости, защищенной от всякой опасности. Но едва лишь она осознала
себя как возможность, несущую бедствие, она есть уже горестная Dyas, она уже подвержена опасности утратить свою чистоту. А как только она действительно поднимается из своей девственной отстраненности, как только она обращается вовне (тогда
как она, напротив, как божественно положенная, Бога полагающая, должна была бы
пребывать внутри: не только в несобственном, но в собственном понимании слова — в Боге, должна была являть собою подлинную внутренность Бога), как только
она действительно склоняется вовне, — с этого момента она неизбежно подвергается
действию процесса и уже теперь собственно есть обреченное на погибель сознание;
ибо по своему привлеченному бытию она есть быть не должное, и именно так — как
с самого начала обреченная гибели, обещанная в жены богу подземного мира, Гадесу,
который позднее действительно ее похищает, — Персефона представлена везде, не
только в мистериях, но также и в официальном богоучении, в собственно мифологии.
Персефона появляется в действительной мифологии, напр., в теогонической
поэме Гесиода, не ранее, чем в тот момент, когда она уже действительно попадает во
власть Гадеса, когда он похищает ее. Однако же — она Есть в мифологии с самого ее
начала; ее признают как то, что она есть, — не раньше, чем она получает объяснение
как нечто быть не должное, неправильное, сулящее бедствие в самом мифологическом сознании.
Это необходимо было на данный момент сказать о Персефоне (которая есть
подверженное мифологическому процессу, претерпевающее весь процесс сознание)
132
Вторая книга. Мифология
и вообще о том роковом, чреватом опасностью переходе, в результате которого мифологический процесс в целом полагается как неизбежность, как необходимость.
Если мы соберем теперь воедино все до сих пор данные определения, то непосредственными причинами этого перехода являются: во-первых, самообман сознания, в котором эта возможность = вверенной человеку и как бы переданной ему на сохранение
потенции, представляется ему как переданная ему также и для осуществления, в то
время как она дана ему лишь с тем, чтобы он сохранял ее как только возможность. Человек, т. е. сущее сознания, представляет себе, что эта потенция или возможность будет
подчиняться ему также и в том случае, если она поднимется к действительности, тогда
как она подчинена ему лишь как потенция и лишь поскольку она пребывает в рамках
одной лишь возможности. Но когда он поднимает ее к действительности, она обращается против него самого, являет ему совсем иное лицо и, вместо того чтобы подчиняться
ему, напротив, подчиняет себе его самого, и наоборот, теперь уже Он оказывается под
властью этого принципа, который также теперь уже не намерен держаться пределов человеческого сознания. Ибо он лежал в основе человеческого сознания, будучи именно одной лишь возможностью. Будучи вновь поднят к действительности, он переступает эти
пределы. Человек в том был подобен Богу, что он имел в себе этот изначальный принцип
бытия, однако он имел его лишь как данный ему, но отнюдь не так, как имел его в себе
Бог, т.е., как всецело ему подвластный. Вновь приводя в действие этот принцип, человек
жаждет сравняться с Богом; однако этот принцип был передан ему лишь с тем, чтобы он
хранил его как возможность, а не для того чтобы быть приведенным в действие. В повествовании Ветхого Завета о человеке говорится: Бог поместил его в сад для того, чтобы
тот возделывал его и охранял (наличествуют оба выражения). «Возделывать» передается
в еврейском глаголом, который, также как и colère25, означает Deum 2 6 и terram. 27 Изначальное значение colère, пожалуй, еще в достаточной мере просматривается в occulere 28
(скрывать). Тот принцип, который, будучи сохраняем в тайне, сокровенным, нуждается
в постоянном умилостивлении и искуплении, является предметом всякого первоначального культа. Ибо человек, постоянно удерживая этот принцип внутри себя, словно бы
воздвигает внутри себя Божество (полагая его в основу этого Божества). Этот принцип
был передан ему с тем чтобы он сохранял его в его Esse, т. е. в потенции, и с тем чтобы он
возделывал его, т. е. сохранял его в этой субъекции (как основу Божества), дабы не имели
возможности вновь восстать прежние, уже преодоленные природным процессом, силы.
Он, однако, стремится по примеру Бога привести в действие тот принцип, который передан ему для сохранения его как возможности, и тем самым уподобиться Богу*.
Выражение «возделывать сад» не могло быть понято таким образом, что человеку вменялось в обязанность обрабатывать землю в этом саду; работа, напротив, появляется в качестве кары и проклятия лишь
после падения. «Возделывать сад», следовательно, сказано здесь лишь по аналогии. Божественное откровение (если мы рассматриваем как таковое повествование Ветхого Завета) могло представлять процесс
Восьмая лекция
133
Однако именно в результате того, что человек вновь делает этот принцип позитивным (господствующим), он утрачивает свое богоподобие. Как известно, Иегова
в повествовании Ветхого Завета говорит о человеке после падения: вот, человек стал
как один из нас. С давних пор это место было сущей пыткой для истолкователей, ибо
они не могли не рассматривать ту mutationem in pejus29, которая произошла с первоначальным человеком, как утрату богоподобия, и тем не менее Бог, который только что возвестил человеку последствия его непослушания, ясно и недвусмысленно
говорит в Ветхом Завете: «Вот, человек стал как один из нас», — в каковых словах,
очевидно, лежит тот смысл, что человек, скорее, уподобился Богу, нежели утратил
богоподобие. Все доселе предпринимавшиеся попытки снять эту трудность для непредвзятого и свободного от предрассудков суждения должны показаться не более
чем натяжками. Напр., весьма желательно было бы перевести: «Вот, человек был как
один из нас»; однако, кроме того что после всего предшествующего это было бы совершенно излишним высказыванием, — также и аналогия языка не допускает такого перевода. И тогда попытались выйти из положения, прибегнув к ироническому
объяснению, как если бы имел место следующий смысл: Адам сделался красив как
один из нас. Однако такая насмешка над только что павшим человеком, даже и будучи взята только как человеческая, в устах Божества выглядела бы возмутительной.
К тому же все указанные объяснения имеют тот общий изъян, что выражение «Адам
стал как один из нас» звучит так, словно бы действительно существовало множество
богов, к числу которых мог прибавиться еще один. Таким смысл быть не может. Однако если переводить не дословно, не: «Адам стал как мы», но: «Он стал как Один
из нас», — то смысл будет таков: «Вот, человек стал как Один из нас (т. е. Элохимов)»,
т. е. как можно было бы понять его иначе, нежели я уже ранее в иных целях его объяснил: человек, который был равен всему Божеству, уподобился одному из нас — т. е.
тому, который есть В, — он вновь положил себя вне того божественного единства,
в котором был сотворен, и теперь всего лишь = Одному из нас, однако именно тем
самым уже более не = всему Божеству. Будучи понято так, место, таким образом, прямо выражает то, выражение чего желали в нем видеть, а именно, что человек потерял
сходство с Богом, утратил свое богоподобие. Ибо Бог не есть Один в смысле исключительной единственности, но если он Один, т.е. существует исключительно, — он, тем
самым, сам существует вне своей божественности, отличается от самого себя. Человек, таким образом, став как один из Элохимов, тем самым сделался отличен от Бога.
лишь сообразуясь с ограничениями тогдашнего человеческого сознания. Аналогия действительно имеет
здесь место. Также и земледелие представляет собой борьбу с диким, оказывающим сопротивление принципом природы, который должен быть в нем покорен. Также и по-латыни говорят subigere agrum, в каковом выражении, следовательно, скрыто присутствует subicere, точно так же, как и в еврейском слове (~пу)
(avad — порабощать) (ивр.), которое транзитивно означает «порабощать, подчинять».
134
Вторая книга. Мифология
Однако еще более того — и это есть собственно основная точка, которая только
и может дать нам переход к действительному началу политеизма — Один, который
исключает других, и поскольку он их исключает, не есть истинный Бог; ибо истинный
Бог никогда не есть только В или 1, но всегда 1+2+3; таким образом, если бы было
возможно положить Бога как только В, то тем самым был бы положен не истинный,
но ложный Бог, Не-Бог. Но именно так и поступает человек. То, что в себе, т. е. по отношению к самому Богу, является невозможным, происходит в человеческом сознании.
Положенную в нем потенцию, которая была передана человеку с тем, чтобы он сохранял ее как потенцию — как таинство — по мере того, как он вновь подымает ее в бытие, он тем самым исключает из себя более высокую потенцию, божественное А2, т. е.
он отрицает ее по отношению к себе, ибо это А2 было всецело осуществлено именно
в полностью преодоленном, положенном как потенция В. Если же какая-либо материя,
какой-либо материал изменит этот его положенный в нем высшей потенцией состав,
то он с необходимостью исключит ее из себя. Дабы пояснить это взятым из природы
примером, скажем: известно, что всякая текучая субстанция, как принято говорить,
абсорбирует в себе известное количество тепла, т.е. делает его недейственным, неощутимым как тепло; именно поэтому такое тепло и называется латентным — оно не
является в качестве тепла; ибо оно лишь употребляется, для того чтобы поддерживать текучую субстанцию, напр., воду, в данном состоянии. Тепло предстает при этом
как всецело присущее текучей субстанции, идентифицируется с ней, осуществляется
в ней таким образом, что не имеет бытия вне ее, не ощущается как таковое. Напротив,
если теперь эта субстанция по каким-то причинам изменяет свое состояние, а именно
застывает, например, замерзая, то в момент такого перехода ранее абсорбированное,
словно бы затерявшееся в текучем веществе тепло вдруг становится ощутимым, т. е.
в данный момент застывающее исключает его из себя в момент застывания, это тепло как бы обнажается и, тем самым, становится ощутимым как таковое. Аналогии,
которые лежат еще ближе к тому процессу, объяснение которому мы пытаемся здесь
дать, безусловно, могла бы предоставить органическая природа; большая и к тому же
наиболее значимая часть болезненных проявлений или симптомов, напр., жар при
лихорадке, требует для себя совершенно сходного объяснения; они также возникают
в результате исключения высшего принципа, которому уже не свойственно пребывание в органическом материале. Это, однако, слишком далеко увело бы нас от нашего
предмета, и уже этого одного взятого из учения о природе уподобления вполне достаточно, чтобы дать объяснение упомянутому нами процессу. Ибо именно таков принцип сознания, который мы обозначаем здесь как В. В преодоленном В осуществила
себя высшая потенция; ибо эта высшая потенция не имеет никакой иной воли, или,
скорее, сама она есть не что иное, как воля к тому, чтобы привести эту предшествующую супротивную волю назад к потенции и, тем самым, к покою; таким образом,
она осуществляется лишь в успокоившемся. Как только этот принцип выходит из
Восьмая лекция
135
состояния покоя, вновь подымается в сознание, словно бы заполняет собой сознание — вместо того чтобы всего лишь быть его основой, — он вновь исключает из себя
высшую потенцию, и притом отнюдь не случайным, но необходимым образом; ибо
он как бы вытесняет ее из пространства, из того самого места, которое было отведено ей в сознании. Далее, как мы ранее видели: именно это, посредством А2 всецело
преодоленное В, прекращая сопротивление, — в своем издыхании, как бы испускании
собственного духа — полагает A3, истинный дух. Когда же оно, таким образом, вновь
возвращает себе свою жизнь, посредством как бы нового вдохновения, оно одновременно отрекается от высшей потенции, седалищем и троном которой было прежде,
и исключает ее из себя. Одним словом, оно теперь в сознании есть всего лишь В, В отрезанное от А2 и A3 и, более того, положенное как их противоположность. Таким образом, осуществивший себя в сознании Бог вновь упразднен. По той, однако, причине,
что высшие потенции исключены из сознания, они еще отнюдь не везде подверглись
отрицанию и полному снятию; ибо они суть объективные, независимые от сознания
силы, они теперь, скорее, лишь как бы исключены из сознания, хотя и положены не
для самого сознания, ибо именно тем самым, что в нем безраздельно властвует В, оно
закрыто для высших потенций, будучи нечувствительно по отношению к ним; однако же они — пусть и не сразу же для самого сознания, но для нас — положены как
исключенные из сознания, долженствующие вновь в нем осуществиться. Однако тем
самым мы уже теперь имеем все необходимое для будущего появления сукцессивного
политеизма. Ибо господствующее в сознании есть исключительный = ложно-единый
Бог, который не допускает божественности иных потенций. В этом исключении они,
однако, также не есть истинный Бог, а поскольку они не суть ничто и равно не являются целиком и полностью не-Богом, то они полагаются как боги. Вместо одного,
все-единого Бога положены теперь поэтому три потенции, которые, однако, входят
в сознание лишь сукцессивно, как последовательно являющиеся боги. Необходимые
предпосылки для сукцессивного политеизма (его экспликация) тем самым уже даны,
однако еще отнюдь не дан он сам. Ибо сознание все еще исключительно занято В и,
тем самым, закрыто для высших потенций. Однако дело никоим образом не должно
пребывать в таком положении — уже потому, что сознание в этом состоянии представляет собой нечто вроде пространства, которое выведено из сферы досягаемости
божественной жизни и как бы закрыто для нее. Божественная жизнь, однако, не может
быть исключена из чего бы то ни было и по отношению ко всему, пытающемуся избежать ее, принимает образ необходимо сущего, с необходимостью себя восстанавливающего. Таким образом, следует предвидеть начало процесса, хотя в данный момент он
еще и не начался и налицо имеется лишь его предварительное условие.
До сего момента одновременно простираются прелиминарии мифологии, не
в том виде — как они были ранее представлены философски, но так — как они существуют в самой мифологии, так — как осознает их сама мифология.
ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ
То, что теперь господствует над сознанием, не есть истинное παν1, ничего не исключающий, но — односторонний, исключительный и, тем самым, богопротивный
παν. Он, далее, не может непосредственно вновь отойти в свою потенцию, но может
быть приведен в нее лишь в результате процесса; и не сам по себе, но лишь вследствие необходимого действия второй потенции он может быть приведен обратно во
внутреннее, в потенцию. Однако для того чтобы быть преодоленным высшей потенцией, он должен сперва стать доступным для нее; но до сих пор он попросту не дает
ей места, она до сих пор всецело им исключается. Правда, в этой абсолютной исключительности он столь же мало может пребывать в сознании, как и в природе, и как
в первом творении тут же должно начаться преодоление — точно так же и в сознании. Спрашивается теперь, что же означает это: должно начаться преодоление? Прежде чем он будет действительно преодолен, он должен быть предметом возможного
преодоления, должен сделаться преодолимым для высшей потенции, сделаться для
нее предметом и стать по отношению к ней периферическим. Дабы пояснить это, я
прошу вас принять во внимание следующее. То, что сейчас выглядит как В, есть изначально основа, т. е. наиглубочайшее, наиболее внутреннее, субъект = изначальное состояние сознания — однако этим он может являться лишь в своем отрицании, лишь
постольку, поскольку он есть чистая потенция; т.е., как только он становится позитивным, он должен быть исторгнут из того места, где может быть только чистое бытие в возможности, он должен отступить из центра, loco cedere2, стать объективным
и периферическим. Однако именно этому исторжению он оказывает сопротивление,
он хочет, даже и став неравным себе, все еще быть eodem loco3, где он был прежде, все
еще утверждать себя как изначальное, внутреннее, центральное. Как чистое бытие
в возможности он был дух и подобен духу; перейдя в бытие, он по природе своей недуховен и должен был бы также и признать себя как таковой, подчиниться высшей
потенции, материализоваться по отношению к ней, стать ее материей, бессамостным
сущим, дабы таким образом вновь вернуться в свою латентность и духовность, которая присуща ему лишь так, а не иначе*. Этой материализации (как необходимому
В первоначальной чистоте, как чистое бытие в возможности, он был субъектом в смысле изначального состояния — волшебством, которое все к себе притягивало и влекло; но как только он выходит
Девятая лекция
137
переходу) он противится в своей слепоте, и следующий момент — второй, непосредственно следующий за тем первым моментом перемены, становления иным — есть
поэтому момент борьбы, в котором принцип, поднятый к ложному бытию, желает
отстоять себя хотя бы как дух перед лицом безмолвной силы божественной необходимости, которую он уже не терпит как средоточие, как дух. Здесь, таким образом, тот принцип, в чьей власти находится сознание, с одной стороны, предстает
как посредством высшей необходимости материально, периферически положенный,
однако, в свою очередь, по причине собственной слепоты вновь полагающий себя
как средоточие. Таким образом, из этой борьбы между стремящимся утвердить себя
как духовное и потенцией, полагающей его как недуховное, из этой борьбы материальным быть долженствующего, однако противящегося материализации, а значит,
все еще духовного, принципа — мы можем также сказать: из этой борьбы желающего быть в центре, т. е. быть вместо всего иного и исключительно, однако же под
воздействием немой силы высшей потенции вновь и вновь исторгаемого из центра,
периферически положенного принципа, — из этой борьбы и в результате ее должен
образоваться разрыву в котором для сознания то Одно, которое оно хочет отстоять
как абсолютно и исключительно Одно, как абсолютное средоточие, с неизбежностью разрывается на множество, преобразуется во многое, которого оно не желает и в котором оно поэтому всегда ищет положить единство; а поскольку именно
властвующий над сознанием Бог разорван для него таким образом и превращен во
множество, то необходимым результатом этой борьбы для сознания будет первое
множество Божеств или божественное множество, первый симультанный политеизм. Я уже в общем введении отмечал, что только симультанный политеизм все еще
некоторым образом есть монотеизм, однако здесь это будет в особенности верно,
что станет очевидным из следующего ближайшего рассмотрения.
Как уже отмечено, возникающая здесь множественность есть не изволенная сознанием, она появляется непроизвольно для него самого и, более того, — против его
воли, и именно по этой причине оно все еще пытается удержать и утвердить в ней
единство; возникающая множественность, таким образом, не просто множественность, но она есть всего лишь вывернутое наизнанку и перелицованное единство =
= В. Сознание все еще удерживает его как Одноу и это есть сущностное; множественность же, вид которой оно принимает для сознания против его собственной воли,
есть случайное — также и в смысле своей неизволенности. Множественность есть
поистине — лишь как множественность положенное Одно; она есть лишь unum
из своей чистоты, он уже не может быть субъектом в этом смысле, т. е. в том смысле, где субъект
означает над самим собой властное; выйдя из своей изначальности, он может быть субъектом лишь
в том смысле, что он есть подчиненное высшему, не изначальное состояние, но наиболее глубокое,
основа, материя для осуществления этого высшего.
138
Вторая книга. Мифология
versum. То Одно, которое разбито здесь на множество, есть лишь ложно-Единое (das
falsch-Eine). Положенный здесь универсум возникает в результате материализации
самого в себе имматериального и все еще духовного — хоть и ложно-духовного — В.
Здесь, таким образом, тот универсум, о котором мы говорим, есть хотя еще и не материальный, однако стоящий на пути к материализации универсум. Непосредственно сознание все еще полагает единство; то, что оно может положить это единство
лишь как множественность, есть не изволенное, непроизвольное для него. Поэтому
данная множественность не есть всецело распыленная, в которой нет больше никакого единства, но — такая, в которой единство все еще присутствует и удерживается;
все еще и в каждом элементе полагается собственно лишь исключительно Единое
и воспринимается лишь общее бытие. В — существует здесь еще не в действительном преодолении, но в борьбе против лишения самостности, материализации, которая есть условие, предпосылка действительного преодоления. Оно находится здесь
еще в состоянии перехода от абсолютной имматериальности (где оно ни к чему не
относится как материя, как ύποκείμενον4, как объект) к материальности, под которой
здесь понимается не телесная, но все еще бестелесная материальность. (Если мы говорим, что В должно стать материей высшей потенции, то мы берем здесь материю
все еще в философском смысле, где материя означает уже более не само сущее, но материал, служащий для осуществления другого и ему подчиненный.)
Возникающие в этой борьбе между материальностью и имматериальностью
элементы получили у нас поэтому следующие определения: 1) как такие, которые
в их множественности все же суть лишь само протяженное Одно, в которых, следовательно, все еще продолжает существовать исключительное Единое; 2) как такие,
в которых именно поэтому еще не воспринимается разнородное, но лишь единообразное, повсюду себе равное, пустынное, необитаемое бытие. Однако 3) как возникшие из противоборства, в котором Единое или В постоянно стремится сделаться
средоточием, однако столь же постоянно вновь и вновь выталкивается из центра
и полагается периферически; они вообще предстают как охваченные постоянным
стремлением, как стремящиеся, т.е. не спокойно сущие и поэтому существующие
в непрестанном движении. Ибо они стремятся, иди в них стремится В к тому месту,
где оно не может быть, — к центру, тогда как в том месте, где оно могло бы быть, —
в периферии, — оно пребывать не желает, а значит, постоянно вновь и вновь поднимается с этого места, удаляясь от него. Они поэтому предстают как такие, которые под воздействием высшей силы постоянно полагаются периферически, однако
столь же постоянно стремятся избегнуть этого места, т.е. материализации, и если
для сознания (которое нам следует мыслить в совершенно несвободном, вне себя положенном, экстатическом состоянии) — если для него разнородность элементов вообще впервые возникает как результат распада единого, субстанциального принципа, то эти элементы будут представляться сознанию как вообще пространственные,
Девятая лекция
139
в особенности же — как постоянно стремящиеся, непрестанно подвижные. Поскольку же они не могут достичь того места, к которому стремятся, и напротив, —
постоянно полагаются в том месте, где не желают находиться и которое хотят покинуть, то в результате их движение будет = недвижению, движению, которое = покою:
такое движение, однако, есть всего лишь не-прогрессирующее, постоянно к себе
возвращающееся, кругообразное. Поэтому данные элементы будут 4) представать
как не только охваченные непрестанным движением, но охваченные непрестанным
круговым движением. Если бы, поэтому, не существовало никаких иных противных доводов, то можно было бы вполне согласиться со мнением Платона, у которого в «Кратиле» древние пеласги называют своих первых богов θεούς5, от глагола
θέω6, обозначающего непрестанный бег*. И мне нет нужды далее добавлять, что эти
пространственные боги, в которых, в первую очередь, превращается для сознания
исключительно сущее, — являются богами звезд, звездными божествами. В качестве таких естественно движущихся сущностей, охваченных не случайным для них,
но сущностным, относящимся к их природе кругообразным движением, — нам известны только звезды.
Теперь, как мне кажется, я привел вас к той точке, где мы можем видеть, что
первый политеизм был той абстрактной религией, которая не столько видела в звездах богов, сколько, напротив, богов рассматривала как звезды. Ибо из всего моего предшествующего выведения можно заметить, что я не склонен позволить так
называемому обожествлению звезд возникнуть извне, в результате эмпирического
созерцания и последующего обожествления действительных, к тому же еще и мыслившихся как телесные, звезд. Привычное объяснение выглядит приблизительно
следующим образом. «Благотворные и могучие воздействия небесных тел (в первую
очередь, пожалуй, Солнца и Луны) должны были дать повод все еще чувственному
человеку относиться к этим небесным светилам с особенным почитанием». Я допускаю и признаю хваленую легкость этого объяснения (оно не представляет собой
трудности), однако то, что эти светила поначалу считались обычными материальными небесными телами и лишь затем были обожествлены, — идет против всякой
природы. Я, напротив, считаю, что эта астральная религия возникла всецело изнутри, под воздействием внутренней необходимости, во власти которой сознание находится в той же мере в начале политеизма, в какой и в его течении. Истинность этого воззрения можно было бы доказать исторически постольку, поскольку нетрудно
исторически показать, что под изначально почитаемыми звездными божествами
подразумевались отнюдь не телесные сущности. Предметом этого древнейшего почитания было, напротив, все еще чистое В, т. е. именно чисто астральное. Правда, мы
* Платон. КратиЛу 397D.
140
Вторая книга. Мифология
привыкли называть звезды небесными телами, однако всякий хоть сколько-нибудь
мыслящий человек без особенных усилий сможет убедиться в том, что собственно
планета — Земля, напр., или Земля как чисто астральная и космическая сущность —
должна была существовать раньше, нежели отдельные телесные вещи, которые можно встретить на ней или в ней, и что поэтому Земля как планета, как astrum7, не является телесной. Собственно планета (Gestirn), собственная и истинная самость так
лишь называемого и лишь внешне, лишь в частичном понимании так предстающего
космического тела, — не может быть ничем телесным, но может представлять собой
лишь нечто сверхтелесное.
Так вот, именно это сверхтелесное, это чисто астральное, собственно звездное
и было тем, что почиталось людьми как божественное. То, что изначально имелось
в виду и было изволенным и взыскуемым, не было ничем конкретным, но представляло собой чистое В, т.е. то чистое изначальное бытие, которое, если бы оно
проявилось, — выступило бы как поглощающее по отношению к позднейшему, образовавшемуся бытию, которое именно должно стать материей для высшей потенции, с тем чтобы возникло отдельное, конкретное бытие. Бытие в своей толикости
(неоформленности) является пустынным и необитаемым по сравнению с полнотой
и многообразием позднее образовавшегося бытия, и поэтому в начале книги Бытия значится: Земля (только что сотворенная) была безвидна и пуста. Звезды никак
нельзя субсуммировать как какую-либо одну категорию конкретного бытия; они не
суть неорганические, но также не суть и органические сущности, не камни, не растения и не животные. В них почиталась не природа, но то, что существует до природы
и над ней. Сознание пребывало здесь еще в некоем высшем надприродном регионе, подобно тому как сама звезда принадлежит более высокой сфере, нежели просто
природа. Кто из вас не испытал бы неудобства и нежелания называть звезды творениями природы в том же смысле, в каком мы не задумываясь называем так иные
вещи? Также знаменательным является то, что слово «Gestirn»8 образовано по аналогии с теми словами, которые мы обычно неохотно употребляем во множественном
числе. Во всем звездообразном собственно звезда есть лишь Одно; это Одно и было
предметом той древнейшей религии, которая и составляла первое действительное
сознание человека. Первоначальное почитание относилось даже не к отдельным образам, распавшимся на которые предстает изначальное бытие, — к самим звездам,
напр., Солнцу и Луне (это материальное почитание небесных светил относится к более позднему времени, и позднее у нас будет возможность увидеть переход к нему);
первоначальное почитание, следовательно, не относилось также и непосредственно
к звездаму к этим отдельным образам как таковым, но лишь к тому самому чистому бытию, к пусть уже и распавшемуся, однако внутренне все еще позитивному
принципу, который, будучи давно уже переформирован в этом внешнем мире, лишь
в этой своей переформированности дает в качестве результата индивидуальное
Девятая лекция
141
бытие; тот принцип, который именно поэтому не может быть увиден чувственным
оком, поскольку он, чтобы быть зримым, должен быть уже преодолен. Если в этом
был смысл той древнейшей астральной религии, то мы имеем право в свой черед
от этого смысла сделать заключение о возникновении, и здесь само собой напрашивается: 1) древнейшее человечество не могло прийти от чувственного созерцания
к астральному, это астральное не могло созерцаться чувственно: оно есть именно не
чувственно созерцаемое. Столь же мало мы будем ощущать себя 2) склонными утверждать, что древнейшее человечество познало этот изначальный принцип бытия
своим рассудком, — так же, как, без сомнения, познаем его мы. Мы будем вынуждены также допустить, что древнейшее человечество лишь в результате внутреннего,
пусть даже и для него самого непостижимого процесса, было перенесено в сферу чистого астрального, и то, что оно собственно почитало в облике звезд, было не самим
движущимся и материальным, но, напротив, принципом, внутренней сокровенной
причиной всего небесного, или сидерического движения*.
Я должен прибавить к этому еще одно доказательство, из которого, по моему
мнению, неоспоримо явствует, что эта древнейшая религия основывалась не на
субъективном представлении, но на реальном основании, которому было подчинено сознание. Однако прежде чем я разъясню его, я хотел бы еще раз суммировать
мое объяснение астральной религии; довольно важным и необходимым является,
чтобы вы четко усвоили себе уже самую первую ступень мифологического процесса.
Сознание настоящего момента хочет собственно исключительного бытия,
исключительного Бога; однако он в результате воздействия высшей силы — хоть
и непонятным для него самого образом (ибо для него самого эта сила еще никак
не очевидна) — этот исключительный Бог превращается непроизвольным для него
образом и даже против его воли во множественность, Одно превращается во Все.
Возникающие здесь боги собственно суть не боги, но Один, разрозненный на множество, Бог. Они ни в коем случае не являются материальными богами. Правда, эта
множественность возникает из борьбы стремящегося отстоять себя как имматериальный принципа и противостоящей ему потенции, желающей подчинить его себе как
свою материю. Однако собственно изволенное и потому также собственно как божественно почитаемое — здесь не есть множество (оно везде отрицается), но изволенное есть Одно, исключительно сущее, которое, словно бы склоняясь под воздействием
Поскольку сознание той эпохи все же имело отношение к этому принципу, — ясно, что, поскольку
оно не могло быть идеальным, оно должно было быть реальным, и это реальное отношение к данному принципу, из которого единственно может быть объяснена древнейшая астральная религия, это
реальное отношение — само, в свою очередь, может быть мыслимо лишь как действительное перемещение (восхищение) сознания в этот внутренний сидеризм, таким образом, что сознание внутренне
снова подчинялось астральному, власть которого внешне успела уже отойти в прошлое.
142
Вторая книга. Мифология
невидимой для самого сознания, непознанной и всего лишь ощутимой, силы, должно быть приведено к материализации, однако в результате его сопротивления всего
лишь расчленяется и разрывается на части. Это расчлененное на множественность
единство возникает для сознания в результате той же самой борьбы, в ходе которой первоначально возникает мировая система (ибо в результате нового подъема
исключительно сущего в себя — сознание вновь подпало под власть начала, приуса
природы, т. е. астрального). Таким образом, по этой причине возникающие здесь для
сознания боги подобны звездам, т. е. являются звездными божествами. Ибо также
и звезды представляют собой не что иное, как множество периферически положенных центров, в которых именно поэтому все еще проявляется изначальная тенденция быть средоточием, исключительным сущим, и пусть она есть всего лишь тенденция, стремление, целиком и полностью непроизвольное поползновение, — она есть
причина постоянного, непрерывного движения. Не от действительных, чувственно
познаваемых звезд отталкивалось сознание — для того чтобы, в конечном итоге, их
обожествить. Собственно процесс выглядит совершенно иначе. Первоначальное сознание, которое есть не что иное, как к себе самой или в себя самое пришедшая сущность природы, а значит — сущность, прошедшая через всю природу, — это первоначальное сознание хранит в себе как бы в снятом виде все те прежние моменты, через
которые оно прошло: точно так же, как каждый отдельный человек хранит все опыты своей жизни в своем настоящем сознании, в своем теперешнем образовании, —
однако эти прежние моменты хранятся в нем как бы в заколдованном, оцепенелом
и неподвижном состоянии, будучи положены как прошлое. Человеческое сознание
должно было бы содержать их в себе как единство в таком подчинении себе, чтобы
они уже более не представали в своей последовательности и взаимном исключении.
Однако именно это единство, как мы только что предположили, сознание содержит
в снятом виде; как только оно вновь эксцитировало9 в себе, привело к действию этот
приус начала, эту первую основу своего собственного бытия, этот принцип природы, — оно, тем самым, исключило из себя все позднейшие моменты, и, находясь всецело во власти того первого момента, вновь став таким же, каким было в тот первый
момент, оно сущностно само является астральным*; как астральное оно закрыто для
всего прочего, оно живет и существует лишь в этом регионе; равно как и вообще этот
первый момент представляет собой высшую степень от- или вне-себя-бытия, экстазиса человечества. Здесь для сознания еще не было никакого внешнего мира, природа еще словно бы не существовала для человека. Генезис этой астральной религии
заключается поэтому лишь в отношении сознания к принципу, к чистому В, и этот
забизм (я следом выскажусь относительно этого слова) — забизм в сознании — есть
Исключительно сущее в преломленности своей природы — положенное периферически = астральное. Подобным же образом и сознание перемещено в астральное.
Девятая лекция
143
первый. Все последующее представляет собой внутренний, в глубине протекающий
процесс. Звезды все еще существуют во внутреннем мире*. На сотворение звездных
божеств сознание решается лишь позднее.
Я очень хорошо понимаю и ничуть не удивлюсь, если для большинства объяснение этой древнейшей астральной религии из чисто внутреннего процесса сознания
покажется запутанным, бессмысленным и даже невероятным, и если они поэтому
противопоставят нам то привычное, — можно утверждать, общепринятое — объяснение, которое, по их словам, является столь простым и незатруднительным.
Я назвал астральную религию забизмом (Zabismus). Мне хотелось вместо обычного «почитание звезд», «культ служения звездам» и т.д., которым сопутствует добавочное понятие почитания материальных звезд, употребить простое и свободное
от этого добавочного понятия выражение. Как именно такое, напрашивается уже известное и принятое название сабеизм (Sabeismus). Я должен лишь отметить, что эта
форма слова не вполне верна. По-видимому, сперва употреблявшаяся французами,
она позднее была принята также и немцами, напр., Лессингом в его «Воспитании рода
человеческого»**. Эта форма, среди прочего, может привести к ложному пониманию
и уже привела к тому мнению, будто данное имя древнейшей религии происходит от
сабеев (Sabäer), известного народа счастливой Аравии, которые случайно оказались
также и звездопоклонниками ; однако истинное происхождение этого слова (в котором уже никак невозможно усомниться) — от еврейского и арабского Zaba, войско (exercitus10), причем в особенности небесное воинство, от которого происходит
также и ветхозаветное имя Иегова Саваоф (Iehovah Zebaoth), Господь Небесного Воинства11. Ибо, поскольку мифологический процесс был всеобщим, и им было охвачено все человечество, — то также и само Откровение вынуждено было приближать
свой, а отчасти даже и содержание своего учения, к различным ступеням и моментам этого процесса; ибо всеми без исключения признается, что Откровение является
сукцессивным, а не моментальным, мгновенным — т. е., в противоположность тем
народам, которые поклонялись небесному воинству (позднейшему, уже пришедшему в упадок, представлению о нем) как самим материальным звездам, в противоположность им (ибо это имя впервые употребляется лишь в позднейших книгах,
в эпоху царей) говорилось о Господе Небесного Воинства, истинном духовном Боге.
Теперь о самом слове. Zaba (по-арабски будет Zabi, или же, в более мягком произношении, Sabi) означает «поклоняющийся звездам», Zabiah — само поклонение звездам, из чего явствует, что правильной формой слова должно быть «забиизм» или,
Выход вовне совершается лишь с приходом Урании (замечание на полях манускрипта).
Так, например, у фон Болена в его «Генезисе исторической критики», с. 124 (ср. с. 496). Однако это
имя пишется совершенно иначе, чем арабское слово, обозначающее звездопоклонников в Коране.
144
Вторая книга. Мифология
в редуцированном виде, «забизм», каковой формой я и намерен пользоваться в дальнейшем. В Коране сабии неоднократно с почтением упоминаются наряду с евреями
как унитарии, поборники единого Бога, и им в грядущем мире обетована лучшая
участь, нежели поклоняющимся кумирам. Они упомянуты также и в числе первых
последователей Мухаммеда; более того, самого Мухаммеда называют Zabi, — возможно, идолатрические арабы, которые рассматривали его учение о едином Боге как
возврат к забизму. В дальнейшем слово уже более не означает поклоняющегося звездам в особенности, но всякого, кто не исповедует истинной религии. По меньшей
мере, однажды оно используется в арабском переводе Нового Завета для обозначения Έλλην 12 , т.е. язычника в противоположность еврею. Это общее значение поклоняющихся богам имеет также слово о^гщ13 в довольно путаном и малоисторичном
трактате Маймонида о возникновении идолатрии, который Герхард Фосс поместил
в приложении к своему труду «De origine Idolatriae»14. Здесь под Zabiim понимаются
уже совершенные idolatrae, что уже всецело расходится с первоначальным смыслом.
Среди прочего, Спенсер позволил себе сотворить из сабиев нечто вроде широко
распространенного первоначального народа (Urvolk). Однако это слово изначально
не обозначает особого народа, но лишь древнейших почитателей исключительного
(и в этом смысле единого) Бога, космического, мирового Бога, и таким образом опосредованно также и звезд как тех элементов, в которых еще присутствует внутренняя,
до сих пор не иссякшая сила этого Бога. Без сомнения, среди вас присутствуют и те,
которые могли слышать о сабиях или сабеях также и в ином смысле, а именно, —
в так называемых Иоанновых писаниях (Johannesschriften), каковые религиозные
книги в последнее время привлекли внимание европейских ученых. Поэтому я лишь
кратко замечу, что эти последние никак к нашей теме не относятся и что их имя образовано от совсем иного слова, а именно от Zaba (с £>*), которое в сирийском означает «посвящать». Они носят также имя «крестителей» как последователи Иоанна
Крестителя**.
Итак, после того как сделано вышеприведенное замечание, в дальнейшем я буду
называть эту древнейшую религию забизмом.
То, что забизм основывался не на субъективном представлении, но на реальной
силе, которой было подчинено сознание, явствует из того (употребим здесь также
и последнее доказательство), что эта сила не только определяла сознание, но также
и властвовала над самой жизнью древнейшего человечества. Забизм основывается,
как показано, в конечном счете на вне-себя-бытии сознания, ибо то, что должно
было в нем пребывать в покое, представлять собой основу сознания, — как таковое
упразднено, поскольку приведено в действие. Указанное вне-себя-бытие сознания
буква «айн», в иврите слово означает «указывать».
Ср. Историю Церкви Неандера, изд. 2-е, т. 2, раздел I, с. 650.
Девятая лекция
145
становится теперь очевидным также и во внешней жизни этого древнейшего человечества. Ибо забизм есть религия той части человечества, которая еще не перешла к исторической жизни, к существованию в качестве народов. Жизнь доисторического человечества была той непостоянной и переменчивой, которую принято
обозначать как кочевую (nomadisch). Покуда человек всецело находится во власти
этого исключительного, противящегося определенной, конкретной жизни, и в этом
смысле — всеобщего принципа, до тех пор он сам не способен достичь определенной,
конкретной жизни, чье первое условие есть постоянные, долговременные жилища,
до тех пор он сам ищет для себя широты и безграничного простора. Пустыня представляет собой его естественный ареал обитания. Чуждый самому себе, поскольку
пребывает в состоянии самоотчужденности, он выглядит чужестранцем также и на
земле, — не имея родины, как и кочующая звезда (принцип которой есть В — stare
loco nescit15), без постоянной, недвижимой собственности (сама его собственность
подвижна — это его стада). Место покоя в его понятии могут иметь лишь мертвые:
праотцы израэлитов, напр., еще долгое время оставались кочевниками, тогда как
другие народы уже перешли к исторической жизни; и первый участок земли, который Авраам купил у знавших уже на тот момент недвижимую собственность хетитов, предназначен для родового захоронения* — следовательно, лишь мертвые обретают покой; живущие суть странники на земле, нигде не имеющие поселения; время
их жизни, по выражению умирающего Иакова, есть время странствия (Wallfahrt)16.
(Я напоминаю здесь о том, что ранее уже отмечалось в связи с именем Ibri.)
Лишь вместе с постоянным жилищем приходит также и гражданское сообщество, гражданские законы и уложения. Иметь владения может лишь тот, кто владеет
собой. Владеть чем-то означает иметь нечто в своей власти; однако в данный момент
человек сам находится во власти внешнего ему; как только он получает нечто в свою
власть (а это и есть обладание), — это означает, что сам он уже не пребывает под
17
властью чуждого. Одержимый (sui haud compos ) не может обладать. В нынешнем
же состоянии человек отчужден от самого себя, положен вне самого себя. Однако,
даже и будучи управляем слепой силой — тою же самой силой, которая и звездам
велит следовать по своим орбитам, — он отнюдь не ощущает себя несвободным. Несвободным ощущает себя лишь тот, кто пребывает во власти двух принципов и не
может решиться в пользу одного из них. Все решенное представляется как свободное. В человеке же господствует только В, по природе своей безграничное, всеобщее.
Будучи, таким образом, далек от того, чтобы в настоящем положении ощущать себя
несвободным, он, напротив, следует влечению этой полагающей его вне себя силы
с ощущением гораздо более совершенной свободы, чем та, которая выпадает на его
Быт. 23.
146
Вторая книга. Мифология
долю позже, когда этот всеобщий принцип начинает для него внутренне ограничиваться, и возникает то чувство индивидуальной свободы, которое влечет его прочь
от целого и всеобщего и полагает его в раздоре и разладе как с самим собой, так и
с миром. Золотым веком, эпохой чистого, целостного, ничем не омраченного и потому здорового бытия видится поэтому всем позднейшим народам, всему давно уже
рассорившемуся с самим собой и со Всевышним человечеству образ этого еще до
всякой свободы свободного времени. В обеих конечных точках нравственной жизни свобода и необходимость, предстают как Одно: чистая необходимость, которая
в данный момент господствует над человеком, воспринимается как свобода, точно
так же как на другом конце свобода в ее высшем самосознании, в свою очередь, предстает как действующая с необходимостью, — напр., в деяниях нравственных героев.
Поскольку человек в эту эпоху воспринимает закон, которому он следует, как закон
чистого, еще не ущербного (ungekraenkten) бытия, он следует его влечению с тем гордым, не униженным никаким противоречием чувством свободы, которое мы могли
бы наблюдать разве что в тех сыновьях пустыни, что до сей поры смогли уберечься
от воздействия позднейшей эпохи, или которое наполняет собой тех живущих на
воле животных, о коих Бог говорит в великом древнем стихе о природе: Кто дал
зверям полевым ходить на свободе, кто разрешил узы диких, которым я дал поле
для жительства и пустыню для обитания? (Wer hat das Wild so frei gehen lassen, wer
hat die Bande des Wilds gelöst, dem ich das Feld zum Hause gegeben habe und die Wüste
zur Wohnung?)
Нет необходимости доказывать — ибо никто и не оспаривал того, что религия,
которая отняла у человечества землю, помешала ему обосноваться на земле, вынудила его быть странником на земле — что забизм, одним словом, может быть назван наидревнейшей религиозной системой человечества. Я говорю: это никогда не
оспаривалось; ибо по меньшей мере это не может быть оспорено исторически; однако, тем не менее, данное утверждение безусловно оспаривалось косвенным образом
в общепринятых и имеющих широкое хождение объяснениях. Такие объяснения
считают возможным, что люди видели в звездах — мы не знаем точно, что именно — однако, во всяком случае, нечто иное нежели богов; позднее же — неизвестно,
по прошествии какого именно времени — вследствие воспринятых благотворных
воздействий и основывающихся на них размышлений они вполне осознанно и добровольно представили себе те же самые звезды в образе богов. Однако то, что человек однажды почел за что-то иное, он не может так легко и произвольно превратить
в Бога. Эти объяснения звучат так, словно бы человек мог создать себе Бога из чего
угодно. Однако Богу, которого человечество создало само, оно никогда не смогло
бы быть подвластно так, как оно было подвластно этой астральной религии. У людей совсем не было времени для того, чтобы исходя из естественной точки зрения,
в результате рефлексии или размышления — прийти к религии. Уже своим первым
Девятая лекция
147
движением сознание навлекло на себя необходимость мифологического процесса,
и еще ранее было отмечено, что человек, подпав под власть мифологического процесса, отнюдь не возвратился в лоно природы, как иные охотно желали бы это себе
представлять, но, напротив, был отлучен от природы, под воздействием настоящих
чар положен вне природы, будучи перемещен в тот еще доматериальный — еще духовный — приус всей природы (чистое, еще ничему не подчиненное В), который
упразднил для него природу как таковую. Пожалуй, необходимой задачей будет
здесь объяснить, каким образом человек вновь освободился от действия этих чар и,
в конечном итоге, смог прийти к человеческому воззрению на природу. Однако считать возможным обратное, мыслить его себе в том самом свободном и спокойном
отношении к природе, в котором мы пребываем теперь, — полагать, что он сперва
мыслил себе звезды как простые природные предметы и лишь затем по своей воле
обожествил их — такое никак нельзя назвать иначе, чем абсурдом. Тот же теперь,
кто примет во внимание не только отдельный момент, но весь процесс в его течении,
тот непременно увидит в мифологии из самого ее первого ростка проистекающую
необходимость, решительно исключающую также и в первой системе всякое случайное возникновение, которое с необходимостью связано с побуждением посредством чувственных впечатлений и основанных на них выводов. Забизм основывался
на том, что сознание все еще продолжало утверждать Бога, который грозил своей
материализацией, как имматериального, духовного и, тем самым, исключительного.
Отсюда возникла астральная религия. Без этого всецело духовного смысла понятие
небесного воинства не смогло бы идентифицироваться с понятием ангелов, как это
с очевидностью произошло в Ветхом Завете, где в книге Неемии сказано: «Воинство
небесное поклоняется Тебе»*, — чего никак нельзя было бы сказать о материальных
звездах.
Забизм есть вообще наиболее древняя система, в частности же — система еще
нераздельного человечества. Если необходима причина, которая бы объясняла разделение человечества на народы, то ничуть не менее необходим некий принцип,
который бы делал понятным предшествующее разделению единство человеческого
рода. Лишь та всеобщая, повсюду удерживающая бытие в единообразии и равенстве
самому себе сила, неблагоприятствующая многоликости свободно развивающейся
жизни, может объяснить спокойствие и тишину доисторической эпохи, которая
сравнима лишь с глубокой, торжественной тишиной неба. Ибо как небо не знает
никаких событий и существует в беззвучной тишине сегодня — как и тысячелетия
назад, точно так же и эта эпоха. Если природа обращена к доисторическому человечеству всегда лишь этим своим неизменным лицом, если лишь всеобщее, лишь
Неем. 9, 6.
148
Вторая книга. Мифология
всемогущее в ней имеет к нему отношение и, напротив, очарование бесконечно разнообразной и меняющейся жизни проходит мимо его души, никак ее не задевая и не
оставляя в ней никакого следа, не будучи в силах нарушить торжественной серьезности сознания, обращенного лишь к исключительно Единому, если, таким образом,
чистый почитатель небес также и в духовном смысле словно бы обитает в пустыне, — то это не может быть объяснено из одного лишь субъективного представления
или воззрения, однако это можно объяснить в том случае, если мы будем мыслить
себе человечество всецело одержимым некой силой, которая помещает его в само
исключительно сущее и препятствует его взору в созерцании свободной, полной
жизни природы.
Ранее мы имели возможность познакомиться с теориями, согласно которым для
возникновения мифологии не требуется ничего более, кроме того — чтобы произвольная фантазия, по своему желанию или случайному усмотрению, выхватывала
из природы то один, то другой предмет, с тем чтобы представить в образе личности то или иное его свойство или способность. Согласно одной из таких теорий, не
существует, как вы легко можете видеть, ни закономерной последовательности, ни
определенной градации в возникновении мифологических представлений. Обычно
утверждают, что такая персонификация начинается с ближайших явлений и сил, что
и было бы — если предположить такой способ возникновения вполне естественным;
однако исторически мифология началась как раз с предмета наиболее удаленного,
а именно — с неба; сколь бы рано человечество ни отметило для себя благотворное
влияние небесных светил, все же иные конкретные предметы в материальном отношении были более близки ему. Но даже если предположить, что такая персонификация случайным образом началась с именно с неба, что либо сами небесные светила,
либо движущие и перемещающие их силы мыслились при этом как боги, — то в этом
случае не должно было бы наблюдаться никакой продолжительности такой персонификации: она, однажды будучи приведена в действие, не замедлила бы сделать то же
самое и с другими, более специальными природными силами, и таким образом —
весь сонм мифологических представлений возник бы в своем пестром разнообразии
единовременно. Это, однако, идет против всяческой истории и является еще одним
доказательством того, до какой степени те теории, которые якобы придерживаются
чисто эмпирической точки зрения, напротив, противоречат истинному опыту, который в данном случае есть истинная история. Ибо история показывает с неопровержимой определенностью, что в мифологии разные системы предстают в очерёдной
последовательности, в которой одно предшествует другому и каждое предшествующее одновременно является основанием для последующего.
Такое продолжительное пребывание мифологического сознания в отдельных
моментах есть неопровержимый факт, который ни одна истинная или хотя бы
претендующая на полноту теория не имеет права оставить без внимания. Такие
Девятая лекция
149
продолжительные остановки сознания как раз и являются для нас свидетельством
того, что развитие подчинено определенной закономерности, что также и это — на
первый взгляд, не имеющее никаких правил движение отчужденного от Бога сознания совершается отнюдь не sine numine18.
Не случайным было — если древнейшее человечество служило небесным силам;
не случайным — если оно, словно бы умерев для внутренней жизни и сделавшись
чуждым ей, попало под власть внешнего, только астрального, космического духа.
Высшей власти достигло оно под законом этой религии; это была эпоха, в которой,
по великолепному выражению Ветхого Завета, Господь учредил Воинство Небесное
для всех народов, т.е. для еще нераздельного человечества*. В почитании неба как
первой религии человеческого рода впервые проявилось религиозное сознание как
таковое — тем самым, было задано религиозное значение всего последующего процесса. Один из отцов Церкви говорит: Бог дал им Солнце и Луну для почитания, он
сотворил для них [эти светила], чтобы они не оставались в совершенном безбожии
(άθεοι19)**. По сравнению с позднейшим, относящимся к бренным и преходящим вещам суеверием, почитание неба также и отцами Церкви рассматривалось как более
чистая религия, как все еще относительный монотеизм, и точно так же относился
к нему Мухаммед, который противопоставляет сабиев язычникам. Таким образом,
человечество удерживалось под законом этой религии согласно произволению высшей силы. Человечество должно было пребывать в этом состоянии вне-себя-бытия
до тех пор, покуда не наступило время возврата вовнутрь самого себя, а тем самым —
одновременно и внутреннего обоюдного отторжения и разделения человечества.
Подобно пасмурному и угрюмому небосклону, простерлось над миром это еще
не распадшееся на действительное множество, но лишь чреватое множественностью
единство, этот глухой монотеизм, удерживая его в тишине и ожидании вещей, долженствующих прийти, в состоянии подготовки к будущему исполненному жизни
движению. В этом состоянии, которое по самой своей природе не могло быть непреходящим и уже с самого начала было определено как основание для последующего,
готовился материал для имеющих появиться народов. Здесь мы видим как бы мастерскую и сокровищницу, из которой Он призывает к жизни и существованию народы, каждый в свое время и в то самое мгновение, когда приближается именно тот
* Втор. 4, 19.
Климент Александрийский. Место гласит: "Εδωκεν δέ και τον ήλιον καί την σελήνην, καί τα άστρα εις
θρησκείαν, ά έποίησεν ό θεός τοις εθνεσιν, ϊνα μη τέλεον άθεοι γενόμενοι τελέως και διαφθαρώσιν. Οί δέ καν
ταύτη γενόμενοι τη ένταλη αγνώμονες , γλυπτοίς προσεχηκότες άγάλμασι, καν μη μετανοήσωσι, κρίνονται
(Дал же им в почитание и Солнце, и Луну, и звезды, которые Бог сотворил язычникам, чтобы те не
в конец были безбожными (нечестивыми) и не погибли бы безвозвратно. Они же, хотя и была им
дана эта заповедь, оставались неразумными, прибегая к резным истуканам и не переменяя своих
мыслей, и осуждены суть) (греч.). — Строматы, VI, 14.
150
Вторая книга. Мифология
момент теогонического процесса, который данный народ должен собою выражать
и представлять в его замысле.
Длительность этой доисторической эпохи является поэтому всецело относительной. Ибо мое мнение состоит не в том, что все народы возникли одновременно,
но что они в размеренной последовательности выступали из вышеуказанного состояния, из чего следует, что иные еще долго удерживались в этой доисторической
эпохе и под влиянием ее закона, в то время как другие уже высвободились из-под его
действия и устремились к исторической жизни.
Под конец я еще отмечу: три потенции, о которых мы, перед тем как перейти
к астральной религии, сказали, что они теперь в качестве сукцессивных богов положены на место истинно-Единого, Все-Единого Бога (положены хоть еще и не для
сознания, однако же относительно сознания), — они суть как бы изначальные боги,
т.е. собственно причинные боги, которые в течение всего процесса выступают как
его причины; мы будем также называть их формальными богами. Лишь в результате
их действия возникают непричинные, материальные боги.
ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ
То состояние, которое мы описывали до сих пор, было не более чем преходящим. Это следует уже из того, что оно основывалось на борьбе, на стремлении, на
напряжении, а всякое напряжение в конечном итоге ослабевает, всякая борьба достигает своей цели, и всякой вещи, как бы она ни противилась и не возмущалась,
в конце концов приходится занять подобающее ей место. Поскольку, таким образом,
переход является естественным и необходимым, то нет необходимости в доказательстве для последующего момента, но речь может идти лишь о том, чтобы ясно и отчетливо различить способ перехода к последующему моменту.
Еще предшествующий момент был направлен на материализацию исключительного принципа относительно высшей потенции, с тем чтобы таким образом вообще
положить начало сукцессии, и дело было затруднено лишь тем, что исключительный
принцип противился этой материализации. Такое стремление удерживать в качестве духовного то, чему определено стать материальным, породило забизм . Следующий момент, таким образом, должен быть тем, в котором всецело исключительное,
отказываясь от своей исключительности, действительно становится материей по
отношению к высшему, т. е. становится преодолимым для него.
Вы можете помыслить для себя то понятие, о котором здесь идет речь и которое,
как вы понимаете сами и без моего напоминания, обладает всеобщей важностью — не
только для мифологии, — также и следующим образом. Этот принцип, сделавшийся
относительно определения (после того как он однажды был подчинен) позитивным,
не должен, как можно было бы подумать, непосредственно отойти в отношение не сущего — ибо тогда это был бы целиком и полностью процесс, возвращающийся к первоначальному состоянию, т. е. бессмысленный процесс, — он не должен возвращаться вспять, но должен остаться позитивным и, тем не менее, оставаясь позитивным,
пусть и не в себе самом, однако по отношению к высшей потенции, — стать потенциальным. (Стать преодолимым, стать материей, стать потенцией — все это совершенно
равнозначные понятия. Чистая материя, напр., есть, с одной стороны, больше чем
Забизм в сознании есть совершенное исчезновение В, которое теперь, дабы удержаться в существовании, должно материализоваться.
152
Вторая книга. Мифология
чистая потенция, и однако она, в свою очередь, предстает как только возможность,
как только росток всех тех материальных вещей, которые происходят из нее, т. е. тех,
которые она для себя не смогла бы произвести, если бы не вызывала в себе и из себя
высшей потенции.) Таким образом: сделавшийся позитивным принцип должен оставаться позитивным, однако — как такой в себе позитивный, — он все же должен стать
потенцией, стать потенциальным не в себе — ибо это было бы противоречием, —
но относительно, т.е. именно по отношению к той высшей потенции.
Здесь, таким образом, у нас возникает понятие только относительной потенциальности, или понятие actu-потенциалъной сущности, т.е. сущности, которая в себе
актуальна, однако вместе с тем вовне или по отношению к другому принципу является потенциальной, будучи одновременно сущей — не сущей. Понятие такой actuпотенциальной сущности, однако, и есть понятие материи — в той мере, в какой она
мыслится уже как реальная, пусть даже еще не телесная, материя. (Итак, В должно стать
материей высшей потенции: в таком общем смысле оно вполне могло бы стать ею, если
бы всецело возвратилось в абсолютную потенциальность. Однако в этом смысле оно
не возвращается в потенциальность; оно возвращается всего лишь в относительную
потенциальность, а это есть то же, что реальная материя*, которую, однако, все еще
следует отличать от телесной материи.) Мы можем сказать наоборот: разрешение того
кажущегося противоречия, что одно и то же должно быть одновременно актуальным
в себе и потенциальным относительно чего-либо иного, — снятие этого противоречия
мы можем наблюдать именно в таком понятии чистой, т. е. еще не телесной, материи.
Я постараюсь пояснить этот, безусловно, трудный переход еще и иным способом, или при помощи иного выражения.
Покуда принцип, ставший в сознании позитивным по отношению к первоначальному намерению и определению, пребывал в указанном состоянии подъема
и возвышения, он был слеп для высшей потенции. Однако постоянно оспариваемый
этой высшей, хотя и не познанной еще силой, не будучи в силах отстоять себя перед
ней, он, с другой стороны, — равно не может и не хочет возврата во внутреннюю потенциальность (ибо тогда это был бы процесс, всецело приводящий к первоначальному положению). В этом утеснении и вынужденности, — ибо он не может вновь
всецело вернуться в потенциальность и, с другой стороны, столь же мало может
всецело (т. е. исключительно) оставаться актуальным — в этом состоянии утеснения
и вынужденности он находит выход или лазейку (Ausflucht) (я пользуюсь этим выражением не произвольно, но как имеющим свое обоснование в самой мифологии); он
находит, говорю я, выход или лазейку в том, чтобы быть сущим в себе и одновременно также не быть им, по отношению к высшей потенции — мы можем сказать, что он
Или физическая, т. е. материальность.
Десятая лекция
153
становится чем-то третьим, ибо он не является не-сущим (он не есть только возможность) и, однако, также уже не является сущим в противоположность или в исключении относительно высшей потенции. Однако именно тем самым, что он перестает
быть исключительным бытием, и поскольку он, хоть и не возвращается во внутреннюю потенциальность, однако, по меньшей мере внешне, становится потенциальным,
он одновременно становится доступен для высшей потенции и приводится к восприятию, к познанию прежде исключенной относительно духовной потенции .
Так — относительно духовной потенцией — мы будем называть представшее нам
сейчас А2. Ибо по отношению к становящемуся теперь материей принципу — по отношению к В, поскольку он предоставляет себя в качестве материи — высшая потенция является относительно духовной. Он покинул центр, и поэтому в центре теперь
пребывает эта последняя (А2). Ибо поскольку ставшая по отношению к изначальному определению позитивной потенция = В отказывается от своей исключительности,
она не может вернуться в латентность субъекта, из которой она поднялась — в этом
случае все было бы так же, как и первоначально; мы имели бы регрессивный, а не прогрессирующй процесс, — однако она сама может отказаться от бытия-субъектом, стать
объектом, чтобы положить вместо себя то, что прежде было исключенным и потому
объектом — вместо себя положить в качестве субъекта его; она может сделаться периферической, предоставив центр прежде исключенному, т. е. периферическому; или —
ибо все эти различные выражения говорят собственно одно и то же — она может материализоваться, отказавшись от своей духовности (sich entgeistigen), дабы положить
прежде исключенное как самость, как относительно духовную потенцию. Правда, она
поступает так лишь потому, что не может иначе. Ибо высшая сила, которая присутствует здесь, всегда будет вновь и вновь увлекать В назад в потенциальность, по отношению же к внешней силе В будет оставаться реальным (исключительным, и потому
не материальным), и в конце концов они сойдутся на том, что В будет положено объективно, периферически, а А2 — субъективно**. Когда это происходит, превратившаяся
в не-субъект потенция выступает как полагающее относительно духовного Бога. Ибо
то, что потенции сукцессивно представляются сознанию как боги, мы уже показали.
Таким образом, прежде относительного Бога исключающее, отрицающее — становится
Покуда он все еще хочет удержаться в центре, он исключает высшую потенцию и недоступен для
нее. Поэтому, несмотря на то что он уже сейчас оспаривается ею, он все же не познает ее. Ибо именно
своим стремлением удерживаться в центре он закрывает себя для нее. Поэтому до этого момента
и не могло идти речи о том, чтобы он действительно был преодолен высшей потенцией, но лишь
о том, чтобы он сделался доступным (obnoxium) для нее, т. е. сделался для нее преодолимым, и теперь
мы подошли к этому моменту.
Ставший позитивным принцип (В), можно сказать, выработал свое центральное положение и должен теперь также и действительно (внешне) стать периферическим — каковым он по праву уже
является как покинувший свое внутреннее.
154
Вторая книга. Мифология
полагающим Бога, однако: 1) поскольку оно лишь внешне, а не внутренне становится
потенциальным по отношению к нему, оно также лишь внешне становится полагающим Бога; 2) поскольку оно становится полагающим Бога не в силу того, что оно становится актуальным, но как раз в силу того, что становится относительно потенциальным, материальным, оно не может представать как зачинающий (zeugende), но лишь
как рождающий (gebärende)1 принцип Бога. Последнее заложено уже в том, что мы
сказали: он материализуется, т. е. он делается материей будущего осуществления для
высшей потенции. Он делается материей, означает: он делается матерью высшего.
Mater и materia суть в основе своей одно и то же слово, равно совпадает и сама суть
в понятии. Лежащий в основе сознания принцип, который, однако, поднялся из своих
глубин и сам стал позитивным — мы будем, в качестве лежащего в основе, называть его
субстанциальным — субстанциальный принцип сознания = В материализуется, что
означает: материализуется сам Бог, которого сознание в забизме стремилось сохранить
как духовного (ибо В, как только оно перестало быть А — чистой потенцией, уже не
удерживается в сознании, оно становится силой, переступающей пределы сознания,
объективной по отношению к нему, Богом для него); этот Бог = В, таким образом, материализуется теперь для сознания*. В состоянии подъема, в напряжении, которое одновременно было исключением высшей потенции, Бог мог представляться сознанию
лишь в мужском образе; поэтому переход от высшего напряжения в отношении до сих
пор исключенного Бога — к самоподчинению его власти, этот переход, говорю я, первого Бога от высшего напряжения к ослаблению — переход, который, кроме всего прочего, должен мыслиться как внезапный, — этот переход едва ли может представляться
сознанию как-то иначе, кроме как в виде перехода от мужского к женскому, т. е. как
оженствяение первоначально мужского: не в силу искусственной, только произвольной,
поэтизирующей образности, как это порой объясняют, но в силу лежащей в самой природе вещей необходимости, т.е. в силу естественного и необходимого представления.
Я весьма хорошо понимаю, что некоторые, услышав такое, могут ощутить недомогание, однако не я являюсь автором этих выражений, но таковы выражения самой
мифологии, так смело и дерзко изъясняется она сама; моя задача состоит в лишь том,
чтобы показать вещи такими, как они есть, в нужном месте всякий раз вставляя также и собственное, природное слово — то, которое само с необходимостью внушило
себя мифологическому сознанию.
Этот переход к только относительной или внешней потенциальности был, таким образом, переходом от мужественности к женственности, от мужского божества к женскому. На место небесного владыки, того царя неба, который единственно
и исключительно почитался в первой религии, приходит теперь поэтому небесная
Единство при этом становится всего лишь основанием.
Десятая лекция
155
царица, Melaekaeth haschamaim — как она определенно названа в Ветхом Завете*, —
и этот переход к относительной или внешней потенциальности во всех мифологиях
древности обозначен вступающим на место небесного владыки женским Божеством,
которое под различными именами, такими как Милитта, Астарта или Урания, почиталось столь многими народами. Урания, согласно этому выведению, есть всего
лишь сам Уран в женском облике, ставший женственным Уран, т.е. реальный Бог,
отказавшийся от напряжения по отношению к высшему, относительно духовному
Богу, как мы уже назвали его ранее.
Греческая мифология, принадлежащая гораздо более позднему моменту, и можно даже сказать — последнему моменту мифологического развития, ничуть не меньше поэтому имеет внутри себя все прежние моменты: при этом они, что вполне понятно, содержатся в ней своеобразным способом. В ином повороте этой же темы
можно было бы представить себе такой переход как оскопление, лишение мужских
свойств ранее исключительно господствовавшего Бога. Так представлен процесс
в эллинской мифологии, где Уран подвергается оскоплению — почему в ней Урана
оскопляет его сын Кронос, наследующий его верховную власть, ясно не сразу, однако
становится очевидным впоследствии. В этом эллинское представление отличается
от азиатского, которое на место мужского Бога непосредственно помещает женское
Божество, Уранию; однако сущностная идентичность эллинского представления
с азиатским видна в том, что в греческой теогонии из пены отсеченных и брошенных в море причинных частей Урана возникает Афродита, которая по существу есть
всего лишь эллинское соответствие азиатской Небесной Царице и поэтому также
носит имя Урании, хотя это, конечно, не Урания Тидге2. Таким образом, здесь Афродита, или Урания, есть — по меньшей мере опосредованным образом — следствие
оскопления Урана; во всяком случае, оно ей предшествует. Как только сознание
склоняется к переходу, его отношение к исключенному богу начинает ощущаться
как напряжение. Внезапное ослабление этого напряжения может представиться
ему как становление мягким, податливым, женственным по отношению к Богу, как
θηλύνεσθαι τω τε3, — представление, которое столь глубоко укоренено в языческом
мышлении, что один из отцов Церкви, в своих произведениях преимущественно занятый рассмотрением язычества и его отношением к христианству, Климент Александрийский, нимало не опасается, намекая на высокую тайну христианства, сказать
следующие смелые слова: «Неизреченное Бога есть Отец, однако же родственное нам
в нем стало Матерью, в любви своей Отец принял женский облик» .
* Иерем.7,18; 44, 17-19 и 25.
Климент Александрийский. Τίς ό σωζόμενος; гл. 7: Έστι δέ και αυτός ό Θεός αγάπη, και δί άγάπην
ήμίν έθηλύνθη και το μέν άρρητον αύτοϋ πατήρ, το δέ εις ημάς συμπαθές γέγονε μήτηρ άγαπήσας ό πατήρ
έθηλύνθη και τούτου μέγα σημείον, ον αυτός έγένησεν έξ έαυτοϋ κ. τ. λ. о (Сам Бог есть любовь, и ради
156
Вторая книга. Мифология
Здесь неуместно исследовать, в каком именно смысле можно было бы понимать
данное высказывание отца Церкви; я привожу его лишь как доказательство того,
с какой независимой от всякого произвола образности необходимостью должны
были также и в философском сознании появиться эти выражения мужского и женского, и далее выражения оженствления мужского начала, а значит, доказательства
того, насколько естественной в своей основе является мифология.
Тем самым, мы указали для Урании определенное место. Для того чтобы теперь
указать его с еще большей точностью, чем это уже произошло до сих пор благодаря
природе самого предмета, а именно — также и исторически его оправдать, — мы
скажем, что это место Урании подтверждается главным образом тем, что Геродот,
который во всем, что он видел и слышал, заслуживает нашего самого высокого доверия, утверждает, будто такое почитание Урании идет именно от самых древних
исторических народов, т. е. от тех, которые первыми выделились из единства первоначального человечества, а именно: ассирийцев, арабов, персов. Отчетливее всего
его принадлежность этой первой эпохе выхода из забизма подтверждается тем, что
Геродот в отношении почитания Урании говорит о персах.
Я рассмотрю одно за другим все места Геродота, в которых говорится об Урании,
начиная, однако, с того, где она упоминается в связи с персами, ибо в этом последнем
ее место просматривается с наибольшей очевидностью.
Здесь он говорит: персы приносят жертвы на вершинах самых высоких гор — прежде всего, всеобщему небесному движению, обращению, как высшему Богу, Зевсу, затем также Солнцу, Луне, огню, воде и ветрам*. Здесь нужно принять во внимание сле4
дующее: 1) Геродот говорит, что они называют Зевсом τον κύκλον πάντα του ούρανοϋ .
5
Обычно переводят: весь небесный круг. Однако здесь κύκλος следует брать, скорее,
активно — как круговращение, как оборот, вместе с которым (как неотделимая) мыслится также и причина. Также и здесь первоначальное поклонение относилось к великому Единому, чья непреоборимая сила выражается прежде всего в живом небесном
круговращении. Именно в нем был для них Зевс, т. е. оно было для них высшим Божеством. Ибо замечание о том, что Геродот, вероятно, хотел выразить здесь персидское
6
имя верховного Божества, в персидском звучащее как Dew, через Δία , — не имеет под
собой совершенно никакого основания. Геродот и в других местах не колеблется назвать также и верховного Бога, напр., скифов, греческим именем Зевс. При осознании
любви стал женственным для нас; неизреченное Его (начало) — Отец, сострадающее же нам (начало)
стало женственным — матерью, возлюбившей Отца, и тому великое указание — то, что Он Сам произошел из Себя и т.д.) (греч.). (Кто спасен? Гл. 7)
Геродот, 1,131. Точно так же Страбон (кн. XV, 3,732) говорит о персах: θύουσι δέ έν ύψηλω τόπω (приносят жертвы на высоких местах) (греч.). — Также Ксенофонт έπι των άκρων (на высотах) (греч.) —
(= Г\щ) (bamot — вершины) (ивр.). — Ср.: Оссия 4,13.
Десятая лекция
157
внутренней идентичности между их божествами и божествами других религий у греков не наблюдается никаких сомнений и колебаний также и в том, чтобы называть
этих последних греческими именами, что в дальнейшем будет проиллюстрировано
на многочисленных примерах. Таким образом, из этого места следует лишь, что персы своего первого и верховного Бога видели и почитали именно в живом небесном
круговращении, и лишь затем, на втором месте, почитали как подчиненные природы
Солнце, Луну и далее также огонь, воду, ветры, т. е. воздух в его движении, или, одним
словом, природные стихии. Итак, здесь мы подошли к той связи, в которой повсюду почитание стихий состоит с поклонением звездам. А именно, я считаю последнее
первоначальным; то же, что к звездам вскоре или, по меньшей мере, после появления
Урании, т.е. после происшедшей материализации чистого забизма, присоединились
также и стихии, вполне понятно. Ибо и стихии (приведем сперва лишь это) имеют
со звездами то общее, что они столь же мало, как и последние, могут быть помещены
в определенный класс тел, а также — то, что они в известном смысле являются предметами сверхтелесными. Огонь: он более всего родствен той всепожирающей силе,
тому приусу природы, который собственно есть еще не природа, но противоположность природы, и поэтому Гераклит говорит: огонь живет смертью земли*. Далее, когда древние говорили: звезды суть чистый огонь, то это имеет всецело согласующийся
с нашим воззрением смысл. Однако также и в других стихиях, отличных от тех, в которые все переходит, и тех, из которых все произошло, можно усмотреть присутствие
той всепоглощающей сущности, которая первоначально была единственным предметом поклонения в звездах. Кто не распознает присущую воздуху, присущую воде,
силу поглощения? Воздух в особенности видится, как тот первый, ставший пассивным
принцип, — лишь относительно материальным, однако в себе самом все еще всецело духовным, что — наряду с распространением звука — могла бы доказать уже та
поглощающая или ассимилирующая сила, с которой он воспринимает в себя все, что
поднимается с поверхности земли, однако тут же преобразует его таким образом, что
от него в дальнейшем не остается никаких следов. Эту только относительную материальность воздуха доказывают в равной мере также и новейшие опыты по так называемой взаимной перспирабельности видов воздуха, из чего с очевидностью явствует, что
различные виды воздуха в одном пространстве не исключают друг друга, а значит, что
они по отношению друг к другу не являются телесными. Также и другая стихия, вода,
еще не относится к конкретной, телесной природе. Я напомню здесь лишь о полном
исчезновении воды в атмосфере и ее дальнейшем появлении теперь уже в виде дождя.
Земля, которую обычно называют как четвертую стихию, почиталась естественным
образом не как стихия, но непосредственно как планета, причем я кстати отмечу, что
Сравните место у Брандиса, Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie (Пособие по
истории греко-римской философии) (нем.) — ч. I, с. 160, прим. с.
158
Вторая книга. Мифология
звезды, напр., в Новом Завете, с тем же успехом принято называть стихиями, στοιχεία
του κόσμου7, как и отдельные стихии. Таковы факты, относящиеся к объяснению того,
что с почитанием звезд повсюду одновременно связано почитание стихий, которые
сами еще сохраняют в себе нечто небесное, в доказательство чего я лишь напомню
о том, что не только сама земля в целом является космичной, но также и вода в приливе и отливе морей выказывает свою космическую, а значит, звездную природу. Равным образом и воздух в своем регулярном движении, к которому принадлежат, напр.,
постоянные ветры, главным образом внутри тропиков; и даже в своих менее постоянных движениях воздух подвержен космическим влияниям, импульсам той всевластной силы, которой подчиняются также и небесные природы, и поэтому стихии следует
рассматривать всего лишь как ее земных представителей.
Бесспорно, таким образом, что покуда забизм удерживался в своей первоначальной духовности, также и в стихиях почиталось именно духовное. Стихии столь же мало
персонифицировались, как и звезды. Персы почитали землю, воды, огонь, ветры; ничто
из этого ими, однако, не персонифицировалось, но они считали их духовными сущностями или, по меньшей мере, проявлениями духовных сущностей, если говорить языком Ветхого Завета, — чем-то вроде ангелов; ибо в нем также и о Боге сказано: Он делает
своих ангелов ветрами и своих служителей языками огненными*, и, как гласит первый
стих второй главы книги Бытия: «Так были сотворены небо и земля со всем воинством
их», где слово «Zaba», от которого происходит «забизм», служит доказательством того,
что также и стихии земли причислялись ко всеобщим, космическим сущностям.
Таким образом, также и поклонение стихиям первоначально имело духовное значение; однако, как только первоначальный забизм в этом переходе выродился отчасти в поклонение материальным звездам, или опустился до такого поклонения, — также и почитание стихий естественным образом утратило свое первоначальное, духовное значение.
Вторым замечанием, повод к которому дает нам это место Геродота, будет следующее. Геродот весьма определенно распознает или видит в религии персов черты еще
немифологического. В той же связи, в которой он говорит, что они приносят жертвы
на вершинах гор преимущественно небесному круговращению, он отмечает, что им
ничего не известно ни о храмах, ни об алтарях, ни о статуях богов, ни равным образом
о человекоподобных богах; «Более того, — говорит он, — они карают тех, кто воздвигает подобные изображения, и именно, как я полагаю, потому, что они не представляют
себе богов человекоподобными существами». Действительно, те боги, которые почитались в забизме, были еще весьма далеки от человекоподобных богов и тех, которых
считалось позднее возможным представлять в изваяниях и изображениях. Забизм
еще не был идолатрией, и если не принимать во внимание прогрессирующего хода
Пс. 103, 4.
Десятая лекция
159
всего процесса, то нельзя не сказать, что забизм был более чистой религией, если под
этим понимать религию, в меньшей мере зависимую от чувств, чем позднейшие религии с человекоподобными божествами и их чувственными изображениями. Геродот,
таким образом, представляет нам персов как еще стоящих собственно по ту сторону
процесса, порождающего мифологию. Действительно, забизм для себя есть еще явление немифологическое и неисторическое, ибо ни одно его отдельное звено для себя
еще не образует никакого следствия, никакого продвижения; что, однако, не мешает
нам рассматривать его как то первое звено и тот первый элемент будущего продвижения, т. е. будущей мифологии, который в общих чертах нами заранее уже познан.
После того как Геродот засвидетельствовал почитание неба у персов, он упоминает Уранию как переход к мифологическому в словах, которые я хотел бы привести
незамедлительно. «Они приносят жертвы небесному круговороту как высшему Богу,
Солнцу, Луне и т.д.». Вслед за этим он добавляет следующие слова: «По меньшей мере
они поначалу приносили жертвы лишь им; в добавление к этому, однако, у ассирийцев и арабов они научились приносить жертвы также и Урании, которую первые называют Милиттой, вторые Астартой, сами же они — Митрой». Таким образом, эти
слова Геродота в полной мере подтверждают то место, которое мы отвели для Урании.
У Геродота почитание персами Урании непосредственно следует за почитанием неба,
звезд и стихий. Урания есть, следовательно, вообще первое божество, идущее вслед за
чистым забизмом; она представляет собой непосредственный переход к исторической
мифологии, т.е. к собственно мифологии. Когда первый исключительный принцип = В
стал преодолим для высшего, этим положено начало действительной сукцессии: вслед
за исключительным Богом может теперь идти другой, по сравнению с ним, т. е. относительно, духовный. Тем самым полагается сукцессивный политеизм. Урания, таким образом, есть поворотный момент от неисторической к исторической эпохе в мифологии.
В неменьшей степени подтверждающим для нашего объяснения Урании является также и имя Митра. То, что это имя означает не что иное, как «мать», т. е. мать κατ'
εξοχήν8, первая, высшая матерь, тем менее может быть подвержено сомнению, что во
всех языках семьи, к которой принадлежит персидский, это существительное с незначительными вариациями присутствует как неизменное, и в персидском mader
действительно означает «мать»**.
Έπιμεμαθήκησαν (впоследствии переняли) (греч.) — т.е. не просто praeterea addidicerunt (кроме того
навыкли) (другое знач. praetera — «затем») (лат.), что получило распространение из латинского перевода
и что снимает всякую историческую последовательность, которая как раз и представляет для нас важность, ибо благодаря ей проясняется все место и становится очевиден истинный смысл поклонения Урании. С этим следует сравнить: οί επιγενόμενοι τούτω σοφισταί (став умудренными в этом) (греч.) — (II, 49).
Еще Селден, de Diis Syris (О божествах Сирии) (лат.) — II, р. 255, ссылался на это, и то же самое выведение повторил Авраам Хинкельманн в Detectis fundament. Boehm.
160
Вторая книга. Мифология
Поскольку я здесь говорю об имени Митра, я тут же хочу заметить о другом
имени, Милитта, что оно ни в коем случае не происходит от m^iû (Molaedat9), что
означает «потомство». Это выведение ложно даже по своей форме, но скорее оно
происходит от глагола o^q (Malath10), что в пассивной форме означает «быть спасенным», «избежать опасности». Милитта есть поэтому effugium, salus11, выход, лазейка,
как мы однажды уже выразились ранее.
То, что позднее выступит как материя, есть тот самый принцип, который мы
первоначально должны мыслить себе в сумятице противоречия, которое разрешается лишь тем, что В отказывается от своего внутреннего положения в качестве
субъекта, где оно оказывает исключительное воздействие на высшую потенцию,
в обмен на что ему позволено теперь пребывать позитивным в качестве объекта^ несубъекта. Материя в ее последнем состоянии есть, таким образом, спасение (Entkommen) от распри и как таковая получает имя Милитта.
Милитта есть всего лишь иная форма имени, которое финикийские мореплаватели (финикийский язык также является семитским и, более того, представляет собой ближайший к еврейскому диалект) дали острову Мелита, ныне Мальта, так как
он служил пристанищем для переживших кораблекрушение; также и апостол Павел выходит на его берег, потерпев бедствие. Это та же самая мысль, которая в 89-м
псалме выражена так: «Господи! Ты нам прибежище из рода в род», — т. е., когда Бог
сделал материальным свой поглощающий принцип, он стал нашим прибежищем,
поскольку в этом принципе не могло бы остаться ничего конкретного и тварного, —
ты даешь нам пространство, место, где мы можем пребывать, так как принцип В
приходит к пребыванию и длительности, материализуясь.
Такая предварительная мысль о том, что материя есть избегнувшее [опасности],
спасенное, распространяется в греческом языке, как мы уже имели случай видеть
в предшествующей взаимосвязи, даже на выражения, характеризующие телесность.
Что касается Астарты, то она часто встречается в тексте Ветхого Завета под именем Astharoth. К сожалению, для самого этого имени трудно подыскать достоверную
этимологию. Ибо малодостоверной была бы ссылка на сирийский, где существительное Esthra означает «звезда», поскольку в сирийский язык вошло очень много слов
из греческого, и это существительное в сирийском, скорее всего, есть лишь заимствованное из греческого άστρον12.
Урания в мифологии есть, таким образом, первое низвержение прежде находившегося в состоянии подъема принципа, или, позволю себе такое выражение, первая
катабола. Она в мифологии есть тот самый момент, который мы в природе должны
мыслить как собственно начало природы, как переход к ней, когда из первоначально
духовного все постепенно начинает сгущаться в материю, которая лишь тогда становится доступной для высшей, демиургической потенции; это тот момент, когда закладывается основание мира, т. е. когда то, что сперва есть само сущее, восхищенное,
Десятая лекция
161
становится относительно не-сущим, кладется в основу: в основу собственно мира,
если под миром понимать совокупность многообразных, друг от друга отличных,
разнящихся между собой вещей, или, одним словом, — мир разделенного бытия.
Ибо ему предшествует лишь нераздельное бытие.
При этом, выводя заключение, которое опирается у нас на персидскую Митру
у Геродота, следует, однако, заметить, что именно эта упоминаемая Геродотом Митра
(Mitra) дает повод для сомнений из-за странности того факта, что, как полагают, один
лишь Геродот ведет речь о персидской Митре, о которой ничего не известно иным
писателям, в то время как он сам, напротив, ничего не знает о другом, мужском Божестве — Митре (Mithras), о котором идет речь не только у греческих и римских писателей всякий раз, когда они заговаривают о Персии, но чье существование и большое значение подтверждено священными писаниями персов (известными под именем
Зендавесты, книг Зенды), а также многочисленными памятниками. Для разрешения
этой загадки потребуется теперь отдельное исследование, которое будет касаться не
только Митры (Mithras) и его значения, но и, как следствие, всего приписываемого
Сердушту или Зороастру учения. Что касается женской Митры, то мы не можем предположить ошибку у Геродота. Безусловно, он видел посвященные ей храмы; однако,
очевидно, что он сам удивлен, встречая у персов это женское божество, которое выглядит настолько им чуждым, что он делает предположение о его заимствовании персами
у ассирийцев или арабов. Она кажется ему чем-то, лишь позднее пришедшим в религию персов: «έπιμεμαθήκησαν13»; что, как уже было отмечено, означает не «кроме того»
(praetera), но «в добавление к этому» — к тем богам, которым единственно они приносили жертвы изначально: следовательно, уже после этого они научились жертвовать
также и Митре (Mitra). Говорить здесь об ошибке тем более нельзя, что сам Геродот высказывает удивление. Он должен был видеть святилища Митры (Mitra). То, что он имел
возможность их наблюдать, может явствовать хотя бы из рассказа Плутарха в «Жизни
Фемистокла»*, из которого одновременно выясняется, что Геродот никоим образом не
единственный, кто сталкивался с персидской Митрой. А именно, сам Геродот во время
своего вынужденного досуга в Сарде (Sardes), куда ему пришлось спасаться бегством
из Афин, однажды имел возможность созерцать внутреннее убранство храмов и хранящиеся там дары; и среди прочего, не без известного душевного волнения, он обнаружил в Храме Матери, έν Μητρός ίερ14, медную фигуру девушки, несущей воду, двух
локтей в вышину, которую он сам некогда, исполняя в Афинах должность смотрителя
водопровода, велел изготовить на средства от штрафов, внесенных теми, кто тайком
брал воду из трубопровода и делал незаконные отводы: фигура стала частью добычи
Гл.31.
162
Вторая книга. Мифология
Ксеркса в одном из его греческих походов . Божество, которое здесь называется праматерью (die Mutter schlechthin) и изображение которого помещалось в сардском святилище, вполне могло быть тем самым, которое Геродот называет Митрой; ибо среди
прочих хоть сколько-нибудь известных персидских божеств нет ни одного женского,
которое можно было бы с такой уверенностью обозначить именем матери. Достоен
сожаления тот факт, что в прежде проводившихся исследованиях данное место было
обойдено вниманием. С предположением о том, что эта персидская Μήτηρ15 была
именно Митрой, согласуется также и то обстоятельство, что изображение девушки,
несущей воду (υδροφόρος Κόρη16), было поставлено в ее святилище. Ибо именно это
первое женское божество всегда мыслилось как родственное влажной стихии. Вода
казалась наиболее чистым выражением первой материализации прежде исключительного, всепоглощающего принципа. Вода есть всего лишь приглушенный, материализованный огонь, что по сути неопровержимо доказала новейшая химия. Поэтому первое
женское божество, этот первый пассивный принцип мифологии в других азиатских
мифологиях уже определенно выступает как божество воды, а именно — в сирийской
Деркето, имеющей образ получеловека, полурыбы; и даже в самой греческой мифологии Афродита возникает из моря и плывет, несомая морскими волнами, к берегам Кипра. Если, таким образом, Фемистокл видел в Сарде святилище Митры, то и Геродот,
который был в Персии немногим позже него, вполне мог видеть подобное.
После изложения упомянутых фактов, к которым в дальнейшем должны присовокупиться другие, будет теперь уже трудно утверждать, что это женское божество,
которое мы находим у всех иных непосредственно вышедших из забизма народов,
в персидском сознании совершенно отсутствовало. Если Митра и выглядит чуждой
позднейшей персидской системе, учению о двух принципах, учению Сердушта, которое следует назвать, скорее, антимифологическим, нежели мифологическим, или,
точнее, если она была вытеснена этим самым учением, то отсюда следует лишь, что
это учение имеет более позднее возникновение; и более того, возможно, что именно
такое разделение сознания на мужское и женское божества, последнее из которых
мыслилось как мать первого, стало непосредственным поводом к возникновению
так называемого дуализма, который связал между собой в абсолютном единстве оба
принципа: враждебный творению, исключающий его — и благоприятствующий ему,
и таким образом остановил мифологическое движение, безостановочно идти в русле которого выпало на долю других народов.
Замечу, что здесь речь идет о храмовых изображениях: о древних же богах известно, что они не
знали ни храмов, ни изображений.
ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
В завершение моего последнего доклада я указал на антимифологический элемент, присутствующий внутри мифологии. Совершая переход к рассмотрению неостановимого мифологического процесса, мы должны отметить, что уже в самом
начале имела место оппозиция против него, и противоположная мифологии система сохранялась в тишине с самого начала и вплоть до эпохи индусской мифологии,
каковая система, правда, также не смогла избежать гибельной участи наравне с самой мифологией. Хотя действительное выступление этого антимифологического направления приходится лишь на более позднюю эпоху, мы, тем не менее, уже
сейчас имеем повод к тому, чтобы заняться его рассмотрением: отчасти потому, что
оно имеет своим началом именно указанную точку развития (а значит, может быть
наипростейшим образом выведено), отчасти же еще и потому, что в результате мы
надеемся получить возможность дать удовлетворительное разрешение прежде уже
затронутому нами вопросу о Митре (Mithras) и его неупоминании Геродотом. Ибо
всегда будет оставаться странным, с одной стороны — то, что Геродот ничего не знает о Митре-мужчине, и, с другой стороны, напротив — то, что в позднейших памятниках след Митры-женщины почти полностью исчезает. В любом случае, поскольку
существование мужского Митры подтверждено столь многими памятниками, необходимо объяснить, в каком отношении он находится к Митре-женщине. Чтобы
добиться здесь ясности, давайте еще раз отчетливо представим себе, что известно
Геродоту о персидском богоучении. Итак, ему известны лишь те древние боги, которым поклонялись без храмов, алтарей и изображений и которые также и в позднейшей персидской истории, в противоположность более молодым богам, все еще
упоминаются как староотеческие боги, как θεοί πατρώοι1; к их числу относятся: тот
верховный бог неба, которого подчас также и греки называют персидским Зевсом,
Солнце и Луна, а также стихии. Кто не помнит жертвенной молитвы Кира (Kyros)
в «Киропедии» (Kyropädie): «Примите этот дар, Зевс-отец и Солнце, и все боги»*; не
Место гласит: Ευθύς ου ν λαβών ιέρεια εθυε Διΐ τε πατρφω και Ήλίω και τοις άλλοις θεοίς έπι των
άκρων, ως Πέρσαι θύουσιν, ώδε έπευχόμενος: Ζεϋ πατρώε και "Ηλιε και πάντες θεοίη (Тогда же, взяв
164
Вторая книга. Мифология
говоря уже о множестве подобных мест, из которых явствует также, что эти древние боги в Персии никем не были отменены и все еще пользовались почитанием;
отсюда следует заключить, что позднейшее религиозное развитие в Персии пошло
иным путем, нежели у других народов, напр., у греков, которые на поклонение Солнцу и Луне смотрели как на варварство*. Далее, кроме тех древних богов, почитание
коих Геродот в Персии застает не только как существующее, но и как повсеместно
господствующее, он познакомился еще и с женским божеством, которое сам обозначает как новопоявившееся. Это можно видеть по уже неоднократно упомянутому
έπιμεμαθήκησαν2: они научились в добавление к этому — а значит, в любом случае,
также и после этого — приносить жертвы Урании, — и даже в том, что он говорит, не
как я только что привел: «они научились», но: «они, однако, также научились приносить жертвы Урании, которую называют Митрой» — присутствует выражение чегото позднейшего, новоявленного и, по отношению к первому и древнейшему, чуждого; более того, женская Митра кажется Геродоту чем-то столь мало сообразным
всей персидской системе, что это дает ему повод предположить, будто персы позаимствовали его у ассирийцев и арабов. Почему же, теперь, ему ничего не известно
о мужском Митре? Можно, конечно, возразить, что Геродот ничего не знает также
и о Зороастре. Как известно, первое упоминание о Зороастре содержится в «Алкивиаде I» — диалоге, который признан псевдоплатоновским. Могло бы показаться
даже более понятным то, что Геродоту ничего не известно о мужском Митре, нежели
то, что он никогда и ничего не слышал о Зороастре. И в любом случае, коль скоро
почитанием пользовались мужской и женский образы Митры (безразлично, с каких времен и одновременно ли), остается без ответа вопрос о том, как именно тот
и другой между собой связаны? Ибо то, что они вовсе не имели друг к другу никакого отношения, выглядело бы уже совершенно неправдоподобно. Было бы вполне
естественно мыслить себе их отношение следующим образом. Митра (Mitra) есть
то первое женское божество, до которого опускается прежде исключительный Бог,
когда он отказывается от своей исключительности, своей центральности, т. е. становится периферическим, и теперь полагает в центре вместо себя самого относительно
духовного бога, наше А2. Таким образом, это первое женское божество предстает одновременно как полагающее, и именно — как материально полагающее, т. е. как мать
этого верховного бога. Сколь естественно, таким образом, думать, что Митра-женщина есть мать, Митра-мужчина — сын, и следовательно, он и есть этот относительно духовный бог! Именно так, среди прочих, и воспринял их отношение Крейцер .
жертвенных животных, принес их Зевсу, Солнцу и другим богам на высотах, как делают персы, взмолившись при этом: «О Зевс-отец, Солнце и прочие боги...») (греч.). — (кн. VIII, 7, § 3).
Эти места можно найти у Бриссония, de reg. Pers. princ, p. 347.
** T. I, с. 734.
Одиннадцатая лекция
165
Однако этому представлению противоречат атрибуты мужского Митры, который
еще даже и в книгах Зенды выглядит гораздо более как материальный, нежели как относительно, т. е. односторонне духовный бог. Хотя сказанное и нельзя понимать так,
будто бы этот более высокий бог был вообще противоположен материи, а значит,
и телесности, ибо он, напротив, является материализующим. Без него нет никакой
материи и равно никакого многообразия. Но именно потому, что он есть таковой,
сам он не является материальным. В книгах Зенды, однако, мужской Митра, напр.,
зовется ростком ростков, т. е., изначальной потенцией. То, что это описание никак не
подходит относительно духовному богу, который, скорее, являет собой противоположность всему потенциальному, т. е. чистый акт, достаточно очевидно. Позднее ему
посвящались гроты и естественные пещеры; в подобных помещениях совершались
и его таинства. Также и это характеризует, скорее, великого, всеобщего природного
Бога, нежели односторонне духовного. Далее, если бы Митра-женщина была матерью, а Митра-мужчина сыном, — то было бы непостижимо, каким образом мужской
Митра мог бы всецело вытеснить женского; в этом отношении оба не просто могли,
но и должны были существовать вместе. Если мужской Митра — сын, то он предполагает мать; если он был возвысившимся до духовного богом, богом высшей потенции (А2), то он предполагал возвышающее его, божество низшей потенции.
Однако как, по нашему воззрению, могло случиться, что Митра-женщина была
столь явным образом вытеснена Митрой-мужчиной? Это совершенно необходимый
вопрос, и лишь получив ответ на него, мы сможем достичь полной ясности во всем
данном отношении, а равно — в собственной природе персидской религии.
Чтобы ответить на этот вопрос, мне вновь необходимо напомнить вам о сказанном ранее. Тот первый, исключительный Бог, которого мы можем называть Ураном,
естественным образом не хочет позволить вытеснить себя из сознания, из центра,
он противится сукцессии; он есть по природе своей неисторический Бог, Бог, не желающий никакого существования во времени; историческим он становится лишь
тогда, когда полагается как прошлое. Далее, этот поначалу исключительный Бог, после того как он теперь уступил свое место и стал периферическим, — тем самым,
всего лишь сделался преодолимым для высшего, однако же отнюдь еще не преодолен. Он всего лишь стал по отношению к высшему Богу внешне, т.е. относительно,
потенциальным; в себе же, т.е. внутренне, он все еще есть то, чем был и прежде, т.е.,
он есть позитивное или чистое В. Однако поскольку этим его положением дана по
меньшей мере возможность преодоления, то здесь начинается действительное преодоление, собственно борьба. Из этой борьбы между теперь всего лишь положенным
как преодолимый для высшего Бога и высшим, относительно духовным Богом, который преодолевает материального, — из этой борьбы разовьются, как мы сможем
увидеть далее, позднейшие моменты мифологии, разовьется, напр., система богов
финикийцев, карфагенян, египтян, индусов и даже самих эллинов. Так вот, именно
166
Вторая книга. Мифология
все эти позднейшие моменты полностью отсутствуют в персидской религии. Еще во
времена Геродота персы почитают небо, Солнце, Луну и стихии, не имея ни храмов,
ни изображений, — так, как им не поклоняются ни финикийцы, ни египтяне, ни
индусы, ни греки. При всех жертвоприношениях и иных священных обрядах все еще
сперва призываются староотеческие, т. е. древние боги. Очевидно, таким образом,
что персы избежали всего позднейшего мифологического процесса. И, тем не менее,
мы наблюдаем у них переход к последнему в женской Митре. Как можно объяснить
эту остановку на пути мифологического процесса? Эта остановка есть факт, и лишь
с его помощью мы поймем, почему именно Геродот говорит о женской Митре так,
а не иначе. Митра была единственным существом у персов, которое он мог сравнить
с подобными у других азиатских народов; она могла напоминать ему Милитту вавилонян, Алитту арабов и т. д. И тем не менее, Геродот не наблюдает у персов того
действия, которое названная богиня имела у этих других народов. По этой причине,
поскольку в случае с персами она не возымела своего обычного действия, он делает
тот вывод, что они лишь заимствовали ее у ассирийцев или арабов — научились, по
его словам, поклоняться ей. Однако это предположение неосновательно. Я убежден,
что персы столь же изначально пришли к своей Митре, как ассирийцы к Милитте и, в большей или меньшей степени, — все народы к тому же самому божеству.
Ибо ее понятие не есть случайное понятие, но естественное порождение необходимого перехода. Однако Геродот поучителен даже там, где он выдвигает ошибочное
предположение.
Как же, теперь, нам следует объяснить то, что Митра не возымела своего действия
в среде персов? Если бы мифологические божества были свободными, произвольными изобретениями, то этого, безусловно, невозможно было бы себе объяснить; никак невозможно было бы понять, по какой причине фантазия на пути завершенного
мифологического учения внезапно остановила свой ход. Однако мифологические
представления о богах, как я уже в достаточной мере показал, суть непроизвольные представления положенного вне себя сознания; так что равным образом и для
персидского сознания это женское божество было всего лишь непроизвольным внушением; однако, в то время как другие народы поддались мифологическому очарованию, — отнюдь не невозможно и представляется даже вполне естественным (ибо
ведь в любом историческом развитии, как правило, представлены все возможности),
что в среде одного народа сознание остановилось именно в этой точке, воспротивившись дальнейшему ходу последовательности, едва осознав его. В самом Израиле
мы видим народ подверженным тем же естественным наитиям и приступам мифологического политеизма, какие мы наблюдаем у других, так называемых языческих,
народов. Если бы Геродот посетил Иерусалим в эпоху царей-идолопоклонников,
он, вероятно, узнал бы лишь о звездных божествах Астарты, и ничего — об Иегове.
Эта народная склонность постоянно — хотя и по большей части безрезультатно —
Одиннадцатая лекция
167
атакуется священниками и пророками. Напротив, в Персии, похоже, мощному священническому сословию удается затормозить и остановить тот процесс, который
в иных народах продолжался неудержимо, а в Индии даже вплоть до крайнего смешения. Также и в персидской религии сознание совершило тот переход, который
мы находим в мифологиях всех народов и который знаменуется образом Урании.
Однако именно здесь, где теперь сознание других народов как бы сделалось двойственным, разделившись на сознание реального Бога с одной стороны и противостоящего ему духовного — с другой, персидское сознание воспротивилось этому
расколу; оно даже и теперь крепко держалось единства, т. е. ставший материальным
Бог, к которому был совершен переход в Митре, и относительно духовный Бог, по отношению к которому первый материализовался — т. е. материализирующийся и материализующий — были для него Одним Богом, который теперь с необходимостью
был абсолютным Богом, Богом Всеединства (Allgott): это не был Бог, который имеет
подле себя другого (А2) — и этот Бог был мужской Митра. На место относительного
монотеизма предыдущего момента, который как раз и был объяснен как относительный в результате кризиса сознания, ознаменованного Уранией (ибо ранее он, конечно же, был для сознания абсолютным), на место только лишь относительно Единого
Бога, который был лишь относительно Единым, поскольку ему противостоял другой, духовный (по меньшей мере потенциально относительный) — пришел Всеединый Бог (Allgott), который нес двойственность в себе, но именно поэтому был не относительно, но абсолютно Единым. Этот (материальный) Всеединый был мужской
Митра, который, таким образом, представляет собой материализирующее и материализованное в Одном. Решительно воспротивившись политеизму, персидское сознание, конечно, не могло уже более вернуться к доматериальному, духовному Богу:
Бог оставался для него материальным, однако не по отношению к другому, высшему,
но — таким образом, что именно как этот материальный он сам стал высшим и абсолютным; и он уже выступал не как ставший материальным по отношению к другому,
высшему, но как материализовавшийся по своей собственной воле, как тот, который
добровольно, из этой недоступной духовности, из духовности, непостижимой никакому творению, сделался внешним для самого себя, став природой. То, что мужской
Митра был этим Богом, — не отдельным, но высшим, абсолютным, — явствует уже
из глоссы Гесихия (Hesychios), где он назван о πρώτος έν Πέρσαις θεός3. Этот Всеединый Бог, однако, вряд ли мог явиться сознанию иначе, чем как Бог, который материализовался, т.е. сделался периферическим, стал природой, — из любви к творению.
В этом смысле следует понимать речь персидского хилиарха4, который говорит Фемистоклу: «В том состоит ваш самый прекрасный закон, что вы чтите царя как образ
всеспасающего и освобождающего Бога». Здесь, таким образом, Бог, образ которого есть царь, рассматривается как всеспасающий. Но любое спасение предполагает
опасность, теснину, angustias. Этой тесниной как раз и было изначально центральное
168
Вторая книга. Мифология
бытие, которое не оставляло никакого пространства для тварного существа. Как соответствующее женское божество (после того, что я с самого начала напомнил вам
и впоследствии покажу с еще большей определенностью), как оно рассматривалось
в качестве первого спасения, первого расширения пространства, первой победы
над центром, — точно так же мужской Митра был Богом, который, материализуясь,
положил начало природе как таковой и дал тварному существу пространство, всеспасающим Богом, т. е. Богом, который как бы вызволил тварное существо из огня,
из центра первоначального единства, поместив его в широком пространстве материального, природного бытия. Именно поэтому мужской Митра именовался также
Отцом Митрой — что не могло быть сказано ни об одном отдельном боге, — Творцом всего, Господом становления (γενέσεως δεσπότης5*), от которого зависело: быть
или не быть какому бы то ни было становлению**. Но эта материализация Бога не
была чем-то состоявшимся раз и навсегда, но была постоянно, непрерывно свершающейся. Ибо если бы Бог раз и навсегда отказался от своей имматериальности,
он был бы чем-то мертво-материальным, раз и навсегда ставшим, ни на что более не способным. Однако таким он не представлялся персидскому сознанию. Такой мертвый пантеизм, такая мертвая субстанция, которой вещи присущи не более
чем как только воспалительные образования (Affectionen), в которых она сама не
принимает никакого активного участия и к коим относится лишь пассивно, — все
это было оставлено на долю позднейшей эпохи философской абстракции. Для сознания персов Бог, напротив, оставался всегда живой, вечно подвижной серединой
между расширением (Expansion) и сокращением (Contraction), он всегда был столь
же благорасположенным к тварному существу, сколь и отличным от него, так что
его расширение (Weit-Werden) — т. е. сотворение пространства для тварного существа — всегда представлялось абсолютно свободным, исполненным любви и именно
поэтому достойным хвалы, благодарности и ликования сотворенных существ.
Эта середина между сокращением и расширением, из которых первое представлялось враждебным по отношению к тварным существам, второе же — для них благоприятным, — это серединное состояние мужского Митры может быть усмотрено
также из празднеств, учрежденных и справляемых в честь Митры, и их различия
между собой. Ибо естественно, что лишь любовное качество и отношение Митры
к сотворенным существам чествовалось и праздновалось с искренней радостью
и ликованием***. Так, в древней Персии через несколько дней после зимнего солнцеворота, когда солнце вновь начинает подниматься, и день прибавляется, — справлялся
великий праздник Митры под названием Мираган (Mihragan). Ибо именно Митра
У Порфирия (Пещера нимф, 22).
«Mithras omnipotens» во множестве надписей у Грутера, р. 33,10; 34,1.
*** Гайде. Historia Vet. Persarum, p. 245.
Одиннадцатая лекция
169
возвращал людям Солнце. Он был, по выражению книг Зенды, дан земле посредником,
с тем чтобы распространить ее в царстве Ормузда, т. е. в царстве света. Эти празднества, относившиеся к экспансии Митры в природу, представляли собой открытые,
общенародные торжества. Бесспорно, что именно этот справляемый после зимнего
солнцеворота праздник и был тем Днем Митры, о котором говорится в приведенном
Крейцером отрывке историографа Дуриса (Duris); ибо этот День Митры описывается как праздник безудержного веселья, т. е. как праздник именно экспансии, благоденствия. Как сама вавилонская Милитта была выпущена на свободу, очутилась
на воле — бегство из первого, изначального, единства, — точно так же вся вновь
оживающая природа представлялась персидскому сознанию как момент выхода на
свободу из центрального бытия, как экспансия Митры. В этот день вседозволенности даже царю не возбранялось пить допьяна, а также танцевать народный танец*.
Одним словом, это было широкое, всеобщее народное празднество. Напротив, определенно отмечается, что мистерии Митры праздновались весной — точнее, в день весеннего равноденствия: в то время, когда сокращение и экспансия, день и ночь, тьма
и свет предстают в равном расположении. (N. В. Этот праздник проходил в Риме, а не
в Персии; таким образом, если римские мистерии Митры и были ложными, то это
еще ничего не доказывает.) Отсюда с определенностью явствует, что эта высшая идея
Митры как посредника, стоящего посредине между позитивным и негативным, распространением и сокращением, — принадлежала тайному учению, мистериям. (Вообще, именно в мистериях существует собственно культ. Сила, противоположная
тварным существам, являлась собственным предметом культа. Она была id quod colendum erat6, тем, что необходимо было умилостивить.) Позитивная сторона была
всеобщей, всем понятной и доступной; негативная же сторона мужского Митры, поскольку он пребывает между позитивным и негативным, принадлежала лишь высшему знанию, в которое кроме царя и правящего рода Пасаргадов (Pasargaden) не был
посвящен никто, из чего становится совершенно ясно, что Геродот и не мог знать ничего о мужском Митре, тогда как позднейшие, после македонских завоеваний более
укоренившиеся в Персии греки говорят лишь о нем как о главном божестве персов,
и теперь уже образ женской Митры блекнет для них, ибо он представлял собой лишь
переход, служил лишь в качестве перехода и на фоне высшей идеи мужского Митры
естественным образом должен был все более и более утрачивать свое значение.
Поскольку я затронул здесь отношение празднеств Митры к различным точкам
солнечной орбиты, то не могу также не сказать несколько слов об отношении Митры
к самому Солнцу. Безусловно, именно эти празднества Митры дали повод к тому,
чтобы смешивать самого Митру с Солнцем, что происходило сплошь и рядом,
Крейцер, т. I, с. 732.
170
Вторая книга. Мифология
и даже с самими греками, напр., со Страбоном, и в чем многие преуспели настолько,
что посчитали себя далее вправе объяснять женскую Митру как Луну и выдавать это
за мнение Геродота, мнение, которое в той взаимосвязи, в которой он говорит о женской Митре, не имело бы ровным счетом никакого смысла. У него, как мы знаем, это
представление о женской Митре следует за более древним культом звезд и стихий,
и он с очевидностью упоминает женскую Митру в известном противопоставлении
с этими более ранними божествами; какой же смысл имело бы теперь данное место, если бы, по его мнению. Митра-женщина была лишь, в свою очередь, Луной,
а Митра-мужчина, которого он всего только упустил отчетливо упомянуть, был бы
Солнцем? В наибольшей степени эту идентичность мужского Митры с Солнцем развил небезызвестный Дупиус (Dupius), который в своей «Origine de tous les Cultes»7
вообще все возводит к культу Солнца и идет настолько далеко, чтобы утверждать,
что, — поскольку в то же самое время, когда в Персии праздновался День Митры, во
время зимнего солнцестояния, в Риме справлялся Natalis solis invicti8, и поскольку
христианская Церковь сочла за благо поместить празднование дня рождения Искупителя на это же самое время, — то сам Христос и есть этот sol invictus, есть одно
с Митрой, и христианство есть всего лишь ветвь, всего лишь отдельная секта таинства Митры. Весеннее солнце, конечно же, было лишь знаком нового появления
Митры, а именно — Митры, взятого со стороны экспансии; Солнце было как бы
постоянным спутником Митры, ибо благодаря ему после зимнего оцепенения и сумрака земля вновь сбрасывала оковы; отсюда многочисленные надписи: Deo invicto
mithrae et socio (иногда также comiti) soli sacrum9*. Митра был непобедимым Богом,
ибо из любого помрачения — сокращения — он вновь победоносно являлся в новой экспансии. Солнце же всегда является лишь в его сопровождении или в качестве
свиты. Не Он приходит вместе с Солнцем, но оно приходит вместе с ним, когда он
вновь принимается за дело распространения мира. (Почему Солнце вновь восходит?
Это нуждалось в разъяснении.) В некоторых надписях, правда, стоит также Deus Sol
invictus Mithras10, так что само Солнце как будто зовется Митра, а Митра — sol. Однако, с одной стороны, это может быть истолковано как не более чем фигура речи,
с другой же — из этого следует всего лишь, что в те времена, к которым относятся
все эти надписи (поскольку ведь они происходят не из самой Персии), что в позднейшие времена Митра, конечно же, мог быть отчасти смешиваем с самим Солнцем,
что в подобных обстоятельствах могло произойти также просто, как и в наши дни.
Ибо то, что подобное смешение не носило характера всеобщего, явствует из многочисленных других надписей, где Солнце отчетливо отделяется от Митры как только
его cornes. Важно было, кроме того, еще выяснить, какие из тех и других надписей
Эту надпись: D. I. М. ET. SOCIO. SOLI. SAC, — можно найти в Muratoris Anecdotis, т. I, p. 128.
Одиннадцатая лекция
171
являются более древними. Во множестве надписей в честь Митры оно даже и вовсе
не упоминается.
В том, что в книгах Зенды Митра не является Солнцем, согласны между собой
все наиболее значительные авторитеты. Анкветиль (первый издатель книг Зенды),
Клейкер (автор немецкого переложения Зендавесты) и даже Ейххорн (Eichhorn) признают это; вместо их всех, однако, мне достаточно назвать одного лишь Сильвестра
де Саси: человека, который — как благодаря своему характеру, так в равной мере
и благодаря своим познаниям — заслуживает права считаться оракулом во всем, что
касается Востока.
Я возвращаюсь теперь к идее Митры как посредника, для которой имею еще
одно немаловажное подтверждение.
Для Геродота, безусловно, персидский Митра должен был быть недоступен уже
хотя бы по своему значению; ибо мифологический грек — а Геродот в особенности
выказывает себя как человек, еще всецело погруженный в мифологические представления, — мифологический грек не мог обладать чутьем и пониманием в немифологической религии, которую совершенно невозможно было сравнить ни с чем из того,
что было ему известно. Если, таким образом, уже поэтому он был далек от понимания идеи персидского Митры, если, кроме того, та тайна, в которой сохранялась подлинная идея Митры — с одной стороны, и продолжающееся, всеобщее почитание
древних, староотеческих богов неба, небесных светил и стихий — с другой стороны,
не позволили ему узнать о Митре (а вы очень легко можете понять, как этот сам собою материализовавшийся Бог, этот природный Бог — ибо то и другое суть одно
и то же понятие, — как этот всеобщий природный Бог Митра мог не исключать древнейшего почитания звезд и стихий), если, таким образом, теперь вообще становится
вполне понятным тот факт, что Геродоту ничего не известно о мужском Митре, — то,
напротив, столь же понятно будет и то, что позднейшие греки, которые уже внутренне в большой мере отвратились от своего политеизма и обратились к восточным
идеям, сделавшись более восприимчивыми в особенности к восточному пантеизму
(который, однако, в известной мере мог представляться монотеизмом), — что эти
позднейшие, жившие уже после македонских завоеваний, греки не просто вообще
преимущественно знают персидского Митру, но также и верно понимают его идею;
и в этом отношении я считаю вызвавшее столь широкие обсуждения место Плутарха, где он говорит, что персы называют Митру посредником — высказыванием,
основанным на действительном знании, которое в той же мере подтверждается тем,
что я уже привел в пользу этого значения Митры, в какой само, в свою очередь, является подтверждением нашего воззрения*. И здесь, после того как столь уважаемый
См.: Плутарх. ОбИсиде и Осирисе, 46. Место звучит так: Ούτος (Ζωρόαστρις) έκάλει τον μεν Ώρμάζην
τον δ' Άρειμάνιον και προςαπεφαίνετο ö ö ö μέσον άμφοίν τον Μίθρην εΐναΓ διό και Μίθρην Πέρσαι τον
172
Вторая книга. Мифология
авторитет подтвердил наше объяснение Митры, я хочу высказать несколько слов
также и по поводу самого имени.
В мужском Митре (в самим собой материализовавшемся) присутствовал, таким
образом, момент материализации, а следовательно, была положена также и женская
Митра; ибо женская Митра есть момент материализации. Женская Митра, однако,
была положена лишь как исчезающая, и таким образом понятно, как могло случиться, что позднее, несмотря на то что святилища женской Митры внешне еще сохранялись, все же в подлинном религиозном представлении она выглядит словно бы
поглощенной мужским Митрой. Я объяснил теперь имя Mitra как равнозначное
с μήτηρ11. Хотя мужской Митра равным образом мог бы означать материализованного Бога, все же это объяснение выглядит как неуместное, поскольку мне желательно все-таки знать в точности, как имя мужского Митры писалось в персидском;
и вот тут оказалось бы, что оно не имело ничего общего с персидским mader. Тогда
пришлось бы предположить, что Mitra и Mithras, несмотря на случайное сходство
звучания, были двумя различными именами. В пользу такого предположения можно
было бы привести тот факт, что Геродот имя Mitra пишет с τ, тогда как Mithras (-es)
пишется с Θ. Против этого можно заметить, что Геродот, если он и не упоминает
самого Mithras, то по меньшей мере называет имена, которые ведут происхождение
от Mithras, а именно: Mitradatas (= обычному Mithridatas) и Mitrabatas, которые он
также пишет с обычным τ. Из этого, следовательно, никак нельзя было бы заключить
о различии этих имен. Однако в тем большей степени такое заключение можно было
бы сделать, если принять во внимание, что персидское имя для Mithras звучало бы
Meher, как это повсюду утверждается. Но, похоже, это заключение делают не оттого,
что подобное написание имени Mithras действительно где-либо встречалось, а — отчасти из названия ранее упомянутых солнечных празднеств, одно из которых носит имя Mihragan; однако же Mihr действительно означает в персидском «солнце»*,
а значит, Mihragan вполне может быть всего лишь праздником самого Солнца и не
обязательно должен означать праздник Митры, хотя и считался таковым; отчасти же
потому, что Митра идентифицировался с Солнцем, а о ложности подобной идентификации я уже говорил ранее. Далее, если персидское имя Митры есть Mihr, то откуда
тогда и в имени Mithras? Гейде пытается объяснить это тем, что греки не могут в середине слова выразить простой аспирации, и поэтому π они обозначили при помощи
аспираты, Θ. Однако как объяснить тогда, если в персидском слове не встречалось п,
Μεσίτην όνομάζουσιν. о (Который (Зороастр) называет одно божество Горомадзом, другое — Ариманием и указывает, что <.. .> середину же между обоими занимает Митра) (греч.).
Гайде (Hyde), р. 105 говорит: At in religionis negotio Sol praecipue apellatur Mihr> qua voce primario significatur Amor (Однако в религиозном культе Sol по преимуществу называется Mihry одним из первых
звуков которого обозначается Amor) (лат.).
Одиннадцатая лекция
173
что имя Mithridates по-еврейски пишется гппгга (Мигеаа^дважды в книге Ездры*);
ведь евреи имели способ выразить в середине слова простую аспирацию. Из того,
что у Тацита один из сыновей Фраорта носит имя Meherdates, еще отнюдь ничего не
следует; ибо это имя означает как раз «данный Солнцем», точно так же как Mithridates означает «данный Митрой».
Таким образом, по меньшей мере предварительно и покуда я не получил более
убедительных сведений, я остаюсь при моем объяснении Митры (Mitra), согласно
которому это слово имеет отношение к mater, materia, и предполагаю нечто подобное в Mithras, который по своему понятию действительно есть summus materiator
(materiator sui ipsus12), если только мы не хотим предположить, что в имени Mithras
было выражено именно качество посредника. Плутарх, однако, говорит об этом посредническом значении, главным образом, по отношению к противоположности
Ормузда, Оромаза (Oromases), т. е. желающего света и добра Бога, — и Аримана (Ahriman), который мыслился как Бог, враждебный добру и свету. «Зороастр, — говорит
Плутарх, — назвал одного Бога Оромазом, другого же Ариманием (Arimanios), посредине же между тем и другим стоит Митра (Mithras), и поэтому персы называют
его посредником»**. Го, что персы называют его посредником, есть факт, который
Плутарх приводит и который он пытается объяснить, относя это положение посредничества к Ормузду и Ариману.
Сказанное дает мне естественный повод к тому, чтобы также высказаться об отношении Митры к дуализму Зороастра или учения Зенды, каковой дуализм с давних
пор рассматривается как величайшая проблема в истории религии и человеческого
духа вообще.
Митра (Mithras) есть природный Бог, однако существуюий лишь в постоянном
подобии растворенного состояния, т.е. так, что он непрестанно пребывает посредине между сокращением и экспансией, а это значит, что сокращение также всегда пребывает. Сокращение = возврат в первоначальное, исключающее всякое разнообразие, а следовательно, также и тварное существо, единство; экспансия же, напротив,
есть сама воля, наоборот, полагающая разнообразие и, тем самым, также и тварное
существо. Тот Бог, теперь, который хочет блага тварным существам, предстает сознанию вообще как благой и прекрасный, противоположный же ему представляется как
злой и отвратительный. Митра, таким образом, есть по своей первоначальной идее,
безусловно, середина, посредник между добрым и злым принципами, и отсюда понятно, каким образом Митра есть также посредник между Ормуздом и Ариманом.
Как позитивный он есть Ормузд, как негативный он есть Ариман.
1,8; 4, 7.
См.: Плутарх. Об Исиде и Осирисеу 46.
174
Вторая книга. Мифология
Против этого можно возразить лишь то, что в системе Зороастра Ормузд и Ариман, как обычно принято полагать, мыслились как две целиком и полностью раздельные потенции, между которыми не существует никакого единства. Далее, хотя
и можно помыслить себе, как такое совершенно раздирающее сознание и приводящее к полному отчаянию мнение о двух абсолютно враждебных друг другу и противоположных принципах могло возникнуть в голове отдельного человека, — однако
уже гораздо труднее представить себе, каким образом это мнение могло утвердиться в его голове и существовать продолжительно, и уже совершенно невероятным
выглядит тот факт, что подобный раздирающий дуализм смог утвердиться в среде
такого народа, как персы. Далее, если Ормузд и Ариман представляют собой две независимые и приблизительно равные силы, то кто мог бы знать, как окончится их
битва и во что она выльется, если бы никакая высшая сила не способствовала триумфу Ормузда, снабдив его оружием*? Или, скорее, как вообще возможна их битва,
если они никоим образом не представляют собой Одного, если они абсолютно раздельны, если они ничем не вынуждены быть uno eodemque loco13?
С давних пор предпринимались попытки все же обнаружить в этом персидском
дуализме некое единство; мне, однако же, думается, что они начинались не с должной стороны. Нам привели довод, что согласно системе Зороастра благой принцип
все же в известной мере является сильнейшим — на основании предположения, что
данная система учит о конечной победе добра над злом, конечном полном поражении или абсолютном угасании злого принципа. Из этого следовало бы, что персидская система не есть такой дуализм, при котором оба принципа мыслятся как всецело равносильные. Однако первоначальный дуализм, тем самым, не был бы снят, если
не предположить при этом предшествующего отпадения злого принципа от благого,
а значит, — изначальной благости злого принципа. Однако именно этого, сколь бы
естественно близким оно ни казалось нашему мышлению, никоим образом невозможно вычитать в источниках учения Зенды. Все свидетельствует в пользу того, что
благой и злой принципы мыслятся как два равно изначальных. Наша радость, поэтому, была велика, когда в Бундехеше (Bundehesch) — хотя сама она и не является
книгой Зенды, а, скорее, комментарием к учению Зенды и написана лишь в седьмом
столетии христианского летоисчисления — в том месте, где она упоминает династию
сассанидов (Sassaniden), было обнаружено высказывание, которое, по-видимому,
Согласно Зендавесте, длительность существования мира измеряется двенадцатью миллионами
лет и делится на четыре периода: 1) Ариман, хотя и существует, однако погружен в первоначальный
мрак, и Ормузд, таким образом, лишен противника (следовательно, действие Аримана есть все же
новый подъем); 2) преимущество на стороне Ормузда; 3) переменный успех в сражении; 4) преимущество Аримана, который близок к тому, чтобы изгнать из мира Ормузда и всех небесных духов. Тем
не менее, в конце эпохи абсолютная победа Ормузда.
Одиннадцатая лекция
175
указывало на изначальное единство обоих принципов, в каковом единстве, по всей
видимости, еще ранние антидуалистические секты в Персии, преимущественно
же новейшие ученые, такие как Клейкер (Kleiker), Крейцер (Creuzer) и др., хотели
видеть высшего, возвышающегося равно над Ормуздом и Ариманом, Бога. Место
гласит: «Ормузда и Аримана, обоих породила Зеруана Акерена (Zeruane Akherene),
время, не имеющее границ»*. Очевидно, однако, что само это место способно иметь
для себя более, нежели только один смысл. Некоторые истолковывали его так, что
Ариман есть лишь с течением времени возникшее, т. е. отпадшее от первоначального
блага, зло. Однако, для чего два — равно благих принципа? Разве что пришлось бы
объяснить Аримана как творение Ормузда. Этому, однако настолько противоречит
все содержание книг Зенды, что даже рассматривающий все сквозь призму христианских идей, но любящий истину Клейкер не решается утверждать ничего подобного и также признает два эти принципа как равно изначальные. Я считаю, таким
образом, что данное место имеет также еще и более спекулятивный смысл, а именно
следующий: до времени, т.е. прежде чем началось время вообще, когда Бог еще не
достиг повсеместной выраженности, еще не распространился в природе, в творении, — равным образом и сокращение, сила, противоположная и как бы враждебная
творению, не имела возможности выразить себя как таковая. Противоположность,
таким образом, возникла не с течением времени, но вместе со временем — лишь
вместе с самим временем экспансия и сокращение были положены как таковые. Если
признать за указанным местом такой смысл, то само собой выясняется, что именно должно мыслиться как предшествующее этой противоположности: отнюдь не
единство того и другого, но Один единственный принцип. Ибо Бог, мыслящийся до
противоположности, есть как раз именно тот Бог, который еще не распространил
себя. В той мере, в какой он еще не распространил себя, он есть отрицание экспансии,
Еще Шаристани (Sharistani) (писал в двенадцатом столетии до Р.Х. ), впрочем, упоминает одну, по
всей видимости, антидуалистическую секту, которую он называет зерванитами (Zervaniten) и которая, вполне возможно, уже использует это место Бундехеша (см. Гайде, р. 298). Но разве могут позднейшие секты, которые уже давно успели познакомиться с греческими и иными философскими идеями, служить доказательством изначального смысла? В самих книгах Зенды, правда, также однажды
упоминается Зеруана Акерена (Зендавеста Клейкера; см.: Kleuker, т. 2, с. 33). Здесь, однако, Зороастр
говорит Ариману (а не Ормузду): безграничное время создало тебя. Anquetil (Mém. De LAcad., 39,
p. 768) говорит: En quel endroit des livres Zend il est dit, qu' Ormuzd et Ahriman soient sortis de Dieu par
la voie de la création? — J'ai prouvé, qu' Ormuzd dans les livres Zend n'avait aucun principe de son Existence.
À plus forte raison doit on le dire dAriman, qui certainement na point été produit (Где, в каком месте
книг Зенды сказанао, что Ормузд и Ариман вышли из Бога посредством творения? Я доказал, что
никакого начала существования Ормузда в книгах Зенды нет. С тем большим основанием должно
полагать, что и Ариман, несомненно, не был создан) (φρ.). — Для того теперь, чтобы помочь себе
относительно Заруамы, Foucher (ib. p. 760) различает двух Зороастров: один был чистым дуалистом,
второй реформировал это заблуждение.
176
Вторая книга. Мифология
т. е. = сокращение. Однако мыслящийся в сокращении есть именно тот самый, который впоследствии себя распространит. Здесь, таким образом, налицо единство,
однако, конечно же, совсем иного рода, нежели то, которое обычно принято себе
представлять. Оказывается (о чем ранее меньше всего думали), что Ариман известным образом, а именно, мыслимый, конечно, не как противоположность экспансии,
но как простая еще-не-экспансия, — что именно Ариман в этом смысле является
старшим; ибо сокращение предшествует экспансии14. Все целое, т.е. то, что сейчас
представляется как + и -, как экспансия и сокращение, — первоначально было всего
лишь Одним, всего лишь сокращением = не-экспансии; и наоборот, то, что сейчас
есть всего лишь Одно (сокращение), первоначально было целым или всем. Ибо поскольку сокращение не снято даже и в экспансии (безусловная экспансия столь же
мало могла бы вести к тварному существу), то с наступающей экспансией положены
сокращение и экспансия; т. е. то, что прежде было целым (сокращение), сделалось частью — и теперь представляет собой всего лишь один из двух принципов. При этом
можно было бы вспомнить то место гетевского «Фауста», где Мефистофель говорит
о самом себе:
Ich bin ein Theil des Theils, der erst das Ganze war,
Die Nacht, die sich das stolze Licht gebar15.
Лишь не-экспансия, или ночь, представляет собой целое: сейчас в результате
наступившей экспансии = свет, или всего лишь часть, — только здесь он (принцип
16
сокращения) становится также и противоположностью . До этого, когда еще не
было никакой экспансии, данный принцип не мог противостоять ей как сокращение, а значит, именно то, что сейчас есть враждебный, противоположный экспансии
принцип, еще никоим образом не представлялось ее противоположностью; ибо Бог
еще ничего не пожелал (он еще не есть экспансия, однако он равным образом не
есть сокращение в своей собственной воле; таким образом, он не есть ни благо, ни
зло). Однако, как только Бог себя распространяет, безусловный принцип сокращения уже преодолен и подчинен, положен как прошлое, как то, что было и уже более
не есть, и тем самым он есть иное по отношению к экспансивному, которое есть теперь сущее, и по отношению к которому он есть как бы более молодое и родившееся
позднее. Из этого отношения, кстати, в котором более старший, предшествующий
принцип сокращения предстает подчиненным более молодому и последующему, может быть объяснено также и то, каким образом в этом отношении сперва бывший и,
пусть и не упраздненный (ибо безусловная экспансия также есть ничто для творения), однако подчиненный, низведенный до простой части, ограниченный принцип
сокращения не только вообще может выглядеть как противоположность экспансии — как Ариман, — но каким образом возможно также и то, чтобы он, стремясь
вырваться из подчинения (а он должен к этому стремиться), находился в деятельном
Одиннадцатая лекция
177
противоречии с благим, благоприятствующим творению принципом (Ормуздом), —
в противоречии, которое не преодолено однажды и навсегда, но должно преодолеваться непрестанно.
Если мыслить таким образом, то не только Ормузд, который как воля к экспансии — воля, стремящаяся только к экспансии — по отношению к изначальному
принципу сокращения есть позднейшее и после него возникшее, не только Ормузд,
но также и Ариман, как теперь действительная, позитивная противоположность
экспансии, каковой противоположностью он не являлся прежде, — оба они, Ормузд
и Ариман, в своей противоположности являли бы собой два не во времени, но вместе с самим временем возникших принципа. В этом высоком смысле можно было
бы сказать: время породило (gab)17 того и другого в том высоком, превосходящем
мир смысле, в котором я представил время на протяжении ранее изложенного, или
также в том смысле, в котором другое место Зендавесты говорит: истинный Творец
есть время.
Еще раз: до экспансии в природу еще не выраженный Бог не есть экспансия, однако он не являет собой также и позитивной противоположности экспансии, а значит, он находится посредине между тем и другим и, таким образом, уже есть Митра
(Mithras), хотя и не действительный Митра — Митра, пока что мыслимый как всего
лишь индифференция экспансии и сокращения. В действительной же экспансии то,
что было ранее, положено как сокращение, однако одновременно и как прошлое,
как подчиненное, а тем самым — как действующее против экспансии; а поскольку
собственно божественно изволенное есть именно экспансия, сокращение же всего
лишь имеет значение того, без чего экспансия не могла бы быть собственно изволенным, то лишь теперь положенный как противоположный принцип сокращения,
18
без сомнения, является из этих двух принципов антибожественным (το άντίθεον );
тем самым у нас есть Бог и анти-Бог, есть та борьба, которая и представляет собой
все содержание учения Сердушта*.
То неизбежное, что если Бог желал экспансии, он должен был одновременно желать и противоположного (сокращения), могло быть, как то показывает нам одно, также и в ином отношении достопримечательное, место Феодора Мопсуестийского (Theodor von Mopsvestia), представлено и как
всего лишь случайность (τύχη). Место (Phot. Bibl. ed. de Rouen, Genève 1693, cod. 81, p. 199) гласит:
'Εκτίθεται (se. Theodorus) το μιαρόν των Περσών δόγμα, ο Ζασράδης είςηγήσατο, ήτοι περί του Ζαρουάμ,
ον άρχηγόν πάντων εισάγει, ο ν και Τύχην καλεί, και οτι σπένδων , ϊνα τέκη Όρμίσθαν ετεκεν εκείνον και
(?) τον Ζατανάν, και (se. το δόγμα) περί της αυτών αιμομιξίας (Повествует (Феодор) об одном злочестивом положении у персов, изобретенном Засрадисом, а именно, о Зароваме, которого он возводит
в начало всего и называет также Случаем; (положение) это, как .утверждают, (заключается) в том,
что (Заровам) породил детей — Ормизду и Дзатану, и о том, что между ними произошло кровосмешение) (греч.). — N.B.Zaruam (y Феодора Мопсуестийского это то же, что и Заруана) и есть (сама)
Τύχη. о (случай) (греч.).
178
Вторая книга. Мифология
Если мы помыслим себе процесс объясненным здесь образом, то само в себе
и по своему намерению антимифологическое учение Сердушта все же не сможет
отрицать своего родства с мифологическими принципами. Именно поскольку оно
антимифологично, в нем присутствует мифология, но лишь в снятом виде. Переход к мифологическому представляет собой двойственность, однако здесь реальный
принцип (В) является всего лишь преодолимым. Как только, однако, дело дойдет до
действительного процесса, он уже не будет более выглядеть как женственный, чисто пассивный, но как оказывающий сопротивление, по меньшей мере как некий
род злого принципа, к которому парсизм лишь потому приходит раньше, что в нем
двойственность снимается сразу же, что оба принципа сразу же полагаются в нем
как Одно, как неразделимые и потому равные в борьбе между собой. Именно тот
же самый принцип, который в парсизме представляется нам как Ариман, в последующих мифологиях мы найдем как противящееся действительному преодолению,
напр., в египетском Тифоне, или, дабы назвать более общеизвестное имя, в греческом Кроносе. Тот, кто читал Плутарха и других греков, знает, что все они практически без исключения сравнивают Аримана с Кроносом (равным образом и отдельные злодеяния того и другого), также как и то, что не мужской Митра, как хочет
думать Крейцер, но Ормузд = относительно духовному Богу, Дионису. Религия персов, следовательно, имела все-таки по существу те же самые элементы, что и религии непосредственно следующих за ними народов, однако эти элементы были здесь
иначе расположены; а именно, в учении Сердушта тот мрачный принцип, с образами и представителями которого ведется борьба в других мифологиях, т. е. Ариман
со всем его воинством, является изначально подчиненным. В самих книгах Зенды
Сердушт предстает сражающимся против жрецов тьмы (мифологических религий),
которые не оставляют попыток соблазнить народ ступить на путь Аримана и ложной магии. Это действительно исторические места, которые являются лишним подтверждением той нашей мысли, что персидская система возникла как реакция на
мифологический процесс, ибо персидское сознание (а Сердушт есть никто иной, как
представитель этого персидского сознания) решительно воспротивилось независимому выступлению реального принципа, что не позволило народу Персии следовать
одним путем с другими народами, поддаться влиянию политеизма.
После приведенного здесь воззрения совершенно очевидно, что учение Сердушта есть необходимое порождение первоначального понятия мужского Митры; и как
ранее был показан переход от староотеческой веры персов, от забизма или древнейшей небесной религии к идее Митры (поводом для этого послужил положенный
Митрой дуализм), так же теперь мы, в свою очередь, показали необходимый переход от идеи Митры к учению Сердушта. Учение книг Зенды есть не что иное, как
практическая, представленная в борьбе идея мужского Митры. Книги Зенды менее
всего можно назвать спекулятивными или хотя бы теоретическими, они содержат
Одиннадцатая лекция
179
на всем своем протяжении лишь моральные предписания, жизненные наставления
и указания по исполнению религиозных обрядов, молитвенные правила и литургические формулы. Учение Зенды есть учение Митры, изложенное с практической
точки зрения. Его содержание везде есть вновь и вновь повторяющийся призыв
к борьбе против власти тьмы; человек, согласно Сердушту, есть лишь воин Ормузда
на земле, призванный посредством пестования природы, заботливого возделывания
земли, хранения в чистоте собственного тела и собственной души сохранять перевес
на стороне экспансивного принципа.
Теперь, однако, перед нами встает еще и другая проблема, возникающая в связи
с многочисленными памятниками, относящимися к так называемым Mithriaca (seil,
mysteria), которые, по всей видимости, имели широкое распространение на всей
территории поздней Римской империи. Памятники этого рода, правда, никогда не
встречались в Персии, однако вне Персии широко издавались и комментировались
в Италии, во Франции вплоть до самых берегов Рейна, и даже в Кернфене и Зальцбурге. Причина же, по которой эти памятники представляются проблематичными,
или по которой дают повод к разъяснениям, такова: мы привыкли рассматривать
учение Зенды, а также Митры — как относительно чистую и в известной мере немифологическую религию. Напротив, в этих памятниках Митры встречаются представления, имеющие гораздо больше общего с представлениями других, в собственном
смысле мифологических, народов, в частности индусов, нежели с идеями чистого
учения Сердушта. То, что нам в частности известно о формах и церемониях римских
мистерий Митры, стоит в такой оппозиции к чистому учению Митры, что многие,
размышляя над этим контрастом, испытывали искушение усомниться в действительности их персидского происхождения. Так, напр., для этих идей Митры были
характерны и обычны разные виды самоистязания и умерщвления плоти, равно для
адептов-мужчин и женщин. Для высших ступеней посвящения непременным требованием была девственность, соблюдение обета безбрачия. Совершались также и человеческие жертвоприношения, без различия возраста и пола, где по внутренностям
принесенных жертв предсказывалось будущее. Невозможно помыслить себе ничего
более противоположного учению Зенды, чем эти посты, это безбрачие, эти человеческие жертвоприношения. В частности, что касается безбрачия, то одним из важнейших предписаний учения Зенды является помочь детям как можно раньше вступить
в брак, а в том случае, если они умирают, не достигнув брачного возраста, церемония их похорон дополняется ритуалом, который подробно описывается у Гайде. Всякий, кто умирает, не оставив потомства, — говорится в одной канонической книге,
Саддере, — какими бы заслугами он ни обладал, будет лишен возможности пребывать в раю. В высшей степени человеческий и человеколюбивый настрой учения
Зенды решительнейшим образом контрастирует с не просто строгими или суровыми, но жестокими, а иной раз и угрожающими самой жизни испытаниями, каким
180
Вторая книга. Мифология
должен был подвергнуть себя желающий получить посвящение в Mithriaca. Наконец, в этих памятниках мы не видим ничего из того, что отличает обычные описания персидских жертвоприношений или церемоний, напр., здесь нет посвященных
огню алтарей, которые представляют собой столь существенную черту персидской
религии. Напротив, здесь присутствуют факелоносцы, изображающие собой духов.
Все эти наблюдения еще в середине прошлого столетия привели французского академика Фрере (Freret) (заслуга которого в том, что именно он дал первый импульс
к исследованию многих предметов древности) к тому мнению, что римские Mithriaca
отнюдь не ведут своего происхождения из Персии; он сделал предположение об их
халдейском происхождении*. Однако с другой стороны и совершенно независимо
от этих противоречий, никак нельзя не признать определенно персидского характера некоторых символов. Некоторые фигуры этих памятников полностью совпадают с изображениями, которые мы встречаем на стенах Персеполиса (Tschilminar),
а также на цилиндрах [в этом городе]. Изображения странных, сказочных животных
на стенах Персеполиса, грудь которых монарх пронзает кинжалом, в каковых изображениях известный геттингенский профессор пожелал видеть представленные
охотничьи забавы персидских царей, напоминают portentosa simulacra, причудливые
фигуры зверей, которые, согласно св. Иерониму, являлись посвящаемым в мистерии Митры, не то в качестве образов устрашения, не то — олицетворяя собою силы
тьмы, с которыми адепт должен был вести борьбу. Еще более решающее значение
имеет следующее. Одним из совершенно уникальных представлений исполненного любви ко всей природе персидского учения является представление о феруэрах
(Feruers), под которыми персы понимают нечто вроде духовных прообразов всякого
тварного существа, и которые поэтому часто сравнивались с платоновскими идеями. Любое растение, любое животное, любой человек имеет свой феруэр. Феруэры
людей — напр., царей на стенах Персеполиса представлены как человеческие крылатые торсы. Их точные подобия мы можем обнаружить также и на монументах Митры, в которых, впрочем, видна римская работа и которые, кроме того, несут на себе
римские надписи. Также на этих памятниках можно найти немало эмблем изедов
(Iseds), или демонов, которые в парсийском учении управляют всеми природными
стихиями. Новейшие исследователи поэтому, такие как Хаммер** (Hammer), хотели
видеть в римских монументах Митры хоть и изначально персидские символы, однако с привнесенными индусскими добавлениями. Даже Сильвестр де Саси считает, что первоначально персидские представления, по меньшей мере, проходят через
Mémoire de ÎAcad. des Inscr., — (Труды Фрере были опубликованы в «Мемуарах Академии Наук
и изящной Словесности». Здесь, по-видимому, имеются в виду «Мемуары Академии Надписей
и Изящной Словесности».) (фр.) — (А. Б. ) — т. XVI.
Wiener Jahrb. für Lit,. 1816, с. 146 и далее. — (Венский литературный ежегодник) (нем.).
Одиннадцатая лекция
181
фильтр другого, придерживающегося иных представлений, народа и, таким образом,
претерпевают изменение*. Однако коль скоро мы не можем ни назвать имени этого
народа, ни объяснить, каким именно образом случилось так, что этот народ усвоил
себе идеи персов, то и сам данный подход в целом следует признать неудовлетворительным. Небезызвестный Мейнерс (Meiners) высказал следующее мнение: эти
Mithriaca, в том виде как мы находим их позже в Римской империи, в Персии вообще
появились лишь ко времени Александра Великого, и таким образом они представляют собой смесь изначально греческих представлений с персидскими идеями. Однако
все эти различные гипотезы оставляют совершенно без объяснения одно главное
обстоятельство, к тому же весьма примечательное, а именно, что монументы такого рода встречаются почти на всей территории древней Римской империи, но в то
же время их нет и следа в самой Персии. Данный факт пытались объяснять из того,
что магометанские завоеватели уничтожили все эти монументы. Однако как можно
предполагать такое, если, как отмечает Сильвестр де Саси, эти же самые завоеватели
оставили в Персии нетронутыми огромное количество иных следов ее древней традиционной религии?
Прошу вас теперь поразмыслить вместе со мной, способно ли следующее, исходящее из нашего предшествующего изложения воззрение привести к равновесию
и объяснить возникшие здесь противоречия.
Безусловно, учение Митры в сравнении с другими религиями является немифологическим, в том случае если мы будем называть мифологическим лишь очевидное многобожие. Однако оно никоим образом не является абсолютно немифологическим; персидская система, напротив, как уже говорилось, содержит в себе
все элементы мифологии, но лишь в ином порядке. Персидское сознание, наравне
с сознанием прочих народов, совершило тот же самый переход от исключительного
Бога к дающему пространство для разнообразия. Доказательством служит Митра,
соответствующая в Персии греческой Урании. Также и персидское сознание различает реальногОу противящегося экспансии, и идеального, Бога. Различие заключается
лишь в том, что персидское сознание не разделило между собой реального и идеального Богов, отказавшись от собственно многобожия, т.е. сукцессивного политеизма, который ему удалось упразднить именно с помощью Всеединого Бога Митры.
В политеистических религиях мы наблюдаем двух Богов, относительно духовного
и недуховного, в персидской же системе есть лишь Один Бог, Митра, который сочетает в себе того и другого, не позволяя им разделиться между собой даже в их
непрестанной борьбе. Однако именно поэтому можно сказать: учение Митры есть
лишь удержанная in potentia, как бы подавленная, заторможенная мифология. Я уже
В примечаниях к St. Croix, Recherches sur les mystères du Paganisme, p. 145. — (Научные исследования
таинств в язычестве) (φρ.).
182
Вторая книга. Мифология
упоминал места в книгах Зенды, из которых явствует, что учению Зенды действительно приходилось вести борьбу против выступающего мифологического политеизма. Он всегда присутствовал, и даже там, где не мог выступать открыто, он все
же не мог быть снят совершенно. Mithriaca, таким образом, представляли собой отклонение от чистого учения Митры — возникшее из политеистических приливов,
действию которых народ, либо часть народа, был подвержен точно так же, как и израильский, несмотря на все мыслимые преграды со стороны священников и богодухновенных пророков. Таким образом, нельзя непосредственно сравнивать то, что
мы находим в монументах Митры, с чистым учением книг Зенды, которые поднялись до этой чистоты лишь с наступлением эпохи сассанидов. Они представляют
собой как бы чистую теорию, Mithriaca же есть мифологическая, идолопоклонническая сторона религии Митры.
Персидское учение возникло лишь в результате реакции, направленной против
мифологического процесса. Тем самым в ней сохранен, по меньшей мере, некий аналогон (Analogon) истинной религии. Персидская религия знала пусть даже и погруженного в материю, однако осознающего себя и любящего Создателя. Также и персы
могли рассматривать себя, наряду с израэлитами, как хранимый Богом народ. (Достопримечательным является также и тот легкий переход персидских идей в иудейские
представления, который произошел после вавилонского плена.) Персов во многих
отношениях можно сравнить с израэлитами; они были, как сказано, на свой лад так
же обособлены от других народов, как и евреи. Если, теперь, даже в среде последних
мифологический политеизм был с трудом подавляем, то подобный феномен в среде
персидского народа никак не должен нас удивлять. Сказанное, таким образом, с необходимостью ведет к мысли о том, что те Mithriaca, которые позже распространились по всей территории Римской империи, безусловно, пришли из Персии, но что
они, однако, уже там (в своем первоначальном отечестве) праздновались лишь
тайно, будучи в самой Персии мистериями, однако в дурном смысле: мистериями
нечистыми, мистериями тьмы, которые не могли праздноваться открыто, — и что
именно поэтому в самой Персии от них не осталось следов (Сассаниды), и [их исповедникам] вскоре пришлось искать прибежища вне Персии, в сопредельных ей странах; ибо вполне понятно, что в Рим Mithriaca пришли не непосредственно из Персии, с которой римляне как раз в позднейшие времена имели довольно тесные связи,
и это еще раз доказывает, что к указанному времени их в Персии уже совершенно не
оставалось. Плутарх повествует*, что по случаю победоносной войны с морскими
разбойниками Помпея Великого на берегу Сицилии римляне (а значит, по всей видимости, прежде всего римское войско) познакомились с мистериями Митры (именно
Помпеи, 24.
Одиннадцатая лекция
183
в среде римских войск эти мистерии, по-видимому, были особенно распространены,
так как монументы Митры чаще всего можно было обнаружить в местах расположения римских легионов). В высшей степени достопримечательным является тот
факт, что по мере приближения заката Римской империи прежние мифологические
представления внезапно утрачивают для человечества свое значение, что они, уходя,
оставляют человеческое сознание совершенно пустым — что, впрочем, представляется вполне закономерным результатом; ибо сознание могло быть заполнено этими
представлениями лишь во время процесса. Ведь весь процесс был направлен именно
на то, чтобы вновь устранить ложный принцип, который поднялся в сознании человечества, опустошить и освободить от него сознание и, тем самым, сделать сознание
восприимчивым к истинной религии. Невероятными кажутся томление и страсть,
с которыми в эти времена всеобщего распада человеческая душа ухватилась за ориентальный пантеизм, двигаясь при этом вспять до самого солнцепоклонничества!
Именно в это время Mithriaca с большой скоростью распространялись по Римской
империи, находя поистине страстный прием. Люди всех классов и сословий стремились получить посвящение в них, и обладающий тонким умом, однако враждебно
настроенный по отношению к христианству император Юлиан рассчитывал именно в этой своеобразной смеси Mithriaca, в которой мифологические идеи, казалось,
получали еще более высокое значение, найти средство удержать свою эпоху в язычестве. Mithriaca были столь дороги ему, что в них старался получить посвящение
всякий, кто искал личного расположения императора.
Если, теперь, это объяснение возникновения римских Mithriaca всецело отвечает поставленной задаче, то у нас не возникнет надобности предполагать, что они
прошли через среду какого-либо неперсидского народа, для того чтобы вобрать
в себя представления, чуждые чистому учению Митры; ибо поскольку эти представления содержались в сознании человечества в целом, учение Митры могло выродиться в подобные представления на своей собственной родине, причем данные
представления были вполне аналогичны представлениям иных народов*.
Насколько темна история Азии, насколько темны в особенности обстоятельства Ассирийского,
Бактрийского и Вавилонского царств, в достаточной мере известно всякому, кто сколько-нибудь
знаком со всеобщей историей. Не является моей задачей входить здесь в собственно исторические
исследования. Моей настоящей задачей является лишь философское объяснение религиозных и мифологических систем. Однако все наше воззрение на мифологию дает нам такую точку зрения, с которой, безусловно, может быть пролит свет и на темноты истории. Фрере (Freret), как я уже говорил, пытался дать мистериям Митры халдейское происхождение. Однако если великой ассирийской
монархии, которая приблизительно к 720 г. до Р. X. достигла высшей точки своего расцвета, подчинялись также Персия и Медина (Medien), и в то же самое время ассирийской провинцией являлся
и Вавилон, то мы имеем достаточные основания мыслить себе также и некую более раннюю точку
единства или общего происхождения между Персией и Вавилоном. Как известно, сословие магов
существует в Вавилоне так же, как и среди персов, и даже имя Chaldaeus y греков и римлян означает
184
Вторая книга. Мифология
Я завершу теперь это исследование общим, распространяющимся также и на все
последующее, размышлением.
Митра есть свободный между экспансией и сокращением Бог. Этот Бог необходимо должен был в действительной экспансии (поскольку изначальный принцип
сокращения был при этом подчиненным) представляться как борьба между этим
последним — и благоприятствующим творению, экспансивным качеством Творца: борьба, из которой, в свою очередь, в действительности должен был произойти сам Митра. Этот принцип сокращения, который, таким образом, как старший,
принужден был служить младшему (как Исав Иакову), не мог отказаться от своей
первоначальности и своего приоритета, и таким образом вместе с действительной
экспансией с необходимостью была положена борьба; и именно эта борьба против принципа древней, незапамятной тьмы, который, если бы он имел право выступить свободно, породил бы сущность, своими чертами напоминающую Молоха,
Тифона, Кроноса и им подобные божества других народов, — эта борьба заполнила
собой персидское сознание. Однако именно поэтому боги других народов не были
совершенно то же, что и «маг». Также и в книге Даниила и в других книгах Ветхого Завета появляются кашдимы (die Kasdim), т.е. халдеи, как обладатели всякой высокой мудрости, в особенности, однако, знания о звездах. В новейшие времена поднимался вопрос о том, не появился ли магизм в Вавилоне лишь после того, как царство было завоевано персами. Мне кажется, не следует сомневаться
в более раннем существовании магов в Вавилоне, поскольку среди князей и приближенных, которые
приходят вместе с Навуходоносором завоевывать Иерусалим, упоминается также и некий зсгпп (rav
mag — великий маг) (ивр.) — (Иерем. 39, 3), которого вряд ли можно посчитать кем-либо иным, кроме старшего мага. (Сравните с Отаном (Otanes), сопровождающим Ксеркса в походе против греков;
Геродот VII, 61.) Тем не менее, Гезениус говорит, что нет оснований предполагать до персидского завоевания Вавилона какую-либо связь между жреческими сословиями того и другого народов. Мне,
однако, кажется, что достаточное основание для предположения такой связи заключено уже в том,
что религия вавилонян относится к совершенно тому же моменту мифологического сознания, которому принадлежит и персидская религия, — а именно моменту того первого кризиса, который
завершился рождением политеизма. Не могла ли, теперь, — в то время как весь вавилонский народ
сделал выбор в пользу политеизма и пошел по пути мифологического развития, внутри, в самой
глубине этого народа, существовать некая каста, которая, точно так же как и персидское сознание,
придерживалась бы единства, и что если именно такую касту и представляли собой кашдимы? Я
хочу лишь напомнить о том, что среди руин Вавилона — точно так же, как и в Персии и, в частности,
в Персеполисе — можно найти камни в форме цилиндров с вытесанными на них изображениями
и клинописными надписями, которые, по крайней мере имеют большое сходство с персидскими.
Вообще, при исследованиии этого исторического вопроса слишком легко забывают о том, что народы отделялись друг от друга лишь сукцессивно и что необходимо поэтому мыслить себе некоторую
эпоху, когда персы и вавилоняне не были взаимно отделены в такой мере, в какой они предстают отделенными друг от друга в позднейшие исторические времена. И в этом смысле вполне можно было
бы также сказать: Mithriaca несут в себе халдейский элемент в том же самом смысле, в каком древние
говорят так же об ассирийском, как и о персидском Зороастре, и в каком настоятель мистерий Митры в надписи, приводимой Фрере, носит имя Antistes Babylonius.
Одиннадцатая лекция
185
абсолютно исключены из персидского сознания, т.е. это сознание не являлось абсолютно немифологическим. Можно, следовательно, сравнивать совокупное учение
Митры и персидскую религию с такими формациями природы, которые в целом своим существованием обязаны тому органическому направлению, коим была охвачена
вся Земля, которые вообще не возникли бы вне указанного направления, несмотря
на то что они представляют собой собственно результат сопротивления против этого последнего, реакцию против жизни. Формации подобного рода можно встретить
также и в мифологии, в частности образования, которые никогда не возникли бы без
участия мифологического поползновения и которые, таким образом, принадлежат
мифологическому развитию, однако, поскольку они своим возникновением обязаны собственно реакции против такого развития, они в свою очередь выступают как
противоположность мифологическому развитию.
Отнюдь не выглядит неправдоподобным, чтобы в различных точках мифологического пути можно было обнаружить подобные формации. Общее, которое отличает их все, состоит в том, что они выступают именно как реакция, как торможение мифологического процесса, или в том, что в тот момент, когда в сознании
уже положен собственно политеизм, они все еще стремятся удержать единство,
т.е. некий род монотеизма, который, однако, именно поскольку он смешан с политеизмом и представляет собой всего лишь заторможенный, удержанный и приостановленный в своем движении политеизм, выступает как пантеизм. Весьма часто, и особенно в наши дни, предпринимались попытки представить политеизм как
распавшийся, расколовшийся на части пантеизм. Однако я придерживаюсь, скорее,
противоположного мнения и, напротив, склонен сам появляющийся по ходу мифологического развития в иных местах пантеизм рассматривать как заторможенный,
удержанный политеизм. В случае с учением Митры это представляется совершенно
очевидным. Оно падает, что несомненно доказывается исторически упоминанием
Геродота, на ту точку развития, где в сознании других народов бывшему изначально центральным, но ставшему теперь периферическим, выходит навстречу другой,
новый Бог, относительно духовный. Этот первый момент становления периферическим изначально центрального ознаменован женским божеством, на существование
которого Геродот указывает также и у персов. Упоминание Геродота, таким образом,
имеет тем большую ценность для нас, поскольку служит доказательством того, что
также и персидское сознание достигло этого перехода к многобожию. Персидская религия имеет с другими религиями общую точку возникновения, — то ставшее в сознании позитивным В, которое для него (для персидского сознания) также сделалось
периферическим. Однако именно в этот момент началась реакция. Некий могучий
и рассудительный ум, носи он имя Сердушт или какое-либо другое, словно бы в тот
самый момент, когда должен был произойти переход к двойственности, удержал
единство. И таким образом возникла та опосредующая система, которую невозможно
186
Вторая книга. Мифология
не распознать в учении Митры, т. е. в древнеперсидском учении. Однако это женское божество, Митра-женщина, застыло в точке перехода; ей, по всей видимости,
приносились открытые жертвопроиношения, тогда как собственно идея Митры,
будучи по своей природе поистине спекулятивной и доктринальной, состояла лишь
в собственной доктрине, в собственном учении. Единственное, что кажется перешедшим из этой идеи в действительную жизнь, было борьбой двух принципов, благого и злого. Ормузд и Ариман в их вечном противостоянии и представляли собой
словно бы зримого Митру. Единство могло явить себя лишь в самом течении этой
борьбы. Ибо если нигде не присутствовало единства, т. е. нигде не существовало посредника, не существовало никакого Митры, то в таком случае непонятно, почему
каждый из двух этих принципов не существовал для себя и не образовал собственного независимого мира. Именно сама борьба между ними, поэтому, есть внешнее,
зримое выражение единства, ибо она могла возникнуть лишь как результат того, что
оба принципа были вынуждены существовать в одном и том же месте, uno eodemque
loco19. Если Геродот ничего не знает об этой борьбе принципов, если он еще менее
того осведомлен об их единстве, о Митре, то это объясняется, как ранее отмечалось,
уже из того, что эллин, каковым Геродот всецело являлся, не мог понимать ни смысла этой борьбы, ни этого единства. Мы видим, что и в дальнейшем, будучи в Египте,
он также понимает лишь то, для чего он может подыскать известную аналогию с эллинскими представлениями. Я уже отмечал, что имя Зороастра мы впервые слышим
во времена Платона или вскоре после Платона, однако же это всего лишь имя; саму
суть, само учение, т. е. учение о двух равно изначальных принципах, их противоположности и борьбе — впервые упоминает Аристотель в известном месте своей «Метафизики». Завоевание Александра Великого есть, таким образом, тот момент, когда
для греков впервые открывается возможность бросить взгляд во внутреннее пространство парсизма. Одна причина заключается, пожалуй, в том, что завоеванная
страна, будучи покоренной, открывает завоевателю также и свои духовные сокровища, точно так же, как это произошло с нами, немцами, в новейшее время. Однако
главной причиной, несомненно, все же является большая разница между временем,
в котором жил Геродот, и временем Платона и Аристотеля. Лишь после появления
в греческом мире таких умов, как только что названные, у греков вообще могло появиться совершенно иное понимание тех идей, к которым ранее у них отсутствовала
всяческая восприимчивость.
Я уже давал понять, что учение Митры не есть единственный пример формации, возникшей как результат реакции против мифологического процесса, и потому
носящей мифологически-немифологический характер. В другой — более поздний,
однако столь же решающий — момент мы увидим совершенно аналогичную формацию в учении Будды, в буддизме: его совершенно изолированное положение среди
прочих мифологий Азии — с одной стороны, и равно его очевидная связь с этими
Одиннадцатая лекция
187
мифологиями, в частности, с индусским учением браминов20 — с другой, — делает
его едва ли не большей загадкой, чем учение Митры. Будда есть Бог той системы, которая была — очевидно, не без кровавой войны — вытеснена из посюсторонней Индии более мифологическим учением браминов, получив оттуда широчайшее распространение во всех регионах Востока: на юге — от Индостана до Цейлона, где учение
Будды основало свою главную цитадель, до Батума (Batum) и Тибета, на востоке — во
всех странах, лежащих между Китаем и Японией, наконец, в самих Китае и Японии,
а также среди монгольских племен. Ибо ламаистская религия есть лишь ответвление
буддистского учения. Также и Будда, в противоположность отдельным, множественным богам индусской системы, как и Митра, есть Бог всеединства; он — так же, как
и тот, — есть Бог, переходящий в природу, который, принимая любую форму здесьбытия, заключает дружбу со всей природой, разделяя ее радости и беды. Посреди
изменчивости его внешней, охваченной потоком становления явленности он пребывает внутренне неподвижным, его характер остается неизменным. И как персидский
Митра соединяет в себе свет и тьму, добро и зло, точно так же, наверное, каждый,
кто хоть немного слышал об учении Будды, слышал и о том, что оно есть мифологический пантеизм, что оно, как принято говорить, не различает между собой добро
и зло — конечно, ни в каком ином смысле, кроме того, в котором это может быть
сказано также и об учении Сердушта, т. е., лишь так, что и оно, наряду с парсийским
учением, считает противоположный принцип равно необходимым для сохранения
тварного мира.
Последнее исследование, поскольку оно относилось к системе, противоположной мифологии, могло бы показаться отвлечением от нашей темы, однако и здесь
будет верно: Exceptio firmat regulam21. Ибо выяснилось, что противоположная мифологии система персов все же имеет своим основанием мифологию, строится на ее
фундаменте.
ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Когда наступает тот момент сознания, где центральный принцип, который в чистом забизме еще пытается утвердить себя как таковой, должен стать периферическим, дальнейшее развитие может быть двояким: а) либо сознание и теперь еще
утверждает единство Бога, так что положенный теперь как подчиненный и более
высокий принцип — удерживаются в одном и том же сознании, и тогда возникает
такой Бог, который содержит в себе то и другое, экспансию и сокращение, благопритятствующее тварным существам и неблагоприятствующее им начало, такой Бог
как персидский Митра; или Ь) сознание отказывается от единства, и тогда навстречу
ставшему теперь периферическим и подчиненным богу, в качестве второго, выступает более высокий, отныне центральный; здесь впервые полагается действительное
многобожие. Этот путь, таким образом, был путем, предназначенным для тех народов, которым было суждено, доверившись мифологическому процессу, следовать, не
задерживаясь, в его русле. В качестве первого примера Геродот называет вавилонян
или ассирийцев*, ибо он берет название «Ассирия» в расширительном смысле, подразумевая под ним Халдею и Вавилонию**. Там, в Вавилоне, в признанной древней
Геродот, I, 131; 199. Ср.: Макробий. Сатурналии, I, 23: πρώτοις δέ ανθρώπων Άσσυρίοις κατέστη
σέβεσθαι την Ούρανίην , μετά δέ Άσσυρίους Κυπρίοις , Παφίοις κ. τ. λ; (Первыми из людей почитать
Уранию стали ассирийцы, а после ассирийцев — киприоты, жители Пафоса и т.д.) (греч.). — Павсаний, I, 14.
То, что халдеи суть ассирийцы, грубый народ, спустившийся со своих Кардукийских гор и поселившийся в Месопотамии, слишком поспешно заключают из такого темного места, как Исайя,
23, 13. (Ср.: Gesenius, Commentar zum Jesaias S. 740 ff). Поскольку Ксенофонту (см. там же) известно
значительное его племя, живущее в своих древних местах обитания и сохранившее верность своему
кочевому жизненному укладу (без земледелия, как свободный, воинственный народ, живущий на
Армянском, точнее, Кардукийском нагорье), поскольку также и Страбон знает еще и других халдеев,
живущих в Колхиде, которые зарабатывают себе на жизнь изготовлением железных изделий и которых в других местах называют халибами (Chalyber), то из этого можно было бы сделать тот вывод,
что O^ÎED (kasdim — халдеи) (ивр.) — есть общее имя для всех кочевых народов — без того, впрочем,
чтобы по этой причине халдеи, которые упоминаются в Вавилоне, представляли собой одну народность с теми другими халдеями, в особенности — поскольку лишь в Вавилоне преимущественно
Двенадцатая лекция
189
цитадели смешения языков, в начальной точке язычества, преимущественным почитанием под именем Милитты пользовалось наше первое женское божество. В связи
с ней Геродот говорит об одной из наиболее странных черт одичавшего религиозного сознания. Я не могу обойтись здесь без упоминания этой черты, ибо именно на
фактах подобного рода должна проверяться истинность и верность нашей теории.
Как повествует Геродот, местный закон возлагал на каждую рожденную в Вавилоне
женщину обязанность один раз в своей жизни отдаться в храме Милитты мужчине-иностранцу*. Сам факт невозможно подвергнуть сомнению; он подтверждается
и некоторыми местами Ветхого Завета. Этот закон вавилонян, который сам Геродот
называет наиболее скандальным из всех их законов, относится также и к числу неразрешенных нравственных загадок, которые в изобилии преподносит нам история
человечества. Как правило, до сей поры толкователи довольствовались тем, что пытались объяснить этот не только постыдный с нашей нравственной точки зрения,
но к тому же и противоречащий всем известным нравственным установлениям
Востока, обычай попросту сластолюбивым характером народонаселения Вавилона.
Внимательное исследование на предмет того, откуда еще мог быть известен такой
обычай, вновь по кругу приводило к нему же самому. К тому же в указанной склонности к разнузданному сладострастию можно было упрекнуть только вавилонских
женщин, мужчинам же оставалось вменить лишь неслыханное вообще, но в особенности странное для Востока, попустительство. Также непонятно, даже если допустить указанный сластолюбивый характер, почему эта разнузданная страсть должна
была распространяться на одних лишь иностранцев, чужаков, и ими же ограничиваться? Если мы хотим дать объяснение таким чертам древности, то их необходимо
объяснить со всеми их обстоятельствами. Для только что упомянутого объяснения
Геродот не дает никакого повода; напротив, если прочесть все место до конца, то
становится очевидно, что оно содержит убедительное опровержение такого легкомысленного объяснения. Его повествование гласит приблизительно следующее: ни
одна женщина не имеет права отказать присутствующему (на празднестве Милитты) чужестранцу, если он швырнет ей на колени деньги со словами: «Призываю тебя
именем Милитты», — она не имеет права отказать ему, какой бы малой ни была денежная сумма, и каким бы непривлекательным или тщедушным ни выглядел этот
чужестранец; таким образом, она должна последовать за первым окликнувшим ее;
удовлетворив же его желание, она, умилостивив богиню, возвращается назад в свой
дом. С этого момента, продолжает Геродот, вы не сможете предложить ей такой
носители научных знаний, а именно астрологи, носят имя халдеев. См.: Страбон, XVI, 6; Диодор
Сицилийский, 2, 24; Арриан, 7, 16.
Геродот, I, 199: «Μύλιττα δέ καλέουσι την Άφροδίτην Άσσύριοι». о (Ассирийцы же называют Милиттой богиню Афродиту) (греч.). — Так же у Страбона, XVI, 1: «согласно Оракулу (κατά τι λόγιον)».
190
Вторая книга. Мифология
цены, которая была бы достаточно высока для того чтобы получить ее. Кроме того,
Геродот ясно говорит, что вавилонская женщина верила, будто тем самым она служит Милитте, посвящает себя ей. Проституция, таким образом, сколь бы ужасным
ни показалось нам такое словоупотребление, с точки зрения вавилонян представляла собой действительно религиозное деяние.
Как же теперь нам следует мыслить себе религиозное в этом обычае? Я предлагаю вам вспомнить о том, что все явление этого женского божества было нами объяснено как явление первого оженствления сознания по отношению к высшему Богу,
и даже более того — оженствление самого исключительно положенного в нем прежде Бога; подумаем одновременно над тем, что тому сознанию, которое происходило от суровости и исключительности первого бога, второй или новый бог, впервые
совершающий поползновения по отношению к нему, должен был представляться
как нечто в высшей степени чуждое, ибо мы можем наблюдать, что во всех религиях
и в среде всех народов, куда только достигала весть об этом втором боге (так мы
пока что будем называть его ради краткости), что от Кавказа и до самой Южной Америки, а оттуда — до крайнего скандинавского Севера, одним словом — повсюду,
куда только смогла достичь весть об этом новом боге (который на место первой звероподобной жизни поставил человеческую нравственность), он воспринимается
как пришедший издалека, с чужбины: если мы, говорю я, возьмем в совокупности все
эти факты, то едва ли ошибемся, пожелав усмотреть в этой ужасной черте заблудившегося религиозного сознания, во всем этом поведении — лишь выражение первого,
темного предчувствия и ощущения еще чуждого сознанию, лишь грядущего, в движении находящегося бога. Ибо этот бог сперва мог предстать сознанию лишь как
грядущий и долженствующий прийти. Он еще не осуществлен, ибо сможет осуществиться лишь в действительно преодоленном В первого сознания, однако до сих
пор сознание имеет к нему всего лишь общее отношение: оно пока лишь преодолимо
для него, но отнюдь еще не преодолено в действительности. Он, таким образом, до
сих пор был именно грядущим в бытие богом, будучи — с одной стороны — чуждым
и непостижимым для сознания (ибо прежде оно было всецело заполнено первым
богом и принадлежало исключительно ему), с другой же стороны — совершенно неотвратимым, от которого сознание было не в силах оборониться и которому оно так
же мало способно было дать отпор, как вавилонская женщина, по рассказу Геродота,
была вправе отвергнуть чужестранца. Таким образом, ощущение сознания в этом
состоянии, в этом первом отношении к новому богу едва ли могло быть каким-либо
иным, кроме отношения глухого недовольства и ропщущей (в безысходности) резиньяции. Теперь это в достаточной мере ясно каждому. Однако, даже если бы мне теперь сказали, что сознание воспринимало этого бога как чуждого, издалека пришедшего, однако одновременно неотвратимого, что это первое поползновение
(Anwandlung) незнакомого бога (даже само это немецкое слово Anwandlung ясно
Двенадцатая лекция
191
указывает на приближение) сознание воспринимало как требование предоставить
себя на волю высшего бога (что вполне понятно), — тем не менее то, что вследствие
этого чувства вавилонские женщины отдавались мужчинам-чужестранцам, само это
практическое следствие — представляется неясным, как в общих чертах, так и в этой
своей определенности. Подобного рода недоумения нельзя поставить в вину никому,
кто еще не имеет навыка в исследованиях странных религиозных черт характера, касающихся в особенности глубокой древности. Тот же (дабы высказаться сперва относительно практического, выражающегося в действиях, аспекта религиозных представлений), кто на множестве примеров успел познакомиться с чувственной в высшей
степени наивностью и грубой прямотой во всем, и прежде всего в религиозных обрядах древности, — с одной стороны, и с практически услужливым и навязчивым воздействием, какое мифологические идеи оказывали на древнее человечество, с другой,
тот не затруднится пониманием также и этой конкретной черты. Ибо поскольку указанные мифологические представления были не свободными, но слепыми порождениями сознания, — они непосредственно становились практическими: сознание с их
помощью подталкивалось к поступкам и деяниям, оно должно было обнаруживать их
в поступках и деяниях, ибо ведь общеизвестным психологическим наблюдением является тот факт, что человек выражает через деяния и поступки представления, возникающие у него непроизвольно, в том случае, если он не в силах преодолеть их внутренне, достичь их предметности в духе. Таков в общих чертах ответ на вопрос о том,
почему это чувство выражалось в действии. Однако почему, теперь, именно в таком
действии? Очевидно, что в этом действии вавилонских женщин выражалось обещание верности Милитте, посредством этого действия они посвящали себя Милитте,
как об этом ясно свидетельствует Геродот. Чем же, однако, была Милитта? Ответ: она
была первым женским божеством, которое словно бы соблазняло собой сознание,
будто склоняя его на измену первому, исключительному Богу, — которому ранее сознание единственно принадлежало и с которым было символически обручено, — увещевая его довериться второму, новому богу. Сознание, таким образом, должно было,
для того чтобы начать чтить Милитту, нарушить верность первому богу: это было
символическое прелюбодеяние, совершаемое сознанием по отношению к старому
богу. Кому не знаком этот образ из Ветхого Завета (ибо данный документ — единственный из всех письменных источников, дошедших до нас, способный своим образом мысли и языком дать нам картину эпохи, в которой возник и пришел к господству культ Милитты)? Кому не памятны проникновенные голоса пророков,
приводящие Израилю на память дни его юности, когда Иегова заключил с ним завет,
согласно которому Израиль должен был принадлежать ему (Иегове)*, где к отпадшему
Иезекииль 16, 8 (ср. 43).
192
Вторая книга. Мифология
Израилю обращены следующие слова: возвратись, возвратись к супругу юности твоей, к Богу, Господу твоему? Также и отпадение Израиля от истинного Бога карается
как прелюбодеяние (естественным выражением для любого исключительного отношения является брак), и переход к другим, новым богам, как они именуются в Ветхом Завете, представляется поэтому как блудодеяние с ними. Если бы мы держали
в памяти хотя бы это выражение Ветхого Завета, — указанное вавилонское наблюдение сделалось бы для нас гораздо более понятным. По названной причине, следовательно, [в обряде участвуют].именно женщины; это, как явствует из всего повествования Геродота, замужние женщины, которые таким образом служат Милитте.
О девственницах речь не идет. Правда, некий археолог, имени коего я не хочу называть, приводящий все эти подробности с особенной любовью и пристрастием, соп
amor, обогащает наше представление тем, что от себя добавляет, будто невинные девушки у Геродота жертвовали в храме Милитты своей девственностью. Однако Геродот совершенно неповинен в этом приписываемом ему расширении. Речь идет лишь
о женщинах и, о чем свидетельствует вся взаимосвязь, — именно об обрученных
женщинах. То, что данный археолог хочет представить дело подобным образом, ничуть меня не удивляет. Однако если так начинают поступать и другие, напр., один
из новейших авторов, пишущих о религии вавилонян, — то приходится почти поверить, что они ни разу в своей жизни даже не заглядывали в Геродота. Если это
были невинные девушки, которым приходилось приносить свою девственность
в жертву, то Геродоту не было никакой нужды говорить, что каждая из них должна
была сделать это единожды в своей жизни, ибо ясно само собой, что невозможно пожертвовать своей девственностью дважды или трижды; так нелепо Геродот никогда
не пишет. Совершенно другое отношение необрученных девственниц в Вавилонии
изображает еще одно повествование Геродота, которое я перескажу несколько позже. Достаточно, следовательно, будет сказать, что именно женщины, и именно женщины, состоявшие в браке, посвящали себя Милитте таким образом. Деяние, посредством коего воздавалась почесть и оказывалось служение Милитте,
с необходимостью должно было быть прелюбодеянием: всецелая преданность Милитте, а тем самым неведомому богу, должна была быть заявлена в откровенном прелюбодеянии. Совершив это торжественное прелюбодеяние, вавилонская женщина,
согласно свидетельству Геродота, могла считать себя посвященной Милитте, ибо она
доказала ей свою преданность, препоручила себя ей и своим торжественным деянием как бы отреклась от исключительного Бога.
Если это объяснение является верным, то оно само собой дает повод к следующему наблюдению.
Ощущение реальности указанного мифологического представления должно
было быть непреодолимо сильно, для того чтобы послужить оправданием такого обычая, который не только возмущает всеобщее нравственное чувство, но на Востоке,
Двенадцатая лекция
193
где женщина традиционно содержится под строжайшим надзором, где в иных местах горячая, яростная ревность мужей может отомстить незнакомцу за случайный,
невинный взгляд на женщину немедленным убийством, — тем более, представляется величайшей аномалией. Удивительными можно было бы назвать те философемы,
что смогли дать повод к принятию подобного обычая, смогли ввести его и укрепить,
и не где-нибудь, а в среде народа, для которого брак являлся священным! Также
и духа Востока, о котором столь многие теперь говорят, отнюдь не будучи в нем хорошо сведущими, — никак не достаточно для такого. Столь же малодостаточным
будет здесь другое привычное средство объяснения, а именно — ссылка на священническую власть, которая вообще ничего не говорит; ибо сперва необходимо было
бы объяснить, каким именно образом само священническое сословие могло измыслить столь противоречащий всякому человеческому чувству обычай. Даже и самая
сильная священническая власть была бы недостаточно сильна для того, чтобы ввести столь возмутительный не только для всечеловеческой, но в особенности — для
восточной нравственности, обычай, если такой обычай не был продиктован народу
внутренней необходимостью его собственного сознания.
Я не мог здесь не коснуться этой последней черты дикой природной религии,
и именно благодаря откровенной грубости этого вавилонского обряда он становится бесценным фактом для всего нашего воззрения.
Я уже предварительно упомянул еще одно повествование Геродота, из которого
явствует, какой обычай господствовал в Вавилонии в отношении безбрачных девственниц. Геродот называет этот обычай мудрым, а тот, кто вспомнит, как вообще
на Востоке принято обходиться с женским полом, должен будет признать данный
обычай по меньшей мере человечным. Рассказ Геродота помещается почти непосредственно перед тем, который посвящен изображению культа Милитты, и звучит
так: «Законы существуют у них следующие, среди которых, по моему мнению, этот
являлся наимудрейшим. В каждой общине один раз в году всех достигших брачного
возраста девственниц сводили в одно место. Вокруг них выстраивалось множество
мужчин. Затем выходил герольд и выкликал каждую отдельную на продажу, сперва — самую красивую из всех, затем, после того как она бывала продана за большую
суммму денег, он предлагал следующую, самую красивую после первой; продавали
же их с целью найти им мужей. Те из желающих вступить в брак вавилонян, которые
обладали большим богатством, соревновались друг с другом в цене, чтобы купить
самых красивых. Мужчины же из народа, которым также хотелось найти себе жен,
но которым красота была неважна, забирали себе деньги и впридачу некрасивых девушек. После того как герольд заканчивал продажу самых красивых, он приступал
к уродливым, или если какая-нибудь из них имела телесный изъян, он выставлял ее
и спрашивал, кто хочет жениться на ней за наименьшую сумму денег, покуда девушка не доставалась тому, который запрашивал меньше всех. Деньги же на это брались
194
Вторая книга. Мифология
из сумм, полученных за красивых девушек, так что красивые собой снабжали приданным безобразных и уродливых. Покупатель, однако, не мог увести свою девушку,
не представив прежде ручательства в том, что он действительно намерен жениться на ней, и лишь после того как за него выступали поручители, он получал право
увести ее с собой. Это, таким образом, был их наилучший закон, однако нынче он
уже более не существует, но теперь они измыслили нечто иное, с тем чтобы девушки могли получить свое или не были уводимы в чужие города. Ибо после того, как
в результате завоевания их обстоятельства ухудшились и состояния оскудели, каждый из народа, кто испытывает нужду, посылает своих дочерей зарабатывать деньги
непотребством»*.
Я хочу добавить к этому месту всего лишь несколько замечаний: во-первых, девушек продавали лишь с целью заключения брака, и тот, кто за деньги взял к себе
девушку, должен был представить поручителей в том, что он либо возьмет ее в жены,
либо возвратит деньги, полученные за нее. Нравы и закон запрещали ему внебрачное
сожительство с ней. Этот обычай, конечно, утратился после персидского завоевания;
с тех пор — или, по словам Геродота, теперь — никому из граждан, которые понесли
урон при завоевании их местности, не возбраняется заставить свою дочь зарабатывать деньги безнравственным способом, что, напр., с давних пор было общепринятым обычаем у лидийцев и иных народов. Таким образом, у Геродота ясно говорится,
что подобное вошло в обыкновение лишь теперь, после завоевания Вавилона**. Итак,
во времена, из которых происходил культ Милитты в Вавилоне и связанный с ним
обряд, еще господствовал тот древний обычай, согласно которому созревшие для
брака девушки были продаваемы либо тем женихам, которые предлагали наибольшее количество денег, либо тем, что требовали себе наименьшего, и при этом, — заметьте хорошо, — девушки были продаваемы для замужества.
Как же соотносились бы друг с другом два этих повествования, если бы также
и те, которые вышеописанным образом посвящали себя Милитте, в свою очередь
были девственницами? Поэтому совершенно непостижимо — как такой ученый, как
Крейцер, в своей почти мечтательной манере связывать все со всем, говоря о культе Милитты, может упоминать лидийских девушек, зарабатывающих свое приданое
Геродот, 1,196.
Однако то, что служение Милитте и связанный с ним обычай является гораздо более ранним
и восходит к глубочайшей древности — к самому началу этого народа, — заключается уже в природе
обычая. То, что он не мог возникнуть уже во время персидского господства, настолько ясно, что не
нуждается в каких бы то ни было дополнительных объяснениях. Такому обычаю народ уже не подчинит себя в течение своей истории; он (обычай) может возникнуть лишь вместе с ним самим, с его
историей. Культ Милитты, таким образом, является исконно древним, т. е. существует с тех пор, как
существует память о коренном населении Вавилонии. Также Геродот отчетливо называет упомянутый закон местным законом.
Двенадцатая лекция
195
распутством*. Геродот ясно говорит, что подобное вошло в Вавилоне в обыкновение
лишь после персидского захвата (к тому же он всюду упоминает лишь о γυναίκες1).
К этому более позднему положению вещей относятся, таким образом, повествования, которые можно найти у Курция (Curtius) и других позднейших авторов, писавших о вавилонской безнравственности**.
Если же те, кто таким образом служил Милитте, были женщинами, состоящими
в браке, γυναίκες, то тем самым еще более непостижимым и странным становится
этот обычай у народа, для которого брак и семейные связи были предметом столь величайшего внимания и заботы, и лишь некое религиозное (разумеется, ложно религиозное) представление было способно к тому, чтобы изначально ввести и освятить
своей властью подобный обычай. Кстати, именно то обстоятельство, что отход от
древнейшего Бога воспринимался как прелюбодеяние — ощущение, которое у последующих народов успело уже утратиться, — именно это обстоятельство указывает
на первоначальный испуг сознания, а также на то, что именно вавилоняне и были
первыми почитателями Урании.
Что же касается дальнейшего, то здесь возможными становятся два воззрения.
Мы можем либо думать, что тот обряд, посредством коего они посвящали себя Милитте, а значит, отрекались от исключительного бога, — что этот обряд мыслился
как некий род издевательской насмешки над тем прежним богом, которого они посредством его отвергали. Здесь можно было бы, в таком случае, распознать ту психологическую черту, которую весьма часто можно обнаружить в истории суеверия.
В частности, тот, кто проследил и подверг внимательному рассмотрению явления,
сопровождающие собой первое возникновение мифологии, непременно сделает замечание — и мы сами с вами впоследствии будем иметь неоднократную возможность
сделать это замечание, — что всякий раз почитание впервые появляющихся женских
божеств ознаменовывается безудержным, необузданным весельем и ликованием. Ибо
каждое такое женское божество указывает на преодоление прежнего принципа, от
гнетущей власти которого сознание внезапно ощущает себя свободным, одновременно с этим чувствуя свою отданность во власть иного, еще не постижимого для него
принципа, и таким образом, не будучи властным над собой, испытывает пьянящий
Геродот, I, 94. Сравню в добавление к этому Страбона, XI, где идет речь о культе Анаиты (Anaitis)
у армян, который Страбон сравнивает с тем, что Геродот рассказывает о лидийских девушках, —
из чего в достаточной мере явствует совершенное несходство этих обычаев с вавилонским.
У Курция в V, 1, находим: Nihil urbis ejus corruptius moribus, nihil ad irritandas illicendasque immodicas voluptates instructius. Liberos conjugesque cum hospitibus stupro coire, modo pretium flagitii detur,
parentes maritique patiuntur (Нет другого города с такими испорченными нравами, со столькими соблазнами, возбуждающими неудержимые страсти. Родители и мужья разрешают здесь своим дочерям и женам вступать в связь с пришельцами, лишь бы им заплатили за их позор.) (лат.) (пер.
В. С. Соколова и А. Ч. Козаржевского).
196
Вторая книга. Мифология
восторг. Страх и отвращение, испытываемые по отношению к прежней власти, когда
эта последняя внезапно обрушивается или бывает уничтожена, естественным образом переходят в насмешку и издевку в ее адрес. Чтобы понять это, нужно лишь
принять во внимание то, как воспитанный в рабстве народ ведет себя по отношению к внезапно свергнутому тирану или любому из тех сильных мира сего, которому
случилось вдруг утратить свою власть. Если, таким образом, мы предположим, что
данное деяние, которое ведь было открытым и публичным, рассматривалось как акт
глумления над свергнутой властью, то тем самым мы не предположим ничего такого,
что не лежало бы в пределах человеческой природы. Однако из рассказа Геродота отнюдь не явствует, что вавилонская женщина исполняет данный закон с радостью: это
была лишь жертва, которую ей приходилось принести, и, без сомнения, весьма болезненная жертва. Эта жертва не была добровольной. Согласно одному месту апокрифической книги (Барух*), женщины сидят перед храмом Милитты, препоясавшись
«вервием», а значит, — выглядят именно как prava religione obstrictae2. Мужчина, за
которым следует окликнутая женщина, не есть мужчина, которого она сама выбрала,
она следует за ним не оттого, что чтит его: ибо она подчиняется даже самому неприглядному; также она идет за ним не из корысти: ибо даже и самая малая цена здесь
достаточна, но также и эти деньги принадлежат не ей, а отходят в сокровищницу храма. Во всех этих подробностях мы видим непреложное отношение сознания к новому богу, который идет вслед за первым, исключительным, и который в Вавилоне еще
даже не называется по имени: его пришествие обозначено лишь косвенно. Мы наблюдаем сознание в состоянии первого поползновения второго бога, где о нем ничего
еще собственно не говорится. Однако, также и тот факт не был случайным, что это
еще немотствующее сознание выражало себя столь торжественным актом. Именно
поскольку сознание не имеет свободного отношения к своим представлениям, поскольку оно не в силах еще даже высказать представления об этом боге, — именно
поэтому оно должно выразить данное представление во внешнем, и именно торжественном, деянии. Из этого можно самым определенным образом заключить о реальности данных представлений. Поскольку, однако, примеры здесь оказывают более
сильное действие, нежели рассуждения, то в качестве доказательства того, насколько
сильно повсюду в древности — и чем дальше вглубь веков, тем с большей силой —
выступает это стремление ко внешнему выражению представления, — в качестве
доказательства я хочу привести ряд примеров, относящихся к тому же кругу, начав,
однако, с одного ветхозаветного, относительно которого мы уже ранее имели случай
заметить, что он уподобляет связь народа с Иеговой брачному союзу. То, однако, что
* Гл. 6, 42.
Двенадцатая лекция
197
я хочу здесь привести, является, кроме всего прочего, действием, которое повелел
совершать сам Иегова.
Из всех пророков Ветхого Завета Оссия, вероятно, чаще всего пользуется данным, взятым от прелюбодеяния, подобием. Именно ему Иегова говорит в самом начале его пророческого служения: «Пойди и возьми себе жену-блудницу, ибо земля эта
забыла верность Господу в своем блудодеянии». И это повеление выполняется, ибо
далее следует: «И он (пророк) взял Гомерь, дочь Дивлаима». Позже* Господь еще раз
вступает с ним в разговор: «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят... лепешки их» (намек на жертвенные лепешки,
приносившиеся в дар языческим богам); также и здесь далее следует: «И приобрел
я себе женщину за пятнадцать сребренников и сказал ей: будь со мной некоторое
время и не блуди, ибо я также буду с тобой неизменно».
В этом примере, или, скорее, в этих двух примерах, лишь в несколько иной форме происходит то же самое, что мы предположили для нашего объяснения культа
Милитты в Вавилоне.
Сегодня мы привыкли называть подобные действия излюбленным словом «символические». Однако есть и такие, которые являются, пожалуй, больше чем просто
символическими. Символические действия следует мыслить лишь как свободные,
осмысленные; эти же не являются свободными, но они суть действия, продиктованные и словно бы инспирированные внутренним, действительным состоянием. Мы
в дальнейшем познакомимся с фанатичными жрецами, которые в священном неистовстве оскопляли себя. В объяснение этого Крейцер говорит, что тем самым они
хотели изобразить или представить ослабевающую с наступлением зимнего солнцеворота оплодотворяющую силу Солнца. Пусть этому верит тот, кто сможет. Мне
никак не верится, чтобы в угоду подобной бесчувственной и холодной идее какойнибудь жрец мог себя оскопить. Такое действие, скорее, совершалось в подражание
какому-либо оскопленному богу, например, Урану; ибо сознание во всем указанном
процессе настолько едино с этим богом, настолько срастается с ним, что всякое событие, случающееся с ним самим, воспринимает так, словно бы оно происходило
с богом, и наоборот.
Перейдем, однако, к другим примерам этой так называемой символики, теперь
уже относящимся к тому же кругу (Урании).
Ранее мы сказали, что Урания есть не что иное, как оженствленный Уран. Представление об этом первом женском божестве было, следовательно, не просто представлением о женском божестве, но — о ставшем женским из мужского. Также и это
* Гл. 3 , 1 -
198
Вторая книга. Мифология
определение сознание стремилось сохранить и удержать. Оно (определение) выражалось в том, что божество представлялось то в виде мужчины с женскими атрибутами,
то в виде женщины с мужскими. Пример первого рода являет собой вооруженное
и воинственное женское божество в Пасаргаде (одновременно доказательство того,
что женская Митра не была чужда персам), которое мы сравниваем с упоминаемой
Павсанием воинственной и носящей оружие Афродитой в Кифере. Примером противоположного рода можно назвать то изображение Афродиты на Кипре, о котором
Макробий сообщает, что Афродита представлена имеющей бороду и мужское телосложение, держащей в руках скипетр, однако облаченной в женские одежды; очевидно, для того чтобы показать, что это женское божество является лишь внешне облеченным женственностью, внутренне же все еще является мужским, что оно есть
чуть ли не переодетое мужское божество. Такая мужеобразная Афродита именно
по указанной причине получила имя Άφρόδιτος3*. Это понятие лишь относительно
женской сущности, которое было как бы внушено сознанию непосредственно ходом
внутреннего процесса, таким способом было представлено в образе самого божества.
Однако этим чувство отнюдь еще не ограничилось, но поскольку такой переход
от мужественности к женственности представлялся как совершающийся в постоянном истолковании, возникла потребность выразить это также и в действии. Именно поэтому (напр., согласно свидетельству Филохора) этой Афродите в мужском
облике приносили жертвы мужчины в женских одеяниях, женщины же надевали
на себя мужские одежды — т.е. для принесения жертв всем приходилось переодеваться**. Здесь, таким образом, вы вновь имеете пример мимического представления
внутреннего процесса. Сюда же относится также и то, что Юлий Фирмик повествует
о жрецах ассирийской Афродиты (т.е. как раз Милитты), а именно, что они (жрецы)
придают своим лицам женский облик, разглаживают кожу и позорят свою мужскую
сущность женскими одеяниями, или, если привести подлинные латинские слова: aliter ei servire nequeunt, nisi effeminent vultum, cutem poliant, et virilem sexum ornatu muliebri dedecorent4***. То, однако, что не только жрецы, но также и рядовые поклонники
Сатурналии, II, 8: Signum ejus (Veneris) est Cypri: barbatum corpore, sed veste muliebri, cum sceptro
ac statura virili, et putant, eundem marem et feminam esse. Aristophanes eam Άφρόδιτον apellat (Также
и на Кипре есть ее (Венеры) изображение с бородой, но в женской одежде, с жезлом и мужской стати, и считают, что [она], одна и та же, является и мужчиной, и женщиной. Аристофан называет ее
Афродитом) (лат.).
Об ошибках языческой религии, 6.
Сатурналии, II, 8: Philochorus quoque in Atthide eandem affirmât esse Lunum, nam etsi sacrifkium
facere viros cum muliebri veste, mulieres cum virili veste (Также Филохор в [сочинении] «Аттида» утверждает, что она же является Луной (Луном — м. р.), и мужчины совершают ей священное служение
в женской одежде, а женщины — в мужской) (лат.). — III, 8. Ср. также Сервий в Энеиде, II, ст. 632;
Маймонид. Мог. Nev., III, 27.
Двенадцатая лекция
199
этого божества переодевались подобным образом, явствует из уже приведенного
места Филохора, и в особенности — из закона, который содержится в Моисеевом
законодательном своде и сам по себе может служить доказательством всеобщего
распространения этого обычая в ту эпоху: женщина не должна носить мужского
одеяния, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо то, что в этом запрете имеются в виду не переодевания вообще, в том виде, в каком они встречаются
и допускаются у нас и по сей день, но переодевания, с которыми связывалось языческое намерение, явствует из дополнения: ибо поступающий так мерзок есть пред
Господом, Богом твоим*.
Здесь, таким образом, мы имеем совершенно ясные примеры того, как охваченные подобным суеверием чувствуют себя призванными и ощущают внутреннее веление отобразить то, что происходит в их сознании, внешним образом и именно на
самих себе.
Еще одно, и еще более далеко идущее отображение относительного оженствления я не стану здесь упоминать; оно превосходит собой даже вавилонскую мерзость.
Достаточно будет напомнить о тех кедишим , которые в Ветхом Завете упоминаются
в связи с Астарот, т.е. с Астартой, другим именем Урании. Греческое имя мужских
иеродулов выглядит как всего лишь перевод этого ориентального. Огромное количество таких мужских иеродулов упоминает Страбон, в особенности — там, где он
говорит о культе богини Команы в Каппадокии***. Культ этой богини Команы — которую Страбон называет Ένυώ5, Беллона, которая также представлялась как снабженная мужскими атрибутами и чьи празднества сопровождались воинственными
танцами, — представлял собой одно из древнейших ответвлений культа Урании****.
Именно сюда относятся также и сабазийские оргии, по поводу которых во всей древности господствует единое мнение. Сабазий, как показывает само имя, есть бог забизма — бог неба, — однако смягчившийся, сделавшийся женственным, и отсюда
происходит распутство его мистерий, характер которых хорошо понятен из той позиции, которую занял в их отношении римский Сенат, о чем подробно рассказывает
Ливии в 39-й книге*****. Однако довольно, пожалуй, этих примеров; ибо я полагаю, что
* Втор. 22, 5. Ср.: Spencer. De legg. Hebr. rituy кн. II, с. 29.
Напр., 4 Царств 23, 7. Сюда же относится приведенное Гесихием особое значение Τιτάν.
В начале кн. XII: Πλείστον μέντοι των θεοφορήτων πλήθος, και το των ίεροδούλων έν αύτη. о (Великое
множество теофоретов (несущих изображения богов в религ. шествии), и в том числе — иеродулов
(храмовых служителей)) (греч.).
Крейцер, т. II, с. 29. Плутарх (Сулла, 9) сравнивает ее с Афиной.
Гл. 8-19. Эти так называемыемистерии, следовательно, относятся к богузабизма, однако (как далее
показывает их содержание) здесь упомянутый бог пребывает уже в стадии перехода. Этот возникший в Азии праздник, по-видимому, сохранился на протяжении последующего столетия, возможно,
что уже там он был вытеснен в подполье позднейшей религией и справлялся лишь в форме мистерий
200
Вторая книга. Мифология
после уже сказанного нами всякое сомнение в верности нашего объяснения этого
вавилонского обычая должно исчезнуть и в достаточной степени подтвердиться его
обоснованность.
Именно отсюда, т. е. из этой точки, в которой мы сейчас стоим, ведет свое начало отвратительный обычай оскоплять мальчиков, дабы таким образом превратить
мужское в женское, — мерзость, которая с древних времен укоренилась на Востоке
и, к сожалению, продолжилась в христианскую эпоху вплоть до наших дней. Этот
обычай ведет начало из Вавидона; по меньшей мере Элленик (Hellenikus) утверждает, что от вавилонян он пришел к персам, а Геродот упоминает среди прочих поступлений персидского царя 500 оскопленных мальчиков, которых должен был ежегодно предоставлять ему Вавилон и остальная Ассирия. Похоже, таким образом, что
в самой Персии оскопление мальчиков не было принято.
Мне удалось теперь фактическим, историческим путем доказать то, что прежде
было выведено из внутренней глубины самого мифологического развития, а именно — то, 1) что Урания представляет собой поворотную точку между предшествующим, еще немифологическим забизмом — и позднейшим мифологическим политеизмом, что именно она образует собой переход от одного к другому, и именно
поэтому ее еще в древности упоминает Геродот как божество древнейших, т. е. первыми перешедших к исторической жизни, народов; 2) что это божество не мыслилось как изначально женское, но как ставшее женским из мужского. Все только что
приведенные нами обычаи суть не что иное, как оттиски, повторения этого перехода
от мужского к женскому; одновременно они выражают собой ту идею, что указанная
женственность является только относительной, и то же самое, что по отношению
к высшему ведет себя как женское, само в себе представляет собой мужское, и наоборот — ибо ведь в дальнейшем мы будем иметь возможность наблюдать, как на
и, вне всякого сомнения, подвергся множественным искажениям. Римскому же сознанию сабазии
были совершенно чуждыми; они вкрались в город приблизительно в шестом столетии и — под покровом таинства — сохранялись, может быть, и не слишком долго, покуда о них не стало известно
римскому Сенату, который вскоре инициировал по отношению к ним педантичную и нудную судебную процедуру. Сабазии, таким образом, никогда не существовали в Риме в какой-либо иной форме
кроме religio peregrina. Влияние такой, собственно римским сознанием отвергнутой, чуждой религии было одним из предзнаменований внутреннего, нравственного разложения республики, точно
так же как и позднее — во времена императоров — проникавшие в Римскую империю чуждые религии и церемонии, которые, однако, никогда не выходили в ней из-под покровов тайны, являли собой
симптомы упадка не только традиционной староотеческой религии, но и самого государства. Уже во
времена Тиберия Рим был наводнен восточными суевериями. При следующих цезарях особое распространение получили Mithriaca (seil, mysteria), охватившие собой практически всю территорию
Римской империи. Isiaca проникли в Рим еще того ранее. По мере того как мифологическая религия
близилась к своему концу, человеческий взор вновь обращался к началу, к древности, — в надежде,
как это часто происходит, в формах древних сохранить то, что уже близилось к своей гибели.
Двенадцатая лекция
201
месте женских божеств вскоре вновь появятся мужские. Отсюда одновременно явствует также и то, что во всех женско-мужских божествах отнюдь не мыслится, как
это многие привыкли понимать, уродливая одновременность и совокупность обоих
полов, действительный гермафродитизм; скорее, они должны выражать собой лишь
переход или фиксировать то понятие, что теперь положенное как женское не является женским изначально, но есть лишь преобразованное в женское мужское, которое
в иных отношениях может проявить себя и как таковое.
Сознание, которое могло прийти к представлению о низведенном до женственности божестве лишь в результате переживания своего рода непроизвольного кризиса, тем более должно было удержать понятие простой его относительности, и это
удалось ему гораздо легче, нежели позднее науке удалось отыскать понятие относительно не-сущего, в себе же самом сущего, без которого, как в частности показал
Платон, невозможно сделать ни одного уверенного шага в познании.
Однако данное превращение возможно лишь постольку, поскольку в рамках
того же процесса в сознании появляется другой, высший бог. Эта женская природа
не может покинуть центр, место, в котором она пребывала прежде и в котором намерена была пребывать в дальнейшем, без того чтобы положить вместо себя другого
бога. Таков третий пункт. Ни изначально, ни в себе, но лишь по отношению к высшему она является женственной, периферической. Эту необходимую взаимосвязь
и одновременное явление богини и бога мы могли бы лишь, так сказать, косвенно
распознать в том, что Геродот сообщает о культе вавилонской Милитты. И напротив, именно эту одновременность мы увидим выраженной решительно и отчетливо,
если мы, — взяв себе в проводники Геродота, который, как вы, должно быть, помните, выводит женское божество персов от ассирийцев и аравийцев, — перейдем
теперь к аравийцам, которых я вместе с ним буду так называть, чтобы отличать их
от так называемых арабов, арабов пустыни. Ибо арабские нации, как известно, являлись кочевниками в так называемой пустынной Аравии, а в Аравии более счастливой — народами земледельческими, источником богатства которых были обработка
земли и торговля.
О них, кого при случае Геродот упоминает уже в первой книге, в разговоре о персах, — в третьей книге он говорит: «Богом они признают только Диониса и Уранию»*.
Здесь, таким образом, на первом месте назван тот самый бог, который еще не известен и не поименован у ассирийцев и который до этого времени представлялся и возвещался сознанию лишь как неведомый, грядущий издалека, как будущий; естественно, что Геродот называет этого бога его греческим именем: ибо Геродот, для которого
все эти понятия (в отличие от новейших мифологов) не казались возникшими только
Геродот, III, 8: Διόνυσον δέ θεόν μοϋνον και την Ούρανίην ήγεϋνται είναι (лишь Диониса и Уранию почитают богами) (греч.). — Ср.: Арриан, VII, 20; Страбон, XVI, 1.
202
Вторая книга. Мифология
случайно и который, напротив, сам имел ощущение их всеобщности и необходимости, — мог со спокойной совестью называть этого бога его греческим именем повсюду, где он его находил; поэтому также и мы с вами в тех случаях, где нам необходимо
будет обозначить общее понятие какого-либо божества, будем без стеснения называть его греческим именем, не мысля его, впрочем, при этом сразу же со всеми теми
определениями, которые оно лишь позднее получает в греческом сознании. Дионис,
этот второй бог, является на протяжении всего мифологического процесса грядущим, находящимся в состоянии приближения — ибо лишь в конце и цели данного
процесса он может быть признан полностью осуществившимся. Это, однако, не мешает нам с самого начала снабдить его именем Диониса, пусть даже он сейчас и не
способен получить те определения, которыми будет обладать в конце.
С целью, однако, быть понятным также и для тех, кто, вероятно, является еще
новичками в историческом знании мифологии, я хочу отметить, что можно было бы
прочесть не одно объемистое руководство по мифологии, не встретившись при этом
ни разу с именем Диониса, либо же найдя его только в парентезе6 при более общеупотребительном — поскольку более привычном для римлян — имени Вакха, под которым обычно подразумевают лишь бога вина и которое, в результате множественных
псевдопоэтических злоупотреблений, серьезнейшим образом обесценилось. Вакх,
действительно, есть другое греческое имя Диониса. Однако оно обозначает у греков
не Диониса вообще, но лишь определенное понятие Диониса. Именно по указанной причине мы всегда будем пользоваться только этим греческим именем, которое
одновременно является также и более общим. Примечательной для того, кто привык
к обычным руководствам или хотя бы имеет в виду «Теогонию» Гесиода, будет также
и та последовательность, в которой у нас появляются боги. Почему, однако, в «Теогонии» они отчасти появляются в совершенно иной последовательности, найдет себе
в дальнейшем совершенно естественное объяснение. Одной из величайших заслуг
Крейцера является то, что он первым среди новейших [исследователей] вновь извлек
Диониса из забвения, поставил его на подобающее ему место и вообще ощутил, что
в дионисийском учении дан ключ ко всей греческой мифологии. Это то, что касается
данного вопроса. Что же до места Геродота, то не может быть случайным тот факт,
что он выражается таким, по сути противоречивым, способом: «Они (аравийцы)
признают за бога лишь Диониса и Уранию», ибо, собственно, следовало бы сказать:
они почитают за богов лишь Диониса и Уранию. Поэтому нас едва ли обвинят в том,
что мы чересчур цепляемся за слова, если мы усмотрим в этом тот смысл, что, согласно представлению аравийцев, оба божества рассматриваются лишь как неразрывные, представляющие единство, каковыми они и в действительности являются,
ибо Урания существует лишь в постоянном полагании или порождении другого бога
и, как мать, словно бы ни единого мгновения не может мыслиться без него, который,
в свою очередь, существует лишь в постоянном рождении и полагании посредством
Двенадцатая лекция
203
первой. Урания есть не просто Урания, но та, что тайным образом (inqualirt) носит
в себе Диониса. То, что таково было не только мнение Геродота, но и представление
аравийцев, — явствует из тех имен, которые указывает Геродот. «Они называют, —
говорит Геродот, — Диониса Уротал (принимая обычное чтение), Уранию же Алилат». Последнее имя пытались объяснять различными способами* и при этом, что
выглядит довольно странно, не подумали о самом простом объяснении. AI — это
известный арабский артикль, какой присутствует во множестве иных арабских слов,
перешедших в новейшие западные языки, напр., «алгебра». Hat (хотя он по понятным причинам не встречается у магометанских авторов) представляет собой женский род от Ilah или Elah, бог (ein Gott); Al-Ilat, таким образом, не есть nomen proprium7, но означает попросту «богиня». Другое арабское имя, 'Αλίττα8, которое Геродот
приводит там, где он говорит о персах, — если только его не считать всего лишь
иной формой слова Al-Ilat, — вероятнее всего, объясняется из арабского Waleda или
Walida, что Геродот по-гречески, где не существует ни и в качестве согласного, ни w,
едва ли мог написать иначе, чем Alitta. Согласно этому объяснению, Alitta означает
не что иное, как «родительница», «мать». Имя арабского Диониса есть Уротал, как со
времен Весселинга значится практически во всех текстах. В более ранних изданиях
можно было встретить Urotalt, в одной бодлеанийской рукописи, которую приводит
Пококе**, встречается даже Urotalat. Я весьма склонен считать именно это верным
прочтением. Если мы теперь примем такой способ прочтения, то Urotalt или Ulodalt,
или Ulod-Allat (от редуцированного Allah) — принимая во внимание бесчисленное
количество раз встречающуюся, и особенно в именах, замену г на 1, — будет означать не что иное, как «сын», «дитя богини»***. Это отношение взаимопринадлежности
и единства, таким образом, выражено также и в именах.
Итак, нам удалось только что также и исторически засвидетельствовать второго
(относительно духовного) бога как необходимый коррелят Урании, т. е. принявшего женский облик божества, точно так же как ранее нам удалось дедуцировать его
из необходимого хода мифологического процесса.
Его выводили от арабского Hilal, что означает «луна» (собственно, лишь первый лунный свет после новолуния); однако о луне здесь речь более не идет.
Не замечено никем, включая и самого последнего издателя.
Почему не было употреблено обычное Ibn (= сын)? Именно по причине его общепринятости
и привычности. В маронитских семьях, и равным образом у западных арабов, несмотря на то что названия целых племен образуются обычным способом, напр., Béni Amer, все же гораздо чаще, — как
можно узнать уже из газет, — они образуются с помощью Ulod, напр., Uled-Maadi; кстати, подобное
же сочетание можно встретить и в случае с отдельными именами, напр., каид (der Kaid) бедуинского
племени вблизи Боны — Uled Soliman; один из предводителей кабилов — Uled-Araba. В случае с племенами удваивается.
ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Теперь, после того как было нарушено первоначальное единство и исключительность забизма, и равным образом было утрачено также и то единство, которое
сознание пыталось удержать в персидском учении, — после всего этого мы вышли
из области единства, перейдя к действительной двойственности и, тем самым, оказавшись в самом начале неудержимо движущегося вперед, неуклонно прогрессирующего мифологического процесса. Не удивительно, если позднейшее, ушедшее от
тесноты забизма, находящееся теперь всецело во власти этого процесса и ликующее
по данному поводу сознание праздновало первое появление этого женского божества как победу; я напомню хотя бы о победоносной Афродите, о Venus victrix1 римлян, которые относятся сюда. Именно такой смысл заключен, как мы видели, в имени Милитты = прибежище, собственно «приют», «жилище». Это первое склонение
(Niederwerfung), поскольку поглощающая сила пребывает в сверхъестественном
склонении, как бы согбенной. Ибо сила присутствует лишь в противоположности
чистому бытию, в чистом бытии в возможности. Бытие, чистое бытие, бессильно;
ибо оно есть противоположность возможности — [сын не есть жизнь в себе]; это
первое склонение или положение в основу, эта катабола, представляющая лишь основу, материал для последующего процесса, есть в неменьшей степени также и поворотный момент в той науке, которая без данного опосредующего звена никогда не
смогла бы войти в конкретную действительность. Философия мифологии есть не по
своей интенции, но по своему существу философия природы — лишь в более высокой сфере. Этот процесс, в котором сперва неприступный, исключительно Единый
делает себя материалом, основанием, может именно поэтому также рассматриваться как выворачивание наизнанку этого Единого, как некая universio. Сознание, однако, для которого таким образом материализовался Бог, теперь ничуть не в меньшей
степени обладает им в себе, чем ранее, но напротив, лишь теперь оно может обладать
в материи и как материальным тем Богом, который прежде был для него надматериальным. Сознание как бы поменялось местами с Богом; оно лишь теперь собственно
может называться сознанием, имеющим у себя на службе Бога. Материализованный бог есть то же, чем он был и ранее, в себе все еще = В, и только по отношению
Тринадцатая лекция
205
к высшему богу он сделался пассивным, материальным. Лишь благодаря своему
уклонению, становлению периферическим он сделался доступным для него (ei obnoxium2). В более ранний момент высший бог был для сознания абсолютно исключенным, сознание было совершенно слепо по отношению к нему. В настоящий же
момент он допускается лишь как потенция, как тот, кто еще не существует как действительный, но который должен осуществиться. Настоящий момент, таким образом, продолжается вплоть до рождения относительно высшего бога, который входит
в бытие как раз тогда, когда потенция положена и знаема; о каком-либо действии
этого бога речь пока еще не идет. Однако к этой точке тут же привязывается действие этого бога, т. е. действительный процесс. Ибо он, как мы знаем, не свободен
действовать или не действовать, но как только ему дано пространство и возможность действовать, он есть с необходимостью, по своей природе, действующий. Его
действие, однако, состоит лишь в том, что он преодолевает противостоящее ему
быть не должное, вновь приводя его к небытию; у него нет поэтому какой-либо иной
воли, кроме как преобразовать это ставшее действующим против его определения,
в ту сущность, в то чистое бытие в возможности, а тем самым в то богополагающее,
каким оно было изначально*.
По отношению ко второму высшему богу, следовательно, этот вне себя положенный принцип выглядит как двойственный. Он есть вне себя положенный, однако
такой, который вновь может быть положен внутренне, возвращен к самому себе —
не самим собою, но благодаря действию другого бога. Здесь, таким образом, лишь
в обратном смысле восстанавливает себя непреодолимая двойственность той пер3
вой природы; она есть также и здесь в свою очередь Δυάς . Как первоначально она
представляла собой духовное, однако могла быть недуховной, — точно так же здесь
она есть недуховное, которое, однако, вновь может стать духовным. Как могущее
Есть два момента, которые мы различили в историческом явлении второго бога, каждый из которых представлен другим народом: 1) тот, в котором второй бог сперва лишь возвещает о себе, когда
он еще не вошел в бытие, а значит, еще не получил имени (не отличен при помощи имени). Этот
момент может быть различен в сознании вавилонян; 2) тот, где он, пусть даже как только потенция,
но все-таки действительно вошел в бытие, и поэтому теперь может также иметь имя. Этот момент
распознается в сознании аравийцев. Однако непосредственно к этому моменту примыкает теперь
собственно процесс, для которого предшествующий нашей καταβολή (сотворение) (греч.) — материализации первоначально духовного бога дал лишь материал или основание. Высший, лишь из простого бытия исключенный, а теперь допущенный и положенный, по меньшей мере как потенция
или как субъект, бог имеет своей задачей осуществиться посредством преодоления допускающего
его лишь в качестве потенции, а значит, все еще противостоящего ему бытия, т. е. восстановиться
в первоначальном акте (В есть е potentia ad actum представшее; в свою очередь, потенция, А2, — есть
ex actu in potentiam положенное, которое вновь должно стать актом: так противостоят друг другу эти
двое). Естественное действие положенного как потенция есть действительное преодоление того вне
себя сущего принципа, который до сих пор был всего лишь предметом возможного преодоления.
206
Вторая книга. Мифология
быть двояким образом, в то время как Бог может быть лишь одним определенным
образом и желать лишь Одного, оно относится к нему как Dyas к Monas, и потому,
согласно древнему учению, как женственное к мужскому. Однако оно также и в себе
самом есть то и другое, ибо, с одной стороны, будучи доступным для Бога и склонным предоставить себя ему для преодоления, оно проявляет себя как женское, с другой же, противясь ему и желая пребывать в слепом бытии, оно выказывает мужские
свойства. В этой позиции по отношению к высшему, преимущественно действующему богу, лежит причина того, что также и происходящие из него боги, которых
мы называем субстанциальными (поскольку они возникают из субстанции этого
становящегося теперь преодолимым принципа, ставшего материальным В) — представляют собой лишь различные формы, образы В, а также причина того, что на
протяжении всего последующего процесса они всегда предстают в двойственном обличий, отчасти мужском, отчасти же — женском.
Что данное объяснение является верным, явствует из того, что именно в греческой теогонии, или истории богов, супруга — т. е. женская сторона властвующего
бога — всегда одобряет то движение вперед, которому противится мужская его сторона, благоприятствуя и способствуя ему. Еще древняя Гея, — оскорбленная и внутренне вздыхающая о том, что Уран не позволяет увидеть свет рожденным от него
детям, принадлежащим, собственно, уже более позднему времени, о котором он ничего не желает знать, и томит их в земном заточении, — прячет в засаде беззаконного
сына, который, внезапно вырвавшись из нее, оскопляет ничего не подозревающего
отца. В последующую эпоху, в свою очередь, Рея — супруга Кроноса, — столь же возмущенная жребием своих детей, которых чудовище всякий раз проглатывает сразу
же по их рождении, с древними божествами Геей и Ураном, который теперь уже более
не имеет причин не желать продвижения и, напротив, должен желать, чтобы судьба,
жертвой которой он стал сам, свершилась и на сей раз, — с ним, таким образом, Рея
держит совет о том, как устроить тайное рождение своего последнего сына. Замысел,
который предлагают ей эти божества, имеет успех: Зевс, которому удается бегство,
возмужав, одерживает победу над своим отцом, принуждает его извергнуть одного за другим всех прежде проглоченных — и одновременно освобождает еще более
древних, до сих пор томившихся в темнице сыновей Урана, которые выковывают
ему гром и молнию, с тем чтобы с их помощью он мог поддерживать свое господство над миром и богами. В последнем, продолжительное время господствующем
божественном роде, правда, отношение должно затем измениться. В прежних родах
именно женское божество момента представляет собой нестабильный, непостоянный
принцип, в последнем же поколении, где невозможно дальнейшее свержение, — напротив, женскому божеству приходится опасаться превратностей. Гера, супруга Зевса, именно своим страхом перед свержением выказывает собственную, родственную
переменам и непостоянству, природу; поэтому она относится враждебно ко всему, что
Тринадцатая лекция
207
хотя бы отдаленно возвещает приближение нового времени, подвергая его преследованиям и гонениям, самому же Зевсу пристало ничего не бояться и быть уверенным
в своем мировом господстве, и именно в этом выражает себя мужское начало.
Если мы захотим объяснить родовое отличие этих позднейших богов, то одновременно должны быть объяснены и эти особые обстоятельства. Также и здесь нельзя удовлетвориться одним лишь общим, приблизительным объяснением.
Итак, этим положением по отношению к высшему богу непосредственно дан
повод к новому процессу, и непосредственно с предшествующим событием катаболы — которое именно поэтому отделяет для себя еще немифологическое время
от мифологического — связано новое, совершенно отделенное от прежнего, движение. Древнейшие народы, также и упомянутые последними аравийцы, остановились
в том моменте сознания, где отношение между высшей и подчиненной потенцией
было не более чем тихим, лишенным какого бы то ни было действия. Однако сознанию народов, в среде коих имела родиться собственно мифология, предстояла более
глубокая борьба, о которой мы теперь предварительно попробуем дать лишь некое
общее представление.
Естественным действием высшего бога на сознание будет действительно преодолеть, т.е. возвратить в его сущность, в его внутреннее и, тем самым, в его истинную божественность тот вне себя сущий принцип сознания, который теперь, т.е.
в той мере, в какой мы продвинулись в нашем исследовании, — положен лишь как
предмет возможного преодоления. Однако этому противится именно сам означенный принцип сознания. Он стремится оставаться свободным от второго бога, не
желая превращаться в его действительную материю. Поэтому он сейчас вновь принимает по отношению к этому богу духовное качество. Как только дело доходит до
действительного преодоления, он из пассивного вновь становится активным; поэтому в нем теперь присутствует двойственная духовность: а) та, которой требует от
него высший бог — тот, что стремится вернуть его в него самого и, тем самым, вновь
положить его как дух; Ь) недуховная духовность, опираясь на которую, он противится требуемой от него духовности.
Здесь, где нам для последующего процесса необходимо последовательное преодоление, можно было бы задаться вопросом: почему, собственно, вообще имеет место сопротивление? Почему, — можно было бы спросить, — это новое обращение
в духовное не происходит единовременно, как бы одним ударом? Я отвечаю: по той
же самой причине, по какой вообще имеет место развитие. Почему вообще всякое
развитие медлит? Почему, едва лишь цель начинает казаться близкой, в общий ход
вещей включаются новые, отодвигающие решение на неопределенное время, опосредующие звенья? На это существует лишь один ответ: с самого начала все рассчитано на наивысшую степень добровольности. Ничто не должно быть проводимо одной лишь силой. В конечном итоге, все должно происходить из того самого
208
Вторая книга. Мифология
сопротивляющегося, которое именно поэтому должно иметь свою волю до последнего издыхания. То превращение, которое предполагается в нем, должно происходить
не извне, насильственно, но изнутри и таким образом, дабы оно поступенно приводилось к тому, чтобы добровольно предаться ему. Лишь в результате того, что сознание будет проведено через все возможные между началом и концом ступени, — то
последнее познание, о котором идет у нас речь, сможет быть порождением полного и совершенно исчерпывающего опыта. В том, хотя теперь и отошедшем от своей
истинной сущности, принципе, который изначально (а именно в силу полученного
в творении определения) был не самим сущим, но только богополагающим — в нем,
хотя теперь и вне себя, вне своей истинной сущности положенном принципе, в нем,
тем не менее, единственно заключена истинная и последняя сила познания: он не
может быть разрушен, чтобы вместе с ним не было разрушено само познание. В постепенности, ступенеобразности преодоления проявляет себя закон, а также дает
себя знать властвующее и над этим движением провидение.
Поскольку мы говорим здесь о провидении, то, конечно же, в этом исследовании
может попутно возникнуть вопрос и о том, почему божественное провидение заставило идти большую часть человечества этим, — как мы уже сейчас видели, и как
еще увидим впоследствии, — отмеченным ужасами и мерзостями всякого рода путем, попытавшись охранить от такой участи один маленький, неприметный народ.
На вопросы подобного рода нет ответа иного, кроме абсолютной, никаким законом
не связанной свободы Бога — или восклицания апостола, произнесенного в той же
взаимосвязи: «Как неисследимы суды его и неисповедимы пути его!» Я хочу обратить внимание лишь на то, как дорого пришлось заплатить этому маленькому, незначительному народу за то иллюзорно партийное преимущество, которым одарило
его божественное провидение. На нем воистину сбылось реченное: и первые будут
последними, и последние первыми; ибо вот уже две тысячи лет подряд этот народ
отдан в жертву другим народам и попирается ими вплоть до сегодняшнего дня, —
в то время как те, что прежде стояли вдали и были язычниками, те, которые, как
выражается апостол, оставили Бога в развращении ума своего, чтобы осквернять
собственные тела, —именно они, говорю я, теперь допущены к обладанию всей первоначально принадлежавшей тому народу благодатью, так что Иафет действительно
живет в шатрах Сима, как и пророчествовал второй отец рода человеческого. Уже
отмечалось, что, впрочем, даже особому божественному провидению не удалось охранить избранный народ от всех мерзостей язычества. Если мы углубимся в его собственные исторические книги, то найдем, что большая часть этого народа — тайно
еще в пустыне, а открыто в эпоху судей, а также царей — предавалась тем же самым
мерзостям и порокам, которые мы можем найти среди вавилонян, ханаанитов, финикийцев и всех других современных им народов. Монотеизм был законом, политеизм — практикой. Основательное и навсегда оставшееся отвращение ко всякому
Тринадцатая лекция
209
идолопоклонству израэлиты заимели лишь по своем возвращении из вавилонского
плена: не потому, как это обычно объясняли, что там они нашли пример более чистой религии, духовного монотеизма, но поскольку именно в эту эпоху мифологический процесс в человечестве вообще утратил свою силу.
Принцип сознания, таким образом, который является предметом преодоления,
с необходимостью должен оказывать сопротивление. Его естественная воля — его
воля, в той мере, в какой он предоставлен самому себе — состоит в том, чтобы пребывать чистым, т. е. не затронутым духовностью* слепым принципом = В. Поскольку
же, однако, он не может всецело отразить воздействия этого бога, — он постоянно
в известной мере затрагивается духовностью и равен А; он есть уже более не чистая,
но затронутая духовностью материя, а также не просто равная возможность того
и другого, каковым он и был ранее, когда он как В мог быть также и А быть могущим, но теперь он действительно является духовно-недуховным, действительно тем
и другим, являет собой нечто, в чем то и другое срослись воедино. Эта недуховность,
сросшаяся с духовностью, образует собой конкретное. Чисто позитивный принцип
материи, которого мы, правда, нигде не видим, так как он, чтобы быть видимым для
нас, должен быть уже затронут внутренностью, — это чисто позитивное материи,
таким образом, по отношению к теперь возникающему есть все еще чистый +, который всего лишь имеет возможность быть также - (негативным). Возникающее
же теперь есть действительно существующее в ±. (Эти выражения, которые должны
быть известны каждому из естествоиспытательной науки, где идет речь о + и -, электричестве, магнетизме и т.д. — должны быть позволены нам и здесь, ибо мифологическое образование мы рассматриваем совершенно таким же образом, каким мы
ранее рассматривали явления и образования природы.) Возникающее здесь, таким
образом, не есть уже чистая материя; это уже конкретные материальные образования, и поэтому тот переход, который здесь имеет место, мы можем обозначить
предварительно как переход в конкретное вообще, где впервые возникает свободная
множественность и разнообразие.
Следующее также может послужить к дальнейшему объяснению этого перехода.
Тот Бог, который в первый момент господствовал исключительно, — сделался
доступен, преодолим для высшей потенции, которую он ранее исключал, не сделавшись при этом сущностно (я прошу вас хорошо это заметить) иным; лишь его
позиция по отношению к первоначально исключенной потенции изменилась; лишь
по отношению к ней, т.е. вообще только относительным образом, произошло его
оженствление, в себе же самом он все еще тот же самый, = В, и должен таковым
пребывать, именно для того чтобы был возможен процесс. Первое, таким образом,
Т. е. внутренностью.
210
Вторая книга. Мифология
естественное движение сознания, как только оно ощущает на себе воздействие высшей потенции, есть воспротивиться ей, отказать ей в признании: не как сущему,
но — как Богу, т. е. удержать первого бога как исключительного точно так же, как
он был исключительно сущим ранее. Однако оно не может всецело отклонить действия высшей потенции; В, таким образом, уже не есть для него только В, но всегда
известным образом также и А, т. е. духовное. В результате того, однако, что этот бог
есть в себе недуховный, но лишь облеченный духовностью, он одновременно есть
конкретный. Это новое понятие. Ибо бог предшествующего момента был еще попросту общим и столь же мало конкретным, как, напр., чистый огонь есть нечто
конкретное; он был богом, ни образа, ни подобия которого сознание не в силах было
для себя сотворить; однако именно этот — ранее общий — бог превращается теперь,
прежде всего в сознании, в конкретного. Ибо конкретное приходится именно лишь
на переход. Как бог, который есть чистое В, не был конкретным, — столь же мало
мог бы быть конкретным бог, который, в свою очередь, был бы чистой потенцией,
или А. Конкретное есть В, которое одновременно есть А, или, одним словом, двойное. Следовательно, исходный пункт процесса есть бог, который есть чистое В, конец
же процесса есть всецело преодоленное В, которое лишь в этой своей преодоленности есть, в свою очередь, истинно богополагающее. Ибо лишь через преодоление небога (Ungottes) для однажды нарушенного и расчлененного сознания вновь может
быть опосредован истинный Бог. Однако посредине между этими двумя конечными
пунктами с необходимостью лежат моменты, которые нам необходимо различать,
дабы посредством этого прийти к предварительному обзору всего — с этого момента
неудержимо продвигающегося к своему концу — мифологического процесса.
Первым моментом с необходимостью будет тот, где духовность, которая требуется от реального принципа, от В, является именно лишь как требование (Anmutung), т.е. где данный принцип еще достаточно силен для того, чтобы вновь и вновь
обращать эту требуемую от него духовность во внешнее или в материю и как бы
гасить ее. В природе этот момент представлен первым появлением телесного. Телесное уже не есть более та чистая материя, которая не несет в себе никаких следов духовности, и если мы вообще можем различать три момента: 1) позитивный принцип
материи, который еще пытается утверждать себя как духовный, сверхъестественный
(этот момент был положен в чистом забизме); 2) тот же позитивный принцип материи, поскольку он подчинил себя высшей, относительно духовной потенции, материализовал себя, хотя и только лишь относительно, по отношению к ней (этот момент в мифологии был обозначен Уранией); 3) тот же позитивный принцип материи,
поскольку он уже отчасти возвращен в свою потенциальность высшей духовной силой, уже затронут духовностью, — если мы, таким образом, вообще различаем эти
три момента, то телесное есть лишь третий из них. Телесное стоит поэтому, если мы
посмотрим на продвижение процесса в целом, уже выше, чем позитивный принцип
Тринадцатая лекция
211
материи в его чистой, еще никакой противоположностью не ущербленной и не ограниченной реальности. Все в телесном, что не есть простое слепое бытие, чистая материя, все, что являет себя как форма, как понятие, есть уже дело той, другой потенции,
о которой мы говорим, что она хоть и не есть сам разум, νους4, дух — ибо она, как
показано, не есть произвольно или свободно, т.е. слепо, действующее — но однако:
она есть вызывающее появление разума, В становится разумом. Вы можете отсюда сделать мимоходом еще и то заключение, насколько пустым, чисто формальным
и собственно ничего не говорящим является определение, согласно которому природа вообще мыслится лишь как форма внешности, инобытия. Одним лишь инобытием нельзя объяснить природу. Принцип инаковости, другая самость, был бы
нашим В, которое, однако, — покуда оно лишь чисто позитивно или даже существует в одной лишь возможности быть преодоленным, — еще не есть действительно
природа, но всего лишь предпосылка природы. То, что мы действительно можем называть природой, лежит не на пути первого выхода, но уже на пути повторного обращения (Wiederumwendung), повторного одухотворения (Wiedervergeistigung). Все
телесное действительно есть уже одухотворенное, ставшее внутренним, материальное. В случае с телесным говорят уже о внутреннем. Под этим внутренним можно,
однако, понимать не просто относительно или случайно внутреннее, которое я посредством механического деления могу превратить во внешнее. Подлинное внутреннее телесного есть духовное, невидимое, однако способствующее зримому явлению
телесного. Первое понятие телесного есть держащееся вместе (Zusammenhaltendes).
Здесь есть, таким образом, субъект и объект; один (= кантовскому притяжению) есть
положенная посредством А2 негация, другой = кантовской силе расширения (Expansionskraft;) материи. Однако телесное есть в каждой точке субъект и объект в этом
смысле, притягивающее и притягиваемое; истинное сцепление (Kohärenz) есть
собственно сращение (Konkreszenz), однако не самих по себе уже телесных частей
и молекул, но духовных потенций (где духовное берется именно как противоположность уже конкретному). То, что обычно принято называть сцеплением, следовало
бы называть лишь способностью к разрыву (Zerreißbarkeit). Тот внешний разрыв,
в котором разделяется лишь уже конкретное, простой продукт, — разрыв, при котором это конкретное не становится иным в самих разделенных частях, — этот только
внешний разрыв сам стал возможным и является следствием упомянутой нами внутренней неразрывности и неделимости. Если бы можно было разделить тело и душу,
материю и форму, если бы можно было разделить эти нетелесные потенции, — то
было бы упразднено само явление телесного.
В мифологическом процессе, таким образом, настоящий момент есть тот, где
для сознания впервые возникают вообще конкретные, телесные боги. Эти телесные боги представляют собой серьезную разницу и значительный контраст по отношению к прежним, все еще рассматриваемым как нетелесные, богам (в стихиях
212
Вторая книга. Мифология
также все еще почитается всеобщее и нетелесное бытие). Светило идентично, повсюду равно себе. Здесь нет разнообразия. Здесь же впервые возникает действительное, т.е. неравное и неоднородное, множество. Мы выходим из пустыни еще
необитаемого и безжизненного бытия. Свободное разнообразие появляется в том
месте, где прежде царило мертвое единство формы. Покуда сущее во всем есть лишь
Одно (чистый +), может мыслиться лишь абстрактно многое. Когда же есть два, которые как бы спорят за обладание бытием или разделяются в бытие, — только тогда
есть действительная множественность. Ибо всякое отношение между двумя спорящими потенциями или принципами есть по своей природе бесконечно неравное,
способное к бесконечному различию, т. е. безграничное, άπειρον τι 5 в платоновском
смысле слова. Симультанное множество, возникающее здесь, есть, таким образом,
также уже неоднородное, многообразное множество, и господствующий бог этого
момента будет, следовательно, уже не богом неба — повсюду Единого и однородного
бытия, — но богом телесного и разнообразного мира. Однако же, чисто телесное
само есть не более чем переход. Цель начатого теперь процесса в том, чтобы привести тот принцип сознания, который активизировался в нем против первоначального
определения и, тем самым, упразднил изначальное единство этого сознания, — привести этот принцип к угасанию, т. е. к прекращению его бытия: не к прекращению
бытия вообще, но лишь этого не положенного ему бытия; это не значит, что оно
должно стать ничем, но напротив, в таком угасании, издыхании, в таком бытии не
собой оно должно стать полагающим того высшего, которому единственно пристало
быть, A3, духа как такового. Нам необходимо поэтому — с тем чтобы понять процесс
до конца — принять к рассмотрению третью потенцию.
Итак, первая потенция, этот из себя самого вышедший, вне себя положенный,
а стало быть, слепой, принцип = В должен быть в результате процесса возвращен
самому себе и в себя, должен вновь стать первоначальным состоянием целого. Возвращенное же в себя первоначальное состояние (Urstand) есть разум (Verstand), однако ставший разум. В, таким образом, есть также принцип разума, однако разума
лишь в возможности. Действительным разумом он становится только в результате действия второй потенции. Весь последующий процесс есть, таким образом, для
слепого принципа, для В, переход от состояния слепоты и бессмысленности (Verstandlosigkeit) к разуму; так данный процесс представлен в природе, и так он будет
представляться равно и в мифологии. Это неоспоримо присутствующее среднее
между разумом и полной слепотой, которое мы можем наблюдать не только в природе животных, чьи слепые действия отчасти выглядят похожими на разумные и обдуманные — однако не только лишь в ней, но даже уже в так называемой неживой
природе, среди ее слепоты, мы находим в конфигурации неорганических тел, напр.,
в стереометрически правильной кристаллизации, — явственный след разума. Эта несомненная идентичность разумного и лишенного разума, с которой мы встречаемся
Тринадцатая лекция
213
еще в чисто телесных природных вещах, должна была бы привести в отчаяние как
грубых материалистов, так и пустых идеалистов. Если сущее в материи есть абсолютно лишенное разума, как говорят идеалисты, если оно не есть, по меньшей мере,
способное к разуму, не есть способное стать разумом, — как может быть понят тогда
тот вполне сросшийся с сущностью материи разум, который виден уже в строении
неорганических тел, как может быть вполне понята очевидная и несомненная целесообразность, наблюдаемая в органических образованиях? Никто не сможет убедить
себя в том, что этот разумный облик придан вещам лишь внешним воздействием.
Мастер здесь никоим образом не может мыслиться вне своего творения, он не может
быть просто художником, что придает самому по себе лишенному рассудка материалу облик разумности; мастер должен мыслиться здесь как неотделимый от своего творения, как внутренне ему присущий, как являющий собой одно с ним целое.
Этот — все изнутри, из внутреннего материи образующий и выстрояющий мастер —
не может быть внешней демиургической потенцией (нашим А2), ибо она сама по
себе ничего не способна образовать: ничего такого, для чего сама она не использовала бы в качестве инструмента указанный внутренний принцип. Однако, скажут нам,
этот принцип является слепым, неосознанным. Конечно, для себя он слеп и лишен
разума (Verstand), однако не всецело — не так, чтобы он не мог стать разумом (Verstand), хоть и не из себя самого, однако благодаря действию иной, независимой от
него или внешней потенции.
Таким образом, будучи предоставлен самому себе, этот слепой принцип также
всегда пребывал бы в своей слепоте и потому не произвел бы ничего определенного.
Однако он как раз и не предоставлен самому себе, но подвержен воздействиям выс6
шей потенции (obnoxium ). В этом состоянии, следовательно, он подвержен постоянным просветлениям, приходящим к нему со стороны другой, относительно него
самого внешней и от него независимой потенции. Я называю состояние, в которое он
приходит в результате такого воздействия, состоянием просветления (Erleuchtung).
Когда он под воздействием высшей потенции возвращается внутрь себя, в свою сущность, — он как бы получает свободу отказаться от своего слепого бытия; когда же
он возвращается к своей слепоте, — он все же не способен полностью снять произведенного в нем действия другой потенции. Он может лишь как бы умертвить его
в материи; он выказывает себя, таким образом, как только инструментальный, сам
разумного не желающий, но напротив — не желающий, а значит, пусть даже и всего
лишь невольно производящий, выражающий и исполняющий разумное разум (Verstand). Я не думаю, чтобы указанное понятие инструментального разума когда-либо
было объяснено или может быть объяснено иначе, кроме как данным отношением.
Такой только инструментальный разум, который мы наблюдаем во всей природе,
можно объяснить лишь из отношения первоначально слепого, действующего в материи, принципа, — к высшей, как бы на мгновение просветляющей его потенции,
214
Вторая книга. Мифология
которой он, тем не менее, все еще противится; так что разум, видимый в его образованиях, — несмотря на то что он исходит из него самого, и поскольку он представляется присущим самим вещам, имманентным разумом, — все же одновременно предстает как чуждый ему.
Если мы применим только что сказанное к следующему моменту мифологического процесса, то этот момент будет заключаться в том, что слепой принцип все еще
удерживает таким образом свое преимущество, что он лишь терпит разум и лишь
неохотно готов допустить требуемую от него духовность. Бога этого момента, который пришел на место Урана и который уже представляется нам как бог конкретной
телесной природы, однако все еще исключает и абсолютно отталкивает третью потенцию, дух, — мы можем указать в религиях финикийцев, хананитов (Kananiter)
и всех родственных им народов.
За этим моментом будет следовать второй, где духовность и материя достигают
равной силы, эквиполенции, а значит, находятся в открытой борьбе. Здесь в ночь
сознания уже будут врываться, просветляя ее, отдельные молнии даже и той высшей потенции, которая есть сам дух, будучи, однако, тут же ею поглощаемы. Если
предшествующий момент мы можем сопоставить более с неорганическими творениями природы, то данный момент мифологического сознания, скорее всего, сравним
с органическим, однако еще дочеловеческим, творением. На этот момент приходятся египетская и индусская мифологии, которые, как и всякая отдельная мифология,
здесь могут входить в рассмотрение лишь как моменты всеобщего развития.
Наконец, далее последует заключительный, последний момент, где победа уже
решена, и упорствующий в недуховности принцип как таковой терпит свое разрушение, сознание же всецело охвачено подъемом к духу. Я говорю охвачено; ибо там,
где этот принцип уже окончательно возвращен в чистую потенциальность, — там
мифологический процесс заканчивается. Сам конец может наступить лишь там, где
сознание находится в порыве последнего разрешения и освобождения, где оно всецело становится полагающим того высшего, которое есть сам дух; где оно, таким образом, хоть и не есть само это высшее, однако полагает только таких богов, которые
представляют собой формы или образы этого высшего, A3. Таков, как мы видим,
момент возникновения тех чисто духовных богов, с которыми мы встречаемся в одной лишь греческой мифологии. Этот момент может быть сравним по значимости
с вочеловечиванием (Mensch-Werdung) (возникновением человека) в природе.
Такова в общих чертах была бы приблизительная схема пути, который нам еще
предстоит проделать (которая, правда, не свободна и от всех тех недостатков, что
обычно присущи всем общим схемам без исключения). На одном конце пути лежит
тот чистый реальный политеизм, который мы распознаем в звездных богах и богах
стихий, на другом же чисто идеальный и духовный политеизм греческой мифологии, и этот последний заранее видится как цель. Однако между этой целью чисто
Тринадцатая лекция
215
идеального, или духовного, политеизма и той точкой, в которой мы все еще находимся сейчас, — лежит долгий путь, ознаменованный самыми отчаянными битвами и, может быть, самыми глубокими страданиями человечества из всех, какие ему
довелось познать за все время своего существования. Ибо для сознания с материальным богом, который ушел для него в прошлое и вместо себя должен оставить
нематериального и духовного, — прежде всего, связан Бог вообще, и оно страшится
вместе с материальным богом утратить и Бога вообще; оно не может быть освобождено от материального бога, не ощутив себя внутренне раненным и разорванным и,
более того, не пройдя даже через своего рода смерть и умирание. Эта метаморфоза,
которую претерпевает материальный бог, который, сам отходя в область незримого,
оставляет вместо себя имматериального, этот закат материального бога — воспринимался как своего рода первая утрата. Геродот упоминает жалобную песнь, которая под разными названиями пелась в Финикии, на Кипре (Сурегп) и многих других
местах и которую пели также и эллины под именем Линос; именно эта жалобная
песнь, говорит Геродот*, является наидревнейшей у египтян, она относилась к преждевременно ушедшему Урану, из которого позднейший вымысел сделал единородного сына их первого царя, т.е. их первого бога. Через всю мифологию проходит эта
горестная песнь об утраченном боге, тоска следует за ним и призывает назад его,
ушедшего вдаль, в конец земли, — как об этом говорится в «Трудах и днях» у Гесиода, далеко от настоящего небоголюбивого человеческого рода**, как сказано у него;
спасаясь бегством на Закат от бога, грядущего с Восхода, — говорит один грек об
изгнанном Кроносе***. Цицерон говорит о нем: «Saturnus, quem vulgo maxime colunt ad
Occidentem7»**** — туда, таким образом, бежал бог от кощунственного, позднейшего
рода, на западный край земли, где он на защищенном со всех сторон, омываемом
морем острове все еще пасет своим кротким и милосердным жезлом род верующих;
там все еще царит золотой век, который для рода человеческого в целом давно уже
остался позади.
Так трудно было человечеству отделиться от непосредственно в бытии сущего бога, вновь подняться к невидимому. Более того, в результате глубочайшего заблуждения сознания сам по себе подобный подъем представлялся человечеству кощунством. Как именно в таком состоянии рассматривался тот одухотворяющий бог,
который все более и более вытеснял из сознания реального, материального, — ясно
* Геродот, II, 79.
Ζευς τηλόθι ναίων ο εις πείρατα γαίης — διχ ανθρώπων (Зевс, живущий далеко — земли на краю — отдельно от смертных) (греч.).
έν τοις προς εσπεραν τόποις συστήσας την βασίλείαν. о (царство основав в пределах западных)
(греч.). — Диодор Сицилийский, III, 61.
О природе богов, III, 17.
216
Вторая книга. Мифология
само собой, однако для того чтобы рассмотреть это обстоятельство подробнее, необходимо учесть еще следующее.
Покуда между божеством первой эпохи и последующим богом существует то
спокойное и в известной мере равнодушное отношение, которое мы видели между
Уранией и Дионисом аравийцев, — они сливаются для сознания в одного бога; они
уже не суть два бога, но две стороны одного и того же общего божества. Урания есть
бог с материнской, Дионис — бог с мужской стороны. Однако цель всего движения
не позволяет того, чтобы это спокойное сосуществование длилось всегда. Цель, напротив, состоит в том, чтобы этот первый принцип сознания претерпел метаморфозу, был возвращен в абсолютную внутренность, чистую сущностность. Как только,
однако, эта метаморфоза действительно начинается, т. е. как только оба божества не
только вообще вступают друг ко другу в деятельное отношение, но в то деятельное
отношение, которого требует закон и цель всего движения, они для сознания уже
не суть Один бог, в том смысле, в каком Геродот говорит об аравийцах: богом (не
богами) они считают лишь Диониса и Уранию; но теперь это раздельные, друг другу
противостоящие и даже враждебные потенции. Первый принцип теперь хоть и не
может уже более исключить другую потенцию из бытия — после того как он однажды допустил ее, — однако он может исключить ее из божественности^ и таким
образом вторая потенция представляется как не сущий бог. Этот другой, еще новый
для сознания и оспаривающий первого, бог не может рассматриваться как субстанциально другой бог; ибо божественность все еще принадлежит лишь первому, ему
единственно принадлежит власть, материя божественности; для того чтобы он мог
представиться как бог, первый должен сперва дать ему часть от своей божественности, т.е. он должен уступить ему место, сам же, напротив, должен признать себя как
всего лишь потенцию божества. Однако он этого не желает, и он еще не есть только
потенция божества, но — сам всеобщий бог, который ни с кем не желает делиться
своей божественностью. Второй бог, таким образом, предстает поначалу как исключенный из божественности; ему необходимо сперва преодолеть первого, всеобщего
бога, заставив его отойти в потенцию божества, в AI. До этого момента второй бог
представляется не как уже сущий бог, а как тот, который сперва должен завоевать
право божественности, преодолев первого и оспорив не его бытие богом, но лишь
его исключительное бытие богом. Этот второй и новый для сознания бог не есть
в себе и из самого себя бог, как первый; он вообще есть лишь actu бог, а именно —
лишь посредством деяния богом быть могущий. Однако он еще не осуществил себя
посредством преодоления первого, и как бога сознание может признать его лишь
тогда, когда он действительно лишит первого исключительной божественности. Поэтому он может представляться сознанию если не как бог, то как некое непостижимое среднее между человеком и богом, как демон (таким в действительности поначалу представлялся ему Дионис: богом он стал лишь в конце процесса). Далее, для
Тринадцатая лекция
217
сознания, обремененного первым богом, поползновения другого бога также могут
представляться как всего лишь случайные. Следовательно, также и то, что в нем самом является родственным этому другому богу, может представляться ему как нечто
всего лишь случайное, т. е. человеческое, а значит — этот бог поначалу будет представляться ему лишь как сын некоего смертного принципа. Дионис является в греческой мифологии как сын смертного, Семелы, однако в конце мифологии оба они
признаются божественными: как бог, так и полагающее бога в сознании — «теперь
же оба они суть бог», как сказано в «Теогонии»*.
Первое естественное движение сознания есть, таким образом, воспротивиться
ему, отказать ему в признании его как бога. В любом случае он есть бог, которого
сознание всего лишь терпит, к которому оно не имеет свободного отношения, который входит в спокойствие первого сознания как суд, как судьба, представляясь
ему не как освобождающий, каковым он является, но как вносящий сумятицу, безжалостно нарушающий покой и грозящий сумасшествием. Для того чтобы понять
это чувство, нам нужно будет вспомнить, что бог не свободен действовать или не
действовать, но что по природе своей он есть действующий, только действующий,
а значит — слепо действующий. Кому не знакомо представление о Дионисе как
о боге, приводящем в сумасшествие — с первых времен и до самых поздних отзвуков
у римских поэтов, напр., у Горация: Quo me rapis Bacche8? Действие этого бога является роковым для сознания, которое не может уклониться от него; поэтому оно будет рассматривать его как высшую, хотя и непостижимую для него, силу, однако как
противоположность тому, кто является для сознания исключительно исключительным богом-, оно будет воспринимать его не как бога, но скорее как врага бога, который поэтому встречает со стороны исключительного бога и соответствующее враждебное обхождение (Гомер). Поэтому мы видим его сперва как страждущего бога
в финикийском Геракле. Поскольку сознанием он начинает пониматься как бог лишь
в конце, то он как бог будет казаться ему более молодым, чем все материальные боги,
вышедшие из субстанции первого; а поскольку в сознании сперва появляются лишь
эти означенные, в то время как сам бог, который их порождает, как сама причина,
остается вне сознания, — то Он, который осуществит себя как бог лишь в полностью
преодоленном сознании, будет казаться вообще самым молодым из богов, моложе
Καδμείη δ' άρα οί Σεμέλη τέκε φαίδιμον υίόν —
Άθάνατον θνητή νυν δ' αμφότεροι θεοί έισιν.
Кадмова дочь Семела
(в любви сочетавшись с Кронидом)
Сына ему родила
(Диониса, несущего радость)
Смертная — бога. Теперь они оба
бессмертные боги. {Теогония, 940; 942) (Перевод В. В. Вересаева)
218
Вторая книга. Мифология
не только Кроноса, но даже и Зевса и всех положенных одновременно с ним богов;
отнюдь не потому, что он действительно является более поздним, нежели они — ибо
без него, без его действия сознание вообще не дошло бы в своем движении до этих
духовных богов, — но поскольку он получает признание как божественная личность
лишь после того, как его дело завершено, т. е. лишь в конце всего мифологического
процесса. Именно поэтому Диониса не следует искать, напр., в «Теогонии» Гесиода, — там, где мы впервые упоминаем его, но лишь гораздо позднее, после того как
уже успели появиться все остальные боги; ибо божественная история может принять его в качестве бога лишь после того, как ему удалось осуществить себя как
бога для мифологического сознания. Осуществлен же для него он может быть лишь
тогда, когда преодолен связанный со слепым, реальным богом, принцип, а значит —
лишь после того, как положен всецело духовный, идеальный политеизм.
Сам Геродот прямо говорит о пеласгах, т. е. о первоначальных эллинах, что имя
этого бога стало известно им позднее имен всех остальных богов*; сам он определяет
возраст этого бога как появившегося не более чем за 1060 лет до его собственного
времени** — разумеется, уже в признанном качестве бога.
Первое появление или действие бога в сознании и первое признание бога как такового — должны, следовательно, хорошо различаться. Ибо далеко не сразу же, как
только он вообще заявляет о себе в сознании или начинает действовать, — он может
быть также признан как бог; равным образом он не может быть тут же поименован
как до сих пор непонятная для сознания сущность. Указанное различение весьма
важно. Вокруг именно этого пункта разгорелась отвратительная для всякого сведущего перебранка, начатая И. Г. Фоссом против Крейцера. Конечно, если Крейцер
все дионисийское учение представляет как одновременное с началами мифологии и,
еще более того, как изначальное, — то он, безусловно, заблуждается. Как бог Дионис
есть новость. Если, однако, с другой стороны, Фосс (чей круг научных идей имеет
приблизительно тот же охват, что и круг его по большей части хозяйственно-экономической поэзии, и которому в сходном же ключе видится также и содержание греческой мифологии) — если Фосс также и в Дионисе изначально хочет распознавать
лишь такого чисто хозяйственного бога, чье высшее значение только много позже
было привнесено контрабандным путем: орфиками, мистиками, попами и т.д., — то,
безусловно, нельзя отрицать, что подобные слова рассчитаны на определенного рода
действие; ибо во всякое время есть масса людей — тех, которые, сколько бы они ни
хвалились собственной просвещенностью, имеют столь слабое о ней понятие и столь
боязливо озабочены собственным рассудком, что покрываются гусиной кожей, едва
лишь услышат хоть слово о попах, обскурантах и чем-либо подобном. Наука, однако
Геродот, II, 52.
** Там же, II, 145.
Тринадцатая лекция
219
же, не может позволить запугивать себя подобными выражениями. Ибо исследование Фосса не может похвалиться ни точностью, ни завершенностью даже и в сугубо
исторической своей части. Если Геродот, чья необыкновенная точность благодаря
новейшим исследованиям находит себе лишь все большее и большее количество
подтверждений, видит в египетском Осирисе сущность родственную и подобную
греческому Дионису, и таким образом признает в Дионисе нечто высшее, что Фосс
называет мистическим, — то он в данном случае называет Геродота сочинителем,
пошедшим на поводу у египетских попов. Это может оказать известное действие на
слабые души. К несчастию, наш ревностный исследователь забыл о том, что Геродот
то же самое сходство усмотрел и между арабским и греческим Дионисом. Геродоту,
таким образом, пришлось бы идти на поводу также и у арабских попов, о которых,
правда, известно значительно меньше, чем о египетских. Однако не аравийцы сказали Геродоту: «Бог, которого они обозначили ему как сына богини (ибо Улодальт не
есть имя), есть Дионис», — что было известно аравийцам о греческом Дионисе? Это
собственное суждение историографа, который, тем самым, всего лишь хотел выразить идентичность понятия и мог выразить такую идентичность с гораздо большим
правом и умением, нежели кто-либо из новейших. Геродот видел в Дионисе нечто
всеобщее, до чего никогда не смог бы подняться Фосс, который смог увидеть в нем
лишь нечто случайное и ограниченное одной лишь Грецией. Для Геродота Дионис
уже потому представлял собой всеобщее и вечное понятие, что для него он был богом. Ибо то, что древность была способна, как это представляют себе Фосс и мыслящие подобно ему, считать богами и почитать в качестве богов случайные фикции, не
содержащие в себе ничего всеобщего и необходимого, — это мнение в его вздорности и несообразности даже не требует себе особого доказательства. В качестве бога
древность могла признать лишь вечное и необходимое понятие. Лишь потому, что
Дионис для него есть бог и уже поэтому вечное, неслучайное понятие, — лишь поэтому также и Геродот признает его там, где его встречает; а те, которые не признают
всеобщности и вечности в этом понятии, поскольку им вообще дано разуметь лишь
случайности, говорят таким образом по существу совсем не о Дионисе, и с ними
нельзя спорить, ибо у них отсутствует понятие той самой вещи, о которой идет спор.
Суть моего мнения попросту такова: потенция, которая является причиной начинающегося здесь движения, есть тот бог, которого эллины — не важно, когда
именно, — признали и назвали Дионисом, сыном Семелы. Для нас важно не само это
имя, ибо мы не намерены утверждать что-либо относительно самого этого имени:
бога, о котором мы ведем речь, можно было бы называть как угодно, допустим X или
Z, или, что было бы здесь ближе, его можно было бы обозначить как наше А2; его
бытие и его действие в мифологии — с того момента как сознание решается в пользу
мифологического движения, а значит — с момента того события, которое мы обозначили как катаболу, — прослеживается совершенно отчетливо, и мы сами вывели
220
Вторая книга. Мифология
его из природы и необходимого протекания порождающего мифологию процесса.
Не по своему имени, но по своему понятию, по своей сути Дионис является столь
же древним, как и Урания, — современным выходу человеческого рода из забизма.
Его бытие, его пусть даже и еще никем не замеченное и невысказанное присутствие
(ибо в каждом времени и в каждую эпоху действует еще не познанный принцип,
получающий признание лишь после того, как его действие завершено; всякая причина познается лишь в ее свершившемся действии: отсюда и возникающая видимость,
что действие будто бы предшествовало причине), — первое, никем не признанное
присутствие Диониса я показал на примере уже упомянутого, согласно всем нравственным понятиям возмутительного обычая вавилонян, а аравийцам Геродот прямо приписывает если не имя (ибо Улодальт не является именем), то все же понятие
этого бога. Что, впрочем, касается эллинского Диониса, то из сказанного здесь само
собой явствует, что полное понимание Дионисского учения может быть достигнуто
не ранее чем в самом конце этого исследования.
То замечание, что Дионис лишь в самом конце представляется нам полностью,
дает повод к упоминанию еще одного суверенного средства, в обладании которым
мнят себя Фосс и некоторые его единомышленники, — средства, нацеленного на то,
чтобы сделать действительно невозможным любое высшее, и в особенности философическое, развитие мифологии. Упомянутое средство заключается в предписании,
которое они неустанно внушают последователям своей школы: дабы основательно
исследовать и уяснить для себя исторический ход мифологии, необходимо точно
следовать хронологическому порядку писателей, необходимо, таким образом, начать, напр., с Гомера и не включать в первоначальное понятие Диониса ничего кроме
того, что может быть найдено у Гомера; то же, что встречается затем у позднейших
писателей, следует тут же и без дальнейших околичностей рассматривать как добавление, свободное распространение и даже, при случае, поддельную вставку. Этот
принцип, в котором Фосс, как сказано, усматривал непобедимое средство для поддержания своего доморощенного воззрения, — уже сам этот принцип свидетельствует о том, что его автору явно недостает понятия органического возникновения,
что всякое иное, отличное от агрегации, возникновение совершенно ему не ведомо.
Ибо во всем, что возникает органически, начало приходит к окончательной ясности
лишь в конце. По младенцу нельзя сказать, каким он станет мужем; Ньютон в пеленках еще не выказывал того творческого духа, которому надлежало в будущем
придать новый облик математике и астрономии. Если самому величайшему знатоку
растений я дам горсть различных семян, он едва ли сможет назвать даже малую их
часть; всякое новонайденное растительное семя является незнакомцем, о котором
никто не знает, кто он такой; ботанику, который захочет дать ему научное определение, придется сперва посеять семя и дождаться цветения, и лишь после этого он
будет способен определить растение и дать семени имя. Везде здесь, таким образом,
Тринадцатая лекция
221
позднейшее дает свидетельство и выносит суждение о значении предшествующего.
Однако, даже если бы мы решили всецело отвлечься от органического становления
мифологии в том смысле, в каком мы его предполагаем, если бы мы пожелали при
этом судить о ее становлении и ее возникновении по аналогии с другими ныне происходящими процессами, то принявший этот принцип должен был бы на вечные
времена считать газету, выходящую ежедневно непосредственно по следам происшедших событий, — наилучшим источником самой истории и любых исторических
суждений; однако при этом каждому известно, что зачастую как раз в случае с наиболее значительными событиями лишь весьма отдаленному будущему удается открыть их подлинные обстоятельства и в особенности истинные причины, так что,
следовательно, именно позднейший писатель способен пролить на них больший
свет, нежели современный.
Теперь, однако, давайте вернемся к Дионису, который, похоже, и по сей день
продолжает оказывать свое роковое воздействие, ибо мы видим, что многие вообще
не способны завести о нем речь, не лишившись тут же при этом в известной мере
рассудка: я с достаточной ясностью показал, что сам бог является более древним,
нежели его имя, его действие — более ранним, чем его признание в качестве бога, его
присутствие в сознании — задолго предшествующим его полному осуществлению
в этом сознании.
Дионис был принят не без сопротивления, ибо самым упорным сопротивлением было встречено его первое действие. Будучи взят чисто по-человечески, этот бог
сперва мог представляться как губитель всякого чистого величия, всего простого
и единообразного; так должен был он представляться сознанию, в оценке которого
ничто не было великим, кроме бесконечной пустыни, бескрайнего моря, столь же
бескрайней и необитаемой Вселенной и Эфира, который Гомер снабжает эпитетом
«бесплодный». Явления, которые порождает первое действие Диониса, повторяются
в каждой эпохе, где клонится к закату простое и величественное состояние, с тем
чтобы уступить место новому, духовно более развитому времени. Кто не ощутит духовного подъема при взгляде на гигантские горные хребты прежнего, первоначального мира, однако именно этим горам суждено было быть униженными, уступить
место горам менее возвышенным и, в конечном итоге, совершенно затеряться в равнинах в то время, когда настала пора распространения в полном масштабе органической и истинно человеческой жизни. Не иначе обстоит дело в истории. Руины
горных крепостей ранней германской поры все еще наполняют нас представлением
о смелой и дерзкой эпохе, о более сильной и более властной в некотором отношении
человеческой породе — нежели та, в среде которой нам приходится жить ныне; однако именно та же самая эпоха, которая их сокрушила, дала распространение мирному
земледелию, подняла благосостояние и ремесла в городах, а на руинах разрушенных
укреплений смогло подняться свободное бюргерское сословие. Если в наше время
222
Вторая книга. Мифология
многие совершенно не способны осознать, что те реальные отношения, которые некогда удерживали в единстве и скрепляли человеческую жизнь, одно за другим начинают распадаться, что постепенно исчезают даже и последние следы той великой
системы многократно приглушенного и поделенного между многими державного
величия, и все, кажется, идет к тому, чтобы человеческое общество, как сетуют многие, распалось на атомы, — то нам следует вспомнить, что здесь, в совершенно иной
сфере, однако точно так же, как и в забизме, присутствует реальное единство, которое движется к своему закату, с тем чтобы дать дорогу более высокому, идеальному единству. Ибо без единства не может существовать человечество и человеческое
общество, и упадок одного есть, таким образом, лишь провозвестник другого, и с необходимостью более высокого. Если говорят, что большая часть самых популярных
устремлений нашего времени*, по всей видимости, служит лишь тому, чтобы все
в большей и большей степени обмельчить государство, превратить его величественную поступь в разрозненные и мелкие движения, то поистине сведующий в этой смене великого состояния все же распознает лишь дуновение высшего духа — для коего
государство со всем его аппаратом, все царства этого мира представляют собой лишь
нечто вроде строительных лесов, вспомогательных конструкций, которые он возводит, передвигает или вообще уничтожает в зависимости от обстоятельств и сообразно с собственными целями, поскольку они действительно монтируются не ради них
самих, но с тем чтобы построить совершенно иное царство, — царство, которое будет стоять вечно и не сможет быть разрушено. В крайнем возвышении государства
надо всем прочим выказывает себя крайний же сервилизм умонастроения. Отнюдь
не в интересах свободы, как это, впрочем, повсеместно принято считать, чтобы была
ограничена правящая власть государства (она, напротив, должна быть сколь возможно сильна), но ограничено должно быть само государство. Однако обычно ни
разрушители, которые при этом являются всего лишь инструментами, ни сетующие
по поводу разрушения, — не знают о том, чего хочет Бог, о котором Геродот говорит,
что он никому не позволяет желать великого, кроме себя самого. Кстати, истинное
будущее может быть лишь совместным порождением разрушающей и оберегающей
сил. Именно поэтому отнюдь не слабые, которые всегда первыми бывают охвачены
евангелием нового времени, но лишь сильные, одновременно придерживающиеся
прошлого, являются теми, которые способны сотворить истинное будущее. Также и
в начавшемся благодаря Дионису процессе — по природе своей лишь противящееся
сознание, а в историческом смысле, как то явствует из повествований, содержащихся в самой истории Диониса, — именно те, которые оказывали ему сопротивление,
в конечном итоге довели дело бога до его истинного завершения.
Писано в 1842 (прим. нем. изд.).
Тринадцатая лекция
223
Поскольку я однажды уже напомнил здесь об аналогии, которую ход мифологического развития имеет с любым великим развитием вообще, я хотел бы добавить
еще одно замечание о том, что было бы нетрудно показать сходный путь развития
даже и в истории греческой философии, чьи начала, которые принято считать всецело случайными, кажутся на первый взгляд никак не взаимосвязанными. Ибо, напр.,
те первые греческие философы, которых обычно принято называть общим именем
физиков, — чем могут они еще быть, если не почитателями элементов, в которых
они, будучи противниками антропоморфизма и народной религии, полагали себя
нашедшими общее всех вещей? Уже глубокий ум Гераклита всецело занят постижением вечно живого, миропорождающего огня, который, по его мнению, возгорается
и гаснет с ритмическими интервалами. У элеатов κόσμος9 сокращается до понятия
абстрактного Всеобщего или Единого. Однако именно тем самым была отмечена противоположность множеству. Зенона можно было бы назвать Кроносом философии,
поскольку он стремился все соблюсти в неподвижности и всячески боролся против
множественности. Вплоть до элеатов идет додионисская эпоха греческой философии.
Разрушитель этого единства — человек, чье появление в истории философствующего
духа представляет собой не меньшую эпоху, чем та, которую в мифологическом движении представило явление Диониса, подлинный Дионис философии есть демонический философ — Сократ, который, впервые упразднив это неподвижное единство
элеатиков при помощи не ведущей, в свою очередь, в том же направлении, а значит,
имеющей лишь видимость, но действительной, разрушительной диалектики, дал
простор свободной жизни, свободному различенному многообразию; Сократ, о котором один древний говорит, что он шутя и играючи, одним дуновением, словно
дым разогнал напыщенную высокопарность элеатов и — лишь от них ведущих свое
происхождение — софистов; о котором молва гласила, что он в конце концов свел
философию с небес на землю — конечно же, ни в каком ином смысле кроме того, что
благодаря действию бога, которому подобен он сам, религия снизошла из сфер неба,
бесконечного и повсюду единого, — на землю, арену разнообразной и переменчивой
жизни; который вывел философию из тесноты только субстанциального и несвободного знания на широкий простор и свободу знания ясного, различающего и анализирующего, в коем единственно и мог появиться Аристотель. Также и мифологический
способ представления Сократа заслуживает о себе иного суждения, нежели то плоское и тривиальное, которое не видит в нем ничего кроме отсутствия науки. Величие
Сократа есть его сознание того, что известные вопросы не допускают рациональных
ответов, но лишь исторические. Пожалуй, он охотно поставил бы на место мифов
действительную историю: ему лишь не хватало для этого тех великих и необходимых
данных, в обладание коими мы с вами входим сегодня.
Невозможно вспомнить ни Диониса, ни Сократа, не вспомнив одновременно об
Аристофане. Конечно, и Дионис сперва появился в презренном и для гордых умов
224
Вторая книга. Мифология
возмутительном облике, след чего можно найти еще и в Аристофане. Также и Сократ, — что доказывается смертным приговором, благодаря провозглашению которого, по словам Германна, он удостоился общности в последней судьбе с пророками и праведниками, — неузнанный своим народом, понятый лишь малым числом
учеников, мог представляться в свое время лишь как возмутитель душ; и Аристофан лишь потому гневается на него, что распознает в нем всю силу того принципа,
благодаря которому в процессе неудержимого перехода именно в то время — также
и в развитии государства и общественной жизни — простое единообразие старой
эпохи должно было уступить место производящим все большее и большее замешательство разнообразию и множественности отношений.
Ближайшие и непосредственные причины мифологического процесса нами теперь представлены. Этой противоположностью между реальным и относительно
духовным, идеальным богом заданы принципы, и таким образом я могу без промедления перейти к первому моменту собственно процесса.
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Для того чтобы представить теперь тот процесс, о котором следует предположить, что он проведет нас вплоть до последнего возникновения мифологии — полноценного политеизма, я замечу, что в начале этого процесса сознание — хоть и не
может совершенно избегнуть очарования духовного бога, однажды его допустив, —
однако в то же время оно достаточно сильно для того, чтобы вновь и вновь уничтожать его действие, настаивая на слепом бытии, с коим для него связан тот бог,
которого оно до сих пор единственно признает и с которым оно всецело срослось.
В этом моменте, таким образом, хоть и наблюдаются постоянные проблески духовности, однако они всякий раз тут же поглощаются сумерками слепого бытия. Хотя
реальный бог уже не выступает как исключительный в силу того, что ему противостоит другая потенция, однако эта затронутость духовной потенцией служит лишь
тому, чтобы воспламенить прежнее спокойствие и равнодушие к активному противостоянию, к борьбе против всего духовного. Тот бог, чье дыхание ощущает на себе
сознание, открывает его двери лишь для того, чтобы они вновь затворились перед
ним. Здесь, таким образом, имеет место постоянная смена возникновения и ухода
духовности, которая хоть и постоянно полагается, однако вновь и вновь тут же погружается в материальность.
Это противоречие как бы попеременно открывающегося и затворяющегося сознания выражено в мифологии образом бога, которого я хочу обозначить эллинским именем Кронос — без того, однако, чтобы тем самым уже завести речь о Кроносе эллинов. В эллинской мифологии Кронос предстает как только прошлое; здесь же,
однако, речь идет о Кроносе, поскольку он является еще живым и присутствующим
в сознании человечества богом. Ибо именно этот бог, который для эллинов представлял собой прошлое, — для предшествующих народов был настоящим. Последняя
мифология, завершенная история богов, вбирает в себя богоучения прежних народов как моменты своего прошлого. В действительности соответствующий этому понятию бог выказывает себя как бог всех тех народов, которые застигнуты первым
приливом духовного политеизма и выходят на свет истории первыми после названных ранее, т.е., как я предварительно уже заметил, он есть бог финикийцев и всех
226
Вторая книга. Мифология
параллельных им народов. Урания есть лишь переход, Кронос же, в свою очередь, есть
Уран — но лишь в ином, более одухотворенном облике. Кронос по своей субстанции
не есть иной бог, отличный от своего предшественника Урана; разница лишь в том,
что Уран есть целиком и полностью всеобщий бог, Кронос же, в отличие от него, уже
имеет свою противоположность; он есть бог определенного времени, уже причастный духу Уран, а значит, — он есть конкретный бог.
Во всем этом продвижении реальный бог есть всегда один и тот же; он всего
лишь всякий раз принимает иные формы: Кронос и Уран — оба они суть один и тот
же реальный бог, всего лишь рассматриваемый в разные моменты. В том и другом
господствует один и тот же противящийся движению принцип, ничего не желающий знать о сукцессии и готовый допустить — самое большее — симультанный политеизм. Но именно этот противящийся сукцессии принцип в противопоставлении
с относительно духовным богом сам вынуждается принять нечто от сукцессивного,
переходить от образа к образу, — и если ранее мы могли удовлетвориться тем, что
вообще различили симультанный и сукцессивный политеизм, то теперь нам придется различать сукцессивный политеизм в двух разных значениях, т. е. лишь относительно сукцессивный и абсолютно сукцессивный.
Лишь относительно сукцессивный возникает в результате сукцессии форм, через
которую проходит реальный бог в конфликте с духовным, сопротивляясь катастрофе: таким образом, напр., Уран и Кронос суть первые звенья такого лишь относительно сукцессивного политеизма. Абсолютно сукцессивный, напротив, имеет место при
наличии трех причиняющих потенций, из которых реальный бог во всех его формах есть лишь одна. Этот абсолютно сукцессивный политеизм известен, однако, до
сих пор лишь нам одним, он еще не вошел в само сознание, ибо сознание, словно бы
взятое в плен реальным богом, все еще отвергает бога второй потенции, идеального
бога как такового, либо содержит его в исключении из себя, а следовательно, и из божественности. Кронос, таким образом, есть все еще известным образом Уран, который стал теперь уже реально доступен для идеального бога, хотя он отнюдь еще этим
богом не преодолен. Также и в Кроносе все еще властвует звездное небо, поэтому
и сам он еще рассматривается как небесный царь, правда, теперь уже — конкретный.
Бог первой эпохи, чистого забизма, есть безо всякого противоречия слепо сущий бог;
Кронос же есть именно этот бог, но уже отчасти обратившийся в себя, в свое внутреннее, который однако — от этого ничуть не менее, но теперь уже с волей и сознанием —
утверждает себя в слепом бытии и ревностно это бытие соблюдает. Кронос, таким образом, есть по сравнению с Ураном более духовный бог, который, однако, пользуется
этим только лишь для того, чтобы с сознанием и волей быть тем самым, чем ранее он
был от природы — в слепом бытии существующим богом.
Установленное нами ранее общее понятие Кроноса прямо следует из необходимого хода самого процесса; с тем, однако, чтобы показать, что также и другим
Четырнадцатая лекция
227
философам он представлялся именно таким, я намерен привести несколько мест
из неоплатоников, которыми Крейцеру, как мне кажется, не везде удалось распорядиться должным образом. В отношении определения άγκυλομήτης1, которое Гомер
дает Кроносу, один из них говорит: «Гомер вводит Кроноса не как действующего вовне или произносящего нечто, но как того, кто поистине есть άγκυλομήτης, погруженный, обращенный вовнутрь самого себя»*. Гомер, таким образом, если мы выразим
смысл по-своему, представляет Кроноса с помощью данного определения как того,
кто использует данную ему внутреннюю духовность лишь с тем, чтобы еще глубже замкнуться, кто эгоистично занят лишь самим собой и именно поэтому также
и внешне выглядит безмолвным, обращенным внутрь себя (это самое главное) и как
бы размышляющим о том, каким образом свести на нет действия свободного, благоприятствующего жизни, бога. Именно из-за такого добавочного понятия коварной
мысли, заключенного в слове άγκυλομήτης, я не могу вместе с Крейцером отнести это
определение к еще совершенно сокрытому, абсолютному Богу: этот последний вообще не встречается нам в теогонии, а если бы он в ней и встречался, то должен был бы
стоять в ее начале, а не где-то в середине. Крейцер, похоже, понимает обращенность
вовнутрь Кроноса как состояние размышления и непроницаемости, в котором бог
мыслится до творения, прежде чем он решается предстать в творении. Однако эти
принадлежащие совершенно иному идейному кругу понятия никак нельзя примешивать к мифологии; и, как сказано, дополнительное понятие хитрости и коварства, заключенное в слове, никак не позволяет дать ему столь высокое истолкование. Кронос
не является, как объясняет его Крейцер, еще никогда не явленным богом: он, напротив, есть уже внешний бог и, более того — тот, который имеет целью утвердиться во
внешнем и всячески противиться очарованию духовности. Этот его замысел и есть
новое в нем. Если бы, по примеру Крейцера, в каждом особом боге, в каждом уже конкретном образе мы всякий раз вновь и вновь захотели бы видеть абсолютного Бога,
то тем самым в мифологии было бы упразднено все сукцессивное, и вскоре в ней уже
нельзя было бы различить абсолютно ничего. Также и здесь верно: объяснение или
истинное понятие всякого бога определено и дано тем местом, которое он занимает
в последовательности; вне этого места Кронос не был бы Кроносом, он есть не более
чем бог этого места, и он не есть бог вне его — т. е. он не есть абсолютный бог.
Другим толкованием, согласующимся с нашим объяснением, т.е. подтверждающим то место, которое Кронос занимает в нашем развитии, является следующее:
«Он есть безумие и помрачение рассудка»**. Верно, пожалуй, то, что он не есть полное
Creuzer. Symbolik und Myphologie, т. I, с. 523, прим. 307: ώς εις εαυτόν έπεστραμμένον (как бы обращенный на самого себя) (греч.). — (Прокл в Платоновом Кратиле).
Также у Крейцера, т. II, с. 439: ή ανοησία και ή του νου συνθόλωσις (безумие и помутнение рассудка)
(греч.).
228
Вторая книга. Мифология
отсутствие рассудка, но лишь его помрачение. Ибо он не способен полностью воспрепятствовать соприкосновению с духовным, однако рассудок появляется в нем
лишь для того, чтобы тут же вновь погрузиться во мрак. В каждое мгновение появляется внутреннее, однако лишь затем, чтобы вновь обратиться во внешнее и быть
уничтоженным. Разум еще не может одолеть слепой принцип, но напротив, — слепая сила берет разум в плен, делая его косным и камнеподобным, как, напр., стереометрически правильное строение кристаллов есть такой застывший и окаменевший
разум. Именно в этой точке, таким образом, имеет место наибольшее помрачение
духовного: ибо, с одной стороны, бытие уже предстает не в своей чистоте, а значит,
также и не в своей относительной духовности — ибо чистое бытие, как еще не конкретное, есть по отношению к нему все еще духовное; однако здесь положено уже
более не чистое, но затронутое и как бы пораженное предметностью бытие — без
того, однако, чтобы, с другой стороны, разум был властен над самим собой, из чего
следует, что ни то, ни другое не предстает в своей чистоте, но оба предстают в замутненности и помраченности друг другом, причем внешним проявлением указанной
помраченности является телесная материя.
У Платона Сократ в шутку выводит имя Кронос от κόρος2, сытость, насыщение; Г. Германн с большей серьезностью считает, что оно произошло от κραίνω3, что,
однако, первоначально означает всего лишь «наполнять». Римляне объясняют имя
Сатурн от satur4, однако естественно лишь annis5. Если бы такому выведению мы
могли придавать хоть сколько-нибудь серьезное значение, то можно было бы сказать: Кронос означает насытившийся материей, т. е. в химическом смысле этого слова — материей связанный дух и, напротив, — насыщенную разумом, а значит, в свою
очередь связанную, материю.
Еще одно, также приводимое Крейцером, объяснение состоит в том, что Кронос
есть бог, созерцающий в себе προχειρισμός6, план, проект будущего творения. Безусловно, Кронос уже содержит в себе всех сотворенных в будущем богов, по меньшей
мере в их плане — и это будущее божественное множество следует рассматривать
совершенно параллельно со свободным множеством и разнообразием в природе.
Также и согласно греческой теогонии Кронос есть бог, в котором словно бы уже проблескивают будущие духовные боги, однако они именно всего лишь на мгновение
появляются в нем, не выходя из него; они появляются, не отделяясь от него в действительности, не детализируясь, будучи все еще заключены и спрятаны в темном
месте рождения, в чреве всего лишь совершающего круговращения внутри себя,
но никак еще не действительно рождающего бога. Духовный политеизм есть нечто
всего лишь на миг являющееся внутри него, но сразу же вслед за этим он вновь затворяется, и таким образом эти его порождения не могут увидеть света.
Однако он не только подавляет множественность изнутри, но также противится множеству внешне, т. е. он есть тот, кто не терпит никакого иного бога кроме
Четырнадцатая лекция
229
себя, утверждает себя в единоличном обладании реальным бытием, которое он не
желает делить ни с кем иным. Ибо духовный бог допущен, но всего лишь как потенция: действительное бытие все еще принадлежит исключительно первому, который не позволяет второму получить часть от этого бытия. В Кроносе, таким образом, продолжает свое существование формальный монотеизм, и если мы пожелаем
придерживаться лишь одного отдельно взятого момента, не принимая во внимание
сукцессию, то будет весьма легко, по примеру прежних теологов, которые повсюду
в мифологических представлениях хотели видеть лишь искаженные богооткровенные истины, также и в Кроносе все еще усматривать идею высшего бога. Для своего
времени он был, безусловно, высшим и, известным образом, также и единственным.
Ибо именно единоличное обладание бытием составляет понятие единственности.
Из этой все еще удерживаемой Кроносом единственности следует также, что он не
желает терпеть какого бы то ни было бога после себя и кроме себя, не желает допустить какой бы то ни было сукцессии, не желает вообще ничего исторического,
и равным образом из этого его сопротивления всякой сукцессии явствует, в каком смысле Кронос является богом времени и в каком — нет. А именно, он не есть,
к примеру, как это принято полагать повсеместно, бог действительного времени:
напротив, он как раз есть отрицающий действительное время, для себя время отвергающий, не желающий существовать во времени. Поскольку он сам не желает стать
прошлым, он препятствует всякой возможности открытия прошлого, настоящего
и будущего, т.е. выхода в действительное время; ибо действительное время положено лишь тогда, когда uno eodemque actu7 полагаются прошлое, настоящее и будущее, т.е. действительное время есть только в том случае, если нечто полагается
как прошлое; он есть, таким образом, всего лишь бог еще не открытого действительного времени, он есть бог лишь хаотического, вновь и вновь пожирающего свои
творения, времени; он есть, конечно же, с действительным временем борющаяся,
его самого не допускающая, симультанность, а значит — он никоим образом не есть
прогрессирующее, все порождающее, однако вслед за этим вновь поглощающее, время. Если Кронос проглатывает своих собственных детей, то это мыслится не в том
смысле, в каком время вновь забирает то, что оно однажды породило. Ибо Кронос
ничего не порождает, но проглатывает своих детей уже в их рождении — еще до
того, как они смогли узреть свет: не так, как время, которое рождает своих детей,
дает им существование и лишь затем вновь поглощает. Поэтому я, пользуясь случаем, заранее хочу отметить, что это пожирание собственных детей, с которым мы
позднее встретимся в греческой теогонии, есть нечто гораздо более определенное,
нежели случайно выбранное выражение с целью описать то общее свойство времени, что оно вечно рождает и вечно же забирает назад однажды рожденное. Из идеи
бога времени полагали возможным также объяснить тот факт, что Кронос в древних
скульптурных работах изображается держащим в руке серп; этот серп якобы должен
230
Вторая книга. Мифология
представлять собой всепожинающий серп времени. Такое мнение высказывает еще
Буттманн (Buttmann). Я помню, что встречал это аллегорическое обозначение времени также и в новейших аллегориях и т.д., однако является ли оно также и античным, мне не известно. Однако вся вероятность говорит за то, что этот серп должен
символизировать собой лишь тот инструмент, с помощью которого Кронос оскопил
своего отца Урана и который, напр., демонстрировался на острове Цанкле.
Таким образом, поскольку он все еще являет собой не побежденное ни внешним
(сукцессивным), ни внутренним (симультанным) политеизмом единство, — Кронос
все еще есть предмет строго исключительного почитания, предмет относительного
монотеизма, относящегося лишь к исключительному и поэтому, конечно, не истинно Единому Богу. Как такового мы находим его под именем Царя Неба (Ваала, Молоха) — бога хананеев, финикийцев, тирийцев и карфагенян, мифология которых
поэтому всецело относится к данному моменту теогонического движения. Однако
тем самым он еще никоим образом не может быть приравнен к Урану, но он есть уже
более определенный и ограниченный Уран. Если поэтому бесконечный, всезаполняющий, а значит — не имеющий образа Бог прежней эпохи в Кроносе уже сократился
до определенного, индивидуального божества, то следует ожидать, что здесь сознание осмелится сделать первый шаг также и к образному представлению.
Нет необходимости специально отмечать, что это есть большой и значительный
шаг. Столь же естественно, однако, ожидать, что такие изображения будут все еще
в высшей степени неоформленными: не по причине грубости первобытного искусства, как это обычно принято объяснять, но поскольку сознание противится тому,
чтобы заключать бога в человеческий облик и, напротив, — тем менее почтет бога
оскверненным, чем дальше от всего человеческого искусство его представит, чем
меньше ему будет сообщено человеческих черт. Это подтверждается всем, что нам
известно об изображениях Молоха у хананеев, карфагенян и даже у израэлитов. Однако более древним, нежели все изображения, и принадлежащим еще более ранней
эпохе является почитание, которое оказывалось совершенно бесформенным, неорганическим и в особенности — не обработанным человеческими руками массам. Ибо
в безжизненном, плотном, чисто массивном образовании, в котором еще менее всего
участвует форма, либо участвует чисто случайным образом, и также внутренне духовное более всего выказывает себя в виде умерщвленном и помраченном, — во всем
этом скорее всего можно было видеть воплощение замкнутого в себе самом, сопротивляющегося всякой духовности и настаивающего на материальности бога. Сюда же
относится и то почитание, которое оказывалось даже и в первобытную эпоху Греции
8
так называемым λίθοις άργοις , т. е. необработанным, не тронутым человеческими руками камням. Ибо противостоящий исключительному богу относительно духовный
бог предстает как Господь и друг всего человеческого — даже и в самом имени Диониса знаток арабского легко усмотрит это значение, и я не побоюсь повторить здесь это
Четырнадцатая лекция
231
ранее уже сделанное замечание, поскольку из Геродота нам достоверно известно, что
Дионис впервые стал различаться как особая личность у аравийцев, и равным образом, согласно Пококе (Рососке) также и остальные имена этого бога, напр., Вассарий
(Bassareus) и даже Вакх (Bacchos) с очевидностью имеют арабское происхождение;
однако все это лишь между прочим — ведь также и независимо от этой этимологии Дионис есть Господь и Творец истинно человеческой жизни, бог — благоприятствующий человеку и человечности. Поскольку, теперь, Кронос есть бог — в первую очередь, исключающий Диониса, то и сам он именно в силу этого предстает как
бог, противоборствующий всему человеческому и, в свою очередь, все человеческое
представляется теперь как враждебное ему. Человек как тот, в ком этому принципу суждено умереть, угаснуть, или — если использовать смелое выражение Гераклита — человек, которому суждено пережить смерть этого бога (т. е. смерть этого
не-бога, ложного бога), — предстает, таким образом, как враг этого бога; и, по всей
видимости, лишь то, что далее всего отстоит от всего человеческого, способно еще
наглядно представить замкнутое — от всего чуждого, и в особенности от человеческой жизни отстраненное — бытие этого враждебного человеку бога. Однако такое
почитание бесформенных масс, покуда оно представляет собой действительный момент теогонического движения, нельзя обозначить никаким иным именем, кроме
фетишизма. Это слово в новейшую эпоху вообще претерпело ничем не оправданное
расширение своего значения. Первоначально португальцы принесли его в Европу
из языка негров Сенегала. В языке негров Fetisso означает кусок необработанной
древесины, которому приписываются магические свойства (Zauberklotz). Следовало
бы, таким образом, употреблять это слово лишь говоря о почитании, относящемся к неорганическим массам или телам. Однако в особенности со времен Де Броссе
(Des Brosses), чье сочинение sur le Cuite des Dieux Fétiches стало основным трудом,
посвященным этой теме (именно после его выхода в свет слово «фетишизм» впервые получило всеобщее распространение), — в особенности со времен Де Броссе это
слово стало употребляться чрезмерно общо по сравнению со своим первоначальным смыслом, ибо уже и сам Де Броссе употреблял его, говоря о поклонении животным. Позднее другие авторы довели дело до того, что, напр., Солнце, поскольку ему
оказывались божественные почести, также стали называть фетишем; а в новейшее
время были сделаны попытки даже греческих богов объяснить как претерпевшие
изменения фетиши, а их культ — как всего лишь идеализированный фетишизм, что,
на мой взгляд, есть уже самое настоящее варварство. Следовало бы, таким образом:
1) вновь привести это слово к его первоначальному значению и употреблять лишь
говоря о почитании неорганических масс; 2) однако также и в таком значении следовало бы ограничить употребление данного слова, относя его лишь к тем племенам
и народностям, которые выделились именно в этот момент теогонического процесса и в дальнейшем более уже не могли считаться его живыми членами, но отошли
232
Вторая книга. Мифология
в прошлое; точно так же как сам фетишизм — как твердую, остановившуюся форму — мы обнаруживаем лишь среди тех народностей, которые уже с незапамятных
времен представляют собой совершенно исключенные из живого движения (в коем
единственно человечество как таковое поддерживает и продлевает свое существование), всецело неисторические сообщества, каковыми является большая часть негритянских племен, из языка которых взято само слово и за которыми единственно поэтому следует признать авторство понятия. Отсюда также явствует, что собственно
фетишизм, т. е. фетишизм, поскольку в нем действительно почитается мертвый кусок дерева, мертвый камень или птичье перо или коготь, не может рассматриваться
как действительный момент собственно мифологического движения. Мифологический момент, в самом деле, лежит в его основе, однако в нем он как раз перестал быть
моментом мифологического движения. Он существует лишь среди тех народов, которые выделились в этой точке теогонического движения в качестве его теперь уже
мертвых и неспособных к дальнейшему развитию продуктов. Во всем означенном
развитии любое состояние (Affection) сознания имеет смысл лишь на своем месте;
как только это место, этот момент сознания оставлен позади, он словно бы становится бессмысленным (как становится бессмысленным камень, который в свое время
имел значение для движения, но теперь уже ничего нам не говорит и для нас безразличен). Таким образом, с данной метаморфозой, которая происходит с моментом теогонического движения сразу же, как только он становится прошлым, дело
обстоит точно так же, как и с преобразованиями, которые мы должны предполагать
и в великой истории развития Земли, в коей геологи именно потому не в силах дать
объяснения столь многому, что они каждое образование, каждую формацию пытаются мыслить как уже изначально бывшее тем, чем оно сделалось лишь после того,
как ходом прогрессирующего развития было положено как прошлое. Ибо то, что
однажды выделилось и было исключено как прошлое, само тем самым становится
другим, и уже не есть то, чем было прежде, когда оно еще являлось живым участником движения, — весьма существенное замечание, которое объясняет многое до сих
пор непонятное, но которому, однако, лишь тогда смогут найти применение, когда
всеобщие законы становления и возникновения, — в том виде, в каком они в данном
исследовании пусть нигде и не высказаны прямо, однако везде обозначены и проиллюстрированы в своем действии, — когда эти законы получат наконец всеобщее
признание.
Конечно же, эллин, который оказывал известное почитание λίθοις άργοις9, в совершенно ином смысле стоял на этой ступени, чем собственно фетишепоклонник,
который на ней остановился, однако тем самым — был исключен из живого процесса.
Точно так же и от первоначального духовного забизма — после того как теогоническое движение однажды покинуло этот момент, — словно бы в виде его останков или
caput mortuum, сохранилось лишь материальное поклонение звездам. Сбивающей
Четырнадцатая лекция
233
с толку ошибкой было бы смешивать те исторгнутые из исторического процесса и
в силу этого, конечно же, неисторические народы, к которым принадлежат также
и фетишепоклонники, — ошибкой было бы смешивать эти неисторические народы
с доисторическими. Вследствие этой ошибки многие посчитали себя в праве рассматривать фетишизм именно как изначальный, как поступал не один лишь Г. Германн, но и подавляющее большинство истолкователей до и после него. Я, однако, не
знаю, благодаря чему именно эта гипотеза в новейшую эпоху стала рассматриваться
как не подлежащая сомнению и очевидно истинная (что дало ей право в последнее
время быть принятой едва ли не в качестве христианского догмата). Если такие отринутые от всякой исторической жизни расы, которые, как сказано, остановились
в своем развитии в качестве лишь мертвых остатков прежнего, им самим уже не понятного и даже не памятного процесса, — если подобные расы кто-то желает поднять в значении чуть ли не до подлинных образцов сохранившегося первоначального человечества, то непонятно, почему бы одновременно не опуститься еще ниже
и не поискать образчиков самой ранней религии у тех дикарей Лаплаты, которые по
свидетельству Азары не имеют вообще никакой религии, т. е. не почитают вообще
ничего, даже деревьев и камней.
Здесь следует вставить еще одно, аналогичное замечание о собственном понятии идолопоклонства. В первоначальном, еще живом теогоническом сознании не
существует никаких кумиров. Ведь сознание в непроизвольно возникающих в нем
богах подразумевает и имеет в виду всегда одного лишь живого бога. Но как только
момент первого живого порождения остался позади, а эти изображения продолжили стоять в качестве не более чем произведений прошлого, — они превращаются
в кумиров. Поскольку, однако, мертвые природные формы, в которых почитаются
боги, являют собой нечто уже в себе недуховное, человечески же прекрасные изображения эллинских богов, напротив, — сами по себе духовны и одновременно могут
быть духовно воспринимаемы и воспроизводимы, то едва ли можно было бы возразить нечто серьезное, если бы нам сказали, что все боги первого рода суть кумиры,
единственными же подлинными богами являются боги эллинов.
Я не могу отойти от этой темы, не вставив здесь еще одного общего замечания,
также применимого к случаям подобного рода.
Если сравнить почитание конкретных природных предметов с культом первоначальных, чистых небесных сил, то очевидно, что человечество в первом случае
пребывает в состоянии упадка, во втором же оно предстает как несравненно более
чистое и духовное. Однако если смотреть не на отдельную точку, но на всю линию
продвижения в целом, то этот момент сознания в действительности приходится на
точку перехода и дальнейшего подъема к высшему, а именно — к идеальному политеизму, который, безусловно, стоит выше, чем первый, только реальный политеизм
начала. Вы можете вывести отсюда то применимое ко множеству случаев правило,
234
Вторая книга. Мифология
что в поступенном восходящем движении начало более высокой ступени с необходимостью располагается на уровне более низком, чем конец предшествующей, т. е. на
своем уровне является более несовершенным, чем конец предшествующей на своем
уровне, и что поэтому невозможно достичь какого бы то ни было продвижения без
видимого регресса, который следует рассматривать всего лишь как разбег, необходимый для достижения желаемого на более высокой ступени. Это замечание способно
устранить заблуждения, жертвой которых легко можно стать, пытаясь построить
естественные системы животной и растительной истории; оно может также служить
утешением, если на более высокой ступени мы вновь встречаемся с защитой таких
мнений и тенденций, которые давно считали устраненными, но которые, однако, все
еще ожидают своего последнего, окончательного преодоления. Сюда относится также и вопрос: действительно ли происходит непрерывный или прерываемый лишь
видимыми отступлениями прогресс человеческого рода?
До сих пор мы пытались определить природу того бога, который соответствует
настоящему моменту сознания. Теперь мы подвергнем более подробному исследованию состояние самого сознания, которое в этой середине между слепым, всецело обращенным в бытие богом — и духовным, дуновениям которого это сознание не способно противостоять, предстает как заблудившееся в себе самом и сомневающееся,
как пребывающее в страхе, в котором оно в собственном смысле не способно двинуться ни туда, ни сюда, и не способно что бы то ни было предпринять. Оно не может обратиться вовне, ибо не в силах полностью предать себя на волю слепого бытия
и внешности, поскольку не способно вполне противостоять очарованию другого, относительно духовного бога; и оно не может обратиться вовнутрь, ибо оно не в силах
отстать от бытия, с которым всецело срослось само и с которым для него сросся бог,
не испытав при этом сильнейших страданий. Оно воспринимает отделение от бога
как кровавый разрыв, который в некоторых относящихся к этому моменту религиях
был даже представлен действительными внешне наносимыми ранами. Так, Третья
книга Царств* повествует о том, что жрецы Ваала, когда их бог не внемлет им, громко кричат и, по своему обыкновению, наносят на свое тело порезы ножами и шилами, так что из ран течет кровь. Слова «по своему обыкновению» указывают на то,
что такое поведение не было чем-то случайным или из ряда вон выходящим, но являлось общепринятым обычаем. О них говорится, что они ковыляли (hinketen) возле
жертвенника, который возвели Ваалу. Ранее уже в общем было отмечено и показано
на других достаточно наглядных примерах, что в силу внутренней необходимости
сознание выражает свое ощущение бога посредством жестов, движений и внешних действий, как бы мимически — и таким образом, мы вряд ли ошибемся, если
Гл. 18.
Четырнадцатая лекция
235
скажем, что также и это ковыляние не лишено было определенного значения; и что
иное могло бы оно означать, если не ощущение бога, ставшего односторонним из всестороннего, каким он был прежде: одностороннего — поскольку теперь ему уже противостоит другая потенция, тогда как ранее он был единственным, исключительно
сущим? Равным образом в греческой мифологии Гефест появляется в сообществе
олимпийских богов, хромая: ибо также и он является некогда всевластным, однако впоследствии, в результате возникшего идеального мира богов, ставшего как бы
односторонним богом — след чего можно еще обнаружить в греческом мифе о том,
что Зевс, т. е. бог идеальных богов, низверг его с неба, т. е. с престола Всевластного
и Единого, на землю, отчего тот охромел. Все мифологические намеки дышат бесконечной наивностью, и потому наше во всех отношениях чрезмерно искусственное
время едва ли способно верно их воспринимать.
Если, таким образом, сознание стремилось отстать от бытия, в которое для него
был погружен бог, то этого никак не могло произойти без кровавого разрыва; если
же оно желало держаться этого бытия, то испытывало мучительные страдания, происходящие от воздействия духовного бога, и таким образом оно не может ни отстать
от этого бытия, ни держаться его. Здесь поэтому мы впервые находим все признаки
и черты того состояния, которое греки обозначают словом Deisidämonia, для которого мы в нынешнем немецком не имеем вполне соответствующего слова. Ибо слово
«суеверие» (Aberglaube), которым оно обычно переводится, является слишком уж
общим. Страх же Божий (Gottes Furcht), как его равным образом принято переводить — кроме того, что он указывает на истинное и верное, надлежащее человеку
умонастроение, лишь ложное и извращенное проявление которого являет собой
Deisidämonia, — страх Божий, кроме того, указывает лишь на страх перед Богом,
тогда как Deisidämonia есть нечто совершенно иное, а именно, страх и опасение за
Бога, страх потерять Бога; ибо в понятии Deisidämonia с очевидностью содержится
чувство сомнения: «Etimologicum magnum»* и лексикон Суды совершенно верно истолковывают слово δεισιδαίμων10 как αμφίβολος περί την πίστιν και οιονεί δεδοικώς11:
тот, кого вера заставляет пребывать в сомнении и страхе, кто из своего страха словно бы мечется и не знает, что бы еще предпринять, делая все для того, чтобы удержать реальность своего бога и убедить себя в ней, доказать ее делом и кто поэтому, как объясняет это слово Климент Александрийский, обожествляет все, дерево
и камень, и в ком дух и живущий в согласии с разумом человек всецело порабощен (подчинен)**. Deisidämonia, таким образом, есть страх относительно бога. Мы
должны поэтому сказать: опасение за бога (Gottesangst). Это единственно выражает
Этимологикум Магнум — византийский толковый словарь середины XII века,
ό πάντα θειάζων, και ξύλον και λίθον και πνεύμα άνθρωπόν τε λογικώς βιοϋντα καταδεδουλώμενος
(кто обожествляет все: и дерево, и камень, поработив в себе дух и разумно мыслящего человека)
236
Вторая книга. Мифология
состояние усомнившегося, заблудившемся в реальном боге, однако все еще стремящегося удержать этого бога сознания. Ибо исполненное страхом и ревностью сознание со смертельным оружием в руках защищает утонувшее в бытии сокровище,
наполняя даже открывающуюся навстречу освобождающему богу душу своим страхом: так, что первое предощущение свободы от гнетущей власти реального бога это
сознание воспринимает как вину, требующую кровного искупления. Именно поэтому здесь приносятся первые кровавые искупительные жертвы; более того, впервые
жертвой этому божеству, уничтожающему огнем все, что угрожает его единственности (Уран не имел кроме самого себя никакой иной потенции), падает сам свободный человек, словно бы наперекор другому, — милостивому и благоволящему
людям, — богу, в качестве кровавого воздаяния за вину, которую человек принял на
себя, дав место другому богу. Достаточно будет сказать, что до Кроноса никогда не
совершалось кровавых человеческих жертвоприношений. Однако ему приносятся
отнюдь не человеческие жертвы вообще, но вполне определенные жертвы, и на эту
специфическую черту следует обратить особое внимание, ибо она, возможно, способна открыть для нас одну из сторон учения Кроноса, которая в противном случае осталась бы от нас сокрытой, — и таким образом, что было невозможно ранее,
помочь нам понять это учение до конца. До сих пор сказанное мною о состоянии
сознания имеет, скорее, философский и общий характер, однако то исследование,
к которому мы переходим сейчас, сможет теперь уже в полной мере ознакомить нас
с особенностями и историческими свойствами учения о Кроносе.
Неоспоримым и основывающимся на достоверных свидетельствах фактом является то, что в среде уже названных народов — тех, что относятся к данному моменту сознания, — было принято приносить в жертву богу этого момента, т. е. Кроносу, детей, и среди них преимущественно мальчиков, а из этих последних, в свою
очередь, — преимущественно первенцев и даже единственных рожденных сыновей.
В особенности во времена общественных катастроф и всенародных бедствий в жертву приносили самое дорогое, первого сына, и даже — сына самого царя. Так, напр., 4-я
книга Царств* повествует об одном царе моавитян, т. е. одного из народов, принадлежащих к общей хананейской семье, которого три объединившихся царя Израиля,
Иуды и Эдома оттеснили в его последнюю крепость; он, согласно повествованию,
берет своего первого сына, который должен был стать царем после него, закалывает
его и приносит в жертву всесожжения на городской стене. Ужаснувшись такой мерзости, три царя отходят от города, однако и сами они в прочие времена были не свободны от подобной же мерзости. Греки рассказывают то же самое о карфагенянах,
(греч.). — Cf. Suicer. Th. Ε., ρ. 828 (при переводе этого места κατά в καταδεδουλωμένος мыслится перед
πνεύμα и άνθρωπο ν).
* Гл. 3.
Четырнадцатая лекция
237
и того бога, которому приносились эти возмущающие до глубины души жертвы, они
однозначно определяют как Кроноса. Так уже у Софокла в одном фрагменте, сохранившемся у Гесихия, далее у автора диалога «Минос»*, который выдается за платоновский. Эти высказывания не следовало упускать из виду лишь под тем предлогом,
что грек будто бы всего лишь перенес имя своего Кроноса на жаждущего младенческих жертвоприношений бога карфагенян — так, словно бы понятие Кроноса было
случайным, а не, напротив, необходимым в мифологическом развитии, чем единственно объясняется одно и то же явление в среде совершенно разных современных
друг другу народов. Эти высказывания грека достопримечательны также и потому,
что они указывают на те представления, что сами греки составили себе о Кроносе их
собственной теогонии, который для них, как сказано, есть не более чем прошлое, ибо
древняя грандиозная скульптурная композиция представляет его лишь в виде пустого трона и духов, несущих обломки разбитого колеса, символизирующего движение, вечно совершающееся в собственных пределах (не прогрессирующее)**, а о его
злодеяниях можно было узнать кое-что лишь из мистерий*** (из открытой мифологии
он исчез совершенно). В любом случае, в этом именовании карфагенского бога выказывает себя верное чувствование, благодаря которому греки ощущали, что древнейшие боги их собственной теогонии были ничем иным, как теми же самыми, которым
преимущественно или исключительно поклонялись варвары.
Диодор Сицилийский, чье повествование подтверждается приводимым Лактанием Песцением Нигером (Pescenius Niger), рассказывает о карфагенянах в частности, что после поражения армии царя Агафокла они пожертвовали Кроносу двести детей самых родовитых семейств****. Юстин рассказывает нечто подобное же по
поводу эпидемии чумы, присовокупляя многозначительные слова: Quippe homines
ut victimas immolabant et impubères (quae aetas etiam hostium misericordiam provocat)
aris admovebant, pacem Deorum sanquine eorum exposcentes, pro quorum vita Dii rogari
maxime soient12*****. Известен также стих Энния:
Et Poeni soliti sos (вместо suos) sacrificare puellos.13
* C. 315; ср.: Crotius в Deuteron, 18, 10.
Если то, что может быть истолковано как разбитое колесо, не есть в действительности, например,
тот самый серп, о котором столь недвусмысленно говорится в Теогонии, 179-180.
Об Исиде и Осирисе, 25: Κρόνου τινές άθεσμοι πράξεις (— ουδέν άπολείπουσι των Όσιριακών και των
Τυφωνικών) (И некие беззаконные деяния Крона <...> ничем не отличаются от (историй) Осириса
иТифона) (греч.).
Диодор Сицилийский, XX, 14; Lactanius. Institut., Lib. I, с. 21.
***** Юстин. е Trogo Pomp., XVIII, 6.
238
Вторая книга. Мифология
Согласно одному месту в хвалебной речи Евсевия Константину Великому, карфагеняне, более того, имели обыкновение ежегодно приносить в жертву Кроносу самых любимых и единственных рожденных детей*. Здесь особо подчеркивается тот
факт, что в жертву предназначались самые любимые и единородные дети. Что касается способа такого жертвоприношения, то — хотя и невозможно доказать, что
данный способ был всеобщим и применялся всегда, — нельзя сомневаться в том,
что (в особенности согласно определенным свидетельствам Ветхого Завета) приносимые в жертву Молоху, т. е. Кроносу у хананеев, мальчики сжигались живьем**.
Как нам теперь следует объяснить себе этот жуткий обычай, и не просто объяснить, но объяснить во всех его подробностях? Речь здесь идет не о человеческих
жертвоприношениях вообще, но о принесении в жертву сыновей, и не просто сыновей, но — прежде всего, самых любимых, первородных и даже единородных. Это
последнее обстоятельство тем более следует рассматривать как неслучайное, что
преимущество, отдаваемое в жертвоприношении мужскому первородству, является
общим для всей эпохи, принадлежащей Кроносу. Согласно Моисееву Завету, возникновение которого приходится как раз на эту эпоху, всякий первенец мужского
пола из домашнего скота был свят для Господа и должен был быть принесен в жертву; для людей делалось исключение, однако за них полагался выкуп***.
В высшей степени любопытно, что этот жестокий обычай безраздельно властвовал также и над народом Израиля; еще более примечательно то, что через одного
из пророков Иегова не менее чем в трех разных местах**** упрекает детей Иудиных:
Они возвели в долине Хинон высоты Ваалу, чтобы там приносить ему своих детей
в жертвы всесожжения, «чего, — говорит Иегова, — Я им не велел, о чем им не говорил и о чем не имел помышления», или, как гласит другое место: «Я никогда не
помышлял о том, чтобы они творили такие мерзости». Все это речи, в которых откровенно признается, что израэлиты, принося в жертву своих детей, полагали, будто
Κρόνω Φοίνικες καθ' εκαστον έ'τος εθυον τα αγαπητά και μονογενή των τέκνων (Финикийцы каждый
год жертвовали Крону самых любимых детей, единственных (или: первенцев)) (греч.). — Euseb. Orat.
de laudat. Const. M., 756.
То же самое явствует и из повествования, содержащегося во фрагментах Санхуниатона (Sanch.
Fragm.y Ed. Orelli, p. 41.), где описывается, как царь при наступлении для его страны опасности войны
торжественно принес в жертву всесожжения своего единородного сына. Рассказ гласит: έξ έπιχωρίας
Νύμφης Ανοβρέτ λεγομένης, ύιόν έχων μονογενή, ον δια τοϋτο Ιεούδ έκάλουν, του μονογενούς ούτως έ'τι
και νύν καλουμένου παρά τοις Φοίνιξι, κινδύνων έκ πολέμου μεγίστων κατειληφότων την χώραν, βασιλικώ
κοσμήσας σχήματα τον ύιόν, βωμόν δέ κατασκευασάμενος κατέθυσεν. о (Он имел единственного сына от
местной нимфы по имени Анобрет, которого поэтому называли Иеуд, как и теперь еще финикийцы
зовут первенцев; когда же страну обступили великие опасности войны, он, украсив одежды его поцарски и приготовив алтарь, принес его в жертву) (греч.).
*** Исх. 13,2;ср.29.
**** Иеремия 7, 31; 19, 5; 32, 35.
Четырнадцатая лекция
239
исполняют тем самым заповедь Бога, Иеговы, — и это наглядно демонстрирует нам
всю глубину заблуждения, в котором пребывало в ту эпоху человеческое сознание.
В самом дальнем начале этой эпохи Авраам, согласно повествованию книги
Бытия, был искушаем не Иеговой, который здесь не упоминается, но Элохимом —
богом, общим для Израиля и язычников, — который говорит ему: «Возьми твоего
единственного сына, которого ты любишь, и пойди в землю Мориа и принеси его
там в жертву всесожжения на горе, которую я укажу тебе», — и Авраам уже заносит
свой нож, чтобы заколоть сына для жертвоприношения, когда явившийся ему Иегова, ангел Иеговы (а значит, не Элохим) окликает его с неба и велит ему не поднимать
руку на своего сына; ибо он говорит: «Теперь Я знаю, что ты богобоязнен и что ты не
пожалел ради Меня твоего единственного сына»*.
Все эти факты, как бы мы ни пожелали их истолковать, по меньшей мере указывают на то, что обычай приносить в жертву сыновей, преимущественно первенцев
или единородных, — обычай, которому следовали все народы того времени и даже,
несмотря на определенно выраженный запрет, Иуда и Израиль, — этот обычай имел
более глубокое и всеобщее основание, чем обыкновенно принято считать. В греческой теогонии Кронос представлен проглатывающим своих собственных детей, богов позднейшей эпохи, которым было предсказано унаследование его власти. Было
поэтому естественно прийти к мысли, что сыновья приносятся ему в жертву — как
богу, который сам не пощадил собственных сыновей. Так считает еще Диодор Сицилийский**. Некоторые новейшие, среди них, напр., также Буттманн, чье сочинение
о Кроносе можно найти в трудах Берлинской Академии, полагали, напротив, что это
представление греческой теогонии можно объяснить из обычая: поскольку Кроносу
жертвовали детей, его мыслили как бога, пожирающего мальчиков. Здесь, таким образом, как раз то, что представляет собой большую загадку, а именно, сам указанный
обычай, оставляется без объяснения, в то время как, напротив, гораздо более понятное и допускающее более чем одно объяснение — т.е. представление греческой
теогонии — полагают необходимым объяснять, в доказательство того, что по большей части филологам гораздо важнее представляется объяснять письменные источники древности, нежели самую древность. Что касается приписываемого в теогонии
Кроносу проглатывания собственных сыновей, то объяснение должно оставаться на
долю будущего исследования греческой истории богов. Однако, возвращаясь к Диодору, необходимо сказать, что господствовавший в среде столь многих до-греческих
народов обычай принесения детей в жертву не может быть объяснен из того, что,
согласно греческой теогонии, Кронос проглатывал собственных детей. Ибо: 1) о таком проглатывании собственных детей в богоучениях этих (догреческих) народов
* Быт. 22, 12.
** Кн. XX, 14.
240
Вторая книга. Мифология
ровным счетом ничего не известно и не может быть известно. Сыновья, которых
в греческой теогонии проглатывает Кронос, суть действительные позднейшие боги:
Зевс, Посейдон, Гадес; о послекронийских богах, однако, эти народы ничего не знают,
ибо они остановились в своем движении на Кроносе; 2) тем самым, все еще не было
бы объяснено то обстоятельство, что в жертву приносились первородные и единственные сыновья. Ибо Кронос теогонии проглатывает всех своих детей без различия (также и женского пола), а значит — не своего единственного сына. В Ветхом
Завете, правда, встречаются свидетельства того, что в жертву Ваалу — израэлитами — приносились также и дочери, однако уже ранее приведенные свидетельства
профанных писателей не оставляют сомнений в том, что в случаях самых торжественных жертвоприношений — карфагенян, напр., — в качестве жертвы полагались единственные или единородные сыновья. Если, таким образом, допустить, что
мы правы, признавая за этим обстоятельством особую важность, то какое все-таки
следует дать ему объяснение?
Я охотно признаю, что это объяснение не легко, что оно может показаться гораздо более дерзким, нежели все сказанное прежде. Однако важна попытка; и после
того, как факт самого жертвоприношения поставлен, по меньшей мере, вне сомнения — коль скоро Евсевий в уже приведенной хвалебной речи уверяет, что у финикийцев эти жертвы были приносимы даже ежегодно, т.е. представляли собой
регулярно повторяющиеся торжества, коль скоро, далее, торжественные действия,
совершаемые в честь того или иного бога (как мы ранее уже видели на множестве
примеров) суть подражания деяниям, действиям или обстоятельствам самого этого
бога, то — по всей видимости — эти ежегодные жертвоприношения могли предназначаться лишь одному богу: тому, который отдал своего собственного, единородного сына для блага человечества. Здесь, таким образом, мы впервые приходим к идее
о сыне, а именно — о единородном сыне Кроноса. Можно ли теперь указать где-либо
такого сына? В каком божестве или каком богоподобном существе мы сможем признать его? Куда сможем поместить его, какое место является будто специально свободным и открытым для него? Как единородный сын он не может являться одним
из сыновей Кроноса, которых множество — он не может быть одним из тех субстанциальных богов, которых греческая теогония называет в качестве его сыновей.
Однако настоящий момент сознания уже более не принадлежит одному лишь
Кроносу. Также и другой, освобождающий бог, которого мы еще ранее успели обозначить общим именем Диониса, уже причастен к настоящему положению. С момента катаболы мы всегда можем указать на его присутствие во всех мифологиях.
Неужели этот бог никак не проявил себя в учении Кроноса? И если он присутствует
в этом учении, то может ли оно поставить его к Кроносу в какое-либо иное отношение, кроме отношения сына — и именно единородного? Ибо ведь в своем первом явлении освобождающий бог был сыном Урании, т. е. ставшего теперь относительным,
Четырнадцатая лекция
241
потенциальным или женственным, бога. Мы доказали — по меньшей мере косвенно — его присутствие у вавилонян и несомненно распознали его у аравийцев.
Разве может он всецело отсутствовать у финикийцев, которые ведь являются народом позднейшим и одновременно стоящим исторически ближе всех к только что
названным?
Действительно, даже если и может представляться сомнительным, что освобождающий бог выступает в этой мифологии как сын Кроноса, то по меньшей мере тот
факт, что он вообще в ней присутствует, лежит вне всяких сомнений. Он никак не
может отсутствовать в ней, и он в ней действительно есть, пусть даже здесь он для
нас не столь легко различим с первого взгляда, как в иных местах. Ибо естественно,
что его положение меняется с каждым следующим моментом, так как его отношение
к реальному богу не остается одним и тем же. Следовательно, конечно же, в этот
момент, когда он противостоит вновь принявшему мужественные черты реальному
богу — Кроносу, — он должен выглядеть иначе, нежели в тот предшествующий, где
он сливался для сознания в одно божество с женственной Уранией. Женское божество и соответствующее ему мужское соотносились там как простые корреляты, где
одно включало в себя другое и требовало его, т. е. они никак не были противоположностями; борьба, которую мы видим в настоящем моменте, там еще не разгорелась.
На место Урании пришел Кронос. Этот последний, правда, уже не может исключить
освобождающего бога, порожденного предшествующим моментом, из бытия, однако
он властен исключить его из божественности, которая принадлежит лишь ему одному и в которой Кронос ему отказывает, не допуская его к ней, так что тот вынужден
отказаться от божественности, принять рабский облик и жить в этом состоянии отречения. И в этом облике — единственном, который, как я показал, освобождающий
бог может принять или явить, — в этом облике, не в облике бога, но — личности,
стоящей между богом и людьми и словно бы равно богу и людям служащей, в облике
такого существа-посредника, которое вынуждено добывать, силой завоевывать для
себя божественность, мы действительно находим его в финикийской мифологии.
Он предстает как Мелькарт (Melkarth) со своим финикийским именем, для греков
же он Μελίκαρθος14: они сравнивают его, и по праву, с греческим Гераклом. Однако я
попрошу вас до поры до времени оставить это сходство, или это родство — полностью в стороне, ибо позднее я намерен высказаться о нем особо.
Значение имени Melkarth вполне определенно и строится не на догадках. Финикийский язык известен нам отчасти по туземным памятникам, монетам, надгробным
надписям и т.д. (все на данный момент известные памятники финикийского языка
и литературы представлены вместе в ученом труде Гезениуса). Язык Финикии есть
язык Ханаана, и — если не принимать во внимание незначительных различий —
можно сказать, что он идентичен еврейскому. Поэтому и все истолкования имени Melkarth по большей части сходны между собой. Оно состоит из "f7Q15 = «царь»
242
Вторая книга. Мифология
и гпр (или гтпр]16) = «город». Таким образом, Мелькарт = город-царь. В добавление
к этому существует, по меньшей мере, одна финикийская монета, на которой можно
прочесть имя Melaeh Korth. Однако что же означает теперь это имя? Что должно выражать собой имя — город-царь? Давайте вспомним, о том, что человечество лишь
в момент выхода из астральной религии совершает переход к постоянным жилищам
и земледелию. Этот переход от свободной, ни к чему не привязанной и потому звероподобной жизни ранней эпохи (я вновь напоминаю вам о θηριωδώς ζην17, о которой греки говорят всегда, когда ведут речь о благодеяниях Диониса и появляющемся
вместе с ним женском божестве, Деметре); этот переход от бродяжнической, звероподобной жизни ранней эпохи к постоянной собственности и затем, далее, к гражданской жизни через совместное проживание в хорошо укрепленных городах (я напоминаю вам о часто встречающемся έΰκτιμένη έν άλωη18 у Гомера, который также
никогда не упускает случая упомянуть прочные стены отличенного таким образом
города — чувствуется, насколько уютно и безмятежно его эпоха ощущает себя в сознании укрепленных и безопасных городов, — он всегда готов приветствовать самыми прекрасными эпитетами те города, мимо которых он проплывает на волнах
своего напева) — этот переход от скитальческой, лишенной всякого уклада жизни
первобытной эпохи к спокойному быту городов всегда и повсюду приписывается
родственным Дионису божествам, и именно соответствующая Дионису, словно бы
попросту заменяющая его в финикийской мифологии личность в качестве основателя городов, в качестве первого основателя городской общины, носит имя — Melkarth.
Его главный храм именно поэтому находился в самой столице Karthago (слог karth
в Melkarth и в Karthago есть одно и то же слово). Если Вавилония и Персия были
близкими к патриархальному состоянию монархиями, то Карфаген был первым государством в нынешнем смысле — с уже определенно выраженным (олигархическим) укладом. В качестве же средоточия государства сам этот город приобретает
все большее значение. Туда (в Karthago) ежегодно приходят так называемые теории
(Theorieen) — посольства всех карфагенских колоний, — с тем чтобы воздать хвалу
и принести свои жертвы богу, который являлся поистине верховным настоятелем
пунической государственной и союзной системы. Допустим, что это имя захотели бы
объяснить так, чтобы оно означало лишь царя города κατ' εξοχήν19, столицы — т. е.
города Карфагена: это ничего не изменило бы по сути. Оно все же означало бы, тем
самым, бога-хранителя столицы, представляющей собой центр, средоточие государственного единства. В самом этом имени уже дано его отношение к Кроносу. Кронос
и теперь все еще есть всеобщий: т. е. жительствующий в широком и всеобщем бог —
бог полей и открытых пространств, — El Sadai, как я часто испытывал искушение
(и испытываю еще и по сей день) прочесть довольно трудно поддающееся объяснению имя El Schaddai, которым израэлиты обозначали своего бога до тех пор, пока он
не получил имени Иегова. Кронос, таким образом, был богом природных просторов;
Четырнадцатая лекция
243
Мелькарт же есть бог города, более узкого и менее подверженного переменам человеческого объединения. Этим, следовательно, определяется его отношение к Кроносу;
а поскольку Дионис есть бог истинно человеческой жизни, — то одного этого уже
достаточно, чтобы показать: Мелькарт есть личность, соответствующая Дионису.
Теперь, однако, главный вопрос. Является ли Мелькарт в финикийской мифологии также сыном Кроноса? Позвольте мне на этот вопрос ответить, в свою очередь,
вопросом: чьим еще сыном он мог бы быть, если не сыном Кроноса? Если в финикийской мифологии эта личность не может не присутствовать и действительно присутствует, если именно эта вторая личность еще ранее была представлена как сын
ставшего женственным — однако лишь относительно женственным, лишь представляющегося женственным, бога — то сыном какого иного бога мог быть Мелькарт, если не сыном именно верховного бога, Кроноса, с которым он пользовался
совершенно равными почестями, или, говоря определеннее, рядом с которым в общественном поклонении он стоял именно так, как мог стоять только сын рядом с отцом? Повсюду, куда только ни проникал культ Кроноса, всегда можно найти также
и храмы Мелькарта, или — как его называют греки — финикийского Геракла, и наоборот. В Эгейском море, на острове Фасос (Thasos), ему был воздвигнут великолепный храм — построенный, по словам Геродота*, теми финикийцами, которые на своем пути в Европу, шестнадцатью столетиями ранее начала христианского
летосчисления, основали город, где еще Геродот мог видеть открытые и разрабатываемые финикийцами золотые рудники. В Кадьесе (Kadix), известном уже в незапамятные времена благодаря мореплаванию финикийцев, Страбон** определенно упоминает находящийся неподалеку от храма Кроноса также и знаменитый храм
Геракла, т. е. Мелькарта. Таким образом, ничто не говорит против, но все говорит за
то, чтобы мыслить себе Мелькарта в таком отношении к Кроносу. Он существовал
уже вместе с Уранией, однако будучи как бы слившимся с ней воедино; поднимающееся всед за ней мужское божество вновь исключает его — однако уже, тем самым,
его полагая. Если же потребовать от меня привести такое место, в котором Мелькарт
буквально именовался бы сыном Кроноса, то мне придется признать, что такого места я не знаю. Однако отчасти это объясняется тем, что у нас на руках имеется слишком мало памятников, отчасти же возможно, что именно данный момент и был сознательно окутан тайной; ибо, как уже отмечалось, эта вторая личность предстает не
как бог, но как стоящее между богом и человеком и служащее обоим существо: эта
личность появляется сперва вне своего божества, в рабстве — точно так же, как Мессия в Ветхом Завете называется не единородным Сыном, но рабом Божиим и высказан лишь как таковой. Нас вообще меньше интересует вопрос о том — какие именно
Геродот, II, 44.
** Страбон, III, 5, 169.
244
Вторая книга. Мифология
наименования получал Мелькарт, нежели о том — как изначально возникло представление о нем. Здесь, однако, мы видели, что Кронос (вновь обретший мужественные черты реальный бог) вынужден был исключать его, а значит, тем самым, — полагать. Однако то, был ли он поэтому называем сыном Кроноса, представляется тем
более сомнительным, что он явился как раз не в божественном облике. Он был вообще, как я уже ранее выразился, в своем первом явлении непостижимым для самого сознания опосредующим существом: личностью, которой еще предстояло открыться, еще предстояло реализовать себя как то, чем она была — как сына Кроноса,
как бога. Точно так же, — как загадочное существо, — мы находим эту личность и
у других народов. У Страбона* есть следующее достопримечательное место об эфиопах: Θεόν δε νομίζουσι τον μέν άθάνατον, τούτον δ είναι τον αίτιον των πάντων20 (Богом
они считают того, кто бессмертен и является родоначальником всех вещей) (он, таким образом, был верховным Богом), τον δε θνητόν, άνώνυμόν τίνα21 (еще одного)
(стало быть, также бога), который, однако является смертным — в его настоящем
облике, — которого они поэтому не могут назвать, некоего Неназванного и Безымянного, και ού σαφή22: пес cognitu facilem,23 которого нелегко познать. Там, где
в дальнейшем Страбон особо говорит о Мероэ (Мегое), он все же называет имя: Οι δ
έν Μερόη και Ήοακλέα, και Πάνα, και Ίσιν σέβονται24: живущие в Мероэ почитают
как Геракла, так и Пана и Исиду. Исида есть общее имя для женского божества; Пан
здесь, похоже, заступает на место древнего бога Урана; Геракл же есть то имя или
личность их мифологии, которую греки всюду ставят на место Мелькарта. Затем
Страбон добавляет: они почитают этих προς άλλω τινι βαρβαρικ (seil. θε 25 ). Это тот,
которого он в первом приведенном месте назвал αίτιον των πάντων26, но в котором
он, однако, узнает не Кроноса, поскольку тот в греческой мифологии не есть верховный, не есть αίτιος των πάντων27, и поэтому он называет его обобщенно βαρβαρικόν
τίνα28. О том, что в действительности существовало сомнение и опасение прямо признать Мелькарта сыном Кроноса, можно было бы заключить из указания во фрагментах Санхониатона, которое на первый взгляд может показаться свидетельством
против нашей точки зрения, однако, при ближайшем рассмотрении, в действительности оказывается в нашу пользу. Но сперва я должен объяснить, каким образом
вообще обстоит дело с фрагментами Санхониатона. Санхониатон есть имя финикийского писателя, который, как утверждают, в частности написал мифическую
историю своего отечества. Этот труд, по слухам, Филон Библский (Philo von Byblos)
перевел на греческий, и фрагменты его перевода можно найти у Евсевия в его «Приготовлении к Евангелию». Если попытаться сказать несколько слов о ценности и характере этих фрагментов в целом, то можно ясно видеть, что либо сам Санхониатон,
Там же, XVII, 2, 822.
Четырнадцатая лекция
245
либо его переводчик, который явно придерживался чего угодно, но только не буквы
текста, всячески постарался придать всем мифологическим представлениям финикийцев эвгемеристическое направление, представив богов как местных царьков, события же и судьбы богов — как общеисторические, человеческие перипетии. Естественно, что при таком подходе должны были потерпеть урон сами мифологические
факты, и прежде чем ими можно будет воспользоваться, их необходимо восстановить в их первоначальном смысле. Сколь бы, однако, различным (что вполне естественно) ни был взгляд на эти фрагменты, все же их общее свойство по большей
части таково, что не позволяет видеть в них один лишь плод чистого вымысла. В этих
фрагментах, далее, встречается одно место*, согласно которому Мелькарт есть сын
не Кроноса, но Демароуна (Demaroun), его сводного брата. Общий отец Уран, по свидетельству этих же фрагментов, породил его от одной из своих наложниц. Я прежде
всего замечу, что также и по свидетельству этих фрагментов признается кровное
родство Мелькарта с Кроносом; согласно этому свидетельству, Мелькарт происходит никак не меньше чем от сводного брата самого Кроноса; с другой же стороны
можно видеть, что сама позднейшая рефлексия усматривала затруднение в том, чтобы мыслить себе Мелькарта как непосредственного потомка Кроноса. Однако вопрос стоит не о том — чем сделался Мелькарт в позднейшей рефлексии, но о том —
каково было его первоначальное отношение; первоначально же Мелькарт мог быть
лишь сыном Кроноса. Таково было необходимое следствие предшествующего явления той же потенции, где она предстает как сын обретшего женственные черты реального бога. И если Мелькарт все же был сыном Кроноса, то он также (я прошу вас
хорошо это заметить) с необходимостью был его единственным, единородным сыном; ибо он не есть один из материальных или субстанциальных богов, которых может быть множество, но он есть противостоящая Кроносу чисто духовная, причиняющая потенция, которая по природе своей может быть только единственной.
В довершение всего сказанного я хочу, наконец, привести еще и то место в уже упомянутом фрагменте Санхониатона, на которое я мог бы попросту сослаться в вопросе о существовании единородного сына Кроноса и в котором сказано: «Когда же
пришла чума и наступила великая пагуба, Кронос приносит в жертву всесожжения
своему отцу Урану своего единородного сына»**. Однако в этом месте усматривают
отчетливую эвгемеристическую окраску. Кронос есть царь — точно так же, как
и другие позднейшие цари финикийских народов, — который при наступлении великого бедствия для своей страны приносит в жертву своего единородного сына,
Евсевий Кесарийский. Приготовление к Евангелию, 1,17. (Fragm. S., ed. Orelli, p. 28.)
Там же, I, 38; ed. Colon.: Λοιμού δέ γενομένου και φθοράς τον εαυτού μονογενή ύιόν Κρόνος Ούρανω
πατρι όλοκαρποι о (Когда же пришла чума и погибель, Крон приносит отцу своему Урану в жертву
(всесожжения) своего единородного сына) (греч.).
246
Вторая книга. Мифология
и позднейший обычай принесения в жертву единородных сыновей в периоды всенародных несчастий должен исторически выводиться от первоцаря Кроноса, который
подает здесь первый пример такого жертвоприношения.
Если Диодор Сицилийский говорит, что сыновей Кроносу приносили в жертву
как тому богу, который проглатывал собственных отроков, то, следовательно, теперь, после того как нам удалось доказать существование единородного сына Кроноса, мы имеем право, напротив, предварительно утверждать следующее: жертвы
приносились ему как богу, который не пощадил своего единородного сына, и не пощадил его для блага человечества; ибо лишь это (то, что он не пощадил единородного
сына) может быть признано как вполне соответственное, и Кронос действительно
не пощадил собственного, и именно единородного сына, отказав ему в божественности, исключив его из божества, вынудив его, тем самым, принять рабский облик
и в этом облике служить человечеству и даже стать его благодетелем и спасителем;
ибо все те благодеяния, которыми человечество обязано гражданскому объединению: т. е. истребление опасных для человека чудовищ, ограждение полей, безопасность жилищ, развитие ремесла и рапространяющаяся не только в дальние земли,
но и через морскую пустыню торговля, и даже сами радующие сердце искусства муз
(вспомните, что в греческой мифологии известен также и Геракл Мусагет) — все эти
благодеяния, коими оно не могло быть обязано строго замкнутому Кроносу, все еще
продолжавшему быть всеобщим, можно сказать, диким, ничем не укротимым богом — богом, в котором все еще живет звездное небо, — все эти благодеяния выпали на долю человечества благодаря исключенному Кроносом, как бы изгнанному
из божественности сыну, который служил человечеству в рабстве и действительно
смог стать его благодетелем и спасителем. Ибо таковым (спасителем) он признавался
повсюду, куда только ни проникало его имя; на монетах Фасоса — этого островного
города, который я уже упоминал, куда в древнейшие времена финикийцы принесли
почитание своего Геракла, Мелькарта — на монетах этого города его имени сопутствует постоянное приложение σωτήρ29, «освободитель», «спаситель». Именно этого
финикийского Геракла изображает Филострат как τοις άνθρώποις εϋνους30* — благосклонный к людям, милостивый к человечеству. Здесь, таким образом, вы можете
иметь дальнейшее расширение ранее выведенного на основании одного лишь имени
доказательства того, что Мелькарт есть соответствующая Дионису и замещающая
его личность в финикийской мифологии. Диодор Сицилийский говорит о нем: он
облагодетельствовал род человеческий, не приняв за это никакой мзды**. Поэтому
его часто называют попросту Геракл-благодетель, и общее понятие спасителя было
* Philostr. ν. АроН., VIII, 9.
εύεργήτησε το γένος των ανθρώπων, ούδένα λαβών μισθόν. о (облагодетельствовал род людской, не
взяв за то никакой мзды) (греч.). — Диодор Сицилийский, IV, 14.
Четырнадцатая лекция
247
в отношении его настолько расширено, что он мыслился способным помогать также
и в болезнях и ассоциативно связывался с Асклепием (Эскулапом). Естественные горячие источники, целительная сила которых стала известна весьма рано, получили
название даров Геракла. Однако наиболее значительное и характерное слово можно
найти у Гесиода в стихотворении «Щит Геракла», где Гесиод говорит, что он дан изобретательным людям, с тем чтобы отводить от них проклятие*. Весьма значим здесь,
в первую очередь, данный людям эпитет «изобретательные». Изобретательными
люди становятся лишь по выходе из золотой эпохи, где они получали все необходимое без труда и усилий; однако именно с этим выходом из золотого века связано
также и проклятие. Геракл же дан человеку для того, чтобы отвести это проклятие,
облегчить его полную трудов и страданий жизнь и привнести в нее бодрость и веселье. Άλεξίκακος, отвращающий зло, — есть наиболее общепринятый и употребительный эпитет Геракла.
Эта идея бога, который для блага человечества не пощадил собственного единородного сына, неизбежно приводит нам на память идеи, принадлежащие более
высокому и более священному кругу, и было бы неверно отрицать ту взаимосвязь,
которая действительно имеет здесь место, однако важно, чтобы эта взаимосвязь
была понята в своей истине. Я, прежде всего, вновь напомню о необходимом и всеохватном единстве всякой действительной религии. Поскольку действительная не
может отличаться от действительной, а мифологическая религия есть действительная религия, — то в ней не могут принимать участие силы и потенции, отличные от
сил и потенций богооткровенной религии; эти силы и потенции всего лишь присутствуют во второй иным образом, нежели в первой. Когда говорят: «Язычество
есть ложная религия», — то в этом как раз заключается, что оно отнюдь не лишено
всякой истинности, но представляет собой лишь извращенную истинную религию.
Мифологические представления содержат понятия, чья истина, чей истинный образ и сущность даны лишь в Новом Завете. Ибо как язычество — однако рассматриваемое на всем своем протяжении и во всей своей взаимосвязи — есть лишь
естественным образом рождающееся христианство (ибо как, в противном случае,
переход от одного к другому смог бы оказаться столь легким и охватить собой столь
огромные человеческие массы?), точно так же иудаизм есть лишь неразвернутое
христианство. Та же самая личность, которая являлась народам, т. е. язычникам, как
спаситель и искупитель, — присутствует также и в Ветхом Завете как Мессия. Существа в мифологии не являются всего лишь воображаемыми, но они суть одновременно действительные существа. Дионис во всех своих образах (в качестве Диониса
тот образ, который в качестве Мелькарта представляется рабом, здесь уже является
Щит Геракла, 29.
248
Вторая книга. Мифология
богом) — есть действительная божественная потенция, к которой сознание имеет
действительное отношение. Истина мифологии в этом смысле в полноте своей открылась благодаря христианству. Мессия Ветхого Завета также поначалу мог казаться всего лишь воображаемой личностью*, однако результат показал, что он был
действительным существом, которое в конце всего процесса действительно явилось,
и явилось как единородный сын от отца. «Мы видим его — все предшествующее время сокрытую — славу». Эта личность явилась не просто πλήρης χάριτος31, но также
и πλήρης αληθείας32 (с трудом поддается объяснению, но весьма легко объяснимо
в соответствии с нашим воззрением).
Мессия означает «Помазанник»; как таковой он с самого начала предназначен
быть Царем и Господом совокупного бытия; однако, как Давид помазан Самуилом,
определен на царство, но тем самым еще не является действительным царем, — так
и Мессия Ветхого Завета еще не предстает как действительный Владыка, но изображается, с завуалированием его божественности, лишь как слуга Божий (как в том
знаменитом, приписываемом Исайе предсказании, чье мессианское значение могли
отрицать лишь сожаления достойная ограниченность нашего времени и жалкое —
зачастую сопровождаемое огромной словесной и языковой ученостью — невежество относительно подлинной глубины и величественной взаимосвязи всей древности, которые в конце концов вынуждены были прибегнуть к самому надуманному
из всех возможных объяснений, согласно которому этот страждущий слуга Божий
должен был олицетворять собой совокупность всех пророков или даже сам народ
Израиля). Нет, эта личность есть личность действительная, хотя, конечно же, не общеисторическая. Тот, кто способен прочесть этот памятник во взаимосвязи с идеями, определяющими собой всю древность, с идеями, которые никак нельзя счесть за
случайные и принадлежащие исключительно Ветхому Завету, тот ни единого мгновения не усомнится в его истинно мессианском значении. Конечно, предсказание не
говорит исключительно о последних страданиях Мессии, как это обычно истолковывается. Ибо Мессия страждет или положен в страждущем состоянии с того момента, как человек вновь восхищает уже преодоленный в природе и возвращенный
в потенцию принцип, приводя его в действие. В одном еврейском трактате (в Мидраш Когелет) Творец говорит, обращаясь к чистому, новосозданному человеку:
«Смотри, не приводи в движение, не потрясай мой мир; ибо если ты погубишь его,
ни один человек уже более не сможет его восстановить, но даже самого Святого
(Мессию) ты увлечешь в смерть». Страдание Мессии начинается отнюдь не с момента его вочеловечения, как предполагают исследователи, ограниченные христианскими представлениями. Мессия страждет с самого начала, он положен в состоянии
Отношение Мелькарта к Кроносу как к отцу было типичным и общепринятым, напр., у финикийцев, правда, выражалось оно лишь в действиях, а не в словах.
Четырнадцатая лекция
249
негации, страдательности с тех самых пор, как в человеческом сознании (ибо лишь
в нем он мог себя осуществлять) он был вновь положен как только потенция, т. е.
выведен за пределы действительности. Вторая потенция была осуществлена и прославлена лишь в преодолении В; таким образом, как только В вновь пробуждается,
вторая потенция лишается своей славы (ist entherrlicht), т. е. полагается в страдательном состоянии — ибо страдать и пребывать в славе суть противоположности в известном месте: если один член страждет, вместе с ним страждут и остальные; когда
же один член прославляется, с ним вместе прославляются и другие. Согласно тайному учению евреев, грехопадение объясняется как восстание человека против господства Мессии. Падение происходит, когда преодоленное в человеке В вновь уклоняется от подчинения власти второй потенции. Коль скоро это произошло, человек
подпал под власть быть не должного, однако одновременно из человеческого сознания исключена также и высшая потенция, и ей вновь предстоит осуществить себя
в нем. Страдание Мессии, таким образом, с точки зрения Ветхого Завета не является
только грядущим, но настоящим, каким оно и изображается в уже упомянутом Исаевом пророчестве; как грядущее, напротив, изображается лишь его прославление.
Гезениус — тем, что страдание изображается как настоящее, — хочет опровергнуть
отношение этого места к Мессии. Однако, как сказано, страждет не только лишь уже
вочеловечившийся Мессия, но он страждет от начала, и упомянутое пророчество
в особенности потому является неоценимым памятником всей этой человеческой
эпохи и ее религиозного развития, что здесь, в полном согласии с параллельным развитием язычества, Мессия представлен не как Царь или сам Господь, но как всего
лишь слуга Божий, как страждущий, как претерпевающий великие труды и скорби.
«Он тянется вверх как отпрыск» (т.е. он слаб перед лицом гордой власти тьмы, объявшей весь мир), «словно корень из засушливой почвы, не было в нем ни вида, ни
красоты, мы видели его, но не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему».
Можно видеть, что его возникновение (его бытие в совершенно ином образе) и его
унижение не представляются как нечто будущее, но как нечто ныне существующее,
и даже более того — давно уже бывшее. Однако, как показывает дальнейшее, в результате вины человека он отрицается в своей божественности, лишается своего места, и поэтому ему дано прозвище — и именно в этом униженном и презренном облике оно приобретает особое звучание — сын человеческий. Как эта вне
божественности положенная потенция, он есть сын человеческий. «Он нес, — как
говорится далее, — он нес все это время нашу немощь и возложил на себя наши скорби». Состояние человеческого сознания в эпоху, в частности, становления язычества, тот процесс, в котором порождаются мифологические представления, есть закономерно протекающая в сукцессивных кризисах болезнь, посредством которой
сознание восстанавливает себя в первоначальном здоровье. Точно так же скорби,
которые понес на себе Мессия, суть скорби раненного и в себе самом разорванного
250
Вторая книга. Мифология
сознания. «Он понес нашу немощь — нашу немощь он принял на себя, — мы же думали, что он наказуем, побиваем и подвергаем мучениям от Бога». Эти слова всецело
выражают собой заблуждающееся сознание настоящего момента, где сознание действительно мыслит себе эту личность как изгнанную разгневанным Богом и побиваемую им скорбями и трудами, тогда как то, что действительно обременяет его этой
работой, есть ложный принцип сознания, вновь пришедший в действие по вине человека. «Он был уязвляем ради нашего беззакония и поражаем за вину наших грехов.
Наказание лежит на нем, дабы мы имели мир и покой, и его язвами мы получили
исцеление». Слово, которое в еврейском означает «грех» и «грешить», означает собственно a scopo deflectere33, ибо ведь также и греческое άμαρτάνειν34 употреблено
в отношении выстрела мимо цели еще у Геродота в известном повествовании об убитом во время охоты сыне Кроноса . Но цель, конечная точка является одновременно
также и срединной точкой. Изначальное отпадение человека было, однако, заблуждением, отклонением от цели; ибо если помыслить, как, безусловно, и следует, что
в тот момент вне Бога (praeter Deum35) положенной свободы все зависело от того,
чтобы удостоенный такой свободы человек сам свободно вернул в свое обладание то
место, для которого он был некогда сотворен, то первым грехом, собственно, было
его отклонение от цели — a scopo deflectere. Именно поэтому в Ветхом Завете язычество и почитание, оказываемое ложным богам, преимущественно именуется грехом,
а согласно еврейскому словоупотреблению — язычники как таковые именуются
грешниками κατ' εξοχήν, αμαρτωλοί36: точно так же, когда Христа упрекают в том, что
он водит дружбу с мытарями и грешниками, — под этими последними мыслятся
именно язычники. Таким образом, когда говорится «Он взял на себя наш грех», то
это означает: он вместо нас понес следствия того отхода от Бога, которые тянутся
через всю эпоху язычества. Значение этих слов вполне проясняется благодаря непосредственно следующему: «Мы все блуждали (здесь, следовательно, грех приравнивается к заблуждению), каждый взирал лишь на свой путь (слово "путь" в Ветхом
Завете имеет в особенности религиозное значение: "идти путем Ваала" значит "следовать религии Ваала") — каждый взирал лишь на свой путь (политеизм несет с собою и множество путей), но Господь возложил наш грех на него (на его долю пали
скорби и труды)». Таким образом, после этого объяснения я уже не побоюсь сказать
вслух, что считаю эту главу ветхозаветного пророка основным документом, необходимым для истинного понимания язычества. Достопримечательно, что в истории
апостолов (гл. 8) евнух эфиопской царицы Кандакии, имена которой последняя египетская экспедиция обнаружила на множестве памятников, — читает именно эту
главу Исайи. Почему именно ее? Он происходил из Эфиопии, где, как ранее уже
Геродот, I, 43.
Четырнадцатая лекция
251
говорилось, хоть и не определенно, однако также пользовался почитанием тот слуга
Божий, с которым образ, представленный пророком, имеет наибольшее сходство, и
с величайшей радостью апостол прямо отсюда начинает свое наставление, ибо он
знает, что здесь врата понимания отворены также и для язычников. В итоге занятия
эфиоп принимает крещение и исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий. Апостолу не нужно было сперва объяснять ему понятие Сына Божьего, речь шла лишь
о том, что Иисус Христос есть именно тот самый Безымянный (ανώνυμος), или что не
Мелькарт, но Иисус Христос есть сын Бога. Ибо, безусловно, тот же самый, кто
в полноте времен явился как божественная личность, — в язычестве действовал как
естественная потенция. Не будет в том никакого осквернения, если те истины, которые даже и в самом Ветхом Завете представляются в отчасти еще завуалированном
виде и которые лишь в Новом Завете предстают в своем полном значении, — мы распознаем и укажем еще в ранних, искаженных оптических преломлениях язычества.
Это происходило всегда, и начало такому распознаванию было положено еще отцами Церкви, хотя им и недоставало собственных конечных понятий, для того чтобы
дать объяснение такой взаимосвязи. Согласно нашему воззрению, именно этот,
пусть даже преломленный и нуждающийся в коррекции, отблеск христианских идей
в язычестве, доказывает необходимость и вечность идей христианства. Если бы эту
взаимосвязь, как обычно и происходило до сих пор, захотели объяснить только
исторически, искажением знания, в незапамятные времена дошедшего также и до
язычников, напр., о состоянии унижения Мессии, — то именно тогда эти истины,
которые так же стары, как и сам мир, и чьи основания были положены вместе с основанием мира, — именно тогда эти истины выглядели бы как только случайные,
имеющие лишь случайное хождение в среде человечества. Правда, ничего иного они
не представляют собой также и для большей части лишь формально ортодоксальных теологов, и это utiliter37 принимается теми, чьи понятия и познания принадлежат вчерашнему дню и кто не выказывает ни малейшего намерения и устремления
учиться чему бы то ни было: сегодня они держат высокопарные речи и владеют всеобщим вниманием, но уже назавтра ничего собой не представляют.
Теперь я возвращаюсь ко взаимосвязи настоящего исследования. Во всем этом
изложении мы исходили из того — подтверждаемого самыми согласными между собой и самыми неопровержимыми свидетельствами — обычая: иногда при наступлении чрезвычайных обстоятельств, а иногда и в один определенный ежегодно повторяющийся день, приносить в жертву Кроносу мальчиков, а именно — первенцев
или единородных сыновей. Вследствие прежнего опыта, свидетельствующего о том,
что такие действия представляют собой не что иное, как подражания действиям
и обстоятельствам самого почитаемого бога, нам пришлось заведомо утверждать,
что эти жертвы были приносимы богу, который ради блага человечества не пощадил собственного первородного сына. (Тем самым возникла необходимость указать
252
Вторая книга. Мифология
для Кроноса сына, и именно единородного сына. Его мы нашли в лице Мелькарта.)
Для того, однако, чтобы с большей определенностью представить себе смысл этих
жертвоприношений, помыслите себе данное отношение следующим образом: Кронос по природе своей есть жестокий, неблагосклонный к человеческому роду бог,
но его сущность для сознания смягчается тем, что он исключает вторую потенцию
из своего божества, полагая ее в рабстве и услужении; ибо именно благодаря этому
она достается человечеству, а благодаря ей — человеческий род получает все те благодеяния, которые сам Кронос никогда не смог бы ему оказать: сам Кронос не есть
всецело и совершенно Кронос, но в его основе все еще лежит, — также и для сознания, — абсолютно исключительный бог; и тот факт, что он полагает или порождает Мелькарта, — сознание рассматривает поэтому не как необходимость, лежащую
в природе бога вообще, но как необходимость природы Кроноса как такового. То
дикое, неблагосклонное к культивированной человеческой жизни, что есть в Кроносе, происходит не из его настоящего бытия, но имеет происхождение гораздо более далекое, ведет начало от его древней природы. Как дикий и жестокий он не есть
Кронос в особенности, но есть именно тот всеобщий, всепоглощающий и всеистребляющий бог. Кроносом в особенности он становится лишь в результате того, что
порождает (gibt) Мелькарта. Однако то сознание, которое в Кроносе все еще ощущает всеобщего бога, опасается как раз того, что он может перестать быть Кроносом и принять свою прежнюю абсолютно истребляющую природу. Этот страх возникает в особенности во времена великих общенародных бедствий, несущих угрозу
существованию всего государства, т. е. данному Мелькартом порядку и укладу; когда
вследствие тяжелого военного поражения или опустошительной эпидемии чумы
распространяется панический ужас, карфагенский народ больше всего боится возвращения прежних времен. Эти жертвы поэтому приносятся не Кроносу как таковому, но все еще присутствующему в нем, пусть даже и всего лишь как прошлое, изначальному богу — Урану; ибо, согласно месту, приведенному из Санхониатона, сам
Кронос приносит в жертву всесожжения Урану своего единородного сына (Урану,
дабы примирить его со своим от него отличием, Кронос приносит жертву, вынуждая
своего сына принять образ раба; это уступка, которую он делает Урану). Сам Кронос по отношению к Урану может существовать лишь исключая своего сына. Таким
образом, этого бога, который самим своим существованием грозит человеческому
роду и всему его (Кроноса) собственному складу и умонастроению, необходимо умилостивить путем принесения этой жертвы, которая — поскольку тот, кого должно
умилостивить, есть огненный, всеистребляющий бог — должна быть предана огню
(также и это, следовательно, есть особая характерная черта, требующая для себя
объяснения). Это жертвоприношение должно побудить Урана предоставить человечеству Кроноса, а вместе с ним и несущего мир и спасение Мелькарта, дабы на место
этой двойственности никогда уже вновь не пришло изначальное всепоглощающее
Четырнадцатая лекция
253
и всеистребляющее единство, которое, правда, — покуда сознание еще безраздельно
в нем пребывало, — воспринималось им безо всякого страха; однако после того как
однажды была явлена противоположность и одновременно с ним положенное освобождение, человечество может испытывать лишь ужас перед перспективой возврата
в абсолютное единство. В самых древних обрядах, в наиболее древних выражениях поэтического искусства можно наблюдать, насколько твердо и уверенно человечество, однажды совершив выход из доисторического состояния, придерживается
раз и навсегда завоеванного гражданско-исторического образа жизни, и насколько
близким еще для него является воспоминание о прежнем состоянии и связанный
с ним страх вновь потерять свое нынешнее бытие и попасть под власть собственного
прошлого. Именно этот страх заставлял приносить жертвы богу. Тем самым, бога
упрашивали оставаться Кроносом и не возвращаться к прошлому.
Эти жертвы, таким образом, следует считать в большей мере умилостивительными, нежели благодарственными. Правда, выглядит вполне естественным, что люди
были благодарны Кроносу за дарованное им. Относительно естественности такой
благодарности самой по себе — не может быть никакого сомнения. Однако именно
в тот момент, когда сделано такое предположение, мы будем попросту вынуждены
признать также и следующее. Благодарность ощущается и выражается лишь в ответ на добровольно оказанное благодеяние, — такое благодеяние, в котором точно
так же могло бы быть и отказано. Таким образом, чтобы до конца понять чувство
этой эпохи, видится необходимым одновременно предположить в ее сознании также
и представление о том, что в дарованном ей благодетеле ей могло быть равным образом и отказано. Кронос не только должен был иметь возможность (что до сих пор
единственно рассматривалось) исключить второе лицо из божественности, он должен был быть способен исключить его также и из бытия, т. е. совершенно истребить
его (тогда, правда, он сам не был бы Кроносом: он остался бы в индифференции,
в неразличимости). Хоть мы и предположили, что Кронос исключает второе лицо
лишь из божественности, но не из бытия, и как факт это вполне верно, однако мы
лишь приняли данный факт, но отнюдь еще не поняли его. Мы сделали такое предположение, поскольку этой второй потенции уже было предоставлено место предшествующим моментом; следовательно, мы, по сути, приняли это, лишь предположив,
что в данном процессе однажды происшедшее не может быть взято назад, движение
не может иметь обратного хода, однажды положенное не может быть вновь упразднено. Если же теперь возникает вопрос: не о том — так ли это, но о том — почему
именно это так, — то для того чтобы ответить на этот вопрос, мы можем лишь сослаться на ту высшую силу, тот numen, о котором мы еще в самом начале сказали, что
он руководит всем этим процессом; на ту силу божественной жизни и бытия, которая не отпускает человеческое сознание, и отчужденное и отпадшее от него, тем не
менее, посредством необходимого процесса — вновь приводит к первоначальному
254
Вторая книга. Мифология
отношению. Бесспорно, что во власти божества было позволить потерянному оставаться потерянным, однажды разоренное и разрушенное в своем внутреннем порядке всецело предоставить ходу его необходимого и неизбежного саморазрушения,
в результате коего человек, если бы он даже и не исчез также и физически из числа
живущих существ (что весьма и весьма вероятно), по меньшей мере исчез бы как
человек, как богосознающее существо, знаменуя собою уже не более чем высший
класс животных. Без этой высшей силы было бы совершенно непонятно: почему —
коль скоро эта вторая личность, относительно духовный бог пришел в бытие лишь
в результате того, что прежде исключительный, абсолютно центральный бог стал
периферическим, — почему эта вторая личность вновь не исключается из бытия
непосредственно после того, как ставший относительно потенциальным бог вновь
подымается к мужественности и актуальности, как это происходит в случае с Кроносом. Таким образом, лишь участием некой лежащей вне самого сознания, и именно поэтому непостижимой для него силы — можно объяснить тот факт, что вторая
личность все же продолжает существовать одновременно с вновь пришедшей к исключительности первой, а именно — исключается лишь из божественности, но отнюдь не из бытия. Если же теперь то, что лежит вне самого сознания, мы называем
естественным, то мы скажем: естественным образом, т. е. для самого сознания, было
также возможным, чтобы та вторая личность была исторгнута всецело, т.е. также и
из бытия; а поскольку для сознания Кронос — как ревнующий о своей единственности бог, которого оно представляет как истребляющий огонь, — с необходимостью существует в естественной склонности всецело истребить эту другую, претендующую на божественность или на причастность к божественности личность (это
первый момент, в котором А2 присутствует в качестве противоположности), то тем
самым существование этой помогающей и служащей личности представляется как
допущенное Кроносом, и допущенное именно при условии, что эта личность откажется от божественности, отвергнет всякое величие и примет образ раба. Поскольку, однако, в мифологическом сознании нет ничего стабильного, устойчивого, но все
пребывает в постоянном раскрытии и становлении, то также и Мелькарт предстает как все еще дарованный Кроносом, или Кронос все еще видится в естественной
склонности полностью его уничтожить и выступить, тем самым, не просто как исключительный бог, но как абсолютно исключительный, всеистребляющий, т.е. как
Уран. Страх того, что это может произойти, выражается преимущественно в случаях
больших общественных катаклизмов. Здесь, таким образом, наступает время умилостивить Кроноса в его гневе, с тем чтобы он не поглотил несущего мир и спасение
Мелькарта — не упразднил бы его всецело в его бытии: и что они могли бы предложить ему более существенного, чем собственных единственных детей, которых они
жертвовали ему, с тем чтобы он оставил им своего сына, и которых именно поэтому
они сжигали на костре, с тем чтобы огонь Кроноса (собственно Урана), вырвавшись
Четырнадцатая лекция
255
наружу, не уничтожил его собственного сына, но напротив, чтобы Кронос навсегда
оставил ему жизнь во благо человечества. Эти жертвы, таким образом, действительно были не столько благодарственными жертвами тому богу, который не пощадил
собственного сына — сколь бы привлекательным ни показалось такое воззрение
и сколь бы естественным образом подобное высказывание Диодора Сицилийского
ни вело нас к такому заключению, — но напротив: это были жертвы умилостивления, предназначенные разгневанному божеству, которое непостижимым для самого
сознания образом дало человечеству другую личность — пусть и не в божественном облике, однако именно благодаря этому живущую в среде самого человеческого рода, непосредственно ему служащую и несущую помощь, — жертвы, имеющие
целью побудить разгневанного бога не отбирать у человечества этого помощника
и заступника. Кроноса, таким образом, чествовали с помощью этих страшных жертвоприношений, не потому, что он не пощадил этого сына, но с целью упросить пощадить его — оставить ему дальнейшее существование в качестве лишенного божественности существа, терпеть это его существование.
Таким образом, я считаю, что теперь мною дано объяснение этим жертвоприношениям, которые, по всеобщему воззрению, относятся к самым страшным, самым
непостижимым явлениям древности.
Если теперь мы обратимся к тому общему приобретению, к тому завоеванию,
которое несет нам только что законченное изложение, то оно заключается преимущественно в том, что эта вторая — родственная Дионису или, собственно, являющаяся его прообразом, — личность была указана нами также и в учении о Кроносе;
правда, как сказано, всего лишь как прообраз или как тип, еще не как Дионис во
всей своей божественности, однако все же не в каком-либо ином образе, но в том,
который мы усмотрели уже заранее, после того как было показано, что для сознания
эта личность не может сразу же явиться как бог, но сперва лишь как непостижимое
существо-посредник.
ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Особенным положительным результатом последнего изложения можно признать то, что благодаря ему мы оказались в состоянии найти и указать должное место в развитии мифологии образу Геракла, который обычно доставляет такое множество неразрешимых затруднений ученым истолкователям — тем самым, уяснив
его истинное значение и происхождение. Ибо то, что Мелькарт и Геракл представляют собой одну и ту же личность, является общепризнанным.
Собственно Геракл принадлежит лишь настоящему, только что оговоренному
моменту; его первое появление можно наблюдать у финикийцев (достопримечательным может показаться тот факт, что имя Мелькарт не встречается в Ветхом Завете, где есть лишь Ваал, как называли верховного бога (Кроноса) в Карфагене и во
всех финикийских колониальных городах); в более поздний момент, напр., в египетской, в греческой мифологии, место Геракла уже занимает другая, более высокая
личность. Однако именно тот факт, что он как таковой, как являющийся в рабском
обличий, в позднейших мифологиях есть собственно уже чуждый образ, — с одной
стороны, составляет трудность его объяснения в этих мифологиях, где он помещается вне всякой взаимосвязи, с другой же стороны, из того, что он останавливается
в этих позднейших богоучениях в качестве образа, словно бы отделенного от остальной мифологической ткани, для нас происходит то преимущество, что иные черты,
идущие от его первого бытия, тем не менее, сохраняются в этих позднейших представлениях, являясь неоспоримыми свидетельствами этого первого бытия; так что,
возможно, именно греческое сказание о Геракле, в его должном применении, все еще
способно представлять собой средство к тому, чтобы восстановить некоторые черты изначального образа Геракла, которых мы уже не можем отыскать путем сбора
непосредственных свидетельств или фактов — по причине слишком большой удаленности времен. По этой причине я также считаю целесообразным высказаться по
поводу греческого Геракла именно в данном месте.
Однако, прежде чем заговорить о греческом Геракле, я хочу сказать еще пару слов
о египетском. Ибо культ Геракла смог распространиться до самого Египта, а именно,
согласно рассказу Геродота, здесь он был причисляем к двенадцати древним богам,
Пятнадцатая лекция
257
в то время как, согласно ему же, Дионис (т. е. соответствующая в Египте Дионису
личность) числился лишь в третьем поколении богов*. В этом кроется признание
того факта, что Геракл, хоть и состоит в дружественном отношении с египетским Дионисом, все же древнее его и принадлежит гораздо более раннему времени; и, сверх
того, согласно одному месту Макробия, которое, впрочем, имеет гораздо меньшую
доказательную силу, нежели Геродот, египтяне даже почитали его как некоего бога,
начало которого неизвестно: Secretissima et augustissima religione Aegyptii eum venerantur, ultraque memoriam, quae apud eos longissima est, ut carentem initio colunt1, т. е. в их
сознании он был еще более древним, нежели Осирис, который представлял собой их
longissima memoria2. В Египте Геродот не смог обнаружить и следа человеческого, —
чествуемого лишь как героя — Геракла греков, которые, правда, одновременно, по
словам Геродота, знали Геракла олимпийского, почитая его как одного из бессмертных; в Египте же героев не было вообще**. Следует ли теперь думать, что египетское
сознание ранее само также стояло в той точке, где мы нашли финикийское, или же
что понятие Геракла является пересаженным на египетскую почву финикийцами, —
я однозначно решать не берусь. Однако известно, что финикийцы насаждали свои
божества и святилища повсюду, напр., на островах Эгейского моря и даже на испанском побережье, и подтверждает эту идею тот факт, что единственный храм Геракла
в Египте, о котором упоминает Геродот, расположен в канопском устье Нила, вверх
по течению от Тарикии, т. е. он был воздвигнут на берегу, что весьма напоминает
святилище чужестранцев, пришедших из-за моря; глубже, внутри территории страны такого храма, похоже, не нашлось. Об этом стоящем на берегу храме Геродот***
рассказывает то особенное, что рабы, которые спасались к нему бегством, если им
удавалось запечатлеть на себе известный знак, который, вероятно, выражал собой
их посвящение богу, обретали тем самым свободу; также и в этом различим облик
освобождающего бога. Жаль, что нам ничего больше не известно об этом храме
и способах поклонения в нем. У себя на родине и как бы под ревнивым надзором
самого Кроноса Геракл, вероятно, чествовался совершенно иначе, чем за границей;
и не Кронос, но Геракл был для тех финикийцев, которые первыми из всех смертных
дерзнули переплыть море, вождем в путешествии и спасителем в опасности, точно так же как другие народы обозначили торговый путь между Индией, счастливой
Аравией, Эфиопией и Египтом — святилищами Диониса. Геракл был истинным богом мореходов-финикийцев, в чем среди прочего можно убедиться, изучая атрибуты
Геродот, II, 145; ср. 43.
О египетском Геркулессе и его отношении к Осирису ср.: Guignaut, т. I, р. 420.
Геродот, И, 113.
258
Вторая книга. Мифология
знаменитого храма Геракла в Эритрее, который описывает Павсаний. Великий же
храм Геракла в Кадьесе не имел в себе его статуи, по словам Сильвия Италика :
Nulla effigies simulacrave nota Deorum
Majestate locum et sacro implevere timoré3.
Это можно было бы объяснить из того, что он как бог, который как таковой еще
не осуществился, также не был представляем ни в каком образе, или, — что сознание
в этом случае вообще пребывало в сомнении, следовало ли изображать бога или же
человека. Однако, по заверению Павсания, в Тире все же существовало изображение Геракла, ибо, по его словам, тирцы содержали своего Мелькарта — не только во
времена бедствий, но почти постоянно — в оковах. Такое наложение оков можно
объяснять по-разному. Геракл есть бог, благоприятствующий движению, прогрессу,
и тем самым он представляет собой противоположность Кроносу, отказывающемуся принимать участие во времени. Поэтому орфики были, по меньшей мере, не вполне неправы, объясняя Геракла как никогда не стареющее время: он был движущимся
в Кроносе и, в конечном итоге, побеждающим временем. В качестве параллели здесь
можно было бы привести тот факт, что италийские народы налагали оковы на своего
Сатурна и лишь в известные дни (gratis diebus4, по выражению одного источника)
освобождали его от них. Т.е. здесь Кронос мыслился уже как преодоленный и сам
принявший движение — то движение, которое больше не пытается удержать сознание, привязанное к прошлому. Однако, если посмотреть повнимательнее, то тем, кто
налагал оковы на Сатурна, был Юпитер; стоик Цицерон, по крайней мере, говорит:
«Vinctus autem a Jove Saturnus, ne immoderatos cursus haberet, atque ut eum siderum
vinculis alligaret5». Последнее есть заявление стоика, которое нас не касается. Из всей
этой речи мы извлекаем лишь первое. Оковы Кроноса, таким образом, напротив,
свидетельствуют о том, что он уже связан божеством высшим, чем он сам, и ему подчинен. Ведь Зевс связывает также и титанов, к числу которых относится и Кронос.
И следовательно, связанный оковами в Тире Мелькарт связан именно Кроносом, и
в этом облике содержащегося в оковах узника можно распознать черты Мелькарта
в его рабском, униженном образе. Если же, теперь, в храме Гадеса не было статуи
Геракла, и если в Египте он почитался только как бог, то это по уже приведенной
нами причине не противоречит возможности того, что указанный храм в Египте
был построен финикийцами; в любом случае, в Египте Геракл, хоть и был принят
в число древнейших богов, но тем самым был лишен места в религиозном сознании
современности. Однако всё это вопросы подчиненные и второстепенные, которые
по своей природе не могут быть решены с полной определенностью, и в отношении их я также не ставлю себе цели установить нечто бесспорное. Самое важное
* Там же, III, 30.
Пятнадцатая лекция
259
здесь для нас есть положение египетского Геракла перед Дионисом, однако не в качестве противника или суппостата, но напротив, — как фигуры родственной, как его
предшественника.
Что же касается эллинского Геракла, то я не премину задержаться на нем несколько долее.
Внутри общей греческой мифологии миф о Геракле образует замкнутый самодостаточный круг, почти что самостоятельную мифологию. Может поэтому случиться
так, что когда мы займемся развитием греческого богоучения как целого, для него
в этом изложении уже не найдется места. Здесь решающей важностью обладают два
пункта: 1) действительно ли Геракл есть личность, соответствующая финикийскому
Мелькарту; 2) каким образом он пришел в греческую мифологию, и как следует объяснять ту перемену, которую он претерпел в этой последней. Что касается первого, то я, как сказано, совсем не боюсь объяснять эллинского Геракла как вторичное
отображение (Nachbild) Мелькарта, чье, по меньшей мере, наиболее существенное
свойство еще с достаточной ясностью просматривается в греческом сказании; могло, теперь, случиться так, что в какую-то, весьма, впрочем, удаленную эпоху, те роды,
которые позднее образовали собою греческие племена, сами находились на той точке зрения, которой соответствует идея Геракла, и что они с наступлением эпохи своей мифологии сами преобразовали сохранившуюся в их собственном воспоминании
идею Геракла, придав ей тот облик, в каком мы находим ее сейчас; и равным образом
могло быть так, что они получили это представление от финикийцев. Ибо сколь бы
мало в целом ни был я склонен выводить происхождение греческого искусства и мифологии откуда-либо извне, все же сказания о Геракле представляют собой случай
особый. То целое, которое мы можем назвать собственно греческой мифологией, является в высшей степени органическим и развивается из самостоятельного ростка,
не претерпевая сколько-нибудь существенных внешних влияний. Однако сказание
о Геракле образует в позднейшем греческом богоучении хоть и поставленный с ним
в определенную взаимосвязь, однако же для него в целом совершенно случайный
круг; оно могло бы совершенно отсутствовать, причем греческая мифология не потерпела бы урона и не стала бы менее завершенной в себе, в то время как из нее
никоим образом нельзя было бы изъять не только Кроноса и Зевса, но также и Диониса, Деметру и иные божества, не разрушив ее совершенно. Эта чисто внешняя
взаимосвязь сказания о Геракле с греческой мифологией могла бы поэтому рассматриваться как доказательство того, что оно пришло в нее извне, что оно, возможно, было воспринято ею в качестве восхитительного финикийского повествования
и было в дальнейшем преобразовано на греческий лад. Присутствие финикийцев
на всем побережье Эгейского моря есть неопоримый исторический факт, в то время как, напр., любители индусских выведений также довольно прозрачно и вполне
убедительно намекают — как и при каких обстоятельствах индусские представления
260
Вторая книга. Мифология
могли прийти в Грецию. От народа, которому Греция обязана своей письменностью
и названиями букв, она вполне могла позаимствовать и что-нибудь еще: при этом
ее собственное развитие не пострадало, но то, что было воспринято ею, как это бесспорно произошло со сказаниями о Геракле, было свободно переработано на собственный лад и приведено во взаимосвязь с собственными оригинальными представлениями. Ибо финикийский Мелькарт, напр., есть сын Кроноса и тесно связан
с последним. В данной связи греческое сказание не могло им воспользоваться, поскольку в этом сознании на тот момент, как сказано, Кронос уже успел исчезнуть,
отойти в прошлое, о котором более пристало молчать, нежели говорить. Поэтому
греческое сказание делает его сыном Зевса, а тем самым — вся его история разыгрывается в царстве и в эпоху царствования Зевса. В любом случае, нет сомнения
в том, что идея Геракла была известна грекам еще до того, как успело развиться учение о Дионисе; ибо, как сказано, Дионис лишь весьма поздно — собственно, лишь
под конец — стал богом, незадолго до Гомера или, возможно, лишь вместе с Гомером,
т. е. одновременно с тем кризисом, который ознаменован именем Гомера и который
я в дальнейшем намерен представить подробнее. Эпические истории под названием
«Гераклии», без сомнения, существовали еще до «Илиады» и «Одиссеи». В них греческое сознание освобождалось от идеи Геракла, на чье место теперь окончательно
вступал Дионис. Ибо если в эллинском сознании и имели место приливы и поползновения аналогичного финикийскому Гераклу представления, то такое — ведущее
свое начало из предшествующего момента — представление о боге, благосклонном
к людям и несущем им помощь, однако всецело лишенном своей божественности, —
такое представление с необходимостью должно было быть устранено из сознания
и преобразовано в нечто иное, прежде чем глубокая Дионисская идея не достигла
свободного и полного раскрытия и не вышла на первый план. Таким образом, —
можно было бы тогда сказать, — греческое сознание через «Гераклии» освободилось
от этого старого представления и поместило Геракла в более позднюю эпоху, эпоху
Зевса. «Гераклии» были бы тогда для более ранней эпохи тем же, чем стали «Илиада»
и «Одиссея» для позднейшей. И если, в противоположность официальному богоучению, мистерии в известной мере еще были воспоминанием о прошлом, то тем
самым объяснялось бы и то, что Геракл появлялся в этих последних в ином облике.
Согласно Плутарху, как уже отмечалось, в мистериях шла речь о злодеяниях Кроноса; не могли ли эти злодеяния относиться к Гераклу? В некоторых мистериях Геракл
причисляется к идэйским Дактилам и Кабирам, т. е. он сопричислен к чисто духовным потенциям, ибо Кабиры были формальными богами — Deorum Dir6, как их еще
называли: богами, посредством которых лишь полагаются другие, субстанциальные,
боги, т. е. причиняющими потенциями мифологии. В этих очень древних мистериях
Геракл, таким образом, был не героем, как в позднейшей версии, но божественной
потенцией, и отсюда следовало бы заключить, что Геракл все же был собственным
Пятнадцатая лекция
261
воспоминанием греков. Павсаний* определенно рассказывает о храме Геракла в Феспии (Thespia), о котором он говорит, что этот храм кажется ему еще более древним,
чем храм Геракла Амфитрионидского (т. е. он древнее, чем на греческий лад преобразованный Геракл) и что он, скорее, посвящен тому Гераклу, который считается
одним из идэйских Дактилов (где он есть божественная потенция) и культ которого
он обнаружил также и у тирийцев (Tyrier). В Эритрее и в Микалессе (Mykalessus)
в Беотии (Böotien) также, согласно Павсанию , тот же Геракл мыслится в некотором
отношении к Деметре — он служит при храме Деметры; народ говорил о нем, что он
по утрам открывал двери ее храма, а по вечерам закрывал их. Сколь бы неясным это
ни выглядело, здесь все же содержится некий след того родства, которое еще ранее
ощущалось нами между Гераклом и Дионисом.
Однако, если теперь все эти факты содержат в себе свидетельства того, что
первоначально под Гераклом подразумевалось нечто большее, чем может высказать
о нем позднейший эпически переработанный сюжет, — то необходимо всего лишь
рассмотреть повнимательнее этот последний, чтобы иметь возможность распознать
в нем преображенные черты того древнейшего, происходящего из эпохи Кроноса,
представления; и если Буттманн в своем сочинении, посвященном мифу о Геракле,
высказывает мнение, что его (миф) следует рассматривать лишь как чистый поэтический продукт, имеющий своей целью представить идеал человеческого совершенства, нечто вроде нравственного героя в лице Геракла, то ему все же никоим образом
не удалось из этого общего намерения объяснить те особые черты мифа, которые,
напротив, легко становятся понятны, стоит только предположить, что в этом мифе
всего лишь преобразовано в нечто иное, переведено в чисто человеческую плоскость первоначальное — ориентальное — представление о Геракле. Я предварительно отмечу, что мне, как уже впрочем и многим другим, привычная греческая
этимология этого имени представляется весьма сомнительной, несмотря на то что
я не могу согласиться и с чаще всего принимаемым выведением от еврейского или
финикийского ЬУ\7 (а значит, с артиклем: bujf = viator, mercator9). Мюнтер относит
это к бродяжничеству (Herumziehen) Геракла (ЬУ\ — означает странствовать, как
еврей-торговец) или к его покровительству финикийской торговле; Крейцер, который и здесь не может отказаться от своей солнечной теории, — к движению Геракла
в солнечной орбите; ибо и Геракл для него, также как и Митра, есть Солнце. Если
бы, однако, мне необходимо было признать за именем ориентальную этимологию, то
наиболее сообразным я бы посчитал объяснить его к а к ^ yw11***, similitudo Dei12, т. е.
10
* IX, 27.
Там же.
От ^|"Ш (arach сравнивать) (ивр.) — что также означает «сравнивать»; напр.: γ^κ "^pi^K (ein arokh
eleykha) (ивр.) — ничто не сравнится с тобой (Иов 28,17).
262
Вторая книга. Мифология
буквально μορφή θεοΰ13: выражение, которым пользуется апостол в известном месте
о Христе; а поскольку эта этимология целиком и полностью соответствует изначальному понятию и отношению Геракла, то я, опираясь на нее, стал бы утверждать, что
греческий сюжет о Геракле не является поэтическим вымыслом, но представляет собой лишь переработку уже ранее существовавшего на Востоке представления.
Дабы проиллюстрировать это отдельными характерными чертами греческого
мифа о Геракле, скажу, что греческий Геракл, как ранее уже отмечалось, по также
уже упомянутой причине перемещен в эпоху и царство Зевса. Он есть, таким образом, сын Зевса — однако от смертной матери, точно так же как Дионис есть сын
Семелы. Зевс принимает образ смертного, Амфитриона, царя Фив (также и Дионис,
сын Семелы, носит имя фиванского), и рождает в этом облике от его супруги Алкмены Геракла. Зевс, верховный бог более свободной, лучшей эпохи, уже не может быть
его врагом. Столь же мало может быть им Кронос, на этот момент уже исчезнувший.
Зато он вызывает гнев и ревность Геры, которая словно бы воплощает здесь собой
принцип прошлого. Супруга Зевса преследует его (Геракла) от самого рождения, ибо
она при помощи волшебства задерживает его рождение (его появление на свет), отдав предназначенное ему Зевсом господство другому, Эврисфею. Так, по меньшей
мере, повествует «Илиада»*. Общее понятие, которое выражено в этом отношении
к Эврисфею, есть понятие предназначенного быть властелином, у которого, однако,
его власть или царство отняты другим. Как могла бы прийти в греческий миф о Геракле именно эта черта, если бы греки действительно занимались только вымыслом
и сочинительством, т. е. если бы они всего лишь сочетали друг с другом случайные
мысли, если бы их сюжет не содержал в своей основе древнейшего воззрения?
Финикийскому Гераклу к его божественности, т. е. к его власти и славе, к его
царству (ибо в этих понятиях выражается истинная божественность) — не позволяет прийти Кронос; на место Кроноса в эллинистически преобразованном сюжете
вступает смертный царь Эврисфей. Однако наряду с кознями Геры, Гераклу мешает
прийти к обещанной отцом славе также и неосмотрительно данная Зевсом клятва,
что тот, кто первым увидит свет в этот день, получит власть над аргоссцами; воспользовавшись его словами, Гера волшебством ускоряет рождение Эврисфея и задерживает рождение Геракла. По поводу этого обмана Зевс, однако, гневается не столько на
Геру, сколько на Ату, т.е. персонифицированную неосмотрительность, беспечность,
которая также ввела его в обман. Это приводит его в ярость. Молча он хватает Ату
за ее кудрявую голову и гневно произносит страшную клятву. Никогда она больше не вернется на укрытый звездами Олимп, Ата, обманывающая и вводящая в заблуждение всех и каждого. Лишение власти и все последующие страдания Геракла,
Илиада, XIX, 91.
Пятнадцатая лекция
263
таким образом, суть следствия ее обмана, однако ему приходится нести следствия не
своей собственной, но чужой неосмотрительности. Такова общая мысль, заложенная в данном повествовании. Если бы Геракл не был ранее существом со всеобщим
значением, то с его судьбой не могло бы быть связано ничего столь всеобщего, как
изгнание с Олимпа Аты, отныне вечно пребывающей рядом с людьми и вводящей
их в обман и в вину; ее стопы мягки, она никогда не касается земли, но шествует поверх людских голов, высматривая, кого бы на сей раз довести до беды, опутав узами
своего обмана. Поэтому ее также зовут πρέσβα Διός θυγάτηρ14*, древнейшая дщерь
Зевса. (Полагаю, мне не нужно напоминать здесь о том, что катастрофа человеческого сознания, следы которой мы изучаем на протяжении всего нашего изложения,
представляет собой непредвиденное, нежданное следствие изначального обмана,
уловки.) Тот же, которому достается в удел царство Геракла, есть тот, кто благодаря
злому волшебству опередил его в бытии (В следует прежде А2). Будучи прослежена
вплоть до своего последнего основания, эта судьба ведет к изначальному отношению
двух принципов, один из которых (неправое бытие) предвосхищает другое (правое).
Подумайте сами, может ли в основе повествования об ускорении Герой рождения
Эврисфея и замедлении рождения Геракла лежать какой-либо иной мотив, кроме
представленного в нашей идее. Ближайшим в отношении Геракла будет теперь то,
что он принужден служить и отбывать барщину именно тому, которому отошло царство, изначально предназначенное ему, т. е. Эврисфею. Это приходится ему в тягость,
ибо служить низшему, как сказано у Диодора, он никак не считал сообразным своей
добродетели**, однако не подчиниться отцу Зевсу казалось ему недостойным и одновременно невозможным; и таким образом — он служит Эврисфею как раб. Этот же
последний, будучи окружен всей властью, величием и собственными телохранителями, тем не менее, испытывает страх перед тем сильным, который сейчас перед
его лицом выглядит столь слабым и немощным. Также и эти черты смехотворного
страха Эврисфея можно отчетливо различить в греческом повествовании: тот, кому
знакомы иронические ноты, посредством коих освободившееся позднее сознание
вымещает себя за гнет прежней темной силы, тот ни минуты не усомнится относительно того, откуда эта черта пришла в повествование, а именно — из сюжета-прообраза, от подозрительного бога, который одновременно угнетает Геракла и боится
его. Здесь далее в повествовании перечисляются все те работы, которые исполняет
Геракл в услужении Эврисфея. Разные версии повествования не согласны друг с другом ни в определенном числе, ни в роде этих работ; тем не менее, в каждой из них
либо побеждается опасное для человеческой жизни чудовище, либо уничтожается
* Ст. 91.
То τε γαρ τω ταπεινοτέρω δουλεύειν ουδαμώς άξιον έκρινε της ιδίας αρετής (служить низшему никак не
считал сообразным своей доблести) (греч.). — Диодор Сицилийский, IV, 11.
264
Вторая книга. Мифология
что-либо иное, несущее людям вред. В различных чудовищах, которых побеждает
Геракл, нетрудно распознать все символы, в которых были представлены силы тьмы,
проявления темной, угрожающей человеческой свободе власти. Это отчасти признает даже Буттманн, хотя он во всем целом, — а значит, также и в этих силах тьмы —
хочет видеть одно лишь нравственное (moralische) значение. Величайшим деянием
Геракла является то, что он спускается в подземный мир, выволакивает наверх трехглавое чудовище, Кербера, и даже наносит рану самому Гадесу. Этот подвиг, согласно
всем понятиям греческой древности, выходит за границы доступного для героя-человека. Несмотря на то что такой спуск в подземное царство позднее предпринимается и другими героями, этот момент, с очевидностью, лишь переносится на них по
примеру Геракла. Геракл здесь выказывает себя как имеющий власть над подземным
миром, или, по выражению Нового Завета, — тот, кто имеет ключи от ада и победил
ужасы преисподней, как и у Еврипида, где он освобождает Алкесту, он действительно
представлен сражающимся с Θάνατος15. Сам Гадес есть изначально неблагосклонный
к человеку бог; ибо дикий, жестокий бог, будучи наконец побежден, превращается
в бога преисподней, т.е., прошлого; и таким образом тот бог, который побеждает
его, конечно же, обретает власть и над богом преисподней. Не имея перед своими
глазами предания высочайшего значения, греки никогда не рискнули бы приписать
Гераклу такого, лежащего вне человеческой власти, деяния. На протяжении всего
этого времени сам Зевс всякий раз вздыхает, видя своего сына в мучительной борьбе
с тяготами службы Эврисфею. Небесная, самая любимая из дочерей Зевса, Паллада,
позже всех родившаяся богиня, поддерживает его в его трудах и даже спасает его,
ибо, как говорит она сама в «Илиаде»:
Ибо Зевс ведь не помнит того, как часто доныне
Спасала я сына его, когда был он в печали средь ратных трудов Эврисфея,
Когда плача, взывал к небесам он, несчастный. Но Кронион
С небесных высот послал ему в помощь меня, заступницу верную.
Если до сих пор главным образом подчеркивались терпение Геракла и его выносливость в тяжелом труде, то теперь нам следовало бы принять во внимание также
и его слабости, которым он был подвержен на всем протяжении его унижения. Буттманн со своей точки зрения совершенно прав, когда говорит, что эти слабости самого Геракла были необходимы для поэтического воздействия якобы преследующего
моральную цель мифа. В любом случае, герой, который никогда не был подвержен
человеческим слабостям, не мог бы служить образцом для подражания; а значит,
поэт должен попускать падения для своего героя, дабы обычный человек мог смотреть на него как на — хоть и далеко его самого превосходящего, однако в чем-то ему
равного, — такого, которому он мог бы стремиться подражать. Однако Буттманну
было бы весьма трудно доказать, что для этого морально-поэтического намерения
Пятнадцатая лекция
265
могли быть избраны именно такие, а не какие бы то ни было иные черты, и если все
прочие обстоятельства указывают на высшее происхождение мифа о Геракле, то это
ничуть не в меньшей, если не в большей мере относится к его слабостям. К числу
слабостей, которым подвержен Геракл, относится, в первую очередь, болезнь. Это
непосредственно напоминает нам о том — равным образом пораженном болезнью — слуге Божьем, о котором в ветхозаветном пророчестве сказано: Он взял на
себя нашу немощь. Однако его определенная болезнь, как явствует из одного места
в «Probleme» Аристотеля*, была той, которую Гиппократ и другие греческие врачи
называют ιερά νόσος16, религиозная болезнь, morbus sacer17, священная болезнь: преимущественно падучая, хотя похоже, что это выражение распространялось также
и на все недуги, связанные с каталепсией, с экстатическими состояниями, с любыми
видами вне-себя-пребывания. Болезнь, подверженным которой ощущал себя этот
герой, первоначально данный человечеству в спасители, несомненно представляла
собой ίερα νόσος, религиозную болезнь, morbus sacer, поскольку она безусловно происходила от экстатического состояния сознания. Не иначе обстоит дело с тем сумасшествием или неистовой яростью, которая охватила его κατά ζήλον Ήρας 1 8 (ибо первоначальная ревность Кроноса в очеловеченном мифе о Геракле переложена теперь
на Геру: в ней единственно можно теперь найти остатки той ревности, о которой
Зевс, коему нравится быть отцом богов и людей, уже ничего более не знает). Ранее
уже упоминалось, что также и Дионис предстает как буйствующий — и потому заражающий сумасшествием бог. Ибо ведь он по всему своему положению есть вне себя
(своего божества) положенный. Однако в чем, согласно повествованию, выражается
это сумасшествие? Ответ: в том, что он швыряет в огонь своих детей и детей своего
брата Ификла. Здесь, таким образом, вы видите совершенно ясно, что также и греческий Геракл совпадает с Мелькартом, за которого дети были приносимы в жертву
Кроносу. Ибо также и житель Ханаана, который бросал свое дитя в огненное чрево
статуи Молоха, верил, что приносит в жертву своих детей — пусть и Молоху, однако за Мелькарта. Поскольку Мелькарт был причиной таких жертвоприношений,
то также и это предание огню детей приписывается Гераклу, однако лишь выведенному из себя или — в отношении его сознания — пребывающему в заблуждении
и сумасшествии. Ибо истинный, равный самому себе Геракл, напротив, воспротивился и воспрепятствовал бы этим жертвоприношениям, поскольку в других греческих сказаниях он предстает, наоборот — как изгоняющий человеческие жертвы
с кровавых алтарей, поставляя на их место жертвы бескровные. Однако словно бы
глубочайшее помрачение своей славы претерпевает Геракл, будучи продан в рабство
царице Лидии, Омфале, уподобляясь женщине, принимая женские черты и даже
212,9 (Syllburg).
266
Вторая книга. Мифология
облачаясь в женские одежды. В некоторых повествованиях это пребывание в рабстве объясняется как наказание за некий проступок, совершенный им в прошлом.
Однако, пожалуй, это надуманное и искусственное соединение, точно так же как
и работы, которые вменяются ему в обязанность в этом его втором рабстве, представляют собой лишь бесцельное и неизобретательное повторение тех, что встречались нам уже ранее. Существенная часть остается той же — его оженствление.
Это в греческом мифе не имеет никакого смысла, и в особенности хотелось бы сказать: для идеала человеческого совершенства или нравственного героя Геракл здесь
опускается уж чересчур низко. Если, однако, все греческое повествование о Геракле
рассматривать лишь как переведенное в сферу человеческую, как историю, в основе
которой лежит предание с гораздо более высоким значением, — то тогда и эта характерная черта представляется вполне вразумительной. А именно, Геракл в сознании есть предшественник Диониса, его раннее явление, а точнее — его самое раннее
явление, непосредственно следующее за тем моментом, где он еще слит в единое
божество с Уранией. Эта последняя характерная черта, таким образом, ведет свое
начало из того момента, где сознание Бога — а значит, и сам Бог — было еще слабо, еще как бы затеряно и спрятано в женском божестве, — из той эпохи, где еще
мужчины в женских, а женщины в мужских одеяниях приносили жертвы Урании:
с чем тогда будет вполне согласно то, что приводит Иоанн Лидиец, — однако из несколько более древнего писателя, Никомаха, — а именно, что в мистериях Геракла
мужчины переоблачались в женские одежды. Тот факт, который мы можем извлечь
отсюда, есть, во-первых — то, что существовали мистерии Геракла. Эти мистерии
могли вести свое начало лишь из самого далекого прошлого. Ибо покуда тот или
иной бог был слаб, покуда он не мог властно заявить о себе в сознании, до тех пор
он чествовался лишь в тайне и исповедовать его решались лишь в мистериях. То,
что писатель, который упоминает данные мистерии, принадлежит к столь позднему времени, отнюдь не свидетельствует против возможности для нас использовать
это место. Тот, кому на других примерах знакомо упорство, с которым религиозные
обычаи передавались из самой темной древности вплоть до самого светлого, самого
освещенного времени позднейшей истории (достаточно вспомнить лишь сабазийские мистерии, происходящие из столь же древней, если не из еще более древнейшей, поры и проникшие в Рим уже в 560 году после основания города), тот, кто
способен воскресить в своей памяти такие примеры, — допустит равно и возможность того, что от столь же темной эпохи в отдельных областях сохранились также
и мистерии Геракла. В этих мистериях, которые относились к еще не выделившемуся окончательно из женского божества Гераклу, мужчины облачались в женские
одежды; и так же обстоит дело со служением Геракла у царицы лидийцев — народа,
чей решительно сладострастный характер, очевидно, сперва происходил от prava
religio, от суеверных представлений.
Пятнадцатая лекция
267
К числу унижений Геракла принадлежит также и то, что создается впечатление,
будто он сам принимает участие во всем, что возникает в результате противодействия враждебного принципа — принципа, который он, собственно, стремится преодолеть, — во всем этом буйном, развратном, соблазнительном или даже противостоящем человечеству, — часть вины за все это возлагая на себя. Ибо для того чтобы
преодолеть этот принцип, он должен был сам войти в него. Так, например, — когда
он невольно становится причиной сожжения (принесения в жертву враждебному
богу) детей; так — когда он против своей воли становится причиной того слепого безумия, которое возбуждает в сознании угрожаемый в своем бытии и потому
раздраженный, разгневанный принцип. Благодаря своему положению он сам принимает участие во всех слабостях, во всех болезненных проявлениях человечества
и, будучи сам без греха, поневоле должен брать на себя его вину.
Вот что повествует нам миф о последних страданиях Геракла. Поводом к ним
также послужила ревность: не божественная ревность Геры, но человеческая ревность, которая, однако, вступает здесь на место божественной или ее собой представляет. Ревность, таким образом, пребывает существенным компонентом в том
и другом случае. Она становится причиной последних страданий Геракла, равно
как и тех понесенных им трудов и испытаний, в коих прошла вся его жизнь. Один
Кентавр, Несс (думаю, мне нет необходимости говорить, что природа кентавра есть
не что иное, как сама дикая, необузданная, непокоренная, однако же доступная для
обуздания природа человека; по этой причине именно конь служит ее символом;
кентавр есть наполовину конь, наполовину человек, или, как описывают его римляне, которые под человеком могли понимать лишь христианина, — mezzo Christiano
19
mezzo cavallo : наполовину христианин, наполовину конь; возможно, что именно от
представления о кентавре средневековое воображение наделяет дьявола пусть и не
телом коня, однако по меньшей мере конским копытом) — кентавр Несс, сраженный издалека стрелой Геракла, умирая, передает стоящей рядом с ним супруге Геракла Деянире (кентавр хотел овладеть ею на другом берегу реки, куда он ее перевез)
свою окровавленную одежду, уверяя Деяниру, что если Геракл наденет ее, это всегда
поможет ей вернуть его в случае измены. По поводу предполагаемой здесь измены
можно сказать следующее. В прогрессирующем движении все относительно. Каждая
точка или момент этого движения существует в себе или абсолютно, а значит — еще
не рассматривается по отношению к некоторому последующему, еще не предан этому продвижению, не принадлежит ему, а значит, существует позитивно; однако по
отношению к последующей точке продвижения этот момент принимает иную приро20
ду и превращается в негативный, ему противопоставляющийся и ретардирующий
принцип; враждебная движению и прогрессу сила обретает теперь в нем самом инструмент торможения и бросается в эту точку всей своей мощью. Это знакомый всем
ход любого человеческого продвижения, и всякий непрестанно и последовательно
268
Вторая книга. Мифология
трудящийся наверняка имел случай наблюдать, как нечто, вызванное к жизни им
же самим, что без него вообще не существовало бы, — восстает против него, едва
лишь он начинает двигаться дальше. Движение, которое инициирует Геракл, есть
прогрессирующее преобразование. Сознание, которое в одном моменте было ему предано, в последующий ощущает себя покинутым им, и в своей ревности против него
превращается в инструмент враждебной ему силы. Деянира, принимая дар Несса,
уже тем самым выказывает неуверенность своего собственного сознания в Геракле.
Кентавр заранее говорит ей, что Геракл покинет ее, не останется с нею; поступая так,
как он ей говорит, она показывает, что связана с ним лишь на определенный момент
(обручена с ним), однако отнюдь не безусловно ему предана. Таким образом, здесь
даже то, что с самого начала родственно ему и ему принадлежит, становится на сторону изначально враждебной, противостоящей ему силы; и не только в поэтическом
отношении, дабы тем самым избежать навязчивого повтора, не в качестве только
поэтической вариации, но также и в отношении самой сути — такое опосредование
глубоко воспринимается и является вполне сообразным. Деянира посылает отсутствующему, от нее действительно уже отдалившемуся супругу запятнанное кровью
кентавра одеяние; едва лишь он, ничего не подозревая, облачается в него, как все его
тело пронзает невыносимая боль. Убитый, борющийся со смертью кентавр словно
бы напитал свою кровь всем ядом своей природы. Злой умирает, однако само Зло
не умрет до тех пор, покуда оно действительно не произведет всех возможных бедствий. Тело Геракла, как вполне верно замечает Буттманн, поражено не естественным, но сверхъестественным ядом; это яд самого принципа зла, зла как такового;
это уже не просто противостоящий, враждебный принцип, это — возведенный нечеловечески-человеческой природой в степень собственно зла, одухотворенный яд,
который пронзает его огненной болью и, наконец, причиняет ему самые страшные,
самые невыносимые страдания. Ибо сам Геракл за это время уже в гораздо большей
степени освободился от реального бога; в какой-либо более ранний момент тот же
самый яд не был бы для него столь мучителен. Однако это есть лишь последняя боль
отделения от реального бога, и именно момент высшего страдания становится его
последним просветлением, где, говоря словами Шиллера:
Бог, сбросив бренные покровы
21
В сияньи покидает человека .
Непомерность страдания приводит его к последнему решению. Будучи убежден,
что лишь в своей смерти, т. е. совершенно умерев для всего того материального, земного, что еще удерживает его в зависимости от Кроноса, он может отыскать лекарство от ужасной болезни, — этот возвышенный духом сам сооружает себе костер,
дабы испепелить свою естественную жизнь в огненной смерти; однако пламя пожирает лишь естественное в нем, — лишь то, что было в нем от его смертной матери,
Пятнадцатая лекция
269
и покуда костер еще пылал, как свидетельствует Аполлодор из древних историков,
над ним, громыхая раскатами грома, спустилась туча и вознесла освободившегося
от всей смертной материи Геракла на небо, где он, примирившись с Герой, обручается с ее дочерью, богиней юности, Гебой, и сам теперь живет как бог, в то время как
его образ, отличный от него самого (είδωλον22), ведет тенеподобное существование
в подземном царстве среди прочих обитателей этого мира теней.
Этот исход мифа о Геракле ставит вне всякого сомнения его первоначально
высшее значение. Ничего подобного обожествляющей смерти Геракла невозможно
встретить у кого-либо из других многочисленных сыновей, которых Зевс порождает от смертных матерей. Нечто аналогичное (хотя никоим образом не то же самое)
можно наблюдать лишь в случае с Дионисом. Различие, которое имеет здесь место,
станет зримым для нас, как только мы сосредоточим наше внимание на первоначальном смысле финала повествования о Геракле и еще пристальнее вглядимся
в него. Для этой цели нам послужат следующие, содержавшиеся еще в наших прежних изложениях, определения. Геракл есть бог второй потенции — освобождающий,
относительно духовный, — однако он есть таковой не абсолютно, не безусловно,
но лишь для одного определенного момента сознания. Он есть бог второй потенции,
однако такой, который, согласно первоначальному представлению (коего греческий
миф представляет собой лишь переработку, которая из самой себя и для себя никак
не была бы понятна), все еще находится в совершенной зависимости от Кроноса. Эта
зависимость заключается в самом — отчасти еще не свободном, еще прилежащем
реальному богу — сознании, которое как раз и есть его смертная сторона. То неочищенное (Unlautere), которое он получил от своей матери, должно умереть в нем,
или напротив: бог в нем, — то, что в нем есть бог, το έν αύτω θείον23, — должно истребить это материальное, с тем чтобы он мог предстать как чистый бог и, таким
образом, освободиться от сурового служения Кроноса, которому сам он был подвластен и обязан лишь из-за недостаточной чистоты, происходящей от несвободы
его сознания. Невыносимость страдания приводит его к такому решению, благодаря
которому он одновременно выводит себя из всякого отношения к этому жестокому
богу и переходит в мир, относительно которого Кронос превращается в бессильное
прошлое, — в мир Зевса, Олимпа. Лишь все еще длящаяся в сознании, все еще не
преодоленная привязанность к реальному принципу — есть причина страданий Геракла, его рабского облика и его унижения. Это зависимое от реального бога в нем
должно погибнуть, дабы он мог прославиться как бог. Если Дионис, едва лишь он вообще упоминается, сразу же называется богом, если он не имеет причины умирать,
подобно Гераклу, огненной смертью, для того чтобы стать богом, — то это происходит
лишь оттого, что сразу же после его зачатия смертная мать Семела погибает от огня
в объятиях Зевса. Кто не различит здесь родства Геракла и Диониса или, скорее, того
факта, что миф о Геракле является прообразом истории Диониса? Однако и разница
270
Вторая книга. Мифология
столь же ясна. Дионис, поскольку он заранее избавлен от смертной природы, называется богом сразу же по своем появлении на свет. Геракл, напротив, принадлежа
более раннему моменту сознания и по этой причине еще привязанный к реальному
богу, — должен сперва разрешить эти узы через добровольно принятую смерть, чтобы удостоиться той божественной чести, которая досталась в удел Дионису сразу же
по его рождении.
Ведет ли свое начало также и этот заключительный эпизод мифа о Геракле от
ориентальной идеи, или же она получила такое оформление лишь в позднейшем греческом сознании, — решить нелегко; ибо, действительно, в сознании хананеев и финикийцев такого освобождения Геракла еще не произошло. Поэтому данная история
не могла рассказываться как нечто действительно имевшее место. Однако это отнюдь
не помешало бы предположить, что также и в эпоху высшего напряжения сознания
такое прославление уже представлялось как будущее, что оно могло присутствовать
еще и в самом раннем сознании как грядущее, предсказанное. Ибо, несмотря на то
что в каждом моменте сознание принуждено служить властвующему богу и как бы
является его пленником, это все же никоим образом не исключает возможности для
сознания ощущать суетность и эфемерность такого служения, а значит — и данного
отношения в целом. В том как раз и заключается трагический элемент, глубокая
печаль, проходящая через все язычество, что посреди полной зависимости от богов,
которым необоримая иллюзия (Wahn) заставляет служить людей, эти люди сохраняют в себе чувство конечности этих богов. Я не буду ссылаться здесь на всеобщую
смерть богов, предсказываемую скандинавской Эддой, на которую я и вообще не
особенно охотно ссылаюсь; однако даже и в греческом мифе страх Урана и Кроноса
перед собственными детьми являет собой не что иное, как предчувствие будущей
и неизбежной гибели; даже Зевсу окованный Прометей Эсхила предсказывает гибель в ясных словах, обращенных к хору:
Моли, взывай и льсти тому, кто властен вечно (это лишь ирония!).
Меня же меньше чем ничто заботит — Зевс.
Пусть судьбами вершит, пусть властвует недолго,
Как он захочет. Но не навсегда
Послушны боги;
И перед этим:
Как ни упрямься Кронион, он все ж
В конце концов склонится; обрученье,
Которого он ищет, наконец,
Его низвергнет с трона безвозвратно.
Тогда исполнится и древнее проклятье,
Пятнадцатая лекция
271
Что Крон, его отец, над ним изрек
В тот день, когда того сместил он с трона.
Лишь Прометею известна тайна того, каким образом Зевс мог бы предотвратить
конец своей власти, однако он намерен поведать эту тайну не раньше, чем сам будет
освобожден от своих оков.
Царство богов стоит на проклятии, передаваемом от одного рода к другому.
Однако, даже если смотреть с исключительно общей и чисто научной точки зрения, профетизм, предвидение будущего — есть необходимый момент в мифологическом движении. Несмотря на то что порождающее мифологию сознание проходит
через определенные моменты, все же с самого начала, уже с первого предприятия сознания — полагается то напряжение, которое может быть разряжено лишь сукцессивно, а вместе с этим первым напряжением положено также и все остальное (вся
последовательность). Различные моменты сознания отличаются друг от друга не
своим абсолютным содержанием, но — как содержание каждого времени собственно
есть всегда одно и то же, как одно время или момент времени от другого отличается
лишь тем, что являющееся лишь будущим в одном, в другом принадлежит настоящему или даже уже прошлому, или наоборот: то, что в одном есть настоящее или
прошлое, в другом положено еще только как будущее, — точно так же и содержание
мифологического сознания всегда пребывает одним и тем же, и то, что лишь в позднейшем моменте становится настоящим, тем самым еще не может быть названо отсутствующим в предшествующем: оно также присутствует в нем, но лишь будучи
положено как будущее. И таким образом — даже и раннему, еще рабски преданному
Кроносу, сознанию уже вполне могло явиться грядущее прославление и обожествление Геракла; как в том ветхозаветном пророчестве, в котором, кстати, в полной параллельности моменту Кроноса, Мессия представлен не как Царь и Господь, но как
слуга, — тем не менее, предсказана грядущая смерть Мессии и его преображение.
Ибо и дар пророчества также дан тем самым напряжением, которое положено в мифологическом сознании. Само Откровение опосредовано им. Христос есть конец
язычества — равно как и Откровения. Лишь поэтому умолкают после первого столетия христианского летоисчисления языческие пророчества — явление, которому,
как известно, Плутарх посвятил особое сочинение; и даже в самой Церкви дар пророчества наряду с другими чудесными дарами и экстатическими явлениями исчезает по мере того, как напряжение сознания все более и более спадает. Таким образом,
по меньшей мере не является невозможным, чтобы также и этот последний исход
мифа о Геракле уже содержался в качестве будущего и ожидаемого в первоначальном ориентальном представлении; возможно, однако, также и то, что это последнее
построение принадлежит исключительно греческому сознанию, что лишь оно одно
приходит в своем развитии к смерти Геракла в славе и преображении.
272
Вторая книга. Мифология
Я ничуть не жалею о том времени, коего потребовало для себя это последнее изложение. Ибо миф о Геракле образует в греческой мифологии столь значительный
круг, что, обойди мы образ Геракла стороной, это могло бы быть поставлено в серьезный укор всему нашему исследованию и заронить сомнения в его средствах и методе.
Историей, в том смысле в каком это отрицает Буттманн — в каковом случае Геракл
собственно был бы действительным героем, царским сыном или чем-то подобным, —
этот миф, конечно же, не является; однако я полагаю, что привел достаточные доказательства того, что он в равной мере не является также и продуктом чистой поэзии, как
то пытается утверждать сам Буттманн, опираясь главным образом на софистический
сюжет о Геракле на распутье. Миф о Геракле действительно есть история, однако — более высокого рода, нежели история только человеческая; она есть часть действительной истории богов. Геракл, а значит, также и его более ранний прообраз, финикийский Мелькарт, — есть соответствующий второй личности, относительно духовному,
позднее выступающему как Дионис, божеству, образ, относящийся к более раннему
моменту: таков результат нашего исследования. Так или иначе, мифология все более
будет сводиться для нас к истории страданий и подвигов этого второго бога.
То, кстати, что эта вторая личность уже присутствует также и в предшествующем
моменте мифологического сознания — я хочу раз и навсегда назвать его Кроническим, — ничего не меняет в общем воззрении на этот момент. Вторая личность пребывает здесь еще в полной зависимости от Кроноса, служа ему и отбывая ему повинность. Если даже мы уже успели бросить взгляд в более свободную, лучшую эпоху, то
все же нам необходимо теперь вернуться к тому состоянию сознания, что свойственно человечеству в эпоху еще исключительно, — по меньшей мере, в том, что касается
божественности, — царствующего Кроноса. В эту эпоху человеческое сознание выглядит совершенно так, как его описывает Лукреций в одном месте, где каждое слово
в высшей степени значимо: человечество было в эту эпоху действительно
.. .opressa gravi sub religione,
Quae caput e coeli regionibus ostendebat
24
Horribili super adspectu mortalibus instans .
Человечество пребывало под тяжким, давящим гнетом религии, gravi sub religione, ибо в ней все еще действовала астральная сила, в Кроносе все еще продолжает
царствовать звездное небо, — она, таким образом, все еще грозила смертным с небесных высот. Туда (в эту эпоху) нам с вами вновь надлежит теперь перенестись. Ибо
смерть Геракла есть прорыв в следующую эпоху.
Однако и кровавое царствование Кроноса, в конечном итоге, должно подойти
к своему закату, и нам надлежит в первую очередь рассмотреть явления, связанные
с этим переходом.
ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
С тем чтобы быть полностью уверенным в том, что изложенная последовательность моментов вам теперь совершенно ясна (ибо именно в ней заключается собственно научный аспект всего нашего исследования), я намерен сейчас еще раз кратко ее повторить:
A. Первоначальный момент или первый момент — еще не преодоленная и непреодолимая исключительность (центральность) первого принципа =
забизм.
B. Второй момент — первый принцип становится периферическим, где он одновременно становится предметом возможного преодоления = Урания.
C. Третий момент — действительный процесс, действительная борьба между
сопротивляющимся принципом и освобождающим богом. Здесь, в свою
очередь,
a) первый момент, где действительное преодоление хотя и настойчиво повторяет свои попытки, однако они всякий раз сводятся на нет реальным богом = момент Кроноса (причем А2 предстает лишь в отношении
служения Кроносу), отрицание действительного преодоления;
b) второй момент — переход к действительному преодолению, где реальный бог становится доступен не для возможного, но для действительного преодоления.
Это есть тот момент, на котором мы сейчас остановились и который теперь должен быть представлен. За ним последует
c) третий момент, на который приходятся
аа) египетская,
bb) индусская,
ее) греческая мифология.
Таким образом, мы переходим теперь к моменту b). A именно, в конечном итоге всецело зависящее от реального бога и прилежащее ему сознание будет все же
преодолено; сопротивление, оказываемое освобождающему богу, будет становиться
все слабее и слабее, покуда сознание не откажется от своего упорства окончательно и не предоставит себя — теперь уже не для возможного, но для действительного
преодоления.
274
Вторая книга. Мифология
Наступление этого момента ознаменовано вторичным появлением женского божества и заявляет о себе в чувствах народов посредством бурного, над самим собой
не властного воодушевления, оргий (Orgiasmus). Поскольку слово «оргия» (Orgiasmus) употреблено здесь впервые, мне представляется нелишним сделать несколько
замечаний относительно его значения. Не выяснено окончательно, откуда собственно происходят слова: όργια, όργιάζειν, όργιασμός1. Оргии — это сами торжественно
справляемые действа, посредством коих дает о себе знать это бурное воодушевление. В расширительном смысле слово употребляется по отношению ко всем мистерийным церемониям, и даже по отношению к самим мистериям. Όργιάζειν означает «справлять оргии», όργιασμός означает «праздник оргий», однако в особенности
означает проявления ярости или священного безумия, которыми сопровождаются
такие празднования. Побуждающей причиной оргий, конечно, является освобождающий бог, однако основой, субъектом оргийности является сделавшийся словно бы
шатким, неустойчивым, не властным над самим собой реальный принцип. Поскольку теперь он в этом состоянии, с одной стороны — вообще предстает как возбужденный, с другой стороны — сам выражает себя посредством действий подлинного
неистовства, то взаимосвязь слова с οργή2 («гнев») вполне понятна; и в частности,
в качестве подтверждения можно было бы привести параллельное выражение Ветхого Завета, где «служить другим и новым богам» всегда представляется как давать
повод к раздражению, к гневу первого и единственного Бога. Очевидно натянутым
является выведение от εϊργειν3, arcere4, удерживать, не допускать, поскольку неосвятившиеся не допускаются до мистерий, и вполне разумным следует признать выведение от έργα5, отправления, действа; ибо отправлениями и действами, безусловно,
также являются оргические движения и процедуры мистерийных обрядов, однако
не наоборот, т.е., έργα не являются обязательно именно мистерийными, восторженными действами. Слово όργιάζειν, όργια, следовательно, безусловно принадлежит
к семейству слов: οργή6, отсюда οργίζω7: irrito, iram accendo8, и равным образом —
слова όργάω9, которое связано даже с όρέγω10, appetere11, «желать», откуда «оргазм»,
слово, которым пользуются преимущественно врачи, дабы обозначить любого рода
turgor12, в особенности соков. Это то, что касается слова. Теперь же перейдем к сути
и к значению момента.
Итак, еще раз и лишь в ином смысле сознание и бог, который в нем вновь поднялся к мужественности, сделалось уступчивым и женственным по отношению
к высшему богу. Умирающая в одном (в доминирующем боге) сила мужественности
всецело перетекает во второго бога. Этот переход в грубой, простой наглядности
обозначен через фаллос, символ мужского начала, который теперь торжественно сопровождает триумфальные шествия в качестве некоего знамени победы этого момента и возносящейся над поверженным, лишенным мужественности богом высшей потенции. До сих пор мужественный бог сделался теперь уже не просто вообще
Шестнадцатая лекция
275
доступным для высшего, но уже вот-вот будет действительно им преодолен. До сих
пор косный, сопротивляющийся принцип сам становится женственным по отношению к высшему богу, так что этот последний уже по существу представляет собой
единственного действующего бога; и — дабы также и здесь переход был обозначен
женским образом, — появляется фригийская матерь богов, которая так же относится к Кроносу, как Урания относилась к Урану. Ибо если в новейшем подходе к мифологии обычным делом является все идентифицировать, что кстати, весьма легко
может быть сделано, ибо, бесспорно (однако, заметим хорошо — в разных потенциях, на совершенно разных ступенях, а поэтому также и с измененным значением)
бесспорно, что всякий раз по существу совершается одно и то же, — то мы, напротив, должны поставить себе за правило различать родственные образы, помещать
каждый из них в его определенную эпоху и, таким образом, держать по отдельности
во избежание смешения, дабы противоположный подход не вернул все в первозданный хаос, из которого, согласно теогонии, все произошло. Фригийская Богоматерь
(это имя одновременно обозначает место фригийского или фригофракийского народа в теогоническом движении), это женское божество представляет собой для своей
эпохи то же самое, что Урания — для своей. Различие между той и другой, которое заключается именно во времени, таково: в Урании сознание становится основанием для еще не действительного (еще не вошедшего в бытие) высшего бога, она
сперва рождает или зачинает этого бога, и ее явление знаменует собой лишь момент
рождения или зачатия указанного бога; во фригийской же Богоматери, или, как ее
называют греки, в Кибеле, сознание становится основанием для уже действующего
бога. Таким образом, то, что в Урании было еще только возможностью (простой возможностью преодоления), — в Кибеле становится действительностью (здесь начало
и переход к действительному преодолению), и это лишь есть последняя, решающая
для возникновения политеизма, катабола.
Ибо именно потому Кибела носит имя Матери богов, что вместе с ней впервые
дана непосредственная возможность собственно божественного множества. Кибела
есть до конца обращенное, сделавшееся теперь уже действительно страдательным,
сознание реального бога, которое ныне стало уже не только вообще преодолимым,
но и готовым к действительному преодолению.
Я только что упомянул, что Кибела есть греческое имя для magna Deum mater13. Этимологии божественных имен постольку являются важным предметом, поскольку имя, — если предположить его правильность, — способно наиболее определенным образом указывать на первоначальное значение того или иного божества.
При этимологическом объяснении имени «Кибела», а также, пожалуй, «Кибела»,
рядом с которым тут же появляется другое — «Кибеба», — при таком объяснении
лучше всего было бы, пожалуй, исходить из κυβή14, «голова», производные от которого κύβδα15, «вниз головой», «кувырком», κυβισταν16, «опрокинуться», «броситься»,
276
Вторая книга. Мифология
«ринуться», родственное с κύπτω,17 «склонить голову», «идти свесив голову вперед», также родственное нашему немецкому kippen18. Уже в имени, следовательно,
заложено выражение переворота — где то, что прежде было наивысшим, клонится
или падает. В имени «Кибела» кроме κυβή невозможно не различить также и глагол
βάλλω19. В «Кибеба» по последнему слогу можно узнать древнее βάω20, откуда часто
встречающееся у Гомера βήσε δ έκ ϊππων. Κύβηβοι21 есть, таким образом, quae caput
descendere facit22. Κύβηβοι23, как известно, называют себя служители Кибебы, которые посредством склонения головы, качания головой в состоянии восторга лишь
повторяют, тем самым, движения самой богини, мимически ей подражают (раньше мы уже встречались с примерами такого подражания: напр., припадание на одну
ногу жрецов Ваала). Таким образом, это есть нечто отличное от нашего немецкого
свешивания головы. Другое слово для обозначения этого есть καρακίνοι24, от κάρα,
«голова», и κινέω, «двигать», «шевелить». Лукреций называет такое движение роящихся вокруг Кибебы куретов capitum numen25, где numen означает то же, что и nutus26. Именно по такому жесту их также называют корибантами, от κορύπτω27, caput
jactare28, согласно объяснению Страбона*. Все эти имена, таким образом, обозначают не что иное, как сознание, сделавшееся шатким по отношению к высшему богу,
которое как раз готово к тому, чтобы всецело поддаться его влиянию. Вы видите на
еще одном примере, сколь мало несобственными по своей сути являются выражения мифологии, если их правильно понимать; по меньшей мере, они ничуть не более
несобственны, чем огромное количество выражений, употребляя которые, никто
давно уже не думает об образности или поэтичности их смысла. Ибо, например, тот,
кто говорит о шаткой решимости или об убеждении, сделавшемся шатким, — тот никоим образом не полагает, что выразился каким-то особенно поэтическим образом.
Все в Кибеле указывает на нисхождение, на descendere. Она спускается с гор (отсюда также идэйская матерь), подобно тому как сама творящая природа с древних гор
через предгорья постепенно спускается на равнину. Первоначальное состояние также и природы есть состояние всеобщего воздвижения (erectio). Устремленное ввысь,
вертикально — везде и всюду является более древним, горизонтальное же более молодым, позднейшим. Если природа после животного в человеке вновь устремляется
вверх, в высоту, то это есть именно действительный новый подъем, однако в более
высоком, более духовном смысле. Наслоения первичных горных пластов и гор переходного периода стоят, хоть и с некоторыми аномалиями, но в целом, пропорционально их возрасту, — вертикально, однако одновременно под большим или меньшим углом наклона к горизонту, как бы склонившись и норовя упасть. Состояние
вертикального подъема переходит затем постепенно в покоящееся, горизонтальное,
άπό του κορύπτοντας βαίνειν όρχηστικώς (от того как, бодаясь, идут они в танце) (греч.). — Страбон,
X, 3, 473.
Шестнадцатая лекция
277
которое в целом, по преимуществу, свойственно новейшим образованиям. Такое состояние наклона вертикальных слоев в горняцком, часто верным инстинктом ведомом языке — носит название падения (Fallen) слоев. Если объяснять следующие одна
за другой земные формации одними лишь сукцессивными осадочными выпадениями из первичной жидкости (а все они содержат в химически растворенном виде
самые разные материалы), то в этом случае мы будем вынуждены также признать
в качестве первоначального положения горизонтальное. Тогда вертикально стоящие, однако имеющие наклон по отношению к горизонту слои, безусловно, нельзя объяснять как падение. В этом случае, напротив, следует предположить, что эти
слои из первоначально горизонтального положения какой-то непостижимой силой
были подняты вверх, что сейчас, насколько мне известно, является общепринятым
объяснением. Однако тихая закономерность природы отталкивает от себя подобные
насильственные объяснения, и та очевидная взаимосвязь, с которой это падение находится со строением формаций, не позволяет думать ни о каких только механических и самим этим образованиям чуждых причинах; их положение определяется
имманентными законами, и все убеждает нас в том, что тот угол, который они образуют к горизонту, является столь же древним, как и они сами, и представляет собой необходимый момент их образования. Горизонтальное возникновение, конечно
же, как сказано, есть необходимый постулат того воззрения, которое все объясняет из жидкого состояния, принимая его в качестве единственного способа образования. Поскольку, однако, относительно первичных гор уже повсеместно допущен
совершенно иной способ возникновения, то вследствие необходимой и неостановимой последовательности придется допустить то же самое также и относительно
рудных гор, поскольку незаметный переход одного в другое и огромное количество
иных фактов убеждают нас в идентичности способа образования тех и других. Кроме того, само это представление об изначальной жидкости, содержавшей в себе все
в растворенном виде, по правде сказать, выглядит всего лишь ребяческим, свойственным лишь детскому возрасту науки. Его приверженцы воображают себе, что
чего-то достигли, если получат все разнообразные материалы, из коих состоят земные формации, содержащимися вместе в одном флуидуме, — не задумываясь о том,
что тем самым абсолютно ничего не объяснено, ибо такая первоначальная жидкость
сама, в свою очередь, потребовала бы объяснения, и для такого объяснения едва ли
удалось бы сыскать необходимые средства.
Но вернемся назад от этого сделанного нами отступления, которое здесь, все же,
скорее всего, извинительно. Если ту аналогию, что существует между эпохами природы и сменяющими одна другую эпохами или моментами мифологическими, в основном никак нельзя отрицать, — то здесь эта аналогия, вероятно, более всего бросается
в глаза. Если, кстати, мы еще ранее сказали: Кронос есть неорганическая эпоха мифологии, то здесь под неорганическим нельзя понимать относительно-неорганическое
278
Вторая книга. Мифология
в том виде, как оно существует сейчас и в каком оно уже представляет собой основание для органического. То неорганическое, которое предшествует всему органическому, есть совершенно иное, отличное от того, которое уже имеет органическое
как свою противоположность вне себя и как высшее над собой. Относительно-неорганическое существует лишь одновременно с органическим. Абсолютно-неорганическое есть всецело предшествующая органическому эпоха, где оно еще не вступило
в противоборство с органическим, так же как подлинные первичные горы еще не
выказывают ни малейших следов органических существ, в то время как позднейшие
образования уже хранят в себе признаки прошлой борьбы органического с неорганическим. Первичные горы все еще возвышаются над эпохой относительно-неорганического, как об этом свидетельствует уже хотя бы один свойственный им характер
индивидуумов, их замкнутое в себе, их твердое и массивное, их грубое и резко выраженное существо. Никак не возможно, чтобы относительно-неорганическое пришло к существованию прежде органического. Относительно-неорганическое также
возникает в результате катаболы, per descensum29; однако ничто не может стать основанием, относительно не сущим, прошлым, если одновременно не положено то,
относительно чего ему надлежит быть основанием и прошлым. В греческой истории богов Кронос представлен как бог, который всякий раз по рождении вновь проглатывает собственных детей. Это заканчивается тем, что однажды вместо ребенка,
новорожденного Зевса, ему подносят завернутый в пелены камень, т. е. относителъно-неорганическое. Ибо теперь, когда он допустил относительно-неорганическое,
ему приходится производить одновременно его и органическое как таковое и, тем
самым, позволить последнему свободно развиваться и разворачиваться в его собственном, независимом от неорганического, времени.
Все в Кибеле, сказали мы, указывает на нисходящее движение. Сюда относится
30
также и то, что ее первое изображение было упавшим с неба (διοπετές ). Ибо и сама
она упала с неба. Лишь в Кибеле астральное уже полностью преодолено. До нее порождающее мифологию сознание все еще всецело находилось под влиянием звезд.
Упавший с небес камень был, таким образом, ее естественным изображением — естественное изображение богини, которая сама упала с неба, т.е. выпала из сферы всеобщего, бесконечного, непостижимого, и пришла к устоявшемуся образу. Согласно
определенно высказываемым заверениям древних, ее изображение в Пессинунте (Pessinus) представляло собой всего лишь камень. Как таковой оно было, по словам Ливия, передано римским послам, когда они потребовали это изображение великой Матери богов для Рима*. Если после этого стали пользоваться почитанием метеоритные
Is legatos — Pessinuntem deduxit, sacrumque iis lapidem, quam matrem Deum esse incolae dicebant,
tradidit (Он послов ... проводил во Фригию, в Пессинунт, вручил им священный камень, который
местные жители считали Матерью богов...) (лат.) (Перев. Μ. Ε. Сергеенко). — Тит Ливии, XXIX, 11.
Шестнадцатая лекция
279
массы и аэролиты, то причина этого заключалась в первоначальной идее Кибелы,
а не наоборот — падающие с неба камни дали повод к почитанию упавших с неба
изображений богов.
Как известно, не так уж давно вновь зашла речь о метеоритных камнях; многочисленные рассказы древних писателей и новейших хронистов, и даже сами сохранившиеся в некоторых местах, — в частности, в Богемии, на Рейне и в различных
областях Германии, — массы подобного рода не могут защитить этот феномен от
суждения — мнящей себя умной — эпохи, которое все подобные рассказы относит
к регистру фантазий. В одной получившей известность деревне, в Эльзасе, где один
из таких камней хранился в церкви, множество путешественников, почитающих
себя за просвещенных людей, высмеивали хранителей и советовали им выбросить
камень вон. Когда же затем факт пришлось признать и стало очевидно, что ни греки
не выдумывали, рассказывая об упавшем при Эгиспотамах (Aegos Potamos) камне,
ни равным образом не лгал Ливии, — радости не было конца. Немцу Эладни (Ehladni) принадлежит заслуга признания за падением метеоритов статуса физического
факта, каковой был затем многократно подтвержден происходящими время от времени во всех частях мира падениями метеоритных масс. Если только что названный физик предложил рассматривать метеоритные камни как остатки планетного
вещества, не использованного при образовании планет и все еще продолжающего
праздное и бесцельное путешествие в мировом пространстве, то такое объяснение,
пожалуй, столь же мало, как и другие подобные объяснения великих периодически
повторяющихся явлений из чисто случайных обстоятельств и причин, — нуждается
в каком бы то ни было опровержении . В основном исследователи убеждены в теллурском происхождении указанных масс; однако это слово не должно браться, как
обычно, в узком значении. Для того чтобы мы имели право говорить о теллурском
происхождении, отнюдь не обязательно, чтобы материи, из коих состоят эти массы,
а именно — железо и родственные ему металлы, входящие в качестве составной части почти всех тел, — отнюдь не обязательно, чтобы все эти материалы поднимались
в результате испарения с поверхности Земли в атмосферу, а в ней затем под воздействием неизвестных причин вновь консолидировались из взвешенного состояния
в твердое, образуя подобные массы. Такому объяснению противоречит уже хотя бы
одно лишь величайшее единообразие как составных частей, так и конфигурации,
К числу обманчивых доказательств, ведомых в пользу постоянного наличия таких лишних масс
во вселенском пространстве, относятся также и доказательства добровольных затмений Солнца, как
я их называю. Последние время от времени повсеместно становятся предметом упоминания; наиболее примечательным следует назвать упоминание Абульфараджа. Словно бы в мире, где все существует в постоянном колебании (Oscellation), само Солнце не могло оказаться способным к перемене
и быть подверженным действительному deliquium.
280
Вторая книга. Мифология
которое выказывают упавшие массы этого рода в противоположных концах Земли, напр., в Мэрии (Mähren) и Северной Америке. С теллурским происхождением
следует, таким образом, согласиться лишь в том смысле, что под ним разумеется
происхождение космическое. Собственно, тем самым космическое происхождение
этих масс поставлено вне всякого сомнения. Как нам приходится признать в истории человечества явления, которые уже не могут быть поняты исходя из тех оснований, что имеются в распоряжении нынешнего человеческого сознания, точно так
же в природе есть процессы, которые, несмотря на то что они происходят ныне, все
же по своим причинам относятся более к прошедшему времени, нежели к настоящему. (Прошлое, как правило, становится внутренним, подобно тому как сердце поначалу обнажено (bloss liegt).) Сюда, прежде всего, следует отнести вулканические
извержения, которые изо всех сил и безуспешно пытаются объяснить исходя из материальных условий нынешней эпохи. Сюда же относятся и бьющие из недр Земли
горячие источники, чьи неизменная на протяжении тысячелетий температура и, при
огромном богатстве составляющих частей, всегда пребывающие равными себе пропорции их смешения, не позволяют нам думать ничего иного — кроме того, что эти
воды, вероятно, происходят из некоего прошлого, которое не допускает уже более
никаких изменений и пребывает вне каких бы то ни было случайностей и превратностей настоящего времени. Возможно, что также и то обновляющее, заново созидающее действие, которое они оказывают на больной организм и которое никоим
образом не может быть выведено из их химического состава, в равной мере следует считать доказательством того, что их тепло не является внешним (случайным),
но — присущим им внутренне, свидетельствующим об изначальном жизненном
жаре и пламени, в котором только и могло впервые возникнуть все относящееся
к органической и животной жизни. Однако вернемся назад к нашим метеоритам.
В них выказывает себя всеобщий, космический процесс, несмотря на то что здесь
он может дать о себе знать лишь в малом, входя в существующий порядок только
в качестве исключения — словно внезапный приступ и рецидив забытого состояния,
которое, будучи в целом давно уже достоянием прошлого, все еще способно отчасти
напоминать о себе временными, мимолетными состояниями. О том, что метеоритные камни возникают в жаркой борьбе, свидетельствует то характерное содрогание,
судороги, которыми в природе сопровождается их выпадение, специфическое ощущение тепла на лице, которое испытывают находящиеся поблизости и которое, по
всем признакам, является скорее пробуждаемым, нежели сообщаемым. То, что они
бывают именно низвергаемы на землю, видно по свойственному им в равной мере
постоянному колебательному движению во время падения. Доказательством же
того, что эта борьба является ничуть не менее кровавой, нежели та, в ходе которой
органическое впервые отделилось от неорганического, — является тот неоспоримый
факт, что кроме собственно камней на поверхность Земли зачастую падали не только
Шестнадцатая лекция
281
растительные, но и желеобразные и даже подобные сгусткам крови массы, подлинные продукты органического расчленения, растерзания*. Сколь великим представляется Гомер**, говоря о Зевсе в тот момент, когда тому приходится отказаться от
надежды спасти своего возлюбленного сына Сарпедона, коему суждено пасть перед
стенами Трои:
Ныне кровавые слезы на землю отец проливает,
Честь воздавая любимому сыну.
Еще греческие истолкователи замечают по этому поводу, что в подобных проявлениях можно усматривать сострадание природы — точно так же, как к древнейшей вере и словно бы к изначальным, исконным воззрениям человечества относится
вера в то, что в чрезвычайных явлениях проявляется сочувствие природы к человеческому страданию.
Почитание, которое оказывается падающим с неба массам как естественным
изображениям Кибелы, есть доказательство ее собственного положения, а именно —
того, что в ней и вместе с ней прекращается, словно бы сходя на Землю, астральная
религия и именно поэтому ее весьма часто объясняли как богиню Земли, а зачастую
и как саму Землю, что, однако, верно лишь в том смысле, что она уже не является
богиней неба, Уранией. В ней — до сей поры все еще духовные — звезды принимают
земной образ и земную сущность.
Посредством сказанного до сих пор, мы косвенным образом показали, что
именно значит Кибела; теперь посмотрим, как она сама представляет себя, как она
является в тех торжественных шествиях, в которых ее жрецы проносят ее изображение по городам Великой Греции***.
Иные метеоритные камни, например, камень Штаннерна (Stannern), имеют большое сходство
с зернистыми базальтами. Также в них находили хризолит. Град с минералогической начинкой по
Берцелинсу (Berzelins).
** Илиада, XVI, 459.
Культ Кибелы никогда не имел распространения в собственной, но лишь — в Великой Греции (там
же рядом с ним существовал в качестве высшего культа культ Персефоны, который преимущественно распространялся в Сицилии, в месте похищения Персефоны). В Рим он, как уже отмечалось, пришел из Пессинунта в Галатии, однако лишь в качестве peregrina religio (чужеземного культа) (лат.).
Напротив, Кибела была главной богиней фригийцев — бесспорно, самого древнего народа во внутренней Малой Азии, который в свое время занимал собой, пожалуй, большую часть этого полуострова. Что представление о Кибеле было всеобщим, необходимым переходом, явствует из того, что
она ничуть не меньше упоминается , напр., в Ветхом Завете (3 Царств 15, 13). Там она присутствует
под именем Миплезеф, которое этимологически всецело соответствует тому значению, которое мы
придали имени Кибелы, однако до сих пор ошибочно принимаемому истолкователями за Приапа.
282
Вторая книга. Мифология
Итак, сама она, Кибела, представляется едущей на колеснице с медными колесами, обозначающими собою грозные и могучие силы вращения, заключенные в этом
всегда замкнутом в самом себе движении; она восседает в колеснице, т. е. она уже не
едет стоя, но опустилась на сидение, ибо каждая деталь является здесь существенной, причем по бокам от нее имеются пустые, еще не занятые сиденья, обозначающие собой грядущих, имеющих прийти богов, для которых они приготовлены,
ибо она уже ощущает себя их матерью (magna Deum mater), поскольку теперь уже
всецело преданное освобождающему богу сознание, безусловно, является материей,
из которой, по ее преодолении в духовность, в будущем произойдут духовные боги.
Среди пышного великолепия, исполненного священным трепетом, как описывает Лукреций*, она проезжает по городам людей, и ее путь обильно усыпается серебром и медью:
Aere et argento sternunt iter omne viarum31.
Медь и серебро являются самыми определенными знаками гражданского общества. Как в пророчествах параллельные моменты накладываются один на другой (например, пророчество о конце священного города, Иерусалима, соответствует концу
света), точно так же пересекаются друг с другом соответствующие моменты мифологии. Три женских божества сменяют здесь друг друга: Урания — Кибела — Деметра
(последняя позже). Собственно, уже Урания знаменует собой переход от кочевой
жизни к постоянным жилищам и земледелию; однако как в позднейшем сознании
вместо Урана богом золотого века становится Кронос, точно так же в позднейшей
религии Кибела, а в еще более поздней — Деметра становится основательницей земледелия и родоначальницей гражданского общества. Такое значение, следовательно,
имеют бросаемые на ее пути медь и серебро — знаки уже более развитого, гражданского общества (градостроительство — каменные стены). Она сама и вся ее повозка
усыпаны розами (также знак человеческой культуры):
Cinguntque rosarum
32
Floribus, umbrantes matrem comitumque catervas .
Впереди ее несут острое оружие — как знак неизбежно связанной с возникновением гражданского общества войны и обретенных теперь, наконец, средств ее ведения. Сама она в молчании проезжает между людскими рядами,
33
Munificat tacita mortaleis muta salute , —
II, 526.
Шестнадцатая лекция
283
как говорит Лукреций. Таким образом, сама она безмолвствует, как бессловесно
и всецело преданная богу; однако для того, чтобы еще более усилить священное неистовство или заглушить последний страх перед политеизмом в этой агонии сознания, — вокруг нее не умолкает шум дикой, раздирающей слух музыки, сопровождаемой громом литавр, оглушительным звоном цимбал, свирепыми звуками рожков
и жалящими тонами фригийской флейты, — теми же самыми средствами, которыми
пользуются еще и по сей день для того, чтобы привести воина, идущего в жестокую
битву, в состояние безумства.
Как здесь должно быть заглушено сознание, все еще держащееся единства, так
особый греческий миф рассказывает, что при рождении Зевса: бога, вместе с которым возникает царство свободных, духовных богов — диктэйские куреты (кстати,
также и они находятся в числе сопровождающих шествие Кибелы), — что они при
рождении Зевса окружают Рею, пытающуюся скрыть свои родовые муки, и при помощи цимбал, при помощи диких возгласов и неистового танца с оружием, стуча
медными наконечниками копий о щиты, подымают ужасающий шум, который не
имеет никакой иной цели, кроме той, чтобы оглушить подозрительного и коварного,
ревнующего о своей единственности и своем самовластии бога Кроноса, дабы он не
заметил спрятанного от него хитростью Реи младенца . Кронос есть именно лишь
само это подозрительное, боязливое сознание, которое ревниво оберегает единственного, желающего божественности лишь для себя одного, бога. Также и Кибелу
в конце шествия сопровождают оскопленные жрецы, называемые Galli или те, которые в безумстве фанатической ярости сами себе наносят увечья, лишь для того чтобы
на собственном теле повторить оскопление бога. Ибо во фригийском представлении
переход представлен женским божеством (повторяющим в более позднем моменте
Уранию), в греческом же он знаменуется оскоплением до сей поры властвовавшего
бога. Однако и во фригийском представлении также можно встретить лишенного
мужественности демона (Аттис — он является демоном как всякий бог, утративший свое господство; демон есть либо бог, еще не достигший своей божественности,
лишь будущий бог, — либо бог в прошлом: в первый момент своего поражения бог
опускается до простого демона), — лишенный мужской силы демон состоит с ней
в непосредственном отношении, и поскольку сама она (Кибела) есть всего лишь
оженствленный Кронос, то — согласно, бесспорно, гораздо более древнему греческому повествованию — Кронос был оскоплен Зевсом таким же образом, как некогда
Уран был оскоплен Кроносом**. Вот то, что необходимо было сказать о переходном
Έκπλήξειν εμελλον τον Κρόνον, και λήσειν ύποσπάσαντες αύτοϋ τον παΐδα. о ((Куреты) должны были
(военной пляской и шумом) устрашить Кроноса и незаметно похитить его ребенка) (греч.). — Страбон, X, 3, 468.
Lycophr., V, 761; ср.: Schol. Ad Apollon. Argon., IV.
284
Вторая книга. Мифология
моменте, к которому, как я в достаточной мере показал, Кибела со всеми ее атрибутами не просто относится, но который она собою символизирует. Мы переходим далее
к исследованию развития — лишь теперь собственно политеистических — религий.
Поскольку до сего момента мы все еще имели относительный монотеизм, ибо также
и Кронос все еще был исключительным богом. Однако с воцарением Кибелы ничто уже более не мешает переходу к последнему моменту, где теперь вырывается на
волю решительный политеизм. Здесь, таким образом, мы сперва встретимся с теми
мифологиями, которые, вобрав в себя все предшествующие моменты, одновременно
прибавляют к их числу еще один, последний, а именно — момент полного преодоления противостоящего принципа. К этим мифологиям, как уже было нами отмечено
ранее, относятся египетская, индусская и греческая.
СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
В предыдущем изложении Урания обозначала собой тот момент сознания, в котором реальный бог вообще впервые предоставляет место относительно духовному*, допускает его в бытии. Кронос знаменует собой следующий момент исключения,
в котором реальный бог исключает духовного не из бытия, но лишь из божественности, на которую тот претендует. Кибела обозначает переход к тому моменту, когда слепой бог предоставляет духовному участие также и в божественности, так что
оба они существуют уже более не как прежде, в разделенном сознании, но сосуществуют в одном и том же сознании и по существу представляют собой Одного бога.
Однако эту идентификацию в случае с потенциями не следует понимать так, будто
тем самым сразу же снималась бы также и их противоположность, и упразднялось
бы напряжение между ними; но, хотя по существу положен и Один бог, однако он
двойствен в самом себе и противоречив одновременно. Оба они уже более не исключают друг друга, однако следствием здесь является не упразднение их противоположности, но возведение ее в противоречие. Согласно всему нашему предшествующему развитию, с необходимостью должен наступить тот момент, когда обе эти
потенции (Кронос и Дионис) таким образом идентифицируются для сознания, что
один и тот же бог, рассматриваемый с одной стороны, будет представляться ему как
реальный — как Кронос, — рассматриваемый же с другой стороны, будет видеться
как идеальный — как Дионис. Если существование такого момента доказано, и если
мы поищем теперь в мифологии такой образ, который в совершенном противоречии есть одновременно Кронос и Дионис, то такой образ мы нигде не найдем выраженным с большей отчетливостью, чем в главном божестве египетской мифологии,
которое мы определяем как Осирис-Тифон. Это есть тот бог, которого мы ищем и который представляет то совершенно особое состояние сознания, где оно уже восприняло в себя высшую потенцию, в то же самое время продолжая пребывать всецело
в плену у первой. Отсюда ясно, что теперь мы в основном будем находиться на почве
египетской мифологии.
Я называю его относительно духовным, поскольку он побеждает недуховного.
286
Вторая книга. Мифология
Поскольку я говорю теперь не об Осирисе и не о Тифоне, но об Осирисе-Тифоне,
мне могли бы возразить, что ведь Осирис и Тифон в египетской мифологии представляются и называются как две отдельные личности. Я не отрицаю того, что так происходит со стороны всех новейших авторов, а также — что это некоторым образом
верно и относительно древних; однако мы не должны во всем этом исследовании придерживаться того представления о предмете, которое дают нам писатели, в особенности новейшие, — говоря от своего собственного имени, но мы должны отыскивать те
оригинальные черты, в которых высказывает себя сознание и представление каждого
народа, и в соответствии с ними оценивать истинное состояние сознания в каждый
момент; чуть позднее я буду в состоянии привести такие характерные черты, из коих
будет явствовать, что Осирис и Тифон настолько переплелись между собой в представлении египтян, насколько возможно лишь в том случае, если предположить, что
обе эти потенции в первоначальном египетском сознании существовали словно бы
uno eodemque loco, в одном и том же месте, действительно словно бы представляя собой одно и то же божество. Однако для того чтобы иметь возможность должным образом доказать это, нам, безусловно, необходимо сперва рассмотреть каждую из данных потенций для себя, т. е. 1) Осириса, 2) Тифона как такового; и здесь нет сомнения
в том, что Осирис как таковой есть благожелательный, добрый, дружелюбный бог,
которому именно приписываются все те благодеяния, которые, напр., эллины приписывают Дионису (в особенности переход к человеческой жизни — в противоположность звероподобной прошлых эпох), и именно поэтому Геродот называет его
Дионисом египтян. Что касается Тифона, то столь же мало можно сомневаться в том,
чем именно в последнем основании является этот свойственный египетской мифологии образ, и, следовательно, в том, — чем является Тифон как таковой. Он повсюду описывается как все иссушающий, истребляющий, огнеподобный принцип.
Так, например, у Плутарха*. Под его владычеством находится пустыня с веющим со
стороны ее и несущим засуху горячим ветром; другим его жилищем является столь
же пустынное, как и необитаемое — море; усаженная растениями, облагороженная
земледелием территория Египта между песчаной пустыней и морем есть отвоеванная
у Тифона земля. Посвященным ему животным является дикий осел, onager, который
также и в Ветхом Завете есть преимущественно животное пустыни, так что его имя
сделалось нарицательным именем для дикого животного вообще. Правда, Плутарх
говорит, что одомашненный осел есть животное Тифона по причине своей тупости,
своей своенравной, упрямой природы; в конечном итоге, все сводится к тому, что
его природа символизирует собой упорную, неподатливую природу Тифона. Тифон
в своей абстракции, т. е. мыслимый совершенно без Осириса, был бы, таким образом,
Плутарх называет его παν το αύχμηρόν και πυρώδες και ξηραντικόν όλως και πολέμιον τχ\ ύγρότητι (все
сухое, огненное, отдающее воду и вообще враждебное влаге (греч.). — Об Исиде и Осирисе, 33.
Семнадцатая лекция
287
опустошительной, т. е. все содержащей в пустыне и запустении силой, — силой, не
благоприятствующей свободной, обособленной жизни.
Однако Тифон не есть такой принцип вообще, но он является им как личность
определенного момента: в соответствии с общим понятием, Кронос финикийцев
представлял бы собой то же самое, но Тифон есть египетский Кронос, т.е. уже раненный высшим лучом (духовного бога), и потому уже словно бы лежащий в предсмертных судорогах, хотя все еще не побежденный. То, что он непосредственно примыкает к Кроносу предшествующего момента, есть естественное следствие нашего
изложения, и уже сама эта идентичность общего характера двух божеств совершенно разных, отдельно живущих народов — является определенным свидетельством
в пользу всей нашей теории, согласно которой божества представляют собой не случайные, но всеобщие понятия. Тем не менее, данное сравнение с Кроносом отнюдь
не является моим собственным изобретением. Именно это же самое было понятно
уже Плутарху, что явствует из того места, где он упоминает некие злодеяния Кроноса как ничем не уступающие тому, что рассказывается об Осирисе и Тифоне.
Я предлагаю, таким образом, предварительно держаться этого понятия (Тифон =
египетский Кронос), и если мы все еще мыслим себе бога предшествующего момента
как Кроноса (поскольку мы уже однажды придали этому имени всеобщее значение),
то этот — который есть не изначально существующий, но лишь выступивший из потенции, быть не должный — после того как он в результате необходимого продвижения воспринял в себя духовного бога, — уже пребывает в необходимости всецело
отойти вовнутрь себя, в потенцию, и таким образом, отрекшись от себя, положить
того бога, который изначально есть дух (A3). Однако против этой лучшей воли восстает теперь другая, настаивающая на слепом бытии, и таким образом тот бог, который до сих пор был Одним и не был ни Осирисом, ни Тифоном, но Кроносом, теперь
стал Осирисом-Тифоном.
Осирис в этой связи выражает требование к сознанию отказаться от бога, ставшего реальным против первоначального определения: отказаться от него не вообще,
но лишь как от реального — положить его как чистую потенцию, чистый субъект.
Так, отошедшим в невидимое, сокровенное, он сам был бы благим богом, который
в своем самоотречении, в своем угасании вместо себя полагал бы третьего, который
собственно должен быть. Тем самым, в этом случае было бы восстановлено первоначальное сознание. Однако сознание может и не исполнять этого требования, реальный принцип еще слишком силен, и покуда сознание намеревается положить истинного, духовного бога, — происходит вмешательство недуховного, который вновь
окутывает бога материальными образами, посредством коих то единство, которое
составляло интенцию лучшего сознания, по сути вновь разрывается. Поскольку
же теперь лучшая, стремящаяся к единству, часть сознания получила имя Осирис,
то в результате противодействия Тифона (реального принципа), согласно учению
288
Вторая книга. Мифология
египтян, Осирис расчленяется, единство для сознания разрывается на множество образов, которые (поскольку здесь уже, в отличие от забизма, в игре участвует не только Одна потенция, и даже не две, но одновременно также и третья — обе первые
объединяющая в Одно — потенция, т.е. участвуют все потенции), — которые могут
представлять собой только животные или, по меньшей мере, лишь получеловеческие
образы; по той же причине, по которой также и в самой природе, едва лишь в дело
вступает третья потенция, — появляется животная жизнь. Всякое животное, как самостоятельное, в себе замкнутое и упорядоченное целое, как законченная индивидуальность, — есть лишь искаженное отображение, некий simulacrum того высшего
единства, которое в конце концов появляется в человеке. Вполне звериный или лишь
получеловеческий образ египетских богов я предполагаю как известное, однако внезапно здесь появившиеся звериные образы богов уже сами по себе могли бы быть
достаточным доказательством того, что египетскому богоучению мы отвели правильное место. Что касается заключенного в нашем изложении объяснения наполовину или полностью звериного облика египетских богов, о которых я в дальнейшем
намерен высказаться более полно, то пусть даже такое объяснение в известной мере
и проистекает само собой из всей последовательности нашего — везде параллельного природе — изложения, однако для нас поэтому ничуть не менее важно иметь возможность также подкрепить его почти дословно совпадающими высказываниями
самих древних.
Политеизм египетской мифологии, таким образом, в ней самой, с одной стороны — с определенностью представлен как раздрание, расчленение, διαμελισμός,
1
διασπαςμός Осириса, бога добра. Из страха перед Тифоном, как ясно сказано у Плу2
тарха*: τον Τυφώνα δείσαντες , и словно бы из желания спрятаться (οίον κρύπτοντες
3
εαυτούς ), будучи в ужасе и боясь вновь повстречаться лицом к лицу с этим
4
всеистребляющим принципом, перед которым (prae quo ) не может устоять ничто
индивидуальное: из страха перед ним боги — мы могли бы сказать, что то был уже
в самой природе желающий выразиться дух — превратились в тела ибисов, собак,
ястребов и т. д. С другой стороны, однако, это расчленение точно так же могло быть
представлено как растерзание и как смертельная борьба самого Тифона, как рассказывает Плутарх непосредственно после только что приведенного места из своего
трактата «Об Исиде и Осирисе» (после новопроведенных исследований, результаты
коих могу здесь представить, я имею все основания придавать этому трактату весьма
большое значение): непосредственно после приведенного места, в котором возникновение египетских богов представлено как расчленение Осириса, Плутарх рассказывает: «Многие говорят также, что в том же самом животном была растерзана душа
* Об Исиде и Осирисе, 72.
Семнадцатая лекция
289
Тифона». Вы видите, какое противоречие могло бы присутствовать здесь при любом
ином воззрении, но оно, однако, объясняется в нашем случае; ибо безусловно, что
в этой борьбе подвергается растерзанию также и реальный, враждебный духовной
жизни принцип, и указанный момент действительно представляет собой последние
содрогания этой темной силы, этого принципа страха, собственно — смертную агонию реального принципа. Такая смерть реального принципа должна была быть насильственной, сопряженной с борьбой, отнюдь не мирной и спокойной, но, позволю
себе такое выражение, отчетливо явленной, cum ictu et actu5 связанной, дабы сознание с определенностью и как такового могло положить также и духовного бога, что
было бы невозможно без смертельной битвы реального бога.
Однако те же самые неожиданные противоречия, наличие которых мы показали
в объекте, в боге этого момента, — присутствуют теперь и в сознании. Сознание,
само также охваченное этой борьбой, одной своей стороной уже обращенное к духовному богу, Осирису, с другой же стороны все еще прилежащее реальному богу
и даже зависимое от него, — это обращенное к обоим богам, каждый из коих есть
смерть другого, и словно бы обрученное с каждым из них, сознание, представлено
Исидой. Исида, согласно одному повествованию, супруга Осириса, — оплакивает
растерзанного Тифоном мужа и разыскивает части его расчлененного тела. Согласно другому рассказу, который, правда, можно найти лишь у одного христианского
писателя (Юлия Фирмика) (тот, однако, не мог его выдумать; и о нем также можно
сказать, что и в остальных случаях, судя по всему, он имел перед собой источники и подручные средства, которых мы сегодня лишены) — согласно этому рассказу,
Исида, напротив, является не сестрой Осириса, а супругой Тифона, Осирис — только
ее возлюбленный, и именно это любовное отношение (эта неверность по отношению
к первому супругу — вы вновь можете видеть здесь уже ранее встречавшуюсмя нам
характерную черту), которое воспламеняет ревность Тифона (также и это: ревность
первого бога — есть уже прежде знакомый нам мотив), становится причиной растерзания Осириса*. Если нам приходится мыслить себе мифологическое сознание не
как неподвижно стоящее, но как пребывающее в непрестанном движении, если мы
должны предположить, что мифологическое сознание лишь сукцессивно определяет
себя к тому представлению, на котором оно в конечном итоге останавливается, —
Место гласит (De Err. Prof. rell, 406): Isis soror est, Osiris frater, Typhon maritus; is cum comperisset,
Isidem uxorem incestis fratris cupiditatibus esse corruptam, occidit Osirim, anteatimque laceravit. — Isis,
repudiato Typhone, ut et fratrem sepeliret et conjugem, adhibuit sibi Nephthem sororem socium (в других
местах имя супруги Тифона) et Annubin (Исида — сестра, Осирис — брат, Тифон — муж; он, когда
узнал, что Исида была обесчещена греховными страстями брата, повалил Осириса и растерзал его
на куски. Исида, отвергнутая Тифоном, чтобы и брата похоронить, и мужа, призвала к себе сестру
Нефтхем и Анубиса) (лат.). — (О заблуждении языческих религий, 406).
290
Вторая книга. Мифология
то будет лишь сообразно природе вещей, если я стану утверждать, что представление, согласно которому Осирис есть лишь возлюбленный Исиды (сознания), Тифон
же является ее мужем, — выражает более древнее, наиболее раннее отношение. Эти
различные высказывания (Aussagen) мифологического сознания, которые могли бы
привести в сомнение и растерянность всякое иное воззрение или способ исследования, — для нашего, напротив, служат лишь подтверждением. Если бы данные мифы
представляли собой измышления, — произведения некоего, пусть даже неясного,
однако по своему принципу свободного мышления, — то эти первые сочинители никоим образом не допустили бы двойственности в своем повествовании, а пришедший вслед за ними не дерзнул бы вносить в него какие бы то ни было изменения,
ибо он опасался бы, тем самым, исказить весь его смысл. Если же, однако, предположить существование в самом сознании необходимого (не зависящего от произвола собственных представлений) отношения, то тогда легко сами собой объясняются
все эти разные высказывания, которые в целом все же сохраняют, не упраздняя его,
главное отношение. Ведь, конечно, в любом высказывании уже принимает известное участие свободное представление. Ибо, тем самым, мы утверждаем важное для
всего этого исследования различение между внутренним порождением мифологического представления, которое было необходимым, и — высказыванием этого представления, которое было свободным, хотя и ведомым этим внутренним внушением. Высказывание было всякий раз как бы переводом из внутреннего видения во
внешнее представление, но сам процесс этого перевода происходил не без участия
свободы, и таким образом ничуть не удивительно, если возникли различные версии,
даже несмотря на то, что везде, где в сознании положена борьба, существует также
и необходимая сукцессия, и что то же сознание, которое в некий предшествующий
момент еще исключительно связано с одним принципом, в другой, более поздний
момент — должно являться уже в своей склонности к другому (находясь с ним в любовной игре), а в третий, еще более поздний — как теперь уже, напротив, с самого
начала исключительно (т. е. посредством брака) с ним связанное. Тот, кто в случае
с подобными повествованиями всегда имеет перед своими глазами внутреннее отношение, знает, как истолковать и объяснить эти противоречия; он хорошо понимает, напр., что данное отношение между Исидой, Осирисом и Тифоном, безусловно,
по существу может быть выражено двояким образом, и каждое такое выражение
при этом будет равно истинным. Среди прочего данный пример показывает также,
каким образом несчастное, охваченное процессом развития мифологии сознание
непроизвольно, а следовательно и безо всякой собственной вины, пришло к такому
огромному количеству любовных интриг, супружеских измен и кровосмешений между его — в остальном святыми — божествами, в которых их столь часто упрекали
отцы Церкви, а также ранние философы, напр., Платон, не говоря уже о современных моралистах. Невозможно предположить, чтобы простые изобретатели имели
Семнадцатая лекция
291
о подобных вещах иное нравственное суждение или чувствовали в отношении их
иначе, нежели позднейшие судьи; таким образом, они никогда не выдумали бы ничего подобного, и уж никак нельзя предположить, что целый народ или огромная
часть человечества могла бы выказывать одобрение свободно вымышленным представлениям подобного рода.
Те же самые противоречия можно обнаружить и в иных характерных чертах этого довольно пространно развитого сюжета. Согласно другому изложению, супругу
Тифона зовут Нефтис, однако теперь Осирис — брат Тифона (в отношениях братьев
и сестер всегда мыслятся равные, параллельные друг другу, божества) — рождает
вместе с ней, как указывается, по ошибке (aus Irrthum), другое египетское божество,
Анубиса, о значении которого я намерен сказать позже. Эта ошибка вполне естественна, ибо Исида относится к Нефтис точно так же, как Осирис относится к Тифону. Исида есть собственно Исида-Нефтис (ибо она есть сознание, равно прилежащее
Осирису и Тифону), точно так же как Осирис есть Осирис-Тифон. Сознание еще не
в силах развести порознь эти две потенции. Таким образом, — как, согласно ранее
приведенному рассказу, Исида, представленная в качестве супруги Тифона, вступает
в тайный союз с Осирисом, — точно так же, согласно другому, Осирис имеет тайные
сношения с Нефтис как с супругой Тифона. Именно эти противоречия показывают, насколько еще зависимым ощущает себя сознание от реального бога, который
теперь всецело смешивается в его представлении с благим, духовным и вступает на
его место.
Сомнения и колебания сознания, слабость Исиды к Тифону — все это видно
также и в конце сюжета. Ибо в то мгновение, когда наконец Тифон окончательно
побежден истинным сыном Осириса и Исиды и живым падает в его руки, именно
Исида вновь освобождает его и снимает с него оковы, так что даже и в более ранние
моменты нельзя точно различить, к кому именно, — к растерзанному ли Осирису
или к погибшему Тифону — относятся теории (Theorien) Исиды.
Наиболее важным фактом, однако, остается тот, что главный процесс, ознаменовывающий собой египетское сознание, уже указанный нами διαμελισμός6, представлен равным образом как растерзанием Осириса, так и растерзанием Тифона.
Дабы не оставить здесь никаких неясностей и темнот, попробуйте помыслить себе
отношение следующим образом.
Безусловно, согласно всем уже приведенным атрибутам, Осирис как таковой есть
относительно духовная потенция, наше А2. Однако отдельно, как именно эта потенция, в египетском сознании он уже не появляется. Ибо он уже не противостоит В,
будучи исключенным, но В здесь восприняло высшего бога в себя. И хотя таким образом в сознании существует лишь В, однако это В уже не есть чистое В, но В — уже
охваченное действительным преодолением со стороны А2, В — которое уже отождествилось с А. Поскольку же и в какой мере В уступает этому богу, постольку и в той
292
Вторая книга. Мифология
мере оно само = А (оно есть отличное от бога, который есть А2 — лишь поскольку оно
= В; однако поскольку оно из В вновь обращено в А, т. е. в первоначальную сокрытость
или потенциальность, — постольку оно само = А, т. е. оно, таким образом, уже не есть
отличное от А2 и противоположное ему): поэтому, следовательно, оно в себе самом
есть Осирис, или = Осирису. И лишь этот не вне, но в самом В положенный Осирис
есть тот, о котором идет речь в этом действии, т. е. в главном мифе египетского богоучения. В подвергается растерзанию, лишь поскольку оно = А, т. е. является Осирисом, поскольку растерзанию подвергается Осирис. Однако этот миф о растерзании
есть лишь начало, лишь основание египетской мифологии, исходный ее пункт — тот
пункт, с которого также и нам надлежало начать ее постижение. Если, между тем, этот
момент есть момент борьбы и противоречия, то сознание не может остановиться на
нем, а следовательно, также и египетское сознание не остановится на таком начале.
Естественно, что позднейшие развития и добавления к этому мифу получат в большей мере характер свободного воззрения, высшего познания; а поскольку это высшее
познание, если и не исключительно, то преимущественно, будет представлять собой
собственность в основном выделившегося из народа класса, то эти добавления, — чем
дальше они будут отстоять от начала, тем в большей мере — станут приобретать вид
жреческой мудрости. Такого развития событий преимущественно следует ожидать
в Египте. Впервые в связи с этим изложением здесь упоминается о жреческом знании — как особом. Чисто мифологические представления не являются — как то хотят
изобразить столь многие, в особенности французские, писатели — измышлениями
жрецов; они возникают в результате необходимого процесса, охватывающего собой
все человечество, в котором каждый народ имеет свое определенное место и играет
свою собственную роль. То, что является непосредственным продуктом этого процесса, живет во всем совокупном народе и представляет собой общее достояние. Однако
мы одновременно определили мифологический процесс как теогонический, т. е. как
процесс, в результате которого вновь должно быть восстановлено, реконструировано
первоначальное сознание. Процесс, напряжение потенций, есть лишь средство или
путь; цель же есть восстановление первоначального единства того самого монотеизма, который был положен вместе с самой сущностью человека, но который должен
был быть упразднен, с тем чтобы из потенциального или материального превратиться в актуальный, познанный. В тот момент, когда мифологический процесс впервые
достигает этой цели, естественно должно прийти более свободное сознание, а также
появиться отдельные личности, особенно сведущие во всем, что к указанной цели относится. В прежних религиях жрецы еще мало возвышаются над народом. Жрецы
Ваала, судя по всему, что мы можем заметить, возвышались над своим народом не
в большей степени, чем в наши дни возвышаются над своим народом священники
в какой-нибудь части греческой церкви. Ни в одной стране древности невозможно
найти такого образованного и одновременно могущественного священнического
Семнадцатая лекция
293
сословия, как в Египте. Вместе с тем, ни одна страна не славится настолько своей тайной, т.е. доступной не всем в народе мудростью, как Египет. Ни одна страна, даже
гораздо более развитая Индия, не находилась (и в течение такого продолжительного
времени!) под столь решительным господством жреческой касты, как Египет. Ибо несмотря на то, что царь с уже очень давних времен избирался из представителей касты
воинов, он мог получить царскую диадему не иначе, как из рук жрецов, и лишь после того, как получал посвящение в жреческие мистерии. Множество скульптурных
изображений представляют фараона, который упомянутым образом проходит посвящение в таинства жрецов. Было и еще нечто, благодаря чему власть и значение жречества в Египте значительно повышались. Об этом пишет Геродот: из всех смертных
именно египтяне первыми стали учить о том, что душа человека бессмертна. Это учение — так абсолютно выраженное — уже выходит за рамки только мифологического,
еще всецело охваченного мифологией сознания. Однако именно это мифологическое
движение привело египетское сознание к такому учению.
Египетское богоучение лишь потому представляется столь запутанным, что
ученые исследователи оказались неспособны отделить друг от друга различные формации египетского сознания, выделить в нем разные поколения богов — которые,
впрочем, с большой определенностью различает еще Геродот — и наглядно представить их разветвления и последовательность. Мы надеемся, что с нашими предпосылками данное предприятие увенчается большим успехом.
Основной тон египетской мифологии есть борьба; однако сознание не может
остановиться на противоречии, положенном вместе с Осирисом-Тифоном; с необходимостью должно наступить разрешение, должна быть достигнута некая точка, где
Тифон и тифоническое начало будут окончательно преодолены и В всецело будет обращено в А; тот же, кто таким образом достиг преображения, будучи всецело освобожден от тифонического, сам теперь будет равен чистому Осирису. Он именно благодаря тому равен Осирису, что отошел в свое первоначальное небытие, в потенцию.
Однако сам ставший Осирисом Тифон положен лишь как результат борьбы; он не
есть изначально сокровенный, но — лишь возвращенный в сокровенное и незримое,
отделившийся, и не без борьбы, от зримого, сам словно бы претерпевший смерть. Он
поэтому не может выступать как первоначально не сущий, но лишь — как уже более
не сущий; он, хоть и не может рассматриваться как бог еще существующего, настоящего мира, однако не может и считаться ничем, и поэтому он рассматривается как
владыка уже более не существующих — умерших — как властитель мертвых .
Таким образом, следовательно, из идеи Осириса-Тифона совершенно естественным образом и посредством естественного перехода проистекает идея Осириса как
Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 61.
294
Вторая книга. Мифология
властителя преисподней, который как таковой принадлежит теперь высшему, эзотерическому сознанию, разве что с этим эзотерическим теперь нет нужды связывать
представление о чем-то соблюдаемом в тайне, скрываемом от народа. Ибо тот Осирис,
который властвует над мертвыми, представлен в огромном количестве скульптурных
изображений, на саркофагах мертвых и на полях папирусных свитков, сопровождающих мумии, и даже на стенах храмов; и Геродот весьма удивлен этому, поскольку
он, с одной стороны — не может не признать тождества Осириса и Диониса, с другой
же стороны — он знает, что в Греции, где по причинам, которые в данный момент не
могут быть указаны, эзотерическое было отделено от экзотерического, учение о Дионисе как властителе загробного мира было тайным, и о нем учили лишь мистерии
и философы. Так, например, Гераклит: "Αδης και Διόνυσος ό αυτός7*. (Ибо также и
в греческой мифологии существует точка, где Дионис, некогда мыслившийся лишь
в одной потенции, пребывает теперь уже во всех одновременно.) За ним, теперь вновь
ставшим равным себе, однако, тем самым, отступившим в сокровенное, в незримое
(это как раз и есть царство мертвых) реальным богом, который сам теперь есть Осирис, — в царство небытия в качестве со-властительницы следует Исида, в которой
также теперь преодолена ее приверженность Тифону: преодолена, однако никоим
образом не уничтожена. Для действительной смерти, для перехода в небытие, безусловно, необходимо было то сопротивление, которое сознание противопоставляло
такому требованию, необходима была приверженность реальному богу как таковому.
Ибо тот, кто теперь невидим и существует сокрытым образом, не является таковым
просто и абсолютным образом, но он есть приведенный обратно из видимости в невидимость, и потому он есть иной и более определенный, нежели изначально невидимый. Таким образом, Исида и Осирис делят теперь между собой трон царства мертвых. Однако реальный бог не мог покинуть зримое, не мог уйти, не оставив вместо
себя другого — не второго, который был лишь посредником, опосредующей потенцией, лишь тем, для кого умер первый бог и который теперь живет внутри него: не этого
второго первый бог может оставить вместо себя, но лишь того третьего, которому от
начала подобает быть и который — как сын Исиды и Осириса — с этого момента под
именем Гор становится властителем мира живых (Oberwelt), царем нынешней эпохи.
Вы можете видеть, каким образом из глубин первоначально противоречивого и путаного египетского сознания с необходимостью выходит теперь также и это божество.
Об этом Горе говорю не только я, поскольку это созвучно изложенным мною ранее понятиям, но говорят также и сами древние — что он царствует вместо Осириса;
более того, он даже чествуется как сам воскресший в другом и новом облике Осирис,
так что все теперь есть Осирис, лишь в разных обликах. Плутарх** говорит о Горе: о δε
Там же, 28.
Там же, 55.
Семнадцатая лекция
τ
295
Ωρος ούτος αυτός έστιν ώρισμένος και τέλειος8; этот Гор сам есть ώρισμένος9, — слово, которое может быть истолковано двояко: 1) как заранее предназначенный, как
быть должный; 2) как самим собой и потому абсолютно ограниченный. Ибо третье
в последовательности понятий есть одно понятие с первым; однако первое — как
чистое бытие в возможности — есть по своей природе безграничное, το άπειρον10,
quod definiri nequit11, поскольку то, что оно есть, оно есть и одновременно также
не есть; третье же также есть чистое бытие в возможности, Дух, однако — положенный как таковой. Здесь это «как» есть граница, которая не позволяет ему переступить через себя, сделаться неравным себе. Природа первого, неопределенного
бытия в возможности состоит в том, чтобы содержаться во втором, природа же
третьего — в том, чтобы содержаться в себе самом. Первое есть неопределенное,
второе есть определяющее, и лишь третье есть определяющее само себя. Именно
поэтому в слове ώρισμένος12 заключено также и понятие чего-то неизменного, стабильного, не подверженного дальнейшим изменениям, т. е. именно конца — или
того, что есть истинный, действительный конец. Истинный же конец есть то, что
от начала должно быть. То же понятие теперь выражено и в другом предикате совершенного — τέλειος13, — которым Плутарх в том же месте наделяет Гора. Справедливый признает, что эти образы сами собой подпадают под те первые понятия,
из которых мы исходили и которые имеют в себе независимую от самих этих образов и равно от какого бы то ни было исторического исследования истину. Данное
совпадение, таким образом, не может быть случайным, но напротив, — оно служит доказательством того, что в этих начальных понятиях, которые, безусловно,
содержат в себе ключ еще от множества вещей, действительно, были даны ключи
к мифологии. Плутарх ничего не знает о последовательности и отношении философских понятий и, тем не менее, он снабжает Гора именно этими предикатами.
Я хочу лишь попутно привести то, что хоть и послужит к характеристике Гора, однако в еще большей мере может служить к определению значения египетских обелисков, а именно — что они посвящались преимущественно Гору: до такой степени, что подчас в ряду иероглифов, как доказал Шамполлион, вместо иного символа
или вместо написанного буквами имени Гора присутствует изображение обелиска.
Впрочем, я уже отмечал, что это последнее завершение или выведение начального
представления вплоть до Гора принадлежало уже — более некоему особому, нежели всеобщему сознанию. Как нечто возникшее, добавившееся, как нечто даже
поначалу соблюдавшееся в тайне или тайком сообщавшееся, идея Гора может быть
доказана также и фактически, или, по меньшей мере, мы можем указать на ее поступенное проявление.
Я уже упоминал об Анубисе, которого по ошибке породили Осирис и Нефтис
(супруга Тифона). Анубис есть, таким образом, несобственный (внебрачный, рожденный по ошибке) сын Осириса, Гор же — истинный, настоящий сын, ибо также
296
Вторая книга. Мифология
и Плутарх* противопоставляет обоих друг другу. Анубис есть поэтому предварительное, еще как бы не признанное, не легитимное явление Гора. Такие — еще темные —
явления лишь позже предстающих в полной ясности богов мы сможем наблюдать
с вами также и в мифологии греков. Если в качестве первого явления Гора по прошествии тифонической эпохи (ибо всегда в предшествующем уже проявляется будущее) я обозначу Анубиса, то это еще не значит, что Анубис тождествен Гору; он ему
не тождествен, ибо он есть лишь предчувствие грядущего, духовного Гора: он есть
в материальном (поэтому он рожден от Нефтис) то, чем Гор будет в чистом духовном.
Умирающий, отходящий от бытия Осирис оставляет Гора, бога, который должен
был в высоком духовном смысле восстановить то единство, которое ему самому не
удалось отстоять в смысле реальном — он покидает его младенцем у груди Исиды.
Гор-младенец у груди Исиды — сюжет наиболее часто встречающихся скульптурных изображений. Посредством Гора-младенца с помощью простейшей символики
обозначен грядущий властитель, которому еще надлежит подрасти. Плутарх говорит, что о πρεσβύτερος ' Ωρος14, старший — т. е., следовательно, уже выросший — Гор
в египетском языке носит имя Άρούηρις15**. Такое египетское звучание имени Гора
ныне уже подтверждено Шамполлионом. Гор, таким образом, есть имя уже возросшего бога. Напротив, еще не окрепший, еще не вошедший в силу Гор представлялся в особом образе, носившем у греков имя Гарпократа. Согласно египетской или
коптской этимологии, имя Гарпократ объясняется как еще слабый стопами, еще не
могущий ходить Гор, pedibus aeger sive impeditus16***. Неспособность ходить есть символическое обозначение, с которым мы еще встретимся позже; я напомню лишь об
Аполлоне амиклейском, чьи ноги окутаны пеленами таким образом, что он не может двинуться, сделать шаг. В согласии с этой этимологией находится и изображение
Гарпократа на северной стороне храма Мединат-Абу с тесно сомкнутыми ногами и
в плотно облегающих одеждах. Ибо столь простыми, наивными средствами, — от
которых нынешнее искусство, судящее неопределенными понятиями, безусловно,
давно уже отошло, — древнее, и в том числе также и египетское искусство, обычно
выражало свои понятия. Однако даже и помимо этой этимологии Гор как Гарпократ,
обозначенный известным жестом, а именно, пальцем, приложенным ко рту, — обозначен тем самым как бог, который еще не высказывается (ибо это означает язык),
чье имя еще не может быть произнесено, но которому воздаются почести в молчании и в тайне. Мы, таким образом, ясно видим, как Гор возрастает, т. е. как он возникает в результате прогрессирующего движения египетского сознания.
Там же, 38.
Там же, 19.
Ср.: Плутарх, тамжеу 19.
ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Тифон, который в египетской мифологии есть та сила, что содержит все в безвидности и пустоте1 (im Wüsten und Leeren), когда он уже не может более исключить
из себя Осириса — бога, противостоящего слепому бытию, подвергается растерзанию: на место исключительного бытия, таким образом, приходит множественность
и многообразие. Осирис есть αιτία πάσης γενέσεως2, Господь всего становления. Он
творит множественность и многообразие. Однако единство поэтому не должно
утратиться. Реальное единство, Тифон, должно исчезнуть, но зато на его месте подымается высшее, духовное единство — единство, которое существует одновременно
со свободным разнообразием. Это высшее единство — то, в чем Тифон с Осирисом
в высшем смысле достигают равенства, — есть Гор: бог, в качестве демиургической
потенции исцеляющий и вновь связующий воедино истерзанную природу. Его
(Гора) живущий теперь лишь в исчезнувшем боге и сам таким образом исчезнувший
Осирис положил сперва как будущего, быть должного, который также поэтому входит в действительность лишь поступенно. Ибо лишь когда рожден дух (а Гор есть
именно дух или A3), слепое бытие побеждено до конца. Также лишь теперь Исида
окончательно примирится с судьбой Осириса-Тифона. В начале она появляется плачущей над его растерзанием, разыскивающей и собирающей вместе расчлененные
части тела супруга. Она успокаивается лишь с рождением Гора. Мифология содержит в себе такие свидетельства прошлого (Vergangenheiten), которые в остальном
совершенно исчезли из человеческого сознания, сохранившись лишь в ней одной.
Природа также есть история, однако давно отзвучавшая. Эти сцены боли, страдания и духовного смятения, за которыми вновь следуют примирение и успокоение
и о которых никаким иным способом мы ничего бы не узнали, сохранились запечатленными в мифологии. Детство Гора представляет собой весьма существенную
черту. Он подрастает очень медленно. Среди скульптурных изображений Филы,
знаменитого нильского острова, расположенного у последнего водопада, где, как утверждают, была расположена могила Осириса (собственно, сама могила находилась
на острове неподалеку, куда вход был позволен одним лишь священникам; Филой,
т. е. погребенным в Филе Осирисом, клялись египтяне в самых торжественных случаях) — детство Гора представлено в изображениях не менее четырех раз. Трижды
298
Вторая книга. Мифология
Гор является как весьма тщедушный младенец, которого мать держит у груди, четвертая скульптура изображает его уже подросшим ребенком, сосущим грудь стоя.
Здесь еще можно найти градации, просматривается идея постепенного возрастания,
вхождения в силу. Плутарх, который, очевидно, во множестве своих повествований
имел перед собой оригинальные места и высказывания египетских источников, сразу же узнаваемые по глубокомысленному, большей частью для него самого не понятному содержанию, — говорит: о δέ Ώρος χρόνφ του Τυφώνος έκράτησε3 (со временем
Гор одерживает верх над Тифоном*), что приводит на память фрагмент Пиндара:
χρόνφ έγένετ' 'Απόλλων4, — чем я, впрочем, ничего не хочу высказать об отношении
Гора и Аполлона. Уже будучи большим, Гор оказывает Исиде поддержку в борьбе
против Тифона. До этих пор он все еще был становящимся, будущим. Лишь теперь
он выступает как властитель, и Исида может спокойно следовать за ним, богом, которому она принадлежит, в загробное царство. Также и на ее месте в настоящем
остается другое божество, — сознание, соответствующее Гору, — ее дочь Бубастис,
сестра Гора, которая относится к нему совершенно так же, как Исида к Осирису. Она
точно так же приходит на место Исиды, как Гор — на место Осириса и Тифона. Исида
есть колеблющееся между тем и другим сознание, Бубастис же — возвышающееся
над тем и другим, и потому уже более не колеблющееся.
Итак, я прошу вас добавить теперь к именам уже имевшихся до сих пор египетских божеств также и имя Бубастис. В том, что тем самым верно определено ее
истинное место, а следовательно, также и ее значение, — сможет убедиться всякий,
кто даст себе труд сличить между собой данные Геродота. Как — либо сами египтяне, после того как познакомились ближе с эллинами и их представлениями, либо
греки — считают египетского Гора за одно со своим Аполлоном, точно так же они
сравнивают Бубастис с греческой Артемидой. Насколько, впрочем, это действительно так, я здесь судить не берусь. Отложим вопрос до того момента, где зайдет речь
об Аполлоне и Артемиде в греческой мифологии. Предварительно такое сравнение
может послужить лишь для того, чтобы показать братско-сестринское отношение
между Гором и Бубастис.
Здесь, однако, следует отметить: весь этот процесс (я имею в виду преодоление
Тифона, одухотворение Осириса и Исиды, силу Гора) — все это следует представлять
себе не как мертвое отношение, но как Одно взаимосвязанное событие, происхождение (Geschehen). Осирис не ранее становится властителем загробного мира, Исида
не ранее обретает успокоение (а лишь Исида, обретшая успокоение, становится соправительницей над умершими), чем одержана окончательная победа над тифоническим началом, и Гор вступает в действительную полноту власти.
Об Исиде и Осирисе, 40.
Восемнадцатая лекция
299
Если мы в соответствии с этим попытаемся уяснить себе, что именно остается
в сознании в качестве результата всего завершившегося процесса, то теперь 1) в сознании положен как глубочайшее и именно потому самое сокровенное, как собственно мистерия и таинство всего целого, чистый, т.е. всецело одухотворенный,
ставший Осирисом, Тифон — возвращенный из реального в идеальное, в первоначальную потенциальность, равный Осирису Тифон, где он действительно представляет собой чистое AI. Во время процесса он отнюдь еще не таков; ибо покуда
он исключает другие потенции, он сам не есть первая потенция. Как таковой, как
первая потенция, он есть основание* (в часто уже объяснявшемся смысле), основание всего существующего бытия, в выходе же из потенциальности — основание движения процесса. Однако 2) именно поэтому в ставшем Осирисом Тифоне равным
образом осуществлен и познан как причина Бог, который преодолел и преобразовал
его из тифонического в духовное.
Если бы тифоническое не оказывало сопротивления, т. е. если бы первый принцип непосредственно, без сопротивления, мог быть одухотворен, то не произошло
бы никакого растерзания. Однако сопротивление должно было иметь место, дабы
все могло быть с определенностью положено, и это последнее отношение действительно присутствовало в сознании как произведенное, как результат. Поскольку
же, однако, в преодоленном первом всецело осуществила себя вторая потенция, тифоническое в первом принципе приведено к действительному угасанию, и оно таким
образом положено как чистый Осирис, как чистое AI, — то теперь одновременно со
снятием напряжения также и третья потенция должна быть положена как Гор. Сам
же Гор есть заново возникший в более высокой потенции Осирис. Первый Осирис,
поскольку он был = Тифону (Осирис-Тифон), должен был быть растерзан и отойти
в прошлое, дабы мог быть положенным истинный Осирис, Осирис сущий (der Osiris,
der es ist), Осирис как таковой, т. е. мог быть положен Бог как Дух. Гор, следовательно, есть всего лишь имя для как такового и потому в третьей потенции положенного
Осириса. Таким образом, теперь все есть Осирис, и после полного снятия напряжения потенций в сознании положен бог, который по своей природе есть только бытие
в возможности; он, однако, после того как он возвращен из бытия в чистое бытие
в возможности, выступает как бог бывший (der Gott, der war); следовательно, в сознании теперь положены: 1) бог бывший, 2) бог сущий, 3) бог, имеющий быть (der
Gott, der sein wird), т.е. вечно быть должный — тот, которому вечно подобает бытие.
Эти три, далее, — бог бывший, бог сущий и бог, имеющий быть, — пребывают теперь
в своем первоначальном единстве таким образом, что познается, что один и тот же
есть первый, второй и третий, положенные в сознании, однако это первоначальное
= причина.
300
Вторая книга. Мифология
единство в сознании положено не как абсолютное, но как ставшее, и именно поэтому также и познанное.
Таким образом, египетское сознание в результате совершенно естественного
продвижения достигло той точки, где напряжение теогонических потенций ослабло,
и где оно (это сознание) нашло путь от политеизма к своего рода монотеизму, который вскоре затем, как мы сможем увидеть далее, в свою очередь стал основанием
для еще более высокой, чисто духовной религии; теперь эта последняя начала свое
существование в Египте наряду с религией мифологической, которую она именно
потому не в силах была упразднить, что та являлась ее собственной предпосылкой,
тем источником, из коего она не возникла единожды, но возникала снова и снова.
Что касается, в частности, употребленной нами формулы «бог бывший, бог сущий и бог, имеющий быть», то после знакомства с надписью на изображении Нейт
(Neith) в Саисе (Sais) я не стал бы рассматривать ее как чуждую египетскому кругу мышления: для этого нам следует лишь понять истинную идею египетской Нейт,
о которой я непременно найду повод высказаться позднее. Пока что скажу лишь следующее: греки и, вероятно, также и сами египтяне — οι σοφώτεροι των ιερέων5, по
выражению Плутарха — сравнивали ее с эллинской Афиной, высшей мудростью (Intelligenz), высшим сознанием, и здесь, пожалуй, можно уже предполагать, что в этой
надписи имелось в виду нечто гораздо большее, нежели простая материальная
субстанция природы, о которой, правда, можно сказать, что она сохраняется при
любом изменении явления; однако такая скупая истина, относящаяся к абстрактно
рассмотренной субстанции одного лишь чувственного мира, совершенно не в духе
египетской мудрости; поэтому указанная надпись, если признавать ее, выражает собой содержание высшего египетского сознания. Однако не нужно и этой надписи.
Совершенно определенно, первый Осирис был в египетском сознании богом прошлого, второй — богом настоящего, третий — богом будущего, и первый, второй
и третий были одним и тем же богом. Однако этот монотеизм не являлся абстрактным, рациональным или философическим, он был вообще возникшим на историческом пути и представлял собой мифологический монотеизм, который именно поэтому не имел причины отрываться от своей предпосылки. Лишь на предложенном
нами пути можно понять, каким образом высшая, безусловно существовавшая теология египтян не упразднила своей мифологии, как обе они продолжали существовать одна наряду с другой. Более того, таким образом рассматриваемый, этот исход
египетского сознания есть фактическое доказательство правильности хода всего нашего изложения.
Политеизм часто объясняли как разорванный монотеизм. В διαμελισμός,
διασπασμός6 Осириса в самой мифологии мы имеем это понятие разрывания единого
на части. Однако именно оно также показывает нам, что разрыву подвергается лишь
подчиненное единство, что этот разрыв представляет собой лишь переход к тому
Восемнадцатая лекция
301
высшему духовному единству, которое мы встречаем в конце египетской мифологии
как уже действительно познанное и высказанное. Политеизм есть поэтому в большей мере переход к актуальному, к действительному, к познанному монотеизму.
Большой ошибкой общепринятого воззрения является усматривать во множественности политеизма противоборство лучшему принципу; напротив, именно лучший,
отрицающий ложное единство принцип согласуется со множественностью. То единство, которое подвергается здесь разрушению, не есть собственно быть должное,
чью гибель нам следовало бы оплакивать вместе с Исидой. Абсолютный, ничего не
исключающий, истинно все-единый Бог может возникнуть для сознания лишь тогда, когда исключительный как таковой преодолен, возвращен в чистую потенцию;
однако бесспорно также и то, что сознание именно поэтому должно придерживаться
исключительного; ибо если бы оно не придерживалось его, то также и абсолютный,
ничего не исключающий, не смог бы за это, т. е. как бы взамен ложно-единого, вместо него, стать для него истинно сущим.
Таким образом, тот монотеизм, к которому стремится египетское сознание, есть
монотеизм исторически возникший. Однако также и эта история в свою очередь —
вся история противоборствующего благому богу Тифона (его часто сравнивают
с Ариманом Персов), история злодеяний Тифона, растерзанного, ушедшего из бытия,
однако возродившегося в Горе Осириса — также и вся эта история не содержится
в египетском сознании как однажды и навсегда свершившаяся, но как вновь и вновь
происходящая и постоянно повторяющаяся, вплоть до повторения в каждом годичном цикле. Высшая идея, таким образом, есть идея вновь и вновь себя вживе порождающая. Если таким образом эта история смогла подняться для египетского сознания
до подлинно вечной, т. е. до вечно длящейся, вечно совершающейся, то она именно
тем самым переплелась со всей жизнью египтянина, а также со всеми особенностями его богатой на чудеса страны, она сопровождала его на протяжении всего года,
сплетаясь для него с циклической сменой природных явлений точно так же, как с его
делами и трудом; она всякий раз как бы переживалась заново и, тем самым, как бы
вновь и вновь находила свое подтверждение. Здесь, таким образом, лежит основание по видимости календарного и астрономического значения египетских богов, чем
может позволить обмануть себя лишь тот, кто не вошел в эту систему спереди. Ни
звезды, ни звездные периоды, ни точки прохождения годичного цикла не представляют собой значения божеств, но наоборот, весь год означает для египтянина лишь
повторение вечной, т. е. вечно длящейся истории его богов. Не религия их календарна, но наоборот, — их календарная система религиозна и освящена религией. Если,
таким образом, у Крейцера или у кого-либо иного вы прочтете, что Гор есть Солнце в точке солнцеворота, Солнце в его высшей силе, а слабый Гарпократ есть то же
Солнце в его наименьшей силе в зимнем солнцестоянии, — то вы знаете, как именно
следует к этому относиться. Согласно Плутарху, начиная с 17-го числа месяца афира
302
Вторая книга. Мифология
(=13 ноября) в Египте стоял плач и стенание — отмечался траур по исчезнувшему
Осирису: это было время, когда справлялся αφανισμός7, тот момент, когда Осирис стал
невидимым (что, следовательно, также мыслилось как происходящее снова и снова);
и напротив, начиная с 11-го месяца тиби (6 января), когда Солнце вновь набирает
силу, начинается время ликования египтян, т. е. они приурочивают к аналогичному
периоду их — также отличающейся регулярностью, единообразием смены явлений
и, можно сказать, единственной в своем роде — страны, момент новообретения
Осириса в их богоистории. Таким образом, следовательно, в результате подобного
любовного сплавления их богоистории со всей природой, — эта история сделалась
вечно живой, вечно длящейся, всегда повторяющейся в непрерывном праздничном
цикле, всякий раз возобновляющейся в сознании. Каким еще, если не этим, может
быть вообще значение всякого праздничного цикла? Разве в каком-либо ином намерении — также и в христианской церкви праздник Искупителя справляется каждый
год и в определенное время? Причем, однако, никому кроме, разве что, Дупиуса не
приходит в голову истолковать Искупителя как только календарную потенцию.
Именно еще и потому, что история Осириса рассматривается как по природе своей вечно совершающаяся, также и Тифон все еще пользуется известной долей религиозного почитания. Ибо, хотя в этой истории над ним и одержана победа, т.е. он
тем самым становится прошлым, но поскольку, однако, сама эта история является
вечной, т.е. вечно повторяющейся, то — также и победа над Тифоном есть не навеки
свершившаяся, но пребывающая в вечном свершении. Необходимость выразить то
и другое — как все еще длящуюся, а значит, все еще нуждающуюся в победе над собой
власть Тифона, так и действительную победу над ним — эта необходимость имела
своим естественным следствием то, что обряды, касающиеся Тифона, были различными в разное время года. Плутарх говорит: уже сломленная, однако еще борющаяся со
смертью и лежащая в последних судорогах сила Тифона (я с самого начала представил борьбу Тифона как смертельную схватку, агонию; когда я впервые воспользовался
данным выражением, в моих первых работах, посвященных этому предмету, я еще не
знал упомянутого места, а следовательно, не был знаком и с указанными выражениями Плутарха; такое совпадение моих понятий (возникших совершенно независимо от
его выражений) с этими его выражениями (так бывало со мной и в некоторых иных
случаях) я могу привести поэтому в качестве свидетельства как в свою собственную
пользу, так и в пользу Плутарха) — Плутарх говорит: уже сломленную, но еще борющуюся со смертью силу Тифона в одном случае пытаются умилостивить и задобрить
принесением жертв, затем однако же, в других египетских празднествах, над ней зло
смеются и потешаются*. Последнее — эти насмешки — есть доказательство того, что
Место (06 Исиде и Осирисе, 30) гласит: Την του Τυφώνος ήμαυρωμένην και συντετριμμένην δύναμιν,
ετι δέ και ψυχορραγούσαν και σφαδάζουσαν, εστίν αΐς παρηγοροϋσι θυσίαις και πραϋνουσιν. εστί δότε πάλιν
Восемнадцатая лекция
303
сознание воспринимало эту тифоническую власть как реальную. Насмешки и издевательства представляют собой лишь естественный выплеск сознания, внезапно
ощутившего себя свободным от гнетущей и вечно угрожающей силы, которая вдруг
в один миг обратилась в ничто. Это ощущение непосредственной свободы человека,
которому больше не нужно испытывать ужаса перед насилием, — выражается более
или менее сходным образом во всех религиях. Как насмехается египтянин над Тифоном, точно так же эллин зло заигрывает с Кроносом, что явствует из множества
выражений, напр., когда грек говорит: «О, ты, Кронос!» — вместо: «Ты, глупец», —
или, в сходном же смысле у Аристофана: пахнуть «по-кроносовски» означает пахнуть древностью, староотеческим бытом; или также, когда при помощи различных
составных образований, включающих в себя слово «Кронос», обозначаются древние, слабоумные старцы. Однако того же Тифона, над которым потешались в одних
празднествах, в других вновь пытались ущедрить подношениями и как бы уговаривали, увещевали, πείθειν8, — слово, употребляемое в действительном смысле.
Противоречивость такого поведения сглаживалась тем, что этого бога или демона
высмеивали и дразнили в один день — и чествовали и пытались задобрить жертвоприношениями в совершенно другой, в результате чего, следовательно, как вся
эта история, так равным образом и Тифон в сознании египетского народа все еще
сохраняются как живое настоящее. Как мы знаем из Геродота, на берегу идеально
круглого озера в Саисе в ежегодно повторяющихся празднествах страдания Осириса
представлялись даже и сценически. Вся египетская религия имеет вид словно бы непрекращающейся борьбы против тифонического начала, она сохранилась как вечно
повторяющаяся история истинного и действительного освобождения.
Вот еще одна достопримечательная черта в духе только что приведенной: доказательством того, что египетское сознание, дойдя в своем движении до высшего
единства, не перестало осознавать свою первую предпосылку, что оно даже и Тифона рассматривало как предмет не однажды происшедшего, но непрестанно совершающегося преодоления, может служить достопримечательное наблюдение, которое
сделал в свое время еще Страбон, а недавно повторили французы, а именно, что по
всему Египту наряду с храмами великих божеств, в частности Гора, воздвигнуты
святилища Тифона, называемые тифониумами. Страбон видел в Тентире кроме храма, как он говорит, Афродиты и Исиды — также и множество тифониумов*. То же самое вновь было обнаружено французами. На острове Филе (Philä) наряду с храмами
έκταπεινοϋσι και καθυβρίζουσιν εν τισιν έορταις. о (силу Тифона, сломленную и ослабленную, но еще
бунтующую в агонии, унимают и усмиряют всевозможными жертвами. И (напротив, в определенное
время,) в праздники, египтяне, глумясь, унижают и оскорбляют (рыжих людей... потому что Тифон
был рыжий...), (греч.).
* Страбон, XVII, 1,815.
304
Вторая книга. Мифология
Исиды и Осириса, а также в Гермонтисе (Hermonthis) можно обнаружить тифониумы, т. е. дело здесь обстоит в совершенном согласии с нашей немецкой пословицей:
где Господу церковь, там и бесу часовенка. Эти тифониумы в сравнении с храмами,
возле которых они располагаются, имеют довольно малые размеры и не особенно
вместительны. Тем самым указывается на — пусть и уменьшившуюся и ограниченную, однако все еще продолжающую существовать — силу Тифона. Особенно достопримечательный тифониум находится при еще хорошо сохранившемся храме Гора
в Эдфу, Apollinopolis Magna9 древних. Эта грандиозная постройка, ничем не уступающая в великолепии и роскоши храмам в Фивах и Мемфисе, имела колоссальные
размеры; в целом ее длина составляла 424 фута, ее фасад в ширину 212 футов; такие
же колоссальные пропорции имеют пирамидальные массы, украшающие собой первый вход, [а также] его створчатые двери, от которых теперь сохранились одни лишь
петли (эти гигантские ворота имели 150 футов в вышину); в равной мере колоссальны скульптуры, стоящие по четырем сторонам здания. Так вот, перед этим великим
храмом стоял второй, который состоял из одного лишь портика и собственно святилища и был окружен галереей, и этот маленький храм был храмом Тифона. Здесь,
таким образом, мы видим тифониум не просто неподалеку от храма, но перед ним,
предваряющим его (передний двор); это никак не является случайностью, но есть
нечто намеренное и значимое; ибо Тифон действительно есть предшествующее, приус, предпосылка высших божеств, тот принцип, в преодолении коего они выказывают себя как высшие; именно потому, что он является их предпосылкой, тифонический принцип представляется также и как ведущий к более высоким божествам.
Действительно, в «Description de Г Egypte» определенно сказано: «Les Typhoniens
précèdent presque toujours les grands monuments10». Поскольку здесь сказано, что они
почти всегда предваряют великие храмы, то было бы интересно знать, где они их
не предваряют . В большом храме в Омбо (Ombos) имелось два находящихся рядом
помещения, из которых одно, как принято считать, было посвящено изображенному
в облике крокодила Тифону, а другое — доброму духу, Гору. Здесь, таким образом,
оба они мыслились еще более параллельными друг другу. Тифониумы перед храмами
Если бы было так, как Шамполион (Lettres écrites d'Egypte et Nubie, p. 193, douxieme lettre) говорит
в отношении второго, «называемого тифониумом», здания в Эдфу, а именно — что оно было одним
из маленьких, называемых Mammisi (место разрешения от бремени), храмов, которые, как он говорит, всегда возводятся возле большого, посвященного почитанию Троит, храма и которые мыслились как подобие небесного жилища, где богиня родила третье лицо Троицы, которое всегда изображается в виде младенца: то малые размеры тифониумов указывают не на убывающую силу бога,
который больше не существует, но, напротив, — на малость того бога, которого еще нет. Mammisi
в Эдфу действительно представляет детство и воспитание юного Гар-Сант-Фо (Har-Sant-Tho), сына
Гар-хат (Har-hat) и Гатора (Hathör), которому лесть уже в детском возрасте дала в спутники Эвергета II, также представленного ребенком. В частности этого истолкования мы здесь входить не будем.
Восемнадцатая лекция
305
великих божеств напоминают аллеи колоссальных сфинксов, которые вели к великим храмам в Карнаке и Луксоре. Также и здесь в основе лежало стремление подвести к высочайшей идее, которая должна была быть представлена в самих храмах.
То, что в Египте продолжал пользоваться почитанием также и тифонический
принцип, было вполне в порядке вещей. Ибо именно этот — в определенный момент сознания рассматривавшийся как тифонический — принцип есть по сути не
что иное, как глубочайший принцип естественной религии. Естественная религия
возникает именно в ходе преодоления этого принципа. Ибо та же самая потенция,
которая, вступая в бытие, отрицает Бога, будучи вновь преодоленной в небытие,
становится богополагающей, и с ней, собственно, в первую очередь связывается
для сознания Бог. Истинной исходной точкой египетской мифологии и теологии не
является, как, напр., предполагает Крейцер, сам монотеизм: он, напротив, является
концом, к которому приходят та и другая. Последняя же и наиглубочайшая точка,
к которой словно бы прикована целая цепь все выше подымающихся мифологических и религиозных идей Египта, есть Тифон. Он есть первая потенция, второй же
не остается ничего иного, как бороться с ней и в конечном итоге одержать над ней
верх. В результате такой победы над первой потенцией она (вторая потенция) как
раз и становится дарительницей всех тех благодеяний, из которых состоит человеческая и, в частности, египетская жизнь. Одержав конечную победу над истребляющим, враждебным материальной жизни принципом, она становится причиной [возникновения] всеобщей, напояющей плоды влаги*, регулярно выходящего из своих
берегов нильского потока, что всякий раз приносит в почву Египта новый слой плодородного ила и ограничивает территорию пустыни, а также созревания посевов на
обширных полях, которыми покрыта египетская земля. Однако именно потому что
эта вторая потенция как бы истощает свои силы в борьбе с первой и в ее преодолении, именно поэтому сознание требует наличия третьей потенции, которой, скажем
так, было бы совершенно нечего делать, некоего как бы праздного, т.е. свободного,
бога — бога, присутствующего лишь затем, чтобы засвидетельствовать наложением
печати это отношение победы второй потенции над первой, преобразовать это отношение в постоянное, непреложное (иначе, по моему мнению, невозможно мыслить себе ту поддержку, которую оказывает Исиде Гор для достижения полной победы над Тифоном). Сознание, говорю я, требует наличия третьей потенции, которой
уже ничего не нужно делать, которая уже не действует с необходимостью, подобно второй (та должна действовать), которая, следовательно, свободна в своем действии, уверена в своем бытии, может поступать в нем по своей воле и действовать
как захочет. Эту потенцию, следовательно, представляет собой Гор, и таким простым
Плутарх говорит о более осведомленных среди жрецов: они называют Осириса άπασαν την
ύγροποιόν δύναμιν και αρχήν, о (всякой приносящей влагу силой и началом) (греч.).
306
Вторая книга. Мифология
способом в египетском сознании заново выстраивается расчлененное в прежних
мифологиях единство (Alleinheit).
Подобно тому, как когда первая среди этих трех потенций, сделавшись неравной
себе самой — а тем самым и двум другим, — начинает исключать эти последние, точно так же, когда она, эта вне себя сущая, возвращена теперь вовнутрь себя, в свою
чистую духовность, — тем самым снимается также и указанное исключение, и после
восстановления материального единства восстанавливается также и надматериальное, совершенно вытесненное из сознания и отошедшее вглубь: в действительное
сознание входит также и Единый в потенциях Бог. Однако также и этот, далее уже не
расчленимый, но непреодолимо Единый Бог вступает в сознание не непосредственно, но лишь вследствие положенного и вновь снятого напряжения, а следовательно,
сознание также не может не связать его с этими [потенциями]; он поэтому не может
войти в сознание без того, чтобы тут же не представиться ему в трех лицах — в трех
лицах, поскольку в каждом из них он пребывает как Единый и неделимый. Этот
Один и тот же Бог, тем не менее, в свою очередь может быть рассматриваем трояко:
1) в состоянии своего первоначального, еще сокровенного (unoffenbaren) единства,
до разделения потенций, до сотворения мира; здесь, таким образом, он есть сокровенный Бог в высшем смысле этого слова; 2) в момент расчленения, расхождения,
взаимного напряжения и противопоставления потенций, — в момент сотворения
мира, в своем демиургическом качестве, как демиург; 3) в момент восстановленного
единства, в момент приведения потенций к их первоначальному единству; здесь он,
таким образом, одновременно есть вновь приведенный к самому себе или в самого
себя Бог — Бог, который есть в высшем смысле самообладающий и самосознающий
Дух. Таковы три лица Одного Бога, которые над тремя потенциями, превосходящие
их в том, что каждое из них есть весь Бог, лишь рассматриваемый с одной стороны или в одном моменте, — эти три лица Одного Бога составляют содержание высшей системы египетской теологии, они суть те самые боги, о которых знатоки среди
древних говорят, что они суть θεοί νοητοί11, интеллигибельные, т.е. лишь в чистом
мышлении постигаемые, боги. Если я могу надеяться, что та последовательность,
в которой мы выстроили египетское богоучение, начиная с самой нижней ступени
до самой высшей, где располагаются имматериальные боги, в достаточной мере вам
ясна, то вы также должны понимать, какая путаница будет привнесена в египетскую
мифологию, если этих последних, лишь умопостигаемых богов пожелать принять
как первых и изначальных, и от них выводить относительно материальных, подчиненных, как то происходит в обычных представлениях. Однако относительно такого
непонимания я с гораздо большей точностью смогу высказаться в конце. Вместо этого пусть здесь прозвучит лишь предварительное замечание. Если принять во внимание глубокий дух египетского народа, находящий свое выражение в столь многих его
творениях, — совсем не удивительно, что он дошел в своем продвижении до чисто
Восемнадцатая лекция
307
умопостигаемых богов: тех богов, которые хоть и возникают все еще из мифологии,
вследствие мифологии (которая здесь принимает характер откровения), однако по
природе своей являются совершенно немифологическими, выходящими за пределы
мифологии, можно сказать, почти метафизическими богами. Это, таким образом,
отнюдь не удивительно, однако удивительно, как египетским мудрецам удалось добиться, чтобы столь высокие божества сделались богами — общими для народа или,
по меньшей мере, государства; ибо именно таким богам были посвящены самые величественные и роскошные египетские храмы — эти превосходящие своим величием все описания и, даже будучи частично разрушенными, внушающие каждому,
кто способен к восприятию серьезного и возвышенного, чувство благоговейного
удивления, храмы и монументы Фив, Мемфиса, а некогда, бесспорно, также и Саиса.
Ничто в такой степени не говорит о высоте религиозного образования, которой достиг египетский народ, как эти монументы, если к тому же мы способны понимать
значение тех богов, коим они посвящены. То, что оказалось вообще возможным подвигнуть народ на строительство столь колоссальных сооружений в честь этих чисто духовных богов, есть определеннейшее свидетельство послушания народа своим
жрецам и неограниченной власти их руководства.
Прежде всего, однако, моей обязанностью является назвать этих богов по именам, а также привести доказательство того, что они действительно имели то значение, которое мы им придаем.
Первый, таким образом, есть, как сказано, бог первоначальной сокровенности,
внутренней обращенности всех потенций, бог до сотворения мира. Этот бог есть египетский Аммон, как произносили его имя греки; по-египетски, согласно свидетельству Плутарха, это имя звучало как Амун. Согласно Манефону (Manetho), на которо12
го Плутарх при этом ссылается, «Амун» означает «сокровенный» (το κεκρυμένον ).
Гекатей, напротив, говорит: «Амун» есть, собственно форма призывания у египтян,
и поэтому первого, т. е. всевышнего Бога, которого они полагают как одно со всем
(т.е. именно как наивысшее единство всего, наивысшее Всеединство) — поэтому
13
данного бога, как невидимого и сокровенного, они назвали Άμοϋν , словно призывая его и прося явиться. Но как бы ни обстояло дело с этими разнящимися друг
от друга толкованиями, оба они все же согласны в том, что Амун есть еще сокрытый,
неявленный, однако, впрочем, могущий открыться и выйти из собственной сферы
бог. Именно это, сущностно связанное с понятием Амуна понятие невидимости явствует из рассказа о Геракле, который просит Зевса-Амуна (ибо по своему обыкновению греки называют верховного египетского бога именем своего верховного бога)
открыться ему, что, следовательно, предполагает первоначальную неявленность.
Как известно, сюжет добавляет, что тот скрыто явился ему в виде бараньей шкуры,
снятой вместе с головной частью. В этом же облике Аммона можно видеть в скульптурных и иных изображениях. Следовательно, также и загнутые вовнутрь бараньи
308
Вторая книга. Мифология
рога могут, согласно египетской символике, выражать собой лишь обращенность
в собственную глубину, в каковой обращенности и мыслится сокровенный бог. Городом названного бога (именно поэтому греки и называли его Диосполисом) как раз
и были знаменитые Фивы, которые Гомер издалека описал нам как чудо света: он называет их έκατόμπυλος πόλις14, стовратный город и, давая понятие о населении города, говорит*, что ежедневно в каждые из ста ворот въезжают 200 человек с лошадьми
и повозками. Религиозные повествования самих египтян приписывают основание
города Осирису. Поначалу он простирался лишь на восточном берегу Нила: древнейшая часть города пролегала между рекой и аравийской горной цепью; здесь еще
можно найти руины величайшего и древнейшего храма Фив, называемого храмом
Карнака. Позднее также и на западном берегу реки появились жилища, дворцы и религиозные постройки. Фивы в своем великолепии простирались от одной горы до
другой, заполняя собой всю ширину долины Нила. Денон — в соответствии со своими исследованиями — полагает площадь древнего города равной 12 французским
лье, его диаметр — равным как минимум двум-трем лье; и, судя по всему, отнюдь не
преувеличенным можно считать выражение Диодора Сицилийского, когда он говорит: «Великолепный город никогда не видел Солнца». Огромные пространства этого
города религиозное чувство одаренного высоким духовным сознанием египетского народа наполнило величайшими чудесами своей религиозной и символической
архитектуры. Если посмотреть на изображения — преимущественно в «Description
de l'Egypte», пожалуй, самом непреходящем монументе Наполеону и великим концепциям его ориенталистских фантазий — если посмотреть на эти изображения
громадных пилонов храма в Карнаке, величественных колоссов из гранита, поставленных перед разными входами в святилище, под главным портиком из 142 колонн,
средний ряд которых имеет 11 футов в диаметре, 31 фут в окружности и 180 футов
в высоту, или на те обелиски, два из которых еще стоят, имеющих 100 футов в высоту
и состоящих из одного-единственного блока розового гранита (какое представление
хотя бы об одном лишь механическом искусстве египтян порождают эти творения!
Денон подсчитал, что с нашими приспособлениями необходимы были бы миллионные траты лишь для того, чтобы переставить их с места на место), если посмотреть
на тройную аллею колоссальных сфинксов (одна из ее частей состоит из сфинксов
со звериными головами; она встречается со второй — со сфинксами, имеющими человеческие головы, и пересекает третью, сфинксы которой имеют головы баранов
и которая идет на целую милю от южных ворот храма в Карнаке до самого Луксора), — то поневоле бываешь охвачен чувством громадного величия этих памятников, оставляющего далеко позади всякое воображение нашего пустого и суетного
* Илиада, IX, 383.
Восемнадцатая лекция
309
времени. Однако не одно лишь внешнее, но внутреннее величие этих монументов
производит глубочайшее впечатление. Если отдаться ощущению пропорций и духовному выражению этого целого, то возникает чувство, что в этой до жути доходящей серьезности, в этом словно бы выводящем наш дух за его пределы величии
отношений — выказывается истинное величие того божества, которому здесь воздавались почести, что здесь поклонялись не какому-то обычному мифологическому
божеству, но действительно высшей сущности. Это то, что касается Амуна.
Второй образ, в котором представляется один бог, есть бог в момент экспансии,
разделения, напряжения потенций, бог в его демиургичесом распространении, где
он, однако, одновременно удерживает напряженные потенции вместе и в единстве.
Этот второй из умопостигаемых богов есть в египетской системе Пта (Phtha) (y греков Птах (Phthas), однако это только греческое окончание, что явствует из написания имени в греческом переводе надписи на розетке). Имя, которое ему постоянно
дают греки и которым называет его еще Геродот, есть Гефест; ибо именно Гефестом
он представлялся грекам благодаря своему демиургическому качеству. Гефест также и в греческих представлениях считается демиургической потенцией. Именно
он в строгом принуждении не позволяет разойтись порознь борющимся потенциям и удерживает вселенную в единстве. Однако Геродот, по всей видимости, решил
сравнить Пта с греческим Гефестом, созерцая изображение самого Пта. Он увидел
это изображение в храме бога в Мемфисе и упоминает его там, где ведет рассказ о неистовом разрушении персидским царем Камбисом (Kambyses) египетских святилищ
(завоевание Камбиса впервые нарушило счастье столь многие годы до этого существовавшего замкнуто египетского народа; Камбис, будучи приверженцем персидского забизма и безобразно почитаемых божеств, воспылал фанатической яростью
против изображений египетских богов); так вот, здесь* Геродот говорит, что Камбис
вошел в храм Пта и разразился громким смехом, глядя на его скульптуру. Она, по его
мнению, напоминала финикийские патеки (Patäken), изображения богов-хранителей, которые финикийцы обычно помещали в носовой части своих судов, а если бы
он никогда не видел этих последних, добавил он, то сказал бы, что она [представляет
собой] πυγμαίου ανδρός μίμησις15. изображение человека-карлика. Среди прочего на
одном из фризов храма в Эдфу, который можно видеть в «Description de l'Egypte»,
а также у Крейцера в сопровождающих его труд иллюстрациях, — на нем можно
увидеть такое изображение Пта, которое Крейцер очевидно неверно объясняет как
Тифона, Гирт (Hirt) же гораздо более правильно истолковывает как изображение
египетского демиурга, которое одутловатостью, припухлостью черт лица, а также
нижней части туловища при относительно малой высоте могло породить у Камбиса
Геродот, III, 37.
310
Вторая книга. Мифология
впечатление карлика и вызвать смех. Что же, теперь, касается причины столь странного сложения египетского демиурга, то оно весьма просто может быть объяснено
тем, что бог, который удерживает вместе мировые силы, уже устремившиеся к расхождению потенции, попросту не может выглядеть иначе. То, что демиург все еще
сдерживает в себе, есть первый turgor vitalis16, если позволить себе употребить это
физическое выражение, тургор (Turgor), само напряжение мировых сил, которое
находит свое выражение в тургесценции самого бога. И таким образом, теперь это
засвидетельствованное Геродотом видимое телосложение египетского Пта, в свою
очередь, служит доказательством правильности того объяснения, что Пта есть Бог
в своем распространении, в напряжении демиургических потенций, одним словом, — Бог в момент творения. Это то, что следует сказать о втором лице (Gestalt).
Третье лицо теперь есть вернувшийся из напряжения и противопоставления
потенций в первоначальное единство Бог, Бог — теперь уже не только сущностного (каким оно было положено в Амуне), но осуществленного единства. Далее, у нас
есть и третье имя. Третий, кого называют в числе этих интеллигибельных богов, есть
Κνήφ17 (это форма, которую употребляют для него Плутарх и Евсевий), а также Кнубис, Кумис, а у одного автора встречается также и Энеф. В том, что это лишь разные
формы одного и того же имени, нет никакого сомнения. В некоторых местах, однако,
а также в некоторых надписях, Кнеф кажется лишь другим именем Амуна. Так, напр.,
Плутарх говорит о жителях фиванской области: «Им неизвестны смертные боги,
но они знают того, кого называют Кнефом, который не был рожден (άγέννητος18)
и никогда не умирает»*. Я привожу эти слова, поскольку они наряду с прочим служат доказательством того, что мы совершенно верно и в соответствии с истинной
идеей объяснили тех богов, к числу которых относится Амун или Кнеф, — как иной
вид или порядок богов, нежели тот, к которому все еще принадлежат Осирис, Тифон или даже Гор. Все мифологические боги суть действительно ставшие боги, θεοί
19
γεννητοί , эти же высшие, умопостигаемые, суть вечные, неставшие (ungewordene)
и нерожденные (ungezeugte), точно так же как, наоборот, нерожденный бог, каким
называют Кнефа, равно могут быть постигаемы лишь в чистом рассудке; они не мо2
гут, подобно другим, мифологическим богам, быть порожденными ® для сознания
в результате процесса. Нерожденный бог есть, таким образом, в себе самом также
и умопостигаемый. В иероглифических письменах Энубис вместо фонетического —
или, как его называет Шамполлион, звукового — знака обозначается также и в виде
барана, который в основном считается символом Амуна. Другим известным символом Кнефа является безвредная для человека змея; согласно Геродоту *, она же является священным символом Зевса Фиванского, т. е. Амуна, и более того, такая змея
Об Исиде и Осирисе, 21.
Геродот, II, с. 74.
Восемнадцатая лекция
311
похоронена в его храме. Если теперь, таким образом, тождество Амуна и Кнефа не
вызывает никаких сомнений, то все же спрашивается, в каком смысле следует воспринимать это тождество. Ибо ведь третий бог, как возвратившийся к первоначальному единству, совершенно подобен первому, есть одно с ним, вместе с тем, однако,
не переставая быть третьим, а следовательно, также и отличным от него. Единство
присутствует в том и другом, в первом лишь еще не раскрытое, сокровенное, в третьем же — вновь возвращенное из состояния раскрытое™, восстановленное из разъединенности. И таким образом, это не могло бы помешать рассматривать имя Кнефа
одновременно как имя третьего из числа умопостигаемых богов, с чем согласуется
также и значение имени: от коптского nub, chnub = дух. Греки называют Кнефа преимущественно или исключительно αγαθοδαίμων21, добрый дух. Змея (называемая
Урайо) могла бы быть общим символом для того и другого; ибо змея может означать как нераскрытое, так и вновь свернувшееся единство. Ямвлих объясняет Кнефа
как — сам себя постигающий и понятия на самого себя обращающий, в себя самого
воспринимающий рассудок: что, следовательно, совершенным образом согласуется
с нашим объяснением. В одной объясненной Летронне египетско-греческой надписи
значится буквально: Άμμωνι ο και Χνοϋβι22, Аммону, который есть также и Кнубис,
что тоже вполне соответствует нашему объяснению.
Если, тем самым, показано естественное происхождение этой высшей теологии
египтян, то для нашего полного удовлетворения не хватает еще только внешних данных или определения времени ее исторического возникновения. Об этом, однако,
могут свидетельствовать лишь великие сооружения и архитектонические монументы. Это дает мне повод сказать кое-что о хронологии указанных монументов, ΝΒ.:
с точки зрения знаний, которыми мы обладали до последней экспедиции, результаты
которой еще не получены либо, самое большее, известны лишь фрагментарно.
Прежде бытовало общее мнение, что все великие монументы, воздвигнутые
в собственно египетском стиле и имеющие иероглифические надписи, должны были
быть воздвигнуты в одну эпоху — ту, что предшествовала завоеванию Египта Камбисом, и именно в соответствии с этим мнением последний египетский храм считался построенным до 522 г. до Р. X. Позднее, а именно в последние десятилетия, в связи
с исследованиями, к которым дали повод зодиакальные изображения храмов в Дендере и Эсне, после того как ученые были вынуждены признать, что эти последние
относятся не ранее чем к эпохе императора Тиберия, — сделалось позволительным
распространять доказанное в отношении одной части на все остальное, и теперь некоторые стали высказывать мнение, что великие храмы верхнего Египта могут относиться ко времени, не слишком удаленному от начала христианской эпохи. Теперь
стали считать, что эти великие храмы были воздвигнуты лишь в эпоху Птолемеев,
а все периоды египетской архитектуры охватывают собой лишь несколько столетий.
Вследствие новейших исследований, которыми мы обязаны в особенности Летронне
312
Вторая книга. Мифология
и Шамполлиону (открывшему фонетическое, т. е. звуковое значение большей части
египетских иероглифов), число сторонников того первого мнения, которое все храмы в египетском стиле объявляет построенными ранее завоевания Камбиса, заметно сократилось. Действительно, нельзя было думать, что народ, который приложил
столь много усердия к тому, чтобы выразить свою глубокую религиозность в памятниках, поневоле вызывающих чувство благоговения, и который, кстати, сам — под
персидским, а позднее под греческим и римским — владычеством, сумел сохранить
свою религию, свои обычаи? а отчасти также и свою свободу, — что этот народ со
времен Александра Великого вплоть до эпохи своего полного обращения в христианство на протяжении семи столетий не возвел уже более ни одного общественного,
религиозного здания. С другой же стороны, было столь же невозможно думать, что
среди великих, колоссальных монументов, руины которых существуют и поныне, ни
один не принадлежит великой эпохе Египта до Камбиса. Задача теперь заключалась
в том, чтобы изыскать средства к тому, чтобы отличить те здания, которые принадлежат древнему (чисто фараоновскому) Египту — от тех, которые относятся к позднейшей эпохе после Камбиса. Если теперь 1) открытие Шамполлиона в общих чертах
верно (в чем у меня нет никаких сомнений), если предположить, что 2) применение
его принципов, если и не абсолютно везде, то в целом, — также заслуживает доверия,
то в отношении великого, посвященного Амуну храма в Фивах можно вне всякого
сомнения сказать, что он относится к героической эпохе египетской истории и что
храмы в Карнаке, Луксоре, Гурнахе (Gurnah), Мединат Абу, Мемноний, так называемое надгробие Осимандия (Osymandyas), посвященный Амону-Энубису храм в Элефантине и часть построек в Филе (Philae) хоть и были отчасти украшены и, возможно, достроены лишь при Птолемеях, однако по своей планировке и основной массе
зданий относятся ко времени великого Гесостриса и Гесостридов, а отчасти даже и ко
времени предшествующих династий, от коих, кстати, Гесострис происходил по прямой линии. Основатель храма Аммона в Элефантине — предшественник Гесостриса,
Аменоф (Amenoph): имя, которое означает ничуть не менее чем «благословенный
Амуном». С него начинается героическая эпоха Египта; он также был завоевателем,
однако его завоевания лежали в другой стороне от завоеваний Гесостриса; руины
Салеба сохранили его изображение: на юге, в ста часах хода от Филы, пограничного
города древнего Египта, ему показывают пленников из числа покоренных народов.
Рамзес, дед Гесостриса (который и сам, как явствует из Тацита, носил это имя) зовется сперва Мой Амун = Возлюбленный Амуна, что позднее закрепилось в качестве
постоянного прозвища Гесостридов. Мы имеем полное право предполагать, что великие походы и завоевания Гесостриса, охватывавшие собой Эфиопию, Сирию
и большую часть западной Азии, были связаны с великим религиозным движением.
Действительно, как все имеющие отношение к Аммону монументы несут на себе отпечаток гигантского величия, точно так же кажется, что та духовная религия, которая
Восемнадцатая лекция
313
была дана вместе с Амуном и в той же мере являла собой прорыв за пределы мифологические, в какой она возвышалась над домифологической религией (забизмом),
должна была словно бы одним могучим натиском вывести египетский народ за пределы его естественных границ, после того как он ограничился и обособился в себе
самом, избавившись от всех чужеродных элементов, что произошло еще в эпоху Гесостриса. Ибо, согласно в высшей степени достопримечательному сообщению, которое сохранил для нас Иосиф (Josephus) в своих книгах против Апиона, около
1800 года до Р.Х. через Истм Суэцкий в нижний Египет вторглись арабские орды,
кочевники, носившие имя Гиксосов, которым удалось дойти до самого Мемфиса
и которые продержались здесь — по одним, более ранним подсчетам, — более
200 лет, по другим же, позднейшим, якобы хронологическим, данным, — даже
900 лет, основав собственную династию, не зависимую от египетской, продолжавшейся в Фивах. Что бы теперь мы ни думали о строго исторической истинности таких преданий, в любом случае эти гиксосы были кочевниками, почитателями материальных богов, звездопоклонниками, точно так же как они были теми, кто основал
в нижнем Египте город Солнца, Гелиополис. Изгнание гиксосов из Египта — полное
выдворение всех препятствующих развитию Египта элементов — фиванской династией было, по всей видимости, либо одновременным этому высшему религиозному
развитию египетского сознания, либо непосредственно за ним следовало. Лишь после этого изгнания Египет смог полностью укрепиться в самом себе и как бы сконституироваться. Многие из прежних толкователей под этими арабскими пастухами,
которые овладели нижним Египтом, понимали самих детей Иакова, которые во времена Иосифа пришли в Египет со своими стадами. Однако гораздо более вероятно,
что именно господство гиксосов в нижнем Египте обеспечило израэлитам вход
в Египет, где они также продолжали жить как кочевники. Ибо при том отвращении
к кочевой жизни и ко всем неземледельческим народам, которое составляет главную
черту в египетском характере, нелегко представить себе, чтобы какой-нибудь фараон пустил их в свою страну. (Именно дочь жреца в Оне (On), т. е. в Гелиополисе дает
египетский царь в жены Иосифу*.) Напротив, они именно поэтому должны были
терпеть преследование и угнетение со стороны фиванских царей, победителей гиксосов. На такое изменение обстоятельств указывается во второй книге Моисея, где
сказано: «В Египте восстал новый царь, который не знал Иосифа». Похоже, были
сделаны попытки принудить их к работам по строительству городов, чтобы отучить
их от кочевой жизни. Определенно сказано: дети Израиля были мерзостью для египтян (в точности то же самое выражение использует Геродот, когда говорит об отвращении египтян к пастухам), и они с жестокостью принуждали сынов Израилевых
* Быт. 41,45.
314
Вторая книга. Мифология
к тяжелым работам над глиною и кирпичами. Мимоходом я замечу здесь, что
в «Monumenti civili» Росселина на изображении 45 есть памятник эпохи царя Тутвосиса I, где действительно можно видеть евреев, занятых изготовлением кирпичей.
Ибо евреев можно легко распознать даже и в глубокой древности; в кабинете древностей в Мюнхене хранится мумия, вне всяких сомнений принадлежащая фараону;
на его подошвах изображены евреи с такой физиогномической правдивостью и красноречивым сходством, что их сразу же можно распознать как именно евреев. Наконец, когда ничто уже не помогало, евреев просто изгнали из страны. Обстоятельства
этого изгнания или этого исхода израэлитов из Египта совершенно по-разному излагаются ими и их врагами (в чем можно убедиться, читая Манефона и Тацита), однако основа и наиболее главная часть этого события все же остается неизменной.
С того времени, когда, наконец, также и нижний Египет был полностью освобожден
от всех остатков кочевых племен, начинаются столетия собственно величия Египта,
и, безусловно, к этой эпохе всецело преодоленного религиозного прошлого относятся также и указанные гигантские сооружения и памятники, посвященные духовной
религии. Свою главную цитадель эта религия имела в фиванской земле. Весьма сомнительным, однако, вместе с тем и весьма достопримечательным является различение верхнего, среднего и нижнего Египта в отношении архитектонических памятников. Так, например, достопримечательно, что последний храм Аммона встречается
еще на границе Египта в Элефантине. Однако как Аммон есть великий бог фиванской земли в Фивах, так Пта свой главный храм имеет в Мемфисе, ибо мне, по меньшей мере, не известно ни одного храма Пта, который бы лежал в Египте выше. Правда, поскольку большие храмы в Фивах состоят не из одного-единственного здания,
но из множества связанных между собой огромными дворами и галереями, то эти
памятники вполне могли быть посвящены религии Аммона вообще и, тем самым,
следовательно, — всей Триаде. В нескольких часах к югу от Мемфиса, который представляет собой резиденцию египетских царей в позднейшую, уже более историческую эпоху, — так же, как ею были Фивы в эпоху героическую, — Нил разделялся на
два рукава и образовывал дельту, чья блестящая столица Саис в эпоху Псамметиха
(Psammetichus) стала резиденцией египетских царей. Там, в частности, находился
знаменитый храм Нейт (Neith), которая также относится к кругу только умопостигаемых богов, что я покажу позднее. Именно там, как уже упоминалось, на идеально
круглом озере, по рассказу Геродота, в мистерийных представлениях ночной порой
разыгрывались страдания и смерть Осириса. Неподалеку от Мемфиса неожиданно
обнаруживается не известная в верхнем Египте форма колоссальной архитектуры. Я
имею в виду пирамиды. Хотя благодаря путешествиям Гау (Gau) и Каиллиауда (Cailliaud) и стало известно, что в Нубии поблизости от Ассуана, где находятся руины
Мероэ, древней столицы цивилизованной Эфиопии, и под Баркалом в верхней Нубии (Hochnubien) также можно найти пирамиды, однако они все же имеют гораздо
Восемнадцатая лекция
315
меньшую высоту и площадь, нежели те, что стоят вблизи Мемфиса, и о них мы имеем
все основания предполагать, что они были воздвигнуты не ранее чем во времена
Птолемеев, ибо именно здесь существуют также и иные относящиеся к Птолемеям
постройки . Пирамиды вблизи Дшизе (Dschizeh) и Саккара (Saccarah), следовательно, представляют собой прообраз, а те маленькие пирамиды выше Катаракты (Katarrhakten) и в Нубии суть лишь подражания цветущему искусству**. Несмотря на то
что благодаря последним исследованиям относительно весьма многого в Египте достигнута гораздо большая ясность, пирамиды до сих пор сохранили свою загадочность. Ничего не было бы достигнуто, если бы мы и теперь имели действительные
причины объяснять их как большие гробницы. Ибо тем самым еще отнюдь не была
бы объяснена очевидно не лишенная значения и безусловно знаменующая собой
какой-то момент религиозного сознания, форма (огромную величину, возможно,
кто-нибудь мог бы объяснить как подражание горам в верхнем Египте, которые отсутствуют в нижнем). На такую особую связь указывает даже повествование Геродота. Ибо первая и самая большая из этих пирамид, согласно его рассказу, построена
царем Хеопсом, который первым закрыл все храмы и запретил народу приносить
жертвы; точно так же поступил его преемник Чефрен (Chephren). Оба они, однако,
в такой степени навлекли на себя народную ненависть, что их имена вообще ни разу
не упомянуты в этих сооружениях***. Такое закрытие храмов вкупе с запретом на принесение жертв — выглядят как реакция на политеизм и его обряды. Эту реакцию,
в свою очередь, можно было бы мыслить двояко. Ее можно объяснить, во-первых,
как попытку ввести тот высший монотеизм, который в верхних областях Египта возвысился над народной религией, также и в нижнем Египте, что натолкнулось на народное сопротивление. В этом случае пирамида могла бы представлять собой именно символ этого самого высшего монотеизма, в пользу какового предположения
можно было бы привести лежащую в основе их конструкции четверичность, возникающую из потенций Тифона, Осириса, Гора и мыслящегося над ними все-единого
Бога (три первых потенции составляют базис, Единый же Бог есть их вершина). Ибо
четверичность также и в этой умопостигаемой божественной системе (хоть мы до
сей поры и развили ее лишь до тройственности) является господствующей, что явствует из восьми высших богов Геродота, которые, если половину из них считать
женскими, выказывают в своей основе четверку. Пирамида есть первое тело, первый
Даже в пустыне к югу от Мероэ можно найти колонны, в которых нельзя не отметить смешения
греческого и египетского стилей. Связанные с некоторыми из этих пирамид пилоны указывают на
синкретизм и подражательность.
Это предположение, насколько я знаю, всецело подтверждается новейшими путешественниками.
*** Геродот, II, 124; 127; 128.
316
Вторая книга. Мифология
солидум, и если в древних философиях чисел точка сравнивалась с единицей, линия
рассматривалась как порожденная двойкой (Binarius), плоскость — тройкой (Тегnarius), то большое значение четверки (Quaternarius) происходило именно из того,
что она рассматривалась как бы в качестве первого телесного числа, ибо заданными
четырьмя точками производится первая из пяти правильных фигур, пирамида. Таким образом, вполне можно было бы сказать, что, как согласно ранее сказанному, те
обелиски, которые представляли собой маленькую пирамиду, были посвящаемы
преимущественно Гору, — точно так же пирамида соответствует этому высшему
единству умопостигаемых богов. Однако, сколь бы ни была желательна в том или
ином отношении подобная взаимосвязь, все же очень многое, в свою очередь, говорит против нее. Что, в частности, особенно бросается в глаза, есть: а) абсолютное,
по-видимому, равнодушие египтян по отношению к этим огромным массам, которые сами они рассматривали как нечто чуждое их стране, как нечто, о чем они неохотно говорили и по поводу чего не любили давать объяснения; это просматривается на всем протяжении рассказа Геродота, и возможно, что именно в этом
и заключается объяснение той темноты и таинственности, которая окружает пирамиды по сей день; Ь) Геродот приводит еще то, что строителю первой и самой большой из этих пирамид доводилось торговать своей дочерью ради денег* — здесь мы
внезапно словно бы переносимся в Вавилон; с) что люди, живущие возле пирамид,
не хотят называть по именам царей, которые их воздвигли (и сама эта экзекрация
указывает на нечто чуждое), но вместо этого они называют их именем пастуха Филициона, который в этой местности пас свой скот**. Если собрать все это воедино, то
возможно, менее странным нам покажется слышать утверждение о том, что пирамиды имеют отнюдь не египетское происхождение, но представляют собой произведения какого-то восточного народа, который в весьма раннюю эпоху на более или менее длительное время подчинил своей власти нижний Египет, и что, так или иначе,
пирамида имеет на Востоке свой прообраз. Так называемый храм Белоса в Вавилоне
был пирамидой. Так что, в конечном итоге именно так называемые цари гиксосов
и были теми, кто дал начало этим постройкам. На такое предположене о гиксосских
царях действительно отважился Геерен (Heeren); его основным аргументом, однако,
является грубость этих построек, как если бы они были значимы лишь благодаря
своей массе, а отнюдь не форме, и как если бы никто сегодня не пытался ответить на
вопрос о том, каким собственно архитектоническим образом было осуществлено их
строительство. Однако после недавно произведенных хронологических исследований такое предположение, конечно, больше не имеет права на существование.
Геродот, II, 126.
Там же: имя Филицион легко могло бы напомнить Pelitschim — филистимлян, хананейский народ.
Восемнадцатая лекция
317
Строительство пирамид в результате этих исследований следует относить к периоду
до эпохи гиксосов. Здесь, таким образом, еще есть загадки, решения коих мы не без
нетерпения ожидаем от результатов последней, только что завершившейся, египетской экспедиции и, в частности, прежде всего от третьей части нового труда Бунзена23 «Место Египта в мировой истории».
Если даже рассмотрение египетских памятников не позволило нам до сих пор
получить полного понимания на предмет истории возникновения этой высшей
духовной религии, то вместе с тем ничуть не менее ясно, что те боги, которых мы
назвали умопостигаемыми (интеллигибельными), не могут быть приведены к одному уровню с другими мифологическими божествами. Кроме этих монументов существуют, однако, собственно исторические свидетельства, среди которых также
и здесь прежде всего стоят свидетельства верного Геродота. Таким образом, дальнейшей задачей будет являться привести развитие египетской системы богов в соответствие с тем, что в частности сообщает нам Геродот о различиных системах богов,
и этим мы теперь и займемся.
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Геродот неоднократно говорит о различных порядках или поколениях египетских богов, отмечая о том или ином боге, что он принадлежит к первому или к последнему порядку. В одном месте он с определенностью различает три рода (Gattungen) богов, ибо говорит: Пан, который у эллинов относится к самым молодым богам,
у египтян является самым старшим, т. е. среди тех трех, которых он называет здесь
одновременно и в одной взаимосвязи, а именно — Пана, Геракла и Диониса. Сперва
историограф говорит только: он старше, чем Геракл и Дионис; затем, однако, он говорит: Пан есть один из восьми первых богов, Геракл относится к двенадцати, которые появились позднее, Дионис же (т. е. Осирис) причисляется к роду тех, которые
происходят от этих двенадцати . Тот теперь, кто утверждает, что понял совокупное
египетское богоучение, должен иметь возможность дать отчет 1) относительно этого
различия божественных порядков, которое, как мы видели, Геродотом определяется
как различие возрастное; 2) он должен быть в состоянии определить вид богов, который соответствует каждому из этих трех порядков, и должен уметь сказать о каждом
из отдельных, известных поименно божествах, — к какому из трех порядков каждый из них относится. Давайте посмотрим теперь, выдержит ли этот экзамен наше
исследование.
Итак, под восемью древнейшими, а потому древнейшими богами вообще — не
могут, пожалуй, подразумеваться никакие иные, кроме умопостигаемых, вечных, нерожденных богов, θεοί αγέννητοι1. Ибо ведь ничто не может быть древнее, чем вечное или нерожденное, которое, собственно, совершенно не совместимо со временем,
а значит — существует вне его. Однако слова Геродота о восьми древнейших богах
всеми, видимо, до сих пор понимались так, будто бы, согласно Геродоту, эти древнейшие боги были одновременно и теми, которые первоначально господствовали в Египте. Этого, однако, Геродот не говорит. У него нигде и ничто не свидетельствует о том,
что он называет этих богов древнейшими, имея в виду их возникновение в сознании,
ибо об этом у него речь вообще не идет. Мне с моими отличающимися воззрениями
* Геродот, II, 145; ср. 43; 46.
Девятнадцатая лекция
319
необходимо быть готовым в особенности к возражениям тех, кто всякую мифологию желает объяснять из распада некогда исторически существовавшего монотеизма. В этом случае в учении Аммона мы имели бы такой монотеизм, из которого лишь
позже возникло все остальное богоучение египтян. Тот, однако, кто понимал бы это
так, — кто предположил бы, что те боги, которые по своей природе являются предшествующими всем, также и по своему субъективному возникновению представляют собой наиболее древних, — тому следовало бы хорошо подумать также и о том,
как ему затем с высоты этих нерожденных, а значит, чисто умопостигаемых, богов
вновь спуститься к тем, очевидно порожденным в результате процесса, и в этом
смысле естественным, богам. Он был бы вынужден вместе с Крейцером, который
позволил себе обмануться этой видимостью в понятии древнейших богов, принять
его теорию эманации или инкарнации, согласно которой сознание не поднимается
от низшего к высшему, но наоборот, уже познанное высшее и божественное последовательно нисходит в материальное. Однако всякий ощущает неестественность такого хода развития, такого длительного падения, такого вечно продолжающегося
спуска от высшего к низшему. Древнейшие боги египетской системы, следовательно,
поскольку они по своей природе являются первыми, т. е. высшими, поскольку не являются возникшими, — не являются, таким образом, и наиболее ранними по ходу
исторического развития; но здесь верно то, что верно также и в некоторых иных
случаях, а именно: то, что есть высшее, а значит, по природе своей первое, по своему
познанию есть последнее, позднейшее. Ошибка в предположении, что эти интеллигибельные боги, т. е. напр., Амун, бог первоначальной сокровенности, — что они также и исторически были наиболее древними богами египетского представления, является ничуть не меньшей, чем то утверждение, будто хаос (очевидно, философское
понятие и равным образом — лишь умопостигаемый предмет), поскольку теперь он
поставлен в начало греческой теогонии, был также и первой мыслью греческого сознания. Как здесь то, что представляется в данный момент наиболее древним, по
своему возникновению является, напротив, самым недавним, — точно так же обстоит дело и с египетскими богами самого старшего рода, к числу которых я, безусловно, отношу прежде всего те три образа, понятия которых нами уже развиты. Ибо
несмотря на то что Геродот, напр., нигде не говорит определенно, что в первую очередь Амун причисляется к восьми первым богам, но все же имя «фиванский», которое он дает Зевсу, и то, что в нем он признает высшего бога египетской системы вообще, каковым тот мог быть, лишь являясь главным среди умопостигаемых богов,
и кроме того — свойства тех богов, которых Геродот относит ко второму и к третьему порядку, — все это не оставляет сомнений в свойствах тех божеств, которые он
обозначил принадлежностью к древнейшим. В частности, правда, он говорит о Пане,
что тот не только древнейший из тех трех, которых Геродот называет вместе с ним,
а значит, является более древним, чем египетский Геракл и египетский Дионис,
320
Вторая книга. Мифология
но что он принадлежит также к восьми первым вообще. Если же теперь Геродот
в том месте, которое мы до сих пор имели перед нашими глазами, хоть и в самых
общих чертах, говорит о Пане как об одном из первых египетских богов, то в другом
месте он говорит, что тот пользуется преимущественным почитанием в мендесинской области (mendesisches Gebiet), у мендесинцев*, а значит, также безусловно почитается как один из первых. Здесь я должен отметить, что вообще разделение Египта на отдельные области, называемые νομοί2, было религиозным в ничуть не меньшей,
а может быть, даже и большей степени, чем политическим. Каждый такой ном, напр.,
почитал преимущественно одно животное, или, собственно, явившееся или всегда
являющееся в облике определенного животного божество; случалось даже так, что
животное, во всех других номах бывшее предметом религиозного отвращения — такое, как крокодил, — в одном конкретном пользовалось религиозным почитанием.
Если мы представим себе то хаотическое состояние, в которое должно было быть
приведено сознание, когда внезапно была разрушена преграда, до тех пор препятствовавшая возникновению божественного множества, если мы поразмыслим о том,
что даже если, как мы, конечно, предполагаем, сознание каждого народа в целом
было одним и тем же, т. е. в целом соответствовало одному и тому же моменту теогонического процесса, что несмотря на это все же не в каждой части народа сознание
могло иметь вполне одно и то же отношение к одной и той же потенции, так что,
напр., одна часть ощущала себя уже более свободной от привязанности к Тифону,
в то время как другая еще глубоко чувствовала в себе такую привязанность, — тот,
кто сможет должным образом представить себе такое, поймет, что религия Египта
никоим образом не могла выказывать той степени сплошного единообразия, которое скорее согласовывалось с прежним, еще более простым, принципом. Напротив,
если это выражение всего лишь не желать воспринимать преувеличенно, то даже
исторически очевидно, что каждая часть страны, каждый ном, в свою очередь, имел
свою особую религию, свои собственные религиозные обычаи, свои предметы особого почитания — без того, однако, чтобы тем самым снималось единство религии
в целом. Поэтому между двумя указанными местами Геродота нет никакого противоречия. Пан мог быть особой, как бы провинциальной формой представления одного из великих богов. С этим вполне согласуются полученные совсем иным путем
результаты исследований Шамполлиона, который приводит доказательства, из коих
следует, что Пан отнюдь не абсолютно приравнивался к Амуну, но лишь мыслился
как Амун в определенной форме, в определенном образе и выражении, а именно —
он считался Амуном в состоянии порождения, прокреирования (Proereiren), творения. Однако так мыслимый Амун есть Пта, о котором мы уже ранее сказали, что
Геродот, II, 46.
Девятнадцатая лекция
321
в нем представлялось демиургическое, творящее свойство как тургесценция. Провинция Мендес лежит в так называемом Мендесинском устье Нила в нижнем Египте. Туда, как мы уже отмечали, преимущественно распространился культ Пта, демиургического бога, тогда как в Фивах, собственно колыбели этой высшей системы
богов, преимущественно почитался верховный бог Амун*. В Фивах даже по одним
лишь руинам можно убедиться в силе, в необычайном могуществе первой идеи.
Здесь все несет на себе печать неподвижности. Эти массы и пропорции рассчитаны
на то, чтобы производить впечатление вечного, от века сущего и всегда пребывающего и словно бы даже упразднять границы пространства и времени для человеческого воображения. Ничего подобного этому уже нельзя увидеть в нижнем Египте,
если не считать таковыми пирамиды, касательно которых я убежден, что они относятся к гораздо более древнему времени, нежели фиванские творения, и что они,
возможно, являются вообще самыми древними монументами на Земле. Правда, от
храмов и построек Мемфиса до наших дней дошли лишь руины, которые ничего
определенного не позволяют сказать об их архитектоническом характере. Однако не
может ли само это почти полное уничтожение служить свидетельством того, что тамошние монументы никоим образом не носили того характера величия и почти вечной устойчивости, каким обладали постройки в Фивах, которые смогли устоять как
под воздействием времени, так и под атаками варваров? Если все в этой земной жизни слабеет со временем, если высокая серьезность есть тот настрой души и духа, который большая часть человечества выносит и терпит лишь краткое время, то нам не
следует особенно удивляться, если и та торжественная серьезность, которой проникнуты все памятники Фив, не сделалась настроением египетского народа навсегда. Уже одно то забвение, которому были преданы Фивы после перенесения столицы
государства в Мемфис, указывает на изменившееся религиозное настроение; и отнюдь не будет слишком рискованным предположить, что культ Пта, который по
природе своей больше склонялся к чувственному и, тем самым, легче соответствовал чувственной направленности прочих религиозных представлений египетского
народа, в известный период египетской истории получил перевес над культом
Амуна.
В высшей степени достопримечательным после такого предположения показалось мне сообщение одного факта, которым я обязан автору уже упомянутого
большого и богатого труда «Место Египта в мировой истории», господину Бунзену,
сообщение о том, что на многих памятниках, вероятно, вместо бывшего там прежде Khem (бога Хеммиса или Панополиса, т.е. того бога, которого Геродот называет
Панополис (Хеммис) также и в верхнем Египте. Ср. место у Стефана Византийского πανός (Champoll. Г Egypte s. I. Ph.y I, p. 258).
322
Вторая книга. Мифология
Паном) было проставлено имя Arun (так иероглифически пишется «Аммон»)*. Это
очевидно свидетельствует о наступившей с течением времени реакции против культа Пана и подтверждает то предположение, что культ Пана представлял собой лишь
вырождение культа Пта, который сам был всего лишь Аммоном, а именно — Аммоном в состоянии прокреации, творения. Лишь с приходом времени птолемеев и римских цезарей, т. е. в ту эпоху, когда человеческое сознание вообще вновь устремилось
назад к древним религиям, храмы Амуна начали заново украшаться и обогащаться
новыми творениями искусства.
Я, таким образом, считаю себя вправе предположить, что культ Пана в Египте
следует рассматривать лишь как особую ветвь культа Пта, и что поэтому Пан никоим образом не было именем особого, отличающегося от трех великих главных богов,
божества.
Однако же Геродот определенно говорит, что числом древнейших египетских
богов было восемь. Отсюда, следовательно, явствует, что нам в любом случае придется добавить к числу великих богов также и других. Спрашивается, каких именно?
Сперва, безусловно, должно следовать некое четвертое божество. Здесь нам необходимо подумать вот о чем. Между этими тремя образами — богом обращенности
вовнутрь, сокровенности, богом экспансии и богом, возвращающимся из экспансии
в свое единство, — не существует никакой субстанциальной разницы; это всегда
лишь один и тот же бог, который являет себя мысли в трех аспектах, в трех ракурсах.
По своей субстанции во всех трех существует один и тот же бог, и он, следовательно, не мог определяться как нечто четвертое вне их, ибо он есть субстанция каждого из них. Напротив, однако, поскольку их отличие не являлось субстанциальным,
но возможным лишь в понятии или в сознании, то такое — все же различающее
их в субстанциальном единстве — сознание было отличным как от субстанции, так
и от каждого из различаемых в отдельности, являя собой действительное четвертое, которое, будучи положено в самом боге как имманентный, присущий ему дух
и одновременно возвышаясь над тремя формами, а также над субстанцией, — должно было быть определено как наиболее духовное божество. И это наиболее духовное
действительно может быть найдено в образе, относительно которого не может быть
сомнений в принадлежности к числу восьми высших богов, в египетском Гермесе —
или, как называли его сами египтяне, Тоте, Тойте или Тауте, — в боге дискурсивного,
т. е. аналитического и различающего мышления, боге не только субстанциального,
но осознанного, т.е. одновременно вмещающего в себе большинство образов, единства бога.
Уилкинсон (Wilkinson), изучая древнейшие монументы, отмечает, что иероглифическое и фонетическое имя Амуна постоянно замещало собой другие имена, которые он уже не мог различить.
{Materia hierogl., p. 4).
Девятнадцатая лекция
323
Гермес был единственным связующим элементом трех божественных образов,
который мог быть представлен как некое четвертое, пребывающее вне субстанциального единства бога (каковое единство, однако, не могло мыслиться как отличное от трех указанных образов). Гермес был, как говорит Ямвлих, общим для всех
жрецов богом: θεός άπασι τοις ίερεΰσι κοινός3, т. е. общим для всех сознанием; он был
равен сознанию этих трех богов, будучи в качестве сознания = субстанции, которая
есть их единство. Из уст Гермеса священники восприняли свою мудрость и свои священные книги. Он был историографом богов, основоположником и изобретателем
членораздельного (articulirten) языка, грамматики, а тем самым — и учителем самого
аналитического мышления, изобретателем письма, арифметики, астрономии, религиозного зодчества и теснейшим образом связанной с ним музыки, и даже врачебного искусства, которое в Египте также было уделом священников. Этот причисляемый
к интеллигибельным богам Гермес носил имя Гермеса Высочайшего и Трижды Величайшего (Έρμης τριςμέγιστος4), как его, очевидно, из уст самих египетских священников, называет позднейший автор известных герметических книг. Это обозначение
его как Трижды Величайшего есть еще одно, новое доказательство верности нашего
воззрения. Трижды Высочайший означает, что он трижды полагает и постигает высшего бога, поскольку он есть единственный элемент, все еще связующий даже и эту
высшую умопостигаемую тройственность, есть всем им присущее высшее сознание,
которое также и в различных как таковых удерживает абсолютное, т. е. субстанциальное единство Бога, и которое, наоборот, мысля единство, тем не менее различает
эти три образа.
Было бы, безусловно, не лишним сделать несколько замечаний также и об упомянутых герметических книгах. То, что египетские священники обладали священными книгами и равно являлись владельцами всей мудрости вообще, можно доказать
уже из Геродота, которому из этих книг они читали по меньшей мере исторические
повествования . Существующие теперь под этим именем книги, безусловно, имеют
уже христианское происхождение, и содержание их наполнено множеством даже откровенно гностических и иных идей той философии, что родилась в Александрии
из слияния древней зороастрийской, египетской и восточной мудрости вообще
с греческой наукой. Это отнюдь не мешает с известной осторожностью принимать
их, — наряду с писаниями одного из позднейших неоплатоников, Ямвлиха, — в качестве фактов, однако необходимо остерегаться считать (как это произошло в Германии, а теперь происходит и со стороны французских писателей) ту философию,
которую они привносят в египетские идеи, истинным объяснением этих идей. Ибо
их философия никоим образом не поднимается выше понятия позднейших систем
Также и Плутарх, как мы видели, говорит о τοις σοφωτέροις των ιερέων (наимудрейших из жрецов)
(греч.).
324
Вторая книга. Мифология
эманации. В результате этих эманационных учений указанные умопостигаемые боги
должны теперь представляться им как те, от которых эманируются все остальные;
таким образом они превращают естественную и реальную взаимосвязь египетской
системы богов в только идеальную и метафизическую.
Теперь, таким образом, вдобавок к тем трем умопостигаемым богам мы нашли
также и четвертую потенцию — единственную, которую кроме них можно было себе
еще помыслить. Ибо кроме них в качестве истинно четвертого невозможно помыслить себе ничего, кроме присущего им, пронизывающего их все и, тем самым, и не
только субстанциально, связующего их, сознания.
После того как нами найдена четверка, для нас не будет представлять большой
трудности перейти от нее к восьмерке. Ибо общей формой для всей мифологии является сочетание каждого мужского божества с женским. Если, таким образом, мы
теперь представим, что наших четырех умопостигаемых богов сопровождало такое
же количество женских сущностей, то искомая восьмерка будет найдена. В том же,
что среди умопостигаемых богов находились также и женские сущности, не оставляют сомнения по меньшей мере два образа. Во-первых, египетская Хатхор, которую греки называют египетской Афродитой. Известно, насколько высоко ставили
греки свою Афродиту и насколько глубоко в древности они помещали ее; известно,
что очень высоко ее чтили, напр., в Самофракии. Все атрибуты Хатхор, едва лишь
мы знакомимся с ней, ставят ее над Исидой, с которой мы более всего могли иметь
склонности сравнивать ее и с которой, на свой лад, отождествляет ее также и Крейцер*, поскольку у него отсутствует понятие градации и последовательности появления потенций. Хатхор в египетской теологии означает сумрак, сокровенность и слабость еще не вышедшего из себя бога, το άγνωστον σκότος5, что они ставят в начало
всех вещей. Поэтому ее вполне можно было бы мыслить как женское божество, параллельное еще сокровенному богу, Амуну; согласно некоторым памятникам, она
изображается как возможность, стоящая между богом в сокровенности и богом явленым, — возможность, побуждающая бога к открытию. Танцующая с тамбуринами
в руке, она напоминает ту ветхозаветную поэп6, о которой сказано: Она играла пред
Богом, когда он полагал устои Земли**. Вторым женским образом, который следует
отнести к числу интеллигибельных богов, является Нейт в Саисе, которую греки
сравнивают со своей Афиной. Однако о том, какому именно богу была подчинена
Нейт в качестве соответствующего женского божества, я сейчас судить не берусь;
достаточно будет сказать, что она также относится к числу умопостигаемых богов.
Если, таким образом, мы и не в состоянии назвать по именам всех восемь древнейших богов Египта, то все же показано, какие из нам известных относятся к их числу,
* 1,519.
** Притчи 8, 30.
Девятнадцатая лекция
325
и здесь же выяснилось, что к ним принадлежат именно те, которых в другом отношении мы имели причину назвать θεοις νοητοίς7.
Второй по древности божественный порядок, согласно Геродоту, состоит теперь
из двенадцати богов, о которых мы не знаем ровным счетом ничего, кроме того что
Геракл относится к их числу, а Осирис, т. е. Дионис, — нет; а значит, к этому числу
точно не принадлежат также и очевидно современные Осирису боги. Как же нам следует определить этих двенадцать богов? Они уже помещены в число умопостигаемых
(infra eos positi), однако же они не те, к которым относится Осирис. Что может быть,
таким образом, естественнее, чем думать, что они являются богами непосредственного прошлого, непосредственно Осирису, Исиде и Гору предшествовавшей эпохи
египетского сознания? Если Тифон, Осирис и Гор ознаменовывают собой тот момент
египетского сознания, в который решалось, где данное сознание обретет свое место во всеобщем теогоническом движении, если египтянин становится собственно
египтянином лишь с возникновением учения об Осирисе и Горе, то из этого вовсе
не следует, что он не был причастен ко всеобщему мифологическому прошлому, что
египетское сознание, закрепившись таким образом в этом моменте мифологического процесса, всецело утратило воспоминание о прежних моментах. Эти двенадцать
богов, таким образом, суть те, чьим дальнейшим развитием и определением являются именно Тифон, Гор и Осирис. Как эллин (который в рамках мифологического процесса высказался лишь в самом его конце), завершая свою божественную систему,
сохранил в своей теогонии тех богов, что населяли собой его прежнее сознание, в качестве моментов прошлого (отнюдь не имея при этом намерения останавливаться
на них), — точно так же поступил и египтянин. Египетская мифология как таковая
началась, следовательно, лишь в тот момент, который обозначен Тифоном, Осирисом и Гором; в этом смысле также и мы начали наше изложение именно с них, однако
самим им в египетском сознании предшествовало некое прошлое в лице тех богов,
которые также и в египетском сознании шли перед ними, хотя это сознание не решилось в их пользу и не сделало на них остановки.
Здесь мы, по меньшей мере, не затруднимся назвать несколько имен из этого
древнего мира богов, который в египетской мифологии представлен как только прошлое. Осирис и Исида — оба являются потомками египетских божеств, которых
греки (напр., Плутарх) определяют как Кроноса и Рею. (Рея была супругой Кроноса
в греческой мифологии.) Согласно же нашему изложению кронический момент был
для египетского сознания непосредственным прошлым, и мы еще ранее показали,
что египетский Тифон в действительности есть не что иное, как уже более определенный, ближайшим образом ограниченный Кронос, Кронос, в коего уже угодил
луч высшего бога; и если египетское сознание в свое прошлое, до Тифона, помещает
Кроноса, то не будет недостатка и в Геракле, и мы, вероятно, можем теперь с еще
большей уверенностью предположить, что финикийскому и греческому Гераклу
326
Вторая книга. Мифология
в самом египетском сознании соответствовала аналогичная потенция; равно как
и то обстоятельство, что Геродот помещает Геракла в число двенадцати (средних) богов, в свою очередь, может служить доказательством того, что мы не ошибаемся, когда под двенадцатью богами понимаем тех, которые в египетском сознании соответствовали эпохе Кроноса. Это число могло быть легко увеличено благодаря открытию
Шамполлиона, который в результате своих иероглифических изысканий смог явить
нам не только египетских Кроноса и Рею, но также и иных, безусловно относящихся
к этой категории, богов; и если бог Солнца и играет значительную роль, то все же
и его следует рассматривать как не более чем реминисценцию некоторой прежней
эпохи. Достопримечательно, что и Геродот говорит о двенадцати лишь то, что они
возникли позже восьмерых, не говоря, однако, что они от них также и происходят,
о последних же (Осирисе и т.д.) утверждает, что они происходят от тех двенадцати*.
Что же, теперь, касается самого младшего порядка богов, то Геродот, причисляя
египетского Диониса к самому младшему, третьему роду, — не оставляет нам сомнений в том, каких именно богов следует отнести к данному порядку. Я должен лишь
отметить, что эти относящиеся к третьему порядку боги — если в последнем обобщении египетской мифологии они и представляются как самые младшие — должны, тем не менее, рассматриваться как первые собственно египетские, ибо непосредственно им предшествующие (боги второго порядка) в собственно египетской
теогонии приняты лишь в качестве прошлого; но что, однако, боги первого порядка, которые становятся известны лишь в конце, и в этом смысле являются самыми
младшими, ставятся в самое начало лишь в том смысле, в каком также и в греческой
теогонии ставится в начало хаос: без того, впрочем, чтобы кто-либо представлял
себе, что греки действительно исходили из этого понятия (что и было нами выше
показано).
По именам из этих богов третьего порядка нам известны Тифон — которому
соответствует Нефтис, Осирис — которому соответствует Исида, и Гор — которому
соответствует Бубастис (она относится к Гору точно так же, как Исида относится
к Осирису, и занимает ее место). Анубис — седьмой образ, которому, бесспорно, соответствует некий женский, относящийся к Бубастис так же, как Анубис к Гору.
Таким образом, я полагаю, что теперь в достаточной мере показал всю египетскую систему богов и, тем самым, выполнил свою задачу. Если вы сами, после того
как познакомились сейчас с вышеизложенными идеями, пожелаете вновь просмотреть обычные подробные представления [египетской мифологии], то я не сомневаюсь, что с помощью этих идей вы сможете обнаружить ясность и порядок там, где
прежде можно было видеть лишь путаницу и неразбериху.
* Геродот, И, 43 (ср. 145).
Девятнадцатая лекция
327
Особенно важно то, что в соответствии с этим воззрением в египетскую мифологию приходит прошлое, благодаря которому находят свое объяснение некоторые
получившие известность в последнее время факты. У нас египетская мифология исходит из того момента, где Тифон и Осирис суть один и тот же бог и не разделены как
таковые, и поэтому исторически следует предположить некий позднейший момент,
где тот и другой уже различаются как противоположности, мыслятся порознь. Если
правда, что в прозвище отца Гесостриса знак Тифона чередуется со знаком Осириса,
т.е. оба они рассматриваются как равные, если в прозвище Менопта (младшего брата
и непосредственного преемника Гесостриса) Тифон и Осирис употребляются вместе,
т.е. стоит не «Тифон» и не «Осирис», но «Тифон-Осирис» или «Сет-Осирис» (ибо Сет
есть египетское имя для Тифона — Тифон, вероятно, является восточным именем =
= рэк8: еврейское Ζ в других семитских диалектах превращается в простое Т; Зафон
или Зафун может быть объяснен как сокрытый, или также как вселяющий ужас бог,
Deus sinister; в имени Тифон, таким образом, уже заложена противоположность
Осирису, оно является позднейшим, однако еще Плутарху известно его, вероятно,
первоначальное имя — Сет, что подтверждается также и множеством новых исследований) — если, таким образом, кого-нибудь из Гесостридов называют возлюбленным Сета-Осириса, если в дворцовом храме Рамзеса именно Тифон (здесь он носит
имя Nubi) изливает над царем жизнь и силу, если также в более ранних монументах Нефтис, кажется, еще всецело занимает место Исиды, если в памятниках героической эпохи имя Сета и даже его иероглиф (жираф) в позднейшие времена был,
по-видимому, стерт, то в этом нет абсолютно ничего, что противоречило бы нашему изложению, которое, напротив, в этих фактах даже находит себе отчасти новое
подтверждение.
Если, однако, из этого захотели бы сделать вывод, что потребовалась великая
религиозная революция — для того чтобы низвергнуть Сета и его служителей (он,
однако, даже во времена Плутарха не был свергнут в том смысле, чтобы ему перестали воздавать почести в виде храмовых жертвоприношений), провозгласить Тифона
врагом Осириса и всех египетских богов, если бы на заднем плане захотели усмотреть ту идею, что религия Египта в свою наиболее темную, первоначальную эпоху
представляла собой монотеизм, — то здесь я, конечно же, согласиться бы не смог.
Напротив, я твердо придерживаюсь того мнения и рассматриваю как совершенно
несомненный факт, что Осирис-Тифон был исходной точкой, базисом, основанием
всей египетской мифологии и теологии, что может явствовать уже хотя бы из того
замечания Геродота, что культ Осириса и Исиды был единственным общим для всех
египтян. Ибо то, что образует основу религиозного развития, всегда представляет
собой общее, высшее развитие, всегда является уделом лишь немногих, ведь религия Аммона, очевидно, не была общей религией для всего Египта. Вслед за эпохой
материальных открытий и приобретений следует эпоха критики, в обязанность
328
Вторая книга. Мифология
которой входит повсюду исследовать возможность, напр., возможность того, чтобы
на протяжении трех тысячелетий искусственная надпись — такая, как надпись иероглифическая — могла претерпеть столь незначительные изменения. Свою полную
ценность хронологические и исторические изыскания новейшего времени смогут
обрести лишь после того, как свое суждение выскажет критика, а именно — критика
в лице великого критика наших дней, знаменитого Летронне.
Мы переходим теперь к последнему пункту, к объяснению египетского культа
животных.
Бесспорно, во всей египетской религии более всего претит всем нашим понятиям и чувствам та религиозная забота, которой египтяне окружают некоторых животных, а также совершенно или, по меньшей мере, отчасти животный облик некоторых египетских богов. Я говорю «отчасти»; ибо чаще всего одна лишь голова
(т. е. умопостигающая часть) имеет форму головы шакала или птицы. Конечно, это
для нас непостижимое явление, если мы не проделали весь путь сознания от самого начала до этой точки. Для египтянина животные не были тем, чем они являются
для нас: он не исходил, например, из созерцания животных, обожествив их затем
в соответствии с их полезностью или опасностью для человека и причиняемым ими
вредом, как часто полагают; хотя, безусловно, это отношение полезности или вреда
не могло быть исключено: напр., ибис появляется в Египте вместе с набирающим
силу, разливающимся Нилом, истребляя затем змей и губительных для растений насекомых, которых всякий раз оставляет после себя паводок. Таким образом, это отношение ибиса, напр., к периодическим разлитиям Нила, его регулярное появление,
безусловно, было моментом в религиозном почитании, которое египтянин оказывал
этой птице, однако означенные моменты не смогли бы породить самого этого почитания, если бы тот момент, через который проходил теогонический процесс в египетском сознании, не нес с собой такого положения вещей, при котором то божественное, которое прежде усматривалось, напр., в небесных светилах, стали видеть
теперь в животных. Реальный (недуховный) принцип должен был подвергнуться негации — т. е. унижению, материализации, для достижения духовного. Эти естественноисторические обстоятельства действовали, таким образом, лишь во взаимосвязи
с религиозным настроением в Египте вообще, с его целостным воззрением на природные и божественные вещи — с тем воззрением, которое возникло у египтян под
воздействием внутренней необходимости, а значит, в результате действия принципа, независимо от внешних естественноисторических фактов. Поскольку в самом
периодическом подъеме и опускании уровня воды в Ниле египтянин усматривал
лишь сцену, на которой перед его взором разыгрывалась ежегодно повторяющаяся
история его богов, Тифона и Осириса, — то и все, что было связано с этой сценой,
также должно было переплестись для него с его божественной историей. Особые
свойства ибиса, возможно, послужили основой и могут также служить объяснением
Девятнадцатая лекция
329
того, почему египтянин среди множества различных птиц в своей стране выбрал
голову именно этой птицы — для того чтобы обозначить ею бога науки, разумной
способности, а следовательно, также и предусмотрительности. Тот же факт, что сами
животные считались священными и пользовались всеобщим почитанием, имеет
в своей основе гораздо более глубокое отношение сознания.
Другое известное объяснение заключается в том, что те или иные животные,
дескать, должны были напоминать о тех или иных предикатах, атрибутах или свойствах божества — приблизительно так, как греческим божествам те или иные животные придавались в качестве атрибутов; позднее, когда религия пришла в упадок,
они сами сделались предметом почитания. То, что животные весьма рано стали употребляться как своего рода символы моральных качеств, вполне естественно; ибо
в то время как в человеческом роде огромное разнообразие возможных характеров
распределено между индивидуумами, в животном мире каждый опрежделенный характер есть характер рода, животные также и в этом отношении суть disjecta membra
poetae, т. е. человека. Все качества в человеке должны быть приведены к гармоническому равновесию. Всякая отдельно выступающая характерная черта, напр., хитрость, есть нечто животное. Как, теперь, эти обозначения моральных свойств через
придание образу тех или иных сопровождающих животных — пришли в греческие
представления, можно ли рассматривать орла Зевса, голубку Афродиты, сову Афины
и т.д., — как следы более раннего, аналогичного египетскому момента в греческом
сознании, момента, который в самом эллинском сознании не достиг проявленности
и от которого сохранился лишь этот след, — этот вопрос должен быть предметом
особого исследования, и его мы, конечно же, здесь решать не возьмемся. Однако, во
всяком случае, почитание, оказывавшееся животным в Египте, было слишком серьезным, чтобы его можно было объяснить из простого, происходящего от никак не
доказанного религиозного распада, одного лишь смешения знака с обозначаемым.
То, что животные считаются священными, в египетском сознании не является ни
произвольным, ни случайным. Животные суть для египтянина не боги, но моменты, и потому они представляют собой памятники из жизни их богов. Как явление
животных в самой природе не есть нечто случайное, как сами они суть необходимый
момент всеобщего, поступенно продвигающегося природного процесса, — точно
так же и в египетской мифологии животные появились не случайно, но с необходимостью, обозначая собой действительный момент теогонического процесса.
Другое представление, с помощью которого многие пытались облегчить себе
объяснение культа животных, состоит в предположении, что образы животных
сперва полагались на небесах, тем самым освящаясь, и лишь затем уже почитанием
пользовались земные животные, как представители тех небесных. Однако не может
быть, чтобы те животные, которых в Египте считали священными, были помещаемы на небо. Вполне возможно, что древнейшие почитатели звезд, будучи пастухами,
330
Вторая книга. Мифология
странствующими по пустыне, в этих рассыпанных в небесном просторе звездах видели стада, которые небесный пастырь ведет через пустыню небесного эфира; однако помещать на небеса животных и смешивать их с этими — все еще считавшимися
чисто духовными — сущностями, никогда не могло бы прийти им в голову. Сколь бы
поэтому ни было давним возникновение Зодиака, он все же едва ли древнее, чем настоящий момент сознания. Для того чтобы обозначить образами животных годовую
воображаемую солнечную орбиту, должно было завоевать себе место совершенно
иное воззрение на небо, отличное от того прежнего. По этой причине всегда будет
оставаться вероятным то, что и без того подтверждается всеобщей традицией древности, а именно, что Зодиак есть египетское изобретение. Животные не могли быть
помещаемы на небо раньше, чем они обрели божественное значение на земле.
Все эти объяснения показывают, что почитание животных в Египте — довольно трудная проблема. Понимание облегчается той всеобщей мыслью, что мифология в целом покоится на самоотчуждении человека. Не ради них самих, я бы сказал,
почитались животные, но как последнее проявление Тифона, которого египетское
сознание придерживалось еще долго и который все еще препятствовал появлению
чисто духовных богов. В Египте все животное царство было в известной мере освящено как изначально переплетенное с историей богов. Тот, кто убивал ибиса, ястреба или священного сокола (образ высшей духовности, видимо, благодаря могучей
силе своего полета), — сам должен был поплатиться жизнью. Некоторых животных
пестовали в храмах и, более того, в каждом доме, в каждой семье имелась священная
птица, за которой тщательнейшим образом ухаживали и которую также и хоронили
среди членов семьи. Всего этого нельзя понять никак иначе, чем предположив, что
тот момент сознания, который выпал на долю египетского народа, сам был параллелен моменту образования животных в природе. Египетское сознание еще пребывало
в борьбе, т. е. стояло лишь на пути к человекоподобным богам. Этот путь обозначили
для него животные, что по существу уже было нами показано. Кибела = переход от
неорганической к органической эпохе, которая началась с того, что третья, духовная
потенция присоединилась к другим, на чем и зиждется своеобразие египетского сознания. Тем не менее, чисто духовное не могло возникнуть тотчас же, ибо для этого
необходимо предпослать полное угасание реального принципа, которое не происходит непосредственно, о чем и свидетельствует битва Осириса с Тифоном. В мифологии ничто не взято из природы, но сам природный процесс повторился в сознании
в качестве теогонического. Существуют предпосылки, при которых о любой природной вещи можно сказать, что она есть модифицированный Бог. Это в особенности
позволительно будет сказать о животных, в которых действительно уже представлено всеединство потенций, хотя и не в том последнем, все сплавляющем в одно единстве, которого они достигают лишь в человеке. Слепой принцип природы, который
в своем вне-себя-бытии представляется как бессмысленный и недуховный, по мере
Девятнадцатая лекция
331
того как он вновь приводится к своему в-себе-бытию, к чистой возможности, —
принимает духовные свойства; он предстает как в известной мере над собой властное — в свободных, произвольных движениях животных, как наделенное силой различения и различающего познания — в чувственных способностях представления
животных. Ряд животных представляет переход реального бога как такового. Когда
Бог умер, он продолжает жить в животных. Животные для египтянина — это содрогающиеся члены агонизирующего Тифона. Человек есть как дух, как над самим собой
совершенно властный, воскресший Бог. Думаю, не станут возражать, что таким образом в известной мере происходит видимое оправдание идолатрии; ибо та высокая
заповедь: Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, — не противоречит тому теоретическому и научному положению, что природные вещи суть отображения (Scheinbilder)
божественного: она лишь запрещает почитать их вместо Бога, не потому что они
действительно представляют собой simulacra divinitatis, но поскольку недостойно
человека поклоняться simulacrum божества, ему, который сам есть образ божества,
призванный общаться с ним непосредственно и вступать с ним в сообщество.
В остальном, однако, нам приходится говорить о почитании, оказывавшемся
в Египте животным, с известным различением. Если священное животное содержалось в храме или в каком-либо доме, то это почитание относилось не к индивидууму,
но к живущей и выражающейся в роде идее, т. е. моменту мифологического процесса. Это явствует из одного обстоятельства, которое в одной из позднейших научных
экспедиций было отмечено несколькими французами, а именно, что, напр., в захоронениях животных, где целые туши, а в случаях с более крупными животными — их
части — были мумифицированы совершенно так же, как и человеческие тела — чем
признается, что каждое животное они рассматривали как вечное понятие; ибо какая
еще иная причина могла заставить их поступать с телами животных так же, как и
с человеческими? В таких захоронениях также отмечалось, что повсюду встречаются аналогичные, относящиеся к одному роду, словно бы подобранные по доверской
(doverisch) системе, животные. Напр., Бубастис, согласно египетской мифологии,
из страха перед Тифоном превратилась в кошку; кошка была проявлением Бубастис, так что теперь вблизи храмов Бубастис можно найти не только кошачьи мумии,
но и трупы или части туш хищных зверей: львов, тигров, и т.д., относящихся к семейству кошачьих. Если Бубастис перед лицом Тифона спасается, приняв образ животного, то при этом, естественно, приходится вспомнить о первом явлении Бубастис в сознании. Первое явление в сознании всех этих богов является оспоренным. Бубастис,
хотя она и представляет собой сознание уже преодоленного Тифона, все же является
еще во время сражения, и здесь характерно и значимо то, что именно тому сознанию,
которое словно бы первым замечает потенцию духа, — именно ему присваиваются
и приписываются, именно с ним отождествляются хищные животные, так, что оно
332
Вторая книга. Мифология
наконец начинает мыслиться под их покровом. Ибо также и в природе хищные животные, которых мы преимущественно могли бы назвать животными воли (Willensthiere), идут непосредственно перед человеком. Для меня было невозможно согласиться с мнением, высказанным около 20 лет назад, согласно которому в животном
царстве должны существовать два ряда, т. е. восходящий и нисходящий, причем тогда
хищные животные должны будут принадлежать к направлению регрессивному. Это
несколько сентиментальное воззрение покорной и кроткой души пожелало все хищное и свободное в природе приписать падению. Однако в основе всей природы с самого начала лежит собственно быть не должное, и необходимо, чтобы этот принцип
сильнее всего активизировался именно там, где дело ближе всего к его преодолению.
Если в основном все вещи в природе пребывают в бессознательном состоянии, то
этот высший класс животных, как мы видим, существует в состоянии непрестанного
сумасшествия, в которое недуховная природа приходит при первом же взгляде на духовную. Ненависть и гнев, с которыми хищное животное растерзывает даже и слабое,
неагрессивное существо, есть гнев ощущающего приближение собственной смерти,
собственной гибели, принципа, последнюю вспышку его ярости.
Такое собрание принадлежащих к одному роду животных в египетских захоронениях показывает, что не индивидуум, но живущее в нем вечное понятие, сам
момент процесса имелся здесь в виду. Наконец, в качестве доказательства того, как
египетское сознание словно бы повторяет в своем движении весь глубокий органический процесс, я хочу привести еще то утверждение, что якобы в одном месте Египта, в Анаме или Анапе, почитался также и человек. Никаких подробностей на этот
счет невозможно прочесть у тех двух писателей, которые единственно говорят на эту
тему, у Порфирия и Евсевия; однако ясно то, что такое почитание не могло зиждиться только на апофеозе или обожествлении одной исторической личности, которая,
кроме того, была совершенно чуждой египтянам, для коих чуждым был даже тот
класс высших существ, которых Греция почитает под именем героев. Равным образом, в совершенном согласии с общим характером египетской мифологии, бесспорно, отнюдь не моральное или духовное, но лишь природное значение человека дало
повод к такому почитанию, и лишь в одной области Египта такое почитание имело
место. Ибо сам человек единствен в природе — как может быть единственным центр.
Иного воззрения, далее, требует теперь другой культ животных, который с очевидностью образует ограниченный в себе самом круг и потому требует также собственного рассмотрения и, равным образом, собственного объяснения. Я имею
в виду почитание священного быка или, если заслуживают доверия свидетельства
некоторых других древних авторов, трех священных быков. Геродоту известно
лишь об одном священном быке в Мемфисе, Аписе*; и, пожалуй, тех трех, о которых
Геродот, III, 28.
Девятнадцатая лекция
333
говорят другие, вполне можно свести к одному. Апис должен был быть особым, несущим на себе особые знаки, индивидуумом: нарисованный белым треугольник на
лбу, также нарисованный полумесяц на одном боку и, кроме того, под его языком
должно было быть напоминающее священного скарабея возвышение. Если после
смерти одного Аписа эти признаки обнаруживались в каком-либо ином быке, то
сперва его в течение четырех месяцев заботливо пестовали (как Мневиса) в Гелиополисе, в открывающемся на Восток храмовом помещении, и лишь затем торжественно
препровождали в храм Пта в Мемфисе. О третьем священном быке, по имени Пасис,
которому якобы поклонялись в Гермонтисе, известно лишь Макробию. Что касается
этого культа быка, который является достопримечательным для нас той приверженностью, которую выказал ему израильский народ в лице, отчасти, даже своих вождей
уже после исхода из Египта (не следует позволять ввести себя в заблуждение тем, что
у израэлитов речь идет о тельце, ибо также и Геродот называет Аписа μόσχος9) —
что касается этого культа быка, то о нем речь необходимо вести особо, ибо: 1) здесь
почитание оказывалось именно индивидууму как таковому; 2) с этим была связана
особая идея о чистом зачатии (корова, отелившаяся Аписом, была оплодотворяема
солнечным лучом). В дальнейшем с этим связывалось представление о трансмиграции души данного Аписа: всякий раз, когда Апис умирал, душа умершего переселялась в нового Аписа. Это уже выглядит совсем не по-египетски и даже не связано
с вообще-то принятым в Египте учением о перевоплощениях души (согласно ему,
душа переселяется не в другой индивидуум того же рода, но всегда в животное другого рода). Эта последняя идея несет в себе нечто чуждое; она напоминает ламаистские религии; ибо также и в них всякий раз, когда умирает воплощенный Будда, его
душа переселяется в преемника. Если таким образом Апис, как говорит Плутарх,
рассматривался как живой образ Осириса*, или если он был воплощенным Осирисом, то мне кажется, что здесь всего лишь с египетским культом связывается культ
иного рода и что, следовательно, этот культ изначально принадлежал собственно
чуждому египетской религии направлению, которое, однако, не могло быть вполне
преодолено или устранено и потому сохраняло связь с египетскими идеями. В особенности достопримечательна в этой связи непреодолимая приверженность израильского народа культу быка, хотя он и поклонялся ему в рукотворном образе, в то
время как в самом Египте почитали живого быка. Однако почитаемый образ должен
был, вероятно, лишь обозначать собой настоящего, живого. Этот египетский культ
быка может, следовательно, бросить некоторый свет назад, на эпоху гиксосов в Египте. Однако как следует объяснить само это почитание быка? Достопримечательно
во всяком случае, что первый бык, Мневис, почитался в основанном гиксосами, так
Об Исиде и Осирисе, 43.
334
Вторая книга. Мифология
называемыми пастушескими племенами, в городе Солнца и лишь оттуда был приведен в Мемфис. Отсюда, равно как и из самого основания собственного города, видимо, следует, что также и гиксосы уже не были чистыми кочевниками, что значит,
они вообще были лишь племенами иного происхождения, которые следовали отличному от египетского религиозному направлению. Также и израэлиты, по-видимому,
по меньшей мере в последнее время своего пребывания в Египте уже не представляли собой чистых кочевников, но, хоть и оставались пастухами, все же были близки
к тому, чтобы присоединиться к земледельческим племенам и гражданскому устроению Египта; ибо воспрепятствовать этому, видимо, и было главным намерением их
вывода из Египта, поскольку даже и после него они еще в течение сорока лет пребывали в пустыне, т.е. в состоянии кочевников — очевидно, с целью предохранить их
от идолатрии и вновь приучить к чистой вере, а также дать привыкнуть к обычаям
кочевников, которые были почти забыты ими в Египте.
Если вы не являетесь любителем популярных астрономических истолкований,
согласно которым, напр., бык есть Солнце в знаке весны, то быка вообще можно
рассматривать лишь как символ дикой, однако высшей силой укрощаемой и укрощенной природы, как символ перехода от дикой, бурной жизни древней поры к сдержанности и законности, берущих свое начало от земледелия — как символ, следовательно, также и перехода от кочевой жизни к земледельческому состоянию. Ибо,
наверно, мне нет необходимости говорить, что не дикий бык, но одомашненный, уже
начавший свою службу человеку и подчиняющийся ему, — именно такой бык носит
имя Апис. И таким образом я считаю, что культ Аписа следует приписать особому религиозному направлению в одной части Египта, направлению, след которого
невозможно было стереть и которое поэтому упомянутым искусственным образом
было связано с учением об Осирисе, когда священный бык из Гелиополиса был при10
везен в Мемфис и позднее был объяснен как одушевленный образ (εικών έμψυχος )
Осириса, тем более, что Осирис был основоположником земледелия*. Образ Осириса усматривался и почитался в быке, употреблявшемся для служения человеку, для
земледелия.
Ср.: Плутарх. Греческие вопросы, 36.
ДВАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ
Начиная с египетской мифологии, мы, как уже ранее было отмечено, впервые
вступили в область завершенных1 мифологий, т. е. таких, в которых достигнута совокупность всех потенций. Эти завершенные мифологии, поскольку они имеют
между собой именно то общее, что являются завершенными, в силу этого являются
также и параллельными друг другу, и наш следующий вопрос должен быть, следовательно, о том, каким образом среди них может мыслиться еще и последовательность.
Поскольку же теперь среди этих завершенных мифологий первое место предварительно уже отдано египетской мифологии, мы, тем самым, уже сталкиваемся с очень
могучим предрассудком, который сформировался на протяжении последних 40 лет
и наконец обрел статус почти бесспорной истины, а именно — с мнением, что, напротив, индусское богоучение содержит в себе первоначальную систему всех мифологий: систему, которая в других богоучениях подверглась расщеплению. Вследствие
этой предпосылки, которая сумела войти даже в школьные учебники, индийский
народ должен был рассматриваться как некий пра-народ (Urvolk), который, уже не
стесняясь, называют предшественником не только египтян и финикийцев, но и ассирийцев, персов, мидийцев (Meder) и даже евреев. Ибо и так называемая мифология
сотворения мира, рая и изгнания из него — даже эти так называемые мифы стали выводиться из индусской традиции. В частности, священные книги индусов — Веды —
стали рассматриваться как первоначальный источник всей позднейшей мудрости,
религии и науки. Веды, как мы сможем увидеть впоследствии, представляют собой
некоторым образом ученое собрание сочинений и композиций, среди которых находятся отдельные, выказывающие очень большую древность, однако именно они
и имеют бесспорно доиндусское происхождение. В качестве частей человечества все
народы, конечно же, имеют равновеликое прошлое. Также и та часть человечества,
которая позднее разрешилась в индусский народ и заявила о себе как таковой, первоначально пребывала в составе общего человечества, и как таковая, как часть общего
человечества, она, конечно же, своим прошлым уходит в очень глубокую древность.
Однако ведь история индуса как такового начинается лишь с той точки, где он определяет себя как индуса. А эта точка, бесспорно и несомненно, обозначена, с одной
336
Вторая книга. Мифология
стороны — его языком, а с другой — его мифологией. Далее, все знатоки санскрита
согласны между собой в том, что этот язык по своему грамматическому развитию
непосредственно примыкает к греческому, и в качестве непосредственных предшественников греков индусы представляются также и в своей мифологии. Какой смысл
тогда может иметь попытка мыслить себе Индию как изначальную страну культуры,
религиозных идей и, в частности, всех мифологий? Безусловно, что первое знакомство с формами и идеями индусской мифологии, к которому дало повод английское
владычество над полуостровом и основание Азиатской Академии в Калькутте, произвело известное удивление, которое сразу же повлекло за собой самые преувеличенные надежды. Многие прониклись представлением о том, что в Индии можно
найти ничуть не меньше, чем истинный источник, первое возникновение древнейших систем, что-то вроде первого звена целой цепи религиозных и философских
мнений, получивших распространение по всей Земле, первоначальный смысл которых надеялись отыскать здесь с тем большей уверенностью, что здесь действительно
приходилось иметь дело не с одними лишь фрагментами давно ушедшей литературы
или искусства также исчезнувшего народа, как в случае с египтянами, финикийцами
или персами, но с народом, который в качестве нации дожил до наших дней, чьи
книги, даже самые древние, сохранились в неприкосновенности; причем одновременно можно было иметь и то преимущество, что во все еще существующей нации
можно было отыскать живых учителей, о которых можно было предполагать, что
они окажутся способны объяснить не только язык, но также и научное содержание
этих книг. Против этого первого энтузиазма было бессильно более трезвое рассуждение, принимавшее во внимание, что такая многосложная система, как индусская
мифология, религия и философия — никак не может быть изначальной, простой, исконной. Индия просто должна была быть колыбелью всех религий и культур, и более
того — колыбелью самого человеческого рода.
Особому стечению обстоятельств было угодно, чтобы почти в то же самое время, когда знания об Индии, полученные благодаря стараниям англичан, стали пробуждать к себе всеобщее внимание, Египет также несколько выступил из темноты
трудами французской экспедиции. Не могло не случиться так, чтобы осознание известного родства между египетским и индусским образованием не повело к предположению исторической взаимосвязи, материального идейного сообщения между
двумя народами; при этом, правда, находили, что переход египетского образования
в Индию менее вероятен. И действительно, насколько мы осведомлены об индусских
священниках, они пытались распространять свои религиозные и мистические идеи
с ревностью, сравнимой с ревностью христианских миссионеров. Поэтому нашли,
скорее, подходящим рассматривать более замкнутый Египет как духовную колонию
Индии, нежели, наоборот — считать, что египетские идеи пришли на Восток; итак,
либо египетские жрецы должны были прийти в Индию, изучить там систему Вед
Двадцатая лекция
337
(о которой до недавних пор имелись лишь весьма неясные представления), или, еще
лучше, колония индусских жрецов должна была путешествовать через Аравийский
залив, и некоторые считали даже, что могут указать их маршрут, который должен
был обозначаться памятниками религиозной, указывающей одновременно на Египет и Индию, архитектуры. Это мнение высказывалось преимущественно Геереном
(Heeren). Заслугой новейшей экспедиции является то, что это представление о культуре, распространившейся из Эфиопии в Египет, теперь для каждого опровергнуто.
Однако после всего этого могло бы показаться дерзостью, что мы сравниваем относительный возраст разных мифологий и при этом столь определенно высказываем
суждение в пользу значительно большей древности египетской. Если, однако, естествоиспытателю не возбраняется его стремление определять относительный возраст
различных, а подчас даже однородных образований, и эти его попытки отнюдь не
истолковываются как дерзость, то такое право, несомненно, должно быть признано также и за исследователем древности. Об эпохе первого возникновения мифологических систем имеется столь же мало письменных свидетельств, как об эпохах
первого образования Земли. Однако она сама представляет собой свой собственный
памятник и непогрешимый документ своей собственной истории; и как здесь творящая деятельность не покинула ни одной точки своего долгого пути, не обозначив
ее прежде отчетливыми следами и неразрушимыми памятниками, — точно так же
и правильно понятая мифология есть самая надежная путеводная нить собственной истории, и если уж мы однажды открыли в ней такую нить, то, безусловно, безо
всякой дерзости можно определять, какая мифология принадлежит ранней, а какая — позднейшей формации. При этом, может быть, совершенно не обязательно
даже оговаривать различие в больших цифрах, а может быть — и какое бы то ни
было различие в цифрах вообще. По внутреннему моменту, по моменту развития
позднейшая мифология могла бы поэтому быть внешне одновременной или почти
одновременной с более ранней.
Если бы в какой-либо точке нашего на всем своем протяжении закономерного
изложения нам сделалась очевидной необходимость некой мифологии, чьи главные
черты мы узнали бы в мифологии индусской, мы бы указали ей это место. Однако ни
одной такой черты не нашлось. И все же то, что она родственна египетской, видно
с первого взгляда. Но это родство лежит слишком глубоко и связано со слишком очевидными различиями, чтобы его можно было объяснить одной лишь внешней взаимосвязью; впрочем, не требуется никакой внешней связи, для того чтобы понять это
родство. Материал, который в каждом из этих богоучений получил своеобразную
организацию, был дан тому и другому богоучению их общим прошлым; в основе
того и другого лежат одни и те же элементы; пребывая в аналогичном моменте, оба
они должны, даже если внешне они и не зависят друг от друга, порождать сходное
и родственное.
338
Вторая книга. Мифология
Однако речь прежде всего идет о том, чтобы отыскать научный переход от египетской мифологии к следующей, какова бы она ни была. А для этой цели будет необходимо бросить последний взгляд на собственно характерное и отличительное
в египетской мифологии.
Во всем мифологическом процессе важно, чтобы сущностно богополагающее
сознания стало богополагающим actu и осознанно. Для этой цели именно тот принцип, который является богополагающим лишь в качестве потенции, должнен выступить е statu potentiae, подняться до акта, причем он, будучи положен вне себя
самого, сперва выступает как богоупраздняющий. Actu же, сознательно богополагающим он, однако, становится только тогда, когда второй процесс вновь приводит его к сущности, к потенции. Заметьте хорошо, к потенции: следовательно, не
об уничтожении этого принципа идет речь; хоть борьба и должна обостриться до
предела, однако смыслом этой борьбы не может быть уничтожение самого принципа. Если, таким образом, мы и говорим о его смерти или умирании, то тем самым
отнюдь не имеется в виду, что он везде прекращает свое бытие, но лишь — что он
перестает быть тем, чем является теперь; перестает быть вне себя сущим, от самого
себя отчужденным. Однако для того чтобы он не перестал существовать вообще,
чтобы он мог спастись, отступая из этого внешнего бытия во внутреннее, чтобы,
пережив свое внешнее бытие, он смог затем продолжать быть сущностно, как сущности, для этого необходимо, чтобы сознание удерживало его со всей силой, продолжало осознавать себя как противящееся, но никак не отказалось бы от борьбы,
согласившись на поражение. Первое происходит в египетском сознании, чью глубокую приверженность реальному принципу мы могли наблюдать в столь многих
характерных чертах. Именно в ней заключено основание высокой духовности египетского сознания. Ибо именно этот противящийся, реальный принцип в конечном итоге опосредует рождение истинно духовного сознания. Чем отчаяннее борьба сознания за этого реального бога, в котором оно действительно имеет подлинное
основание (вы знаете, что я называю основанием) всего божества, а равно своей
собственной духовности, тем крепче должно сознание — будучи все же преодолено
высшей потенцией и вынуждено отказаться от реального бога как такового — придерживаться его как духовного.
Плутарх определенно приводит как таковой принцип египетской теологии, —
который сам по себе уже показывает, в какую глубину сознания она проникает, —
являющийся также и главным учением египетской мифологии; он состоит в том, что
тифоническое начало не упраздняется совершенно, что оно преодолевается, однако
отнюдь не должно уничтожаться. «Совершенный и завершенный Бог — вы знаете,
что этим предикатом обозначается Гор, как дух положенный бог — этот Бог, — говорит Плутарх, — не упразднил Тифона совершенно, но лишь ослабил жестокость
Двадцатая лекция
339
и чрезмерность (das Überschreitende)2 его природы»*. Заметьте хорошо последнее
выражение: чрезмерность его природы. Как такое положенное вне своих пределов
(своей потенции) мы и обозначили с самого начала данный принцип. «По этой причине, — продолжает далее Плутарх, — в Египте существует изображение Гора, в левой своей руке держащего детородные части Тифона». Вы уже знаете из прежних
объяснений, что именно означает в языке мифологии такое оскопление прежнего
бога, а именно — всего лишь его лишение исключительного гоподства, а отнюдь
не его полное уничтожение. Далее, как повествует тот же Плутарх, в происшедших
из мифологии египетской теологии и философии говорится: Гермес — он есть высшее, все объединяющее сознание в египетской системе богов, одновременно являясь
изобретателем искусства звуков, — Гермес перерезал Тифону сухожилия (лишил его
власти и силы), однако он использовал эти вырезанные у Тифона сухожилия в качестве струн; тем самым, добавляет Плутарх, имелось в виду, что все сводящий воедино
дух вызвал из противоположного и враждебного — созвучие; точнее, по его мнению,
было бы сказать: это представление указывает, что все воедино сводящий дух не
разрушил губительную силу, но использовал ее энергию для высшего созвучия, для
порождения всеразрешающего гармонического единства. В другом месте Плутарх
говорит следующие слова: «Преодолен был Тифон, однако не устранен»**. «Ибо, —
добавляет он, — божество, властвующее над Землей, не допустило того, чтобы противостоящая влажности (растворению) природа была полностью устранена, однако
оно ослабило эту враждебную влажности, а значит, одновременно также и γένεσις3,
становлению, природу, заставив ее уступить; желая, чтобы сохранялась и противоположная температура. Ибо мир никак не мог бы существовать, если бы отсутствовало и полностью исчезло огнеобразное». Плутарх выражает философскую истину
этого египетского учения в согласии со своей точкой зрения, в соответствии с которой он повсюду выделяет в мифологии преимущественно физический смысл; однако
для вас после сделанного сообщения не составит труда применить это объяснение
Плутарха также и к высшим, более чем только физическим отношениям, которые
мы обнаруживаем в мифологии; как и без того все физические отношения суть лишь
отсвет и отдаленный отблеск более высоких, т. е. высочайших, божественных отношений. Следовательно, также и по этой причине — еще раз напоминаю однажды уже
упоминавшийся факт — рядом или перед великими храмами Гора и других богов все
Место гласит (Об Исиде и Осирисе, 55): Ό δε Ώρος ούτος, αυτός έστιν ώρισμένος και τέλειος, ούκ
άνηρηκώς τον Τυφώνα παντάπασιν, άλλα το δραστήριον και ισχυρό ν αύτοϋ παρηρημένος (Сам же Гор
закончен и совершен; и он не уничтожил Тифона совсем, а только лишил его предприимчивости
и силы) (греч.).
Έκρατήθη μεν, ούκ άνηρέθη δέ ό Τυφών о (Тифон был побежден, но не уничтожен) (греч.). — (Об
Исиде и Осирисе, 40).
340
Вторая книга. Мифология
еще стоят маленькие святилища Тифона, дабы указать тем самым на уменьшившуюся, однако никак не упраздненную, а стало быть, все еще необходимую для последнего результата — возрождения духовного сознания — все еще нужную для этого
и способствующую этому силу Тифона. Лишь потому, что данный принцип в египетском сознании не оставляет своего сопротивления, благодаря такому его упорству
в борьбе, египетское сознание в конечном итоге вознаграждено тем, что реальный
бог пребывает для него как духовный там, где он продолжает свое существование
как Осирис загробного мира — как sui ipsius superstes4, — как глубочайшее основание вновь обретенного духовного и божественного мира. Этот конец процесса в египетском сознании был достигнут не без отчаянной борьбы. Египтянин непрестанно оплакивает умирающего бога, как и вообще древний ритор говорит о египтянах,
что своим богам они воздают честь как своими жертвоприношениями, так и своими
слезами. Египтянин оплакивает умершего бога, однако реальный принцип действительно умер для него, т. е. он не уничтожен для него, не упразднен, но преобразован
в духовную сущность, в чистое AI, преодолен из бытия в сущность.
В той точке, где мы сейчас находимся, речь идет лишь об исходе процесса. Если
уж однажды положены завершенные мифологии, то не существует более перехода
в какую бы то ни было новую и иную мифологию; если кроме той, что представилась нам — а это была именно египетская мифология, — если кроме нее существуют
и иные, то они могут отличаться от нее и разниться между собой лишь тем исходом,
который процесс нашел в каждой из них. К истинному же исходу приходит лишь
истинно умирающий, т. е. сохраняющий себя в смерти, не устраненный, но выживающий, своим уходом лишь перешедший в свою истинную сущность, в свое в-себебытие, реальный принцип. Реальному принципу остается лишь умереть, т.е. оставить свое вне-себя-бытие, отойти в себя, в свою потенциальность, ему остается лишь
умереть, если должно быть сохранено и произведено единство потенций. В последнем
единстве потенций первый принцип может быть лишь чистой, хоть и вернувшейся
к себе самой, т. е. самой собой обладающей, себя сознающей и в этом смысле духовной, потенцией, которая от той потенции, что есть абсолютный дух (A3, в египетской мифологии Гор), отличается тем, что она есть именно лишь к себе самой возвратившаяся, духом ставшая, A3 же есть изначально дух. Истинной смертью реальный
принцип умирает лишь тогда, когда он, отходя в невидимое, сокровенное, становится
непреходящим и вечным основанием для всего единства. А этой истинной смертью
он умереть не может, если сознание находится в поисках иного выхода. К этому другому исходу он прибегает, когда отказывается от единства потенций, причем они,
конечно, поскольку остались в сознании от прежних моментов, будут продолжать
пребывать в нем, однако без своего единства, так что свое единство они будут иметь
вне себя, а не в себе. Здесь, таким образом, в сознании будут положены, с одной стороны — потенции только материи, лишь материальным образом, с другой стороны —
Двадцатая лекция
341
в сознании будет присутствовать также и единство, однако для себя, как положенное
вне потенций. Единство, положенное вне потенций, будет представляться имматериальным, бесплотным. Оно должно было бы представиться как осуществленное
в потенциях, как оно было осуществлено в них в египетском сознании, однако оно
будет для сознания вне потенций только идеальным, которое еще не осуществлено
для него, но которое ему еще предстоит осуществить. Я прошу вас вспомнить о том,
что еще ранее потенции были определены как простая материя существования
Бога. В единстве потенций для сознания (как мы видели это в египетском сознании)
осуществлен и как бы воплощен Бог; там, где произошел отказ от единства потенций, — там божественное не вступает в них как осуществленное через их единство,
но пребывает вне их: как нечто вроде требования, как бесплотная идея, которая не
порождена для сознания в результате естественного процесса, но которую оно способно сделать для себя реальной лишь в сверхъестественном устремлении.
Этот исход процесса первоначально показан как только возможный. Следующая задача философии всегда есть исследование возможности. Соответствует ли
найденной возможности какая-либо действительность, — должно выясняться лишь
в ходе дальнейшего исследования. Также и здесь. Для начала достаточно того рода исхода, который мы постольку могли бы назвать ложным кризисом, поскольку истинный кризис состоит в том, что реальный принцип не устраняется, не выводится и не
вытесняется из настоящего сознания, но преодолевается внутренне и как таковой
продолжает пребывать, входя в вечное бытие, — для начала достаточно признания
такого рода исхода как возможности. Может ли он быть действительно обнаружен
в какой-либо послеегипетской мифологии, — сможет показать лишь дальнейшее исследование. При этом теперь мы будем действовать следующим образом. В качестве
первого признака такого исхода мы определили, что потенции присутствуют в сознании в своей материальности, но как бы в расщепленном виде, одна отдельно от
другой, не связываясь друг с другом в какое бы то ни было единство (что возможно
лишь в результате истинного устремления реального принципа).
Такое расщепление единства, такое вне-друг-друга-и-рядом-друг-с-другомбытие потенций без того единства, которое связывает их в египетском сознании,
это розное — лишь в материи или материале — наличие потенций, кажется (я намеренно выражаюсь таким образом, ибо невозможно сказать это с уверенностью уже
с первого взгляда), — кажется, такое отдельное существование потенций, которые
поэтому существуют лишь по своему материалу, может быть действительно обнаружено в индусской мифологии.
Другой признак этого принятого в качестве возможности исхода, т.е. того,
что единство существует вне потенций, как только идеальное, еще долженствующее быть осуществленным, однако все же присутствует, — мы до поры до времени
оставим в стороне, дабы в первую очередь проследить первый, т. е. внеположность
342
Вторая книга. Мифология
потенций безо всякого их внутреннего отношения, без их сплавления в конкретное
духовное единство.
Такой признак, говорю я, кажется, можно указать в индусском сознании, для
которого та жестокая борьба, которую мы обнаружили в египетском, стала всегонавсего прошлым, в котором мы уже более не находим самой борьбы, но лишь ее
разрозненные элементы, элементы борьбы в виде одних лишь результатов. Безусловно, также и в индусской мифологии еще могут быть распознаны те великие потенции, которые в египетском сознании мы знали как Тифона, Осириса и Гора, те
три персонажа, вокруг которых движется все действие, по отношению к которым
все остальные боги почти что акцидентальны, являются как бы попутно возникающими. Брахма в индусской мифологии есть реальный бог, он по общему признанию
является богом начала. Однако он словно бы всецело ушел из индусского сознания,
так что присутствует в нем теперь лишь как прошлое, тогда как, напр., в египетской
мифологии также и умерший и теперь обретший черты духовности, ставший Осирисом, Тифон, хоть и представляет собой прошлое как Тифон, однако в качестве Осириса являет собой настоящее, непреходящего бога высшего, духовного сознания. Об
индусском Брахме пришлось бы сказать прямо противоположное тому, что говорит
Плутарх о египетском Тифоне. О нем следовало бы сказать: άνηρέθη, ούκ έκρατήθη5,
он устранен из сознания, вытеснен как настоящее. Тифон все еще присутствует в настоящем, Брахма же совершенно забыт в индусском сознании, будучи как бы пропавшим без вести и пребывающим в забвении богом, что явствует из того, что в Индии не воздвигают святилищ в честь Брахмы подобно тому, как в Египте их ставят
в честь Тифона: его чтут без образа и без храма. Он бог, утративший всякое значение
для настоящего. Однако именно на этом принципе покоится религиозное сознание.
Поэтому, хоть и резко противостоящей общепринятому мнению, однако тем самым
ничуть не менее строгой истиной — является то, что в индийской мифологии (я говорю: в этой мифологии) по большей части происходит отказ от собственно религиозного принципа. Это полное отсутствие святилищ Брахмы указывает не, как
это принято объяснять, на прежде существовавший более чистый культ, в котором
Брахма якобы почитался как в себе безобразный, абсолютный Бог, но оно указывает
на слабость религиозного сознания в Индии, которая дает себя знать повсюду, где
всецело игнорируется этот лежащий в основе всякой религии, именно в ней преодолеваемый и примиряемый (а значит, нуждающийся в преодолении и примирении)
принцип. Также и среди нас можно найти такого рода религиозных или христианских индусов, которые умеют лишь отвести взгляд от быть не должного, но тем не
менее сущего, но уж никак не использовать его сухожилия в качестве струн, от которых исходит благозвучие совершенной, последовательно выведенной науки, в которых именно поэтому религиозное сознание лишь неопределенно блуждает в неверных звучаниях как некое предчувствие и неясное устремление.
Двадцатая лекция
343
В египетском сознании, как мы видели, действительно ушедший из мира,
из внешнего бытия, в самом себе преодоленный, однако все еще удерживаемый бог
превращается в бога загробного мира, незримого царства, тем самым становясь
основанием всего высшего сознания, к которому приходит египетская, а позже —
также и греческая мифология. Лишь со сдачей позиций (Aufgegebenheit) индусского
сознания связан тот факт, что Брахма никогда не упоминается в качестве божества
мира духов, владыки душ умерших, каким стал преодоленный в милостивого, благожелательного Осириса Тифон, по отношению к которому еще во времена Птолемеев
на египетских саркофагах друзья умерших восклицают им вслед: Εύψύχει μετά του
Όσίριδος6: будь блажен с Осирисом! Во многочисленных, известных, по меньшей
мере, благодаря переводам и извлечениям, индийских письменных источниках все
же должен был обнаружиться какой-нибудь след такого представления о Брахме;
лишь один след подобного рода я отметил у Крейцера, который уверяет, что миссионеры в том факте, что Брахма в почитании нынешних индусов совершенно отходит на задний план, усматривает причину того господствующего мнения, будто
бы Брахма владычествует лишь над блаженными в иной жизни. Итак, согласно миссионерским данным, таково господствующее мнение среди индусов. Теперь, однако,
1) весьма достопримечательно уже одно то, что не выказывается почитания богу,
который властен над загробным блаженством. Следовало бы полагать, что народ,
который считает настоящую жизнь столь преисполненной скорби и несчастий, должен был бы оказывать такому богу преимущественное почитание, или он должен
был бы, по меньшей мере, оказывать ему некоторое почитание. 2) В целом само это
выражение «блаженство в иной жизни» не является вполне индийским. Ибо большая часть индусов — собственно, народ — исповедует общую веру в переселение
душ как неминуемую судьбу; и это переселение, которое вновь и вновь ввергает его
в «страшный мир бытия», в круговорот существования, по его мнению, глубоко
злосчастного, — он не может рассматривать как блаженство. Уже по одному лишь
выражению «иная жизнь» можно признать в говорящем христианского миссионера.
3) Согласно данным путешествия Нибура в Аравию, в вероучении индусов — скорее, Махадева, т. е. Шива, с которым мы вскоре познакомимся ближе и который среди многих прочих имен носит также и это, заботится о человеческой душе после ее
смерти. Пытаясь доискаться, откуда Крейцер взял вышеупомянутое замечание, я нашел, что он встретил его в сообщении одного-единственного христианского миссионера, а именно — англичанина Варда, чей труд, посвященный настоящему положению религии в Индостане, получил известность также и в Германии. После того как
говорившееся Крейцером о миссионерах во множественном числе свелось теперь
к авторитету одного-единственного человека, я полагаю себя вправе высказать мнение, что лишь вопрос миссионера, обращенный к брамину или пандиту (= индийский ученый), который либо не захотел, либо, что весьма вероятно, не смог указать
344
Вторая книга. Мифология
истинной причины такого исключения Брахмы из всякого общественного культа,
дал ему повод для ответа, который он посчитал желательным для слуха христианского миссионера. Насколько вводящими в заблуждение и рассчитанными на конкретных людей могут быть ответы таких браминов и пандитов, известно достаточно
хорошо, в чем среди прочих имел несчастную возможность убедиться капитан Вильфорд, которому они, предварительно подслушав его желание, отвечали на его любопытствующие вопросы сообразно этому последнему, так что он был рад слышать их
ответы; при этом они умудрялись даже фальсифицировать ему в угоду целые места
в письменных источниках, которые подкладывались ему на стол.
Другое объяснение того обстоятельства, что Брахме в Индии не оказывается
никакого общественного почитания, ищут в следующем: Брахма, дескать, есть бог
другой, более чистой и первоначальной, однако полностью исчезнувшей в Индии
религии, которая продолжает свое существование лишь в памяти народа, не сохранившего к ней, однако, никакой действительной приверженности. Эту религию награждают именем чистого брахманизма, который желали сравнивать с чистым культом патриархов, с так называемой авраамитской религией (некоторые играющие со
случайными созвучиями ученые пожелали даже усмотреть сходство между именами Брахма и Авраам и определить затем Авраама как первого брамина этой первой
изначальной религии). Этому мнению, которое в Брахме ищет вытесненного бога
изначально более чистой, однако затем канувшей в забвение под натиском политеизма, религии, противоречат 1) Веды, в которых ведь в таком случае должны были
сохраниться следы этой чистой брахманитской религии. Так ли то на самом деле, мы
увидим впоследствии. Этому мнению противоречит 2) также следующее. Богом, который собственно вытеснил Брахму в большей части Индии, является Шива. Однако
Шива не мыслится и не представляется как бог другой, ничего общего с Брахмой не
имеющей, религии; везде, напротив, Шива предполагает Брахму, оба рассматриваются как лишь относительно отличные потенции одной и той же религии, как показывают уже индусские Тримурти, которые не смогли бы объединить того и другого
таким образом, если бы они были абсолютно противоположными богами, один —
богом чистой первоначальной религии, второй же — богом набирающей силу политеистической, которая ныне заполонила собой Индию.
Тем самым, я невольно подхожу ко второй потенции индийской мифологии,
которая и есть именно Шива. Шива есть бог общей оргийности. Если в египетском
сознании все еще господствует реальный бог, а в индусском сознании он является
исчезнувшим, то из этого само собой следует, что индусское сознание всецело предано Шиве. Собственно индусской религией по существу является шиваизм. Однако
и относительно Шивы господствует величайшее недоразумение. Он всеми обыкновенно неопределенным образом объясняется как разрушительный принцип. При
этом, однако, никак не объясняется, к чему именно относится такое разрушительное
Двадцатая лекция
345
действие. Согласно этому понятию, можно было бы также и землетрясения, вулканические извержения, опустошающие страны и города, или морские приливы, поглощающие сушу, рассматривать как действия Шивы. Однако индийское сознание
далеко от того, чтобы приписывать Шиве действия, которые египетское сознание
приписало бы Тифону. Обычно пытаются объяснить Шиву как божественную потенцию, говоря: в природе происходит постоянная смена возникновения и исчезновения, творение постоянно обновляется; одно гибнет, другое возникает; Шива есть
поэтому разрушающий и всегда созидающий новое бог. Это представление, конечно же, находится ближе всего к истине, однако оно все же не является верным. Но
совершенное недоразумение заключено в суждении Фр. Шлегеля, который в своей
философии истории не знает достаточно крепких слов, чтобы выразить свое отвращение к тому, что индийское сознание позволило божеству вместить в себя разрушительную изначальную силу, принцип зла, бога смерти. Не все разрушающее есть,
тем самым, уже принцип зла. Многие хвалятся своим консерватизмом, как будто это
само по себе уже было чем-то превосходным. Здесь спрашивается, однако, что именно подлежит консервации. Ибо тот, кто захотел бы консервировать дурное и пагубное, не стал бы хвалиться этим. Так и здесь; если некий принцип истребит пусть и не
само зло, то все же нечто противное человеческой свободе, то он и сам есть благодетельная сила, род благого принципа. То же, однако, к чему непосредственно относится Шива, есть лишь Брахма. Мы, таким образом, имеем право сказать: он является
разрушителем и уничтожителем самого Брахмы, как через форму происходит разрушение чистой материи*. Это предположение о том, что разрушительное, т. е. именно
отрицающее качество Шивы относится к Брахме, есть естественное следствие первоначальной расстановки потенций, согласно которой вторая всегда является отрицающей первую, третья же является опосредованной через эту негацию первой.
Третью потенцию (= как таковой сущий дух), конечно же, можно обнаружить
также и в индийском сознании. Это третье лицо индийской триады есть Вишну.
Однако эта третья потенция в индийском сознании существует лишь как оспоренное явление. Приверженцы Вишну образуют в Индии лишь секту, живущую в вечном противостоянии со сторонниками Шивы, в истории которого были и кровавые столкновения. Лишь в этой связи, т. е. в этом противопоставлении, также и сам
шиваизм становится сектой; ибо он есть собственно повсеместно господствующая
религия, которой в особенности всецело предан простой народ. Однако также
Он есть разрушитель — не того Брахмы, каков он сейчас, который оставил всяческое сопротивление, который существует словно бы в качестве материи Шивы, не оказывающей никакого сопротивления, но того Брахмы, каким он существовал в неиндусском сознании. Черепа на шнуре, которыми
в изображениях Шивы окружена его шея — суть черепа уничтоженного Брахмы, т.е. уничтоженных
прежних форм Брахмы.
346
Вторая книга. Мифология
и сторонниками Вишну Шива отнюдь не допускается в качестве некоего, пусть
и подчиненного, предмета почитания, но они исключают его — точно так же, как,
в свою очередь, шиваиты ничего не желают знать о Вишну. Для каждой из этих сект
их бог является высшим, однако именно поэтому каждый из этих богов есть лишь
односторонний бог. До истинного все-единства (несмотря на то что все его элементы
имеются в наличии) дело, следовательно, еще не доходит, но вместо этого Брахма
вообще не почитается, он единственный, похоже, кто вообще не имеет приверженцев (несмотря на то что брамины, или брахманы — называют себя от его имени;
почему и насколько это так, я отвечу впоследствии); Брахма, собственно, не почитается вообще, а из двух остальных деджотов (Dejotas): так называются эти три личности (deitates) божества — Шива и Вишну почитаются каждый отдельно, каждый
в противоположность другому, так что, как сказано, приверженцы одного исключают и преследуют приверженцев другого. Отсюда, таким образом, выясняется, что
индийская мифология действительно представляет собой момент полного распада
и расщепления единства, а следовательно, также и духовного сознания. Это духовное сознание существует в Индии не внутри, но вне мифологии. Оно есть политеизм
в своем наиболее крайнем выражении. Ибо то, что иные друзья Индии и индийской
мудрости обычно говорят о некоем возвышающемся над тремя деджотами боге, называемом Парабрахмпу который и должен теперь быть совершенно единым и абсолютным, основывается всего-навсего на авторитете известного кармелита Фра Паулино ди Сент-Бартоломео, чья ненадежность в достаточной мере известна. Может
быть, также и слово Паральрама является мгновенным изобретением какого-нибудь
брамина, которого миссионер принялся упрекать его тремя богами и который всего
лишь избавился от его досаждений, наскоро состряпав это составное слово. В первую очередь встает вопрос вообще не о том, каким образом индийской философии
и теологии пришлось теперь избавляться от этой разорванности сознания и искать
исцеления. По большей части, это происходило путем того, что одного из деджотов,
напр., Вишну, они стремились оснастить всеми атрибутами высшего, все-единого
Бога, возводя его в степень абсолютного, безгранично распространяя его.
Далее, обычно приводят, что в индусских письменных источниках вместо masculinum Brahma (как, собственно, это слово должно произноситься) стоит средний
род Вгат, который употребляется το θείον7, который есть само чистое божество, по
отношению к которому три деджота могут быть лишь отдельными проявлениями
или представителями. О Brahmà, конечно, нельзя отрицать, что он есть всего лишь
одно из трех лиц, в Bram же, напротив, считают возможным видеть абсолютное
божество; напр., А. В. Шлегель утверждает даже, что 1) средний род является более
древним, а это, вероятно, должно означать, что он встречается в весьма древних источниках (однако это ничего не доказывает: сама индусская религия древнее, чем
все индусские письменные источники); 2) что из употребления этого среднего рода
Двадцатая лекция
347
следует сделать тот вывод, что не только многобожие и мифология, но также и антропоморфизм индийских представлений (под которым Шлегель, как видно из взаимосвязи, подразумевает преимущественно представление о боге как о личности)
являют собой позднейшие добавления, тогда как исконно древний брахманизм учил,
напротив, почитанию божественной сущности. Божественная сущность здесь есть
противоположность личному богу, точно так же как и у нас деисты испытывают неловкость, говоря о Боге, и вместо этого говорят «божественное» или «божество», что
является для них совершенно абстрактным понятием. Согласно моим известным
вам принципам, здесь я не могу разделить указанной точки зрения. Я рассматриваю
этот neutrum как позднейшее изобретение некой философии, того рода, что встречается, напр., в Бхагават-Гите, где он весьма часто употребляется в качестве уловки,
подставляющей средний род на место утраченного бога, который как личность для
индуса, конечно же, может быть лишь ограниченным, т.е. либо Брахмой, либо Шивой, либо Вишну.
Я должен высказаться еще и относительно того порядка, в котором я расположил трех деджотов. В большинстве книг, а возможно, и во всех, вы увидите совершенно другой, а именно: Вишну в них стоит перед Шивой, так что тот является третьим и последним, а Вишну — вторым лицом индусской триады. Однако это
различие в расположении и последовательности покоится, в сущности, на недоразумении. А именно, в самой Индии приверженцы Шивы и Вишну противостоят друг
другу; естественно, что те отказываются признавать превосходство этого, и что, наоборот, приверженцы Вишну ставят своего бога выше Шивы. В одной области Индии, в Первуттуме, существует даже изображение, где Брахма держит в руке весы, на
чашах которых — Вишну и Шива. Чаша Вишну уходит глубоко вниз, чаша же Шивы
поднята высоко в воздух. Так что есть и такие, которые признают первенство Вишну. В последнее время некоторыми французскими учеными Брахма, поскольку он,
безусловно, стоит ниже Шивы и Вишну, был даже представлен как эманация Вишну,
а этот последний — не только как высочайший, но и как первый из трех. Однако это
уже совершенное и полное искажение истины. Брахма всегда остается первым, началом и источником, тем, из чего все исходит; Вишну есть, конечно, тот, на котором
все заканчивается и который в силу этого есть наивысший, однако из этого отнюдь
не следует, что он есть также и всеначальный, и столь же мало — что он может быть
поставлен перед Шивой.
В качестве же полного оправдания избранной нами расстановки трех деджотов,
в качестве доказательства того, что они мыслятся именно в этом порядке и последовательности также и среди мыслителей самой Индии, должна послужить мне индусская философема, а именно — учение индийских философов о трех качествах
и свойствах, которые у них рассматриваются как нераздельные, совокупность которых носит название Тригунайя. Далее каждое из трех лиц (Брахма, Шива, Вишну)
348
Вторая книга. Мифология
ставится параллельно одному из этих качеств. Эти три качества, или эти три региона, на которые, согласно индийскому учению, делится все бытие, суть следующие:
1) мир чистой истины или чистого света, 2) средний регион видимости и обмана
3) регион мрака (обычно они перечисляются именно в этом порядке). Среди них, далее, последний, регион мрака, приписывается Шиве. На это среди прочего ссылается Фр. Шлегель, дабы наряду с индийской мифологией обругать также и индийскую
философию, обвинив ее в том, что она позволила жестокому принципу разрушения
и пагубы, который одновременно является принципом мрака, войти в образ, в конструкцию совокупного божества. Однако дело обстоит совершенно иначе. Сторонник эманационного представления в этих теориях мог бы пожелать усмотреть тот
смысл, что из региона чистой истины мир поступенно погружается через регион
видимости и обмана в регион мрака. Индусская мысль лежит значительно глубже,
и этот ученый, должно быть, если и не неверно перевел это место, то во всяком случае, неверно его понял. Здесь, пожалуй, отнюдь не лишним будет объяснить подлинный смысл.
Итак, конечно, учение Вед, которое, однако, тем самым является уже философическим или спекулятивным, — это уже спекулятивное учение различает три качества, или гуны, которые оно приписывает трем деджотам: райю, таму и саттву
Качество Брахмы есть райя. Согласно В. фон Гумбольдту, к райя относятся деятельность, огонь и страсть, быстрота решения. Ею обладают цари и герои: однако
к ней всегда примешивается нечто тянущее вниз, к земле, что отличает ее от тихого
величия чистой сущностности. Влекомые райей любят все великое, могучее, блестящее, однако они преследуют также и видимость и пребывают в плену разнообразия
8
мира, действия Майи (Άπατη ). Из этого объяснения следует, таким образом, что
в понятии райи также мыслится бытие, однако не понятие спокойного, в самом себе
успокоенного, а как бы страстного, состоящего в могучем волении, бытия. Но именно оно и есть первое бытие, и первое бытие, как я уже ранее отчетливо показал, не
может быть никаким иным кроме бытия слепого, непосредственного и именно поэтому также сильного и неосознанного воления. Поскольку же теперь Брахма есть
первый божественный образ, т. е. тот образ божества, благодаря которому оно способно на непосредственное бытие, — вполне понятно, когда индийская философия
говорит: качество Брахмы есть райя. И если это первое, это непосредственное бытие
есть одновременно начало и основа всякого творения, то можно сказать: райя есть
как бы первое желание, страсть к творению в Брахме. Поскольку теперь, однако, невозможно помыслить страсть без какой бы то ни было альтерации, и таким образом
желающее и потому сущее с необходимостью становится неравным себе, то такое
бытие мы можем также назвать только кажущимся. Это то, что касается качества
райи. Брахма есть тот, кто производит и порождает только видимое бытие, которое
не является истинным, но отчужденным от его сущности.
Двадцатая лекция
349
Качество Шивы есть тама. Это теперь действительно означает темноту и мрак.
Однако не может ли это быть, даже и в самом индийском источнике, всего лишь
образным выражением, долженствующим обозначать негативное, отрицающее качество Шивы, и не должна ли поэтому истинная последовательность быть такой:
Брахма есть бог, полагающий видимость, только иллюзорное бытие; Шива — разрушитель видимости, отрицание ложного, собственно быть не должного, бытия. Если
принять то объяснение, что качество темноты в Шиве означает лишь его отрицающее
качество, то в соответствии с этим воззрением все получает действительно философское согласование, в то время как в случае с другим объяснением невозможно усмотреть никакой взаимосвязи и смысла, однако все же речь здесь идет об индусских
философах, которые в остроте и глубине мышления могут соперничать с философами всех времен и народов. Если под темнотой и мраком подразумевать то, что само
пребывает еще под видимостью, то оно было бы совершенно ничем и, будучи ничем,
не могло бы также быть производимо и создаваемо. Также, в том случае, если бы
мы предположили такой поступенный порядок, а) самым нижним регионом оказалось бы совершенное ничто, чистый мрак, Ь) вторым была бы видимость, с) третьим
(как мы сейчас услышим) — истина, непосредственный переход от видимости к истине; однако такой переход невозможен; не существует иного перехода от царства
видимости к царству истины, кроме как через уничтожение видимости; через третье
или наивысшее качество, которое приписывается Вишну, происходит, таким образом, требование некоего опосредующего. Это среднее, опосредующее, однако, лишь
постольку может быть темнотой или мраком, поскольку — конечно, когда уничтожается видимость, иллюзорное бытие, сперва возникает темнота, т. е. на то время,
покуда не появится высшее, подлинное бытие, либо некий род сумерек, поскольку
свет, который порождает видимость, прекратился, а высшее еще не наступило. Действительно, тама = сумрак. Таким образом, Шива есть бог сумрака, поскольку то, что
достигло только его, еще не достигло полной истины.
Третья гуна или качество есть, согласно учению Вед, саттва: слово, которое,
согласно объяснению В. фон Гумбольдта, означает бытие; однако, заметим хорошо,
бытие в том смысле, в котором оно свободно от всякого изъяна, или, как он говорит
определеннее, от всякого небытия, является абсолютно реальным и потому в познании становится истиной. Поскольку теперь это третье качество относится к третьему лицу, к Вишну, то и последовательность будет полностью соответствующей
нашим первым понятиям. А именно, положенное первым есть не как таковое (но
как иное) сущее сущее. Следующее по порядку есть сущность в противоположность
не-как таковому-сущему. Поскольку она есть противоположность не-как-таковой,
не истинно сущей сущности, она в силу этого хоть и есть в себе истинно сущее, однако, поскольку она в своей противоположности и в своем действии против ложного
бытия также положена вне себя, она все же не может претендовать на то, чтобы быть
350
Вторая книга. Мифология
как таковой, т. е. истинно сущей сущностью. Тем не менее, лишь посредством негации не как такового положенного сущего — сущее как таковое становится возможным и действительно положенным. Это третье было бы тогда сохраненным из разрушения первого, а значит, сюда входило бы еще и понятие сохранения. Вишну есть
спасающий истинное бытие из видимости и из ее отрицания, т. е. сохраняющий его.
Истина не может представлять собой непосредственное. Ибо всякое непосредственное бытие немыслимо вследствие выхода сущего из себя самого, т. е. вследствие его
иным- и себе-неравным-становления, и тем не менее оно должно прийти к бытию
и будет к нему приходить. Не остается, следовательно, ничего иного, как предоставить бытие неистинно сущему (в бытии самому себе неравному). Это есть conditio
sine qua non9 истинного бытия. Это не то, чего мы хотим, но это есть неизбежное,
обязательное, необходимое начало. Первое бытие может быть лишь обманчивым.
Но за ним непосредственно, однако как другая, от него с необходимостью отделенная, следует потенция, которая вновь упраздняет неистинное бытие, возвращая
его в сущность, где лишь тогда оно Есть (положено, закреплено) как не сущее; небытие — сущность — стала для него бытием. Чувственный мир, по индийскому учению, зачат в майе, т. е. он по своему последнему основанию есть всего лишь иллюзия,
обман, обладающий лишь химерическим, преходящим бытием (явлением). По мере
того, теперь, как ложное бытие в нем преодолевается, по мере сведения к сущности, мир вновь воспринимает истину — но бытие всех чувственных вещей все же
остается бытием смешанным, сотканным одновременно из видимости и сущности,
из истины и заблуждения (сумеречным). Однако не только в этом смысле истина
происходит от заблуждения, но — в результате того, что собственно не сущее отходит в свое не-бытие, на его место теперь полагается некая сущность как теперь уже
объективно, действительно сущее, и иным путем, кроме такого опосредования, она
положена быть не может. Лишь из разрушенного заблуждения происходит истина,
а именно свободная от видимости, как таковая познанная, закрепленная и теперь
уже окончательно и необратимо положенная истина.
Таким образом, теперь индусская триада также и философски или логически
пребывает в точнейшей взаимосвязи, и поскольку здесь Вишну приписывается саттва, истинное бытие, в котором уже нет ничего от обмана, то я не могу не отметить,
что само имя Вишну бесспорно связано с тем корнем, который во многих языках означает бытие и от которого происходит даже само латинское Est, a также немецкое
Ist, в еврейском Ф\10 (коренное слово ПЕГ11), от которого n-wi12, которое также означает одновременно сущностность и истинность. В мое намерение не могло входить
выведение [имен] индусских богов из еврейского. Такие выведения, действительно,
слишком узки для нынешней токи зрения языкового сопоставления и языкознания.
Между тем, я частенько интересовался у знатоков санскрита, которых имел основания считать весьма хорошо осведомленными, имеют ли имена Брахма, Шива и Вишну
Двадцатая лекция
351
в индийском языке какую-либо этимологию, — и всегда получал на свой вопрос
отрицательный ответ. Если, теперь, дело обстоит таким образом, то эти три имени
вполне могли бы принадлежать к формации более древней, нежели санскрит (который, согласно истинной хронологии языкового строения, по сути является не более
древним, чем греческий): например (поскольку еврейские слова содержатся также и
в санскрите), — еврейской. Было бы совсем не трудно обнаружить в этой формации
соответствующие данным трем именам коренные слова и основные понятия. Или
разве не было бы действительно весьма возможно поставить имя Брахмы как богасоздателя чистой материи во взаимосвязь с еврейским К")Э13, которое, несмотря на
позднейшее колеблющееся словоупотребление в еврейском, все же первоначально и
в самом древнем языке, — означало производство простого материала? Ибо именно
оно употреблено в начале книги Бытия, где за словами: В начале Бог создал, ΚΊ?14>
небо и землю, непосредственно следует: земля же была tohu vabohu15, т.е. бесформенной массой. Имя же Шивы с равной определенностью указывает на ту еврейскую
семью слов, к которой относится также и от;16, и в соответствии с этим Шива был
бы тем, кто ведет творение из тесноты в простор, во многообразие бытия. Наряду с множеством корневых слов (Grundwörtern), являющихся в санскрите общими
с греческим, а также с германскими языками, — давно уже обнаруживаются такие,
которые все еще являются в нем общими с еврейским. Уже одно имя Вед, содержащих священную науку, данных в откровении самим Брахмой, служит тому доказательством. Это имя связано в индийском языке со словом, которое означает «знать»,
а следовательно, есть одно с еврейским уу*17 (по отношению к которому vêda есть
всего лишь диалектный вариант), а также с латинским videre18, ειδειν19. Следовательно, также и немецкое Wissen относится к семье слов, сохранившихся с древнейших
времен. Эти соображения я хотел привести здесь не столько в целях настоящего исследования, сколько ради дальнейших разъяснений. Здесь важно было лишь показать, каким образом Шива, даже и будучи несущей разрушение и саму смерть потенцией, или в качестве причины темноты в познании, каковой он является, разрушая
видимость, тем не менее, смог найти свое место в индусском божестве — без того,
чтобы по этой причине нам необходимо было разделять то мнение, которое на этом
основании желает видеть в индийской мифологии нечто особенно демоническое.
Для нас было важным убедиться в расположении и, тем самым, в значении трех
великих потенций, которые могут быть найдены в индийском сознании лишь в виде
результата. В отношении этого, подтвержденного также и в индийской философии,
расположения я хочу лишь упомянуть, что в скульптурных изображениях Вишну
всегда представляется как своим лицом и всем своим обликом младший по отношению к Шиве. Относительно значения я хочу привести тот факт, что в колоссальной,
имеющей 13 футов в высоту статуе в подземных скальных храмах на Элефанте20,
которую еще Нибур объясняет как изображение индийской Триады, Вишну с богато
352
Вторая книга. Мифология
украшенной головой (знак юности) держит в одной руке цветок, а в другой — плод,
напоминающий гранат; на его пальце есть кольцо: цветок в одной руке и плод в другой обозначают его как бога совершенства, в качестве знака коего могло бы быть
истолковано также и кольцо.
После того, теперь, как мы достигли определенности в отношении Триады, следует отметить, что индийская мифология состоит не из нее одной. Заметьте вообще,
что прежде всего речь идет о материале. Следовательно, сейчас необходимо показать
также и остальные составные, части.
Представление индийской мифологии отчасти также и потому затруднительно,
что ее при этом предполагают как действительное единство. Однако те же самые моменты мифологического процесса, которые мы прежде разделили между отдельными народами, похоже, здесь, в среде одного народа индусов, словно бы распределились между разными органами, так что можно сказать: у индусов нет одной религии
или одной мифологии, но есть лишь действительно различные религии и различные
мифологии, и в этом именно заключается глубочайшее основание индийских кастовых различий. Нечто подобное, правда, также и в Греции. Здесь некоторые исчезнувшие религии древности еще сохранились в отдельных областях или народных
кругах. Однако Греция никогда не знала каст. В Индии же, напротив, эти моменты
словно бы увековечены именно благодаря кастовым различиям. Так, например, тот
более ранний момент, который мы в общем продвижении обозначаем как Уранию —
тот момент, где прежде мужественный бог превращается в женственного, — этот
момент, похоже, полностью отложился во, впрочем, в самой Индии презираемой
секте шактиев, о которой Колбрук* (Colebrooke) утверждает, что ее приверженцы
являются исключительными почитателями женского божества, а именно — соответствующего Шиве женского божества, Бхавани. От данной секты, по-видимому,
отличаются Сайвы (Saivas), о которых говорится, что они почитают одновременно
Шиву и Бхавани. Последователи этой исключительно почитающей женское божество секты пользуются в Индии не меньшим презрением, чем в Греции так называемые метрагирты, нищенствующие жрецы Кибелы, или жрецы Зевса Сабазия.
Отличительной чертой последней секты — Сайв — является оргийное поклонение
лингаму, т. е. символу соединенных детородных органов обоих полов. В частности
же, из превосходящего всякое представление бесстыдства и разнузданности изображений, покрывающих храмовые стены в Элефанте, можно сделать тот вывод, что
здесь изображен первый Шива, Шива в его первом проявлении (где он соответствует
тому Дионису, который параллелен Урании, или Зевсу Сабазию греков). Все прежние формации предстают, следовательно, в индийской мифологии одновременно
* Asiat Res.y VII, 281.
Двадцатая лекция
353
с позднейшими, находясь, однако, в подчиненном к ним положении. Ибо, напр.,
последователей этой поклоняющейся лингаму секты можно найти лишь исключительно среди представителей низшего класса народа, так называемых чандала.
Впрочем, также и они, по свидетельству Колбрука, подразделяются в своей среде на
исповедников пристойного и непристойного культов, или, как они еще говорят, на
сторонников левого и правого пути. Правый путь есть путь вперед, и он имеет свое
продолжение в более высоком моменте мифологического процесса. Последователи
непристойного культа прячутся от мира и не исповедуют своего учения открыто
(тайные церемонии), т. е. они сами рассматривают его как лишь один момент прошлого, который они удержали. Также и эта секта, — секта сакт, — имеет свои особые
книги; их учения основываются на Тантрах, которые именно поэтому глубоко презираемы сторонниками других сект, в особенности приверженцами Вед.
Кроме этих элементов прошлого, которые еще можно наблюдать в индийской
мифологии, необходимо различать еще одну, другую формацию богов. Также и здесь,
в случае с индусскими, как это мы ранее наблюдали в случае с египетскими богами,
также и здесь в обычных представлениях все смешивается и переплетается, словно
бы все имело одинаковое значение и допускало одинаковый подход. Однако в том,
что называется индусским богоучением, кроме трех великих потенций, принадлежащих высшему региону, можно различить и вторую, весьма отличную формацию
мифологических богов. Эта последняя состоит из материальных богов, которые еще
могут рассматриваться как действительное порождение мифологического процесса.
Эти материальные боги повсюду представляют собой всего лишь как бы остатки или
произведения разрушенного, распавшегося, реального бога. Брахма, сперва исключительный бог, должен мыслиться как расчлененный, распадшийся на множество
богов: бог, который вместо себя оставляет то материальное множество богов, которое есть предмет и содержание общей веры в богов индийского народа. Исключительный принцип не может исчезнуть, не оставив вместо себя разнообразную
и многочастную жизнь в настоящем. Множество богов (в отличие от многобожия)
приходит на место исключительного Бога и является как бы сигналом, знаком его
вытеснения. Это множество богов, которые приходят на смену Брахме, но которые,
однако, именно поэтому образованы из его материи, — выказывают себя как материальные также и в том смысле, что все они вместе мыслятся как управляющие
теми или иными частями природы или им соответствующие. Как единое и единообразное бытие в самой природе делится на регионы и имеет градации, точно так
же единый Бог для сознания в результате мифологического процесса распадается на
множество природных богов. В качестве главы этих только природных богов рассматривается Индра, бог высшего воздушного региона, эфира, который в силу этого
обычно сравнивается с греческим Зевсом. Что касается остальных, то я должен заметить, что, безусловно, также и в отношении этих оставшихся после распада Брахмы
354
Вторая книга. Мифология
богов может быть указано существование некоторой системы, взаимосвязи, каковая
система и взаимосвязь может быть обнаружена среди греческих, напр., богов. Однако именно данная сторона индусской мифологии почти совершенно обойдена вниманием исследователей. Наше знание об индусском богоучении почерпнуто, главным образом, из сочинений и трудов высших, образованных каст Индии, которые
меньше всего занимаются описанием этих материальных, но прежде всего высших,
формальных богов. В Греции, где не существует кастовых различий, эти материальные боги являются всеобщими богами греческого народа. Эпические стихотворения
Индии все еще известны нам в меньшей мере, чем те или иные доктринальные произведения. Если бы у нас не было Гомера, нам также было бы трудно систематически
представить материальный политеизм эллинов. Индия не имела своего Гесиода. При
том идеалистическом и спиритуалистическом направлении, которое индусское сознание приняло сразу же по возникновении индусской мифологии, материальному
политеизму внимания не уделялось. Собственно сила мифологии, ее сокровенное
внутреннее, истинные пружины процесса лежат вне материальных богов. Эти последние представляют собой лишь сопровождающий, побочный феномен уходящего
реального бога, Брахмы. Шива есть тот, который полагает его как ушедшего, а следовательно, он есть одновременно причина материального политеизма, причина того,
что Брахма распадается на этих отдельных, иерархически организованных богов или
уступает место множеству богов, отличных друг от друга. Вишну есть тот, кто на место ушедшего реального единства вновь полагает единство, однако высшее, духовное. Один и тот же Бог в качестве уходящего единства есть Брахма, в качестве разрушителя его — есть Шива и в качестве того, кто положенное теперь множество вновь
приводит к единству, — есть Вишну. Так относятся высшие, причинные боги ко множеству материальных богов. Подавляющее большинство, большая часть индийского
народа, не относящаяся к низшим классам, состоит из чисто материальных политеистов — тех, кого Бхагават-Гита обозначает как преданных отдельным богам и следующих за ними. Эти чисто политеистические (т. е. в материальном только смысле политеистические) индусы представляют собой не что иное, как шиваитов, на которых
Шива оказывает непосредственное воздействие. Для них Брахма является навсегда
и всецело исчезнувшим. Имя, которым сам себя обозначает высший класс Индии,
может быть понято двояко. Брамины могут трактоваться либо как «придерживающиеся Брахмы» и потому вновь усматривающие, вновь находящие его в Вишну, отличающиеся, тем самым, от прочего народа, преданного материальному политеизму
и одному лишь Шиве. Если же, однако, поразмыслить над собственно их отношением к народу, если принять во внимание, что их преимущественное устремление еще
и сегодня направлено на то же, на что оно было направлено и в более ранние времена
кровавой борьбы с буддизмом, — а именно, на сохранение народа в пределах культа,
церемоний и суеверного почитания только материальных богов, которые всецело
Двадцатая лекция
355
происходят от Брахмы, как бы образованы из субстанции Брахмы, — если заметить,
что сами они не особенно поощряют культ Шивы, который все же является духовным богом, но напротив, скорее стремятся к тому, чтобы сохранить народ на ступени Брахмы и брахманизма, — то можно склониться к тому, чтобы выводить то имя,
которым они сами себя называют, именно от Брахмы.
Однако, дабы вернуться к материальным богам Индии, следует сказать, что вообще относительно этих последних нельзя указать на присутствие столь же отчетливой и определенной системы, какая имеет место в случае богов того же рода в греческой мифологии, поскольку индусское сознание вскоре оставило этих подчиненных
богов и устремилось в другом, высшем направлении, а именно — в направлении,
обозначенном Вишну. Для настоящей цели, между тем, достаточно различать две совершенно разнородные формации в том, что обыкновенно принято называть индийской мифологией, а именно: а) те элементы, которые ведут свое происхождение
из мифологического предвремения Индии; Ь) тех формальных богов, Брахму, Шиву
и Вишну, которые по отношению к материальным являются только причинными потенциями; с) собственно материальных богов. Кроме этих трех сторон индийской
мифологии следует теперь отметить еще и четвертую, благодаря которой индийская мифология серьезным образом отличается от всех прежде рассматривавшихся
мифологий.
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ
Эти три потенции проходят в индийском сознании лишь разрозненно, не разрешаясь в истинное все-единство, более слабые органы при этом всецело подпадают под власть Шивы. Высшее понятие светлого божества может утвердиться лишь
в противоположности и в борьбе с ним (с Шивой); однако поскольку Вишну для
сознания является изолированным, оторванным в сознании от своих предпосылок,
как бы висящим в воздухе, сознание не может утвердиться на этой высоте, но вновь
устремляется в материальное, впрочем так, что это материальное, в которое для него
нисходит бог, предстает не как изначальное и естественное, но лишь как принятое
и принятое именно добровольно. С Вишну поэтому начинается совершенно новая
формация индийской мифологии, а именно ряд инкарнаций этого Вишну, который
представляет собой материал для так называемых Пуран, священных книг второго
бога, каковые книги пользуются своего рода каноническим авторитетом, однако не
являются священными в той же мере, что и Веды. Далее эти инкарнации представляют собой основу бесконечного количества эпических стихотворений Индии, тематика которых, однако, ограничивается Вишну. Правда, в новый и новейший подходы
к индийской мифологии вкралось недоразумение, согласно которому Брахма, Шива
и Вишну сами представляют собой инкарнации индийского божества. Это совершенно ложный взгляд. Инкарнации суть всего лишь подчиненные боги. Крейцер,
который повсюду предполагает формальное или абстрактное, или, по меньшей мере,
весьма неопределенное понятие монотеизма, сам не способен представить себе эту
индусскую тройственность иначе, нежели как следствие происшедшей инкарнации.
Это, однако, совершенно произвольная интерпретация, чуждая самой индусской мифологии. Правда, в индусской мифологии известно множество инкарнаций Вишну
(я не могу сказать «вочеловечиваний», ибо он инкарнируется также и в животных),
она предполагает девять, или, если прибавить к ним еще и предстоящую, десять таких инкарнаций, однако уже инкарнировавшийся ведь не мог бы инкарнироваться
еще раз. Вишну таким образом есть чисто духовная потенция.
В этой части индусской истории богов прежний необходимый и закономерный
ход мифологии сворачивает в область произвольного и сказочного, лежащую всецело
Двадцать первая лекция
357
вне научного рассмотрения. Для меня, по меньшей мере, было невозможно усмотреть в следующих одна за другой инкарнациях Вишну какую бы то ни было закономерность. В них ощущается искусственность, более того, они напоминают своей
дразнящей причудливостью, некоторым присущим им тупоумием — иные сюжеты
нордической мифологии. В первых инкарнациях, похоже, различимо намерение дать
вишнуизму возможно более древний возраст, идущий от самого потопа. Столь велико было и отчасти есть суеверное почтение к этим легендам, что иные, напр., в первой из них желают видеть независимое от Ветхого Завета свидетельство о потопе.
Между тем, самые авторитетные и самые склонные к критическому рассмотрению
знатоки санскрита, такие как Вильсон, Колбрук, а в последнее время еще и Ф. Бурнов
(F. Burnouf) — не побоялись обнародовать свое мнение, согласно которому Бхагават-Пурана была написана приблизительно лишь в двенадцатом столетии христианского летоисчисления. Таким образом, христианская традиция повествований о потопе, видимо, имела время для того, чтобы дойти до Индии, что, впрочем, с тем же
успехом могло произойти также и задолго до Рождества Христова. Следовательно,
в этом повествовании нельзя усматривать ничего кроме попытки отодвинуть начало
вишнуизма ко временам всеобщего потопа.
Следующие инкарнации имеют отношение к истории, борьбе и конечной победе
вишнуизма в Индии. В шестой инкарнации Вишну предстает в образе скромного
брамина, дабы смирить дерзость кшатриев, касты воинов; он вооружен топором,
который дал ему Шива. Сам Шива, тем самым, помогает конечной победе Вишну.
В этой инкарнации он носит имя Парашу-Рама, в отличие от гораздо более блестящего явления, которое следует далее. Ибо в седьмой инкарнации он также есть Рама,
1
однако Рама κατ' εξοχήν , или Шри-Рама. Приключения и деяния Шри-Рамы являются теперь главным предметом великих эпических сочинений Индии, преимущественно Рамаяны.
В образе Шри-Рамы Вишну предстает юным героем, увенчанным красотой и силой, другом битв и наслаждений, предназначенным для господства над миром: одним словом, он имеет все необходимое для того, чтобы быть героем эпопеи в самом
высшем смысле. Мы, таким образом, видим, как индийская мифология с помощью
усвоенных ею средств инкарнации нашла одновременно возможность перехода
в эпическую поэзию, которого ранее она была абсолютно лишена. Ибо о людях вообще, об их человеческих свойствах, их справедливости индийское сознание имеет
слишком низкое мнение, для того чтобы делать простых людей героями эпических
стихов. Основным предметом воспевающего деяния Рамы героического стихотворения является его война против царя Ланки или Цейлона, против которого он выступает в союзе с населяющими горы обезьянами, слугой и военным предводителем
которых является великий Ханумар. Наиболее знаменитым, даже в скульптурных
изображениях представленным деянием этого странного воинства является мост,
358
Вторая книга. Мифология
который оно сооружает над морским рукавом, отделяющим Цейлон от материка.
После того как построен мост из скал, и войско переправляется через него, происходит двадцать сражений, покуда наконец в двадцать первом, главном сражении Рама
не одерживает победу над своим врагом, не убивает его и не сталкивает в пропасть.
На обратном пути его армия сносит построенный мост; от него, правда, остаются
отдельные выступающие из воды скалы, которые и по сей день еще носят имя моста
Рамы (магометане называют его мостом Адама). На материке, на противоположном
Цейлону побережье он воздвигает храм Шиве, чьим большим почитателем был побежденный царь Цейлона. После своего возвращения он завладевает царством Айодья, которое раньше не принадлежало ему и которым теперь он руководит как мудрый законодатель и царь, осчастливливающий своим правлением народ и целый
мир, покуда не возвращается в свое небо (Виконту), откуда он все еще продолжает
заботиться о счастье мира. Все храмы и монументы Индии покрыты скульптурами
и живописными изображениями, в которых представлены эти деяния Рамы и его
удивительной армии. Даже на общественных празднествах, среди хороводов и под
шум воинственной музыки можно видеть сценические представления этих деяний,
причем немалую роль играют обезьяны, и сильное впечатление производит низвергаемый в пропасть царь Цейлона.
Если теперь, однако, Шри-Рама есть главным образом герой эпической индийской поэзии, то Кришна, т. е. следующее, восьмое воплощение Вишну, есть явление,
в гораздо большей мере относящееся к религиозному развитию Индии; Кришна есть
высшее историческое прославление вишнуизма. Можно утверждать, что учение
Вишну в Индии существует главным образом лишь как учение Кришны. Последователи Кришны образуют в общей церкви Индии нечто вроде особой господствующей
касты. В то время, когда должен был родиться Кришна, над Матуной царствовал
тиран Камса, чьей сестре предстояло стать матерью Кришны. Еще за долгое время
до его рождения его приход был предсказан жестокому тирану Матуны, и тот, дабы
воспрепятствовать исполнению предсказания, убивал всех детей своей сестры. Уже
семеро были убиты, однако восьмому младенцу, Кришне, суждено было спастись от
преследования тирана. Каким образом — рассказывается по-разному. Так или иначе,
но он появляется на свет в полночь, излучая божественный свет и наполняя им своих родителей, которым он сам советует перенести его через реку Ямуна в индийскую
пастушескую Гокулу, с тем чтобы там он был воспитан как сын одного из пастухов.
Здесь, живя среди юных пастухов и пастушек, он делит их игры и занятия, и передвигая одним лишь движением пальца горы, побеждая великанов и чудовищ, он восхищает диких животных мелодическими звуками своей арфы; зачарованные звери
кротко подходят к нему, чтобы лучше слышать их; ничуть не меньше своими шалостями он приводит в восторг юных пастушек, однако, наконец, он вырастает из этих
игр, собирает вокруг себя молодых воинов и отправляется вместе с ними в поход
Двадцать первая лекция
359
против тиранического правителя — брата своей матери. Он побеждает и убивает
его, а затем освобождает своих родителей из жестокого заключения, в котором тот
содержал их все время его отсутствия. Свою главную роль героя он, однако, играет
рядом с Куру и Панду, который является героем второй великой эпической поэмы
Индии, Махабхараты. Различны повествования о его смерти. Однако самой распространенной версией является та, согласно которой он был пригвожден стрелой к дереву и таким образом умер на древесине (am Holze); пригвожденный к стволу, он
предсказал все несчастья, которым суждено было произойти на земле в грядущую
эпоху Кали-Юги. Исключительные обстоятельства его рождения, а также последнее
обстоятельство, его смерть на дереве, должны были почти с неизбежностью напоминать аналогичные мотивы евангельских повествований. Другие обстоятельства напоминают почти с той же определенностью характерные черты греческой мифологии. Что касается теперь первых черт, напоминающих повествования христианских
евангелий, то было бы абсурдно думать здесь о какой-либо глубокой или мистической взаимосвязи. Ибо что бы мы на самом деле ни думали о церковном предании,
касающемся путешествия апостола Фомы в Индию, все же неоспоримым является
тот факт, что христианская религия стала известна в Индии уже в первые века своего
существования и что, в частности, в Индию в начале эры пришли апокрифические
Евангелия. Почему было индусам не позаимствовать эти характерные черты христианского повествования для своих сюжетов, если то же самое они сделали с чертами
греческой мифологии? Чем более сомнительным представляется в последнее время
возраст так называемых Пуран — сочинений, благодаря которым мы знакомимся
с этими сюжетами, — так что никто не рискнул бы дать им даже возраст походов
Александра Великого в Индию, тем меньше имеется оснований воспринимать всерьез упомянутые сходства. Вильям Джонс сравнил Кришну с греческим Аполлоном
(Аполлоном Nomios), который во время своего унижения также жил среди пастухов; в девяти пастушках, которых особенно любит Кришна, он хочет видеть девять
муз. Известный патер Паулинус сравнивает Раму и его шествия с триумфальными
шествиями Вакха. Крейцер же желает видеть в нем, напротив, прообраз Геркулеса*.
Однако чем многочисленнее становились моменты сходства, тем в большей степени они могли служить лишь свидетельством того, что эти индийские сюжеты в их
теперешней форме образовались под влиянием, с одной стороны, христианских, а
с другой — греческих представлений. Ибо в последнее время в Индии была обнаружена даже вполне развернутая история Эдипа. Возможно, есть еще такие сильные
в вере, которые склонны также и это повествование, как и все греческое богоучение,
выводить из Индии. Опровергнуть такую веру нам, конечно же, будет не под силу.
Там же, I, 623.
360
Вторая книга. Мифология
Я перечислил здесь весь этот ряд инкарнаций Вишну для того, чтобы показать вам,
что эта часть индусских сюжетов не имеет никакого значения для внутреннего индусского богоучения.
В первую очередь важно получить картину индийской мифологии во всем
ее распространении. Поэтому непосредственно вслед за инкарнациями Вишну я
привожу следующее замечание. Инкарнации Вишну представляются в известной
мере как нарост на стволе собственно индийской мифологии, как нечто, к чему
она не была приведена посредством естественного процесса. Поэтому может возникнуть мысль усматривать в них вкрапление изначально чуждого индийскому
образа мышления. Для буддизма идея инкарнации сущностна, для индийской мифологии — случайна. Далее, теперь, исторически является бесспорным, что буддизм просуществовал в Индии долгое время, прежде чем в результате кровавой
борьбы, чья собственная, столь поздно вступившая в действие причина осталась
сокрытой, он был вытеснен со всего пространства Индостана. Ничего нет поэтому
более естественного, чем предположить, что именно буддизм и представляет собой то чуждое вкрапление, которому удалось отклонить индийскую мифологию от
русла ее естественного развития, сообщив ей тот несвойственный элемент, который мы могли различить уже в легендах о Вишну, в особенности учение о добрых
и злых духах и о борьбе доброго и злого принципов. Однако, упоминая буддизм,
мы, тем самым, по существу касаемся великой загадки в истории индусского образования, все попытки объяснения которой до сей поры потерпели крах. Что есть
буддизм? Это может означать: 1) что он есть по своему содержанию? Ответ кажется
нетрудным. Он есть пантеистическое учение. Однако при неопределенности понятия пантеизма, под которым принято понимать в высшей степени различные вещи,
этим совершенно ничего не сказано. Вопрос может мыслиться 2) исторически. Не
предшествует ли а) буддизм брахманизму, и не образовался ли брахманизм лишь
в результате расщепления первоначального, родного для Индии буддистского учения? Как известно, делались попытки утверждать также и это. Или Ь) буддизм возник после брахманизма, либо аа) из мистических, близких к пантеистическому учению частей самих Вед? Либо bb) из того в высочайший спиритуализм возведенного
вишнуизма — в том виде, в каком его можно видеть в знаменитой Бхагават-Гите,
или ее) из одной из философских систем Индии; и не был ли он вообще изначально
лишь философским учением, которое в Индии пытались поставить на место общественно значимой религии? Ни одно из этих мнений не имело недостатка в защитниках и приверженцах. Возможно, что и ни одно из них не является истинным.
Однако для того чтобы судить о них, нам придется получить некоторые познания
относительно мистических разделов Вед, а также о различных философских школах Индии и о спекулятивном учении, до которого смог подняться образовавшийся
вишнуизм.
Двадцать первая лекция
361
Итак, сначала о мистической или теософической системе Вед. Как, однако, мы
смогли бы вести о ней речь, не ознакомившись сперва в общих чертах с самими Ведами? Сперва, таким образом, о Ведах.
Под Ведами понимают вообще главным образом священные книги Индии, читать
которые лично позволено только браминам. Следующие классы могут лишь слушать
их чтение, низшим же отказано даже и в таком праве. Благодаря этому обстоятельству Веды в самой Индии в новейшее время сделались настолько неизвестным и таинственным предметом, что еще во времена Зоннерата о них говорили с сомнением
в их существовании, а многократно упомянутый здесь Паулино ди Сент-Бартоломео
даже потешался над теми, кто льстил себя надеждами действительно их отыскать.
Несмотря на то что сейчас они давно уже найдены, и в Европе существуют их полные
списки, они все же продолжают оставаться во многих отношениях закрытой книгой.
Также и во многих отношениях ценная работа величайшего знатока индийской литературы, знаменитого Колбрука, чье сочинение в «Asiatik Researches» смогло дать
нам первое отчетливое понятие, по меньшей мере, о составе этих книг и их общем
содержании, — тем не менее, оставляет желать лучшего для немецкого читателя. То,
что дали нам позднейшие усилия слишком рано умершего Розена и многих других
молодых людей, посвятивших себя ныне изданию и комментированию Вед, еще не
поддается ясному рассмотрению и оценке. Еще Колбрук, по-видимому, не считал
возможным их совершенный перевод. Язык, на котором написана большая часть
Вед, представляет собой редкостную трудность, так что, как уверяют, даже среди нынешних браминов найдется немного тех, что смогут похвалиться полным пониманием этих книг хотя бы в языковом отношении. Еще большую трудность представляет содержание, и преодолеть ее нельзя надеяться, не имея особого философского
посвящения, даже и с помощью индийских коментариев, которые, в свою очередь,
требуют для себя комментариев и отчасти иногда их получают. Наиболее древний
из этих комментариев сам представляет собой часть Вед, и потому столь же непонятен, как и они сами. Самым знаменитым комментарием является комментарий
Шанкары. Он, по всей видимости, относится лишь к философским и теософским
частям Вед. Если, однако, на первых порах мы и вынуждены будем отказаться от
вынесения суждения обо всех частях Вед, их взаимосвязи, их относительном возрасте и т.д., то все-таки даже и тех знаний, что даны нам Колбруком и некоторыми
другими, если распорядиться ими с непредвзятостью и надлежащей критичностью,
будет достаточно для того, чтобы вынести суждение о Ведах в целом и, по меньшей
мере, поставить вне сомнений: 1) что Веды представляют собой композицию или
собрание, которое соединяет в себе части из весьма различных времен. Согласно
рассказам самих индусов, первоначальные Веды, хоть и были даны в откровении самим Брахмой, однако затем передавались из уст в уста вплоть до того времени, когда
Пиаза (Pyasa) (который сам в свою очередь представляется как инкарнация Брахмы)
362
Вторая книга. Мифология
собрал их и, разделив на отдельные книги, записал, благодаря чему они и носят теперь название Веда-Пиаза. Вильям Джонс относит возникновение Вед ко времени,
близкому к потопу; он считает их написанными еще задолго до того, как Моисей вывел детей Израиля из Египта. Возможно, что в Ведах содержатся некоторые фрагменты, которые относятся к очень далекой древности; что же касается самого собрания,
то мне думается, я способен привести доказательства, из которых будет явствовать,
что оно было завершено именно сюжетами о Раме и Кришне и их распространением.
Как многие заблуждались относительно возраста Вед, питая преувеличенные
надежды на их древность, точно так же мы обманулись бы, если бы посчитали, что
2) из Вед — как из чистого источника — можно почерпнуть истинное познание
о собственно системе браминов. Ибо отчасти мы заблуждаемся уже с того момента,
как вообще предполагаем, что существует общая система брахманической религии.
Если бы это было так, то все брамины должны были бы быть согласны между собой,
тогда как в своих философских и системных высказываниях они демонстрируют такое же различие, как и философы других наций. Веды же как раз в этом отношении
являются документом столь мало решающим, что ни один брамин не будет в растерянности ни секунды при отыскании в Ведах свидетельств, подтверждающих его
отличное от других мнение или учение. Вообще Веды ничуть не проникнуты единым
учением, проходящим насквозь через все книги, и равным образом и та мистическая
или теософская система, о которой мы предварительно вели речь, — есть система
лишь одной части Вед, но никак не система, согласно которой они были выстроены
и образованы во всех своих частях. Еще меньше можно представлять себе, что в них
мы обладаем источником индийской мифологии или памятником, из которого можно почерпнуть знание о возникновении индийской религии. Веды в большей части
своего содержания уже предполагают существование мифологической религии Индии; о мифологическом процессе, в ходе которого она возникла, они, следовательно,
не могут сказать ничего.
После этих общих замечаний давайте приступим к рассмотрению отдельных частей, из которых составлены Веды. Настоящее деление должно исходить из Веда-Пиаза. Пиаза, по свидетельствам, разделил индийское священное писание на те четыре
части, на которые оно делится до сих пор и которые носят название четырех Вед,
а именно: 1) Риг-Веда, 2) Джур-Веда и 3) Сама-Веда. Четвертая часть называется Атхарва. Книге законов Ману, которую принято считать следующей старшей по возрасту после Вед, известны, однако, лишь три Веды. Ману лишь намекает на четвертую,
Атхарва, не называя ее при этом Ведой. Лишь Пураны, содержащие в себе собственно легенды индийской мифологии, цитируют всегда четыре Веды, однако возраст
некоторых из них, по словам Крейцера (а я полагаю, мы имеем право сказать: всех
Пуран), является более чем сомнительным, несмотря на то что сами они преподносят себя как части пятой Веды.
Двадцать первая лекция
363
Что касается внутреннего деления Вед, то каждая отдельная Веда состоит
1) из собрания молитв и обращений, называемых мантрами; их можно было бы
обозначить еще и как гимны различным божествам. Та часть каждой Веды, которая
содержит мантры, называется Санхита (Sanhita). Вторая часть каждой Веды носит
название Брахмана. Она содержит, главным образом, предписания, помогающие усвоению тех или иных религиозных обязанностей. Третья часть каждой Веды есть так
называемая Веданта, т. е. научный раздел; он состоит из сочинений, называемых Упанишадами: слово, которое Шанкара (Sankara) и наиболее авторитетные комментаторы объясняют как божественную науку, науку о Боге — теософию. Однако, когда мы
говорим о трех частях, это не следует понимать слишком буквально. Ибо некоторые
Упанишады находятся также и рядом с Брахманами, т. е. во второй части; одна Упанишада является даже частью одной Санхиты, лишь большинство их существуют
как отдельные, обособленные части.
В отношении первой части, — так называемых мантр, — я хочу сделать лишь одно
замечание, к которому дают повод сведения, сообщаемые Колбруком. Он говорит,
что первая из Вед (т. е. Риг-Веда) начинается с многочисленных гимнов или хвалебных, составленных из стихов, воззваний, которые под множеством имен и прозвищ
все же преимущественно обращены к природным предметам: к небесному своду,
огню, Солнцу, воздуху, воздушному кругу, Земле и даже к тем или иным небесным
созвездиям. Поскольку, однако, здесь идет речь также об именах и прозвищах, то
по всей видимости, эти призывы обращены не непосредственно к природным предметам, но к богам, в которых лишь Колбрук видит природные предметы. Если бы
это были непосредственные обращения к Солнцу и стихиям, то отсюда даже и тогда
лишь в некотором смысле могло следовать то, что желает вывести Колбрук, а именно — что первоначально между Индом и Гангом господствовала аналогичная древнеперсидской, также обращенная к небу и стихиям, религия, чем Колбрук собственно
хочет сказать, что народ индусов первоначально был привержен такой, аналогичной
персидской, религии. Однако, согласно нашему часто повторявшемуся постулату, народ индусов начинает свое существование лишь одновременно со своей мифологией.
Индус и его особая мифология, которая одна делает его этим определенным народом, вместе и одновременно выходят из всеобщего прошлого. Бесспорно, что также
и индусу пришлось пережить этот момент чистого забизма, однако лишь как части
всеобщего человечества, не как индусу. Если бы, таким образом, эти обращения относились непосредственно к небу, Солнцу и т. д., то из этого следовало бы лишь, что эти
части Вед имеют не индийское происхождение. Ничто не мешает нам, при очевидной
сложносоставности Вед и при очевидных противоречиях, обнаруживающихся между их различными частями, предположить, что они представляют собой несомненно
в Индии собранную, однако тем самым еще никоим образом не специально индийскую, но более общую религиозную книгу, в которую ее собиратели внесли все, что
364
Вторая книга. Мифология
показалось им в древности достойным внимания в религиозном отношении. Ценность Вед никак не будет в результате этого умалена, но напротив — лишь повысится. Колбрук идет еще дальше, и после того как из этих воззваний к созвездиям, светилам и т.д. он сделал вывод о существовании первоначальной астральной религии
в Индии, он использует три списка имен богов, которые можно найти в глоссарии,
сопровождающем Веды, который, по меньшей мере, должен иметь тот же возраст,
что и сами Веды. Здесь, говорит он, имена сгруппированы таким образом, что первый список содержит только имена богов, которые можно рассматривать как синонимичные огню, второй — синонимичные воздуху, третий — те, которые равнозначны Солнцу. Здесь, однако, ясно видно, что речь идет об одном лишь объяснении этих
божественных имен. Далее Колбрук ссылается на другую часть глоссария (указатель), где ясно говорится, что существует лишь три бога, и на другое место, которое
также гласит, что богов всего три, и что они по-разному называются в зависимости
от своих различных действий, и что также и этих трех следует сводить к Одному, называемому Маханатма, великая душа. На эти три пункта, таким образом, ссылается
Колбрук, дабы обосновать тот результат, что древняя религия индусов признавала
лишь Одного Бога и, возможно, имела в себе лишь ту нечистоту, что не умела в достаточной мере отделять творение от Творца.
Что, однако, теперь касается данных этого глоссария в Ведах, — то также и в Греции довольно рано можно встретить подобные объяснения, где подлинно мифологические божества объясняются как всего лишь стихии; и в подобных объяснениях
следует распознавать отнюдь не историческое свидетельство, но напротив, лишь
стремление свести это огромное множество богов, которые призываются в традиционных мантрах и которых сознание постепенно начинает стыдиться, — к небольшому
числу основных потенций, с тем чтобы сделать их для сознания более приемлемыми.
Что, в частности, касается указателя, который уверяет, что эти три бога, в свою очередь, сводятся к Одному божеству, называемому Маханатма, то — безусловно, можно
было бы допустить, что этот указатель был написан одновременно с Ведами, т. е. с собраниями этих рукописей. Однако из этого никак не следовало бы, что его можно рассматривать как одновременный с отдельными частями этого собрания, точно так же
как еврейская Масора вполне может быть современной сборному канону ветхозаветных книг, но тем самым еще отнюдь не каждой отдельной книге, напр., Пятикнижию
или отдельным псалмам. Напротив, сама та неуверенность и боязнь, с которой выказывается забота об аутентичности текста, и равным образом качество применяемых
в целях обеспечения такой аутентичности средств, все это еврейское слого- и буквоедство, — указывают на то, насколько относительно поздним является возникновение этого указателя, а следовательно, также и одновременное с ним составление Вед
и сколь мало имеет смысл приводить этот указатель в качестве истинного свидетельства о древнейшей религии Индии. Если Колбрук на этой редукции сперва принятых
Двадцать первая лекция
365
трех божеств к одному, называемому Маханатмой, желает основать доказательство
того, что древнейшая религия Индии верила в Единого Творца, то также и данное
этому Творцу имя Колбруку пришлось бы считать столь же древним, как и эта религия. Однако, во-первых, оно даже не является в полном смысле именем: данное слово
означает «великая душа» и составлено из maha, великий (так же как в Mahabharata,
что означает «великий Бхарата») и из Atma, которое соответствует латинскому anima
и немецкому Athem, т.е. означает «душа». Это приблизительно то же, что греческие
философы называли мировой душой. Т. е. оно выражает собой философское понятие.
Отсюда видно, что уже само это замечание указателя является ученым и философским и не может быть принято в качестве исторического свидетельства. Как можно
было бы такое понятие, понятие мировой души, считать более древним, нежели понятия Брахмы, Шивы и Вишну, для которых в индийском языке не существует этимологии? Бесполезной была бы попытка указать в Индии нечто более древнее, чем эти
три деджота. Вместе с ними началось индусское сознание как таковое.
Я должен еще упомянуть, что Колбрук сам отмечает: эти молитвы и связанные
с ними предписания на сегодняшний день в Индии всецело вышли из употребления и являются устаревшими. Однако Колбруку, на мой взгляд, следует еще доказать, что они действительно были в употреблении когда-либо вообще. Поскольку
этого доказать невозможно, то с тем же основанием мы можем предположить, что
эти воззвания, равно как и церемонии, к которым они, по всей видимости, должны
относиться, никогда не представляли собой существенной части культа в Индии, что
эти Санхиты, эти сборники молитв, следует рассматривать как всего лишь собрание,
которое брамины приготовили отчасти в целях, отличных от религиозных, точно
так же как сами Веды вообще первоначально напоминают свод произведений более
ученого, нежели религиозного содержания, на что указывает также и само их название. Основания индийской религии следует искать в самом индийском народном
сознании. Неправы те, кто называют Веды фундаментальными книгами индийской
религии на том основании, что они содержат свидетельства различных браминских
систем. Из того обстоятельства, что ранее даже само существование Вед подвергалось сомнению, ясно также и то, сколь мало открытого и глубокого влияния оказывают они на действительные религиозные обычаи сегодняшней Индии, и нет никаких оснований думать, что в древней Индии дело обстояло сколь бы то ни было
отличным образом. Тот факт, что Рама и Кришна упоминаются в Ведах столь же
мало, как и Будда , можноу в отношении первых, объяснить тем, что если и не все
собрание, то по меньшей мере отдельные части Вед являются более древними, нежели эти порождения вишнуизма. Об относительном возрасте Вед, тем менее, можно
Намеки на легенды о Раме и Кришне сам Колбрук допускает.
366
Вторая книга. Мифология
выводить какие бы то ни было заключения из неупоминания Будды, что все книги,
возникшие под непосредственным влиянием касты браминов, о Будде хранят в высшей степени отчужденное молчание. Однако менее всего из этого обстоятельства
можно делать вывод о предшествующей более чистой религии в Индии, как и о какой бы то ни было религии вообще. Я уже сказал о вероятности того, что Веды содержат также и экзотические, внеиндийские составные части. Это предположение
ставится практически вне всякого сомнения гимном слову, который прославляет
слово в том высшем смысле, какой оно имеет лишь в Зендавесте. В переведенном
Колбруком гимне оно говорит о себе самом: «Я несу то и другое, Солнце и океан, небесный свод и огонь, я царица, дарующая благо, обладающая знанием, первая из тех,
кому подобает почитание, присутствующая везде и проникающая все вещи. Тот,
кто через меня находит свою пищу, кто видит и дышит, или кто слышит благодаря
мне, а меня не познает, тот потерян. Я делаю сильным того, кого избираю, делаю его
Брахмой, святым и мудрым. Основательница всех вещей, я проношусь мимо, подобно прохладному ветру с моря; однако я пребываю над этим небом, над этой землей:
я есть то, что есть великое Единое». Тот из вас, кому доводилось бросить взгляд хотя
бы на одну из страниц Зендавесты, может подумать, что здесь он слышит слова одной из книг Зенды, если, конечно, отвлечься от упоминания имени Брахмы. В книгах
Зенды слово (Honover) играет вполне соответствующую услышанным здесь предикатам и столь значительную роль, что были теологи, которые от этого слова Зендавесты
желали выводить Иоаннов Логос, каковые попытки они оставили, похоже, лишь по
той причине, что логос Филона оказался им значительно ближе.
Колбруку не известно больше ни одного места в Ведах или каком-либо ином
индусском сочинении, где слово встречалось бы в этом возвышенном значении. Это
понятие, в остальном совершенно чуждое индийским источникам и всей индийской
философии. Я полагаю, что имею право приводить уже одно это место в качестве доказательства того, что в Ведах отовсюду собраны совершенно разные произведения.
С этим буквально согласуется высказывание Бхагават-Гиты, которая вообще выражается весьма свободно, когда речь идет о Ведах. «Для скольких нужд служит колодец со своими отовсюду стекающимися водами, для стольких же могут служить понимающему теологу священные книги». Этим, следовательно, выражено, что не все
в Ведах имеет равную ценность, равное значение. Тем самым, я вновь возвращаюсь
к тому утверждению, что Веды представляют собой более общую, нежели специальную индусскую религиозную книгу, такую, в которую первые ее собиратели внесли
все, что было известно им о религиозных обрядах или церемониях (также вне- и доиндийских) и что показалось им достойным сохранения, так что, следовательно, ни
одна из принятых мантр не дает нам права без дополнительных доказательств делать заключения о том, что соответствующая ей идея является индийской или принадлежащей к индийской религиозной системе. Если мы захотим помыслить себе
Двадцать первая лекция
367
определенную цель или определенное представление, с которыми индийские брамины собирали эти произведения (ибо ведь мы должны приписывать это собирание
браминам), то можно, поскольку свое собрание они адресовали не народу, предполагать почти исключительно ученую цель. А значит, в этом случае у них не было необходимости получить в итоге чисто индийское собрание.
Это то, что касается так называемых мантр, первой части каждой Веды. Вторая
часть, так называемые Брахманы, содержит руководства к совершению религиозных
обрядов, и о них также совершенно нечего сказать кроме того, что они равным образом являются давно и полностью вышедшими из употребления. Однако я должен
повторить здесь уже делавшееся выше замечание; фактом является лишь то, что сегодня мы не наблюдаем в Индии этих обрядов; но из мест Веды отнюдь не следует
с необходимостью, что они когда-либо вообще были укоренены в собственно Индии.
Главная часть Вед, которая для нас особенно важна в целях нашего исследования, представляет собой теологические и философские сочинения учительного характера, так называемые Упанишады-— слово, которое в близком истолковании означает: все прочее (видимо, остающееся за рамками ритуалов). Содержанием этой
части Вед является трансцендентальная наука. Бог, мир, душа — суть собственно
предметы этой части Вед. Долгое время благодаря переводу, который можно найти
в трудах В. Джонса, была известна лишь одна Упанишада (относящаяся к первой части Джур-Веды). Правда, известный брамин Нам-Мохан-Рой, который недавно умер
в Англии, перевел на английский все четыре Упанишады. В «Journal Asiatique» я нашел попутное замечание о том, что перевод брамина — в сравнении с тем переводом,
который дал этой Упанишаде Джонс, — имеет значительные сокращения. Я даже
опасаюсь, что упомянутые сокращения принадлежали к системе этого брамина, который отвергал идолатрический культ Индии, утверждая взамен его чистый теизм,
о котором он одновременно утверждал, что именно он представлял собой первоначальную индийскую религиозную систему, которая лишь впоследствии была искажена и испорчена, точно так же как относительно христианства он высказывался
в пользу одной лишь его части, а именно — чистой морали, отвергая и устраняя
из него все историческое. Жаль все же, что этот брамин не приехал в Германию, где
он мог бы встретить поистине братский прием со стороны некоторых наших пасторов, поскольку он пытался отыскать в Ведах и иных источниках индийской религии
чистый теизм, — точно так же как они пытались доказывать, что христианство и Новый Завет содержат в себе чистую религию разума. В этих обстоятельствах, конечно
же, следовало считать изданную Анкветилем ду Перроном «Upnechat» величайшей
находкой. Именно Анкветилю ду Перрону Европа обязана также открытием и первым знакомством с книгами Зенды. С «Upnechat» же дело вкратце обстоит следующим образом. В 1050 году Хедшра, т.е. в 1640 от Р.Х., один персидский принц, брат
известного Великого Могола, или царя Ауренгзеба, отправился в страну Кашемир
368
Вторая книга. Мифология
с целью собирания мистических книг и умножения знаний об учении о воссоединении с Богом, которое в Коране изложено лишь весьма смутно и потому почти совершенно неизвестно последователям ислама. Он собрал несколько божественных
книг, в частности Закон Моисея, псалмы Давида и четыре Евангелия. Однако он не
нашел в них ничего такого, что казалось бы ему достаточно ясным; тогда он обратился к индусам, среди которых, как он слышал, одна древняя каста владела священными книгами, в коих содержалось истинное учение о тайне соединения с Богом.
Обзаведшись этими книгами, Ведами, он решил приказать перевести их мистические части на персидский, дабы также и последователи ислама получили доступ к такому великому сокровищу, призвав для этой цели из Бенареса пандитов и саньяс
(Sanyasis) (саньясами в Индии называют тех, кто освободился от всего тварного; они
рассматриваются как пребывающие в высоких степенях такого единения с Богом):
им он повелел слово в слово перевести «Upnechat», т. е. ту часть Вед, которая содержит Упанишады. В этом смысле, следовательно, «Upnechat» представляет собой извлечения из Вед. Список этого персидского перевода привел Анкветиля ду Перрона
в Европу, и после множества неудачных попыток получить достоверный перевод на
французский он решился сделать дословный перевод на латынь, который до некоторой степени можно было бы сравнить с подстрочными версиями еврейских текстов.
Вы легко поймете, что при такой буквальности латынь перевода может быть лишь
весьма невнятной. Если бы, однако, Анкветиль захотел дать свой перевод на хорошем латинском, он смог бы сделать это лишь со своей собственной точки зрения.
Переводя же слово в слово, он предоставляет нам самим доискиваться глубокого
и диалектического смысла тех или иных слов и выражений. Главный вопрос, однако, состоит в том, до какой степени можно полагаться на точность того персидского
перевода, что имел перед своими глазами Анкветиль? По заверениям одного француза, знакомого с упомянутыми переводами Рам-Мохан-Роя и сравнивавшего его
с текстом Анкветиля, против персидского перевода нельзя было возразить ничего
кроме того, что он в иных местах допускает парафразы, не продиктованные необходимостью, и подчас привносит в текст выражения и догмы мусульманских теософов, которые, однако, легко распознаваемы. Пожалуй, раньше всех и в наибольшей
степени работу Анкветиля использовали немецкие ученые. Однако это произошло
менее в историческом, нежели в философском отношении. Ибо после происшедшего нового поворота в философии многие философы стали использовать в качестве
своих источников также и восточные произведения наравне, напр., с произведениями Я. Беме, рассчитывая на возможность почерпнуть в указанных произведениях
ничуть не меньше, чем высшую науку.
Я полагаю, из приведенных до сих пор исторических данных вы могли уяснить
для себя, какую именно цель имеют мистические части Вед. Их высшей целью является унификация человеческого существа с Богом. Для поверхностного рассмотрения
Двадцать первая лекция
369
на первый взгляд может показаться странным, что в среде такого в целом чувственного народа мы видим возникновение столь возвышенной мистики, столь высокой
степени идеализма. Однако именно здесь, наконец, нашему вниманию предстает та
сторона мифологического сознания Индии, которую мы ранее обозначили, однако до
времени решили оставить в стороне. Первой стороной, или, как мы уже выразились
ранее, первым признаком своеобразного исхода, который индийское сознание получает в мифологическом процессе, было — в противоположность с начала до конца
консолидированному египетскому сознанию — расхождение потенций, одна из которых остается в сознании лишь как прошлое, другие же две, Шива и Вишну, взаимно
исключают друг друга. Однако то расхождение, на которое мы указали в индийской
мифологии, должно было быть связано с распадом духовного единства, которое для
египетского сознания воплощалось в материальном единстве потенций и которое
для индийского сознания существует вне потенций; и чем глубже оно воспринимает
распад этого материального единства, тем интенсивнее, тем сильнее будет его стремление достигнуть вне их, вне потенций, положенного единства и идентифицировать
себя с ним. Для ближайшего объяснения я хотел бы напомнить вам еще следующие
общие моменты. Кроме (в смысле praeter) и над тремя потенциями, которые являются непосредственной причиной как природого, так и мифологического процесса,
существует удерживающее их вместе единство, которое далеко от сознания, покуда
в нем является господствующей лишь одна потенция, покуда в нем не положена совокупность потенций. Но как только эта совокупность вошла в сознание, т. е. с приходом завершенных мифологий, в сознание входит также и это единство, сперва как
именно удерживающее потенции от расхождения, и потому как в них воплощенное.
Так было в египетском сознании. Однако именно для того, чтобы это единство для
себя достигло сознания, необходим момент, в котором материальное единство распадается: с упразднением материального единства связано выделение единства —
как внематериального и чисто духовного, — и следующим необходимым следствием
будет это, в особенности индийскому сознанию свойственное, стремление к воссоединению с утраченным божественным. Индийское сознание воспринимает то расхождение потенций, на которое мы указали, как изгнание из божественного бытия.
Чувство этой изгнанности, грозящего уничтожения всякого религиозного сознания
должно иметь своим результатом как раз обратное, т. е. живое стремление к воссоединению с божественным, — воссоединению, которого следует искать не на пути
разума или рациональной науки, но лишь на практическом пути, на пути экзальтированного чувства или мистицизма. Этот мистицизм, который впервые встречается
нам лишь здесь, именно в этой точке, обозначенной индийским сознанием, является вполне естественным явлением. (В египетской мифологии о таком единении
речь еще не идет. Тот факт, что здесь, в Индии, это явление предстает нам словно
бы вдруг, указывает именно на расхождение потенций.) Все идет теперь к этому
370
Вторая книга. Мифология
вновь-воссоединению; наивысшая цель всякой мудрости, познания и науки есть —
согласно мистическому учению Вед — не, в свою очередь, познание и наука, но именно воссоединение с Богом, в котором угасает всякое стремление, а значит, также
и всякая наука. Всякий достигший совершенства человек — так звучит главное учение этой мистической науки — должен быть в состоянии сказать себе: я был Творцом, и я хотел бы стать Им вновь! Душа человека была некогда всеобщей душой.
Вновь собрать воедино все внешние и внутренние чувства — а следовательно, также
и все познание, и привести их назад ко всеобщей душе, — это есть для человека путь
блаженства. Знание о том, что человек является Творцом и что все есть Творец, — вот
истинная субстанция Вед. Тот, кто пребывает на этой ступени, более не нуждается
ни в чтении (т.е. священных книг), ни в делах, ибо они суть всего лишь оболочка,
солома, кожура, содержащая в себе ядро; он более не помышляет обо всем этом, ибо
он обладает ядром и субстанцией, Творцом. Тот, кто соединяется с Богом, уничтожает в этом акте как благие дела, так и грехи, им совершенные. Ибо Он сам уже не
существует, благие и злые дела сгорают в огне этого единения и истребляются одновременно с самостью.
При этой в высшей степени практической тенденции Вед можно заранее ожидать, что здесь мы едва ли найдем множество теоретических положений о собственно последней системе. Все здесь сводится, по большей части, к заверению в том, что
все есть Одно, все едино в Брахме, который здесь действительно имеет всего лишь
значение божества, не определенного личного бога; а поскольку, кроме этого, данное
положение получает пространные спецификации, когда, напр., говорится: Бог есть
огонь в огне, в воздухе — собственно вдыхаемое, в воде — вода и т. д., — то я должен
признаться, что в общем и целом Упанишады представляют собой довольно безрадостное чтение. Позитивного объяснения высшего единства нельзя обнаружить нигде: можно встретить лишь то негативное, которое выражается в равном отрицании
или равном утверждении противоположных определений, напр., говорится: Бог вне
всякого места, и бог не вне всякого места; Бог велик и он не велик; он охватывает и он
не охватывает; он есть свет и он не есть свет; он есть и также не есть лев, все пожи2
рающий (возможно, это относится ко всеобщей резорбции и возврату всех вещей
в Бога). В одном месте говорится даже: Бог есть истина и Бог есть также ложь — ибо
все есть лишь через него, а значит, также и ложь; в частности, он несет на себе и поддерживает великую ложь — чувственный мир. Однако относительно того, каким
образом в Боге все Едино или каким образом все произошло из него как из первоначального единства, невозможно найти ни одного внятного места. Истинным средством к объяснению того и другого, якобы, является тройственность (Dreiheit). Однако об этой конкуренции тройственности творению мне известно лишь одно место,
где говорится: «Все пришло в движение в результате соразмерного смешения трех
качеств, творящего, сохраняющего и разрушающего». В другом месте божественная
Двадцать первая лекция
371
деятельность сравнивается с деятельностью паука, который извлекает из себя нити
своей паутины и вновь втягивает их в себя. Поэтому менее всего можно утверждать,
что мистические части Вед содержат в себе объяснение или собственно тайну самой
мифологии, как это можно было утверждать относительно учений греческих мистерий. В сравнении с греческой мифологией можно сказать, что индийская мифология
не достигла своего конца. Созерцательное и практическое направление Упанишад
состоит, скорее, в стремлении к освобождению от мифологического процесса, нежели к его прохождению. Именно в соответствии с этим можно было бы, следовательно, сказать, что то антимифологическое, которое в буддизме выступило в качестве
особой религии, своего рода раскольнической ереси, сама эта система была заложена еще в мистических частях Вед. Буддизм есть всего лишь ставшее экзотерическим
и открытым тайное учение самих Вед, которое по существу объявляет мифологию
ничтожной и ненужной и которое именно потому подвергалось преследованию, что
желало выйти из тайны, в противоположность мифологической религии — с неизбежными также и политическими последствиями, — стремясь утвердить себя в качестве открытого и общественного, вместо того чтобы оставаться только эзотерическим. Этому мнению можно придать известный блеск, если, воспользовавшись
неопределенностью понятий, которые обычно связываются со словом «пантеизм»,
объявить как учение Вед, так и буддистское учение системами пантеизма. Однако,
как новейшие системы совершенно разного спекулятивного содержания получили
имя пантеизма, в точности то же может произойти, если мы захотим учение, содержащееся в мистических частях Вед, идентифицировать с учением Будды. То и другое
являются по сути не просто разными, но известным образом даже противоположными [системами], что будет явствовать из дальнейшего.
Учение, извлеченное из мистических частей Вед, носит название Веданта — то
же, что завершение, цель, собственное намерение, а значит — смысл, значение, система Вед. Веданта, однако, по существу есть не что иное, как возведенный в высшую степень идеализм или спиритуализм, который в своем последнем результате сводится ни
к чему иному, как к допущению только видимого существования в противоположность Творцу, независимо от того, было ли это видимое существование именно в наиболее древних писаниях Веданты обозначено словом «майя» или нет. Ибо свободному Творцу, который должен быть существен для Веданты, сотворяемое им должно
было сперва представляться в качестве возможности. Эта возможность и есть майя.
То, что основывается на одной только возможности, что приходит в бытие благодаря
свободной воле, никогда не может сравниться с тем, что существует само собой (a se).
В этом смысле также и для Веданты мир есть иллюзия. Именно эта возможность
и есть майя = магия = возможность. Именно эта возможность, без которой не может
обойтись никакой свободный творец, представлена в позднейших творениях также
и искусства, в красках чарующей и прелестной красоты, соблазняющей творца. Мир
372
Вторая книга. Мифология
возникает благодаря мгновенному забытью, в результате своего рода сумасшествия,
помешательства Творца — бесспорно, наивысшая точка, до которой могли подняться идеализм или убеждение в лишь преходящей или кажущейся реальности этого
мира без участия собственно откровения: гораздо более духовное и освобождающее
человека представление, нежели то, в котором божество вечным образом обременено конечными вещами, или которое рассматривает вещи как вечную, безвольную —
будь то физическую или только логическую — эманацию его сущности.
Всем этим, однако, одновременно также показано отличие Веданты от буддизма.
Ибо Будда, согласно тому, что мы о нем знаем, есть хоть и не изначально материальный, однако свободно себя материализующий Бог, который из любви к творению
сам снисходит до материи, проходя через все формы природы, а не оставаясь вне
природы, как Творец Веданты.
Сама Веданта есть уже философская система. Как таковая, она носит название
Миманса (Mimansa). Однако различают первую: purva, то же что и prior, Mimansa;
она же Карма-Миманса; ибо она особо занимается предписываемыми Ведами религиозными обязанностями, равно как и вообще в большей мере занимается истолкованием Вед. Вторая часть есть uttara Mimansa, что можно было бы перевести
как: ulterior3 или также superior4 Mimansa; также и Брахма-Миманса. Она содержит
собственно спекулятивную часть. Главное устремление сочинений Веданты вообще
сводится к тому, чтобы сгладить и выровнять между собой кажущиеся или действительные противоречия Вед, из чего одного уже явствует, что сами Веды не содержат
в себе определенной систем. Учение Веданты адресовано преимущественно правоверным. Кроме него чаще всего упоминаются еще две системы. В целом, таким образом, индийская философия знает три системы. Поскольку, однако, каждая система,
в свою очередь, имеет в себе два подраздела, таким образом возникают шесть, излагаемых в шести Дарсанах, систем. Три основных системы суть Миманса, Ньяйя
и Санкхья. Ньяйя, по всей видимости, является всего лишь системой логики и диалектики; она не имеет никакого отношения к нашему настоящему исследованию;
равным образом она, как отмечает Колбрук, ни разу не упоминается в письменных
источниках Веданты. Выраженный подраздел образует corpusculum philosophicum5,
или атомистическая физика, которая различается как особая система. Санкхья, напротив, упоминается в источниках Веданты и, более того, они сами развивались как
ее противоположность. Sankhya означает то же, что и рациональное учение, где слово
«рациональное» берется в общем смысле для обозначения логически представленного и развитого, основанного на заключениях разума или вообще научного учения.
Однако различается две Санкхьи: атеистическая, называемая nir-Isvara-Sankhya —
Isvara есть индийское имя для личного, обладающего свободой воли бога, — и теистическая, Isvara-Sankhya. Атеистическая, основоположником которой считается
Капила (вообще постоянно с почтением упоминаемое в книге законов Ману имя),
Двадцать первая лекция
373
предпосылает всему простую природу, лишь с необходимостью действующую, безвольную субстанцию, которая есть лишь пластическое, слепо рождающее начало
всего. Эта природа, Пракрити, в качестве первого Единого, носит название Прадхана
(-Пракрити), она не порождена, но сама порождает. Порожденное (не сотворенное)
первого Единого носит имя великого Единого, Махабхути. Это великое Единое познается в различении (distincte6), в виде трех богов, Брахмы, Вишну и Махадевы =
Шивы. «Они существуют в агрегате» (я сохраняю здесь это английское слово), т.е.
если брать всех трех богов вместе, то великий Единый есть божество, однако, взятые дистрибутивно, они представляют собой три индивидуальных сущности. Это
место выказывает большое сходство с нашим объяснением Все-Единства: Бог есть
множество, или, говоря определенно, трое, А, В, С, однако он не есть Бог ни как А,
ни как В, ни как С по отдельности, и он поэтому, хоть и представляет собой множество, однако не множество богов, но — лишь Одного Бога. То, что англичанин в соответствии с механистическим понятием своей философии переводит как агрегат,
в индусском наверняка выражено более духовным и философическим словом. Истинный смысл индийской глоссы таков: Брахма, Шива и Вишну, рассматриваемые
в своем единстве, суть само божество, в своем же разделении (напряжении) они суть
три индивидуальных существа, которые, поскольку в них существует лишь одно божество, могут рассматриваться как три бога. Атеистическим это учение называется,
поскольку оно прежде всего полагает простую природу, а то Единое, что в нем называется Богом, происходит лишь из этой первой природы. Я уже упомянул, что
кроме атеистической Санкхьи называется также и теистическая, правоверная, в качестве же ее основателя упоминается имя Патанджали. Было бы в высшей степени
интересно знать, в какой именно точке эта ортодоксальная Санкхья отделилась от
гетеродоксальной. Ибо, будучи Санкхьей, она также представляла собой рациональную, научную систему. Одного лишь знания о том, что она учила об Ишваре, т.е.
о личном, обладающем свободой воли Творце, — недостаточно. Действительно, приходится весьма сожалеть о том, что нам не дано знать, каким образом Патанджали
пришел к этому свободному Мирозиждителю. Но если мы рассмотрим это учение
как противоположность атеистической Санкхьи, с которой оно, кстати, будучи ее
противоположностью, должно было стоять на одной спекулятивной высоте, то оно
будет отличаться от нее именно тем, что поставило Ишвару на первое место, Триада
же произошла из него не в результате слепого и необходимого порождения, но через
свободное деяние. Эта ортодоксальная Санкхья тогда, однако, отличалась от Веданты не по своей сути, но лишь по своей научной, рациональной методе. Приблизительно таковы могут быть возможные заключения. Однако несовершенство наших
знаний не помешало нам выдвинуть гипотезу о том, что учение Будды возникло как
всего лишь ответвление атеистического учения Санкхьи; точнее, эта гипотеза была
выдвинута французами. Данная гипотеза мыслит себе Будду не как бога, но лишь как
374
Вторая книга. Мифология
человека — основоположника религии. Если же основоположник буддизма хотя бы
отчасти почерпнул свое учение из источников философии Санкхьи, т. е. буддизм вообще имел бы философское происхождение, то ему никогда не удалось бы получить
столь широкого распространения. Буддистская церковь является самой большой
на всем Востоке, Будда и сегодня насчитывает большее количество своих последователей, нежели христианство и ислам вместе взятые. Еще меньше того какое-либо
спекулятивное учение способно было бы осуществить сооружение тех грандиозных
скальных храмов в Кеннери или тех достойных удивления монументов неподалеку
от Бамиана в теперешнем царстве Кабул на переходе из Персии в Индию, которые
все относятся к буддизму. Ничто подобное уже не возникает в эпохи философии. Я,
таким образом, считаю, что также и эта попытка разгадать загадку буддизма показана мной как несостоятельная.
Учение Будды не является тайным учением Вед, ибо, по меньшей мере, Веданта
не позволяет Богу материализовать самого себя; оно не есть философская система,
ибо ею могла бы быть лишь атеистическая Санкхья: однако также и она в принципе
разнится от буддизма, который вообще предполагает иное, отличное от философского, возникновение.
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ
Нам, следовательно, осталось теперь рассмотреть лишь третью гипотезу, согласно которой Будда будет = Вишну, сам же буддизм представляет собой лишь особую
форму этого возведенного в степень вишнуизма, каким он представляется в частности в Бхагават-Гите. Основным аргументом здесь является тот факт, что идея инкарнации является общей для того и другого. Для проверки этой третьей гипотезы будет поэтому необходимо сказать кое-что о смысле и спекулятивной системе
в частности Бхагават-Гиты, композиции, которая сразу же при ее первом появлении
привлекла к себе необычайное внимание, в последнее же время, после того как ее
оригинальный текст был опубликован в точном латинском переводе А. В. Шлегеля,
стала объектом множества проницательных и глубокомысленных исследований,
среди которых выделяется работа В. фон Гумбольдта.
Итак, под Бхагават-Гитой понимают философический эпизод, помещающийся
во второй большой и самой знаменитой эпической поэме Индии, в Махабхарате.
Этот эпизод основывается на том, что герой одной из сражающихся партий, Арджуна, в начале битвы, которую он намеревается вести против близко родственных ему
сыновей царя Диритараштры1, впадает в глубокое малодушие и, видя выстроившихся против него в боевом порядке своих родственников, друзей и отчасти даже учителей, приходит в сомнение, не зная, что лучше: победить ли тех, без кого жизнь для
него перестала бы иметь смысл, или позволить им одержать победу над собой? В этом
приступе малодушия он обращается к сопровождающему его Кришне, ища у него
совета и поучения; развивается философический диалог, первый аргумент которого
следующий: Арджуна неправ, оплакивая и жалея своих родственников, даже если им
суждено погибнуть: печалиться об умерших, также как и о тех, которые живы, равно
недостойно; ибо — и это главный пункт всего аргумента — «ибо никогда, Арджуна,
не было так, чтобы не существовал я, ты или все эти цари, твои родственники, и никогда не будет так, чтобы кто-нибудь из нас прекратил свое существование». Одним
словом, Кришна утверждает здесь абсолютную вечность всех сущностей, он отрицает, что нечто поистине может возникать или исчезать, поскольку, напротив, все существует вечно, и переход от небытия к бытию невозможен. Ибо «несуществующее
376
Вторая книга. Мифология
не может существовать, и точно так же не может не существовать существующее»,
или, как переводит этот стих В. фон Гумбольдт:
Нет бытия несуществующего, несуществование не есть удел сущего.
Стих, напоминающий почти так же звучащее изречение Парменида, где тоже
сказано, что не сущее не может быть. После того, теперь, как Кришна разъяснил
это совершенно абстрактное учение, пытаясь утешить Арджуну таким самим по
себе малоутешительным понятием, он говорит: «Это я разъяснил тебе сейчас в согласии с учением Санкхьи; теперь же выслушай то же самое (т. е. что ты не имеешь
причины печалиться о предстоящем сражении) в соответствии с древним учением
Йоги». Здесь, таким образом, учение Санкхьи и учение Йоги различаются между
собой и даже почти что противопоставляются друг другу. Кришна определенно называет Йогу antiquam doctrinam2, которую он сам сперва сообщил Вивасвану, тот
сообщил ее Ману и т.д. Следовательно, он противопоставляет — можно было бы
сказать — древнюю Йогу как от века существующее в индийской системе тайное учение — новейшей, а именно, достигнутой на пути спекуляции, Гнана- или СанкхьяЙоге. Слово «Гнана» имеет отношение к греческому γνώναι, γνώσις3: это, следовательно, доктринальная, теоретическая Йога. Именно она также носит имя Санкхья-Йога,
и таким образом, именно Санкхья-Йога и будет тем первым подразделом, который
содержит в себе так называемый абстрактный аргумент. Прежде всего спрашивается, что означает само по себе слово «Йога». Оно переводилось различным образом. Общее понятие возникает благодаря тому, что оно связано со словом, соответствующим латинскому jüngere. Единство в любом случае является преобладающим
в понятии. Шлегель переводит его через devotio4. Однако это соответствовало бы
лишь одной стороне Йоги, практической или Карма-Йоге. Однако существует еще
и Буддхи-Йога, т.е. Йога в мышлении. Известный философ, который также занимался Бхагават-Гитой, пожелал перевести его как «молитва» (Andacht). Однако при
этом слове передо мной невольно возникает образ «молящегося в мышлении», этакий «мыслительно верующий»5. Гумбольдт переводит это слово как «погружение».
Меня удивляет, что никому не пришло на ум немецкое «Innigkeit»6, которое заключает в себе понятие внутреннего, внутри себя, в своей глубине (не на периферии, не
в мире разрозненных качеств) бытия, при этом одновременно неся понятие единственности и единства. Далее, слово «Innigkeit» можно также связать со всеми теми
определениями, которые оно получает в индусском: здесь существует деятельная
искренность (That-Innigkeit)7, которая пребывает и сохраняется также и в деянии,
с чьей помощью единственно может быть разрешено то противоречие, в которое человек вообще поставлен необходимостью действовать. Ибо тот, кто действует, тем
самым выходит из себя самого и покидает тот покой, в котором единственно состоит
Двадцать вторая лекция
377
богоподобие. Кто действует, неминуемо связывается с действительным миром и его
условиями; свободен собственно может быть лишь не-делающий; тот, кто однажды
совершил поступок, связан этим поступком. Поэтому познание лучше деятельности.
И, тем не менее, деятельностью также нельзя пренебречь: человек должен действовать и зачастую принуждается к действию даже и против своей воли. Здесь теперь
указывает выход практическая Йога. Человек освобождается от этого противоречия,
действуя так, словно бы он не действовал, т.е. внутренне не заботясь о своем действии и пребывая в совершенном спокойствии относительно успеха. Тогда он объединяет обе системы: ту, что признает ценность лишь за деятельной жизнью, и другую, которая истинную ценность жизни полагает в чистом познании и поставляет
созерцательную жизнь над деятельной. Не желать плодов действий, но возлагать все
поступки и деяния к стопам божества, как исшедшие от него и происходящие через
него, — кто действует таким образом, тот в деятельной и подвижной жизни существует как не-действующий; он пребывает в деянии незапятнанным деянием, как
плывущий на поверхности воды лотос остается сухим. Тот, кто не способен к этому,
кто не может оставаться в деянии спокойным и неподвижным, тот пусть проводит
различие между деянием и познанием; истинный йог, т. е. посвященный этого высокого учения, преодолел это противоречие, как говорит Кришна:
Лишь несмышленные дети разделяют познание и мышление;
Кто же придерживается Единого,
(Йога, таким образом, состоит в удержании Единого, в непозволении выбросить
себя в разъединенный мир)
Кто же придерживается Единого, находит одновременно плоды того и другого
Или, как гласит другое место:
Уже здесь обретают небо те, чей дух утвержден в равновесии
(которые не позволяют управлять собой противоположности между радостью и печалью, ибо то и другое возможно лишь в разделенном мире: тот, кто движим тем или
другим, хочет не самого деяния, но следствия, плода деяния)
Уже здесь обретают небо те, чей дух утвержден в равновесии,
Совершен и неподвижен Бог, потому они всегда обретают в нем
успокоение.
Не радуйся счастью и равно не жалуйся на несчастье
Тот, кто тверд духом и свободен от глупости, кто познает Бога
и пребывает в Боге.
Совершая единение с Богом, он обретает нерушимое благо,
378
Вторая книга. Мифология
Истинно верующий (здесь наверняка стоит «йог» —)
Истинно обращенный внутрь себя вечно одинок и пребывает в себе
наедине со своим духом (он одинок также, как одинок и Бог)
Воодушевленный Единым, победитель чувств, он чужд алканию и не
движим ничем.
Кто соединяет (vereinigt) (я бы сказал: обращается вглубь (verinnigt), т.е.:)
Кто обращается вглубь, всегда владеет своим внутренним,
Высшего духовного покоя достигает он, того покоя, что живет во мне.
Как светильник в безветренном месте, он неподвижен: это подобие
относится
К обращенному вглубь, побеждающему себя и стремящемуся
к совершенству внутреннего.
Из всех лишь мудрый всегда обращен вглубь, служа Единому.
Я друг мудрого, как и он мой друг.
Также и другие заслуживают моей похвалы; мудрый же для меня —
как я сам,
Ко мне направляет свой последний путь его вновь обретший единство
дух (заметить также и это),
В конце множества рождений мудрый устремляет свои стопы ко мне.
Посредством этих цитат я в достаточной мере объяснил и практическую Йогу
наряду с теоретической. Также и теоретическая Йога состоит в возвышении над миром разделенных качеств и достижении единства. Равным образом в этом смысле
только Санкхья является Йогой — и она тоже предпосылает разделенным потенциям некое единство; однако собственно Йога, о которой идет речь в приведенном месте, есть познание, достигающее духовного единства и свободного Творца, и она же
есть то внутреннее, которым обладает духовное единство. По этой причине теистическая Санкхья Патанджали, которая определенно описывается как стоящая между
Санкхьей и Ведантой, носит специальное имя Йоги: Шастра-Йога (Sastra-Yoga). Я
должен, кстати, еще отметить, что та сила, с которой человек удерживает эту внутреннюю погруженность, которая поднимает его к Богу, делает его равным Богу, —
что эта сила никоим образом не рассматривается как субъективная. Колбрук определенно отмечает, что Йога есть сила в самом божестве. Устремленный вглубь себя
среди изменчивых случайностей и разнообразных явлений этого непостоянного
мира удерживает единство не с чем иным, как с той силой, благодаря которой также
и божество среди разделения качеств и потенций, в котором только и возможен этот
чувственно воспринимаемый мир, утверждает и удерживает свое вечное единство.
То, что еще в теоретических частях Вед представлялось как высшая цель, соединение человеческого существа с Богом, является также, лишь в более разработанном виде и разнообразном представлении, последним содержанием учения Йоги,
в том виде, в каком она преподносится нам в Бхагават-Гите. Для нашей цели должен
Двадцать вторая лекция
379
представляться безразличным вопрос о том, следует ли предполагать одновременность этого эпизода с героической поэмой, внутри которой он помещен, или же он
был вставлен в нее позднее. В любом случае, здоровая критика вынуждает нас сделать значительный вычет из того тысячелетнего возраста, который многие приписывают этому стихотворению: даже тысяча лет до нашего летоисчисления будет, пожалуй, возрастом в несколько столетий большим, для какового вычета упоминание
Санкхьи, т. е. первой рациональной или научной системы, а также та свобода, с которой эта поэма говорит о Ведах, доходя подчас до полного их отвержения, будут лишь
первым шагом. Однако уже сам факт помещения Бхагават-Гиты в одну из великих
национальных поэм доказывает, что в Индии она пользовалась высочайшим и даже
каноническим уважением: даже и сегодня она все еще причисляется к Упанишадам;
ибо Упанишады есть общее имя, которое обозначает канонические книги теософского содержания в Ведах и иных произведениях. Веды повсюду в Бхагават-Гите представлены как не исследующие последнего основания, не поднимающиеся до высшей
чистоты духа и высшего смысла, как все еще отчасти снисходящие до мира видимости, иллюзии. Естественно, здесь подразумеваются преимущественно церемониальные и ритуальные предписания Вед. Кришна рекомендует Арджуне оставить все
остальные сентенции и почитать его самого как единственное прибежище. Он поэтому определенно объясняет свою религию как единственно истинную и ведущую
к совершенству, себя самого — как истинного Бога, а всех остальных — как всего
лишь ступени, ведущие к нему. Однако именно поэтому он не отвергает всецело почитание, оказываемое другим, низшим богам. Ибо Он сам и вызывает к жизни веру
в этих богов, именно Он есть в этой вере собственно объект почитания, и именно
Он, в зависимости от умонастроения и воли, возвышает дух жертводарителя. «Большинство следует иным богам (говорит он в седьмой песне), будучи соблазнены тем
или иным желанием. Они воздвигают ту или иную форму культа, обусловленную их
собственной природой. Однако какой бы кто ни избрал образ для своего служения
и почитания, ту крепость веры, которую он при этом ощущает внутри себя, воспламеняю в нем именно я, и он достигает также желаний, определенных мной, как мне
это угодно».
Материальные боги (Deva), согласно учению Кришны, а также философским
системам Индии, представляют собой лишь существа первого и высшего рода, однако все еще относящиеся к возникшему миру, — внутримировые боги, не могущие
сравниться с несотворенными, внемирными существами. Тот, кто почитает этих богов, которые, как и смертные, причастны к разделенным качествам, приходит после своей смерти к этим богам и наслаждается в их жилищах достойным их самих
и этих мест блаженством. Его ожидают небесные радости, однако лишь в мире Индры (Индра есть высший среди этих мировых богов). Однако такая радость длится
не вечно, но едва лишь заслуженное ими блаженство иссякает, они возвращаются
380
Вторая книга. Мифология
в этот мир посредством нового рождения. Такова судьба всех тех, кто ограниченным
образом придерживался священных книг и предписанных в них церемоний. Однако
те, которые не ищут своего блаженства в делах, но ищут его посредством соединения
своей души и духа с высшим существом, — попадают к нему и бывают свободны
от всех дальнейших рождений. В частности, жертвы, и главным образом — жертвы
животных могут признаваться заслугой, будучи приносимы лишь известным образом, а именно, в чистоте намерения. Ибо, хоть особая заповедь и гласит: ты должен
приносить в жертву животных, однако общая заповедь говорит: ты не должен убивать ничто живое и наносить никакого вреда ничему, что способно ощущать. В этом,
конечно, учение Йоги вполне совпадает с буддистским. Йог — друг любого живого
существа. Известно, что йог лучше позволит насекомым съесть себя живьем, нежели
убьет их. Можно, конечно, смеяться над такой добросовестностью, однако было бы
желательно, чтобы иные ученые и неученые мучители животных имели бы в себе
нечто от добросовестности буддистов и йогов. Жертвоприношения также и потому
позволительны лишь отчасти, что недопустимо, чтобы блаженство одного существа
достигалось за счет другого. Вообще утверждается несовершенство всех деяний и их
неспособность вести к истинному блаженству. Об этом говорят слова:
Всякое делание — словно пламя огня, окруженное дымом.
Самое важное для нас, однако, есть учение о трех качествах и их отношении к Майе.
Оно доказывает, что первые принципы, которые дали нам понимание мифологии,
признавались как таковые также и индийской философией; ибо учение Бхагават-Гиты является не только общезначимым, но также и философским. Самым наглядным
и ясным местом, трактующим о трех качествах и их отношении к Майе, является
место в пятой песне, где Кришна, согласно латинскому переводу В. Шлегеля, говорит:
Trinis qualitatibus totus mundus delusus non agnoscit me his superiorem, incorruptibilem.
Divina quidem illa Magia* mea difficilis transgressu est; attamen qui mei compotes fiunt, ii
hanc Magiam transjiciunt8; или, согласно немецкому переводу его брата:
Весь мир пребывает в заблуждении, будучи обманут тремя качествами;
За ними он не видит меня, сокровенного и неизменного.
Божествен он, мой миросозидающий обман; нелегко одолеть его,
Но те, кто следуют за мной, через него переступят;
т. е. его преодолеют; из чего одновременно ясно, что соединение есть собственно это
переступание, преодоление Майи.
Так Шлегель переводит индийское «Майя».
Двадцать вторая лекция
381
Таким образом, Майя, согласно Бхагават-Гите, заключается в разделении трех
качеств, потенций, которые уже были познаны и которые кажутся тремя, тогда как
на самом деле (по своей истинной сущности) они собственно суть Одно. Борьба разделенных потенций представлена как вращающееся колесо. Господь всех живых,
говорится в другом месте, обитающий в области сердца (центр всякого движения),
вводит всех живущих в заблуждение с помощью вращения этого колеса, посредством своей магии. Вишну, когда он обозначает не отдельную потенцию, но самого
завершенного вместе с Вишну Бога, всегда появляется в изображениях с этим вращающимся, огненным колесом, которое можно назвать колесом трех качеств, где
побеждает то одно, то другое, так что все многообразие вещей порождается лишь
этим вращающимся колесом, которое он вращает своей волей, приводя его в непрестанное движение, не будучи сам им охвачен. Ибо определеннейшим образом сам
Творец отличается от этой Майи, в которой стоит весь мир. «Мир не видит меня,
окутанного в мою таинственную магию; неразумный мир не знает меня, нерожденного и неподвластного гибели» (в отличие от от этой Магии, которая есть нечто
лишь ставшее и преходящее). Если лишь ставшей ясной для себя самой спекуляции
возможно объяснить, каким образом все вещи пребывают в Боге и одновременно не пребывают в нем, то в этой поэме, бесспорно представляющей собой одно
из глубочайших и нежнейших произведений индийского духа, уже делалась попытка
дать разрешение этого противоречия в том, что она хоть и утверждает бытие вещей
в Боге, однако не наоборот, бытие Бога в вещах (приблизительно так, как Бог в учении Будды хоть и отличается от материи, однако присутствует в ней). «Non equidem
illis insum, insunt illae mihi9», т.е. они связаны мной, но не я ими; я связываю их,
оставаясь несвязанным ими. Поэтому в другом месте оба друг друга упраздняющие
постулата утверждаются одновременно: mihi insunt omnia animantia, nee tarnen mihi
insunt animantia10. Шлегель ставит в последнем предложении quodammodo; однако,
как вещи лишь известным образом не суть в Боге, так и наоборот, они лишь известным образом есть в нем. Кришна добавляет: Ессе misterium meum augustum11: вот
моя возвышенная, внушающая благоговение, тайна — тайна моего величия, моего
великолепия (в собственном смысле). Моего великолепия Творца, которое состоит
именно лишь в свободе удерживать те потенции, чье нерушимое единство есть сам
Бог, также порознь и во взаимном напряжении. Сам Творец никогда не вступает
в процесс и, тем самым, в мир вещей, несмотря на то что они лишь в нем существуют
и пребывают. Еще менее того где-либо учится о необходимой связи вещей с Творцом
в смысле вульгарного пантеизма. В третьей песне Кришна говорит: «Мое действие
непрерывно; если бы я хоть на миг прекратил свою неустанную деятельность, весь
мир погрузился бы в ничто». Здесь, таким образом, весь мир сохраняется лишь благодаря постоянной и непрерывной деятельности Бога, которую он, впрочем, мог бы
и прекратить и которая является свободной. Мир бесследно исчез бы, если бы он
382
Вторая книга. Мифология
перестал действовать. Мир есть иллюзия, однако свободно произведенная иллюзия.
В другом месте материя и укротитель материи, который, следовательно, есть Господь
материи, различаются таким образом, что последний не переходит в первую, но пребывает вне ее, что в понимании буддизма обстоит совсем не так. Еще одно понятие,
обозначающее свободного Творца, есть Пуруша, как также иногда называют Кришну. Шлегель обозначает его как «гения». В результате сопоставления множества мест
он может быть теперь определен как Дух, т.е. противоположное материальному вообще (таковыми являются по отношению к полагающему их как Единое отдельные
потенции). Этот дух становится summum scibile12, и в одном месте поэмы он назван
древнейшим поэтом и Творцом вселенной. Поэтом он назван как свободный производитель. Единственное возражение против понятия личного Бога в Бхагават-Гите
могло бы происходить оттого, что во множестве мест всевышний Бог или Вишну
обозначен с помощью нейтрального Bram. Однако этим, должно быть, выражено
лишь то, что Вишну есть как таковая положенная сущность того, что в Брахме еще
не положено как таковое. Брахма есть простая, т. е. не сущая сущность Бога, Шива
есть Бог в чистом бытии, а значит — вне сущности, Вишну есть как сущее положенная сущность Бога, т. е. как таковое положенное Bram, то же, что есть в Брахме,
но лишь равным образом и положенное как таковое. Достигший своего совершенного осуществления Вишну именно поэтому предполагает другие потенции и вмещает
их в себе. В одном месте Кришна назван potior Brachmane ipso13. Т.е., Вишну есть
высшая потенция Брахмы. Если Шива, или Махадева, насколько мне известно, нигде
не получает особых имен, то это можно объяснить неблагосклонностью вишнуитов
к шиваизму, ибо неоднократно сказано: Tu conditor universi, tu idem et destructor14 —
основатель и разрушитель Вселенной есть Один Бог. Кстати, с тремя качествами
сами собой уже мыслятся три деджота.
Отсюда, следовательно, явствует, что вишнуизм, даже и будучи возведен в высшую степень, все же по существу нигде не отступил от тройственности, нигде не
утверждал чистого единства. Однако, по всей видимости или, по меньшей мере,
в рамках обычных представлений, можно сказать, что этот шаг все же был сделан
в буддизме. Таким образом, мы вполне могли бы поддаться искушению утверждать
вместе с некоторыми французами, что буддизму все же удалось пойти на шаг дальше, чем пошел вишнуизм. А именно, если этот последний все еще полагает высшую
сущность в Вишну, т. е. в мифологической в конечном счете личности, а следовательно, сохраняет мифологические понятия как свою предпосылку и именно поэтому
также, пусть и в одном лишь подчиненном смысле, однако известным образом признает значение Вед как священных книг, то в буддизме впервые была сделана попытка отбросить эти ограничения.
В Бхагават-Гите то высшее учение, которое за предписаниями Вед и равным образом за жертвоприношениями и другими обрядами народной религии признает лишь
Двадцать вторая лекция
383
подчиненную и условную ценность, — повсюду преподносится как учение тайное.
Даже в последней песне, где Кришна говорит Арджуне: Cunctis religionibus dismissis
me tanquam unicum perfugium sectare15, он добавляет: Hoc praestantissimum arcanum
neque irreverenti unquam neque contumaci est evulgandum16. Буддизм, таким образом, представляет собой не что иное, как разглашение, выдачу тайны индийской
религии. Отсюда кровная ненависть ортодоксальной индийской религии к буддизму. Ничуть не меньшая народная ненависть преследовала в Греции каждого, кто
разглашал тайну мистерий. Чем в Греции было учение мистерий, тем в Индии был
буддизм. Однако тайное учение греков осталось внутри нации; если бы оно пожелало выступить как открытая религия, его уделом, также безо всякого сомнения, было
бы изгнание, а Греции равным образом пришлось бы разделиться на два народа или
две секты, как это произошло в Индии между сторонниками Брахмы и сторонниками Будды.
Буддизм не удовлетворился лишь тем, что объявил монотеизм или пантеизм,
который был у него общим с индийским тайным учением, высшей религией: он
попытался сделать его абсолютно всеобщим. Тем самым, он был вынужден отвергнуть не только Веды и кровавые жертвоприношения (также и в этом ему предшествовал вишнуизм, однако лишь в умеренной форме), но также и упразднить
всякое кастовое различие (поскольку ведь он статуировал только универсальную
религию), чем одновременно атаковал политическую и жреческую организацию
Индии, одним словом, совершал подлинную революцию. Разительная противоположность заключалась первоначально не столько в самой догме, сколько в попытке сделать эту догму всеобщей, которая одновременно несла угрозу самому
политическому существованию браминов. Брамины представляли собой многочисленный, распространенный по всей Индии и пользующийся большим количеством привилегий, корпус, однако, говоря строго, они не имели в своей среде
никакого иерархического устроения. Они не имели общего центра, общего верховного главы. Они образовывали священническую аристократию — точно так,
же как кшатрии образовывали военную; они не были государством в государстве.
Однако как только появилось учение о безусловном единстве и стало прокламироваться в качестве всеобщей системы для всех классов, должна была возникнуть
духовная монархия, которая вскоре даже стала помышлять о возвышении над
светской. Если поэтому предположить, что буддисты в Индии попытались сделать
то же, что им удалось за ее пределами (построить духовную монархию), то будет
понятно, что также и светские властители Индии (которая никогда не могла объединиться в большую монархию), также как и индийские раджи, князья, оказывали помощь разъяренным браминам в преследовании и изгнании буддизма с такой
страстью, о которой индийская Слока с жутким и возвышенным лаконизмом дает
следующую картину:
384
Вторая книга. Мифология
От моста (это знаменитый мост Рамы, под которым, как вы знаете,
подразумевается морской пролив между мысом полуострова
и Цейлоном, т. е.: от самого острова)
От моста до снежных гор (Гималайских гор, которые ограничивают
Индию с Севера)
От моста до снежных гор да будет задушен, кто не задушит буддиста,
От старца до младенца, — воскликнул князь своим служителям.
Итак, этими обстоятельствами пытаются объяснить, каким образом буддизм,
несмотря на то что он произошел из тайного учения самой Индии, мог быть изгнан из Индии с такой жестокостью и яростью, что в ней самой почти совершенно
исчез.
Говорят, правда, также и том, что у браминов принято рассматривать Будду как
девятую инкарнацию или девятого Аватара (die neunte Avantara) (ибо такое название носят инкарнации) Вишну. Отсюда, якобы, явствует, что сами брамины рассматривают буддизм как лишь новое откровение Вишну. По меньшей мере, это можно
приводить в качестве исторического доказательства того, что освободившийся или
выступивший в качестве противоположности буддизм точно так же последовал за
учением Кришны, как само оно прежде последовало за представлением о Вишну как
о Раме. Против этого, однако, следует теперь отметить, что согласно одному месту
в Transactions of Bombay*, речь о Будде как об инкарнации Вишну действительно
имела место, однако таким образом, что Вишну появляется в лице Будды лишь для
того, чтобы еще глубже низвергнуть в пропасть заблуждения подданных царя Трипура (Типпера) в наказание за еретические мнения, которыми они еще ранее вызывали гнев божеств.
Далее, однако, я еще раньше объяснил весьма определенное различие между мистической доктриной, идеализмом и спиритуализмом Упанишад и гораздо более материальным учением Будды. Правда, если для последнего мы захотим удовлетвориться обычным, и потому для себя ничего не говорящим именем пантеизма, — то будет
довольно трудно указать различие между этими двумя учениями. Еще А. В. Шлегель,
отказываясь принципиально высказаться относительно буддизма, делает одно истинное и искреннее замечание: если бы он — так же, как это обычно делается, — захотел сказать, что буддизм есть пантеистическая система, то не знает, как в этом обозначить его отличие от других систем Индии; ибо, куда бы в Индии он ни бросил свой
взгляд, повсюду встречается пантеизм. Ф. Шлегель, однако, который столь же низко
ставит буддизм, сколь высоко поднимает учение Веданты, все же в свою очередь там,
где возникает необходимость дать понятие об этом учении, не может сказать ничего
Ср.: Journ. Asiatique, VII, 198.
Двадцать вторая лекция
385
иного кроме того, что оно есть пантеизм. Правда, он добавляет: поэтический; однако
что должно это означать, или что меняет поэтическое в содержании системы? Разве буддизм негоден лишь потому, что он есть менее поэтическая либо вообще непоэтическая система? С такими неопределенными понятиями, следовательно, здесь
невозможно достичь никаких результатов. Если буддизм выводится из индийской
мифологии, то в нем, конечно, невозможно признать ничего иного, кроме учения
о единстве, которое всецело освободилось от своей мифологической предпосылки.
Однако это дает лишь негативное понятие, в то время как буддизм есть нечто весьма
определенное и позитивное.
Буддизм никоим образом не есть всего лишь учение о единстве. Правда, бесспорно, что Будда означает того в высшей степени Единственного, который не имеет, подобно каждому из индусских божеств, равного себе, который совершенно
одинок и стоит особняком, по каковой причине я (так как не вполне ясно, каким
образом имя Будда связано с индийским словом buddi, мышление и способность
понимания: ибо ведь в понятии Будды, бесспорно, содержится более, нежели только
общее понятие духа): по этой причине, т.е. поскольку в самом индусском столь же
мало можно найти удовлетворительную этимологию имени для Будды, как и для
Брахмы, а также для имен двух других индийских деджотов, я полагаю себя вправе
напомнить о том, что Будда есть тот Бог, который не только не имеет себе равного,
но который не имеет вообще ничего вне себя. Это есть основоположное понятие.
Далее, во всех семитских языках с основным звуком bad повсюду связано понятие:
solus fuit17, или также: ante omnia fuit18, также: primus, sine exemplo aliquid fecit19,
значение, которое отражается еще и в арабском глаголе badaa (с «айн»), ибо он означает: Novum s. Noviter produxit20, а также: sine subjecto aut fundamento, т.е. sine
praeexistente materia produxit21. Слово, таким образом, означает чистое порождение
безо всякой предпосылки из самого порождающего. В этом смысле Бог в Коране так
часто носит имя Badiu-1-samavati va-1-ardi, Творец (начальник) неба и земли. Это
и есть целиком и полностью значение идеи Будды. Будда есть абсолютно ничего
кроме самого себя не предполагающий, не нуждающийся для своего порождения ни
в каком материале вне себя, ибо он сам для себя есть материя, ибо он есть сам себя
материализующий Бог.
Я уже в связи с учением Митры имел случай заявить, что считаю Будду позднее
явившейся идеей Митры, которая лишь аккомодировалась в Индии к индийским
представлениям, отчасти даже облачилась в индусские одежды. Одним немцем,
Исааком Шмидтом, академиком в Петербурге, было отмечено интересное сходство в обычаях и обрядах, существующее между еще живущими в Индии потомками древних парси (Parsis), так называемых геберов (Ghebern), и монгольскими
буддистами. Сюда относится, напр., то, как те и другие поступают с человеческими трупами, которые оба народа стремятся по возможности отдать на растерзание
386
Вторая книга. Мифология
животным*. Кто знает, насколько глубоко отношение к умершим, различие между
погребением, сожжением или оставлением на съедение животным влияет на систему религиозных идей, однако такое сходство не может рассматриваться как чисто
случайное. Сюда прибавляется еще и тот факт, что монгольские буддисты называют
Будду Хормуздом (Chormusda), имя, в которой мы до некоторой степени принуждены узнать имя персидского Ормузда. Ормузд же есть благой принцип, бог добра так
называемого персидского дуализма, к которому я ранее обещал вернуться еще раз.
Ключ к персидскому дуализму лежит в Митре, которого знают еще книги Зенды,
которого еще Плутарх, как мы могли видеть ранее, объясняет как μεσίτης22, посредника, стоящего посредине между материей и духом и который есть не что иное, как
сам себя материализующий Бог. Митра есть Творец уже одним тем, что он — как
Ормузд — подчиняет себе свою изначально имматериальную, однако именно поэтому сопротивляющуюся всему материальному, изначальную силу, делает ее материей,
предметом преодоления. Этот подчиненный в творении принцип сам в себе не является злым, он есть всего лишь принцип изначального чистого в-себе-бытия, неэкспансии, где он еще не является противоположностью экспансии. Лишь будучи
подчиняем принципу экспансии, — мы можем сказать, принципу любви, принципу
сообщения, — он должен принять по отношению к нему природу противления (ибо
его непрерывное действие, то, что он сопротивляется материализации, является необходимым для самого творения). Покуда сам он не имел себе противоположности,
он не мог выразиться как contrarium, как противящийся экспансии эгоизм. Творец
желает лишь благого, однако, желая благого, он должен — как бы случайно — желать также и противящегося благу, его contrarium. Таким — правда, до сих пор не
вполне обычным — образом объяснено, как персидское учение может являться как
дуализм, т. е. как учение, которое объясняет творение из борьбы и взаимодействия
доброго и злого принципов. То, что буддизм также не является таким абстрактным учением единства, каким он обычно мыслится, но учением единства, которое
Еще Геродот (I, 140) рассказывает о персах своего времени, что они не прежде приступали к похоронам своих умерших, чем к ним подлетала хищная птица или подходила собака. При этом сам
Геродот признается, что недостаточно хорошо осведомлен, и, похоже, на такой недостаточной осведомленности и основывается его высказывание. (Ср.: Страбон, XVI, 746). Сегодняшние парси хоронят своих умерших, оставляя их на растерзание плотоядным животным, считая такой род живого
погребения за большое счастие. Ибо они боятся осквернить телами умерших как землю, так и священный огонь, по примеру других, сжигающих своих мертвецов, народов. Монгольские буддисты
оставляют своих умерших на открытом воздухе на подстилках или помостах, либо на скалах или
деревьях на съедение хищным зверям и птицам. Горящий светильник геберы никогда не задувают,
разбушевавшееся пламя никогда не гасится водой, но лишь закидывается землей, камнями и т.д.
Любой буддист-монгол сочтет большим грехом загасить пламя водой, плюнуть в костер или какимлибо иным образом осквернить его (Плиний, XXX, 2).
Двадцать вторая лекция
387
одновременно заключает в себе дуализм, — это можно было бы заключить уже
из печального характера всего его мировоззрения. Так называемый дуализм прошел
в своем развитии вплоть до весьма поздних времен весьма различные фазы. Буддизм, конечно же, уже не представляет собой чистое учение Зенды; та же самая идея
приходится здесь на эпоху гораздо более позднего развития, когда пагуба проникла
глубже и получила гораздо большее распространение, а мир гораздо более склоняется ко злу, чем в те прежние времена. Здесь, следовательно, возникает гораздо более
сильная потребность обособления от преданного расщеплению и рассеянию мира.
Буддизм учит, в отличие от чистого учения Зенды, — одинокой жизни, поощряя отшельничество. Древние буддисты жили вне густонаселенных городов, в лесах, как
можно заключить из Страбонова Мегасфена; многочисленные буддистские монастыри свидетельствуют о бегстве от мира, совершенно чуждом чистому парсизму,
который равным образом не налагает на своих последователей обязанности терпеть
лишения и умерщвлять плоть. Безбрачие считается заслугой или, по меньшей мере,
признается необходимым для достижения высшей степени чистоты. (Монгольский
Будда носит имя Шакья-Муни; невозможно не распознать в последнем слове индусское Mouni, которое означает «отшельник» и полностью идентично греческому
μόνος23.) Все эти устроения буддизма свидетельствуют об очень глубоком ощущении борьбы чистого и нечистого, добра и зла, а также о том, что принцип противления все более полагался в материи. Таинственная тишина одиночества наполняет
и окружает храмы Будды; все рассчитано на то, чтобы внушать идею бога, который
не имеет себе равных, но который, впрочем, есть все*.
Однако еще более решительное доказательство наличия дуалистической системы в буддизме представляет собой часто повторяемое высказывание христианских
миссионеров, упрекающих буддизм главным образом в том, что он принимает добро
и зло за одно и относится равно к тому и другому. Кому знакомы подобные упреки,
делавшиеся в древние и новейшие времена учениям иного рода, тот знает, — что это
Если мы объясним буддизм как второе явление персидской идеи Митры, то против этого нам могли бы быть приведены именно те аскетические упражнения, которые буддизм ставит в обязанность
своим адептам и о которых ничего не знала древняя персидская религия. На это следует ответить:
1) что идея Будды, во всяком случае, есть идея Митры, явившаяся в гораздо более позднюю эпоху;
2) что несмотря на то, что нам мало что известно о действии религии Митры в древней Персии, мы
знаем, что, по крайней мере, с мистериями Митры — в том виде, в каком они праздновались в эпоху
римского царства во многих странах Малой Азии, да и в самом Риме, будучи перенесены оттуда
в горы Тироля и Зальцбурга, — были связаны аскетические упражнения и терпение лишений, тогда
как нет никакого сомнения, что эти мистерии Митры действительно происходили из Персии, несмотря на то что они приняли формы и церемонии позднейшей эпохи. Главным вопросом все же
остается вопрос о том, является ли буддизм абсолютным учением единства, или же в основе его, как
и в основе учения Митры, лежит дуализм.
388
Вторая книга. Мифология
значит, если говорят, что та или иная система равно относится к добру и злу. Никогда человеческий дух не был столь абсурден, чтобы благо как благо считать равным
злу как злу, устанавливая между ними формальное равенство. Этот упрек основывается на лишь поверхностном взгляде и внешнем понимании; истинное значение
есть лишь то, что в своей последней субстанции именно то, что есть зло, есть также
и благо, а в частном применении к дуалистическому учению о творении оно говорит
лишь: добро и зло равно существенны в творении, отчего зло никоим образом не
перестает быть злом, а добро добром. Не существует развития без задерживающей
развитие, тормозящей его, ему, следовательно, одновременно противоположной,
силы; и это — всякому развитию противоположное — может в последней инстанции заключаться лишь в том же самом принципе, в котором заключается и развитие.
Что касается другого упрека, в равнодушии ко злу, каковое приписывают буддистам и рассматривают как следствие их учения, то видимость такого равнодушия
можно отнести за счет праздной, созерцательной жизни вообще, к которой склонен
буддист. Однако известное успокоение в отношении существования зла, которое
остальные доктрины воспринимают как великий и трудноразрешимый диссонанс,
дает представление, с одной стороны, о неизбежности зла, а с другой — о его необходимом конечном исчезновении. Само зло есть в своем последнем основании
не что иное, как противящаяся творению сила Будды, которую он поставил в подчиненное положение в творении; но именно этим самым он внес противоположность в действительное творение; однако последняя цель творения есть полное исчерпание этой противостоящей и противящейся силы; все творение есть всего лишь
устройство для освобождения от уз этого принципа; последнее намерение Будды состоит в том, чтобы поднять все существа до ступени равного его собственному блаженства. Лишь для этого он сам погружается в материю, нисходит в нее. Поскольку,
однако, эта цель, где все существа, даже и самые презренные, в конечном итоге сами
достигают ступени Будды, достижима лишь в результате работы неопределенно долгих времен или эонов, то ясно, что сторонник этого учения выказывает себя более
равнодушным по отношению к отдельным и преходящим проявлениям зла, нежели
тот, кто зло вообще считает чем-то только случайным и не видит ни его конца, ни
его собственной цели.
Еще одним, не менее важным доказательством содержащегося в учении Будды
дуализма является тот со всех сторон засвидетельствованный факт, что на Цейлоне (Цейлон является изначальной цитаделью всех изгнанных из Индии буддистов:
с него, как из второго центра, буддизм распространился по всем частям Азии) — на
Цейлоне последователи Будды наряду с большими, посвященными Будде, храмами,
регулярно воздвигают меньшие, напоминающие часовни, которые сами они зовут
Девала (Dewalas) и которые у миссионеров отнюдь небезосновательно получили название диавольских капелл. Это напоминает тифониумы в Египте. Следовательно,
Двадцать вторая лекция
389
также и в буддистской религии существует принцип, подобный тифоническому;
здесь лишь невозможно указать на существование того мифологического дуализма,
который установлен в Египте между Осирисом и Тифоном. Отличие буддизма от
мифологической религии как раз в том, что он связывает те два принципа, которые
в широком обобщении могут быть обозначены как реальный и идеальный, в Единство — в одном и том же Боге. Тем не менее, в воздвижении этих Девала выражается
та мысль, что противящийся добру и любви принцип необходим для творения, что
он не является лишь случайно возникшим в его ходе, но столь же изначальным, а потому словно бы требует для себя постоянного примирения, а значит — по меньшей
мере, чего-то вроде культа. Противящийся сообщению, снисхождению принцип является даже более древним; ибо началом послужило снисхождение Творца; сперва
же он существовал только в себе.
В качестве еще одного доказательства того, что буддизм рассматривался во взаимосвязи с персидским так называемым дуализмом, я хочу привести и тот факт,
что Мани (Mani) или Манес (Mânes), которого обычно преподносят как перса — а
в эпоху, когда появился Мани, это было весьма неопределенным понятием, и если он,
согласно имеющимся данным, написал свои рукописи на сирийском языке, то это означает не более того, что он родился в одной из провинций персидского царства, где
сирийский был национальным языком; его имя, Mani, истолкованное по-сирийски,
означает «разделяющий», полностью Mani-Choi (откуда Манихей), разделяющий
жизнь, qui vitam in duo principia distraxit24, — итак, в качестве предшественника
Мани упоминается некий Скифиан, наследником и учеником которого называют
еще одного Феревинфа (Therebinthos), позднее присвоившего себе имя Будды (Будда,
конечно, есть не только имя Бога, но также и имя исполненного Богом); еще более
достопримечательным в этом отношении является то, что позднейшие последователи манихейцев при своем переходе в католическую церковь в числе других заблуждений своей секты должны были отречься от следующего учения: Τον Ζαράδαν και
Βουδάν και τον Μανιχαιον και τον ήλιον ενα και τον αυτόν είναι25*. Здесь, таким образом, Зороастр, Будда и Манес откровенно поставлены в один ряд.
Последнее сходство между буддизмом и персидским учением представляет собой весьма пространное учение о духах, которое равно свойственно тому и другому
и которое одно могло бы убедить любого сомневающегося в том, что источником
буддизма является нечто совершенно отличное от индийской мифологии.
Если теперь мы вправе рассматривать буддизм как формацию, по меньшей
мере, аналогичную учению Зенды, соответствующую ему в более позднем моменте
или повторяющую его на более поздней ступени, то необходимо будет вместе с тем
Ср.: Неандер. История Церкви, изд. 2, раздел 1, т. 2, с. 828.
390
Вторая книга. Мифология
и признать, что в своем последнем основании он гораздо древнее индийской мифологии. Ибо первое основание учения о Боге, воплощающем самого себя, естественным образом могло возникнуть лишь в период первого перехода от немифологического времени к мифологическому. Здесь та двойственность, что лежит в основании
всякой мифологии, должна была разрешиться в единство, дабы предварить собой
тот мифологический процесс, который с необходимостью задан указанной двойственностью. Туда же, к этому моменту, была ранее отнесена идея Митры. Такое ее
новое появление в более поздний аналогичный момент, и именно в индийском сознании, может быть, кстати, весьма просто объяснено ее действительной передачей
по наследству. Нет ничего невероятного в предположении, что идея самого себя
материализующего Бога — этого Все-Бога в индийском сознании осталась с того
времени, где от очевидно общего индо-персидского этнического ствола отделился
индийский народ как таковой, именно в результате следования мифологическому
процессу: благодаря своей мифологии он отделился от остального общего ствола.
Ибо ведь нам еще в Ведах пришлось признать религиозные источники, которые невозможно рассматривать как сугубо индийские и которые определенно указывали
на Персию как на страну своего происхождения. Можно было бы, следовательно,
предположить, что буддизм всегда пребывал в индийском сознании как нечто незапамятно древнее, никогда не будучи вытеснен из него всецело, и время от времени
проступал в нем в начале и в течение мифологического процесса.
Об этом присутствии буддизма в Индии можно заключить даже из тех немногих его памятников, что сохранились в самой Индии, избегнув уничтожения в ходе
яростных преследований со стороны браминов. Среди тех древних монументов
Индии, что покрывают побережье Короманделя, уже в Салсетте во дворе местного скального храма можно видеть две колоссальных статуи Будды. В Переснате
(Peresnath) (место, относящееся к монументам Эллоры) есть огромная, совершенно
обнаженная фигура Будды, выполненная из черного базальта, восседающая на троне, установленном на головах слонов и тигров; Будда сидит со скрещенными ногами, в своей обычной позе, выражающей покой погруженного в самого себя, в глубокое самосозерцание, Бога; его в молитвенных позах окружают шесть фигур, пять
из которых сидящие и одна — стоящая. В монументах Кеннери, которых, кстати,
нынешние местные жители избегают как жуткого места, обиталища злых духов,
Вишну повсюду изображен как служитель Будды. Точно так же в стенных скульптурах Салсетта знаки буддизма присутствуют наравне со знаками шиваизма. Будда —
с одной стороны, и Брахма, Шива и Вишну — с другой, по всей видимости, пользуются здесь равным поклонением. Древняя, опубликованная в «Asiatic Researches»,
надпись в Буддалгайе (сегодняшний Бохар) прославляла Будду как благоделающего
бога, очищающего от греха и любящего справедливость. Между тем, в этой надписи
Брахма, Шива и Вишну упоминаются с совершенно той же почтительностью.
Двадцать вторая лекция
391
Если до сих пор я с достаточными основаниями отвергал одно из двух мнений, согласно которому буддизм представляет собой нечто развившееся из самой
индийской мифологии, происшедшее из нее и поэтому относится к ней как нечто
позднейшее, то я поэтому отнюдь еще не склонен принять противоположное мнение, согласно которому буддизм есть приус, предшествующее собственно индийской
мифологии, так что эта последняя могла бы теперь рассматриваться лишь, напротив, как разрушитель буддизма. Буддизм и индийская мифология в материальном
рассмотрении никоим образом не стоят в таком отношении, чтобы последняя могла
возникнуть из первого в результате каких бы то ни было изменений. Буддизм в своей
чистоте по меньшей мере не есть система, которая могла бы содержать материал для
возникновения индийской мифологии. Между ними существует полнейший антагонизм. Буддизм преимущественно в том противоположен брахманизму, что он всецело отвергает кастовое различие. Но именно оно рассматривается в Индии как нечто
настолько неприкосновенное, что, скажем, любой член низшей касты (напр., париев)
уже одну мысль при помощи каких бы то ни было средств подняться в высшую касту
считал бы преступлением. А такой страх никогда не возникает перед установлениями, возникающими лишь с течением времени. Его может внушить лишь незапамятная древность — то, чье возникновение теряется в совершенном забвении.
Таким образом, ни одно из двух мнений, между которыми до сих пор разделялись воззрения, не является истинным. Истинной мыслью, которая единственно
объясняет загадку индийской мифологии и в особенности то темное отношение
между брахманизмом и буддизмом, которое, наконец, выплеснулось в кровавой войне, закончившейся полным изгнанием буддизма, является мысль о двух пересекающихся в индийском сознании, однако, впрочем, совершенно друг от друга независимых, идущих с разных сторон направлениях.
Теперь, однако, как сказано, это внезапное появление буддизма, это пресечение мифологического развития Индии идеей Будды вполне может быть объяснено
тем предположением, что данная идея была заложена в индийском народе с самого его возникновения; ибо сколь бы решительно персидская и индийская сущности
ни разошлись впоследствии, все же нельзя отрицать, что обе нации принадлежат
к одной и той же главной ветви человечества. Об этом свидетельствует уже хотя бы
взаимосвязь идиом. Согласно В.Джонсу, из десяти слов языка Зенды шесть или семь
представляют собой чистый санскрит. Это наблюдение заслуженного В.Джонса, однако, получило еще одно, совершенно иное направление благодаря основательным
трудам Евгения Бурнова. Бурнов — после смерти незабвенного Сильвестра де Саси,
бесспорно, первый ориенталист Франции — подверг древние, давно пребывавшие
в забвении тексты своему непогрешимому критическому и лингвистическому анализу, в результате чего ему удалось представить нам древний язык Персии в его изначальной полноте и чистоте. Результатом было очевидное глубочайшее сходство
392
Вторая книга. Мифология
зендского языка с санскритом, точнее — с санскритом не эпопей, а Вед, из чего сам
собой напрашивается вывод о существовавшем единстве древнеперсидского с древнеиндийским, которое, однако, стало сходить на нет по мере того, как индийская мифология начала развиваться в том своем разнообразии, которое она выказывает уже
в Рамаяне и Махабхарате. Бурнов открыл для метатезы звуков между санскритом
и зендским столь обязательные законы, что достаточно было одного лишь применения их, чтобы любое санскритское слово превратить в зендское, и любое зендское —
в санскритское, так что в известной степени санскритский словарь может служить
в качестве зендского*.
Те из вас, кто может вспомнить из введения представленную там взаимосвязь
между религиозным и языковым развитием**, сами после приведенных фактов
должны будут сделать тот вывод, что мы имели бы гораздо больше оснований для
удивления, если бы в индийском сознании ничего не осталось от первоначального
парсизма, — чем мы имеем сейчас, удивляясь тому, что он, хоть и будучи вытеснен
мифологическим развитием, все же постоянно сохранялся в индийском сознании
и лишь в определенный момент вновь с силой проступил в нем в виде буддизма.
Индийский народ был именно той ветвью изначального ствола, которая оторвалась от него, последовав в своем развитии мифологическим путем, персидский же
сохранил себя в чистоте, его избежав. (Отношение между персидским и индийским
есть отношение немифологического к мифологическому.) Однако индусы в этом отрыве все же не могли полностью утратить первоначальное родство. Так получилось,
что в то время как они не могли всецело отказаться от мифологического направления, то немифологическое, что присутствовало в них с самого начала, лишь теперь
пришло в действие в противоположность мифологическому развитию. Свою мифологию индийский народ получил совершенно независимо от буддизма в ходе общего
мифологического процесса; принцип же буддизма был заложен в нем с самого его
возникновения, и он поднялся в нем из глубины самого сознания именно в этой
точке разительного контраста, которую представляет религиозное сознание Индии:
с одной стороны — совершенный отказ от единства, перевес шиваизма, система
многобожия, в которой Брахма, Шива и Вишну исключают друг друга, вместо того
чтобы разрешаться во все-единство; а с другой стороны — этот Все-Бог (Allgott),
этот ничего кроме себя не знающий Бог, Будда, который, очевидно, с самого начала
живя в индийском сознании и в индийской земле, лишь в результате позднейшего
кризиса, да и то не полностью, по меньшей мере лишь с полуострова, был отправлен
в изгнание.
См.: И. Мюллер в Мюнхенских ученых записках, 1838, с. 784-785.
Ср. пятую лекцию Введения в философию мифологии.
Двадцать вторая лекция
393
Что касается доказательств в пользу лежащего в основе буддизма дуализма, то
здесь я хочу отметить, что в дальнейших распространениях буддистской религии
этот дуализм в полной мере себя проявляет. Здесь он выказывает себя как противоположность материи и духа, которая, впрочем, неотделима уже от идеи инкарнаций.
В монголо-буддистских системах феномен мира производится, с одной стороны, наполненным мировым материалом пространством, а с другой — обитающим в чистом царстве света, привлеченным материей и соединяющимся с ней в частичных
явлениях, духом. Вообще сам буддизм не может рассматриваться как завершенная
и неподвижная система. Он повсюду приспосабливался к характеру тех стран и уложений, с которыми встречался. Он был одним в Индии, безо всякого ущерба для
основы своего характера является иным в Тибете, иным в среде монгольских племен
и в Китае, где ему пришлось в известной мере выродиться в некий абстрактный пантеизм, чтобы быть принятым.
С одной стороны, невозможно не признать, что Индия является родиной буддизма, с другой же стороны известно, что учение Будды было в ходе кровавого преследования изгнано из собственно Индии, что он стал в ней предметом ненависти,
отвращения и проклятий. Между эпохой, к которой единогласное свидетельство
принявших его народов Азии относит его возникновение, и эпохой насильственного
изгнания из Индии лежит значительный временной период, однако письменные источники браминов хранят относительно этого периода глубокое молчание. Без уже
упоминавшихся скульптурных памятников, свидетельствующих о древнем величии
культа Будды в Индии, а также некоторых свидетельств неиндийских писателей —
можно было бы почти усомниться в том, что он вообще когда-либо в Индии существовал. Возможно, что вся история человеческого рода не имеет второго примера
секты, которая была бы уничтожена настолько полностью, и это в стране, которой
она принадлежала бы как по природе своих догм, так и по своему возникновению.
В течение какого-то неопределенного времени — такое предположение позволяют
сделать упомянутые источники.— приверженцы Будды жили в мире и даже почете
среди многочисленных других сект Индии; тем не менее, по всей видимости, с начала
первого и второго столетия христианского летоисчисления Будда уже не пользуется
почитанием в Индии; его статуи опрокидываются, его храмы оставляются в запустении и даже — как, напр., храм в Кали (Kali), — избегаются людьми как гнездилища
злых духов. Темный ужас, действительное или притворное неведение, неукротимая
и слепая ненависть сквозят в высказываниях браминов обо всем, что касается Будды
и его учения, и в то время как последнее распространилось на юг, запад и восток,
окружив Индостан со всех сторон, Индия упорно продолжает его отвергать. В самый
ранний и средний период, а также еще за несколько столетий до Христа в Индии прослеживаются отчетливые следы существования буддизма. Когда Александр Великий
пришел в Индию, греки нашли наряду с брахманами отличную от них религиозную
394
Вторая книга. Мифология
секту, которую они обозначали то именем «гимнософистов», то «саманеев». Имя «саманеи» является чисто индусским. Saman означает ушедшего от мира, посвятившего
себя созерцательной жизни и в особенности очистившего себя от всех страстей. Обе
секты, по рассказам, существуют бок о бок, и если брахманы выступают как господствующее духовенство страны, то эти другие представляют собой лишь особую, отличающуюся суровостью аскетических упражнений, секту внутри всеобщей церкви
Индии. Спрашивается: были ли эти саманеи или гимнософисты в эпоху Александра
всего лишь индийскими йогами, т. е. приверженцами мистического учения Вед, которое требует полного умерщвления чувств в качестве пути к высшей созерцательности и соединению с Богом, или это были буддисты? Что это были буддисты, можно
заключить из того, что Будда сиамцев носит имя Саманакодом. Если саманеи — буддисты, то это доказывает, что в эпоху Александра буддисты все еще жили в Индии
среди прочих, образуя хоть и отличную от брахманов, однако не исключенную или
схизматически отверженную секту. У Арриана в его «Походе Александра» можно
даже встретить имя Будды. У него оно звучит как Buddyas. Арриан сравнивает его
с греческим Дионисом, главным предметом греческих мистерий. Относительно тогдашнего существования буддистов в Индии не может быть, следовательно, никаких
сомнений. Страбон, вслед за Мегасфеном, различает браманов (Bramanen) и гарманов (Garmanen). О последних он говорит, что они питаются одними кореньями, не
убивают ничто живое (не убивать ничто живое есть одна из главнейших заповедей
строгих буддистов), живут в лесах и носят одежду из древесной коры*. Едва ли можно сомневаться, что эти гарманы Страбона и саманеи других писателей суть одно
и то же. Климент Александрийский называет их сарманеями, говоря о них: «Они
не живут в городах, не имеют домов, питаются древесными плодами и водой и не
имеют семьи». После этого описания Климента Александрийского, которое, вероятно, почерпнуто из более древних источников, можно почти не сомневаться, что
имеются в виду буддисты. Ясное свидетельство о них можно найти если не в будиях
(Budier) Геродота, то в тех индусах, о которых он говорит**: «Они не убивают ничто
живое, не сеют и не строят жилищ, они питаются кореньями и родом зерна величиной с просо; если кто из них бывает застигнут болезнью, то отправляется в пустынную местность и лежит там, без того чтобы кто-либо обеспокоился о больном или
умирающем». Это следует толковать в том смысле, что последователи данной секты,
утратив всякую надежду на жизнь, ищут пустынных мест, где они наверняка станут добычей диких животных. В другом месте Климент говорит о σεμνοις26 индусов,
пользуясь такими атрибутами или предикатами, которые показывают, что он также
имеет в виду буддистов и что это σεμνοί27 есть лишь огреченное или на греческий лад
* Страбон, XV, 1,712.
** Геродот, Ш, ЮО.
Двадцать вторая лекция
395
истолкованное имя саманеев. Наиболее достопримечательным мне всегда казалось
одно место Плиния, на которое, к моему удивлению, никто, нигде и никогда не ссылался (произошло ли это со стороны новейших авторов, пишущих об Индии, не могу
сказать с точностью): в этом месте определенно различаются касты Индии, и среди
них брахманы. Vita, говорит Плиний*, mitioribus populis Indorum multipartita degitur
(это о разделении на касты). Alii tellurem exercent (это шудры), militiam alii capessunt
(это о кшатриях), merces alii suas evehunt (так называемые бании), res publicas optimi
ditissimique temerant, judicia reddunt, regibus assident28: это теперь, конечно, брамины,
и в высшей степени достопримечательно, что они обозначены здесь не как каста священников, но как то, чем они в действительности были, как optimates, высшая аристократия страны. Также и теперь не каждый брахман является священником, хотя
никто не может быть священником, не принадлежа к касте брахманов. От них далее
Плиний весьма определенно отличает quintum genus hominum, в следующих словах:
Quintum genus celebratae illic et prope in religionem versae sapientiae deditum, voluntaria
semper morte vitam accenso prius rogo finit29. Известно, что в присутствии Александра и его войска гимнософист Каланий (Kaianus) добровольно и дабы доказать свое
убеждение, взошел на костер. Также и для позднейших буддистских патриархов стало обычным делом добровольно оканчивать свою жизнь на срубе.
Во всех этих местах, следовательно, буддисты изображены хоть и отличными от
брахманов, однако существующими наряду с ними и пользующимися не только терпимым отношением, но даже и особым почитанием со стороны народа как некий род
святых, которых терпят потому, что они не претендуют на общественное внимание
и свою общезначимость. Также и Порфирий с совершенной отчетливостью описывает под именем саманеев буддистских священников с их монастырскими и монашескими установлениями. Эти сведения Порфирия происходят из источника, относящегося по своей давности к середине второго столетия, ибо они взяты из доклада
прикомандированного ко двору цезаря Антония индийского посланника. Такая хронология подтверждает те данные, что получены Вильсоном с помощью многоступенчатых заключений, а именно — что преследование буддистов в Индии началось
во времена первого распространения христианства. Это, пожалуй, является еще одним примером тех хронологических совпадений или того закона одновременных и
в известном смысле взаимно подобных и, тем не менее, независимых друг от друга
движений в совершенно, кстати, различных регионах. Создается впечатление, что
буддизм, ранее воспринимавшийся с терпимостью, сделался предметом столь жестокого преследования и восстал против религиозной системы Индии именно в тот
момент, когда с другого конца Азии начал свое победное распространение по миру
Естественная история, VI, 22 (19).
396
Вторая книга. Мифология
другой, духовнейший монотеизм. В это время, должно быть, буддисты, которые до
сих пор вели себя тихо, живя в самом лоне индусской религии и пользуясь терпимостью и даже почитанием, впервые стали откровенно отвергать в своих книгах Веды
и объявили открытую войну мифологическому политеизму, провозгласив себя истинно верующими. Одновременно — после того как они упразднили различие каст,
а тем самым наследственное священство — они должны были допускать к проповеди Слова всех, кто имел к этому внутреннее призвание. Эта система, однажды сооруженная на столь широком основании и в таком противоречии с неподвижным
брахманским устроением, грозила стремительным прогрессом, а потому возбудила
против себя всю мощь и власть брахманов. По всей видимости, эти кровавые войны длились до самого VII столетия. Между тем религия Будды распространилась
за границы полуострова; будучи побеждена в Индии, она сделалась господствующей
системой на Цейлоне, где вытеснила древний брахманизм, оттуда — как из второго
центра — распространилась по всей Индии по ту сторону Ганга к бирманцам, в Пегу
(Pegu) и Сиам; в конце концов ее принял также и Китай, и она проникла во все области к северу от Индии, через Тибет до степей Центральной Азии, куда еще ранее
проникло семя парсийского учения, приготовив путь для буддизма.
Пересаженный на чужие почвы, для которых он, по всей видимости, не создавался, буддизм все же со всех сторон граничит со своей первоначальной родиной, и разные судьбы, которые он переживает, не смогли стереть с него отпечатка той страны
и того климата, в которых он впервые возник. Насколько глубоко он сплелся с самим
существом Индии, вжившись в ее мифологическую религию, словно бы сросшись
с ней корнями, явствует из того, что даже в индийских храмах вне Индии все же представлен весь индийский пантеон. Мооркрофт (Moorcroft) среди прочего говорит об
одном храме в Тибете, что ему нигде прежде не приходилось видеть столь многочисленного собрания изображений индийских богов. Буддизм не мог встретиться лицом
к лицу с мифологическим развитием, на которое приходится момент индийского сознания, не приняв, в свою очередь, индийских форм и красок индийских представлений, не сплавившись с понятиями индийской мифологии. Чрезвычайно сложной
задачей, однако, будет при том необходимом взаимном влиянии, которое оказывали
друг на друга индийская мифология и учение Будды, выяснить соответствующие той
и другому границы собственности. Так, напр., сложным будет вопрос о том, была ли
идея Майи изначально индийской, или она принадлежит Будде. Майя, как прежде
было показано, является необходимой в ортодоксальной системе, поскольку эта система утверждает свободу в миротворении, которая невозможна, если не положить
между Творцом и миром опосредующую причину, нечто вроде первоначального побуждения к творению. Однако Майя была принята равно и в буддизме, и в известной
мере является необходимой также и в нем. Материя, в которую погружается Творец,
должна была представляться ему сперва как возможность, а значит — как принцип
Двадцать вторая лекция
397
в нем самом. В скульптурных изображениях Будда представлен как младенец у груди юной, сияющей всеми прелестями красоты, Майи. Ему подносят цветы и плоды.
Группы животных приближаются к нему как к Богу, благосклонному к живым существам и запретившему проливать кровь животных, принося их в жертву; лучезарные
ореолы окружают голову как младенца, так и матери. Одним словом, между Буддой
и Майей существуют самые близкие, проникновенные отношения. Китайские буддисты определенно учат о взаимосвязи между Майей и тремя разделенными качествами. Они уверяют, что иллюзия Майи основывается лишь на иллюзорном разделении
трех качеств. Того, кто хочет возвыситься до истинной сущности, они приглашают
подняться над Майей и тремя качествами. Здесь, таким образом, буддизм всецело согласуется с философскими идеями, которые, так же как и учение о трех качествах,
свойственны Индии. Можно поэтому с полным правом испытывать склонность считать Майю изначально индийской идеей. С другой стороны, однако, следует заметить,
что идея Майи вполне соединима также и с персидской системой, именно потому,
что та предполагает свободное творение. Не было ли возможно, чтобы в дальнейшем
развитии идеи Митры, благодаря которой лишь она и была поднята до собственно
магизма, — что в таком дальнейшем развитии персидское женское существо, Митра,
которую Геродот сравнивает с Уранией, было представлено как Майя = магия?
Среди тех скудных сведений, которые достались нам о древнем магизме, есть
также понятие о triformis Mitra30. Юлий Фирмик говорит*: Persae et Magi omnes Jovem dividunt in duas potestates31, a именно, добавляет он, на мужскую и женскую, et
32
mulierem quidem triformi vultu constituunt . Как теперь не иметь причины истолко33
вать mulierem triformi vultu таким образом? Митра в позднейшей доктрине или
научном выведении древнеперсидского учения есть изначальная сущность Бога =
34
неэкспансия, которая представляется ему экспансибельной там, где она ведет себя
35
как + . Однако в своей безусловной экспансии она пребывает вне Бога. Ей, следовательно, должен быть противопоставлен Ормузд, ограничивающий (опосредующий свет и знание) принцип. Таким образом, Митра становится неограниченной
и ограниченной, плюсом и минусом и единством того и другого, т. е. действительно triformis, действительно превращаясь теперь в материю. Не может ли теперь эта
триформность быть связана с тригунайей индийской философии? Такое вполне
возможно, однако связь могла бы быть и обратной. Лишь в позднейших экспликациях (а это взятое из позднего, уже христианского автора замечание относится ко
времени, в котором уже ориентальные религиозные идеи, стекаясь со всех сторон,
получали синкретическое объединение) — было бы, следовательно, вполне возможно, что лишь в позднейших экспликациях магизма персидская Митра получила это
Об ошибках языческой религии, I, 5.
398
Вторая книга. Мифология
аналогичное индийской Майе истолкование. Одним словом, будет трудно, а при настоящем состоянии нашего знания (по меньшей мере, насколько оно мне известно)
невозможно судить о том, пришла ли Майя в индийскую систему из буддизма, или
наоборот, она была заимствована буддизмом из индийской философии.
Если бы возможно было доказать, что все изображения Тримурти являются буддистскими, то они могли бы служить самым очевидным доказательством сращения
между индийской мифологией и буддизмом.
Но что, однако, определеннейшим образом поддается утверждению и доказательству, так это то обратное влияние, которое буддизм, встретившись в индийском
сознании с чисто мифологическим, противоположным направлением, оказал на индийскую мифологию. То, что материальные боги рано были вытеснены из индийского сознания, я уже прежде отмечал. Буддизм оказал решительное содействие при
том возведении в степень вишнуизма, которое мы распознали преимущественно
в Бхагават-Гите. Учение Вишну должно было быть возведено к высшему единству,
так чтобы Вишну был представлен как Шит numen36, как цельный и неделимый Бог.
Самое же очевидное влияние на оформление учения Вишну можно усмотреть в идее
инкарнации, которую оно применяет весьма широко, не только в отношении к Вишну, но и, в конечном итоге, также и к Брахме. Инкарнация первоначально мыслима
лишь в такой системе, которая уже само материальное творение выводит из понятия самого себя материализующего, а значит, самого себя подвергающего унижению, Бога. Подобное же, или, скорее, еще более приводящее в замешательство влияние буддизм, возможно, имел на теософские части Вед, на ту отчасти доходящую
до полного сумасшествия теорию унификации, что содержится в Упанишадах. Ибо
если Бхагават-Гита, напр., все еще придерживается личности Вишну, то, напротив,
высшая цель преподносимого в Ведах устремления есть пропасть абсолютно безличного, а потому и всецело лишенного содержания, единства. Здесь исчезают не
только Брахма и Шива, но также и Вишну. Эти части Вед суть произведения духа, направленного против мифологии, ей противоположного, однако никоим образом не
способного позитивно ее преодолеть, который, дабы освободиться от ее пут, устремляется в пустоту и в ничто. На фоне такой погруженности Вед систему Бхагават-Гиты следует рассматривать как духовный взлет к личному Богу, ибо ведь именно это
учение наиболее решительным образом высказывается против того вязкого, тупого
квиетизма, которым пропитаны эти части Вед, в то время как Бхагават-Гита, далекая от того, чтобы объявить недеяние в качестве единственного пути к блаженству,
напротив, рекомендует деяние, однако такое деяние, которое пристало верующему
в возвышающегося надо всем миром, свободного по отношению к нему Творца.
Однако последние слова об этом отношении мне следовало бы приберечь для
завершения всего данного исследования. Предварительно я должен напомнить еще
кое-что о дальнейшем распространении буддизма за пределами Индии.
Двадцать вторая лекция
399
Если решительно политеистическая религия не испытывает никакой потребности и никакого устремления к распространению своего влияния и приобретению
новых прозелитов, как, напр., индус вплоть до сегодняшнего дня не делает никаких
попыток привлечь инакомыслящих на сторону своей религии, что, кроме всего прочего, ему запрещено его общественной и политической организацией: то, напротив,
в природе каждой пантеистической или абсолютно монотеистической религии заложено стремление рассматривать себя как универсальную, а потому испытывать
постоянные позывы к безусловному распространению. Я говорю: это заложено
в природе всякой пантеистической или абсолютно монотеистической религии. Моисеева религия не может рассматриваться как таковая, поскольку она, хоть и основывается на идее истинного Бога, тем не менее видела в нем только национального Бога — Бога, который избрал Израиля своим народом, иные же народы оставил
иным богам. В Моисеевой религии уже само отделение от всех остальных народов,
в котором непременно должен был содержаться избранный народ Иеговы, в течение
долгого времени противоречило практически любому дальнейшему распространению. Напротив, относительно буддизма есть исторически достоверные данные,
что он распространялся посредством миссий. Среди кочевых монголов, где буддизм предстает как ламаистская религия, распространявшийся из Индии, буддизм
столкнулся с прежним патриархальным уложением, с которым была связана столь
же простая, еще свободная от собственно политеизма, религия. Однако еще прежде
буддизма среди этих племен должна была получить распространение некая ветвь
персидского учения об Ормузде, как явствует из уже приведенного обстоятельства,
т. е. имени Хормузда, которым они называют всевышнего Бога. До сих пор письменные источники индийского буддизма в Европе были почти совершенно неизвестны;
лишь в последнее время Ходжсоном (Hodgson) в буддистских монастырях Непала
(единственный клочок земли в собственно Индии, где сохранился буддизм) было
обнаружено большое собрание написанных на несколько искаженном санскрите сочинений, в которых вскоре признали списки с оригиналов северных и восточных
буддистов; на их материале основывается новейшая работа Е.Бурнова: «Introduction à Г histoire du Buddhisme»37; до этого же момента мы обязаны нашим знанием
о внутреннем буддистского учения преимущественно китайским и написанным на
татарском языке монгольским сочинениям, из которых весьма поучительные выдержки дали в частности Абель-Ремюза (Abel Remusat), Клапрот (Klaproth) и уже
упомянутый Исаак Шмидт в Петербурге. Согласно свойственному монгольскому
буддизму оригинальному способу представления, в основе видимого мира лежит
изначально нарушенное единство. Единство в его безграничности или свободе от
противоположности в монгольских сочинениях носит название пустого пространства (leerer Raum). Здесь, однако, имеется в виду не чувственное пространство, но таким образом выражается лишь отсутствие сопротивления и напряжения в первом
400
Вторая книга. Мифология
единстве. Это понятие в себе столь же философично и метафизично, как и понятие
Хаоса у Гесиода, которое ведь мы также охарактеризовали как пустое пространство.
На место этой тихой, спокойной пустоты пришло теперь бурное море становления
и возникновения, что монгольские буддисты называют Ortschilang. Ортшилангу
в монгольских пустотах соответствует индийская Майя. Это море становления есть
только внешнее проявление предстающего в разрозненных качествах Бога. Именно
он принимает каждую из этих форм бытия, однако, по видимости, отождествляясь
с природой, он во всех изменениях своего внешнего существования внутренне пребывает равным самому себе в глубоком покое, будучи преисполнен глубокой любви
и благосклонности ко всем сотворенным существам, которых он, после того как они
выдержали испытание разделенными качествами, хочет вновь соединить с собою,
принять в свою изначальную Нирвану, которую обычно переводят как Ничто, но которая собственно обозначает свободу от всякого внешнего существования, в какой
существует он сам.
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ
В первый раз имя Китай было упомянуто в связи с распространением буддизма.
Однако учение Будды в Китае было принято лишь довольно поздно. А следовательно, одним лишь только буддизмом сущность Китая объясняться не может. В своей
изначальности, по моему представлению, она состоит в решительнейшем противоречии к утверждавшейся нами до сих пор всеобщности мифологического процесса.
Не уступая по возрасту ни одному из перечисленных ранее мифологических народов,
китайский народ не выказывает в своих представлениях ничего такого, что напоминало бы мифологии других народов. Мы можем сказать: это абсолютно немифологический народ среди мифологических, имеющий равный возраст с ними, однако стоящий совершенно вне свойственного им мифологического движения и развивавшийся
в обращенности к совершенно иным сторонам человеческого бытия. Соприкасаясь
со странами и народами, в среде которых мифологический процесс набирает колоссальную силу и выказывает всю мощь своего действия, Китай единственный представляет собой великое и в своем роде уникальное исключение из этого движения,
требуя именно поэтому нашего серьезнейшего внимания. Ибо одного единственного
фактического противоречия достаточно для того, чтобы опрокинуть целую теорию,
подкрепленную пусть даже и непрерывным рядом иных фактов.
С сущностью китайского народа дело обстоит иначе, чем с учением Зенды
и с буддизмом, которые можно рассматривать как тормозящие препятствия, антитезы крайнего политеизма, но которые вместе с тем, именно в силу этой своей противоположности мифологическому процессу, сами являются свидетельствами его власти
и могущества. В учении Зенды и в буддизме политеизму противопоставляется учение о единстве, которое в этом отношении можно приравнять к монотеизму. В Китае
же, по всей видимости, место монотеизма, а равно и политеизма, занял решительный атеизм, полное отсутствие какого бы то ни было религиозного принципа.
Здесь, таким образом, объяснению подлежат два явления: 1) абсолютная немифологичность и 2) по видимости даже совершенная нерелигиозность китайского
сознания.
Говоря о первом пункте, давайте вспомним следующие положения нашего
прежнего чтения: а) политеизм одновременен и даже, в известной мере, идентичен
402
Вторая книга. Мифология
процессу возникновения народов; следовательно, нет народа без мифологии; Ь) абсолютно предысторическое время, время до возникновения народов было также
и относительно немифологическим временем, ибо мифология вообще возникла
лишь вместе с народами. В соответствии с этими положениями давайте теперь прежде всего установим, первое: что неверно говорить о китайском народе. Китайцы
не являются народом, они представляют собой всего лишь человечество, точно так
же как и сами они отнюдь не смотрят на себя как на один из народов, но, в отличие
от всех остальных народов — как на собственно человечество (в чем они известным образом правы, ибо они действительно не являются народом, подобно всем
остальным). Ни изнутри, ни извне они не были когда-либо побуждаемы конституироваться как народ. Изнутри — поскольку, как мы далее увидим, они избежали
мифологического процесса; извне — поскольку они составляют целую треть существующего человечества; последние данные англичан о народонаселении китайского
царства называют цифру, превышающую 300 миллионов. Таким образом: китайцы
могут рассматриваться в этом отношении (поскольку они не представляют собой
народ, наподобие других) — как до сих пор сохранившаяся часть абсолютно доисторического человечества. Следовательно, в них, в китайском сознании, должен также
обнаружиться и тот принцип, который всецело властвовал над абсолютно доисторическим человечеством. Однако поскольку этот принцип в китайском сознании
воспрепятствовал религиозному — теогоническому — процессу (не стал началом
и первым принципом мифологического процесса), то в китайском сознании он не
может сохранить своего религиозного значения. Таким образом, если наше объяснение верно (ибо я все еще говорю гипотетически), китайское сознание уклонилось
от закона мифологического процесса, т. е. отстояло изначальный принцип в его исключительности, однако ценой того, что одновременно было всецело упразднено религиозное значение изначального принципа. Я отмечаю здесь, что закон мифологического процесса, собственно, имеет лишь гипотетическое значение. Он утверждает
лишь следующее: если должен возникнуть теогонический процесс или вообще действительная религия, тогда тот исключительный принцип, что господствует над первым сознанием, должен быть ограничен, подчинен более высокому, сделаться сперва
преодолимым для него, а затем быть действительно преодоленным. Что теперь, если
среди многочисленных лазеек, которых ищет для себя человеческое сознание в бурных водах этого процесса, нашлась и заключающаяся в том, чтобы совершенно отказаться от процесса как теогонического, отказаться от исключительного принципа
как богополагающего, с тем чтобы удержать его как лишь исключительный, так что
с этой стороны процесс с самого начала свелся бы к простой негации, и даже не политеизма, но к негации религиозного значения самого принципа? Итак — если эта
предположенная нами возможность в китайском сознании сделалась действительностью, то в нем, в китайском сознании 1) должен был бы содержаться изначальный
Двадцать третья лекция
403
принцип религии во всей его силе и исключительности, каким он присутствовал
в еще не разделенном человечестве; однако, он должен был бы содержаться в нем
2) в измененном значении, но все же таким образом, чтобы в нем все еще просматривалось первоначальное религиозное значение; ибо в противном случае невозможно было бы доказать тождество принципа, невозможно было бы наглядно
представить, что именно тот же принцип, который у других народов принимал
теогоническое и религиозное направление, здесь принял направление иное, уклоняющееся от религии.
Дабы высказаться на этот счет более ясно, отмечу, что само слово religio1 имеет более общее и более специальное значения. Первоначально слово religio означает
любое обязательство, с которым связано понятие святости или равное чувство нерушимости, что явствует уже из латинского словоупотребления: hoc mihi religio est, hoc
mihi religioni duco2. Это общее можно назвать также и формальной стороной понятия (das Formelle des Begriffs). В указанном смысле религия есть во всем, даже и в вещах и обстоятельствах, которые совершенно, или по меньшей мере непосредственно
и для первого чувства, не имеют отношения к божественному. Однако можно брать
религию и в более узком или материальном значении, где тогда в ее понятии присутствует непосредственное отношение к божественному как таковому. Мы теперь
предположили возможность того, что этот первоначальный религиозный принцип,
который является собственно предпосылкой всякого теогонического процесса, мог
принять также и иное, отклоняющееся от религиозного, направление либо утратить
свое религиозное значение. Точнее мы выразимся теперь, сказав, что возможно или
мыслимо, чтобы этот принцип утратил свое материально-религиозное значение,
одновременно сохранив формально-религиозное.
Первоначально всякое обязательство есть обязательство перед Богом, и всякое
формальное обязательство ведет свое начало, пусть даже через сколь угодно большое количество опосредующих звеньев, от такого материального, единственно изначального обязательства. Этот реальный, лишь теперь исключительно выступающий принцип сознания мы ранее назвали материально богополагающим. С этим
принципом, как было показано, связан для сознания Бог. И наоборот, единственно
посредством данного принципа человек собственно и изначально обязан, а именно
Богу. Это изначальное обязательство никак и никогда не может быть снято, разве что
будет упразднено человеческое сознание вообще, как это действительно произошло
в тех всецело распадшихся и лишь внешне человеческих расах, о которых мы ранее
сказали, что они не признают над собой никакого авторитета, — ни видимого, ни
невидимого, — и потому живут также вне всяких общественных связей. Итак, это
изначальное обязательство никогда не может быть снято, покуда существует человеческое сознание, каким бы, впрочем, образом ни менял своего значения сам принцип. Однако вполне возможно, что принцип, по отношению к которому существует
404
Вторая книга. Мифология
это обязательство, или в плену которого человеческое сознание таким образом, т. е.
изначально, находится, — что этот принцип, в котором для него (сознания) изначально представлен Бог, превратится для него в нечто иное; так что оно тому же,
чему раньше было обязано как Богу (в узком и материальном значении этого слова),
будет теперь обязано как другому, однако столь же строго, как и прежде, с той же
религиозной обязательностью.
Таким образом — дабы вернуться теперь к нашему предмету — похоже, что
в китайском сознании мы встретили нечто словно бы занявшее место Бога, и именно место этого изначального Бога, однако занявшее его с той же исключительностью
и той же изначальной обязательностью, нечто хоть и не являющееся уже собственно религиозным принципом, поскольку само оно уже не есть непосредственно Бог,
но которое благодаря тому, что в нем продолжает жить прежнее обязательство, все
же не может отрицать своего происхождения от изначального, материально-религиозного принципа (именно это мы имели в виду, когда сказали: изначально религиозное значение все еще должно просматриваться также и в уже не являющемся
собственно религиозным принципе).
Далее, поскольку, согласно нашей предпосылке, этот принцип мог утратить свое
материально-религиозное значение или добровольно отказаться от него лишь с той
целью, чтобы удержать себя в качестве исключительного, он должен вновь обнаружиться в китайском сознании хоть и в материально измененном значении, однако
облеченным той же исключительной властью, которой он обладал в своем религиозном значении.
Таким образом, нам все же удалось теперь указать некоторую возможность привести китайский народ, — который, на наш взгляд, имеет вид не просто, как мы уже
выразились, немифологический, но, еще более того, совершенно антимифологический, — в известную связь или сообщение со всеобщим мифологическим процессом.
В результате такого опосредования сущность китайского народа уже не стояла
бы в противоречии с предположением о всеобщем теогоническом процессе, которому было подчинено сознание совокупного человечества, но представляла бы собой
лишь одну из лазеек, один из тех способов уклонения от следствий этого процесса,
которые мы, пусть и в несколько ином виде, но все же имели возможность наблюдать
и ранее; тем не менее, Китай продолжает оставаться единственным в своем роде. Но
даже если он и представляет собой единственное в своем роде исключение, то для
нас достаточно одного лишь признания возможности подобного исключения, чтобы
предвидеть появление такого исключения также и в самой действительности. Ибо
характеру мирового духа вообще свойственно то, что он осуществляет все истинные возможности, повсюду желает или допускает наибольшее возможное количество явлений; более того, указанное свойство присуще ходу мира, чья медлительность уже должна была бы убедить нас в своей направленности к тому, чтобы всякая
Двадцать третья лекция
405
истинная возможность осуществлялась. Ибо те, которые — против того великого
принципа, что все поистине возможное также действительно есть, — выдвигают
весьма плоское возражение, что в таком случае любой роман должен однажды претвориться в реальную историю, — имеют не более чем повседневное представление
об одном лишь абстрактно и субъективно возможном; они мало или вообще ничего
не знают о том, что философия называет возможностью.
Однако эта возможность привести даже и столь противящуюся мифологии сущность китайского народа во взаимосвязь со всеобщим мифологическим процессом
также нуждается в известных и весьма определенных предпосылках. Демонстрация
того, что эти предпосылки действительно налицо в китайском сознании, является,
правда, задачей более исторической, нежели философской.
Итак, мы исходим из следующего: китайцы не представляют собой народ, т. е. такое единство, которое сплачивает вместе это огромное скопление людей и народностей и воспринимается ими самими не как особое или даже индивидуальное, но как
универсальное. Они — человеческий род, они ощущают себя вне народов и над народами, эти последние подчинены им если и не в действительности (что китайцы считают совершенно излишним), то во всяком случае в идее. Если китайцы не являются
народом, то принцип их бытия и жизни может быть лишь тем исключительным, что
властвовал над сознанием доисторического, еще неразделенного человечества. Однако этот принцип в китайском сознании отверг религиозно-теогонический процесс,
как мы видим из того, что Китай остался совершенно вне мифологического движения, не приняв в нем никакого участия. В своем религиозном значении, однако, этот
принцип себя удержать не мог, отвергнув теогонический процесс, или наоборот, он
мог удержать себя в своей абсолютной исключительности, лишь отказавшись от религиозного значения, если этот принцип в сознании принимал иное значение. Лишь
такой ценой, сказали мы, исключительный принцип мог всецело отвергнуть высший
и таким образом одновременно поставить себя вне мифологического процесса.
Посмотрим теперь, можно ли действительно указать в китайском сознании
на эти требуемые черты, т. е. попробуем исследовать его собственное содержание.
Чистое приведение фактов покажет, является ли наше представление чем-то лишь
надуманным и искусственным, или оно может быть обнаружено также и в самом
предмете.
Китайское царство само себя называет именем «Поднебесная» («das himmlische
Reich») (Небесное Царство), а также «Срединным Царством» («das Reich der himmlischen Mitte») (Царством Небесной Середины), небесного центра. (Уже здесь вы
можете видеть центральность первоначального принципа.) Понятие неба является
высшим во всей китайской мудрости, высшим понятием их морали. Один в свое
время знаменитый философ, Бильфингер (Bilfinger), написавший — еще и сегодня
достойный рекомендации — труд «de Sinarum doctrina morali et politica», говорит
406
Вторая книга. Мифология
в нем: Non est multa mentio Dei in libris sinicis3 (еще точнее следовало бы сказать, что
китайский язык вообще не имеет слова для обозначения понятия «Бог»), ejusdemque,
продолжает он, interpretatio inter Europaeos quosdam controversa4 — т.е.: как именно
следует понимать это, на первый взгляд, подразумевающее Бога выражение в китайских произведениях — является среди европейцев предметом спора; в любом случае,
он тем самым признает, что понятие Бога в китайских источниках находится лишь
путем истолкования, которое весьма часто представляет собой простое вчитывание.
Это замечание относится к следующему: иезуиты, рассматривавшие Китай как свой
особый удел, были некоторым образом заинтересованы в поддержании и защите чести китайской мудрости; они по характеру самой своей системы не могли признать
того, что существует целое огромное царство, обходящееся без религии, они никак
не хотели допустить, чтобы религия китайцев собственно сводилась к атеизму, как
полагали в Европе прежде и как продолжали утверждать позднее. К этому, следовательно, относятся слова Бильфингера, когда он говорит, что в Европе нет единства относительно истолкования китайских источников на предмет понятия Бога.
Однако, он продолжает: некоторые упоминания Бога все же можно найти в китайских источниках, и в доказательство этого он приводит основные учения их морали,
которые он выражает так: существует учение о том, что мы стремимся восстановить первоначальное, насажденное небом состояние невинности, что мы должны
почитать небо; что мы не должны даже допускать такой мысли, осознавая которую,
мы бы перестали почитать небо, что нам надлежит успокаивать себя судьбами, посылаемыми небом, и т.д. Таким образом, здесь повсюду небо (и только оно) есть
главенствующее надо всем, равно и над жизнью, понятие; и после этих примеров,
к которым в позднейшем течении должны прибавиться также и иные, мы уже не
должны будем нуждаться в каких-либо еще обоснованиях, если станем утверждать,
что первоначальная религия Китая была религией неба, что та всеобщая предпосылка мифологического процесса, которая была общей для всех народов, столь же
мало отсутствовала у китайского человечества, т. е. что астральная религия (первое,
что связывало еще неразделенное человечество) равным образом была исходной
точкой для китайского сознания. Однако именно здесь и произошла катастрофа. На
место прежнего единства должна была прийти двойственность. Этой двойственности воспротивилось китайское сознание, оно также и сейчас еще настаивало на исключительности первого принципа*; однако этот принцип уже более не мог для него
утвердиться в собственном небе, т.е. в том, что до сих пор было небом, в регионе
божественного, ибо этого не допускает явление высшей потенции: во всяком случае,
Китай остался совершенно в стороне от мифологического движения (он воспротивился всякой
двойственности), Персия же вступила в ее область и оказала сопротивление лишь тогда, когда дело
дошло до решительного многобожия.
Двадцать третья лекция
407
благодаря именно ей он был изгнан с неба, отлучен от него; он должен был для сознания покинуть сферу божественного, овнешниться и обмирщиться, и так — в этом
овнешненном и обмирщенном облике — мы находим небесный принцип также
и как всевластный, господствующий принцип всей китайской жизни и государства5,
что будет видно из следующих данных.
Китайское царство даже и только как государство, т.е. даже и в сугубо историческом рассмотрении, представляет собой поистине чудо истории. Китай из всех
царств мира является самым древним и к тому же таким, которому посчастливилось никогда не утрачивать своей самостоятельности и выказать столь могучий
жизненный принцип, что дважды происходившие захваты страны (первый раз —
в XIII столетии западными татарами или монголами, и второй раз — восточными
или манчьжурскими татарами) не принесли никаких сущностных изменений в его
укладе, его обычаях, обрядах и привычках, и государство по своему внутреннему
строю и по сей день имеет совершенно тот же облик, что и четыре тысячелетия назад, неизменно покоясь на тех же принципах, что лежали в его основе с самого момента его возникновения. Ибо несмотря на приводившиеся в последнее время данные о том, что собственно китайская империя, т. е. ничем не ограниченная монархия
в ее теперешнем объеме появилась не ранее 200 года до Р.Х., — все же дальнейшее
исследование показывает, что этот так называемый первый император Чай-Хан-Ши
(Chi-hang-thi) всего лишь восстановил прежнее, гораздо более древнее, состояние.
Отдельные подчиненные князья, члены феодальной системы, в которой они были
чистыми подданными, изыскали средства к тому, чтобы достичь известной независимости, однако сама сила, с которой могло быть подавлено это поползновение
против единства, свидетельствует о власти первоначальной идеи; и, пусть и при наличии противонаправленных устремлений и с переменным успехом в ее проведении,
однако все же именно эта идея неограниченной, абсолютной империи — является
столь же древней, как и сама китайская нация: эта идея не является возникшей с течением времени, но ведет начало с самого момента возникновения народа. Противодействие ей было лишь случайным, имевшим своей причиной случайную слабость,
однако именно само восстановление является доказательством ее сущностности, ее
имманентности в нации — того, что она родилась вместе с ней и может лишь вместе с ней умереть. Эта незыблемость китайского царства и неизменность его сущностного характера на протяжении тысячелетий дала новейшему философическому писателю*, ведшему речь о Китае, повод к следующему заключению: должен, по
всей видимости, существовать могучий принцип, который господствовал над этим
царством и проникал его собой с самого начала, умея защитить его и сам себя от
Виндишманн (Windischmann). Философия в ходе мировой истории.
408
Вторая книга. Мифология
любой субъективной смуты, которую всегда несет с собой время, а также от любых
чужеродных влияний*, — принцип, который одновременно был достаточно силен,
чтобы посредством присущей ему ассимилирующей силы уподобить и подчинить
себе все извне пришедшее, что задерживалось на сколь-нибудь продолжительное
время в сфере его действия: ибо, будучи дважды побеждены и подчинены, китайцы
с помощью своих законов и жизненных установлений всякий раз в свою очередь побеждали своих победителей. Выражения автора свидетельствуют о понимании того,
что здесь властвует не нечто возникшее в результате простого субъективного мнения или договора, но нечто гораздо более могущественное, чем все, что когда-либо
может возникнуть по воле человека. В этом я вполне его мнение разделяю. Когда же
он после этого поднимает вопрос: что же теперь собой представляет этот могущественный принцип, чье величие все еще просматривается под покровом деградировавшей, мелочной, педантичной, опустившейся до бездушного формализма жизни
и который все еще продолжает непрерывно поддерживать ее; и когда он дает на это
следующий ответ: этот принцип есть не что иное, как древнейший патриархальный
принцип, а именно — принцип отцовской власти и авторитета во всем своем величии и силе, то я хоть и допускаю саму по себе силу этого принципа отцовской власти, а также признаю, что этот принцип в Китае имеет большое значение и действие,
что он всюду дает знать себя как принцип начала, как первое основание и что при
этом патриархальный уклад всегда является отправной точкой, — однако, даже если
допустить, что для китайского жизненного уклада не существовало бы более высокой категории, кроме категории патриархального, то вопрос заключался бы именно в том, почему китайская жизнь не удаляется от этой отправной точки, почему
все обстоятельства более позднего, более разнообразного, более распространенного
развития остались чужды ему? Вопрос именно в том, почему патриархальный принцип здесь удерживает свое влияние и свою силу на протяжении тысячелетий, а этого нельзя, в свою очередь, объяснить силой патриархального принципа, не описав
в своем объяснении замкнутого круга.
Мы, кстати, уже говорили о катастрофе китайского сознания. Также и здесь
имело место обращение, своего рода universio, овнешнение первоначально
Китайцы с большим опасением относятся к смешению с другими расами. Бразильское правительство в 1812 году основало колонию китайцев неподалеку от Рио с целью ухода за чайной плантацией;
китайцы получали здесь хорошую плату и поэтому оставались в стране; однако никто не заключал
браков, так как никто не мог найти для себя китайской женщины; так что в конце концов колония
вымерла. Китайских рабочих (как лучших) стремятся нанять в Индии (Калькутта, Мадрас, Подичери); в данный момент их можно видеть на Маврикии (St. Mauritius); однако как только им удается собрать определенную сумму, они возвращаются назад, так как не могут найти женщин своей
расы. Это объясняется тем, что китайское правительство выпускает из страны мужчин, но отнюдь
не женщин.
Двадцать третья лекция
409
внутреннего, исключительно занимающего сознание принципа, однако — не всего
лишь относительное овнешнение, как в сознании тех народов, которые попали под
власть мифологического процесса, но овнешнение абсолютное. Одним словом, истинное объяснение китайской сущности, жизни и бытия будет заключается в том,
что мы скажем: они суть religio astralis in rempublicam versa6, принцип этой астральной религии преобразовался в ходе, впрочем, нуждающегося в большем разъяснении процесса, — в принцип государства. То же самое гнетущее воздействие, которое
он оказывал на сознание в качестве религиозного принципа, он оказывает теперь как
принцип государства, и из той же исключительности, с которой он утверждал себя
в той астральной религии как еще внутренний принцип, он утверждает себя теперь
здесь, в государстве, как ставший внешним принцип.
Вся китайская государственность покоится на столь же слепом, сколь и непреодолимом для китайского сознания суеверии, как и религиозность Индии или какого-либо иного подавленного тяжестью религиозных церемоний народа. Некогда исключительный властитель неба лишь превратился для китайского сознания в столь
же исключительного властителя земного царства, каковое земное царство есть не
более чем вывернутое наизнанку и перелицованное небесное. В нем тот абсолютный
центр, который в изначальный момент переворота или universio должен был быть
преодолен, с тем чтобы возник теогонический процесс, теперь овнешнен и обмирщен, положен вне противоречия и представляет собой, таким образом, абсолютный
и теперь уже непреодолимый центр. По этой причине Китай носит имя царства Небесной Середины. В нем заключается середина, центр, вся сила неба.
Он двояким образом может представлять собой исключительный принцип, т. е.
будучи обращенным 1) вовнутрь, удерживая все в пустыне всеобщего бытия, не допуская свободного многообразия. Как таковой он выказывает себя в полном отсутствии всякого различия состояний, всякой сословной градации и, в первую очередь,
преимущественно всякого кастового разделения. В Китае нет ни наследственной
знати, ни каких бы то ни было иных выделяющихся по своему рождению сословий.
Любое различие порождается лишь той или иной должностью и функцией в государстве, к которой может быть призван всякий без различия. Даже родственники
императора причастны к его славе лишь при его жизни, однако после его смерти
возвращаются в общее, непривилегированное состояние. Любая власть, любая авторитарность есть исключительная принадлежность императора; всякий в Китае
лишь постольку нечто собой представляет, поскольку этого желает император. После царской семьи, правда, еще Цу, т. е. ученые, представляют собой в царстве второе сословие или, скорее, ранг, однако также и здесь о наследовании помышлять не
приходится. Повсюду существуют различия лишь ранга, но нигде не сословия. Ученые, в свою очередь, подразделяются на такое же количество ранговых уровней или
градаций, сколько есть среди них знающих; и те среди них, память которых лучше
410
Вторая книга. Мифология
всего сохранила свои ячейки (Fächer)7 и относящиеся к ним символы, образуют высшую, непосредственно окружающую императора государственную коллегию. Наука
и ученость имеют значение лишь в той мере, в какой в них испытывает нужду государство. С момента появления книгопечатания или некоего рода книгопечатания,
который китайцы изобрели в X столетии, эта высшая государственная коллегия,
называемая Хан-Ти, держит в своем ведении появление всех новых книг, допуская
выход в свет лишь таких, которые считает нужными. Что это за книги, можно узнать из рассказов китайцев, присланных во Францию для прохождения обучения
у иезуитов, чьи слова я привожу здесь в несколько сокращенном виде из одного немецкого издания : «Важными, — говорят они, — являются лишь сохранение древней
памяти и нравственного учения, а также открытия в искусствах, которые, однако,
могут иметь отношение лишь к непосредственной пользе. Юношество должно быть
предуготовляемо к ведению дела своих отцов, и тем, кто в этом возвышается над общим уровнем, должна предоставляться возможность выказать это в своих письменных сочинениях; тем же, которые не предназначены для жизни, но лишь имеют дух,
должны предоставляться все возможности для крючкотворства и решения головоломных задач, дабы по возможности обезвредить их несчастную склонность к размышлению над человеческими судьбами. Всякая наука, всякое государственное дело
сформулированы в правилах, которые запоминаются наизусть. Поэзия, свободное
сочинительство не пользуются уважением, если они не апробированы надлежащим
образом в высших инстанциях. Ученые в своем тоне всецело подстроились под тон
правительства. Всякое соревнование отсутствует, все совершают одинаковую работу
по одинаковому образцу. Купец или художник еще менее, чем ученый, могут претендовать на то, чтобы утверждать собственное отдельное достоинство и значение,
желать собственной воли или гордиться своим независимым существованием, одним словом, стремиться к самостоятельности. Религию императора всякий должен
принимать как формальность, подобную той, с которой в Англии каждый должен
принять религиозную присягу, без различия, верит он при этом в действительности
или нет. Все, даже возделывание земли и индустрия — зависит от книг и традиции
и находится в ведении полицейской службы».
Вы можете видеть из этих рассказов, что если в разные времена также и европейские страны делали попытки поставить в подобные условия свою науку и духовную культуру, то все же ни одна из них не достигла в этом отношении уровня китайского образца. Однако я привел здесь это место не ради того, чтобы сделать данное
замечание, но для того чтобы представить вам наглядную картину исключительной власти государства в Китае и той гнетущей силы, с какой оно тысячелетиями
Из Всемирноисторического обозрения истории древнего мира и его культуры Шлоссера, 1,1, с. 94.
Двадцать третья лекция
411
задерживает и подавляет всякое свободное развитие. Как В, подчиненное высшему
принципу (А2), есть основание процесса, изменчивости, точно так же оно, положенное абсолютно (вне всякой противоположности), есть основание абсолютной стабильности и неизменности.
Китай, действительно, также и потому есть ставшее зримым небо, что он столь
же неизменен и неподвижен, как оно. Все здешние войны, неурядицы, смуты, даже
завоевания внешним врагом потрясали его всегда лишь на краткое время, и он всякий раз восстанавливался от них в своем прежнем облике. Древнейшие царства исчезли; давно погибли царства ассирийцев, мидян, персов, греков и римлян, тогда как
Китай — подобный тем потокам, которые, беря свое начало из неисчерпаемых источников, текут всегда с неизменной торжественностью и величием, — на протяжении столь долгих тысячелетий ничего не утратил от своего блеска и силы.
Итак, исключительность принципа выказывает себя 1) внутренне; однако не
только внутри этот принцип китайского государства выказывает себя как исключительный, но ничуть не в меньшей степени он проявляется 2) вовне как всецело
абсолютный.
Тот, кто помыслил бы себе китайского императора как всего лишь императора
Китая, составил бы себе о нем совершенно несоразмерное и весьма нечеткое представление: он есть владыка мира, но не в том смысле, в каком называет себя так падишах османов или персидский шах, либо, движимые смешным высокомерием, даже
и более мелкие восточные властители, напр., в Индии, а в собственном и буквальном
смысле. Он есть владыка мира, поскольку в нем помещается середина, центр, власть
неба, и поскольку по отношению к царству небесной середины все остальное может
вести себя лишь как пассивная периферия. У китайцев это отнюдь не просто восточные преувеличения или обычные формулы восточного церемониала. Это не есть
случайность, ибо по присущей ему природе невозможно, чтобы существовало два
таких императора. Китайский император есть абсолютно единственный, поскольку
в нем действительно покоится власть неба, от которой зависят все небесные движения, точно так же как ею определены все движения земные. Что с этой единственностью верховного правителя китайцы действительно связывают такое физическое
понятие, явствует из того, что, по их убеждению, в его мыслях, его воле, его действиях одновременно движется вся природа. Когда на народ обрушивается какое-либо
великое бедствие, являются знамения остережения, дуют непривычные ветры или
выпадают нежданные дожди, император относит это к себе, он ищет причины этих
неординарных движений природы в какой-либо из своих мыслей, в одном из своих
желаний или одной из своих привычек: ибо если Он благоденствует и удерживается
в истинной середине, то также и в природе ничто не может выйти из правильной
колеи и покинуть верное русло. Из весьма древней поры сохранилась молитва самого знаменитого императора, которую он произнес при наступлении семилетней
412
Вторая книга. Мифология
засухи после множества напрасно принесенных жертв для умилостивления неба,
где он говорит: Владыка, все жертвы, которые я принес до сих пор, были напрасны;
без сомнения, именно я сам навлек на свой народ такое большое несчастье. Могу
ли я расспросить тебя о том, чем я стал тебе неугоден? Роскошью ли моего дворца,
или богатством моих трапез, количеством ли женщин, которых, правда, позволяет мне иметь закон? Я готов исправить все эти грехи уединением, бережливостью
и воздержанием. А если этого недостаточно, то я предоставлю самого себя твоему
правосудию и т.д. Эта молитва,.говорится в истории, была тотчас услышана, выпал
обильный дождь, и последовавший за ним урожай был одним из самых благословенных. Еще не так давно, когда 14 мая 1818 г. в Пекине свирепствовал жестокий ураган,
пришедший с юго-востока, когда дождь лил как из ведра и весь город погрузился
в жуткий мрак, император объявил, что всю прошедшую ночь он не спал и до сих
пор не может оправиться от страха, который навлекло на него это ужасное событие. Он исследовал, не сам ли он является виновником такого бедствия, допустив
ту или иную небрежность в управлении или смотря сквозь пальцы на провинности
своих мандаринов и не замечая их. Поэтому он повелевает своим самым преданным
подданным откровенно и бесстрастно открыть ему проступки его самого и его мандаринов и т. д. Я привожу эти факты для доказательства того мнения, что на императоре, на его деяниях и воле, согласно китайским представлениям, зиждется покой
и благоденствие всей природы, что он является не только владыкой своей страны,
но владыкой мира. В официальном письме по поводу особенно оживившейся в Китае контрабанды опия от 13 июля 1839 г., которое выпустил императорский комиссар и вице-президент Ху-Кваня по имени Лин в сообществе с некоторыми иными
высокими чиновниками из кантона, дабы королева Виктория знала его и действовала бы соответственно, китаец говорит: «Мы в Небесном Царстве, имея в нашем
подданстве 10000 царств земных, обладаем такой степенью божественного величия,
которая для вас непостижима». Об императоре в этом же письме говорится: «Наш
великий император с милостью безграничной как милость самого неба осеняет собой все вещи, так что даже вещи самые удаленные (ранее было сказано, что Англия
находится от Срединного Царства на расстоянии более чем 20 миллионов китайских
миль) попадают в сферу его животворящего и благодатного влияния».
Конечно, при этом остается невыясненным, каким образом китайское учение
представляет себе всю власть неба уместившейся в этом земном правителе, который
не только смертен, но и подвержен заблуждениям и несовершенствам. Однако этот
вопрос сводится в свою очередь к тому, каким образом следует мыслить себе тот
переворот, тот выворот наизнанку и то перелицевание первоначально духовного небесного мира, в результате которого происходит его превращение в это земное царство. Здесь, конечно, ощущается тот темный момент, который не помогло прояснить
даже звериное чутье иезуитов. Мы, таким образом, едва ли можем ожидать найти
Двадцать третья лекция
413
здесь историческое объяснение. Правда, одно воспоминание об этой катастрофе,
возможно, содержится в общем символе китайского царства. Это сильный и умный
Лунь, крылатый змей или дракон, под которым подразумевается вся сила материального мира, сильный дух всех элементов — дух самого этого мира, — который рассматривался как священный символ самого китайского государства, его силы и могущества. О нем в одной из священных книг, в И-Цзин (I-King), сказано: «Он горько
вздыхает о своей гордости, ибо гордость ослепила его; он хотел воспарить в небо,
однако низвергся в лоно земли». Сильный и умный дракон и есть тот уже сделавшийся относительным принцип, который, однако, все еще стремится утверждать себя
в качестве абсолютного; в этом и заключается гордость, превозношение и устремление в небо. Если нечто уже ставшее в религиозном процессе (а следовательно, в религиозном смысле вообще) относительным все еще стремится утвердить себя как
абсолютное, оно возносится в то место, которое уже более не приличествует ему,
в небо: с тем чтобы быть оттуда низвергнутым; для того чтобы утвердить себя как
абсолютное, оно должно было покинуть небо и снизойти на землю, где оно теперь
являет собой лишь ставшее земным, низведенное небесное. Это тот же самый образ,
коим пользуется также и христианская книга, которая гласит: «И началась битва
в небесах — и древний дракон был низвергнут, и места его не нашлось более на
небе», и Христос говорит: «Я видел Сатану (того же, кого еще называют Князем
мира) павшим с неба, подобно молнии»; его тем более следует приводить в сравнение как означающий то же самое, ибо именно вместе с христианством тот принцип,
который до сих пор был религиозным, был вынужден объявить себя как мирской.
Мы видим, таким образом: в самом китайском сознании присутствует ощущение
ниспровержения, нисхождения, процесса, в результате которого чистое небесное
сделалось небесно-земным. Это есть как бы темная и мрачная сторона китайского
мировоззрения. Первоначальный небесный владыка существует теперь лишь в личности императора, зримого властителя, так что он один имеет непосредственное отношение к нему, весь же остальной мир — лишь опосредованным через него образом, ибо он единственный, кто совершает торжественное жертвоприношение
Владыке неба. Этот Владыка неба, следовательно, имеет своим представителем не
священника, но монарха. Иезуиты по понятным соображениям приложили все старания к тому, чтобы представить китайскую систему как изначальную теократию.
Однако очевидно как раз противоположное; можно сказать лишь, что власть китайского императора есть превратившаяся в космократию, во всецело мирское правление, теократия. Un univers sans Dieu8 есть единственно верное по отношению к Китаю. Духу неба, после китайцев, поклоняются некоторые западные секты ; сами же
S. A. Remusat. Recherches sur les Tartaresy т. XVI, p. 379.
414
Вторая книга. Мифология
они, следовательно, поклоняются только небу, чья личность воплощена в одном
лишь императоре; над ним возвышается только безличный принцип миропорядка,
неба. (Если принцип становится абсолютным из относительного после катаболы, то
он может превращаться лишь из личного в безличный.) Китайский император, в отличие от Далай-Ламы Тибета, являющегося облеченным светской властью первосвященником, представляет собой чисто светского правителя. У Евсевия в «Приготовлении к Евангелию» есть одно довольно достопримечательное место, где говорится,
что существует народ по имени серы (Serer) (то, что это является именем китайцев
у греков и римлян, хоть и подвергалось сомнению некоторыми важными авторитетами, однако после новейших исследований Клапрота (Klaproth), Абеля Ремюза (Abel
Remusat) и др. уже более никем не оспаривается), и что среди этого народа серов нет
ни воров, ни убийц, ни прелюбодеев и т.д., однако нет также ни храмов, ни священников. Действительно, вплоть до самого времени прихода буддизма в Китае не было
священников; точно так же среди древнейших иероглифов нет ни одного, который
бы обозначал это понятие. Первоначальный Китай был страной совершенно лишенной жреческого сословия, абсолютно нежреческой, и этот факт следует должным образом принять во внимание, с тем чтобы верно и точно оценить его своеобразие.
Китай отличается именно тем, что он так рано приходит в своем устроении к совершенному и только светскому укладу, обходясь без какого бы то ни было жреческого
наполнения. Если, однако, некоторые слово Thian, или «небо», единственно употребляемое в Китае вместо слова «Бог», хотели понимать в смысле только материального
неба, то это было возможно лишь вследствие тех ложных понятий, которые они составили себе относительно почитания неба вообще. Предметом первоначального
почитания неба является всепроникающий и всем движущий дух неба, который,
правда, еще бесконечно далеко отстоит от свободного, действующего с волей и предвидением, не просто имматериального, но надматериального, Творца. Что касается
другого слова, Шань-Ши (Schang-thi), то его объяснение весьма сомнительно; правда, оно означает «высочайший император» (suprême segneur); Тьянь-Цой (Thian-tsoi)
же, что означает «хозяин», господин неба, есть слово, изготовленное иезуитами
и введенное в употребление лишь с началом христианского обучения: оно полностью отсутствует в китайских письменных источниках. Следовательно, в этом смысле Бог не упоминается в китайских религиозных книгах, во всей китайской учености
и мудрости. Религия, как говорит уже упомянутый историк, по мнению китайцев
и их оракула и законодателя Кон-Фу-Ци (Конфуций), не имеет ничего общего с фантазией, а это означает именно: она всецело немифологична (т. е. исключает Диониса)*.
Китайское сознание всецело избежало мифологического процесса благодаря
Китайская религия настолько лишена всякого энтузиазма, что действительно родственна лишь политике. Однако выводить этот недостаток из глубокой древности было бы все же слишком странно.
Двадцать третья лекция
415
абсолютной перелицовке и обмирщению религиозного принципа, оно с самого начала пришло к той точке зрения чистой разумности, которой другие народы достигли, лишь пройдя через мифологический процесс; и по сути китайцы представляют
собой истинный прообраз того духовного состояния, к которому с огромным рвением устремляются известные современные течения — вероятно, не ведая, насколько
китаеобразным сделается весь мир, буде они здесь преуспеют — а именно, состояния, при котором религия состоит лишь в исполнении известных моральных обязательств и преимущественно должна способствовать достижению видов государства.
В этом смысле, конечно, китайскую нацию можно назвать иррелигиозной, можно
даже сказать: она купила свободу от мифологического или теогонического процесса
ценой полного атеизма, где, однако, я понимаю под атеизмом не позитивное отвержение или отрицание Бога, но то, что Бог для китайца вообще не является предметом не только вопросов и объяснений, но даже и самого непосредственного сознания. Бог превратился для него в нечто совершенно иное, а именно — в принцип
государства и только внешней жизни. Однако само это превращение могло быть
лишь следствием переворота, который показывает, что китайское сознание также не
избежало поползновений к мифологическому процессу, переворота, последствия
которого китайское сознание приняло со спокойным смирением. Ибо, кстати, то,
что земное царство они рассматривают как лишь нисшедшее или отчуждившееся от
самого себя небесное, свидетельствует о том почти культовом почитании, которое
они оказывают духам прародителей, которое представляет собой существенную
часть китайских обычаев и всей жизни и которое едва ли мыслимо, если не предположить, что духи умерших в их представлении отходят в небесное царство, с коим
живущий человек связан лишь через видимого властителя.
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ
До сих пор мы рассмотрели немифологичность религии и всего образа мысли
китайского народа — с одной стороны, и постоянство и незыблемость уклада китайского царства, несмотря на внутренние смуты и двукратное полное завоевание —
с другой. И то, и другое представляет собой проблему, которая может быть объяснена лишь посредством процесса, в котором домифологический принцип сознания во
всей его косности, неподвижности и исключающем всякое многообразие единстве
в результате перемены своего значения — или, что то же самое, в результате абсолютного обращения во внешнее — в той же мере сохранил себя, т.е. сохранил себя
в своей абсолютности, в какой стал всего лишь принципом внешней совокупности
нации, т.е. принципом государства. Однако китайское образование1 еще и с другой
стороны представляет собой загадку, которая до сих пор не поддается человеческому проникновению и которая, по должном рассмотрении, пожалуй, также едва
ли может иметь иное разрешение кроме того, которое предоставляется сделанным
нами предположением.
Также и в китайском языке, кажется, все еще живет вся сила неба: та сила, которая изначально проникает собой все вещи, определяя собой и подчиняя себе
всякую, даже самую малую, частность. Помыслите себе язык, который 1) состоит
сплошь из односложных элементов; кроме того, каждый из этих элементов без исключения имеет то отличие, что начинается с простого или удвоенного согласного
и заканчивается простым или удвоенным гласным, либо носовым звуком. Помыслите себе 2) что все богатство этого языка, в конечном итоге, сводится к количеству немногим более трехсот и никак не достигающему четырехсот, а согласно новейшему
критическому исследованию — всего лишь 272 моносиллабических основных слов,
которыми китаец действительно обслуживает огромную потребность всех обозначений для предметов природы, нравственной или общественной жизни во всех их
бесчисленных градациях и нюансах, естественно, будучи вынужден при этом один
и тот же звуковой состав относить к совершенно разным предметам. При этом одно
основное слово, напр., La, Ki или Ре, Tsche, Tscheu или Tschi и т.д., получает десятки различных и не имеющих между собой совершенно ничего общего значений,
Двадцать четвертая лекция
417
которые в устной речи различаются лишь интонацией, модуляцией, музыкальным
повышением или понижением тона либо контекстом, на письме же, правда, обозначаются разными письменными знаками, количество которых неопределенно и насчитывает, по меньшей мере, 80000. Артикулируемых слов, таким образом, согласно
данным Абель-Ремюзы, всего лишь 272, и даже с помощью четырех различных тоновых изменений (ибо отнюдь не все они хорошо различимы) это количество едва
ли доводится до 1600. Какое огромное, следовательно, различие между бедностью
устной речи и богатством письменной!
Что касается, теперь, собственно моносиллабической природы китайского языка, то Абель-Ремюза склонен допускать ее отнюдь не безусловно. Он говорит, что,
действительно, мы никогда не слышим множества следующих один за другим слогов, когда озвучивается один знак, но поскольку большинство знаков, будучи взяты
отдельно, лишены всякого смысла и получают его либо в удвоении, либо в сочетании с другим знаком, то их следует считать двусложными; и сюда же, по его мнению,
следует относить также и те знаки, которые хоть и имеют смысл, будучи взятыми
по отдельности, однако утрачивают его в сочетании. Но те примеры, которые приводит Абель-Ремюза, хоть и доказывают, что в китайском языке существуют слова,
имеющие смысл лишь в сочетании, однако никак не доказывают того, что собственно radices2, корневые слова, являются многосложными. Он, далее, высказывает мнение, что китайский язык, если бы он по примеру других языков, допустил слияние
особых слов, с помощью которых при склонениях и спряжениях обозначаются лица
и tempora, с основным словом, выглядел бы в этом случае столь же полисиллабическим, как и другие идиомы. Однако несмотря на то что действительно легко, напр.,
в еврейском во втором лице настоящего времени Katalta признать слияние основного слова, radix3 и обозначения второго лица atta (ты), то все же как раз здесь основное слово после удаления всех аффиксов и суффиксов или всех добавлений, которые
оно получило для обозначения модификации, само по себе является полисиллабическим. Ибо что касается попыток также и в других языках, напр., именно в еврейском, свести нынешние radices к моносиллабическим началам (так, напр., чтобы две
первые согласные еврейского корня содержали в себе основное значение, третий же
согласный выражал бы собой лишь модус общего или основного значения), — такой
способ сведения многосложных radices, напр., еврейского языка, к односложным не
может быть проведен на примере даже одного-единственного из возникающих таким образом односложных radicum со всеми глаголами, и даже там, где он кажется
применимым, взаимосвязь оказывается гораздо более глубокой, нежели предполагает это объяснение, которое с очевидностью принадлежит к системе, в которой
всякое движение совершается механически-однообразно и которое для всего имеет
лишь одно объяснение, в то время как лишь те теории почерпнуты из истинного
источника, чьи объяснения столь же богаты и многообразны, как и сами предметы.
418
Вторая книга. Мифология
Допустим, что оказалось бы возможно свести какой-нибудь многосложный
язык, как, напр., еврейский, к односложным корням, тогда полученный в результате
такого сведения язык уже не был бы еврейским. Ибо характерным в еврейском языке является именно то, что вся его система строится на двусложных корнях. Этот
дисиллабизм есть фундамент всей его грамматики, всего его своеобразия, так что
невозможно устранить его, не упразднив вместе с тем и самого языка. Если в возникновении языка вообще предполагают переход от моносиллабов к полисиллабам,
то в многосложных языках именно эта многосложность представляет собой момент
их дифференции, их выхода из первоначального языка. Если убрать эту многосложность языка, он тут же перестает быть этим языком; желая объяснить его, мы теряем объект объяснения, точно так же как индус, чью мифологию желают свести
к изначальному чистому монотеизму, уже не есть индус, ибо индусом он является
именно лишь благодаря своему политеизму. Такая мода (и не более чем мода) сводить все полисиллабические языки к моносиллабическим началам была заведена как
раз восторженными поклонниками и почитателями китайского языка. Однако причина так называемой односложности в самом китайском языке заключается лишь
в том, что здесь отдельное слово словно бы не обладает никаким весом и не имеет
свободы распространения. Эти словесные атомы китайского языка возникли лишь
в результате абстракции; первоначально, в своем возникновении они отнюдь не
мыслятся как абстрактные части — точно так же как мы, хоть и имеем возможность
механически расчленить то или иное тело на части, однако эти части не мыслились
природой как части, ее намерение заключалось лишь в целом как таковом, — отдельное слово китайского языка собственно не имеет значения и не существует для себя,
но каждое слово получает свое значение лишь в самом говорении (посредством интонации и т.д.), будучи же взято абстрактно, оно имеет десяток, а то и все четыре десятка значений, т. е. не имеет вообще никакого значения; едва лишь мы извлекаем его
из целого, оно теряется в пустой бесконечности. Ибо сюда же, собственно, относится
также и всеми отмечаемое полное отсутствие грамматики или грамматических форм
в китайском языке. Оно основывается лишь на том, что по отдельному слову вне взаимосвязи и взятому отдельно от целого невозможно, как в иных языках, определить,
к какой грамматической категории оно принадлежит: оно с тем же успехом может
быть существительным — как и глаголом, прилагательным или наречием, т. е. именно потому, что оно может быть всем чем угодно, оно собственно не является ничем,
т. е. для себя, взятое отдельно и в абстракции. Оно есть нечто лишь во взаимосвязи
и в соединении с целым. Мы настолько привыкли к самостоятельному образованию
слов в иных языках, что как бы не видим за словами самого языка, либо рассматриваем его лишь как соединение будто бы заранее данных слов, тогда как, наоборот, язык,
не по времени, но naturâ, должен существовать прежде отдельных слов. Китайский
язык должен быть для нас желателен тем более, что он показывает нам слова в их
Двадцать четвертая лекция
419
полной зависимости от языка, как бы в их абсолютной внутренности и инволюции.
Язык предстает здесь в своей приоритетности перед словами, слова в нем не являются собственно словами. Ибо под словами понимаются самостоятельно образованные
и для себя существующие части речи. Поэтому, конечно, будет также не вполне верно сказать, что китайский язык состоит из односложных слов, ибо при этом предполагается нечто такое, что не имеет места в действительности; ибо, как сказано, слова
не являются собственно словами, они представляют собой лишь следы и моменты
речи, и именно поэтому всего лишь звуки или тоны, не имеющие по отношению
к языку никакой самостоятельности, не являющиеся чем-то сами по себе; они суть
всего лишь элементы, получающие свое значение лишь от целого. Вильям Джонс,
который, бесспорно, обладал меньшей китайской ученостью, нежели Абель-Ремюза,
но зато, конечно, благодаря своему долгому пребыванию и своему положению в Индии имел больше возможности слышать китайскую речь, говорит, что речь китайцев настолько музыкально акцентуирована, что подобна музыкальному речитативу,
и напротив, в ней совершенно отсутствует акцент грамматический. Грамматический
же акцент есть именно то, благодаря чему слово как целое существует для себя: он
дает слову его самостоятельность. Без грамматического акцента всякий язык должен
представляться односложным, и поэтому для китайца также и иностранные слова
распадаются на отдельные слоги: так напр., в китайском переводе Нового Завета имя
«Иисус Христос» передается как Ye-sou-ki-li-sse-tou. Ибо китайцы не знают в своем
языке звука R, a Klistus вместо Christus они сказать также не могут, и им приходится
из каждой начальной буквы делать два слога: ki-li, и точно так же из «stus»: sse и tou.
Можно видеть, что в китайском языке действует сила, которая не позволяет слову
иметь совершенно никакой самостоятельной структуры и которая даже иностранные слова лишает их самостоятельности как слов, подчиняя их тому музыкальному
единству, которое, подобно магнетическому потоку, организует все элементы китайского языка и словно бы держит их в плену, однако одновременно ставит их в такое
отношение, что каждое из них становится необходимым дополнением для другого;
одно несет и удерживает другое, как каждая частичка магнетически организованных
металлических стружек существует лишь в этом целом и на данный момент не имеет
никакого бытия вне его. Целое утверждает свой абсолютный приоритет перед частями. В китайском языке слово еще не раскрепощено до самостоятельности, и потому
в нем еще не возможен тот избыток, который мы видим в позднейших раскрепощенных языках, в которых он может быть избегнут лишь благодаря искусству и вниманию, поскольку здесь слова могут чувствовать себя вольготно и обладать силой сами
по себе. Организация элементов в китайском языке является всецело необходимой,
поэтому он представляет собой, пожалуй, самый стесненный язык в мире, по меньшей
мере — в своем наиболее чистом и древнем стиле. Ничто не идет в сравнение с нервозной краткостью древнейших китайских книг. Мысли — кажется, по выражению
420
Вторая книга. Мифология
иезуитов, — словно бы вколочены одна в другую. К китайскому языку, поскольку он
сущностно в большей степени является музыкальным, нежели артикулированным,
с необходимым различением можно применить то, что одна китайская книга говорит о музыке: музыка приводит голоса народов к единству (в музыке все народы понимают друг друга), музыка снимает несогласие и противоречие слов.
С этого места нашего исследования, поэтому, одновременно падает свет назад,
на неизбежное предположение об общем для всего человеческого рода первоначальном языке и далее на смешение языков, которое произошло на переходе от доисторической эпохи еще единого к исторической эпохе разделенного на народы человечества. Непрерывное единство могло быть сохранено лишь постольку, поскольку
было заторможено свободное развитие на отдельные слова. Все собой проникающая
сила, державшая в своем подчинении сознание, подчиняла себе также и элементы
языка. Как небесные сферы в вихре, которым они охвачены, представляют собой
всего лишь элементы, а не самостоятельные, сами по себе или свободно движущиеся тела, точно так же и первоначальный язык человеческого рода должен был быть
словно бы движимым астрально; он еще не дошел в своем движении до отдельности
слова, отдельное еще не проступило в нем из целого, оно еще развивалось согласно
собственному, особо ему присущему закону. Смешение языков произошло, как только отдельные элементы восстали против силы, которой они до сих пор были всецело
подчинены и которая не допускала их свободного развития. Смешение должно было
происходить по мере того, как каждый элемент стал обретать форму самостоятельного тела, для себя существующего и способного в себе на органические изменения
слова, и сколь бы парадоксальным этот постулат ни выглядел вне своей взаимосвязи, столь же очевидным в целом нашего исследования представляется, что полисиллабизм языка и политеизм суть одновременные, вместе положенные, параллельные
явления.
Вы, таким образом, можете видеть теперь, что переход от языков, элементы которых представляются как односложные слова, к языкам, в которых слова образуют собой самостоятельные, словно бы во всех измерениях сформировавшиеся тела,
и потому называющимся полисиллабическими, — есть совершенно иной, нежели
тот механический, в котором многосложность языков возникла бы в результате простого прироста к первоначально односложным основам. Развитые языки отличаются от изначально связанных не простым добавлением, но по своему внутреннему
характеру. Движение праязыка относится к движению свободно развитых языков
так же, как движение неба относится к свободным, произвольным и многообразным
движениям животных. И тот язык будет наиболее человеческим, который более всего будет напоминать человеческую поступь своей торжественностью и мягкостью,
соединяя в себе определенность с совершенной свободой движения. Именно поэтому — лишь эти языки имеют собственно грамматику или грамматическую систему.
Двадцать четвертая лекция
421
Первоначальный язык не нуждается в грамматических формах, точно так же как
небесное тело не имеет нужды в ногах для того, чтобы двигаться. Черты первоначального языка, также и в том, что касается материального строения, могут еще
сохраняться в китайском. Сюда может относиться и тот факт, что в нем каждый
звук начинается с согласного и оканчивается гласным. Свобода начинаться также
и с гласного (которая свойственна лишь освобожденному, вышедшему из единства
языку) предполагает то препятствие, которое китайскому слову еще надлежит преодолеть, — как уже преодоленное. Однако не само материальное, но лишь закон
первоначального языка сохранился в китайском, и уже этому мы можем удивляться
как истинному чуду, способному служить подтверждением той веры, которой должен быть преисполнен и одухотворен всякий истинный исследователь: веры в то,
что ничто не является абсолютно неисследимым — nil mortalibus arduum4 — и что
из всего, что на великом и долгом пути, который природа и история прошли вплоть
до нынешнего времени, как существенный момент, а потому как поистине достойное знания — сохраняется ровно столько, сколько хочет надеяться узнать истинный
исследователь.
Также и китайский язык, следовательно, является свидетельством того перехода, которым мы вообще объясняем сущность китайского народа. Чисто материальное первоначального языка не сохранилось в китайском, однако сохранилась
его сидерическая5 сила. Китайский язык для нас есть нечто вроде языка из другого
мира, и если бы мы хотели дать дефиницию языка по тому смыслу, в котором другие
идиомы носят название языка, то нам с необходимостью пришлось бы признать,
что китайский язык вообще не является языком, точно так же как и китайское человечество не является народом. Тем не менее, под конец этого разъяснения я не
могу, по меньшей мере, не выразить моего удивления тем, что господин Абель Ремюза в конце своей работы, где он пытается отрицать моносиллабический характер
китайского языка, по существу лишь ограничивает его и с этим ограничением допускает, делает это допущение в следующих словах: Recitius sentiunt, qui, sermonem
veterum Sinarum e verbis non omnibus quidem monosyllabis, sed plerisque, et, ut gentium
6
barbararum mos est, brevissimus constitisse, pronunciant . Как может он 1) огульным
и безусловным образом утверждать, что моносиллабические звуки являются общими для всех варварских языков, ибо ведь каждому, напр., известны непомерно длинные слова языка коренных жителей Америки, которые, безусловно, имеют законное
право претендовать на звание варварского народа. Эти языки кажутся противоположностями, другой экстремой по отношению к моносиллабизму китайцев. В китайском еще сохранилась сила первоначального принципа, в тех она всецело уничтожена, и языки преданы во власть бессмысленного полисиллабизма. 2) При этом
в основе лежит та предпосылка, будто бы китайский народ равным образом вышел
из состояния варварства и лишь постепенно достиг своего нынешнего уклада, в то
422
Вторая книга. Мифология
время как все убеждает нас в том, что Китай — как он есть ныне — существует от
века, как результат события неисследимой древности, и с момента своего возникновения сущностно неизменен, всегда оставаясь тем же. Такая система как та, что
вплоть до сегодняшнего дня господствует во всем Китае, не возникает с течением
времени; она может быть дана народу лишь как результат внезапно разразившейся
катастрофы. Это объяснение Абель-Ремюзы, где односложность должна вести начало от варварского состояния, напоминает предположение одной ранее появившейся языковой теории, согласно которой первые или основные слова всех языков
представляли собой простые междометия, возгласы удивления, испуга и т. д. Тем самым, легко понималась бы моносиллабическая природа (ибо так следует выразиться здесь: вопрос не в том — существуют ли китайские слова, которые, в том виде
как они существуют теперь, выглядят составными и, тем самым, многосложными,
и также не в том — не найдется ли случайно в китайском языке многосложных слов,
но в том — является ли этот язык моносиллабическим по своей природе) — с помощью такого объяснения, следовательно, сразу же и легко понималась бы моносиллабическая природа китайского языка. Варварство = детство: здесь можно было
бы сослаться уже хотя бы на то, что также и дети, которые впервые учатся говорить,
имеют обыкновение редуцировать многосложные слова к односложным, равным
образом избегая всякой грамматики и в особенности спряжений, а вместо всех времен используя инфинитив, с чем теперь можно было бы сравнить грамматическую
неопределенность китайских глаголов. Я, однако, хочу при этом лишь отметить, что
таким образом нам придется поставить древнейшие народы в положение детей,
которые лишь учатся языку и речи. Дети рождаются совершенно бессловесными.
Можно ли, однако, в какой-либо момент помыслить себе народ безо всякого языка?
Дети укорачивают многосложные слова, которые они слышат, превращая их в односложные, поскольку они не способны к грамматическому акценту, благодаря которому множество слогов превращается в единство слова. Однако ведь китайцам не
пришлось укорачивать никаких многосложных слов; и объяснять односложность
их языка из неспособности к грамматическому акценту означало бы полагать действие в качестве причины. Если моносиллабизм китайского языка необходимо объяснять только детской слабостью или первоначальным варварством, которые одновременно предполагаются как первое состояние всех народов, то почему же тогда
остальные народы смогли вырваться из этого состояния, а китайский народ — нет?
Господин Абель-Ремюза ищет причину этого в письменности китайцев, что довольно странно. Ибо сколь уникален их язык, столь же уникальна и их письменность.
Правда, что в прежние времена делались попытки сравнить китайские письменные
знаки с египетскими иероглифами и основать на этом сопоставлении довольно несуразные предположения о взаимосвязи Китая и Египта. Однако уже одно гораздо меньшее количество иероглифов — их насчитывается максимум 800, тогда как
Двадцать четвертая лекция
423
китайских письменных знаков существует около 80000 — могло бы послужить основанием для предположения, что египетские иероглифы, скорее, склоняются на
сторону буквенного письма, нежели в сторону китайского образного. Сегодня, когда это предположение в отношении иероглифов переросло в уверенность, можно,
не опасаясь быть оспоренным, утверждать, что китайский язык в своем роде столь
же уникален, как и китайская письменность, и не отделим от нее. Ибо последняя
есть не только случайное, но необходимое следствие первого. Китайская письменность не состоит, как алфавитное письмо, из символов, обозначающих произношение отдельных тонов или звуков, но из символов, которые представляют нам сами
обозначаемые словами предметы. Мы имеем здесь, таким образом, два противостоящих друг другу способа письма, и естественно ожидать, что эти способы письма
будут относиться друг к другу так же, как и те языки, которым эти способы свойственны. Я хочу при этом лишь заранее признать, что мне не особенно нравятся новейшие исследования о возникновении и возрасте алфавитного письма, к которым
дал повод в частности Вольф своей критикой Гомера. Мне кажется, что алфавитное
письмо сделалось необходимостью сразу же, как только стала исчезать неизменность первоначального языка, как только до сих пор связанные элементы оживились и, дабы выразить все определения мысли, начали претерпевать органические
изменения в себе самих, изменяясь при этом до неузнаваемости; и, таким образом,
первое изобретение алфавитного письма так же старо, как и тот кризис, в результате которого возникли способные на полисиллабические, органические изменения
в себе самих языки.
При этом следует рассматривать как нечто в корне неверное, если кто-либо захочет само алфавитное письмо, в свой черед, выводить из иероглифического, в той
мере, в какой под иероглифами подразумеваются не лишь символы вообще. В этом
случае, конечно, не приходится сомневаться, что наряду с простейшим способом
обозначать отдельные звуки, который мы можем наблюдать в клинописи, как только проявился первоначальный талант подражания видимым предметам, появились
и иные звуковые обозначения, которые сделались образными и в этом смысле иероглифическими, причем было естественно, что звук пытались передать изображением того предмета, в названии которого данный звук был наиболее выраженным,
а поскольку наиболее выраженным всегда является первый или начальный звук,
было естественно, что образное обозначение звука происходило от того предмета,
чье обычное название начиналось с этого звука. В этом смысле еврейские письменные знаки вполне можно назвать сокращенными иероглифами. Звук В по-еврейски
носит название beth, «дом», и примитивное, схематичное изображение ориентального, открытого с левой, т. е. северной стороны, дома есть также знак, показывающий
звук b. Sehen означает по-еврейски «зуб», и также изображением заднего коренного
зуба в еврейской письменности обозначается звук Seh. Тем более легким отсюда был
424
Вторая книга. Мифология
переход к объяснению египетских иероглифов по аналогичной системе, на чем главным образом и основывается открытие Шамполлиона.
В этом смысле можно было бы, по меньшей мере, обозначения звуков самых
древних способов письма отчасти выводить от иероглифов.
Если, однако, под иероглифами понимать мыслепередающее письмо (Gedankenschrift), или, скорее, письменность, обозначающую сами подразумеваемые предметы, то эти два вида письма имеют столь противоположные природы, что попросту невозможно выводить один из другого. В языке, где отдельное слово ничего не
значит, оно, собственно, не могло отдельно и встречаться в написании. Напротив,
тенденция языка отражать все определения мысли в самом слове должна была в необыкновенной степени облегчаться и поощряться возможностью удержать легкое
дуновение, каждый тончайший нюанс обретшего необычайную гибкость голоса при
помощи отдельного знака — в особенности после того, как возможность выражения
собственными знаками получили также и гласные, которые в семитских (по своему субстанциальному характеру диссиллабических) и, по всей видимости, также и
в египетском языке, еще полностью отсутствовали, и напротив, в языках, относящихся к персо-индо-греческой семье, были, по-видимому, употребительны от века.
Алфавитное письмо словно бы подарило языку крылья, дало ему способность высочайшей подвижности, легкости и изменчивости. Единственный язык, в котором
сохранился закон первоначальной эпохи и первоначального языка, должен был, следовательно, с тем чтобы сохранить себя в этой чистой сущностности, субстанциальности и внутренности, отвергнуть это средство. Ему пристало пользоваться лишь
символическими обозначениями, но никак не буквенными.
Кстати, в китайских письменных знаках — точно так же, как ранее и в египетских
иероглифах — долгое время искали некоего священного значения и глубоко мистической основы. Счастьем нашей эпохи является то, что множество подобных фантомов
ушло бесследно. Нельзя быть в достаточной мере благодарными новейшим открытиям и воззрениям, которые научили нас проще и спокойнее относиться к египетским
иероглифам и равным образом — к китайской письменности, в которых ложное глубокомыслие скудных на воображение умов напрасно тщилось обнаружить то, чего
в них никогда не было в действительности. Ибо в системе китайской письменности
пытались отыскать разгадки величайших научных тайн; не только известный Афанасий Церковник (Athanasius Kircher), который вполне заслуженно имеет репутацию
фантаста, но даже и сам Фурмо (Fourmont) был настолько очарован китайской письменностью, что в 214 так называемых «ключах» к китайским письменным знакам,
которые приняты лексикографами по существу совершенно произвольно, усматривал иероглифические или репрезентативные знаки всех человеческих фундаментальных идей; причем, прежде всего, нелегко было бы сказать, почему существует именно
214 фундаментальных идей, а не больше или, в особенности, не меньше. Существует
Двадцать четвертая лекция
425
достаточное количество истинных тайн, и нам нет никакой надобности создавать
себе вымышленные и искать спекулятивные идеи там, где вполне довольно обычных
средств. Бесспорно, китайская письменность имеет свое очарование, и совершенно
невозможно передать в каком бы то ни было ином языке воздействие этих живописных знаков, которые, вместо бесплодных и только произвольных знаков произношения, представляют глазу сами предметы. Впрочем, сам выбор знаков подчас
указывает ничуть не менее чем на весьма глубокие идеи; напр., если понятие «блаженство» выражено знаком, в котором объединены открытый рот и наполненная
рисом горсть, то можно видеть, в чем именно полагается здесь блаженство. Другие
сочетания уже вполне тривиальны: так, напр., значок, представляющий собой особу
женского пола, будучи поставлен дважды подряд, означает ссору и спор, а повторенный трижды — полный беспорядок. В выборе таких образных представлений
исчезает всякий след необходимости.
Китайское письмо само по себе есть необходимое следствие строя самого языка,
и никогда я не смог бы, напротив, вместе с Абель-Ремюзой предположить, что китайцы только потому, что оказались неспособны обозначить буквами различные встречавшиеся им комбинации звуков (т. е. собственно, по причине тесных рамок своего
письма), остановились на этом малом количестве, как он говорит, весьма кратких
и моносиллабических слов.
Если бы это объяснение должно было что-нибудь объяснять, то одновременно
необходимо было бы предполагать, что письменность была изобретена еще до начала
культуры, т. е. еще в продолжение того варварского состояния, из которого выводят
строение самого языка. Однако кто мог бы предположить, что до такой степени, как
здесь обозначено, ограниченный народ уже обладал своей письменностью, да еще
вдобавок и такой высокохудожественной? В природе вещей заключено, что письменность повсюду возникает как средство и в зависимости от языка; и против всякой природы идет приписывание одному лишь средству — письменности — такое
обратное действие на язык. Гораздо более ясную ситуацию мы получим, если предположим обратное отношение, а именно — что строением языка определяется род
письменности. В китайском языке само слово не достигло той самостоятельности,
которая может потребовать представления слова как слова, что именно и происходит в алфавитной письменности. В китайском слове невозможно выразить ничего
акцидентального. Слово еще слишком внутренно для того, чтобы быть предметом
рефлексии и представления. Здесь, таким образом, не остается никакого иного зримого представления, кроме представления самой вещи, самого предмета, самой мысли. Далее, строй китайского языка объясняет также и сохранение китайского письма.
При большом единообразии материальной части китайского языка, которая ограничена относительно малым числом очень кратких и потому даже между собой трудно различимых основных звуков, — при этом единообразии неизбежно, что иные
426
Вторая книга. Мифология
слоги, получившие большую употребительность по сравнению с другими, выражают или обозначают собой до тридцати или сорока различных идей или предметов.
Если же теперь представлен сам предмет, то нет сомнения, какое из тридцати или
сорока значений, напр., слога Li или La имеется в виду, в то время как по слову, написанному при помощи букв, невозможно было бы сказать, какое из этих значений
входило в намерение автора, если только к обозначениям звуков не будут добавлены
фигуративные обозначения, т. е. обозначения, указывающие на сам предмет. Если же
однажды они допущены, то без букв или звуковых обозначений можно обойтись
вообще.
Я, таким образом, возвращаюсь к моему утверждению: китайская письменность
сама по себе есть необходимое следствие языкового строя. Однако изобретение этого языка не нужно поэтому относить к более далекой древности, чем та, к которой
может быть отнесено также и буквенное письмо, не к более далекой, нежели та, которую позволяет приписать им по большей части произвольная и конвенциональная
природа этих письменных обозначений.
Поскольку я говорил о древности китайской письменности, будет, пожалуй,
естественным переходом, если я добавлю еще несколько общих исторических замечаний о положении китайской нации в целом человечества и народов.
Китай по существу еще и сегодня, когда с севера и запада он соприкасается
с английскими и русскими владениями, является почти совершенно обособленной
частью Земли. В самой удаленной восточной части Азии сохранилась с незапамятных времен эта часть человечества, которая в сравнении с другими, более близкими и дальними народами, действительно образует другое, второе человечество.
Из 1000 миллионов, населяющих всю Землю, 300 приходятся на Китай. В то время как
все прочее человечество по мере своего продвижения на Запад и Север, на всем пути
следования культуры все больше и больше расщепляется на народы, на дальнем Востоке Азии Китай представляет собой компактную массу, чья величина и плотность,
а равно ее внутренняя обособленность и непохожесть, позволяют рассматривать ее,
в противоположность всему остальному разрозненному человечеству, — как второе
человечество.
О возникновении или происхождении китайцев выдвигались различные гипотезы. С точки зрения прежних времен, миссионерам можно поставить в заслугу то,
что китайцев они относили к одной семье с евреями и арабами или, по меньшей
мере, делали вид, что так считают. Действительно, из всего, что может представить
литература древнейших народов, образ мысли и даже сам стиль ветхозаветных писаний ближе всего стоит к древним китайским литературным памятникам. После
нашего объяснения возникновения китайского народа и его своеобразия — это совершенно не вызывает у нас удивления. Такое сходство, коль скоро оно имеет место,
совершенно естественно. Другая, более поздняя гипотеза объясняет их как татар,
Двадцать четвертая лекция
427
спустившихся с Имаусской (Imaus) возвышенности. Согласно новейшему предположению, они ведут свое происхождение из Индии. В.Джонс объясняет их как воинов-индусов, которые, отказавшись от привилегий своего племени, во множестве
отправились на северо-восток Бенгалии и, постепенно забывая обычаи и религию
своих праотцов, основали свои собственные владения, которые, в конечном итоге
соединвшись, образовали китайское царство. Это мнение, по всей видимости, разделяют и сами индусы; по меньшей мере, утверждают, что в книге законов Ману
есть место следующего содержания: некоторое число семейств из класса воинов,
постепенно оставив исполнение предписаний Вед, ведут недостойное существование в качестве народа — и далее одно за другим называются имена нескольких
народов, в числе которых упомянут также и Китай. Мы надеемся, что В.Джонс не
прочел China (как имя народа) вместо Dschainas. Впрочем, с давних времен все народы стремились объяснять происхождение других народов со своей точки зрения,
и даже народы — столь чуждые себе по обычаям и способу мышления, как в данном
случае, — пытались ставить в какую-то связь с собой. Собственно же, однако, для
каждого, кто не утратил непредвзятого взгляда на сущность Китая, нет ничего более
несомненного, чем то, что так называемый китайский народ с самого начала истории есть обособленная часть человечества, которая именно поэтому с незапамятной поры владеет своим местожительством, избежав почти всякого участия в том
процессе, который потрясал и направлял своим течением остальное человечество.
Когда представители китайской традиции утверждают, что сам первоначальный человек является основателем китайского царства, о котором они говорят, что никому
не известно, когда именно началось его существование, когда [ее авторы] словно бы
выводят начало человеческого рода и китайского государства за пределы области
временной, представляя то и другое как существующее от века, — то в этом, равно
как и в миллионах столетий их сказочного летоисчисления, выражается не что иное,
как осознанное убеждение в том, что история для них началась вместе с началом
их государства, что их государство не есть произведение истории, но существовало
с самого ее начала, и в этом мы должны, в соответствии со смыслом всего нашего
объяснения, всецело с ними согласиться. Однако можно было бы задаться вопросом
о том, почему в таком случае, если начало китайского государства отнесено нами
к началу самой человеческой истории, — почему в таком случае мы не начали своего
исследования именно с рассмотрения Китая; ибо Китай служит началом почти для
всего, что носит имя философии истории, и в особенности после появления философии, которая даже по своим формам несет в себе нечто китайское. Однако если тем,
с чего действительно можно начать, может являться лишь нечто предполагающее
возможность отхода с дальнейшим продвижением и содержащее в себе основание
для необходимого и естественного продвижения, — то легко видеть, что с Китая, который, напротив, есть отрицание всякого движения, начать никоим образом нельзя,
428
Вторая книга. Мифология
ибо от подобного начала невозможно отойти, а следовательно, оно и не может быть
началом. Китай лишь постольку помещается в начале всякой истории, поскольку он
отказался от всяческого движения. Хотя то состояние человечества, каким мы мыслили его до всякой истории, и удержано в нынешнем состоянии китайского человечества, однако оно удерживается в нем лишь как застывшее, а тем самым — и не
в своем первоначальном значении. Так как китайское сознание не есть уже более
само доисторическое состояние, но фиксированное, а тем самым одновременно измененное в своем значении, — именно по этой причине также нельзя сказать, что
Китай есть древнейшее. Древнейшее, конечно, присутствует в нем, однако как застывшее, а застывшее древнейшее уже не есть более действительное древнейшее;
в силу этого, если мы хотим говорить о народе, китайский народ является не более
древним, чем та часть человечества, в которой указанное первоначальное состояние
претерпевало последовательные и непрерывные изменения. Не раньше, но в то же
самое время, когда другие азиатские народы пошли по пути мифологического процесса, та часть человечества, которая ныне представляется как китайский народ,
по этому пути идти отказалась; однако именно в силу этого китайский народ как
таковой — как тот, в котором фиксировалось первоначальное состояние, не является более древним, нежели, напр., вавилоняне, несмотря на то что фиксировавшееся в нем, бесспорно, является древнейшим. Однако то, что в сознании вавилонян
и и иных народов появляется в измененном, преображенном виде, — также является
древнейшим: с одной стороны мы наблюдаем фиксированное, с другой же стороны — живое и преображенное древнейшее. Легко начать с такой негации, как Китай,
однако весьма затруднительным представляется выйти от него на какую бы то ни
было дальнейшую взаимосвязь. Напротив, теперь должно быть совершенно ясно,
что единственно верным и надлежащим для Китая местом будет именно то, которое
отведено ему в настоящем исследовании.
В некоторых, даже самых общих, представлениях мифологии Китай попросту
обходят стороной; напр., в остальном весьма широкоохватный труд Крейцера не
упоминает о Китае ни единым словом; и это с полным правом, поскольку Китай не
имеет совершенно никакой мифологии. Однако он не просто не имеет мифологии,
но представляет собой известным образом противоположную мифологии сторону.
Поскольку же теперь мифология есть, во всяком случае, эксцентрическое, однонаправленное движение, которое в силу этого с необходимостью требует своей противоположности, тотальность или всестороннесть мирового развития требует, чтобы
эта противоположность действительно была (существовала), тотальность же представления — чтобы эту противоположность не исключали, но равным образом предоставили ей место в рассмотрении, как бы для создания противовеса позитивной
стороне. Если, однако, Китай не может быть исключен из рассмотрения в научном исследовании о мифологическом развитии, то ему не может быть предоставлено в нем
Двадцать четвертая лекция
429
никакого иного места, кроме только что указанного. Ибо китайская сущность, как
сказано, негативно относится к мифологическому процессу, а именно — еще и в совершенно ином смысле, нежели это может быть сказано о персидском учении или
буддизме. Ибо эти первые задерживают мифологический процесс в его движении,
она же это движение предупреждает. Китайскому сознанию известен лишь абсолютно-Единый, a не — как персидскому — Единый в двойственности. О буддизме и без
того ясно, что он рожден в самом лоне мифологии, что он есть формация, которая
вообще не могла бы мыслиться без мифологического процесса. Если теперь, однако,
китайская сущность всецело внеположна мифологии в каком бы то ни было виде,
пребывая вне мифологии как ее чистая противоположность и относясь к ней как ее
абсолютная негация, то ясно, что поскольку всякая негация имеет смысл лишь как
негация противоположного ей позитивного и получает свое содержание лишь благодаря этому последнему, то также и о той негации, которая положена в китайском
сознании, речь может идти не прежде, чем разовьется и займет свое место указанное
позитивное. Отсюда, таким образом, явствует, что истинное место для понимания
китайской сущности возникает лишь там, где уже имеется в наличии все совокупное
содержание мифологии, т. е. где-то в конце азиатского развития и там, где мифология уже намеревается покинуть Восток и перенестись в западные земли. Китайская
сущность противостоит не какому-то одному отдельному моменту мифологического процесса, но совокупному целому. Однако именно поэтому там, где целью является представление целого процесса, не должно отсутствовать и представление его
противоположности. Между тем, в конце этого нашего исследования о Китае и после того, как мы в частности объявили, что религиозный принцип здесь существует
лишь как всецело овнешненный и обмирщенный, те, которые равным образом слышали о существовании в Китае разных религиозных систем, пожелают узнать, как
они относятся к предположенной нами основе китайской сущности, а также как они
относятся друг к другу.
Обычно говорят о трех господствующих в настоящее время в Китае религиозных системах: 1) религии Кон-Фу-Цзы или, как его обычно называют, Конфуция;
2) учении или религии Лао-Цзы, или, как его обычно называют, Тао-Цзе (Tao-sse);
и наконец, 3) о буддизме.
Неверным представлением было бы мыслить себе Кон-Фу-Цзе как основоположника философии или религии. Сочинения Конфуция по существу содержат
в себе не что иное, как первоначальные основы китайского государства; и притом,
что его никак нельзя считать новатором, он представляет собой, напротив, — того,
кто в эпоху, когда древние принципы, казалось, пошатнулись и лишились устойчивости, вновь восстановил их и укрепил на их старом фундаменте. Поэтому весьма
неисторическим сравнением является то псевдоглубокое замечание, которое сделал
о нем один современный писатель, сказав, что тот был Сократом, на долю которого
430
Вторая книга. Мифология
не нашлось своего Платона. Сократ в Афинах, как известно, был казнен за свои нововведения, и бесспорно, что он был провозвестником новой эпохи, глашатаем евангелия знания и познания, которое даже и Платон, по меньшей мере в его известных
произведениях, не столько представлял и излагал, сколько предуготовлял и провозвещал. Единственным tertium comparationis7, о котором можно было бы подумать
при этом сравнении, было бы то, что — как обычно принято говорить — Сократ
совершенно отвернулся от спекулятивных исследований, направив свою духовную
деятельность исключительно на нравственную жизнь и на практическую мудрость.
То же самое мы наблюдаем и в случае с Конфуцием. Содержанием его сочинений
не является ни буддистская космогония, ни метафизика в духе Лао-Цзы, но лишь
практическая жизненная и государственная мудрость. Что же касается Сократа, то
такой отход от спекуляции и такое практическое направление, если предположить,
что дело действительно обстояло так, как это обычно себе представляют, были чемто вполне ему свойственным. Напротив, Конфуций есть всего лишь духовный представитель, выразитель духа своего народа; то, что всякую мудрость он относил лишь
к общественной жизни и государству, было отнюдь не странно и не являлось всего
лишь его индивидуальной характерной чертой: тем самым он лишь выражал природу своего народа, для которого государство есть все, так что вне государства он
не знает ни науки, ни религии, ни нравственного учения. Именно в силу этого исключительного отнесения всех моральных и духовных интересов к государству —
Конфуций, наоборот, являет собой противоположность Сократу; ибо если он (Конфуций) всецело посвящает человека государству, если он требует участия человека
в государстве и его деятельности на благо государства, будучи далек от квиетистской
морали, которая позднее вместе с буддизмом пришла также и в Китай, то Сократ
в государственном устройстве и государственном управлении своего времени, напротив, усматривал повод для философа воздерживаться от участия в общественных делах. Конечно, учения Конфуция свободны от всякой мифологической окраски
и равным образом от космогонических составляющих, однако также и это никак не
отличает его в особенности: он также и в этом есть лишь свободный слепок трезвого, избегающего всего, что стремится к выходу за пределы наличного состояния
вещей, национального характера. Один из новейших писателей пользуется выражением: китайская философия Конфуция есть мифология греков, индусов и египтян
без их аллегорического языка. По всей видимости, это выражение происходит от того
традиционного мнения, что язык в мифологии якобы не относится равным образом
к делу, что, якобы, если убрать образное, аллегорическое выражение, на месте мифологии останется чистая философия, и именно в абстрактном духе нового времени. Это мнение было в достаточной мере опровергнуто во «Введении в Философию
Мифологии». Истина состоит в том, что китайское учение также и до Конфуция не
несет в себе следов ни индусской, ни египетской, ни также греческой мифологии.
Двадцать четвертая лекция
431
Поэтому Конфуций здесь не имеет ничего общего с греческими философами. Только
что названные мифологии возникли в результате последовательного продвижения,
которое для китайского сознания было в корне пресечено. Здесь тот принцип, который во всех других мифологиях стал всего лишь относительным, утвердил себя
как абсолютный, однако тем самым и благодаря положенному таким образом исключению высшей потенции — той, что единственно опосредует восстановление
познающего истинного Бога сознания — тем самым также и предшествующий, единственно удержанный принцип утратил свое теогоническое значение. Необходимым
результатом этого абсолютного овнешнения или обмирщения был не только вообще
существующий в мире, но одновременно совершенно неподвижный Бог, который
действительно имеет функцию всего лишь закона, миропорядка, все регулирующего
и объединяющего разума, чья личность совершенно не важна, поскольку ни на что
не влияет; одним словом, результатом является рационализм, коего не постыдились
бы и самые современные философы и просветители, и в рамках этого рационализма
всецело выдерживается теперь учение Конфуция.
Высшим религиозным выражением властвующего над народом принципа также
и у Конфуция является Небо. Бесспорно, что имеется в виду Дух неба (Geist des Himmels), однако в сущности это не имеет никаких последствий, ибо также и этот дух
неба имеет вид только фантома, всегда равного себе, неподвижного и неизменного
закона. Вся подвижность вложена в человека, небо же есть нечто всегда одинаковое,
неподвижное.
Правда, с совершенно другой точки зрения следует рассматривать учение ЛаоЦзы (Lao-Kium); оно, действительно, является спекулятивным в совершенно ином
смысле, нежели политическая мораль Конфуция. Оба (Конфуций и Лао-Цзы) были
современниками, оба жили в шестом столетии до Р.Х. Если Конфуций стремится
привести всякое учение и мудрость к древним основам китайского государства, то
Лао-Цзы непременно стремится проникнуть в глубочайшее основание бытия. Если,
однако, необходимо привести некоторые литературно-исторические факты, то следует сказать, что ученый мир в течение долгого времени не знал мистификаций,
подобных той, что представляла собой вышедшая работа г. Абель-Ремюзы «Sur la
vie et la doctrine de Lao-tse».8 Автор 1) уверяет в том, что китайские тексты ЛаоЦзы (Дао-Де-Цзин) по существу непроходимы, т.е. недоступны для понимания;
2) г. Абель-Ремюза хочет заставить поверить, что между идеями Лао-Цзы и идеями
более западных народов Азии существует сходство, чем подтверждается легенда
о якобы совершенном им путешествии на Запад. Правда, легенда гласит лишь (хотя
также и это нам приходится принять лишь под честное слово Абель-Ремюзы), что
Лао-Цзы после издания Дао-Де-Цзин отправился в страны, лежащие на запад и на
весьма большом удалении от Китая, и из этого путешествия не вернулся. Г. АбельРемюза использует эту легенду таким образом, что Лао-Цзы у него отправляется
432
Вторая книга. Мифология
в путешествие на Запад еще прежде выхода в свет своего главного произведения,
и это путешествие, по его предположениям, простиралось не только на Балканы и
в Бактрию, но даже в Сирию и Палестину, причем г. Абель-Ремюза не имеет ничего
также и против того, чтобы Лао-Цзы в своем неуклонном движении дошел аж до
самой Греции. Для вящей убедительности приводится затем одно место из Дао-ДэЦзин, в котором г. Абель-Ремюза желает видеть явный и неоспоримый след священного имени Иеговы, с которым якобы Лао-Цзы получил возможность познакомиться в Палестине. Если после появления такого сочинения появились философы
или иные писатели, которые безо всякого собственно ученого и критического рассмотрения приняли содержащиеся здесь уверения за правду, то этому отнюдь не
следует удивляться. Г. Абель-Ремюза, однако, благодаря иным своим заслуженным
работам приобрел достаточно критического навыка и опыта, так что мы ощущаем
мучительную растерянность, будучи вынужденными сомневаться в искренности
его заверений и, по меньшей мере, предполагать, что более или менее сознательное
принятие в расчет мнения имевших в то время во Франции весьма сильные позиции иезуитов затемнило всегда, впрочем, здоровое и трезвое сознание этого ученого мужа. Из всего же того, что г. Абель-Ремюза утверждает о Лао-Цзы и его учении,
абсолютно ничто не подтвердило своей истинности, с тех пор как его книга (от ознакомления с содержанием которой я, напр., никогда собственно не отказывался),
вышедшая стараниями г. Станислауса Жюльена во французском переводе, с примечаниями и комментариями, которые одновременно дают полную убежденность
в добросовестности переводчика, сделалась доступной для нас — будучи, правда,
понятной не для всех, но лишь для тех, кому удалось проникнуть в глубочайшие
основы философии. Теперь, однако, вполне ясно, что даосское учение задумано
и исполнено настолько всецело и полностью в духе самого удаленного Востока,
что мирской мудрости — я не говорю о греческо-пифагорейской — но также сирийско-палестинского или даже индийского образа мысли здесь нет и следа. «Дао»
(Тао) означает не «разум», как это переводили до сих пор, а учение Дао — не есть
учение разума. «Дао» означает «врата», а учение Дао есть учение о великих вратах
в бытие, о не-сущем, а только быть могущем, через которое всякое конечное бытие
входит в бытие действительное. (Вы можете вспомнить, что почти те же самые выражения мы использовали по отношению к первой потенции.) Великое искусство
или мудрость жизни состоит именно в том, чтобы сохранять для себя эту чистую
возможность, которая есть ничто и одновремнно все. Вся книга Дао-Дэ-Цзин посвящена исключительно тому, чтобы в великом разнообразии остроумных и глубокомысленных оборотов показать эту огромную и неодолимую власть не-сущего. Я
весьма сожалею о том, что не могу здесь входить в вопрос подробнее и обстоятельнее, отчасти по той причине, что на него отведено лишь очень мало времени, отчасти же потому, что представление такого чисто философского явления, как учение
Двадцать четвертая лекция
433
Дао, даже при всем его величайшем интересе, не входит в круг нашего нынешнего
исследования. Я лишь замечу еще следующее: учение Дао не есть завершенная система, которая, напр., стремится дать подробный ответ на вопрос о возникновении
вещей; она в большей мере представляет собой разъяснение одного-единственного
принципа, однако в самых разнообразных формах, а также практического учения,
основанного на этом принципе. Последователи учения Дао называют себя даосами,
однако уже из природы самого явления можно заключить, что они не могут быть ни
многочисленны, ни сильны, а трезвые сторонники Конфуция смотрят на них как на
экстатиков, мистиков и т. д.
Большей властью в Китае обладает буддизм, к которому я теперь перехожу. Как
уже отмечалось, он получил распространение в Китае лишь в эпоху начинающегося
христианства, в первом столетии по Р.Х. Такое впечатление, что принцип мифологии, в самой своей глубине атакованный и поколебленный христианством, ощутил
необходимость противостать ему в новом и еще более могущественном облике. Когда мы видим внезапный подъем и распространение учения Будды в Индии именно
в это время, невозможно избежать подобных мыслей. Несомненно по меньшей мере
то, что попыткам учения и обращения христианских миссионеров буддизм на Востоке поставил непреодолимую преграду. Гораздо скорее можно было бы ожидать,
что изменится весь народ почитателей брахманов, нежели что последователи Будды
отрекутся от своей религии и примут христианскую. Имя, под которым Будда почитается в Китае, звучит: Фо. «Фо» есть всего лишь на китайский лад исковерканное
имя «Будда», которое не позволяет произнести устройство китайских органов артикуляции. Если даже это учение в Китае называют вратами в ничто или в пустоту,
то все же Будда и Лао-Цзы сходятся здесь лишь постольку, поскольку, безусловно,
то, что предшествует бытию, и то, что над ним возвышается — то и другое равно
предстает как нечто свободное от бытия, как чистая сила или потенция. Учение ЛаоЦзы, однако, более относится к началу, и таким образом является преимущественно
спекулятивным, а учение Будды — к концу, а значит, к остающемуся после, к сверхсущему, к последнему преодолению всякого бытия. Некоторые китайские ученые,
правда, полагают маловажным различие этих трех учений, считая миропорядок
Конфуция, Дао Лао-Цзы и Нирвану буддизма всего лишь различными выражениями одной и той же идеи. Есть даже известная китайская поговорка, что три учения суть лишь одно учение. И даже сами императоры ныне правящей, манджуйской
династии (Mandschu-Dynastie) в известной мере относятся к числу тех эклектиков,
которые объединяют между собой эти три учения. Впрочем, нельзя отрицать, что
буддизм именно в Китае был возведен в ту степень, где он становится совершенным атеизмом. Учение Фо в его высшем выражении определенно высказывает то
положение, что, поскольку религия имеет свое средоточие в человеческом сердце,
а человеческое сердце, собственно, также есть ничто, как и все остальное, то равным
434
Вторая книга. Мифология
образом также и религия есть ничто. (Вершина всякой мистики — погружение —
аннигиляция субъекта = аннигиляция объекта.)
Буддизму, который лишь с момента прихода ныне правящей династии, с 17-го
столетия, становится совершенно равноправным с иными религиями, впрочем,
постоянно приходилось подчинять себя государственным целям, что в частности
явствует из положения ламаистской иерархии в Тибете, о которой я, поскольку
было распространено огромное количество ложных представлений о ней, добавлю
несколько слов особо. Первые миссионеры, которые туда проникли, были немало
удивлены, вновь обнаружив в центре Азии то, что было знакомо им лишь по Европе
и христианскому Востоку, т. е. многочисленные монастыри, торжественные процессии, паломничества, религиозные празднества, коллегию верховных лам, самостоятельно избирающих своего главу, церковного суверена и духовного отца тибетцев
и татарских народностей. Чтобы объяснить это странное сходство, они стали рассматривать ламаизм как искаженное христианство. Те частности, которым они удивлялись, представлялись им следами пребывания некогда существовавших в этих
местах сирийских общин. Этого мнения в особенности придерживался Георгий
(Georgii), чей «Alphabetum Tibetanum» считается основным трудом по тибетскому
языку и литературе. Даже Десквинье (Desguignes) и Лакрозе9 (Lacrose) — так называемые философы восемнадцатого столетия — пользовались этими сходствами в обратном смысле, а именно, пытаясь представить ламаистскую иерархию в качестве
первоначального образца, согласно которому были образованы подобные институты, и даже христианские. Это, правда, не нуждается в опровержении; однако все же
важно составить себе точное историческое понятие о возникновении ламаистской
теократии, как оно следует из новейших исследований, в особенности Абель-Ремюзы. Первые настоятели буддистской церкви были своего рода патриархами, в которых продолжала свою жизнь душа Будды и которых рассматривали как его действительных последователей. Когда позднее буддизм был вынужден покинуть Индию
и со стремительной быстротой распространился в Китай, Сиам, Таргум, Японию
и Татарию, князья, принявшие эту религию, считали делом чести иметь при своих
дворах глав буддистской веры, и титулами «учитель царства», «князь вероучения»
награждались местные или иностранные духовники, в зависимости от уместности того или иного. Таким образом, иерархия образовалась под влиянием политики, и всякий раз лишь политический перевес того или иного князя даровал одному
из живых Будд духовное верховное главенство. Однако собственно возникновение
тибетской теократии относится лишь к тринадцатому столетию, точнее, ко времени
завоеваний Чингисхана и его первых преемников. Никогда ни один князь Востока
не владел столь обширными землями, как Чингисхан, чьи военачальники угрожали
одновременно Японии и Египту, Яве и Силезии. Естественно, что и князья веры получали теперь более высокие титулы. Первый Будда был возведен в царское звание,
Двадцать четвертая лекция
435
а поскольку первый случайно оказался тибетцем, то и удельные владения ему были
отведены в Тибете. Однако первый, носивший титул Великого Ламы, получил его
уже от внука великого завоевателя; титул Далай-Ламы появился даже несколькими веками позже Чингисхана и был принят лишь в эпоху Франца I французского.
Он означает «лама, подобный вселенной», универсальный лама, чем указывается не
на его действительную власть, которая никогда не была ни чересчур обширной, ни
вполне независимой, но на величие его духовного, сверхъестественного совершенства, которое естественным образом не могло вызвать зависти и ревности татарских
и китайских князей. В ту эпоху, когда буддистские патриархи избрали в качестве своей резиденции Тибет, соседние области Татарии были полны христиан. Несториане
основали там свои метрополии и обратили в христианство целые народы. Благодаря
завоеваниям Чингиза туда потянулись чужеземцы из всех стран. Святой Людовик
(Ludwig) и Папа в то время послали в эти края католических священников, принесших с собой церковные украшения, алтари, реликвии и т.д., и справляли церемонии
своего культа в присутствии татарских принцев. Сирийские, римские схизматические христиане, мусульмане и идолопоклонники жили тогда бок о бок при дворе
монгольских императоров, которые оказались в высшей степени толерантными.
В этих обстоятельствах была основана новая резиденция буддистских патриархов
в Тибете. Не следует удивляться, если они — стремясь к увеличению роскоши своего культа — вводили некоторые литургические обряды (среди которых, возможно, были и иные, свойственные укладу Запада), о которых они слышали похвалы
папских посланников. С тех пор как китайские императоры манчжурской династии
проникли со своими армиями в Тибет, заняв своими войсками самые прочные позиции, и их военачальники получили приказ поддерживать часто нарушаемый мир
в тибетской иерархии, глава последней находится всецело в положении вассала, хотя
ритуальная коллегия (Collegium des Ritus) разрешила ему называть себя «из самого
себя живущим Буддой» и применять в отношении к себе самые роскошные титулы.
Когда несколько лет тому назад умер последний Великий Лама, тибетцы утверждали,
что он оставил свою душу одному родившемуся в Тибете младенцу. Императорские
министры в Пекине, напротив, заявили, что им доподлинно известно, что почивший
уже возродился в личности юного принца императорской фамилии. Безусловно, им
удалось провести этот план, и тем самым верховное жречество Тибета теперь всецело подчинено светской власти Китая.
Если, впрочем, присмотреться к состоянию этих областей, то нельзя не признать, что буддистская религия сослужила человечеству существенную службу. Она,
собственно, была тем фактором, что оказался способным умиротворить и смягчить
нравы татарских кочевников; именно ее апостолы первыми дерзнули говорить диким завоевателям о морали; их следует благодарить за то, что кочевники более не
угрожают Азии и Европе. В эпоху Чингисхана народы тюркского и монгольского
436
Вторая книга. Мифология
происхождения, которые на некоторое время объединила его власть, были столь же
дикими. Первых не смог изменить ислам, верность которому они сохранили, но, напротив, фанатизм нетерпимой религии лишь, повысил их естественную склонность
к грабежу и убийству. Монгольские нации, которые одна за другой приняли ламаистский культ, всецело изменили свои нравы. Они столь же миролюбивы теперь, сколь
раньше были воинственны, и кроме их отар, которые являются главным предметом
их занятий, у них можно видеть теперь также монастыри, книги и даже библиотеки;
есть даже книгопечатни. Конечно, главную причину укрощения монгольской расы
следует искать в смягчающем воздействии, которое всюду несет с собой эта распространившаяся из Индии, созерцательная, не спекулятивная, поощряющая недеятельную жизнь, религия.
Итак, буддизм теперь снова ведет нас в Индию, и мы, тем самым, вновь возвращаемся к взаимосвязи нашего исследования.
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ
Последнее слово я хочу сказать об индийской мифологии. Если в случае с каждой из ранее рассматривавшихся мифологий то, что определяет их место в последовательности общего развития, было легко распознаваемо, то в случае с индийской
мифологией это отнюдь не в равной степени так. Она представляется составленной
из столь диспаратных элементов, она выказывает, в зависимости от точки зрения,
столь различные стороны, случайное и существенное настолько перемешано в ней,
что прежде всего возникает необходимость в различении и взаимном отделении разных элементов, т. е. критики в самом высоком смысле, — для распознания в ней изначального, фундаментального и вычленения его из случайного и только вторичного.
По этой причине мне пришлось здесь войти в критические рассмотрения, без которых в случае с другими мифологическими системами я мог легко обойтись. Теперь
же, когда мы располагаем полным материальным знанием различных форм индийской религии, для нас важно сказать о том средоточии, которое опосредует и объединяет собой все эти расходящиеся направления. Если вы теперь припомните весь
способ и ход нашего предшествующего исследования, вы заметите, что наш подход
заключался в последовательном составлении, собственно в последовательном выстроении мифологии. Сперва существовал лишь Один принцип, всецело и исключительно властвовавший над сознанием. Этот первый принцип впоследствии уступил
место второму, который тут же словно бы приобрел господство над первым, преобразил его и через последовательное преодоление привел его к угасанию, где он
сам положил нечто третье, которое с самого начала было определено как собственно быть должное, как то, чему надлежит быть. Исключительное господство Одного
принципа было представлено в изначальной религии, забизме. С этого момента и до
момента второй катаболы, где этот второй принцип стал предметом действительного преодоления, т. е. вплоть до того момента, который вообще обозначен Кибелой,
мы имели дело лишь с двумя принципами или потенциями. Первой полной мифологией, т. е. такой, в которой встречаются все элементы, все три потенции, — была
египетская. Отсюда, следовательно, начинается новая последовательность. Теперь
следующие друг за другом потенции уже не могут, как прежние, отличаться друг от
438
Вторая книга. Мифология
друга элементами. Здесь, таким образом, уже не более полные мифологии противостоят менее полным, но полные противостоят полным. Одна уже не может служить
дополнением для другой; и, тем не менее, также и между этими мифологиями, а следовательно, также и среди уже известных нам — египетской и индийской — должно
иметь место отношение сукцессии. На чем же должна быть основана здесь сукцессия, или какой принцип сукцессии следует здесь предположить? Остается предположить лишь возможность того, что хотя в каждой из этих полных мифологий достигнута совокупность потенций, нр тем не менее сама эта совокупность, в свою очередь,
предстает как различная, в зависимости от того — положена ли она под властью
экспонента первого принципа, под контролем второго, или при господстве третьего. Это давало бы нам теперь три различных образа или формы полной мифологии,
причем нам представляются именно всего три таких формы: египетская, индийская
и эллинская, — поскольку этрусскую, древнеиталийскую и римскую мифологии мы
можем рассматривать как лишь параллельные формации эллинской мифологии.
Далее, египетскую мифологию мы уже признали выражением смертной агонии реального принципа. Однако тем самым предполагается, что реальный принцип все
еще силен, все еще удерживает известное напряжение по отношению к высшей потенции. Это, таким образом, есть основное понятие. Длящееся, продолжающееся сопротивление — пусть и постепенно слабеющего — Тифона есть основной тон египетской мифологии; ибо то, что она затем продвигается в самой себе вплоть до его
действительного преодоления, вполне естественно: однако ее начало, а значит, определяющее египетской мифологии — есть все еще длящаяся, хотя уже и борющаяся со
смертью, сила реального принципа. Здесь я должен вставить еще одно, необходимое
для ясности последнего выведения, замечание. Я прошу вас вспомнить о том, что
этот первый или реальный принцип есть приус всей природы, т. е. собственно материального мира. Покуда, теперь, длится его сопротивление, а тем самым — продолжается напряжение, — в этом напряжении стоящее над тремя потенциями единство
не может быть представлено как свободное от этого напряжения, как имматериальное, но также лишь как сросшееся с ними, способное произвести лишь явление конкретного, материального. В египетской мифологии, поэтому, все представлено еще
как только телесное; даже боги, которые возникают для сознания в этой борьбе, возникают для него в облике животных. Поэтому также и в ином отношении телесное
у египтян имеет так много значения и обладает такой важностью. Не только человеческим телам, но также и телам животных египтянин стремится обеспечить вечное
существование, о чем свидетельствуют многочисленные сохранившиеся до сего дня
мумии священных животных.
Что же, теперь, может идти следом за этим упорным удержанием реального
бога — кроме полного от него отказа? В нем, во все еще оказывающем сопротивление реальном принципе потенции имели свою общую точку стяжения, соединявшую
Двадцать пятая лекция
439
и объединявшую их в одно. Если его больше нет, если он исчезает — как в Брахме,
который сделался абсолютным прошлым, — то вторая потенция, Шива, остается
стоять в одиночестве как разрушитель единства, и ей также всецело предано всеобщее сознание. Высшее сознание, однако, не может вечно любить разрушительный
принцип, с которым не может быть единым; оно поэтому неудовлетворенным переходит к третьему, так что не может обрести покоя нигде, кроме как в положенном для
себя третьем, в самом по себе духовном, в Вишну. Поскольку, однако, этот последний
утратил в сознании свои предпосылки, он также не может утвердиться в чистой духовности, непроизвольно покидая эту высоту и вновь устремляясь к материальному, однако — так, что это материальное тут же предстает как лишь предположенное
и именно добровольно предположенное: поэтому инкарнации Вишну, учение Кришны, которое выглядит как нечто всецело оторванное от своего фундамента, от всего,
что некогда лежало в его основе, предстает как совершенно новая религия, которая
уже собственно не имеет ничего общего с первыми мифологическими основаниями.
Мы можем уподобить состояние сознания в этот момент состоянию человеческой
души, которая — после того как сновидческий туман этого материального мира рассеялся перед ней, — не может достичь высшего имматериального единства, и потому
тоскует по возвращению к материальному или физическому. Существует древняя
вера в то, что в отделившейся от тела душе остается еще один момент, стремление
к материализации, словно в еще не полностью насытившемся алкоголем вине, которое, как известно, едва лишь вновь приближается пора цветения лозы, приходит
в беспокойство и тяжелеет, что как раз и указывает в нем на вновь проступающий
момент материализации. Нечто столь же жутковатое, столь же призрачное по своей природе можно заметить во всей индийской сущности и равным образом также
в индийских богах. Материальное мифологии исчезает для индийского сознания,
равно как и сам индус есть более душа, нежели тело. Ибо душой мы называем то,
что единственно переживает материальное единство. Индус есть преимущественно
душа, тело исчезает не только в его нравственной оценке, но даже и его естественная
приверженность к нему гораздо меньше той, что мы привыкли наблюдать. Никто не
принимает и не воспринимает смерть с такой легкостью, как индус. Бесчисленное
множество людей ежегодно ищут добровольно и находят в разливе вод священного Ганга свою могилу. Как индийской мифологии чужда собственно агония борьбы
со смертью, точно так же достопримечательна в частности та физическая легкость,
с какой в Индии умирают. Индус, как многие и весьма часто отмечают, умирает безо
всяких судорог и иных сильных телесных и душевных движений, которые у других
народов придают смерти столь ужасные черты; его смерть действительно есть исход
души или угасание. Уже в самом телесном облике индуса видна легкость разделения —
бегство, уход потенций, чье взаимодействие поддерживает материальную жизнь;
они постоянно норовят разделиться. Если монгол уже одним лишь строением своего
440
Вторая книга. Мифология
черепа и всего своего тела выказывает глубоко погруженное в телесное, всеми корнями вросшее в материальное, сознание, — то вся физиогномика индуса свидетельствует о перевесе души. Душа, т. е. то, что единственно пребывает после упразднения
материального единства — остающееся, продолжающее существовать после смерти
во всех языках носит название души — здесь она словно бы выходит на поверхность;
тело действительно есть всего лишь внешнее явление и парит в сознании индуса как
нечто вроде сновидческого марева.
То, что индус предполагает в своей философии, а именно, что чувственный мир
есть иллюзия, преходящий феномен, — находит выражение в нем самом, в его внешнем, физическом облике. Тело для него есть не более чем совершенно послушный
инструмент, с которым он делает все, что ему угодно. До невероятного доходит искусство индусских фокусников. Если в какой-либо индийской статуе или каком-либо поэтическом произведении мы находим некое очарование или трогательность,
мы всегда увидим: то, что нас столь живо захватило и увлекло, есть выражение души,
духовности (das Seelenvolle). Правда, с такой манифестацией всегда связано нечто
вселяющее страх — то чувство, что внушает красота, которая, будучи очищена до
простого явления, словно представляет собой лишь пламя, которое, колеблемое
любым дуновением, кажется, вот-вот исчезнет. С каким восторгом, с каким всеобщим признанием было принято во всей Европе поэтическое произведение Калида
(Kalidas), знаменитая Шаконтала (Sakontala)! Если же попытаться исследовать, что
именно лежит в основе такого впечатления, то это окажется именно перевес души,
исключительная чувствительность словно бы прорывающей свою оболочку, словно делающей ее невидимой, души, которая выказывает себя во всей болезненной
страстности этого стихотворения. Также и Гете увековечил Шаконталу в своей известной эпиграмме:
Если хочешь одним словом объять
Цветенье весны и мягкость осеннего плода,
Если алчешь того, что веселит и бодрит и вместе приносит довольство,
Если хочешь одним словом назвать Землю и Небо,
Называю тебе Шаконталу — в ней все это вместе.
Так прекрасны эти строчки, позволю себе признать, что я упускаю в них собственно знаменательное. Я хочу сказать: Шаконтала есть одно из тех немногочисленных произведений, о которых можно было бы сказать, что они сотворены всецело душой и безо всякого участия человека.
От этой боли и горести по поводу уничтожения и потери материального единства индийское сознание в его наиболее благородных органах обращается непосредственно к устремлению — через абсолютную созерцательность и погружение,
которые они называют йогой, — прийти к полному освобождению (называемому
Двадцать пятая лекция
441
mokschah), к растворению в Боге, которое поэтому никоим образом нельзя мыслить
себе как субстанциальную абсорбцию и уничтожение человеческого существа также
и в своей потенции (человек лишь возвращает Богу эту потенцию, эту возможность,
которую он хранит как таковую, а не растрачивает ее греховно, считая для себя позволенным все то, что для него возможно): итак, это состояние совершенного соединения нельзя рассматривать как уничтожение, даже если его сравнивают со сном.
Ибо сон ведь также не есть уничтожение, и кто, собственно, может знать, на какие
наслаждения способна душа во сне, из какого источника струится тот бальзам, которым здоровый сон освежает человеческий дух. Ведь то, что мы не можем вспомнить
этих наслаждений, отнюдь не свидетельствует об их отсутствии, но лишь о том, что
они не могут быть перенесены воспоминанием в состояние бодрствования, как процессы и события магнетического сна.
Опыт бренности и временности всего материального, который проделывает
индийское сознание, необходимым образом отвращает сознание от материи. Материальное, скажем так, исчезает в эстимации (Aestimation)1 индуса. Для египтянина
даже и уже лишенный души человеческий труп все еще священен, индус же стремится как можно скорее уничтожить его с помощью самой истребительной стихии
и разложить его состав на элементарные частицы. Из всех смертных, говорит Геродот, египтяне первыми стали учить, что остающаяся после смерти часть человека
вновь возвращается в материальный мир посредством нового рождения. Это вполне
сообразно точке зрения египетского сознания. Египтянин, по всей видимости, воспринимает неизбежную необходимость того круговорота, в силу которого душе после смерти тела приходится пройти всю природу, с полным смирением. Это, согласно
народному поверью, есть единственный способ, обеспечивающий душе дальнейшее
существование. Ибо учение о том, что души умерших ведут блаженную жизнь в царстве Осириса, было учением уже более развитого сознания: не мифологической,
но жреческой доктриной. Индус, напротив, смотрит на путешествие души — на возвращение в материальный мир — как на несчастие, однако преодолимое, конечно,
не путем приобретения так называемых заслуг или совершения только внешних религиозных действий; однако он верит, что от этого несчастья можно уберечься, если
человеческое существо еще здесь будет искать единения с Богом и достигнет его,
если оно еще здесь, заранее умрет для внешнего мира разъединенных и в своем взаимном напряжении порождающих материальные явления потенций. Истинно вечное спасение, место непреходящего пребывания, может — согласно индийскому учению — быть достигнуто лишь в результате полной победы над чувствами и миром,
через отказ от любого иного вознаграждения, кроме снискания благосклонности божества, приближения к нему и в конечном итоге — слияния с ним. Тот, кто поистине
соединился с Богом, учат Веды, не возвращается. Он не возвращается к смертной
природе, говорит Кришна в одном из переведенных Шлегелем мест Бхагават-Гиты:
442
Вторая книга. Мифология
Он не возвращается к смертной природе, бренной юдоли страдания,
Тот, кто достиг меня, не идет назад, стоя высоко у самой цели совершенства.
Все миры, исходящие из Брахмы, поворачивают вспять.
(Брахма есть всего лишь родитель мира явлений, принцип материального
мира, в котором совершается странствие душ)
Достигший меня свободен от дальнейших рождений.
Индийский момент есть момент распада материального мифологии, которая
в греческом сознании словно бы празднует свое воскрешение, свою палингенезию
(Palingenesie). Египетская, индийская, греческая мифология относятся друг к другу
как тело, душа и дух. Египетские боги суть телесные, составные, индийские — сугубо призрачные существа (переход в более высокий мир), греческие же, как третий момент, представляют собой духовно-телесные существа; они телесны, однако
одновременно озарены светом духовности: так, как — по христианскому представлению — озарены светом тела воскресших σώματα πνευματικά2.
Если природный процесс (а в мифологическом процессе лишь повторяется всеобщий природный процесс), если природный процесс однажды достиг человека, то
возможны лишь три момента: 1) человек в его телесном явлении — ему (телесному
явлению) еще всецело предано сознание в египетской мифологии, откуда и стремление к сохранению, даже и лишенного души, тела; 2) человек в состоянии души — имматериального единства, когда распалось единство материальное. Здесь начинается
противоположность блаженства и скорби, в зависимости от того, — способен ли человек найти покой в состоянии души, или тоскует по возвращению в материальный
мир. Третий возможный момент есть тот, где имматериальное единство, неся просветление, вновь входит в материальное, и лишь таким образом теперь достигается
вечное и совершенное состояние. Из этих трех мифологий индийская, следовательно, потому есть наиболее неблагодатная, что она пребывает в среднем, а значит — не
определившемся состоянии. Если добавить к этому с древних пор лежащее в индийской сущности семя иной, также известным образом противоположной мифологии,
однако вместе с тем и относительно более материальной религии — буддизма, — то
мы поймем, каким образом могло произойти так, что она столь долгое время могла быть лелеема в тишине и покое, и тем не менее в конце концов была со страхом
и даже с известного рода яростью отторгнута и изгнана мягким и отвращающимся
от всего материального духом Индии, едва лишь она начала развиваться в самостоятельную поросль, угрожая полным вытеснением душевного индийского элемента.
Однако насколько глубоко буддизм коренится в индийской сущности, можно видеть
из того, что даже после его насильственного изгнания из своего отечества многие индусы все еще ощущают в себе склонность и тягу к опальному учению. Странно, должно
быть, видеть на крутых и почти неприступных возвышенностях Тибета пилигримов
из Бенареса, города браминов, смешивающихся с пилигримами из Цейлона (страны
Двадцать пятая лекция
443
буддистов); странно наблюдать, как они взбираются на тибетские горы лишь для
того, чтобы оказаться в непосредственной близости к тому самому богу, которого их
прародители изгнали из своего отечества, — ища для себя прощения грехов, спасения своих душ и хоть какого-нибудь утешения в их многострадальной и нескладной
жизни.
То, что отличает индуса в религии и философии, а также в изобразительном искусстве и поэзии, — есть душа. То же, чего не хватает ему, и что объясняет большую
часть недостатков его существа — рассматривать ли его с теоретической или с практической точки зрения — то, чего весьма недостает ему, — есть дух греков. Греческая
мифология уже потому выказывает себя среди последних и полных мифологий как
соответствующая третьему моменту, что она вновь принимает и заключает в себя
первый, египетский момент, т. е. что она не отказывается от реального бога, подобно
индийскому сознанию, но в расходящемся движении удерживает его.
Прежде чем я углублюсь в эту тему, хочу лишь заметить для устранения возможных недоразумений, что ту последовательность, в которую мы помещаем египетскую, индийскую и эллинскую мифологии, не следует понимать так, будто первая
перешла во вторую, а вторая — в третью. Эллинской мифологии пришлось сразу
же начинать как эллинской; она в своем роде столь же изначальна, как египетская
и индийская, хотя благодаря удержанию реального принципа, который в индийской
мифологии всецело утрачивается, в свою очередь выказывает обратное движение
по направлению к египетской. Однако именно этот факт и свидетельствует о том,
что она является третьей в последовательности; ибо третье понятие всегда представляет собой возврат к первому либо включает его в себя. Это можно указать даже
на примере общих категорий, напр., единство, множество, совокупность. В совокупности множество вновь приходит к единству — или, если бросить взгляд назад на
наши прежние понятия, то последовательность была следующей: а) безграничное
и нуждающееся в определении; Ь) ограничивающее и определяющее, в чем нет ничего неопределенного, т. е. никакой потенции, которое именно для того, чтобы быть
определяющим, должно представлять собой чистый акт. Однако третье с) есть само
себя определяющее, которое, следовательно, одновременно включает в себя нуждающееся в определении. Или, в ином выражении, последовательность такова: а) чистое
бытие в возможности, Ь) чистое бытие, с) как бытие положенное бытие в возможности. Третье не есть первое, однако оно, в свою очередь, есть то, что есть первое. Так,
египетская мифология по отношению к индийской еще есть единство, индийская по
отношению к египетской — полное расхождение (Auseinandergehen), греческая же
есть восстанавливающее себя в расхождении, и именно поэтому теперь как таковое
положенное, осознанное, духовное единство. В греческой мифологии есть возврат
к материальному, однако таким образом, каким христианская догма о блаженном
или проклятом состоянии имматериального существа после смерти есть возврат
444
Вторая книга. Мифология
к материальному, ибо она утверждает духовную палингенезию (Palingenesie), или
новое бытие (воскресение) материального. Греческая мифология, однако, предполагает моменты, совокупность которых она собой представляет, в самой себе, а не вне
себя, исторически. Отсюда следует, что также и с греческой мифологией мы начинаем теперь с самого начала, т. е. должны вернуться к тому общему прошлому, которое
она имеет с египетской и индийской. Этот момент есть тот, который мы во всеобщем
развитии уже обозначили понятием Кроноса, где, однако, отмечалось, что Кронос
здесь еще не означает специально греческого бога, но есть лишь избранное нами общее имя для все еще не преодоленного, все еще пребывающего в силе реального бога.
В греческой мифологии нам необходимо вернуться к Кроносу; ибо Кибела,
которую мы определили как Уранию в высшей потенции, как переход от Кроноса
к последнему периоду в нашем общем развитии, Кибела как этот особый образ не
является изначально эллинским, но была привнесена и принята в греческую мифологию позднее, лишь после Гесиода. Поскольку же теперь мы возвращаемся к Кроносу, следуя в русле греческой мифологии, то здесь впервые пойдет речь об эллинском
Кроносе как таковом; здесь впервые нашему рассмотрению предстанут те особые
определения, при которых появляется и проходит в греческой истории богов этот,
впрочем, всеобщий бог.
Итак, в греческой истории Кронос порождает с Рейей (Rheia) (Rhea) (вероятнее
всего, следует выводить от ρέειν, ρειν3, fluere, movere4 — Рея есть уже в Кроносе начинающее становиться подвижным сознание) — с ней, таким образом, он порождает
трех сыновей: Аида, Посейдаона, Зевса. Однако он не сразу позволяет этим сыновьям
увидеть свет и тут же вновь проглатывает их, держа их таким образом внутри себя
в заточении. Однако об этом позже. Ибо прежде всего нам необходимо определить
природу или понятие каждого из этих трех персонажей. Относительно Аида теперь
мы едва ли столкнемся с возражениями, если скажем, что он есть Кронос в Кроносе,
чисто негативная сторона Кроноса, то абсолютно замкнутое, противящееся всякому
преодолению, а значит, и всякому движению, что есть в Кроносе.
Агамемнон в девятой книге «Илиады»* говорит по отношению к гневающемуся
Ахиллесу:
Пусть он уймется! Аид непреклонен и неумолим,
Но для смертных он также и всех богов ненавистней:
άμείλιχος ήδ αδάμαστος5. Первое слово: у Схолиаста = άγοήτευτος6, неумолимый, которого невозможно умилостивить словами — а равно также и силой (αδάμαστος7).
Это относится к неумолимости Гадеса в его обращении со смертными. Однако
Илиада, IX, 158-159.
Двадцать пятая лекция
445
такое понятие строгости относится к нему с самого его появления, как, например, он
еще в «Теогонии» Гесиода сразу же получает предикат немилосердного (νηλεές ήτορ
έχων8). Однако богом подземного мира он лишь становится, и становится им лишь
позже; ибо хотя имя Аид, — которое буквально означает «невидимый», — и можно
было бы объяснить из того, что он противится раскрытию, стремится оставаться
центральным, невидимым, не желая становиться периферическим, внешним относительно высшего бога; однако все боги теогонии уже при первом своем появлении
получают свои имена в соответствии с тем, к чему они определяют себя в дальнейшем, либо в конце. Далее, именно Кроносу определено вновь отойти из реального во
внутреннее, сокровенное. А следовательно, так зовется именно негативное в Кроносе, т. е. то, чему определено впоследствии быть преодоленным и возвращенным
в сокрытое и невидимое (το αειδες)9, которое уже теперь носит название Аид; также
сразу же прибавляется, что он не получает истинного рождения, т. е. что этот персонаж фактически еще не полагается как Аид. Он зовется Аидом как тот, кто будет
невидим, не как тот, кто действительно им уже является, и именно поскольку он еще
не является таковым, он также носит имя немилосердного; ибо как действительно
ставший Аидом, т. е. как уступивший место высшему, он напротив, как мы увидим
впоследствии, представляется вполне благодушным, дружелюбным и добросердечным богом. До сего момента, следовательно, тот, кто впоследствии будет незримым
и сокровенным, все еще является присутствующим, он все еще утверждает себя как
реальный бог. Он есть то, что в египетской мифологии есть Тифон, которого греки
довольно часто называют Гадесом.
Покуда этот бог положен еще как действующий, настоящий, не как Аид (Aides)
(или, в стяжении, Гадес) (Hades), до тех пор он противится обращению в духовное,
а следовательно, прежде всего, — материализации; ибо для того чтобы быть обращенным в духовное, он сперва должен стать материей для высшего бога. Еще, таким образом — покуда он не положен как Аид, — он не позволяет высшему богу
относиться к себе как к материи. Напротив, теперь, Посейдаон — или, в стяжении,
Посейдон — точно так же есть Кронос, однако такой, который уже сделался материей высшей потенции, материализовался по отношению к ней. Вы видите, как постепенно в самом реальном боге проступают действия трех формальных потенций,
в результате чего именно и возникает божественное множество. В реальном боге,
т. е. в Кроносе, Аид есть именно Кронос как таковой, Посейдон же есть положенное в нем второй потенцией определение или склонность к материализации. Было
бы излишним ссылаться в связи с этим объяснением Посейдона на опробованную
некоторыми этимологию имени, выводимую из сирийского, согласно которой Посейдон означало бы «Пространный», или то же, что и expansus. Никакой эллинской
этимологии, действительно, до сих пор еще найти не удалось. Однако с гораздо большей уверенностью можно было бы сослаться на тот атрибут Посейдона, которым
446
Вторая книга. Мифология
снабжает его еще Гомер, εύρυσθενής10, широко, с большой силой распространяющийся. В изобразительном искусстве он всегда изображается с большой, широкой грудью. Тот же предикат мы найдем также и впоследствии как указывающий на момент
экспансии, материализации. Однако все существо, вся природа этого бога говорит
в пользу нашего воззрения. Сущность Посейдона есть слепое, не властное над самим собой воление и расхождение (Auseinanderfahren). Ибо он уже движим высшим
богом, не будучи, однако, обращенным вовнутрь себя. То, что он представляется
как бог влажной стихии, основывается на том, что вода вообще есть первое материальное выражение того вожделения, наслаждения и восторга природы, которые она
испытывает, становясь природой, выходя из первоначального напряжения, по мере
того как в ней убывает суровость и умягчается косность. Уже та первая катабола,
которая обозначена Уранией, сопровождалась явлением воды; в сирийских религиях
эта первая природа, это древнейшее природное божество определенно почиталось
как рыбообразное существо, бог воды; в Вавилоне бог-рыба Данн (Dannes) каждое
утро показывается из моря, дабы учить гражданским обычаям, законам и науке
(в первом, еще диком, кочевом состоянии). Посейдон в материальном есть то же, что
Дионис есть в формальном, или как причина. Дионис же носит имя Господа влажной
природы (κύριος της ύγρας φύσεως11)*. Точно так же египетский Осирис есть потенция, являющаяся причиной влаги (ή ύγροποιός αρχή και δύναμις12)**, а тем самым —
причина всякого рождения, вследствие чего божеством, соответствующим Дионису
в материальном, должен быть Посейдон. Однако таким образом объясняется лишь
одна сторона Посейдона, ибо Посейдон не есть бог влажной стихии вообще, но дикой морской стихии. Влажное, текучее в нем происходит от высшей потенции, от
Диониса; дикое же, горькое, соленое есть кроническое в нем, ибо он есть всего лишь
смягчившийся, словно бы ставший текучим, Кронос, чье недовольство и горькое
ощущение преодоленности сообщается морю, по каковой причине, по свидетельству Плутарха, в некоторых мистериях море называлось слезами Кроноса (Κρόνου
δάκρυον13)*** — с бесконечно большим глубокомыслием, чем представляет себе плоская физика, которая все в природе рассматривает как только внешнее, или скудная
мыслью философия, которая не способна усматривать в природе внутренних процессов, но одну лишь пустую последовательность понятий. Всякое качество в природе имеет значение лишь постольку, поскольку само оно первоначально есть ощущение. Качества вещей не могут быть объяснены механически, внешне; их можно
Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 34 и 35.
Там же, 33.
Там же, 32, где Плутарх приводит эти слова в качестве изречения пифагорейцев. Там же он говорит
о египетских жрецах, питающих отвращение к морю и к соли, которую они сравнивают с пеной на
губах Тифона.
Двадцать пятая лекция
447
объяснить лишь из первоначальных оттисков, полученных в творении самой сущностью природы. Кто может думать, что сера, зловонные испарения рудничного газа
и летучих металлов, или необъяснимая горечь моря представляют собой всего лишь
следствия только случайного, химического смешения? Не являются ли эти субстанции с очевидностью чадами боязни и страха, подавленности и отчаяния? Однако я
возвращаюсь назад к Посейдону. Присущие ему досада и неудовольствие, которые
можно наблюдать повсюду еще в «Илиаде», являются своего рода послевкусием того
первоначального дурного расположения, которое переполняет чувствующего свое
поражение Кроноса. Однако ни Аиду, ни Посейдону не дано существовать для себя,
но лишь одновременно с третьим и лишь в качестве подчиненных ему моментов. Это
третье есть все тот же Кронос, тот же бог, однако освобожденный теперь равным
образом как от своего собственного негативного, так и от действия противоположной потенции, всецело властный над собой, спокойный, господствующий надо всем
рассудок (Verstand). Ибо этот последний преимущественно мыслится в Зевсе, что явствует из того, что в «Илиаде» в качестве постоянного эпитета для Зевса используется μητίετα14, и если некто заслуживает высшей похвалы, о нем говорят, что он Διΐ
μήτιν ατάλαντος15, равен Зевсу по разуму; я напомню, кроме того, о царственном уме
(νους βασιλικός16), который Платон в особенности приписывает Зевсу.
Таким образом, непосредственное прошлое греческой мифологии есть Кронос;
однако в нем самом в качестве моментов проступают: а) собственно кроническое,
негативное, противящееся духовному его сущности; Ь) доступное высшему богу, та
часть его сущности, что предоставляет себя ему в качестве материи; с) теперь уже
благодаря высшему богу всецело обращенное в себя, а значит — всецело властное
над собой существо реального бога. Поскольку греческое сознание разрешается
(ent-schliesst) или раскрывается (aufschliesst) не ранее, чем в тотальности этих моментов, на место Кроноса приходят боги: 1) Аид, который уже по своему понятию
есть прошлое; 2) Посейдон, который, поскольку он появляется лишь вместе с Зевсом, т. е. всецело преодоленным Кроносом, уже не есть абсолютный, но подчиненный
разумному богу Посейдон, и который уже не предстает таким, каким он был бы, если
бы ему дано было быть для себя. Он появляется в мифологическом процессе лишь
как сын уже побежденного, ставшего Аидом, Кроноса, т. е. тогда, когда уже положено
высшее (Зевс), а значит, он появляется лишь в качестве переходного момента, каковым он, собственно, и является по своей природе. Можно доказать на примерах тот
факт, что также и греческое сознание испытывало на себе поползновения посейдонического, и мистерийная мифология даже сохранила воспоминания об этом; она
говорит об известных предложениях, которые Посейдон делал Деметре, т. е. как мы
впоследствии услышим, — мифологическому сознанию, каковые предложения она
с гневом отвергла: так, бесспорно, следует истолковывать те удивительные легенды,
которые передает нам Павсаний в книге об Аркадии (Arkadien) и на которых мы
448
Вторая книга. Мифология
сейчас не имеем времени останавливаться подробно. В эту эпоху кронической неопределенности, когда ни один из указанных богов еще не успел появиться на свет,
Деметра представляется как супруга Посейдона, однако она отказывается отдаться
ему и выступает позднее, как мы увидим далее, участницей совершенно иной любовной интриги. Посейдон также и в том предстает под владычеством Зевса как только
момент прошлого, что он не принимает совершенно никакого участия в дальнейшей истории богов. У Гесиода он имеет лишь одного-единственного сына, Тритона,
относительно которого можно .было бы даже сомневаться: следует ли считать его
богом, — если бы Гесиод прямо не назвал его могущественным богом (δεινός θεός17);
ибо в самом Посейдоне, а также в этом и других — рожденных им от смертных матерей — сыновьях-полубогах, все еще дает себя знать дикость кронической природы.
Однако также и этот бог, Тритон, есть всего лишь бог прошедшего времени, который
никогда не появляется в числе богов сообщества Зевса: Гесиод определенно говорит,
что он живет вместе со своей матерью Амфитритой и со своим царственным отцом и никогда не покидает своих золотых покоев на морском дне. Из трех богов, таким образом, Зевс есть единственный настоящий, т. е. единственный пребывающий
в данный момент, тогда как Аид и Посейдон представляют собой не более чем моменты прошлого. Однако греческое сознание тщательно сохранило все моменты, не
предавшись исключительно ни одному из них. Эти три бога суть лишь разошедшиеся
врозь части Кроноса, равно как Кронос есть лишь тот бог, который ранее занимал их
место. Лишь все три они вместе равны одному Кроносу: не Аид, ибо он может стать
Аидом лишь постольку, поскольку полагает себя как Зевса; также и не один Зевс,
ибо лишь становясь Аидом, т.е. полагая свое негативное как прошлое и сохраняя
его, и равным образом делая прошлым слепую преданность высшему богу, посейдоническое в себе, — Кронос полагает себя как Зевса. Зевс есть сын не абсолютного,
но лишь одновременно ставшего Аидом Кроноса. Собственно, это есть всего лишь
Один бог, который внизу есть Аид, в середине Посейдон, наверху же — Зевс. Зевс
есть всего лишь обращенная к настоящему часть Аида, Аид — лишь обращенная
к прошлому сторона Зевса, поэтому также и сам он носит имя Зевса, но лишь подземного Зевса — Jupiter Stygius.18 Таким образом, несмотря на то что Зевс является
высшим богом, он все же не может быть отделен от других. Он есть лишь постольку,
поскольку есть также и Аид, т. е. поскольку преодолено негативное Кроноса. Зевс не
является победителем Кроноса в том смысле, в каком Дионис является победителем
материального бога; он есть не тот — через которого, но тот — в ком преодолен,
т.е. стал Аидом, Кронос. По этой причине, собственно, эти три и возникают лишь
одновременно. Правда, проводится возрастное различение, и Зевс по отношению
к Посейдону и Аиду называется старшим, однако лишь постольку, поскольку он помог обоим другим появиться на свет, войти в отдельное, особое бытие; несмотря
на то что в «Теогонии» он есть младший из сыновей Кроноса, у Гомера он является
Двадцать пятая лекция
449
старшим — потому, что он первым выходит из состояния поглощенности, в котором
Кронос удерживает остальных, т. е. поскольку лишь вместе с ним Кронос выступает
в своей разделенности на эти три момента; и поэтому его называют «ранее рожденным и обладающим более высокой мудростью» .
Поскольку все три сына Кроноса взаимно предполагают друг друга: ибо Кронос
есть Аид лишь постольку, поскольку он есть одновременно Зевс, и он есть Зевс —
лишь поскольку он одновременно есть Аид, — поскольку все три момента в греческом сознании имеют равный вес: то между этими тремя богами не могло возникнуть
временного различения, но могло возникнуть лишь различение пространственное.
Каждый из богов получает собственный регион, которым он владеет. Аид в качестве
своего обиталища получает пустой мрак (ζόφον ήερόεντα19), подземный мир, преисподнюю, глубины, внушающие ужас даже самим богам; ибо если бы эти глубины
могли вновь открыться, то одновременно сами они были бы уничтожены и истреблены, ибо ведь их бытие основывается на невидимости и погруженности в глубину того, что теперь в этой глубине обитает. Их ужас перед этим сокрытым подобен
ужасу египетских богов перед Тифоном. Посейдон же получает в удел серые морские
воды, самую глубокую стихию на всей земной поверхности, и его неукротимое сердце не столь охотно и не столь безусловно подчиняется воле Зевса, как подчиняются
ей рожденные им ранее сыновья и дочери, поскольку он стоит почти на одной ступени с ним и может гордиться общим с ним происхождением; однако он внемлет
доброжелательному увещеванию и смиряется с подчинением, которое, впрочем, никак не отменяет одновременности. Совершенно отчетливо просматривается это отношение в пятнадцатой книге «Илиады», в том месте, где Ирида, посланница Зевса,
приносит ему следующее известие:
Отдохнуть он зовет тебя ныне от битвы, дать отдых оружью,
Войти в собранье бессмертных, или в волны морские.
Если ж ты не исполнишь его повеленья, не внемлешь,
То сам он грозится тогда, препоясавшись к битве,
Выступить против тебя; но советует он десницы его избегать;
Ибо знает себя он гораздо сильнейшим в сравненье с тобою,
И старшим к тому ж по рожденью; но сердце твое непреклонно,
Ты мнишь себя равным тому, пред которым другие трепещут.
На это Посейдон угрюмо отвечает:
Мне, кто равен ему по рожденью, смирить перед ним мою волю
Значило б верить в его превосходство, в надменные речи.
Ибо трое нас братьев, рожденных Кроном от Реи:
Теогония, 478; ср.: Илиада, 13, 355.
450
Вторая книга. Мифология
Зевс, я сам и Аид, бессмертный властитель.
На три части поделено все, и каждому в долю владенья:
Однако земля едина для всех, и также высокий Олимп.
Посему никогда не последую Зевса словам; но спокойно
Предоставлю ему со всей его силой скромную треть от всего...
Из этого же самого места, таким образом, явствует одновременно, что земля
рассматривается как общая для всех богов, ибо она есть то, что одновременно разделяет и соединяет всех. Также общим для всех местом собраний является высокий
Олимп. Зевс же — обитатель Эфира (Ζευς αίθέρι ναίων20), и поскольку он всецело
духовен, ему исключительно принадлежит широкое небо (ουρανός ευρύς21), стихия
всецело надземная.
Поскольку я начинаю греческую мифологию с Зевса, вы, естественно, можете
спросить меня: а разве до этого в греческом сознании не было ничего, не существовало никаких мифологических представлений? На этот вопрос я отвечаю: и да, и нет,
в зависимости от того, как это понимать. Греческое сознание передавалось из поколения в поколение на протяжении всего мифологического процесса, я бы сказал,
оно возрастало вместе с ним. Все прежние моменты, продвигаясь через которые мы
проследили мифологическое сознание, отложились в сознании грека лишь для того,
чтобы достичь своего полного развития и проявленности в этом моменте. Этот материал как бы передан в наследство, и он ведет свое начало от самого процесса. Мы
наблюдали этот процесс во всей его силе еще в египетском сознании, однако уже
индийское ищет освобождения от него; на индийское сознание приходится распад
материального единства, расхождение тех потенций, единство и объединение коих
до сих пор служило основанием для процесса; однако само это расхождение есть
лишь переход. Распадом материального единства был обусловлен свободный возврат к ним, и этот свободный возврат приходится на греческое сознание, которому
материал хоть и передан предыдущим моментом, однако — как уже оставляющий
сознание свободным, так что сознание поэтому располагает им как предметом совершенно свободного и осознанного осмысления. Материал греческой мифологии
еще принадлежит процессу, а следовательно — необходимости, разработка же его
есть совершенно свободное произведение властного над собой и над своим материалом сознания. В нем заложена основа поэтического, которое отличает греческую
историю богов от всех более ранних богоучений. Нам пришлось бы утверждать уже
сам такой исход процесса как необходимо следующий из прежних, предшествующих моментов. Вслед за насильственным единением, в котором потенции содержались в египетском сознании, пришел распад единства в индийском. Следом за тем
Илиада, 17'4 и ел. Шеллинг указывает, что фрагмент цитируется им по книге Фосса.
Двадцать пятая лекция
451
и другим, в свою очередь, может идти лишь единство, однако — свободное, сознательно восстановленное.
Здесь вы можете спросить меня, каким образом получается, что в этой последовательности каждый следующий народ как бы пользуется плодами опыта каждого
предыдущего? Откуда это переплетение, это сцепление, это солидарное единение
народов, в соответствии с которым каждый следующий народ перенимает процесс
именно там, где он остановился у предшествующего, каждый следующий берет на
себя именно ту роль, которую вообще, или прежде всего, оставил на его долю предыдущий? На это не может существовать никакого иного ответа, кроме как: в этом
именно и заключается порядок, закон, провидение процесса, для которого разделенные народы суть всего лишь Одно человечество, в котором имеет свершиться
великая судьба. Следом за стремлением к освобождению может идти лишь бытие
в свободе, за желанием сбросить оковы — только жизнь без оков. Мы можем сказать,
что индийский народ стал жертвой за греческий, к которому он стоит ближе всего.
Греческий народ начинает — в той свободе по отношению к потенциям, которой
индийский народ лишь достигает не без борьбы и усилий. Поэтому он может позволить себе свободно вернуться к тому материальному, от которого индийский народ
мучительно освобождается. Впрочем, тем самым отнюдь не исключается возможность того, что в греческом сознании еще ранее момента вполне свободного осмысления может быть указан подобный индийскому, параллельный ему момент, от которого, однако, греческое сознание вернулось к материальному, тогда как индийское
осталось пребывать в отвержении материального и в отвращении к нему. Вообще,
если даже греческая мифология не была сперва египетско-индийской, и равным образом не призошла ни от одной из них, — то, тем не менее, следует предполагать, что
также и в греческом сознании присутствовали соответствующие этим мифологиям
моменты. (Пеласги-кочевники. Момент забизма*.)
Мы могли бы в том, что касается свободы греческого сознания, предварительно сослаться также и на совсем другое, а именно — уже более не слепое, но свободное отношение, в котором эллин находится к богам; отношение, которое различимо
в особенности у Гомера и которое решительно отличается от того отношения к богам, которое мы наблюдаем у египтян и даже индусов и любых догреческих народов.
Однако с этим утверждением свободного, а значит, если хотите, в самом широком
смысле поэтического возникновения греческой истории богов — поэтического не
по своему материалу, но по форме — с этим утверждением вполне согласуются все
исторические данные, которые только возможно получить о возникновении эллинской истории богов. Я вновь напомню здесь о том, что Геродот — в еще, правда, до
Ср. сочинение Дорфмюллера: Deprimordiis Graeciae (О возникновении Греции) (лат.), р. 35.
452
Вторая книга. Мифология
сих пор не до конца понятом месте — говорит о духовном состоянии пеласгов, т. е.
первоначальных эллинов, а именно — что они хоть и знали богов, однако не различали имен*. Здесь, таким образом, мы имеем то состояние, в котором боги позднейшей
теогонии существовали еще хаотически, лишь по своему материалу, то состояние,
которое в еще пеласгическом, доэллинском сознании предшествовало эпохе вычленения, разделения и обособления этих богов. Лишь благодаря этому разделению или
вместе с ним эллины вступили в историческую жизнь как именно эллины; как пеласги они еще были частью доисторического человечества, которая сохранялась до тех
пор, пока не пришел ее час, и носила в своем сознании еще никак не различенных,
присутствующих лишь в своем материале, богов. Мы видим из этого изображения
Геродота, как словно бы все мифологическое прошлое давит своей тяжестью на сознание пеласгов и велит им молчать, покуда не наступает момент, когда это прошлое,
к которому они материально ничего более не могут добавить, они постигают как
предмет свободного осознания и решаются на него.
Не менее красноречиво в этом ознаменовании рассматривавшееся уже в первом
общем введении место Геродота, где он о двух поэтах, Гесиоде и Гомере, говорит:
«Эти двое дали эллинам их историю богов». Геродот при этом высказывании определенно ссылается на свои изыскания; для него было очень важно знать, когда именно, насколько задолго до его эпохи возникла эллинская история богов; и то, что она
представляла собой новость и вообще была не старше самого греческого поэтического искусства, — было для него результатом величайшей важности. Как известно,
упомянутое место Геродота дало повод ко множеству разбирательств в среде филологов и исследователей древности. По своей материи, по своему материалу мифология уходит в слишком глубокое прошлое, чтобы Гесиод и Гомер могли в этом смысле дать ее эллинам. Первому разъяснению данного места служит то замечание, что
главное ударение здесь делается на слово «теогония». Не материей мифологии, но во
всех своих моментах свободно и осмысленно выстроенной историей богов эллины
обязаны Гесиоду и Гомеру. Однако также и это не следует брать слишком буквально,
в частности в том, что касается Гомера; ибо мы нигде не видим его определенно занятым историей богов, самое большее мимоходом им упоминаются исторические
обстоятельства богов; и также и здесь встречаются примеры, когда эти обстоятельства предстают иными, отличными от описываемых у Гесиода, из каковых примеров
явствует, что история богов даже в его эпоху еще не была чем-то всецело устоявшимся, не достигла своей окончательной формы, что как раз и указывает на свободу
представления. Собственно, таким образом Геродот может лишь обозначить эпоху,
он хочет лишь сказать: та эпоха, которая дала эллинам Гесиода и Гомера, дала им
Геродот, II, 52.
Двадцать пятая лекция
453
также и завершенную историю богов. Лишь тогда, когда сознание освободилось от
мифологического процесса, стала возможной поэзия вообще. Поэтому собственно
поэзию мы находим не раньше, чем у индусов и греков. У первых освобождение от
процесса было всего лишь негативным, и ни в их способе мышления, ни в их поэзии
еще нельзя наблюдать того позитивно-свободного отношения к мифологическому
процессу, которое мы видим у греков. Лишь в результате того, что сознание настолько освободилось от необходимости процесса, что, возвратившись к нему, оказалось
способным вступить с его образами в совершенно свободное, т. е. поэтическое, отношение, — история богов могла предстать в столь развитом виде, в каком мы находим ее в Греции. В качестве доказательства того, что Геродот преимущественно
имеет в виду эпоху и хочет обозначить именно ее, может служить также затронутое
в нашем предшествующем изложении параллельное место Гесиода, который именно
то же самое, что Геродот приписывает двум поэтам — а именно, что они поделили
между богами достоинства и почести, каждому дав собственное имя и собственное значение, — приписывает Зевсу, которого после победы над силами прошлого, представленными в лице титанов, боги избирают своим главой, давая ему право
и вменяя ему в обязанность установить в их среде порядок и поделить между ними
достоинства и звания, что он и делает — о δε τοισιν έϋ διεδάσσατο τιμάς22, — почти
в тех же словах, что и те, которыми Геродот то же самое утверждает о двух поэтах.
Зевс есть собственно эллинский бог — бог, в котором все эллины суть Одно: Ζευς
πανελλήνιος23, бог эллинов в противоположность пеласгам. Лишь вместе с ним начинается собственно эллинская жизнь, эллинское существование.
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ
После того как мы сперва лишь в общих чертах были заняты поисками подхода к греческой истории богов, а вслед за этим определили ее положение относительно целого мифологического процесса, — как нам теперь следует поступать в нашем
дальнейшем исследовании, где нам предстоит дать собственно объяснение греческой
мифологии? При рассмотрении греческой мифологии следует различать: 1) ее своеобразие, рассматриваемое как момент мифологического движения. Здесь мы уже
разъясняли, что она представляет собой момент, где сознание достигло совершенно
свободного отношения к близящемуся в нем к своему завершению процессу, и отнюдь
не стремится, подобно индийскому сознанию, в муках и борьбе вырваться из-под его
власти; и именно потому, что оно уже ощущает себя свободным по отношению к этому процессу, оно в состоянии свободно вернуться к нему — окунувшись во всю ту его
материю, от коей жаждет освободиться индус, — и придать ей форму. Однако именно благодаря этому свободному отношению греческая мифология получает еще одну
сторону, а именно — ту, что она есть одновременно 2) та единственная мифология,
которая получает свое завершение в полной, непрерывной и взаимосвязанной системе
богов. Тем самым, она выходит за пределы отдельности своего момента, она становится всеобщей мифологией, какой не была ни одна предшествующая: той мифологией,
которая содержит в себе собственно ключ и исчерпывающее объяснение всех прочих.
Если пожелают узнать, каким образом греческая мифология представила себя
в жизни, то мы должны будем сослаться на Гомера; если же вопрос будет стоять
о том, каким образом она обозначила себя непосредственно в сознании эллинов, то
нам следует обратиться к поэме, носящей имя Гесиода и являющейся для нас — поскольку Гомер все же показывает нам мифологию лишь в отражении (Reflex), в жизненном преломлении, а Гесиод представляет нам ее же в том самом виде, в каком
она, развиваясь из оснований предшествующего процесса, сама непосредственно
входит в сознание, — драгоценным свидетельством в пользу всей нашей теории
мифологии .
Гомер и Гесиод были теми органами, через которые история богов выразила и одновременно также
зафиксировала себя. Ибо результат столь живого и напряженного процесса должен был быть весьма
рано высказан и определен в своих чертах, дабы позднее не претерпеть существенных искажений.
Двадцать шестая лекция
455
Наше объяснение греческой мифологии, таким образом, может следовать лишь
поэме Гесиода. Она словно бы уже совершила за нас нашу работу. «Теогония» Гесиода
есть произведение первой, происходящей из самой мифологии, философии. В мое
намерение не может входить дать здесь подробное, и еще менее того отвечающее
всем требованиям объяснение этой поэмы, ибо такая работа требует кроме философских принципов, вообще необходимых для объяснения мифологии, также и той
степени учености, которая здесь в любом случае едва ли будет уместна.
«Теогония» Гесиода, безусловно, по своему материалу есть произведение научного сознания, в которое мифология непосредственно и непроизвольно вылилась;
однако та поэма, в которой это научное сознание высказалось — или, по меньшей
мере, поэма в своем нынешнем облике — могла бы поэтому ничуть не менее относиться к эпохе*, отстоящей от мифологии значительно дальше, чем Гомер. На тот
период, к которому относится имеющийся на данный момент вариант поэмы, по
всей видимости, кроме весьма частых следов отличающегося от гомеровского языкоупотребления — кроме этих внешних знаков более позднего возникновения этой
Это могло произойти двумя способами: 1) в жизни и в непосредственном изображении нововозникшей жизни — в эпической поэзии, где мифология предстает как лишь более широко развитый
элемент всей эллинской жизни: так в Гомере; 2) мифология сама как таковая могла быть предметом
и входить в намерение как целое (как система). Геродот в том, что касается разъяснения истории
богов, признает за Гесиодом совершенно равное достоинство с Гомером. В том и другом лишь нашел
свое выражение последний кризис эллинского сознания, несмотря на то что выражается он в обоих
по-разному: в Гомере — как переход к исторической жизни, в Гесиоде же — как переход к науке. Ибо
как однОу так и другое было исключено, покуда человечество находилось во власти этого внутреннего
процесса.
Располагать момент научного осмысления (в отличие от поэмы, в которой такое осмысление нашло свое выражение и свое выстроение) на большом удалении от момента первого возникновения
имеется тем меньше оснований, что мы по существу не в состоянии учесть действия этого последнего,
полного освобождения. Этот момент был вообще удивительным, таким, наряду с которым во всей
истории дальнейших формаций и развитии едва ли можно поставить что-либо иное. Все убеждает
нас в том, что после того как однажды граница была прорвана, тут же в бешеном темпе и в мощном
движении начинают развиваться все силы эллинского духа, и в этом первом ощущении свободы, при
содействии еще всей силы, всего импульса мифологического движения, они достигли того, что позднее пришедшая рефлексия, в свою очередь, могла освоить лишь с течением времени. Следы весьма
ранней, одновременной последнему мифологическому развитию, а потому с очевидностью также
и непосредственно из него происходящей, мудрости, как раз и можно обнаружить у Гесиода; равным
образом они видны в некоторых упоминаниях Платона. Куда относятся, напр., те достаточно часто
упоминаемые Платоном παλαιοί λόγοι (древние высказывания) (греч.), — которые ведь никак нельзя
вывести из мистерий? Могут ли они по своей глубине быть чем-либо иным, кроме преданий в полном смысле, по выражению латинского писателя, свежесозданного богами рода? Я имею в виду место
Сенеки (Писъмау ХС): Non tarnen putaverim, fuisse alti spiritus viros et, ut ita dicam, a Dus récentes (Я не
отрицаю, что были мужи высокого духа, рожденные прямо от богов) (лат.) (Нравственные письма
к Луциллию). — Ср. подобное же высказывание Цицерона {Тускуланские беседы^ 1,12).
456
Вторая книга. Мифология
поэмы, по меньшей мере, в ее нынешней форме, — указывают еще и иные, более
внутренние признаки: и в частности, политические и нравственные характеристики
автора, свидетельствующие о его принадлежности к более поздней эпохе. Сюда относится прежде всего то, что он отнюдь не выказывает благорасположения к тем царям, которых всеми возможными способами стремится прославить Гомер, и в противоположность жизни героической воздает хвалу преимущественно радостям
гражданского бытия; равным образом и то, что он затрагивает довольно запутанный
вопрос о возникновении неравенства среди людей, неравного разделения богатств
и почестей, что с очевидностью предполагает известную степень развития политического мышления. Также и содержащееся в другом произведении поэта (в εργοις1)
изображение золотого века всеобщего равенства и воспоследовавших за ним все более скверных времен, весь сюжет о Прометее и тот мрачный взгляд на жизнь, который видим в его завершении и который получает равномерное распространение на
все произведения поэта — «Еще тысячи иных бедствий бродят среди людей, Земля
преисполнена зла, также и море» и т.д. — все это относится к предзнаменованиям
перемены в положении вещей, перемены общего состояния, которая совершилась
в Греции посредством перехода от рано распавшегося героико-монархического
уклада к позднейшему республиканскому. Вместе с этим распадом монархической
жизни гибель стала уделом также и собственно гомеровского мира; и бесспорно, что
наряду с другими стихотворениями Гесиода также и «Теогония» лишь к этому времени обрела, по меньшей мере, свои окончательные формы, а равно и преимущество перед Гомеровской поэзией, которая, будучи вытеснена позднее появившейся
лирической поэзией и поэзией гимнов, отошла в столь полное забвение, что лишь
позднее поднявшиеся, вновь облеченные монархической властью народные предводители, Солон и Песистратиды, смогли заново извлечь гомеровские стихи на свет.
Между тем, пожалуй, иное из того, что причисляется к различиям между Гомером
и Гесиодом и объясняется из различия в эпохах, должно быть отнесено на счет изначальной и одновременной с существованием греческой нации противоположности.
Я имею в виду противоположность между дорическим и ионическим принципами,
которая проходит через всю греческую формацию. Ныне кроме своеобразной дорической музыки и архитектуры различаются равным образом дорическая скульптура,
поэзия и философия. Характер Гесиодовой поэзии всецело дорический; и разве не
очевидно в тех различающихся способах, коими мифология представлена у Гомера
и у Гесиода, — лишь одно это единственное основоположное различие дорического
и ионического восприятия? Тот, кто подойдет непосредственно от Гомера или от преимущественно следующих гомерическому представлению писателей, напр., к Пиндару, будет немало удивлен, найдя здесь множество существенных отличий и много
такого, чего у Гомера нет и следа. В любом случае, я настаиваю на том утверждении,
что направление, которое можно видеть у Гесиода, в своем роде является столь же
Двадцать шестая лекция
457
изначальным, как и гомерическое. Пока что, однако, я не могу высказаться на этот
счет в полной мере, ибо для этого мне пришлось бы одновременно говорить и о Гомере, т. е. о величайшем, удивительнейшем и непостижимейшем явлении древности,
для чего время еще не настало. Я стремлюсь здесь вообще, прежде всего, объяснить
некоторые частности, оставляя на более позднее время свое последнее слово о греческой мифологии и о греческой формации вообще, которое будет предполагать эти
частности уже объясненными.
Я объяснил стихотворение Гесиода как произведение научного сознания, в которое мифологическое движение в его последнем моменте или в результате своего
последнего кризиса вылилось само собой и совершенно непроизвольно. Вместе с последним моментом, когда до тех пор все еще поддерживавшееся напряжение внезапно и полностью спало, сознанию сделались ясны все моменты предшествующего
движения как моменты исторические, и тогда боги прошлого сами собой облеклись
для него в формы персонажей теогонической героической поэмы. Гесиод не изобретает этих богов, он предполагает их как уже известных и существующих в сознании,
он лишь дает себе труд осветить их отношения друг к другу, а также их происхождение одного от другого; но и это он делает таким образом, что легко можно видеть:
сам он при этом находится под внушением той необходимости, которая породила
всю мифологию. Не существует поэтому — какое бы представление мы ни составили
себе об эпохе и последовательном возникновении того стихотворения, что лежит
теперь перед нами — ни более древнего, ни более истинного источника, коль скоро
речь заходит о том, чтобы показать, каким образом в эллинском сознании мифология впервые обрела черты системы, оформилась как целое; и равным образом наше
объяснение греческой мифологии будет опираться на поэму Гесиода.
Пришедшее к своему завершению мифологическое сознание должно было, как я
уже ранее однажды выразился, обрести ясность также и в отношении своего начала.
Здесь, когда оно впервые ощутило себя свободным, для него развеялось колдовское
очарование (ибо все же своего рода очарованием было то, в чем пребывало сознание
на протяжении всего процесса), для него распустилась одновременно вся ткань, все
сплетение судьбы, во власти которого оно находилось в период первого порождения
мифологии, все движение сделалось для него прозрачным от начала и до конца.
Если приблизившемуся к своему завершению сознанию должно представляться указанное состояние до всякого действительного сознания, а следовательно, и до
всякого движения, — это положенное в изначальном сознании единство потенций,
лишь разделением или напряжением которых обусловливается мифологический процесс, — то это единство по отношению к последующему эмпирическому наполнению
сознания, которое возникает именно в результате взаимного напряжения и разделения потенций, представится сознанию лишь как абсолютно проницаемое, не оказывающее сопротивления единство и глубина, как нечто вроде божественной бездны.
458
Вторая книга. Мифология
Представление об этом единстве в начале теогонии есть хаос. «Сначала был хаос».
В слове, от которого образовано слово «хаос», χάω, χαίνω, χάζω2, заключено понятие
обратного движения, ухода в глубину, открытости, распахнутости, — которое, однако, восходит к более высокому понятию неоказания сопротивления (каковое может
иметь место лишь в конкретном). Далее, это негативное первого понятия выражается
равным образом в том, что в этом же самом слове содержится также и представление
нужды, недостатка. Конечно же, именно по причине этого господствующего понятия,
отсутствия конкретности и сопротивления, слово Χάος3 стало употребляться также и по отношению к пустому пространству вообще и в особенности к воздушному
пространству; далее — вообще по отношению к только потенциальному, поскольку оно противостоит актуальному, уже определенному, имеющему характеристики,
а значит, оно, безусловно, могло употребляться также и для обозначения лишенной
каких бы то ни было определенных форм и свойств материи, хоть я нигде у греческих
писателей и не видел примеров такого значения, ибо в частности Платон, даже в тех
местах, где, казалось бы, короче и проще всего было воспользоваться именно этим
выражением, не прибегает к нему, напр., в «Тимее», где он говорит о матери и основании всего чувственного, которая носит имя не земли, не воздуха, не огня, не воды,
и столь же мало есть нечто из того, что происходит из них, и даже не нечто из того,
из чего происходят они сами, но есть нечто совершенно незримое и безобразное*.
Здесь, таким образом, уместно было бы как раз понятие хаоса, если бы оно для греков
действительно обозначало бесформенную и безобразную материю. Однако очевидно,
что это есть более высокое и более метафизическое понятие.
Безусловно, еще того менее верным является понятие хаоса, дошедшее до нас
благодаря Овидию, согласно которому оно означает состояние материального смешения всех элементов, — то, которое в физических космогониях под тем или иным
именем предшествует упорядочению и обустройству мира. Едва ли найдется пример
того, чтобы какой-нибудь грек употребил это слово для обозначения такой только
физической фикции. Хаос есть спекулятивное понятие, ибо в известной клятве Сократа у Аристофана среди понятий философии, выходящей за установленные богами пределы и враждебной им, — оно помещено в самом верху. Это слово обозначает
чисто философское понятие, в основе которого лежит представление об относительной пустоте (а именно, по отношению к последующему эмпирическому заполнению)
и о бессоставности .
* Тимей, 51 А.
Для Парацельса, которого — так же, как и его последователя Якова Беме — можно рассматривать
как в известной мере даже мифологическую натуру и для которого в силу этой его естественной
инспирации те или иные слова обретали ясность неким особым путем — для него хаос также означает нечто, не оказывающее сопротивления и потому открытое. Если, напр., о гномах, которыми он
Двадцать шестая лекция
459
Предполагать такое чисто философское понятие хаоса меня заставляет в особенности аналогичный персонаж в близко родственной греческой мифологии — однако я
отмечу: сам хаос, о котором ничего не известно Гомеру, личностью не является, и равным образом его не мыслит себе как личность Гесиод, — зато в другом богоучении
в начало всякого развития поставлен образ, который, по моему мнению, всецело замещает собой хаос. Я имею в виду древнеиталийского Януса, который, если не по своему
имени — что, конечно, не вдруг будет очевидно для каждого, даже если я приведу тому
доказательства, — то все же по своему понятию целиком и полностью соответствует
хаосу: упоминание, которое одновременно дает мне повод высказаться по поводу того,
что в этом близящемся теперь к своему завершению исследовании не было отведено
особого места для мифологий ни этрусков, ни латинян, ни римлян. В данной связи я
хочу лишь заметить, что после проведенных изысканий, которые я не преминул произвести, мне пришлось всецело согласиться с мнением других исследователей, согласно которому эллинская мифология — с одной стороны, и италийские — с другой, хоть
и вполне независимы друг от друга, тем не менее являются кровными сестрами, собственно ничем не отличающимися в своем исходе: все они имеют один и тот же исход,
во всех положен один и тот же конец мифологии; различаются же они лишь в своих второстепенных определениях и в том, что отдельные моменты, которые, напр.,
в греческой мифологии имеют подчиненное значение, в других получают большую
выраженность. Эти италийские мифологии, таким образом, мы будем использовать
лишь субсидиарным образом, т.е. мы будем цитировать их лишь там, где какое-либо
из наших утверждений в результате этого получит лучшее объяснение либо обоснование. При настоящем положении вещей особое исследование этих мифологических
систем могло бы представлять собой лишь ученый интерес. Кроме того, именно в этих
италийских религиях многое до сих пор остается весьма темным и спорным, так что
мне, для того чтобы сделать их предметом особого исследования, пришлось бы употребить на это больше времени, нежели то, которым я располагаю. Хочу в этой связи напомнить, что мне пришлось оставить за пределами рассмотрения также и иные
вообще занимается довольно подробно, говорит: они беспрепятственно проходят сквозь скалы,
камни, стены, ибо для них все эти вещи суть χάος , т. е. ничто — не столько в том смысле, в каком
воздух нам не представляет преграды, сколько в том, что телесное для них собственно вообще не
существует: таким образом хорошо видно, насколько далек он от того, чтобы мыслить под хаосом
смешанную массу, неразбериху из всех космических элементов, примерно так, как Овидий описывает хаос в выражениях, которые даже и для самой крайней корпускулярной, или, как теперь говорят,
молекулярной философии, все же будут представляться чрезмерно осязательными:
Lucidus hic aer et quae tertia corpora restant,
Ignis, aquae, tellus, unus acervus erant.
(Светлый сей воздух кругом и все вещества остальные —
Пламя, вода и земля были одним веществом) (лат.) (Перев. Ф.А.Петровского)
460
Вторая книга. Мифология
богоучения, в особенности такие, которые собственно не являются оригинальными
и — по меньшей мере в том виде, в каком они дошли до нас — неоспоримо представляют собой искажения того или иного первоначального (а лишь первоначальные моменты мифологического движения входят в сферу нашего исследования). Далее, я не
уделил внимания также и тем [богоучениям], развитие которых мы не в состоянии
проследить вплоть до их первых начал. Я здесь имею в виду прежде всего древнегерманскую и скандинавскую мифологии. Первую нам пришлось бы не просто реставрировать, как реставрируют произведение искусства, в котором недостает тех или
иных частей, но нам пришлось бы буквально заново воссоздавать ее по нескольким
крохотным фрагментам; несмотря на то что скандинавскую мифологию ее ревностные приверженцы выводят из Азии, они вместе с тем признают, что ее представления приспособились к условиям Севера, т. е. что она утратила свой первоначальный
характер (уже хотя бы под влиянием христианства). Заниматься же подробно такими возникшими лишь случайно (т. е. в результате альтерации4 какого-либо первоначального [богоучения]) формациями мы здесь не можем .
Что же, теперь, касается древнеиталийского Януса, то он, безусловно, представляет собой слишком значительный образ и обладает слишком большой объясняющей силой для понятия хаоса, для того чтобы мы не упомянули его в связи
с последним и не уделили ему места в нашем изложении. Перед этим мы хотели бы
лишь несколько глубже проникнуть в определенное понятие хаоса; ибо до сих пор
мы оставались лишь в его общей части; Янус же есть определенное выражение хаоса.
«Вот, сперва, — говорит Гесиод, — т.е. раньше всего, — был хаос». Общее представление хаоса, как уже отмечалось, берет его как rudis indigestaque moles5, как смешение материальных элементов, в котором невозможна какая бы то ни было форма.
Я показал, что это понятие, по меньшей мере, не является греческим, не греками связанным со словом. Если бы в хаосе мыслилось смешение, то он мог бы быть, прежде
всего, смешением имматериальных потенций. Если же мы теперь напомним о ранее
уже приводившемся примере, — а именно о рассматривающемся в своей сущностности, т. е. как простая точка, круге, — то здесь одна и та же точка должна быть объяснена как периферия, как диаметр и как центр, т.е. она не может быть высказана как что-то одно из них: мы не знаем, как что из них в особенности нам следует
определить ее; а следовательно — если бы могла идти речь о смешении — мы сами
пребываем в своего рода смешении, когда различаем в мыслях нечто, чего не в силах
различить в самом предмете, однако точка поэтому еще не есть нечто смешанное, не
есть хаос в том смысле, где под ним подразумевают смешанный агрегат. Однако мы
Следовало бы отметить здесь также и противоположность германского и славянского элементов.
Германское богоучение, насколько о нем вообще может идти речь, имеет своим прообразом азиатскую мифологию, славянское же, напротив, — состоит во взаимосвязи с буддизмом.
Двадцать шестая лекция
461
имели бы полное право сказать: точка есть круг в своем хаосе, или она есть хаотически рассматриваемый круг. Подобным же образом легко видеть: в Боге есть а) бытие
в возможности его сущности, т. е. то, благодаря чему он может быть отличным от самого себя, неравным самому себе, Ь) с необходимостью самому себе равное и именно
поэтому чисто сущее его сущности. Однако лишь могущее быть себе неравным неотличимо от необходимо себе равного, и именно поэтому оба они также неотличимы
от третьего, в неравенстве себе пребывающего себе равным — от того, что как иное
(как объект) продолжает оставаться самим собой (субъектом) — от духа. Следовательно, также и здесь мы полагаем в нашей мысли тройственность, которая в самом
предмете не может быть разведена порознь; в Боге же, однако, тем самым еще не
наступает смешения; тем не менее, мы можем сказать, что три потенции до их расхождения суть для нас хаос, т. е. они для нас пребывают друг в друге и не могут быть
разведены порознь. Хаос, следовательно, 1) по своему истинному понятию не есть
физическое единство только материальных, но метафизическое единство духовных
потенций, однако он есть 2) столь же мало единство неопределенного или бесконечного множества элементов (как обычно мыслят себе материальный хаос), но он
есть определенное множество также определенного и абсолютно конечного числа
потенций.
В особенности последнее определение проявляется в образе Януса; таким образом, если бы это внешнее отношение оказалось одновременно внутренним, коренящимся в самом предмете, то в целом параллельную греческой римскую мифологию
можно было бы обозначить и как шаг вперед — на том основании, что изначальное
единство существует в ней уже не просто как хаос, но как хаос с различением его моментов. Янус в соответствии с этим действительно представлял бы собой лишь как
бы персонифицированное, т. е. совершенно определенное понятие хаоса.
Дабы показать это ближе, прежде всего замечу, что несмотря на то, что упоминается статуя Януса, здесь идет речь не о всей фигуре, но лишь о голове Януса, имеющей два лица, смотрящих в разные стороны. Голова Януса, таким образом, представляла бы собой то единство, которое подразумевается под хаосом, однако уже
в момент начавшегося расхождения, а значит, — также и различимости. Я, следовательно, не говорю: Янус есть хаос в его чистом и абсолютном виде, но утверждаю,
что он есть уже распознаваемый, расходящийся в своем понятии, или, что сводится
к тому же, — пребывающий в процессе расхождения, хаос. Два направленных в противоположные стороны лица представляли бы собой первоначально обращенные
друг к другу потенции, относящиеся одна к другой, как + и -. Покуда то, что должно
представлять собой чистую возможность без бытия, существует в своей негативности, оно полагает чистый плюс, чистое бытие, в котором точно так же отсутствует
возможность: оно полагает его и притягивает его к себе, словно бы покрывая себя
им и представляя лишь Одну сущность. Здесь обе потенции обращены вовнутрь,
462
Вторая книга. Мифология
а потому вовне = 0 = хаос. Здесь единство погружено в само себя, неразличимо
и словно бы являя собой бездну: так мыслится хаос. Если же то, что должно было
быть — поднимается к +, то оно уже более не притягивает к себе по своей природе
позитивное (ибо само оно есть позитивное не по своей природе, но лишь случайным
образом), а отталкивает его. Обе потенции отвращаются друг от друга и стоят с лицами, обращенными в разные стороны. Следовательно, в римском Янусе представлено именно такое вовне открытое единство. Если, таким образом, Овидий в «Фастах»
говорит о Янусе даже следующее: «Tibi par nullum Graecia numen habet6», — то это
верно, если под numen7 понимать личную сущность. Ибо хаос все еще мыслится безлично. Приводят, правда, еще и греческие монеты, чаще всего с Тенедоса8, но иногда
также и некоторые афинские, на которых изображено нечто вроде головы Януса; однако весьма сомнительно, что два лица на этих монетах непременно должны представлять собой голову Януса. У последнего оба лица являются мужскими и имеют
бороды; на указанных же монетах одно из лиц — женское. Возможно, таким образом, что тем самым обозначается не что иное, как та всеобщая, проходящая через
всю греческую мифологию, идея соединения мужской и женской изначальной силы.
В добавление ко всему на этих же самых монетах присутствуют изображения знаков Солнца и Луны, из чего, конечно, еще никак нельзя сделать вывод о том, что
изготовитель при этом мыслил себе Солнце и Луну как нечто иное и высшее, нежели простые символы мужской и женской изначальной силы. Таким образом, у нас
никоим образом нет причин усматривать на этих монетах голову Януса, хотя, впрочем, и остается возможность того, что посредством такого сопоставления мужского
и женского — обращенных в разные стороны — лиц создатель монеты равным образом хотел выразить некое изначальное единство, которое, само будучи бесполым, как
и хаос, являет собой некий Neutrum, либо лишь в непроявленном виде (лишь потенциально) содержит в себе оба пола, которые начинают различаться только в момент
расхождения единства. Ведь изначальные мифологические потенции В и А2 также
в дальнейшем течении процесса предстают нам как мужское и женское начало. Но
тем самым были бы даны лишь две потенции. Далее, однако, на тех же самых римских
асах между двумя лицами помещается символ, который, очевидно, является знаком
третьей потенции. Этот символ между двумя обращенными в разные стороны головами есть прибывающая Луна*. Древние объяснения данного символа относят это
Этот символ можно найти на изображении, содержащемся в Millins Galerie Mytholog. О нем г. проф.
Герхард говорит в адресованной мне записке: «В Janus Lunatus y Миллина (I, 5. 6) с тяжелым сердцем
приходится признать довольно свободный рисунок с ныне исчезнувшего оригинала Musco Arigoni.
Напротив, другой экземпляр, похоже, не вызывает никаких сомнений, а именно содержащийся в одной из тетрадей Tresor de Numismatique, pi. I, Nro. 13., который выполнен в механически довольно
верном рисунке и о котором в тексте этого произведения р. 6. obs. 5 говорится как о Janus Lunus».
Двадцать шестая лекция
463
к тому, что Янус есть έφορος του παντός χρόνου9, хранитель совокупного времени, т. е.
бог времени; однако: 1) не вполне ясно, каким образом это понятие властвующего
над временем бога хотели выразить через изображение растущей Луны; 2) не ясно,
выражал ли бы этот знак в данном случае Януса в целом, или он, в свою очередь,
должен был выражать понятие целого Януса. Однако гораздо более вероятно, что
посредством того символа, что изображается на римских асах, действительно обозначается нечто третье, а следовательно, — также всего лишь потенция; ибо там, где
обозначены два, будет естественно, если добавленный символ будет обозначать не
целое, но также нечто определенное, т. е. третье. К этому следует также добавить, что
на других асах вместо растущей Луны изображается другой символ, которому даже
сам Экхель* не берется дать ближайшее определение; он говорит лишь: Protuberat
quid flori, forte Loto simile10; также и в «Graevii Thesaurus»11** изображенный в облике
бога Янус держит в руке трехлепестковый цветок; что бы это ни был за цветок, очевидным является то, что он представляет собой трехвершинный символ, которым
обозначена третья потенция, либо потенция, объединяющая собой всю триаду.
Однако каким же все-таки образом растущая Луна должна символизировать собой третью потенцию? Ответ. Растущая Луна есть, прежде всего, образ будущего,
и именно неминуемо грядущего, т.е. образ еще не сущего, однако быть должного;
третья же потенция в себе есть потенция будущего, и также в учениях мистерий
всегда представляется как не сущее, но грядущее (на своей голове Гор тоже имеет
изображение растущей Луны). Именно тем самым, что это третье все еще мыслится в приближающемся движении, задано также и то, что оно изображалось не как
личность (через человеческое лицо), но лишь обозначалось через общий символ.
И, таким образом, мы имели бы в голове Януса наиболее совершенный символ трех
изначальных потенций — которые, согласно ранее объясненным понятиям, относятся друг к другу как бытие в возможности, быть вынужденное и быть должное,
символ этих потенций в их расхождении, однако указывающий также и на их первоначальную нераздельность. Тем самым, также обрело бы совершенное образное выражение то высшее понятие, из которого мы исходили во всем нашем объяснении
мифологии. Наш принцип, таким образом, был бы признан как конец и завершение
мифологии.
Между тем, все то, что мною до сих пор сказано по поводу идеи Януса, я рассматриваю в качестве не более чем доказательства того, что в образе Януса присутствуют элементы такого высшего значения, какое мы желаем в нем усматривать, т. е.
в качестве доказательства того, что подобное истолкование данного образа является
возможным. Однако следует ли отсюда, что оно является также и необходимым? Не
* Doctr. Num. Vet, I, p. 5 и 215.
** Ant. Rom., VIII.
464
Вторая книга. Мифология
является ли то предпочтение, которое мы отдаем ему, всего лишь следствием односторонней склонности к так называемым возвышенным истолкованиям, в то время
как под рукой имелись объяснения гораздо более простые и внятные рассудку? Как
естественно было бы, напр., в двух ликах Януса видеть прошлое и будущее вообще —
а поскольку приходящие на смену один другому времена и временные периоды находятся в таком отношении друг к другу, что конец одного одновременно означает
начало другого, сколь естественно было бы обозначить начало года таким двойным
символом, от которого получил бы свое название также и его первый месяц! Безусловно, если бы мы не имели перед собой ничего, кроме самого символа, и знали бы
в самом лучшем случае о том, что Янусу посвящались все двери и переходы, то можно было бы удовлетвориться, сказав, что образ Януса будет уместен повсюду, где разделяются два состояния, где различаются движения вперед и назад — одним словом,
что Янус есть именно лишь символ прошлого, настоящего и будущего вообще. Однако
если теперь, напр., Макробий свидетельствует, что в наиболее древних салиарийских
стихотворениях Янус прославляется как бог богов (Saliorum antiquissimis carminibus
Deorum Deus canitur12*), если он же упоминает, что Янус в хориямбах Сульпиция называется principium Deorum13, — то эти выражения доказывают, что Янус отнюдь не
причислялся к тем богам, что возникли лишь в результате мифологического процесса, но напротив, рассматривался как источник и единство всего мира богов. Являться же таковым он может лишь в том случае, если представляет собой единство богов,
инициирующих сам этот процесс, т.е. формальных богов. Носить имя Deorum Deus
и principium Deorum он может — лишь будучи единством тех изначальных потенций, посредством разделения коих только и полагается теогонический процесс, т. е.
полагаются боги вообще. Именно в пользу этого говорит тот факт, что на монетах
с изображением Януса кроме иных атрибутов присутствуют также и так называемые
шапки Диоскуров (Dioskurenhute), о которых я здесь не могу сказать ничего более,
кроме того, что они суть знаки, символы именно тех самых неразрывно переплетенных между собой потенций, которым греки и римляне равным образом поклонялись под именем Кабиров и которых этруски, по словам Барро (Вагго), называли Dii
consentes et complices14, поскольку они лишь вместе могут возникнуть, и лишь вместе умереть**. Эти знаки, таким образом, указывают на то, что Янус имеет непосредственное отношение к этим формальным богам, и именно такое, что он есть бог этих
богов, как и сами они в свою очередь называются Deorum Dii 15 по отношению к происходящим от них материальным богам, что дает нам следующий восходящий ряд.
Макробий. Сатурналии, I, 9.
Quia oriantur et occidant una, Varro (Arnob. Adv. Gent., Lib. III, с 40 Or.) (Так как рождаются и умирают вместе, Варрон) (лат.) (Арнобий Афр. Против язычников, кн. III). Ср.: Божества Самофракии,
прим. 115.
Двадцать шестая лекция
465
В самом низу только ставшие или порожденные боги (конкретные, соответственно
телесным вещам природы, проявления В). Над ними — инициирующие (причинные)
боги, которые не порождены, но порождают, которые суть сами теогонические силы.
Последние настолько же возвышаются над ними, насколько над конкретными вещами природы возвышается эта триада причин, благодаря совместному действию которых, согласно древнему учению, все происходит. Итак, эти боги, которые являются
чистыми причинами, не просто пребывают выше ставших, но, будучи их общими
причинами или принципами, являются, в свою очередь, богами этих богов. От них
же, теперь, еще большее расстояние — не философское или вообще научное или художественное, ибо мы имеем здесь дело с необходимым, продлевающим себя согласно своему собственному внутреннему закону, идущим до самого конца, процессом:
над Deorum Dus не случайным образом, но вследствие необходимого продвижения,
в качестве Deorum Deus, стоит то единство, из которого возникли они сами. Если
Янус с древнейших времен чествовался как бог богов, если он носил имя principium
Deorum, то это не могло иметь никакого иного смысла. Признание Януса как такового, как principium Deorum в этом смысле, находит свое выражение также и в том, что
во всех жертвоприношениях и молитвенных обращениях, какому бы божеству они
ни предназначались, он упоминается в первую очередь. Invocatur primum, cum alicui
deo res divina celebratur16, — говорит Макробий*; и Цицерон**: Quumque in omnibus
rébus vim haberent maximam prima et extrema, principem in sacrificando Janum esse
voluerunt17. Initiator18 есть обычное имя Януса. Некоторые пожелали усмотреть затруднение в том, что таким образом выходит, будто в латинской и этрусской системах
богов приняты два верховных бога, а именно — Янус и Юпитер. Однако если Янус
и называется верховным, то в совершенно ином смысле, нежели в том, в котором так
зовется Юпитер; ибо этот последний есть глава лишь материальных богов. Впрочем,
я не слышал, чтобы он назывался именно верховным, но знаю, что его звали первым.
Затруднение возникает из-за того, что эти два понятия смешивают. Юпитер является
верховным по отношению к материальным богам, но не по отношению к Янусу; он
есть верховный в качестве последнего, в котором все они получают свое завершение.
Барро говорит: Jovipraeponitur Janus, quia pênes Janum sunt prima, pênes Jovem summa.
(— prima enim vincuntur a summis, quia licet prima praecedunt tempore, summa superant
dignitate19)***. Здесь, таким образом, отчетливо различаются prima и summa. Янус постольку не есть верховный, поскольку понятие верховного является относительным,
и верховный бог предполагает вне себя иных, нижестоящих. Янус же есть бог, вне
Макробий. Сатурналии, I, 9.
О природе богов, II, 27.
Ср.: О божествах Самофракищ с. 104.
466
Вторая книга. Мифология
которого не мыслится никакого иного. Он есть, как сказано, изначальное единство
и источник всех богов.
После всего этого мы едва ли ошиблись, поставив Януса не в числе других богов, не на одной линии с ними, но в самое начало совокупной системы богов и, тем
самым, — параллельно хаосу Гесиода. При допущении этой предпосылки все прочее
получает объяснение само собой.
Сюда относится, прежде всего, тот религиозный обычай Рима, по которому в период войны врата Януса стояли настежь открытыми, во времена же мира держались
затворенными. Этому обычаю пытались дать объяснение через предположение о том,
что то святилище Януса, которое в период мира пребывало затворенным, представляло
собой остатки древних, ведущих во враждебные сабинские земли городских ворот, которые по позднейшем расширении города вскоре очутились в самом его центре, служа
всего лишь в качестве обыкновенного прохода; этот религиозный обычай, таким образом, должен вести свое начало от обыкновенной меры предосторожности в древних войнах против сабинян. Действительно, в периоды войн, когда враг стоит близко, городские ворота становятся важным постом; однако всякий ожидал бы, скорее, того — что
в период мира они будут стоять открытыми и, наоборот, — будут закрываться во время
войны. В Риме же мы наблюдаем как раз противоположное. Как же это пытались объяснить? Даже уже и в самое недавнее время Буттманн — последний из тех, кто подробно
занимались Янусом, — не сумел найти лучшего объяснения, чем то, которое дано еще
Овидием: ut populo reditus pateant ad bella profecto20; итак, ворота оставляли открытыми
для того, чтобы разбитая армия могла как можно скорее укрыться за городскими стенами. Однако такая забота о возможностях отхода представляется мне совсем не в духе
этих mascula proies21 Ромула; она напоминает мне то высказывание, которое во время
революционных войн я услышал от офицера одной разбитой армии, сказавшего, что
в случае поражения всегда известно, куда идти, а именно — домой; в случае же победы
или продвижения вперед дело обстоит куда более неопределенно. Это объяснение, таким образом, едва ли нуждается в опровержении, и коль скоро у нас имеется основание
предположить, что Янус есть высшая идея, а именно — само первоначальное единство,
то для нас не составит большой трудности усмотреть в этом религиозном обычае римлян отношение более высокое, нежели к простой войне. Если, кроме этого, мы примем
во внимание, какое глубокое нравственное и религиозное основание должно было быть
с самого начала дано первым политическим институтам Рима, дабы оно могло охватить
собою стремительно и неуклонно растущее величие этого государства в дальнейшем
историческом ходе, — мы будем в большей мере склонны также и в отношении этого
обычая предполагать более глубокое и одновременно религиозное значение.
Покуда эти изначальные потенции обращены друг к другу, а значит, вообще
вовнутрь, до тех пор единство вовне представляется как покой, глубокий мир; как
только единство открывается, распахивается вовне, т.е. как только эти же самые
Двадцать шестая лекция
467
потенции обращаются наружу и, тем самым, начинают расходиться, — начинается
война. Если, поэтому, в Риме отворенные врата Януса означали войну, а закрытые —
мир, то это могло происходить лишь от представления, которое недалеко отстояло от высказанного позднее: представления о том, что война есть отец всех вещей
(πόλεμος απάντων πατήρ22) — учения, которое, как и иные из древнейших спекулятивных истин, также могло представлять собой знание, перенесенное с мифологической точки зрения на научную. Янус как единство, которое, будучи погружено
в себя, вовне являет покой и мир, а раскрываясь, точно так же становится причиной
той войны и той борьбы, в которых, собственно и единственно имеет свое основание продолжение существования вещей, — Янус есть поэтому также единство мира
и войны, единство единства и противоположности*, идея не слишком высокая для
того — очевидно образованного историографами, т.е. взращенного на пифагорейских идеях — Нумы Помрилия, который впервые закрыл врата Януса в знак мира.
Обычное выражение, которым упоминается закрытие Януса: Janum Quirinum
clusit23; однако известное место Горация гласит: vacuum duellis Janum Quirini clausit24,
а поскольку здесь janus употреблен как Apellativum25 и означает «проход», то отсюда
явствует, что Quirinus было лишь другим именем бога Януса; если только не пожелать из того обстоятельства, что Юлий Цезарь однажды в сердцах и для того, чтобы
пристыдить своих воинов, назвал их Quirites, a Quirites обычно обозначает «мирные
граждане», вывести то различение, что Quirinus означало исключительно мирного
Януса, т. е. затворенного; во всяком случае, отсюда становится понятным то высокое
значение, которое имеет Qurinus в римской народной вере: в нем было положено
высшее единство самого римского народа, и потому понятно чувство, с которым,
26
напр., Гораций призывает Августа: Laetus intersis populo Quirini .
Как известно, покинувший сферу видимости Ромул отождествляется с Quirinus,
в который он, собственно, отходит. Вместо того, следовательно, чтобы, как обычно, рассматривать Quirinus как имя обожествленного Ромула, было бы правильнее
сказать, что этот первый царь Рима, напротив, представлял собой лишенного своей
божественности Quirinus'a, и это было бы еще одним доказательством в пользу того,
что этот первый царь Рима вместе со своим братом Ремом и своим преемником (Нумой), — что все они вместе суть лишь мифологические потенции; первоначальная же
история Рима проистекает отнюдь не из исторических песен героического характера, как предположил один знаменитый и глубокий исследователь, но, напротив,
представляет собой низведенную до исторической точки зрения высшую, а именно — божественную, или мифологическую, историю; и равным образом из того,
что, коль скоро однажды признано высшее значение Януса, легко уяснить, что имя
Quirinus может происходить не только от сабинского curis (копье), этимология,
Janus Clusivius и Janus Patulcius — суть одно по Макробию {Сатурналии, I, 9).
468
Вторая книга. Мифология
которая, кстати, основывается исключительно на авторитете позднейших римских
писателей. Если мне позволено высказать на этот счет свое предположение, которое
я, правда, не могу представить здесь подробно, то я скажу, что Quirinos происходит
от queo, quire27, — то же, что и posse. Ранее упоминавшиеся Кабиры носят у римлян
имя Dii potes 28 (от pos, potis, откуда pos-sum, я способен, в состоянии). Они носят
имя Dii potes не только в силу общего понятия их могущества, не как могущественные вообще (ибо могущественны, в конечном итоге, все боги), но как божества, которые представляют собой чистые потенции, чистые причины и возвышаются над
материальными богами. Янус же теперь как изначальное единство есть как бы также
потенция этих потенций, центр, в котором они сами еще потенциальны — т. е. потенциальны по отношению к действующему состоянию, в котором они пребывают
по своем разделении или в обоюдном напряжении. Quirinus, таким образом, как источник этих потенций, как тот, в ком заключена всякая возможность, как сам изначально могущий — был бы pênes quem или in cujus potestate omnia sunt 29 .
Я поэтому склонен рассматривать как вполне серьезное предположение прежде
упомянутого исследователя то, что он в качестве того латинского, однако хранимого
в тайне имени Рима, того, о котором говорит Макробий, предполагает именно имя
Quirium, пусть даже он и дает ему совершенно иное истолкование. Это предположение представляется мне тем более вероятным, что Quirium в известной мере есть
лишь латинское соответствие для греческого 'Ρώμη30, которое ведь также означает
силу, мощь, способность, potentia. A если бы даже это выведение из quire, то же, что
posse, исходя из каких бы то ни было соображений было опровергнуто, то в этом
случае я не побоялся бы объяснить, что Quirinus есть всего лишь смягченный вариант произношения (или равным образом могущее быть подтвержденным аналогами стяжение) от Cabirinus, и таким образом он представлялся бы как источник
и средоточие Кабиров, тех изначальных потенций, что являются причинами всего.
Результат был бы в точности таким же. Разницу в количестве первого слога в quire
и в Quirinus и второго в Cabirinus я не стал бы рассматривать как серьезное возражение: существует достаточное количество примеров (и в дальнейшем мы с вами
сможем обнаружить некоторые) того, что количество исходных слогов в nominibus
propriis претерпевает изменение. Однако все это вопросы второстепенные. Наш
главный постулат заключается в том, что Янус есть образ, параллельный греческому
хаосу, а следовательно — действительно изначальная потенция всей мифологии. Для
этого утверждения я в качестве окончательного, решающего доказательства приведу
стих Овидия — слова, которые он вкладывает в уста Януса, где тот ясно говорит:
Me chaos antiqui (nam sum res prisca) vocabant .
Хаос назвали меня древние, ибо я существую от века. (Фасты, 1,103).
Двадцать шестая лекция
469
Эти слова, очевидно, родились отнюдь не в голове самого Овидия; его песнь
о Янусе в начале «Фаст» содержит, как мы уже показали на одном из примеров,
в остальном лишь довольно незначительные воззрения; следовательно, во времена
Овидия уже существовало и имело широкое хождение предание о том, что Янус —
есть то же самое, чем в еще более древние времена, у греков, являлся хаос. Нельзя объяснять этого излюбленным многими, однако же, по сути — весьма плоским
образом: оба сравниваются лишь потому, что хаос у греков был началом, а в римской мифологии Янус также есть все начинающий и все собой открывающий. Точка
сравнения лежала много глубже, и она лежала в самом имени, которое теперь уже
всецело решает. Хаос происходит, как сказано, от основного слова χάω 31 , а это означает: «быть открытым», «разверзнуться», «зиять» в том смысле, в каком мыслится
разверзнувшейся или зияющей пропасть или всепоглощающая бездна. Откуда же
теперь может происходить Янус? По мнению Цицерона, он может происходить от
ео 32 , т.е. Янус стоит вместо Eanus*. Конечно, можно проходить через ворота или
арку, однако можно также идти и по дороге, где нет ничего подобного; почему же
тогда Eanus превратился в Janus? Далее, хотя и не существует глагола io, но зато есть
глагол hio 33 , и это латинское слово означает совершенно то же самое, что и греческое
χάω, χαίνω34: быть открытым, — и Janus, или Ianus, стоял бы вместо Hiàhus. Такое
столь близлежащее, столь малоученое выведение едва ли могло иметь право на обнародование, если бы оно, в свою очередь, не опиралось в свою поддержку на одного
из писателей древности. Я не хочу ставить в упрек моим предшественникам то, что
они, по-видимому, проглядели это выведение у Феста (Festus); я ведь и сам пришел
к этому выведению вполне независимо от него, следуя одной лишь необходимости
понятий, и лишь позднее обнаружил, что оно уже содержится у упомянутого писателя, не под собственно «Janus», но там, где он объясняет слово «хаос». Это объяснение звучит у Феста** следующим образом: Chaos appellat Hesiodus confusam quandam
ab initio unitatem35. (Confusa, правда, согласно прежним замечаниям, есть не вполне
верное слово, однако добавление ab initio показывает, что хаос по меньшей мере не
есть вторичное, возникшее благодаря смешению уже имеющихся и внеположных
друг другу элементов, но изначальное, примитивное единство. Я позволю себе обратить внимание еще на слово unitatem, которое показывает, что когда хаос был
определен как изначальное единство, это не было следствием привнесения в его понятие какой-то новейшей философской идеи, поскольку Феста, безусловно, нельзя
упрекнуть в знакомстве с современной ему философией, и уж тем паче в том, что он
присягнул ей на верность.) Итак, все место в непрерывной взаимосвязи звучит так:
Chaos appellat Hesiodus confusam quandam ab initio unitatem hiantem patentemque in
О природе богов, II, 27.
De significatione verborum (О значении слов) (лат.), р. 52, ed. С. О. Müller.
470
Вторая книга. Мифология
profundum, ex eo et χαίνειν Graeci, et nos hiare dicimus. Unde Ianus detracta aspiratione
nominatur ideo, quod fuerit omnium primus, cui primo supplicabant velut parenti, et a
quo rerum omnium factum putabant initium36. Если теперь, после приведения этого
места, мы посчитаем доказанным не только объяснение имени, но и самого Януса
из образа, параллельного хаосу, то мне кажется, я должен здесь заметить, что ведь
и Буттманн — в соответствии с теми предикатами, которые повсюду даются этому
богу, а также с тем высоким местом, которое отводится ему во всех молитвенных обращениях, жертвоприношениях, и даже простых житейских предприятиях, — также
нашел невозможным считать Януса простым богом дверей и ворот. Поэтому он высказывает мнение, что Янус, конечно же, есть исконно древний верховный бог этого
народа, который, по всей видимости, ранее имел гораздо большую сферу божественности; и здесь имя Diana, которое, будучи очевидно составленным из diva или dia
Jana37, предполагает в себе Jana, дает нам достаточный намек, ибо ведь Diana безо
всякого сомнения есть Luna, a чем же, в таком случае, иным может быть Janus, если
не Sol, Солнцем? Что касается имени Diana, то я бы предпочел — если допустить,
что происхождение Януса выяснено нами верно (в чем еще остаются некоторые сомнения) — видеть в Di, скорее, диримирующую38 латинскую частицу и объяснить
Диану как родоначальницу двойственности, как разделяющую Януса, ибо в основе
уже расходящегося, видимого и доступного взгляду Януса лежит Янус незримый,
еще погруженный в самого себя. Такое объяснение никак не выглядит невероятным,
ибо данное божество также и без этого моего утверждения считается родоначальницей двойственности и напряжения; на это указывает даже сам ее атрибут, ибо одним
из образов, в которых чаще всего представлялась рожденная с помощью перемежающихся периодов напряжения и спада мировая гармония, был образ лука, βιός39,
который был тем более удачен, что одним лишь ударением отличается от βίος40,
«жизнь». «Диана» в этом случае означало бы «радующаяся луку»; как первый момент натяжения лука, который должен быть напрягаем вновь и вновь, жизнь никогда не возвратится в ничто. Напротив, ее связь с Луной, во всяком случае, не является примитивной, но лишь производной; да и, пожалуй, нашим воззрениям вообще
уже более не дано единообразно свести все богатство мифологии к Солнцу и Луне,
ибо ведь даже и по Буттманну Юпитер и Юнона первоначально представляют собой не что иное, как небо и Землю: лишь позднее, когда понятие божества получает более достойное оформление, также и Janus и Jana, Juppiter и Juno принимают
более духовное значение и отделяются от этих двух великих фетишей; ибо также
и в этом — в том, что он переносит обозначение фетишей, которые подходят лишь
к более позднему, ограниченному и в высшей степени подчиненному моменту мифологии, на оба великих светила, являющиеся главными предметами первоначального поклонения, — Буттманн продемонстрировал свою чрезмерную уступчивость
и зависимость от малообоснованных взглядов своих предшественников. Но откуда
Двадцать шестая лекция
471
же теперь имя для, таким образом, стоящего несомненно выше бога? — Что ж, дело
весьма просто: приблизительно так же, как латинское jugum указывает на греческое
ζυγόν41, Janus указывает на древнедорийское Ζάν42, a Jana — на Ζανώ43, которое якобы
означало «Нега». Однако, — так должен звучать следующий вопрос, — каким образом, если это верно, верховный бог неба спустился до этого почти исключительно
домашнего образа, бога-хранителя входов и выходов, дверей и ворот? Очень просто, считает Буттманн: вследствие ложной этимологии. Римляне связали это имя со
случайно одинаково звучащими латинскими словами Janus (проход), janua (дверь),
и Янус приблизительно так сделался богом дверей, как, по замечанию Корнелия
Агриппы Неттесгеймского, св. Валентин призывается немцами для помощи в падучей, а св. Евтропий (St. Eutrope) французами — для избавления от водобоязни. Буттманн выводит Apellativum «janus», а также «janua» от «ео44». Но разве не было бы
естественнее выводить оба этих слова и равным образом само имя бога от hio, «быть
отверстым»; и далее, разве не ясно и без указанного тождества выведения, что образ
этого бога устанавливался возле ворот и общественных проходов, поскольку он сам
представляет собой изначально закрытые, а впоследствии открывшиеся врата ко
всякому бытию. Кстати, как известно, врата римского храма Януса со времен Нумы
стояли открытыми до конца первой Пунической войны и далее — до времен Августа, который, по словам Крейцера, охотно пожелал придать части своего правления
внешний облик идеальной эпохи Нумы и за свое царствование не менее трех раз
смог доставить своим римлянам удовольствие закрыть, согласно исконно древнему,
священному и почти уже вышедшему из употребления обычаю, врата Януса.
Я еще коротко замечу, что слово, которое в немецком соответствует греческому
χάω и χαίνω45, поэтами также употребляется для обозначения оскалившейся — или,
по другому выражению, ощерившейся (jähnende)46 бездны, — или для того, чтобы
сказать, что пропасть «раскрыла перед нами свой зев». Наконец, я хочу еще напомнить одно место Сенеки в трагедии «Геркулес в Orne», где в уста хора в качестве орфической мудрости вкладывается учение о всеобщей гибели, также и самих богов:
Coeli regia concidens
Ortus atque obitus trahet,
Atque omnes pariter Deos
47
Perdet mors aliqua et Chaos
Небесный град, обрушившись, положит конец всякому возникновению и исчезновению, и хаос и смерть равным образом поглотят всех богов. Смерть, mors aliqua48,
говорит поэт, ибо боги умирают не той смертью, что является уделом всех остальных: их смерть есть возвращение в хаос. Таким образом, в соответствии с этим, хаос
будет так же концом богов, как, согласно Гесиоду, он был некогда их началом.
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
Я еще раньше, а именно, при обсуждении германновской теории, обозначил как
совершенно невозможное то предположение, что понятие хаоса в греческой теогонии ведет свое начало от первого же момента возникновения греческой мифологии.
Это понятие в начале теогонии служит доказательством того, что сама эта теогония
есть продукт стремящейся постичь, осмыслить и объяснить саму себя мифологии.
От хаоса, который еще возвышается над всякой мифологией, Гесиод теперь переходит к первому образу одним лишь άυταρ έπειτα1. Естественно, речь здесь идет о древнейшем прошлом мифологии, которое может представлять собой только забизм как
религиозное поклонение небу. Ибо он может относиться к забизму лишь как к прошлому. Сперва, говорит он, был хаос, однако затем — широко- или полногрудая Земля — γαία εύρύστερνος2, которую он называет нерушимым, непреходящим жилищем
всех бессмертных, т.е. первое — по своей природе — полагающее всех богов, тем
самым обозначая ее как теогоническое основание. Здесь напрашивается несколько
замечаний, которые я намерен привести по порядку.
Во-первых, бросается в глаза, что первым из бесполого, не имеющего рода, хаоса
появляется женский принцип, γαία3. Объяснением этому может послужить следующее. На протяжении всей теогонии сознание Бога относится к самому Богу как женское к мужскому. Сознание, как полагающее Бога, утверждает поэтому свой приоритет перед ним; поскольку, однако, оно является таковым лишь для того, чтобы
быть полагающим Бога, то тем самым его отношение к этому Богу является подчиненным. Приоритет не несет с собой главенства. То и другое, приоритет перед Богом
и затем, в свою очередь, все же и подчиненность ему, не могли быть выражены иначе
как посредством того, что оно полагалось как женский, порождающий Бога принцип. Это есть отнюдь не искусственное, но напротив, лишь естественное выражение
объективного, действительного отношения. Это то, что необходимо сказать о предшествовании женского принципа, предшествовании, имеющем место лишь для того,
чтобы положить Бога.
Во-вторых: не сказано, каким именно образом γαία появляется из хаоса; ясно
лишь то, что хаос не порождает ее. Однако в эпитете εύρύςερνος4 содержится намек.
Двадцать седьмая лекция
473
Расширение, присутствующее в этом эпитете, указывает на предшествующее тесное
бытие, или бытие в тесноте. Gaia в себе есть реальный, богополагающий принцип.
Покуда принцип пребывает в этом отношении не самого по себе сущего, но лишь
полагающего Бога, не существует ничего кроме хаоса; едва лишь, однако, он поднимается в бытие — именно в этом подъеме заключается начало всего процесса, первое
напряжение — едва лишь он поднимается в бытие, стремясь, однако, при этом быть
eodem loco5, где он был прежде, во внутреннем, он пребывает в тесноте и страхе.
Чтобы вывести себя из тесноты, он должен выйти наружу — материализоваться. Это
первое, прежде внутреннее, а теперь внешнее, есть γέα (γη), γαία6, от глагола γάω7,
который объясняют также через χωρέω8, уступать, давать место, отступать, подаваться. Отступивший из центра и потому сам ставший периферическим, расширившийся реальный принцип есть γαΐ' εύρύςερνος9. Как в греческом от расширения, отступления (locum dare10), — так в других языках, напр., в семитских, Земля получает
свое имя от унижения; она собственно носит имя униженной. То и другое в существе
своем есть одно. Поскольку, однако, именно этот реальный, превратившийся для сознания в γέα 11 принцип представляет собой основу всякого богополагания, то именно в этом своем расширении он становится нерушимой цитаделью (т. е. реально полагающим) всех богов*, теогоническим основанием. Gaia, или материализованный
изначальный принцип сознания, также и у Гесиода не имеет никакой иной функции,
кроме как прежде всего породить равного ей бога, того бога, который укроет ее со
всех сторон, — звездное небо**. Бесспорно, что тем самым имеется в виду забизм
первоначальной эпохи, и в высшей степени достопримечательно наблюдать, с какой
определенностью немифологический забизм отличается от мифологического
последующего периода. Gaia полагает или рождает еще сама по себе — без супруга —
Урана, дабы он, как сказано, укрыл ее со всех сторон, объял ее, благодаря чему он
сам, в свою очередь, становится предметом объятия, во внешнем вновь таким же
внутренним, каким ранее она была во внутреннем. Разве не виден в этом процесс,
и именно процесс universio?
Точно так же, без супруга, или, как выражает это сама «Теогония» (ст. 132), άτερ
φιλότητος έφιμέρου12, без радостной любви, она затем рождает или полагает большие горы (ουρεα μακρά13), бесплодное мировое море и Понт, т.е. сплошь реальные
πάντων εδος ασφαλές αιει αθανάτων, ö
(вечный и неколебимый устой бессмертных богов) (греч.). — Теогония, 117:
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный (пер. В. В. Вересаева).
Γαία δέ τοι πρώτον μέν έγείνατο ΐσον έαυτη
Ούρανόν άστερόενθ', ϊνα μιν περί πάντα καλύπτη. Теогония, 126-127:
Гея же прежде всего родила себе равное ширью
Звездное Небо, Урана, чтоб точно покрыл ее всюду (пер. В. В. Вересаева).
474
Вторая книга. Мифология
предметы. Собственно мифологические боги возникают лишь благодаря соединению Геи с порожденным ею же самой супругом (Ураном); ибо среди всех ее порождений лишь звездное небо есть ίσος έαυτη14. Здесь, таким образом, уже полагается
основание для мифологического. Однако — и это в свою очередь в высшей степени
достопримечательно — дети, которых она порождает вместе с Ураном, и которые
уже не суть всего лишь природные предметы, но суть уже мифологические, духовные боги, эти дети, тем не менее, как мы увидим, рождаются лишь для того, чтобы
оставаться в сокровенном, а отнюдь не для того чтобы проявиться. Первый период
теогонии все же поэтому ограничивается лишь материальным забизмом. То, что выходит за его рамки, положено всего лишь как будущее. Высшие, духовные боги показываются лишь таким образом, каким будущее всегда показывается в настоящем,
однако они показываются как те, которым лишь в будущем предназначено действительно быть. Ибо Уран, т. е. именно материальный забизм, все еще держит духовных
богов в заточении.
Первым поколением этих детей Геи и Урана являются титаны. Если сперва отдельно посмотреть на имена этих титанов, то хотя бы уже одно присутствующее
в их числе имя Ωκεανός15 в сравнении с предшествующими ему Πέλαγος и Πόντος16
(которых Гея родила еще без участия Урана), — уже это одно показывает, что только реальные потенции первой эпохи, которые были порождены Геей и относятся
к только материальному забизму, в этом втором периоде уже поднимаются до мифологических персонажей. Титаны уже не являются ни звездами, ни созвездиями,
более того, они вообще не являются действительными предметами, но представляют
собой по отношению к ним духовных богов. Если принять в особенности неоспоримые в грамматическом отношении объяснения Германна, то имена титанов являются не столько самими звездами, сколько управляющими их движениями и как бы
борющимися между собой силами — Гиперион и Япет. Поскольку, однако, титаны
выходят из сокровенности лишь с Кроносом, поскольку, следовательно, в первую
эпоху они собственно не есть действительно, в теогонии существует лишь три эпохи: а) эпоха Урана, время только реальной потенции; Ь) эпоха идеально-реальной
[потенции], время выходящих на свет вместе с Кроносом титанов, в которых реальный, т. е. дикий, необузданный принцип, хоть и будучи уже поднят в духовное,
все еще остается непреодоленным; кто знает, что именно древние понимают под
титаническим [началом] души, к которому Плутарх в качестве равнозначного при17
совокупляет страстное — неразумное — вне себя положенное (το εμπληκτον ), тот
не станет требовать для этого утверждения каких-либо дальнейших доказательств;
с) эпоха совершенных идеальных богов, или богов Зевса. Что касается общего имени
титанов, то мне кажется, что относительно него не может существовать сомнений.
Выведение от τείνω, τιταίνω,18 напрягать, — имеет на своей стороне непререкаемый
авторитет самого Гесиода. Правда, Гесиод относит это имя к протягиванию руки для
Двадцать седьмая лекция
475
оскопления Урана, деянию, на которое решился лишь один из сыновей Урана, самый
младший, Кронос. Однако мы возьмем у Гесиода одну лишь этимологию, т. е. то утверждение, что титаны получили свое имя от глаголов «протягивать», «натягивать»,
«напрягать». Различная долгота первого слога в τιταίνω19, где он краткий, и в τιτάν20,
где он долгий, едва ли может быть достаточным возражением. Глагол τιταίνω употребляется во всех тех собственных и несобственных значениях, в которых употребляется слово «напряжение», и мы могли бы найти наше столь часто употребляемое
слово равным образом и в самой мифологии. В титанах все еще господствует напряжение по отношению к идеальному, тургесценция реального принципа. Ибо всякое
устремление к проявлению вовне (Hervorstreben), всякий выход вовне прежде сокрытого (латентного), всякое начало действия прежде бездействовавшего — проявляется в природе как тургесценция. Вполне естественно было, следовательно, называть этим именем также и титанов, в которых этот выходящий из сферы незримого
реальный принцип все еще пребывал в напряжении.
Итак, первым родом детей Геи и Урана являются титаны. Однако эти последние,
будучи уже не реальными предметами, но идеальными сущностями, относятся собственно к более поздней эпохе. Они всего лишь потенциально присутствуют в эпоху
материального забизма. Это выражается в том, что Уран содержит их в заключении
и не позволяет им увидеть свет. Второй род детей Геи и Урана представляют собой
циклопы, предвестники эпохи еще более поздней. Ибо в то время как титаны уже
в эпоху последующего царства Кроноса получают от него освобождение, циклопам
свободу дает лишь Зевс, и то же самое можно сказать о сторуких великанах*.
То, что лишь Зевс освобождает циклопов и родственных им гигантов, служит
доказательством того, что в эпоху Урана они являются предвестниками господства
Зевса, как титаны предвещают собой царство Кроноса. Те и другие, следовательно,
представляют собой преформации для последующей эпохи, однако сообразные бесформенности своей первой эпохи; поэтому вполне естественно также, что в эпоху,
когда они действительно выходят на свет, они все же могут исполнять лишь подчиненные и вспомогательные роли. Циклопы помогают Зевсу в борьбе с титанами;
сторукие же великаны, Бриарей, Котт и Гиг, используются для охраны титанов, низвергнутых Зевсом в Тартар.
Что, таким образом, касается этих общих детей Урана и Геи, то здесь ни в коем
случае нельзя, как это обычно происходит (напр., Канн), пребывать в плену того
ошибочного представления, будто эти дети были уже действительно существующими. Место из «Теогонии» на этот счет гласит совершенно недвусмысленно: Όσσοι
21
γαρ Γαίης τε και Ουρανού έξεγέγένοντο (ст. 154) — сколько их было рождено Ураном
Теогония, 501 и ел.; 617 и ел.
476
Вторая книга. Мифология
и Геей, т. е. все без исключения — σφετέρω δ'ήχθοντο τοκήΐ22, восстали против своего
родителя, а именно, здесь не сказано: они восстали на него из-за того, что он творил
над ними, но έξ αρχής23, от начала, т. е. по своей природе; и не потому они ненавидели его, что он держал их в заточении, но наоборот — он заточил их именно потому,
что они его ненавидели. Они противостояли ему, ненавидели его — именно будучи
потенциями позднейшего времени, поскольку в них уже был заключен тот принцип,
которому позднее суждено было сломить и разрушить власть Урана.
Теперь, после того как он указал причину, Гесиод продолжает повествование:
Как только каждый из них рождался, отец прятал их и не выпускал на свет — πάντας
άποκρύπτασκε και ες φάος ούκ άνίεσκε24, он держал или запирал их, γαίης έν κευθμώνι25
в глубине Земли, т.е., следовательно, они все еще были заключены в глубине подчиненного Урану сознания. Поэтому, несмотря на всю видимость того, что уже
в то первое время были положены духовные боги, их существование все же было
лишь потенциальным. Действительно существовавшими сущностями той первой
эпохи являются лишь небо со звездами, великие горы, бесплодное море, — одним
словом, только природные предметы. Гесиод, таким образом, несмотря на то что
позднейшие мифологические потенции у него до некоторой степени существуют
уже теперь, — тем не менее, весьма определенно охарактеризовал первую эпоху как
еще в себе немифологическую, и равным образом в «Теогонии» переход от немифологического к мифологическому периоду происходит, или совершается, в точности
так, как мы наблюдали его происходящим в общем мифологическом движении. Однако прежде чем перейти к этому пункту, хочу отметить, что я лишь прослеживаю
в «Теогонии» основные, главные нити собственно истории богов, опуская при этом
многочисленные промежуточные рождения, как не относящиеся к цели нашего исследования (ибо в наше намерение входит изучение лишь общих черт в греческой
мифологии).
Возвращаясь к хаосу, я должен заметить, что у Гесиода из хаоса происходят также несколько сущностей, ибо он говорит: «Из хаоса произошли Эреб и черная Нюкта (Ночь)». Эту взаимосвязь можно мыслить себе следующим образом. Абсолютное
в себе, мыслящееся еще безо всякого отношения к уже заключенной в нем, однако
26
еще никак не выявившейся противоположности, есть = Χάος . То же самое абсолютное может, однако, мыслиться также и в отношении к этой противоположности,
но тогда оно должно мыслиться лишь как негация, как ее простое небытие. Этому
27
более негативному понятию соответствует 'Έρεβος , которого здесь, конечно же,
можно вместе с Германном объяснить как покрывающего. Эреб есть то — все еще
покрывающее, все еще окутывающее эту противоположность — абсолютное, которому тогда в сознании, равным образом как женское, может соответствовать также
нечто негативное, что не отрицает противоположности, но лишь скрывает ее. Это
и есть Нэо 28 .
Двадцать седьмая лекция
477
В этом первом мраке или неразличении сознания, однако, уже содержатся те
дети, которые впоследствии выйдут из него: Μόρος29, судьба или изначальный случай, Μώμος30, принцип всякой иронии, скорбь (не обычная скорбь, но та великая
скорбь, которая является уделом всего человечества и которую оно испытывает
в мифологическом процессе), раздор и т. д. Все это место о Нюкте есть философский
эпизод, т.е. здесь присутствуют вполне философские понятия. Я, однако, отнюдь
не хочу сказать этим, что данное место является менее древним, чем вся остальная
поэма, напр., стих 1. Вся «Теогония» есть уже своего рода научное представление
мифологии; отнюдь не удивительно, таким образом, если она содержит философемы, не такие, которые предшествовали мифологии и которые предполагают Гейне
и Германн, но философемы, непосредственно мифологией рожденные. Эта генеалогия детей Нюкты, таким образом, является чисто философской. Другая же нить,
проходящая через всю «Теогонию», другая генеалогия, — есть нить и генеалогия самого объективного, действительного, мифологического процесса. Здесь Гея первой
следует за хаосом. Я говорю: она следует; ибо в случае с Нюктой и Эребом говорится: Έκ Χάεος Έρεβος τε μέλαινα τε Νύξ έγένοντο,31 в случае же с Геей говорится
только: αύταρ έπειτα32: после, за ним пришла Гея. Перелицованное в материальном
забизме сознание, которое теперь становится основанием для всего последующего
порождения богов, однако именно поэтому само не является порожденным. Во всем
этом месте, в котором говорится о порождениях Нюкты и Эреба, употребляются исключительно философские понятия, которые, конечно же, ведут свое начало не от
первого возникновения самой мифологии, однако могут являться продуктами того
научного сознания, которое было порождено непосредственно из самой мифологии,
в ее превращении. Поэтому я весьма далек от того, чтобы объяснять вместе с Германном эти стихи о детях Нюкты как вставку. Еще Крейцер обращал внимание на
сходство этих представлений с теми или иными понятиями позднейших философских систем, напр., Эмпедокла и Гераклита, а также на сходство некоторых из них
с отдельными чертами восточных учений. Среди этих детей (если вместе с Эребом
их порождает Ήμερη и Αίθήρ33, то это относится к другой взаимосвязи) сперва упоминается Μόρος34, судьба. Вспомните здесь то замечание, что было сделано с самого
начала при упоминании Персефоны. Переход от первой свободы сознания к мифологической несвободе рассматривается как изначальный случай вообще, как Fortuna,
как рок, сама же Персефона — в позднейших мифологических философемах обозначается именно как Moros, судьба и рок. В этом лоне первой неопределенности были
заключены также смертный жребий, сама смерть и ее родственник, сон. За ними
следует Μώμος35, сын Нюкты. Если даже кто-либо захочет придерживаться понятия насмешливого, иронического упрека, которое обычно связывается с эти словом,
то ясно, что ни ирония, ни упрек не могут мыслиться, если нет более ничего иного,
кроме Единого: вместе с первым проявлением инаковости из единства полагается
478
Вторая книга. Мифология
основание всякой иронии и равно всякому упреку. Если же поразмыслить над значением μάω, μάομαι36, откуда нужно выводить μώμος, то Μώμος37 есть ищущий инакости, противоположности, противного. За ним естественным образом следует скорбь
или стенание, которое, правда, появляется лишь вместе с действительной инаковостью, однако субстанция всякой скорби все же дана еще в первой неопределенности.
Затем идут силы судьбы, наконец, сама Немезида, чье понятие уже объяснено, далее
обман (Άπατη38), изначальное заблуждение и раздор (Έρις 39 ), порождающий затем
род ужасных сущностей, среди, которых есть даже лживые речи (Ψευδέες Λόγοι40)
и двусмысленные речи (Άμφιλογίαι41), которые уже никто не примет за что-либо изначально мифологическое. Однако именно они бесценны по той причине, что содержат в себе следы непосредственно происходящего из мифологии и ею самой порожденного философского сознания.
До сих пор, следовательно, дабы мы могли теперь вернуться во взаимосвязь движущегося вперед процесса, в теогонии представлено все еще лишь немифологическое время. Потенции, которые выходят за его рамки и имеют уже мифологическую
природу, титаны, циклопы и т.д., все еще удерживаются внутри и не допускаются
до выхода наружу. Гея же, т. е. материальное сознание, которое, само о том не догадываясь, находится еще и под другим, более высоким влиянием и стремится к более
развитому времени, — недовольна жребием своих детей, коих Уран, едва лишь они
рождаются, прячет в глубинах Геи, т. е. в глубинах все еще подчиненнного ему сознания. Она держит с детьми совет о том, как лишить их отца власти. В общем мифологическом процессе переход от немифологического времени к мифологическому
совершается, как вы помните, благодаря тому, что сам бог этой эпохи становится
женственным. На место Урана приходит Урания. Общее же понятие этого перехода
есть то, что до тех пор господствовавший бог лишается своей мужественности, своей абсолютной верховной власти. В «Теогонии» это происходит в результате того,
что младший, а значит также и относительно духовный из титанов, т. е. последую42
щих предназначенных для существования детей Урана, из засады (έκ λοχεοιο ), т.е.
неожиданно, оскопляет ничего не подозревающего отца и бросает отсеченные причинные части назад, т.е. в прошлое. Однако из пены, образовавшейся в этом месте
морской пучины, с течением времени рождается прекрасная богиня Афродита, которая, следовательно, также и в греческой мифологии является древним божеством
и занимает в ней место азиатской Урании; сказанное отнюдь не значит, что греки заимствовали ее из азиатских религий, но это женское божество присутствовало также
и в эллинском сознании в качестве необходимого момента, и как таковой оно смогло
развиться в самостоятельную мифологию, т. е. в такую мифологию, которой необходимо было вобрать в себя все моменты предшествующего процесса, и следовательно,
также и ей суждено было занять в греческом сознании уготованное ей место. После
того, теперь, как власть Урана сломлена, господство над миром переходит к младшему
Двадцать седьмая лекция
479
из титанов, Кроносу, с приходом которого — не как порожденное им, но как равное
ему племя — приходят к власти титаны: боги, в которых, как сказано, все еще превалирует природа слепого, безрассудного, состоящего лишь в силе и власти бытия, все
еще не преодоленного реального принципа, но которые, однако, впрочем, являются
уже относительно духовными богами, как Кронос, который предполагает реальный
принцип в его первой исключительности как уже преодоленный.
Однако Кроноса ожидает та же самая судьба, что и Урана; так же и он словно бы
испытывает на себе влияние некоего тайного врага, который еще не известен теогонии; ибо она называет его вообще лишь в конце процесса, так как ранее он дает
о себе знать лишь своими действиями, однако никак не личным явлением. Так же
и Кроносу необходимо порождать детей, которые идут дальше него и принадлежат
иному времени, а значит — угрожают его власти, и которых он в свою очередь точно
так же вынужден прятать и держать в заточении, как это делал с ним и его братьями
их отец Уран. Ибо Гея и Уран предсказывают ему, что также и он будет лишен власти
собственными сыновьями. Здесь мы вновь оказываемся в теогонии в той самой точке, с которой мы некогда начали изучение греческой мифологии и которую мы рассматривали как собственно момент ее возникновения, так что все предшествующие
моменты лишь примыкают к нему — в качестве моментов его прошлого, — и потому
не ранее действительно, т.е. раздельноположно присутствуют в греческом сознании,
чем с наступлением момента последнего кризиса, продуктом коего как раз и является мир богов Зевса. Здесь теперь будет важно показать, каким образом этот последний кризис представлен в самой греческой теогонии. Итак, Кронос вместе с Реей,
которая, естественно, уже должна была занять свое место среди титанов и которая
сразу же выводится под этим именем — равно как и вообще все божества с самого
начала называются и характеризуются своими последними понятиями, или, иными
словами, в имени каждого божества уже заранее выражено его предназначение (также и это служит доказательством предположенного нами способа возникновения
совокупной мифологии, а именно, того, что предшествующее и ранее существующее
поистине присутствует в сознании не ранее чем вместе с позднейшим) — Рея есть
уже начавшее обретать подвижность в Кроносе сознание; как таковое она выказывает себя, когда она, так же как ранее Гея, принимает сторону движения вперед, и там,
где речь заходит о ниспровержении Кроноса, вступает в союз с самым младшим, т. е.
наиболее духовным из ее детей, коему суждено грядущее мировое господство. Итак,
в греческом представлении Кронос порождает вместе с Реей шестерых детей: троих
мужского пола и троих женского. Значение и внутреннее отношение друг к другу
троих детей мужского пола: Аида, Посейдона и Зевса — мы уже объяснили. В Аиде
предуказано грядущее полное преодоление именно поэтому ныне все еще существующего кронического в Кроносе. В Посейдоне положен тот момент Кроноса, согласно которому он как реальный бог должен покориться власти высшего идеального.
480
Вторая книга. Мифология
В Зевсе предуказан Кронос, всецело обращенный из слепого бытия в разум43. Ибо
Зевс есть не что иное, как всецело обращенный в разум Кронос. Этим трем мужским
божествам соответствуют три женских. (Однако примечательно, что также и здесь
в «Теогонии» женские божества упоминаются прежде мужских — женские божества
указывают на тождественное в сознании, они выражают в сознании те же самые моменты, на которые мужские божества указывают в самом Боге.)
Три женских божества суть Гестия (латинская Веста), Деметра и Гера. Они перечисляются именно в этом порядке. Уже одно это свидетельствует о том, какому богу
соответствует каждая из них, а поскольку в дальнейшем Гера выступает в качестве
супруги Зевса, то не может быть никакого сомнения в том, что Гестия мыслится в таком же отношении к Аиду, а Деметра — к Посейдону. Гестия также всецело соответствует тому понятию, которое мы составили себе об Аиде. Мы сказали: Аид есть
именно кроническое, т. е. противящееся движению, в Кроносе. Именно потому, что
оно таково, ему суждено в будущем быть преодоленным, превратиться в Аида. Ибо
оно пока что не есть Аид, хотя уже заранее получает такое имя. В эту эпоху кронической неопределенности также и то божество, что соответствует еще не положенному
как таковому Аиду, носит имя Гестия, т.е. устанавливающая (от ϊστημι44), все удерживающая в неподвижном состоянии, противящаяся текучести Кроноса, а следовательно — сперва Посейдона; и, поскольку он представляет собой всего лишь переход, — то и высшего вообще. Если же теперь здесь, в момент еще продолжающегося
сопротивления, Гестия упоминается как супруга, предназначенная Аиду, то создается впечатление, что «Теогония» запутывается здесь в противоречии, ибо позднее,
т. е. после периода полного развития или кризиса, Гестия уже более не упоминается
как супруга Гадеса, но он (до тех пор супруги не имевший) похищает для себя Персефону и в качестве жены уводит ее в свое подземное царство. Эти противоречия «Теогонии» (ибо только что названное не является единственным) представляют собой
для нас высочайший интерес. Именно эти противоречия должны убедить нас в том,
что «Теогония» не есть нечто искусственно созданное — ибо во всем искусственно
составленном рассудок умеет избегать противоречия — именно эти противоречия
показывают, что мы имеем дело с чем-то возникшим непроизвольно, в результате
некоего процесса, который, поскольку он есть нечто движущееся и в следующий момент восстанавливает положенное в предшествующем, не может не вступить с самим собой в противоречие.
Действительная будущая супруга Аида, таким образом, — это Персефона. Поскольку же Персефона одновременно представляется дочерью Деметры, мы видим,
что в этом пункте невозможно достичь понимания, покуда мы не обретем ясности
сперва также и относительно Деметры.
О Деметре уже самим ее отношением к Посейдону обозначено, что она вообще есть та сторона сознания, которая доступна высшему богу. Если Посейдон
Двадцать седьмая лекция
481
в материальном боге есть обращенная к Дионису, А2, или соответствующая ему потенция (эта взаимосвязь с Дионисом признавалась в Греции также и некоторыми
обычаями: так, напр., праздник προτρυγεία45, который Гесиод объясняет как εορτή
Διονύσου και Ποσειδώνος46, справлялся в Греции повсеместно и был общепризнанным) — если, таким образом, Посейдон есть потенция, соответствующая Дионису,
то следует утверждать, что также и Деметра есть именно обращенное к высшему,
идеальному богу сознание; и после этого замечания было бы излишне прежде времени вспоминать также и о том внутреннем отношении, в котором она состоит также
и к Дионису и которое будет обнаружено нами впоследствии. Каким же образом
получается так, что здесь, в данный момент, супругой Посейдона все еще является
Деметра (позднее Амфитрита), Гестия — супругой Аида (который позднее — после
победы над Кроносом — выйдя из сокровенности, похищает для себя Персефону), —
этого я не могу объяснить, не переведя вашего внимания с рассматривавшегося до
сих пор внешнего, или экзотерического события последнего кризиса — на его внутреннее, эзотерическое прохождение.
Внешнее событие, как вы знаете, состояло в том, что слепо сущий бог распался
на Аида, Посейдона и Зевса: один реальный бог исчезает в трех, которые совместно
вступают на его место. Общее в этих трех богах есть завуалированность, незримость
отныне ставшего невидимым Одного, слепо сущего бога. Он равным образом преодолен как в Зевсе, так и в Аиде. В Зевсе он лишь преодолен позитивно, ибо в Зевсе мыслится противоположное слепому, Nus, тогда как в Аиде слепое начало лишь
отрицается, лишь полагается как прошлое. Аид есть лишь нижний Зевс, Зевс снизу, Зевс, рассматриваемый с негативной стороны. Здесь то слепое начало, которое
в Зевсе уже обращено в разум, еще только преодолевается. Однако одно предполагает другое. Слепой бог становится как таковой Аидом лишь постольку, поскольку
он одновременно становится Зевсом, и он становится Зевсом постольку, поскольку
одновременно становится Аидом. Эти три божества, таким образом, есть совместно
вуалирующее, скрывающее реального бога. Этого бога, таящегося под личиной трех
богов, мы можем таким образом обозначить как абсолютного Гадеса, в отличие от
относительного, который выражает лишь негативную сторону такой сокровенности.
Далее, однако, сознание еще в эпоху Кроноса было всецело обращено к слепо
Единому, и в нем, в самом богополагающем сознании должен, следовательно, совершаться собственно процесс такого последнего кризиса. Эти три бога представляют собой лишь одновременно возникающий феномен этого внутреннего события
в самом сознании. Однако на такое превращение способно не то сознание, которое
обращено исключительно к реальному, но лишь то, что обращено одновременно и
к идеальному богу. Лишь сознание, стоящее посредине между двумя потенциями,
которое с одной стороны боязливо опасается, что вместе со слепым бытием оно
утратит также и самого бога, а с другой стороны не может противостоять натиску
482
Вторая книга. Мифология
высшей, духовной потенции — лишь такое сознание способно на подобный кризис.
Далее, теперь, как показывает положение, именно это стоящее в середине сознание
есть Деметра, которая определена этому божеству еще в кронические времена. Если,
таким образом, история богов есть внутренняя сторона этого процесса (экзотерической стороной которого является возникновение трех богов: Аида, Посейдона и Зевса), если история богов представляет внутреннюю сторону этого процесса, — то Деметра становится собственно субъектом, как бы средоточием, осью, вокруг которой
движется все происходящее. В кроническую эпоху эти три бога и соответствующие
им женские образы: Гестия, Деметра и Гера — упоминаются лишь так, как упоминаются титаны в эпоху Урана. Определенно говорится, что они еще никак не проявляют себя в действительности. После того как перечислены шестеро детей Кроноса, сказано: και τους μέν κατέπινε μέγας Κρόνος47, — он проглатывал их, едва лишь
каждый из них был отнимаем от груди своей матери*. В этом состоянии пребывания
во чреве, до тех пор покуда потенции содержатся в своего рода хаотическом состоянии, покуда Кронос все еще препятствует их разделению и различению, Гестия все
еще содержится внутри Деметры, и мы можем сказать: Гестия есть имя все еще не
отделенной, не обособившейся от Деметры Персефоны, Гестия упоминается здесь
вместо Персефоны. Гестия означает здесь то в сознании, благодаря чему оно связано
с реальным богом, пребывает в его плену — она есть узы, привязывающие сознание к реальному богу. Далее, однако, когда сила Кроноса начинает убывать, и для
сознания все более очевидным становится его собственное отношение к высшему,
духовному богу, в результате чего оно обретает все большую и большую свободу по
отношению к богу реальному, — оно становится способным к осознанию того в себе,
что продолжает держаться реального бога (того, что пребывает в плену реального
бога) как особого в себе, как чего-то отличного от самого себя и, более того, как
чего-то для себя случайного и по отношению к самому себе внешнего. Оно начинает
осознавать эту связь с реальным богом как отличную от себя, начинает стремиться
к освобождению от нее, к ее отторжению. То же, от чего оно освобождается, разрешается, и что прежде было с ним едино, представляется ему как его дитя — эта
связь с реальным богом представляется ему теперь как отдельный персонаж; этот
отдельный персонаж уже не есть более Гестия: Гестия существует лишь постольку,
поскольку она еще неотличима от него самого, еще едина с ним, как в кроническую
эпоху. Едва лишь происходит отделение от него, как начинает свое существование
уже Персефона.
Тем, что сознание отличает от самого себя эту свою сторону, — оно также и себя
определяет как отдельный персонаж. Лишь теперь оно есть действительно Деметра.
* Ст. 459.
Двадцать седьмая лекция
483
Несмотря на то что это имя употребляется еще раньше, т. е. еще в кроническую эпоху
(как и Аид уже тогда носит имя Аид, хотя он еще и не объяснен как Аид), сознание
все же лишь после отделения от Персефоны может быть объяснено как Деметра,
как матерь, и именно божественная — если слог Δη в Δημήτηρ48 может быть сравнен
с δαι (= δαη49) в δαίμονες50, — лишь теперь может быть объяснено как ведающая, духовная, как освобожденная от материального, мать. Лишь в Персефоне сознание освобождается от своей привязанной к реальному богу природы; оно, таким образом,
становится Деметрой, лишь породив Персефону. Однако в качестве матери Персефоны Деметра уже не может быть супругой Посейдона, еще кронического бога; покуда она еще выступает супругой Посейдона, Гестия также неотделима от нее и еще
не положена как Персефона. Она рождает Персефону от Зевса. То, что при Кроносе
было еще Гестией, в царствование Зевса становится Персефоной, ибо Зевс называется отцом также и того, что в иных отношениях существовало и прежде его самого,
однако лишь вместе с ним и благодаря ему, т. е. благодаря положенному именно им
кризису, приходит к действительности. Таким образом, Зевс становится отцом даже
Диониса, который существовал задолго до него, однако будучи воспринимаем как
будущее, долженствующее осуществиться, — ныне он называется отцом теперь уже
вполне осуществившегося Диониса.
Здесь, таким образом, как особый персонаж в мифологию вступает Персефона,
а Гестия исчезает, несмотря на то что тождество обеих богинь еще и позднее можно
наблюдать на множестве характерных черт; ибо, напр., точно так же как и в честь
Гестии, в честь Персефоны во многих святилищах зажигался вечный огонь. Однако
теперь, как отделившийся, самостоятельный образ, Персефона уже не может оставаться вместе со своей матерью — в том же месте (eodem loco). Это приводит к истории с похищением Персефоны, о которой я замечу следующее.
Равным образом и Персефона должна теперь отойти в область сокрытого по отношению к своей матери, которая есть теперь всецело Деметра и застывает как воплощение очищенного, одухотворенного сознания. Тем не менее, это расставание —
это оставление дочери со стороны Деметры — есть все же лишь следствие борьбы,
в которой пребывает сознание. Следовательно, это не есть добровольное расставание; сознание неохотно отделяется от принципа, благодаря которому Бог для него
был хоть и слепо сущим, однако вместе с тем и исключительно единым, и лишь против своей воли дочь разлучается со своей матерью, которая равно не желает разлуки.
Именно это выражено в похищении дочери, которую уходящий в область незримого
бог увлекает за собой в неосязаемое и тенеподобное бытие. Поэтому говорится: Гадес
похитил Персефону, исторгнув ее из объятий Деметры. Если бы теперь Деметра признала это обручение своей дочери с Гадесом, то тем самым ей пришлось бы признать
превращение Единого во множество образов, сознанию пришлось бы действительно
отказаться от исключительного Единого как действительно сущего. Однако этого
484
Вторая книга. Мифология
оно как раз и не может. Ибо те образы, в которые превратился Единый Бог (благодаря которым он именно и сделался невидимым), — сами они никак не могут служить
для сознания заменой богу в себе; после того, теперь, как этот бог, который прежде
заполнял собой сознание, исчез (исчез, ибо мы тщетно ищем Бога в природе и вместо него повсюду находим лишь образы вещей, которые он оставил вместо себя, повсюду обнаруживая только его следы, но никак не его самого), — после того как тот
бог, что ранее заполнял собой сознание, исчез для него, оно остается, или, лучше
скажем, Деметра остается как пустое, оставленное незаполненным, сознание, которое всецело представляет собой голод и жажду. Она ищет утраченную дочь, ибо она
ищет действительного бога, которым она некогда обладала как слепо сущим. Однако
он растворился теперь в том множестве богов, в котором она может различить лишь
остатки, exuvias51 или λείψανα52 расчлененного Бога.
Деметра есть тот образ, благодаря которому эллинская мифологии обретает все
свое своеобразие. Без Деметры не существовало бы греческого мира богов. Деметра,
находясь первоначально посредине между реальным и идеальным богом, не вынуждена, подобно египетской Исиде, следовать за ним даже в подземный мир; Деметра
как бы отдает ему лишь одну сторону своего существа — Персефону — и освобожденная от Персефоны Деметра остается теперь стоять как чистое идеальное сознание, свободное по отношению к реальному богу и свободное по отношению к материальному божественному множеству, в котором он растворился. (Исида всегда
остается во власти Тифона и никогда не становится свободным полагающим ни того
множества, в котором он растворился, ни того единства, в котором он восстановлен.)
Собственно благодаря Деметре греческая мифология обретает свое место между
египетской и индийской, так как она не подпадает ни под власть материализма — подобно первой, ни под власть неумеренного спиритуализма — по примеру второй. От
египетской она отличается тем, что сознание здесь не исчезает само в материальных
богах, но пребывает вне их, а от индийской — тем, что не утрачивает своего отношения к ним, что в лице Персефоны все еще сохраняется связь, посредством коей высшее, духовное сознание (Деметра) сохраняет свое отношение к материальным богам.
Поначалу, правда, в первом ощущении пустоты, незаполненности разгневанная
и плачущая о похищении дочери Деметра испытывает отвращение ко всем богам —
все положенное вместе с Зевсом множество богов не может заменить ей Бога. Отсюда ее надежда на возвращение дочери, отсюда ее тоска по утраченному. Такие объяснения дает даже сама экзотерическая греческая мифология. Похищение Персефоны
упоминается еще в «Теогонии»; ибо оно есть событие одновременное с превращением Кроноса в Зевса, Аида и Посейдона. Похищение Персефоны, поиски ее матери
являются мотивом бесчисленного множества художественных полотен; более того,
это похищение и события, непосредственно за ним следующие, представляют собой
излюбленный сюжет также и скульптурных изображений; однако более внутренние,
Двадцать седьмая лекция
485
уходящие в глубину самого сознания события, примирение и конечное успокоение
матери, — не принадлежат мифологии, но всецело остаются на долю того эзотерического сознания, которое выказывает себя лишь в мистериях, на которые этот доклад
уже не мог бы распространяться по причине краткости отведенного на него времени, несмотря даже на то, что я еще в самом начале этих чтений пообещал уделить
мистериям отдельную главу в особой взаимосвязи. Самое главное, однако, а именно
то, что собственным содержанием мистерий являлось умилостивление Деметры, что
сами мистерии суть не что иное, как празднование самого этого — даже не раз и навсегда происшедшего, но вечно длящегося примирения Деметры: это явствует уже
из знаменитого места гомеровского гимна Деметре, где она сама говорит о начале
оргий, элевсинских таинств (оргии означает не что иное, как именно сами мистерии,
и под этим отнюдь не следует подразумевать оргиастические явления, которые, напротив, всецело чужды элевсиниям и равным образом сдержанной в проявлениях
страдания, обладающей собой и примиренной Деметре) — итак, в гимне сама Деметра говорит о начале своих мистерий, и в качестве главной цели их она указывает как
раз ту, чтобы она постоянно могла ощущать примирение:
Сама полагаю начало я оргиям, дабы в будущем вы
Свершая их в святости, милость вселяли мне в сердце53.
Выражение «умилостивление», таким образом, принадлежит не нам, но является
подлинным, изначальным; Деметра, по словам самого гомеровского гимна, нуждается в умилостивлении.
Чем же, теперь, может быть утолена эта тоска Деметры, чем смягчено страдание, чем умилостивлен гнев? (Столь далеко мы имеем право и даже должны пойти
в нашем исследовании уже здесь.) Лишь тем, что вместо ушедшего Бога она получит
того, кто уже не сможет ее покинуть, непреходящего, которому надлежит быть.
Первая потенция не была той, которой было определено быть. Поэтому также и соответствующий ей бог, в свою очередь, должен отойти из бытия. Не Он сам
остается, но лишь те образы, для которых он сделался материей, основанием — посредством своего вступления в бытие; сам же он исчезает среди этих образов; он
пребывает, однако не в настоящем, но лишь как их общее прошлое; он пребывает,
однако скрытый под ними, как тайна, известная лишь отвратившемуся от настоящего и живущему одним лишь прошлым, сознанию.
Заменить бога, который не должен был быть и потому вновь уходит из бытия
в небытие, для сознания способен лишь тот бог, который должен быть, которому
пристало бытие. Этим богом не может быть тот, которого мы до сих пор называли
Дионисом, ибо он есть лишь опосредующий быть должного через негацию быть не
должного. Он не есть бог в себе, но лишь actu, который лишь в том выказывает себя
486
Вторая книга. Мифология
как бог, что он отрицает быть не должного. Сознанию же нужен бог в себе, и он необходим ему как сущий. Именно его стремилось обрести сознание, возводя в бытие то,
что есть только бог в себе. Однако он сам не может отойти от бытия, без того чтобы
вместо себя, т. е. без того чтобы в том бытии, которое он сам покидает, не оставить
того бога, который есть бог в себе, который есть чистая потенция и дух, и как таковой
является сущим. Лишь в том случае, если сознание получает его, оно может достичь
успокоения; ибо сознание не перестает быть богополагающим, бога взыскующим,
бога алчущим: только случайное, только извне привлеченное (благодаря незапамятному изначальному деянию привлеченное) ушло из него вместе с Персефоной. Итак,
лишь в том случае, если сознание получает сущего как дух, оно способно достичь
успокоения, лишь таким образом оно может заполнить оставленную в нем пустоту.
Для этого, однако, одновременно необходимо, чтобы оно осознало этого третьего,
вступающего на место первого, — как тождественного первому, или чтобы оно рассматривало этого третьего как воскресшего, восстановившегося первого. На этом
целиком и полностью естественном пути сознание приходит к тому, чтобы усматривать в трех богах лишь равное количество потенций Одного Бога. Когда первый выступает из небытия, он есть противоположность Диониса; отступив в небытие, он
сам принял дионисийскую природу и теперь равен Дионису. Третий же, объединяющий в себе природу того и другого (ибо он есть чистая потенция, как первый, и он
есть сущий, так же как и второй), — есть равным образом Дионис. Так сознание на
естественном пути приходит к представлению о тройственном Дионисии, в котором
оно теперь имеет эти три чистые потенции или причины уже более не в их материальной компликации, но как чистые, поднятые до понятия, причины, и одновременно — как истинный и собственный результат процесса; так что теперь те принципы, из которых мы объяснили и вывели мифологическое движение, признав их его
принципами, для него самого обрели предметность в качестве принципов.
Если, теперь, эти боги были главным содержанием мистерий, то становится
ясно, что последние отнюдь неспроста носят название мистерий, но что они и в действительности содержат в себе истинную тайну не только греческой, но и всякой
другой мифологии, и что они являют собой последнее и высшее подтверждение всей
нашей теории мифологии. Сущность, собственно внутреннее мифологии отныне
содержится в мистериях, внешний же экзотерический мир богов остается стоять
как всего лишь феномен внутреннего процесса, он обладает всего лишь реальностью явления-, ибо реальное, собственно религиозное значение существует только
в тех эзотерических понятиях, которые относятся не к порожденному и ставшему,
но к чистым причинам мифологического процесса, в сознании которых предстает
восстановленным то первоначальное сознание, в результате разделения которого
впервые возникла мифология. Демонстрация же всего того, что здесь под конец утверждалось, т. е. демонстрация а) третьего Диониса (который в греческом сознании
Двадцать седьмая лекция
487
есть то же, что в египетском Гор, однако с тем различием, что он был положен в Горе
материально, а не в качестве чистой причины, в своей формальной отделенности от
материального); Ь) того, что разлученная с дочерью Деметра, т. е. очищенное от всего
материального сознание, становится полагающим, т. е., выражаясь мифологическим
языком, рождающим (das Gebärende), матерью этого третьего Диониса, с) того, что
рождение этого третьего Диониса есть единственное, что исцеляет раненную Деметру и умягчает ее гнев; d) того, что главным содержанием празднества в мистериях,
их наиболее священной, справляемой в Элевсине, частью, является именно рождение и приход, или, используя торжественное выражение, канун (Advent), пришествие
(Kommen), этого третьего Диониса — эти демонстрации, конечно же, здесь даны
быть уже не могут, поскольку эти факты уже не относятся к собственно мифологии, но являются уделом лишь мистерий. К мифологии относится, как сказано, лишь
экзотерическое этого процесса, т.е. превращение первого бога в Зевса, Посейдона
и Аида и связанное с этим исчезновение Персефоны, похищение Коры. Особенная
достопримечательность и удивительное своеобразие знаменитого гимна Деметре заключается именно в том, что он движется по самой границе экзотерического и эзотерического. Однако сама Персефона, равно как и тот факт, что ее похищает Гадес,
относится еще к мифологии и, как сказано, упоминается еще в «Теогонии» Гесиода*.
Если принять теперь во внимание то, как мое понимание Персефоны соотносится с обычными объяснениями, которые, как я полагаю, должны быть хорошо известны господам слушателям, то я никак не могу счесть излишним сказать еще пару
слов об этих объяснениях, дабы малыми средствами дать понять, насколько они не
выдерживают критики и насколько в действительности идеи Деметры и Персефоны
лежат чересчур глубоко для тех поверхностных воззрений, из коих эти объяснения
произошли.
Итак, вот обычное представление о Деметре и Персефоне: Деметра (одно божество с римской Церерой) есть богиня земледелия и растительного мира вообще;
Персефона же есть зерно, которому надлежит быть сокрытым в земле, дабы принести росток и плод. Я поистине не могу наблюдать без удивления за тем, как даже те
люди, которые в остальном отдаляются от обыденной плоскости воззрений, все же не
смогли уйти от того представления, что под Персефоной изначально понимается не
что иное, как зерно посева. Единственное, что придает этому объяснению внешнюю
правомерность, — то, что Деметра есть основоположница земледелия. Ибо нигде не
идет речи о ней как о богине растительного мира; это Фосс выдумал сам. Верно лишь
то, что Деметре поклоняются и прославляют ее как основоположницу земледелия.
Действительно, этой нравственной жизнью, которая собственно возникает лишь
В женских божествах в большей мере проявляется эзотерический процесс, в мужских — экзотерический (примечание на полях).
488
Вторая книга. Мифология
вместе с земледелием, раздельной и охраняемой гражданским уложением собственностью, — эллинское человечество обязано именно Деметре; ибо лишь с Деметрой
решается греческое сознание, т. е. Деметра есть для греческого сознания переход от
предысторической, еще не знающей закона, — к обретшей законы, исторической
эпохе, которая по этой причине носит имя законодательной. Ей, в сообществе с Дионисом, точно так же приписывалось начало земледелия, как Исиде и Осирису в Египте, о котором у Тибулла сказано:
Primus aratra manu solerti fecit Osiris,
Et teneram ferro sollicitavit humum;
Primus inexpertae commisit semina terrae 5 4 и т. д.
Деметра и Дионис, а особенно второй (оба они представляются как πάρεδροι55,
восседающие вдвоем на троне, совместно царствующие боги), представляют собой
в греческом сознании то же, что Исида и Осирис в Египте. Что для греческого сознания освобожденная Деметра представляет собой переход к жизни закона, и в особенности к земледелию, — отчасти можно уяснить из того, что — согласно греческому воззрению — при Кроносе не существовало раздельной собственности; и по
этой же самой причине греки относят золотой век именно к царствованию Кроноса,
который для греческого сознания подчас совмещается с Ураном. Поэтому Виргилий
говорит:
Ante Jovem (до Зевса, т. е. до эпохи господства Зевса, а поскольку она положена
Деметрой, то следовательно, также и до самой Деметры)
Ante Jovem nulli subigebant arva coloni,
Ne signare quidem aut partiri limite campum,
Fas erat 5 6 , —
до Зевса не было землепашцев, и также не было позволено обозначать с помощью
границы свой участок поля в знак собственности; одним словом, именно в этом
историческом смысле Деметра является богиней, т.е., основоположницей земледелия. Однако, 1) распространение этого понятия на богиню растительного мира
и 2) отнесение его именно к физической стороне земледелия, а следовательно, также и к физической стороне произрастания и принесения плода брошенным в землю зерном — то и другое в равной мере является неисторическим и полностью безосновательным. Таким образом, уже первая предпосылка этого объяснения никуда
не годится. Если, однако, даже допустить сейчас, что из предположения о том, что
Персефона есть сокрытое под землей зерно посева, действительно можно было
* Georg., I, 125.
Двадцать седьмая лекция
489
объяснить все характерные черты сюжета о Деметре и Персефоне (что далеко не
так), и если произведенное Гадесом похищение Персефоны не означает ничего большего, чем попадание под землю посевного зерна, — то как в этом случае согласовать
такое изысканное, такое утонченное и драгоценное иносказание, в которое облекаются столь обыденные, столь повседневные события, — с пресловутой эллинской
простотой и безыскусностью, в отношении которой вообще должно быть верно то
nil molitur inepte, которое Гораций относит, в частности, к Гомеру?
Тогда, может быть, в этом сравнении не кроется вообще никакого смысла? Каким образом Деметре пришлось стать не просто начальницей, но основоположницей земледелия, нашло для нас теперь весьма простое и естественное историческое
объяснение. После того же, как она была признана за таковую, вполне могло случиться так, что — не ее дочь Персефона стала символом посевного зерна, как обычно
принято говорить, но наоборот, могло случиться так, — что зерно посева и его сокрытие под землей, как это представлено также и в Новом Завете — что его умирание и воскрешение в совершенно новом, отличном от него самого растении — сделалось символом Персефоны. Если апостол Павел в подобном же сокрытом указании
на зерно говорит: «Сеется в тлении, восстанет же в нетлении», — то, наверное, это
было подобие, подсказанное ему его эллинской ученостью и образованием (а тем
более — его знакомством с мистериями); весьма возможно, это был намек на сходное представление в элевсиниях. В любом случае, вполне естественно думать, что
внимательный, вдумчивый и в особенности любовно охватывающий природу ум
греков дошел также и до того, чтобы сравнить то умирание естественного сознания,
которое подразумевается в Персефоне и было в особенности представлено в мистериях, — с умиранием зерна в почве. Ибо естественное, лишь реального бога полагающее сознание должно умереть, дабы настало свободное, духовное, полагающее
теперь уже свободного, духовного бога (а тем самым — духовных богов). То естественное сознание, которое есть Персефона, представляет собой всего лишь семя
или росток действительного, истинного богополагания — оно по природе своей,
как мы уже сказали ранее, есть лишь потенциально богополагающее, которое лишь
благодаря тому становится актуально богополагающим, что подымается из своей
потенциальности, где оно непосредственно полагает лишь не-бога, а значит — становится богоотрицающим; однако по мере того как оно вновь возвращается в свою
потенциальность, оно становится уже не потенциально, но actu богополагающим.
Таким образом, весьма и весьма для себя вероятно, что участь этого естественного
сознания, которое должно умереть, с тем чтобы дать начало высшему, более духовному, — что участь Персефоны сравнивали с участью зерна, т. е. это малое делали
символом того высшего; однако утверждать обратное, что высокая и священная
идея Персефоны, в которой почиталась собственная тайна всей мифологии — ее
обычный эпитет в мифологии есть αγνή57, священная — что эта высокая идея есть
490
Вторая книга. Мифология
не что иное, как символ посевного зерна и происходящих с ним метаморфоз, можно утверждать лишь в ту эпоху, когда среди тех, кто говорит о мифологии, понятие
символа всецело уведено от своего первоначального значения и, более того, сделалось прямо противоположным. Символ есть чувственный знак: это заключено уже
в обычном значении слова, где оно указывает на то, что мы называем меткой (Mark),
tessera58 — знаком, по которому отсутствующий друг может узнать другого, если ему
его предъявить; поэтому чувственное вполне может быть символом нечувственного:
Солнце и Луна, напр., — символом Аполлона и Артемиды, или порождающего и воспринимающего принципов вообще; а в данном случае посевное зерно — символом
Персефоны; однако то, что, наоборот, высокое и духовное может стать символом
низшего, чувственного, идет всецело против первоначального понятия и в особенности также противоречит эллинской природе.
Если бы Деметра была не более чем богиней земледелия, а Персефона — не более
чем посевным зерном, то что тогда должно представлять собой содержание введенных Деметрой и имеющих особенное к ней отношение мистерий? Разве земледелие
есть мистерия? Или элевсинские торжества были всего лишь сельскохозяйственными праздниками, а учения мистерий — не более чем Cours dAgriculture, как еще совсем недавно действительно полагал один французский автор? Что же происходило,
что совершалось тогда в элевсиниях, если все имело отношение к одному лишь земледелию? Известный экзегет, ранее уже испробовавший свои силы в истолкованиях
Нового Завета, посчитал необходимым применить свое искусство также и в отношении элевсинских мистерий. В чем же они состояли, по его мнению? Эти празднества в Элевсине, о которых восторженно говорила вся Греция, представляли собой, в его понимании, храмовые торжества, состоявшие из отчасти подражательных,
отчасти же аллегорически персонифицированных, привлекающих народ действ, на
которых можно было проследить, каким образом в земледелии происходит нормальное движение от посева к жатве, если оно введено единообразным способом
(вероятно, руководимое с помощью хорошей полиции или регулируемое хорошо
проработанным и выверенным законом о земледелии). Что можно представить себе
под подражательным изображением земледельческого процесса? Может быть, арена
совершающегося действия была посыпана землей, и по ней торжественно волокли
плуг, запряженный быками? Следует надеяться, что не были позабыты также и удобрения, составляющие «душу» сельского хозяйства. Затем, по всей видимости, после должным образом произведенной посевной следовало ожидание всходов, дабы
зрители могли если не услышать, то, по меньшей мере, увидеть их произрастание.
Какая пошлость! И потом, для чего все эти подражательные представления? Чтобы
земледелец увидел то, что он ежедневно мог созерцать в самой природе — и гораздо
более совершенным образом? То, что он делал своими собственными руками? То, что
в таком несовершенном исполнении могло вызвать лишь его смех? Добросовестные
Двадцать седьмая лекция
491
посетители храма, которые для такого посвящения уготавливали себя постом и всяческим воздержанием, для того чтобы под конец мочь сказать вместе с посетителем
театра в известной эпиграмме Шиллера:
Unsern Jammer und Noth suchen undfindenwir hier59, —
и которые за столь долгое время хоть однажды могли бы сказать сами себе то же,
что у Шиллера тень Шекспира говорит любителям уютно-домашних бюргерских
представлений:
Aber das habt ihr ja alles bequemer und besser zu Hause60.
Нет! Древность никогда не была такой простоватой, такой немыслимо глупой,
как это воображают себе те толкователи, которые являются просветителями для невежд, для более сведущих же представляют собой подлинных обскурантов древности, повсюду инстинктивно пытающихся истребить и уничтожить даже и в древности все то, что не соответствует слабоумию и убожеству их собственных понятий,
представлений и в особенности религиозных воззрений — все то, что способно их
посрамить.
В элевсинских оргиях должно было быть представлено нечто более глубокое,
нежели будничные события обработки почвы, посевной и уборки урожая. Умилостивление и примирение скорбящей Деметры, т. е. примирение самого раненного сознания, было смыслом и истинным содержанием этих мистерий, доказательством
чему могли бы служить уже хотя бы приведенные гомеровские стихи. Полагая начало оргиям для своего собственного постоянного умилостивления и примирения,
Деметра тем самым признает, что нуждается в таком постоянном, никогда не прекращающемся утешении, и это на самом деле так. Ибо до разлуки с Персефоной она
представляет собой принцип, ревнующий о реальном боге, который должен быть
преодолен — с тем чтобы на том месте, где прежде был лишь исключительно Единый,
возникло свободное множество. Таким образом, Деметра есть первая предпосылка
всякого иного богопочитания и даже первый предмет всякого культа — слово, которое в отношении Деметры и родственных ей божеств имеет свое собственное значение. Как земля дожна быть преодолена в своей косности, умягчена, перевернута
плугом, одним словом, обработана, дабы из нее могла произойти полнота плодов, —
точно так же должно быть перевернуто и преодолено в своей косности сознание,
дабы из него могло произойти освобождающее сознание божественное множество.
Поскольку Деметру необходимо ублажать, с тем чтобы могло возникнуть это свободное божественное множество, постольку сам этот экзотерический политеизм
требует культа Деметры или имеет его в качестве своей предпосылки. К тому же
тот принцип, который требует в ней примирения, лишь преодолен, но отнюдь не
492
Вторая книга. Мифология
уничтожен, равным образом он не преодолен раз и навсегда, но пребывая в постоянном разъяснении и открытии, представляет собой предмет непрестанной заботы,
умилостивления и нескончаемого примирения.
Вот то, что необходимо сказать о похищении Персефоны и скорби Деметры.
Теперь, однако, мы имеем право, делая дальнейший шаг в нашем изложении,
рассматривать Деметру как действительно уже успокоившуюся; Персефона теперь
уже окончательно и с одобрения своей матери навечно становится супругой Гадеса,
Деметра примиряется со всеми богами, и после того как она внутренне успокаивается, внешне теперь она всецело предана Дионису. Мир богов Зевса есть собственно
Дионисом (вторым, А2, коль скоро я говорю о Дионисе абсолютно) произведенный
мир — все эти боги Зевса суть лишь маскирующие исключительного, реального бога, и именно поэтому полагающие его как невидимого, как только основание,
образы; и ведь именно к этому — к сведению первого бога к простому основанию,
к материи и фундаменту разнообразного, разделенного бытия, — было направлено
все действие Диониса; как в природе исключительный принцип становится основой многообразного и разделенного бытия, точно так же и в мифологии: а значит,
мир Зевса, т. е. положенных Зевсом богов, — есть мир Диониса, и сам Дионис присутствует в Зевсе. Так, в одной из изваянных Поликлетом статуй, которую описывает Павсаний, Зевс — совершенно так же, как и Дионис — выступает на высоких
котурнах, с чашей вина в одной руке и жезлом Бахуса в другой, на конце которого
восседает орел Зевса: комбинация, которую никоим образом не возможно было бы
объяснить без предположенного нами отношения. Теперь то божественное множество, которое до сей поры присутствовало в эллинском сознании лишь в свернутом
и непроявленном виде, может свободно и нестесненно выступать вплоть до самых
древних и отдаленных эпох, наполняя своей жизнью все пространства прошлого
и настоящего времени. Родился завершенный политеизм, всецело экзотерический,
ибо экзотерическим он может стать только в том случае, если освободится от того
принципа, который, будучи преодолен, становится эзотерическим. До сих пор сам
этот политеизм был еще эзотерическим, он не мог достичь совершенного рождения.
Для пеласгов (т. е. греков доэллинской эпохи — эллины стали греками именно в этом
последнем кризисе) — для пеласгов и в Додоне61 даже сам Зевс был еще тайной.
В Кноссосе на Крите (Kreta) в свое время существовали мистерии Зевса, т. е. сам Зевс
почитался еще в тайне. Лишь по прошествии этого внутреннего, в самом сознании
совершившегося кризиса — до сих пор не имевшее возможности свободного разделения и обособления, в смешанном виде существовавшее в сознании божественное
множество обретает полную свободу.
Поэтому с сего момента ни одно не могло упразднить другого. Ибо: 1) эзотерическое вновь и вновь производит само себя лишь посредством мифологического процесса; оно не может отделиться от него, оно возникает не как абстрактное,
Двадцать седьмая лекция
493
но всегда как окутанное им, помещенное в его оболочку; 2) экзотерическое столь
же мало способно упразднить это эзотерическое сознание; ибо само экзотерическое
в своем возникновении постоянно полагает эзотерическое, подобно тому как кожура всегда полагает сердцевину, и лишь постольку является кожурой, — поскольку она
окружает собой сердцевину; если бы оно не полагало эзотерического, оно само было
бы увлечено в темную глубину того месторождения, в котором не существует отделения и обособления; его (эзотерического) внешнее, свободное бытие предполагает
все стесняющее как уже преодоленное, т. е. как эзотерическое. Лишь по мере того,
как всякое препятствующее множественности и отвергающее ее единство само отходит в область сокрытого, в мистерию, во внешнем остается стоять множественность
как чистое произведение, которое уже не охвачено темным становлением, но представляет собой теперь уже действительно ставшее, и именно поэтому становится
предметом совершенно свободного и даже осознанного развития (Entfaltung), какое
мы видим, напр., уже в «Теогонии» Гесиода. Сознание, стесненное и испытывавшее
давление со стороны этого множества, покуда оно еще было для него внутренним,
теперь словно бы отстранило его от себя, отойдя в свое внутреннее святилище, будучи свободно по отношению к сделавшейся всецело объективной множественности.
И здесь я не могу не сделать еще одного общего замечания о том, что, конечно же,
в соответствии со всем этим изложением, эллинский политеизм должен представляться нам совершенно иначе, нежели, напр., в остальном высокочтимому Крейцеру
и всем тем, кто видит в нем лишь смешанные и расщепленные фрагменты некогда
бытовавшего чистого учения. Будучи далек от этого, завершенный политеизм сам
представляет собой великое освобождение. Через полагание этого внешнего, экзотерического политеизма сознание достигает — или освобождается до — степени
того внутреннего, чисто духовного познания, в котором оно имеет дело теперь уже
с одними лишь чистыми причинами, которые затем сами, в свою очередь, приводят
к познанию еще более высокому, которое, однако, даже в учении мистерий обозначается лишь как будущее, как предстоящее и охраняется как глубочайшая тайна, за
обнародование которой грозит смерть либо вечное изгнание.
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ
Если эллинская мифология является последней из всех мифологий и представляет собой конец самого мифологического процесса, то в ней должны обнаружиться
не только принципы всякой мифологии — ибо в конце открывается и становится явным все, что было в начале — но также и она сама, как порождение последнего кризиса, должна отличаться от всех прежних мифологий; политеизм в ней должен принять иное значение, отличное от того, что мы могли видеть в прежних богоучениях,
где ему все еще приходилось вести борьбу со своей противоположностью. Пожалуй,
всякий ощущает известное различие между тем впечатлением, которое производят
на него боги прежних эпох, и тем, что оставляют боги греческой мифологии. Или кто
не испытывал ощущения того, что в древних мифологиях заблуждение представляется большим, более серьезным, в греческом же мире богов — более легким и даже
привлекательным?
Также и греческая мифология основывается на первоначальном заблуждении,
на подъеме собственно быть не должного принципа: она не могла бы быть без этого
заблуждения, она предполагает его; в силу этого также и она есть ложная религия,
религия заблуждения; однако поскольку она преодолела это заблуждение, по меньшей мере в его действии, она именно тем самым, в свою очередь, обретает нечто
в роде относительной истинности, она становится истиной своего рода, точно так
же как и природа есть собственного, особого рода, истина. Ибо вся природа есть
в известном смысле заблуждение; никто не будет склонен приписать ей ту же реальность, которую он приписывает Богу и своему собственному духу; однако несмотря
на то что мы признаем за ними совсем иную реальность, нежели за чувственным миром, мы все же не можем отказать этому последнему во всякой истинности, и более
того, поскольку в нем быть не должное (т. е. когда оно есть), ложно сущее, а значит —
заблуждение, уже отчасти в свою очередь подвергнуто отрицанию, упразднено, —
эти, пусть даже всего лишь относительные, негации быть не должного, в качестве
каковых мы можем рассматривать отдельные вещи, сами обретают некий род истинности, а именно относительной, не абсолютной. Если бы, таким образом, греческую мифологию, поскольку она основывается на первом заблуждении, на первой
Двадцать восьмая лекция
495
дислокации (Dislocation), при которой принцип смещается со своего места, покидает
свои прежние границы и становится объективным, в то время как он должен был
быть лишь субъектом, лишь потенцией, — если бы на этом основании саму греческую мифологию пожелали назвать заблуждением, то следовало бы все же сказать,
что она есть прекрасное, чарующее заблуждение, как о природе на известной высшей ступени созерцания можно сказать, что она есть всего лишь красивое заблуждение. Она есть заблуждение, однако уже преодоленное и отчасти уже обращенное
в истину, представляющее собой переход к истине. Своеобразие греческого политеизма, однако, основывается на том, что он — пребывая посредине между прошлым
и будущим — позволяет сознанию иметь к себе совершенно свободное отношение.
Ибо поскольку греческая мифология оказалась способна заклясть лжерелигиозный,
дейсидемонический принцип древности и подчинить его себе как прошлое, принцип же совершенной духовной религии она полагает в мистериях как будущее, то дух
по отношению к остановившемуся посредине между прошлым и будущим, т. е. в настоящем и во всеобщем сознании божественному множеству приходит во всецело
свободное отношение.
Политеизм, переставая быть предметом собственного суеверия, как в восточных системах (суеверие в этих последних основывается именно на все еще длящемся
присутствии исключительного принципа, ложно-монотеистического), — переставая быть предметом собственного суеверия, политеизм, напротив, становится непосредственным предметом намеренного поэтического разъяснения. Серьезность
и строгость прежнего времени ушли из этих формаций; осталось лишь смягченное
величие; эти формации уже более не претендуют на религиозную реальность, ибо
собственно реальное погрузилось в глубину. Греческие боги суть то, чем — согласно
высшему созерцанию прилежащего науке или поэзии духа — являются вещи чувственного мира; они суть действительно всего лишь явления, лишь сущности высшего воображения, точно так же не претендующие на высшую истину, как мы не
ожидаем этого от поэтических образов. Однако на этом основании они еще не могут
рассматриваться как порожденные исключительно поэзией; такое всего лишь поэтическое значение может представлять собой только конец процесса, но никак не
его начало. Эти образы возникают не благодаря поэзии: они лишь обретают благодаря ей внутреннюю просветленность; сама поэзия возникает лишь одновременно
с ними и в них самих.
То же, что говорится об этом чисто поэтическом значении греческой мифологии,
относится лишь к экзотерическому, внешнему, для себя остановившемуся и застывшему политеизму. Было бы односторонним суждением, если бы эллинскую религию
в ее богоучении пожелали оценивать лишь в том виде, как она предстает, напр., в гомеровском эпосе. Мистерии представляют собой другую, и отнюдь не случайную,
но необходимую сторону эллинской религии. Среди прочего, из этого отношения
496
Вторая книга. Мифология
явствует также и то, сколь мало имеется оснований считать доказательством послегомеровского происхождения мистерий, как говорят, свободное от всего мистического
богоучение Гомера. Что, во-первых, касается привычного, по умолчанию принимаемого доказательства такого послегомеровского происхождения — т. е. того факта,
что Гомер нигде не упоминает мистерии, — то оно, как известно, повсюду является
ненадежным и недостаточным. Кроме того, вполне могли бы найтись также и такие,
кто пожелал бы признаться в том ощущении, что Гомер никогда не упоминает без
своего рода тайного внутреннего содрогания, напр., известные своими мистериями
острова Лемнос, Имброс и Самофракию*. Однако мы не будем делать из этого далеко
идущих выводов. Зато мы непременно спросим, что именно понимается под этим
якобы отсутствующим у Гомера мистическим элементом. Если под этим понимается
само учение мистерий, то я замечу, что об учении мистерий в данном разъяснении
вообще не может идти речи. Ибо все, что есть учение, доктрина, — вырабатывается
лишь с течением времени, и нам пришлось бы противоречить очевиднейшим фактам, если бы мы сами не утверждали, что учение мистерий вырабатывалось сукцессивно и приняло завершенные формы весьма поздно, по всей видимости, лишь незадолго до персидских войн. Об этом, следовательно, не идет речи в пределах всего
данного исследования. Речь идет об основе, об основном материале мистерий, и вопрос в том, дан ли он уже вместе с самой мифологией или обнаружился лишь позднее, будучи, как это представляют себе Фосс и его сторонники, доставлен в Грецию
контрабандой. Если мы, теперь, таким образом определили вопрос, если речь идет
не об учении мистерий, но о мистическом элементе, то этот мистический элемент,
наличие которого никак не хотят обнаружить у Гомера, не может быть ничем иным,
как уже указанным ложно религиозным элементом ранних восточных систем. Этот
последний действительно отсутствует у Гомера — ибо ложно Единое спрятано, замаскировано именно политеизмом, превратившись как бы в его основу и в его внутреннюю, сокровенную часть, — а значит, конечно же, оно должно стать невидимым
у Гомера.
Однако, можете возразить вы, у Гомера нет и тени его, и намека на него, в то
время как именно у Гомера оно должно было быть обозначено как сокровенное, как
мистическое. Однако в этом случае Гомер не был бы Гомером. Гомер, т. е. гомеровский политеизм, основывается как раз именно на этом забвении мистического. Гомер сам есть кризис, он сам есть результат, осадок (Residuum) этого великого кризиса. Он как последнее порождение великого прошлого принадлежит не отдельному
народу, но всему человечеству. Он есть символическая личность, в которой высказал себя чистый, всецело свободный от своей противоположности политеизм. Не он
Ср.: Одиссея, II, 134.
Двадцать восьмая лекция
497
породил мифологию, но он сам есть порождение мифологии, ее последнего кризиса.
Если же Гомер есть тот, в ком получила завершение эта чисто мифологическая история богов, и кто в этом смысле, безусловно — как говорит лишь теперь понятный
для нас Геродот, — первым создал для эллинов теогонию: то следовательно, отделение мистического элемента, т. е. возникновение, первое основание мистерий должно
мыслиться именно как одновременное с Гомером. Однако поскольку этот процесс
отделения в Гомере полностью совершился и был доведен до конца, теперь следует
утверждать, что мистерии по своему первому основанию являются более древними,
чем тот Гомер, о котором здесь сперва идет речь, а именно — они древнее, чем этот
законченный, завершенный, или, как мы могли бы еще сказать, последний Гомер.
Гомеровский мир богов молчаливо хранит в себе тайну, он словно бы воздвигнут
над пропастью этой тайны, словно скрывает ее под ворохом цветов. Гомеровское божественное множество само есть превращенное во множество Одно. Греция именно
потому имеет Гомера, что она имеет мистерии, т. е. потому, что ей удалось одержать
полную победу над тем принципом прошлого, который в ориентальных системах
был все еще господствующим и внешним, вновь обратив его во внутреннее, т.е.
в тайну, в мистериум (из которого он первоначально и произошел). Чистое небо,
возвышающееся над гомеровскими стихами, могло быть простерто над Грецией
лишь после того, как темная и затемняющая власть этого вселяющего ужас принципа (вселяющим ужас называют все то, что должно было оставаться в тайне, в сокровенном и, тем не менее, вышло наружу) — тот эфир, что раскинул свой купол над
миром Гомера, мог быть распростерт над ним лишь после того, как власть жуткого
принципа, властвовавшего в прежних религиях, была повержена и осела в мистериуме1; гомеровская эпоха могла подумать о том, чтобы детально выработать эту чисто
поэтическую историю богов, лишь после того как собственно религиозный принцип был погружен во внутреннем, и дух вовне стал всецело свободен. Однако, как
сказано, во всех этих утверждениях речь идет лишь о начале, основании мистерий.
Это последнее должно было быть положено возникновением чистого политеизма —
и даже еще прежде того, как этот последний получил свое последнее гомеровское
оформление. Ибо, впрочем, никто — кто не пожелает противоречить фактам и даже
вполне определенным свидетельствам — не станет отрицать: то, что в конечном итоге получает в Греции форму учения мистерий, возникало лишь постепенно и обретало свои завершенные черты также лишь в ходе сукцессии.
Наконец, и еще до того, как мы оставим это общее рассуждение, необходимо
сказать также и еще несколько слов о гомеровских богах в целом. Ибо я не думаю,
что каждый в состоянии с совершенной точностью представить себе эти существа.
Прежде всего я отмечу: 1) что гомеровские боги действительно и поистине мыслятся как боги, а не как аллегорические изображения или персонификации природных сил. Они суть — действительные боги; ибо в них живет семя Бога, первого,
498
Вторая книга. Мифология
единственного, исключительного Бога: они есть именно благодаря тому, что этот
последний сделался для них только потенциальным. В них живет не природа,
но Бог, они суть лишь завуалированный Бог. 2) Они суть действительно многие,
а не — подобно богам первого времени, в которых все еще властвует исключительно Единый, — лишь формально многие. Действительное, т. е. также многообразное
множество — в противоположность абстрактному — возникает лишь там, где исключительно Единый действительно, и в то же время внутренне, преодолевается.
3) Они — именно потому, что.реальное в них приведено к самому себе, не только
внешне, через простую фикцию, — суть облеченные духовностью образы, но они
суть также и в самих себе и внутренне духовные сущности, подлинные личности,
свободные нравственные природы; и поскольку они, хоть и будучи ставшими, тем
не менее останавливаются как результат теперь уже полностью завершенного и не
могущего повториться процесса, они также не подлежат никакому дальнейшему изменению, являются бессмертными (главный их предикат). Как описательные, ограниченные понятия они являются 4) также всегда в определенных образах, а именно — в образах человекоподобных, которые единственно подобают обращенности
вовнутрь и в духовное. Однако это человекоподобие их образов не распространяется
одновременно и на материальные свойства человеческого тела. Хотя мы и назвали
Зевса и относящихся к нему богов материальными богами, однако лишь в противоположность формальным — тем, также и теперь еще пребывающим над ними богов,
которые уже более не мыслятся как ставшие, но лишь как чистые потенции, чистые
сущности: они суть материальные боги, ибо реальный бог стал материей, основой
их бытия; слово «материя» употреблено здесь не в физическом, но в философском
смысле, где оно означает лежащее в основе, ύποκείμενον2 (а не: подверженное разрушению, ветхое, преходящее). Здесь, однако, я отличаю человеческий образ от
его материальных свойств. В этом смысле данные боги не суть материальные боги,
но — как говорит Эпикур о своих богах — они имеют лишь как бы тело, их кровь
не есть кровь, но лишь подобие крови*. Гомер приписывает им άμβροτον αίμα3, бессмертную кровь. Они — легкоживущие, ρεΐα ζώοντες4, они суть лишь духовные тела,
σώματα πνευματικά5, какие в Новом Завете приписываются воскресшим из мертвых.
Они не могут быть полностью лишены образа, ибо в них получает образ именно
в себе безобразное, именно то самое первоначальное исключительно бесконечное;
ничего же прекраснее человеческого образа помыслить себе невозможно. Зевс уже
более не допускает ничего дикого, ничего дочеловеческого; в нем является теперь
уже — человекоподобный, а значит — сам ставший человеком бог, который в египетской мифологии все еще является животным. Человеческий облик богов столь же
Цицерон. О природе 6огову 1,18.
Двадцать восьмая лекция
499
необходимо является концом мифологического процесса, как человек — концом
естественного процесса. Человеческий образ есть именно знак побежденного, лишенного своего господства слепого бога. Сам он, который как слепо сущий пребывает вне своей божественности, благодаря этому преодолению вновь приводится
к своей божественности. Человеческий образ, следовательно, является знаком его
апофеоза; и если Крейцер и другие так много говорят о чувственном антропоморфизме греков, то здесь господствует такое же недоразумение, как и то, что политеизм
он может мыслить себе лишь как порчу и искажение. Мы точно так же не позволим этому недоразумению затемнить для себя наивный взгляд на мир греческих божеств, как и воззрению тех, которые были бы склонны культ звезд и стихий считать
за более чистую и духовную религию, ставя ее выше, чем культ изображений греков.
Конечно, тот бог неба, которого почитало древнейшее человечество, также был духовным — однако он не был одновременно исторической сущностью (Wesen); ибо он
противился движению вперед, а тем самым он был еще до и вне всякой мифологии —
как неисторическая сущность. Однако ему пришлось уступить место высшему богу,
сделаться его материей. Именно здесь первоначально духовный забизм спустился до
почитания материальных звезд, и этот ставший материальным, однако вновь обращенный в духовность бог — и есть тот, благодаря коему возникают духовные боги,
представляющие собой теперь уже не только нравственные, но также и исторические сущности; это есть та точка, на которой стоит эллинская мифология.
Что касается поклонения изображениям, которое ставят в упрек грекам, то я
хочу отметить: именно изображением богов характеризуется духовный политеизм.
Ибо лишь тот бог, который сам не является природным предметом и уже более не
совпадает с представлением о таковом, нуждается в изображении; и наоборот: тот,
кто видит бога как действительный предмет, будь то как звезду, как Солнце, напр.,
или как животное, — может обойтись без изображения, а в том случае, напр., если
он хочет приблизить к себе таких далеких, почитаемых как Солнце и Луна, богов, он
вполне сможет удовлетвориться даже самыми грубыми и примитивными подобиями. Лишь то, что воспринято в духе и живет как чистая мысль, может также, в свою
очередь, быть представлено как истинно духовное творение. Мы, таким образом,
можем обозначить то воззрение, которое желает выдать греческий политеизм лишь
за некую высшую форму фетишизма, как само по себе варварское, и напротив, признать всецело справедливым то самоощущение, с которым одухотворенный и образованный эллин, как в известном месте Аристофана, смотрит сверху вниз с высоты
своего духовного политеизма на Солнце и Луну как на божества варваров .
Раху 408-411. Сюда относится также и место в Платоновом Кратиле, 397D.
500
Вторая книга. Мифология
Как свободные духовные природы, греческие боги также и в дальнейшем пользуются безусловной свободой движения. Они уже более не являются, подобно звездным богам первой эпохи, непрестанно движущимися, но, содержа в себе принцип
непрестанного движения, они представляют собой всецело преодоленную звездную
стихию (Gestirn). Все произвольные движения основываются на чередовании сжатия
и растяжения или наоборот. На таком чередовании основываются также и космические движения. Разница лишь та, что эти силы сжатия и растяжения в органическом
мире подчинены высшей потенции, которая произвольно ими распоряжается. (Если
настало A3, то также и В стало духом, волей, подчиненной одному лишь этому A3.)
Этот шаг ко всецело человекоподобному образу способных к свободному движению богов был бесспорно величайшим, и лишь постепенно и поступенно греческое сознание решалось на то, чтобы показать человекоподобный образ богов также
и в изобразительном искусстве, в действительном представлении.
В древнейшую эпоху еще совершенно неразделенного, а значит — доэллинского сознания все эллины (Павсаний отчетливо говорит τοις πασιν Έλλησι6) поклонялись диким камням (λίθοι αργοί7) вместо изображений богов . Это поклонение богам
в форме камней и т. д. соответствует глухому пеласгическому сознанию еще не проявившихся богов**. Ибо упоминаются также и необработанные куски древесины (колоды), под видом коих почитались уже определенные божества, которых сознание
не решалось мыслить себе в определенном образе, напр., ξύλον ούκ είργασμένον8 в качестве образа Артемиды у икарийцев***. Понятие диоскуров (неразделимо соединенных) было представлено в Спарте двумя деревянными сваями, соединенными посредине поперечной перекладиной
. Позднее появляются колонны или кеглеобразные
камни — такие, как описанное Тацитом***** изображение Афродиты на Пафосе, или
изображение Зевса в виде пирамиды в Сикионе. Следовательно, тот момент, когда
люди впервые решились изображать богов в человеческом облике, был великим моментом. Те уродливые, хотя в целом и человекоподобные изображения богов финикийцев, следы которых отчасти можно найти даже и в Индии, ибо, напр., изображение Яггернаута напоминает финикийские изображения Молоха, были следствием
не примитивности искусства, но того страха перед всем человеческим, которым
этот жуткий религиозный принцип, еще не будучи побежден, преисполняет человеческое существо. Чем менее человеческим выглядит изображение, тем более оно
* Павсаний, VII, 22.
Dorfmuller, p. 64.
Климент Александрийский. Протрепт., 40. Геродиан упоминает εικόνα Ήλιου άνέργαστον (необработанное (неискусное) изображение Солнца (греч.), — (кн. V, 182).
**** Plut. Défont, p. 478.
***** История, И, 3.
Двадцать восьмая лекция
501
божественно. Человеческий образ — самый последний, la plus finie, a значит — наиболее конечный, наиболее противоположный этой дикой бесконечности. Гораздо
больше дикого, бесконечного заключено в животном и в облике животного. Когда
человекоподобное невозможно всецело отрицать, его в свою очередь пытаются объяснить извращением и искажением черт. Египетские боги предстают с человеческими телами, однако имеют головы животных. Этой мерзости смогли избежать эллины,
если не принимать во внимание нескольких отдельных поползновений, к числу которых относится уже упоминавшаяся Деметра в Фигалии, имеющая голову лошади,
окруженную змеями*. Эллин избежал этих мерзостей именно благодаря тому, что
он также и в искусстве дольше проявлял сдержанность, удовлетворяясь закрытыми,
еще не развернутыми до образа, символами. Даже и тогда, когда человеческие черты
были уже намечены, греческие художники все еще не дерзали делать изображения
всецело свободными и независимыми от безжизненной массы. Свободно стоящие,
обнаженные скульптуры соответствуют уже освобожденному, всецело уверенному
в своем предмете, сознанию.
Художники подземных храмов Элефанты и Сальсетты9, несмотря на то что им
удавалось изображение выпуклых и с совершенной рельефностью изваянных фигур,
все же не решались полностью освободить их от основы, оставляя их связанными
с массой, словно с матрицей, в которой и из которой сами боги появлялись лишь
с течением времени. Также и в Греции отнюдь не сразу решились устанавливать статуи, свободные от массы, на свободном обозрении — доступными и видимыми со
всех сторон. В этом, а не в несовершенстве искусства как такового, заключается причина того, что огромное количество скульптур выполнено с плоско прилегающими
к корпусу руками и тесно составленными вместе ногами. Как известно, различные
греческие писатели говорят, что древнейшие божества Египта и Греции изображались именно таким образом, и кроме того, то были — пребывающие с закрытыми
глазами, как бы в состоянии еще не отлетевшего сна, окутанные реальным принципом, еще не пробудившиеся боги. Они имели человеческий облик, однако не обладали человеческой способностью свободных и произвольных движений, их руки
и ноги были, словно у мертвых, сведены вместе и словно приклеены друг к другу,
их глаза — как инструменты того чувства, которое преимущественно и прежде всего имеет отношение к произвольному движению, — закрыты. Как известно, также
и ноги амклейского Аполлона внизу были окутаны некой массой, хотя и выступали из нее. В свободном, произвольном движении выказывает себя все полностью
освободившееся, живое. Художники, таким образом, еще не решались ваять живых богов, они еще придерживались принципа хоть и не безжизненной, но все же
Павсаний, VIII, 42.
502
Вторая книга. Мифология
неподвижной, массы. Подвижные, свободно двигающиеся боги представлялись сознанию слишком мимолетными, слишком изменчивыми.
Наилучшее понимание значения этих изваяний, а равно понимание того, что
они ознаменовывают собой не столько момент в развитии искусства, сколько в развитии религиозных понятий, наилучшее доказательство всего этого может дать место Плутарха, где он говорит: египтяне среди прочего рассказывают также о Зевсе
(т.е. об Амуне), что он имел сросшиеся ноги (συμπεφυκότα τα σκέλη10); а поскольку
он не мог ходить, из чувства стыда ему пришлось оставаться в одиночестве (в сокровенном, μονότης11), до тех пор пока Исида не разделила его конечности разрезом, дав
ему таким образом способность свободного передвижения*. Я не могу здесь отказать
себе в удовольствии отметить, что это повествование подтверждает наше прежнее
объяснение египетского Амуна. А точнее, мы сказали, что именно бог до своего явления, до расхождения потенций мыслится как движение, шаг бога — в соответствии
с исконно древним образом, где творение представляется как исход Бога из самого
себя, как начало пути, как приготовление к странствованию. Это тот же самый образ,
в соответствии с которым Ветхий Завет также говорит о путях Господних, и Пфрп12
говорит: «Иегова сотворил меня в начале пути Своего», т.е. еще прежде, нежели он
пришел в движение. Так египетское представление дает еще сокровенному и пребывающему в одиночестве (т. е. еще не предстающему во множестве потенций) Аммону
Исиду, которая помогает ему в движении, точно так же, как еврейскому творцу мира
помогает Пфрп. Первоначально одинокого и замкнутого египетского бога Исида побуждает к выходу из себя самого, т.е. к творению. Таким образом, то же самое, что
египтяне рассказывают об Исиде в этом месте Плутарха, рассказывают, и причем совершенно теми же самыми словами, греки о Дедале, с которого они начинают свою
историю искусства. Они говорят, что именно он первым дал своим статуям шагающие ноги (διαβεβηκότα τα σκέλη13) и открытые глаза. Указанная параллель с египетским повествованием, поэтому, является очевидным доказательством того, что
предание о Дедале относится к сфере иной, нежели сфере только истории искусства.
Древнейшие боги, звездные боги, были подвижными, однако их движение не было
поступательным, прогрессирующим, а следовательно, оно было = неподвижности.
Дедал уже одним своим именем, характеризующим собой природу, производящую
разнообразную, пеструю и многоликую жизнь, а также тем, что является строителем
приписываемых ему подземных гротов и лабиринтов, с очевидностью принадлежит
эпохе перехода, а именно — перехода от строгого единства забизма к многообразию позднейшего политеизма. В сказании о Дедале заключено, таким образом, по
существу лишь воспоминание о первом переходе от неподвижных, не способных на
Об Исиде и Осирисе, 62.
Двадцать восьмая лекция
503
поступательное движение, — к подвижным, способным на такое движение, богам.
Оно, однако, не было непосредственно переходом искусства, но переходом прежде
всего религиозного, мифологического сознания. Страх перед изображением свободно движущихся богов исчез, по словам греков, лишь после Дедала, который, принадлежа одновременно Египту и Греции (ибо легенда, которая в эту эпоху еще не
мыслит человечество как разделенное, переносит его также и туда), лишь знаменует
собой общий переход в мышлении.
Еще дольше, чем страх изображать богов в свободном движении, продлился
страх наделять их чисто человеческими чертами лица, и даже после того как дух давно уже свыкся с человекоподобными изображениями, религиозное чувство все еще
требовало таких черт, которые бы напоминали ему ужас темного прошлого. Ужас,
смешанный с благоговением, должно быть, вызывали также и те портреты, которые
выдавались за творения Дедала и о которых Павсаний говорит: в них на взгляд присутствует нечто неоформленное, они суть άτοπώτερα προς την όψιν 14 , однако в них
живет нечто действительно божественное*. Возможно, что к подобным же произведениям относилась речь Эсхила, который сказал о пеане современного ему поэта
Тиниха: в сравнении с ним сочиненное им самим (Эсхилом) будет подобно древним
изображениям богов, которые, хоть и отличаются простотой работы, но, тем не менее, признаются божественными, тогда как новейшие изображения хоть и вызывают
удивление, однако никто и никогда еще не усматривал в них ничего божественного**.
По причине этой приверженности к древним, привычным и испытанным изображениям великому скульптору Онату, после того как древнее изображение черной
матери богов (Деметры) в Фигалии15 было утрачено, пришлось изготавливать новое,
руководствуясь своими сновидениями, в которых ему являлась сама богиня. Речь
шла, таким образом, о vera Icon.
Разве ван Фик (van Fyck), этот Дедал новейшей живописи, сделал в сущности
что-нибудь еще кроме того, что облагородил величием своего искусства и еще более
усилил ужас древних, освященных церковью изображений? Кто не ощущает этого
облагороженного ужаса, созерцая окровавленную голову на платке св. Вероники
или глядя на сосредоточенно-серьезную, строго симметричную голову Христа, выполненную его величайшим учеником Хеммелинком, которые можно видеть ныне
в музее Мюнхена?
Когда уже ставшее свободным искусство неуклонно и неудержимо преобразовывало древние формы в человеческое и естественное, оно все же не посмело коснуться
освященных древностью и происхождением ликов богов. Искусство все еще сохраняет древние традиционные черты, однако преподносит их с непроизвольной иронией,
Павсаний, II, 4.
Порфирий. О воздержании, II, 18.
504
Вторая книга. Мифология
которая, напр., явственно просматривается в достопримечательных эгинетических
изображениях. Здесь черты лица стоят в почти необъяснимом противоречии с достоверным и сообразным природе исполнением прочих частей тела. Можно ясно видеть: художники, которые смогли отобразить все иные части тела с такой правдивостью и отчасти даже наивной верностью натуре, наверняка оказались бы способны
изобразить с равной достоверностью также и черты лица. Что удерживало их от этого? Можно было бы, напр., сказать: греки во всем придерживались закономерного
хода, они поэтому сперва занимались подчиненными частями тела, в отличие от современного искусства. Такого объяснения было бы достаточно, если бы исполнение
голов и лиц отличалось всего лишь меньшей степенью художественного мастерства
и выделки. Впрочем, возможно, это странное явление объясняется рабской зависимостью, в которой греческое искусство якобы пребывало от египетского? Однако
тем самым еще никак не объяснялось бы, почему эти художники, которые в отношении прочего тела уже всецело освободились от предполагаемых египетских образцов — ибо некоторые из тел в числе эгинетических фигур приближаются к наиболее прекрасным и совершенным во всем греческом искусстве — почему эти же
художники в отношении изображения лиц все еще должны были бы сохранять указанную зависимость от египтян? Эта боязнь, этот стыд искусства давать богам или
приравниваемым к богам героям (ибо также и Геракл принадлежит к числу этих изображений) человеческие черты лица, все еще нуждается, таким образом, в особом
объяснении. Конечно, в чертах лиц эгинетических фигур просматриваются влияния
более древних образцов, однако не именно египетского, но того древнего искусства
вообще, которое пыталось передать божественное лишь посредством искаженных
и обезображенных человеческих черт, не показывать его открыто, но лишь в завуалированном виде, посредством сообщаемого чертам вне- и нечеловеческого — чужеродного элемента, сообщая им вид жуткий, ужасающий. В конечном итоге, то же
самое чувство еще и сегодня заставляет обычного человека предпочесть уродливое,
и в особенности в отношении черт лица искаженное изображение какого-либо святого — самому прекрасному изображению того же святого, выполненного, скажем,
Рафаэлем. В действительности искусство никогда не представляло черты лиц богов
параллельно с человеческими, но оно либо низводило их до человеческих, либо возвышало их над ними. Никогда божественное, а вследствие этого — также и героическое, не имело права быть простым подражанием человеческим чертам, если
оно не хотело утратить всякую веру в свое высшее значение. Однако, как сказано,
в эгинетических фигурах влияние таких образцов не более чем угадывается; по ним
Ср.: «эгинетическая улыбка» — улыбка, выражающая ироническое превосходство над помыслами
и переживаниями людей.
Двадцать восьмая лекция
505
можно легко заметить, что эти искаженные формы уже более не считаются священными, они очевидно воспринимаются уже с иронией, эти лица представляют собой
подлинные маски, т. е. художник осознает, что он изображает не подлинное, не действительное, но лишь следует форме, некогда признававшейся за священную. Если
вытянутые в длину, наподобие китайских, глаза этих фигур, их сильно изогнутые,
с поднятыми углами губы, придающие им выражение усмешки, пожелать вывести от
египетских оригиналов, то тогда, в свою очередь, придется объяснять, почему и каким образом подобные формы могли возникнуть в египетском искусстве. Ибо предполагать, что в Египте они были подражанием действительной природе, т. е. что сами
египтяне в какое-то время выглядели подобным образом, — предполагать такое нет
более никаких причин, с тех пор как китайцев уже более не выводят от египтян и
с тех пор как хорошо сохранившиеся головы египетских мумий, и черепа дали нам
понятие о совсем иных формах. Тот же, кто имел возможность наблюдать, как известное ложно-набожное чувство проявляется, в частности, в перекашивании или
в закатывании глаз, или в известного рода пошло-сладковатой улыбке на губах, тот
будет способен понять и узнать эти формы повсюду, где встретится с ними, и он
меньше всего станет мыслить греческое искусство в столь позорной зависимости от
египетского, чтобы оно могло подражать столь чуждым его природе и национальному духу, уродливым чертам египетских изображений. Если мы проследим движение искусства, то оно, как отмечено, собственно никогда и не мыслило простоту
человеческих черт как соединимую с божественным, но, едва лишь оно покидает
область человеческого, оно тут же возвышает все черты и пропорции до масштаба
сверхчеловеческого. Я поэтому выдвигаю предположение о том, что поиск перехода
к совершенным изображениям божественного как в Египте, так и в Греции, прежде
всего — выразился в сфере колоссального. Малые египетские идолы по большей части уродливы, однако в колоссальных сфинксах и других произведениях равно больших размеров человеческое лицо отличается самой правильной, часто совершенной
и вместе с тем в высшей степени выразительной красотой. Так, например, о духовном выражении, возвышенности и удивительно захватывающем тихом блаженстве
головы юного Мемнона, выполненной из розового гранита и находящейся в Британском музее, среди знатоков существует лишь одно мнение. То, что упомянутые
эгинетические фигуры по большей части не достигают натуральной величины, диктуется, конечно, прежде всего высотой фронтона, где они устанавливались, однако
мне кажется, в них есть черты, указывающие на то, что искусство в то время, когда
возникали эти творения, вообще еще не успело подойти к опытам в колоссальном.
Возможно, что то своеобразие, которое, по всей видимости, уже с самого первого
взгляда отличает эгинетические творения даже и от наиболее древних аттических,
основывается на чем-то внешнем, вроде пропорций и измерений. Примечательно,
по меньшей мере, что Павсаний, говоря об Онате, которого он везде характеризует
506
Вторая книга. Мифология
как того, благодаря кому эгинетическое (äginetische) искусство вознеслось на равную высоту с аттическим, — что Павсаний при этом наибольшую ценность признает за сотворенными Онатом колоссами, которые ни в чем не уступали изваянным
Фидием*.
Если изобразительное искусство, наконец, лишь постольку могло без боязни
принять чисто человеческие формы, поскольку оно одновременно возвышало эти
формы до уровня сверхчеловеческого, то теперь, наоборот, это чудесным образом
возвышенное человеческое сделалось удостоверением реальности богов как действительно высших и принадлежащих высшему порядку вещей существ, как Квинтилиан
говорит об олимпийском Зевсе: cujus pulchritudo adjecisse aliquid etiam receptae religioni videtur16.
Павсаний, VIII, 42.
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ
Мы теперь проследили греческую теогонию вплоть до возникающего вместе
с Зевсом божественного множества, или, как мы сказали бы вернее, до возникающего
вместе с ним духовного государства богов. Ибо не один лишь Зевс, но Уран, Кронос
и Зевс предстают в конце развития как моменты духовного божественного множества.
Тот Уран и тот Кронос, которые приняты в эллинскую историю богов, равным образом переносятся в духовный мир и уже не являются теми же самыми, которых имели
в виду финикийцы и древнейшие почитатели звезд. Однако было бы неверным и противоречащим высказываниям самой теогонии воззрением, если бы это последнее возникновение богов пожелали рассматривать так, как будто все эти боги только что здесь
возникли. Напротив, Зевс лишь освобождает этих богов, позволяя им явиться, равно
как Дионис в своем высшем действии есть лишь искупающий их (Λύσιος1, как его и называют), полагающий их в свободе, а также, конечно, одновременно возвышающий их
до ранга исторических существ бог. Они существуют еще и до этого, однако будучи
заключенными в темном месторождении все еще настаивающего на своей исключительности и нераздельности реального бога. Они существуют в нем, однако безо всякого различения и обособления. Это отчасти угадывается уже в «Илиаде», где история богов становится теперь действительно легендой, сладкозвучной сказкой, которая
в своем невольном и невинном упоении речью нередко, кажется, впадает в забытие
и входит в противоречия. Ибо, напр., с одной стороны, предполагается, что лишь Зевс
впервые освободил всех своих братьев и сестер из плена державшего их в заточении
бога. Согласно «Теогонии», Зевса сразу же по его рождении крадут и прячут от подозрительного, ревнивого отца; тем не менее, в «Илиаде» упоминается, как Гера и Зевс
тайком от любящих родителей предавались любовным утехам — и еще до того, как
сами они увидели дневной свет, и во время правления Кроноса — Зевс уже успел приблизиться к невестинскому ложу Геры. Последний кризис поэтому есть не что иное,
как различение, обособление. Это признает и сама «Теогония»; ибо после того как
побеждены титаны, эти последние движения и порывы слепого, неразумного бытия,
* Илиада, XIV, 296.
508
Вторая книга. Мифология
а также последнее его порождение — Тифон (Typhoues), Зевсу больше уже ничего не
остается делать как, по словам, нами уже упоминавшимся, распределить между богами достоинства и ранги. Единственным действием этого последнего момента было,
следовательно, то, что боги, которые прежде имели изменчивый и непостоянный облик, теперь обрели каждый свой неизменный образ и твердое значение, свои постоянные и исключительно ему вмененные обязанности, а вместе с тем — и свое связанное
с ними неповторимое достоинство, тогда как ранее, в кроническом смешении сознания каждая сущность переходила в другую, и все они взаимно мешали свободному
развитию остальных. Как с обликом и достоинствами — так, понятным образом, дело
обстояло и с именами. Ибо кто, напр., видит, что Гера в некоторых относящихся к этому темному времени воспоминаниях являет собой одно с Персефоной (также и Поликлет дал ей в руку гранатовый плод, символ Персефоны), что даже высокая Афина, согласно тщательным сопоставлениям Крейцера, оказывается в родственном смешении
с почти всеми прежними женскими божествами, — тот, безусловно, видит также, что
и наделение именами, и различение, вследствие коего каждое имя сделалось достоянием лишь одного отдельного божества, было делом именно этого последнего момента.
Поэтому и не следует обманываться таким видимым тождеством между совершенно
разными божествами, не следует соблазняться возможностью позволить им слиться
в неразличимую массу, представить все как одно, в результате чего мифологическое
воззрение приобретает невыносимую монотонность. Все, что следует из такого взаимного смешения атрибуций различных божеств, есть новизна этого определенного
различения между персонажами, а вследствие этого — также и присвоенных исключительно определенным божествам имен.
Выходящие на свет вместе с Зевсом боги, конечно, должны были существовать
еще до Зевса, ибо и сам Зевс существовал еще прежде Зевса, т. е. прежде того определенного момента, который обозначен его именем. Именно сюда относится то, что
древние говорят о первом, втором и третьем Зевсе, и равным образом то, что они говорят о первой, второй и третьей Артемиде, а также все говоримое о разных Гермесах, которых у одного лишь Цицерона насчитывается шестеро*. Пройти и объяснить
эти различные аппарации (Apparationen) одних и тех же богов в различных — ранних
или поздних — моментах, где они также всегда являются различным образом, — все
это является сугубым делом мифографов, однако лежит совершенно вне нашей задачи. Каждый отдельный бог, бесспорно, имеет также и свою специальную историю
или последовательность своих явлений в более ранних или более поздних моментах.
Однако их мы, как сказано, должны предоставить мифографам. Наше исследование не должно распространяться на случайности в развитии мифологии; наша цель
О природе богов, III, 21 sq.
Двадцать девятая лекция
509
состоит исключительно в установлении общего закона. Тем не менее, мифологическое движение, однажды придя к концу и будучи, таким образом, свободным и осмысленным, имело возможность свободного, добровольного расширения в ходе не
искусственной, но необходимой последовательности, и таким образом мы можем
найти здесь еще некоторое количество не упомянутых в предшествующем изложении образов, о которых скажем несколько слов под конец.
Материальными богами мы называем тех, которые возникают из взаимодействия трех потенций. Сами же эти потенции мы называем формальными богами, которых следует мыслить себе не как материальные или конкретные сущности, но лишь
как чистые причины. Поскольку, однако, в каждом из греческих богов принимают
участие все три потенции, а следовательно, в каждом осуществлена потенция духа
(A3), — все они представляют собой облеченные духовностью сущности, и в этом
смысле политеизм греков вообще может быть назван духовным. Как, однако, среди
материальных богов Зевс, Посейдон и Аид относятся между собой как три потенции,
так что Аид соответствует первой, Посейдон второй (преимущественно так называемому Дионису) и Зевс — третьей (в себе духовной), — так и другие боги той же формации, т. е. боги, возникающие лишь вместе с Зевсом, будут представлять собой лишь
различные отблески этих трех порождающих мифологию потенций. Каждый бог будет представлять один определенный момент отношения этих потенций. Однако мы
говорим не только, что порождающие или причинные потенции мифологии могут
быть распознаны в материальных богах и их различных свойствах, но похоже также,
что те боги, которые выглядят теперь как относящиеся к материальным, в какой-то
прежний момент имели формальное значение; или, говоря яснее, вероятно, что среди
материальных богов теперь могут быть найдены также и такие, которые ранее представали в сознании как формальные, однако не утвердились как таковые и позднее
сообщили свое имя одному из материальных, однако аналогичных, богов. Так, если
мы знаем, что греческая Афродита происходит из того отдаленного прошлого, из того
момента сознания, который в азиатских мифологиях обозначен Уранией, и если мы
далее видим, что в «Илиаде» Apec является супругом Афродиты, то под этим богомразрушителем (Аресом) едва ли можно мыслить себе что-либо иное, кроме потенции,
аналогичной индийскому Шиве. В более поздний момент сознания, где положенный
одновременно с Уранией относительно духовный бог уже являлся как освобождающий, а в своем позитивном качестве — как опосредующий дух, только разрушающий бог должен был отступить перед ним, однако он не утратился в сознании по
этой причине, но обрел теперь свое место среди материальных богов. О Гефесте я уже
высказывался прежде по другому поводу. Он есть божество, присутствующее в греческом сознании с древнейших времен, однако лишь вместе с Зевсом обретшее тот
определенный облик, в котором он теперь только и является в ряду греческих богов.
Он — сын Геры и Зевса. Зевс низверг его с неба; в этом, а также в его хромоте, которой
510
Вторая книга. Мифология
он страдает после падения с неба на землю, виден след того, что он, который теперь
представляет собой лишь Один принцип (т.е. является односторонним), был некогда
всесторонним и исключительным принципом — принципом всепоглощающего бытия. Однако именно это бытие, которое в своей исключительности не допускает ничего отдельного или конкретного, будучи подчинено высшему принципу, само превращается в материально-демиургическое, пластическое, художнически созидающее.
Поэтому Гефест есть божественный художник, материально- или пластически-демиургическая сила, согласно «Илиаде»* уготовляющая всем остальным олимпийским
богам их цитадели и жилища; также и в том проявляется его подчиненное положение, что он готовит им их жилища, а значит, по своему первому происхождению он
является исконно древним божеством. Как таковое он также и представлен, когда
в «Одиссее» ему в качестве подруги дается Афродита; ибо эти более древние божества лишь потому зовутся сыновьями и дочерьми Зевса, что они лишь вместе с Зевсом и благодаря Зевсу принимают свой постоянный образ. В специальном смысле
детьми Зевса зовутся после Зевса и благодаря ему рожденные боги — напр., Афина
Паллада, родившаяся из головы Зевса, т. е. из высшего, положенного лишь Зевсом сознания. Вполне возможно, что в прежнем смешении сознания какое-либо еще более
древнее божество носило имя Афина или Паллада, однако в последнем различении
это имя было отведено для самой любимой дочери Зевса, которую он порождает, вобрав внутрь себя Метиду, полагая ее как внутреннюю, внутренне присущую. Метида
в «Теогонии» называется как наиболее знающая из всех богов и смертных. Метида,
очевидно, есть поэтому сознание в его всеобщности и вновь теперь обретенной свободе от мифологического процесса. Однако, вбирая его в себя, он возвышает его до
самого себя знающего сознания, до Афины. В этом смысле Афина, собственно, выходит уже за пределы мифологии. Метида есть сознание, возвышающееся над целым,
а значит, также и над Зевсом; однако то мифологическое стремление к порождению,
которое желает укрепления и завершения своего творения, не позволяет также и этому свободному по отношению к мифологии сознанию, которое было бы способно
вновь упразднить возникший мифологический мир, существовать вне этого мира.
В «Теогонии» отчетливо говорится, что Зевс по совету Геи и Урана** возвращает Метиду, т. е. то, что выходит за пределы мифологии, а значит, знающее даже больше, чем
сам Зевс (πλείστα θεών εύδυιαν2 называет ее Гесиод, т. е. знающая больше самого Зевса)
в свое лоно, ϊνα μη βασιλήΐδα τιμήν άλλος εχη3: дабы никто иной не сподобился царской
чести — никто иной не стал всевышним богом.
Мифологическое стремление к порождению, таким образом, умело добиться
того, чтобы также и это сознание было, в свою очередь, вовлечено в мифологию.
* Илиада, I, 604 и ел.; XIV, 166-167.
** Ст. 891.
Двадцать девятая лекция
511
Афина есть целиком и полностью восстановленное сознание, изначальное сознание
в его первой чистоте и девственности (вы помните, как это понятие девственности
с самого начала объяснялось в случае с Персефоной); она есть, таким образом, еще
раз Персефона, однако теперь уже сама себя знающая, в своей девственности себя
знающая, или, наоборот — в своем себя-знании, тем не менее, девственное сознание, тогда как Персефона должна была заплатить за свое себя-знание утратой своей отстраненности, своей девственности. Последний женский образ мифологии,
таким образом, равен первому или, иначе говоря, является восстановленным первым. Именно поэтому она также есть сокровище Зевса, любимое дитя отца. «Она
делает, что хочет», — говорит Гера в «Илиаде»; она громыхает громами Зевса, вооружается его оружием, не слушая ни Ареса, ни Геру, и даже уязвленная ее проделками Афродита получает у нее насмешливый отпор*. Она вновь представляет собой
первое, неприступное и вооруженное против всего, что грозит осознанности, т.е.
его собственному единству, сознание. Однако она не есть всего лишь (т. е. пассивное)
единство, которое Персефона представляла собой в ее еще девственном состоянии;
она есть единство, однако то единство, которое уже прошло через раздвоенность
и выстояло в ней; она есть то единство = 1, которое из раздвоенности = 2 возвратилось в единство = 3, и именно поэтому она рождается третьей: τριτογένεια4, так
она зовется уже у Гесиода и в гомеровских гимнах — слово, которое по аналогии
с πρωτογένεια5 (первородная) грамматически верно может быть объяснено лишь
предложенным нами способом**.
Сам Зевс, реальный бог в его высшем, последнем проявлении, не мог бы быть
Зевсом, если бы он же в своем движении вниз не был Аидом; он есть Зевс лишь постольку, поскольку он есть также и Аид, и он осознает себя Зевсом лишь постольку,
поскольку он осознает себя одновременно также и Аидом. Таким образом сознание
в Зевсе соединяет верхнее и нижнее, и это движущееся между глубочайшим и наивысшим, подвижное сознание есть Гермес. Гермес, следовательно, есть соединяющее
трех богов и вновь полагающее их как единство сознание, которое собственно есть
в каждом, однако одновременно представляется как четвертое. Поскольку всецело
обращенный в рассудок бог сам заключает в себе также ушедшего, слепого, Гермес
6
есть равно дружественная тому и другому сущность, он есть столь же Έρμης χθόνιος ,
подземный, как наземный и небесный Гермес.
Илиада, V, 733 и ел.; 425 и ел.
Поэтому ее символом является не треугольник вообще, как говорится в выдержке из Дамаскина
у Крейцера (Comment. Herod. p. 135), а именно равносторонний треугольник. Так, согласно Плутарху,
у пифагорейцев: ОбИсиде и Осирисе, 75: То μέν γαρ ίσόπλευρον τρίγωνον έκάλουν Άθηναν κορυφαγενή
και τριτογένειαν (Пифагорейцы) (равносторонний треугольник называют Афиной, рожденной из головы и трижды рожденной) (греч.).
512
Вторая книга. Мифология
Остаются еще два персонажа, которые, будучи словно изолированными среди
других эллинских богов, — очевидно представляют собой независимую от прочих
формацию, прошедшую хоть и вполне аналогичный до сих пор представленным, однако вполне от них независимый путь развития: я имею в виду Аполлона и Артемиду. А именно, во всех своих судьбах Аполлон имеет очень много общего с Дионисом: он убивает Пифона, который представляет собой почти что копию египетского
Тифона — согласно другому повествованию, Пифон убивает его самого, точно так
же как в Египте, в свою очередь,, растерзанным оказывается Осирис. Убитый Аполлоном Пифон есть переживающий свой закат реальный бог, по которому, согласно
Аристоксену («De re musica»7), на Олимпе на лидийский мотив пели первую траурную
песнь. В дельфийских святилищах Дионис имеет равную часть с Аполлоном, Парнас
принадлежит относящимся к культу Диониса тиадам и менадам точно так же, как
и музам. Одним словом, Аполлон настолько связан с Дионисом, что он совершенно не может быть объяснен, если мы одновременно не дадим полного объяснения
учению о Дионисе, в том виде, в каком оно могло бы быть дано лишь по исследовании мистерий. Здесь, таким образом, мы скажем следующее: Аполлон столь же мало
может быть причислен к материальным богам, как и Янус. Еще менее того Аполлон
и Артемида могут быть объяснены как всего лишь символы Солнца и Луны, хотя,
конечно же, Солнце и Луна могли бы рассматриваться как символы Аполлона и Артемиды; однако поскольку он, с одной стороны, не принадлежит к материальным богам,
а с другой, вытеснен идеей Диониса из числа формальных, вполне понятно, что он
вошел в число экзотерических богов. Между тем таинства в Дельфах в достаточной
мере свидетельствуют о том, что греческое сознание одновременно сохранило первоначальную идею Аполлона; более того, многие обстоятельства указывают также на то,
что он даже мыслился в божественной иерархии как возвышающийся над тремя Дионисами. Поскольку он прошел через все ступени, в нем можно обнаружить отчасти
противоречащие друг другу атрибуты, — напр., несущего разрушение, насылающего
чуму и погибель, и наряду с этим — одухотворяющего благодатью мусических искусств, бога. В соответствии с этим, Аполлон в конце греческой мифологии был бы ее
высшим понятием: тем же, чем является Янус в начале древнеиталийской и римской
мифологий; он был бы alter Janus8, с чем вполне согласно то, что он точно так же мыслился как бог дорог, как и Янус, где я могу напомнить сказанное о пути и путях Бога:
он носит имя άγυιάτης, άγυιεύς9 (его культ άγυιάτιδες θεραπειαι10), от αγυιά11, «дорога»,
«путь»; этим же именем называлась и колонна, которая, также как и Янусу, ставилась
в его честь перед дверями. Артемида относится к нему совершенно так же, как в соответствии с ранее данным объяснением Диана относилась бы к Янусу — как первая причина натяжения лука, напряженности тех потенций, которые первоначально
были положены в Аполлоне как единые. Однако, как сказано, более детальное рассмотрение должно быть предметом исследования на материале мистерий.
Двадцать девятая лекция
513
Должны ли мы теперь, после того как каждому из главных богов греческой теогонии отведено определенное место, а тем самым и определенное значение — должны ли мы теперь пускаться в рассмотрение того роя богов, который в своих последовательных разветвлениях от поколения к поколению в конечном итоге теряется
в бесконечности или, по меньшей мере, по самой своей природе не имеет границ?
Я полагаю, это было бы излишним. Основа нами понята; то же, что далее во всех
направлениях произрастает из нее, тем менее нуждается в научном рассмотрении,
что мы здесь безусловно вынуждены признать или допустить влияние известного
свободно-поэтического, хотя и закономерного, развития. Так, даже в наших последующих выкладках уже будет присутствовать известная доля изобретения. После
того как однажды мы получили право предполагать богов, что может теперь помешать стремлению все дальше и дальше распространять этот в себе поэтический мир,
возникший словно второе, аналогичное первому, творение — что может помешать
стремлению все дальше распространять этот мир, вмещая в него, в конечном итоге,
всю природу и все дела живущих на земле? Росток столь могучей жизненной силы,
будучи однажды посажен, мог пускать новые побеги до бесконечности. Лишь сам
первоначальный ствол, предшествующий всем этим, отчасти уже случайным, формациям, — лишь он один не может быть изобретением.
К таким чисто поэтическим изобретениям могут относиться преимущественно
те подчиненные божества, чьи имена являются составными и имеют непосредственно ясное для слуха значение. Наконец, даже и в самой «Илиаде» можно обнаружить
12
подлинные персонификации, напр., известная [персонификация] молитв (Λίται ),
которые зовутся дщерями всемогущего Зевса и медленно бредут вслед за виной —
и когда провинившийся пренебрегает ими, сами взывают к Зевсу, с тем чтобы его
наказание последовало за ним. Однако эти персонификации весьма легко отличаются от истинных богов, и ни один древний не смог бы представить себе, что фигура
Просопопоэзии (Prosopopoiesis), которая в их риторике занимала столь подчиненное место, однажды удостоится чести мыслиться как творящее начало для всего мифологического богоучения.
Мы, таким образом, проследили теперь теогоническое движение с самого его
первого начала и до той точки, где богатейшим образом развитая и во всех отношениях наиболее совершенная мифология — эллинская — сама собой представляется как его завершение. Все мифологическое движение сводится, в конечном итоге,
к порождению этого экзотерического мира богов. То же самое движение, благодаря
которому первоначально появляется природа во всем ее многообразии, порождает
в сознании в результате повторяющегося процесса весь тот мир богов, который по
отношению к порождающим его потенциям представляет собой как бы нечто четвертое, и который возникает лишь из взаимодействия этих потенций как всего лишь
совокупность феноменов их взаимодействия. Тот, кто хорошо осознал это, тот уже не
514
Вторая книга. Мифология
позволит себе обмануться теми аналогиями, с помощью которых нас хотели уверить
в том, что все мифологические боги суть не более чем персонифицированные природные силы, явления или вообще природные предметы.
В великой путанице представлений и явлений, которую представляет собой не
только отдельная мифология, но и различные мифологии, — в этой путанице нас никогда не оставляли с самого начала выстроенные нами принципы. Я, пожалуй, могу
даже добавить, что до сих пор не существует теории мифологии, с помощью которой
последняя объяснялась бы с такой определенностью не только в своих общих проявлениях, но и во всех своих ответвлениях и характерных чертах. Если я должен теперь
сказать несколько слов о том, как это сделалось возможным, то могу выразиться на
этот счет так: простая тайна нашего подхода состоит в той предпосылке, что мифология заключает в себе собственную историю, что нет необходимости в предпосылках, лежащих вне ее самой (напр., о космогонических философах и т.д.), но она сама
совершенным образом себя объясняет, и что таким образом те же самые принципы,
которые, будучи взяты материально, составляют ее содержание, являются равным
образом и формальными причинами ее первого возникновения и образования.
В конце концов, в отношении естествоиспытания является общепризнанным
взглядом, что любой рассматриваемый в ней предмет должен получать объяснение
из самого себя, т. е. что все основания его становления и возникновения могут быть
обнаружены и открыты в нем самом. То же самое, однако, должно быть верно также
и в отношении духовных образований, которые благодаря своей внутренней необходимости и закономерному развитию могут быть приравнены к природным образованиям; а что это действительно так, я показал именно на примере самой мифологии, ибо всякому очевидно, что мною не было принято ни одного принципа и ни
одного момента ее развития, который не мог бы быть тут же обнаружен в ней самой.
Если я теперь добавляю к этому, что те принципы, которые собственно содержат
в себе ключ ко всей мифологии, в своем наиболее определенно выраженном и чистом виде присутствуют в греческой мифологии, то мне хорошо известно, что тем
самым я высказываю нечто совершенно отличное от ныне признанных воззрений,
ибо практически везде принято усматривать в греческой мифологии лишь некое
подвергшееся порче и искажению, ранее существовавшее в более чистом виде учение и знание. Однако я показал, что для такого чистого учения в раннюю эпоху нет
места и что как раз именно чистый, всецело свободный от своей противоположности эллинский политеизм служил необходимым переходом к действительно лучшему, более чистому и высокому познанию. Если поэтому из всех богоучений именно
эллинское в величайшей чистоте содержит последние принципы всякой мифологии,
то это именно потому, что она является наиболее поздней, а потому — в наибольшей
мере пришедшей к самоосознанию, а следовательно, даже и те принципы, которые
в прежние моменты еще слепо переплетены друг с другом и пребывают во взаимной
Двадцать девятая лекция
515
борьбе, демонстрирует в чистейшем различении и выраженности. Я, таким образом, никогда не рискнул бы перейти от только материала и только внешнего аспекта
ко внутреннему, к порождающим принципам мифологии и к закону ее образования и развития, если бы не находил их представленными в столь чистом выражении
именно в греческой мифологии, которая из всех вещественных доказательств нашей
теории может служить самым решительным ее подтверждением.
Сколь бы много в материальном отношении нового для себя вы ни обнаружили в этих чтениях, эта новизна все же не будет здесь представляться существенной;
существенным будет то, что вы имели возможность на большом количестве примеров познакомиться с силой нашего научного метода и увидеть, какая разница
присутствует между всего лишь произвольным рядом наитий и случайных образов
и последовательностью закономерно, с самого первого ростка органически развивающихся мыслей; существенно то, что метод, с которым вы здесь познакомились в его
особом применении, имеет общее значение, ибо он одновременно является методом
философии — философии, которая не ставит на место реальной взаимосвязи одну
лишь филигранную работу понятий; общее значение также и для других не менее запутанных предметов, с которыми он, при надлежащем применении, столь же успешно справился бы, как справился в нашем случае с мифологией.
Пусть поэтому данные чтения поспособствуют в частности тому, чтобы изучение
философии в нашей среде вновь оживилось и приняло более серьезный и мужественный характер; пусть они послужат в частности и тому, чтобы философия также и для
прочих исследований вновь получила то значение, которое ей по праву принадлежит.
Важно, чтобы каждый в той научной дисциплине, которой он себя посвящает, стремился достичь наибольшего знания частностей; и тот, кто не имея такового, воображает себя способным с помощью одной лишь философии достичь каких-то великих
результатов, пребывает в не менее жалком заблуждении, чем тот, кто пожелал бы быть
маршалом, не имея под рукой армии; однако свою истинную ценность все отдельные
исследования (и чем они более пространны, тем в большей мере) получают лишь от
силы превосходящего духа, который способен связать их в единое научное целое, привести к великой победе духа над массой, употребить их в целях осуществления поистине универсальной, мироохватной мысли; и поистине, те проблемы, которые встают
перед нынешней эпохой, настоятельнейшим образом требуют для своего решения
умов, которые бы не терялись в частностях и не останавливались в растерянности
перед массами противоречащих друг другу явлений и фактов, но находили бы в самих
себе силы и средства для их преодоления, для того чтобы сохранять себя свободными от них, находя возможности для их соединения в истинном творении. Ибо такие
моменты настают тогда, когда важно уже не двигаться в старой колее, но ощущается
необходимость решиться на новое творение. Когда я высказываюсь в пользу ревностного, серьезного и глубокого изучения философии, я, воистину, преследую не свой
516
Вторая книга. Мифология
личный интерес. В том возрасте, в котором я нахожусь , невозможно рассчитывать на
долгий срок пребывания за преподавательской кафедрой. Однако долгий опыт и мой
кругозор убеждают меня в том, что общественная жизнь вообще и государственная
в особенности могут ожидать для себя большого блага там, где изучение философии
уже не рассматривается как простое занятие для начинающих — необходимое в самом
лучшем случае для некоторого формального образования или даже всего лишь для будущей сдачи государственных экзаменов. Но там, где к философии вновь и вновь возвращаются люди зрелые и уже обогатившие себя позитивными знаниями, с тем чтобы
освежить и обновить свой дух и всегда сохранять связь со всеобщими принципами,
благодаря коим природные и человеческие вещи связаны неразрывными узами —
теми принципами, которые поистине единственно правят миром, в общении с которыми только и образуются мужи познания, мужи — способные, что бы ни случилось,
взять на себя ответственность, не пугаясь никакого явления, менее же всего (как это
обычно происходит, когда по причине долгого небрежения верх берет посредственность, и невежды произносят высокопарные речи) — менее всего боящиеся в этом
случае поднять оружие против невежества и поверхностности в познании.
Еще раз оглядываясь назад на этот подходящий теперь к своему завершению доклад, я хорошо вижу, что остаются несделанными еще некоторые разъяснения, лишь
после внесения которых предложенная теория могла бы считаться со всех сторон
завершенной и округленной. Одним из наиболее целесообразных было бы разъяснение и указание связи между различными моментами мифологического процесса
и физическим и историческим основным различием народов. Сюда относятся также
и некоторые более подробные разъяснения о доисторической эпохе греков, а именно
отношение между пеласгами и эллинами. В последнем отношении я, однако, могу сослаться на уже упомянутое сочинение, которое в эту сторону может служить дополнением к моему подходу, сочинение профессора Дорфмюллера «De Graeciae primodiis»13, о прочтении которого не пожалеет ни один из уважаемых господ слушателей**.
Наконец, для завершенности недостает полного исследования греческих мистерий,
о которых я здесь высказывался лишь намеками.
Сколь бы незавершенным с этой точки зрения ни выглядел мой доклад, я все
же надеюсь, что он не оказался для вас бесполезным, и мне не остается ничего иного, как благодарить тех, кто с непрестанным вниманием следовал за мной на этом
долгом пути, за их похвальную выдержку и закончить заявлением, что я не имею
никакого иного желания кроме как также и впредь быть полезным вам и тем, кто
равен вам в своей любознательности и ревности о высоком познании.
Эта заключительная лекция по философии мифологии читалась 20 марта 1846 года в Берлине
(Прим. нем. изд.).
Полное заглавие звучит так: С. F. Dorfmueller. De Graeciae primordiis aetates quatuor, J. G. Cotta, 1844.
О ЗНАЧЕНИИ ОДНОЙ
НОВООТКРЫТОЙ НАСТЕННОЙ РОСПИСИ В ПОМПЕЕ*
(С литографическим рисунком)
На сей раз я намерен привлечь внимание класса к недавно — насколько мне известно, в 1825 году — открытой в Помпее картине, о смысле или собственном содержании которой сразу же по ее обнародовании мнения толкователей не столько разошлись, сколько — в том, что касается главной ее части, — остались в совершенной
неясности и неопределенности. То было попросту счастливой случайностью, если
прежние полученные мной в общих исследованиях воззрения позволили мне по простому описанию, которое я случайно прочел в № 8 «Листка искусств» (Kunstblatt) за
1826 г., распознать смысл картины и изложить его даже в отношении до тех пор необъясненной ее части, дав ее вероятностное истолкование. По своем возвращении
в Мюнхен я осведомился у как раз здесь гостившего ученого исследователя древности, г-на проф. Герхарда о подробностях картины, не выяснив у него, однако, ничего
сверх того описания, которое было мне уже известно; я лишь убедился в том, что г-н
проф. Герхард до сих пор не имел никакого определенного представления о значении
этой картины — ни своего собственного, ни предложенного ему кем-либо со стороны.
Позднее я имел удовольствие, благодаря любезности г-на проф. Шорна (Schorn), получить рисованную копию с упомянутой картины, и изложить именно этому ученому,
которого я сегодня с особенным удовлетворением вижу присутствующим на нашем
собрании, свое истолкование этого изображения, удостоившись при этом его похвалы
и одобрения. Этот рисунок, который я сегодня представляю вашему вниманию, дает
мне сегодня возможность наглядно изложить вам мое истолкование данной картины.
Поскольку было бы невозможно описать данную картину с большей ясностью,
чем это уже сделано в упомянутом номере «Листка искусств», я удовлетворюсь тем,
что повторю это однажды уже данное описание, предпослав лишь то замечание,
что данное изображение находится на стене одного из дворов в том новооткрытом
Читано на одном из заседаний философско-филологического класса Академии наук в Мюнхене.
518
Вторая книга. Мифология
здании в Помпее, которое получило название «дома поэта», и из всех до сих пор открытых является наиболее богато украшенным.
«На поперечной стене, — так говорится в приводимом месте, — справа от входа
находится изображение мифического обручения. Сидящий бородатый мужчина со
скипетром держит в своей правой руке левую руку закутанной в покрывало женщи-
О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее
519
ны в богато расшитом платье, с венцом на голове и украшениями на руках; у обоих на
четвертом пальце левой руки надето обручальное кольцо. Движения женщины столь
же робки, сколь пламенно и живо выражение ее удивительно красивого лица; это,
а также то, что за ее спиной изображена крылатая женщина-воительница, которую
в качестве образа виктории можно было бы отнести к повторному обручению после Троянской победы, возможно, послужило основанием для первого названия этой
композиции, "Менелай и Елена", каковое по меньшей мере гораздо менее неудачно,
нежели второе, "Пелей и Тетис". На заднем плане видна воздвигнутая между деревьями и украшенная наверху изображениями трех львов колонна, на которой различимы флейты, кимвалы и тимпан и которая вполне могла бы символизировать собой какую-нибудь местность в Азии; однако такое истолкование является несколько
искусственным в том, что касается Менелая; равным образом и костюм бородатого
мужа, заднюю часть головы которого окутывает красный хитон, довольно странен
и непривычен для грека. Можно было бы пожелать представить себе обручение Сатурна с Реей, если бы при этом трое расположившихся под его седалищем и занятых
чутким разговором юношей не оставались здесь вообще безо всякого объяснения.
Это изображение успело серьезно пострадать уже с того момента, как было обнаружено, однако блеск его первоначального великолепия не может исчезнуть так скоро».
Высокочтимые господа могут видеть из данного описания, авторство которого,
судя по двум инициалам, стоящим в конце, принадлежит ранее упомянутому г-ну
проф. Герхарду, что истолкователи изображения уже по поводу самих двух изображенных фигур отчасти разошлись во мнениях, отчасти же вообще пребывали
в нерешительности, ибо некоторые пожелали увидеть в женской фигуре вновь обручаемую Менелаю после победы в Троянской войне Елену, другие же во всем этом
изображении предположили обручение Пелея и Тетис, что еще того менее вероятно.
Напротив, никак нельзя сомневаться в том, что предположение, высказанное самим
г-ном проф. Герхардом, о том, что главные фигуры представляют собой Кроноса
и Рею, является единственно верным; в пользу его говорит хотя бы уже окутывающий заднюю часть головы мужской фигуры красный хитон, который является непременным атрибутом и знаком присутствия Сатурна. Не меньше говорят в пользу
этого предположения также восхитительно прекрасные черты лица женской фигуры и строгость лица мужской. Действие относится к эпохе правления Кроноса.
Г-н проф. Герхард лишь потому не решается определенно высказаться в пользу такого предположения, что при этом не получают объяснения три фигуры юношей,
расположившихся под седалищем мужской фигуры и занятых тихой беседой. В моем
случае, как раз наоборот, лишь угаданное из простого описания значение фигур этих
трех юношей окончательно убедило меня в том, что главными персонажами изображения являются именно Кронос и Рея. Трудность заключалась лишь в том, что
сама задача с тремя юношами была слишком уж неопределенной: пришлось предпо-
520
Вторая книга. Мифология
ложить, что художник каким-то образом подразделил и различил их между собой;
однако ничего из этого характерного и отличительного для каждого из них не содержалось в описании. Тем более возросло мое желание увидеть достоверный рисунок
с этой картины — удача, которая, как сказано, выпала мне на долю лишь благодаря
любезности г-на проф. Шорна. После же того, как я убедился в том, что характерное
расположение и описание этих трех юношей совершенным образом совпадают с заранее составленным мною представлением, я уже больше не мог сомневаться в верности моего объяснения, и именно это выдержанное им испытание дает мне смелость изложить его теперь перед этой аудиторией.
Согласно греческой теогонии, как известно, Кронос порождает с Реей трех сыновей: Аида, Посейдона и Зевса; однако великий Кронос, по словам Гесиода, тут же
проглатывал каждого из сыновей, едва лишь он выходил из чрева своей святой матери к нему на колени, чтобы тем самым не допустить того, что предсказали ему Гея
и Уран, более древние и вытесненные им самим божества, а именно — что ему суждено быть побежденным своим собственным сыном. Рея же безутешна и испытывает невыносимые страдания из-за несчастия своих детей. Затем ей удается обмануть
Кроноса и украсть у него только что рожденного сына Зевса, который позднее известным образом действительно одерживает победу над своим отцом, освобождая
и выводя на свет заточенных им сыновей. В дальнейшем трое сыновей делят между
собой мировое господство: вместо одного исключительно господствующего Кроноса теперь властвуют три бога, правда так, что Зевс выделяется среди них как высший,
однако же каждому из них определены свои владения. Аид получает в свой удел самую нижнюю часть — подземный мир, Посейдон — среднюю или самую глубокую
из наземных — море, Зевс же самую высокую и надземную — эфир.
В соответствии с этим, теперь, покуда Кронос еще властвует, эти три бога находятся к нему в отношении будущих мировых правителей, однако как таковые они еще
сокрыты и пребывают на заднем плане грядущего. Я теперь сперва замечу, что трое
юношей, изображенных на нашей картине, суть не кто иной, как трое сыновей Кроноса. Если всмотреться в рисунок повнимательней, то мы найдем, что каждый из них
восседает чуть выше предыдущего: ниже всех расположена фигура юноши, обращенного к нам спиной, которого я поэтому определяю как будущего Аида; я отмечаю при
этом, что правая рука, закинутая за спину, с обращенной к зрителю открытой ладонью, в греческом изображении, где нет ничего незначащего, может также указывать
на Аида как бога, отвернувшегося от настоящего, бога прошлого. Ибо несомненно,
что в помпейской картине мы имеем дело с верной копией некоего греческого произведения; и вся высокая значительность представленного момента указывает на то, что
эта картина была написана в один из самых лучших периодов греческого искусства.
Сидящую ниже остальных, обращенную к зрителю спиной и представляющую взору
открытую ладонь правой руки фигуру я, таким образом, определяю как Аида. Вторая,
О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее
521
сидящая уже выше, есть Посейдон, чья неизменная характеристика — широкогрудый, — которая всегда сопровождает его в поэзии и искусстве, самым определенным
образом налицо также и в этом случае. Третья, выше всех сидящая, самая юная, самая
стройная и самая вдумчивая и внимательная — есть Зевсу который, будучи согласно
Теогонии самым младшим из троих, в Илиаде лишь потому хвалится перед другими
своим старшинством, что он был первым спасен от руки отца-детопожирателя, все же
остальные увидели свет лишь благодаря ему и после него.
Если, теперь, таким характерным расположением фигур и иными примечательными деталями предположение о том, что три этих юноши суть трое сыновей Кроноса, не опровергается, но, напротив, подтверждается, то в качестве ближайшего
возникает следующий вопрос: что означает их нахождение под троном, благодаря
которому они скрыты от отца и даже от самой матери? На это я не могу ответить ничего кроме того, что таким образом они обозначены как все еще сокрытые на заднем
плане будущие боги, будущие мироправители. При этом я придерживаюсь твердого
убеждения, что эти три фигуры также и в материальном отношении были решены
совершенно иначе, нежели обе главные фигуры. Мне хотелось бы, чтобы картина
была в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы само ее лицезрение смогло подтвердить это мое предположение. Мне не известно, относятся ли слова г-на
проф. Герхарда о том, что картина серьезно пострадала со времени своего открытия,
к одной лишь этой части картины, или нет.
Правда, если бы исходя из этого расположения мы пожелали бы дать, в свою
очередь, и в ином отношении дерзкое истолкование, это отнюдь не было бы первым
случаем того, как благодаря античным изображениям мы знакомились с отличным
от ранее принятых, однако ничуть не менее древним способом понимания мифологического повествования. Как известно, в греческой истории богов эта катастрофа —
когда правящий бог или правящий божественный род вытесняется следующим — повторялась дважды. Сперва властвуют Гея и Уран, который своих от начала бунтующих
против него сыновей, зная это за ними, укрывает сразу же по их рождении в глубинах
1
Земли (πάντας άποκρύπτασκε και ες φάος ούκ άνίεσκε, Γαίης έν κευθμώνι ). Выражение
для того же деяния в случае с Кроносом уже другое; оно гласит: και τους μεν κατέπινε
2
Κρόνος μέγας . Еще одну, гораздо более определенную вариацию содержит в себе рассказ о последующих событиях; также и огромная Гея внутренне глубоко и тяжко вздыхает о жребии своих детей; она подыскивает большой, острый и зазубренный серп,
который вкладывает в руку притаившемуся в засаде младшему сыну, дабы он — в тот
момент, когда его отец станет приближаться к ней, — отсек ему детородные части
(είσε δε μιν κρύψασα λόχω, ένέθηκε δέ χειρι άρπην καρχαρόδοντα, и затем: ό δ έκ λοχεοιο
3
πάΐς ώρέξατο χειρί ). Сын, таким образом, нападает из засады. Эту засаду, следовательно, можно мыслить себе лишь в том же пространстве, где скрытно содержались
все сыновья и с ними вместе также и сам Кронос. Свержение же Кроноса происходит
522
Вторая книга. Мифология
несколько иначе: Зевса спасает то, что его отцу дают проглотить завернутый в пеленки камень; и Зевс может спокойно расти до тех пор, пока он не окрепнет настолько,
чтобы одолеть своего отца — победа, которая на сей раз обходится без оскопления.
Уже одно лишь поэтическое чутье не позволило бы автору «Теогонии» повторить одну
и ту же историю дважды с неизменными обстоятельствами. Однако мы не можем наверняка утверждать, что в иных сказаниях, и именно в народном эпосе, оба эти эпизода не излагаются гораздо более сходным между собой образом. По меньшей мере,
в одном документально засвидетельствованном случае также и Кронос был оскоплен
своим сыном Зевсом. На острове Цанкле, само имя которого означает кривой виноградный нож, в уже довольно позднюю эпоху все еще можно было полюбоваться на
Drepanon, которым якобы по этому случаю воспользовался Зевс. Таким образом, отнюдь не является невозможным, чтобы согласно этой или какой-либо иной версии
Зевс также напал на Кроноса из того же самого тайного укрытия, где он содержался
вместе со своими братьями. Если бы это, теперь, было чем-то большим, нежели просто возможностью, то можно было бы, например, утверждать, что место под троном
и в известном смысле позади него на нашем изображении есть именно то самое глубокое потайное место, в котором Кронос держал в заточении своих сыновей. Ибо
без предпосылки таким образом измененного сказания мы не могли бы сделать подобного предположения, ведь согласно повествованию, известному нам, Зевс не был
проглочен вместе с остальными братьями, а значит, и не содержится вместе с ними
в этом тайном укрытии. При таких обстоятельствах дела мне приходится сперва привести это второе объяснение как всего лишь возможность, тем более что при данном
в высшей степени символическом характере всего изображения мне совсем не трудно
усмотреть в этом расположении трех сыновей только символическое представление
общего понятия скрытых на заднем плане, в отдаленной перспективе будущего, еще
не вошедших в реальность богов.
Такая символичность в обозначении грядущего в лице этих трех персонажей
узнаваема также и в иных моментах: фигуры трех юношей не только имеют меньший
размер, нежели главные фигуры, но они также и во всем своем облике представлены
как именно в высшей степени юные существа, находящиеся в процессе взросления,
как лишь будущие мироправители. То, что я ничуть не преувеличиваю значения их
юного облика, явствует из примеров вполне сходной по характеру символики. Так,
напр., на руках Fortuna primigenia в Пренесте будущий мироправитель Юпитер изображен в виде ребенка. В египетских скульптурных изображениях Гор представлен
младенцем у груди Исиды; о том, что это грядущий владыка мира, свидетельствует
изображение земного шара на его голове. Точно так же последний, являемый лишь
в мистериях мироправитель Якх — сперва изображается в виде младенца у груди
Деметры; он же в других представлениях мыслится уже как дитя, играющее с атрибутами будущего мирового правителя, а в торжественной процессии Якха, совершаю-
О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее
523
щейся на шестой день элевсиний, он принимает участие уже как мальчик-подросток
(Кур). Ту же наивную символику мы, следовательно, можем признать также и здесь,
в данном изображении. По поводу миртовых венков на головах наших трех юношей
я выскажусь позднее.
Что касается общего выражения поз и лиц трех юношей, то зачитанное мной
описание предполагает, что они заняты тихой и чуткой беседой; возможно, что они
слушают не друг друга, но внимательно прислушиваются к разговору старших и делают замечания по его поводу. Если бы нам пришлось признать за ними такое состояние чуткого внимания, то это было бы решительным свидетельством второго
воззрения, а именно — того, что они пребывают в потаенном месте, где их содержит
отец. Я, однако, оставляю открытым вопрос о том, не может ли это предполагаемое
выражение чуткого внимания с тем же успехом быть принято за выражение общего
напряженного ожидания, которым, в свою очередь, может быть указано всего лишь
понятие будущего. Ибо то, что еще не есть, но лишь должно быть, — пребывает
в естественном напряжении по отношению к тому, что есть теперь. Бесспорно, во
всяком случае, что это напряжение, которое, конечно же, можно принять за внимание и обращенность в слух, относится к тому, что совершается над ними.
Однако пришло время обратить наше внимание на две главные фигуры. Основное движение понятно: Кронос* привлекает к себе если и не сопротивляющуюся,
то все же медлящую и колеблющуюся Рею, охватив ее левую руку ладонью своей
правой. Ранее упомянутый автор описания находит движение женской фигуры робким; однако очевидно, что на лице Реи изображается не столько робость девственной стыдливости, сколько нерешительность и страх, вселяемые сознанием роковых
последствий делаемого шага. Те, кто хотели видеть в этой фигуре возвращенную Менелаю Елену, бесспорно усматривали в выражении ее лица сознание совершенного
по отношению к прежнему супругу дурного поступка; однако дурно по отношению
к супругу поступает также и Рея, поскольку она знает, что дети, которые родятся
от этого брака, однажды одержат верх над своим отцом и будут властвовать вместо него. Если бы нам пришлось, согласно второму воззрению, мыслить себе трех
сыновей, включая и Зевса, как уже рожденных и лишь содержащихся в заточении,
то на лице Реи, напротив, нам следовало бы видеть выражение недовольства судьбой
своих детей и отказ от дальнейших рождений. Если бы художник хотел выразить
в изображении нечто подобное, он вместо большого, изначального отношения избрал бы предметом своего изображения подчиненное и весьма обыденное. Однако
его труд не таков, чтобы его можно было бы заподозрить в подобном выборе; юность
Относительно лица Кроноса сравните выражение, которое можно найти во фрагменте поэта Антимаха у Плутарха (Римские вопросы, 42): ό λάσιος Κρόνος (косматый, волосатый Кронос) — (бородатый Кронос) (греч.).
524
Вторая книга. Мифология
и девственные черты лица Реи, выражение ожидания на нем — все это не оставляет
сомнения в том, что здесь изображено первое соединение Кроноса с Реей. Кажется,
мы видим здесь Рею именно такой, какой описывает ее Гесиод:
'Ρείη δ αύ δμηθεισα Κρόνω τέκε φαίδιμα τέκνα4, —
Рея, которую Кронос впервые подчиняет себе. Эта уверенность — которая возникает даже и независимо от обручальных колец — в том, что здесь изображено первое
соединение Кроноса с Реей, решает также и в отношении другого, до сих пор остававшегося сомнительным, пункта: трое сыновей не являются уже рожденными, лишь содержащимися в заточении и тайне; они мыслятся как целиком и полностью относящиеся к будущему, еще сокрытые от настоящего, которым еще лишь предстоит родиться
от изображаемого соединения. Вся картина, тем самым, приобретает тот возвышенный символический характер, который мы находим лишь в наиболее величественных
изображениях древности. Она, тем самым, всецело отдалена от вульгарной исторической точки зрения и представляется не только творением искусной руки художника,
но и дерзновенно мыслящего ума, который, наряду с совершающимся в настоящем
обручением, показывает нам одновременно и полагаемое им будущее, освобождая нас
от настоящего момента, возвышая нас над ним и вместо отдельного действия позволяя нам видеть всю глубину властвующей в божественном мире судьбы одновременно. Если должно быть представлено всецело будущее, оно не может быть изображено
иначе, как в состоянии ожидания того решения, которое позволит ему выйти на свет.
Наконец, я должен упомянуть и третью фигуру, крылатое женское существо, слегка подталкивающее вперед нерешительную, колеблющуюся Рею, в глазах которой читается очевидно профетическое выражение. Едва ли кто-нибудь с легкостью найдет что
возразить нам, если мы определим эту фигуру как Немезиду, которая здесь, где речь
идет о свершении великой судьбы, была бы вполне на своем месте. Ибо Немезида и есть
не что иное, как та незримая сила, которая приводит то, что должно сбыться, к действительному событию и которая враждебна существующему, поскольку оно мешает тому,
чтобы однажды осуществилось быть должное. Не с силой, но мягким движением, как
она действует всегда и везде, она подталкивает вперед колеблющуюся и нерешительную женщину к заключению рокового союза. Когда, однако, я тщательно взвешиваю
все то в высшей степени символическое, что мы видим на другой стороне картины,
я ощущаю большую склонность видеть в крылатой фигуре хоть и родственное самой
Немезиде, однако все же более общее понятие. Всякое крылатое существо вообще указывает на движение: крылатая фигура есть сила самого стремящегося вперед времени,
а следовательно, поскольку стремящееся и движущее в настоящем есть само еще сокрытое в нем будущее, собственно сила самого будущего, благодаря которой медлящее
настоящее бывает движимо вперед, т. е. в направлении того, что все еще пребывает со-
О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее
525
крытым в лоне будущего времени (которое в нашем случае представлено тремя юношами); лежащее посредине представляет настоящее, которое — в лице Реи — робко,
провидя будущее (ибо провидение будущего всегда полагается как свойство женских
божеств), противится движению вперед; Кронос — бог, который противится всякому
продвижению, — тем не менее, сам в лице Реи навлекает на себя будущее, полагая, что
также и ее в будущем сможет заключить в оковы и удержать возле себя силой.
Я позабыл упомянуть еще то движение, с которым Рея держит перед собой перекинутый через левую руку — ту самую, за которую ее схватил Кронос, — край пеплума. Это движение достаточно ясно и не требует объяснения; она, тем самым, как бы
предостерегает Кроноса и заранее препятствует ему в том, чтобы дать начало череде
роковых рождений.
Для полного объяснения изображения необходимо еще несколько слов по поводу виднеющейся точно посредине между Кроносом и Реей, однако на заднем плане —
а значит, вдали между деревьями — колонне, украшенной вверху мистическими львами, с висящими впереди нее двумя флейтами, двумя кимвалами и одним тимпаном.
Каждому известно, что эти предметы являются знаками оргийности или оргийного
воодушевления. Меньше отмечалось, однако оттого ничуть не менее очевидно также
и то, что явления оргийности — дикого, над самим собой не властного, словно бы головокружительного воодушевления — регулярно возникают в тех моментах мифологического продвижения, где прежде гнетущая сила теряет свою власть над сознанием, и над
ним одерживает верх новый, ему самому еще непостижимый и неведомый принцип.
Также и вместе с Кроносом, вследствие сейчас совершающегося обручения, в будущем
придет к своему концу гнетущая сознание сила. Более мягкое время наступит вместе
с воцарением Зевса. Также и этот переход будет сопровождаться явлениями оргийности. Я напомню лишь повествование Страбона об оргиастическом почитании Зевса на
Крите, где, как известно, следует искать инкунабулы5 служения Зевсу, а значит — также
и саму арену перехода от прежней, более дикой, религии к более мягкой религии Зевса.
Также и эта воздвигнутая вдалеке колонна, следовательно, указывает на уже положенное этим обручением Кроноса и Реи далекое время необходимого и неизбежного перехода.
На это более мягкое будущее указывают также и миртовые венки на головах
трех юношей, тогда как Кронос, как еще дикий, бесчеловечный бог, увенчал свою голову дубовой листвой. Так, в элевсинских мистерийных шествиях на голове у мальчика-Якха был именно миртовый венок.
ПРИМЕЧАНИЯ
Первая лекция
1
нечто искуственное (лат.).
Т.е. общегеологические. — Прим. пер.
3
ввести философию в оцепенение (лат.).
4
Единство... единственность Бога. — Прим. пер.
5
принцип [тождества] неразличимого (лат.).
6
нус, ум (греч.).
7
самим актом (лат.).
8
Т. е. пристрастной. — Прим. пер.
9
Т. е. равнополюсным. — Прим. пер.
10
только «единственный», но не «единственный бог» (греч.).
11
образ, подобие (лат.).
12
Выбыли без бога в мире (греч.).
2
Вторая лекция
1
само сущее; само То, Что есть (греч.).
всеобщее сущее (лат.).
3
Об истине христианской религии (лат.).
4
О праве войны и мира (лат.).
5
подозрение, догадка (лат.).
6
начальная точка, исходный пункт (лат.).
7
основа, «под-лежащее»; то, что внизу (греч.).
8
сущность есть то, что существует (лат.).
9
основа, подлежащее (греч.).
10
всеобщее сущее (лат.).
11
способность к существованию (лат.).
12
не сущее (греч.).
13
несчастие существования (φρ.).
14
знание сущего (греч.).
15
единственное, что есть бытие (что единственно обладает существованием) (лат.).
16
возможность существования (лат.).
17
Существование следует за сущностью (по причине ее самой) — Бог является причиной [существования] вещей точно так же, как Он является причиной своего собственного существования
(лат.).
2
Примечания
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
из потенции в акт (лат.).
подчиненное существованию (лат.).
отклоняться, выходить и з себя, искажаться (греч.).
существую (лат.).
вне положенное, измененное, выведенное из равновесия (греч.).
поистине, действительно сущее (греч.).
производящее, детородное начало (греч.).
семя Божье (греч.).
Вечно то, что не имеет н и конца, н и начала (лат.).
то, что совершенно во всех своих элементах (лат.).
один, и л и единственный (лат.).
yehova ehad — Бог один (ивр.).
ehad — один (ивр.).
Третья лекция
1
содержать, заключать (лат.).
Перевод дан в тексте автора. Прим. ред.
3
довольствоваться чем-либо (лат.).
4
чистая возможность (лат.).
5
чистый акт (лат.).
6
от потенции к акту (лат.).
7
во вторую очередь (лат.).
8
Anfahen (диалектн.) = anfangen — «начинать». — П р и м . пер.
9
облачать (нем.). — П р и м . пер.
10
с силой, определенно (лат.).
11
в первом устремлении (лат.).
12
сущее (греч.).
13
сущее (лат.).
14
чистая потенция существования (лат.).
15
в первый момент (лат.).
16
во второй момент (лат.).
17
исключенное третье (лат.).
18
не вне, но внутри стоящее (лат.).
19
неопределенная Двоица (греч.).
20
все (греч.).
21
единственное, что есть Бытие (лат.).
22
утвердительно (греч.).
23
то, что вокруг природы, физического; то, что в нее не включено (греч.).
24
следует природе (греч.).
25
саму сущность не проясняет (греч.).
26
свойства покоящиеся и деятельные (лат.).
27
приведенное к покою (нем.).
28
причина самого себя (лат.).
29
быть, существовать из самого себя (лат.).
30
существовать по своей воле, быть сверхприродным и одновременно п р и р о д н ы м (лат.).
2
527
528
Примечания
Четвертая лекция
1
2
3
4
5
6
7
8
высшие роды или виды (лат.).
идеи, образы, эйдосы (греч.).
потенция бытия (лат.).
бог (греч.).
сей бог (греч.).
от потенции к акту (лат.).
протяженная сущность (лат.).
такое свойство Бога, которым отрицается существование множества бесконечных сущностей
(лат.).
9
Букв.: «повышение, усиление». — Прим. пер.
о Боге (лат.).
11
о Боге как триединстве (лат.).
10
Пятая лекция
1
момента: момент от которого, момент, посредством которого, и момент, к которому (лат.).
в том ж е месте (лат.).
3
от потенции к акту (лат.).
4
от акта к потенции (лат.).
5
в одной и той ж е точке (лат.).
6
чистый акт (лат.).
7
злодейство, подлость, непотребство (нем.). — Прим. пер.
8
в третью очередь (лат.).
9
мировое целое (лат.).
10
всеобщее (лат.).
11
один (лат.).
12
«по экономии», т.е., по некоему (скрытому) порядку, руководству, плану (греч.).
13
все исключающее (лат.).
14
производить, рождать (лат.).
15
совершающий все по произволению воли своей (греч.) Еф. 1,11.
16
воля, желание; похоть (греч.).
17
воля, замысел, намерение (греч.).
18
замысел, намерение (греч.).
19
вне (лат.).
20
помимо Бога (лат.).
21
нечто помимо Бога (лат.).
22
чистые и свободные от всякой вещественности, не причастные к ней (лат.).
23
в возможности (греч.).
24
чуждый, иной всему прочему (греч.).
25
принцип, основоположение (лат.).
26
Т. е. об Элохиме. — Прим. пер.
2
Шестая лекция
1
2
через противоположное (лат.).
помимо него самого (лат.).
Примечания
3
4
5
6
7
8
529
из чистого акта (лат.).
причины (греч.).
причина материальная (лат.).
причина побудительная (лат.).
причина целеполагающая (лат.).
В немецком — соответствующая игра слов: zu Stande k o m m e n — z u m Stehen kommen. — Прим.
пер.
9
причина непосредственно предшествующая, повод (греч.).
причина «ремесленная», техническая, творческая (греч.).
(причина) целеполагающая, конечная, результативная (греч.).
12
начала (греч.).
13
знание начал, наука о первоначалах (греч.).
14
безграничное, неопределенное (греч.).
15
определяющее основание (лат.).
16
потенция, возможность (греч.).
17
бытие допустимое, возможное, потенциальное (греч.).
18
основа, под-лежащее, лежащее в основе (греч.).
19
От лат. conkretio — «стяжение». — Прим. пер.
20
сияние божественного (лат.).
21
что-либо помимо Бога (лат.).
10
11
Седьмая лекция
1
каменном дожде (лат).
переносный смысл (лат.).
3
«или», материей (греч.).
4
двойственная природа (лат.).
5
округлое, шаровидное (греч.).
6
диадой, двоицей (греч.).
7
негодовать, досадовать, гневаться (греч.).
8
закон (греч.).
9
праведный гнев (греч.).
10
Теогония, 223: Τίκτε δε και Νύμεσιν, πήμα θνητοίσι βροτοίσι
Νύξ όλοή.
Также еще Немезиду, грозу для людей земнородных,
Страшная ночь родила... (пер. В. В. Вересаева)
11
несчастие (бич) смертных людей (греч.).
12
не склонное к движению, бегу, течению (греч.).
13
двоевольная, друго-вольная, инакомыслящая Немезида (греч.).
14
По-видимому, имеется в виду цитата из поэмы Клавдиана «Против Руфина»: tolluntur in
altum ut lapsu graviore ruât (подняться ввысь, чтобы сильней низвергнуться) (лат.).
15
предшествующий (лат.).
16
обман, ложь, заблуждение (греч.)
17
У Шеллинга «в качестве сестры», но в русском языке «обман» — слово мужского рода. —
Прим. ред.
18
обман, ложь, заблуждение (греч.).
2
530
Примечания
19
В современном немецком — модальный глагол со значением желания, предпочтения, а с отрицательной частицей — неприятия. — Прим. пер.
20
«возможность». — Прим. пер.
21
«сила, власть». — П р и м . пер.
22
«я не хочу». — Прим. пер.
Восьмая лекция
1
Ночи (греч.).
по преимуществу, главное (происшедшее) (греч.).
3
дева, девушка (греч.).
4
по преимуществу, прежде всего, п р и н ц и п и а л ь н о (греч.).
5
Дева (греч.).
6
богом все сохраняется (букв, —«окружается») словно под стражей (греч.).
7
по преимуществу, исключительно (греч.).
8
беспредельное, неопределенное (греч.).
9
закрыл со всех сторон, окружил, обнес оградой (лат.).
10
укрыл, защитил (лат. tutatus est).
11
Т. е. представляющем собой некую ф о р м у до ф о р м ы , зачаток ф о р м ы . — Прим. ред.
12
«сад». — Прим. пер.
13
всецело внутри пребывающая (греч.).
14
вышедшая, произошедшая, явившаяся (греч.).
15
расползаться, вылезать (лат.).
16
выходе, движении вперед, продвижении (греч.).
17
слово, воля богов, нечто предначертанное, судьба (лат.).
18
участь, жребий, судьба (греч.).
19
судьба, случай, удача (греч.).
20
несчастная доля, бедствия, невзгоды (глат.).
21
(несчастие) как таковое (греч.).
22
двоица (греч.).
23
единице (греч.).
24
претерпевает насилие от Зевса (греч.).
25
обрабатывать, возделывать; поклоняться (лат).
26
Бог (лат).
27
земля (лат.).
28
прикрывать, таить, скрывать (лат.).
29
изменение к худшему (лат.).
2
Девятая лекция
1
2
3
4
5
все, всеобщее (греч.).
отступить с места (лат.).
на том же месте (лат.).
под-лежащее, основа (греч.).
богами (theoi) (греч.).
Примечания
6
бежать, быстро перемещаться (theo) (греч.).
звезда, небесное светило (лат.).
8
«светило, созвездие, иногда собирательно — звездное небо». — Прим. пер.
9
Т.е. вновь вызвало. — Прим. пер.
10
обученное войско (лат.).
11
В русском тексте: Господь Сил. — Прим. пер.
12
эллина (греч.).
13
цивиим (ивр.).
14
«Об истоках идолопоклонничества» (лат.).
15
не умеет стоять на месте (лат.).
16
паломничество. — Прим. пер.
17
не вполне в здравом уме, не вполне владеющий собой (лат.).
18
без согласия, без воли (бога) (лат.).
19
безбожные (греч.).
7
Десятая лекция
1
Первое причастие говорит о мужском порождении, второе — о женском. — Прим. пер.
Христоф Август Тидге, 1752-1841. Немецкий поэт, автор поэмы «Урания».
3
делаться мягким, податливым, женственным по отношению к Богу (греч.).
4
весь круг небес, весь небосвод (греч.).
5
круг (греч.).
6
Dia, Зевса (греч.).
7
мировые стихии, первоначала (греч.).
8
(мать) изначальная, как таковая (греч.).
9
moledet — потомство (ивр.).
10
malat — избегать, спасаться (ивр.).
11
бегство, выход, спасение (лат.).
12
звезда, светило (греч.).
13
впоследствии научились (греч.).
14
в храме Матери (греч.).
15
Матерь (греч.).
16
девушка, несущая воду (водоноша) (греч.).
2
Одиннадцатая лекция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
отеческие, родовые боги (греч.).
а затем они научились (греч.).
первый среди персидских богов (греч.).
Хилиарх — начальник над тысячей легковооруженных воинов. — Прим. ред.
господин творения, становления (греч.).
то, что должно было чтить (лат.).
«О происхождении всех культов» (φρ.).
День рождения непобедимого Солнца (лат.).
священное приношение непобедимому богу Митре и союзнику (спутнику) Солнцу (лат.).
531
532
Примечания
10
Бог Солнце непобедимый М и т р а (лат.).
Матерь (греч.).
12
высший строитель (строитель самого себя) (лат.).
13
в одном и том ж е месте (лат.).
14
У Шеллинга в тексте наоборот: «ибо сокращению предшествует экспансия», однако, на мой
взгляд, это противоречит логике предшествующего текста. — П р и м . пер.
15
Я — часть той части, что сперва была целым, та ночь, что породила д л я себя гордый свет. —
Прим. пер.
16
Место темное. — П р и м . пер.
17
Букв.: «дало». — П р и м . пер.
18
анти-божественное или равно-божественное (греч.).
19
в одном и том ж е месте (лат.).
20
Шеллинг поочередно употребляет слова «брамин» и «брахман», используя их как синонимы. — Прим. ред.
21
исключение подтвеждает правило (лат.).
11
Двенадцатая лекция
1
о женах, замужних женщинах (греч.).
привязанные к порочной религии (лат.).
3
Афродит (м. р., ед. ч.) (греч.).
4
иным образом не могут служить ему, как только сделав женоподобным лицо, разгладив кожу
и опозорив мужской пол женскими одеяниями (лат.).
5
Энио (богиня войны) (греч.).
6
Т. е. в парном поименовании, в употреблении наряду с другим. — Прим. пер.
7
имя собственное (лат.).
8
Алитта (у Геродота соответствует Афродите) (греч.).
2
Тринадцатая лекция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
победоносная Венера (лат.).
подвластный ему (лат.).
Двоица (греч.).
мысль, ум, разум (греч.).
нечто безграничное (греч.).
покорный, подвластный (лат.).
Сатурн, которого повсюду и более всего на Западе почитают (лат.) — Перевод М. И. Рижского.
Куда меня, Вакх, увлекаешь? (лат.).
мир, космос (греч.).
Четырнадцатая лекция
1
2
3
хитрый, изворотливый, лукавый (греч.).
сытость, пресыщение; надменность (греч.).
исполнять, делать; управлять, повелевать (греч.).
Примечания
533
4
сытый, насыщенный (лат.).
годами (имеется в виду «насытившийся годами») (лат.).
6
(дальний, будущий) план; руководство (греч.).
7
одним и тем ж е актом (лат.).
8
необработанным, д и к и м к а м н я м (греч.).
9
диким к а м н я м (греч.).
10
суеверный (греч.).
11
нетвердый в вере и словно бы напуганный (греч.).
12
О н и приносили человеческие жертвы и даже детей, возраст которых [обычно] и у врагов
вызывает жалость, они возлагали на жертвенники, испрашивая у богов милости за пролитие крови,
тех, о продлении ж и з н и коих принято молиться (лат.) (Перевод: А.Деконский, Моисей Рижский,
М. Грабарь-Пассек).
13
Ф и н и к и й ц ы имели обычай приносить в жертву своих дев (лат.).
14
Меликарт, и л и Меликерт (морское божество) (греч.).
15
melekh — царь (ивр.).
16
keret, keriya — город (ивр.).
17
зверообразная ж и з н ь (греч.).
18
в хорошо обустроенном саду (греч.).
19
(города) главного (греч.).
20
Богом они считают одно бессмертное существо (его они признают причиной всего) (греч.).
21
а другое смертное, какое-то безымянное (греч.).
22
и неопределенного (греч.).
23
и нелегко познаваемый (лат.).
24
жители Мероэ почитают Геракла, Пана и Исиду (греч.).
25
кроме другого какого-то варварского {читай: бога) (греч.).
26
причиной всего (греч.).
27
(не есть) причина всего (греч.).
28
каким-то варварским богом (греч.).
29
спаситель (греч.).
30
благосклонный, милостивый к людям (греч.).
31
исполненный благодати, милости (греч.).
32
исполненный истины (греч.).
33
уклоняться от цели (лат.).
34
грешить, ошибаться, промахиваться (греч.).
35
помимо Бога (лат.).
36
как таковые грешниками (греч.).
37
на пользу (лат.).
5
Пятнадцатая лекция
1
Египтяне совершают в его честь самое тайное и величественное богослужение и чтят память
о нем, которая уходит у них в весьма далекое прошлое (лат.). Сатурналии I, 20, 7.
2
память, уходящая в далекое прошлое (лат.).
3
Ни статуи, ни изображения нет богов;
Величия и благоговения исполнено это место (лат.).
4
благодарственные дни (лат.).
534
Примечания
5
Сатурн ж е был закован Юпитером, дабы движение его не было слишком стремительным, —
ради этого связал его путами и з созвездий (лат.).
6
боги богов (лат.).
7
rokhel — торговец, странник (ивр.).
8
harokhel — торговец, странник (ивр.).
9
путник, торговец (лат.).
10
rakhal — странствовать (ивр.).
11
erekhel — сравнимый с Богом (ивр.).
12
подобие Бога (лат.).
13
форма Бога, Божье подобие (греч.).
14
старшая, почтенная дочь Зевса (греч.).
15
(сражающимся со) смертью (греч.).
16
священная, сакральная болезнь (греч.).
17
священная болезнь (лат.).
18
из-за ревности (зависти) Геры (греч.).
19
полухристианин, полулошадь (итал.).
20
замедляющий, тормозящий. — П р и м . пер.
21
Der Gott des Irdischen entkleidet
Flammend sich v o m Menschen scheidet.
(Цит. стихотворение «Das Ideal u n d das Leben», перевод мой. — В. Л.)
22
видение, призрак, подобие (греч.).
23
то, что в нем божественно (греч.).
24
Жестоко попираемо религией,
Которая, явившись и з небесных сфер, ж у т к и м оком
Глядела вниз на смертных. (По переводу Кнебельса.)
Шестнадцатая лекция
1
тайные обряды, мистерии; справлять оргии, священнодействовать; совершение оргий (греч.).
раздражение, гнев, злоба (греч.).
3
сдерживать, удерживать (греч.).
4
ставить преграду, сдерживать (лат.).
5
дела, деяния, поступки (греч.).
6
гнев, раздражение (греч.).
7
гневаться, раздражаться (греч.).
8
раздражать, разжигать гнев (лат.).
9
пылать страстью, гореть желанием (греч.).
10
протягивать, простирать; стремиться, желать (греч.).
11
устремляться, домогаться, жаждать (лат.).
12
вздутие, набухание, наполнение (лат.).
13
великая мать Богов (лат.).
14
голова (греч.).
15
головой вперед, склонившись (греч.).
16
бросаться головой вперед, кувыркаться, нырять (греч.).
17
наклониться, поникать головой (греч.).
18
шататься, качаться, переворачиваться (нем.). — Прим. пер.
2
Примечания
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
535
бросать, р о н я т ь (греч.).
идти, двигаться (греч.).
соскочил с колесницы (греч.).
заставляющая склонить голову (лат.).
«кибебами» (греч.).
«каракины» (греч.).
кивок головами (лат.).
кивок (лат.).
бить головой и л и рогами, бодаться (греч.).
трясти, мотать головой (лат.).
в результате нисхождения (лат.).
н и з р и н у т ы й Зевсом, у п а в ш и й с неба (греч.).
Путь перед ней серебром устилает и медной монетой (лат.).
И сыплются р о з ы обильно,
С н е ж н ы м покровом цветов осеняя богиню и свиту (лат.) (пер. Ф. Петровского).
И одаряет она, безмолвная, благами смертных (лат.) (пер. Ф. Петровского).
Семнадцатая лекция
1
разрывание по суставам, растерзание; рассеяние, разброс (греч.).
убоявшись Тифона (греч.).
3
словно пряча, скрывая себя (греч.).
4
перед которым (лат.).
5
здесь «с отчаянной борьбой» (лат.).
6
растерзание (греч.).
7
одно и то же Гадес и Дионис (греч.).
8
сам же Гор закончен и совершен (греч.).
9
закончен, определен (греч.).
10
безграничное, беспредельное (греч.).
11
то, что не может быть законченным (лат.).
12
определенный, законченный (греч.).
13
совершенный (греч.).
14
старший, более взрослый, почтенный Гор (греч.).
15
Аруэрис (греч.).
16
слабый (немощный) ногами, или со спутанными [ногами] (лат.).
2
Восемнадцатая лекция
1
Здесь намеренно употреблены слова лютеровского перевода первых, начальных стихов Библии. — Прим. пер.
2
причина всякого становления (греч.).
3
но в свой срок Гор победил Тифона (греч.).
4
возобладал Аполлон (греч.).
5
наимудрейшие из жрецов (греч.).
6
в растерзании, рассеянии (греч.).
536
Примечания
7
уничтожение, истребление, убыль (греч.).
убеждать (греч.).
9
Аполлинополь Великий (лат.).
10
Тифониумы предваряют собой почти все крупные памятники (φρ.).
11
умопостигаемые боги (греч.).
12
спрятанный, скрытый (греч.).
13
Амун (греч.).
14
стовратный город (греч.).
15
подобие человека-пигмея (греч.).
16
ж и в о т в о р н о е набухание (лат.).
17
Кнэф, и л и Книф (греч.).
18
нерожденный (греч.).
19
боги рожденные, появившиеся, ставшие (греч.).
20
Слово erzeugt может переводиться как «рожденный» либо «произведенный». — Прим. пер.
21
ангел добра, благой дух (греч.).
22
Аммону, который и Хнуби (греч.).
23
Бунзен Христиан Карл Йозиас, 1791-1860. Немецкий дипломат, публицист и исследователь
древних религий.
8
Девятнадцатая лекция
1
боги нерожденные (греч.).
номы (греч.).
3
бог, для всех жрецов общий (греч.).
4
Гермес Трисмегист (греч.).
5
неведомый сумрак (сумрак неведения) (греч.).
6
hokhma — мудрость (ивр.).
7
богами рожденными, появившимися, ставшими (греч.).
8
tsafon — Север (ивр.).
9
телец, теленок, бычок (греч.).
10
одушевленный образ (греч.).
2
Двадцатая лекция
1
Или полных (vollständig). — Прим. пер.
Дословно: «преступающее». — Прим. пер.
3
становлению, происхождению (греч.).
4
переживший самого себя (лат.).
5
был уничтожен, но не побежден (греч.).
6
будь спокоен (наслаждайся миром) с Осирисом (греч.).
7
божество (греч.).
8
ложь, обман, заблуждение (греч.).
9
условие, без которого нельзя (необходимое условие) (лат.).
10
yesh — существование (ивр.).
2
Примечания
537
11
yasha (ивр.) — значение корня довольно неясно. Brown Ε, Driver S.R., Briggs С. H. A Hebrew A n d English Lexicon Of The Old Testament дает значения «поддерживать», «помогать» и «делать
равным».
12
tushia — неизменный успех (ивр.).
13
bara — создал (ивр.).
14
bara — создал (ивр.).
15
безвидна и пуста (хаос) (ивр.).
16
yasha — делать просторным, достаточным (ивр.).
17
yada — знать (ивр.).
18
видеть (лат.).
19
видеть (греч.).
20
Остров Элефанта на юге И н д и и знаменит пещерами и скальными храмами, п о с в я щ е н н ы м и
Шиве. — Прим. ред.
Двадцать первая лекция
1
2
3
4
5
6
как таковой (греч.).
Резорбция — от resorptio (лат.) — всасывание, поглощение. — Прим. пер.
прошедшая, минувшая (лат.).
предшествующая (лат.).
философский корпускул (лат.).
различение (лат.).
Двадцать вторая лекция
1
Так в тексте. — Прим. пер.
древним учением (лат.).
3
знать, знание (греч.).
4
обет (лат.).
5
Andacht, действительно, образовано от корня «denk», который при прибавлении суффикса
даст глагол «мыслить». — Прим. пер.
6
Весьма приблизительно переводится как «глубина», «проникновенность», также «искренность». — Прим. пер.
7
Вероятно, речь здесь идет о качестве человеческих действий и решений, в последнюю эпоху
переводившемся как «тотальность», несомневающееся действие. — Прим. пер.
8
Весь мир, обманутый тремя качествами, не узнает меня, находящегося выше, нетленного.
Божественное же мое чародейство трудно преодолеть, но те, кто становятся мне сопричастны, преодолевают это чародейство (лат.).
9
Не я присутствую в них, но они во мне (лат.).
10
Во мне присутствуют все живые существа, но и не присутствуют живые существа (лат.).
11
Вот моя возвышенная тайна (лат.).
12
высшее познаваемое (лат.).
13
лучше самого Брахмы (лат.).
14
Ты создатель вселенной, Ты же и разрушитель (лат.).
15
Оставив все религии, неотступно следуй за мной, словно за единственным убежищем (лат.).
2
538
Примечания
16
Это сокровенное знание не должно быть открыто тому, кто непочтителен и не предан (лат.).
был единственным (лат.).
18
был до всего (лат.).
19
первый, без какого-либо примера создал (лат.).
20
заново создал (лат.).
21
без субъекта или основания, т. е. без ранее существовавшей материи создал (лат.).
22
посредник, миротворец (греч.).
23
один, монах (греч.).
24
разделяющий ж и з н ь на два начала (лат.).
25
что Зар(а)дан, Будда, Христос, Мани и солнце — одно и то ж е (греч.).
26
святых, окруженных почитанием, о благочестивых (греч.).
27
святые, благочестивые (греч.).
28
Ж и з н ь . . . наиболее общественно развитых народов И н д и и разделяется на несколько групп...
одни занимаются земледелием... другие несут военную службу... третьи вывозят свои товары и ввозят иноземные... знатнейшие и богатейшие ведают государственными делами, занимаются судопроизводством, заседают при царях (лат.).
29
П я т а я каста посвящает себя мудрости, почитаемой т а м и почти обращенной в религию,
и всегда заканчивает ж и з н ь добровольной смертью на предварительно разожженном костре (лат.).
30
тройственном, трехликом М и т р е (лат.).
31
Персы и Маги, — все делят Юпитера на две силы (лат.).
32
и говорят о женщине с тройственным обликом (лат.).
33
трехликую ж е н щ и н у (лат.).
34
Т.е. способной на экспансию. — П р и м . пер.
35
Вероятно, подразумевается движение в направлении экспансии. — Прим. пер.
36
цельное божество (лат.).
37
«Введение в историю буддизма» (φρ.).
17
Двадцать третья лекция
1
благочестие, благоговение, святость (лат.).
это для меня обязанность, это я ставлю себе в обязанность (лат.).
3
Не много упоминаний о Боге в китайских книгах (лат.).
4
в истолковании которого и у некоторых европейцев есть разногласия (лат.).
5
II y a une communication intime entre le ciel et le people king, говорит Gentil. (Существует некая
глубокая связь между небом и народом Кинь (вьетнамцы. — Прим. ред.) (фр.)).
6
астральная религия, преобразованная в государственный строй (лат.).
7
Немецкое Fach, в зависимости от контекста, означает: «ящик стола», «ячейка», «факультет»,
«школьный предмет», «специальность», и т.д. — Прим. пер.
8
вселенная без Бога (φρ.).
2
Двадцать четвертая лекция
1
2
3
Ученый наших дней, вероятно, сказал бы: «китайская модель». — Прим. пер.
корни (лат.).
корень (лат.)
Примечания
4
539
возможно для всякого смертного (лат.).
Сидерический (астр.) — «звездный». Здесь Шеллинг пытается представить китайский язык
как материальное свидетельство небесного происхождения. — Прим. пер.
6
Правильнее полагают те, кто говорят, что не все, но большинство слов в древней речи китайцев были моносиллабическими и, как это характерно для большинства варварских племен, очень
короткими... (лат.).
7
третьим членом, критерием сравнения (лат.).
8
«О жизни и учении Лао-Цзы» (φρ.).
9
Матурен Вейсьер де Лакроз, 1661-1739. Французский востоковед, лингвист.
5
Двадцать пятая лекция
1
Эстимация — оценка. — П р и м . пер.
тела духовные, новые (греч.).
3
течь, литься (греч.).
4
течь, литься, струиться; двигаться (лат.).
5
неумолим, беспощаден (греч.).
6
необолыцаем, неочаровываем (греч.).
7
неукротим, неусмиряем (греч.).
8
сердце немилосердное (в груди) н о с я щ и й (греч.).
9
невидимое, незримое (греч.).
10
широко властвующий (греч.).
11
властитель влажной природы (греч.).
12
влагоносное начало и сила (греч.).
13
слеза Кроноса (греч.).
14
мудрый (греч.).
15
Зевсу мудростью равен (греч.).
16
царственный ум, нус (греч.).
17
страшный, ужасный, чудовищный бог (греч.).
18
Стигийский Юпитер (лат.).
19
сумрак мглистый (греч.).
20
Зевс, обитающий в э ф и р е (греч.).
21
широкое, открытое небо (греч.).
22
О н ж е раздал и м почести славно (греч.).
23
всеэллинский бог (греч.).
2
Двадцать шестая лекция
1
2
3
4
5
6
в трудах (греч.).
раскрываться, разверзаться; (мед.) отступать, отходить (греч.).
хаос (греч.).
Альтерация — видоизменение. — Прим. пер.
нерасчлененная и грубая глыба (лат.).
В Греции нет божества, равного силой тебе (лат.) (Пер. Ф.А.Петровского.)
540
Примечания
7
божество (лат.)·
Остров недалеко от Троады. — Прим. ред.
9
правитель, хранитель, э ф о р всего времени (греч.).
10
набухает нечто в цветке, силой подобное Лотосу (лат.).
11
«Тезаурус Гревия» (лат.).
12
В древних песнях салиев воспевается как Бог Богов (лат.).
13
начало богов (лат.).
14
боги совместно сущие и тесно связанные (боги-советники) (лат.).
15
Боги Богов (лат.).
16
призывается первым, когда какому-либо божеству совершается священнодействие (лат.).
17
Так как во всех делах важнейшее значение имеют начало и конец, то решили, что началом
при совершении богослужений является Янус (лат.).
18
зачинатель, основоположник (лат.).
19
Янус ставится выше Юпитера, так как во власти Януса первичные вещи, во власти Юпитера — высшие (высшие превосходят первичные, так как первичные предшествуют во времени, высшие превосходят по достоинству) (лат.).
20
чтобы открыт был возврат народу, пошедшему в битвы (лат.).
21
представителей мужского потомства (лат.).
22
война — отец всего (греч.).
23
закрыл Януса Квирина (лат.).
24
закрыл опустевший от врагов [храм] Януса Квирина (лат.).
25
и м я нарицательное (лат.).
26
Радостным пребудь среди народа Квирина (лат.).
27
мочь, быть в состоянии (лат.).
28
могущественные боги (лат.).
29
во власти которого все пребывает (лат.).
30
Рим (греч.) сила, крепость, могущество.
31
разверзаться (греч.).
32
иду (лат.).
33
быть раскрытым, зиять (лат.).
34
раскрываться, з и я т ь (лат.).
35
Хаосом Гесиод называет некое смешение, от начала времен однородное (лат.).
36
Хаосом Гесиод называет некое смешение, от начала времен однородное, зияющее и разверстое в глубину; почему и греки, и м ы говорим: «быть раскрытым» (haino), «зиять» (hio). И от этого
слова, но без придыхания, образовано слово Янус, так как он был первым среди всех, и к нему первому как отцу обращались в молитвах и полагали, что он — начало всех вещей (лат.).
37
богиня (лат.).
38
Т. е. разделяющую. — П р и м . пер.
39
лук (греч.).
40
ж и з н ь (греч.).
41
я р м о (греч.).
42
Зевс (греч.).
43
«Зевсова», т.е. «Гера» (греч.).
44
иду (лат.).
45
«раскрываться» и «зиять».
46
Автор обращает внимание на значительное сходство, практически тождество словоформ
Jahnen и janus (Прим. пер.).
8
Примечания
47
И восток падет, и закат,
Когда рухнет небесная твердь,
И повергнет некая смерть
В новый хаос весь род богов
(Пер. С. А.Ошерова).
48
некая смерть (лат.).
Двадцать седьмая лекция
1
а затем (греч.).
широкогрудая земля (Гея) (греч.).
3
земля (Гея) (греч.).
4
широкогрудая (греч.).
5
в одном месте (лат.).
6
Гея (три диалектных варианта) (греч.).
7
gao.
8
уступать, удаляться; вмещать в себя, содержать (греч.).
9
земля полногрудая (греч.).
10
давать, уступать место (лат.).
11
в землю-гею (греч.).
12
н и к кому не всходивши на ложе (греч.) (Пер. В. В. Вересаева).
13
великие горы (греч.).
14
себе равное (ширью) (греч.).
15
Океан (греч.).
16
«Пелагом» (морем) и Понтом (греч.).
17
неразумный, безрассудный, изумленный; испуганный, ошеломленный (греч.).
18
натягивать, напрягать (греч.).
19
напрягать, тянуть, тащить (греч.).
20 титан (греч.).
21
сколько и х было, рожденных Ураном и Геей (греч.).
22
и стали отцу своему (букв, «второму родителю») ненавистны (греч.).
23
от начала, по природе своей (греч.).
24
Каждого (в недрах земли) немедлительно прятал родитель (греч.).
25
не выпуская на свет в недрах земли (греч.).
26
Хаос (греч.).
27
Эреб (греч.).
28
Ночь (греч.).
29
Мор (смерть) (греч.).
30
М о м (насмешка) (греч.).
31
Черная Ночь и угрюмый Эреб родились и з Хаоса (греч.).
32
а следом (широкогрудая Гея) (греч.).
33
День и Э ф и р (греч.).
34
Мор (греч.).
35
Мом (греч.).
36
желать, стремиться (греч.).
37
насмешка, хула, порицание (греч.).
2
541
542
Примечания
38
О б м а н (греч.).
Вражда (греч.).
40
Полные ложью слова (греч.).
41
С л о в о п р е н ь я (греч.).
42
и з засады (греч.).
43
Здесь и далее в аналогичных случаях как «разум» переведено немецкое «Verstand», обыкновенно переводимое как «рассудок». — П р и м . пер.
44
ставить (греч.).
45
(пред) сбора винограда (греч.).
46
п р а з д н и к Диониса и Посейдона (греч.).
47
Каждого Крон п о ж и р а л (лишь к нему попадал на колени) (греч.).
48
de в Деметра (греч.).
49
dai = dae.
50
даймон, демон (греч.).
51
снятая одежда, сброшенная кожа (лат.).
52
о с т а н к и (греч.).
53
ώς ftv έπειτα
Έ υ α γ έ ω ς ερδοντες έμόν νόον ίλάσκοισθε
...чтобы после
О б р а з о м д о л ж н ы м свершая их, у м и л о с т и в л я л и мой дух (греч.). (ст. 274-275).
54
О с и р и с первый умелой рукой сделал плуги
И податливую почву вспахал железом;
Первый доверил неискушенной земле семена, (лат.).
55
сидящие р я д о м (греч.).
56
Вовсе не знали поля до Юпитера пахарей власти.
Даже значком отмечать и л ь межой размежевывать н и в ы
Не полагалось (лат.) (Перев. С. Шервинского).
57
чистая, непорочная (греч.).
58
игральная косточка, гостевая табличка (лат.).
59
М ы и щ е м и находим здесь наше горе и нужду... — П р и м . пер.
60
Н о ведь все э т о удобней и лучше иметь у себя дома. — П р и м . пер.
61
Имеется в виду древнейшее святилище Зевса, славное своим оракулом. — П р и м . ред.
39
Двадцать восьмая лекция
1
В оригинале игра слов: in dem Misterium niedergeschlagen war... Немецкий глагол niederschlagen имеет два значения: «наносить поражение», «выпадать в осадок». — Прим. пер.
2
под-лежащее, основа (греч.).
3
кровь бессмертную (греч.).
4
живущие легко, невесомо (греч.).
5
тела духовные (греч.).
6
у всех эллинов (было принято) (греч.).
7
диким, необработанным камням (греч.).
8
неотесанные бревна, деревья (греч.).
9
Остров в Британской Индии к северу от Бомбея. Наряду с Элефантой славится своими подземными храмами. — Прим. ред.
Примечания
10
543
сросшиеся бедра, голени, ноги (греч.).
в уединении (греч.).
12
hokhma — мудрость (ивр.).
13
шагнувшие (расставленные) ноги (греч.).
14
нелепые с виду (греч.).
15
Фигалия — город в южной части древней Аркадии, лежащий на границе с Мессенией. —
Прим. ред.
16
красота которого, кажется, даже добавила нечто к общепринятому благоговению (лат.).
11
Двадцать девятая лекция
1
освобождающий (от проклятия), прощающий, отгоняющий заботы (греч.).
сведущую более богов (греч.).
3
чтоб между бессмертных царская власть не досталась кому кроме Зевса (греч.).
4
рожденная третьей (греч.).
5
рожденная первой, первородная (греч.).
6
Гермес хтонический, подземный (греч.).
7
«О музыке» (лат.).
8
другой (из двух) Янус (лат.).
9
покровитель дорог, хранитель путей (греч.).
10
почитание покровителей улиц (греч.).
11
улица, дорога (греч.).
12
просьбы, мольбы (греч.).
13
«о возникновении Греции» (лат.).
2
О значении одной новооткрытой настенной росписи в Помпее
1
2
3
4
5
Каждого в недрах земли немедлительно прятал родитель (греч.).
Каждого Крон пожирал (греч.).
В место укромное сына запрятав, дала ему в руки
Серп острозубый. Неожиданно левую руку
Сын протянул из засады (греч.).
Рея, поятая Кроном, детей родила ему светлых (греч.).
Имеются в виду свидетельства раннего периода культа. — Прим. пер.
Научное издание
Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг
ФИЛОСОФИЯ МИФОЛОГИИ
в 2 томах
Том 2
МОНОТЕИЗМ. МИФОЛОГИЯ
Корректор М. А. Молчанова
Компьютерная верстка А. М. Вейшторт
Подписано в печать 07.12.2012. Формат 70χ907ι 6 .
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 39,78. Заказ №
Издательство Санкт-Петербургского университета.
199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11/21.
Тел./факс (812)328-44-22
E-mail: editor@unipress.ru
www.unipress.ru
Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.
UADRIVIUM
• Издательский проект «Квадривиум» — это благотворительный проект, имеющий целью:
• организовать издание научной литературы, и прежде всего источников, к которым
равнодушны в нынешней России религиозно-государственные структуры;
• создать для переводчиков и авторов достойные условия работы;
• сделать книги доступными для читателя как благодаря их рассылке в основные
библиотеки России и ближнего зарубежья, так и благодаря низкой отпускной цене.
• Проект включает в себя четыре серии: HELLENICA, BIZANTINA, RUSSICA и GERMANICA, в рамках которых ведется систематическая работа.
• По вопросам сотрудничества, а также покупки и распространения книг с нами можно
связаться, написав по адресу: quadrivium_izdat@mail.ru.
• Интернет-магазин издательского проекта «Квадривиум»: www.neizdat.ru.
Наши книги можно прочитать в библиотеках следующих городов России и стран СНГ:
Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул,
Белгород, Благовещенск, Брянск,
Великий Новгород, Владивосток,
Владикавказ, Владимир, Волгоград,
Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск,
Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск,
Йошкар-Ола, Казань, Калининград,
Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар,
Красноярск, Курган, Курск, Липецк,
Майкоп, Махачкала, Москва, Мурманск,
Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск,
Омск, Орел, Оренбург, Пермь,
Петрозаводск, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, СанктПетербург, Саранск, Саратов, Смоленск,
Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь,
Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск,
Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита, Элиста,
Якутск, Ярославль
Баку (Азербайджан); Ереван (Армения);
Барановичи, Витебск, Гомель, Гродно,
Минск (Белоруссия); Тбилиси (Грузия);
Алма-Ата, Астана (Казахстан); Бишкек
(Киргизия); Рига (Латвия); Вильнюс
(Литва); Кишинев (Молдова); Душанбе
(Таджикистан); Ташкент (Узбекистан);
Днепропетровск, Донецк, Киев, Львов,
Одесса, Симферополь, Ужгород, Харьков
(Украина); Тарту (Эстония).
UADRIVIUM
• ЧАСТНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Наш главный принцип:
Учеба — общее дело ученика и учителя.
Продуманная система мотивации к обучению обеспечивает активную роль ученика
в процессе получения образования.
• ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
• Английский язык 4 раза в неделю:
комплексная программа на базе двух
оригинальных курсов Оксфордского
университета — Way Ahead и Family and
Friends;
• Разговорный английский с носителем
языка — 1 раз в неделю;
• Дополнительный иностранный язык
по выбору: французский, итальянский,
испанский, немецкий, китайский — 2 раза
в неделю для желающих.
• УГЛУБЛЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
• Курс решения нестандартных задач;
• Интеллектуальные бои и математические олимпиады;
• Освоение Карты Планеты Математики:
мотивация к индивидуальному продвижению в системе логико-математических игр;
• Шахматный клуб;
• Математический кружок (подготовка
к обучению в математическом лицее
№ 239).
• ШИРОКОЕ ГУМАНИТАРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
• Петербурговедение;
• История искусств и мифология;
• Богатая программа экскурсий
и внешкольных мероприятий;
• Языкознание и информационные технологии;
• Лингвистический кружок (подготовка
к обучению в классической гимназии № 610);
• Клуб «Что? Где? Когда?»;
• Мы уделяем пристальное внимание родному языку: учим много стихов, читаем
и обсуждаем книги, пишем сочинения,
проводим конкурсы чтецов, воспитываем
умение говорить на публику.
• РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
• Кукольный театр;
• Музыкальное отделение: игра на музыкальных инструментах (флейта, скрипка,
фортепиано, гитара, виолончель по
выбору), ансамбль, сольфеджио, вокал;
• Бальный танец, хип-хоп;
• Живопись, лепка, художественное конструирование;
• Проектная деятельность;
• Художественная/спортивная гимнастика — 4 часа в неделю на базе СДЮШОР
(в этом же здании).
КАЖДЫЙ НАШ УЧИТЕЛЬ — НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ,
УВЛЕЧЕННЫЙ СВОИМ ДЕЛОМ.
ВЫСОКАЯ ПЛАНКА КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ —
ЗАЛОГ РАВНОМЕРНО СИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ.
НАША ЦЕЛЬ — МАКСИМАЛЬНО ПОЛНОЕ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
АДРЕС ШКОЛЫ:
Санкт-Петербург, 8-я Советская ул., д. 58
тел. +7 (812) 274-70-16
+7 (921) 952-80-32
www.quadrivium.ru