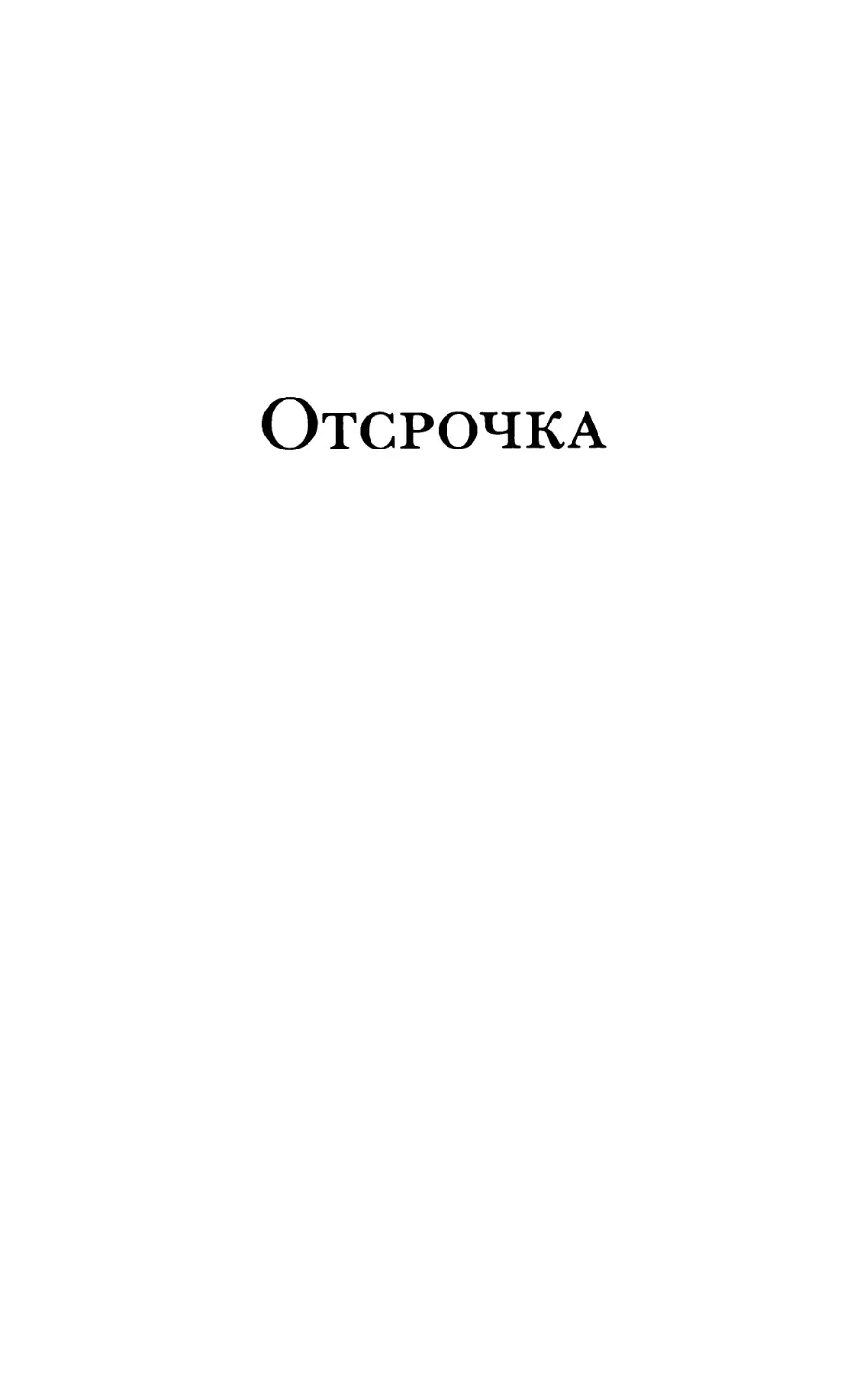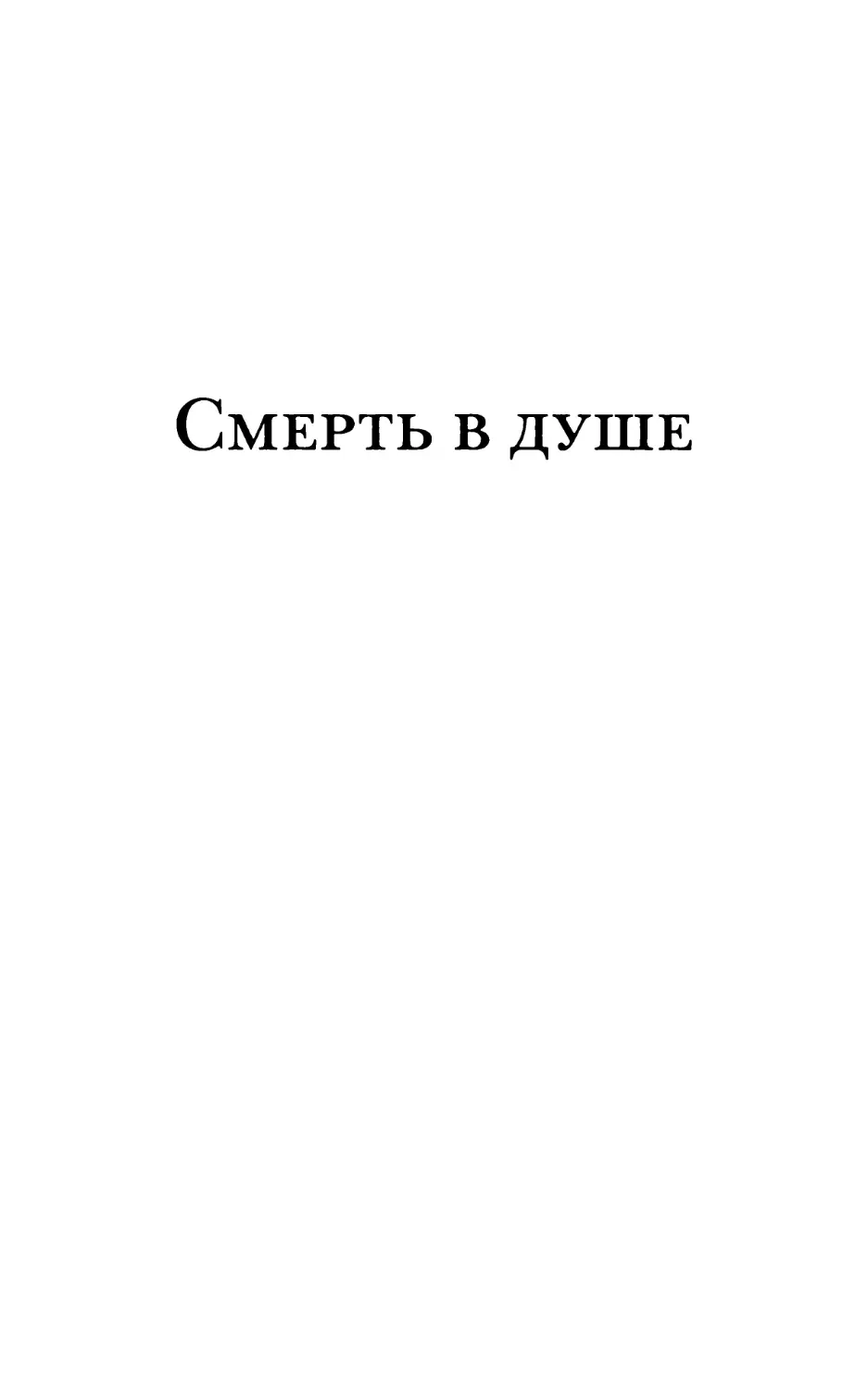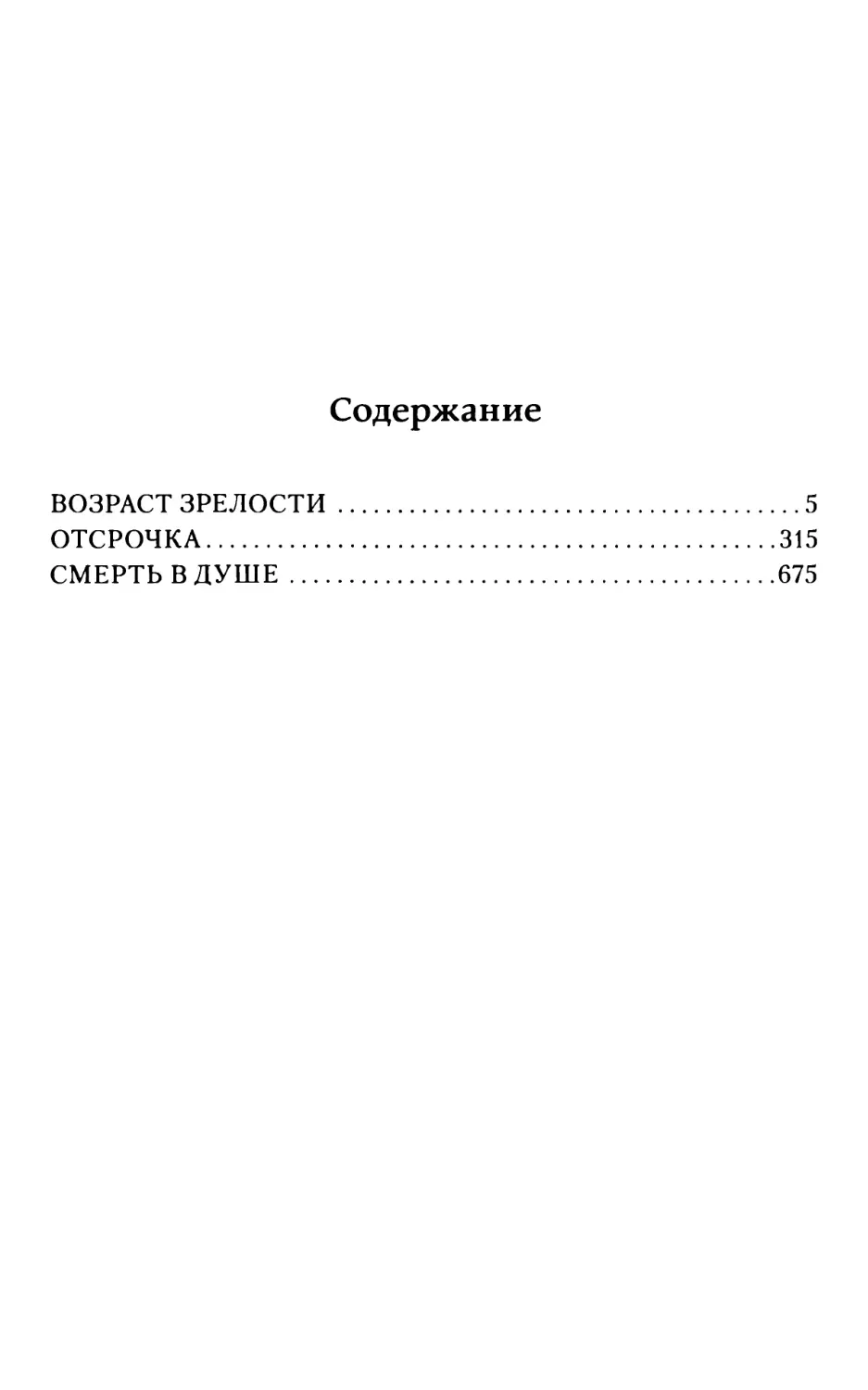Author: Сартр Ж.П.
Tags: философия постмодерн французская философия абсурдизм сартр. философия абсурда
ISBN: 978-5-17-078843-9
Year: 2015
Text
Жан Поль Сартр — выдающийся французский философ,
писатель, драматург и критик. Автор знаменитого романа
«Тошнота», монументальной трилогии «Дороги свободы»,
книги «Слова», новелл, пьес и философских эссе. Одна из
самых значимых фигур мировой литературы второй половины
XX века.
Возможна ли АБСОЛЮТНАЯ свобода — или нам навеки
суждено оставаться в узких рамках дозволенного?
Что такое любовь — унизительный психологический
атавизм или, напротив, одна из высших свобод, доступных
мужчине или женщине?
И где проходит грань между прозябанием и полноценной
жизнью?
В «Дорогах свободы» ярко выражены философские,
политические, интеллектуальные и творческие убеждения Жана
Поля Сартра.
«Быть или не быть?» — главный, в сущности, вопрос,
который мыслители задают себе и человечеству.
Однако Сартр, сторонник концепции «обесценивания
жизни», дает на него весьма и весьма необычный ответ...
Жан Поль
САРТР
ДОРОГИ
СВОБОДЫ
Жан Поль
САРТР
ДОРОГИ
СВОБОДЫ
Издательство ACT
Москва
Серия «Легендарная классика»
Jean-Paul Sartre
LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ:
L'ÂGE DE RAISON
LE SURSIS
LA MORT DANS L'ÂME
Перевод с французского Д. H. Вальяно, Л.Г.Григорьяна
Компьютерный дизайн Э.Э. Кунтыш
В оформлении обложки использованы материалы,
предоставленные агентством FOTObank.
Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.
Сартр, Жан Поль.
Дороги свободы : [сборник : перевод с французского] / Жан
Поль Сартр. — Москва : Издательство ACT, 2015. — 976 с. —
(Легендарная классика).
ISBN 978-5-17-078843-9
Возможна ли АБСОЛЮТНАЯ свобода — или нам навеки суждено
оставаться в узких рамках дозволенного?
Что такое любовь — унизительный психологический атавизм или,
напротив, одна из высших свобод, доступных мужчине и женщине?
И где проходит грань между прозябанием и полноценной жизнью?
В «Дорогах свободы» ярко выражены философские, политические,
интеллектуальные и творческие убеждения Жана Поля Сартра.
«Быть или не быть?» — главный, в сущности, вопрос, который
мыслители задают себе и человечеству.
Однако Сартр, сторонник концепции «обесценивания жизни»,
дает на него весьма и весьма необычный ответ...
© Editions Gallimard, Paris, 1945,1949
© Перевод. Д.Н. Вальяно, наследники, 2015
© Перевод. Л. Г. Григорьян, наследники, 2015
ISBN 978-5-17-078843-9 © Издание на русском языке AST Publishers, 2015
Возраст зрелости
Ванде Козакевич
I
Посреди улицы Верцингеторига какой-то верзила схватил Ма-
тье за руку; на другой стороне по тротуару прохаживался
полицейский.
— Дай мне что-нибудь, шеф, я хочу есть.
У него были близко посаженные глаза, из толстогубого рта
разило алкоголем.
— А может, выпить? — спросил Матье.
— Ну что ты, старина, что ты, ей-богу, нет, — заплетающимся
языком пробубнил верзила.
Матье нашарил в кармане монету в сто су.
— Да мне на это наплевать, — успокоил его Матье, — это я так,
к слову.
И протянул монету.
— Молодец, — забормотал, прислоняясь к стене, верзила. —
Сейчас я пожелаю тебе что-нибудь потрясающее. Скажи-ка, чего тебе
пожелать?
Оба они задумались, потом Матье сказал:
— Чего хочешь.
— Ну ладно, пожелаю тебе счастья, — изрек верзила, — вот так!
Он победоносно засмеялся. Матье увидел, что полицейский
приближается к ним, и встревожился за пьянчугу.
— Ну, хватит, — поторопил он его. — Прощай!
Он хотел уйти, но верзила его задержал.
— Одного счастья мало, — сказал он мягко, — это мало.
— Что ты имеешь в виду?
— Хочу тебе что-нибудь подарить...
— Сейчас я задержу тебя за попрошайничество, — пригрозил
полицейский.
8
Жан Поль Сартр
Он был совсем молодой, розовощекий, но пытался напустить на
себя суровость.
— Ты уже полчаса пристаешь к прохожим, — добавил он
неуверенно.
— Он не попрошайничал, — живо возразил Матье, — мы просто
разговаривали.
Полицейский пожал плечами и отправился своей дорогой.
Верзила основательно шатался; казалось, он даже не заметил
полицейского.
— Придумал, что тебе подарить. Подарю тебе марку из Мадрида.
Он вынул из кармана зеленый картонный прямоугольник и
протянул его Матье. Матье прочел надпись на испанском и французском:
«С.П.Т. Конфедеральный ежедневник. Оттиск 2. Франция.
Анархосиндикалистский комитет, 41, улица Бельвиль. Париж XIX».
Марка была приклеена под адресом. Она была тоже зеленая, с
мадридским штемпелем. Матье протянул руку:
— Большое спасибо.
— Осторожно! — прорычал верзила. — Это же... это же из
Мадрида!
Матье посмотрел на него: у того был взволнованный вид, он
делал отчаянные усилия, чтобы выразить свою мысль. Потом
отказался от этого и только повторил:
— Из Мадрида!
— Я понял.
— Клянусь тебе, я хотел туда поехать. Да не удалось.
Он помрачнел, сказал: «Подожди», — и медленно провел
пальцем по марке.
— А теперь можешь ее взять.
— Спасибо.
Матье сделал несколько шагов, но субъект окликнул его:
-Эй!
— Чего тебе? — спросил Матье.
Тот показал ему издалека монету.
— Тут один тип дал мне сто су. Хочешь, угощу тебя ромом?
— Как-нибудь в другой раз.
Матье ушел со смутным сожалением в сердце. В его жизни был
период, когда он бесцельно слонялся по улицам и по барам и
первый встречный мог его куда-нибудь пригласить. Теперь с этим
покончено: к чему? Но типчик попался презабавный. Он собирался
сражаться в Испании. Матье ускорил шаг и с раздражением поду-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
9
мал: «Так или иначе, нам нечего было сказать друг другу». Он
вытащил из кармана зеленую открытку: «Она из Мадрида, но
адресована явно не ему. Вероятно, кто-то ему ее дал. Перед тем как
подарить, он много раз потрогал ее — еще бы, она пришла из Мадрида!
На его физиономии было написано странное волнение». Матье, в
свою очередь, на ходу посмотрел на марку, затем опустил
картонный прямоугольник в карман. Раздался гудок локомотива, и Матье
подумал: «Я уже старик».
Было без двадцати пяти одиннадцать; Матье пришел раньше
условленного срока. Он прошагал, не останавливаясь и даже не
поворачивая головы, мимо маленького голубого домика. И все же
искоса посмотрел на него: все окна были темны, кроме окна мадам
Дюффе. Марсель еще не успела открыть входную дверь. Она сейчас
склонялась над матерью и грубыми мужскими движениями
устраивала ее в большой кровати с балдахином. Матье был мрачен, он
думал: «Пятьсот франков, а ведь надо дотянуть до двадцать
девятого, это по тридцать франков в день, даже меньше. Как я управлюсь?»
Он повернул и пошел обратно.
В комнате мадам Дюффе свет погас. Через какое-то время
осветилось окно Марсель; Матье пересек мостовую, прошел мимо
бакалейной лавки, стараясь не скрипеть новенькими подошвами. Дверь
была приоткрыта; он слегка толкнул ее, она скрипнула: «В среду
принесу масленку и смажу петли». Он вошел, закрыл дверь, в темноте
разулся. Ступеньки слегка поскрипывали: Матье осторожно
поднялся по лестнице, держа в руках туфли; он нащупывал каждую
ступеньку ногой, прежде чем стать на нее. «Какой фарс», — подумал он.
Марсель открыла дверь раньше, чем он добрался до площадки.
Розовый, пахнущий ирисом пар просочился из комнаты и
распространился по лестнице. Марсель была в зеленой рубашке. Матье
увидел просвечивавшую сквозь нее нежную и массивную
окружность ее бедер. Он вошел; ему всегда казалось, что он входит в
раковину. Марсель заперла дверь на ключ. Матье направился к
большому шкафу, встроенному в стену, открыл его и поставил туда свои
туфли, потом посмотрел на Марсель и почуял что-то неладное.
— Что-нибудь не так? — тихо спросил он.
— Нет, все в порядке, — тихо отозвалась Марсель, — а у тебя?
— Все в норме.
Он поцеловал ее в шею и в губы. Шея пахла амброй, а губы —
обыкновенным дешевым табаком. Пока Матье раздевался, Марсель
присела на край кровати и рассматривала свои ноги.
10
Жан Поль Сартр
— А это что? — спросил он.
На камине стояла фотография, которую он еще не видел. На ней
была стройная девушка, причесанная под мальчика, со строгой и
застенчивой улыбкой. На девушке был мужской пиджак и туфли
без каблуков.
— Это я, — сказала Марсель, не поднимая головы.
Матье обернулся: Марсель задрала рубашку над полными
бедрами; она наклонилась вперед, и Матье угадывал под рубашкой
нежность ее тяжелой груди.
— Где ты ее отыскала?
— В альбоме. Она снята летом двадцать восьмого года.
Матье аккуратно свернул пиджак и положил его в шкаф рядом
с туфлями. Он спросил:
— Ты теперь смотришь семейные альбомы?
— Нет, но сегодня, не знаю почему, мне захотелось снова найти
что-то из моей прежней жизни, какая я была до того, как узнала
тебя, когда я еще была здорова. Дай ее мне.
Матье протянул ей фотографию, и она вырвала ее у него из рук.
Он сел рядом. Марсель вздрогнула и немного отодвинулась. Она
рассматривала фотографию, неопределенно улыбаясь.
— А я тут забавная, — наконец сказала она.
Девушка стояла напряженно, облокотившись о садовую
решетку. Рот ее был полуоткрыт; должно быть, она тоже говорила: «А я
забавная», — говорила так же неловко и напряженно, с таким же
скромным вызовом. Только тогда она была молодой и худощавой.
Марсель покачала головой.
— Забавно! Забавно! Меня снял в Люксембургском саду студент-
фармаколог. Видишь эту блузку? Я ее в тот же день купила, потому
что в следующее воскресенье намечалась большая прогулка в Фон-
тебло. Боже мой...
Нет... Определенно, что-то случилось. Никогда ее движения не
были такими резкими, а голос таким грубым, таким мужским. Она
сидела в глубине розовой комнаты на краю кровати, больше, чем
обнаженная, — беззащитная, как большая китайская ваза, и было
мучительно слушать, как она говорит низким голосом и пахнет
острым звероватым запахом. Матье взял ее за плечи и притянул к
себе.
— Ты жалеешь о том времени?
Марсель сухо ответила:
— О том времени нет: я жалею о несостоявшейся жизни.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
11
Когда-то она была погружена в свои занятия химией, но болезнь
прервала их. Матье подумал: «Такое впечатление, что она злится на
меня». Он открыл было рот, чтобы спросить Марсель об этом, но
увидел ее глаза и промолчал. Она разглядывала фотографию
грустно и напряженно.
— Я растолстела, да?
-Да.
Марсель пожала плечами и бросила фотографию на кровать.
Матье подумал: «А ведь действительно жизнь у нее не сложилась».
Он хотел поцеловать ее в щеку, но она, нервно усмехнувшись,
мягко воспротивилась этому и сказала:
— С тех пор прошло десять лет.
Матье подумал: «Я ей ничего не даю». Он приходил к ней
четырежды в неделю; он подробно рассказывал о своих делах, она
давала ему советы серьезным и категоричным тоном и часто говорила:
«Я живу чужой жизнью». Он спросил:
— Что ты делала вчера? На улицу выходила?
Марсель сделала усталый округлый жест.
— Нет, я слишком утомилась. Немного почитала, но мама все
время приставала с магазином.
— А сегодня?
— Сегодня выходила, — угрюмо сказала она. — Захотелось
подышать свежим воздухом, потолкаться среди людей. Я дошла до
улицы Гэтэ, чтобы развеяться; затем решила повидать Андре.
— Ты была у нее?
— Да, минут пять. Когда я вышла от нее, начался дождь,
странный нынче июнь, и потом у людей были такие гнусные рожи... Я
взяла такси и вернулась...
Она вяло спросила:
— А ты?
Матье не хотелось распространяться. Он сказал:
— Вчера пошел в лицей прочитать последние лекции. Обедал у
Жака; как всегда, это было невыносимо скучно. Сегодня утром
зашел в бухгалтерию — узнать, не могут ли мне дать аванс.
Оказывается, это не положено. Тем не менее в Бовэ я обо всем договорился
с управляющим. Потом я встречался с Ивиш.
Марсель подняла брови и внимательно посмотрела на него.
Матье не любил говорить с ней об Ивиш. Он добавил:
— Она сейчас не в духе.
— Это почему?
12
Жан Поль Сартр
Голос Марсель окреп, лицо ее приняло разумное мужское
выражение; сейчас у нее был вид толстого левантинца. Он процедил
сквозь зубы:
— У нее переэкзаменовка.
— Но ты мне говорил, что она занимается.
— Да... на свой лад, то есть она часами сидит над книгой, не
шевелясь, но ты ведь знаешь, какая она: у нее, как у душевнобольных,
бывают приступы. В октябре она выучила по ботанике все, и
экзаменатор был доволен, а потом она вдруг поняла, что сидит перед
лысым типом, говорящим с ней о кишечнополостных. Ей это
показалось смешным, она подумала: «Плевать я хотела на
кишечнополостных», — и лысый не смог уже вытянуть из нее ни слова.
— Странная барышня, — задумчиво сказала Марсель.
— Во всяком случае, я боюсь, что она повторит этот номер. А
нет, так еще что-нибудь учудит, вот увидишь.
Что означал этот его тон, тон снисходительного равнодушия —
разве не ложь? То, что можно было выразить словами, он выражал.
«Но что такое слова!»
С минуту он поколебался, потом обескураженно опустил
голову: Марсель знала все о его чувстве к Ивиш, она даже смирилась бы
с этой любовью. Требовала она только одного: чтобы он говорил об
Ивиш именно таким тоном. Матье, не переставая, поглаживал ее по
спине, и Марсель начала помаргивать: она любила, когда он гладил
ее по спине, особенно по пояснице и между лопаток. Но внезапно
она высвободилась, лицо ее посуровело. Матье сказал ей:
— Послушай, Марсель, мне плевать, что у Ивиш
переэкзаменовка, она не больше меня годится для медицины. Как бы то ни было,
если сейчас у нее и выгорит, в следующем году ей станет дурно при
первом же вскрытии, и ноги ее больше не будет на факультете. Но
если на этот раз она провалится, то наделает глупостей. Тем более
что в случае провала ее семья запретит ей пробовать еще раз.
Марсель спросила его с расстановкой:
— Какие именно глупости ты имеешь в виду?
— Не знаю, — растерянно пробормотал он.
— Бедняга, как хорошо я тебя изучила. Ты никогда этого не
признаешь, но ты боишься, что она продырявит себе пулей шкуру. И он
еще заявляет, что ненавидит романтику. Скажи, пожалуйста, ты что,
никогда не видел ее кожи? Да ее можно пальцем проткнуть. И ты
воображаешь, что куколки с такой кожей будут портить себя
выстрелом из револьвера? Я еще могу представить, как она рухнет на
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
13
стул, волосы свисают на лицо, как она смотрит завороженным
взглядом на лежащий перед ней маленький браунинг, — все это
очень по-русски. Но представить другое — нет, нет и нет! Револьвер,
дружок, предназначен для такой крокодильей кожи, как моя.
Она приложила свою руку к руке Матье. У него кожа была
белее.
— То ли дело моя. Погляди-ка, ни дать ни взять сафьян.
Она засмеялась:
— Из меня вполне можно сделать шумовку, ты как думаешь? Я
легко представляю себе под левой грудью прелестную круглую
дырочку, красненькую, с четкими и чистыми краями. Это не было
бы противно.
Она все еще смеялась. Матье закрыл ей рот ладонью:
— Замолчи, разбудишь старуху.
Марсель замолчала. Он сказал ей:
— Какая ты взвинченная!
Она не ответила. Матье положил руку ей на бедро и нежно
погладил его. Он любил эту плоть, мягкую под ласками, как масло, с
легкими, будто подрагивающими волосками. Марсель не
шевелилась: она глядела на руку Матье. Матье убрал руку.
— Посмотри на меня, — сказал он.
На мгновение он увидел круги у нее под глазами, ее надменный
и безнадежный взгляд.
— Что с тобой?
— Ничего, — отрезала она, отворачиваясь.
И всегда с ней так: она напряжена. Скоро она не в силах будет
сдерживаться: ее прорвет. Остается только заполнить чем-нибудь
время и ждать. Матье терпеть не мог этих безмолвных взрывов:
страсть в этой комнате-раковине была непереносима, потому что ее
нужно было выражать тихим голосом и без резких движений, чтобы
не разбудить мадам Дюффе. Матье встал, подошел к шкафу и взял
из кармана пиджака картонный прямоугольник.
— Взгляни-ка.
— Что это?
— Какой-то тип сунул только что на улице. У него была
симпатичная физиономия, и я дал ему немного денег.
Марсель безразлично взяла открытку. Матье почувствовал себя
чем-то связанным с тем человеком, чем-то вроде сообщничества. Он
добавил:
— Знаешь, для него это, видно, что-то важное.
14
Жан Поль Сартр
— Он анархист?
— Не знаю. Он предложил мне выпить.
— И ты отказался?
-Да.
— А почему? — небрежно спросила Марсель. — Наверное, это
было бы занятно.
— Не думаю, — сказал Матье.
Марсель подняла голову, близоруко и насмешливо взирая на
настенные часы.
— Когда ты рассказываешь такое, — сказала она, — это мне
действует на нервы. Скажу одно: твоя жизнь полна упущенных
возможностей.
— И это, по-твоему, упущенная возможность?
— Да. Раньше ты сделал бы все, что угодно, чтобы
спровоцировать подобную встречу.
— Возможно, я немного изменился, — добродушно сказал
Матье. — Что ты имеешь в виду? Что я постарел?
— Тебе тридцать четыре года, — просто сказала Марсель.
Тридцать четыре. Матье подумал об Ивиш и испытал легкую
досаду.
— Да... Но я отказался скорей из щепетильности. Понимаешь, я
не в курсе этих дел.
— Сейчас ты редко бываешь в курсе, — заметила Марсель.
Матье живо добавил:
— Впрочем, он тоже не был в курсе: когда человек пьян, он
невольно впадает в патетику. Этого я и хотел избежать.
Он подумал: «Это не совсем верно. Об этом я не размышлял».
Он старался быть искренним. Матье и Марсель договорились
всегда говорить друг другу все.
— Видишь ли... — начал он.
Но Марсель рассмеялась. Тихое и нежное воркование, как в те
минуты, когда она гладила его по голове, приговаривая: «Мой
бедный мальчуган». Однако вид у нее был неласковый.
— Узнаю тебя, — сказала она. — Ты боишься патетики! И все-
таки, наверно, ты мог бы быть немного патетичен с этим парнем?
Что в этом дурного?
— Ну и что это дало бы мне? — спросил Матье.
Он защищался от себя самого.
Марсель неприветливо улыбнулась. «Она меня достает», —
рассеянно подумал Матье. Он был настроен миролюбиво, немно-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
15
го отупел, пожалуй, был в хорошем настроении и не хотел
спорить.
— Послушай, — сказал он, — ты не права, что придаешь такое
значение этой истории. Да у меня и времени не было: я шел к
тебе.
— Ты совершенно прав, — сказала Марсель. — Это пустяк.
Просто пустяк, яйца выеденного не стоит... Но тем не менее это
симптоматично.
Матье вздрогнул: только бы она не употребляла эти
отвратительные словечки.
— Ну, выкладывай, — сказал он. — Что ты тут видишь такого
интересного?
— Ну, — ответила она, — во всем виновата твоя знаменитая
трезвость. Ты забавен, старина, ты так боишься обмануть сам себя, что
скорее откажешься от самого прекрасного приключения на свете,
чем рискнешь солгать себе.
— Ну да, — сказал Матье, — ты это хорошо знаешь. Это давно
так.
Он считал, что она несправедлива. При чем тут «трезвость»?
(Он ненавидел это слово, но Марсель с некоторых пор стала его
употреблять. В прошлом году вместо него было слово
«поспешность»: слова держались не дольше сезона.) Эту «трезвость» они
культивировали вместе, они были за нее в ответе один перед другим,
это и было глубинной сутью их любви. Когда Матье принял свои
обязательства по отношению к Марсель, он навсегда отказался от
мыслей об одиночестве, от свежих тенистых внезапных мыслей,
которые когда-то у него возникали с затаенной живостью рыбок.
Он мог любить Марсель только в абсолютной трезвости: она была
его трезвостью, его товарищем, свидетелем, советчиком и судьей.
— Если бы я врал себе, — сказал он, — мне бы казалось, что
одновременно я вру и тебе. Это было бы для меня невыносимо.
— Да, — сказала Марсель.
У нее был не очень убежденный вид.
— Ты, кажется, думаешь иначе.
— Да, — вяло подтвердила она.
— Думаешь, я лгу?
— Нет... но с тобой никогда нельзя быть до конца уверенной.
Только знаешь, что я думаю? Что ты себя немного стерилизуешь. Я
подумала об этом как раз сегодня. У тебя все так опрятно и чисто;
пахнет стиркой, как будто бы тебя пропустили через стерилизатор.
16
Жан Поль Сартр
Но тебе недостает тени. В тебе не осталось ничего бесполезного,
непроясненного, смутного. Слишком светло, слишком знойно. И не
говори, что ты это делаешь для меня: ты потакаешь собственному
пристрастию; у тебя вкус к самоанализу.
Матье был смущен. Марсель часто бывала с ним жестковата;
всегда настороже, немного агрессивна, немного недоверчива, и, если
Матье с ней не соглашался, она это рассматривала как попытку над
ней властвовать. Но сейчас был тот редкий случай, когда она явно
хотела позлить его. И потом, эта фотография на кровати... Он с
беспокойством разглядывал Марсель: время, когда она решится
заговорить, еще не пришло.
— Мне не очень-то интересно себя анализировать, — просто
сказал он.
— Верно, — согласилась Марсель, — но это не цель, это средство.
Чтобы освободиться от себя самого; смотреть на себя, судить себя —
вот твоя любимая повадка. Когда ты на себя смотришь, ты
воображаешь, будто ты не то, на что смотришь, будто ты ничто. В глубине
души это твой идеал: быть ничем.
— Быть ничем, — медленно повторил Матье. — Нет. Это не то.
Послушай, я... я хотел бы зависеть только от себя.
— Да. Быть свободным. Абсолютно свободным. Вот он, твой
порок.
— Это не порок, — сказал Матье. — Это... А что ж, по-твоему,
надо стремиться к другому?
Он был раздражен: сто раз он объяснял все это Марсель, и она
прекрасно знала, что он больше всего дорожит этим.
— Если... если бы я не пытался примерить существование на
себе, то оно казалось бы совершенно абсурдным.
Марсель настаивала с насмешливым и упрямым видом:
— Да, да... Не отрицай, это твой порок.
Матье подумал: «Она действует мне на нервы, когда строит из
себя этакую бяку». Но тут же опомнился и мягко сказал:
— Это не порок, просто я такой, какой есть.
— Почему же у других все иначе, если это не порок?
— Они такие же, только не отдают себе в этом отчета.
Смех Марсель осекся, в уголках губ появилась жесткая и
угрюмая складка.
— А у меня нет желания быть свободной, — сказала она.
Матье посмотрел на ее склоненный затылок и почувствовал
себя неловко: когда он был с ней, у него всегда возникали угрызения
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
17
совести, нелепые, неотвязные угрызения. Он подумал, что никогда
не ставил себя на ее место: «Свобода, о которой я ей говорю, — это
свобода здорового мужчины». Он положил руку ей на шею и нежно
сжал пальцами эту уже приувядшую, тучную плоть.
— Ты чем-то раздосадована?
Она подняла к нему слегка смущенные глаза.
-Нет.
Они замолчали. Удовольствие Матье сосредоточилось в
кончиках пальцев. Он медленно провел рукой вдоль ее спины, и Марсель
опустила длинные темные ресницы. Он привлек ее к себе: в это
мгновение он не желал ее, он скорее хотел почувствовать, что этот
строптивый и мятежный дух тает, как сосулька на солнце. Марсель
склонила голову на плечо Матье, и он увидел вблизи ее смуглую
кожу, голубоватые шершавые подтеки у нее под глазами. Он
подумал: «Боже мой! Она стареет». Но тут же поймал себя на мысли, что
тоже немолод. Он несколько неуклюже наклонился над ней: ему
хотелось забыть и себя, и ее. Но он давно уже не забывался, когда
был с ней в постели. Матье поцеловал ее в губы; они у нее были
красивые: праведные и строгие. Она тихо откинулась назад и легла
на кровать с закрытыми глазами, неуклюжая, осунувшаяся; Матье
встал, снял брюки и рубашку, сложил их в изножье кровати, потом
лег рядом с Марсель; он видел, что ее глаза были открыты и
неподвижны; скрестив руки под головой, она смотрела в потолок.
— Марсель, — позвал он.
Она не ответила; вид у нее был недобрый; затем она резко
выпрямилась. Он снова сел на край кровати, смущаясь, чувствуя себя
голым.
— Теперь-то, — твердо сказал он, — ты мне скажешь, что
случилось.
— Ничего, — вяло отозвалась она.
— Нет, — возразил он с нежностью. — Тебя что-то беспокоит,
Марсель! Разве мы не условились говорить друг другу все?
— Здесь ты ничем мне не поможешь. К тому же все это тебя
раздосадует.
Он слегка погладил ее по волосам.
— И все же скажи.
— Ну хорошо. Так вот, это случилось.
— Что? Что случилось?
— Это самое.
Матье покривился.
18
Жан Поль Сартр
— Ты уверена?
— Абсолютно. Ты же знаешь, я никогда заранее не паникую:
задержка уже два месяца.
— Черт! — вырвалось у Матье.
Он подумал: «Она должна была мне об этом сказать по крайней
мере три недели назад». Ему захотелось куда-то деть руки: набить
трубку, например, но трубка была в кармане пиджака, в шкафу. Он
взял с ночного столика сигарету, но тут же положил ее на место.
— Ну вот. Теперь ты все знаешь, — сказала Марсель. — Что
будем делать?
— Мы... мы... избавимся, разве нет?
— Хорошо. У меня есть нужный адрес, — сказала Марсель.
— Кто тебе его дал?
— Андре. Она сама там была.
— У той бабки, которая ей в прошлом году все расковыряла?
Скажешь тоже: ведь у Андре тогда полгода ушло, чтобы очухаться.
Я против.
— Ты что, собираешься стать отцом?
Она высвободилась и села на некотором расстоянии от Матье.
Вид у нее был суровый, но не по-мужски. Она положила ладони
на бедра, руки ее походили на ручки терракотовой вазы. Матье
заметил, что лицо ее посерело. Воздух был розовым и
сладковатым, они вдыхали аромат розы, глотали его — и вдруг это серое
лицо, этот неподвижный взгляд. Казалось, она с трудом
сдерживает кашель.
— Подожди, — сказал Матье, — все так неожиданно: мне надо
подумать.
Руки Марсель задрожали; она проговорила с внезапным
пылом:
— Я не нуждаюсь в твоих размышлениях; не тебе об этом
думать.
Она повернулась и посмотрела на него. Она смотрела на его
шею, плечи, живот, потом ее взгляд скользнул ниже.
Вид у нее был удивленный. Матье побагровел и сомкнул ноги.
— Здесь ты ничем мне не поможешь, — повторила Марсель.
И добавила с вымученной иронией:
— Теперь это дело женское.
Губы ее при этих словах сжались: сиренево-алый рот, казалось,
пожирающий подобно багряному насекомому ее пепельно-серое
лицо. «Она чувствует себя униженной, — подумал Матье, — она
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
19
меня ненавидит». Он ощутил приступ тошноты. Комната внезапно
лишилась розовой дымки; между предметами обозначились
огромные пустоты. Матье подумал: «В этом повинен я!» Лампа, зеркало
со свинцовыми бликами, каминные часы, кресло, полуоткрытый
шкаф вдруг показались ему безжалостными механизмами: их
завели, и они влачили в пустоте свое хрупкое существование с
непреклонным упорством, точно чрево шарманки, непрерывно
наигрывающей одну и ту же мелодию. Матье встряхнулся, как бы силясь
вырваться из этого мрачного затхлого мирка. Марсель не
шевелилась, она продолжала смотреть на низ его живота и на этот
виноватый цветок, прикорнувший меж его бедер. Матье знал: ей хочется
кричать и биться в рыданиях, но она этого не сделает из страха
разбудить мадам Дюффе. Неожиданно он схватил Марсель за талию и
привлек к себе. Она припала к его плечу и всхлипнула трижды или
четырежды, но без слез. Это все, что она могла себе позволить:
безмолвная буря.
Когда Марсель подняла голову, она уже успокоилась и обрела
прежнюю рассудительность. Она сказала:
— Извини, мальчуган, но мне нужна была разрядка: с самого
утра держусь. Естественно, я тебя ни в чем не упрекаю.
— Однако у тебя есть на это право, — сказал Матье, — мне нечем
гордиться. Это в первый раз... Черт возьми, какая мерзость! Я
сглупил, а ты расплачиваешься. И вот случилось то, что случилось.
Послушай, а что это за бабка, где она живет?
— Улица Морер, 24. Кажется, бабка довольно странная.
— Так я и думал. Ты скажешь ей, что пришла от Андре?
— Да. Бабка берет всего четыреста франков. Знаешь, похоже, это
ничтожная сумма, — трезво проговорила Марсель.
— Да. Согласен, — с горечью отозвался Матье, — короче, тебе
повезло.
Он чувствовал себя неловко, как жених. Неуклюжий детина, к
тому же совершенно голый, принес несчастье, а теперь улыбается,
чтобы заставить забыть о себе. Но она не могла забыть о нем: она
видела его белые бедра, мускулистые, коротковатые, его
самодовольную нагловатую наготу. Какое-то причудливое наваждение.
«Будь я на ее месте, мне захотелось бы исколошматить эту
мясистую тушу». Он сказал:
— Меня как раз волнует, что она берет слишком мало.
— Ну уж нет, — сказала Марсель. — Это редкостная удача. У
меня как раз есть четыре сотни: приготовила их для портнихи, но
20
Жан Поль Сартр
она может и подождать. И знаешь, — добавила она твердо, — я
уверена, что бабка позаботится обо мне не хуже, чем в этих знаменитых
подпольных абортариях, где сдирают за милую душу по четыре
тысячи франков. Да у нас и нет выбора.
— У нас нет выбора, — повторил Матье. — Когда ты к ней
поедешь?
— Завтра, около полуночи. Кажется, она принимает только по
ночам. Чудно, да? Думаю, она малость тронутая, но это как раз
удобно из-за мамы. Днем она занята в галантерейной лавке; она
почти никогда не спит. Входишь через двор, видишь свет под
дверью — значит, бабка там.
— Ладно, — сказал Матье, — я пойду туда сам.
Марсель недоуменно посмотрела на него.
— С ума сошел? Она тебя выгонит, она примет тебя за легавого.
— Я все равно пойду, — упрямо повторил Матье.
— Но зачем? Что ты ей скажешь?
— Я хочу убедиться своими глазами, я должен посмотреть, что
там такое. Если мне не понравится, ты туда не пойдешь. Я не хочу,
чтобы тебя искромсала какая-то полоумная старуха. Скажу, что
пришел от Андре, что у меня есть подруга, у которой неприятности,
но сейчас у нее грипп, или что-нибудь в этом роде.
— А потом? Куда я пойду, если там не получится?
— У нас есть день-другой, чтоб обернуться. Завтра схожу к Саре,
она наверняка кого-то знает. Помнишь, она сначала не хотела иметь
детей?
Марсель, казалось, немного расслабилась, она погладила его по
затылку.
— Как ты мил, мой мальчик, я не очень хорошо понимаю твои
замыслы, вижу только, что ты хочешь что-нибудь для меня сделать;
ты, наверное, готов прооперироваться вместо меня?
Она обвила его шею красивыми руками и добавила тоном
дурашливого смирения:
— Если ты обратишься к Саре, она точно пошлет тебя к какому-
нибудь еврею.
Матье обнял ее, она обмякла.
— Миленький мой, миленький...
— Сними рубашку.
Марсель повиновалась, он опрокинул ее на кровать и стал
ласкать ее грудь. Он любил ее крупные припухшие соски. Марсель
вздыхала, закрыв глаза, покорная, предощущающая. Веки ее были
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ 21
зажмурены. Матье подумал: «Она беременна». И снова сел. В его
голове еще звучала какая-то будоражащая мелодия.
— Послушай, Марсель, сегодня ничего не получится. Мы оба
слишком взволнованы. Прости.
Марсель что-то сонно пробурчала, потом резко поднялась и
запустила обе руки в волосы.
— Как хочешь, — холодно сказала она.
И более любезно добавила:
— Конечно, ты прав, мы сегодня слишком нервничаем. Я ждала
твоих ласк, но боялась, что у тебя ничего не получится.
— Увы! — вздохнул Матье. — Так оно и вышло, и нам больше
нечего бояться.
— Знаю, но я этого не хотела. Не знаю уж как сказать, но ты
всегда внушал мне какой-то страшок.
Матье встал.
— Баста. Так я пойду к этой старухе?
— Да. И завтра позвонишь мне.
— А я не смогу тебя завтра увидеть? Так было бы проще.
— Нет, только не завтра вечером. Если хочешь, послезавтра.
Матье надел рубашку и брюки. Поцеловал Марсель в глаза.
— Ты на меня не сердишься?
— Ты ни при чем. Это случилось единственный раз за семь лет,
тебе не в чем себя упрекнуть. А я-то тебе не противна?
— Ты с ума сошла.
— Знаешь, я сама себе немного противна, мне сейчас кажется,
что я всего лишь огромное вместилище еды.
— Милая малышка, — нежно сказал Матье. — Бедная моя
малышка. Не пройдет и недели, как все уладится, я тебе обещаю.
Он бесшумно открыл дверь и выскользнул из комнаты, держа
туфли в руках. На площадке он оглянулся: Марсель все еще сидела
на кровати. Она улыбалась ему, но Матье казалось, что втайне она
на него злится.
Напряжение в глазных яблоках наконец отпустило. Марсель
больше на него не смотрела, и ему не приходилось следить за
выражением своих глаз. Окутанная темной одеждой и покровом ночи,
его повинная плоть чувствовала себя под защитой, мало-помалу она
оживала, обретая прежнюю теплоту и невиновность. В голове свер-
било: масленка, принести послезавтра масленку, как бы ее не
забыть? Наконец-то Матье был один.
22
Жан Поль Сартр
Он остановился, пронзенный ощущением: неправда, он не один.
Марсель его не отпустила, она думает о нем, она думает: «Негодяй,
это он сделал, он забылся во мне, словно ребенок, который
опростался в простыню». Как бы он ни вышагивал по пустынной улице,
темный, почти безымянный, до шеи закутанный в свою одежду, от
Марсель ему не убежать. Марсель со своими невеселыми мыслями
и стенаниями осталась там, позади, но Матье от нее не ушел: он был
там же, в розовой комнате, голый, беззащитный перед этой тяжелой
телесностью, еще более невыносимой, чем взгляд. «Единственный
раз», — сказал он себе в бешенстве. И вполголоса повторил, чтобы
убедить Марсель: «Единственный раз за семь лет!» Марсель не
давала себя убедить: она осталась в комнате и думала о Матье. Там,
в тишине, она осуждала его и ненавидела. А он не мог защитить
себя. Не мог даже прикрыть своих чресел. Для кого еще он
существует с такой очевидностью?.. Жак и Одетта спят; Даниель если
еще не пьян, то уж, наверное, осоловел. Ивиш никогда не думает об
отсутствующих. Может быть, Борис... Но сознание Бориса — всего
лишь маленькая тусклая вспышка; оно не может бороться против
ожесточенной и неподвижной трезвости, которая завораживала
Матье на расстоянии. Ночь окутала мраком рассудки: Матье
остался с Марсель один на один. Действительно, пара.
В кафе у Камю был свет. Хозяин ставил стулья один на другой;
служанка прилаживала деревянный ставень к одной из створок
двери. Матье толкнул другую створку и вошел. Ему хотелось, чтобы
его видели. Он положил локти на стойку.
— Всем добрый вечер.
Хозяин взглянул на него. Какой-то кондуктор пил перно,
надвинув форменную кепку на глаза. Рассудки, приветливые и
рассеянные. Кондуктор щелчком отбросил фуражку на затылок и посмотрел
на Матье. Рассудок Марсель отпустил его и растворился в ночи.
— Кружку пива.
— Вы редко заходите, — заметил хозяин.
— Но это не потому, что я не хочу пить.
— И правда, хочется пить, — вступил в разговор кондуктор, —
можно подумать, что уже разгар лета.
Они замолчали. Хозяин мыл стаканы, кондуктор насвистывал.
Матье был доволен, потому что они время от времени смотрели на
него. Он видел в зеркале свое лицо, бледное и круглое в серебряном
море: у Камю всегда казалось, что сейчас четыре утра из-за света,
серебристой дымки, которая туманила глаза и отбеливала лица,
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
23
руки, мысли. Он подумал: «Она беременна. Чудно: мне кажется, что
это неправда». Мысль показалась ему шокирующей и гротескной,
как зрелище целующихся в губы старика и старухи: после семи лет
такая оплошность не должна была произойти. «Она беременна». В
ее чреве находится маленькая стекловидная масса, которая
медленно раздувается, а вскоре будет, как глаз: «Это прорастает среди
всякой гадости у нее в животе, это живое». Он увидел длинную
шпильку, неуверенно продвигающуюся в полумраке. Слабый звук —
и глаз, лопнув, разрывается: остается лишь непроницаемая и сухая
оболочка. «Она пойдет к этой бабке, она даст себя искромсать». Он
чувствовал себя начиненным ядом. «Все в порядке». Матье
встряхнулся: то были бледные мысли, мысли предутренние.
— До свидания.
Он заплатил и вышел.
«Как это было?» Он шел тихо, стараясь вспомнить. «Два месяца
тому назад...» Он совершенно ничего не помнил, кажется, это было
на второй день пасхальных каникул. Он, как всегда, заключил
Марсель в объятия из нежности — конечно, скорее из нежности, чем из
желания; и вот теперь... Он остался в дураках. «Ребенок. Я хотел
доставить ей удовольствие, а сделал ей ребенка. Я не ведал, что
творил. Теперь я отдам четыреста франков этой бабке, она погрузит
какой-то инструмент между ног Марсель и примется скоблить;
жизнь уйдет, как пришла; а я останусь дураком, как и прежде;
разрушая эту жизнь больше, чем создавая ее, я так и не пойму, что
наделал». Он отрывисто усмехнулся. «А другие? Те, что всерьез
решили стать отцами и ощущают себя дающими жизнь; когда они
смотрят на живот своей жены, понимают ли они что-нибудь лучше
меня? Они действовали быстро, вслепую орудуя половым членом.
Остальное происходит в темноте, внутри, в желатине, как в
фотоделе. Все происходит без них». Он вошел во двор и увидел свет под
дверью: «Это здесь». Его жег стыд.
Матье постучал.
— Кто там? — спросили за дверью.
— Я хотел бы с вами поговорить.
— В такое время к людям не приходят.
— Я от Андре Бенье.
Дверь приоткрылась. Матье увидел прядь желтых волос и
внушительный нос.
— Что вам надо? Хотите навести полицию? Не выйдет, я
правила соблюдаю. Если мне нравится, имею право у себя дома жечь
24
Жан Поль Сартр
свет хоть до утра. А коли вы инспектор, так покажите
удостоверение.
— Я не из полиции, — сказал Матье. — У меня неприятности.
Мне сказали, что я могу обратиться к вам.
— Входите.
Матье вошел. На бабке были мужские брюки и блузка на
молнии. Она была очень худа, взгляд пристальный и угрюмый.
— Вы знаете Андре Белье?
Она глядела на него сердито.
— Да, — ответил Матье. — Она приходила к вам в прошлом году
перед Рождеством — у нее были неприятности; ей нездоровилось,
и вы потом четырежды приходили ухаживать за ней.
— Ну и что из того?
Матье смотрел на ее руки. Руки мужчины, душителя,
потрескавшиеся, в шрамах и царапинах, с коротко остриженными черными
ногтями. На первой фаланге большого пальца темнели фиолетовый
синяк и толстая черная корка. Матье вздрогнул, вспомнив нежную
смуглую плоть Марсель.
— Я пришел не из-за нее, — сказал он. — Я пришел из-за одной
ее подруги.
Старуха отрывисто хохотнула.
— Первый раз такого наглого вижу: гарцует тут передо мной. Не
нужны мне тут мужики, ясно?
В комнате была грязь, беспорядок. Везде стояли ящики, на
плиточном полу разбросана солома. На столе Матье заметил бутылку
рома и наполовину опорожненный стакан.
— Я пришел, потому что меня послала моя подруга. Она сама не
может сегодня прийти и попросила меня договориться с вами.
В глубине комнаты была приоткрыта дверь. Матье мог
поклясться, что за этой дверью кто-то есть. Бабка сказала ему.
— Бедные дурехи, до чего глупые. На вас только поглядеть —
сразу видно, что вы из тех, кто приносит несчастье, бьет посуду и
стекла. И все-таки эти дурочки отдают вам самое драгоценное. А
потом расхлебывают то, что сами и заварили.
Матье оставался корректен.
— Я бы хотел посмотреть, где вы оперируете.
Бабка бросила на него злобный, недоверчивый взгляд.
— Еще чего? Кто вам сказал, будто я оперирую? Что вы мелете?
Не суйте нос не в свое дело. Коли ваша подруга хочет меня видеть,
пускай приходит. Я хочу иметь дело с ней одной. Вы соображали,
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
25
что делали. А она, разве она соображала, когда отдавала себя вам в
лапы? От вас ей только несчастье. Понятно? Можете мне пожелать,
чтобы я оказалась половчее вас, а больше мне нечего сказать.
Прощайте.
— До свидания, мадам, — сказал Матье.
Он вышел и сразу почувствовал облегчение. Он медленно
направился к Орлеанскому проспекту: в первый раз с тех пор, как он
покинул Марсель, он смог думать о ней без волнения, без ужаса, с
нежной грустью. «Завтра пойду к Саре», — решил он.
II
Борис смотрел на красную клетчатую скатерть и размышлял о
Матье Деларю. Он думал: «Матье — славный малый». Оркестр
умолк, воздух был голубоватым, люди болтали друг с другом. В
этом узком маленьком зале Борис знал всех: они были не из тех, кто
приходит повеселиться; они притащились сюда после работы, были
серьезны и хотели есть. Негр, сидящий против Лолы, — певец из
«Парадиза»; шесть парней в глубине зала со своими подружками —
музыканты из «Ненетт». Определенно, у них что-то произошло,
выпала неожиданная удача, может, ангажемент на лето (позавчера
они туманно говорили о кабаре в Константинополе), так как они,
всегда такие жмоты, заказали шампанское. Борис заметил также
блондинку, выступавшую с матросским танцем в «Ла Ява». Рослый
худощавый господин в очках, куривший сигару, — хозяин кабаре на
улице Толозе, только что закрытого префектурой полиции.
Поговаривали, что кабаре скоро откроют, потому что у хозяина есть
поддержка в высших сферах. Борис горько сожалел, что еще не посетил
его, и решил обязательно зайти туда, если оно снова откроется.
Господин был с субтильным гомосексуалистом, который издалека
выглядел, пожалуй, привлекательным: узколицый блондин, не
слишком жеманный и изящный. Борис отнюдь не жаловал голубых,
так как они постоянно охотились за ним, но Ивиш их ценила, она
говорила: «Эти хотя бы не боятся быть не как все». Борис был полон
пиетета к воззрениям своей сестры и честно пытался
гомосексуалистов уважать. Негр ел кислую капусту. Борис подумал: «Не люблю
кислой капусты». Ему хотелось узнать, что за блюдо подали
танцовщице из «Ла Явы»: что-то коричневое, вкусное на вид. На скатерти
было пятно от красного вина. Красивое пятно, казалось, в этом ме-
26
Жан Поль Сартр
сте скатерть была из атласа. Лола посыпала немного соли на пятно:
она была домовита. Соль порозовела. Неправда, будто соль
впитывает пятна. Он чуть не сказал Лоле, что соль тут не поможет. Но
тогда надо было бы заговорить, а Борис чувствовал, что не может
говорить. Лола была рядом с ним, усталая и разгоряченная, а Борис
не мог выдавить из себя ни словечка, голос его был мертв. «Вот
такой бы я был, если б вдруг онемел». Состояние его было полно
неги, голос зарождался в глубине горла, мягкий, как хлопок, но не
мог достигнуть губ, он был мертв. Борис подумал: «Я очень люблю
Деларю», — и возликовал. Он ликовал бы еще больше, если б не
чувствовал всем своим левым боком, от виска до бедер, что Лола на
него смотрит. Взгляд был, несомненно, страстный. Лола не могла
смотреть на него иначе. Ему было немного тягостно, ибо страстные
взгляды требовали в ответ любезных жестов или хотя бы улыбки.
А Борис сейчас был на это не способен. Он чувствовал себя
парализованным. Ему не нужно было видеть взгляд Лолы: он его
угадывал, но в конце концов это никого не касается. Он сидел так, что
вполне можно было предположить, что она смотрит в зал, на
посетителей. Борису не хотелось спать, он был скорее оживлен, так как
знал в зале всех; он увидел розовый язык негра; Борис испытывал
уважение к этому негру: однажды тот разулся, взял пальцами ноги
спичечный коробок, извлек оттуда спичку, зажег ее, и все это
ногами. «Потрясающий парень, — восхищенно подумал Борис. —
Хорошо, если бы все умели пользоваться ногами, как руками». Его левый
бок побаливал от того, что на него смотрели: он знал, что
приближается момент, когда Лола спросит: «О чем ты думаешь?» Было
совершенно невозможно отсрочить этот вопрос, от него это не
зависело: Лола его задаст с фатальной неизбежностью. У Бориса было
впечатление, что он наслаждается совсем крохотным отрезком
времени, бесконечно драгоценным. В сущности, это было приятно:
Борис видел скатерть, видел бокал Лолы (она никогда не ужинала
перед выступлением). Лола выпила «Шато Грюо», она очень за
собой следила и лишала себя множества маленьких удовольствий,
потому что отчаянно боялась постареть. В стакане осталось
немного вина, оно было похоже на запыленную кровь. Джаз заиграл «If
the moon turns green»*, и Борис подумал: «Смог бы я напеть эту
мелодию?» Хорошо было бы при свете луны прогуляться по улице
Пигаль, насвистывая какой-нибудь мотивчик. Деларю ему однажды
сказал: «Вы свистите, как поросенок». Борис про себя рассмеялся
* «Если луна позеленеет» (англ.). — Здесь и далее примеч. пер.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
27
и подумал: «Вот олух!» Его переполняла симпатия к Матье. Не
поворачивая головы, он бросил короткий взгляд в сторону и
столкнулся с тяжелым взглядом Лолы из-под пышной рыжей челки. В
сущности, ее взгляд вполне можно перенести. Достаточно
привыкнуть к тому особому жару, который воспламеняет лицо, когда
чувствуешь, что на тебя кто-то страстно смотрит. Борис послушно
отдавал взглядам Лолы свое тело, свой худой затылок, свой
нетвердый профиль, который она так любила; только такой ценой он
мог спрятаться в себя и основательно заниматься собственными
приятными мыслишками.
— О чем ты думаешь? — спросила Лола.
— Ни о чем.
— Но ведь всегда думают о чем-то.
— А я думал ни о чем.
— Даже не о том, что тебе нравится эта мелодия и ты хотел бы
научиться чечетке?
— Да, что-то в этом роде.
— Вот видишь. Почему же ты мне этого не сказал? Я же хочу
знать все, о чем ты думаешь.
— Об этом не говорят. Это не имеет значения.
— Не имеет значения! Можно подумать, что язык тебе дан
только для того, чтобы рассуждать о философии с твоим профессором.
Он посмотрел на нее и улыбнулся: «Я ее люблю потому, что она
рыжая и немолодо выглядит».
— Странный ты мальчик, — сказала Лола.
Борис моргнул и умоляюще взглянул на нее. Он не любил,
когда с ним говорили о нем: ему было неловко, он терялся. Лола
казалась рассерженной, но это потому, что она страстно его любила и
терзалась из-за него. Были минуты, когда это было сильнее ее, она
без причины тревожилась, растерянно на него смотрела, не знала,
как себя держать, и только руки ее двигались от волнения. Сначала
Борис удивлялся, но со временем привык. Лола положила ладонь
ему на голову.
— Я все думаю: что там внутри? — проговорила она. — Это меня
пугает.
— Почему? Клянусь, мысли мои вполне безобидны, — смеясь,
возразил Борис.
— Да, но... это приходит само собой, я ни при чем, каждая из
твоих мыслей — это маленькое бегство от меня.
Она взъерошила ему волосы.
28
Жан Поль Сартр
— Не поднимай мне чуб, — сказал Борис, — не люблю, когда мне
открывают лоб.
Он взял ее руку, слегка погладил и отпустил.
— Ты здесь, ты ласков, — сказала Лола, — кажется, что тебе
хорошо со мной, а потом вдруг — никого, и я не пойму: куда ты
подевался?
— Но я здесь.
Лола смотрела на него с близкого расстояния. На ее бледном
лице было написано грустное великодушие, именно такой вид она
принимала, когда пела шлягер «Люди с содранной кожей». Она
выпячивала губы, огромные губы с опущенными уголками, которые
он так поначалу любил. С тех пор как он почувствовал их на своих
губах, они поражали его влажной и лихорадочной обнаженностью
на этой прекрасной гипсовой маске. Теперь он предпочитал ее
кожу — такую белую, точно ненастоящую. Лола робко спросила:
— Ты... ты не скучаешь со мной?
— Я никогда не скучаю.
Лола вздохнула, и Борис с удовлетворением подумал: «Занятно,
что у нее такой немолодой вид, она никогда не говорит, сколько ей
лет, но наверняка около сорока». Ему нравилось, что люди, которые
были привязаны к нему, выглядели немолодо, это внушало к ним
доверие. Более того, это придавало им некоторую немного
пугающую хрупкость, которая при первом приближении не
подтверждалась, потому что кожа у них была дубленая, как выделанная. Ему
захотелось поцеловать взволнованное лицо Лолы, он подумал, что
она изнурена, что жизнь ее не удалась и что она одинока, быть
может, еще более одинока с тех пор, как полюбила его: «Я ничего не
могу для нее сделать», — безнадежно подумал он. В этот момент она
казалась ему невероятно симпатичной.
— Мне стыдно, — сказала Лола.
У нее был тяжелый, мрачноватый голос, наводивший на мысли
о красном бархате.
— Почему?
— Потому что ты еще ребенок.
Он сказал:
— Обожаю, когда ты говоришь: ребенок. Ты так красиво
выделяешь эту ударную гласную. В «Людях с содранной кожей» ты
дважды произносишь это слово, и только поэтому я пришел бы тебя
послушать. Сегодня много народу.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
29
— Лавочники. Приходят неведомо откуда, без умолку чешут
языки. Им так же хочется меня слушать, как повеситься. Сарриньян
вынужден был попросить их вести себя потише; я была смущена,
мне это показалось бестактным, ведь когда я вышла, они мне
аплодировали.
— Просто так положено.
— Мне все это осточертело, — сказала Лола, — противно петь
для этих кретинов. Они приперлись, чтобы ответить приглашением
на приглашение другой семейной пары. Если б ты видел, как они
расплываются в улыбках, как держат стул своей супруги, пока она
садится. Естественно, ты им мешаешь, когда выходишь, и они
смотрят на тебя пренебрежительно. Борис, — неожиданно сказала
Лола, — я пою, чтобы существовать.
— Да, я знаю.
— Если бы я предвидела, что все кончится так, я никогда бы не
начинала.
— Но ведь когда ты пела в мюзик-холле, ты тоже жила своим
пением.
— То было совсем другое.
Наступило молчание, потом Лола без всякой связи добавила:
— А с тем пареньком, который поет после меня, с новеньким, я
говорила сегодня вечером. Он довольно мил, но он такой же
русский, как я.
«Она считает, что наводит на меня скуку», — подумал Борис. Он
решил при удобном случае еще раз сказать ей, что никогда не
скучает. Но не сегодня, позже.
— Может, он выучил русский?
— Но ты-то, — сказала Лола, — ты-то можешь понять, хорошее
у него произношение или нет.
— Мои родители уехали из России в семнадцатом году, мне
было три месяца.
— Забавно, что ты не знаешь русского, — заключила Лола с
мечтательным видом.
«Она чудная, — подумал Борис, — ей совестно любить меня,
потому что она старше. А по-моему, это естественно, все равно
нужно, чтоб один был старше другого». К тому же это более
нравственно: Борис не смог бы любить ровесницу. Если оба молоды, они не
умеют себя вести и действуют суматошно, создается впечатление,
что они играют в детский обед. Со зрелыми людьми все по-другому.
30
Жан Поль Сартр
Они солидны, они управляют партнером, и их любовь весома. Связь
с Лолой казалась Борису естественной и оправданной. Конечно, он
предпочитал общество Матье, потому что Матье не был женщиной:
мужчина всегда интересней. И потом Матье разобъяснял ему
разные разности. Но Борис часто сомневался: а испытывает ли Матье
к нему дружбу? Матье был безразличен и грубоват; конечно,
мужчинам между собой не пристало нежничать, но есть тысяча других
способов показать, что дорожишь кем-то, и Борис считал, что Матье
мог бы время от времени каким-то словом или поступком
обнаружить свою привязанность. С Ивиш Матье был совсем другим.
Однажды Борис увидел лицо Матье, когда тот подавал пальто Ивиш,
и почувствовал неприятный укол в сердце. Улыбка Матье на его
горестных губах, которые Борис так любил, была странной,
стыдливой и нежной. Впрочем, вскоре голова Бориса наполнилась
туманом, и он больше ни о чем не думал.
— Вот он и снова ушел, — сказала Лола.
Она взволнованно посмотрела на него.
— О чем ты сейчас думал?
— О Деларю, — с сожалением сказал Борис.
Лола грустно улыбнулась.
— А ты не мог бы иногда думать и обо мне?
— О тебе не нужно думать, ведь ты рядом.
— Почему ты всегда думаешь о Деларю? Ты хотел бы быть с
ним?
— Я рад, что сейчас здесь.
— Ты рад, что здесь или что со мной?
— Это одно и то же.
— Для тебя — одно и то же. Но не для меня. Когда я с тобой, мне
плевать, здесь я или где-то в другом месте. И все же я никогда не
радуюсь, что я с тобой.
— Вот как? — спросил Борис удивленно.
— Радость моя неполная. И не нужно изображать непонимание,
ты отлично все понимаешь: я видела тебя с Деларю, ты сам не свой,
когда он рядом.
— Это не одно и то же.
Лола приблизила к нему красивое опустошенное лицо: вид у нее
был умоляющий.
— Ну посмотри же на меня, рожица, почему ты так им
дорожишь?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
31
— Не знаю. Я не так уж им и дорожу. Он славный малый. Лола,
мне неловко с тобой о нем разговаривать, ведь ты сказала, что не
переносишь его.
Лола вымученно улыбнулась.
— Посмотрите, как изворачивается. Но послушай, моя куколка,
я никогда тебе не говорила, что не переношу его. Просто я никогда
не понимала, что ты в нем находишь. Объясни, я просто хочу
понять.
Борис подумал: «Это неправда, я не скажу и трех слов, как она
начнет задыхаться от ярости».
— Он кажется мне симпатичным, — сказал он осторожно.
— Ты всегда так говоришь. Я бы выбрала какое-нибудь другое
слово. Скажи, что он умен, образован, я соглашусь, но только не
симпатичен. В конце концов я тебе говорю о своем впечатлении; для
меня симпатичный человек — кто-то вроде Мориса, кто-то
округлый, милый. А с этим не знаешь, как себя вести, потому что он ни
рыба ни мясо. Он морочит голову окружающим. Да ты на руки его
посмотри.
— А что его руки? Мне они нравятся.
— Большие, как у рабочего. Они постоянно подрагивают, как
будто он только что занимался физической работой.
— Да, верно.
— А! Вот именно, но он не рабочий. Когда я вижу, как он с
грубым самодовольством хватает своей большой лапой стакан с виски,
я его вовсе не ненавижу, только посмотри потом, как он пьет,
посмотри на его странные губы, губы протестантского пастора. Не
могу объяснить, но, по-моему, твой Матье слишком замкнут, и
потом, взгляни в его глаза; да, он образован, но этот парень ничего не
любит просто, ни пить, ни есть, ни спать с женщинами; ему
необходимо над всем размышлять; и наконец, его голос, резкий голос
господина, который никогда не ошибается, я знаю, что его профессия
требует этого, когда он что-то объясняет ученикам, у меня был
учитель, который говорил, как он, но я уже не школьница, все во мне
восстает; я понимаю так, должно быть что-то одно — либо грубиян,
либо человек изысканный, учитель, пастор, но ведь не то и другое
сразу. Не знаю, есть ли женщины, которым это нравится. Наверное,
есть, но скажу тебе откровенно, мне было бы противно, если б такой
тип ко мне прикоснулся, я не хотела бы чувствовать на себе лапы
забияки в сочетании с ледяным взглядом.
32
Жан Поль Сартр
Лола перевела дыхание. «Что она ему приписывает?» — подумал
Борис. Ее тирада его не слишком задела. Любящие его люди не были
обязаны так же любить друг друга, и Борис считал вполне
естественным, что каждый из них пытался отвратить его от другого.
— Я тебя очень хорошо понимаю, — примирительным тоном
продолжала Лола, — ты не видишь его моими глазами, потому что
он был твоим учителем и ты пристрастен; а я вижу массу штришков;
вот ты, к примеру, очень требователен к тому, как люди одеваются,
ты их постоянно осуждаешь за недостаток элегантности, а между
тем он всегда одет скверно, ни дать ни взять пугало огородное, он
носит галстуки, которые ни за что не надел бы слуга из моей
гостиницы, а тебе это безразлично.
Бориса охватило какое-то оцепенение, но он спокойно
пояснил ей:
— Не важно, что ты плохо одет, если ты равнодушен к тряпкам.
Противно, когда пытаются одеждой всех поразить и попадают
впросак.
— Ты-то уж не попадешь впросак, моя маленькая шлюшка, —
сказала Лола.
— Просто я знаю, что мне идет, — скромно отпарировал Борис.
Он вспомнил, что на нем сейчас голубой свитер крупной вязки,
и удовлетворенно подумал: отличный свитер. Лола взяла его руку
и принялась подбрасывать меж своих рук. Борис посмотрел на свою
руку, которая взлетала и снова падала, и подумал: она не моя, ее
можно принять за блинчик. Он ее больше не чувствовал; это его
забавляло, и он пошевелил пальцем, чтобы оживить ее. Палец
дотронулся до большого пальца Лолы, и она благодарно взглянула на
Бориса. «Вот что меня стесняет», — с раздражением подумал Борис.
Он сказал себе, что ему, безусловно, было бы легче проявлять
нежность, если б Лола не выглядела временами столь покорной и
растроганной. То, что он позволял стареющей женщине на людях
теребить себе руку, его совсем не смущало. Он давно уже понял, что
создан для подобных штук: даже когда он был один, например, в
метро, люди вызывающе поглядывали на него, а девчонки, выходя
из мастерской, нахально фыркали ему в лицо.
Лола принялась за свое:
— И все же ты мне не сказал, что ты в нем находишь.
Такой уж она была, начав, она уже не могла вовремя
остановиться. Борис был уверен: она причиняет себе боль, но чувствовалось,
что в глубине души ей это нравится. Он посмотрел на Лолу: воздух
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
33
вокруг нее был голубым, и ее лицо было голубовато-белым. Но
глаза оставались жесткими и лихорадочными.
— Ну скажи, что именно?
— Да все! О-о! — простонал Борис. — Как ты мне надоела... Ну,
хотя бы то, что он ничем не дорожит.
— А разве это хорошо — ничем не дорожить? Ты тоже ничем не
дорожишь?
— Ничем.
— И все-таки мной ты немножечко дорожишь?
— Ах да, тобой я дорожу.
У Лолы был разнесчастный вид, и Борис отвернулся. Все же он
не любил видеть на ее лице такое выражение. Она терзала себя, он
считал это глупым, но помешать этому не мог. Он делал все, что от
него зависело. Он не изменял Лоле, часто звонил ей, три раза в
неделю ходил встречать ее к «Суматре», и в эти вечера он спал с ней.
Возможно, виноват был ее характер. Или возраст: старики —
порядочные эгоисты, можно подумать, что на карту поставлена их
жизнь. Однажды, когда Борис был ребенком, он уронил ложку, ему
велели поднять ее, а он отказался, заупрямился. Тогда отец сказал
ему незабываемо величавым тоном: «Пусть так, я подниму ее сам».
Борис увидел лысую голову, огромное, неловко нагибающееся тело,
услышал хруст суставов, то было нестерпимое святотатство: он
разрыдался. С тех пор Борис считал взрослых полубогами,
массивными и немощными. Если они наклонялись, создавалось впечатление,
что они вот-вот развалятся, если они спотыкались или падали, то
душило желание расхохотаться и одновременно охватывал
священный трепет. Если у них на глазах слезы, как сейчас у Лолы, то не
знаешь, куда деваться. Слезы взрослых — это мистическая
катастрофа, нечто вроде пеней, которые Бог изливает на порочное
человечество. Но, с другой стороны, Борис одобрял страстность своей
подруги. Матье ему объяснил, что нужно иметь страсти, да и Декарт
утверждал то же самое.
— У Деларю есть страсти, — сказал Борис, продолжая свою мысль
вслух, — но он все равно не привязан ни к чему. Он свободен.
— В этом смысле я тоже свободна, я привязана только к тебе.
Борис не ответил.
— А что, по-твоему, я не свободна? — спросила Лола.
— Это не одно и то же.
Слишком трудно объяснить. При всей своей трогательности
Лола была типичной жертвой, ей во всем не везло. К тому же она
34
Жан Поль Сартр
употребляла героин. В каком-то смысле это было даже хорошо, в
принципе совсем хорошо; Борис обсуждал это с Ивиш, и оба
пришли к выводу, что это хорошо. Ведь есть разница, принимают ли
наркотики от отчаяния, чтобы разрушить себя, или ради того, чтобы
утвердить свою свободу, — тогда это заслуживает только похвалы.
Но Лола употребляла их с самозабвением лакомки, это был ее
способ разрядки. Однако она не бывала даже одурманена.
— Это просто смешно, — сухо сказала Лола. — Ты ставишь Де-
ларю выше всех остальных из чистого принципа. На самом деле ты
преотлично знаешь, кто больше свободен от себя, я или он: он живет
в домашней обстановке, у него оклад, пенсия обеспечена, он живет
как мелкий чиновник. И сверх всего у него связь с этой женщиной,
которая никогда не выходит из дому. Полный набор. У меня же
только мое рубище, я одинока, живу в гостинице, даже не знаю,
будет ли у меня ангажемент на лето.
— Это не одно и то же, — повторил Борис.
Он злился. Лоле плевать на свободу. Сегодня вечером она
закусила удила, желая одолеть Матье на его бесспорной территории.
— О, я б тебя убила, когда ты такой! Что, что не одно и то же?
— Ты свободна, не желая этого, — объяснил он, — просто так
получилось, вот и все. В то время как Матье свободен сознательно.
— Все равно не понимаю, — сказала Лола, качая головой.
— Начнем с его квартиры, он плюет на нее, точно так же он бы
жил в любом другом месте. Думаю, он плюет и на свою женщину.
Он с ней, потому что надо же с кем-то спать. Его свобода не
наглядна, она внутри.
У Лолы был отсутствующий вид, Бориса охватило желание
причинить ей боль, и, чтобы уязвить ее, он добавил:
— Ты слишком дорожишь мной; он никогда не попал бы в
подобную западню.
— Вот как! — оскорбленно воскликнула Лола. — Я слишком
дорожу тобой, свиненок! А ты не думаешь, что он слишком дорожит
твоей сестрой? Стоило только посмотреть на него тем вечером в
«Суматре»!
— Ивиш? — спросил Борис. — Ты нанесла мне удар в самое
сердце.
Лола ухмыльнулась, туман вдруг наполнил голову Бориса.
Через некоторое время он услышал, что джаз играет «St. James's
Infirmary»*, и ему захотелось танцевать.
— Потанцуем.
* «Лазарет Святого Джеймса» (англ.).
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
35
Они пошли танцевать. Лола закрыла глаза, и он услышал ее
прерывистое дыхание. Маленький гомосексуалист из-за стола встал
и направился приглашать танцовщицу из «Ла Явы». Борис
подумал, что увидит его вблизи, и обрадовался. Лола погрузнела в его
объятиях, она хорошо танцевала и приятно пахла, но была очень
тяжелой. Борис отметил про себя, что больше любит танцевать с
Ивиш. Ивиш танцевала потрясающе. Он подумал: «Ивиш должна
научиться чечетке». Потом все мысли исчезли — его дурманил
запах Лолы. Он прижал ее к себе и глубоко вдохнул. Лола открыла
глаза и внимательно на него посмотрела.
— Ты меня любишь?
— Да, — сказал Борис, слегка поморщившись.
— Почему ты морщишься?
— Потому. Ты меня утомила.
— Почему? Разве ты меня не любишь?
— Люблю.
— Почему ты никогда не говоришь мне этого сам? Всегда
приходится из тебя вытягивать.
— Потому что у меня нет такой потребности. Я считаю, что об
этом вообще болтать не следует.
— Тебе не нравится, когда я тебе говорю, что люблю тебя?
— Нравится, можешь говорить, если тебе так хочется, но не
спрашивай о моих чувствах.
— Я так редко тебя о чем-то спрашиваю, мой мальчик. Обычно
мне достаточно смотреть на тебя и ощущать твою любовь, но
бывают минуты, когда мне хочется прикоснуться к твоей любви.
— Понимаю, — серьезно сказал Борис, — но ты должна ждать,
когда и у меня возникнет такое желание. Если оно не приходит само
собой, все это не имеет смысла.
— Но, мой глупыш, ты же сам сказал, что у тебя не возникает
желания, пока тебя ни о чем не спрашивают.
Борис засмеялся.
— Действительно, — сказал он, — ты меня поймала. Но, знаешь,
можно питать нежные чувства к кому-то и не иметь потребности об
этом говорить.
Лола не ответила. Они остановились, зааплодировали, и музыка
заиграла снова. Борис с удовлетворением заметил, что во время
танца маленький гомосексуалист приблизился к ним. Но, разглядев
его вблизи, Борис поразился: малому было под сорок. На лице у
него сохранился глянец молодости, но с изнанки он постарел. У
36
Жан Поль Сартр
него были большие голубые кукольные глаза и по-детски нежные
губы, но под фаянсовыми глазами были мешки, вокруг рта складки,
ноздри сжаты, как будто он вот-вот испустит дух, к тому же волосы,
издалека напоминавшие золотистую дымку, едва скрывали череп.
Борис с ужасом посмотрел на этого старого безбородого ребенка:
«А ведь когда-то он был молодым», — подумал он. Есть тип людей,
созданных выглядеть на тридцать пять, к примеру, Матье, у них не
было молодости. Но, когда человек раньше был действительно
молодым, он сохраняет черты молодости на всю жизнь. А вообще это
сходит только до двадцати пяти. Потом же нет, и это ужасно. Он
взглянул на Лолу и поспешно сказал ей:
— Посмотри на меня. Я люблю тебя.
Глаза у Лолы покраснели, она наступила Борису на ногу и
прошептала:
— Милый мой мальчик.
Ему захотелось крикнуть: «Обними же меня крепче, заставь
меня почувствовать, что я люблю тебя!» Но Лола молчала, она, в
свою очередь, погрузилась в себя, тоже нашла время! Туманно
улыбаясь, она опустила веки, ее лицо сосредоточилось на собственном
счастье. Лицо спокойное и пустынное. Борис почувствовал себя
покинутым, и мысль, отвратительная мысль внезапно завладела им:
не хочу, не хочу стареть. В прошлом году он был совсем спокоен, он
никогда не думал о подобном, а теперь в этом было что-то зловещее,
он чувствовал, что молодость все время течет у него меж пальцев.
«До двадцати пяти. У меня еще пять лет, — подумал Борис, — а
потом я пущу себе пулю в лоб». Ему стало невыносимо слушать эту
музыку, ощущать вокруг себя людей. Он сказал:
— Уйдем.
— Сейчас, мое маленькое чудо.
Они вернулись к столику. Лола подозвала официанта,
заплатила, набросила на плечи бархатную накидку.
— Пошли! — сказала она.
Они вышли. Борис больше не думал ни о чем серьезном, но был
мрачен. На улице Бланш было полно людей, людей суровых и
старых. Они встретили маэстро Пиранезе из «Кота в сапогах» и
поздоровались с ним: его маленькие ножки подрыгивали под
внушительным животом. «Может, и у меня будет такое брюхо». И тогда —
избегать зеркал, ощущать свои ломкие и резкие движения, как
будто члены сделаны из хвороста... Каждый уходящий миг, каждое
малое мгновение исподволь изнашивали его молодость. «Если бы я
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
37
как-то смог себя экономить, жить потихоньку, жить не торопясь,
может, я выиграл бы несколько лет. Но для этого не следует
ежедневно ложиться в два часа ночи». Он с ненавистью посмотрел на
Лолу: «Она меня убивает».
— Что с тобой? — спросила Лола.
— Ничего.
Лола жила в гостинице на улице Наворен. Она сняла ключ с
гвоздя, и они молча поднялись. Комната была голой, в углу стоял
чемодан, обклеенный этикетками, на стене — приколотая кнопками
фотография Бориса. Увеличенная Лолой фотография на
удостоверение личности. «Она останется прежней, — подумал Борис, —
когда я превращусь в старую развалину, на ней я останусь молодым».
Ему захотелось разорвать фотографию.
— Ты грустный, — сказала Лола, — что случилось?
— Подыхаю, — буркнул Борис, — башка трещит.
Лола заволновалась.
— Ты не заболел, мой дорогой? Хочешь таблетку?
— Нет, пройдет и так, уже отпускает.
Лола взяла его за подбородок и приподняла ему голову.
— У тебя такой вид, будто ты на меня злишься. Ты на меня
злишься? Да! Ты злишься! Что я сделала?
Она была в смятении.
— Я не злюсь на тебя, ты с ума сошла, — вяло запротестовал
Борис.
— Нет, ты злишься. Но что я сделала? Ты бы лучше мне сказал,
чтоб я могла оправдаться. Это, конечно, недоразумение. Все можно
исправить. Борис, умоляю, скажи, что случилось?
— Ничего.
Он обвил руками ее шею и поцеловал в губы. Лола вздрогнула.
Борис вбирал ее душистое дыхание и чувствовал у своих губ
влажную наготу. Он был взволнован. Лола покрыла поцелуями его лицо;
она слегка задыхалась.
Борис почувствовал, что желает Лолу, и был этим удовлетворен:
желание откачивало его мрачные, как, впрочем, и все другие мысли.
В голове пронеслось нечто вроде водоворота, и она мигом
опустошилась. Он положил руку на бедро Лолы и через шелк платья
коснулся ее плоти. Он немного сжал пальцы, ткань скользнула под
ними, как тонкая кожица, ласкающая и мертвая; под ней
сопротивлялась настоящая кожа, эластичная, глянцевитая, как лайковая
перчатка. Лола швырнула свою накидку на кровать, ее голые руки,
38
Жан Поль Сартр
взметнувшись, обвились вокруг его шеи; от Лолы хорошо пахло.
Борис видел ее выбритые подмышки в крошечных жестких
голубовато-черных точечках: они были похожи на головки
глубоких заноз. Борис и Лола стояли на том же месте, где их охватило
желание, у них не было сил сдвинуться. Лола задрожала, и Борису
показалось, что они сейчас медленно опустятся на ковер. Он
прижал Лолу к себе и почувствовал нежную плотность ее грудей.
— Ах! — выдохнула Лола.
Она откинулась назад, и он был зачарован этим бледным лицом
с припухшими губами, ее головой Медузы. Он подумал: «Это ее
последние прекрасные дни». Борис прижал ее к себе сильнее. «В
одно печальное утро она в одночасье разрушится». Он больше ее не
ненавидел; прижавшись к ней, он ощущал себя крепким и худым,
состоящим из одних мышц, он обволакивал ее руками и защищал
от старости. Затем наступила секунда помутнения и беспамятства:
он посмотрел на руки Лолы, белые, как волосы старухи, и ему
подумалось, что он в своих объятиях держит старость и что нужно
сжимать ее изо всех сил, пока не задушишь.
— Как ты меня крепко обнимаешь, — счастливо простонала
Лола, — мне больно. Я хочу тебя.
Борис высвободился; он был немного скандализован.
— Дай мне мою пижаму, я пойду разденусь.
Он вошел в туалетную комнату и запер дверь на ключ: ему не
нравилось, что Лола входила туда, когда он раздевался. Борис
помыл лицо и ноги и развлекался, посыпая бедра и икры тальком. Он
совсем успокоился и подумал: «Забавно». У него была мутная и
тяжелая голова, он определенно больше не знал, о чем думать.
«Нужно будет обсудить это с Деларю», — заключил он. По ту
сторону двери его ждала Лола, она, несомненно, была уже голой. Но
ему не хотелось торопиться. Голое тело, полное голых запахов,
нечто волнующее, это то, чего Лоле не дано было понять. Сейчас ему
предстоит погрузиться на дно тяжелой, пахучей чувственности.
Когда он уже внутри, все идет хорошо, но перед этим никак не
избежать легкого беспокойства. «Во всяком случае, — подумал он с
раздражением, — я не хочу упасть в обморок, как в прошлый раз».
Он старательно причесался над умывальником, чтобы проверить,
не выпадают ли у него волосы. Но белый фаянс был чист: ни одной
волосинки. Надев пижаму, он открыл дверь и вошел в комнату.
Обнаженная Лола лежала на постели. Это была другая Лола,
ленивая и опасная, она следила за ним сквозь ресницы. Ее тело на
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
39
голубом стеганом одеяле было серебристо-белым, как брюшко
рыбы, с рыжим треугольным пучком волос внизу живота. Борис
подошел к кровати и стал рассматривать Лолу, испытывая
одновременно волнение и отвращение: она протянула к нему руки.
— Подожди, — сказал Борис.
Он нажал на выключатель, и свет погас. Комната стала совсем
красной: на доме напротив, на четвертом этаже, недавно
установили светящуюся рекламу. Борис лег рядом с Лолой и начал ласкать
ее плечи и грудь. У нее была такая нежная кожа, что казалось,
будто она так и не сняла шелкового платья. Ее грудь была немного
дряблой, но Борису это нравилось: грудь пожившей женщины.
Напрасно он потушил свет, из-за этой проклятой рекламы он все
равно видел лицо Лолы, бледное в красном отсвете, ее черные губы:
она казалась страдающей, глаза ее были суровыми. Борис
почувствовал в себе зловещую тяжесть, совсем как тогда в Ниме, когда
первый бык выпрыгнул на арену: что-то должно было сейчас
произойти, что-то неизбежное, ужасное и пошлое, как кровавая гибель
быка.
— Сними пижаму, — умоляюще прошептала Лола.
— Нет, — отрезал Борис.
Это был почти ритуал: каждый раз Лола просила его снять
пижаму, а он отказывался. Руки Лолы скользнули под куртку и стали
нежно ласкать его. Борис засмеялся.
— Ты меня щекочешь.
Они поцеловались. Вскоре Лола взяла руку Бориса и прижала
ее к своему животу, к пучку рыжих волос: у нее всегда были
странные запросы, и Борис иногда вынужден был сопротивляться.
Несколько мгновений его рука покоилась на бедрах Лолы, потом он
медленно поднял ее до ее плеч.
— Иди, — сказала Лола, притягивая его на себя, — я обожаю
тебя, иди! Иди!
Она сразу застонала, и Борис подумал: «Сейчас мне станет
дурно!» Мутная волна поднималась от ягодиц к затылку. «Я не хочу», —
сказал себе Борис, стискивая зубы. Но вдруг ему показалось, будто
его поднимают за загривок, как кролика, он опрокинулся на тело
Лолы, и больше не было ничего, кроме багрового сладострастного
кружения.
— Дорогой мой, — сказала Лола.
Она ласково отодвинула его в сторону и вылезла из постели.
Борис лежал подавленный, уткнувшись в подушку. Он услышал,
40
Жан Поль Сартр
как Лола открывает дверь туалетной комнаты, и подумал: «Когда
между нами все будет кончено, я буду хранить целомудрие. Не
хочу больше неприятностей. Мне противна близость с женщиной.
А если быть точным, мне не столько противно, сколько я боюсь
впадать в беспамятство. Уже сам не знаешь, что делаешь,
чувствуешь себя подчиненным, и потом, какой смысл выбирать себе
любовницу, со всеми будет одно и то же. Это просто физиология». Он
повторил с отвращением: «Физиология!» Лола мылась на ночь.
Шум воды был приятным и невинным, Борис слушал его с
удовольствием. Люди, галлюцинирующие в пустыне от жажды,
слышат подобный шум, шум источника. Борис представил себе, что он
галлюцинирует. Комната, красный свет, плеск — это
галлюцинации, сейчас он очутится среди пустыни, лежа на песке, с пробковым
шлемом на голове. Внезапно ему вспомнилось лицо Матье:
«Занятно, — подумал он. — Мужчин я люблю больше, чем женщин. С
женщиной я и на четверть не так счастлив, как с мужчиной.
Однако ни за что на свете я не хотел бы спать с мужчиной». Он обрадо-
ванно решил: «Монахом — вот кем я буду, когда брошу Лолу!» Он
почувствовал себя сухим и чистым. Лола прыгнула на кровать и
обняла его.
— Маленький мой! — повторяла она. — Маленький мой!
Она гладила его по волосам, наступило долгое молчание. Борис
уже видел вращающиеся звезды, когда Лола заговорила. Ее голос
звучал странно в этой алой ночи.
— Борис, у меня нет никого, кроме тебя, я одна на целом свете,
люби меня, я могу думать только о тебе. Когда я думаю о своей
жизни, мне хочется утопиться, мне нужно думать о тебе весь день.
Не будь подлецом, любовь моя, не делай мне больно, ты все, что у
меня осталось. Я в твоих руках, любовь моя, не делай мне больно,
никогда не делай мне больно, я совсем одна!
Борис внезапно пробудился, теперь он все ясно осознавал.
— Если ты и одна, так это оттого, что тебе так нравится, —
спокойно сказал он, — а все потому, что ты гордячка. А иначе ты
полюбила бы мужчину старше себя. Я же слишком молод, я не могу
помешать твоему одиночеству. Скорее всего потому-то ты меня и
выбрала.
— Не знаю, — сказала Лола, — я страстно люблю тебя, больше я
ничего не знаю.
Она жадно обняла его. Борис еще слышал, как она говорит: «Я
обожаю тебя», — но потом уснул окончательно.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
41
III
Лето. Воздух густой и теплый; Матье идет по мостовой, под
ясным небом, его руки загребают, как бы отстраняя тяжелые
золотые драпировки. Лето. Лето других. Для него же начинается черный
день, который будет, извиваясь, тянуться до вечера, сплошные
похороны под солнцем. Адрес. Деньги. Ему предстоит обегать весь
Париж. Адрес дает Сара. Деньги одолжит Даниель. Или Жак. Матье
воображал, что он убийца, и отблеск этой фантазии оставался в
глубине его глаз, ошалевших под ослепительным напором света.
Улица Деламбр, 16 — это здесь. Сара жила на седьмом этаже, и лифт,
естественно, не работал. Матье поднялся пешком. За закрытыми
дверями женщины занимались домашней работой, в фартуках, с
полотенцами, обвязанными вокруг головы; для них тоже начинался
день. Каким он будет? Матье немного запыхался, поднимаясь; перед
тем, как позвонить, он подумал: «Нужно бы делать зарядку». А
потом: «Я это говорю себе каждый раз, когда поднимаюсь по
лестнице». Он услышал мелкие шажки; лысый светлоглазый человечек,
улыбаясь, открыл ему дверь. Матье сразу узнал его; это был немец,
эмигрант; он часто видел в кафе на Домской набережной, как тот
смакует кофе со сливками или сидит, склонившись над шахматной
доской, не сводя глаз с фигур, облизывая толстые губы.
— Я хотел бы видеть Сару, — сказал Матье.
Человечек стал серьезным, поклонился, щелкнул каблуками;
уши у него были фиолетовые.
— Веймюллер, — с готовностью представился он.
— Деларю, — равнодушно отозвался Матье.
Человечек снова приветливо улыбнулся.
— Заходите, заходите, — сказал он. — Сара внизу, в мастерской,
она будет так рада.
Он впустил его в прихожую и, семеня, исчез. Матье толкнул
застекленную дверь и вошел в мастерскую Гомеса. На площадке
внутренней лестницы он остановился, ослепленный светом,
прорывающимся сквозь большие пыльные витражи. Матье заморгал,
заболела голова.
— Кто там? — донесся голос Сары.
Матье склонился через перила. Сара сидела на диване в желтом
кимоно, Матье видел кожу головы сквозь редкие прямые волосы.
Напротив нее как бы пылал факел: рыжая голова брахицефала...
«Это Брюне», — подумал Матье с досадой. Он не видел его уже пол-
42
Жан Поль Сартр
года, но не испытывал ни малейшего желания встретить его у Сары:
это было неудобно, им нужно было многое друг другу сказать, их
связывала старинная затухающая дружба. И потом, Брюне приносил
с собой слишком много воздуха извне, целый мир, привыкший к
физическому труду, непрерывным усилиям, строгой дисциплине и
все же склонный к насилию и бунту: ему вовсе не следовало слышать
постыдный альковный секретик, которым Матье намеревался
поделиться с Сарой. Сара подняла голову и улыбнулась.
— Здравствуйте, здравствуйте, — сказала она.
Матье ответил на ее улыбку: он видел сверху ее плоское и
непривлекательное лицо, источенное добротой, а под ним, из-под
кимоно, огромную дряблую грудь. Он поспешил спуститься.
— Какими судьбами? — спросила Сара.
— Мне нужно у вас кое-что спросить, — сказал Матье.
Лицо Сары порозовело от удовольствия.
— Все, что хотите, — мгновенно отозвалась она.
И добавила, радуясь удовольствию, которое она рассчитывала
ему доставить:
— Вы знаете, кто у меня?
Матье повернулся к Брюне и пожал ему руку.
Сара обволакивала их растроганным взглядом.
— Привет, старый социал-предатель, — сказал Брюне.
Несмотря ни на что, Матье был рад услышать этот голос. Брюне
был огромный, крепкий детина с медлительным крестьянским
лицом. Вид у него был не особенно любезный.
— Привет, — сказал Матье. — А я уж думал, что ты умер.
Брюне засмеялся, не отвечая.
— Садитесь рядом со мной, — с жадностью сказала Сара.
Она собиралась оказать ему услугу и знала это; он стал ее
собственностью. Матье сел. Малыш Пабло играл под столом в кубики.
— А где Гомес? — спросил Матье.
— Всегда одно и то же. Он в Барселоне, — сказала Сара.
— Вы получили от него какие-нибудь вести?
— На прошлой неделе. Расписывает свои подвиги, — с иронией
ответила Сара.
Глаза Брюне блеснули:
— Знаешь, он уже полковник.
Полковник. Матье подумал о вчерашнем человеке, и сердце у
него сжалось. Вот и Гомес уехал. Однажды он узнал из «Пари-суар»
о падении Ируна и долго прохаживался по мастерской, запустив
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
43
пальцы в черную шевелюру. Потом вышел с непокрытой головой, в
одном пиджаке купить сигарет в кафе «Дом». И не вернулся.
Комната осталась в том же состоянии, в каком он ее покинул: на
мольберте — незаконченное полотно, на столе, посреди пузырьков с
кислотой, — медная дошечка с незаконченной гравировкой.
Картина и гравюра изображали миссис Стимпсон. На картине она была
обнаженной. Матье мысленно увидел ее, пьяную и великолепную,
хрипло поющую в объятиях Гомеса. Он подумал: «А все-таки по
отношению к Саре он был подлецом».
— Вам открыл министр? — весело спросила Сара. Она не хотела
говорить о Гомесе. Она ему простила все: его измены, его отлучки,
его жестокость. Но только не это. Не его отъезд в Испанию: он
отправился убивать людей, сейчас он убивал людей. Для Сары
человеческая жизнь была священна.
— Какой министр? — удивился Матье.
— Мышонок с красными ушками — это министр, — сказала Сара
с наивной гордостью. — Он был членом социалистического
правительства в Мюнхене в двадцать втором году. А теперь подыхает с
голоду.
— И вы, естественно, его приютили?
Сара засмеялась.
— Он пришел ко мне с чемоданом. Нет, серьезно, — сказала
она, — ему некуда было идти. Его выгнали из гостиницы, так как
ему нечем было платить.
Матье посчитал на пальцах.
— С Аней, Лопесом и Санти у вас получается четыре
пансионера, — сказал он.
— Аня скоро уйдет, — виновато сказала Сара. — Она нашла
работу
— Это безумие, — вмешался Брюне.
Матье вздрогнул и повернулся к нему. Негодование Брюне было
тяжелым и спокойным, с самым что ни на есть крестьянским гневом
он глянул на Сару и повторил:
— Это безумие.
— Что? Что безумие?
— Ах! — воскликнула Сара, кладя ладонь на руку Матье. —
Придите мне на помощь, мой дорогой Матье.
— Но о чем речь?
— Матье это неинтересно, — сказал Саре с недовольным видом
Брюне.
44
Жан Поль Сартр
Но она его больше не слушала.
— Он хочет, чтобы я выставила моего министра за дверь, —
сказала она жалобно.
— Выставила?
— Он говорит, что я совершаю преступление, оставляя его у
себя.
— Сара преувеличивает, — примирительно сказал Брюне.
Он повернулся к Матье и с неохотой объяснил:
— Дело в том, что у нас скверные сведения об этом малом.
Кажется, полгода назад он бродил по коридорам германского
посольства. Не нужно быть большим хитрецом, чтобы догадаться, что
может там проворачивать еврейский эмигрант.
— У вас нет доказательств! — сказала Сара.
— Это верно. У нас нет доказательств. Имей мы их, его бы здесь
уже не было. Но даже если есть всего лишь сомнения, со стороны
Сары глупо и опасно давать ему приют.
— Но почему? Почему? — страстно вскричала Сара.
— Сара, — ласково сказал Брюне, — вы взорвали бы весь Париж,
чтоб избавить от неприятностей своих протеже.
Сара слабо улыбнулась:
— Ну, не весь Париж, но я, конечно, не стану жертвовать Вей-
мюллером ради ваших партийных счетов. Партия — это слишком
абстрактно.
— Именно это я и говорил, — сказал Брюне.
Сара энергично затрясла головой. Она покраснела, ее большие
зеленые глаза увлажнились.
— Мой маленький министр, — возмущенно сказала она. — Вы
его видели, Матье. Да он и мухи не обидит!
Спокойствие Брюне было безмерным. Это было спокойствие
моря. В нем было одновременно что-то успокаивающее и
раздражающее. Он никогда не был особью, он жил жизнью толпы:
медленной, молчаливой, шумной. Брюне пояснил:
— Гомес нам иногда присылает курьеров. Они приезжают сюда,
и мы встречаемся с ними у Сары; ты, конечно, догадываешься, что
сообщения у них секретные. Разве здесь место этому типу, который
прослыл шпиком?
Матье не ответил. Брюне употребил вопросительную форму, но
это был ораторский прием: он не спрашивал его мнения; Брюне
давно уже перестал интересоваться мнением Матье о чем бы то ни
было.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
45
— Матье, я вас призываю нас рассудить: если я выгоню Веймюл-
лера, он бросится в Сену. Разве можно, — добавила она с
отчаянием, — толкать человека на самоубийство из-за одного только
подозрения?
Сара выпрямилась, безобразная и сияющая. Она заставила
Матье испытать смутное ощущение соучастия, которое испытывают к
пострадавшим от несчастного случая, к задавленным, к беднягам,
покрытым язвами и нарывами.
— Это серьезно? — спросил он. — Он бросится в Сену?
— Да нет, — возразил Брюне. — Он пойдет в немецкое
посольство и окончательно запродастся.
— Это одно и то же, — сказал Матье. — Как бы там ни было, он
пропал.
Брюне пожал плечами.
— Согласен, — сказал он равнодушно.
— Вы слышите, Матье? — воскликнула Сара, с волнением глядя
на него. — Итак? Кто прав? Скажите же что-нибудь.
Матье было нечего сказать. Брюне не спрашивал его мнения,
ему не нужно было мнение буржуа, задрипанного интеллигентика,
сторожевого пса капитализма. «Он меня выслушает с ледяной
вежливостью, но поколеблется не больше, чем скала, он будет судить
обо мне по тому, что я скажу, вот и все». Матье не хотел, чтобы
Брюне как бы то ни было судил о нем. Уже давно ни один из них из
принципа не судил другого. «Дружба не для того, чтобы
осуждать, — говорил тогда Брюне. — Она для того, чтобы доверять».
Может, он говорит это и сейчас, но теперь уже он думает о своих
товарищах по партии.
— Матье! — воззвала Сара.
Брюне наклонился к ней и притронулся к ее колену.
— Послушайте, Сара, — мягко сказал он. — Я люблю Матье и
очень ценю его ум. Если бы речь шла о каком-нибудь, непонятном
отрывке из Спинозы или Канта, я, безусловно,
проконсультировался бы у него. Но на сей раз я не нуждаюсь в арбитре, будь он хоть
преподавателем философии. Мое мнение определено.
«Конечно, — подумал Матье. — Конечно». Его сердце сжалось,
но он не обиделся на Брюне. «Кто я такой, чтобы давать советы? И
во что я превратил свою жизнь?»
Брюне встал.
— Мне пора, — сказал он. — Разумеется, Сара, вы поступите, как
пожелаете. Вы не состоите в партии, и то, что вы делаете для нас,
46
Жан Поль Сартр
уже существенно. Но если вы его оставите, то я просто попрошу вас
прийти ко мне, когда Гомес пришлет вам известия о себе.
— Договорились, — сказала Сара.
Ее глаза блестели, казалось, она успокоилась.
— И не оставляйте улик. Сжигайте все, — сказал Брюне.
— Обещаю.
Брюне обернулся к Матье:
— До свидания, старый собрат.
Руки он ему не подал, а внимательно, сурово и с беспощадным
удивлением посмотрел на него вчерашним взглядом Марсель.
Матье был обнажен под этими взглядами: высокий голый парень,
хлебный мякиш. Растяпа. «Кто я такой, чтобы давать советы?» Он
сощурился: Брюне казался уверенным и узловатым. «А на моем
лице написано поражение». Брюне заговорил; у него был совсем не
тот тон, какого Матье ожидал.
— У тебя удрученный вид, — мягко сказал он. — Что-то
случилось?
Матье тоже встал.
— Я... у меня неприятности. Но это пустяки.
Брюне положил руку ему на плечо. Взгляд его потерял
уверенность.
— Какое идиотство. Все время мотаешься взад-вперед, и уже нет
времени для старых друзей. Если ты загнешься, я узнаю об этом
через месяц, да и то случайно.
— Ну, я так скоро не загнусь, — рассмеялся Матье.
Он чувствовал хватку Брюне на своем плече, подумал: «Он меня
не осуждает», — и проникся к нему смиренной благодарностью.
Брюне остался серьезным.
— Конечно, — сказал он. — Не так скоро. Но...
Наконец он, казалось, решился.
— Ты свободен около двух? У меня есть немного времени, и я
мог бы ненадолго заскочить к тебе: сможем малость поболтать, как
в прежние времена.
— Как в прежние времена. Я абсолютно свободен, буду ждать
тебя, — сказал Матье.
Брюне дружески ему улыбнулся. Он сохранил свою
простодушную веселую улыбку. Затем повернулся и направился к лестнице.
— Я провожу вас, — сказала Сара.
Матье взглядом проследил за ними: Брюне поднимался по
ступенькам с поразительной гибкостью. «Не все потеряно», — сказал
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
47
себе Матье. И что-то шевельнулось в его груди, что-то теплое и
тихое, похожее на надежду. Он прошелся по мастерской. Над его
головой хлопнула дверь. Малыш Пабло серьезно смотрел на него.
Матье подошел к столу и взял резец. Сидевшая на медной пластине
муха улетела. Пабло продолжал на него смотреть. Матье чувствовал
себя смущенным, не зная почему. Казалось, что глаза ребенка его
поглощают. «Дети, — подумал он, — маленькие обжоры, все их
чувства сосредоточены в прожорливых ртах». Взгляд Пабло не был еще
вполне человеческим, однако это уже была жизнь: недавно это дитя
вышло из чрева, а уже кое-что собой представляло; оно было здесь,
неуверенное, совсем махонькое, еще хранящее нездоровую
бархатистость чего-то извергнутого; но за мутной влагой, заполняющей его
глаза, засело маленькое жадное сознание. Матье играл с резцом.
«Тепло», — подумал он. Вокруг него жужжала муха, а в розовой
комнате в глубине другого чрева продолжал набухать пузырь.
— Знаешь, какой я видел сон? — спросил Пабло.
— Ну расскажи.
— Я видел сон, как будто я был пушинкой.
«Ведь оно думает!» — сказал себе Матье.
Он спросил:
— И что ты делал, когда был пушинкой?
— Ничего. Я спал.
Матье резко бросил резец на стол: испуганная муха
закружилась, потом села на медную пластину между двумя бороздками,
изображавшими женскую руку. Нужно действовать быстро, так как
пузырь все это время надувался, он делал потаенные усилия
оторваться, вырваться из мрака и стать подобным этому, маленькой
бледной присоской, всасывающей окружающий мир.
Матье сделал несколько шагов к лестнице. Он слышал голос
Сары. «Вот она открыла входную дверь, стоит на пороге и
улыбается Брюне. Почему она медлит и не спускается?» Он повернул назад,
посмотрел на ребенка, посмотрел на муху. «Ребенок. Мыслящая
плоть, которая кричит и кровоточит, когда ее убивают. Муху убить
легче, чем ребенка». Он пожал плечами: «Я никого не собираюсь
убивать. Я только хочу помешать ребенку родиться». Пабло снова
принялся играть в кубики, о Матье он уже забыл. Матье протянул
руку, коснулся пальцем стола и удивленно повторил про себя:
«Помешать родиться...» Как будто где-то был готовый ребенок, ждущий
своего часа, чтобы выпрыгнуть по другую сторону декораций в эту
пьесу жизни, под солнце, а Матье загораживает ему проход. И дей-
48
Жан Поль Сартр
ствительно почти так и было: существовал совсем маленький
человечек, задумчивый и тщедушный, капризный и болезненный, с
белой кожей, с большими ушами, с родинками, с горсточкой
отличительных примет, какие заносят в паспорт, человечек, который
никогда не будет бегать по улицам — одной ногой по тротуару, а другой
в сточной канавке; у него были глаза, пара зеленых глаз, как у Ма-
тье, или черных, как у Марсель, и они никогда не увидят ни сине-
зеленых зимних небес, ни моря, ни единого лица; у него были руки,
которые никогда не коснутся ни снега, ни женской плоти, ни коры
дерева; был образ мира, кровавый, светлый, угрюмый, полный
увлечений, мрачный, полный надежд, образ, населенный садами и
домами, ласковыми девушками и ужасными насекомыми, образ,
который разрушат проколом спицы, точно воздушный шарик в
Луврском парке.
— Вот и я, — сказала Сара, — простите, что заставила вас
ждать.
Матье поднял голову и почувствовал облегчение: она
склонилась над перилами, тяжелая и уродливая; то была зрелая женщина,
со старой плотью, которая, казалось, вышла из солености и никогда
не была рождена. Сара ему улыбнулась и быстро спустилась по
лестнице, кимоно развевалось вокруг коротеньких ног.
— Ну что? Что случилось? — жадно спросила она.
Большие тусклые глаза настойчиво рассматривали его. Он
отвернулся и сухо сказал:
— Марсель беременна.
— Вот как!
Вид у Сары был скорее обрадованный. Она застенчиво начала:
— Итак... вы скоро...
— Нет, нет, — живо перебил ее Матье, — мы не хотим детей.
— А! Да, — сказала она, — понимаю.
Она опустила голову и умолкла. Матье не смог вынести эту
печаль, которая не была даже упреком.
— Помнится, и с вами такое когда-то случалось. Гомес мне
говорил, — грубовато возразил он ее мыслям.
— Да. Когда-то...
И вдруг она подняла глаза и порывисто добавила:
— Знаете, это пустяк, если не упустишь время.
Она запрещала себе осуждать его, она отбросила осуждение и
упреки, у нее было только одно желание — утешить.
— Это пустяк...
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
49
Он попытался улыбнуться, посмотреть в будущее с надеждой.
Теперь по этой крошечной и тайной смерти будет носить траур
только она.
— Послушайте, Сара, — сказал Матье раздраженно, —
попытайтесь меня понять. Я не хочу жениться. И это не из эгоизма: по-
моему, брак...
Он остановился: Сара была замужем, она вышла за Гомеса пять
лет назад. Немного погодя он добавил:
— К тому же Марсель тоже не хочет ребенка.
— Она что, не любит детей?
— Они ее не интересуют.
Сара казалась озадаченной.
— Да, — проговорила она, — да... Тогда действительно...
Она взяла его за руки.
— Мой бедный Матье, как вы должны быть огорчены! Я хотела
бы вам помочь.
— Именно об этом и речь, — сказал Матье. — Когда у вас были...
эти затруднения, вы к кому-то обращались, кажется, к какому-то
русскому.
— Да, — сказала Сара и переменилась в лице. — Это было ужасно.
— Да? — спросил Матье дрогнувшим голосом. — А что... это
очень больно?
— Нет, не очень, но... — жалобно сказала она. — Я думала о
маленьком. Знаете, так хотел Гомес. А в то время, когда он чего-то
хотел... Но это был ужас, я никогда... Сейчас он мог бы умолять меня
на коленях, но я бы этого снова не сделала.
Она растерянно посмотрела на Матье.
— После операции мне дали пакетик и сказали: «Бросьте в
сточную канаву». В сточную канаву! Точно дохлую крысу! Матье, —
сказала она, сильно сжимая ему руку, — вы даже не знаете, что
собираетесь сделать!
— А когда производят на свет ребенка, разве больше знают? — с
гневом спросил Матье.
Ребенок — одним сознанием больше, маленький
бессмысленный отсвет, который будет летать по кругу, ударяться о стены и уже
не сможет убежать.
— Нет, но я хочу сказать: вы не знаете, чего требуете от Марсель.
Боюсь, как бы она вас позже не возненавидела.
Матье снова представил себе глаза Марсель, большие,
скорбные, обведенные кругами.
50
Жан Поль Сартр
— Разве вы ненавидите Гомеса? — сухо спросил он.
Сара сделала жалкий и беспомощный жест: она никого не могла
ненавидеть, а Гомеса меньше, чем кого бы то ни было.
— Во всяком случае, — сказала она, замкнувшись, — я не могу
направить вас к этому русскому, он все еще оперирует, но он
спился, я ему больше не доверяю. Два года назад он влип в грязную
историю.
— А другого вы никого не знаете?
— Никого, — медленно сказала Сара. Но вдруг доброта озарила
ее лицо, и она воскликнула: — Да нет же, я придумала, как же я
раньше не догадалась! Я все улажу. Вальдман. Вы его не видели у
меня? Еврей, гинеколог. Это в некотором роде специалист по
абортам, с ним вы будете спокойны. В Берлине у него была огромная
врачебная практика. Когда нацисты пришли к власти, он поселился
в Вене. Затем произошел аншлюс, и он приехал в Париж с
маленьким чемоданчиком. Но задолго до того он переправил все свои
деньги в Цюрих.
— Вы думаете, получится?
— Естественно. Сегодня же пойду к нему.
— Я рад, — сказал Матье, — я страшно рад. Он не очень дорого
берет?
— Раньше он брал до двух тысяч марок.
Матье побледнел: «Это же десять тысяч франков!»
Она живо добавила:
— Это был грабеж, он заставлял платить за свою репутацию.
Здесь его никто не знает, и он будет разумней: я предложу ему три
тысячи франков.
— Хорошо, — сказал Матье, стиснув зубы.
В мозгу стучало: «Где я возьму такие деньги?»
— Послушайте, — решилась Сара, — а почему бы мне не пойти
к нему сейчас же? Он живет на улице Блез-Дегофф, это совсем
рядом. Я одеваюсь и выхожу. Вы меня подождете?
— Нет, я... У меня назначена встреча на половину
одиннадцатого. Сара, вы сокровище, — сказал Матье.
Он взял ее за плечи и, улыбаясь, встряхнул. Она поступилась
ради него своим сильнейшим отвращением, из великодушия стала
соучастницей в деле, которое внушало ей ужас: она светилась от
удовольствия.
— Где вы будете в одиннадцать? — спросила она. — Я могла бы
вам позвонить.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
51
— Я буду в «Дюпон Латен» на бульваре Сен-Мишель. Я там
дождусь вашего звонка, хорошо?
— В «Дюпон Латен», договорились.
Пеньюар Сары широко распахнулся на ее огромной груди. Ма-
тье прижал ее к себе из нежности и чтобы не видеть ее тела.
— До свидания, — сказала Сара, — до свидания, мой дорогой
Матье.
Она подняла к нему ласковое безобразное лицо. В нем была
трогательная и почти чувственная покорность, которая подстрекала
скрытое желание сделать ей больно, вызвать у нее стыд. «Когда я ее
вижу, — говорил Даниель, — я понимаю садистов». Матье
расцеловал ее в обе щеки.
«Лето!» Небо неотступно преследовало улицу, это было какое-
то природное наваждение; люди плавали в небе, лица их пламенели.
Матье вдыхал зеленый, живой запах, свежую пыль; он сощурил
глаза и улыбнулся. «Лето!» Он сделал несколько шагов; черный
расплавленный асфальт, усыпанный белой крошкой, прилипал к его
подошвам: Марсель была беременна, и это было другое лето.
Она спала, ее тело купалось в густой тени и потело во сне. Ее
красивая смугло-фиолетовая грудь осела, капельки просачивались
наружу, белые и солоноватые, как цветы. Она спит. Она всегда спит
до полудня. Но пузырь в ее чреве не спит, ему некогда спать: он
питается и раздувается. Время текло непреклонными и
непоправимыми толчками. Пузырь раздувался, а время текло. «Деньги нужно
найти в ближайшие двое суток».
Люксембургский сад, прогретый и белый: статуи, голуби, дети.
Дети бегают, голуби взлетают. Сплошной световой поток,
ускользающие белые вспышки. Матье сел на железную скамью: «Где
найти деньги? Даниель не даст, но я все же у него спрошу... На худой
конец всегда можно обратиться к Жаку». Газон курчавился у самых
ног, статуя выгнула к нему молодой каменный зад, голуби
ворковали и тоже казались каменными. «В конце концов мне не хватает
каких-то двух недель, еврей подождет до конца месяца, а двадцать
девятого зарплата».
Матье вдруг опомнился — он словно увидел то, о чем думает, и
ужаснулся самому себе: «Сейчас Брюне идет по улицам,
наслаждается светом, ему легко, потому что он в ожидании, он идет через
хрупкий город, который вскоре разрушит, он чувствует себя
сильным, он вышагивает немного вразвалку, осторожно, потому что еще
52
Жан Поль Сартр
не пробил час разрушения, он ждет его, он надеется. А я! А я!
Марсель беременна. Уговорит ли Сара еврея? Где найти деньги? Вот о
чем я размышляю!» Внезапно он снова увидел близко посаженные
глаза под густыми черными бровями: «Из Мадрида. Клянусь тебе,
я хотел туда поехать. Да не удалось». В голове пронеслось: «Я
старик».
«Я старик. Вот я развалился на скамье, по уши увяз в своей
жизни, ни во что не верю. Однако я тоже хотел отправиться в
какую-нибудь Испанию. А потом не вышло. Разве эти Испании еще
существуют? Я здесь, я себя смакую, я чувствую во рту застарелый
вкус железистой воды и крови, мой вкус, я — это мой собственный
вкус, я существую. Существовать — это пить себя, не испытывая
жажды. Тридцать четыре года. Тридцать четыре года, как я себя
смакую. И я старик. Я работал, ждал, имел что желал: Марсель,
Париж, независимость; теперь все кончено. Больше я ничего не
жду!» Он смотрел на этот обычный сад, всегда новый, всегда
одинаковый, как море, целое столетие одно и то же, с одинаковыми
легкими цветными волнами и тем же гулом. Те же дети, резвящиеся,
как и столетие назад, то же солнце на гипсовых богинях с отбитыми
пальцами, те же деревья; но была и Сара в желтом кимоно, была
беременная Марсель, были деньги. И все это было так естественно,
так обиходно, так монотонно самодостаточно, что могло заполнить
жизнь, это и была жизнь. А остальное — все эти Испании, все эти
воздушные замки — может, все это... «Что? Только тепловатая
мирская религия для собственного употребления? Сдержанный
небесный аккомпанемент всей моей подлинной жизни? Алиби? Именно
таким они меня видят. Даниель, Марсель, Брюне, Жак: человек,
который хочет быть свободным. Он ест, пьет, как все остальные, он
государственный служащий, он не занимается политикой, он
читает поддерживающие Народный фронт «Эвр» и «Попюлер», у него
трудности с деньгами. Но он хочет быть свободным, как
филателисты хотят приобрести коллекцию марок. Свобода — тайный сад. Его
маленький сговор с самим собой. Человек ленивый и холодный,
немного химерический, но в основе очень благоразумный, человек,
который скрытно смастерил себе банальное, но прочное счастье и
изредка оправдывает себя возвышенными соображениями. Разве я
не таков?»
Ему семь лет, он в Питивье, у дяди Жюля, зубного врача, один,
в приемной, он играет в игру, которая помешала бы ему
существовать: нужно попытаться не проглотить себя, как будто во рту у тебя
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
53
очень холодная жидкость, и ты задерживаешь маленькое
глотательное движение, которое отправит ее в глотку. Ему удалось полностью
опустошить свою голову. Но эта пустота еще имела вкус. Это был
день глупостей. Он погряз в летнем пекле далекой провинции,
пропахшем мухами, и действительно он только что поймал муху и
оборвал ей крылышки. Он установил, что голова ее похожа на серную
головку кухонной спички, нашел в кухне серку и потер об нее
мушиную головку, ожидая, что головка загорится. Но действовал он
небрежно: то была всего лишь маленькая праздная комедия, ему
по-настоящему не удавалось ею увлечься, он хорошо знал, что муха
не загорится; на столе были разорванные иллюстрированные
журналы и прекрасная серо-зеленая китайская ваза с ручками,
похожими на когти попугая; дядя Жюль говорил, что ей три тысячи лет.
Матье подошел к вазе, заложив руки за спину, и посмотрел на нее,
нетерпеливо переступая ногами: ужасно быть маленьким шариком
из хлебного мякиша в этом древнем многослойном мире, рядом с
этой бесстрастной трехтысячелетней вазой. Он повернулся к ней
спиной и принялся озираться и шмыгать носом перед зеркалом, но
ему не удавалось развлечься, потом он вдруг вернулся к столу,
поднял вазу, которая оказалась очень тяжелой, и бросил ее на паркет:
это пришло ему в голову внезапно, и сразу же после этого он
почувствовал себя легким, как паутинка. Он восхищенно смотрел на
черепки фарфора: что-то только что случилось с этой
трехтысячелетней вазой среди пятидесятилетних стен, под вечным светом лета,
что-то очень дерзкое, походившее на рассвет. Он подумал: «Это
сделал я!» — и почувствовал себя гордым, свободным от мира, без
привязанностей, без семьи, без корней, махоньким упрямым
ростком, прободавшим земную твердь.
Ему было шестнадцать, он, маленький задира, лежал на песке в
Аркашоне и смотрел на длинные плоские океанские волны. Он
только что поколотил молодого бордосца, который бросал в него
камни, и заставил того есть песок. Он сидел в тени сосен,
запыхавшийся, ноздри его были наполнены запахом смолы, и ему казалось,
что он зависший в воздухе маленький взрыв, круглый, крутой и
необъяснимый. Он сказал себе: «Я буду свободным». Впрочем, он
скорее ничего себе не сказал, но именно это ему хотелось сказать:
он как бы зарекся, что вся его жизнь будет похожа на этот
внезапный взрыв. Ему шел двадцать второй год, он читал в своей комнате
Спинозу, был последний день карнавала накануне поста, по улице
проезжали большие разноцветные повозки, нагруженные картон-
54
Жан Поль Сартр
ными манекенами: он поднял глаза и снова повторил свой зарок с
философской выспренностью, которая с недавних пор была
свойственна Брюне и ему; он сказал себе: «Я спасу себя сам». Десятки,
сотни раз твердил он свой завет. Слова менялись с возрастом, с
новым интеллектуальным уровнем, но это была его единственная и
неизменная клятва; и в собственных глазах Матье не был ни
высоким, тяжеловатым мужчиной, преподававшим философию в
мужском лицее, ни братом Жака Деларю, адвоката, ни любовником
Марсель, ни другом Даниеля и Брюне; он был не чем иным, как
своим зароком.
Какой зарок? Он провел рукой по уставшим от света глазам, он
больше не был ни в чем уверен, все чаще и чаще он ощущал себя в
некоем самоизгнании. Чтобы понять свой зарок, следовало быть в
ладу с самим собой.
— Подайте мячик, пожалуйста!
Теннисный мячик подкатился к его ногам, мальчик бежал к
нему с ракеткой в руке. Матье поднял мячик и кинул мальчугану.
Определенно он был не в ладу с самим собой: он закис в этом
вязком зное и ощущал давнее монотонное чувство обыденности —
напрасно он повторял фразы, которые когда-то его вдохновляли:
«Быть свободным. Быть самодостаточным, способным себе сказать:
я существую, потому что этого хочу, быть своим собственным
истоком». Пустые, высокопарные слова, докучная болтовня
интеллектуала.
Он встал. Встал всего лишь служащий, обремененный
денежными затруднениями и направлявшийся к сестре своего бывшего
ученика. Он подумал: «Разве уже все ставки сделаны? Разве я всего
лишь служащий?» Он так долго ждал, его последние годы были
только вооруженным бодрствованием. Он ждал сквозь тысячи
мелких, повседневных забот; конечно, он попутно приударял за
женщинами, путешествовал, наконец, зарабатывал на жизнь. Но меж
тем его единственной заботой было оставаться наготове. Наготове
для поступка. Поступка свободного и обдуманного, который
определит его дальнейшую жизнь и станет ее началом. Он никогда не
мог полностью отдаться любви, удовольствию, он никогда не был
по-настоящему несчастлив, ему всегда казалось, что он где-то в
другом месте, что он еще не полностью родился. Он ждал. А за это
время тихо, исподтишка подкрались годы и схватили его за
шиворот. Теперь ему тридцать четыре. «Начинать следовало в двадцать
пять. Как Брюне. Да, но тогда начинаешь с неполным пониманием
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
55
сути. И в результате оказываешься одурачен... А я не хотел быть
одураченным». Он мечтал поехать в Россию, бросить учебу,
научиться какому-нибудь ремеслу. Но каждый раз за полшага до
резких поворотов его удерживало отсутствие достаточных
оснований. А без них все рушилось. И он продолжал ждать...
Парусные лодочки кружили в водоеме Люксембургского сада,
орошаемые время от времени фонтанами. Он подумал: «Я больше
не жду. Она права, я себя опустошил, сделал бесплодным, чтобы
превратиться в вечное ожидание. Да, теперь я пуст. Но зато я
больше ничего не жду».
Там, около фонтана, одна из лодок зачерпнула бортом воду. Все
смеялись, глядя на нее; какой-то мальчишка пытался зацепить ее
багром.
IV
Матье посмотрел на часы: «Без двадцати одиннадцать, она
опаздывает». Он не любил, когда она опаздывала, он всегда боялся, как
бы она не довела себя до гибели. Она забывала все, она спасалась
забвением, спасалась ежеминутно, забывая есть, забывая спать.
Однажды она забудет дышать, и наступит конец. Два молодых
человека остановились рядом с ним: они высокомерно разглядывали
столик.
— Sit down*, — произнес один.
— Я sit down**, — ответил другой.
Они засмеялись и сели; у них были ухоженные руки, холодное
выражение лиц, нежная кожа. «Здесь только молокососы», —
раздраженно подумал Матье. Лицеисты или студенты, молодые самцы,
окруженные бесцветными самками, имели вид сверкающих
настырных насекомых. «Молодость занятна, — подумал Матье, — извне
блестит, а внутри ничего не чувствуешь». Ивиш чувствовала свою
молодость. Борис тоже, но они исключения. Мученики молодости.
«Все мы просто не знали, что были молоды, — ни я, ни Брюне, ни
Даниель. Мы поняли это только потом».
Он без особого удовольствия думал о том, что поведет Ивиш на
выставку Гогена. Матье любил показывать ей красивые картины,
красивые фильмы, красивые предметы, потому что сам он красив
* Садись (англ.).
** Сажусь (англ.).
56
Жан Поль Сартр
не был, это был его способ извиняться. Ивиш его не извиняла:
сегодня утром, как и раньше, она будет смотреть на картины с
маниакальным нелюдимым видом; Матье будет стоять рядом с ней,
некрасивый, навязчивый, забытый. Но однако, он и не хотел бы быть
красивым. Никогда Ивиш не была более одинока, как перед лицом
красоты. Матье сказал себе: «Сам не знаю, чего я от нее хочу». И тут
он увидел Ивиш; она шла по бульвару рядом с завитым высоким
парнем в очках, она подняла к нему лицо и дарила ему лучезарную
улыбку, они оживленно болтали. Когда она увидела Матье, ее глаза
мгновенно погасли, она быстро попрощалась со своим спутником и
рассеянно пересекла улицу Эколь. Матье встал.
— Привет, Ивиш!
— Здравствуйте, — сказала она.
Она сильно постаралась прикрыть лицо: начесала светлые
кудри на щеки, челку спустила до глаз. Зимой ветер трепал ее волосы,
обнажая полные бледные щеки и низкий лоб, который она
называла «калмыцким»; тогда обнажалось ее лицо, широкое, бледное,
детское и чувственное, похожее на луну средь облаков. Но сегодня
Матье видел ее настоящее узкое и чистое лицо, напоминающее
трагическую треугольную маску. Молодые соседи Матье
повернулись к ней, по их лицам видно было, что они считают ее красивой.
Матье с нежностью смотрел на нее, он был единственным среди
всех этих людей, кто знал, что она некрасива. Ивиш села, спокойная
и угрюмая. Она не была нарумянена, так как румяна портят кожу.
— Что будет мадам? — спросил официант.
Ивиш улыбнулась ему, ей нравилось, что ее назвали «мадам»;
потом она неуверенно обернулась к Матье.
— Закажите настойку из перечной мяты, — посоветовал он, —
ведь вы ее любите.
— Я ее люблю? — удивилась Ивиш. — Тогда согласна. А что это
такое? — спросила она, когда официант ушел.
— Зеленая мята.
— Это такое густое зеленое пойло, которое я пила в прошлый
раз? Нет-нет, не хочу, от него вяжет во рту. Я всегда соглашаюсь, но
мне не надо бы вас слушать. У нас разные вкусы.
— Вы сказали, что вам понравилось, — расстроенно возразил
Матье.
— Да, но потом я вспомнила ее вкус. — Она вздрогнула. — Ни за
что не буду ее пить.
— Официант! — крикнул Матье.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
57
— Нет, нет, оставьте, сейчас он ее принесет, на вид это красиво.
Но я к ней не притронусь, вот и все. Я не хочу пить.
Она умолкла. Матье не знал, что ей сказать: мало что
интересовало Ивиш, да и ему не хотелось говорить. Марсель присутствовала
и здесь; он ее не видел, не называл, но она была здесь. Ивиш он
видел, мог назвать ее по имени или коснуться ее плеча, но вся она,
и ее хрупкая талия, и красивая упругая грудь, была вне
досягаемости; она казалась нарисованной и покрытой лаком, как недоступная
таитянка на картинах Гогена. Скоро позвонит Сара. Посыльный
позовет: «Месье Деларю!»; Матье услышит на другом конце
провода мрачный голос: «Он хочет десять тысяч франков и ни су
меньше». Больница, хирургия, запах эфира, денежные вопросы. Матье
сделал усилие и повернулся к Ивиш, она закрыла глаза и легко
водила пальцем по векам. Затем открыла глаза.
— У меня впечатление, что они сами по себе остаются
открытыми. Время от времени я их закрываю, чтобы дать им отдохнуть. Они
красные?
-Нет.
— Это от солнца, летом у меня всегда болят глаза. В такие дни
нужно бы выходить только с наступлением ночи; иначе не знаешь
куда деться — солнце преследует повсюду. И потом у людей
влажные руки.
Матье под столом коснулся пальцем своей ладони: сухая. Это у
другого, у высокого завитого парня, были влажные ладони. Он без
волнения смотрел на Ивиш; он чувствовал себя виноватым и
освобожденным, потому что все меньше придавал ей значения.
— Вам досадно, что я заставил вас выйти сегодня утром?
— Как бы то ни было, оставаться в моей комнате было
невозможно.
— Но почему? — удивился Матье.
— Вы не знаете, что такое женское студенческое общежитие.
Девушек постоянно опекают, особенно во время сессии. Кроме того,
одна женщина воспылала ко мне страстью, она все время под
разными предлогами заходит в мою комнату, гладит по волосам;
ненавижу, когда ко мне прикасаются.
Матье едва слушал ее: он знал, что она не думает о том, что
говорит. Ивиш раздраженно мотнула головой.
— Эта толстуха из общежития любит меня, потому что я
блондинка. И всегда одно и то же, через три месяца она меня
возненавидит, скажет, что я притворщица.
58
Жан Поль Сартр
— Вы действительно притворщица, — заметил Матье.
— Да-а... — протянула она монотонным голосом, который
заставил вспомнить о ее бледных щеках.
— Что вы хотите, люди в конце концов все же обратят внимание
на то, что вы прячете от них щеки и опускаете перед ними глаза,
точно недотрога.
— А вам разве понравится, когда узнают, кто вы? — Она
добавила с легким презрением: — Действительно, к подобному вы не
чувствительны. А вот смотреть людям в глаза, — продолжала она, — я
не могу, у меня сразу в глазах щиплет.
— Сначала вы меня часто смущали, — сказал Матье. — И при
этом смотрели на меня чуть выше лба. А я ужасно боюсь облысеть...
Мне казалось, что вы заметили просвет в волосах и не можете
отвести от него взгляда.
— Я на всех так смотрю.
— Да, или исподтишка: вот так...
Он бросил на нее быстрый и потаенный взгляд. Она засмеялась,
одновременно развеселившись и разозлившись.
— Прекратите! Не хочу, чтобы меня передразнивали.
— Но я не со зла.
— Конечно, но мне всегда страшно, когда вы подражаете моей
мимике.
— Понимаю, — сказал, улыбаясь, Матье.
— Это не то, что вы, вероятно, думаете: будь вы хоть самым
красивым мужчиной на свете, для меня это было бы то же самое.
Она добавила изменившимся голосом:
— Как бы я хотела, чтоб у меня не болели глаза.
— Послушайте, — сказал Матье, — я сейчас пойду в аптеку и
спрошу для вас капли. Но я жду звонка. Если мне позвонят, будьте
так любезны, скажите посыльному, что я скоро вернусь, пусть
перезвонят.
— Нет, не уходите, — холодно сказала она, — благодарю, но мне
ничто не поможет, это от солнца.
Они замолчали. «Мне скучно», — подумал Матье со странным
удовольствием. Ивиш разглаживала юбку ладонями, немного
приподнимая пальцы, как будто собиралась нажать на клавиши
пианино. Ее кисти были всегда красноваты; видно, из-за скверного
кровообращения; она их обычно приподымала вверх и трясла ими, чтоб
они побледнели. Они ей вовсе не служили, чтобы брать, это были
два маленьких примитивных идола на конце рук; они слегка каса-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
59
лись предметов незаконченными, мелкими движениями, скорее
чтобы эти предметы моделировать, чем схватить. Матье поглядел на
ногти Ивиш, длинные и заостренные, ярко накрашенные, почти
китайские: достаточно было посмотреть на это хрупкое и неудобное
украшение, чтобы понять — Ивиш ничего не могла делать этими
десятью пальцами. Как-то один из ногтей сломался, она хранила его
в крошечном гробике и время от времени созерцала со смесью
ужаса и удовольствия. Матье однажды его видел: на нем сохранился лак,
и он был похож на дохлого скарабея. «Не понимаю, что ее волнует;
она никогда не была такой взвинченной. Скорее всего из-за
экзамена. Или же ей смертельно скучно со мной: все-таки я взрослый».
— Наверняка вот так начинают слепнуть, — вдруг сказала Ивиш
безразличным тоном.
— Наверняка не так, — улыбаясь, ответил Матье. — Вам ведь
сказал доктор в Лаоне: у вас небольшой конъюнктивит.
Он говорил ласково, он улыбался ласково, он чувствовал себя
отравленным ласковостью: с Ивиш нужно было всегда улыбаться,
делать ласковые и медленные движения. «Как Даниель со своими
кошками».
— У меня болят глаза, — сказала Ивиш, — достаточно
пустяка... — Она заколебалась. — Я... мне больно в глубине глаз. В самой
глубине. Разве это не начало того безумия, о котором вы мне
говорили?
— А, эта давняя история? — спросил Матье. — Послушайте,
Ивиш, в прошлый раз у вас болело сердце, и вы боялись сердечного
приступа. Какое странное существо вы из себя воображаете, можно
подумать, что вам необходимо мучить себя; а бывало, вы заявляли,
будто здоровье у вас отменное; нужно выбрать что-то одно.
Голос оставлял в глубине его рта сладкий привкус.
Ивиш с замкнутым видом смотрела на свои ноги.
— Со мной должно что-то случиться.
— Знаю, — сказал Матье, — у вас на ладони линия жизни
ломаная. Но вы мне сказали, что серьезно в это не верите.
— Да, я этому действительно не верю... И все же не могу
представить себе свое будущее. Оно перегорожено.
Она замолчала. Матье молча смотрел на нее. Без будущего...
Вдруг он почувствовал горечь во рту и ощутил, что страшно
дорожит Ивиш. И это правда, у нее не было будущего: Ивиш в тридцать
лет, Ивиш в сорок лет — это не имеет ни малейшего смысла. Он
подумал: она нежизнеспособна. Когда Матье был один или когда он
60
Жан Поль Сартр
говорил с Даниелем, с Марсель, его жизнь простиралась перед ним,
ясная и монотонная: какие-то женщины, какие-то путешествия,
какие-то книги. Длинный склон, по которому он медленно-медленно
спускается, нередко он даже считал, что все идет недостаточно
быстро. Но, когда он видел Ивиш, жизнь казалась ему катастрофой.
Ивиш была маленьким, полным неги и драматизма страданием, не
имеющим исхода: либо она уедет, либо потеряет рассудок, либо
умрет от сердечного приступа, либо родители запрут ее в Лаоне. Но
Матье не представлял себе жизни без нее. Он сделал робкое
движение: ему хотелось взять руку Ивиш выше локтя и сжать изо всех
сил. «Ненавижу, когда ко мне прикасаются». Рука Матье упала. Он
поспешно сказал:
— У вас очень красивая блузка, Ивиш.
Это была оплошность: Ивиш напряженно наклонила голову и
смущенно ощупала блузку. Комплименты она воспринимала как
оскорбления, словно кто-то топором кромсал ее образ, грубоватый
и чарующий, которого она побаивалась. Она в одиночестве
примеривала его к себе, думала о нем беззвучно, ласково и почти
уверенно. Матье покорно смотрел на хрупкие плечи Ивиш, на ее высокую
округлую шею. Она часто говорила: «Ненавижу людей, которые не
чувствуют своего тела». Матье чувствовал свое тело, но скорее как
большой, стесняющий его пакет.
— Вы все еще хотите посмотреть картины Гогена?
— Какого Гогена? А! Выставку, о которой вы говорили? Ну что ж,
это можно.
— У вас такой вид, будто вы не хотите.
— Нет, хочу.
— Если не хотите, Ивиш, скажите прямо.
— Но вы же хотите.
— Вы знаете, что я там уже был. Я хочу показать ее вам, если вам
это доставит удовольствие, но, если вам не хочется, эта выставка
меня больше не интересует.
— Раз так, я предпочитаю пойти в другой день.
— Но выставка завтра закрывается, — разочарованно
проговорил Матье.
— Ну что ж, тем хуже, когда-нибудь потом ее повторят, — вяло
отозвалась Ивиш. И живо добавила: — Их ведь повторяют, правда?
—. Ивиш, — сказал Матье мягко, но раздраженно, — в этом вы
вся. Скажите лучше, что вам не хочется, вы же хорошо знаете, что
такое не скоро повторится.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
61
— Ну что ж, — мило сказала она, — я не хочу туда идти, потому
что я нервничаю из-за экзамена. Это ужасно — заставлять так долго
ждать результата.
— Разве он будет не завтра?
— Вот именно. — Она добавила, дотронувшись кончиками
пальцев до рукава Матье: — Не нужно обращать на меня внимания,
сегодня я сама не своя. Я завишу от других, это унизительно, у меня
все время перед глазами маячит белый лист, прикрепленный к
серой стене. Не могу думать ни о чем другом. Уже проснувшись
утром, я поняла, что нынешний день — вычеркнутый. У меня его
украли, а их у меня не так уж много.
Она добавила тихо и быстро:
— Я провалилась на практическом по ботанике.
— Понимаю, — сказал Матье.
Он попытался обрести в своих воспоминаниях волнение,
которое позволило бы ему понять тревогу Ивиш. Может быть, накануне
конкурса на должность преподавателя лицея... Нет, как бы то ни
было, это не одно и то же! Он прожил без риска, безмятежно. Теперь
он почувствовал себя беззащитным среди угрожающего мира, но
это возникло только благодаря Ивиш.
— Если меня допустят к экзаменам, — сказала она, — я
немножко выпью перед тем, как идти на устный.
Матье не ответил.
— Совсем немножко, — повторила Ивиш.
— Вы это говорили перед конкурсным экзаменом в феврале, а
потом хороши же вы были, когда выпили четыре стаканчика рома
и были в стельку пьяны.
— Все равно меня не допустят, — неискренне сказала она.
— Это понятно, но если вас все-таки допустят?
— Ладно, не буду пить.
Матье не настаивал: он был уверен, что она придет на устный
экзамен навеселе. «Я бы такого не сделал, я всегда был слишком
осторожен». Он разозлился на Ивиш и был противен себе самому.
Официант принес рюмку и до половины налил ее зеленой мятной
настойкой.
— Сейчас я вам принесу ведерко со льдом.
— Большое спасибо, — ответила Ивиш.
Она смотрела на рюмку, а Матье — на нее. Сильное и
неопределенное желание охватило его: стать на мгновение этим рассеянным
существом, переполненным собственным запахом, почувствовать
62
Жан Поль Сартр
изнутри эти длинные тонкие руки, ощутить, как на сгибе руки
складки кожи предплечья склеиваются, как губы, перевоплотиться
в это тело и познать все те укромные поцелуйчики, которыми оно
себя непрерывно осыпает. Стать Ивиш, оставаясь при этом самим
собой. Ивиш взяла ведерко из рук официанта, положила себе в
рюмку кубик льда.
— Не для того, чтобы пить, — сказала она, — но так красивее.
Она немного сощурила глаза и по-детски улыбнулась.
— Красиво.
Матье с раздражением смотрел на рюмку, он пытался наблюдать
плотное и неуклюжее движение жидкости за смутной белизной
льда. Напрасно. Для Ивиш это маленькое вязкое и зеленое
наслаждение, которое охватывало ее вплоть до кончиков пальцев; для него
это ничто. Меньше, чем ничто: рюмка с мятной настойкой. Он мог
вообразить, что почувствовала Ивиш, но сам никогда ничего не
чувствовал: для нее вещи были живыми соучастниками, их
постоянные эманации проникали в нее до самого нутра, Матье же всегда
видел предметы только издалека. Он поглядел на нее и вздохнул:
как всегда, опоздал; Ивиш больше не смотрела на рюмку, она
погрустнела и принялась нервно теребить локоны.
— Хочется курить.
Матье достал из кармана пачку «Голд флейк» и протянул ей.
— Сейчас дам вам огня.
— Спасибо, предпочитаю зажечь сама.
Она раскурила сигарету, сделала несколько затяжек.
Приблизила руку ко рту и с маниакальным видом забавлялась, направляя
дым вдоль ладони. Она объяснила самой себе:
— Мне хочется, чтобы дым выпускала как бы моя рука. Было бы
забавно — рука, выпускающая туман.
— Так не бывает, дым очень быстро улетучивается.
— Я знаю, это меня раздражает, но не могу остановиться. Я
чувствую свое дыхание, которое щекочет мне руку, оно проходит как
раз посередине, как будто ладонь разделена надвое какой-то
преградой.
Ивиш издала короткий смешок и замолкла, она по-прежнему
дула на руку, упрямая и недовольная. Затем бросила сигарету и
тряхнула головой: запах ее волос достиг обоняния Матье: запах
пирога и ванильного сахара, так как она мыла голову яичным
желтком; и в этом аромате кондитерской было что-то плотское.
Матье подумал о Саре.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
63
— О чем вы думаете, Ивиш? — спросил он.
Она на секунду замерла с открытым ртом, растерянная, затем
обрела прежний созерцательный вид, и лицо ее стало
непроницаемым. Матье почувствовал, что устал смотреть на нее, у него
защипало в уголках глаз.
— О чем вы думаете? — повторил он.
— Я... — Ивиш встряхнулась. — Вы все время спрашиваете об
этом. Да ни о чем определенном. Толком и не определишь.
— И все же?
— Ну что ж, я смотрела, к примеру, на этого человечка. Чего вы
от меня ждете? Чтобы я вам сказала: он толстый, он вытирает губы
платком, на нем галстук?.. Странно, что вы меня заставляете
говорить о таких пустяках, — сказала она, внезапно устыдившись и
разозлившись, — это совершенно не важно.
— Нет, для меня важно. Как бы я хотел, чтобы вы думали
вслух.
Ивиш невольно улыбнулась.
— Но речь дана не для такой ерунды, — ответила Ивиш.
— Забавно, но к речи вы испытываете уважение туземца,
похоже, вы считаете, что она дана нам только для того, чтобы объявлять
о смертях, браках или служить мессу. Тем не менее вы смотрели не
на людей, Ивиш, я видел, вы смотрели на свою руку, а потом на ногу.
И вообще я знаю, о чем вы думали.
— Зачем же вы тогда спрашиваете? Не нужно особой
проницательности, чтобы догадаться: я думала об экзамене.
— Вы боитесь провалиться, так?
— Естественно, боюсь провалиться. Скорее нет, не боюсь. Я и
так знаю, что провалилась.
Матье снова почувствовал во рту привкус непоправимого: если
она провалится, я ее больше не увижу. А ведь она определенно
провалится, это яснее ясного.
— Не хочу возвращаться в Лаон, — с отчаянием сказала Ивиш. —
Если я провалю экзамен и придется вернуться, мне оттуда больше
не вырваться, меня предупредили, что это мой последний шанс.
Она снова принялась теребить волосы.
— Если б я набралась смелости... — неуверенно сказала она.
— То что бы вы сделали? — с беспокойством спросил Матье.
— Все равно что. Все, что угодно, но только бы не возвращаться
в Лаон, я не хочу там влачить свои дни, не хочу!
64
Жан Поль Сартр
— Но вы мне говорили, что ваш отец, возможно, через год-два
продаст лесопильный завод и семья переедет в Париж. Так что
можно и потерпеть.
— Терпеть! Все вы такие, — выкрикнула Ивиш, направив на него
сверкающий от гнева взгляд. — Посмотрела бы я на вас там! Два
года в этом подземелье, терпеть два года! Вы что, не можете
уразуметь, что значат эти два года, которые у меня отнимут? У меня
только одна жизнь, — выкрикнула она в бешенстве. — Послушать
вас, можно подумать, что вы бессмертны. По-вашему, потерянный
год возмещается! — На глазах у нее выступили слезы. — Неправда,
моя молодость будет уходить капля за каплей. Я хочу жить сейчас,
а я еще не начала, у меня нет времени ждать, я уже старая, мне
двадцать один год!
— Ивиш, прошу вас, — сказал Матье, — вы меня пугаете.
Попытайтесь по крайней мере один раз четко сказать мне, что у вас с
практическими работами. То у вас довольный вид, то вы в отчаянии.
— Я все завалила, — мрачно сказала Ивиш.
— Я думал, что вы успешно сдали физику.
— Как же! — насмешливо отозвалась Ивиш. — Химия тоже была
никудышной, я не могла вбить себе в голову дозировки, это все
такая чушь.
— Но почему вы выбрали именно это?
— Что «это»?
— Естественные науки.
— Нужно же было вырваться из Лаона, — свирепо ответила она.
Матье бессильно махнул рукой; они замолчали. Из кафе вышла
женщина и медленно прошла мимо них; она была красива,
маленький носик на гладком лице; казалось, она кого-то искала. Сначала
Ивиш услышала ее духи и медленно подняла хмурое лицо — оно
мгновенно преобразилось.
— Дивное создание, — произнесла она тихим, глубоким голосом.
Матье испугался этого голоса.
Женщина остановилась, сощурившись от солнца, ей могло быть
лет тридцать пять, через легкий креп платья видны были ее
длинные ноги, но Матье не хотелось на них смотреть, он смотрел на
Ивиш. Ивиш сделалась почти безобразной, она сильно сжимала
ладони. Однажды она сказала Матье: «Маленькие носики
вызывают у меня желание укусить их». Матье немного наклонился и
увидел ее в три четверти; у нее был сонный и жестокий вид, и он
подумал, что сейчас у нее возникло желание кусаться.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
65
— Ивиш, — нежно позвал Матье.
Она не ответила; Матье знал, что она не может ответить: он для
нее больше не существовал, она была совсем одна.
— Ивиш!
Именно в такие мгновения он больше всего дорожил ею, когда
ее маленькое очаровательное и почти жеманное тело населяла
мучительная сила, жгучая и мутная, обездоленная любовь к красоте.
Он подумал: «Я некрасив», — и почувствовал себя, в свою очередь,
одиноким.
Женщина ушла. Ивиш проследила за ней взглядом и яростно
прошептала:
— Иногда хочется быть мужчиной.
Она издала короткий смешок, и Матье грустно посмотрел на нее.
— Месье Деларю просят к телефону! — прокричал посыльный.
— Иду! — откликнулся Матье.
Он встал.
— Извините, это Сара Гомес.
Ивиш холодно улыбнулась; он вошел в кафе и спустился по
лестнице.
— Вы месье Деларю? Пожалуйста, в первую кабину.
Матье взял трубку, дверь кабины не закрывалась.
— Алло, это Сара?
— Еще раз здравствуйте, — послышался гнусавый голос Сары. —
Ну вот, все улажено.
-Я рад.
— Только нужно поторопиться: в воскресенье он уезжает в
Штаты. Он хотел бы сделать это не позднее чем послезавтра, чтобы
иметь возможность первые дни понаблюдать за ней.
— Хорошо... Сегодня же предупрежу Марсель, только это
застало меня немного врасплох и мне нужно найти деньги. Сколько
он хочет?
— Ах! Я очень сожалею, — сказала Сара, — но он хочет четыре
тысячи наличными; клянусь, я настаивала, сказала, что вы стеснены
в средствах, но он не захотел ничего слышать. Подлый еврей, —
добавила она, смеясь.
Сару переполняло неиспользованное сострадание, но, когда она
бралась оказать услугу, она становилась прямолинейной и деловой,
как сестра милосердия. Матье немного отстранил трубку, он
подумал: «Четыре тысячи франков», — а между тем смех Сары
потрескивал в маленькой черной мембране, это был какой-то кошмар.
66
Жан Поль Сартр
— Через два дня? Ладно, я... Я постараюсь. Спасибо, Сара, вы
сокровище, вы будете дома сегодня до ужина?
— Весь день.
— Хорошо. Я заскочу, нужно еще кое-что уладить.
— До вечера.
Матье вышел из кабины.
— Мне нужен жетон, мадемуазель. Ах, нет. Не стоит.
Он бросил двадцать су на блюдце и медленно поднялся по
лестнице. Не стоило звонить Марсель, пока не улажено с деньгами. «В
полдень пойду к Даниелю». Он снова сел рядом с Ивиш и холодно
посмотрел на нее.
— У меня больше не болит голова, — мило сказала она.
-Я рад.
На душе у него было муторно.
Ивиш глядела в сторону сквозь длинные ресницы. У нее была
смущенная кокетливая улыбка.
— Мы могли бы... Мы могли бы все же пойти посмотреть
Гогена.
— Если угодно, — без удивления сказал Матье.
Они встали, Матье заметил, что рюмка Ивиш пуста.
— Такси! — крикнул он.
— Не это, — заупрямилась Ивиш, — оно с открытым верхом,
ветер будет дуть в лицо.
— Нет, нет, — сказал Матье шоферу, — поезжайте, это не вам.
— Остановите вот это, — потребовала Ивиш, — красивое, как
карета на празднике Святого Причастия, к тому же закрытое.
Такси остановилось, Ивиш села в него. Матье подумал:
«Попрошу у Даниеля на тысячу франков больше, чтобы дотянуть до конца
месяца».
— Галерея изящных искусств, Фобур Сент-Оноре.
Он молча сел рядом с Ивиш. Оба были смущены.
Матье увидел у своих ног три наполовину выкуренных сигареты
с позолоченными фильтрами.
— В этом такси кто-то нервничал.
— Почему?
Матье показал на окурки.
— Женщина, — решила Ивиш, — есть следы помады.
Они улыбнулись и замолчали. Матье вспомнил:
— Однажды я нашел в такси сто франков.
— Должно быть, вы обрадовались.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
67
— Нет! Я отдал их шоферу.
— Вот как! А я бы оставила себе. Почему вы их отдали?
— Не знаю.
Такси пересекло площадь Сен-Мишель, Матье чуть не сказал:
«Посмотрите, какая Сена зеленая», — но промолчал. Внезапно
Ивиш проговорила:
— Борис рассчитывает, что мы втроем пойдем сегодня вечером
в «Суматру», я бы не отказалась...
Она повернула голову и смотрела на волосы Матье с
нежностью, приближая губы. Ивиш не была в полном смысле слова
кокетлива, но время от времени напускала на себя нежный вид из
удовольствия ощутить свое лицо тяжелым и сладким, как сочный
плод. Матье счел это раздражающим и неуместным.
— Рад повидать Бориса и побыть с вами, — сказал он. — Что
меня немного смущает, так это Лола; вы ведь знаете, она меня не
выносит.
— Ну и что из того?
Наступило молчание. Как будто они вдруг одновременно
представили себя влюбленной парочкой, сидящей в такси. «Этого не
должно быть», — с раздражением подумал Матье; Ивиш
продолжала:
— Не думаю, что стоит обращать внимание на Лолу. Она
красива, хорошо поет, вот и все.
— Я считаю ее симпатичной.
— Естественно. Это ваш принцип: вы всегда хотите быть
совершенным. Когда люди вас ненавидят, вы изо всех сил стараетесь
найти в них хорошие качества. Я же не считаю ее симпатичной, —
добавила она.
— С вами она мила.
— Она не может иначе; но я ее не люблю, она вечно ломает
комедию.
— Комедию? — переспросил Матье, поднимая брови. — Вот уж
в этом я упрекнул бы ее в последнюю очередь.
— Странно, что вы этого не заметили: она испускает
многочисленные вздохи, чтоб ее сочли впавшей в отчаяние, и тут же
заказывает себе лучшие блюда.
Она добавила со скрытой злостью:
— Думаю, что отчаявшиеся люди плюют на смерть: я всегда
удивляюсь, когда вижу, как она до последнего су рассчитывает свои
расходы и копит денежки.
68
Жан Поль Сартр
— Это не мешает ей быть в отчаянии. Так поступают стареющие
люди: когда они испытывают отвращение к себе и к своей жизни,
то думают о деньгах и тем ублажают себя.
— Значит, нельзя стареть, — сухо заметила Ивиш.
Он смущенно посмотрел на нее и поторопился добавить:
— Вы правы, старым быть некрасиво.
— Ну уж вы-то человек без возраста, — сказала Ивиш, — мне
кажется, что вы всегда были таким, как сейчас, у вас вечная
молодость. Иногда я пытаюсь представить себе, каким вы были в детстве,
но не могу.
— У меня были кудряшки, — сказал Матье.
— А я представляю себе, что вы были таким, как сейчас, только
поменьше.
На этот раз Ивиш не подозревала, что ее слова прозвучали
нежно. Матье хотел заговорить, но у него странно запершило в горле, и
он потерял самообладание. Он оставил позади Сару, Марсель и
бесконечные коридоры больницы, где мысленно бродил все утро, он
был нигде, он чувствовал себя свободным; этот летний день слегка
касался его своей плотной и теплой массой, ему хотелось упасть в
нее всем телом. Еще секунду ему казалось, что он завис в пустоте с
невыносимым ощущением свободы, потом он вдруг протянул руку,
обнял Ивиш за плечи и привлек к себе. Ивиш напряженно
подчинилась, как бы теряя равновесие. Она ничего не сказала; вид у нее
был безразличный.
Такси выехало на улицу Риволи, аркады Лувра тяжело
пролетали вдоль стекол, как большие голуби. Было жарко. Матье
чувствовал у своего бока теплое тело; через ветровое стекло он видел
деревья и трехцветный флаг на оконечности мачты. Он вспомнил
одного человека, которого однажды увидел на улице Муффтар:
довольно хорошо одетый мужчина с совершенно серым лицом. Он
подошел к киоску и долго смотрел на кусок холодного мяса,
лежавшего на витрине, затем протянул руку и взял мясо; казалось, ему
это было совсем просто, он тоже должен был чувствовать себя
свободным. Хозяин закричал, полицейский увел этого человека,
который как будто и сам удивлялся. Ивиш все еще молчала.
«Она меня осуждает», — раздраженно подумал Матье.
Он наклонился; чтобы наказать ее, он слегка поцеловал ее
холодные сжатые губы. Подняв голову, он увидел ее глаза, и его
злорадное торжество мгновенно улетучилось. Он подумал: «Женатый
мужчина лапает девушку в такси», — и его рука упала, помертвев-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
69
шая и ватная; тело Ивиш выпрямилось с механическим колебанием,
как маятник, отведенный в сторону из положения равновесия.
«Все, — сказал себе Матье, — это непоправимо». Он сгорбился, ему
хотелось бы растаять. Полицейский поднял жезл, такси
остановилось. Матье смотрел прямо перед собой, но не видел деревьев; он
взирал на свою любовь.
Да. Это любовь. Теперь это была любовь. Матье подумал: «Что
я сделал?» Пять минут назад эта любовь не существовала; между
ними было редкое и драгоценное чувство, не имевшее названия, оно
не могло выражаться поступками. А он совершил поступок,
единственный, которого не следовало делать, и это не нарочно, все
пришло само собой. Этот жест и эта любовь предстали перед Матье, как
нечто большое, назойливое, теперь уже порядком вульгарное.
Отныне Ивиш будет думать, что он ее любит; она решит: он — как все
остальные; отныне Матье будет любить Ивиш, как других женщин,
которых любил до этого. «О чем она думает?» Она сидела рядом с
ним, напряженная, молчаливая, и между ними был этот поступок,
«ненавижу, когда ко мне прикасаются», это неловкое и нежное
движение, которое имело теперь клеймо бесповоротности
происшедшего события. «Она злится, она меня презирает, она думает, что
я — как все. А я хотел от нее другого», — подумал он с отчаянием.
Но он уже был не в состоянии вспомнить, чего же он хотел до этого.
Любовь была здесь, округлая, простая, с элементарными
желаниями и банальными повадками, сам Матье заставил ее зародиться в
недрах своей полной свободы. «Это неправда, — сказал он себе
энергично, — я не желаю ее, я никогда ее не желал». Но он уже знал,
что будет ее желать. «Всегда кончается этим, я буду смотреть на ее
ноги и грудь, а потом, в один прекрасный день...» Внезапно он
увидел Марсель, как она лежит на кровати, совершенно голая, с
закрытыми глазами; он ненавидел Марсель.
Такси остановилось; Ивиш открыла дверцу и вышла на
мостовую. Матье не сразу вышел за ней; он созерцал, округлив глаза, эту
новую и уже старую любовь, любовь женатого, постыдную и
тайную, унизительную для нее, униженную заранее; теперь он
принимал ее как неизбежность. Наконец он вышел, расплатился и
подошел к Ивиш, которая ждала его у ворот. «Если бы только она могла
забыть». Он взглянул на нее украдкой и отметил, что вид у нее
суровый. «Так или иначе, а между нами что-то кончилось», — подумал
он. Но ему не хотелось мешать самому себе любить ее. Они
направились на выставку, не обменявшись ни словом.
70
Жан Поль Сартр
V
«Архангел!» Марсель зевнула и, привстав, тряхнула головой,
это была ее первая мысль: «Сегодня вечером придет Архангел».
Она любила эти таинственные посещения, но сегодня она
подумала об этом без удовольствия. В воздухе вокруг нее тяжело повис
ужас, полуденный ужас. Отпустившая жара теперь наполняла
комнату, она уже отслужила свое на улице, а здесь оставила свое
сияние в складках шторы и застоялась там, инертная и зловещая, как
судьба. Марсель снова подумала об Архангеле. «Если бы он узнал,
он, такой чистый, я стала бы ему противна». Она села на край
кровати, как накануне, когда Матье сидел напротив нее голый, и с
угрюмым отвращением смотрела на большие пальцы своих ног;
вчерашний вечер был еще здесь, неумолимый, со своим мертвым и
розовым светом, как остывший запах. «Я не смогла... Я не смогла
ему признаться». Он бы сказал: «Хорошо! Все уладится», — с тем
лихим и бесшабашным видом, с которым поглощают снадобье. Она
знала, что не смогла бы вынести этого лица; слова застряли у нее в
горле. Она подумала: «Полдень!» Потолок был серым, как раннее
утро, но уже был полуденный жар. Марсель засыпала поздно и
перестала различать времена суток, ей иногда казалось, что жизнь
ее остановилась однажды в полдень, что жизнь вообще была
вечным полднем, обрушившимся на предметы полднем, дождливым,
безнадежным и таким бесполезным. Снаружи был день, разгар дня,
светлые наряды. Матье шагал где-то там, снаружи, без нее, в живом
и веселом облаке пыли начавшегося дня, уже имеющего некое
прошлое. «Он думает обо мне, он суетится», — недружелюбно
подумала Марсель. Она была раздражена, так как представляла это
тяжелое сострадание под ярким полуденным солнцем, это
неловкое и деятельное сострадание здорового человека. Она чувствовала
себя медлительной и влажной, еще тронутой сном; на ее голове
была как бы стальная каска, привкус хмеля во рту, ощущение
вялости в боках, а под мышкой, на кончиках черных волосков,
кристаллики прохлады. Ее подташнивало, но она сдерживалась: ее
день еще не начался, он был здесь, рядом с Марсель, в
неустойчивом равновесии, малейшее неосторожное движение, малейший
жест — и он рухнет лавиной. Она хмуро усмехнулась: «Вот она,
свобода!» Когда просыпаешься утром со сжавшимся сердцем и
нужно убить пятнадцать часов перед тем, как снова лечь, какое
имеет значение, что ты свободна?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
71
«Свобода не помогает жить». Как будто тонкие маленькие
перышки, смазанные алоэ, ласкали изнутри ее горло, а потом
отвращение ко всему, изогнувшийся язык оттягивал губы назад. «Мне
повезло, кажется, есть такие, кто уже на втором месяце блюет
целыми днями, а меня тошнит только по утрам, после полудня я устаю,
но держусь; мама знала женщин, которые не переносили запаха
табака, этого еще не хватало». Она вскочила и подбежала к
умывальнику; ее рвало пенистой мутной жидкостью, похожей на слегка
взбитый белок. Марсель уцепилась за край фаянсовой раковины и
смотрела на пенистую жидкость: скорее она походила на сперму.
Марсель криво улыбнулась и прошептала: «Любовный сувенир».
Затем в голове ее наступила гулкая металлическая тишина, и день
начался. Она ни о чем больше не думала, только провела рукой по
волосам и погрузилась в ожидание: «По утрам меня всегда рвет два
раза». Потом она внезапно вспомнила лицо Матье, его наивный и в
то же время уверенный вид в ту минуту, когда он сказал: «Мы от
него избавимся, разве не так?» Ее пронзила вспышка ненависти.
Подступило. Сначала Марсель подумала о сливочном масле и
почувствовала к нему отвращение, ей показалось, будто она жует
кусок желтого прогорклого масла, она тут же ощутила в глубине
глотки что-то вроде приступа хохота и нагнулась над раковиной. На
губах висела тонкая нить, Марсель закашляла, чтобы освободиться
от нее. Это не вызывало в ней отвращения. Но она часто
становилась себе противной: прошлой зимой, когда у нее был понос, она не
хотела, чтобы Матье дотрагивался до нее, ей постоянно казалось,
что от нее скверно пахнет. Она смотрела на слизь, которая
медленно скользила к отверстию раковины, оставляя блестящие, липкие
следы. Она вполголоса прошептала: «Ну и дела!» Эти выделения у
нее не вызывали брезгливости: все же это жизнь, подобная
клейкому зарождению весны, все это не более отталкивает, чем пахучий
рыжий клей, покрывающий почки. «Не это отвратительно». Она
плеснула немного воды, чтобы вымыть раковину, вялыми
движениями сняла рубашку. Она подумала: «Будь я животным, меня
оставили бы в покое». Она смогла бы предаться этой живительной
истоме, купаться в ней, как в лоне огромной счастливой усталости.
Но она не животное. «Мы от него избавимся, разве не так?» Со
вчерашнего вечера она чувствовала себя затравленной.
Зеркало отражало ее лицо, обрамленное свинцовыми тенями,
Марсель подошла ближе к зеркалу. Она не глядела ни на свои
плечи, ни на грудь: она не любила своего тела. Она смотрела на свой
72
Жан Поль Сартр
живот, на широкий плодоносный таз. Семь лет назад, утром — Ма-
тье тогда впервые провел с ней ночь — она подошла к зеркалу с тем
же неуверенным удивлением, тогда она думала: «Значит, правда,
меня можно любить?» — она созерцала свою гладкую шелковистую
кожу, похожую на ткань; тело ее было только поверхностью, ничем,
кроме поверхности, созданной, чтобы отражать чистую игру света
и морщиниться под ласками, точно море под ветром. Сегодня это
уже не та плоть: она посмотрела на свой живот и вновь испытала
перед спокойным изобилием тучных плодородных лугов то же
ощущение, которое испытывала, когда была маленькой, при виде
женщин, кормящих грудью детей в Люксембургском саду: еще
оттуда шел ее страх, ее отвращение и что-то вроде надежды. Она
подумала: «Это здесь». В этом чреве маленькая кровавая земляника с
невинной поспешностью торопилась жить, маленькая кровавая
земляничина, совсем бессмысленная, которая даже не стала еще
животным и которую скоро выскребут кончиком ножа. «В этот час
многие другие тоже смотрят на свой живот и думают так же: «Это
здесь». Но они-то гордятся». Она пожала плечами: это бездумно
созревшее тело было создано для материнства, но мужчина
распорядился им иначе. Она пойдет к той бабке: надо просто представить
себе, что это фиброма. «Сейчас это действительно всего-навсего
фиброма». Она пойдет к бабке, раздвинет ноги, и та будет скрести
глубоко между ее бедер каким-то приспособлением. А потом об
этом не будет и речи, останется лишь постыдное воспоминание,
подумаешь, со всеми такое случается. Она вернется в свою розовую
комнату, будет продолжать читать, мучиться желудком, и Матье
будет приходить к ней четыре ночи в неделю, какое-то время будет
обращаться с ней с ласковой деликатностью, как с молодой
матерью, а в постели удвоит предосторожности, и Даниель, Архангел
Даниель, время от времени будет приходить тоже... Загубленная
возможность! Марсель застала врасплох свой взгляд в зеркале и
быстро отвернулась: нет, она не хотела ненавидеть Матье. Она
подумала: «Пора все же привести себя в порядок».
У нее не было на это сил. Марсель снова села на кровать,
осторожно положила руку на живот, как раз над черными волосками,
немного нажала и подумала с какой-то нежностью: «Это здесь». Но
ненависть не складывала оружия. Марсель попыталась себе
втолковать: «Нет, не хочу его ненавидеть. Он по-своему прав... Мы
всегда говорили, что в случае чего... Он не мог знать, это моя вина,
я никогда ничего ему не говорила». Она на мгновение поверила, что
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
73
может расслабиться, ей вовсе не хотелось иметь повод его
презирать. Но тут же она вздрогнула: «А как я могла ему сказать? Он
никогда ничего у меня не спрашивает». Конечно, они раз и навсегда
договорились, что будут рассказывать друг другу все, но это было
удобно главным образом для него. Он любил демонстрировать
причуды своего сознания, свою нравственную тонкость: Марсель он
вполне доверял — скорее всего из лени. Он не терзался из-за нее, он
просто думал: «Если у нее что-то есть, она мне скажет». Но она не
могла говорить, у нее это просто не получалось. «Однако он должен
был бы знать, что я не могу говорить о себе, для этого я
недостаточно себя люблю». С Даниелем было иначе, он умел заинтересовать
ее самой собою, когда так дружелюбно расспрашивал ее и смотрел
на нее ласкающими глазами, и потом у них была общая тайна. Да-
ниель был такой загадочный, он навещал ее тайком, и Матье не знал
об их близкой дружбе, впрочем, они ничего предосудительного не
делали, так, милый фарс, но это сообщничество создавало между
ними очаровательно-легкую близость; к тому же Марсель хотела
иметь малую толику личной жизни, которая принадлежала бы
только ей и оставалась бы ее маленьким секретом. «Ему нужно только
поступать как Даниель, почему он не Даниель? — подумала она. —
Почему один только Даниель умеет меня разговорить? Если бы он
мне немного помог...» Весь вчерашний день у нее сжимало горло, ей
хотелось крикнуть: «А что, если я оставлю ребенка?» Ах! Помешкай
он хоть секунду, я бы так ему и сказала. Но он изобразил наивность:
«Мы избавимся от него, разве не так?» И она не смогла выдавить
из себя этих слов. «Он был обеспокоен, когда уходил: он не хочет,
чтоб эта бабка меня изуродовала. Это — да, он пойдет за адресами,
это его как-то займет, теперь, когда у него нет уроков, все лучше,
чем канителиться с малышкой. Конечно, он был раздосадован, но
как человек, разбивший китайскую вазу. А в глубине души совесть
его абсолютно спокойна... Должно быть, он пообещал себе, что
щедро одарит меня любовью». Она усмехнулась: «Да. Но ему следует
торопиться: скоро я перешагну возраст любви».
Марсель судорожно сжала руки на простыне, она ужаснулась:
«Если я начну его ненавидеть, с чем же я останусь?» В конце концов
она сама не знала, хочет ли она ребенка. Марсель видела издалека
в зеркале темную, слегка осевшую массу: это ее тело, тело
бесплодной султанши. «А выжил бы он? Ведь я вся прогнила». Нет, она
пойдет к этой бабке, пойдет ночью, ото всех прячась. И бабка
проведет рукой по ее волосам, как она это сделала с Андре, и с видом
74
Жан Поль Сартр
гнусного сообщничества назовет ее «мой котеночек» и скажет:
«Когда девка не замужем, ходить с пузом — все равно что с
гонореей, такая же мерзость»; «У меня венерическая болезнь», — вот что
нужно себе говорить».
Но она не удержалась и нежно провела рукой по животу. Она
подумала: «Это там». Там. Нечто живое и неудачливое, как она сама.
Еще одна нелепая и никчемная жизнь... Внезапно она страстно
подумала: «Он был бы мой. Даже идиот, даже калека — мой». Но этот
тайный порыв, это невнятное заклинание были такими скрытыми,
такими непристойными, их нужно было скрывать от стольких
людей, что она вдруг почувствовала себя виноватой и ужаснулась сама
себе.
VI
Над входной дверью был прикреплен герб Французской
республики, по бокам его свисали трехцветные флаги: это сразу задавало
тон. Потом шли просторные пустынные залы; через матовый
витраж падал сноп золотистого света, но тут же истаивал и
обесцвечивался. Светлые стены, обивка из бежевого бархата, Матье подумал:
«Это во французском духе». Французский дух был повсюду, на
волосах Ивиш, на руках Матье: блеклое солнце и строгая тишина
художественных салонов; Матье чувствовал, как на него давит
бремя гражданских обязанностей: здесь подобало говорить тихо, не
дотрагиваться до выставленных предметов, демонстрировать
твердость и взвешенность суждений и никогда не забывать о самой
французской из добродетелей — уместности. Кроме всего этого,
естественно, на стенах были пятна — картины, но у Матье пропало
всякое желание на них смотреть. Тем не менее он увлек за собой
Ивиш, не говоря ни слова, показал ей бретонский пейзаж с
придорожным распятием, Христа на кресте, букет, двух таитянок на песке
и дозор всадников из племени маори. Ивиш молчала, и Матье
терялся в догадках: о чем она могла думать? Он пытался изредка
смотреть на картины, но это ничего не давало. «Картины не
захватывают, — подумал он раздраженно, — они предлагают себя, а
существуют они или нет, зависит только от меня, я свободен перед
ними». Слишком свободен: это создавало в нем дополнительную
ответственность, и он почувствовал себя виноватым.
— А вот еще Гоген, — сказал он.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
75
Это было маленькое квадратное полотно с табличкой
«Автопортрет художника». Гоген, бледный, гладкие волосы и огромный
подбородок, на лице его написаны живой ум и печальная надменность
ребенка. Ивиш не отвечала, и Матье украдкой посмотрел на нее: он
увидел только ее волосы, но без обычной их позолотцы, они
лишились золотистости из-за мутноватого дневного света. На прошлой
неделе, глядя на этот портрет впервые, Матье нашел его прекрасным.
Но теперь он остался равнодушен. Впрочем, Матье и не видел
картины: он был перенасыщен реальностью, пронизан духом Третьей
республики; он видел все, что было реальным; он видел только то, что
освещал этот академический свет: стены, полотна в рамках, покрытые
цветовой коркой. Но не сами картины; картины угасли, и казалось
чудовищным, что в этом торжестве Уместности нашлись люди,
которые рисовали, изображали на полотнах несуществующие предметы.
Вошли господин и дама. Господин — высокий и розовощекий,
глаза, как пуговки на ботинках, мягкие седые волосы: дама
напоминала серну, ей могло быть лет сорок. Едва войдя, они сразу
вписались в обстановку — вероятно, это была привычка, а также
неоспоримая связь между их моложавым видом и качеством
освещения; вероятно, именно освещение национальных выставок так
хорошо законсервировало эту пару. Матье показал Ивиш на большую
темную цвель на задней стене.
— Это тоже он.
Гоген, обнаженный до пояса, под грозовым небом, пристально
смотрел на них суровым и обманчивым взглядом провидца.
Одиночество и гордыня истребили его лицо; тело стало тучным и мягким
тропическим плодом с полостями, заполненными влагой. Он
потерял Достоинство — Достоинство, которое еще сохранил Матье, не
зная, что с ним делать, — но зато он сберег гордость. За ним были
темные тела, целый шабаш черных форм. В первый раз, когда Матье
увидел эту непристойную и зловещую плоть, он был взволнован; но
тогда он был один. Сегодня же рядом с ним было это маленькое
злопамятное тело, и Матье устыдился самого себя. Он был лишним:
огромные нечистоты у основания стены.
Господин и дама подошли и бесцеремонно стали перед
картиной. Ивиш вынуждена была сделать шаг в сторону, потому что они
мешали ей смотреть. Господин отклонился назад и всматривался в
картину с печальной суровостью. Это был знаток: в петлице у него
виднелась орденская ленточка.
76
Жан Поль Сартр
— Ну и ну! — произнес он, качая головой. — Мне это не очень-то
по душе. Ей-же-ей, он принимает себя за Христа. И еще этот черный
ангел там, за ним, нет, это несерьезно.
Дама засмеялась.
— В самом деле! А ведь правда, — тоненьким голоском сказала
она, — этот ангел слишком литературен, да и все тут такое же.
— Не люблю Гогена, когда он думает, — глубокомысленно изрек
господин. — Настоящий Гоген — это Гоген, который украшает.
Стоя напротив этого большого обнаженного тела, он смотрел на
Гогена кукольными глазами, сухой и тонкий, в отменном костюме
из серой фланели. Матье услышал странное кудахтанье и
обернулся: Ивиш давилась от смеха и глядела на него отчаянным взглядом,
кусая губы. «Она больше не злится на меня», — обрадованно
подумал Матье. Он взял Ивиш за руку и довел ее, согнутую пополам,
до кожаного кресла, стоявшего посередине зала. Ивиш, смеясь,
рухнула в него; волосы ее свесились на лицо.
— Потрясающе! — сказала она громко. — Как это он сказал? «Не
люблю Гогена, когда он думает?» А женщина! Лучшей ему и не
подыскать.
Пара держалась очень прямо: казалось, они спрашивали друг
друга взглядом, какое решение принять.
— В соседнем зале есть другие картины, — робко сказал Матье.
Ивиш перестала смеяться.
— Нет, — угрюмо сказала она, — все изменилось: здесь люди...
— Вы хотите уйти?
— Да, пожалуй, все эти картины снова вызвали у меня головную
боль. Хочется немного пройтись, на воздух.
Она встала. Матье последовал за ней, с сожалением бросив
взгляд на большую картину на левой стене — ему хотелось бы
показать ее Ивиш: две женщины топтали розовую траву босыми
ногами. На одной из них был капюшон — это была колдунья. Другая
вытянула руку с пророческим спокойствием. Они были не совсем
живыми. Казалось, будто их застали в процессе превращения в
неодушевленные предметы.
Снаружи пылала улица. У Матье было чувство, будто он
пересекает пылающий костер.
— Ивиш, — невольно сказал он.
Ивиш сделала гримаску и поднесла руки к глазам.
— Как будто мне их выкалывают булавкой. Как же я ненавижу
лето! — яростно воскликнула она.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
77
Они прошли несколько шагов. Ивиш передвигалась нетвердой
походкой, все еще прижимая ладони к глазам.
— Осторожно, — сказал Матье, — тротуар кончается. Ивиш
быстро опустила руки, и Матье увидел ее бледные выпученные глаза.
Мостовую они перешли молча.
— Нельзя делать их публичными, — вдруг произнесла Ивиш.
— Вы имеете в виду выставки? — удивленно спросил Матье.
-Да.
— Если бы они не были публичными, — он попытался снова
обрести интонацию веселой фамильярности, к которой они
привыкли, — спрашивается, как бы мы могли туда пойти?
— Ну что ж, мы бы и не пошли, — сухо сказала Ивиш.
Они замолчали. Матье подумал: «Она продолжает на меня
дуться». И вдруг его пронзила невыносимая уверенность: «Сейчас она
уйдет. Она думает только об этом. Наверняка она ищет сейчас
предлог для вежливого прощания, и как только она его найдет, то тут же
выпалит. Не хочу, чтоб Ивиш уходила», — с тревогой подумал он.
— У вас какие-нибудь планы на сегодня? — спросил он.
— На какое время?
— На сейчас.
— Нет, никаких.
— Раз вы хотите прогуляться, я подумал... Вас не затруднит
проводить меня к Даниелю на улицу Монмартр? Мы могли бы
расстаться у его парадного, и, если позволите, я оплачу вам такси до
общежития.
— Как хотите, но я не собираюсь в общежитие. Я пойду к
Борису.
«Она остается». Но это не значит, что она его простила. Ивиш
боялась покидать места и людей, даже если она их ненавидела,
потому что будущее ее пугало. Она отдавалась с недовольным
безразличием самым досадным ситуациям и в конце концов обретала в
них нечто вроде передышки. И все-таки Матье был доволен: пока
она с ним, он помешает ей думать. Если он будет без умолку
говорить, навяжет себя, то, наверно, сможет хоть немного отсрочить
всплеск раздраженных и презрительных мыслей, которые уже
зарождались в ее голове. Нужно говорить, говорить незамедлительно,
не важно о чем. Но Матье не находил темы для разговора. Наконец
он неловко спросил:
— Вам все же понравились картины?
Ивиш пожала плечами.
78
Жан Поль Сартр
— Естественно.
Матье захотелось вытереть лоб, но он не осмелился. «Через час,
когда Ивиш будет свободна, она меня, несомненно, осудит, а я уже
не смогу себя защитить. Нельзя отпускать ее вот так, — решил он. —
Необходимо с ней объясниться».
Он повернулся к ней, но увидел слегка растерянные глаза, и
слова застряли у него в горле.
— Вы думаете, он был сумасшедшим? — вдруг спросила Ивиш.
— Гоген? Не знаю. Вы имеете в виду автопортрет?
— Ну да, его глаза. И еще эти темные очертания за ним, похожие
на шепот.
Она добавила с каким-то сожалением:
— Он был красив.
— Вот как, — удивился Матье, — никогда бы не подумал.
Ивиш говорила о знаменитых покойниках в такой манере,
которая его немного шокировала: у нее не проглядывало никакой
связи между великими художниками и их творениями; картины
были предметами, прекрасными чувственными предметами,
которыми ей хотелось обладать; ей казалось, что они существовали
всегда; художники же были просто людьми, такими же, как все
остальные: она не ставила им в заслугу их произведений и не
уважала их. Она спрашивала, были ли они веселыми,
привлекательными, имели ли любовниц; однажды Матье поинтересовался,
нравятся ли ей полотна Тулуз-Лотрека, и она ответила: «Какой
ужас, он был таким уродом!» Матье воспринял это как личное
оскорбление.
— Да. Он был красив, — убежденно повторила Ивиш.
Матье пожал плечами. Студентов Сорбонны, ничтожных и
свеженьких, как девицы, Ивиш могла пожирать глазами сколько
хотела. Матье даже счел ее однажды очаровательной, когда она
долго рассматривала молодого воспитанника сиротского приюта,
сопровождаемого двумя монахинями, а затем сказала с немного
озабоченной серьезностью. «Мне кажется, я склонна к
гомосексуализму». Женщины ей тоже могли казаться красивыми. Но не Гоген.
Не этот пожилой человек, создавший для нее картины, которые она
любила.
— Правда, — сказал он, — но я не считаю его симпатичным.
Ивиш состроила презрительную гримаску и замолчала.
— Что с вами, Ивиш, — вскинулся Матье, — вам не нравится,
что я не считаю его симпатичным?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
79
— Нет, но мне любопытно, почему вы это сказали.
— Просто так. Потому что таково мое впечатление: из-за
заносчивого вида у него глаза вареной рыбы.
Ивиш снова принялась теребить локон, вид у нее был упрямый
и глуповатый.
— У него благородная внешность, — безразлично сказала она.
— Да, — в том же тоне откликнулся Матье, — в нем есть некая
спесь, если вы это имеете в виду.
— Естественно, — усмехнулась Ивиш.
— Почему вы говорите «естественно»?
— Потому что я была уверена, что вы это назовете спесью.
Матье мягко сказал:
— Но я не хотел сказать о нем ничего плохого. Вы знаете, я
люблю высокомерных людей.
Наступило продолжительное молчание. Потом Ивиш
процедила с видом вздорным и замкнутым:
— Французы не любят все, что благородно.
Ивиш охотно и всегда с этим глупым видом говорила о
французском характере, когда злилась. Она добавила уже добродушнее:
— А я это свойство понимаю. Пусть извне оно и кажется
ненатуральным.
Матье не ответил: отец Ивиш был дворянином. Не будь 1917
года, Ивиш воспитывалась бы в московском пансионе благородных
девиц; она была бы представлена ко двору, вышла бы замуж за
какого-нибудь рослого и красивого кавалергарда с узким лбом и
безжизненным взглядом. Месье Сергин теперь владел механической
лесопилкой в Лаоне. А Ивиш жила в Париже и гуляла по городу с
Матье, французским буржуа, который не жаловал дворянства.
— Это он... уехал? — вдруг спросила Ивиш.
— Да, — с готовностью ответил Матье, — хотите, расскажу вам
его историю?
— Думаю, что я ее знаю: у него была жена, дети, так ведь?
— Да, он работал в банке. По воскресеньям отправлялся в
пригород с мольбертом и красками. Таких у нас называют воскресными
художниками.
— Воскресными художниками?
— Да; сначала он был как раз таким, то есть любителем,
малюющим картины, как другие ловят удочкой рыбу. Это он делал отчасти
ради здоровья, потому что пейзажи рисуют на природе и дышат при
этом свежим воздухом.
80
Жан Поль Сартр
Ивиш засмеялась, но совсем не так, как ожидал Матье.
— Вас забавляет, что он начинал воскресным художником? — с
беспокойством спросил Матье.
— Я думала о другом.
— О чем же?
— Я подумала: а существуют ли воскресные писатели?
Воскресные писатели, обыватели, которые каждый год пишут
по новелле или по пять-шесть стихотворений, дабы внести немного
романтики в свою жизнь. Здоровья ради. Матье вздрогнул.
— Вы хотите сказать, что я один из них? — шутливо спросил
он. — Но видите, к чему это приводит? В один прекрасный день,
может, и я махну куда-нибудь на Таити.
Ивиш повернулась и посмотрела ему прямо в лицо. Она
выглядела сконфуженной: должно быть, она сама поразилась собственной
дерзости.
— Меня бы это удивило, — проронила она почти беззвучно.
— А почему бы и нет? — сказал Матье. — Ну, если не на Таити,
то хотя бы в Нью-Йорк. Я не прочь съездить в Америку.
Ивиш с ожесточением теребила локоны.
— Да, — сказала она, — разве что в командировку... вместе с
другими преподавателями.
Матье молча смотрел на нее, она продолжала:
— Может, я и ошибаюсь... Но я могу вас представить читающим
лекцию американским студентам в одном из университетов, а не на
палубе парохода среди других эмигрантов. Наверно, потому, что вы
француз.
— Вы считаете, что мне нужна каюта «люкс»? — спросил он,
краснея.
— Нет, — коротко ответила Ивиш, — второго класса.
Он с некоторым усилием проглотил слюну... «Хотел бы я на нее
посмотреть на палубе парохода среди эмигрантов, она бы там в два
счета подохла».
— Право же, — заключил он, — по-моему, странно, что вы
решили, будто я не смогу уехать. Но вы ошибаетесь, когда-то я частенько
об этом подумывал. Потом прошло, уж слишком глупо. Все это тем
более комично, что пришло вам на ум в связи с Гогеном, который
до сорока лет оставался канцелярской крысой.
Ивиш разразилась ироническим смехом.
— Разве не правда? — спросил Матье.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
81
— Раз вы так говорите, то правда. Но достаточно посмотреть на
его картины...
— Ну и что?
— Полагаю, что таких канцелярских крыс немного. У него
такой... потерянный вид.
Матье представил себе тяжелое лицо с огромным
подбородком. Гоген потерял человеческое достоинство, он смирился с его
потерей.
— Вы правы, — сказал Матье. — Вы имеете в виду — на том
большом полотне в глубине зала? Он в это время был тяжко болен.
Ивиш презрительно усмехнулась.
— Нет, я говорю о маленьком автопортрете, на котором он еще
молод: у него вид человека, способного на все, что угодно.
Она смотрела в пустоту со слегка растерянным видом, и Матье
во второй раз почувствовал укол ревности.
— Если я вас правильно понял, меня вы не считаете потерянным
человеком?
— Да нет же!
— Не вижу, однако, почему это достойное качество, — сказал
он, — или я не вполне вас понимаю.
— Ладно, не будем об этом.
— Хорошо, не будем. Но вы любите завуалированно упрекать
меня, а потом отказываетесь объяснить, в чем суть ваших
упреков, — вы хорошо устроились.
— Я никого не упрекаю, — равнодушно сказала она.
Матье остановился и поглядел на нее. Ивиш недовольно
остановилась. Она переступала с ноги на ногу и избегала его глаз.
— Ивиш! Вы мне сейчас же скажете, что вы имели в виду.
— О чем вы?
— О «потерянном человеке».
— Мы, кажется, закрыли эту тему?
— Пусть это глупо, — настаивал Матье, — но я хочу знать, что
вы под этим подразумеваете.
Ивиш затеребила волосы: это приводило ее в отчаяние.
— Но я не подразумевала ничего особенного, просто это слово
пришло мне на ум.
Она остановилась и как будто призадумалась. Время от времени
она открывала рот, и Матье думал, что она сейчас заговорит, но она
молчала. Потом все же проговорила:
82
Жан Поль Сартр
— Мне безразлично, такой человек или какой-то другой.
Ивиш обернула локон вокруг пальца и дернула, как бы желая
вырвать его с корнем. И вдруг быстро добавила, уставившись на
носки своих туфель:
— Вы недурно устроены и ничем не поступитесь даже за все
золото мира.
— Вот оно что! — воскликнул Матье. — А что вы об этом знаете?
— Таково мое впечатление: ваша жизнь определилась, и ваши
идеи тоже. Вы протягиваете руку к вещам, если считаете, что они
в пределах вашей досягаемости, но с места не сдвинетесь, чтобы
взять их.
— Что вы об этом знаете? — повторил Матье. Он не находил
ничего другого: он считал, что она права.
— По-моему, — устало сказала Ивиш, — вы не хотите ничем
рисковать, вы для этого слишком умны. — Она фальшиво
добавила: — Но раз вы полагаете, что вы другой...
Матье внезапно подумал о Марсель, и ему стало стыдно.
— Нет, — сказал он тихо, — я такой, как вы думаете.
— Ага! — победно вскричала Ивиш.
— Вы... вы находите это достойным презрения?
— Наоборот, — снисходительно уронила Ивиш. — Я считаю, что
так лучше. С Гогеном жизнь была бы невозможной.
Она добавила без малейшей иронии:
— С вами чувствуешь себя в безопасности, никогда не боишься
непредвиденного.
— Действительно, — сухо сказал Матье. — Если вы хотите
сказать, что я не позволю себе никаких фокусов... Знаете, я способен
на них не меньше других, но считаю это отвратительным.
— Знаю, все, что вы делаете, всегда так... методично...
Матье почувствовал, что бледнеет.
— Что вы имеете в виду?
— Все, — неопределенно сказала Ивиш.
— Нет, вы имеете в виду что-то конкретное.
Она пробормотала, не глядя на него:
— Раз в неделю вы являетесь с выпуском «Смен а Пари» и
составляете недельный план...
— Ивиш, — возмутился Матье, — это же для вас!
— Знаю, — вежливо отпарировала Ивиш, — я вам очень
признательна.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
83
Матье был больше удивлен, чем обижен.
— Не понимаю, Ивиш. Разве вы не любите слушать концерты,
ходить на выставки?
— Люблю.
— Как вяло вы это говорите.
— Нет, правда, люблю... Но я терпеть не могу, — добавила она с
внезапной страстью, — когда мою любовь превращают в
обязанность.
— Вот оно что!.. Значит, на самом деле ничего вы не любите, —
взорвался Матье.
Ивиш подняла голову, откинула волосы назад, ее широкое
бледное лицо открылось, глаза заблестели. Матье был ошеломлен: он
смотрел на тонкие и безвольные губы Ивиш и не мог понять, как он
смог их поцеловать.
— Будь вы со мной откровенны, — жалобно заключил он, — я бы
вас никогда не принуждал.
Он водил ее на концерты, выставки, рассказывал о картинах, а
в это время она его ненавидела.
— Что мне до этих картин, — сказала она, не слушая его, — если
я не могу их взять себе. Каждый раз я лопаюсь от бешенства и
желания их унести, но к ним нельзя даже притронуться. А рядом вы,
такой спокойный и почтительный, как будто пришли на мессу.
Они замолчали. Ивиш хмурилась. У Матье внезапно сжалось
сердце.
— Ивиш, прошу вас, простите меня за то, что случилось утром.
— Утром? — удивилась Ивиш. — Но я об этом и не вспоминала.
Я думала о Гогене.
— Это больше не повторится, — сказал Матье, — сам не знаю,
как это произошло.
Он говорил для очистки совести: он понимал, что дело его
проиграно. Ивиш не отвечала, и Матье с усилием продолжал:
— А еще эти музеи и концерты... Если бы вы знали, как я
сожалею! Я поневоле заблуждался... Но вы никогда ничего не говорили.
Он никак не мог остановиться. Что-то внутри двигало его
языком, заставляло его говорить, говорить. Говорил он с отвращением
к себе, с легкими спазмами.
— Я постараюсь измениться.
«Как я отвратителен», — подумал он. Ярость воспламенила его
щеки.
84
Жан Поль Сартр
Ивиш покачала головой.
— Изменить себя нельзя, — сказала она. Ее слова звучали
рассудительно. В эту минуту Матье искренне ее ненавидел. Они шли
молча, бок о бок, они были залиты светом и ненавидели друг друга.
Но в то же время Матье видел себя глазами Ивиш и ужасался
самому себе. Она поднесла руки ко лбу, сжала виски пальцами.
— Еще далеко?
— Четверть часа. Вы устали?
— Еще как! Извините, это из-за картин. — Она топнула ножкой
и потерянно посмотрела на Матье. — Полотна уже ускользают от
меня, расплываются, перемешиваются. Каждый раз одно и то же.
— Вы хотите вернуться домой? — спросил Матье с чувством,
близким к облегчению.
— Думаю, что так будет лучше.
Матье подозвал такси. Теперь он торопился остаться один.
— До свидания, — сказала Ивиш, не глядя на него.
Матье подумал: «А «Суматра»? Идти мне туда потом или
нет?»
Но ему больше не хотелось видеть ее.
Такси отъехало, несколько мгновений Матье с волнением
провожал его глазами. Затем в нем опустился какой-то шлюз, и он стал
думать о Марсель.
VII
Голый по пояс Даниель брился перед зеркальным шкафом.
«Сегодня к полудню все будет кончено». Это был непростой план:
событие было уже здесь, в электрическом свете, в легком скрежетанье
бритвы; его нельзя было ни отсрочить, ни приблизить, ни сделать
так, чтобы все побыстрее закончилось, все это нужно просто
прожить. Едва пробило десять часов, но полдень уже присутствовал в
комнате, круглый и пристальный, как глаз. Следом за ним было
всего лишь расплывчатое послеполуденное время, извивающееся,
словно червяк. Глаза у Даниеля болели, так как он не выспался, под
губой у него был прыщ, совсем маленькое покраснение с белой
головкой: теперь так случалось каждый раз после того, как он
напивался. Даниель прислушался: нет, это шум на улице. Он посмотрел
на прыщ, красный и воспаленный, вокруг глаз были голубоватые
полукружья, и подумал: «Я себя разрушаю». Он старался осторож-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
85
но водить бритвой вокруг прыща, чтобы не задеть его; останется
маленький пучок щетины, ну и пусть: Даниель страшно боялся
порезов. Время от времени он прислушивался; дверь комнаты была
приоткрыта, чтоб он мог лучше слышать, он говорил себе: «Теперь-
то я ее не прозеваю».
Почуяв еле слышный, почти неуловимый шорох, Даниель
подскочил к порогу с бритвой в руке и резко открыл входную дверь. Но
было уже поздно, девчонка его опередила: она удрала и, видимо,
затаилась с колотящимся сердцем, сдерживая дыхание, где-нибудь
в углу лестничной площадки. Даниель увидел на соломенном
коврике подле ног букетик гвоздик. «Поганая сучка», — громко сказал
он. Это дочь консьержки, он был в этом уверен. Достаточно
посмотреть на ее глаза жареной рыбы, когда она с ним здоровалась. Это
безобразие длилось уже две недели; каждый день, возвращаясь из
школы, она клала цветы у двери Даниеля. Пинком он отшвырнул
цветы в лестничный пролет. «Нужно быть начеку, в прихожей,
только так я ее поймаю». Он появится голый по пояс и испепелит
ее суровым взглядом. Он подумал: «Она любит мое лицо. Мое лицо
и плечи, видимо, я подхожу под ее идеал. Для нее будет ударом,
когда она увидит мою волосатую грудь». Он вернулся в комнату и
возобновил бритье. В зеркале он видел мрачное и благородное лицо
с голубоватыми щеками; он подумал с некоторой досадой: «Именно
это их возбуждает». Лицо архангела; Марсель называла его своим
бесценным архангелом, а теперь приходится терпеть еще и взгляды
этой маленькой потаскушки, распираемой гормонами. «Шлюхи!» —
с раздражением подумал он. Даниель слегка нагнулся и ловким
движением бритвы срезал прыщ. Неплохая шутка — изуродовать
лицо, которое они так любят. «Но куда там! Лицо со шрамом
остается тем же лицом, оно всегда что-то означает: от этого я еще
быстрее устану». Он приблизился к зеркалу и недовольно посмотрелся
в него; он сказал себе: «И все-таки мне нравится быть красивым».
Вид у него был утомленный. Он ущипнул себя за бедра: «Нужно бы
сбросить килограммчик». Семь порций виски выпиты вчера
вечером в одиночестве в «Джонни». До трех часов ночи он никак не мог
вернуться домой, потому что ему было страшно положить голову
на подушку и почувствовать, как проваливаешься в темноту с
мыслью, что наступит завтра. Даниель подумал о собаках из
Константинополя: за ними гонялись по улицам и бросали в мешки,
засовывали в корзины, а потом свозили на пустынный остров, где они друг
друга пожирали; ветер в открытом море доносил иногда их завы-
86
Жан Поль Сартр
вание до моряков: «Не собак бы нужно было там оставлять». Дани-
ель не любил собак. Он надел кремовую рубашку и серые
фланелевые брюки, тщательно выбрал галстук: сегодня это будет зеленый в
полоску, поскольку у него был скверный цвет лица. Затем он
открыл окно, и утро вошло в комнату, тяжелое, удушливое и
предопределенное. Секунду Даниель помедлил в стоячей жаре, потом
осмотрелся: он любил свою комнату, потому что она была безликой
и не выдавала его, она казалась гостиничным номером. Четыре
голых стены, два кресла, стул, шкаф, кровать. У Даниеля не было
памятных вещиц. Он увидел большую ивовую корзинку, стоявшую
открытой посреди комнаты, и отвернулся: она приготовлена для
сегодняшнего дня.
Часы Даниеля показывали двадцать пять минут одиннадцатого.
Он приоткрыл дверь кухни и свистнул. Сципион появился первым;
белый с рыжими подпалинами и куцей бородкой. Он строго
посмотрел на Даниеля и кровожадно зевнул, выгнув спину дугой.
Даниель тихо стал на колени и начал ласково гладить его мордочку. Кот,
полузакрыв глаза, легко бил его лапкой по рукаву. Немного погодя
Даниель взял его за загривок и посадил в корзину; Сципион
остался там, не двигаясь, расплющенный и безмятежный. Затем пришла
Мальвина; Даниель любил ее меньше двух других, поскольку она
была раболепной притворщицей. Когда она была уверена, что он ее
видит, то издалека начинала мурлыкать и умилительно изгибаться:
она терлась головой о створку двери. Даниель коснулся пальцем ее
толстой шеи, и она перевернулась на спину, вытянув лапки; он
щекотал ее соски под черной шерсткой. «Ха, ха, — произнес он певуче
и размеренно, — ха, ха!», а она переворачивалась с боку на бок,
грациозно поводя головой. «Подожди немного, — подумал он, —
подожди только до полудня». Он поймал ее за лапы и положил рядом
со Сципионом. У Мальвины был немного удивленный вид, но она
свернулась в клубок и, поразмыслив, принялась мурлыкать.
— Поппея! — позвал Даниель. — Поппея, Поппея!
Поппея почти никогда не откликалась на зов; Даниель
вынужден был пойти за ней на кухню. Едва она его увидела, как с
яростным рычанием прыгнула на газовую плитку. Поппея была
полудикой кошкой с большим шрамом, пересекавшим левый бок. Даниель
нашел ее зимним вечером в Люксембургском саду незадолго до его
закрытия и унес к себе. Она была злая, властная и часто кусала
Мальвину: Даниель любил ее. Он взял ее на руки, она откинула
голову назад, прижав уши и вздыбив загривок: вид у нее был воз-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
87
мущенный. Он погладил ее по мордочке, и она стала покусывать
кончик его пальца, злясь и забавляясь; тогда он ущипнул ее за шею,
и она подняла упрямую голову. Она не мурлыкала — Поппея
никогда не мурлыкала, — но смотрела ему прямо в лицо, и Даниель по
привычке подумал: «Редко, чтобы кошка смотрела прямо в глаза».
В то же самое время он почувствовал, как невыносимая тревога
охватила его, и ему пришлось отвести взгляд. «Сюда, сюда, — сказал
он, — сюда, моя королева!» — и улыбнулся, не глядя на нее. Двое
других лежали бок о бок ошалелые и мурлыкающие, можно было
подумать, что это пение цикад. Даниель смотрел на них со
злорадным облегчением: «Фрикассе из кролика». Он думал о розовых
сосцах Мальвины. Но засунуть Поппею в корзину было не так-то
просто: он вынужден был заталкивать ее за задние лапы, она
обернулась и, зашипев, царапнула его. «Ах, так!» — сказал Даниель. Он
схватил ее за шкирку и за крестец и насильно согнул, ивовые прутья
заскрипели под когтями Поппеи. Кошка на мгновение оцепенела, и
Даниель воспользовался этим: он быстро захлопнул крышку и
запер ее на два висячих замка. «Уф!» — произнес он. Руку немного
жгла сухая слабая боль, почти щекотанье. Он встал и с ироническим
удовлетворением посмотрел на корзину. «Попались!» На тыльной
стороне ладони было три царапины, а внутри его самого — тоже
какое-то щекотанье; странное щекотанье, которое могло плохо
кончиться. Даниель взял на столе моток шпагата и положил его в
карман брюк.
Он замешкался. «Предстоит длинный путь; мне будет жарко».
Ему хотелось надеть фланелевый пиджак, но он не привык легко
уступать своим желаниям, и потом было бы комично идти на
солнцепеке красному и потному, с этой ношей в руках. Комично и
немного курьезно: у него это вызвало улыбку, и он выбрал ярко-
фиолетовую твидовую куртку, которую после конца мая терпеть не
мог. Он поднял корзину за ручку и подумал: «Какие тяжелые,
чертовы бестии». Он представлял их униженные нелепые позы, их
дикий ужас. «Так вот кого я любил!» Достаточно было закрыть этих
трех идолов в ивовой клетке, и они превратились в кошек, просто
кошек, маленьких млекопитающих, туповатых и суетливых,
подыхающих со страха и уж совсем не священных. «Кошки — это всего-
навсего кошки». Он засмеялся: ему казалось, что он с кем-то валяет
дурака. Когда Даниель дошел до входной двери, подступила
тошнота, но это продолжалось недолго: на лестнице он почувствовал
себя суровым и полным решимости, ощущая странный привкус —
88
Жан Поль Сартр
как у пресного сырого мяса. Консьержка стояла у порога своей
двери; она улыбнулась ему. Ей нравился Даниель, такой галантный
и церемонный.
— Вы ранняя пташка, месье Серено.
— А я уж боялся, что вы захворали, дорогая мадам Дюпюи, —
вежливо молвил Даниель. — Вчера я вернулся поздно и заметил
свет у вас под дверью.
— Представляете себе, — смеясь, сказала консьержка, — я так
устала, что уснула, не погасив света. Вдруг я услышала ваш звонок.
« Ага, — сказала я, — вот пришел месье Серено» (дома не было
только вас). Потом я сразу потушила свет. Было, наверное, около трех?
— Около...
— Я смотрю, — сказала она, — у вас большая корзина.
— Там мои кошки.
— Они больны, бедненькие зверушки?
— Нет, я увожу их к сестре в Медон. Ветеринар сказал, что им
нужен свежий воздух.
Он серьезно добавил:
— Вы знаете, что кошки могут болеть туберкулезом?
— Туберкулезом? — удивилась консьержка. — Тогда заботьтесь
о них хорошенько. И все-таки, — добавила она, — у вас без них
опустеет. Я привыкла видеть этих милашек, когда прибираюсь у вас.
Вы, наверное, огорчены.
— Да, очень огорчен, мадам Дюпюи, — сказал Даниель.
Он многозначительно улыбнулся ей и пустился в путь. «Старая
каракатица, она себя выдала. Должно быть, она теребила их, когда
меня не было, хотя я и запретил ей их трогать; лучше бы следила за
своей дочерью». Он вышел из подъезда, и его ослепил свет, свет
обжигающий и резкий. От него у Даниеля заболели глаза, он это
предвидел: когда накануне напьешься, нет ничего лучше туманного
утра. Он больше ничего не видел, он плыл в море света с железным
обручем вокруг головы. Вдруг он заметил свою тень, приземистую
и причудливую, а рядом с нею — тень корзинки, раскачивавшейся
у него в руке. Даниель улыбнулся: он был очень высок. Он
выпрямился во весь рост, но тень осталась куцей и бесформенной,
похожей на шимпанзе. «Доктор Джекил и мистер Хайд. Нет, не на
такси, — сказал себе он, — у меня еще есть время. Я прогуляю мистера
Хайда до остановки семьдесят второго». Семьдесят второй довезет
его до Шарантона. В километре оттуда Даниель знал маленький
уединенный уголок на берегу Сены. «Надеюсь, — сказал он себе, —
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
89
я не брякнусь в обморок, этого еще не хватало». Вода Сены была
особенно темной и грязной в этом месте, с лиловыми маслянистыми
пятнами от заводов Витри. Даниель взирал на себя с отвращением:
он чувствовал себя таким мягким изнутри, что сам удивлялся. «Се
человек», — с неким удовольствием подумал он. Он отвердел,
ощетинился, но в глубине будто какой-то приговоренный жалобно
взывает о пощаде. «Забавно, когда ненавидишь себя, будто бы это
не ты». Напрасно он тщился быть одним неразлагаемым Даниелем.
Когда он презирал себя, ему казалось, что, отделившись от самого
себя, он парит, как бесстрастный судья, над каким-то порочным
кишением, а потом вдруг его всасывает снизу, и он попадает в
водоворот, в собственную ловушку. «Проклятие, — подумал он, — мне
необходимо выпить». Нужно только сделать небольшой крюк, он
пойдет к Шампьоне по улице Тайдус. Когда он толкнул дверь, бар
был пуст. Официант вытирал столы из рыжего дерева, сделанные в
форме бочек. Полумрак был благотворен для глаз Даниеля.
«Чертовски болит голова», — подумал он. Поставив корзину на пол, он
сел на табурет возле стойки.
— Крепкого виски, разумеется, — утвердительно сказал бармен.
— Нет, — сухо ответил Даниель.
«Пошли бы они к черту со своей манией каталогизировать
людей, будто это зонтики или швейные машины. Ведь я ничто... и все
всегда — ничто. А на тебя мигом навешивают ярлык. Этот хорошо
дает на чай, у того всегда наготове острота, а мне нужен только
крепкий виски».
— Джин-фиц, — заказал Даниель.
Бармен налил без комментариев: должно быть, он был задет.
«Тем лучше. Ноги моей больше тут не будет, уж слишком этот тип
фамильярен».
Однако джин-фиц имел вкус слабительного лимонада. Он
распылялся кисловатой пылью по языку и имел металлический
привкус.
«Это на меня не действует», — подумал Даниель.
— Дайте порцию перечной водки.
Он выпил водку и мечтательно задумался, во рту горело. Он
подумал: «Неужели это никогда не кончится?» Но эти мысли были
тщетными, как неоплаченный чек. «А что никогда не кончится? Что
никогда не кончится?» Послышалось отрывистое мяуканье и
царапанье. Бармен вздрогнул.
— Это кошки, — коротко сказал Даниель.
90
Жан Поль Сартр
Он сошел с табурета, бросил на стол двадцать франков и взял
корзину. Подняв ее, он обнаружил на полу красную капельку: кровь.
«Что они там вытворяют?» — с тревогой подумал Даниель, но не
стал поднимать крышку. В корзине затаился тяжелый и невнятный
ужас: если он ее откроет, ужас мгновенно превратится в кошек, а
этого Даниель не смог бы вынести. «А, ты не смог бы этого вынести?
А если я все же подниму эту крышку?» Но Даниель был уже на
улице, ему сразу же залепило глаза чем-то ярким и влажным: глаза
чесались, казалось, что смотришь на огонь, а потом вдруг
понимаешь, что уже с минуту видишь дома, дома в ста шагах от тебя,
белесые и легкие, как дым: в конце улицы высилась голубая стена. «Как
страшно все это видеть», — подумал Даниель. Таким он представлял
себе ад: взгляд, пронзающий насквозь, видишь все до края
пространства, видишь себя самого до последних глубин. Корзина
зашевелилась: внутри что-то царапалось. Он ощущал так близко этот
ужас, он чувствовал его рядом со своими пальцами. Даниель не знал
точно, доставляет ли ему это отвращение или удовольствие: скорее
всего и то и другое. «И все-таки что-то их успокаивает. Вероятно,
они чувствуют мой запах». Даниель подумал: «Действительно,
сейчас я для них только запах». Но терпение: скоро у него не будет
этого привычного запаха, он будет прогуливаться без запаха, один
среди людей, не имеющих достаточно тонкого обоняния, чтобы
обнаружить человека по запаху. Быть без запаха и без тени, без
прошлого, быть всего лишь порывом от себя самого, невидимым
порывом к будущему. Даниель заметил, что тень его движется
впереди, в нескольких шагах от его тела. Там, на уровне газового рожка,
немного прихрамывающая от ноши, неестественная, взмыленная —
он видел, как он идет, он был лишь собственным взглядом. Но
стекло красильни отразило его образ, и иллюзия рассеялась.
Даниель как бы наполнился илистой и пресной водой; вода Сены,
илистая и пресная, заполнит корзину, и они будут раздирать друг друга
когтями. Его охватило отвращение, он подумал: «Это
беспричинный поступок». Он остановился, поставил корзину на землю:
«Скучать, причинять зло другим. Никогда нельзя добраться до себя
впрямую». Он снова подумал о Константинополе: неверных жен
зашивали в мешок вместе со взбесившимися кошками и бросали в
Босфор. Бочки, кожаные мешки, ивовые клетки — тюрьмы.
«Бывает и похуже». Даниель пожал плечами: еще один неоплаченный чек.
Он не хотел трагических жестов, когда-то этого у него было
вдосталь. Если совершаешь нечто трагическое, значит, воспринимаешь
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
91
себя всерьез. Никогда, никогда больше Даниель не будет
воспринимать себя всерьез. Вдруг появился автобус. Даниель подал знак
водителю и вошел в первый класс.
— Сколько до конечной?
— Шесть талонов, — ответил кондуктор.
От воды Сены они взбесятся. Вода цвета кофе с молоком с
фиолетовыми отблесками. Напротив него села бесстрастная
чопорная женщина с маленькой девочкой. Девочка с любопытством
посмотрела на корзину. «Чертова сопл юшка», — подумал Даниель.
Корзина замяукала, и Даниель вздрогнул, как будто его застали на
месте преступления.
— Что это? — спросила девочка ясным голосом.
— Тс, — шикнула мать, — оставь дядю в покое.
— Это кошки, — признался Даниель.
— Они ваши? — спросила девочка.
-Да.
— Почему вы везете их в корзине?
— Потому что они больны, — ласково ответил Даниель.
— А можно на них посмотреть?
— Жаннина, — сказала мать, — это уж слишком.
— Я не могу их тебе показать, из-за болезни они стали злыми.
Девочка залепетала с прелестной рассудительностью:
— Нет, со мной кошечки не будут злыми.
— Ты думаешь? Послушай, милая деточка, — быстро и тихо
сказал Даниель, — я собираюсь их утопить, вот что я собираюсь
сделать, и знаешь почему? Потому что не далее как сегодня утром
они разодрали все лицо одной красивой маленькой девочке,
похожей на тебя, которая приносила мне цветы. Ей придется вставить
стеклянный глаз.
— Ах! — вскричала изумленно девочка. Она с ужасом
посмотрела на корзину и уткнулась в материнские юбки.
— Вот видишь, — сказала мать, возмущенно обернувшись к Да-
ниелю, — вот видишь, нужно быть смирной и не болтать без
разбора. Ничего, моя лапочка, дядя просто пошутил.
Даниель ответил ей спокойным взглядом. «Она меня
ненавидит», — удовлетворенно подумал он. Он видел, как за стеклами
проплывают серые дома, он знал, что женщина смотрит на него.
«Возмущенная мать! Она ищет, что можно было бы во мне
возненавидеть. Но только не лицо». Лицо Даниеля никогда не
ненавидели. «И не одежду, она новая и элегантная. Может быть, руки». Руки
92
Жан Поль Сартр
его были короткопалые и сильные, немного пухлые, с черными
волосками на фалангах. Он положил их на колени: «Смотри на
них! Ну смотри же!» Но женщина спасовала, она тупо смотрела
прямо перед собой, она дремала. Даниель рассматривал ее с
некоторой жадностью: дремлющие в транспорте люди, как у них это
выходит? Она всем телом обмякла где-то в себе и там
расслаблялась. В ее голове не было ничего, что походило бы на
беспорядочное бегство впереди себя, ни любопытства, ни ненависти,
никакого движения, даже легкого колыхания: ничего, кроме толстого
сонного теста. Внезапно она очнулась; на лице ее появились
признаки оживления.
— Приехали! Приехали! — воскликнула она. — Идем! Какая же
ты противная, вечно ты копаешься!
Она взяла девочку за руку и потянула за собой. Перед тем как
выйти, девочка обернулась и бросила на корзину полный ужаса
взгляд. Автобус тронулся, но вскоре снова остановился: мимо Да-
ниеля, смеясь, прошли пассажиры.
— Конечная! — крикнул ему кондуктор.
Даниель вздрогнул: автобус был пуст. Он встал и вышел. Это
была оживленная площадь с несколькими кафе; рабочие и
женщины стояли вокруг ручной тележки. Женщины удивленно
посмотрели на него. Даниель ускорил шаг и свернул в грязный переулок,
спускавшийся к Сене. По обеим сторонам громоздились бочки и
склады. Корзина безостановочно мяукала, и Даниель почти бежал:
он как бы нес дырявое ведро, из которого капля по капле вытекала
вода. Каждое мяуканье, как капля воды. Ноша была тяжелой.
Даниель перебросил корзину на левую руку, а правой вытер пот. Не
нужно думать о кошках. «Ах, ты не хочешь думать о кошках? Так
вот, именно о них ты и должен думать, иначе тебе было бы слишком
легко!» Даниель вновь увидел золотые глаза Поппеи и сразу стал
думать о другом, о бирже, где он позавчера заработал десять тысяч
франков, о Марсель, которую сегодня вечером увидит, это был его
день: «Архангел!» Даниель усмехнулся: он глубоко презирал
Марсель. «У них не хватает смелости признаться, что они разлюбили
друг друга. Если бы Матье видел все в истинном свете, то давно бы
принял решение. Но он не хочет. Он не хочет потерять себя. Он-то
нормальный», — с иронией подумал Даниель. Кошки мяукали как
ошпаренные, и Даниель почувствовал, что теряет голову. Он
поставил корзину на землю и два раза сильно ударил по ней ногой.
Внутри возникла сумасшедшая возня, но вскоре кошки затихли.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
93
Даниель с минуту постоял неподвижно, со странным ознобом за
ушами. Из склада вышли рабочие, и Даниель снова двинулся в путь.
Он спустился по каменной лестнице на берег Сены и сел на землю
около железного кольца между котлом с гудроном и грудой камней
для мощения. Сена под голубым небом была желтой. Черные
шаланды, нагруженные бочками, были пришвартованы у
противоположного причала. Даниель сидел на солнце, в висках у него ломило.
Он смотрел на воду, волнистую и вздутую, с опаловыми отсветами.
Потом вынул из кармана клубок и перочинным ножичком отрезал
длинный кусок шпагата; затем, не вставая, левой рукой нашарил
камень. Он привязал конец шпагата к ручке корзины, обвязал
шпагатом камень, сделал несколько узлов и положил камень на землю:
выглядело это приспособление странно. Даниель подумал, что
нужно будет нести корзину в правой руке, а камень в левой: он их
бросит в воду одновременно. Корзина останется на плаву, вероятно,
десятую долю секунды, потом грубая тяжесть камня потянет ее в
глубину, и она быстро потонет. Даниелю было жарко, он проклинал
свою плотную куртку, но не хотел снимать ее. Что-то в Даниеле
трепетало, просило пощады, и он услышал собственный стон:
«Когда у тебя нет мужества убить себя целиком, нужно делать это по
частям». Он подойдет к воде и скажет: «Прощай то, что я любил
больше всего...» Он немного приподнялся на руках и осмотрелся:
справа берег был пустынный, слева, вдалеке, он увидел на огненном
фоне черную фигуру рыбака. Движения в корзине под водой
достигнут поплавка его удочки: «Он подумает, что клюет». Даниель
засмеялся и вынул платок, чтобы вытереть вспотевший лоб.
Стрелки его часов показывали одиннадцать двадцать пять. «В половине
двенадцатого!» Нужно продлить этот чрезвычайный момент:
Даниель был раздвоен; он чувствовал себя затерянным в алом облаке под
этим свинцовым небом, он вспомнил с некой гордостью Матье.
«Нет, это я свободен», — сказал он себе. Но то была безликая
гордость, так как Даниель не был больше никем. В одиннадцать
двадцать девять он встал и почувствовал такую слабость, что вынужден
был опереться на котел. На твидовой куртке появилось пятно от
гудрона, и он посмотрел на него. Он видел черное пятно на ярко-
фиолетовой ткани и вдруг почувствовал, что снова стал чем-то
целым, одним. Один. Трус. Субъект, любящий своих кошек и не
желающий бросить их в воду. Он взял перочинный ножик, нагнулся и
перерезал шпагат. Он это сделал молча: даже внутри его самого
была тишина, ему было слишком стыдно, он не мог разговаривать
94
Жан Поль Сартр
с собой. Он взял корзину и поднялся по лестнице: так он проходил
бы, отвернувшись, мимо кого-то, кто смотрел бы на него с
презрением. И все это время в нем царила тишина. Когда он был наверху
лестницы, он осмелился обратиться к себе впервые: «Что это за
капля крови?» Но не посмел открыть корзину: прихрамывая, он
направился дальше. Это я. Это я. Это я. Подонок. Но в глубине
души у него мелькнула улыбка: все-таки Поппею он спас.
— Такси! — крикнул он.
Такси остановилось.
— Улица Монмартр, 22, — сказал Даниель. — Поставьте,
пожалуйста, эту корзину рядом с собой.
Движение такси его убаюкивало. Ему даже больше не удавалось
презирать себя. Потом его опять охватил стыд, и он снова начал
видеть себя со стороны: это было невыносимо. «Ни целиком, ни
частями», — горько подумал он. Когда он взял бумажник, чтобы
заплатить шоферу, то с радостью отметил, что кошелек раздут от
банкнот. «Добывать деньги, да. Это я умею».
— Вот вы и вернулись, месье Серено, — сказала консьержка, —
только что кто-то к вам поднялся. Один из ваших друзей, высокий,
вот с такими плечами. Я ему сказала, что вас нет, а он мне: «Что ж,
я ему суну под дверь записку».
Она посмотрела на корзинку и вскрикнула:
— Но вы принесли назад своих милашек!
— Увы, мадам Дюпюи, — сказал Даниель, — может, это и глупо,
но я не смог с ними расстаться.
«Это Матье, — подумал он, поднимаясь по лестнице, — ничего
не скажешь, вовремя свалился». Он был рад возможности
ненавидеть другого.
Матье он встретил на площадке четвертого этажа.
— Привет, — сказал тот, — я не надеялся тебя увидеть.
— Я ходил гулять с кошками, — пояснил Даниель. Он, к
собственному удивлению, ощутил в себе некую теплоту.
— Зайдешь? — поспешно спросил он.
— Да. Хочу попросить тебя об одной услуге.
Даниель бросил на него быстрый взгляд и заметил, что у Матье
землистое лицо. «У него чертовски озабоченный вид», — подумал
он. Ему захотелось помочь Матье. Они поднялись. Даниель вставил
ключ в замочную скважину и толкнул дверь.
— Проходи, — сказал он. Он слегка коснулся плеча Матье и
сразу же отдернул руку. Тот вошел в комнату и сел в кресло.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
95
— Я ничего не понял из того, что говорила консьержка, — сказал
он. — Она утверждала, что ты повез своих кошек к сестре. Ты что,
помирился с сестрой?
Внезапно в Даниеле что-то заледенело.
«Какую он скроил бы физиономию, если б узнал, откуда я
пришел?» Без всякой симпатии он смотрел в рассудительные и
пронизывающие глаза своего друга: «Да, это правда, он совершенно
нормальный». Даниель почувствовал, что отделен от него
пропастью. Он засмеялся.
— Ах да! К сестре... это было невинное вранье, — сказал он. Он
знал, что Матье не будет настаивать: у того была досадная
привычка считать Даниеля фантазером, и он никогда не старался выяснить,
что толкнуло его на очередную ложь. И действительно, Матье
покосился на корзину с недоуменным видом и замолчал.
— Ты позволишь? — спросил Даниель.
Он почувствовал себя удивительно сухим. У него было только
одно желание — как можно скорее открыть корзину: «Что это за
капля крови?» Он стал на колени, думая: «Сейчас они вцепятся мне
в лицо», — и он наклонил лицо над крышкой так, чтобы оно было в
пределах их досягаемости. Он думал, отпирая замок: «Маленькое
неприятное происшествие ему не повредит. На время оно заставит
его потерять благодушие и степенный вид». Поппея рыча
выскочила из корзины и скрылась в кухне. Вышел, в свою очередь, Сципион:
он сохранил достоинство, но не был спокоен. Он прошел
размеренным шагом до шкафа, украдкой огляделся, потянулся и
проскользнул под кровать. Мальвина не шевелилась. «Она ранена», —
подумал Даниель. Она лежала на дне корзины распластанная. Даниель
поднял пальцем ее за подбородок и насильно приподнял голову: она
получила хороший удар когтями по носу, левый глаз был закрыт, но
крови не было. На мордочке чернела корочка, а вокруг нее шерсть
была жесткой и клейкой.
— Что случилось? — спросил Матье. Он привстал и вежливо
посмотрел на кошку. «Он считает меня смешным, потому что я
вожусь с кошкой. Ему бы показалось совершенно естественным, если
бы я возился с ребенком».
— Мальвину сильно поранили, — объяснил Даниель. —
Наверняка ее исцарапала Поппея, она невыносима. Извини, мой дорогой,
подожди минутку, пока я окажу ей помощь.
Он подошел к шкафу, взял оттуда пузырек арники и пакет ваты.
Матье следил за ним глазами, не говоря ни слова, затем стариков-
96
Жан Поль Сартр
ским жестом провел рукой по лбу. Даниель начал промывать Маль-
вине нос. Кошка слабо отбивалась.
— Будь хорошей, — промолвил Даниель, — будь умницей. Ну
же! Ну!
Он считал, что всячески раздражает Матье, и это ему придавало
усердия. Но когда он поднял голову, то увидел, что Матье мрачно
смотрит в пустоту.
— Извини, дорогой, — сказал Даниель самым проникновенным
голосом, — еще минутку. Необходимо вымыть животное, знаешь,
они мгновенно подхватывают инфекцию. Ты не сердишься? —
добавил он, искренне улыбаясь ему. Матье вздрогнул и засмеялся.
— Продолжай, продолжай, — сказал он, — только отведи свои
бархатные глаза.
«Мои бархатные глаза!» Превосходство Матье было
отвратительным: «Он думает, что знает меня, он говорит о моих фантазиях,
о моих бархатных глазах. Он меня совсем не знает, но его забавляет
вешать на меня ярлыки, как будто я неодушевленный предмет».
Даниель сердечно рассмеялся и заботливо вытер голову Маль-
вине. Она закрыла глаза, вид ее выражал экстаз, но Даниель знал,
что она страдает. Он легонько шлепнул ее по заду.
— Ну вот, — сказал он, поднимаясь, — завтра все пройдет. Но,
знаешь, Поппея хорошо царапнула ее когтями.
— Поппея? Вот злюка, — сказал Матье с отсутствующим
видом.
Внезапно он сказал
— Марсель беременна.
— Беременна!
Удивление Даниеля длилось недолго, он боролся с
неудержимым желанием рассмеяться. «Вот оно что! Вот оно что! Мало того
что это существо ежемесячно писает кровью, оно еще и плодовито,
как скат». Он с отвращением подумал, что сегодня вечером увидит
ее. «Интересно, хватит ли у меня выдержки коснуться ее руки».
— Я чертовски озабочен, — с рассудительным видом сказал
Матье.
Даниель посмотрел на него и сдержанно проговорил:
— Я тебя понимаю.
Потом поспешно повернулся к нему спиной под предлогом, что
ему надо поставить пузырек с арникой в шкаф. Даниель боялся
расхохотаться ему в лицо. Он начал думать о смерти матери, в
подобных ситуациях это всегда успокаивало. Он отделался двумя-тремя
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
97
конвульсивными подергиваниями. За его спиной Матье продолжал
рассуждать:
— Главное, это ее унижает, — сказал он. — Ты нечасто ее видел,
ты не можешь себе представить, какая это Валькирия. Валькирия
в спальне, — без злости сказал он. — Для нее это ужасное
падение.
— Да, — сказал участливо Даниель, — но для тебя тоже
немногим лучше: как бы ты ни старался, теперь она должна вызывать у
тебя отвращение. Я знаю, у меня это убило бы любовь.
— У меня больше нет любви к ней, — сказал Матье.
-Нет?
Даниель был сильно удивлен, он навострил уши: «Сегодня
вечером будет драка». Он спросил:
— Ты ей об этом сказал?
— Конечно, нет.
— Почему «конечно»? Нужно, чтоб она об этом знала. Ты ее...
— Нет. Я не хочу ее бросать, если ты это имеешь в виду.
— Но тогда как?
Даниель сильно развеселился. Теперь он спешил увидеть
Марсель.
— А никак, — ответил Матье. — Тем хуже для меня. Не ее вина,
что я ее больше не люблю.
— А что, разве твоя?
— Да, — коротко сказал Матье.
— Ты будешь тайно приходить к ней и...
— Ну, разумеется.
— Так вот, — сказал Даниель, — если ты надолго затянешь эту
игру, ты ее в конце концов возненавидишь.
У Матье был угрюмый и упрямый вид.
— Я не хочу причинять ей страданий.
— Ну, раз ты предпочитаешь принести себя в жертву... —
равнодушно сказал Даниель. Когда Матье начинал корчить из себя
квакера, Даниель его ненавидел.
— А что я теряю? Я буду ходить в лицей, по-прежнему
встречаться с Марсель. Буду писать по новелле каждые два года. Именно
так я поступал до сих пор. — Он добавил с горечью, которой
Даниель у него дотоле не замечал: — Я воскресный писатель. Однако, —
продолжал он, — я привязан к ней, меня крайне огорчило бы, если
бы я не смог видеть ее. Для меня это почти семейные узы.
Наступило молчание. Даниель сел в кресло напротив Матье.
98
Жан Поль Сартр
— Мне необходима твоя помощь, — сказал Матье. — У меня есть
адрес, но нет денег. Одолжи мне пять тысяч.
— Пять тысяч... — неуверенно повторил Даниель.
Его набитый бумажник был спрятан во внутреннем кармане,
бумажник свиноторговца, достаточно было открыть его и взять пять
купюр. Матье раньше часто помогал ему.
— К концу месяца я верну тебе половину, — сказал Матье, — а
потом, четырнадцатого июля, — вторую, тогда я получу жалованье
сразу за август и сентябрь.
Даниель посмотрел на землистое лицо Матье и подумал: «Этот
фрукт ужасно расстроен». Потом он подумал о кошках и
почувствовал себя безжалостным.
— Пять тысяч франков! — проговорил он виновато. — Но у меня
их нет, старик, очень сожалею.
— Но ты же мне на днях сказал, что скоро провернешь одно
дельце.
— Увы, старичок, — сказал Даниель, — дельце оказалось липой;
ты ведь знаешь, что такое биржа. К тому же все просто: у меня
полно долгов.
В голос он не вложил слишком много искренности, потому что
вовсе не желал убедить Матье. Но, когда увидел, что тот ему не
верит, разъярился: «Пусть он катится к чертовой матери! Он
считает себя таким проницательным, он воображает, будто видит меня
насквозь, спрашивается, почему я должен ему помогать: пусть
стреляет деньги у себе подобных». Что было невыносимо, так это его
нормальный глубокомысленный вид, который Матье не терял даже
в скорби.
— Ладно! — с горячностью сказал Матье. — Ты правда не можешь?
Даниель подумал: «Как он настаивает, должно быть, серьезно
нуждается в деньгах».
— Конечно, правда. Очень сожалею, старик.
Сконфуженность Матье его стесняла, но это было не так уж
неприятно: впечатление такое, будто вывернул ноготь. Даниель очень
любил двусмысленные ситуации.
— Тебе срочно нужно? — спросил он участливо. — Ты не можешь
обратиться к кому-нибудь другому?
— Знаешь, мне не особенно хотелось бы беспокоить Жака.
— А ведь правда, — немного разочарованно сказал Даниель, —
есть еще твой брат. Тогда можешь быть уверен, что деньги у тебя
будут.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
99
Матье выглядел обескураженным.
— Сомневаюсь. Он вбил себе в голову, что одолжить мне хотя
бы су — значит оказать дурную услугу. «В твоем возрасте, — говорит
он мне, — пора быть независимым».
— Ну, тогда он тебе точно одолжит, — со всей прямотой заявил
Даниель. Он медленно высунул кончик языка и с удовлетворением
стал облизывать верхнюю губу: с самого начала он сумел найти тон
напускного и лихого оптимизма, который приводил собеседника в
ярость.
Матье покраснел.
— Вот-вот. Я не хочу ему говорить, для чего мне понадобились
эти деньги.
— И правильно, — одобрил Даниель. На мгновение он
задумался. — Но ведь есть еще эти кассы, ты знаешь, о чем я говорю, ну
которые дают служащим взаймы. Должен сказать, часто попадают
к ростовщикам, но тебе можно плевать на проценты, как только ты
получишь деньги.
Матье заинтересовался, и Даниель с досадой решил, что
немного его успокоил.
— Что это за люди? Деньги сразу дают?
— Нет, — живо отозвался Даниель, — тянут дней десять: им
сначала нужно навести справки.
Матье замолчал, казалось, он размышлял; Даниель вдруг
почувствовал легкий толчок: Мальвина прыгнула ему на колени и,
мурлыча, устроилась там. «Вот кто не таит обид», — подумал Даниель с
отвращением. Он начал легко и небрежно ее поглаживать.
Животным и людям не удавалось ненавидеть его по причине их инертного
добродушия, а может, из-за его лица. Матье углубился в ничтожно
мелкие расчеты: он тоже не таил обиды. Даниель склонился над
Мальвиной и стал чесать ей загривок: рука его подрагивала.
— В глубине души, — сказал он, не глядя на Матье, — я почти рад,
что у меня нет денег. Ведь ты всегда стремился к свободе, вот тебе и
представился случай совершить поистине свободный поступок.
— Свободный поступок?
У Матье был непонимающий вид. Даниель поднял голову.
— Да, — сказал он, — тебе остается только жениться на
Марсель.
Матье посмотрел на него нахмурившись: должно быть, он
подумал, не смеется ли над ним Даниель. Тот выдержал его взгляд со
скромной серьезностью.
100
Жан Поль Сартр
— Ты что, спятил? — спросил Матье.
— Почему? Скажешь всего одно слово — и разом изменишь всю
свою жизнь, такое случается не каждый день.
Матье расхохотался. «Он решил над этим посмеяться», — раз-
досадованно подумал Даниель.
— Тебе не удастся ввести меня в искушение, — сказал Матье, —
и особенно в этот момент.
— Да, но... именно это, — продолжал Даниель тем же
легкомысленным тоном, — будет самым занятным. Сделать прямо
противоположное тому, что хочешь. И почувствовать, что становишься
совсем другим человеком.
— Каким другим? — воскликнул Матье. — Может, мне еще
сделать троих ребятишек ради удовольствия почувствовать себя
совсем другим, когда я их буду прогуливать по Люксембургскому
саду? Тогда я и в самом деле изменюсь: стану окончательно
пропащим человеком.
«Не настолько, — подумал Даниель, — не настолько, как ты
считаешь».
— По правде говоря, — сказал он, — не так уж плохо быть
пропащим человеком. Пропащим до мозга костей, погребенным.
Женатый субъект с тремя малышами, как ты говоришь. Такое должно
умиротворять!
— Действительно, — ответил Матье. — Подобных типов я
встречаю каждый день. К примеру, отцы моих учеников, которые ко мне
приходят. Имеют по четверо детей, все сплошь рогоносцы, члены
родительского совета. У них обычно степенный вид. Я бы даже
сказал — благодушный.
— У них тоже есть нечто вроде веселости, — заговорил
Даниель. — Хоть меня от них и мутит. А тебя действительно это не
соблазняет? Я вижу тебя удачно женатым, — продолжал он, — ты
будешь, как они, толстым, ухоженным балагуром с целлулоидными
глазами. Не так уж плохо.
— Да, но это на твой вкус, — спокойно сказал Матье. — Уж
лучше я попрошу пять тысяч у брата.
Он встал. Даниель спустил Мальвину на пол и тоже встал. «Он
знает, что у меня есть деньги, и тем не менее он меня не ненавидит:
как же ему подобных еще пронять?»
Бумажник был рядом, Даниелю стоило только опустить руку в
карман, он скажет: «Вот, старик, я только хотел малость тебя
разыграть». Но он побоялся, что будет себя презирать.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
101
— Сожалею, — нерешительно начал он, — если появится
возможность, я тебе напишу...
Даниель проводил Матье до входной двери.
— Не расстраивайся, — весело ответил Матье, — я выкручусь.
Он закрыл дверь. Когда Даниель услышал на лестнице его
легкие шаги, он подумал: «Это непоправимо», — и у него перехватило
дыхание. Но это скоро кончилось. «Ни на одно мгновение, — сказал
он себе, — Матье не переставал быть уравновешенным, бодрым, в
совершенном согласии с самим собой. Конечно, он расстроен, но это
только внешне. Изнутри он чувствует себя в норме». Он подошел к
зеркалу посмотреть на свое красивое мрачное лицо и подумал:
«Однако если б ему пришлось жениться на Марсель, это стоило б и
тысячи».
VIII
Теперь она давно уже проснулась и наверняка терзается. Нужно
ее успокоить, надо сказать ей, что она ни в коем случае не пойдет к
бабке. Матье с нежностью представил ее несчастное, изможденное
лицо накануне, и она вдруг показалась ему невероятно
беззащитной. «Нужно ей позвонить». Но сначала он должен пойти к Жаку:
«Тогда, возможно, я смогу сообщить ей хорошую новость». Он с
раздражением думал о том, с каким видом примет его Жак. Он
будет, как всегда, весел и благоразумен, по ту сторону как порицания,
так и снисходительности; голову склонит набок и, полузакрыв
глаза, спросит: «Как? Опять деньги?» Матье покрылся мурашками. Он
пересек мостовую и подумал о Даниеле: он не сердился на него. Он
такой: на него нельзя сердиться. Но он заранее сердился на Жака.
Матье остановился перед приземистым домом на улице Реомюр и,
как всегда, с раздражением прочел: «Жак Деларю, адвокат, третий
этаж». Адвокат! Он вошел в лифт. «Надеюсь, Одетты не будет
дома», — подумал он.
Увы, она была дома, Матье увидел ее через застекленную дверь
гостиной: она сидела на диване, элегантная, длинная и чистенькая
до стерильности; она читала. Жак охотно говорил: «Одетта одна из
немногих парижанок, которые находят время читать».
— Месье Матье хочет видеть мадам? — спросила Роза.
— Да, я зайду к ней поздороваться, но предупредите,
пожалуйста, месье, что я пришел к нему.
102
Жан Поль Сартр
Он толкнул дверь. Одетта подняла чем-то неприятное
нарумяненное лицо.
— Здравствуйте, Тье, — сказала она с довольным видом. — Вы
пришли нанести визит мне?
— Вам? — переспросил Матье.
Он смотрел со смущенной симпатией на высокий спокойный
лоб и зеленые глаза. Вне всякого сомнения, она была красива, но
той красотой, которая как бы ускользала, когда на нее смотришь.
Привыкший к таким лицам, как у Лолы, смысл которых грубо
открывался с первого взгляда, Матье сто раз пытался воссоединить
эти ускользающие черты, но они выскальзывали, их совокупность
ежесекундно разрушалась; лицо Одетты таило обманчивую
буржуазную тайну.
— Очень хотел бы, чтобы мой визит относился к вам, —
проговорил он, — но мне необходимо повидать Жака, хочу попросить его
об одной услуге.
— Можете не торопиться, — сказала Одетта, — Жак никуда не
денется. Присядьте здесь.
Она освободила ему место рядом с собой.
— Осторожно, — улыбаясь, сказала она, — однажды я
рассержусь. Вы мною пренебрегаете. Я заслужила личный визит, вы мне
его обещали.
— А на самом деле вы мне пообещали как-нибудь принять
меня.
— Как вы вежливы, — смеясь сказала она, — тем не менее у вас
явно неспокойная совесть.
Матье сел. Ему нравилась Одетта, только он никогда не знал,
что ей сказать.
— Как поживаете, Одетта?
Он придал голосу теплоту, чтобы скрыть неуклюжесть вопроса.
— Очень хорошо, — сказала она. — Знаете, где я была сегодня
утром? Я выезжала на машине в Сен-Жермен, чтобы повидать
Франсуазу, это меня развеяло.
— А Жак?
— У Жака в эти дни много дел, я его почти не вижу. Но он, как
всегда, пренебрегает здоровьем.
Матье вдруг ощутил острую досаду. «Она принадлежит Жаку», —
подумал он. Он с тяжелым чувством посмотрел на длинную
смуглую руку, выглядывавшую из рукава очень простого платья с
красным поясом, платья почти как у девочки. Рука, платье и тело
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
103
под платьем принадлежали Жаку, как и кресло, как и секретер из
красного дерева, как диван. Эта сдержанная благонравная женщина
носила на себе печать чужого обладания. Наступила пауза, затем
Матье произнес теплым и слегка гнусавым голосом, который он
приберегал для Одетты:
— У вас очень красивое платье.
— Да ну вас! — воскликнула с возмущенным смехом Одетта. —
Оставьте мое платье в покое; всякий раз, когда вы меня видите, вы
мне говорите о моих платьях. Лучше скажите, что вы делали на этой
неделе.
Матье тоже засмеялся: он почувствовал, что отмякает.
— Нет, я кое-что хочу сказать именно об этом платье.
— Боже! — вскричала Одетта. — Что бы это могло быть?
— Так вот, когда оно на вас, не следует ли вам надевать серьги?
— Серьги?
Одетта посмотрела на него с интересом.
— Вы считаете, что это вульгарно? — спросил Матье.
— Вовсе нет. Но это делает лицо нескромным. — И продолжила,
рассмеявшись: — Так вам, конечно же, будет со мной привычней.
— Нет, почему же... — неопределенно пробормотал Матье.
Он был удивлен и подумал: «А она решительно неглупа». В уме
Одетты, как и в ее красоте, было что-то неуловимое.
Наступило молчание. Матье не знал, что сказать. Тем не менее
ему не хотелось уходить, он наслаждался какой-то душевной
тишиной, Одетта мило сказала ему:
— Я виновата, что задерживаю вас, идите скорее к Жаку, вы чем-
то озабочены.
Матье встал. Он вспомнил, что идет просить у Жака денег, и
почувствовал, как закололо кончики пальцев.
— До свидания, Одетта, — произнес он нежно. — Нет, нет, не
беспокойтесь, я еще зайду попрощаться с вами.
«До какой степени она жертва? — задавался он вопросом, стуча
в дверь к Жаку. — С таким типом женщин ничего в точности не
известно».
— Входи, — сказал Жак.
Он встал, оживленный, очень прямой, и пошел навстречу Матье.
— Привет, старина, — тепло сказал он. — Все в норме?
Он казался гораздо моложе Матье, хотя и был старше. Матье
полагал, что он нагулял жиру на бедрах. К тому же он вынужден
был носить корсет.
104
Жан Поль Сартр
— Здравствуй, — ответил Матье с дружелюбной улыбкой.
Он почувствовал себя виноватым: уже двадцать лет он это
чувствовал всякий раз, когда думал о брате или видел его.
— Итак, — продолжал Жак, — что тебя привело?
Матье уныло махнул рукой.
— Плохи дела? — спросил Жак. — Послушай, сядь в кресло.
Хочешь виски?
— Пожалуй, — коротко ответил Матье. Он сел, у него
перехватило горло. «Пью виски и, ничего не сказав, сматываюсь». Но было
слишком поздно. Жак прекрасно знал, чего ожидать: «Он просто
подумает, что я не осмелился попросить денег». Жак взял бутылку
виски и наполнил два стакана.
— Это последняя бутылка, — пояснил он, -•- но до осени я не
стану пополнять запасы. Хотя говорят, что во время жары хорош
шипучий джин, виски все-таки лучше. А как по-твоему?
Матье не ответил, он хмуро смотрел на розовое свежее лицо
совсем молодого человека, на коротко подстриженные светлые
волосы. Жак невинно улыбался, он весь дышал невинностью, но
глаза его были жесткими. «Он играет в невинность, — с бешенством
подумал Матье, — он прекрасно знает, зачем я пришел, сейчас он
подбирает нужную роль». Он решился:
— Ты прекрасно знаешь, что я пришел одолжить у тебя денег.
Итак, слово было сказано. Теперь отступление невозможно; брат
изумленно поднял брови. «Нет, он меня не пощадит», — удрученно
подумал Матье.
— Что ты, у меня и мысли такой не было, — сказал Жак, —
почему ты считаешь, что я об этом подумал? Ты хочешь намекнуть,
что это единственная цель твоих визитов?
Жак сел, все еще очень прямой, немного напряженный, он
гибко положил ногу на ногу, как бы компенсируя напряженность
туловища. На нем был превосходный спортивный костюм английского
сукна.
— Я не намекаю, — сказал Матье.
Он сощурил глаза. И добавил, крепко сжимая стакан:
— Но мне нужны четыре тысячи франков не позднее чем завтра.
«Сейчас он откажет. Лишь бы только побыстрее, тогда я смогу
сразу же смыться». Но Жак никогда не спешил: он был адвокатом,
времени у него хватало.
— Четыре тысячи, — повторил он, покачивая головой с видом
знатока. — Скажи, пожалуйста!
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
105
Он вытянул ноги и стал с удовлетворением созерцать свои
туфли.
— Ты меня забавляешь, Тье, — сказал он, — ты меня забавляешь,
а заодно и просвещаешь. Нет, не думай, что я имею в виду что-то
дурное, — живо добавил он, — я не считаю возможным критиковать
твое поведение, я просто размышляю, задаю себе вопросы и гляжу
на все это со стороны, я бы сказал, по-философски, если бы не
обращался к философу. Видишь ли, когда я о тебе думаю, то
утверждаюсь в мысли, что не следует быть человеком принципов. Ты же
ими напичкан, ты их изобретаешь и, однако, с ними не
сообразуешься. Теоретически нет человека более независимого: да, это
прекрасно, ты живешь над классами. Только спрашивается: что бы с тобой
сталось, не будь меня? Заметь, я счастлив, я, человек без принципов,
что могу время от времени тебе помогать. Но мне кажется, будь я
человеком идеи, мне было бы не по душе просить что бы то ни было
у отвратительного буржуа. Ибо я и есть отвратительный буржуа, —
добавил он, добродушно смеясь.
Он продолжил, не закончив смеяться:
— Есть кое-что и похуже: ты, не имеющий семьи, используешь
семейные узы, чтобы одалживать у меня деньги. Ибо ты не
обратился бы ко мне, не будь я твоим братом.
Он напустил на себя искренне заинтересованный вид.
— Тебя все это в глубине души не смущает?
— Обстоятельства вынуждают, — тоже смеясь, сказал Матье.
Он не собирался вступать в идейный спор. Идейные споры с
Жаком всегда плохо кончались. Матье сразу же терял хладнокровие.
— Да, очевидно, — холодно проговорил Жак. — Ты не считаешь,
что будь ты более организован... Но это, бесспорно, противоречит
твоим идеям. Заметь, я не говорю о твоей вине: для меня здесь
повинны твои принципы.
— Знаешь, — заметил Матье, лишь бы что-то ответить, — отказ
от принципов — это тоже принцип.
— Вот как! — воскликнул Жак.
«Теперь, — подумал Матье, — он их оставит в покое». Он
посмотрел на полные щеки брата, на цветущее лицо, на его открытое
и все-таки упрямое выражение и подумал со сжавшимся сердцем:
«У него прижимистый вид». К счастью, Жак заговорил снова.
— Четыре тысячи, — повторил он. — Это что-то неожиданное,
так как на прошлой неделе, когда ты... когда ты забежал попросить
меня о небольшой услуге, речи о деньгах не было.
106
Жан Поль Сартр
— Действительно, — сказал Матье, — необходимость возникла
только вчера.
Внезапно он подумал о Марсель, увидел ее, мрачную и голую в
розовой комнате, и добавил настойчивым тоном, удивившим его
самого:
— Жак, мне действительно нужны деньги.
Жак с любопытством посмотрел на него, и Матье прикусил
губы: когда братья были вместе, они не имели привычки так
откровенно обнаруживать свои чувства.
— До такой степени? Странно... Обычно ты одалживаешь у меня
немного, потому что не умеешь или не хочешь себя организовать,
но я никогда бы не подумал... Естественно, я у тебя ничего не
спрашиваю, — добавил он тоном вопроса.
Матье колебался: сказать ему, что это для налогов? Нет, он
знает, что я их заплатил в мае. Внезапно он выпалил:
— Марсель беременна.
Он почувствовал, что краснеет, и передернул плечами, но в
конце концов почему бы и нет? Откуда же этот неожиданный жгучий
стыд? Он вызывающе посмотрел в лицо брату. Жак выглядел явно
заинтересованным.
— Вы хотите ребенка?
Он делал вид, что не понимает.
— Нет, — сказал Матье резко, — это случайность.
— Это меня тоже удивляет, — сказал Жак, — но ты мог бы
довести до конца свои нестандартные житейские принципы...
— Все не так просто.
Наступило молчание, потом Жак совершенно спокойно
продолжил:
— И что? Когда свадьба?
Матье побагровел от гнева: как всегда, Жак отказывался честно
рассматривать ситуацию, он просто кружил вокруг нее, а в это
время его ум прилагал усилия, чтобы найти орлиное гнездо, откуда он
смог бы сверху вниз пристально наблюдать за поведением других.
Что бы ему ни говорили, что бы ни делали, первым его
побуждением было возвыситься над спорами, он мог взирать только сверху, у
него была страсть к орлиным гнездам.
— Мы решили, что она сделает аборт, — грубо сказал Матье.
Жак даже не поморщился.
— Ты нашел врача? — безразлично спросил он.
-Да.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
107
— Надежный человек? Исходя из того, что ты мне говорил, у
этой молодой женщины слабое здоровье.
— У меня есть друзья, которые ручаются за него.
— Да, — сказал Жак, — да, конечно, конечно.
Он на мгновение закрыл глаза, снова открыл их и сплел пальцы.
— В общем, — сказал он, — если я тебя правильно понял,
случилось следующее: ты узнал, что твоя подруга беременна; ты не
хочешь жениться из-за своих принципов, но ты считаешь себя
связанным с ней обязательствами, столь же неукоснительными, как брак.
Не желая ни жениться на ней, ни нанести урон ее репутации, ты
решил позволить ей сделать аборт. По возможности в наилучших
условиях. Друзья порекомендовали тебе надежного врача,
запросившего четыре тысячи франков, и тебе ничего не остается, как
достать эту сумму. Так?
— Именно так, — согласился Матье.
— А почему тебе нужны деньги так срочно?
— Врач, которого я имею в виду, через неделю уезжает в
Америку.
— Ладно, — сказал Жак, — я все понял.
Он поднял сплетенные руки на уровень глаз и посмотрел на них
с таким видом, как будто ему требовалось лишь сделать выводы из
того, что Матье ему только что сказал. Но Матье не обманывался:
адвокат так скоро не решает. Жак опустил руки и, разняв их,
положил на колени, он откинулся в кресле, глаза его потускнели.
Сонным голосом он проговорил:
— Сейчас в отношении абортов большие строгости.
— Знаю, — сказал Матье, — время от времени на этих идиотов
находит: сажают в тюрьму несколько бедных повитух, не имеющих
протекции, но настоящих специалистов никогда не тревожат.
— Ты хочешь сказать, что здесь наличествует
несправедливость. Я совершенно с тобою согласен. Но я не осуждаю эти меры.
В силу обстоятельств твои бедные повитухи — это фельдшерицы
или женщины, незаконно делающие аборты, они часто калечат
пациентку грязными инструментами; облавы производят отбор,
вот и все.
— Так вот, — продолжал измученный Матье, — я пришел
попросить у тебя четыре тысячи франков.
— А ты... — сказал Жак, — а ты уверен, что аборт согласуется с
твоими принципами?
— Почему бы и нет?
108
Жан Поль Сартр
— Не знаю, тебе лучше знать. Ты пацифист из уважения к
человеческой жизни, а собираешься прервать чью-то жизнь.
— Я все решил, — сказал Матье. — К тому же, может быть, я и
пацифист, но человеческую жизнь я не уважаю, тут ты что-то
путаешь.
— Да? А я-то думал... — удивился Жак.
Он посмотрел на Матье с веселой безмятежностью.
— И вот ты детоубийца? Это так тебе не идет, мой бедный Тье.
«Он боится, что меня схватят, — подумал Матье, — он не даст
мне ни сантима». Нужно было бы ему сказать: «Если ты дашь
деньги, ты не подвергнешься никакому риску, я обращусь к ловкому
человеку, которого нет в списках полиции. Если ты откажешься, я
вынужден буду отправить Марсель к знахарке, и тут я ничего не
гарантирую, потому что полиция знает их наперечет и может
закрутить гайки со дня на день». Но эти аргументы были слишком
прямолинейными, чтобы пронять Жака; Матье просто сказал:
— Аборт — не детоубийство.
Жак взял сигарету и закурил.
— Да, — вымолвил он безразлично, — согласен: аборт — не
детоубийство, но это метафизическое убийство. — Он серьезно
добавил: — Мой бедный Матье, у меня нет возражения против
метафизического убийства, а также против хорошо продуманных убийств.
Но то, что метафизическое убийство совершаешь именно ты... ты,
такой, как ты есть... — Он причмокнул языком с видом
порицания. — Нет, для тебя это была бы фальшивая нота.
Конечно, Жак отказывал, Матье мог уходить. Он откашлялся и
для очистки совести спросил:
— Итак, ты не хочешь мне помочь?
— Пойми меня правильно, — сказал Жак, — я не отказываю тебе
в услуге. Но будет ли это действительно услуга? К тому же я
убежден, что ты легко найдешь нужные тебе деньги...
Он резко встал, как будто принял решение, и дружески положил
руку на плечо брата.
— Послушай, Тье, — с жаром сказал он, — допустим, я тебе
отказал: не хочу тебе помогать обманывать самого себя. Но я
предложу тебе другое...
Матье, собиравшийся встать, снова сел в кресло, и его снова
охватил застарелый братский гнев. Это ласковое и твердое давление
на плечо было непереносимо; он откинул назад голову и увидел
лицо Жака.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
109
— Обманывать самого себя! Лучше скажи, что не хочешь
встревать в дело с абортом, которого не одобряешь, или что у тебя нет
свободных денег, это твое право, и я на тебя не в обиде. Но что ты
там говоришь об обмане? Здесь нет обмана. Я не хочу ребенка. У
меня он получился случайно, я от него избавляюсь, вот и все.
Жак убрал руку и сделал несколько шагов с задумчивым видом:
«Сейчас он произнесет речь, — подумал Матье, — не нужно было
ввязываться в спор».
— Матье, — произнес Жак хорошо поставленным голосом, — я
тебя знаю лучше, чем ты думаешь, и ты меня ужасаешь. Я давно
уже опасался чего-то в этом роде: этот ребенок, которому
предстоит родиться, является логическим завершением ситуации, в
каковую ты попал добровольно, и ты хочешь от него избавиться,
ибо не желаешь принять на себя все последствия своих поступков.
Слушай, хочешь, я скажу тебе правду? Возможно, в данный
момент ты себя не обманываешь, но вся твоя жизнь зиждется на
обмане.
— Не стесняйся, пожалуйста, -- сказал Матье, — поведай мне,
что я скрываю от себя самого.
Он улыбался.
— От себя ты скрываешь, — сказал Жак, — что ты стыдливый
буржуа. Я вернулся к буржуазии после многих блужданий, я
заключил с ней брак по расчету, но ты буржуа по вкусам, по
характеру, и твой характер толкает тебя к браку. Ибо ты женат, Матье, —
изрек он.
— Вот так новость! — изумился Матье.
— Да, ты женат, только ты утверждаешь обратное, потому что у
тебя есть наготове всевозможные теории. У тебя установилась с
этой молодой женщиной некая традиция: четыре раза в неделю ты
преспокойно приходишь к ней и проводишь с ней ночь. Это длится
уже семь лет, но для тебя это всего лишь приключение; ты ее
уважаешь, ты чувствуешь по отношению к ней некие обязательства, ты
не хочешь ее бросать. И я совершенно уверен, что ты с ней ищешь
не только удовольствия, я даже полагаю, что с течением времени
удовольствие, каким бы сильным оно ни было вначале, должно
притупиться. На самом же деле вечером ты садишься рядом с ней и
подробно рассказываешь о событиях дня и спрашиваешь у нее
совета в трудных случаях.
— Конечно, — сказал, пожимая плечами, Матье. Он злился на
себя.
по
Жан Поль Сартр
— Так вот, — продолжал Жак, — скажи, чем это отличается от
брака... от фактически совместного проживания?
— От фактически совместного проживания? — иронически
повторил Матье. — Прости, но это ерунда.
— Ну уж! — воскликнул Жак. — Я предполагаю, что для тебя не
так-то легко от этого отказаться.
«Он никогда так не говорил, — подумал Матье, — он берет
реванш. Нужно было уйти, хлопнув дверью». Но Матье знал, что
останется до конца: у него возникло агрессивное и
недоброжелательное желание узнать мнение брата.
— Почему ты говоришь, что мне это было бы нелегко?
— Потому что так ты обеспечил себе удобный вариант,
видимость свободы: ты имеешь все преимущества брака и пользуешься
своими принципами, чтобы отказаться от его неудобств. Ты
отказываешься узаконить ситуацию, и это тебе нетрудно. Если кто-то от
этого страдает, то только не ты.
— Марсель разделяет мои суждения о браке, — сказал Матье
высокомерно; он слышал, как произносит каждое слово, и был сам
себе противен.
— Нет! — возразил Жак. — Если она их и не разделяет, то
слишком горда и не признается тебе в этом. Знаешь, я тебя не понимаю:
ты так возмущаешься, когда говорят о несправедливости, а сам
держишь эту женщину в унизительном положении долгие годы из
простого удовольствия сказать себе, что ты живешь в согласии со
своими принципами. И ладно бы, если бы ты вправду
сообразовывал свою жизнь со своими идеями. Но, повторяю тебе, ты все равно
что женат, у тебя неплохая квартирка, ты регулярно получаешь
кругленькое жалованье, у тебя нет никакого страха перед будущим,
ибо государство гарантирует тебе пенсию... И ты любишь эту
спокойную, упорядоченную жизнь, типичную жизнь чиновника.
— Послушай, — сказал Матье, — это недоразумение: меня очень
мало беспокоит, буржуа я или нет. Я хочу только одного, — он
закончил фразу сквозь зубы с неким стыдом, — сохранить свою
свободу.
— А я бы посчитал, что свобода состоит в том, чтобы смотреть в
лицо ситуациям, в которые ты попал по собственной воле, и
принимать на себя всю ответственность за них. Но ты, безусловно,
другого мнения, ты осуждаешь капиталистическое общество, и тем
не менее ты служащий и афишируешь свою симпатию к
коммунистам, но ты поостерегся ввязываться в эту свару, ты даже не голосо-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
111
вал. Ты презираешь буржуазию, и все-таки ты буржуа, сын и брат
буржуа, и сам живешь, как буржуа.
Матье сделал движение, но Жак не позволил прервать себя.
— Ты, однако, вступил в возраст зрелости, мой бедный Матье! —
сказал он с ворчливой жалостью. — Но стараешься об этом не
думать, ты хочешь казаться моложе, чем ты есть. Впрочем, может, я и
несправедлив. В возраст зрелости ты еще не вступил, ведь это
скорее возраст нравственности... И возможно, я достиг его быстрее, чем
ты.
«Ну вот, — подумал Матье, — сейчас он заговорит о своей
молодости». Жак гордился своей молодостью, она была его порукой, она
позволяла ему защищать сторону правопорядка с чистой совестью:
в течение пяти лет он старательно подражал всем модным
заблуждениям, увлекался сюрреализмом, имел несколько лестных связей
и иногда перед тем, как заниматься сексом, нюхал платок с
хлористым этилом. В один прекрасный день все упорядочилось: Одетта
принесла ему в приданое шестьсот тысяч франков. Он написал
тогда Матье: «Чтобы не быть, как все, нужно иметь смелость
поступать, как все». И он купил контору адвоката.
— Я не попрекаю тебя твоей молодостью, — сказал он. —
Наоборот, тебе посчастливилось избежать некоторых отклонений. Но о
своей я тоже не сожалею. Видишь ли, в принципе в нас обоих
говорили инстинкты нашего старого пирата-дедушки. Только я
одним махом избавился от них, а ты их тянешь по капельке, тебе не
удается добраться до дна. Я думаю, что по природе своей ты
гораздо меньше пират, чем я, это тебя и губит: твоя жизнь — вечный
компромисс между склонностью к бунту и анархии, очень
умеренной, и твоими затаенными склонностями, влекущими тебя к
порядку, нравственному здоровью, я бы сказал, почти к рутине. В
результате ты так и остался постаревшим безответственным
студентом. Но, друг мой, посмотри на себя хорошенько: тебе тридцать
четыре года, голова у тебя понемногу седеет — правда, не так, как
у меня, — в тебе уже нет ничего от юноши, тебе мало подходит
жизнь богемы. К тому же что такое богема? Это было прекрасно
сто лет назад, теперь это горстка никому не опасных путаников,
которые опоздали на поезд. Ты уже вступил в возраст зрелости,
Матье, или, во всяком случае, должен был в него вступить, —
рассеянно проговорил он.
— Брось! — сказал Матье. — По-твоему, возраст зрелости — это
возраст смирения, я этого не принимаю.
112
Жан Поль Сартр
Но Жак его не слушал. Его взгляд вдруг стал ясным и веселым,
он живо сказал:
— Послушай, я уже говорил, что могу тебе кое-что предложить.
Если ты откажешься, то легко найдешь другого кредитора, я не
испытываю никаких угрызений совести. Так вот, я предлагаю тебе
десять тысяч франков, если ты женишься на своей подруге.
Матье предвидел такой финт, позволяющий брату не уронить
себя окончательно.
— Благодарю, Жак, — сказал он, вставая, — ты действительно
очень любезен, но твоего предложения я не принимаю. Я не говорю,
что ты совсем не прав, но если я когда-нибудь и женюсь, то только
по собственному желанию. В данный момент это был бы нелепый
выход из создавшегося положения.
Жак тоже встал.
— Подумай хорошенько, — сказал он, — повремени. Твоя жена
будет здесь хорошо принята, об этом даже нечего и говорить, я
доверяю твоему выбору; Одетта будет счастлива отнестись к ней как
к подруге. Кстати, моя жена не в курсе твоей личной жизни.
— Я уже все обдумал, — отрезал Матье.
— Как хочешь, — сердечно вымолвил Жак; был ли он так уж
недоволен? Потом он добавил: — Когда увидимся?
— Я приду к обеду в воскресенье. До встречи.
— До встречи, — сказал Жак, — и... если передумаешь, мое
предложение остается в силе.
Матье улыбнулся и вышел, не ответив. «Кончено! — подумал
он. — Кончено». Он бегом спустился по лестнице, он был грустен,
но ему хотелось петь. Теперь Жак, наверное, снова уселся в своем
кабинете с потерянным видом, с печальной и значительной
улыбкой: «Этот мальчик меня беспокоит, ведь он уже вступил в возраст
зрелости». А может, он заглянул к Одетте: «Матье меня тревожит.
Не могу рассказать тебе все, но он неблагоразумен». Что она
ответит? Будет ли она играть роль степенной и внимательной супруги
или отделается беглой репликой, уткнувшись в книгу?
«Кстати, — сказал себе Матье, — я забыл попрощаться с
Одеттой!» Он ощутил угрызения совести: сейчас он вообще склонен был
к угрызениям совести. «Правда ли это? Действительно ли я держу
Марсель в унизительном положении?» Он вспомнил резкие
выпады Марсель против брака: «Тем не менее я ей предлагал. Один раз,
пять лет назад». По правде говоря, это повисло в воздухе, во всяком
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
113
случае, Марсель рассмеялась ему в лицо. «Да, — подумал он, — у
меня комплекс неполноценности по отношению к брату!» Но нет,
это было не совсем так, каким бы ни было чувство вины, Матье
никогда не переставал мысленно оправдывать себя перед братом.
«В сущности, только этот прохвост мне близок, и, когда мне не
стыдно перед ним, мне стыдно за него. Увы! — подумал он. — С
семьей не порвешь, это как оспа: ею заболеваешь ребенком, и она
метит тебя на всю жизнь». На углу улицы Монторгей было кафе.
Он вошел, взял в кассе- жетон, телефонная кабина была в темном
углу. Когда он снял трубку, сердце его сжалось.
— Алло! Алло! Марсель?
Телефон был в спальне Марсель.
— Это ты? — сказала она.
-Да...
— Ну что?
— К бабке идти нельзя.
— Гм! — хмыкнула Марсель в сомнении.
— Уверяю тебя. Она полупьяна, у нее воняет, все в ней
отвратительно, если бы ты только видела ее руки! Она просто животное.
— Пусть так. А что дальше?
— У меня есть на примете один человек. Его рекомендует Сара.
Очень надежный.
— Сколько он берет?
— Четыре тысячи.
— Сколько?! — изумилась Марсель.
— Четыре тысячи.
— Ты видишь! Это невозможно, мне нужно идти к...
— Ты не пойдешь! — с силой сказал Матье. — Я одолжу.
— У кого? У Жака?
— Я только от него. Он отказал.
— А Даниель?
— Он тоже отказал, скотина! Я его видел сегодня утром; уверен,
что у него уйма денег.
— Ты ему не сказал, что деньги нужны для... этого? — живо
спросила Марсель.
— Нет, — ответил Матье.
— Что ты собираешься делать?
— Не знаю. — Он почувствовал, что в его голосе не хватает
уверенности, и твердо добавил: — Не волнуйся. У нас еще двое суток,
я найду. Черт побери, четыре тысячи можно найти.
114
Жан Поль Сартр
— Ну что ж, найди, — сказала Марсель странным тоном. —
Найди.
— Я тебе позвоню. Увидимся, как всегда, завтра вечером?
-Да.
— Как ты?
— Нормально.
— Ты... ты не слишком...
— Нет, — сухо сказала Марсель. — Но я тревожусь. — Она
добавила более мягко: — Поступай как знаешь, бедняга.
— Я принесу тебе четыре тысячи франков завтра вечером, —
сказал Матье. Он поколебался и с усилием проговорил: — Я люблю
тебя.
Марсель, не отвечая, повесила трубку.
Он вышел из кабины. Проходя через кафе, он еще слышал сухой
тон Марсель: «Я тревожусь». «Она сердита на меня. Однако я
делаю, что могу. «В унизительном положении». Разве я держу ее в
унизительном положении? А если...» Он резко остановился посреди
тротуара. А если она хочет ребенка? Тогда все к черту, достаточно
подумать об этом на секунду, и все принимает другой смысл, это
совсем другая история, и сам он меняется с головы до пят, он не
продолжает себя обманывать, он законченный подонок. «К счастью,
это неправда, не могло быть правдой, я часто слышал, как она
потешалась над замужними подругами, когда они были брюхаты:
священные сосуды, так она их называла, она говорила: «Они
лопаются от гордости, потому что скоро снесутся». Когда говорят такое,
то уже не имеют права тайком изменить точку зрения, это был бы
прямой обман. А Марсель была на него неспособна, она бы мне об
этом сказала, почему бы ей мне этого не сказать — до сих пор мы
говорили друг другу все; нет, хватит, хватит!» Он устал кружиться
в запутанных дебрях, Марсель, Ивиш, деньги, деньги, Ивиш,
Марсель. «Я сделаю все, что нужно, но я не хочу больше об этом думать,
Господи, я хочу думать о другом». Он подумал о Брюне, но это было
еще печальнее: умершая дружба; он нервничал и заранее тосковал,
потому что скоро они встретятся. Он увидел газетный киоск и
подошел к нему: «"Пари-Миди", пожалуйста».
Этой газеты уже не было, и он взял другую наугад: это
оказался «Эксельсиор». Матье заплатил десять су и пошел дальше.
«Эксельсиор» был безобидной газетой на серой бумаге, скучной и
бархатистой, как тапиока. Ей не удавалось вызвать у читателя гнев,
она просто отнимала вкус к жизни. Матье прочел: «Бомбардировка
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
115
Валенсии», он поднял голову с неясным раздражением: улица
Реомюр была как из почерневшей меди. Два часа — время дня, когда
жара наиболее тягостна, она извивается и потрескивает посреди
мостовой, как длинная электрическая искра. «Сорок самолетов
кружат в течение часа над центром города и сбрасывают сто
пятьдесят бомб. Точное количество убитых и раненых неизвестно».
Уголком глаза он увидел под заголовком зловещий маленький
сжатый текст курсивом, который казался чрезмерно болтливым и
излишне документированным: «От нашего специального
корреспондента», и приводились цифры. Матье перевернул страницу,
ему не хотелось этого знать. Речь господина Фландена в Бар-ле-
Дюк. Франция, затаившаяся за линией Мажино. Стоковский
заявляет: я никогда не женюсь на Грете Гарбо. Снова дело Вейдманна.
Визит короля Англии: когда Париж ждет своего Прекрасного
принца. Все французы... Матье вздрогнул и подумал: «Все
французы негодяи». Так Гомес ему однажды написал из Мадрида. Он
свернул газету и начал читать на первой странице сообщение
специального корреспондента. Уже насчитывалось пятьдесят убитых
и триста раненых, и это было еще не все, под руинами, безусловно,
были трупы. Нет самолетов, нет ПВО. Матье чувствовал себя
смутно виноватым. Пятьдесят убитых и триста раненых, что это в
действительности означает? Полный госпиталь? Нечто вроде большой
железнодорожной аварии. Пятьдесят убитых. Во Франции были
тысячи людей, которые не могли прочесть сегодня утром газету без
комка в горле, тысячи людей, которые сжимали кулаки, шептали:
«Сволочи!» Матье сжал кулаки, прошептал: «Сволочи!» — и
почувствовал себя еще более виноватым. Если бы по крайней мере он
ощутил хоть какое-то живое волнение, пусть и сознающее свои
пределы. Но нет: он был пуст, перед ним был великий гнев,
отчаянный гнев, он его видел, но был не в состоянии его коснуться.
Этот гнев взывал к нему, Матье, он ожидал, чтобы тот предоставил
ему себя, свое тело и душу. Это был гнев других. «Сволочи!» Матье
сжал кулаки, широко шагал, но это не приходило, гнев оставался
где-то извне. «Я был в Валенсии в 34-м году, я видел там фиесту и
большую корриду с Ортегой и Эль Эстудианте». Его мысль витала
кругами над городом, ища какую-нибудь церковь, улицу, фасад
дома, о которых он мог бы сказать: «Я видел это, теперь это
разрушили, этого больше не существует». Вот оно! Мысль его
приземлилась на темную улицу, отягощенную массивными
монументами. «Я это видел», он гулял там утром, задыхался в пылающей
116
Жан Поль Сартр
тени, небо пламенело очень высоко над головами. Вот оно! Бомбы
упали на эту улицу, на большие серые памятники, улица стала
непомерно широкой, она теперь доходит до внутренней части домов,
на улице больше нет тени, расплавленное небо стекло на мостовую,
и солнце падает на развалины. Нечто готово было родиться, робкая
зарница гнева. Вот оно! Но все тут же опало, расплющилось, он был
снова пуст, он шел размеренным шагом с благопристойностью
участника похоронной процессии в Париже, а не в Валенсии, в
Париже, обуреваемый одним лишь призраком гнева. Стекла
пылали, автомобили бежали по мостовой, он шел среди людей, одетых
в светлые ткани, среди французов, которые не смотрели на небо,
которые не боялись неба. И все же там это было явью, где-то там,
под тем же небом, это было явью, автомобили замерли, стекла
вылетели, женщины, оторопелые и безмолвные, сидели на корточках
с видом уснувших куриц у всамделишных трупов, женщины время
от времени смотрели на небо, на ядовитое небо, все французы
негодяи. Матье было жарко, пекло было невыносимым и реальным.
Он провел платком по лбу и подумал: «Нельзя страдать из-за того,
из-за чего хочешь». Там происходило величественное и
трагическое событие, которое требовало, чтобы из-за него страдали... «Я
не могу, я не там, я в Париже среди примет моей реальности, Жак
за письменным столом, говорящий «нет», ухмыляющийся Дани-
ель, Марсель в своей розовой комнате, Ивиш, которую я поцеловал
сегодня утром. Такова моя тошнотворная реальность, подлинная
уже потому, что она действительно существует. У каждого свой
мир, у меня это клиника с беременной Марсель в ней и этот еврей,
который требует четыре тысячи франков. Есть другие миры. Гомес.
Он был причастен, он уехал, таков его жребий. И вчерашний
верзила. Правда, он не уехал; наверное, он бродит по улицам, как и я.
Только, если он подберет газету и прочтет: «Бомбардировка
Валенсии», ему не нужно будет насиловать себя, он будет страдать там,
в городе, превращенном в руины. Почему я нахожусь в этом
омерзительном мире выклянчивания денег, хирургических
приспособлений, тайного лапанья в такси, в этом мире без Испании? Почему
я не вместе с Гомесом, с Брюне? Почему я не хочу идти сражаться?
Разве мне по силам выбрать другой мир? Разве я еще свободен? Я
могу идти куда хочу, я не встречаю сопротивления, но это даже
хуже: я в клетке без решеток, я отделен от Испании... ничем, и тем
не менее это непреодолимо». Он посмотрел на последнюю
страницу «Эксельсиора»: фотографии специального корреспондента. На
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
117
тротуаре вдоль стен — распластанные тела. Посреди мостовой
толстая женщина, лежащая на спине с задранной на ляжках
юбкой, у нее нет головы. Матье сложил газету и бросил ее в сточную
канаву.
Борис подстерегал его у входа в дом. Заметив Матье, он
напустил на себя холодный и чопорный вид: это был его излюбленный
вид, вид сумасшедшего.
— Только что я позвонил вам в дверь, — сказал он, — но, по-
моему, вас нет дома.
— А точно ли меня нет дома? — в том же дурашливом тоне
спросил Матье.
— Не знаю, — сказал Борис, — одно очевидно — вы мне не
открыли.
Матье в замешательстве посмотрел на него. Было около двух
часов, так или иначе, Брюне придет не раньше, чем через полчаса.
— Пойдемте, — сказал он, — сейчас все выясним. Они
поднялись. На лестнице Борис спросил:
— Наша встреча сегодня вечером в «Суматре» не отменяется?
Матье отвернулся и сделал вид, будто ищет в кармане ключи.
— Не знаю, приду ли я, — сказал он. — Я подумал... возможно,
Лола предпочла бы побыть с вами наедине.
— Возможно, — согласился Борис, — ну и что из того? Во всяком
случае, она будет любезна. И потом, как бы то ни было, мы будем
не одни: к нам присоединится Ивиш.
— Вы виделись с Ивиш? — спросил Матье, открывая дверь.
— Только что с ней расстался, — ответил Борис.
— Проходите, — посторонясь, пригласил Матье.
Борис прошел первым и с непринужденной фамильярностью
направился к письменному столу. Матье недружелюбно посмотрел
на его сухощавую спину: «Он видел Ивиш».
— Так вы придете? — спросил Борис.
Он обернулся и поглядел на Матье лукаво и сердечно.
— Ивиш... ничего вам не говорила о своих планах на вечер? —
спросил Матье.
— На вечер?
— Да. Я сомневался, придет ли она: она была очень озабочена
своим экзаменом.
— Совершенно точно придет, — заверил его Борис. — Она
сказала, что было бы забавно встретиться вчетвером.
— Вчетвером? — переспросил Матье. — Она так и сказала?
118
Жан Поль Сартр
— Ну да, — простодушно ответил Борис, — ведь будет еще и
Лола.
— Значит, Ивиш рассчитывает, что я приду?
— Естественно, — удивленно подтвердил Борис.
Наступило молчание. Борис слегка перегнулся через перила
балкона и посмотрел на улицу. Матье присоединился к нему, ткнув
его кулаком в спину.
— Мне нравится ваша улица, — сказал Борис, — но со временем
это должно надоесть. Меня всегда удивляет, что вы живете в
квартире.
— Почему?
— Не знаю. Такой свободный человек, как вы, должен был бы
распродать всю мебель и поселиться в гостинице. Разве нет? По-
моему, вам надо поселиться на Монмартре, месяц — в Фобур Тампль,
месяц — на улице Муффтар...
— Бросьте, — раздраженно фыркнул Матье, — это не имеет
никакого значения.
— Да, — сказал Борис после долгого раздумья, — это не имеет
никакого значения. Звонят, — раздосадованно добавил он.
Матье пошел открывать: это был Брюне.
— Привет, — сказал Матье, — ты... ты пришел раньше, чем
обещал.
— Да, — улыбаясь, сказал Брюне, — это тебя огорчает?
— Совсем нет...
— Кто это? — спросил Брюне.
— Борис Сергин, — ответил Матье.
— А! Славный последователь, — съязвил Брюне. — Я с ним не
знаком.
Борис холодно поклонился и отступил в глубь комнаты. Матье
стоял перед Брюне, опустив руки.
— Он терпеть не может, когда его называют моим
последователем.
— Понял, — бесстрастно буркнул Брюне.
Он, безразличный и основательный, крутил между пальцами
сигарету под неприязненным взглядом Бориса.
— Садись, — сказал Матье, — садись в кресло.
Брюне сел на стул.
— Нет, — сказал он, улыбаясь, — твои кресла действуют
развращающе... — Он добавил: — Итак, социал-предатель, тебя, чтобы
увидеть, нужно застигнуть в твоем логове.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
119
— Я не виноват, — сказал Матье, — я часто пытался тебя
повидать, но ты неуловим.
— Это правда, — подтвердил Брюне. — Я стал кем-то вроде
коммивояжера. Меня заставляют столько бегать, что бывают дни, когда
я сам себя с трудом нахожу.
Он с симпатией продолжил:
— Вот когда я тебя вижу, то наилучшим образом обретаю себя,
мне кажется, что я оставался у тебя на хранение.
Матье признательно ему улыбнулся.
— Я много раз думал, — проговорил он, — что мы должны
почаще видеться. Мне иногда кажется, что если мы будем время от
времени встречаться втроем, то не так быстро будем стареть.
Брюне удивленно посмотрел на него.
— Втроем?
— Ну да. Даниель, ты и я.
— Действительно, Даниель! — изумился Брюне. — Еще ведь есть
и этот наш приятель. Ты иногда его видишь?
Радость Матье угасла: когда Брюне встречал Портала или Бур-
релье, он, должно быть, говорил таким же скучающим тоном:
«Матье? Он преподает в лицее Бюффон, я с ним изредка вижусь».
— Представь себе, да, я его еще вижу, — с горечью сказал Матье.
Наступило молчание. Брюне положил ладони на колени. Он
был здесь, тяжелый и массивный, он сидел на стуле Матье и с
упрямым видом наклонял лицо к пламени спички, комната была
заполнена его присутствием, дымом его сигареты, его медленными
движениями. Матье посмотрел на его большие крестьянские руки и
подумал: «Брюне пришел». Он почувствовал, что доверие и радость
вновь робко шевельнулись в его сердце.
— Ну, — спросил Брюне, — и что же ты поделываешь?
Матье смутился: фактически он не делал ничего особенного.
— Ничего, — признался он.
— Легко себе представляю: четырнадцать часов занятий в
неделю и путешествие за границу во время летних каникул.
— Да, так и есть, — смеясь, согласился Матье. Он избегал
смотреть на Бориса.
— А твой брат? Все еще в «Боевых крестах»*?
— Нет, — ответил Матье, — теперь он предпочитает нюансы. Он
считает, что «Боевые кресты» недостаточно динамичны.
* «Боевые кресты» — профашистская организация, возглавляемая
полковником де ля Роком.
120
Жан Поль Сартр
— Значит, теперь он дичь для Дорио*, — заключил Брюне.
— Да, так поговаривают... Слушай, я только что разругался с
ним, — не думая добавил Матье.
Брюне метнул на него острый взгляд.
— Почему?
— Все потому же: я его прошу об услуге, а он отвечает нотацией.
— И только тогда ты его ругаешь. Смешно, — с иронией заметил
Брюне.
Они с минуту помолчали, и Матье грустно подумал:
«Обстановка накаляется». Если б только Борису пришла в голову мысль уйти!
Но он, казалось, об этом и не думал; нахохлившись, он сидел в углу
с видом занемогшей борзой. Брюне оседлал стул, он тоже давил на
Бориса своим тяжелым взглядом. «Он хочет, чтоб Борис ушел», — с
удовлетворением подумал Матье. Он стал пристально глядеть
Борису в переносицу: может, он наконец догадается под прицелом
этих сопряженных взглядов.
Но тот сидел не шевелясь. Брюне кашлянул.
— Молодой человек, вы все еще занимаетесь философией? —
спросил он.
Борис утвердительно кивнул.
— И на какой вы стадии?
— Я заканчиваю лиценциат, — сухо ответил Борис.
— Лиценциат, — задумчиво повторил Брюне, — лиценциат, ну
что ж, в добрый час...
И быстро добавил:
— Вы не рассердитесь, если я ненадолго отниму у вас Матье?
Вам везет, вы видите его каждый день, а я... Прогуляешься со
мной? — спросил он у Матье.
Борис стремительно подошел к Брюне.
— Я вас понял, — сказал он. — Оставайтесь, оставайтесь: я ухожу.
И Борис слегка поклонился: он был уязвлен. Матье проводил
его до дверей и тепло сказал ему:
— До вечера, не так ли? Я буду там в одиннадцать.
Борис удрученно улыбнулся ему:
— До вечера.
Матье закрыл дверь и вернулся к Брюне.
— Так, — сказал он, потирая руки, — ты его выпроводил!
Они засмеялись. Брюне спросил:
* Дорио — бывший коммунист, в 30-е годы — главарь ультраправой
организации кагуляров (orcagoul — капюшон).
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
121
— Может, я и перестарался. Ты не в претензии?
— Наоборот, — смеясь сказал Матье. — Он привык, и потом я
рад повидаться с тобой с глазу на глаз.
Брюне деловито сказал:
— Я его поторопил, так как в моем распоряжении только
пятнадцать минут.
Смех Матье осекся.
— Пятнадцать минут! — Он живо добавил: — Знаю, знаю, ты не
распоряжаешься своим временем. Молодец, что ты вообще зашел.
— По правде говоря, я сегодня занят весь день. Но утром, когда
я увидел твою физиономию, подумал: непременно нужно с ним
потолковать.
— У меня была неважная физиономия?
— Да, бедолага, да. Желтоватая, малость отечная, с нервным
тиком на веках и в уголках губ.
Он с чувством добавил:
— Я себе сказал: не хочу, чтоб его доконали.
Матье кашлянул.
— Не думал, что у меня столь выразительное лицо... Я дурно
спал, — с усилием добавил он. — У меня неприятности... знаешь, как
у всех: обычные денежные затруднения.
Брюне явно не поверил.
— Если только это, тем лучше, — сказал он. — Ты непременно
выпутаешься. Но у тебя скорее вид человека, обнаружившего, что
он жил идеями, которые себя не оправдали.
— А, эти идеи... — сказал Матье, неопределенно махнув рукой.
Он посмотрел на Брюне с покорной благодарностью и подумал:
«Вот почему он пришел. У него был занятый день, уйма важных
встреч, а он нашел время прийти мне на помощь». Но все-таки было
бы лучше, если бы Брюне просто захотел его повидать.
— Послушай, — сказал Брюне, — буду говорить напрямик, я
пришел предложить тебе: хочешь вступить в партию? Если ты согласен,
я тебя увожу с собой, и за двадцать минут все будет сделано...
Матье вздрогнул.
— В коммунистическую партию? — спросил он.
Брюне засмеялся, веки его сощурились, он показал
ослепительные зубы.
— Конечно, — сказал он, — ты что, хочешь, чтобы я заставлял
тебя вступать в «Боевые кресты» де ля Рока?
Наступило молчание.
122
Жан Поль Сартр
— Брюне, — мягко спросил Матье, — почему ты так хочешь,
чтобы я стал коммунистом? Для моего блага или для блага партии?
— Для твоего блага, — ответил Брюне, — и не надо меня
подозревать в том, что я стал вербовщиком коммунистической партии.
Пойми: партия в тебе не нуждается. Ты представляешь для нее не
более чем некоторую интеллектуальную ценность, а таких
интеллектуалов у нас пруд пруди. Это ты нуждаешься в партии.
— Стало быть, это для моего блага, — повторил Матье. — Для
моего блага... Послушай, — резко сказал он, — я не ждал твоего...
твоего предложения, ты меня застал врасплох, но... но я хочу знать
твою точку зрения. Ты понимаешь, что я живу в окружении юнцов,
которые заняты только собой и восхищаются мной из принципа?
Никто никогда не говорит со мной обо мне; мне и самому порой
трудно себя найти. Итак? Ты думаешь, что мне необходимо активно
включиться?
— Да, — уверенно сказал Брюне. — Да, тебе необходимо активно
включиться. Разве ты сам этого не чувствуешь?
Матье грустно улыбнулся: он думал об Испании.
— Ты шел своей дорогой, — продолжал Брюне. — Ты сын
буржуа, ты не мог прийти к нам просто так. Тебе нужно было
освободиться. Но для чего свобода, как не для того, чтобы активно
включиться? Ты положил тридцать пять лет на то, чтобы очистить себя,
а результат — пустота. Ты странный человек, — заметил он с
дружеской улыбкой. — Ты живешь в воздухе, ты обрубил свои
буржуазные корни, у тебя никакой связи с пролетариатом, ты паришь, ты
абстрактность, вечно отсутствуешь. Но это не может нравиться тебе
постоянно.
— Да, — сказал Матье, — это нравится недолго.
Он подошел к Брюне и потряс его за плечи, он сильно его
любил.
— Ах ты, чертов зазывала, — сказал он ему, — проститутка ты
этакая. Мне доставляет удовольствие, что ты мне все это
говоришь.
Брюне рассеянно ему улыбнулся: он продолжил свою мысль:
— Ты отказался от всего, чтобы быть свободным. Сделай еще
один шаг, откажись от самой своей свободы — и все тебе воздастся
сторицей.
— Ты говоришь, как поп, — смеясь, сказал Матье. — Нет, но
серьезно, старик, это не было бы с моей стороны жертвой. Поверь, мне
хорошо известно, что я обрету все: плоть, кровь, подлинные страсти.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
123
Знаешь, Брюне, я кончил тем, что потерял чувство реальности:
ничто мне не кажется абсолютно подлинным.
Брюне не ответил: он размышлял. У него было тяжелое,
обрюзгшее лицо кирпичного цвета, рыжие ресницы, очень светлые и очень
длинные. Он был похож на пруссака. Каждый раз, видя его, Матье
испытывал нечто вроде беспокойного любопытства,
сосредоточившегося в ноздрях, он осторожно втягивал воздух, ожидая ощутить
острый звериный запах. Но у Брюне не было запаха.
— Вот ты реален, — сказал Матье. — То, к чему ты
прикасаешься, имеет подлинный вид. С тех пор как ты у меня в комнате, она
мне кажется вполне реальной и вызывает отвращение.
Он быстро добавил:
— Ты человек.
— Человек? — удивленно переспросил Брюне. — Ну разумеется.
Но что ты хочешь этим сказать?
— Ничего, кроме того, что сказал: ты избрал для себя участь
человека.
И про себя Матье подумал: «Да, человека. С крепкими, немного
напряженными мышцами, человека, мыслящего суровыми
лапидарными истинами, человека уравновешенного, замкнутого,
уверенного в себе, земного, не подчиняющегося ни ангельским
искушениям искусства, ни искусам психологии и политики. Сплошной
человек, ничего, кроме человека». Матье в его присутствии
чувствовал себя некрасивым, постаревшим, неладно скроенным,
обуреваемым всеми смехотворными наваждениями. Он подумал: «А вот я на
человека мало похож».
Брюне встал и подошел к Матье.
— Ну так поступай так же, как я, — сказал он, — кто тебе
мешает? Ты что, воображаешь, будто сможешь всю жизнь прожить ни
тем ни сем?
Матье в нерешительности посмотрел на него.
— Конечно, — сказал он, — конечно. Если я что-то и выберу, то
только вас, третьего не дано.
— Третьего не дано, — повторил Брюне. Он немного подождал
и спросил: — Так что?
— Дай мне собраться с духом, — сказал Матье.
— Собирайся, — сказал Брюне, — но поторопись, завтра ты
постареешь, у тебя сложатся маленькие привычки, и ты станешь рабом
своей свободы. А может, постареет и весь мир.
— Не понимаю, — признался Матье.
124
Жан Поль Сартр
Брюне посмотрел на него и выпалил:
— В сентябре будет война.
— Ты смеешься? — сказал Матье.
— Можешь мне поверить, англичане это знают, и французское
правительство уже предупреждено: во второй половине сентября
немцы вторгнутся в Чехословакию.
— Эти сведения... — поморщился Матье.
— Ты что, ничего не понимаешь? — возмутился Брюне. Но тут
же осекся и добавил помягче: — Действительно, если б ты понимал,
мне бы не приходилось ставить точки над i. Так слушай, ты такое
же пушечное мясо, как и я. Представь себе, что ты откуда-то
приехал в страну, где сейчас находишься: ты рискуешь лопнуть, как
пузырь, за тридцать пять лет ты проспал свою жизнь, и в один
прекрасный день какая-нибудь граната взорвет твои сновидения, и ты
умрешь, не проснувшись. Ты был абстрактным служащим, ты
будешь смехотворным воителем и погибнешь, ничего не поняв,
только ради того, чтобы господин Шнейдер сохранил свои дивиденды
на заводах «Шкоды».
— А ты? — спросил Матье. И, улыбаясь, добавил: — Боюсь,
старина, что марксизм не уберегает от пуль.
— Я боюсь того же, — сказал Брюне. — Знаешь, куда меня
пошлют? За линию Мажино: это стопроцентная мясорубка.
— В чем же дело?
— Это отнюдь не осознанная необходимость. Но теперь ничто не
может отнять смысл у моей жизни и не помешает ей стать судьбой.
Он тут же живо добавил:
— Впрочем, как и у жизни всех моих товарищей.
Можно было подумать, что он опасается проявить чрезмерную
гордыню.
Матье не ответил, он вышел на балкон, облокотился о перила и
подумал: «Он хорошо сказал». Брюне был прав: его жизнь стала
судьбой. Его возраст, его класс, его эпоху — все это он принял, за
все взял на себя ответственность, он выбрал свинцовую палку
правых молодчиков, которая ударит его в висок, немецкую гранату,
которая разорвет его в клочки. Он активно включился, он
отказался от своей свободы, теперь это только солдат и ничего больше. И
ему тут же все вернули, даже его свободу. «Он свободнее меня: он
живет в согласии с самим собой и в согласии с партией». Он был
здесь, такой подлинный, с подлинным вкусом табака во рту; цвета
и формы, которые он видел, были более реальными, более плотны-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
125
ми, чем цвета и формы, которые мог видеть Матье, и в то же
мгновение он воспарял над земной твердью, страдая и сражаясь вместе
с пролетариями всех стран. «В это мгновение, в это самое мгновение
есть люди, в упор стреляющие друг в друга где-то в предместье
Мадрида, есть австрийские евреи, в муках погибающие в
концлагерях, есть китайцы среди руин Нанкина, а я здесь, такой свеженький
и живой, я чувствую себя совершенно свободным, через пятнадцать
минут я возьму шляпу и пойду гулять в Люксембургский сад». Он
повернулся к Брюне, с горечью посмотрел на него и подумал: «Я
человек безответственный».
— Валенсию бомбили, — вдруг сказал он.
— Знаю, — ответил Брюне. — Во всем городе не было ни одного
орудия ПВО. Бомбы сбросили на рынок.
Он не сжал кулаки, не изменил спокойного тона, немного
сонной манеры речи, но тем не менее это именно на него сбросили
бомбы, убили именно его братьев и сестер, именно его детей. Матье
уселся в кресло. «Твои кресла действуют развращающе». Он
вскочил и присел на угол стола.
— Ну? — спросил Брюне.
У него был такой вид, будто он Матье подстерегал.
— Тебе повезло, — сказал Матье.
— Повезло, что я коммунист?
-Да.
— Ну, ты даешь! Просто это дело выбора.
— Знаю. Тебе повезло, что ты смог выбрать.
Лицо Брюне сразу стало жестким.
— Это означает, что тебе не повезет?
Ну вот, необходимо отвечать. Он ждет: да или нет. Вступить в
партию, придать смысл жизни, сделать выбор, стать человеком,
действовать, верить. Это было бы спасением. Брюне не сводил с
него глаз.
— Ты отказываешься?
— Да, — с отчаянием ответил Матье, — да, Брюне, я
отказываюсь.
Он подумал: «Он пришел предложить мне лучшее, что у него
есть». И добавил:
— Знаешь, это не окончательное решение. Может быть, позже...
Брюне пожал плечами.
— Позже? Если ты рассчитываешь на внутреннее озарение,
чтобы решиться, то рискуешь прождать всю жизнь. Ты, может, дума-
126
Жан Поль Сартр
ешь, что я был так уж убежден, когда вступил в коммунистическую
партию? Убеждение возникает потом.
Матье грустно улыбнулся.
— Знаю-знаю: стань на колени, и ты уверуешь. Может, ты и прав.
Но я хочу сначала поверить.
— Конечно, — нетерпеливо сказал Брюне. — Вы, интеллектуалы,
все одинаковы: все трещит по швам, все рушится, скоро винтовки
начнут стрелять сами, а вы в полном спокойствии, вы хотите
сначала убедиться наверняка. Эх, если б ты только смог увидеть себя
моими глазами, то понял бы, что время поджимает.
— Согласен, время поджимает, но что из того?
Брюне возмущенно хлопнул себя по ляжке.
— Вот оно! Ты делаешь вид, будто сожалеешь о своем
скептицизме, но продолжаешь за него держаться. В нем твой
нравственный комфорт. Когда ему что-то угрожает, ты упрямо за него
цепляешься, как твой брат цепляется за деньги.
Матье коротко спросил:
— Разве у меня сейчас упрямый вид?
— Я так не сказал...
Наступило молчание. Брюне, казалось, смягчился. «Если бы он
мог меня понять», — подумал Матье. Он сделал усилие: убедить
Брюне — это единственное средство убедить самого себя.
— Мне нечего защищать: я не горжусь своей жизнью, у меня нет
ни гроша. Моя свобода? Она меня тяготит: уже многие годы я
свободен неизвестно зачем. Я горю желанием сменить свободу на
уверенность. Я не просил бы ничего лучшего, как только работать с
вами, это бы меня изменило, мне необходимо немного забыть о себе.
И потом, я думаю, как и ты, что не дорос до человека, пока не нашел
того, за что готов умереть.
Брюне поднял голову.
— Ну так как? — спросил он почти весело.
— Ты же видишь: я пока не могу активно включиться, у меня
недостаточно причин для этого. Как вы, я возмущен теми же
людьми, теми же событиями, но возмущен явно недостаточно. Ничего не
могу с этим поделать. Если я примусь дефилировать, подняв кулак
и распевая «Интернационал», и скажу, что этим удовлетворен, я
себе солгу.
Брюне принял свой самый громоздкий, самый крестьянский вид,
сейчас он походил на башню. Матье в отчаянии посмотрел на него.
— Ты меня понимаешь, Брюне? Скажи, ты меня понимаешь?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
127
— Не знаю, хорошо ли я тебя понимаю, но, как бы то ни было,
ты не должен оправдываться, никто тебя не обвиняет. Ты бережешь
себя для более благоприятного случая, это твое право. Желаю,
чтобы он представился как можно раньше.
— Я тоже этого желаю.
Брюне с любопытством посмотрел на него.
— Ты в этом уверен?
-Да.
— Да? Ну что ж, тем лучше. Только боюсь, что случай
представится не скоро.
— Я себе тоже говорил это, — признался Матье. — Я говорил
себе, что он, быть может, никогда не представится или
представится слишком поздно, а возможно, такого случая вообще не
существует.
— И что тогда?
— Тогда я буду жалким субъектом. Вот и все.
Брюне встал.
— Да, — сказал он, — да... Ну что ж, старик, все же я рад, что
повидал тебя.
Матье тоже встал.
— Ты... что же, вот так и уйдешь? У тебя найдется еще минутка?
Брюне посмотрел на часы.
— Я уже опаздываю.
Наступило молчание. Брюне вежливо ждал. «Нельзя его
отпустить вот так, нужно с ним еще потолковать», — подумал Матье. Но
не нашелся, что сказать.
— Не нужно на меня сердиться, — поспешно проговорил он.
— Да я на тебя и не сержусь, — заверил его Брюне. — Тебя никто
не принуждает думать, как я.
— Это неправда, — огорченно сказал Матье. — Я вас всех
слишком хорошо знаю: вы считаете, что все обязаны думать, как вы, а
несогласных с вами считаете негодяями. Ты меня принимаешь за
негодяя, но не хочешь мне в этом признаться, потому что считаешь
мой случай безнадежным.
Брюне слабо улыбнулся.
— Я не считаю тебя негодяем, — сказал он. — Просто ты
освободился от своего класса меньше, чем я думал.
Говоря это, он подошел к двери. Матье сказал ему:
— Ты даже не можешь представить себе, как я тронут, что ты
зашел ко мне и предложил свою помощь только потому, что сегодня
128
Жан Поль Сартр
утром у меня была скверная физиономия. Ты прав, знаешь, мне
нужна помощь. Только я хотел бы именно твоей помощи, твоей, а
не Карла Маркса. Я хотел бы часто тебя видеть и говорить с тобой,
разве это невозможно?
Брюне отвел взгляд.
— Я бы тоже хотел, — сказал он, — но у меня мало времени.
Матье подумал: «Все очевидно. Сегодня утром он пожалел
меня, а я не оправдал его жалости. Теперь мы снова чужие. Я не
имею права на его время». Он невольно выговорил:
— Брюне, разве ты все забыл? Ты был моим лучшим другом.
Брюне играл дверной щеколдой.
— А почему же, по-твоему, я пришел? Если б ты принял мое
предложение, мы могли бы работать вместе...
Они замолчали. Матье подумал: «Он спешит, ему не терпится
уйти». Брюне, не глядя на него, добавил:
— Я все еще привязан к тебе. К твоему лицу, к твоим рукам, к
твоему голосу, и, потом, у нас есть общие воспоминания. Но это, в
сущности, не важно: мои единственные друзья — это товарищи по
партии, с ними у меня все общее.
— И ты думаешь, между нами нет больше ничего общего? —
спросил Матье.
Брюне, не отвечая, поднял плечи. Матье достаточно было
сказать слово, только одно слово, и он снова обрел бы дружбу Брюне,
а с нею и смысл жизни. Это манило к себе, как сон. Матье резко
выпрямился.
— Не смею тебя больше задерживать, — сказал он. — Если
выпадет время, заходи.
— Конечно, — отозвался Брюне. — Изменишь мнение, дай
знать.
— Разумеется.
Брюне открыл дверь, Он улыбнулся Матье и удалился.
Матье подумал: «Это был мой лучший друг».
Брюне ушел. Он шагал по улицам вразвалку, как моряк, и
улицы одна за другой обретали реальность. Но комната утратила
реальность вместе с его уходом. Матье посмотрел на свое зеленое
развращающее кресло, на стулья, на зеленые шторы и подумал:
«Он больше не будет сидеть на моих стульях, он больше не будет
смотреть на мои шторы, покручивая сигарету», комната теперь
была не более чем пятном зеленого света, подрагивавшим, когда
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
129
мимо проезжали автобусы. Матье подошел к окну и облокотился
на подоконник. Он думал: «Я не мог согласиться», его
развращающая комната стояла позади него, как стоячая вода, а он держал
голову над водой и смотрел на улицу, думая: «Так это правда? Это
правда, что я не мог согласиться?» Вдалеке девочка прыгала через
скакалку, скакалка взлетала над ее головой, как петля, и стегала
землю под ее ногами. Летнее послеполуденное время, свет лег на
улицы и на крыши, застывший и холодный, как вечная истина. «А
правда ли, что я негодяй?» Кресло зеленое, скакалка похожа на
петлю: это неоспоримо. Но, когда речь идет о людях, всегда можно
спорить, все, что они делают, можно объяснять, как хочется, так
или этак. Я отказался, потому что хочу оставаться свободным, —
вот и все. И еще: я струсил, я люблю свои зеленые шторы, я люблю
вечером подышать свежим воздухом на своем балконе, я не хотел
бы, чтобы это изменилось; мне нравится возмущаться
капитализмом, но я не хотел бы, чтоб его уничтожили, ведь тогда у меня не
будет больше предлогов для возмущения, мне нравится говорить
«нет», только «нет», и я боюсь, что люди попытаются вправду
построить более пригодный для жизни мир, потому что мне нечего
будет тогда сказать, кроме «да», и мне придется поступать, как
другие. Снизу или сверху: кто будет решать? Брюне решил: он
считает меня негодяем. Жак тоже. Даниель тоже; все они пришли
к одному: я негодяй. Этот бедный Матье, он пропал, он негодяй. А
что могу сделать я — один против всех? Нужно решить, но что я
решаю? Когда он только что сказал, что я не негодяй, он думал, что
искренен, горький энтузиазм пронизывал его сердце. Но кто еще
смог бы сохранить под этим светом хоть махонькую частицу
энтузиазма?» Это был свет заката надежды, он увековечивал все, чего
касался. Девочка вечно будет прыгать через скакалку, скакалка
будет вечно взлетать над ее головой и вечно бить под ее ногами о
тротуар, Матье будет вечно на нее смотреть. Зачем прыгать через
скакалку? Зачем? Зачем стремиться к свободе? Под этим же
светом в Мадриде, в Валенсии люди стоят у окон и смотрят на
пустынные и вечные улицы, наверное, они говорят себе: «Зачем? Зачем
продолжать борьбу?» Матье вернулся в комнату, но свет
последовал за ним. Мое кресло, моя мебель. На столе лежало пресс-папье
в форме краба. Матье взял его за панцирь так, как будто он был
живым. «Мое пресс-папье». Зачем? Зачем? Он положил краба на
стол и сказал себе: «Я ничтожество».
130
Жан Поль Сартр
IX
Было шесть часов; выходя из своего бюро, Даниель взглянул на
себя в холле в зеркало, подумал: «Сейчас начнется!» — и испугался.
Он пошел по улице Реомюр: здесь можно было спрятаться, это был
зал под открытым небом, зал потерянных шагов. Вечер опорожнил
деловые здания, стоящие по обе его стороны; не было никакого
желания оказаться за их темными стеклами. Высвобожденный
взгляд Даниеля тек прямо между этими дырявыми утесами вплоть
до пятна неба, розового, застывшего, стиснутого вдали домами.
Но не так-то легко было спрятаться. Даже для улицы Реомюр
он слишком приметен; высокие нарумяненные девки, выходя из
магазинов, бросали на него зазывные взгляды, и он чувствовал себя
голым. «Шлюхи», — процедил он сквозь зубы. Он боялся вдохнуть
их запах: сколько бы женщина ни мылась, от нее всегда несет. К
счастью, женщины встречались сегодня нечасто: эта улица была не
для них, а мужчины не обращали на него внимания, они на ходу
читали газеты, или с усталым видом протирали стекла очков, или
же озадаченно улыбались в пустоту. Это была настоящая толпа,
хоть и немноголюдная, она двигалась медленно, непреклонно, как
судьба, казалось, толпа расплющивала его. Даниель пошел в ногу с
этой медленной вереницей, он позаимствовал у этих людей сонную
улыбку, смутную и угрожающую суть, он потерял себя; в нем
только отзывался глухой гул лавины, он был всего лишь отмелью
забытого света: «Я слишком рано приду к Марсель, у меня есть еще
время немного пройтись».
Даниель выпрямился, напряженный и недоверчивый: он снова
нашел себя, он никогда не мог потерять себя надолго. «У меня есть
еще время немного пройтись». Это означало: «Сейчас я пойду на
благотворительный праздник». Даниелю давно уже не удавалось
обмануть себя. Но зачем? Он хотел пойти на праздник. Что ж, он
пойдет. Он пойдет, потому что не имеет ни малейшего желания
отказаться от него: «Сегодня утром — кошки, потом визит Матье,
после этого четыре часа постылой работы, а вечером — Марсель, это
невыносимо, я могу хоть немного возместить свои убытки».
Марсель — это болото. Она позволяла поучать себя часами, она
говорила: да, да, всегда да, мысли увязали в ее мозгу, она
существовала только по видимости. Приятно некоторое время потешаться
над дураками: отпускаешь бечевку, и они взмывают в воздух,
огромные и легкие, как надувные слоны. Потом потянешь за бечевку, и
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
131
они возвращаются и стелются вровень с землей, возбужденные и
оторопевшие, они пританцовывают неуклюжими прыжками при
каждом подергивании бечевы, но дураков нужно часто менять,
иначе все кончается отвращением. К тому же сейчас Марсель протухла,
в ее комнате будет невозможно дышать. Уже и раньше он не мог,
входя туда, не принюхиваться. Вроде ничем не пахло, но он
никогда не был в этом до конца уверен, в глубине его бронхов постоянно
гнездилось некое беспокойство, часто это вызывало приступ астмы.
«Я пойду на праздник». Ему нечего перед собой оправдываться, это
совершенно невинно: он просто хотел посмотреть на уловки
гомосексуалистов, когда они «клеили» кого-нибудь. Благотворительный
праздник на Севастопольском бульваре был знаменит в своем роде,
это там инспектор министерства финансов Дюра подцепил
потаскуху, которая его убила. Голубые, фланирующие перед игровыми
автоматами в ожидании клиента, были гораздо забавнее, чем их
собратья с Монпарнаса: партнеры на случай, маленькие, неотесанные
мужланы, грубые и наглые, с хриплыми голосами и бесшумными
повадками, они просто искали возможности поужинать и
заработать десять франков. А при виде пассивных можно было вообще
помереть со смеху: ласковые и шелковистые, с медовыми голосами
и каким-то отблеском во взгляде, мерцающим, покорным и
неуловимым. Даниель не выносил их смирения, у них постоянно был вид
сознающихся пред судом в своей вине. Ему хотелось их избить;
человека, который сам себя приговаривает, всегда хочется
принизить, чтобы еще больше его уличить, чтобы начисто уничтожить то
скудное достоинство, которое он еще сохранил. Обычно Даниель
прислонялся к столбу и пристально их рассматривал, пока они
жалко паясничали под ленивыми, насмешливыми взглядами своих
молодых любовников. Голубые принимали его за полицейского
агента или сутенера какого-нибудь из юнцов: он портил им все
удовольствие.
Даниель внезапно заторопился и ускорил шаг: «Вот уж сейчас
посмеюсь!» Горло его пересохло, сухой воздух пылал вокруг. Он
больше ничего не видел, перед его глазами было пятно,
воспоминание о плотном световом сгустке цвета яичного желтка; пятно его
отталкивало и притягивало одновременно, он испытывал
необходимость видеть этот отвратительный свет, но тот был еще далеко,
витая меж низких стен, как запах погреба. Улица Реомюр исчезла,
перед ним не оставалось ничего, кроме дистанции с препятствиями,
людьми: это отдавало кошмаром. Однако в настоящих кошмарах
132
Жан Поль Сартр
Даниель никогда не доходил до конца улицы. Он повернул на
Севастопольский бульвар, прокаленный под ясным небом, и замедлил
шаги. Благотворительный праздник: он увидел вывеску,
удостоверился, что лица прохожих ему неизвестны, и вошел.
Это была длинная пыльная кишка с хмурым уродством
покрытых коричневой краской стен и с запахом склада. Даниель
углубился в желтый свет, который был еще докучнее и жирнее, чем обычно,
ясность дня заталкивала его в глубину зала; для Даниеля это был
цвет морской болезни — он напоминал ему о ночи, проведенной на
пароходе, плывущем из Палермо: в пустом машинном отделении
была такая же дымка желтого цвета, иногда она ему снилась, и он в
испуге просыпался, радуясь, что снова обрел сумерки. Часы,
которые он проводил на благотворительном празднике, казались ему
отмеренными глухими ударами какого-то механизма.
Вдоль стен были расставлены грубые ящики на четырех ножках,
игровые автоматы, Даниель знал их все: спортивная команда,
шестнадцать деревянных раскрашенных фигурок на длинных медных
стержнях, игроки в поло, автомобиль из жести, который нужно
было запускать по матерчатой дороге между полями и домами, пять
черных кошечек на крыше под лунным светом — их сбивали пятью
выстрелами из револьвера, электрический карабин, автоматы для
раздачи шоколадных конфет и духов. В глубине зала стояли в три
ряда кинопроекторы, названия фильмов были обозначены
большими черными буквами: «Молодая семья», «Озорные горничные»,
«Солнечная ванна», «Прерванная первая брачная ночь». Какой-то
господин с моноклем украдкой подошел к одному из проекторов,
опустил двадцать су в щелку и с неуклюжей поспешностью приник
глазами к линзе. Даниель задыхался: из-за этой пыли, из-за этого
пекла, к тому же по другую сторону стены начали мерно и громко
стучать. Слева он увидел приманку: бедно одетые молодые люди
сгруппировались вокруг двухметрового манекена боксера-негра, у
которого посреди живота была вмонтирована кожаная подушечка
с циферблатом. Их было четверо: блондин, рыжий и два брюнета;
они сняли пиджаки, засучили рукава рубашек, обнажив худые
ручонки, и как одержимые колотили кулаками по подушечке.
Стрелка на циферблате показывала силу их ударов. Они исподтишка
скосили глаза на Даниеля и стали колотить еще пуще. Даниель
свирепо посмотрел на них, чтоб они поняли, что ошиблись адресом,
и повернулся к ним спиной. Справа, у кассы, он увидел стоящего
против света высокого юношу с землистым лицом, на нем были
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
133
сильно помятый костюм, исподняя рубашка, мягкие туфли. Он
определенно не был голубым, как остальные, во всяком случае,
казалось, что он с ними не знаком. Видимо, он забрел сюда
случайно. Даниель дал бы голову на отсечение, что это так. Юноша был
всецело поглощен созерцанием механического крана. Немного
погодя, привлеченный, без сомнения, электролампой и
фотоаппаратом, лежащими за стеклами на кучке конфет, он бесшумно
приблизился и с хитрым видом опустил монету в щель, затем немного
отступил и, по-видимому, снова погрузился в размышления,
задумчиво поглаживая крылья носа. Даниель почувствовал хорошо
знакомую дрожь, пробежавшую по затылку. «Этот малый очень себя
любит, — подумал он, — он любит ласкать себя». Такие люди были
самыми притягательными, самыми романтичными: эти едва
заметные движения разоблачали бессознательное кокетство,
сокровенную и тихую любовь к себе самому. Юноша быстро схватил две
ручки игрового автомата и со знанием дела стал ими
маневрировать. Кран сделал оборот, скрежеща шестеренками и старчески
подрагивая, весь механизм сотрясался. Даниель желал ему выиграть
по крайней мере лампу, но окошко выплюнуло лишь горсть
разноцветных конфет, похожих на мелкие засохшие фасолины. Однако
юноша не казался разочарованным, он пошарил в кармане и извлек
другую монету. «Это его последние гроши, — решил Даниель, — он
не ел со вчерашнего дня, но не стоит воображать, будто это худое
очаровательное тело, занятое только собой, ведет таинственную
жизнь, полную лишений, свободы и надежды. Не сегодня, не здесь,
в этом аду, под этим зловещим светом, с глухими ударами о стену;
ведь я дал себе зарок сдержанности». И все-таки Даниель отлично
понимал, как можно попасть в зависимость к одному из этих
автоматов, мало-помалу проигрывать на нем деньги и пытать удачу
снова и снова, с горлом, пересохшим от ярости и головокружения.
Даниель понимал это наваждение; никелированный кран начал
вращаться осторожно и прихотливо: казалось, он доволен самим
собой. Даниель испугался: он сделал шаг вперед, он горел желанием
положить ладонь на руку молодого человека — он уже ощущал
прикосновение к выношенной, шероховатой ткани — и сказать ему: «Не
играйте больше». Кошмар сейчас начнется снова, в нем будет
привкус вечности, и этот триумфальный тамтам по другую сторону
стены, и этот прилив смиренной грусти, поднимавшейся в нем,
бесконечной и привычной грусти, которая все затопляет, ему
понадобятся дни и ночи, чтобы избавиться от нее. Но тут вошел какой-то
134
Жан Поль Сартр
господин, и Даниель почувствовал себя освобожденным: он
выпрямился и подумал, что сейчас рассмеется. «Вот это мужчинка!» —
подумал он. Он был немного растерян, но все-таки доволен: ведь он
удержался от соблазна.
Господин стремительно приблизился; он шел, сгибая колени,
туловище его было неподвижно. «Понятно, — подумал Даниель, —
ты носишь корсет». Ему могло быть лет пятьдесят, он был чисто
выбрит, лицо смешливое; можно было подумать, что жизнь
любовно сделала ему массаж: персиковый цвет лица под седыми
волосами, прекрасный флорентийский нос и взгляд более суровый, более
близорукий, чем надо бы, — взгляд, сообразный обстоятельствам.
Его приход вызвал оживление: четыре парня разом обернулись с
одинаковым видом порочной невинности, потом стали снова
наносить удары по брюху негра, но без прежнего энтузиазма. Господин
исподволь бросил на них быстрый взгляд, пожалуй, слишком
придирчивый, потом отвернулся и подошел к спортивному автомату.
Он покрутил железные стержни и с улыбчивым старанием стал
рассматривать фигурки, будто сам забавлялся капризом,
приведшим его сюда. Даниель увидел эту улыбку и ощутил острую боль в
сердце, все эти нарочитые повадки внушали ему ужас, захотелось
ретироваться. Но только на мгновение: нереализованный порыв, он
уже привык к подобным минутам. Даниель удобно облокотился о
столб и устремил на господина тяжелый взгляд. Справа от него
молодой человек в исподней сорочке вынул из кармана третью
монету и в третий раз начал свой молчаливый танец вокруг автомата
с краном.
Красивый господин наклонился над спортивным автоматом и
провел указательным пальцем по хрупким телам маленьких
деревянных игроков: он не собирался снизойти до прямых авансов, он,
несомненно, отдавал себе отчет, что со своей седой шевелюрой и
светлой одеждой он достаточно заманчивая тартинка, чтобы
слетелись все эти молодые мушки. И действительно, после нескольких
мгновений шушуканья от группы отделился блондинчик; набросив
на плечи пиджак, он вразвалочку приблизился к господину, держа
руки в карманах. Вид у него был безмолвный и искательный, под
густыми бровями собачий взгляд. Даниель с отвращением
посмотрел на его пухлый зад, на толстые, но бледные крестьянские щеки,
уже испачканные редкой щетиной. «Плоть женщины, — подумал
Даниель, — размешивается, как тесто». Господин уведет его к себе,
выкупает с мылом, может быть, надушит. При этой мысли Даниеля
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
135
снова охватил приступ бешенства. «Подонки», — прошептал он.
Молодой человек остановился в нескольких шагах от господина и,
в свою очередь, притворился, будто рассматривает автомат. Оба они
наклонились над стержнями и, не глядя друг на друга, с интересом
их изучали. Через некоторое время молодой человек наконец
решился: он нажал кнопку и быстро повернул один из стержней.
Четыре маленьких игрока описали полукруг и остановились головой
вниз.
— Вы умеете играть? — спросил господин миндальным
голосом. — А вы мне не объясните как? Я не понимаю!
— Кладете двадцать су, потом тянете. Выскакивают шарики, их
надо послать в лунки.
— Но нужно играть вдвоем, не так ли? Я пытаюсь послать мяч
в цель, а вы должны мне мешать, да?
— Да, — сказал молодой человек. Через короткое время он
добавил: — Нужно стоять по разные стороны, один здесь, другой
там.
— Хотите сыграть со мной партию?
— Хочу, — мгновенно отозвался молодой человек.
Они принялись играть. Господин восхитился:
— Этот молодой человек так ловок! Как ему это удается? Он все
время выигрывает. Научите меня.
— Привычка, — скромно сказал юноша.
— Ага! Так вы упражняетесь! Вы, конечно, частенько приходите
сюда? Мне случается сюда заходить, но я вас тут никогда не видел.
Я бы вас непременно заметил, я большой физиономист, а у вас
интересное лицо. Вы из Турени?
— Да, разумеется, — растерялся молодой человек.
Господин прервал игру и приблизился к нему.
— Но партия не кончена, — простодушно удивился юноша, — у
вас еще пять мячей.
— Да? Ну что ж, доиграем позже, — сказал господин. —
Предпочитаю немного поболтать, если это вам не скучно.
Юноша приятно улыбнулся. Чтобы подойти к нему, господин
должен был обойти автомат. Он поднял голову, облизал тонкие губы
и наткнулся на взгляд Даниеля. Тот нахмурился, господин быстро
отвел глаза и явно забеспокоился, он потирал руки с видом пастора.
Юноша ничего этого не видел; открыв рот, с пустым и почтительным
взглядом он ждал, когда к нему обратятся. Наступило молчание,
потом господин приторным тоном, не глядя на него, приглушенно
136
Жан Поль Сартр
заговорил. Напрасно Даниель напрягал слух, он различил только
слова «вилла» и «бильярд». Юноша утвердительно кивнул.
— Заметано! — сказал он громко.
Господин не ответил и бросил украдкой взгляд на Даниеля.
Даниель почувствовал, как на него накатил сухой и сладостный
гнев. Он знал все дальнейшие ритуалы: они распрощаются, и
господин удалится деловой походкой. Мальчишка небрежно
присоединится к своим дружкам, раз-другой стукнет негра по животу, потом,
в свою очередь, вяло попрощается и уйдет, волоча ноги; Даниель
решил идти за ним. И старик, который наверняка прохаживается
взад-вперед по соседней улице, увидит Даниеля, наступающего на
пятки его молодому красавцу. Какой момент! Даниель наслаждался
им заранее, он пожирал глазами судии нежное и увядшее лицо
своей жертвы, его руки дрожали, его счастье было бы абсолютным, не
будь у него в горле так сухо, он изнемогал от жажды. Коли
обстоятельства будут благоприятствовать, он изобразит налет полиции
нравов, запишет фамилию старика и заставит его трепетать от
ужаса: «А если он потребует предъявить удостоверение инспектора, я
покажу ему свой пропуск в префектуру».
Кто-то робко его окликнул:
— Здравствуйте, месье Лолик.
Даниель вздрогнул: «Лолик» было его прозвище, которым он
временами пользовался. Он быстро обернулся.
— Что ты тут делаешь? — строго спросил он. — Ведь я запретил
тебе здесь появляться.
Это был Бобби. Даниель устроил его к знакомому аптекарю.
Бобби стал тучным и жирным, на нем был новый костюм из
магазина готового платья, он не представлял больше никакого интереса.
Бобби склонил голову к плечу, как бы изображая ребенка; он молча
смотрел на Даниеля с невинной и лукавой улыбочкой, будто
говорил: «Ку-ку, вот и я!» Эта улыбочка довела ярость Даниеля до
предела.
— Ты будешь отвечать? — спросил он.
— Я вас ищу уже три дня, месье Лолик, — монотонно
проговорил Бобби, — я не знаю вашего адреса. Но я сказал себе: рано или
поздно месье Даниель наверняка заглянет сюда...
«Рано или поздно! Грязная тварь!» Он смел судить о Даниеле,
что-то там предполагать. «Он воображает, будто знает меня, будто
может мною управлять». Делать было нечего, разве что раздавить
его, как слизняка: образ Даниеля был впечатан в мозгу за этим
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
137
узким лбом и останется там навсегда. Превозмогая отвращение,
Даниель почувствовал себя связанным с этой дряблой, но живой
уликой: он продолжал существовать в сознании Бобби.
— Как ты безобразен! — сказал он. — Ты разжирел, и, потом, этот
костюм тебе не идет, где ты его откопал? Как ужасно выпирает твоя
вульгарность, едва ты пытаешься вырядиться.
Бобби не выказывал признаков смущения: вытаращив глаза, он
умильно смотрел на Даниеля и продолжал ухмыляться. Даниель
ненавидел это привычное терпение бедняка, эту вялую и вязкую
резиновую улыбку: даже если дать ему в зубы, она останется играть
на его окровавленных губах. Даниель украдкой бросил взгляд на
импозантного господина и с досадой убедился, что тот уже не
стесняется: он склонился над блондином и, благодушно смеясь, вдыхал
запах его волос: «Так и должно быть, — с яростью подумал
Даниель. — Он видит меня с этим Бобби, он принимает меня за своего, я
замаран». Он ненавидел это писсуарное братство. «Они
воображают, что все такие. Скорее я убью себя, чем буду походить на этого
старика!»
— Что ты хочешь? — грубо спросил он. — Я спешу. И потом,
отойди немного, от тебя шибает в нос бриллиантином.
— Извините, — неторопливо произнес Бобби, — вы стояли,
облокотившись о столб, и мне показалось, что вы вовсе не спешите,
потому-то я и позволил себе...
— Ой! Рассказывай, рассказывай! — сказал, расхохотавшись,
Даниель. — Ты что, купил себе готовый язык вместе с костюмом?
Эти сарказмы скользнули, не проникая в Бобби: запрокинув
голову, он смотрел в потолок через полузакрытые веки с видом
смиренного наслаждения. «Он мне понравился, потому что похож
на кошку». При этой мысли Даниель не смог подавить приступ
бешенства: ну что ж, да, однажды! Бобби ему понравился только
однажды! Разве это даровало ему какие-то вечные права?
Пожилой господин взял за руку своего молодого друга и по-
отечески не отпускал ее. Потом он с ним попрощался, потрепав его
по щеке, бросил понимающий взгляд на Даниеля и ушел легкой
танцующей поступью. Даниель показал ему язык, но тот уже
повернулся спиной. Бобби засмеялся.
— Что на тебя нашло? — спросил Даниель.
— А мне смешно, как вы показали язык этой старой дуре, —
сказал Бобби. Он ласково добавил: — Вы все такой же, месье Даниель,
все такой же ребячливый.
138
Жан Поль Сартр
— Ладно, — грозно произнес Даниель. Его охватило подозрение, и
он спросил: — А что аптекарь? Ты разве больше у него не работаешь?
— Мне так не повезло, — жалобно сказал Бобби.
Даниель с отвращением посмотрел на него.
— Однако ты нагулял жирок.
Маленький блондинчик лениво вышел из зала, проходя, он
слегка задел Даниеля. За ним сразу последовали три его дружка,
громко смеясь, они подталкивали друг друга. «Что я здесь
делаю?» — подумал Даниель. Он поискал глазами сутулые плечи и
худой затылок молодого человека в нижней рубашке.
— Ну, говори, — рассеянно сказал он. — Что ты там натворил?
Ты его обокрал?
— Все из-за аптекарши, — сказал Бобби. — Я ей не понравился.
Юноши в нижней рубашке в зале больше не было. Даниель
почувствовал себя усталым и опустошенным, он боялся остаться
один.
— Она рассердилась, потому что я виделся с Ральфом, —
продолжал Бобби.
— Я же тебе сказал, чтобы ты с ним больше не общался. Это
отвратный подонок.
— Неужели следует бросать друзей, если тебе улыбнулась
удача? — с негодованием спросил Бобби. — Я его видел реже, но не
хотел сразу его бросать. Это вор, говорила она, я ему запрещаю
появляться в аптеке. Что вы хотите, эта баба — та еще стерва. Тогда я
стал встречаться с ним в другом месте, чтобы она меня не поймала.
Но в аптеке есть ученик, он увидел нас вместе. Паршивый сопляк,
я думаю, у него тоже есть эти склонности, — стыдливо добавил
Бобби. — Сначала он лип ко мне, пока я его не послал. Я тебя еще
поймаю, вот что он мне сказал на это. Так вот, он возвращается в
аптеку и выкладывает, что он нас видел вместе, что мы плохо вели
себя, что люди на нас оборачивались. «Ты что, забыл, — говорит
хозяйка, — я запретила тебе его видеть, или ноги твоей здесь не
будет!» «Мадам, — говорю я ей, — в аптеке командуете вы, а чем я
занимаюсь вне ее — не ваше дело». Бац!
Зал опустел, по ту сторону стены перестали стучать. Кассирша,
высокая блондинка, встала. Мелкими шажками она подошла к
автомату духов и, улыбаясь, посмотрелась в зеркало. Пробило семь.
— В аптеке командуете вы, а чем я занимаюсь вне ее — не ваше
дело, — с удовольствием повторил Бобби. Даниель встряхнулся. Он
презрительно спросил Бобби:
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
139
— Значит, тебя выставили вон?
— Нет, я сам ушел, — с достоинством ответил Бобби, — я сказал
ей: в таком случае я ухожу. А у меня не было ни гроша, каково? Они
даже не захотели заплатить мне что положено, ну и пусть: таков уж
я. Я сплю у Ральфа, я ложусь после полудня, потому что по вечерам
Ральф принимает у себя светскую женщину: это его любовница. Я
не ел с позавчерашнего дня. — Он ласково посмотрел на Дание-
ля. — Я себе сказал: попытаюсь увидеть месье Лолика, он меня
поймет.
— Идиот, — сказал Даниель, — ты меня больше не интересуешь.
Я лез из кожи вон, чтоб найти тебе место, а ты допрыгался — через
месяц тебя вышибли. И потом, знаешь ли, не воображай, что я верю
хоть половине того, что ты мне понарассказал. Ты врешь как сивый
мерин.
— Можете у нее спросить, — уверял Бобби, — и убедитесь, что я
говорю правду.
— Спросить? У кого?
— Да у аптекарши.
— Ни в коем случае! — отрезал Даниель. — Представляю себе,
что я услышал бы! Впрочем, я для тебя больше ничего не могу
сделать.
Он почувствовал себя ослабевшим и подумал: «Нужно идти», —
но ноги его не слушались.
— Мы решили работать, Ральф и я... — бесстрастно сказал
Бобби. — Мы задумали обзавестись собственным делом.
— И ты пришел выклянчить у меня денег на первое время?
Прибереги свои россказни для других. Сколько тебе нужно?
— Вы мужчина что надо, месье Лолик! — слезливо воскликнул
Бобби. — Именно так я и сказал сегодня утром Ральфу: только бы
мне найти месье Лолика, увидишь, он не оставит меня в беде.
— Сколько? — повторил Даниель.
Бобби завертелся.
— Конечно, это взаймы, месье Лолик. Я вам все верну в конце
следующего месяца.
— Сколько?
— Сто франков.
— Держи, — сказал Даниель, — вот пятьдесят, я их тебе дарю. И
проваливай.
Бобби молча сунул купюру в карман, и они некоторое время в
нерешительности продолжали стоять друг против друга.
140
Жан Поль Сартр
— Убирайся, — лениво повторил Даниель. Все его тело было
ватным.
— Спасибо, месье Лолик, — сказал Бобби. Он притворился,
будто уходит, и вернулся.
— Если вы вдруг захотите поговорить со мной или с Ральфом,
мы живем неподалеку: улица Урс, 6, на седьмом этаже. А насчет
Ральфа вы ошибаетесь, знаете, он вас очень любит.
— Убирайся!
Бобби, пятясь, отступал, все еще улыбаясь, затем повернулся и
исчез. Даниель подошел к крану и посмотрел на него. Рядом с
фотоаппаратом и электролампой лежали два бинокля, которых он
раньше не заметил. Даниель опустил двадцать су в щель автомата,
наудачу нажал на кнопку. Кран опустил свои щипцы на поднос и стал
нашаривать и сгребать конфеты. Даниель подставил ладонь,
получил с полдюжины конфет и тут же их съел.
Солнце слегка золотило высокие черные здания, небо все еще
было огненным, но мягкая смутная тень поднималась от мостовой,
и люди улыбались ее ласке. Даниель испытывал адскую жажду, но
пить ему не хотелось: «Так околей! Околей от жажды!» «Во всяком
случае, — подумал он, — я не сделал ничего плохого». Но это было
еще хуже: он разрешил Злу коснуться себя, он позволил себе все,
кроме удовлетворения, у него даже не хватило мужества вкусить
удовлетворения. Теперь он нес это Зло в себе, и оно щекотало его
тело сверху донизу, он был заражен, он еще ощущал в глазах этот
желтый отсвет и все видел окрашенным в желтое. Лучше было бы
замучить себя удовольствием и доконать в себе Зло. Правда, оно
непрерывно возрождается. Он резко обернулся: «Бобби способен
пойти за мной, чтобы узнать, где я живу. Но как бы я хотел, чтобы
он пошел за мной! Какую бы я дал ему взбучку прямо на улице!»
Однако Бобби не было видно. Сегодня он раздобыл денег и теперь
уже вернулся к Ральфу, на улицу Урс, 6. Даниель вздрогнул: «Если
бы я мог стереть из памяти этот адрес! Если бы мне удалось его
забыть...» Но зачем? Нет, он не будет стараться его забыть.
Вокруг него довольные собой люди оживленно болтали. Какой-
то господин сказал жене: «Э-э, да это было еще до войны. В 1912
году. Нет. В 1913-м. Я был тогда у Поля Люка». Вот она,
умиротворенность. Умиротворенность порядочных людей, честных людей,
людей доброй воли. Почему их воля добрая, а не моя? С этим
ничего не поделать, так уж оно есть. Нечто в этом небе, в этом золотом
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
141
свете, в этой природе решило именно так. Они это знали, они знали,
что правы, что Бог, если Он существует, на их стороне. Даниель
посмотрел на лица прохожих: как они непреклонны, несмотря на
видимую непринужденность. Достаточно одного знака — и эти люди
бросятся на него и разорвут в клочья. И небо, свет, деревья, вся
природа были бы с ними, как всегда, солидарны: Даниель — человек
злой воли.
У двери дышал воздухом жирный и бледный консьерж с
покатыми плечами. Даниель увидел его издалека и подумал: «Вот оно —
Добро». Консьерж сидел на стуле, сложив на животе руки, как
Будда; он смотрел на прохожих и время от времени одобрял их
легким кивком головы. «Быть бы на его месте», — с завистью
подумал Даниель. У него наверняка подобострастное сердце. Кроме
того, он чувствителен к природным явлениям: жаре, холоду, свету
и сырости. Даниель остановился: он был заворожен глупыми
длинными ресницами, нравоучительной хитринкой этих припухлых
щек. Одичать до того, чтобы стать только этим, дойти до того, чтобы
иметь в черепе только белое тесто с легким запашком крема для
бритья. «Такой спит ночи напролет», — подумал он. Даниель не знал
в точности, хочет ли он его убить или же проскользнуть в тепло этой
гармоничной души.
Толстяк поднял голову, и Даниель продолжил свой путь: «При
той жизни, которую я веду, я определенно вскоре превращусь в
дебила».
Борис зло покосился на свой портфель, он не любил таскать его
с собой, это придавало ему вид адвоката. Но его скверное
настроение тут же растаяло, ибо он вспомнил, что взял портфель с
определенной целью: он ему еще как пригодится. Борис отдавал себе отчет,
что подвергается риску, но он был совершенно спокоен, просто
более обычного оживлен. «Если я дойду до края тротуара за
тринадцать шагов...» Он сделал тринадцать шагов и точно остановился на
краю тротуара, но последний шаг был значительно длиннее других:
Борис сделал выпад, как фехтовальщик. «Впрочем, это не имеет
никакого значения: как бы то ни было, дело в шляпе». Это не могло
не получиться, это было почти научно, просто удивительно, что
никто не додумался до этого раньше. «Это потому, — подумал он
строго, — что все воры — кретины». Он пересек мостовую и уточнил
свою мысль: «Им давно следовало бы организовать профсоюз, как
это сделали иллюзионисты». Ассоциации для распространения и
142
Жан Поль Сартр
совместного употребления технических средств — вот чего им
недостает. С представительством, наградами, традициями и
профессиональной библиотекой. А также с фильмотекой, фильмы которой
показывали бы наиболее сложные движения. Каждое новое
усовершенствование снималось бы на пленку, теория была бы записана
на пластинки и носила бы имя ее создателя: все
классифицировалось бы по категориям, например, кража с витрины по «методу
1673» или по «методу Сергина», названному также «колумбовым
яйцом» (потому что он прост как день, но его еще нужно найти).
Борис согласился бы снять показательный фильм. «Да, — подумал
он, — а потом бесплатные лекции по психологии кражи, это
необходимо». Его метод основывался почти целиком на психологии. Он
с удовлетворением посмотрел на одноэтажное маленькое кафе
тыквенного цвета и вдруг заметил, что находится посреди Орлеанского
проспекта. Поразительно, что на Орлеанском проспекте между
семью и семью тридцатью вечера люди казались такими
симпатичными. Конечно, многое зависело от света, это был рыжий муслин,
который всем к лицу, и так приятно находиться на окраине Парижа,
улицы струятся под ногами к старообразному торговому центру
города, к Центральному рынку, к мрачноватым переулкам квартала
Сент-Антуан, ощущаешь себя нырнувшим в сладкую мистическую
ссылку вечера и парижских предместий. У людей был такой вид,
будто они вышли на улицу, чтобы только побыть вместе; они не
сердятся, когда их толкают, более того, можно даже подумать, что
это доставляет им удовольствие. Они глазеют на витрины с
невинным, абсолютно бескорыстным восторгом. На бульваре Сен-
Мишель люди тоже смотрят на витрины, но с намерением что-то
купить. «Каждый вечер буду сюда приходить», — с энтузиазмом
решил Борис. А следующим летом он снимет комнату в одном из
этих четырехэтажных домов, которые выглядят как братья-
близнецы и напоминают о революции 48-го года. Но если окна здесь
такие узкие, спрашивается, как женщинам удавалось протискивать
в них свои матрацы и швырять их на солдат. Вокруг окон было
черно, как будто их измазало пламя пожара, и все же они не
выглядели грустными, эти бледные фасады, испещренные черными
дырочками, как грозовыми вспышками под голубым безмятежным
небом. «Я смотрю на окна, — подумал Борис, — но если б я
поднялся на террасу на крыше этого маленького кафе, я увидел бы
зеркальные шкафы в глубине комнат, стоящие, как продолговатые
вертикальные озера; толпа проходит сквозь мое тело, а я думаю о муни-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
143
ципальной гвардии, о золоченых решетках Пале-Рояля 14 июля, не
знаю уж почему... Что делал у Матье этот коммунист?» — вдруг
подумал он. Борис не любил коммунистов, они были слишком
сосредоточенными. В частности Брюне; можно подумать, что он папа
римский. «Он меня выставил за дверь, — весело подумал Борис. —
Скотина, он меня выставил за дверь». И вдруг на него накатило:
маленький бушующий самум в голове; он почувствовал
необходимость быть злым: «Матье, вероятно, заметил, что он кругом
запутался, как знать, может, он вступит в компартию». Борис немного
поразвлекался, перечисляя бесчисленные последствия подобного
превращения. Но сразу же испугался и остановился. Безусловно,
Матье не ошибался, когда Борис попытался занять определенную
позицию: на занятиях по философии он проявил симпатию к
коммунистам, а Матье отвратил его от них, объяснив ему, что такое
свобода. Борис сразу же понял: каждый обязан делать то, что хочет,
думать то, что считает нужным, отвечать только перед собой,
постоянно подвергать сомнению мнения других и их самих. Борис на
этом построил свою жизнь, он был до мелочей свободен, в
частности, он постоянно ставил под сомнение всех, кроме Матье и Ивиш;
подвергать сомнению этих двоих абсолютно бесполезно, поскольку
они совершенны. Что до самой свободы, то о ней тоже не следовало
себя вопрошать, ибо тогда, в итоге, перестаешь быть истинно
свободным. Борис озадаченно почесал голову и задумался: откуда у
него появилась эта разрушительная неуклюжесть, время от времени
на него находящая? «В сущности, у меня беспокойный характер», —
подумал он с веселым удивлением. Потому что, трезво смотря на
веши, Матье не ошибался, это совершенно невозможно: Матье не
из тех, кто ошибается. Борис обрадовался и лихо замахал
портфелем. Он также подумал, нравственно ли обладать беспокойным
характером; он взвесил все «за» и «против», но запретил себе
заводить свои исследования слишком далеко; он спросит об этом у
Матье. Борис считал совершенно неприличным, чтобы человек его
возраста претендовал на интеллектуальную самостоятельность. Он
достаточно навидался в Сорбонне этих липовых умников, юных
очкариков из Эколь Нормаль, всегда имеющих про запас личную
теорию; как правило, они в конце концов, так или иначе, завирались,
но и без того их теории были косноязычны и безобразны. Борис
очень боялся выглядеть смешным, он не хотел нести чушь и
предпочитал молчать и слыть пустоголовым, это было менее неприятно.
Позже, естественно, все будет иначе, но сейчас он положится на
144
Жан Поль Сартр
Матье, поскольку это его профессия. И потом его всегда радовало,
когда Матье при нем начинал размышлять: Матье краснел, смотрел
на кончики пальцев, бессвязно бормотал, но это была честная и
элегантная работа. Иногда при этом у Бориса невольно возникала
какая-нибудь идейка, и он прилагал максимум усилий, чтобы Матье
этого не заметил, но тот всегда замечал, дерьмо этакое; он ему
говорил: «У вас появилась какая-то мысль?» — и забрасывал его
вопросами. Борис чувствовал себя как под пыткой, он непрерывно
пытался перевести разговор на другую тему, но Матье был цепким, как
вошь; в конце концов Борис попадался на удочку и стоял,
потупившись, но, главное, Матье после этого распекал его, он говорил: «Но
это совершенная чепуха, вы мыслите как недоумок», — как будто
Борис претендовал на гениальную идею. «Дерьмо», — весело
повторил Борис. Он остановился перед стеклянной витриной
красивой красной аптеки и беспристрастно поглядел на свое отражение.
«У меня вид человека непритязательного», — подумал он. И счел
себя симпатичным. Он встал на автоматические весы и взвесился,
чтобы убедиться, что со вчерашнего дня не набрал веса. Зажглась
красная лампочка, механизм, хрипло присвистывая, заработал, и
Борис получил картонную карточку: пятьдесят семь пятьсот. На
секунду его охватило смятение. «Я набрал полкило», — подумал он.
К счастью, тут он заметил, что держит портфель. Он спустился с
весов и зашагал снова. Пятьдесят семь килограммов на метр
семьдесят три — это неплохо. У него было преотличное настроение, и он
чувствовал себя изнутри совсем бархатистым. А снаружи была
витающая меланхолия уходящего дня, она оседала на нем, чуть
закисая, и исподволь проникала в него рыжеватым светом и ароматами,
полными сожалений. Этот день, тропический океан, отхлынувший
и оставивший его в одиночестве под бледнеющим небом, был еще
одним этапом, пусть и совсем маленьким, его жизни. Скоро
наступит вечер, он пойдет в «Суматру», увидит Матье и Ивиш, будет
танцевать. А чуть раньше, точно на стыке дня и ночи, будет эта
кража, его шедевр. Он выпрямился и ускорил шаги: сыграть нужно
будет очень тщательно. Из-за этих субъектов, которые листают
книги с серьезным и безобидным видом, а на деле являются
частными детективами. В книжном магазине Гарбюра таких было
шестеро. Борис получил точные сведения от Пикара, занимавшегося
этим три дня после того, как он завалил диплом по геологии; он был
к этому принужден, его родители прекратили ему помогать, но
вскоре из отвращения бросил это занятие. Ему не только нужно
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
145
было шпионить за клиентами, как вульгарному фараону, ему еще
приказали следить за разными простаками, к примеру, за интелли-
гентиками в пенсне, робко приближавшимися к выставленному
товару; следовало хватать их за шиворот и обвинять в том, что они
якобы намеревались тайком сунуть книгу в карман. Естественно,
несчастные пугались до смерти, их уводили по длинному коридору
в маленький темный кабинет, где под угрозой судебного
разбирательства у них вымогали сто франков. Борис почувствовал себя
охмелевшим: теперь он отомстит за всех; его-то не поймают.
«Большинство, — подумал он, — не способны обеспечить успех дела, на
сто ворующих — восемьдесят дилетантов». Он же действовать по-
дилетантски не будет; всего он, конечно, не знал, но то, что знал,
методически изучил, так как всегда думал, что человек, работающий
головой, должен, кроме всего, владеть рукомеслом, чтобы держать
контакт с действительностью. Он до сих пор не получал никакой
материальной выгоды от своих начинаний: он считал пустяком
иметь семнадцать зубных щеток, двадцать пепельниц, компас,
кочергу и респиратор. В каждом случае он считал наиболее важным
моментом техническую трудность задачи. Для него было важней на
прошлой неделе стянуть коробочку с лакрицей под носом у
аптекаря, чем сафьяновый портфель в пустом магазине. Выгода от кражи
была чисто моральной; в этом смысле Борис чувствовал себя в
полном согласии со спартанцами, это была своего рода аскеза. И потом
он испытывал прилив радости, когда говорил себе: «Считаю до
пяти, при счете «пять» зубная паста будет в моем кармане»; горло
сжималось, и наступала незабываемая минута ясности и
могущества. Борис улыбнулся: он отступил от своих принципов, в первый
раз движущей причиной кражи была выгода, всего через полчаса он
будет владельцем этой жемчужины; оно ему необходимо... это
сокровище. «Этот Тезаурус!» — сказал он себе вполголоса, ибо любил
слово «тезаурус», напоминавшее ему средневековье, Абеляра,
гербарий, Фауста и пояса целомудрия, выставленные в музее Клюни.
«Оно будет моим, я смогу листать его в любую минуту». Тогда как
до сих пор он вынужден был второпях просматривать его на
прилавке, да и страницы его не были разрезаны; обычно он мог
получить только отрывочные сведения. Сегодня же вечером он положит
его на столик подле кровати, а завтра, проснувшись, сразу же его
увидит. «А, нет, — раздраженно подумал он, — сегодня я ночую у
Лолы». А может, он унесет его в библиотеку Сорбонны и время от
времени, прерывая свою проверочную работу, будет туда загляды-
146
Жан Поль Сартр
вать, чтобы восстановить силы: он пообещал себе заучивать одно
или, может, даже два выражения в день; за шесть месяцев это будет
шесть раз по тридцать, умноженное на два: триста шестьдесят плюс
пятьсот или шестьсот, которые он уже знает, и будет почти тысяча,
как раз то, что называется хорошими средними знаниями. Он
пересек бульвар Распай с легким неудовольствием. Улица Данфер-
Рошро навевала на него смертную скуку, вероятно, из-за каштанов;
во всяком случае, это было никчемное место, если не считать черной
красильной мастерской с кроваво-красными шторами, жалко
обвисающими наподобие двух скальпов. Борис походя бросил
одобрительный взгляд на красильню и нырнул в светлую и изысканную
тишину улицы. Улицы? Это всего лишь провал с домами по обе
стороны. «Да, но под ней проходит метро», — подумал Борис и
нашел в этом некоторое утешение, он на минуту-другую представил
себе, что идет по тонкой асфальтовой корке и она, быть может,
сейчас провалится. «Нужно рассказать об этом Матье, — сказал себе
Борис. — Он обалдеет». Нет. Кровь внезапно прилила к его лицу, он
ему ничего не расскажет. Другое дело — Ивиш: она его понимает, а
если сама и не крадет, то только потому, что не имеет по этой части
таланта. Он расскажет также об этой истории Лоле, чтобы заставить
ее позлиться. Но Матье не был до конца искренним. Он
снисходительно посмеивался, когда Борис повествовал о своих проделках,
но Борис был не очень-то уверен, что он их одобряет. Обычно Борис
спрашивал себя, в чем именно мог бы его упрекнуть Матье. Лола
приходила в состояние невменяемости, но это нормально, она
просто неспособна понять некоторые тонкости, к тому же она до
смешного скаредна. Она говорила ему: «Ты способен обворовать родную
мать; кончится тем, что ты обворуешь и меня». И он отвечал: «Что
ж, если найдется, что украсть, я не против». Естественно, он говорил
это не всерьез: у своих близких не крадут, это было бы слишком
легко, он отвечал так из раздражения, он ненавидел манеру Лолы
все сводить к себе. Но Матье... Да, для Матье все здесь было
непонятно. Что он мог иметь против кражи, если она совершается по
всем правилам? Молчаливое порицание Матье терзало Бориса
несколько минут, потом он покачал головой и сказал про себя:
«Забавно!» Через пять, через семь лет у него будет на любой счет соб
ственное мнение, мнения же Матье покажутся ему трогательными
и устаревшими, он станет своим собственным судьей: «Знать бы,
что мы встретимся!» Борис не хотел, чтобы этот день настал, он и
без того был совершенно счастлив, но, логически рассуждая, он по-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
147
нимал, что это необходимо: он должен измениться, оставить позади
себя толпу предметов и людей, а пока он еще недостаточно
сформировался. Матье был только этапом, как и Лола; даже в те моменты,
когда Борис больше всего им восхищался, в этом восхищении было
что-то преходящее, что делало его восторг страстным, но лишенным
благоговения. Матье, насколько это возможно, был хорош, но он
был не в состоянии меняться одновременно с Борисом, он вообще
не мог меняться, для этого он был слишком совершенен. Эти мысли
внушили Борису некоторую меланхолию, и он был рад, что вышел
на площадь Эдмона Ростана: всегда было приятно пересекать ее —
автобусы тяжело устремлялись на пешеходов, как жирные индюки,
от них нужно было в последний момент увернуться, всего лишь
немного отклонив корпус. «Надеюсь, в магазине никому не придет в
голову убрать с прилавка книгу именно сегодня». На углу улицы
Месье-ле-Пренс и бульвара Сен-Мишель он помешкал, нужно было
притормозить свое нетерпение, было бы неосторожно заявиться
туда, когда щеки раскраснелись от надежды и по-волчьи горят
глаза. У него был принцип: действовать абсолютно хладнокровно. Он
принудил себя неподвижно застыть перед лавкой торговца
зонтиками и ножами и внимательно рассматривать выставленные там
предметы: короткие дамские зонтики, зеленые, красные,
маслянистые, зонты от дождя с ручками из слоновой кости в виде
бульдожьей морды, почему-то это производило щемящее впечатление, к тому
же Борис нарочно заставил себя подумать о пожилых людях,
которые приходят покупать эти вещи. Он собирался достичь состояния
холодной решимости, когда вдруг увидел нечто, повергшее его в
ликование. «Нож!» — прошептал он, чувствуя дрожь в руках. Это
был настоящий нож: длинное и толстое лезвие, стопорная насечка,
черная роговая ручка, элегантная, как серп луны; на лезвии
виднелись два ржавых пятнышка, можно было вообразить, что это кровь.
«О-о!» — простонал Борис, и сердце его сжалось от желания. Нож
лежал на самом видном месте, на деревянной лакированной
подставке, между двумя зонтами. Борис неотрывно смотрел на нож, и
мир окрест постепенно поблек, все, что не имело холодного блеска
этого лезвия, потеряло в его глазах всякую цену, ему захотелось
бросить все, войти в лавку, купить нож и убежать незнамо куда, как
убегает вор, унося свою добычу. «Пикар научит меня метать его», —
сказал он себе. Но непреложность его первоначального плана
быстро восторжествовала: «Не сейчас. Куплю его потом, чтобы
вознаградить себя, если дело выгорит».
148
Жан Поль Сартр
Книжный магазин Гарбюра стоял на углу улицы Вожирар и
бульвара Сен-Мишель; он имел с каждой стороны по входу, что
благоприятствовало замыслам Бориса. Перед магазином были
выставлены длинные столы с книгами, большей частью
подержанными. Борис краем глаза приметил бродившего неподалеку
рыжеусого господина, которого принял за шпика. Помедлив, Борис подошел
к третьему столу, книга была здесь, огромная, такая огромная, что
Борис на мгновение пал духом, семьсот страниц инкварто,
гофрированные листы толщиной с мизинец. «И это мне предстоит
засунуть в портфель», — с некоторым унынием подумал он. Но
достаточно было посмотреть на золотые буквы, мягко сверкавшие на
обложке, и отвага его вернулась: «Исторический и
этимологический словарь воровского жаргона и арго с XIV века до наших дней».
«Исторический!» — в экстазе повторил про себя Борис. Он по-
дружески нежно дотронулся до обложки кончиками пальцев, чтобы
вновь ощутить контакт с ней. «Это не книга, это мебель», —
восхищенно подумал он. За его спиной усатый господин обернулся, он,
несомненно, следил за ним. Нужно было начинать комедию,
листать фолиант, корчить физиономию зеваки, который колеблется и
наконец поддается искушению. Борис открыл наугад и прочел:
«Быть как... — быть склонным к... Оборот, обиходный и поныне.
Пример: «Кюре звенел, как колокол». Переводится: «Кюре был
склонен к шуткам». Говорят также: «Быть из...» — «быть кем-то»...
Пример: «Он из мужелюбов», т. е. он гомосексуалист. Это речение
первоначально употреблялось на юго-западе Франции».
Следующие страницы не были разрезаны. Борис бросил читать
и засмеялся. Он с наслаждением повторил: «Кюре звенел, как
колокол». Потом вдруг посерьезнел и начал считать: «Раз! Два! Три!
Четыре!» — в то время как строгая и чистая радость усилила его
сердцебиение.
Чья-то рука легка ему на плечо. «Я пропал, — подумал Борис, —
но они поторопились, пока что у них нет никаких доказательств».
Он медленно и спокойно обернулся. Это был Даниель Серено, друг
Матье. Борис видел его два-три раза и находил великолепным; у
него был вид настоящего пройдохи.
— Здравствуйте, — сказал Серено, — что читаете? У вас такой
зачарованный вид.
На сей раз пройдохой он не выглядел, но все равно его
следовало остерегаться: по правде говоря, он казался даже слишком
любезным, должно быть, задумал какой-то гнусный фортель. Как нароч-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
149
но, он застал Бориса листающим словарь жаргона, это, бесспорно,
дойдет до ушей Матье, который будет над ним подтрунивать.
— Я зашел по пути, — натянуто ответил он.
Серено улыбнулся; он двумя руками взял фолиант и поднес его
к глазам; видимо, он был слегка близорук. Борис восхитился его
непринужденностью; обычно те, кто листает книги, стараются
оставить их на столе из страха перед частными детективами. Но было
очевидно, что Серено считал для себя вседозволенным. Борис
сдавленно, изображая безразличие, пробормотал:
— Это любопытный опус...
Серено не ответил: казалось, он погрузился в чтение. Борис
разозлился и подверг его строгому изучению. Но, по совести говоря,
Серено был безукоризненно элегантен. Пожалуй, в этом костюме
из почти розового твида, в льняной рубашке, в желтом галстуке
была какая-то намеренная дерзость, и она Бориса немного
шокировала. Борис любил строгую и немного небрежную элегантность. Но
в конце концов ансамбль был безупречным, хоть и излишне
нежным, как свежее масло. Серено расхохотался. У него был теплый и
приятный смех, кроме того, Борис счел Даниеля симпатичным,
потому что он, смеясь, широко открывал рот.
— «Быть из мужелюбов!» — просмаковал Серено. — «Быть из
мужелюбов!» Это находка, при случае я ею воспользуюсь.
Он положил книгу на стол.
— Вы из мужелюбов, Сергин?
— Я... — промямлил Борис.
— Не краснейте, — сказал Серено, и Борис почувствовал, что
стал пунцовым, — будьте уверены, что ни о чем предосудительном
я не подумал. Я умею узнавать тех, кто «из мужелюбов» (это
выражение явно его забавляло), — их движения имеют вялую
округлость, в природе которой невозможно ошибиться. Вы другое дело,
я наблюдал за вами и был очарован: ваши движения грациозны,
хоть и несколько угловаты. Должно быть, вы очень ловки.
Борис внимательно слушал Серено: всегда интересно слушать,
как кто-то рассказывает, каким он вас видит. Кроме того, у Серено
был очень приятный низкий голос. Глаза его смущали: поначалу
кажется, что они полны нежности, но если вглядеться, замечаешь
в них нечто жестокое, почти маниакальное. «Он хочет подшутить
надо мной», — подумал Борис и насторожился. Его подмывало
спросить у Серено, что он имеет в виду под «угловатыми
движениями», но он не осмелился, подумав, что лучше как можно мень-
150
Жан Поль Сартр
ше говорить; к тому же под этим настойчивым взглядом он
чувствовал, как в нем зарождается странная, приводящая в смущение
покорность, что ему хотелось встряхнуться, чтобы избавиться от
этой томной покорности. Он отвернулся, наступило томительное
молчание. «Он меня примет за дебила», — покорно подумал
Борис.
— Вы, кажется, изучаете философию? — спросил Серено.
— Да, философию, — с готовностью ответил Борис.
Он был рад, что представился предлог прервать молчание. Но в
этот момент часы Серено пробили один раз, и Борис оцепенел от
ужаса. «Четверть девятого! — впадая в панику, подумал он. — Если
он сейчас не уйдет, все пропало». Книжный магазин Гарбюра
закрывался в половине девятого. Но Серено, казалось, и не собирался
уходить. Он сказал:
— Признаться, я ничего не смыслю в философии. В отличие от
вас, естественно...
— Да, кажется, я немного в ней разбираюсь, — сказал Борис,
чувствуя себя как на угольях.
Он подумал: «Наверно, я веду себя невежливо, но почему он не
уходит?» Впрочем, Матье его предупреждал: Серено всегда
появляется в самый неподходящий момент, это одно из проявлений его
демонической натуры.
— По-моему, вы это любите, — сказал Серено.
— Да, — согласился Борис, чувствуя, что снова краснеет. Он
терпеть не мог говорить о том, что любит: это так бесстыдно. У него
создалось впечатление, что Серено об этом догадывается и
неделикатность его нарочита. Серено пронзительно посмотрел на него.
— А почему?
— Не знаю, — буркнул Борис.
Это было правдой: он и в самом деле не знал. Однако он очень
любил философию. Даже Канта.
Серено улыбнулся.
— Во всяком случае, сразу видно, что эта любовь идет не от
головы, — сказал он.
Борис было ощетинился, но Серено живо добавил:
— Я шучу. В сущности, я считаю, что вам повезло. Как и все, я
тоже этим занимался, но мне так и не удалось полюбить ее... Я
считаю, что от философии меня отвратил Деларю: он для меня
слишком умен. Я иногда просил у него разъяснений, но, как только он
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
151
начинал разъяснять, я уже ничего не понимал, мне даже казалось,
что я не понимаю и своего вопроса.
Борис был задет этим насмешливым тоном и заподозрил, что
Серено хотел коварно заставить его позлословить о Матье, чтобы
потом с удовольствием передать тому разговор. Бориса
беспричинная подлость Серено и восхитила, и покоробила; он сухо возразил:
— Но Матье очень хорошо объясняет.
На этот раз Серено расхохотался, и Борис прикусил губу.
— Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Но мы с ним старинные
друзья, и я полагаю, что он приберегает педагогические секреты для
молодежи. Обычно он вербует последователей из своих учеников.
— Я не являюсь его последователем, — возразил Борис.
— Я не имел вас в виду, — сказал Даниель. — Вы не похожи на
последователя. Я вспомнил об Уртигере, высоком блондине,
который в прошлом году уехал в Индокитай. Вы, должно быть,
слышали о нем: два года назад это была великая страсть, их всегда видели
вместе.
Борис должен был признать, что удар попал в цель, и его
восхищение Серено возросло, хотя он предпочел бы дать ему хорошую
оплеуху.
— Матье мне о нем рассказывал, — сказал он.
Он ненавидел этого Уртигера, с которым Матье познакомился
еще до него. Иногда, когда Борис приходил, чтобы встретиться с
Матье в кафе на Домской набережной, тот с проникновенным
видом говорил: «Нужно написать Уртигеру». После чего он долго
пребывал в прилежной задумчивости, точно солдат, который пишет
письмо своей землячке и мечтательно выводит ручкой вензеля на
белом листе. В такие минуты Бориса захлестывала волна
неприязни к нему. Нет, он не ревновал Матье к Уртигеру. Наоборот, он
испытывал к нему жалость, смешанную с толикой отвращения;
впрочем, он ничего не знал об Уртигере, видел только фотографию,
где был запечатлен высокий меланхолический юноша в брюках для
гольфа, да абсолютно идиотский реферат по философии, который
еще валялся на рабочем столе Матье. Ни за что на свете он не хотел
бы, чтобы потом Матье относился к нему так же, как к Уртигеру. Он
предпочел бы никогда больше не видеть Матье, чем представить,
что тот однажды скажет значительно и печально какому-нибудь
молодому философу: «Да! Сегодня мне надо написать Сергину». На
худой конец он допускал, что Матье был лишь этапом в его жизни,
152
Жан Поль Сартр
хотя и это уже достаточно досадно, но было невыносимо думать, что
он мог остаться всего лишь этапом в жизни Матье.
Казалось, Серено чувствовал себя как дома. Небрежно и
вольготно он оперся обеими руками о стол.
— Часто я сожалею, что так невежествен в этой области, —
продолжал он. — Те, кто этим занимается, имеют такой счастливый вид.
Борис не ответил.
— Мне нужен наставник, — продолжал Серено. — Кто-нибудь
вроде вас... Такой, кто не был бы слишком уж ученым, но принимал
бы все всерьез.
Он засмеялся пришедшей ему в голову потешной мысли.
— Скажите, а ведь было бы забавно, если б я брал уроки у вас...
Борис недоверчиво посмотрел на него. Скорее всего это еще одна
ловушка. Он совершенно не представлял себя в роли учителя
Серено, который наверняка гораздо умнее его и, вероятно, будет задавать
уйму затруднительных вопросов, — Борис от робости не выдавит из
себя ни слова... С холодным отчаянием он подумал, что уже как
минимум двадцать пять минут девятого. Серено по-прежнему
улыбался, казалось, он был увлечен своей идеей. Но у него были
странные глаза. Борису трудно было смотреть ему в лицо.
— Только знаете, я очень ленив, — сказал Серено. — На меня
следует давить...
Борис не смог удержаться от смеха и честно признался:
— Думаю, я не смог бы...
— Наоборот, — возразил Серено, — я уверен, вы смогли бы.
— Вы меня будете конфузить, — пробормотал Борис.
Серено пожал плечами.
— Полноте!.. Послушайте, у вас есть еще минутка? Мы могли
бы выпить по стаканчику напротив, в «Д'Аркуре», и поговорить о
нашем плане.
«Нашем плане...» Борис с тревогой следил глазами за
продавцом книжного магазина Гарбюра, начавшим складывать книги в
стопки. Однако ему хотелось бы пойти с Серено в «Д'Аркур»: это
странный человек, он потрясающе красив, да и говорить с ним
занятно, потому что все время надо быть настороже, с ним ни на
минуту не оставляет ощущение опасности. Борис поколебался, но
чувство долга все-таки восторжествовало.
— Дело в том, что я очень спешу, — сожалеющим, но невольно
резким голосом сказал он.
Серено переменился в лице.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
153
— Хорошо, в таком случае не буду вам мешать. Извините, что
так задержал вас. До свидания, передайте привет Матье.
Он круто повернулся и ушел. «Я его обидел?» — смущенно
подумал Борис. Беспокойным взглядом проводил он широкие плечи
Серено, который направлялся вверх по бульвару Сен-Мишель.
Внезапно он подумал, что ему нельзя терять ни минуты.
«Раз. Два. Три. Четыре. Пять».
При счете «пять» он правой рукой, не таясь, взял том и
спокойно направился к магазину.
Шумная толпа слов бежала неизвестно куда; бежали слова,
бежал Даниель, бежал от Бориса, от его немного сутулого, хрупкого
тела, от глаз орехового цвета, бежал от лица, строгого и
прелестного, этого маленького монаха, русского монаха, Алеши. Шаги, слова,
шаги отдавались в его голове, быть только этими шагами, этими
словами все было лучше, чем тишина: маленький дурачок, я его
раскусил. Родители не велят мне говорить с незнакомыми людьми,
хотите конфетку, маленькая барышня, родители мне не велят... Ха,
ха! Какой жалкий рассудок, я не знаю, я не знаю, вы любите
философию, я не знаю, черт возьми, откуда ему знать, бедному ягненку!
Матье корчит из себя султана в своем классе, он ему бросает платок,
ведет в кафе, и малыш проглатывает все: и кофе со сливками, и
теории, как глотают облатку; иди, или с этим видом первопричастника,
вот он, чопорный и зашоренный, как осел, нагруженный
сокровищами. Да! Я понял, я не смею наложить на тебя руку, я не достоин;
а какой взгляд он бросил на меня, когда я ему сказал, что не
понимаю философию, под занавес он даже не потрудился быть
вежливым. Нет, я просто уверен — я это предчувствовал, еще когда был
Уртигер, — я просто уверен, что он их против меня предостерегает.
«Очень хорошо, — сказал Даниель, довольно посмеиваясь, — это
великолепный урок, и недорогой ценой, я рад, что он меня отшил;
имей я глупость показать ему, что он мне понравился, и
доверительно с ним поговорить, он, вне себя от негодования, выложил бы все
Матье, и они вместе посмеялись бы надо мной». Даниель так резко
остановился, что шедшая позади дама толкнула его в спину и
вскрикнула. «Он ему говорил обо мне!» Это была не-вы-но-си-мая
мысль, она вызывала приступ бешенства, бросала в холодный пот,
стоило только их представить себе, их, бодрых, счастливых оттого,
что они вместе: малыш, естественно, разинул рот, вытаращил глаза
и навострил уши, чтобы не проворонить ни крупинки манны не-
154
Жан Поль Сартр
бесной, в каком-нибудь прокуренном кафе на Монпарнасе,
пропахшем грязным бельем... «Матье, должно быть, смотрел на него с
глубокомысленным видом и объяснял ему мой характер, можно
лопнуть со смеху». Даниель повторил: «Лопнуть со смеху», — и
вонзил ногти в ладонь. Они его обсуждали за его спиной, они его
развинтили и тщательно разложили по полочкам, а он был
беззащитен, он ни о чем не подозревал, он мог существовать в тот день,
как и в другие дни, как будто он был всего лишь фантом без памяти
и без предназначения, как будто он не был для других слегка
тучнеющим телом, потихоньку пухлеющими щеками, малость
увядающим восточным красавцем с жесткой улыбкой и — кто знает?.. Но
нет, никто. «Бобби знает, и Ральф знает, а Матье — нет. Бобби — это
креветка, у него нет сознания, он живет на улице Урс, 6, с Ральфом.
Ха-ха! Если только можно жить среди слепцов. Но Матье не слепец,
он хвастается этим, он умеет видеть, это его профессия, он имеет
право говорить обо мне, поскольку знает меня пятнадцать лет и
является моим лучшим другом, и он не воздерживается от этого;
только он кого-то встречает — вот уже два человека, для которых я
существую, потом три, потом девять, потом сто. Серено, Серено,
Серено-маклер, Серено-биржевик, Серено... Ха! Если б он сдох, но
нет, он гуляет на свободе со своим мнением обо мне в глубине
башки и заражает им всех, кто к нему приближается, нужно всюду
поспеть и скрести, скрести, стереть, смыть ушатами воды, так я
отскреб Марсель до костей. В первый раз она мне протянула руку,
долго глядя на меня, она мне сказала: «Матье часто говорил мне о
вас». И я, в свою очередь, посмотрел на нее, я был
загипнотизирован, я был там, внутри, я существовал в этом теле, за этим угрюмым
лбом, в глубине этих глаз, в этой шлюхе! Теперь она не верит ни
слову из того, что он говорит обо мне».
Даниель с удовлетворением улыбнулся; он так гордился этой
победой, что на миг перестал за собой следить: в потоке слов
образовался разрыв, который мало-помалу удлинялся, растягивался и в
конце концов стал тишиной. Тишиной давящей и полой. Он не
должен был, не должен был прекращать говорить. Ветер утих,
ярость поутихла тоже; в самой глубине тишины, как рана,
виднелось лицо Сергина. Милое непонятное лицо; сколько терпения,
сколько старания понадобилось бы, чтобы немного его осветить.
Даниель подумал: «Я бы смог...» Еще в этом году, еще сегодня он бы
смог. А потом... Он подумал: «Это мой последний шанс». Это был
его последний шанс, и Матье у него этот шанс небрежно украл.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
155
Ральфы, Бобби — вот что ему оставалось. «А из бедного мальчика
Матье сделает ученую обезьяну!» Даниель шел в полной тишине,
только его шаги отдавались в голове, как на пустынной утренней
улице. Его одиночество было таким полным под этим прекрасным
небом, ласковым, как чистая совесть, среди этой суетливой толпы,
что он был ошеломлен, что еще существует; он должен быть ночным
кошмаром какого-то существа, которое вот-вот проснется. К
счастью, ярость снова завладела им и затопила все, он почувствовал
себя воскрешенным этим бодрящим бешенством, и бегство
началось снова, снова его обуяло столпотворение слов; он ненавидел
Матье. Вот кто должен был считать существование совершенно
естественным, он не задает себе вопросов, этот классический
праведный свет, это целомудренное небо созданы для него, он у себя
дома, он не знает, что такое одиночество. «Ей-же-ей, — подумал
Даниель, — он принимает себя за Гете». Он поднял голову, он
смотрел прохожим в глаза; он пестовал свою ненависть: «Но берегись,
воспитывай себе последователей, если тебя это развлекает, только
не за мой счет, иначе в конце концов я сыграю с тобой злую шутку».
Новый толчок гнева приподнял его над землей, теперь он летел,
отдавшись радости быть устрашающим, и вдруг в голову ему
пришла мысль, острая и раскаленная: «Но, но, но... Возможно, следует
помочь этому тугодуму, помочь ему вернуться в себя, сделать так,
чтобы жизнь не была для него слишком легкой». Такую услугу он,
Даниель, может ему оказать. Он вспомнил, с каким суровым
мужским видом Марсель однажды бросила ему через плечо: «Когда
женщине крышка, ей только и остается сделать себе ребенка».
Занятно, если они на этот счет разного мнения, если он мечется по
хибарам знахарок, а в это время она в глубине своей розовой
комнаты сохнет от желания иметь ребенка. Марсель никогда не
посмеет ему об этом сказать, если только... Если только не найдется некто,
некий добрый общий друг, который придаст ей немного смелости...
«Я злой», — подумал он, преисполненный радости. Злоба — это
необычайное ощущение скорости, вдруг отделяешься от себя и
летишь вперед стрелой: скорость хватает тебя за загривок, она
возрастает с каждой минутой, это сладко и невыносимо, катишься с
отпущенными тормозами в разверстую могилу, сметаешь слабые
препятствия, неожиданно возникающие по обе стороны, — бедный
Матье, я, такой-сякой, собираюсь испортить ему жизнь — и
ломающиеся, как засохшие ветки, и эта радость, пронзенная страхом, как
она пьянит, она суха, словно удар током, эта радость нескончаема.
156
Жан Поль Сартр
«Спрашивается, будут ли у него еще последователи? Отец
семейства, способен ли такой кого-то увлечь?» Он представил себе лицо
Сергина, когда Матье объявит ему о своей женитьбе, презрение
этого малыша, его ошеломленное отчаяние. «Как, вы, вы
женитесь?» И Матье промямлит: «Да, порой возникают ситуации...» Но
молодежь не понимает этих ситуаций. Нечто зыбкое возникло перед
его глазами. Это было лицо Матье, его честное, славное лицо, но бег
вскоре усилился: зло, как велосипед, было стойким только при
нарастающей скорости. Мысль, проворная и радостная, скакнула
впереди него: «Матье — порядочный человек. Он не подлец. Нет-
нет! Он из семени Авеля, у него есть совесть. Ну что ж, тогда он
должен жениться на Марсель: после ему останется только почить
на лаврах, он еще молод, у него впереди целая жизнь, пусть
упивается своим благородным поступком».
Это было так головокружительно, благолепный отдых чистой
совести, беспримесной чистой совести, под привычным и
снисходительным небом, что Даниель уже не знал в точности, желает ли
он подобного для Матье или для себя самого. Конченый человек,
смирившийся, успокоившийся, наконец-то успокоившийся... «А
что, если она не захочет?.. Нет! Если есть шанс, один крохотный
шанс, что она хочет иметь ребенка, клянусь, она предложит ему на
себе жениться завтра же вечером». Месье и мадам Деларю... Месье
и мадам Деларю имеют честь сообщить вам... «В итоге, — подумал
Даниель, — я стану их ангелом-хранителем, ангелом семейного
очага». Да, он был архангелом, архангелом ненависти, архангелом-
заступником, архангелом, вышедшим на улицу Верцингеторига. Он
снова увидел на мгновение длинное, неловкое и грациозное тело,
худое лицо, склонившееся над книгой, но образ Бориса тут же
размылся, и возник Бобби: «Улица Урс, 6». Даниель почувствовал себя
свободным, как воздух, позволяющий себе все на свете. Большой
бакалейный магазин на улице Верцингеторига был еще открыт, он
вошел. Когда он оттуда вышел, то держал в правой руке меч
архангела, а в левой — коробку конфет для мадам Дюффе.
X
Часы пробили десять. Мадам Дюффе, казалось, этого не
слышала. Она устремила на Даниеля внимательный взгляд, глаза ее
покраснели. «Скоро она уберется!» — подумал Даниель. Мадам
Дюффе хитро ему улыбалась, но с трудом скрывала зевоту. Вдруг она
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
157
откинула назад голову и, по-видимому, приняла решение; она
сказала с шаловливым задором:
— Ну что ж, дети мои, я иду спать! Не заставляйте ее поздно
ложиться, Даниель, я на вас рассчитываю. А то потом она спит до
двенадцати.
Мадам Дюффе встала и похлопала маленькой ловкой рукой по
плечу Марсель. Марсель сидела на кровати.
— Слышишь, мой кот Родилар*, — она забавлялась, говоря
сквозь зубы, — ты слишком долго спишь, ты спишь до двенадцати,
ты нагуливаешь жирок.
— Даю вам слово, что уйду до полуночи, — сказал Даниель.
Марсель улыбнулась.
— Если я этого захочу.
Он повернулся к мадам Дюффе с притворным унынием.
— Ничего не поделаешь!
— Ну, будьте благоразумны, — сказала мадам Дюффе, — и
спасибо за дивные конфеты.
Она подняла к глазам перевязанную лентой коробку с шутливо-
угрожающим жестом.
— Вы очень милы, вы меня балуете, в конце концов я буду вас
бранить.
— Вы доставите мне большое удовольствие, если они вам
понравятся, — проникновенно проговорил Даниель.
Он склонился над рукой мадам Дюффе и поцеловал ее. Вблизи
кожа была морщинистой, с сиреневыми пятнами.
— Архангел! — растроганно воскликнула мадам Дюффе. — Ну
что ж, я удаляюсь, — добавила она, целуя Марсель в лоб.
Марсель обняла ее за талию и на секунду прижала к себе, мадам
Дюффе взъерошила ей волосы и быстро высвободилась.
— Я скоро приду заправить тебе одеяло, — сказала Марсель.
— Нет, нет, скверная девчонка, оставайся со своим архангелом.
Она убежала с живостью маленькой девочки, и Даниель
проследил холодным взглядом за ее узкой спиной: он опасался, что она
вообще не уйдет. Дверь закрылась, но он не почувствовал
облегчения: он немного боялся остаться с Марсель наедине. Он
повернулся к ней и увидел, что она, улыбаясь, смотрит на него.
— Почему вы улыбаетесь? — спросил он.
— Мне всегда забавно видеть вас с мамой, — призналась
Марсель. — Какой же вы обольститель, мой бедный архангел! Как вам
не стыдно так обольщать окружающих?
* Толстый кот у Рабле и Лафонтена.
158
Жан Поль Сартр
Она смотрела на него с нежностью собственника, казалось, она
была бы счастлива заполучить его целиком для себя одной. «На ней
печать беременности», — злобно подумал Даниель. Как он злился
на нее за ее самодовольный вид! Он всегда немного тревожился в
преддверии этих долгих доверительных бесед полушепотом,
каждый раз надо было решаться, как перед прыжком в воду. «У меня
будет приступ астмы», — подумал он. Марсель была унылым
сгустком запахов, свернувшимся на кровати, готовым расщепиться от
малейшего жеста.
Она встала.
— Я хочу вам кое-что показать.
Она взяла с камина фотографию.
— Вы всегда хотели знать, какая я была в молодости... — сказала
она, протягивая ее.
Даниель взял фотокарточку: это была Марсель в восемнадцать
лет, у нее был вид лесбиянки, губы безвольные, глаза жесткие. И та
же дряблая плоть, болтающаяся, точно слишком широкий костюм.
Но она была худой. Даниель поднял глаза и увидел ее тревожный
взгляд.
— Вы были очаровательны, — осторожно сказал он, — и вы
совсем не изменились.
Марсель рассмеялась.
— Нет! Вы хорошо знаете, что я изменилась, противный вы
льстец, бросьте, вы уже не с моей мамой.
Она добавила:
— Но я была прехорошенькой, не так ли?
— Сейчас вы мне больше нравитесь, — сказал Даниель, — губы
у вас были вяловаты... Сейчас вы выглядите куда интересней.
— Никогда не знаешь, всерьез вы говорите или шутите, —
насупившись, отозвалась она. Но легко было заметить, что она
польщена.
Марсель привстала и бросила быстрый взгляд в зеркало. Этот
неловкий и бесстыдный взгляд разозлил Даниеля: в ее кокетстве
было нечто детское, беззащитное, с трудом сочетавшееся с лицом
зрелой женщины. Он улыбнулся ей.
— Я тоже хочу спросить у вас: почему вы улыбаетесь? — сказала
Марсель.
— Потому что вы подпрыгнули, как маленькая девочка, чтобы
посмотреться в зеркало. Так трогательно, когда вы ненароком
заняты собой.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
159
Марсель порозовела и притопнула.
— Вижу, вы без лести не можете.
Оба они засмеялись, и Даниель, чуть поколебавшись, подумал:
«Начнем!» Все складывалось хорошо, момент был удобный, но он
чувствовал себя расслабленным и пустотелым. Чтобы придать себе
мужества, он подумал о Матье и был удовлетворен, убедившись, что
ненависть его непоколебима. Матье был цельный и сухой, как кость;
его можно было ненавидеть. Марсель ненавидеть было нельзя.
— Марсель! Поглядите на меня!
Он нагнулся и озабоченно посмотрел на нее.
— Гляжу, — сказала Марсель.
Она подняла на него глаза, но голова ее непроизвольно
подергивалась: она с трудом выдерживала мужской взгляд.
— У вас усталый вид.
Марсель сощурилась.
— Я немного разбита, — сказала она. — Это от жары.
Даниель наклонился еще ниже и повторил огорченно и с
недовольством:
— Вы очень устали! Я на вас смотрел, когда ваша мать
рассказывала о своем путешествии в Рим, и вы казались такой
озабоченной, такой издерганной...
Марсель прервала его, возмущенно рассмеявшись:
— Послушайте, Даниель, она в третий раз рассказывает вам об
этом путешествии. И каждый раз вы слушаете все с тем же живым
интересом; по правде говоря, это меня немного раздражает, я не
очень понимаю, что у вас в это время творится в голове.
— Ваша мать меня забавляет, — сказал Даниель. — Я знаю ее
истории, но я люблю слушать, когда она их рассказывает, у нее есть
такие интересные жесты.
Он слегка подвигал шеей, и Марсель расхохоталась. Когда
хотел, Даниель очень хорошо умел передразнивать. Но тут он снова
посерьезнел, и смех Марсель оборвался. Он взглянул на нее с
упреком, и она как-то заерзала под его взглядом. Она сказала ему:
— Это у вас сегодня странный вид. Что с вами?
Он не торопился отвечать. Тяжелое молчание давило на них, в
комнате было невыносимо душно. Марсель смущенно засмеялась,
но смех сразу же замер на губах. Даниель предвкушал дальнейшее.
— Марсель, — начал он, — я не должен был бы вам это говорить...
Она откинулась назад.
— Что? Что? Что случилось?
160
Жан Поль Сартр
— Вы очень сердитесь на Матье?
Она побледнела.
— Он... Он же... Он мне поклялся, что ничего вам не скажет.
— Марсель, ведь это так важно, а вы хотели от меня все скрыть!
Разве я больше не ваш друг?
Марсель вздрогнула.
— Это так грязно! — сказала она.
Ну вот! Готово: она голая. Не было уже речи ни об архангеле, ни
о девичьих фотографиях; с нее сползла маска насмешливого
достоинства. Перед ним была только толстая беременная женщина,
пахнущая телом. Даниелю стало жарко, он провел рукой по
вспотевшему лбу.
— Нет, — медленно сказал он, — нет, это вовсе не грязно.
Она быстро дернула локтем и предплечьем, зигзагообразно
рассекая раскаленный воздух комнаты.
— Я внушаю вам отвращение, — сказала она.
Он натянуто засмеялся.
— Отвращение? Мне? Марсель, вам придется долго искать
такое, что могло бы внушить мне отвращение к вам.
Марсель не ответила; понурившись, она проговорила:
— Я так хотела держать вас вне всего этого!..
Они замолчали. Теперь между ними возникла еще одна связь,
прочная, как пуповина.
— Вы видели Матье после того, как он ушел от меня? — спросил
Даниель.
— Он мне звонил после полудня, — сухо ответила Марсель.
Она взяла себя в руки и ожесточилась, она была настороже,
прямая, ноздри сжаты; она страдала.
— Он сказал вам, что я не дал ему денег?
— Он мне сказал, что у вас их нет.
— У меня они есть.
— Есть? — изумилась она.
— Да, но я не захотел их ему одалживать. Во всяком случае,
прежде хотел увидеть вас.
Он сделал паузу и добавил:
— Марсель, следует их ему одолжить?
— Но я не знаю, — пробормотала она неуверенно. — Вам лучше
знать, располагаете ли вы...
— Располагаю. У меня пятнадцать тысяч франков, которыми я
могу распоряжаться, ни в чем себя не ущемляя.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
161
— Тогда да, — сказала Марсель. — Да, мой дорогой Даниель, они
нам необходимы.
Наступило молчание. Марсель перебирала пальцами простыню,
ее тяжелая грудь тревожно вздымалась.
— Вы меня не поняли, — возразил Даниель. — Я хочу сказать:
положа руку на сердце, вы действительно хотите, чтоб я их ему
одолжил?
Марсель подняла голову и удивленно посмотрела на него.
— Сегодня вы какой-то странный, Даниель; у вас что-то на уме.
— Да нет же... просто я хотел уточнить, посоветовался ли Матье
с вами.
— Ну, естественно. И потом, — проговорила она с легкой
улыбкой, — мы не советуемся, вы ведь знаете, как у нас заведено: один
говорит — сделаем то-то или то-то, а другой, если не согласен,
возражает.
— Знаю, — сказал Даниель. — Знаю... Только это обычно на руку
тому, чье мнение уже сложилось: другого подталкивают, и он не
успевает сформулировать свое мнение.
— Может, и так... — согласилась Марсель.
— Я знаю, как Матье уважает ваше мнение, — сказал он. — Но я
так хорошо представляю себе эту сцену: она преследует меня весь
день. Он, должно быть, напыжился, как это ему свойственно в таких
случаях, а потом, проглотив слюну, сказал: «Хорошо! Ну что ж,
примем меры». У него не было колебаний, впрочем, он и не мог их
иметь: он мужчина. Только... не слишком ли все это поспешно?
Сами-то вы должны твердо знать, чего хотите.
Он снова наклонился к Марсель.
— Разве все было иначе?
Марсель не смотрела на него. Она повернула голову в сторону
умывальника, и Даниель видел ее профиль. Вид у нее был
угрюмый.
— Да нет, почти так, — сказала она и сильно покраснела. — Не
будем больше об этом, Даниель, прошу вас! Это... это мне не очень
приятно.
Даниель не сводил с нее глаз. «Она трепещет», — подумал он.
Но он не до конца понимал, доставляло ли ему большее
удовольствие унижать ее или унижаться вместе с ней. Он сказал себе: «Все
будет легче, чем я думал».
— Марсель, — проговорил он, — не замыкайтесь, умоляю вас: я
знаю, как вам неприятно об этом говорить...
162
Жан Поль Сартр
— Особенно с вами, — сказала Марсель. — Даниель, вы
настолько не похожи ни на кого на свете!
«Черт возьми! Я ее чистота!»
Она снова вздрогнула и прижала руки к груди.
— Я не смею больше смотреть на вас, — с трудом вымолвила
она. — Даже если я не стала вам противна, мне кажется, я вас
потеряла.
— Знаю, — с горечью проговорил Даниель. — Архангелы легко
пугаются. Послушайте, Марсель, не заставляйте меня больше играть
эту смешную роль. Во мне нет ничего от архангела; я просто ваш
друг, ваш лучший друг. И все-таки я должен сказать свое слово, —
твердо добавил он, — потому что я в состоянии вам помочь.
Марсель, вы действительно уверены, что не хотите ребенка?
Легкая быстрая дрожь пробежала по телу Марсель, казалось, оно
силится развоплотиться. Но потом, будто одумавшись, оно осело на
край кровати, неподвижное и тяжеловесное. Марсель повернулась
к Даниелю; вся пунцовая, она смотрела на него без обиды, в
беззащитном оцепенении. Даниель подумал: «Она в отчаянии».
— Вам нужно сказать только слово: если вы в себе уверены,
Матье завтра же утром получит деньги.
Он почти желал, чтобы она сказала: «Я уверена в себе». Он даст
деньги, и дело будет закрыто. Но Марсель ничего не говорила, она
повернулась к нему, глаза ее были полны ожидания; нужно было
идти до конца. «Ах, вот оно что! — подумал Даниель с ужасом. —
Честное слово, у нее благодарный вид!» Как у Мальвины, когда он
дал ей взбучку.
— Вы! — сказала она. — Вы думали об этом! А он... Даниель, на
всем свете только вы один волнуетесь обо мне.
Он встал, сел с ней рядом и взял ее за руку. Вялая,
лихорадочная, доверчивая рука: он молча держал ее в своей. Казалось,
Марсель боролась со слезами; она тупо уставилась на свои колени.
— Марсель, разве вам безразлично, что маленького уничтожат?
Марсель устало передернула плечами.
— А что вы предлагаете взамен?
Даниель подумал: «Все, я выиграл». Но он не испытал никакой
радости. Он задыхался. Вблизи Марсель попахивала, он мог в этом
поклясться; это было неуловимо и вообще не было в прямом смысле
запахом, но ощущение такое, что она оплодотворяла воздух вокруг
себя. И потом, эта рука, потевшая в его руке. Он едва удержался,
чтобы не сжать ее сильнее, ему хотелось выдавить из нее весь сок.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
163
— Не знаю, что можно сделать, — суховато проговорил он, —
потом посмотрим. Сейчас я думаю только о вас. Если этот малыш у
вас будет, он может стать крушением всего, а может, и удачей.
Марсель, вы должны обо всем хорошо подумать, чтобы после не
упрекать себя.
— Да... — сказала Марсель, — да...
Она смотрела в пустоту с доверчивым, молодящим ее видом;
Даниель подумал о юной студентке, которую он только что видел
на фотографии: «Это правда! Она была молодой...» Но на этом
неприятном лице даже отблески молодости не волновали. Он резко
отпустил ее руку и немного отодвинулся.
— Подумайте, — повторил он настойчиво, — вы действительно
уверены, что не хотите малыша?
— Не знаю, — сказала Марсель.
Она встала.
— Извините, мне нужно подоткнуть маме одеяло.
Даниель молча поклонился: таков был обычай. «Я выиграл», —
подумал он, едва за ней закрылась дверь. Он вытер руки платком,
потом живо встал и открыл ящик столика, стоящего подле кровати:
он находил там иногда забавные письма, короткие записки Матье,
совсем супружеские, или бесконечные сетования Андре, которая
была несчастлива. На сей раз ящик был пуст, Даниель снова сел в
кресло и подумал: «Я выиграл, она помирает от желания снестись».
Он был рад, что остался один: за это время можно укрепить свою
ненависть. «Клянусь, Матье на ней женится, — сказал он себе. —
Однако он гнусен, даже с ней не посоветовался. Не стоит, — одернул
он себя, сухо усмехнувшись. — Не стоит его ненавидеть, хоть
праведные основания для этого есть: у меня достаточно других».
Марсель вернулась с искаженным лицом. Она прерывисто
сказала:
— А если я и захочу ребенка? Что это мне даст? У меня нет
средств, чтобы одной его вырастить, а он на мне наверняка не
женится.
Даниель удивленно поднял брови.
— Но почему? Почему он не может на вас жениться?
Марсель посмотрела на него с крайним изумлением, потом
решила засмеяться.
— Но, Даниель! Вы же знаете, какие мы!
— Ничего я не знаю, — сказал Даниель. — Я знаю только одно:
если он хочет, следует всего лишь совершить некоторые обязатель-
164
Жан Поль Сартр
ные для всех формальности, и через месяц вы его жена. Или это вы,
Марсель, решили никогда не выходить замуж?
— Было бы отвратно, если б он женился на мне против своей
воли...
— Это не ответ.
Марсель немного расслабилась. Она засмеялась, и Даниель
понял, что сделал неверный шаг.
— Нет, правда, мне совершенно безразлично, буду ли я
именоваться «мадам Деларю» или нет, — сказала она.
— Я в этом уверен, — живо отозвался Даниель. — Я хотел
только сказать: а если это единственное средство оставить ребенка?..
Марсель казалась потрясенной.
— Но... я никогда такое не связывала.
Должно быть, это правда. Ее всегда трудно было заставить
смотреть фактам в лицо; ее нужно было ткнуть во все носом, иначе она
глядела бы по сторонам. Марсель добавила:
— Это... это должно произойти само собой: брак — это рабство,
и мы его не хотим, ни он, ни я.
— Но ведь вы хотите ребенка?
Марсель одной рукой опиралась на подушку, а другую
положила на бедро. Потом отняла ее и приложила к животу, словно у нее
разболелся кишечник; в этом было что-то причудливое и чарующее.
Она хмуро призналась:
— Да, я хочу ребенка.
Победа! Даниель замолчал. Он не мог оторвать глаз от этого
живота. Враждебная плоть, плоть тучная и изобильная, своего рода
кладовая припасов. Он подумал, что Матье желал ее, и в нем
полыхнуло пламя удовлетворения: будто он за себя уже отчасти
отомстил. Смуглая рука в кольцах застыла на шелке, прижимаясь к
животу. Что она чувствовала внутри, эта полнотелая самка,
пребывающая в смятении? Как он хотел бы на мгновение стать ею.
Марсель глухо сказала:
— Даниель, вы меня освободили. Я... я не решалась никому на
свете в этом признаться, в конце концов я стала считать свое
желание преступным.
Она с тревогой посмотрела на него.
— Вы не считаете это преступным?
Он не мог удержаться от смеха:
— Преступным? Но это же какое-то извращение, Марсель! Вы
считаете свое желание преступным, тогда как оно абсолютно
естественно?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
165
— Нет, я имею в виду другое: преступным по отношению к Ма-
тье. Это похоже на разрыв соглашения.
— Нужно честно с ним объясниться, вот и все.
Марсель не ответила, казалось, она что-то проворачивала в уме.
Внезапно она страстно сказала:
— Если б у меня был ребенок, клянусь вам, я бы не позволила
ему загубить свою жизнь, как я загубила свою!
— Вы не загубили свою жизнь.
— Загубила!
— Нет, Марсель. Еще нет.
— Да! Я неудачница, я никому не нужна.
Он не ответил. Это было сущей правдой.
— Матье я не нужна. Если я умру... он не будет слишком
горевать. Вы тоже, Даниель. Да, у вас есть привязанность ко мне,
возможно, это для меня самое дорогое на свете. Но я вам не нужна. Это
вы мне нужны.
Отвечать? Возражать? Нужно быть настороже: Марсель,
казалось, впала в один из своих приступов циничного ясновидения.
Даниель, не говоря ни слова, взял ее за руку и многозначительно
сжал ее.
— Ребенок, — продолжала Марсель. — Ребенок, да, вот кому я
буду нужна.
Он погладил ее руку.
— Вот это и нужно сказать Матье.
— Нет, я не смогу.
— Но почему?
— Я связана. Я буду ждать, когда он заговорит об этом сам.
— Но вы же хорошо понимаете, что сам он никогда не заговорит:
он об этом просто не думает.
— Но почему? Вы же об этом подумали.
— Ну, не знаю...
— Что ж, значит, все останется, как есть. Вы нам одолжите денег,
и я пойду к врачу.
— Но вы не можете так поступить, — резко вскрикнул
Даниель, — не можете!
Он вдруг остановился и недоверчиво посмотрел на нее:
ситуация вынудила его к этому глупому выкрику. Эта мысль привела его
в оцепенение, он ненавидел себя за то, что потерял над собой
контроль. Он поджал губы и, подняв брови, придал своим глазам
ироничное выражение; лучше бы ее не видеть: она ссутулилась, руки
166
Жан Поль Сартр
безвольно повисли вдоль тела; она ждала, измученная и
безропотная, и она так будет ждать долгие годы, до самого конца. Он
подумал: «Это ее последний шанс!»; так он недавно думал о себе. Между
тридцатью и сорока годами люди разыгрывают свой последний
шанс. Она будет играть и проигрывать; через несколько дней она
будет только воплощенным тучным несчастьем. Необходимо этому
помешать.
— А если я сам поговорю с Матье?
Его всего затопила мутная жалость. Он не испытывал ни
малейшей симпатии к Марсель, более того, она вызывала у него глубокое
отвращение, и все же он не мог избавиться от неодолимой жалости.
Он пошел бы на все, только бы от нее освободиться. Марсель
подняла голову, вероятно, она сочла его безумным.
— Поговорить с ним? Вы? Но, Даниель! Это невозможно!
— Можно сказать ему... что я вас случайно встретил...
— Но где? Я ведь никуда не выхожу. Но даже если это допустить,
разве я стала бы ни с того ни с сего вам об этом рассказывать?
— Нет. Конечно, нет...
Марсель положила руку ему на колено.
— Даниель, прошу вас, не вмешивайтесь. Я зла на Матье, ему не
следовало вам рассказывать.
Но Даниель не уступал:
— Послушайте, Марсель. Знаете, как мы поступим? Просто
скажем ему правду. Я скажу ему: ты должен нам простить одну
маленькую тайну, мы с Марсель втайне от тебя иногда видимся.
— Даниель! — умоляюще вскричала Марсель. — Не нужно. Не
хочу, чтобы вы говорили с ним обо мне. Ни за что на свете я не хочу
выглядеть женщиной, предъявляющей какие-то претензии. Он
должен все понять сам. — Она добавила с видом добродетельной
супруги: — И потом, знаете, он мне никогда не простит, что я от него
это утаила. Мы ведь друг другу говорим все.
Даниель подумал: «Вот это да!» Но смеяться ему не хотелось.
— Но я не стану говорить от вашего имени, — заверил он, — я
ему скажу, что видел вас, что у вас был измученный вид и что все
не так просто, как он полагает. Пусть он думает, что все это идет от
меня.
— Нет, я не хочу, — упрямо сказала Марсель. — Не хочу.
Даниель с жадностью посмотрел на ее плечи и шею. Это глупое
упрямство злило его; он хотел его одолеть. Он был одержим
безобразным желанием: подавить это сознание, рухнуть вместе с ним в
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
167
пропасть унижения. Но то был не садизм: нечто более чувственное,
влажное, плотское. Это скорее была доброта.
— Так нужно, Марсель, так нужно. Посмотрите на меня!
Он взял ее за плечи, его пальцы погрузились в теплое масло.
— Если я с ним не поговорю, вы ему никогда ничего не скажете,
и... все будет кончено, вы будете жить рядом с ним, затаив зло, и в
конце концов его возненавидите.
Марсель не ответила, но по ее надутому, обиженному виду он
понял: она сдается. И все-таки она повторила:
— Нет, я не хочу.
Он отпустил ее.
— Если вы не позволите мне действовать, я буду долго на вас
сердиться. Вы собственными руками испортите себе жизнь.
Марсель поводила ногой по коврику.
— Нужно... нужно сказать ему нечто неопределенное, — сказала
она, — просто чтобы навести его на мысль.
— Безусловно, — сказал Даниель.
И подумал: «Как же, рассчитывай!»
Марсель досадливо поморщилась.
— Нет, это невозможно.
— Что такое? Ведь только что вы проявили благоразумие...
— Вам придется сказать ему, что мы видимся.
— Да, ну и что? — разозлился Даниель. — Я достаточно его знаю,
он не рассердится, в крайнем случае он для видимости немного
вспылит. Но, поскольку он почувствует себя виноватым, он будет
даже рад возможности хоть в чем-то вас упрекнуть. Впрочем, я
скажу ему, что мы видимся всего несколько месяцев и с большими
интервалами. Все равно нам когда-нибудь пришлось бы в этом
сознаться.
-Да.
Даниель почувствовал, что до конца не убедил ее.
— Это был наш секрет, — с глубоким сожалением сказала
Марсель. — Поймите, Даниель, это моя личная жизнь, другой у меня
нет. — И зло добавила: — Я могу чувствовать своим лишь то, что
скрываю от него.
— Нужно попытаться. Ради ребенка.
Сейчас она уступит, нужно только немного выждать; она
соскользнет, влекомая собственным весом, в смирение, в
самозабвение; через мгновение она будет вся открыта, беззащитна и покорна,
она ему скажет: «Делайте что хотите, я в ваших руках». Она его за-
168
Жан Поль Сартр
вораживала: его пожирал нежный огонь, он больше не знал, был ли
он злом или добротой. Добро и Зло, их Добро и его Зло были одним
и тем же. Была эта женщина, была эта отталкивающая и
головокружительная общность.
Марсель провела рукой по волосам.
— Что ж, попытаемся, — с вызовом сказала она. — Во всяком
случае, это будет для него испытанием.
— Испытанием? — переспросил Даниель. — Это Матье вы
хотите подвергнуть испытанию?
-Да.
— И вы опасаетесь, что он останется безразличным? Что он не
поспешит объясниться с вами?
— Не знаю.
Она сухо сказала:
— Мне необходимо уважать его.
Сердце Даниеля заколотилось.
— Значит... вы его больше не уважаете?
— Уважаю... Но со вчерашнего вечера что-то изменилось. Он
был... Вы правы: он был слишком небрежен. Он не встревожился
обо мне. И его сегодняшний звонок произвел довольно жалкое
впечатление. Матье...
Марсель покраснела.
— Матье счел нужным сказать, что любит меня. Вешая трубку.
Это попахивает нечистой совестью. Не могу описать вам свои
ощущения. Если я когда-нибудь перестану его уважать... Но я не хочу
об этом думать. Когда порой я сержусь на него, это мне крайне
тягостно. Ах! Если 6 он попытался меня разговорить, если 6 он меня
хоть однажды, хоть один-единственный раз спросил: «Что у тебя на
душе?..»
Она замолчала и грустно покачала головой.
— Я с ним поговорю, — пообещал Даниель. — Сегодня же черкну
ему записку и назначу встречу на завтра.
Они замолчали. Даниель принялся обдумывать завтрашнюю
встречу: она обещала быть бурной и трудной, это отмывало его от
липкой, неотвязной жалости.
— Даниелъ! — сказала Марсель. — Милый Даниель.
Он поднял голову и увидел ее взгляд: тяжелый,
околдовывающий, в нем были благодарность и призыв, взгляд любви. Он
зажмурился: между ними было нечто более могущественное, чем любовь.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
169
Марсель была распахнута, он вошел в нее, теперь они составляли
одно целое.
— Даниель! — повторила она.
Даниель открыл глаза и мучительно закашлялся; с ним
случился приступ астмы. Он взял ее руку и, сдерживая дыхание, долго
целовал ее.
— Мой архангел, — прошептала Марсель, глядя поверх его
головы.
Он проведет всю жизнь, склоненный над этой душистой рукой,
а она пусть гладит его по волосам.
XI
Большой сиреневый цветок поднимался к небу, это была ночь.
Матье шел в этой ночи и думал: «Я пропащий человек». Это была
совсем новая мысль, ее нужно было многократно прокрутить в
голове, осторожно понюхать. Время от времени Матье терял ее,
оставались только слова. Слова были не лишены некоторого мрачного
очарования. «Пропащий человек». Представлялись грандиозные
бедствия, самоубийства, мятежи и другие крайности. Но мысль
быстро возвращалась к реальности: это было не то, совсем не то;
речь шла всего лишь о маленькой, скромной неприятности, об
отчаянии не было и речи, наоборот, эта ситуация была даже удобной:
у Матье было впечатление, что ему все разрешили, как
неизлечимому больному. «Мне только остается позволить себе жить», —
подумал он. Матье прочел — «Суматра», название, написанное
огненными буквами, и к нему поспешил неф, прикоснувшись к
форменной фуражке. На пороге Матье замешкался: он слышал шум,
мелодию танго; его сердце было еще полно лени и ночи. И потом все
произошло внезапно, как утром, когда обнаруживаешь, что стоишь
на ногах, не зная, как это получилось: он отодвинул зеленую
драпировку, спустился по лестнице на семнадцать ступенек и оказался в
пурпурном шумном погребе с пятнами скатертей больнично-белого
цвета; тут пахло людьми, зал был полон, как на литургии. В
глубине погреба на эстраде играли гаучо в шелковых рубашках. Перед
ним были люди, непоколебимые и корректные, которые, казалось,
чего-то ждали: они танцевали, были угрюмы и выглядели
охотниками за неуловимой судьбой. Матье усталым взглядом поискал в
зале Бориса и Ивиш.
170
Жан Поль Сартр
— Желаете столик, месье?
Красивый юноша склонился перед ним с видом сводника.
— Я ищу друзей, — сказал Матье.
Юноша узнал его.
— AI Это вы, месье? — сердечно сказал он. — Мадемуазель Лола
одевается. Ваши друзья там, в глубине слева, я вас провожу.
— Нет, благодарю вас, я справлюсь сам. У вас сегодня много
народу.
— Да, много. Голландцы. Они немного шумные, но зато щедрые
клиенты.
Юноша исчез. Нечего было и думать о том, чтобы пробраться
между танцующими парами. Матье подождал: он слушал мелодию
танго и шарканье ног, смотрел на медленные перемещения этого
молчаливого митинга. Обнаженные плечи, голова негра,
сверкающий белый воротничок, роскошные зрелые женщины, много
пожилых господ, танцующих со сконфуженным видом.
Пронзительные звуки танго неслись как будто над ними: казалось, музыканты
играли не для них. «Зачем я пришел сюда?» — подумал Матье. Его
пиджак лоснился на локтях, на брюках не было стрелок, танцевал
он плохо, не умел развлекаться с праздной многозначительностью
на физиономии. Он почувствовал себя неуютно: на Монмартре,
несмотря на приветливость метрдотелей, никогда не чувствуешь
себя уютно, в воздухе витает беспокойная, неутолимая
жестокость.
Зажглись белые лампочки. Матье вслед за расходившимися
спинами отправился на поиски. В углу было два столика. За одним
из них, не глядя друг на друга, вяло разговаривали мужчина и
женщина. За другим он увидел Бориса и Ивиш, они наклонились друг
к другу со строгим изяществом. «Как два монашка». Говорила
Ивиш, при этом она оживленно жестикулировала. Никогда, даже в
минуты полной открытости, она не обнаруживала перед Матье
такого лица. «Как они молоды!» — подумал он. Ему захотелось
повернуться и уйти прочь. Однако он подошел, так как больше не мог
выносить одиночества, ему казалось, что он подсматривает за ними
в замочную скважину. Сейчас они его заметят, повернут к нему
высокомерные лица, которые они приберегают для родителей, для
взрослых, и даже в глубине их сердец что-то переменится.
Склонившись к уху Бориса, она что-то шептала. Напустив на себя вид
старшей сестры, она разговаривала с Борисом с восхитительной
снисходительностью. Матье почувствовал себя немного утешенным:
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
171
даже с братом Ивиш была не совсем естественна — она только
играла в старшую сестру, она никогда не забывалась.
— Пустяки, — коротко засмеявшись, бросил Борис.
Матье положил руку на стол. «Пустяки». Этим словцом
заканчивался их разговор, точно последняя реплика в романе или пьесе.
Матье смотрел на Бориса и Ивиш: они выглядели так романтично.
— Привет, — сказал он.
— Привет, — вставая, отозвался Борис.
Матье бросил быстрый взгляд на Ивиш: она села откинувшись.
Он увидел ее бледные и сумрачные глаза. Подлинная Ивиш
исчезла. «А, собственно, почему подлинная?» — с раздражением
подумал он.
— Здравствуйте, Матье, — сказала Ивиш.
Она не улыбнулась, но у нее не было и удивленного или
рассерженного вида; казалось, она считала присутствие Матье
совершенно естественным. Борис быстрым жестом показал на толпу.
— Уйма народу! — удовлетворенно сказал он.
— Да, — согласился Матье.
— Хотите на мое место?
— Нет, не стоит; вы его уступите Лоле.
Он сел. Площадка опустела, на эстраде музыкантов больше не
было: гаучо закончили свое танго, их должен был сменить
негритянский джаз-банд.
— Что вы пьете? — спросил Матье.
Вокруг галдели, Ивиш приняла его неплохо: он был пронизан
влажным теплом, он радовался счастливой плотности, благодаря
которой чувствовал себя человеком среди других людей.
— Водку, — сказала Ивиш.
— Вот как, вы теперь ее любите?
— Она крепкая, — не уточняя, пояснила Ивиш.
— А это что? — спросил Матье, из чувства справедливости
показав на белую пену в бокале Бориса. Борис смотрел на Матье с
веселым изумленным восхищением, и тот смутился.
— Это отвратительное пойло, — сказал Борис, — коктейль по
рецепту бармена.
— Вы его заказали из вежливости?
— Уже три недели он мне выламывает руки, заставляет
попробовать. Он не умеет делать коктейли. Он стал барменом, потому что
был фокусником. Говорит, это одно и то же ремесло, но он
ошибается.
172
Жан Поль Сартр
— Думаю, все дело в шейкере, — сказал Матье, — и потом, когда
разбивают яйца, необходима ловкость рук.
— Тогда лучше было бы стать жонглером. Я бы так и не выпил
эту чертову микстуру, если б сегодня вечером не одолжил у него сто
франков.
— Сто франков? — удивилась Ивиш. — Но у меня они есть.
— У меня тоже, — сказал Борис, — но у него я взял потому, что
он бармен. У бармена всегда следует брать в долг, — объяснил он с
оттенком педантичности.
Матье посмотрел на бармена. Тот стоял за стойкой, весь в белом,
скрестив руки, и с невозмутимым видом курил сигарету.
— Я бы хотел быть барменом, — признался Матье, — вероятно,
это забавно.
— Это бы вам дорого обошлось, — ухмыльнулся Борис, — вы бы
все перебили.
Наступило молчание. Борис смотрел на Матье, а Ивиш — на
Бориса. «Я здесь лишний», — с грустью подумал Матье.
Метрдотель протянул ему карту шампанских вин: нужно было
сосредоточиться, у него оставалось не более пятисот франков.
— Виски, — заказал Матье.
Внезапно он ужаснулся этой бережливости и той тоненькой
пачке, что болталась в его кошельке. Он окликнул метрдотеля.
— Подождите! Лучше шампанского.
Он снова взял карту. «Myмм» стоило триста франков.
— Вам оно понравится, — сказал он Ивиш.
— Нет. Да, — заколебалась она. — Пожалуй.
— Принесите «Мумм» с красной лентой.
— Рад буду выпить шампанского, — сказал Борис, — потому что
я его не люблю. Нужно привыкать.
— Вы оба какие-то противоестественные, — заметил Матье, —
всегда пьете то, чего не любите.
Борис расцвел: он обожал, когда Матье говорил с ним таким
тоном. Ивиш поджала губы. «Им ничего нельзя сказать, — с
некоторым раздражением подумал Матье. — Всегда один из них
обижается». Они сидели здесь, напротив него, внимательные и суровые;
они видели его по-своему, и тот и другой хотели, чтобы он
соответствовал их представлениям. Но совпадения не получалось.
Они замолчали.
Матье вытянул ноги и довольно улыбнулся. Звуки труб,
кисловатые и победоносные, временами доходили до него; у него не было
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
173
желания обнаружить в них какую-то мелодию: это было здесь, вот
и все, производило шум и давало ему огромное чувственное
наслаждение. Разумеется, Матье очень хорошо понимал, что он человек
пропащий; но здесь, в дансинге, за этим столиком, среди таких же
пропащих, как и он, людей все это не имело особого значения и
было совсем не тягостно. Он повернул голову: бармен все еще витал
в облаках; справа от него стоял в одиночестве какой-то
изможденный господин с моноклем, а другой, чуть дальше, тоже один, сидел
с дамской сумочкой перед тремя фужерами; его жена и друг,
наверно, танцевали, вид у него был скорее удовлетворенный: он широко
зевал, прикрывая рот рукой, глазки его умильно жмурились.
Повсюду улыбающиеся и чистенькие лица с изнуренными глазами.
Матье вдруг почувствовал себя связанным со всеми этими людьми,
которым было бы лучше вернуться домой, но они не имели на это
сил и оставались здесь, куря тонкие сигареты и попивая коктейли
с металлическим привкусом, они улыбались, и уши их, видимо,
страдали от музыки; они смотрели опустошенными глазами на
осколки своей судьбы; Матье почувствовал негромкий призыв
покорного и презренного счастья: «Быть, как они...» Он испугался и,
вздрогнув, повернулся к Ивиш. Какой бы она ни была злопамятной
и отчужденной, тем не менее она его единственная опора. Ивиш
смотрела на прозрачную жидкость, оставшуюся у нее в бокале, и
беспокойно поглядывала по сторонам.
— Нужно выпить залпом, — сказал Борис.
— Не делайте этого, — остановил ее Матье, — вы обожжете
горло.
— Водку пьют залпом, — строго настаивал Борис.
Ивиш взяла бокал.
— Лучше уж залпом, чтобы скорее с этим покончить.
— Нет, не пейте, подождите шампанского.
— Мне необходимо это проглотить, — с раздражением сказала
она, — я хочу веселиться.
Она откинулась назад, поднеся бокал к губам, и вылила
содержимое в рот, как будто наполняла графин. Секунду она оставалась
в том же положении, с этой огненной лужицей во рту, не решаясь
глотнуть. Матье страдал вместе с ней.
— Глотай! — поторопил ее Борис. — Представь себе, что это вода,
только и всего.
Шея Ивиш раздулась, она поставила бокал с ужасной гримасой,
глаза ее были полны слез. Темноволосая дама, их соседка, выйдя на
174
Жан Поль Сартр
мгновение из грустной мечтательности, бросила на нее
укоризненный взгляд.
— Фу! — выдохнула Ивиш. — Жжет... это просто огонь!
— Я тебе куплю бутылку, чтобы ты упражнялась, — сказал
Борис.
Ивиш секунду размышляла.
— Лучше тренироваться на коньяке, он крепче. — Она добавила
с некоторой тревогой: — Думаю, теперь я повеселюсь.
Никто ей не ответил. Она живо повернулась к Матье: в первый
раз она на него смотрела.
— Вы хорошо переносите спиртное?
— Он? Он неподражаем, — сказал Борис. — Однажды я видел,
как он выпил семь порций виски, рассказывая мне о Канте. В конце
я уже не слушал, захмелел вместо него.
Это была правда: даже таким способом Матье не мог потерять
себя. Пока он пил, он цеплялся. За что? Вдруг он снова увидел
Гогена, толстое бледное лицо с опустошенным взглядом; он подумал:
«За свое человеческое достоинство». Он боялся, что, забудься он
хоть на мгновение, он внезапно обнаружит в своей голове,
растерянной, плывущей, как знойный туман, мыслишку мухи или же
таракана.
— Я боюсь опьянеть, — покорно объяснил он, — я пью, но
отвергаю опьянение всем своим существом.
— Тут-то вы упрямы, — восхищенно сказал Борис, — упрямей
осла!
— Я не упрям, а просто собран: не умею распускать себя. Мне
всегда нужно мыслить о том, что со мной происходит, это моя
самозащита. — Он шутливо добавил как бы для себя самого: — Я
мыслящий тростник.
Как бы для себя самого. Но это неправда, он не был искренним:
в глубине души он хотел понравиться Ивиш. Он подумал: «Значит,
вот до чего я докатился!» Он докатился до того, что использует
свою немощь, но не для того, чтобы извлечь мелкую выгоду, она
нужна ему, чтобы любезничать с девицами. «Негодяй!» Тут он в
испуге остановился: называя себя негодяем, он тоже не вполне
искренен, по-настоящему он собою не возмущен. Это просто прием,
чтобы откупиться, он надеялся избежать нравственного падения
через свою хваленую «трезвость». Но эта трезвость ему ничего не
стоила, она его скорее забавляла. И даже его суждения об этой
трезвости — просто способ вскарабкаться на собственные плечи...
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
175
«Нужно измениться до мозга костей». Но ему ничто не могло
помочь: все его мысли с самого их зарождения инфицированы. Вдруг
Матье открылся, как рана; он увидел себя всего, разверстого:
мысли, мысли о мыслях, мысли о мыслях о мыслях, он был прозрачен
до бесконечности, он до бесконечности прогнил. Потом все
потухло, он снова сидел напротив Ивиш, которая странно на него
смотрела.
— Ну как? — спросил он. — Вы днем занимались?
Ивиш рассерженно дернула плечами.
— Я не хочу, чтобы мне об этом напоминали! Надоело; я сюда
пришла веселиться.
— Она весь день пролежала на диване, свернувшись калачиком,
широко раскрыв глаза.
И Борис гордо добавил, не обращая внимания на мрачный
взгляд, который на него метнула сестра:
— Она такая забавная, она может умереть от холода в разгаре
лета.
Матье представил себе, как Ивиш несколько часов кряду
дрожала, возможно, плакала. Впрочем, теперь ничего не было заметно:
она наложила на веки голубые тени, на губы — малиновую помаду,
алкоголь воспламенил ее щеки, она была обворожительна.
— Я хочу провести потрясающий вечер, — сказала она, — потому
что это мой последний вечер.
— Не смешите.
— Да, — настаивала она, — я провалюсь, я это знаю, и сразу же
уеду, я больше ни дня не смогу остаться в Париже. Или...
Она замолчала.
-Или?
— Ничего. Прошу вас, не будем больше об этом, это меня
унижает. А вот и шампанское! — весело сказала она.
Матье увидел бутылку и подумал: «350 франков». Малый,
накануне подошедший к нему на улице Верцингеторига, тоже был
пропащим, но он потерпел крушение скромно, без шампанского и
прекрасных безумств; и, кроме того, он хотел есть. Матье
возненавидел бутылку. Тяжелая и черная, с белой салфеткой вокруг
горлышка. Официант, наклонившийся над ведерком со льдом с
почтительным чопорным видом, умело вращал ее кончиками пальцев.
Матье смотрел на бутылку, непрерывно думая о вчерашней встрече
и чувствуя, как сердце сжимается от подлинной тоски, но зато на
эстраде некто благообразный пел в микрофон:
176
Жан Поль Сартр
Он попал в цель,
Наш Мишель.
И потом эта бутылка, церемонно вращающаяся в кончиках
бледных пальцев, все эти люди, варящиеся в собственном соку, не
создавая себе лишних неприятностей. Матье подумал:
«Шампанское отдает красным вином; в принципе это одно и то же. Впрочем,
не люблю шампанского». Дансинг показался ему маленьким адом,
легким, как мыльный пузырь, и он улыбнулся.
— Почему вы смеетесь? — спросил, заранее смеясь, Борис.
— Я вспомнил, что тоже не люблю шампанского.
Они втроем засмеялись. Смех Ивиш был пронзительным; ее
соседка повернула голову и смерила ее взглядом.
— Хорошо же мы выглядим! — сказал Борис. Он добавил: — Мы
можем его вылить в ведерко со льдом, когда официант уйдет.
— Конечно, — сказал Матье.
— Нет! — решила Ивиш. — Я хочу выпить; если вы не будете, я
выпью всю бутылку.
Официант налил им, и Матье меланхолически поднес бокал к
губам. Ивиш смотрела на свой с замешательством.
— Было бы неплохо, — сказал Борис, — если б его подавали
кипящим.
Белые лампочки погасли, зажглись красные, и зазвучала дробь
барабана. Маленький лысый и кругленький господин в смокинге
выпрыгнул на эстраду и заулыбался в микрофон.
— Дамы и господа, дирекция «Суматры» счастлива представить
вам первое выступление в Париже мисс Эллинор! Мисс Элли-но-
ор! — повторил он.
При первых тактах бигина в зал вошла высокая блондинка. Она
была откровенно обнажена, ее тело в красноватом воздухе зала
походило на большой кусок хлопка. Матье повернулся к Ивиш: она
смотрела на голую девушку широко раскрытыми бледными
глазами, на лице ее снова застыло выражение фанатичной жестокости.
— Я ее знаю, — прошептал Борис.
Девица танцевала, обуреваемая желанием понравиться: она
выглядела совсем неопытной; она энергично выбрасывала поочередно
ноги, вытянутые узкие ступни были похожи на пальцы.
— Она переигрывает, — сказал Борис, — скоро выдохнется.
И действительно, в ее длинных конечностях была пугающая
хрупкость; когда она ставила ступни на пол, толчки сотрясали ее
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
177
ноги от щиколоток до бедер. Она подошла к эстраде и повернулась.
«Начинается, — с досадой подумал Матье, — сейчас будет крутить
задом». Шум разговоров временами заглушал музыку.
— Она не умеет танцевать, — сказала соседка Ивиш, поджав
губы. — Раз уж заламывают такие цены за выпивку, так хоть
научились бы подбирать эстрадные номера.
— У них есть еще Лола Монтеро, — сказал толстяк.
— Ну и что, все равно это позор, они подобрали ее на панели.
Она отхлебнула коктейля и принялась поигрывать кольцами.
Матье пробежал взглядом по залу и встретил только хмурые и
праведные лица; люди упивались своим негодованием, девица казалась
им вдвойне голой, потому что была порядком неуклюжа. Казалось,
она чувствует эту враждебность и надеется их смягчить. Матье был
поражен ее растерянной старательностью: она им предлагала свои
распахнутые ягодицы в порыве трогательной прилежности.
— До чего же усердствует! — сказал Борис.
— Это ей не поможет, — отозвался Матье, — они хотят, чтобы их
уважали.
— Но при этом хотят видеть задницы.
— Да, но им нужно, чтобы все было изысканно.
Какое-то время ноги танцовщицы отплясывали под
залихватским бессилием ее зада, затем она с улыбкой выпрямилась, подняла
руки и потрясла ими: от этого по ее телу волной прошла зыбь,
которая скользнула вдоль лопаток и замерла в ложбинке поясницы.
— Забавно, что ее бедра неподвижны, — сказал Борис.
Матье не ответил, он только что подумал об Ивиш. Он не смел
на нее смотреть, но помнил ее жестокий вид; в конечном счете пусть
и священное дитя, она была, как все остальные: дважды
защищенная грацией и благонравными одеждами, с плебейской страстью она
пожирала глазами этот бедный кусок мяса. Комок обиды застрял в
горле Матье, рот его переполнила горечь. «Не стоило сегодня утром
так церемониться». Он немного повернул голову и увидел
судорожно сжатый кулак Ивиш, лежащий на столе. Острый ярко-красный
ноготь большого пальца был указующей стрелкой направлен к
сцене. «Она совсем одинока, — подумал он, — она прячет за прядями
свое взволнованное лицо, она сдвигает колени, она наслаждается!»
Эта мысль была для него невыносима, нужно было встать и
исчезнуть, но у него не хватало сил, он просто подумал: «Стоило
убеждать себя, что я люблю ее за чистоту». Танцовщица,
подбоченившись, перемещалась рядом с ними на пятках и коснулась бедром их
178
Жан Поль Сартр
столика. Матье хотел бы возжелать этот толстый веселый зад,
завершающий боязливый позвоночник, возжелать хотя бы для того,
чтобы отвлечься от своих мыслей и насолить Ивиш. Девица
присела на корточки, расставив ноги, она медленно раскачивала задом
взад и вперед, как на маленьких вокзалах по ночам раскачиваются
бледные фонари на оконечностях невидимых столбов.
— Фу! — фыркнула Ивиш. — Не хочу больше на нее смотреть.
Матье удивленно повернулся к ней и увидел треугольное лицо,
искаженное бешенством и отвращением. «Она не была
взволнована», — с благодарностью подумал он. Ивиш дрожала, он хотел ей
улыбнуться, но в голове его зазвенели бубенчики; Борис, Ивиш,
непристойное тело и пурпурный туман маячили вне его
досягаемости. Он был один, вдали сверкали бенгальские огни, а в дыму
ходило колесом чудовище о четырех ногах, праздничная музыка
достигала его ушей резкими синкопами, как бы через влажный шелест
листвы. «Что со мной?» — удивился он. Это было, как утром: вокруг
него шел всего лишь спектакль, Матье был где-то в другом месте.
Музыка резко смолкла, девица застыла, повернувшись лицом к
залу. Над вымученной улыбкой светились затравленные
прекрасные глаза. Никто не зааплодировал, прозвучали оскорбительные
реплики.
— Сволочи! — вырвалось у Бориса.
Он энергично захлопал. Люди обратили к нему удивленные
лица.
— Перестань, — сердито сказала Ивиш, — перестань ей
хлопать.
— Она делает то, что может, — аплодируя, бросил Борис.
— Тем более.
Борис пожал плечами.
— Я ее знаю, я ужинал с ней и Лолой, она славная девушка, но
без царя в голове.
Девица отступила, улыбаясь и посылая воздушные поцелуи.
Белый свет залил зал, это было пробуждение: люди рады были
обнаружить себя среди своих после свершенного возмездия, соседка
Ивиш закурила сигарету и сделала ласковую гримаску самой себе.
Матье не просыпался, это был белый кошмар, вот и все, лица вокруг
него лоснились со смешливым и вялым самодовольством, в
большинстве своем они были пустынны. «Наверно, и мое лицо такое,
оно, вероятно, имеет такую же уместность глаз, уголков губ, и,
несмотря на это, должно быть видно, что оно совершенно полое». Из
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
179
кошмара выплыла тень — этот человек, который прыгал на эстраде
и размахивал руками, призывая к тишине, казалось, он заранее
предвкушал удивление, которое вызовет, когда скажет в микрофон
с аффектацией, без комментариев, совсем просто столь знаменитое
имя:
— Лола Монтеро!
Зал вздрогнул от энтузиазма и ощущения сопричастности,
аплодисменты затрещали, как пулемет, Борис был в восторге.
— Они в хорошем настроении, все будет в порядке!
Лола прислонилась к двери; издалека ее расплющенное и
изборожденное морщинами лицо казалось мордой льва, ее плечи —
мерцающая белизна с зелеными отблесками, это была листва
березы в ветреный вечер под фарами автомобиля.
— Как она красива! — прошептала Ивиш.
Она приближалась широкими спокойными шагами с
выражением исполненного непринужденности отчаяния. У нее были
маленькие руки и грузная грация султанши, но в ее походке сквозило
мужское благородство.
— Она им бросает вызов, — восхищенно сказал Борис, — ее-то
на крючок они не поймают.
Это была правда: люди в первом ряду, робея, отодвинулись
дальше от сцены, они едва осмеливались смотреть так близко на
столь знаменитую особу. Прекрасное лицо трибуна, значительное и
простое, обремененное всенародной значимостью; рот знал свое
дело: он был привычен, выпятив губы, широко раскрываться и
извергать слова ужаса и отвращения, и голос этот был создан для
больших помещений. Лола вдруг застыла, соседка Ивиш вздохнула
возмущенно и восхищенно одновременно. «Они в ее руках», —
подумал Матье.
Он почувствовал смущение: в глубине души Лола была
благородной и пылкой, однако лицо ее лгало, оно лишь играло в
благородство и пылкость. Она страдала, Борис приводил ее в отчаяние,
но пять минут в день она имела возможность страдать красиво! «А
я? Разве я не страдаю красиво, изображая под музыкальный
аккомпанемент пропащего человека? И тем не менее, — подумал
он, — я действительно пропащий человек». Вокруг него было то
же самое: люди, которые вовсе не существовали, просто
испарения, и рядом другие, которые, пожалуй, существовали с избытком.
Например, бармен. Недавно он курил свою сигарету,
неопределенный и поэтичный, как вьюнок, а теперь проснулся и был барменом
180
Жан Поль Сартр
с лихвой, он тряс шейкер, открывал его, выливал в бокалы желтую
пену подчеркнуто точными жестами, он играл в бармена. Матье
подумал о Брюне. «Может быть, нельзя поступать иначе, может
быть, нужно выбирать: или быть ничем, или играть то, что ты есть.
Это было бы ужасно, — сказал он себе, — надо быть лицедеем по
природе».
Лола неспешно оглядывала зал. Ее страдальческая гримаса
ожесточилась и застыла, она выглядела бы мертвенной, если бы в
глубине ее глаз, единственно живых на этом лице, Матье не
рассмотрел страстное и угрожающее, отнюдь не наигранное
любопытство. Наконец она заметила Бориса и Ивиш и, казалось,
успокоилась. Она послала им полную доброты улыбку, затем с потерянным
видом объявила:
— Матросская песня «Джонни Пальмер».
— Я люблю ее голос, — сказала Ивиш, — он похож на плотный
бархат.
-Да.
Матье подумал: «Опять "Джонни Пальмер"!»
Оркестр сыграл вступление, и Лола подняла тяжелые руки,
готово, она перекрестилась, и он увидел, как открылся ее кроваво-
красный рот.
Кто жестоко себя и ревниво ведет?
Кто мухлюет в игре, если карта нейдет?
Матье больше не слушал, ему было стыдно перед этим
воплощенным страданием. Это была только видимость, он это хорошо
знал, но тем не менее.
«Я не умею страдать, я никогда по-настоящему не страдаю».
Самое тягостное в страдании — его призрачность, постоянно
бежишь за ним, думаешь, что сейчас его догонишь, бросишься к нему
и предашься ему, сжимая зубы, но в тот момент, когда ты в него
падаешь, оно ускользает, и не находишь ничего, кроме
растерянности слов и сонма копошащихся безумных умозаключений: «Оно
непрерывно болтает в моей голове, оно не прекращает своей
болтовни, отдам что угодно, чтоб только заткнуться». Он с завистью
посмотрел на Бориса; за этим упрямым лбом должна быть огромная
тишина.
Кто жестоких ревнивцев наглядный пример?
Это Джонни Пальмер.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
181
«Я вру». Его унижения, его жалобы были ложью, пустотой, он
столкнул себя в пустоту, вытеснил себя из себя, чтобы избежать
непереносимой тяготы своего истинного мира. Мира сумрачного и
знойного, провонявшего эфиром. В этом мире Матье не был
пропащим, вовсе нет, все было куда хуже: в нем он был весел, весел и
преступен. Это Марсель пропадет, если он не раздобудет пяти тысяч
франков до послезавтра. Поистине пропадет, притом без всякого
романтизма; это означало, что она родит ребенка или рискует
умереть в лапах знахарки. В этом мире страдание не было состоянием
души, и не требовалось слов, чтоб его выразить: оно было сутью
жизни. «Женись на ней, липовый шалопай, женись, мой дорогой,
почему бы тебе на ней не жениться?» «Наверняка она не
выдержит», — с ужасом подумал Матье. Все зааплодировали, и Лола
соизволила улыбнуться. Она поклонилась и сказала:
— Песня из «Трехгрошовой оперы» — «Невеста пирата».
«Я не люблю, когда она это поет. Марго Лион гораздо лучше.
Гораздо таинственнее. Лола — рационалистка, в ней нет тайны. И
потом она слишком добра. Она меня ненавидит огромной,
всепоглощающей ненавистью, это святое чувство — ненависть честного
человека». Он рассеянно слушал свои легкие мысли, которые
сновали в мозгу, как мыши на чердаке. Внизу был плотный, печальный
сон, уплотненный мир, ждущий в полном молчании: Матье рано
или поздно свалится в него снова. Перед ним опять всплыло лицо
Марсель, ее жесткий рот и растерянные глаза: «Женись на ней,
липовый шалопай, женись, ведь ты вступил в возраст зрелости,
нужно на ней жениться».
Высокий корабль у всех на виду
С дюжиной пушек на каждом борту
Застынет в порту.
«Хватит! Хватит! Я добуду деньги, я их в конце концов добуду
либо женюсь на ней; это решено, я не мерзавец, но на этот вечер,
только на этот вечер, пусть они оставят меня в покое, я хочу все
забыть; Марсель не забывает, сейчас она в своей комнате, лежит на
кровати и вспоминает все, она меня видит, она вслушивается в гул
своего тела, и что дальше? Я дам ей свое имя, если надо, всю мою
жизнь, но эта ночь — моя». Он обернулся к Ивиш, устремился к ней,
она ему улыбнулась, но он понял, что она его даже не видит. А в это
время зал аплодировал. «Еще! — требовали зрители. — Еще!» Лола
не обратила внимания на эти выкрики: в два часа ночи у нее было
182
Жан Поль Сартр
еще одно выступление, и она берегла себя. Лола дважды
поклонилась и направилась к Ивиш. Головы повернулись к их столику.
Матье и Борис встали.
— Здравствуйте, здравствуйте, моя маленькая Ивиш.
— Здравствуйте, Лола, — вяло отозвалась Ивиш.
Лола слегка дотронулась до подбородка Бориса.
— Здравствуй, стервец.
Ее спокойный и серьезный голос придавал слову «стервец»
некоторое достоинство; казалось, Лола выбрала его нарочно среди
неуклюжих и патетических слов своих песен.
— Здравствуйте, Лола, — поздоровался Матье.
— А! — сказала она. — Вы тоже здесь?
Они сели. Лола повернулась к Борису, она вела себя
совершенно непринужденно.
— Кажется, Эллинор освистали?
— Да, вроде того.
— Она пришла поплакать в мою гримерную. Саррюньян в
бешенстве, за последнюю неделю это уже в третий раз.
— Он ее не выгонит? — с беспокойством спросил Борис.
— Хотел: у нее ведь нет контракта. Я ему сказала: если она уйдет,
уйду и я.
— Что он тебе ответил?
— Что она может остаться еще на неделю.
Лола пробежалась взглядом по залу и громко сказала:
— Сегодня вечером мерзкая публика.
— А по-моему, ничего, — возразил Борис.
Соседка Ивиш, беззастенчиво пожиравшая Лолу глазами,
вздрогнула. Матье захотелось рассмеяться; он считал Лолу очень
симпатичной.
— У тебя нет навыка, — сказала Лола. — Я, как только вошла,
сразу же увидела, что они только что выкинули злой фортель, все
сидели мрачнее тучи. Знаешь, — добавила она, — если девчонка
потеряет место, ей останется только идти на панель.
Ивиш вдруг подняла голову, у нее был потерянный вид.
— А мне на это плевать! — энергично сказала она. — Панель ей
подходит больше, чем эстрада.
Она делала усилия держать голову прямо, а блеклые
покрасневшие глаза открытыми. Вдруг она утратила уверенность и добавила
примирительно и сконфуженно:
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
183
— Естественно, я понимаю, ей тоже нужно зарабатывать на
жизнь.
Никто не ответил, и Матье страдал за нее: наверное, ей было
трудно держать голову прямо. Лола невозмутимо посмотрела на
Ивиш. Как будто думала: «Типичная девчонка из богатой семьи».
Ивиш хихикнула.
— А мне танцевать не нужно, — пролепетала она шаловливо.
Тут ее смех прервался, и голова упала на грудь.
— Что это с ней?.. — спокойно спросил Борис.
Лола с любопытством посмотрела на Ивиш. Через минуту она
протянула маленькую пухлую ручку, схватила Ивиш за волосы и
подняла ей голову. У Лолы был вид сестры милосердия.
— Что с нашим малышом? Мы много выпили?
Она отстраняла, как занавес, светлые волосы Ивиш, обнажая
большую бледную щеку. Ивиш приоткрыла умирающие глаза,
голова ее свалилась назад. «Сейчас ее стошнит», — равнодушно
подумал Матье. Лола стала теребить Ивиш за волосы.
— Откройте глаза, ну же, откройте глаза! Посмотрите на меня!
Глаза Ивиш широко раскрылись, в них сверкала ненависть.
— Ну вот: я смотрю на вас, — произнесла она отчетливо ледяным
голосом.
— Вот те на, — сказала Лола, — да вы не так уж и пьяны.
Она отпустила волосы Ивиш. Ивиш быстро подняла руки и
сбила локоны на щеки. Было впечатление, будто она лепит маску, и
действительно, треугольное лицо вновь появилось из-под ее
пальцев, но губы и глаза казались изнуренными. Несколько минут она
оставалась неподвижной, с пугающим видом сомнамбулы, в это
время оркестр заиграл медленный фокстрот.
— Ты меня приглашаешь? — спросила Лола.
Борис встал, и они пошли танцевать. Матье проводил их
взглядом, ему не хотелось говорить.
— Эта женщина меня осуждает, — мрачно сказала Ивиш.
— Лола?
— Нет, за соседним столиком. Она меня осуждает.
Матье не ответил. Ивиш продолжала:
— Мне так хотелось сегодня вечером повеселиться, и... на тебе!
Ненавижу шампанское!
«Она должна и меня ненавидеть, потому что это я ее заставил
пить шампанское». Он с удивлением увидел, как Ивиш достала из
ведерка бутылку и наполнила свой бокал.
184
Жан Поль Сартр
— Что вы делаете? — удивился он.
— По-моему, я недостаточно выпила. Надо дойти до
определенного состояния, а потом становится хорошо.
Матье подумал, что следовало бы помешать ей пить, но так
ничего и не предпринял. Ивиш поднесла бокал к губам и скривилась
от отвращения.
— Как противно, — сказала она, поставив бокал.
Борис и Лола танцевали рядом с их столиком, они смеялись.
— Порядок, детка? — крикнула Лола.
— Теперь все в норме, — отозвалась, любезно улыбаясь, Ивиш.
Она снова взяла бокал с шампанским и залпом осушила его, не
сводя глаз с Лолы. Лола ответила ей улыбкой, и пара, танцуя,
удалилась. У Ивиш был зачарованный вид.
— Она прижимается к нему, — невнятно пробормотала она, —
это... это смешно. У нее вид людоедки.
«Она ревнует, — сказал себе Матье. — Но кого из них?»
Ивиш была полупьяна, она улыбалась с видом одержимой,
полностью занятая Борисом и Лолой, он же был для нее лишь
помехой, в лучшем случае предлогом, чтобы поразмышлять вслух: ее
улыбки, ее гримасы и все слова, которые она ему говорила, в
сущности, предназначались ей самой. «Это должно быть для меня
невыносимо, — подумал Матье, — а ведь, по правде говоря,
нисколько меня не трогает».
— Потанцуем? — внезапно предложила Ивиш.
Матье вздрогнул.
— Но вы же не любите со мной танцевать.
— Сейчас это не имеет значения, — сказала Ивиш, — я пьяна.
Она, шатаясь, встала, тут же чуть не упала и схватилась за край
стола. Матье обнял ее и увлек за собой, они вошли в паровую баню,
толпа сомкнулась вокруг них, темная и пахучая. На мгновение
Матье растерялся. Но сразу же сориентировался, он топтался на месте
позади негра, он был один, с первых же тактов Ивиш испарилась,
он ее больше не чувствовал.
— Какая вы легкая.
Он опустил глаза и увидел ноги танцующих. «Тут много таких,
кто танцует не лучше меня», — подумал он. Он держал Ивиш на
расстоянии, почти на длину руки, и не смотрел на нее.
— Вы танцуете правильно, — сказала она, — но чувствуется, что
вам это не доставляет удовольствия.
— Меня это конфузит, — признался Матье.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
185
Он улыбнулся.
— Вы удивительное создание, только что вы едва передвигали
ноги, теперь танцуете, как профессионалка.
— Я могу танцевать мертвецки пьяной, — сказала Ивиш, — я
могу танцевать всю ночь, это меня никогда не утомляет.
— Я бы тоже хотел так.
— Вы бы так не смогли.
— Знаю.
Ивиш лихорадочно огляделась.
— Я не вижу людоедки, — сказала она.
— Вы имеете в виду Лолу? Она слева, сзади вас.
— Пошли к ним, — предложила Ивиш.
Они толкнули тщедушную парочку, мужчина извинился, а
женщина угрюмо смерила их взглядом; Ивиш, повернув голову назад,
тянула, пятясь, за собой Матье. Ни Борис, ни Лола не заметили, как
они приблизились, Лола закрыла глаза, веки ее были как два
голубых пятна на суровом лице, Борис улыбался, затерянный в своей
ангельской отрешенности.
— А теперь? — спросил Матье.
— Останемся здесь, тут больше места.
Ивиш заметно потяжелела, она почти не танцевала, неотступно
глядя на брата и Лолу. Матье видел только кончик ее уха между
двумя локонами. Борис и Лола, кружась в танце, приблизились. Когда
они были совсем рядом, Ивиш ущипнула брата за предплечье.
— Здравствуй, мальчик с пальчик.
Борис удивленно вытаращил глаза.
— Эй! — сказал он. — Подожди, Ивиш! Почему ты меня так
назвала?
Ивиш не ответила, она заставила Матье сделать крутой поворот
и повернулась к Борису спиной. Лола открыла глаза.
— Ты понимаешь, почему она меня так назвала? — спросил у нее
Борис.
— Догадываюсь, — ответила Лола.
Борис сказал еще несколько слов, но шквал аплодисментов
заглушил его голос; джаз умолк, негры спешили собрать инструменты
и уступить место аргентинскому оркестру.
Ивиш и Матье подошли к своему столику.
— Я безумно развлекаюсь! — воскликнула Ивиш.
Лола уже сидела.
— Вы замечательно танцуете, — сказала она Ивиш.
186
Жан Поль Сартр
Та не ответила и лишь пристально посмотрела на Лолу.
— Я думал, вы вообще не танцуете, — сказал Борис Матье.
— Этого захотела ваша сестра.
— Такому здоровяку, как вы, скорее подошел бы акробатический
танец, — заметил Борис.
Наступило гнетущее молчание. Ивиш безмолвствовала,
одинокая и вызывающая. Никому не хотелось говорить. Над их головами
возникло подобие неба, круглого, сухого и знойного. Снова
зажглись лампочки. При первых тактах танго Ивиш наклонилась к
Лоле и хрипло проговорила:
— Пойдемте.
— Я не умею вести.
— Я сама поведу, — сказала Ивиш. Оскалив зубы, она
неприязненно добавила: — Не бойтесь, я веду как мужчина.
Обе встали. Ивиш грубо обняла Лолу и подтолкнула к площадке.
— А они занятные, — набивая трубку, заметил Борис.
-Да.
Особенно занятно выглядела Лола: у нее был вид молодой
барышни.
— Посмотрите, Матье, — сказал Борис.
Он вынул из кармана огромный нож с роговой рукояткой и
положил его на стол.
— Это баскский нож, — объяснил Борис, — со стопорной
насечкой.
Матье вежливо взял нож и попытался его открыть.
— Не так, несчастный! — вскрикнул Борис. — Вы себя убьете!
Он взял нож, открыл его и положил рядом со своим бокалом.
— Это нож каида*, — пояснил он. — Видите коричневые пятна?
Тип, который мне его продал, поклялся, что это кровь.
Они замолчали. Матье видел вдалеке трагическое лицо Лолы,
скользящее над темным морем. «Я не знал, что она такая высокая».
Он отвел глаза и увидел на лице Бориса наивное удовольствие,
которое растопило сердце Матье. «Он радуется, потому что он со
мной, — с раскаянием подумал он, — а мне, как всегда, нечего ему
сказать».
— Посмотрите на женщину, которая только что вошла. Справа,
за третьим столиком, — сказал Борис.
— Блондинка в жемчугах?
— Да, в фальшивых. Осторожно, она смотрит на нас.
* Каид — вождь африканских туземцев.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
187
Матье украдкой бросил взгляд на высокую, красивую,
надменную девушку.
— Как она вам?
— Так себе.
— В прошлый вторник она на меня положила глаз, она напилась
и все время приглашала меня танцевать. Более того, она мне
подарила свой портсигар, Лола взбесилась и отправила его через
официанта обратно. — Он скромно добавил: — Портсигар был
серебряный, украшен камнями.
— Она не сводит с вас глаз, — сказал Матье.
— Так я и думал.
— Как вы поступите?
— Никак, — презрительно ответил Борис. — Она содержанка.
— Ну и что? — удивленно спросил Матье. — С чего это вы вдруг
стали таким пуританином?
— Да не в этом дело, — смеясь, проговорил Борис. — В конечном
счете все эти шлюхи, танцовщицы, певички — всегда одно и то же.
Что та, что эта — никакой разницы. — Он положил трубку и серьезно
добавил: — К тому же в отличие от вас я человек целомудренный.
— Гм! — хмыкнул Матье.
— Вы в этом убедитесь, — сказал Борис, — вы в этом убедитесь,
я вас еще удивлю: буду жить, как монах, как только брошу Лолу.
Он самодовольно потирал руки. Матье сказал:
— Лолу вы бросите не скоро.
— Первого июля. Хотите на спор? Что поставите?
— Ничего. Каждый месяц вы спорите со мной, что порвете с ней
в следующем месяце, и каждый раз проигрываете. Вы мне уже
должны сто франков, пару биноклей для скачек, пять сигар
«Корона» и пароход, груженный бутылками, который мы видели на Сене.
Вы никогда всерьез не собирались порвать с Лолой, вы слишком
привязаны к ней.
— Вы мне наносите удар прямо в сердце.
— Просто это сильнее вас, — спокойно продолжал Матье. — Но
вам тягостно чувствовать зависимость, это приводит вас в ярость.
— Да замолчите же! — зло и весело сказал Борис. — Вы еще
побегаете за своими сигарами и пароходом.
— Не сомневаюсь. Вы никогда не платите долгов чести: вы
маленький пройдоха.
— А вы посредственность! — выпалил Борис.
Лицо его просияло.
188
Жан Поль Сартр
— Согласитесь, что это потрясающее оскорбление: месье, вы
посредственность !
— Неплохо, — признал Матье.
— А можно еще лучше: месье, вы ничтожество!
— Нет, — сказал Матье, — не то, это куда слабее.
Борис добросовестно это признал.
— Вы правы, — сказал он, — вы отвратительны, потому что
всегда правы.
Он снова старательно раскурил трубку.
— По правде говоря, у меня есть идея, — сказал он со смущенно-
одержимым видом, — я хотел бы иметь любовницей
великосветскую даму.
— Вот как? — удивился Матье. — А почему?
— Не знаю. Думал, что это должно быть забавно, вероятно, они
большие кривляки. И потом это лестно, некоторые из них
упоминаются в «Вог». Разве я не прав? Покупаешь «Вог», смотришь
фотографии, видишь: графиня де Рокамадур со своими шестью
борзыми—и думаешь: «А я вчера с ней переспал». Потрясающе!
— А блондинка уже вам улыбается, — сказал Матье.
— Да. Она нахальная. Знаете, она это из чистого разврата, ей
хочется увести меня у Лолы, она ее не переносит. Повернусь-ка я к
ней спиной, — решил он.
— А что с ней за тип?
— Приятель. Он танцует в «Альказаре». Как, по-вашему,
красивый? Посмотрите на эту рожу. Ему уже около тридцати пяти, а все
корчит из себя Керубино.
— Ну и что? — сказал Матье. — Когда вам будет тридцать пять,
вы тоже будете таким.
— В тридцать пять, — строго сказал Борис, — я уже давно сдохну.
— Вы любите об этом говорить.
— У меня туберкулез.
— Знаю (однажды Борис, чистя зубы, поцарапал десны и
плевался кровью), знаю, ну и что?
— Мне безразлично, туберкулез у меня или нет, — сказал
Борис. — Просто терпеть не могу лечиться. Я считаю, что не следует
жить после тридцати, потом ты уже старый хрыч. — Он посмотрел
на Матье и добавил: — Я говорю не о вас.
— Конечно, — сказал Матье, — но вы правы: после тридцати ты
старый хрыч.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
189
— Мне хотелось бы быть на два года старше и всю жизнь
оставаться в этом возрасте: это было бы наслаждением.
Матье смотрел на него с оскорбленной симпатией. Молодость
для Бориса была одновременно преходящим и дармовым
качеством, которым следовало цинично пользоваться, и нравственной
добродетелью, достоинством, соответственно которому следовало
себя вести. Больше того, это было оправданием. «Пускай себе, —
подумал Матье, — он умеет быть молодым». Быть может, он
единственный из всех действительно был всецело здесь, в дансинге. «По
существу, это не так уж глупо: прожить молодость до дна и отдать
концы в тридцать лет. Как бы то ни было, после тридцати ты все
равно покойник».
— У вас чертовски озабоченный вид, — сказал Борис.
Матье вздрогнул: Борис покраснел от смущения, но смотрел на
Матье с тревожным участием.
— Это заметно? — спросил Матье.
— Еще как.
— У меня денежные неприятности.
— Вы не умеете жить, — нравоучительно сказал Борис. — Если б
у меня было ваше жалованье, мне не пришлось бы одалживать.
Хотите сто франков бармена?
— Нет, спасибо, мне нужно пять тысяч.
Борис понимающе свистнул.
— О, простите, — сказал он. — А разве вам не даст их ваш друг
Даниель?
— Он не может.
— А ваш брат?
— Не хочет.
— Вот гадство! — опечаленно воскликнул Борис. — А что,
если... — смущенно начал он.
— Если что?
— Ничего, просто я подумал: как глупо, ведь у Лолы в
загашнике полно денег, и она не знает, что с ними делать.
— Я не хочу их одалживать у Лолы.
— Но клянусь вам, они лежат без движения. Если бы речь шла
о счете в банке, я бы промолчал: она покупает акции, играет на
бирже, по-моему, она любит загребать монету. Но у нее уже четыре
месяца при себе семь тысяч франков, она к ним не притронулась,
даже не нашла времени снести их в банк. Они просто валяются у
нее в шкатулке.
190
Жан Поль Сартр
— Да поймите же, — рассердился Матье, — я не могу одалживать
деньги у Лолы, она меня не выносит.
Борис засмеялся.
— Что да, то да! Она вас не выносит.
— Вот видите.
— Все равно это глупо, — сказал Борис. — Вы влипли, как вошь,
из-за каких-то пяти тысяч, они у вас под рукой, а вы не хотите их
взять. А что, если я попрошу их для себя?
— Нет, нет! Ни в коем случае! — живо запротестовал Матье. —
Все равно она в конце концов узнает правду Серьезно, —
настойчиво сказал он, — мне было бы это очень неприятно.
Борис не ответил. Он взял нож двумя пальцами, медленно
поднял его на уровень лба острием вниз. Матье чувствовал себя
неловко. «Я подлец, — подумал он, — я не имею права корчить из себя
порядочного человека за счет Марсель». Он повернулся к Борису,
хотел сказать ему: «Валяйте, я согласен», — но кровь прилила к
лицу, и он не смог выдавить из себя ни слова. Борис раздвинул
пальцы, нож упал. Лезвие вонзилось в пол, и рукоятка
завибрировала.
Ивиш и Лола вернулись. Борис поднял нож и положил его на
стол.
— Что это за ужас? — спросила Лола.
— Это нож каида, — сказал Борис, — чтобы заставить тебя
ходить по струнке.
— Ты просто гаденыш.
Оркестр заиграл другое танго. Борис мрачно посмотрел на Лолу.
— Пойдем танцевать, — процедил он сквозь зубы.
— От всех вас можно дать дуба, — сказала Лола. Но лицо ее
озарилось, и она добавила со счастливой улыбкой: — А ты милый.
Борис встал, и Матье подумал: «Сейчас он все же попросит у
нее денег». Он был раздавлен стыдом, но почувствовал приятное
облегчение. Ивиш села рядом.
— Лола бесподобна, — сказала она хрипло.
— Да, она красива.
— Да!.. А какое тело! Это так волнует — изможденное лицо при
цветущем теле. Я чувствовала, как утекает время, у меня было
впечатление, что она увянет прямо в моих руках.
Матье следил за Борисом и Лолой. Борис еще не приступил к
делу. Кажется, он шутил, а Лола ему улыбалась.
— Она симпатичная, — рассеянно сказал Матье.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
191
— Симпатичная? Ну уж нет! — сухо отрезала Ивиш. — Это
грязная баба, животное, самка. — Она гордо добавила: — Я ее смущала.
— Я видел, — сказал Матье. Он нервно, то так, то эдак,
закидывал ногу на ногу.
— Хотите потанцевать? — спросил он.
— Нет, — отказалась Ивиш, — я хочу выпить. — Она до
половины налила бокал и объяснила: — Хорошо пить, когда танцуешь,
потому что танец мешает хмелю, а алкоголь поддерживает силы. —
Она натянуто добавила: — Как прекрасно я развлекаюсь, я
заканчиваю с блеском.
* Готово, — подумал Матье, — он с ней говорит». Борис стал
серьезен, он говорил, не глядя на Лолу. Лола молчала. Матье
почувствовал, что багровеет, он злился на Бориса. Плечи огромного негра на
мгновение закрыли лицо Лолы, затем оно возникло снова — оно
было непроницаемо; но тут музыка умолкла, толпа расступилась,
Борис вышел из нее решительный и злой. Лола шла за ним,
приотстав, вид у нее был недовольный. Борис склонился над Ивиш.
— Окажи мне услугу: пригласи ее, — быстро сказал он.
Ивиш встала, не выказав удивления, и бросилась навстречу Лоле.
— Нет! — простонала Лола. — Нет, моя маленькая Ивиш, я так
устала.
Некоторое время они препирались, и Ивиш все же Лолу увлекла.
— Она не хочет? — спросил Матье.
— Нет, — ответил Борис. — Но это ей дорого обойдется.
Он был бледен, его вяловато-злобная мина придавала ему
сходство с сестрой. Сходство было смутное и неприятное.
— Не делайте глупостей, — обеспокоенно сказал Матье.
— Вы на меня обижаетесь, да? — спросил Борис. — Вы же
запретили мне с ней об этом говорить...
— Я был бы мерзавцем, если б обижался на вас: вы хорошо
знаете, что я вам позволил... Так почему она отказала?
— Не знаю, — пожал плечами Борис. — Состроила мерзкую
рожу и сказала, что деньги ей нужны самой. Вот так! — сказал он со
злым удивлением. — Как только я у нее что-нибудь попрошу... она
встает на дыбы! Но она мне за это заплатит! Если женщина ее
возраста хочет иметь молодого любовника...
— Как вы ей это преподнесли?
— Сказал, что это для приятеля, который хочет купить гараж. Я
даже назвал ей фамилию: Пикар. Она его знает. Он действительно
хочет купить гараж.
192
Жан Поль Сартр
— Скорее всего она вам не поверила.
— Этого я не знаю, — сказал Борис, — зато точно знаю, что она
мне сейчас за это заплатит.
— Успокойтесь, — попросил Матье.
— Все в порядке, — враждебно произнес Борис. — Это мое
дело.
Он подошел к высокой блондинке и поклонился ей, та, слегка
покраснев, поднялась со стула. Когда они начали танцевать, Лола и
Ивиш прошли в танце рядом с Матье. Блондинка строила глазки,
но ее улыбка была несколько настороженной. Лола хранила
спокойствие, она величественно продвигалась вперед, и люди
расступались перед ней, выказывая уважение. Ивиш двигалась спиной,
закатив глаза к потолку, она ни о чем не подозревала. Матье взял нож
Бориса за клинок и резкими, короткими ударами постучал
рукояткой по столу. «Будет кровь», — подумал он. Впрочем, он плевал на
это, он думал о Марсель: «Марсель, моя жена», — и что-то с плеском
сомкнулось над ним. «Она моя жена, она будет жить в моем доме».
Вот так. Это естественно, абсолютно естественно, как дыхание, как
глотание слюны. В нем неотступно звучало: «Иди, не раздражайся,
будь уступчивым, будь естественным. В моем доме. Я ее буду видеть
в любую минуту жизни». Он подумал: «Все ясно, у меня есть
жизнь».
Жизнь. Он смотрел на все эти покрасневшие лица, на эти рыжие
луны, скользящие на подушечках из облаков: «У них есть жизнь. У
всех. У каждого своя. Эти жизни тянутся сквозь стены танцзала,
сквозь парижские улицы, они пересекаются, перекрещиваются и
остаются такими же строго индивидуальными, как зубная щетка,
как бритва, как предметы туалета, которые не берут взаймы. Я знал,
что у каждого есть своя жизнь. Но я не знал, что она есть и у меня.
Я думал: я бездействую, я не поддамся внешнему. И что ж, я терял
себя внутри». Он положил нож на стол, схватил бутылку, наклонил
ее над бокалом, она была пустой. В бокале Ивиш осталось немного
шампанского, он схватил ее бокал и выпил.
«Я зевал, читал, занимался сексом. И это оставляло следы!
Каждый из моих поступков порождал нечто вне меня самого, порождал
в будущем понемногу вызревающие упрямые ожидания. Эти
ожидания и есть я сам, это я, тот самый, что ждет на перекрестках, на
перепутьях, в большом зале мэрии XIV округа, это я там, в красном
кресле, жду собственного прихода. Я буду весь в черном, с
крахмальным пристежным воротничком, я приду туда, измученный
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
193
пеклом, и скажу: да, да, я согласен взять ее в жены». Он энергично
тряхнул головой, но его жизнь упорствовала вокруг него.
«Медленно, но верно, по прихоти своего настроения, своей лени я оброс
собственной скорлупой. Теперь кончено, я замурован со всех
сторон! В центре существует моя квартира со мной внутри, среди
кресел из зеленой кожи, извне существует улица де ла Гэтэ, я всегда
на нее выхожу, проспект дю Мэн и весь Париж окрест меня, север
впереди, юг сзади, Пантеон по правую руку, Эйфелева башня по
левую, Порт-Клиньянкур напротив, а посреди улицы Верцингето-
рига маленькое отверстие из розового атласа, спальня Марсель,
моей жены, и там внутри — Марсель, голая, она меня ждет. А вокруг
Парижа — Франция, пересеченная дорогами в одном направлении,
а дальше моря, окрашенные в голубое или черное, Средиземное — в
голубое, Северное — в черное, Ла-Манш цвета кофе с молоком, а
еще дальше страны, Германия, Италия — Испания белая, потому что
я не отправился туда сражаться, — потом круглые города на
определенных расстояниях от моей комнаты, Тимбукту, Торонто, Казань,
Нижний Новгород, незыблемые, как межевые столбы. Я прихожу,
ухожу, гуляю, плутаю, но, сколько бы я ни блуждал, это типичные
каникулы преподавателя, всюду, куда я иду, я несу с собой свою
раковину, я остаюсь у себя, в своей комнате, среди своих книг, я ни
на один километр не приближаюсь к Марракешу или Тимбукту.
Даже если я сяду в поезд, на пароход, в междугородный автобус,
если поеду на каникулы в Марокко, если вдруг приеду в Марракеш,
я все равно останусь в своей комнате, дома. И если я пойду
прогуляться по площадям, на рынки, если сожму плечо какого-нибудь
араба, чтобы через него коснуться Марракеша, в Марракеше будет
этот араб, но не я: я все-таки останусь сидеть в своей комнате,
спокойный и раздумчивый, каким я положил себе быть, в трех тысячах
километров от марокканца и его бурнуса. В своей комнате. Навсегда.
Навсегда бывший любовник Марсель, а теперь ее муж-преподаватель,
навсегда тот, кто так и не выучил английский, не вступил в
компартию, не был в Испании, навсегда».
«Моя жизнь». Она его окружала — странный предмет без
начала и конца и все-таки не бесконечный. Он пробегал ее глазами от
одной мэрии к другой, от мэрии XVIII округа, где он в октябре 1923
года проходил призывную комиссию, к мэрии XIV округа, где он
женится на Марсель в августе или сентябре 1938 года; жизнь эта
имела смысл, пусть расплывчатый и колеблющийся, как все
естественное, вяжущую пресность, запах фиалок и пыли.
194
Жан Поль Сартр
«Я влачил беззубое существование, — подумал он, — беззубую
жизнь. Я никогда не кусался, я ждал, сохранял себя на потом и вот
только что обнаружил, что у меня больше нет зубов. Что делать?
Разбить раковину? Легко сказать! И тем не менее! Что останется?
Маленькая клейкая камедь, которая будет ползти по пыли,
оставляя за собой серебристую дорожку».
Он поднял глаза и увидел Лолу, на губах ее застыла недобрая
усмешка. Он увидел Ивиш, она танцевала, откинув назад голову,
она выглядела какой-то потерянной, без возраста и будущего: «У
нее нет раковины». Она танцевала, она была пьяна и не думала о
Матье. Абсолютно. Как будто он никогда не существовал. Оркестр
заиграл аргентинское танго. Матье хорошо его знал — «Mio caballo
murrio»*, но он смотрел на Ивиш, и ему казалось, что он слышит
этот заунывный и жестокий мотив впервые. «Она никогда не будет
моей, никогда не войдет в мою раковину». Он улыбнулся, чувствуя
смиренное освежающее страдание, нежно созерцал он это
маленькое, хрупкое и злобное тело, на которое напоролась его свобода.
«Моя дорогая Ивиш, моя дорогая свобода». И вдруг поверх его
растленного тела, поверх его жизни возникло чистое, беспримесное
сознание, сознание без субъекта, просто немного теплого воздуха;
оно витало и подобием взгляда глядело на липового шалопая, на
мелкого буржуа, цепляющегося за свои удобства, на незадачливого
интеллектуала, «не революционного, не восставшего», на
абстрактного мечтателя, окруженного своей дряблой жизнью, оно пришло к
выводу: «Это пропащий человек, так ему и надо». Оно не было
солидарно ни с кем, оно вертелось в вертящемся пузыре,
раздавленное, потерянное, страдающее там, на лице Ивиш, звучащее
эфемерной и печальной музыкой. Красное сознание, мрачное маленькое
ламенто, Mio caballo murrio, оно было способно на все,
действительно отчаиваться за испанцев, решать все, что угодно. Если бы так
могло длиться и дальше... Но это не могло длиться: сознание
надувалось, надувалось, оркестр умолк, оно лопнуло. Матье очутился
наедине с самим собой, в глубине своей жизни, сухой и суровый, он
больше даже не осуждал себя, тем более не принимал себя, он был
Матье, вот и все. «Одним экстазом больше. А что дальше?» Борис
вернулся на свое место, у него был не слишком гордый вид.
— Черт!
— Что такое? — спросил Матье.
— Да эта блондинка. Чертова девка!
* «Моя грустная лошадка» (искаж. исп.).
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
195
— Что она натворила?
Борис нахмурил брови и, не отвечая, вздрогнул. Ивиш
вернулась и села рядом с Матье. Она была одна. Матье порыскал глазами
по залу и обнаружил Лолу рядом с музыкантами, она говорила с
Саррюньяном. Саррюньян выглядел озадаченным, затем он
украдкой бросил взгляд в сторону высокой блондинки, небрежно
обмахивающейся веером. Лола улыбнулась и пересекла зал. Когда она
села, вид у нее был странный. Борис нарочито рассматривал свой
правый туфель, нависло тяжелое молчание.
— Нет, это неслыханно! — вскричала блондинка. — Вы не
имеете права, я никуда не уйду!
Матье вздрогнул, все обернулись. Саррюньян подобострастно
склонился над блондинкой, как метрдотель, принимающий заказ.
Он что-то продолжал ей тихо и решительно говорить. Блондинка
резко встала.
— Пошли! — сказала она своему спутнику.
Она порылась в сумочке. Уголки ее губ дрожали.
— Нет, нет, — сказал Саррюньян, — ни в коем случае.
Блондинка скомкала стофранковую купюру и бросила ее на
стол. Ее спутник тоже встал и с сожалением посмотрел на купюру.
Блондинка взяла его под руку, и они удалились с высоко
поднятыми головами, вращая бедрами.
Саррюньян, посвистывая, подошел к Лоле.
— Будет жарко, когда она вернется, — сказал он с веселой
улыбкой.
— Спасибо, — сказала Лола, — я и не думала, что это будет так
легко.
Он ушел. Аргентинский оркестр покинул зал, по одному
вернулись негры со своими инструментами. Борис устремил на Лолу
гневный и восхищенный взгляд, затем резко повернулся к Ивиш:
— Пойдем танцевать.
Лола миролюбиво смотрела на них, пока они вставали. Но, как
только они удалились, лицо ее сразу исказилось.
— В этом заведении вы делаете что хотите, — сказал Матье.
— Я держу их в руках, — равнодушно заметила она. — Публика
сюда приходит из-за меня.
Ее глаза оставались беспокойными, она нервно забарабанила по
столу. Матье не знал, что еще сказать. К счастью, через некоторое
время она встала.
— Извините, — сказала она.
196
Жан Поль Сартр
Матье увидел, как она прошлась по залу и исчезла. Он подумал:
«Время принять наркотик». Он остался один, Ивиш и Борис
танцевали, такие же чистые, как мелодия, но чуть менее беспощадные. Он
отвернулся и посмотрел на свои туфли. Прошло некоторое время.
Он больше ни о чем не думал. Нечто, похожее на хриплый стон,
заставило его вздрогнуть. Вернулась Лола, она улыбалась с
закрытыми глазами. «Получила свое», — подумал он. Лола открыла глаза
и села, не переставая улыбаться.
— Вы знали, что Борису нужно пять тысяч франков?
— Нет, — сказал он. — Нет, не знал. А что, ему нужно пять тысяч?
Лола продолжала смотреть на него. Она раскачивалась взад-
вперед, Матье видел два огромных зеленых глаза с крошечными
зрачками.
— Я ему отказала, — сказала Лола. — Он говорит, что это для
Пикара. Но почему он не обратился к вам?
Матье засмеялся.
— Он знает, что у меня ни гроша.
— Значит, вы не в курсе? — недоверчиво спросила Лола.
— Конечно, нет!
— Вот как, — сказала Лола. — Странно.
Создавалось впечатление, что сейчас она опрокинется, как
старое, потерпевшее кораблекрушение судно, или же ее рот разорвется,
исторгая истошный вопль.
— Он приходил к вам сегодня?
— Да, часа в три.
— Он вам ничего не сказал?
— А что здесь удивительного? Он мог встретить Пикара после.
— Он так и сказал.
— Ну и что?
Лола пожала плечами.
— Пикар весь день работает в Аржантее.
Матье безразлично проговорил:
— Если Пикару нужны деньги, он мог зайти к Борису в
гостиницу. Там он его не нашел, а потом, выйдя на бульвар Сен-Мишель,
случайно встретил его.
Лола посмотрела на него с иронией.
— Подумайте, как Пикар мог пойти к Борису за пятью
тысячами, когда у того в месяц всего триста франков на карманные
расходы?
— Право, не знаю, — раздраженно буркнул Матье.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
197
Ему хотелось сказать: «Эти деньги для меня». Таким образом,
все бы сразу закончилось. Но это было невозможно из-за Бориса.
«Она на него ужасно разозлится, она сочтет его моим сообщником».
Лола барабанила по столу кончиками ярко-красных ногтей, уголки
ее губ резко приподнимались, подрагивали и опускались вновь. Она
исподтишка следила за Матье с тревожной настойчивостью, но под
этим настороженным гневом Матье угадывал большую мутную
пустоту. Ему хотелось рассмеяться.
Лола отвела глаза.
— Может быть, это была проверка?
— Проверка? — удивленно переспросил Матье.
— Да, разве нет?
— Проверка? Какая странная мысль.
— Ивиш постоянно ему говорит, что я скупердяйка.
— Кто вам это сказал?
— Вас удивляет моя осведомленность? — торжествующе
сказала Лола. — Просто он честный мальчик. Не следует воображать,
будто можно говорить ему гадости обо мне, а я об этом не узнаю.
Всякий раз я это понимаю уже по его глазам. Или по тому, как он
меня о чем-то спрашивает с самым невинным видом. Вот и
подумайте, могу ли я не заметить, как он подбирается издалека. Это
сильнее его, и когда он хочет что-то выяснить, то непременно себя
выдает.
— Ну и что?
— Он захотел убедиться, скупердяйка я или нет, и придумал эту
историю с Пикаром. Если только его не надоумили.
— Кто же мог его надоумить?
— Не знаю. Многие считают, что я, старуха, вцепилась в
мальчика. Достаточно посмотреть на рожи здешних проституток, когда
они видят нас вместе.
— Вы думаете, его волнуют их пересуды?
— Нет. Но есть люди, которые полагают, что действуют ради его
блага, когда восстанавливают его против меня.
— Послушайте, — сказал Матье, — не стоит церемониться: если
вы намекаете на меня, то ошибаетесь.
— Что ж, — холодно произнесла Лола, — возможно.
Наступило молчание, затем она резко спросила:
— Почему, когда вы с ним сюда приходите, всегда происходят
сцены?
198
Жан Поль Сартр
— Не знаю. Я ничего для этого не делаю. Кстати, сегодня я не
хотел приходить... Думаю, что он привязан к каждому из нас по-
разному, и он нервничает, когда видит нас двоих одновременно.
Лола мрачно и напряженно смотрела перед собой. Наконец она
сказала:
— Запомните хорошенько: я не хочу, чтоб его у меня отобрали.
Я знаю, что не причиняю ему зла. Когда я ему надоем, он меня
бросит, это случится довольно скоро. Но я не хочу, чтоб у меня его
отняли другие.
«Она откровенничает», — подумал Матье. Безусловно, под
влиянием наркотика. Но было и другое: она ненавидела Матье, и
все-таки то, что она ему сейчас говорит, она не посмела бы сказать
другим. Между нею и им, несмотря на ненависть, было нечто вроде
солидарности.
— Я тоже не хочу, чтобы его у вас отняли, — сказал он.
— Ой ли? — недоверчиво проговорила Лола.
— Ваши подозрения безосновательны. Ваши отношения с
Борисом меня не касаются. А если бы они меня и касались, я бы их
одобрил.
— У меня была такая мысль: он считает себя за Бориса
ответственным, потому что он его преподаватель.
Она замолчала, и Матье понял, что не убедил ее. Казалось, она
подыскивала слова.
— Я... я знаю, что я немолода, — с трудом вымолвила она, — я и
без вас это понимаю. Но именно поэтому я могу ему помочь: есть
кое-что, чему я могу его научить, — с вызовом добавила она. — Да
и кто вам сказал, что я слишком стара для него? Он меня любит
такой, какая я есть, он счастлив со мной, когда ему не вбивают в
голову обратного.
Матье молчал. Лола крикнула с горячечной неуверенностью:
— Вы, однако, должны бы знать, что он меня любит! Он вам
непременно об этом сказал бы, потому что он вам говорит все.
— Я уверен, что он вас любит, — сказал Матье.
Лола устремила на него тяжелый взор.
— Я видывала виды и не строю иллюзий, но я вам вот что скажу:
этот мальчик — мой последний шанс. А в общем, делайте что хотите.
Матье ответил не сразу. Он смотрел на танцующих Бориса и
Ивиш, он хотел сказать Лоле: «Не будем спорить, вы ведь сами
видите, что мы одинаковы». Но это сходство, по правде говоря,
вызывало у него отвращение; в любви Лолы, несмотря на ее неистов-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
199
ство, несмотря на ее стойкость, было нечто дряблое и ненасытное.
Однако он пробормотал:
— Вы говорите это мне... Но я это знаю так же хорошо, как и вы.
— Почему так же хорошо, как и я?
— Мы с вами похожи.
— Что вы имеете в виду?
— Посмотрите на нас и посмотрите на них.
Лола презрительно скривилась.
— Мы не похожи, — отрезала она.
Матье пожал плечами, и, так и не примиренные, они замолчали.
Оба смотрели на Бориса и Ивиш; те танцевали, они были
жестокосердны, даже не зная об этом. А может быть, просто мало знали.
Матье сидел рядом с Лолой, они не танцевали, потому что это
совсем не подобало их возрасту. «Нас должны принимать за
любовников», — подумал он. Он услышал, как Лола про себя шептала:
«Если б только я была уверена, что это для Пикара».
Борис и Ивиш вернулись. Лола с усилием встала. Матье
подумал, что сейчас она упадет, но она оперлась о стол и глубоко
вздохнула.
— Пойдем, — сказала она Борису, — мне нужно с тобой
поговорить.
— Ты не можешь сделать это здесь?
-Нет!
— Тогда подожди, когда заиграет оркестр, и мы потанцуем.
— Нет, — сказала Лола, — я устала. Пойдем в мою гримерную.
Простите меня, моя маленькая Ивиш.
— Я пьяна, — любезно хихикнула Ивиш.
— Мы сейчас вернемся, — пообещала Лола, — впрочем, скоро
мой выход.
Лола ушла, Борис неохотно последовал за ней. Ивиш упала на
стул.
— Я правда пьяна, — сказала она, — на меня накатило во время
танца.
Матье промолчал.
— Почему они ушли? — спросила Ивиш.
— Им надо объясниться. И потом Лола только что приняла
наркотик. Знаете, после первого приема в голове лишь одна мысль —
принять еще.
— Думаю, мне понравились бы наркотики, — мечтательно
проговорила Ивиш.
200
Жан Поль Сартр
— Естественно.
— Ну и что? — возмутилась она. — Если я обречена всю жизнь
оставаться в Лаоне, нужно ведь чем-то увлекаться.
Матье замолчал.
— А-а, поняла! — сказала она. — Вы на меня злитесь, потому что
я пьяна.
-Нет.
— Да. Вы меня осуждаете.
— С чего бы? К тому же вы не так уж и пьяны.
— Я чу-до-вищ-но пьяна, — с удовлетворением
проскандировала Ивиш.
Люди начинали расходиться. Вероятно, было уже часа два ночи.
В своей гримерной, грязной, обитой красным бархатом комнатенке
со старым зеркалом в позолоченной раме, Лола угрожала и умоляла:
«Борис! Борис! Борис! Ты меня сводишь с ума». А Борис опускал
голову, боязливый и упрямый. Длинное черное платье, кружащееся
среди красных стен, черное посверкиванье платья в зеркале, всплеск
прекрасных белых рук, извивающихся со старомодной патетикой.
А потом Лола внезапно зайдет за ширму и там в самозабвении,
запрокинув голову, как бы останавливая кровотечение из носа,
вдохнет две щепотки белого порошка. Лоб Матье блестел от испарины,
но он не смел его вытереть, ему было стыдно потеть в присутствии
Ивиш; она без передышки танцевала, но оставалась бледной и
сухой. Сегодня утром она сказала: «Мне противны эти влажные
руки», — и он уже не знал, что делать со своими руками. Он
чувствовал себя слабым и уставшим, у него не осталось ни одного
желания, он ни о чем больше не думал. Время от времени он говорил
себе, что скоро взойдет солнце, что нужно будет снова что-то
предпринимать, звонить Марсель, Саре, прожить от начала до конца
новый день, и это казалось ему невероятным. Он предпочел бы
бесконечно оставаться за этим столом, под этим искусственным
освещением, рядом с Ивиш.
— Я развлекаюсь, — пьяным голосом сказала Ивиш.
Матье посмотрел на нее: она была в состоянии радостного
возбуждения, которое из-за любого пустяка могло обернуться яростью.
— Плевала я на экзамены, — сказала Ивиш, — если провалюсь,
буду только рада. Сегодня вечером я хороню свою холостяцкую
жизнь.
Она улыбнулась и восторженно сказала:
— Сверкает, как маленький бриллиант!
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
201
— Что сверкает, как маленький бриллиант?
— Это мгновение. Оно круглое, оно подвешено в пустоте, как
маленький бриллиант, я никогда не умру.
Она взяла нож Бориса за рукоятку, прижала лезвие к краю
стола и забавлялась, сгибая его.
— Что с ней? — вдруг спросила она.
— С кем?
— С женщиной в черном рядом со мной. Она не перестает
осуждать меня, с тех пор как пришла сюда.
Матье повернул голову: женщина в черном искоса смотрела на
Ивиш.
— Ну что? — спросила Ивиш. — Разве не так?
— Думаю, что да.
Он увидел злую приплюснутую мордочку Ивиш, злопамятные
и туманные глаза и подумал: «Лучше помолчу». Женщина в черном
хорошо поняла, что они говорили о ней: она приняла
величественный вид, ее муж проснулся и посмотрел на Ивиш, широко раскрыв
глаза. «Как это неприятно», — подумал Матье. Он почувствовал
себя утомленным и трусливым, он все бы отдал, только б не
возникло скандала.
— Эта женщина меня презирает, потому что она
благопристойная, — пробормотала Ивиш, обращаясь к ножу. — Я не
благопристойна, я развлекаюсь, напиваюсь, я провалю экзамены. Ненавижу
благопристойность! — вдруг выкрикнула она.
— Замолчите, Ивиш, прошу вас.
Ивиш смерила его ледяным взглядом.
— Кажется, вы останавливаете меня? — сказала она. —
Правильно, вы тоже благопристойный. Потерпите: когда я проведу десять
лет в Лаоне с матерью и отцом, то буду благопристойней вас.
Она развалилась на стуле, упрямо прижимая лезвие ножа к
столу и тупо пытаясь согнуть его. Наступило тяжелое молчание,
потом женщина в черном повернулась к мужу.
— Не понимаю, как можно вести себя так, как эта девушка.
— М-да! — хмыкнул тот, опасливо покосившись на широкие
плечи Матье.
— Это не совсем ее вина, — продолжала женщина, — виноваты
те, кто ее привел сюда.
«Начинается, — подумал Матье, — вот и скандал». Ивиш,
безусловно, все это слышала, но ничего не сказала, внезапно она
202
Жан Поль Сартр
присмирела. Слишком присмирела: она как будто что-то
замышляла; когда она подняла голову, вид у нее был одержимо-
бесшабашный.
— Что такое? — встревожился Матье.
— Ничего. Я... я совершу еще одну неблагопристойность, чтобы
несколько развлечь мадам. Хочу посмотреть, как она переносит вид
крови.
Соседка Ивиш издала легкий вскрик и заморгала. Матье
поспешно посмотрел на руки Ивиш. Она держала нож в правой руке
и старательно резала ладонь левой. Кожа раскроилась от большого
пальца до основания мизинца, начала сочиться кровь.
— Ивиш! — закричал Матье. — Что вы делаете?!
Ивиш неопределенно усмехнулась.
— Думаете, она отведет глаза? — спросила она.
Матье протянул руку, и Ивиш без сопротивления отдала ему
нож. Матье был в отчаянии, он смотрел на худые пальцы Ивиш, уже
окровавленные, и думал о том, как ей больно.
— Вы с ума сошли! — сказал он. — Я отведу вас в туалет, там вас
перевяжут.
— Меня перевяжут! — Ивиш зло рассмеялась. — Вы
соображаете, что говорите?
Матье встал.
— Пошли, Ивиш. Прошу вас, пошли скорее.
— Очень приятное ощущение, — не вставая, сказала Ивиш. —
Мне казалось, что моя рука была куском масла.
Она подняла левую руку к носу и критически рассматривала ее.
Кровь текла повсюду и была похожа на муравьиные вереницы.
— Это моя кровь, — сказала Ивиш. — Мне нравится смотреть на
свою кровь.
— Хватит! — возмутился Матье.
Он схватил Ивиш за плечи, но она резко высвободилась,
большая капля крови упала на скатерть. Ивиш смотрела на Матье
сверкающими от ненависти глазами.
— И вы смеете меня опять трогать? — спросила она и с
оскорбительным смехом добавила: — Я должна была предвидеть, что для
вас это слишком. Вас шокирует, что можно забавляться, пуская себе
кровь.
Матье почувствовал, что бледнеет от бешенства. Он сел,
положил на стол левую руку и нежно сказал:
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
203
— Чрезмерным? Нет, Ивиш, по-моему, это прелестно. Видимо,
это такая игра для благородных девиц?
Он резким ударом вонзил нож в ладонь и почти ничего не
почувствовал. Когда он отпустил нож, тот остался в его плоти,
совершенно прямой, с рукояткой вверху.
— Ай! Ай! — с отвращением вскричала Ивиш. — Выньте его!
Выньте!
— Видите, — сквозь зубы сказал Матье, — это доступно всем.
Он почувствовал себя расслабленным и отяжелевшим и
немного боялся потерять сознание. Он испытывал упрямое и язвительное
удовлетворение. Нет, он нанес себе удар ножом не только для того,
чтобы бросить вызов Ивиш, это был также вызов Жаку, Брюне,
Даниелю, всей его жизни: «Я кретин, — подумал он, — Брюне прав,
говоря, что я старый младенец». Но он, помимо воли, испытывал
удовлетворение. Ивиш смотрела на руку Матье, как будто
прибитую к столу, кровь растекалась вокруг лезвия. Потом она
посмотрела на Матье и изменилась в лице. Она мягко сказала:
— Почему вы это сделали?
— А вы? — напряженно спросил Матье.
Слева от них поднялся маленький угрожающий переполох:
общественное мнение. Но Матье плевать на него хотел, он смотрел
на Ивиш.
— Я... я так сожалею, — сказала Ивиш.
Переполох нарастал, дама в черном завизжала:
— Они пьяные! Они себя покалечат! Нужно им помешать! Я не
могу смотреть на это!
Повернулось несколько голов, подбежал официант.
— Мадам что-нибудь желает?
Женщина в черном прижала ко рту платочек и, не говоря ни
слова, показала на Матье и Ивиш. Матье быстро выдернул нож из
раны, это было очень больно.
— Мы поранились ножом.
Официант видывал и не такое.
— Если господа соизволят пройти в туалетную комнату, —
невозмутимо сказал он, — то служительница сделает все
необходимое.
На этот раз Ивиш послушно встала. Они пересекли зал, следуя
за официантом, каждый с поднятой рукой, это было так комично,
что Матье расхохотался. Ивиш беспокойно посмотрела на него, по-
204
Жан Поль Сартр
том засмеялась тоже. Она так сильно смеялась, что рука ее
задрожала. Две капли крови упали на паркет.
— Я развлекаюсь, — сказала Ивиш.
— Боже мой! — вскричала служительница в туалетной
комнате. — Бедная барышня, что вы с собой сделали? Бедный месье!
— Мы играли с ножом, — сказала Ивиш.
— И вот! — возмущенно воскликнула женщина. — Вот и
доигрались! Это наш нож?
-Нет.
— А! Я так и думала... Какая глубокая рана, — сказала она,
осматривая руку Ивиш. — Не беспокойтесь, я все сделаю.
Она открыла шкаф, и половина ее тела исчезла в нем. Матье и
Ивиш улыбнулись друг другу. Ивиш, казалось, протрезвела.
— Не думала, что вы на такое решитесь, — сказала она Матье.
— Видите, не все потеряно.
— Теперь мне больно.
— Мне тоже.
Он был счастлив. Он прочел надписи «Для дам» и «Для месье»
золотыми буквами на двух дверях, покрытых жирной серой
эмалевой краской, он посмотрел на пол в белых плитках, вдохнул
анисовый запах дезинфекции, и сердце его наполнилось радостью.
— Должно быть, не так уж неприятно быть служительницей в
туалетной комнате, — с чувством сказал он.
— Конечно! — расцвела Ивиш.
Она смотрела на него с диковатой нежностью; немного
поколебавшись, она вдруг приложила ладонь своей левой руки к раненой
ладони Матье. Раздался мягкий хлопок.
— Это смешение крови, — пояснила она.
Матье молча сжал ее руку и почувствовал резкую боль, ему
показалось, что на его ладони раскрылся зев.
— Вы мне делаете больно, — сказала Ивиш.
— Знаю.
Женщина вылезла из шкафа, немного побагровевшая. Она
открыла ящичек из белой жести.
— Здесь все, что нужно, — сказала она.
Матье увидел бутылочку с йодом, иголки, ножницы, бинты.
— Вы хорошо оснащены, — сказал Матье.
Она важно кивнула.
— Бывают дни, когда не до шуток. Позавчера какая-то женщина
швырнула бокал в голову одному из наших постоянных клиентов.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
205
У него текла кровь, у этого месье, я испугалась за его глаза: я
вынула у него из брови большой осколок стекла.
— Черт! — вскрикнул Матье.
Женщина суетилась вокруг Ивиш.
— Потерпите, милочка, будет немного жечь, это настойка йода.
Вот и все.
— Вы... вы меня не сочтете нескромной? — вполголоса спросила
Ивиш.
— Да нет, говорите.
— Я хотела бы знать, о чем вы думали, когда я танцевала с
Лолой?
— Вот сейчас?
— Да, когда Борис пригласил блондинку. Вы остались один.
— Наверно, о себе, — сказал Матье.
— Я смотрела на вас, вы были... почти красивы. Если бы вы
могли навсегда сохранить такое лицо!
— Но нельзя же все время думать о себе.
Ивиш засмеялась.
— А я, по-моему, всегда думаю о себе.
— Дайте вашу руку, месье, — сказала служительница. —
Потерпите, будет жечь. Вот так! Ничего страшного.
Матье почувствовал сильное жжение, но не обратил на это
внимания, он смотрел на Ивиш, которая неловко причесывалась перед
зеркалом, поддерживая локоны забинтованной рукой. В конце
концов она отбросила волосы назад, и ее широкое лицо заголилось.
Матье почувствовал, что набухает от внезапного и безнадежного
желания.
— Вы прекрасны, — сказал он.
— Нет, — смеясь, сказала Ивиш, — наоборот, я ужасно
некрасива. Это мое тайное лицо.
— Но оно мне еще больше нравится, — признался Матье.
— Хорошо, завтра я причешусь именно так, — сказала Ивиш.
Матье не нашелся, что ответить. Он склонил голову и
замолчал.
— Готово, — сказала служительница.
Матье заметил у нее светлые усики.
— Большое спасибо, мадам, вы умелы, как сестра милосердия.
Женщина покраснела от удовольствия.
— Что вы! — сказала она. — Это естественно. В нашем ремесле
нужна сноровка.
206
Жан Поль Сартр
Матье положил десять франков на блюдце, и они вышли, с
удовлетворением посматривая на свои окоченевшие забинтованные
руки.
— У меня рука как деревянная, — сказала Ивиш.
Танцзал был почти пуст. Лола стояла посреди площадки и
собиралась петь. Борис сидел за столиком, он ждал их. Дама в черном
и ее муж исчезли. На их столике стояли два полупустых бокала,
рядом лежала дюжина сигарет в открытой пачке.
— Это бегство, — заметил Матье.
— Да, — сказала Ивиш, — я одержала над ней победу.
Борис весело посмотрел на них.
— Вы организовали между собой резню?
— Это все твой чертов нож, — недовольно проворчала Ивиш.
— На вид он должен хорошо резать, — сказал, с интересом глядя
на их руки, Борис.
— А как там с Лолой?
Борис помрачнел.
— Все плохо. Я сморозил глупость.
— Какую?
— Я сказал, что Пикар пришел ко мне и что я его принял в
своей комнате. Кажется, в первый раз я сказал что-то другое, но хоть
убей не помню что.
— Вы сказали, что встретили его на бульваре Сен-Мишель.
— Черт! — вскрикнул Борис.
— Она злится?
— Не то слово! Как разъяренный вепрь. Вы только посмотрите
на нее.
Матье взглянул на Лолу. У нее было озлобленное и скорбное
лицо.
— Простите меня, — сказал Матье.
— Вам незачем извиняться: это моя вина. Знаете, все уладится,
я привык. Все в конце концов улаживается.
Они замолчали. Ивиш нежно разглядывала свою
забинтованную руку. Сон, свежесть, серая заря неосязаемо проскользнули в
зал, в танцзале запахло ранним утром. «Бриллиант, — подумал
Матье, — она сказала: маленький бриллиант». Он был счастлив, он
больше не думал о себе, ему казалось, что он сидит снаружи, на
скамейке: снаружи, вне танцзала, вне своей жизни. Он улыбнулся:
«Она еще кое-что сказала. Она сказала: я никогда не умру...»
Лола начала петь.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
207
XII
«В десять часов в кафе "Дом"». Матье проснулся. Этот
маленький холмик из белого бинта на кровати был его левой рукой. Она
побаливала, но в остальном он чувствовал себя бодро. «В десять
часов в кафе "Дом"». Она сказала: «Я приду раньше вас, я ночью
глаз не сомкну». Было девять, он спрыгнул с кровати. «Она изменит
прическу», — подумал Матье.
Он толкнул ставни: улица была пустынной, небо низким и
серым, было не так тепло, как накануне, настоящее утро. Он открыл
кран умывальника и подставил голову под воду: я тоже из утра.
Собственная жизнь упала к его ногам тяжелыми складками, она его
еще окружала, она сковывала его щиколотки, но он через нее
перешагнет, он оставит ее после себя, как мертвую кожу. Кровать,
письменный стол, лампа, зеленое кресло: теперь они были не его
сообщниками, но анонимными предметами из железа и дерева, домашней
утварью, он провел ночь как бы в гостиничном номере. Матье
оделся и, насвистывая, спустился по лестнице.
— Вам письмо по пневматической почте, — сказала консьержка.
Марсель! Во рту у Матье появился горький привкус. Он совсем
забыл о Марсель. Консьержка протянула ему желтый конверт:
письмо было от Даниеля.
«Дорогой Матье, — писал Даниель, — я искал среди знакомых,
но так и не смог собрать сумму, которую ты у меня просишь. Поверь,
я сожалею. Можешь зайти ко мне в полдень? Мне нужно
поговорить с тобой о твоем деле. Дружески твой».
«Хорошо, — подумал Матье, — я пойду к нему. Он не хочет
расстаться с деньгами, но он придумает какой-нибудь выход». Жизнь
ему казалась легкой, она должна такой быть: в любом случае Сара
добьется, чтобы врач потерпел несколько дней; при необходимости
вышлем ему деньги в Америку.
Ивиш была в кафе, в темном углу. Сначала он увидел ее
забинтованную руку.
— Ивиш! — нежно позвал он.
Она подняла глаза и посмотрела на него, у нее было
непроницаемое треугольное лицо, воплощение злой невинности, локоны
закрывали половину щек: она не подняла волосы вверх.
— Вы мало спали? — грустно спросил Матье.
— Вообще не спала.
208
Жан Поль Сартр
Он сел. Она увидела, что он смотрит на их перебинтованные
руки, медленно убрала свою и спрятала ее под стол. Подошел
официант, он хорошо знал Матье.
— Все в порядке, месье? — спросил он.
— Да, — сказал Матье, — дайте, пожалуйста, чай и два яблока.
Наступило молчание, которым Матье воспользовался, чтобы
похоронить свои ночные воспоминания. Как только он
почувствовал, что сердце его пусто, он поднял голову.
— У вас неважный вид. Это из-за экзамена?
Ивиш ответила презрительной гримасой, и Матье замолчал, он
смотрел на пустые скамейки. Женщина, став на колени, мыла
каменный пол. «Дом» понемногу пробуждался, было утро. Можно
будет лечь спать только через пятнадцать часов! Ивиш заговорила
тихим голосом с измученным видом:
— Он назначен на два часа, — сказала она. — А уже девять. Я
чувствую, как эти часы обрушиваются на меня.
Она снова принялась одержимо теребить локоны: это было
невыносимо. Она спросила:
— Как вы думаете, возьмут меня продавщицей в универсальный
магазин?
— Даже не думайте об этом, Ивиш, это чертовски трудно.
— А манекенщицей?
— Вы ростом маловаты, но можно попытаться...
— Я сделаю все, что угодно, только бы не возвращаться в Лаон.
Я готова пойти хоть в посудомойки.
Она добавила по-стариковски с озабоченным видом:
— В таких случаях, кажется, дают объявления в газетах?
— Послушайте, Ивиш, у нас еще будет время к этому вернуться.
Ведь пока вы еще не провалились.
Ивиш пожала плечами, и Матье живо продолжал:
— Даже если вы провалитесь, для вас не все потеряно. К
примеру, вы могли бы месяца на два вернуться домой, а за это время я
вам что-нибудь подыщу.
Он говорил с добродушной убедительностью, но у него не было
никакой надежды: даже если он ей найдет какую-то работу, через
неделю ее оттуда выгонят.
— Два месяца в Лаоне! — с гневом вскричала Ивиш. — Сразу
видно, что вы об этом понятия не имеете. Это... это невыносимо.
— Так или иначе вы бы провели там каникулы.
— Да. Но как они меня примут после провала?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
209
Она замолкла. Матье молча смотрел на нее: как всегда по утрам,
у нее был желтый цвет лица. Ночь, казалось, только скользнула по
ней. «Ничто не оставляет на ней следов», — подумал Матье. Он не
смог удержаться от вопроса:
— Вы так и не приподняли волосы?
— Вы прекрасно видите, что нет, — сухо ответила Ивиш.
— Но ведь вчера вечером вы мне пообещали, — немного
раздраженно сказал он.
— Я была пьяна, — сказала она. И настойчиво повторила, будто
желая смутить его: — Я была совершенно пьяна.
— Вы не выглядели такой уж пьяной, когда мне это обещали.
— Ладно! — нетерпеливо сказала она. — Что из того? Люди
легко дают обещания.
Матье не ответил. У него было впечатление, что ему без
остановки задавали неотложные вопросы: как до вечера найти пять
тысяч франков? Как сделать так, чтобы Ивиш вернулась в Париж
в следующем году? Как теперь вести себя с Марсель? У него не
было времени собраться, вернуться к вопросам, составлявшим
основу его мыслей со вчерашнего дня: кто я? Что я сделал со своей
жизнью? Когда Матье отвернулся, чтобы сбросить с себя эту новую
обузу, он увидел вдалеке высокий нерешительный силуэт Бориса,
казалось, ищущего их на террасе.
— Вот и Борис! — с досадой сказал он. И тут же спросил,
охваченный неприятным подозрением:
— Это вы его попросили прийти?
— Нет, — изумленно ответила Ивиш. — Я должна была
встретить его в полдень, потому что... потому что он провел ночь с Лолой.
Да вы только посмотрите на него!
Борис их заметил и направился к ним. Глаза его были широко
открыты и неподвижны, он был мертвенно бледен, но улыбался.
— Привет! — крикнул Матье.
Борис поднял к виску два пальца, чтобы изобразить свое
привычное приветствие, но не смог завершить этот шутливый жест. Он
уперся обеими руками в стол и начал раскачиваться на пятках, не
говоря ни слова и по-прежнему улыбаясь.
— Что с тобой? — спросила Ивиш. — Ты похож на
Франкенштейна.
— Лола умерла, — сказал Борис.
Он глупо уставился прямо перед собой. Какое-то время Матье
ничего не понимал, потом изумился:
210
Жан Поль Сартр
— Что?..
Он посмотрел на Бориса: не нужно его сразу расспрашивать.
Матье схватил его за руку и заставил сесть рядом с Ивиш. Борис
машинально повторил:
— Лола умерла!
Ивиш обратила на брата широко раскрытые глаза. Она немного
отодвинулась, будто боялась до него дотронуться.
— Лола покончила с собой? — спросила она.
Борис не ответил, его руки задрожали.
— Скажи, — нервно повторила Ивиш, — она покончила с собой?
Она покончила с собой?
Улыбка Бориса перешла в нервную гримасу, губы его
подергивались. Ивиш пристально смотрела на него, теребя локоны. «Она
ничего не понимает», — раздраженно подумал Матье.
— Хорошо, — сказал он, — вы нам все расскажете позже. А пока
молчите.
Внезапно Борис начал смеяться. Он сказал:
— Если вы... если вы...
Матье резко ударил его кончиками пальцев по щеке. Борис
перестал смеяться и, бормоча, посмотрел на него, затем немного обмяк
и замер, глупо приоткрыв рот. Все трое молчали, а между ними
стояла смерть, безымянная и священная. Это было не событие,
скорее мутная среда, сквозь которую Матье видел свою чашку,
мраморный столик и благородное злое лицо Ивиш.
— Что для месье? — спросил официант.
Он с иронией посмотрел на Бориса.
— Быстро принесите коньяку, — сказал Матье. И добавил как
можно естественнее: — Месье спешит.
Официант удалился и скоро вернулся с бутылкой и рюмкой.
Матье чувствовал себя вялым и пустым, только теперь он начал
ощущать ночную усталость.
— Пейте, — велел он Борису.
Борис послушно выпил. Поставил рюмку и сказал как бы
самому себе:
— Тут уж не до смеха.
— Бедный дурачок! — сказала Ивиш, придвигаясь к нему. —
Бедный мой дурачок!
Она нежно ему улыбнулась, схватила за волосы и потрясла его
голову.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
211
— Ты со мной, у тебя такие теплые руки, — облегченно вздохнул
Борис.
— Теперь рассказывай! — сказала Ивиш. — Ты уверен, что она
умерла?
— Сегодня ночью она приняла наркотик, — с трудом проговорил
Борис. — Мы опять поцапались.
— Значит, она отравилась? — живо спросила Ивиш.
— Не знаю, — ответил Борис.
Матье изумленно смотрел на Ивиш: она ласково гладила руку
брата, но ее верхняя губа странным образом поднялась, оскалив
мелкие зубы. Борис заговорил глухим голосом. Казалось, он
обращался к кому-то еще.
— Мы поднялись к ней в номер, и она приняла наркотик.
Первый раз она приняла у себя в гримерной, когда мы спорили.
— На самом деле это был второй раз, — заметил Матье. — По-
моему, первый раз она приняла, когда вы танцевали с Ивиш.
— Пусть так, — устало отозвался Борис. — Значит, три раза. Она
никогда столько не принимала. Мы легли, не разговаривая. Она
вертелась в кровати, и я не мог заснуть. Потом она вдруг
успокоилась, и я уснул.
Он выпил коньяк и продолжал:
— Утром я проснулся, потому что задыхался. Из-за ее руки. Она
лежала на одеяле, придавив меня. Я сказал ей: «Убери руку, ты меня
душишь». Она не убрала. Я подумал, что это жест примирения, и
взял ее за руку — она была ледяной. Я спросил Лолу: «Что с тобой?»
Она ничего не ответила. Тогда я изо всех сил оттолкнул ее руку,
Лола чуть не скатилась с кровати, я встал, взял ее за запястье и
потянул вверх, чтобы усадить ее. Глаза у нее были открыты. Я увидел
ее глаза, — добавил он с какой-то злостью, — никогда не смогу их
забыть.
— Мой бедный дурачок, — сказала Ивиш.
Матье пытался пожалеть Бориса, но это ему не удавалось. Борис
приводил его в замешательство еще больше, чем Ивиш. Можно
было подумать, что он злится на Лолу за то, что она умерла.
— Я схватил свои шмотки и оделся, — монотонно продолжал
Борис. — Я не хотел, чтобы меня обнаружили у нее в номере. Меня
не видели, когда я выходил: у кассы никого не было. Я взял такси и
приехал сюда.
— Ты огорчен? — мягко спросила Ивиш.
212
Жан Поль Сартр
Она наклонилась к нему без особого сочувствия, просто она
хотела это знать. Она сказала:
— Посмотри на меня! Ты огорчен?
— Я... — начал Борис. Он посмотрел на нее и быстро ответил: —
Я в ужасе.
Он подозвал идущего мимо официанта:
— Еще коньяку.
— Так же срочно, как и первый раз? — улыбаясь, спросил тот.
— Да. Обслужите быстро, — сухо сказал Матье.
Борис был ему немного противен. В нем больше не осталось
ничего от обычного суховатого, чуть неуклюжего изящества. Такое
его лицо слишком походило на лицо Ивиш. Матье стал думать о
теле Лолы, распростертом на кровати в гостиничном номере.
Господа в котелках зайдут в номер, будут смотреть на это роскошное тело
со смесью вожделения и профессионального интереса, отбросят
одеяло и поднимут ночную рубашку, ища раны и попутно думая, что
у профессии полицейского бывают и хорошие стороны. Матье
вздрогнул.
— Она там совсем одна? — спросил он.
— Да, думаю, ее обнаружат к полудню, — с озабоченным видом
сказал Борис. — Горничная всегда будит ее к этому времени.
— Значит, через два часа, — заключила Ивиш.
Она вновь обрела повадку старшей сестры. Она гладила волосы
брата с жалостливым и торжествующим видом. Борис позволял
себя ласкать; вдруг он вскрикнул:
— Мать твою!
Ивиш вздрогнула. Борис охотно употреблял жаргонные
словечки, но никогда не ругался.
— В чем дело? — с беспокойством спросила Ивиш.
— Мои бумажки, — сказал Борис.
-Что?
— Бумажки, я идиот, оставил их там.
Матье не понимал.
— Письма, которые вы ей писали?
-Да.
— Ну и что?
— А то!.. Придет врач, и станет известно, что она умерла от
отравления.
— В письмах вы упоминали о наркотиках?
— Конечно, — мрачно сказал Борис.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
213
Матье показалось, что он ломает комедию.
— Вы что, принимали наркотики? — спросил он. Он был
немного задет, так как Борис никогда ему об этом не говорил.
— Я... случалось. Один или два раза, из любопытства. К тому же
я упоминал в письмах о типе, который их продает, тип этот с Буль-
Бланш, я однажды покупал у него порошок для Лолы. Я не хочу,
чтоб его накрыли из-за меня.
— Борис, ты с ума сошел! — воскликнула Ивиш. — Как ты мог
такое писать!
Борис поднял голову.
— Представляете себе, какой разразится скандал!
— Но может быть, их не найдут? — предположил Матье.
— Первым делом их и найдут. В лучшем случае меня вызовут
как свидетеля.
— Ой! Отец узнает! — перепугалась Ивиш. — Вот он
взбеленится!
— Он может отозвать меня в Лаон и тут же засадить в банк.
— Что ж, составишь мне компанию, — мрачно сказала Ивиш.
Матье с сожалением посмотрел на них. «Вот, значит, они
какие!» Ивиш утратила победоносный вид: прижавшись друг к другу,
бледные, с искаженными лицами, они казались двумя
старушонками. Наступило молчание, потом Матье заметил, что Борис искоса
смотрит на него. На губах его читалась хитрость, жалкая
обезоруживающая хитрость. «Он что-то замышляет», — раздраженно
подумал Матье.
— Вы говорите, что горничная будит ее в полдень? — спросил он.
— Да. Она стучит, пока Лола ей не ответит.
— Что ж, сейчас половина одиннадцатого. У вас есть время
спокойно туда вернуться и забрать письма. Если хотите, возьмите
такси, но можно поспеть и на автобусе.
Борис отвел глаза.
— Я не могу туда вернуться.
«Приехали!» — подумал Матье. Он спросил:
— Почему?
— Не могу.
Матье увидел, что Ивиш смотрит на него.
— Где письма? — спросил он.
— В черном сундучке у окна. На сундучке чемодан, нужно
только его снять. Внутри куча писем. Мои перевязаны желтой лентой.
Он сделал паузу и безразличным тоном добавил:
214
Жан Поль Сартр
— Там лежат и бабки.
Бабки! Матье тихо присвистнул, он подумал: «Мальчишка не
дурак: все продумал, даже способ оплаты».
— Сундучок заперт на ключ?
— Да, ключ в сумочке, сумочка на ночном столике. Там в связке
есть плоский ключик. Это он.
— Какой номер комнаты?
— Двадцать один, на четвертом этаже, вторая слева.
— Хорошо, — сказал Матье, — я пойду.
Он встал. Ивиш все еще смотрела на него. Борис, казалось,
успокоился. Он с прежней грациозностью отбросил назад волосы
и, слабо улыбаясь, сказал:
— Если вас сцапают, то скажете, что вы к Боливару, это негр из
«Камчатки», я его знаю. Он тоже живет на четвертом.
— Ждите меня здесь оба, — велел Матье.
Он невольно заговорил начальственным тоном. Потом мягко
добавил:
— Я вернусь через час.
— Мы будем вас ждать, — заверил Борис. И проговорил с
восхищением и безмерной благодарностью:
— Вам цены нет!
Матье зашагал по бульвару Монпарнас, он был рад остаться
один. В это время Борис и Ивиш начнут шептаться, они воссоздадут
свой душный драгоценный мирок. Но это его не тревожило. Его
обступили вчерашние заботы: любовь к Ивиш, беременность
Марсель, деньги и еще, в центре всего, слепое пятно — смерть. Он
несколько раз произнес «уф», проводя руками по лицу и растирая
щеки. «Бедная Лола, — подумал он, — она мне так нравилась». Но
не ему надо о ней сожалеть: эта смерть — проклятая, потому что не
получила никакой высшей санкции, и не ему ее санкционировать.
Она тяжело упала в маленькую ошалевшую душу и слепо кружила
там. Только на эту маленькую душу легла непосильная ноша —
обдумать ее и искупить. Если б только у Бориса было хоть сколько-
нибудь печали... Но он испытал только ужас. Смерть Лолы навеки
останется за бортом человеческих отношений, как чей-то вердикт:
«Собаке — собачья смерть!» Эта мысль была невыносима.
— Такси! — крикнул Матье.
Сев в такси, он почувствовал себя спокойней. У него даже
появилось чувство хладнокровного превосходства, как будто он вдруг
простил себе, что он не одних лет с Ивиш, или, вернее, как будто
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
215
молодость внезапно потеряла свою ценность. «Они зависят от
меня», — подумал он с некоторой гордостью. Лучше, если такси
остановится не перед гостиницей.
— На углу улицы Наварен и улицы де Мартир, пожалуйста.
Матье смотрел на вереницу унылых зданий бульвара Распай.
Он повторял: «Они зависят от меня». Он чувствовал себя сильным
и немного медлительным. Потом стекла такси потемнели: оно
въехало в узкий проход улицы дю Бак, и вдруг Матье осознал — Лола
умерла; он войдет в ее номер, увидит ее широко открытые глаза и
белое тело. «Не буду на нее смотреть», — решил он. Она мертва.
Сознание ее уничтожено. Но не жизнь. Покинутая ласковым и
нежным зверем, который так долго в ней жил, эта одинокая жизнь
просто остановилась, она витала, полная криков без эха и
бесплодных надежд, темных высверков, прежних лиц и запахов, она как бы
невзначай витала на задворках мира, незабвенная и окончательная,
несокрушимей минерала, и ничто уже не сможет помешать ее
былому существованию, она подверглась последней метаморфозе: ее
будущее бесповоротно застыло. «Жизнь, — подумал Матье, —
включает в себя будущее, как тела включают в себя пустоту». Он
наклонил голову: он думал о своей собственной жизни. Будущее
проникло в него до самого сердца, все там было в движении, в отсрочке.
Давняя пора его детства, день, когда он сказал себе: «Я буду
свободен», — день, когда он сказал себе: «Я буду великим человеком», —
еще сегодня включали в себя некое будущее, как маленькое личное
небо, совсем круглое, и это будущее стало им, таким, каков он
сейчас, усталым и созревающим, те дни притязали на него все
минувшие годы, они повторяли свои требования, и его часто мучили
изнурительные угрызения совести, потому что его настоящее,
беспечное и пресыщенное, было воплощенным будущим давно
минувших дней. Эти дни ждали его двадцать лет, это от него,
утомленного человека, былой жестокий ребенок требовал осуществить его
надежды: от него зависело, чтобы эти детские клятвы остались
пустыми словами или чтоб они стали первыми вестниками судьбы.
Его прошлое непрерывно подвергалось исправлениям настоящего;
каждый день все явственней не оправдывал его прежние мечты о
величии, каждый день имел новое будущее; и так, от ожидания к
ожиданию, от будущего к будущему, влачилась его жизнь... К
чему?
А ни к чему. Он подумал о Лоле: она умерла, и ее жизнь, как и
жизнь Матье, прошла в ожидании. В каком-то давнем былом жила
216
Жан Поль Сартр
маленькая девочка с рыжими кудряшками, поклявшаяся стать
великой певицей, а приблизительно в двадцать третьем году была
молодая певица, упивающаяся славой, запечатленной на афишах.
И ее любовь к Борису, эта великая любовь старухи, от которой она
столько страдала, с первого дня была всего лишь отсрочкой. Еще
вчера эта любовь, темная и смутная, ждала какого-то будущего, еще
вчера Лола думала, что будет жить и что Борис ее когда-нибудь
полюбит; самые полновесные мгновения, самые нежные ночи любви,
которые казались ей вечными, были всего лишь ожиданиями.
А ждать было нечего: смерть подкралась с тыла всех ожиданий
и остановила их, они остались недвижными и немыми, без цели, без
смысла. Ждать было нечего: никто никогда не узнает, смогла бы
Лола заставить Бориса себя полюбить, теперь этот вопрос не имел
смысла. Лола умерла, незачем больше суетиться, не осталось ласки,
не осталось мольбы: не осталось ничего, кроме ожидания ожиданий,
ничего, кроме в одночасье сникшей жизни, окрашенной в серо-
буро-малиновый цвет и имевшей опору только в себе самой. «Если
я сегодня умру, — вдруг подумал Матье, — никто никогда не узнает,
был ли я человеком пропащим или у меня был какой-нибудь шанс
спастись».
Такси остановилось, и Матье вышел. «Подождите меня», —
сказал он шоферу. Он наискось пересек мостовую, толкнул дверь
гостиницы, вошел в мрачный, пропитанный тяжелыми запахами
вестибюль. Над стеклянной дверью слева висел эмалированный
треугольник: «Дирекция». Матье бросил взгляд через стекло: комната
казалась пустой, слышно только тиканье часов. Обычные
постояльцы гостиницы — певицы, танцовщики, негры из джаза — поздно
возвращались и поздно вставали: все еще спало. «Нельзя
подниматься по лестнице слишком быстро», — подумал Матье. Он
услышал, как стучит его сердце, ноги его стали ватными. Он
остановился на площадке четвертого этажа и огляделся. Ключ был в двери.
«А вдруг там кто-то есть?» Он прислушался и постучал.
Никто не ответил. На пятом этаже кто-то смыл унитаз, Матье
услышал клокотание воды, сопровождаемое текучим и мелодичным
шумом. Матье толкнул дверь и вошел.
Комната была темной и еще хранила влажный запах сна. Матье
обшарил сумерки взглядом, он жаждал прочесть смерть в чертах
Лолы, как будто это было человеческое чувство. Кровать стояла
справа, в глубине комнаты. Матье увидел Лолу, очень бледную, она
смотрела на него неподвижными глазами. «Лола!» — тихо позвал
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
217
он. Лола не ответила. У нее было необыкновенно выразительное, но
абсолютно непроницаемое лицо; грудь была обнажена, одна ее
прекрасная рука неподвижно лежала поперек кровати, другая была под
одеялом. «Лола!» — повторил Матье, подходя к кровати. Он не мог
оторвать взгляд от этой гордой груди, ему хотелось до нее
дотронуться. Он некоторое время стоял у края кровати, нерешительный,
взволнованный, его тело было отравлено острым желанием, потом
он отвернулся и быстро схватил с ночного столика сумочку.
Плоский ключ был в ней: Матье взял его и направился к окну. Серый
день сочился сквозь шторы, комната была заполнена неподвижным
присутствием; Матье стал на колени перед сундучком, ощущая
спиной неукоснительное присутствие Лолы. Он вставил ключ в
скважину. Поднял крышку, погрузил обе руки в сундучок, и бумаги
зашуршали под его пальцами. Это были банкноты. Их было много.
Тысячные купюры. Под стопкой квитанций и записок Лола
прятала пачку писем, перевязанную желтой шелковой ленточкой. Матье
поднес пачку к свету, изучил почерк и вполголоса сказал: «Это
они», — затем сунул письма в карман. Но он не мог уйти, он стоял
на коленях, уставившись на деньги. Через какое-то время,
отвернувшись, он нервно порылся в бумагах, отбирая их не глядя, на ощупь.
«Мне заплатили», — подумал он. Там, сзади, лежала длинная белая
женщина с удивленным лицом, руки, казалось, еще могли
протянуться и красные ногти оцарапать. Матье встал, отряхнул колени
правой ладонью. Левая рука сжимала пачку банкнот. Он подумал:
«Мы вышли из положения», — озадаченно рассматривая деньги.
«Мы вышли из положения...» Невольно напрягая слух, он
вслушивался в молчаливое тело Лолы и почувствовал себя пригвожденным
к месту. «Ладно!» — смиренно прошептал он. Его пальцы разжались,
и деньги, кружась, упали в сундучок. Матье закрыл крышку,
повернул ключ, положил его в карман и крадучись вышел из комнаты.
Свет ослепил его. «Я не взял деньги», — озадаченно сказал он
себе.
Матье неподвижно стоял, положив руку на перила лестницы, он
подумал: «Я слабак!» Он пытался возмутиться собой, но по-
настоящему себя осудить трудно. Вдруг он подумал о Марсель, об
отвратительной бабке с руками душительницы и на самом деле
испугался. «Сущий пустяк, малое движение, и Марсель спасена от
страдания, избавлена от всей этой мерзости, которая оставит на ней
неизгладимое клеймо. А я не смог, этакий чистюля! Ничего не
скажешь, храбрец! После этого, — подумал он, глядя на свою перебин-
218
Жан Поль Сартр
тованную руку, — я могу сколько угодно кромсать руку ножом и
корчить из себя рокового мужчину перед девицами: больше
никогда я не смогу принимать себя всерьез». Марсель пойдет к бабке,
другого выхода нет: это она должна будет проявить храбрость,
бороться с тревогой и ужасом, а он в это время будет восстанавливать
силы, попивая ром в ближайшем бистро. «Нет, — вздрогнув,
подумал он. — Она не пойдет. Я женюсь на ней, потому что только на это
я и способен». Он подумал: «Я женюсь на ней», — прижимая
раненую руку к перилам, и ему показалось, что он тонет. Он прошептал:
«Нет! Нет!» — откинув назад голову, сделал глубокий вдох,
повернулся, пересек коридор и вернулся в комнату. Как и в первый раз,
он прислонился спиной к двери и постарался приучить глаза к
полумраку.
Он до конца не был уверен, что у него хватит смелости украсть
деньги. Он сделал несколько неуверенных шагов и различил
наконец серое лицо и широко раскрытые глаза Лолы, глядящие на
него.
— Кто здесь? — спросила Лола.
Голос был слабый, но злой. Матье затрепетал с головы до пят.
«Этот идиот Борис!» — подумал он.
— Это я, Матье.
Наступило долгое молчание, потом Лола спросила:
— Который час?
— Без четверти одиннадцать.
— У меня болит голова, — сказала Лола. Она натянула одеяло
до подбородка и застыла, не сводя глаз с Матье. У нее все еще был
вид покойницы.
— Где Борис? — спросила она. — Что вы здесь делаете?
— Вы были больны, — поспешно объяснил Матье.
— Что со мной было?
— Вы застыли с широко открытыми глазами. Борис с вами
разговаривал, вы ему не отвечали, и он испугался.
Казалось, Лола не слышала. Внезапно она саркастически
засмеялась, но тут же осеклась.
— Он решил, что я умерла? — с трудом проговорила она.
Матье не ответил.
— А? Ведь так? Он решил, что я умерла?
— Он испугался, — уклончиво сказал Матье.
— Уф! — выдохнула Лола.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
219
Снова наступило молчание. Она закрыла глаза, подбородок ее
дрожал. Казалось, она делала отчаянные усилия, чтобы взять себя
в руки. Не открывая глаз, она сказала:
— Дайте мою сумочку: она на ночном столике.
Матье протянул ей сумочку: она вынула пудреницу и с
отвращением посмотрела на свое лицо.
— И правда, у меня вид покойницы, — сказала она.
Она с усталым вздохом положила сумочку на кровать и
добавила:
— Впрочем, большего я не стою.
— Вы себя скверно чувствуете?
— Довольно скверно. Но мне знакомо это состояние, к вечеру
пройдет.
— Вам что-нибудь нужно? Хотите, я позову врача?
— Нет. Успокойтесь. Значит, вас послал Борис?
— Да. Он был ошеломлен.
— Он внизу? — чуть приподнявшись, спросила Лола.
— Нет... Я... я был в кафе на Домской набережной, понимаете,
он меня там встретил. Я тут же взял такси и примчался сюда.
Голова Лолы упала на подушку.
— Все-таки спасибо.
Она начала смеяться. Смех был задыхающийся и мучительный.
— Короче говоря, ангелочек сдрейфил. Недолго думая он
смылся. А вас сюда прислал, чтобы вы убедились, действительно ли я
умерла.
— Лола! — сказал Матье.
— Да ладно, — отрезала Лола, — только не надо трепотни.
Она закрыла глаза, и Матье подумал, что сейчас она потеряет
сознание. Но через несколько секунд она суховато проговорила:
— Скажите ему, чтоб не тревожился. Я вне опасности, Эти
недомогания случаются, когда я... Короче, он знает почему. Немного
сдает сердце. Скажите ему, чтоб он сейчас же пришел сюда. Я его
жду. Я буду здесь до вечера.
— Договорились, — сказал Матье. — Вам действительно ничего
не нужно?
— Нет, сегодня к вечеру я поправлюсь и буду петь.
Она добавила:
— Со мной еще не покончено.
— Тогда до свидания.
220
Жан Поль Сартр
Он направился к двери, но Лола позвала его. Она умоляюще
сказала:
— Пообещайте, что вы заставите его прийти. Мы... мы немного
поспорили вчера вечером, скажите ему, что я на него не сержусь,
что ни о чем таком не будет и речи. Но пусть он придет! Умоляю
вас, пусть он придет! Мне невыносима мысль, что он считает меня
мертвой.
Матье был растроган. Он сказал:
— Понятно. Я его пришлю.
Он вышел. Пачка писем во внутреннем кармане тяжело давила
на грудь. «Ну и физиономия у него будет! — подумал Матье. —
Нужно вернуть ему ключ, он исхитрится снова положить его в
сумочку». Матье попытался весело повторить про себя: «Чутье
предостерегло меня не брать денег!» Но он не был весел, то, что его
трусость имела благие последствия, ничего не значило, принималось в
расчет только то, что деньги он взять не смог. «И все-таки я рад, —
подумал он, — что она не умерла».
— Эй, месье! — закричал шофер. — Сюда!
Матье растерянно обернулся.
— В чем дело? А, это вы? — сказал он, узнавая такси. — Ладно,
отвезите меня к кафе «Дом».
Он сел, машина тронулась. Матье попытался вытеснить мысль
о своем унизительном поражении. Он взял пачку писем, развязал
узел и начал читать. Это были коротенькие сухие записки Бориса,
написанные из Лаона во время каникул. Иногда речь шла о
кокаине, но так завуалированно, что Матье с удивлением подумал: «А я
и не знал, что он так осторожен». Все письма начинались с
обращения «Моя дорогая Лола», — потом шли короткие отчеты о его
времяпрепровождении. «Я хожу купаться. Поругался с отцом.
Познакомился с бывшим борцом, который научит меня американской
борьбе. Я выкурил «Генри Клей» до конца, не уронив пепла на
пол». Борис заканчивал все письма одинаково: «Обожаю тебя и
целую. Борис». Матье без труда представил себе, с какими
чувствами должна была Лола все это читать, ее предугаданное и тем не
менее всегда новое разочарование, усилие, которое она делала,
чтобы бодро себя уверить: «В сущности, он меня любит, но просто
не умеет этого выразить». Он подумал: «И все-таки она их
хранила». Матье тщательно завязал узел и сунул связку писем в карман:
«Борису надо будет незаметно положить их на место». Когда такси
остановилось, Матье ощущал себя естественным союзником Лолы.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
221
Но он не мог о ней думать иначе, чем в прошедшем времени. Когда
он входил в кафе, ему казалось, что сейчас он будет защищать
доброе имя покойной.
Можно было подумать, что Борис не шелохнулся с того
момента, как ушел Матье. Он так и сидел: понурив плечи, открыв рот и
сжав ноздри. Ивиш что-то оживленно говорила ему на ухо, но
замолчала, как только увидела Матье. Матье подошел и бросил
связку писем на стол.
— Вот они, — сказал он.
Борис взял письма и быстро спрятал их в карман. Матье
недружелюбно посмотрел на него.
— Это было не очень трудно? — спросил Борис.
— Совсем не трудно; только дело в том, что Лола не умерла.
Борис изумленно поднял на него глаза.
— Лола не умерла... — глупо повторил Борис.
Он еще больше поник и казался подавленным. «Черт возьми, —
подумал Матье, — он уже начал к этому привыкать».
Глаза Ивиш сверкали.
— Я так и знала! — воскликнула она. — Что с ней было?
— Простой обморок, — напряженно ответил Матье.
Они замолчали. Борис и Ивиш медленно переваривали новость.
«Какой фарс», — подумал Матье. Наконец Борис поднял голову,
глаза его остекленели.
— Это... это она вернула вам письма? — спросил он.
— Нет. Она была еще без сознания, когда я их взял.
Борис сделал глоток коньяка и поставил рюмку на стол.
— Вот как! — воскликнул он, как бы обращаясь к самому себе.
— Она сказала, что с ней это случается после наркотиков и что
вы сами это знаете.
Борис не ответил. Ивиш, казалось, взяла себя в руки.
— Что еще она сказала? Она, должно быть, всполошилась, когда
увидела вас у изножья кровати? — спросила она.
— Не очень. Я сказал, что Борис испугался и попросил меня о
помощи. И естественно, я пришел посмотреть, что же случилось.
Запомните это, — сказал Матье Борису. — Постарайтесь не
запутаться. А потом попробуйте незаметно положить письма на место.
Борис провел рукой по лбу.
— Я не могу... — сказал он. — Она для меня мертвая.
Матье все это надоело.
— Она просила, чтобы вы сразу же пришли к ней.
222
Жан Поль Сартр
— Я... я думал, что она умерла, — как бы извиняясь, прошептал
Борис.
— Ну так вот, она не умерла! — раздраженно воскликнул Ма-
тье. — Возьмите такси и поезжайте к ней.
Борис не пошевелился.
— Вы слышите? — спросил Матье. — Это очень несчастная
женщина.
Он потянулся, пытаясь схватить Бориса за руку, но тот
отчаянным рывком высвободился.
— Нет! — закричал он так громко, что женщина на террасе
обернулась. Он продолжал тише, с вялым, но неодолимым
упрямством: — Я туда не пойду.
— Но со вчерашней ссорой покончено, — удивленно сказал
Матье. — Она обещала, что об этом не будет и речи.
— Да что мне вчерашняя ссора! — сказал Борис, пожимая
плечами.
— Так в чем же дело?
Борис зло посмотрел на него.
— Она мне внушает ужас.
— Потому что вы решили, что она умерла? Послушайте, Борис,
возьмите себя в руки, вся эта история смахивает на дурную
комедию. Вы ошиблись, вот и все: с этим покончено.
— А я считаю, что Борис прав, — живо возразила Ивиш. Голос
ее приобрел непонятную Матье интонацию. — Я... на его месте
поступила бы так же.
— Вы что, не понимаете? Так он действительно доведет ее до
гибели.
Ивиш покачала головой, у нее было мрачное, рассерженное
лицо. Матье бросил на нее неприязненный взгляд. «Она его
настраивает против Лолы», — подумал он.
— Если он к ней вернется, то только из жалости, — сказала
Ивиш. — Нельзя от него этого требовать: невозможно представить
себе что-нибудь более отвратительное, даже для нее.
— Пусть он хотя бы попытается ее увидеть. А там станет ясно.
Ивиш нетерпеливо скривилась.
— Кое-что вы просто не в состоянии понять, — сказала она.
Матье в нерешительности замолчал, и Борис использовал это
преимущество.
— Я не хочу ее видеть, — упрямо заявил он. — Для меня она
мертва.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
223
— Но это глупо! — воскликнул Матье.
Борис мрачно посмотрел на него.
— Я не хотел вам говорить, но если я ее увижу, то должен буду
к ней прикоснуться. А уж этого, — с отвращением добавил он, —
я не смогу.
Матье ощутил свою беспомощность. Он устало смотрел на два
жестоких полудетских лица.
— Что ж, — предложил он, — тогда немного подождите, пока
сотрутся ваши воспоминания. Обещайте мне, что вы увидитесь
завтра или послезавтра.
Борис вздохнул с облегчением.
— Хорошо, — сказал он ненатурально, — пусть будет завтра.
Матье чуть не сказал ему: «По крайней мере позвоните и
предупредите, что вы сегодня не сможете прийти». Но он сдержался,
подумав: «Он все равно этого не сделает. Позвоню сам». Он встал.
— Мне нужно идти к Даниелю, — обратился он к Ивиш. —
Когда будут результаты? В два часа?
-Да.
— Хотите, я зайду узнать их?
— Нет, спасибо, зайдет Борис.
— Когда я вас увижу?
— Не знаю.
— Сразу же пошлите мне письмо по пневматической почте,
чтобы я узнал о результате.
— Хорошо.
— Не забудьте, — сказал он, удаляясь. — Пока!
— Пока! — разом ответили оба.
Матье спустился в полуподвал кафе и заглянул в телефонный
справочник. Бедная Лола! Завтра Борис, безусловно, снова пойдет
в «Суматру». «Но этот день, который она проведет в ожидании!.. Не
хотел бы я быть на ее месте».
— Дайте, пожалуйста, Трюден 00-35, — попросил он толстую
телефонистку.
— Обе кабины заняты, — ответила она. — Вам придется
подождать.
Матье ждал, он видел через две открытые двери белый
кафельный пол туалетной комнаты. Вчера вечером он стоял перед другой
дверью с надписью «Туалет»... Странное любовное воспоминание.
Его переполняла обида на Ивиш. «Они боятся смерти, — сказал
он себе. — Напрасно они стараются быть свеженькими и чистень-
224
Жан Поль Сартр
кими, у них мелкие, гнусные душонки, потому что они всего боятся.
Боятся смерти, болезни, старости. Они цепляются за свою
молодость, как умирающий за жизнь. Сколько раз я видел, как Ивиш
ощупывает лицо перед зеркалом: она уже трепещет от мысли, что у
нее появились морщинки. Они проводят время, пережевывая свою
молодость, они строят только краткосрочные планы, как будто им
осталось жить всего лишь пять или шесть лет. А потом... Ивиш
говорит, что потом она покончит с собой, но я спокоен, она никогда
не осмелится: они будут бесконечно ворошить прах. В конечном
счете у меня морщины, у меня крокодиловая шкура, утратившие
гибкость мышцы, но мне еще жить и жить... Я уже думаю, что
именно мы были молодыми. Мы хотели изображать из себя настоящих
мужчин, мы были смешными, но, может, единственное средство
спасти свою молодость — это не забывать ее?» И все-таки ему было
не по себе, он чувствовал, что наверху они, голова к голове,
шепчутся, они сообщники, и, что ни говори, они прелестны.
— Ну, как там телефон? — спросил Матье.
— Минутку, месье, — нелюбезно ответила толстая
телефонистка. — Клиент вызвал Амстердам.
Матье повернулся и прошелся туда-сюда. «Я не смог взять
деньги!» По лестнице быстро и легко спускалась женщина, одна из тех,
кто говорит с невинным личиком: «Я пойду сделать пи-пи». Она
увидела Матье, замешкалась, затем снова пошла большими
скользящими шагами и — само дуновение, само благоухание — исчезла в
туалете. «Я не смог взять деньги, моя свобода — миф. Миф, Брюне
был прав, и моя жизнь подспудно строится с механической
точностью. Ничто, горделивая и мрачная мечта о том, чтобы стать ничем,
быть всегда отличным от того, что я есть. Чтобы быть вне своего
возраста, я вот уже год играюсь с этими двумя ребятишками; и
напрасно: я мужчина, взрослый человек, и этот взрослый человек, этот
господин целовал в такси маленькую Ивиш. Чтобы быть вне своего
класса, я пишу в левых газетах; напрасно: я буржуа, я не смог взять
деньги Лолы, социальные табу внушают мне страх. Чтобы убежать
от своей жизни, я с разрешения Марсель направо и налево завожу
интрижки, упорно отказываюсь предстать перед мэром; и напрасно:
фактически я уже женат, я живу в семье». Он схватил телефонный
справочник и, рассеянно листая его, прочел: «Ольбек, драматург,
Норд 77-80». У него защемило сердце: «Быть самим собой — вот
единственная свобода, которая мне остается. Моя единственная
свобода — жениться на Марсель». Он так устал чувствовать себя
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
225
колеблющимся между двумя противоположными течениями, что
был почти утешен. Он сжал кулаки и внутренне произнес с
серьезностью взрослого человека, буржуа, обывателя, главы семейства: «Я
хочу жениться на Марсель».
Фу! Это были только слова, детский и тщетный выбор. «Это
тоже, — подумал он, — это тоже ложь: мне не нужно желания, чтобы
жениться, мне остается всего лишь плыть по течению». Он закрыл
телефонный справочник и удрученно воззрился на руины своего
человеческого достоинства. И вдруг ему показалось, что он видит
свою свободу. Она была вне досягаемости, жестокая, молодая и
капризная, как озарение: она приказывала ему попросту бросить
Марсель. Но это был только миг: эту необъяснимую свободу,
принявшую видимость преступления, он увидел только мельком, она
его пугала, и, кроме того, она была далеко. Он замешкался на своем
слишком гуманном желании, на этих слишком гуманных словах: «Я
на ней женюсь».
— Ваша очередь, месье, — сказала телефонистка. — Вторая
кабина.
— Спасибо.
Он вошел в кабину.
— Снимите трубку, месье.
Матье послушно снял трубку.
— Алло! Трюден 00-35? Я хотел бы передать кое-что для мадам
Монтеро. Нет, не беспокойте ее. Поднимитесь к ней и передайте,
что месье Борис не сможет сегодня прийти.
— Месье Морис?
— Нет, не Морис: Борис. «Б» — Бернар, «О» — Октав. Он не
сможет прийти. Да. Правильно. Спасибо, мадам, до свидания.
Он вышел и подумал, почесывая голову: «Марсель, должно
быть, сейчас как на иголках, надо бы позвонить ей, пока я здесь».
Он нерешительно посмотрел на телефонистку.
— Хотите еще позвонить? — спросила она.
— Да... Дайте Сегюр 25-64.
Это был номер Сары.
— Алло, Сара? Это Матье, — сказал он.
— Здравствуйте, — ответил грубоватый голос Сары. — Ну как?
Все устроилось?
— Отнюдь, — сказал Матье. — Увы, люди прижимисты. У меня
к вам просьба: не могли бы вы попросить этого типа дать отсрочку
до конца месяца?
226
Жан Поль Сартр
— Но в конце месяца он уедет.
— Я отошлю ему деньги в Америку.
Наступило недолгое молчание.
— Могу попытаться, — без энтузиазма сказала Сара. — Но вряд
ли получится. Он старый скряга, к тому же у него сейчас кризис
суперсионизма: с тех пор как его прогнали из Вены, он ненавидит
всех неевреев.
— Все-таки попытайтесь, если не трудно.
— Мне вовсе не трудно. После завтрака сразу пойду к нему.
— Спасибо, Сара, вы золото!
XIII
— Он слишком несправедлив, — сказал Борис.
— Да, — согласилась Ивиш, — если он воображает, будто оказал
Лоле услугу!..
Она коротко засмеялась, и Борис удовлетворенно замолчал:
никто его не понимал так хорошо, как сестра. Он повернул голову к
лестнице, ведущей к туалетным комнатам, и сурово подумал: «Он
хватил лишку. Нельзя говорить так, как он говорил со мной. Я ему
не Уртигер». Он смотрел на лестницу и надеялся, что, поднимаясь,
Матье улыбнется ему. Матье появился, он вышел, не глядя на них,
и у Бориса екнуло сердце.
— У него гордый вид, — заметил он.
— У кого?
— У Матье. Он только что прошел.
Ивиш не ответила. Она безучастно смотрела на свою
перевязанную руку.
— Он сердится на меня, — сказал Борис. — Он считает меня
аморальным.
— Да, — подхватила Ивиш, — но это у него пройдет. — Она
пожала плечами. — Не люблю, когда он строит из себя моралиста.
— А я люблю, — сказал Борис и после раздумья добавил: — Но
я нравственнее его.
— Пф! — фыркнула Ивиш. Она немного раскачивалась на
скамейке и выглядела глуповатой и толстощекой. Она сказала
озорным тоном: — Я на мораль плюю с высокой колокольни. С высокой
колокольни.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
227
Борис почувствовал себя одиноко. Он хотел бы приблизиться к
Ивиш, но между ними все еще был Матье. Борис сказал:
— Он несправедлив. Он мне не дал объясниться.
По обыкновению, Борис не стал возражать, но он считал, что
Матье, когда тот в духе, можно все объяснить. Борису всегда
казалось, что они с Ивиш говорят о разных людях: Матье в
представлении Ивиш был каким-то бесцветным.
Ивиш улыбнулась.
— Какой у тебя упрямый вид, мой маленький ослик.
Борис не ответил, он пережевывал то, что должен был сказать
Матье: он вовсе не подлый эгоист, он испытал ужасное потрясение,
когда решил, что Лола умерла. Он даже смутно предвидел момент,
когда начнет страдать, и это его покоробило. Борис считал
страдание аморальным, к тому же он действительно был не в силах его
переносить. Он себя к нему принуждал — из моральных
соображений, но на этот раз что-то заклинило, произошел какой-то сбой, и
теперь нужно было ждать, чтобы то состояние вернулось.
— Забавно, — сказал он, — когда я теперь думаю о Лоле, она мне
кажется старушкой.
Ивиш засмеялась, и Борис недовольно скривился. Он добавил
справедливости ради:
— Да, сейчас ей невесело.
— Надо думать.
— Не хочу, чтоб она страдала.
— Что ж, тогда отправляйся к ней, — певуче произнесла Ивиш.
Он понял, что она расставляет ему ловушку, и быстро ответил:
— Нет, не пойду. Прежде всего она... я все время вижу ее
мертвой. И потом не хочу, чтоб Матье воображал, будто он может
вертеть мною, как каким-нибудь остолопом.
В этом он не уступит, он не какой-нибудь Уртигер. Ивиш мягко
сказала:
— Пожалуй, это правда, он вертит тобой, как остолопом.
Это была подлость; Борис констатировал это без злости: у Ивиш
были добрые намерения, она хотела, чтобы он порвал с Лолой ради
его же блага. Все всегда действовали ради блага Бориса. Только это
благо видоизменялось вместе с персонами благожелателей.
— Я только делаю вид, что это так, — спокойно возразил он. —
Такова моя тактика с ним.
Борис был задет за живое и поэтому злился на Матье. Он
поерзал на скамейке, Ивиш с беспокойством посмотрела на него.
228
Жан Поль Сартр
— Дурачок мой, ты слишком впечатлителен, — сказала она. —
Тебе просто нужно представить, что она действительно умерла.
— Да, это было бы удобно, но я так не могу, — признался Борис.
— Чудно, — весело сказала она, — а я могу. У меня так: с глаз
долой — из сердца вон.
Борис восхитился сестрой и замолчал: он чувствовал себя
неспособным к такой душевной силе. Через некоторое время он
сказал:
— Интересно, взял ли он деньги? Вот было бы здорово!
— Какие деньги?
— Деньги Лолы. Ему нужно пять тысяч франков.
— Да ну!
У Ивиш был заинтригованный и недовольный вид. Борис
подумал, что лучше б было попридержать язык. Вообще-то они
условились говорить друг другу все, но время от времени можно было
делать маленькое исключение из правила.
— Ты, кажется, сердишься на Матье? — заметил он.
Ивиш поджала губы.
— Он действует мне на нервы, — сказала она. — Сегодня утром
он пытался корчить из себя мужчину.
— Ага... — кивнул Борис.
Он не совсем понял, что Ивиш хотела этим сказать, но не подал
виду: они должны понимать друг друга с полуслова, иначе
очарование исчезнет. Наступило молчание, затем Ивиш резко произнесла:
— Пойдем отсюда. Терпеть не могу это кафе.
— Я тоже.
Они встали и вышли. Ивиш взяла Бориса за руку. Бориса явно
подташнивало.
— Ты считаешь, он долго будет злиться? — спросил Борис.
— Да нет же, нет, — нетерпеливо заверила его Ивиш.
Борис с ехидцей сказал:
— Кстати, он злится и на тебя.
Ивиш засмеялась:
— Вполне возможно. Но об этом я пожалею позже. А пока что у
меня другие заботы.
— Это верно, — смущенно проговорил Борис. — Ты здорово
волнуешься?
— Чертовски.
— Из-за экзамена?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
229
Ивиш передернула плечами и не ответила. Они прошли
несколько шагов в молчании. Борис думал: действительно ли это из-за
экзамена? Он бы этого хотел: так было бы нравственнее.
Он поднял глаза и увидел бульвар Монпарнас, осиянный
сероватым светом, во всем его великолепии. Можно было подумать, что
на дворе октябрь. Борис очень любил этот месяц. Он подумал: «В
прошлом октябре я не был знаком с Лолой». И тут он почувствовал
облегчение: «Она жива». В первый раз с тех пор, как он оставил ее
труп в темной комнате, он почувствовал, что она жива, это было
похоже на воскрешение. Он подумал: «Матье не будет на меня
долго сердиться, ведь она не умерла». До этой минуты он знал, что
она страдала, что она с тревогой ждала его, но это страдание и эта
тревога казались ему какими-то застывшими и непоправимыми, как
тревога и страдание умерших в отчаянии. Но здесь не то: Лола жила,
лежала с открытыми глазами на своей кровати, в ней обитал живой
гнев, подобный тому, который ею овладевал каждый раз, когда он
опаздывал на свидание. Гнев, как и всякий другой, ну разве что чуть
более сильный. Борис не имеет по отношению к ней тех
неопределенных и грозных обязательств, которые налагают мертвые, но
некие обязательства, смахивающие на семейные, все же были. Теперь
Борис мог вспоминать лицо Лолы без ужаса. Это было не лицо
покойницы, всплывающее в памяти, но лицо молодое и разгневанное,
которое она обратила к нему вчера, крича: «Ты меня обманул, ты не
видел Пикара!» В то же время он затаил злобу на эту мнимую
покойницу, вызвавшую такие потрясения. Он сказал:
— Я не вернусь в свою гостиницу: она вполне способна туда
заявиться.
— Тогда переночуй у Клода.
— Так я и сделаю.
У Ивиш возникла идея.
— Напиши ей. Это более пристойно.
— Лоле? Ну уж нет!
— Напиши.
— Я не знаю что.
— Я тебе составлю письмо, дурачок.
— Но для чего?
Ивиш удивленно поглядела на него.
— Как, разве ты не хочешь с ней порвать?
— Не знаю.
230
Жан Поль Сартр
Ивиш казалась раздраженной, но не стала настаивать. Она
никогда не настаивала, это было ее особенностью. Но так или иначе,
между Матье и Ивиш Борис должен был играть осторожно: сейчас
желания потерять Лолу у него было не больше, чем ее увидеть.
— Посмотрим, — сказал он. — А пока нечего думать об этом.
На бульваре было хорошо, люди выглядели добряками, он их
почти всех знал в лицо. На витринах «Клозри де Лила» играл
веселый солнечный зайчик.
— Хочу есть, — сказала Ивиш, — пойду позавтракаю.
Она вошла в бакалейный магазин Демариа. Борис ждал ее на
улице. Он чувствовал себя слабым и растроганным, точно
выздоравливающий, и прикидывал, о чем бы подумать, чтобы доставить
себе маленькую радость. Внезапно его выбор пал на «Исторический
и этимологический словарь воровского жаргона и арго». И он
возрадовался. Словарь лежал теперь на его ночном столике, заполняя
его целиком. «Это часть обстановки, — вдохновенно подумал он, —
я искусно провел операцию». И поскольку счастье никогда не
приходит одно, он подумал о ноже, вынул его из кармана и открыл. «Я
везучий!» Он купил его только накануне, но этот нож уже имел
свою историю, он пронзил плоть двух самых дорогих для него
людей. «Он чертовски хорошо режет», — подумал Борис. Мимо
прошла какая-то женщина и пристально посмотрела на Бориса. Она
была просто потрясающе хорошо одета. Борис обернулся, чтобы
увидеть ее со спины: она тоже обернулась, и они с симпатией
поглядели друг на друга.
— Вот и я, — сказала Ивиш.
В руках у нее были два больших яблока. Она потерла одно о
свой зад и, когда оно стало совсем блестящим, впилась в него
зубами, протянув другое Борису.
— Нет, спасибо, — отказался Борис. — Я не хочу есть.
Он добавил:
— Ты меня шокируешь.
— Почему?
— Ты вытираешь яблоки о зад.
— Чтобы до блеска.
— Посмотри на ту женщину, ту, которая уходит, — сказал
Борис. — Я ей понравился.
Ивиш с добродушным видом жевала.
— Где? — спросила она с набитым ртом.
— Вон там, — сказал Борис, — сзади тебя.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
231
Ивиш обернулась и подняла брови.
— Красивая, — спокойно признала она.
— Видела, какие на ней шмотки? Клянусь тебе, у меня
обязательно будет такая женщина, из высшего света. Это должно быть
потрясающе.
Ивиш смотрела на удаляющуюся женщину. В каждой руке у
Ивиш было по яблоку, казалось, она ей их протягивает.
— Когда я от нее устану, то передам ее тебе, — великодушно
сказал Борис.
Ивиш укусила яблоко.
— Еще чего!
Она взяла его за руку и резко увлекла за собой. На другой
стороне бульвара Монпарнас был японский магазин. Они пересекли
мостовую и остановились у витрины.
— Посмотри на те маленькие бокалы, — сказала Ивиш.
— Это для саке, — пояснил Борис.
— Что это?
— Рисовая водка.
— Я их куплю и сделаю из них чайные чашки.
— Они слишком маленькие.
— А я буду наливать много раз подряд.
— Или все шесть сразу.
— Да! — восторженно согласилась Ивиш. — Передо мной будет
шесть маленьких чашечек, и я буду пить то из одной, то из другой.
Она слегка отошла назад и сквозь зубы страстно выдохнула:
— Так бы и закупила всю лавку!
Борис порицал вкус сестры, ее любовь к подобным безделушкам.
И все-таки он захотел войти в магазин, но Ивиш его удержала.
— Не сегодня. Пошли.
Они направились вверх по улице Данфер-Рошро, и Ивиш
сказала:
— Чтобы иметь полную — до краев! — комнату таких маленьких
штучек, я бы продалась какому-нибудь старику.
— Ты не сумеешь, — строго ответил Борис. — Это целое ремесло.
Ему надо учиться.
Они шли медленно, это были минуты счастья; Ивиш
определенно забыла об экзамене, она была весела. В подобные мгновения
Борису казалось, что они составляют одно целое. На голубом фоне
неба плыли белые курчавые облака; листва деревьев отяжелела от
дождя, пахло дымом, как на главной деревенской улице.
232
Жан Поль Сартр
— Я люблю такую погоду, — сказала Ивиш, принимаясь за
другое яблоко. — Немного влажно, но не липко. И потом не режет
глаза. Я чувствую, что могу пройти километров двадцать.
Борис незаметно удостоверился, есть ли поблизости кафе. Не
было еще случая, чтобы Ивиш незамедлительно не захотела есть,
когда она заговаривала о двадцатикилометровом пешем переходе.
Она посмотрела на льва Бельфора* и восторженно воскликнула:
— Этот лев мне нравится! Он похож на колдуна.
— Гм! — хмыкнул Борис.
Он уважал вкусы сестры, даже если не разделял их. Впрочем,
Матье однажды сказал Борису: «У вашей сестры дурной вкус, но
это лучше, чем самый верный вкус: у нее органически дурной вкус».
А раз так, то не стоило и спорить. Что до самого Бориса, то он
скорее был восприимчив к красоте классической.
— Пойдем по бульвару Араго? — предложил Борис.
— А где он?
— Вон тот.
— Пойдем, — согласилась Ивиш, — он весь так и сияет.
Они шли молча. Борис заметил, что сестра понемногу мрачнеет
и начинает нервничать. Она шла, нарочно заплетая ногами.
«Сейчас начнется агония», — подумал он с покорным испугом.
У Ивиш агония начиналась каждый раз, когда она ждала
результатов экзамена. Он поднял глаза и увидел четырех рабочих: те шли
им навстречу и, посмеиваясь, смотрели на них. Борис привык к
этим смешкам, он смотрел на рабочих с симпатией. Ивиш опустила
голову, делая вид, что не видит их. Поравнявшись с ними, молодые
люди разделились: двое шли слева от Бориса, двое других — справа
от Ивиш.
— Привет прокладкам! — пошутил один из них.
— Грубиян, — вежливо сказал Борис.
Ивиш подскочила и пронзительно взвизгнула, но тут же
смолкла, прикрыв рот ладонью.
— Я веду себя, как кухарка, — сказала она, краснея от смущения.
Молодые рабочие были уже далеко.
— Что случилось? — удивился Борис.
— Он меня ущипнул, — с отвращением пояснила Ивиш. —
Грязный ублюдок.
* Лев Бельфора — монумент в честь героической защиты полковником
Данфер-Рошро крепости Бельфор во время франко-прусской войны (1870—
1871).
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
233
Она сурово добавила:
— И все равно я не должна была кричать.
— Который из них? — всполошился Борис.
— Прошу тебя, успокойся. Их четверо. А я и без того была
достаточно смешна.
— Дело не в том, что он тебя ущипнул, — горячился Борис. — Я
не могу выносить, если с тобой так поступают, когда я рядом. Ведь
когда ты с Матье, к тебе не пристают. Неужели я так выгляжу, что...
— Да, мой дурачок, — грустно сказала Ивиш. — Я тоже тебя не
оберегаю. Вид у нас с тобой не слишком внушительный.
Это была правда. Борис часто этому удивлялся: когда он
смотрелся в зеркало, то казался сам себе довольно грозным.
— Да, не слишком внушительный, — повторил он.
Они прижались друг к другу и почувствовали себя сиротами.
— Что это? — через некоторое время спросила Ивиш.
Она показала на длинную глухую стену, черневшую сквозь
зелень каштанов.
— Это Сантэ, — ответил Борис. — Тюрьма.
— Потрясающе! — воскликнула Ивиш. — Никогда не видела
ничего более зловещего. Оттуда бегут?
— Редко, — сказал Борис. — Я читал, что как-то один
заключенный перемахнул через стену. Он уцепился за толстую ветку
каштана и потом дал деру.
Ивиш подумала и показала пальцем на каштан.
— Наверное, этот, — предположила она. — Сядем вон на ту
скамейку. Я устала. А вдруг увидим, как прыгает еще один беглец?
— Возможно, — с сомнением сказал Борис. — Но знаешь, они
вообще-то это делают ночью.
Они пересекли мостовую и сели. Скамейка была влажная.
Ивиш с удовлетворением отметила:
— Свежо.
Она сразу же стала вертеться и теребить себе волосы. Борис
похлопал ее по руке, чтоб она не оборвала прядей.
— Пощупай мою руку, — предложила Ивиш, — она ледяная.
Это была правда. Ивиш сделалась мертвенно-бледной, вид у нее
был невероятно страдающий; ее всю била мелкая дрожь. Борис
увидел сестру такой печальной, что из сочувствия попытался
перевести мысли на Лолу.
Ивиш резко подняла голову и спросила у него с мрачной
решимостью:
234
Жан Поль Сартр
— Кости с тобой?
-Да.
Матье как-то подарил Ивиш игру «в пять костей», кубики
хранились в маленьком кожаном мешочке. Ивиш передарила его
Борису. Они часто играли вдвоем.
— Сыграем? — предложила она.
Борис вынул кубики из мешочка. Ивиш добавила:
— Две партии и одну решающую. Начинай.
Они отодвинулись друг от друга. Борис присел на корточки и
бросил кости на скамейку. У него получился королевский набор.
— Набор! — объявил он.
— Я тебя ненавижу, — пробормотала Ивиш.
Она нахмурила брови и перед тем, как бросить кости, дунула на
пальцы, прошептав что-то вроде заклинания. «Это серьезно, —
подумал Борис, — она играет на результат экзамена». Ивиш бросила
кости и проиграла.
— Вторую партию, — сказала она, глядя на Бориса сверкающими
глазами.
На этот раз королевский набор выпал у нее.
— Набор! — в свою очередь, объявила она.
Борис бросил кости. У него тоже выпал набор. Но, как только
кости упали, он протянул руку под предлогом, что хочет их собрать,
и незаметно перевернул две кости указательным и средним пальцем.
— Осечка! — воскликнул он раздосадованно.
— Я выиграла, — торжествующе заявила Ивиш. — Теперь
решающую.
Борис подумал: не заметила ли она, как он сплутовал? Но это
не имело особого значения: Ивиш интересовалась только
результатом. На сей раз она выиграла без его вмешательства.
— Прекрасно! — довольно сказала она.
— Хочешь сыграть еще?
— Нет, хватит. Знаешь, я играла, чтобы узнать, приняли меня
или нет.
— Вот как! Ну, значит, приняли.
Ивиш пожала плечами.
— Не верю.
Они замолкли и сидели бок о бок, опустив головы. Борис не
смотрел на Ивиш, но чувствовал, что она дрожит.
— Мне жарко, — сказала Ивиш, — какой ужас: у меня влажные
руки, я вся от волнения влажная.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
235
Действительно, ее правая рука, только что такая холодная, теперь
пылала. Левая, неподвижная и забинтованная, лежала на коленях.
— Эта повязка вызывает у меня отвращение, — сказала она. — У
меня вид раненого на войне, мне хочется ее сорвать.
Борис не ответил. Вдалеке один раз пробили часы. Ивиш
вздрогнула.
— Это... это половина первого? — растерянно спросила она.
— Половина второго, — сказал Борис, взглянув на свои часы.
Они посмотрели друг на друга, и Борис сказал:
— Ну вот, теперь мне пора идти.
Ивиш приникла к нему, обняла его за плечи.
— Не ходи, Борис, дурачок мой, я ничего не хочу знать, я
сегодня вечером уеду в Лаон, и я... Я не хочу ничего знать.
— Не мели чепухи, — нежно возразил Борис. — Перед тем как
увидеть родителей, ты должна знать все как есть. Ивиш опустила
руки.
— Тогда иди, — сказала она. — Но возвращайся как можно
быстрее, я подожду тебя здесь.
— Здесь? — озадаченно спросил Борис. — Разве ты не хочешь
пойти со мной? Ты бы меня подождала в кафе в Латинском
квартале.
— Нет, — отрезала Ивиш, — я буду ждать тебя здесь.
— Как хочешь. А если начнется дождь?
— Борис, не терзай меня, иди быстрее. Я останусь здесь, пусть
хоть дождь, пусть хоть землетрясение, я не смогу встать на ноги, у
меня нет сил и пальцем пошевелить.
Борис встал и торопливо удалился. Пересекая улицу, он
обернулся. Он видел Ивиш со спины: съежившись на скамейке, вобрав
голову в плечи, она была похожа на старую нищенку. «В конце
концов, возможно, ее и приняли», — сказал он себе. Он сделал
несколько шагов и вдруг представил себе лицо Лолы. Настоящее. Он
подумал: «Она несчастна!» — и сердце его забилось сильнее.
XIV
Через мгновение. Через мгновение он снова пустится на свои
бесплодные поиски; через мгновение, преследуемый злыми
измученными глазами Марсель, скрытным лицом Ивиш, посмертной
маской Лолы, он ощутит горький привкус во рту, тревога скрутит
236
Жан Поль Сартр
ему желудок. Через мгновение. Он сел в кресло, зажег трубку: он
был пуст и спокоен, он отдавался темной прохладе бара. Столами
здесь служили лакированные бочки, по стенам развешаны
фотографии актрис и матросские береты, невидимый радиоприемник
журчит, как фонтан, в глубине зала красивые богатые господа курят
сигары и попивают портвейн — последние посетители, деловые
люди, другие уже давно ушли завтракать; была половина второго,
но легко можно представить себе, что еще утро; однако это был день,
спокойный, как безопасное море. Матье растворился в этом
безмятежном море, он был едва различимой мелодией негритянского
спиричуэла, разноголосым шумом, желтоватым ржавым светом,
покачиванием всех этих красивых, хирургически чистых рук,
держащих сигары, рук, похожих на каравеллы, груженные пряностями.
Он хорошо осознавал, что ему всего лишь давали взаймы этот
крохотный кусочек безмятежной жизни, который предстоит скоро
вернуть, но он пользовался им без жадности: пропащим людям мир
припасает малую толику крохотного счастья, это для них он хранит
большую часть своих мимолетных милостей при условии, чтоб они
наслаждались ими смиренно. Даниель сидел слева от него,
торжественный и молчаливый. Матье мог в свое удовольствие созерцать
его красивое лицо арабского шейха, это тоже было маленькой
радостью для глаз. Матье вытянул ноги и про себя улыбнулся.
— Попробуй их херес — не пожалеешь, — сказал Даниель.
— Идет. Только, чур, ты меня угощаешь: я без гроша.
— Хорошо, угощаю, — живо ответил Даниель. — Но скажи:
хочешь, одолжу тебе двести франков? Право, мне неловко предлагать
тебе так мало...
— Брось! — оборвал его Матье. — Об этом не стоит и говорить.
Даниель повернул к нему большие ласковые глаза. Он настаивал:
— Прошу тебя. У меня четыреста франков до конца недели, мы
их разделим.
Нужно было решительно отказаться, этого требовали правила
игры.
— Нет, — сказал Матье. — Спасибо, ты очень любезен.
Даниель устремил на него отягощенный заботой взор.
— Тебе действительно ничего не нужно?
— Нужно, — возразил Матье, — мне нужно пять тысяч франков.
Но не сейчас. Сейчас мне нужны херес и твоя беседа.
— Хотелось бы, чтоб моя беседа была на уровне хереса, — сказал
Даниель.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
237
Он не проронил ни слова о своем письме по пневматической почте
и о причинах, которые его толкнули вызвать Матье. Матье по-своему
был ему за это благодарен: так или иначе, скоро все прояснится.
— Знаешь, я вчера видел Брюне.
— Правда? — вежливо поинтересовался Даниель.
— Думаю, на этот раз между нами все кончено.
— Вы поспорили?
— Не поспорили. Хуже.
Даниель напустил на себя сокрушенный вид, и Матье не смог
удержать улыбки.
— Тебе плевать на Брюне? — спросил он.
— Знаешь ли... я никогда не был с ним так близок, как ты, —
ответил Даниель. — Я его очень уважаю, но, будь моя воля, набил бы
его соломой и выставил в антропологическом музее, в зале
«Двадцатый век».
— Он бы там неплохо смотрелся, — заметил Матье.
Даниель покривил душой: когда-то он очень любил Брюне.
Матье попробовал херес и сказал:
— Хорош.
— Да, — согласился Даниель. — Это у них лучший. Но их запасы
истощаются, а обновить нечем из-за войны в Испании.
Он поставил свой пустой бокал и взял с блюдца оливку.
— Знаешь, я хочу тебе исповедаться, — начал Даниель.
Конечно: смиренное и легкое счастье ускользает. Матье скосил
на Даниеля глаза: у того был благородный и проникновенный вид.
— Давай, — ободрил его Матье.
— Я только думаю: какое впечатление это на тебя произведет? —
неуверенным тоном продолжал Даниель. — Я буду огорчен, если ты
рассердишься.
— Говори и ты будешь избавлен от неуверенности, — улыбнулся
Матье.
— Так вот... Угадай, кого я видел вчера вечером?
— Кого ты видел вчера вечером? — разочарованно повторил
Матье. — Откуда мне знать; ты много кого мог видеть.
— Марсель Дюффе.
— Марсель? Вот как.
Матье не был удивлен: Даниель и Марсель виделись нечасто,
но, кажется, Марсель симпатизировала Даниелю.
— Тебе повезло, — сказал он. — Она ведь никуда не выходит. Где
ты ее встретил?
238
Жан Поль Сартр
— У нее дома... — улыбаясь, ответил Даниель, — Где ж еще, раз
она не выходит.
Скромно потупившись, он добавил:
— Если быть откровенным до конца, время от времени мы
видимся.
Наступило молчание. Матье смотрел на длинные черные
ресницы Даниеля, которые слегка трепетали. Часы дважды пробили, негр
тихо пел «There's a cradle in Carolina»*. «Время от времени мы
видимся». Матье отвел взгляд и пристально посмотрел на красный
помпон матросского берета.
— Вы видитесь, — повторил он, не совсем понимая. — Но... где?
— У нее, я же тебе только что сказал, — проговорил Даниель с
оттенком раздражения.
— У нее? Ты хочешь сказать, что ты к ней ходишь?
Даниель не ответил. Матье спросил:
— Что тебе взбрело в голову? Как это случилось?
— Очень просто. Я всегда очень симпатизировал Марсель Дюф-
фе. Я восхищался ее мужеством и благородством.
Он помолчал, и Матье удивленно повторил:
— Мужество Марсель, ее благородство.
Это были не те качества, которые больше всего ценил в ней он.
Даниель продолжал:
— Однажды мне было скучно, у меня возникло желание зайти к
ней, и она меня очень любезно приняла, вот и все; с тех пор мы и
начали видеться. Мы виноваты лишь в том, что скрыли это от тебя.
Матье погрузился в тяжелый аромат, во влажный воздух
розовой комнаты: вот Даниель сидит в кресле, смотрит на Марсель
большими глазами лани, и Марсель неловко улыбается, как будто
ее сейчас будут фотографировать. Матье затряс головой: это не
лезло ни в какие ворота, просто абсурд, у этих двоих не было
абсолютно ничего общего, как они могли друг друга понимать?
— Ты ходишь к ней, и она от меня это скрыла?
Он спокойно поинтересовался:
— Ты меня разыгрываешь?
Даниель поднял глаза и мрачно посмотрел на Матье.
— Матье, — сказал он своим самым глубоким голосом, — ты
должен признать, что я никогда не позволял себе ни малейшей
шутки относительно твоих отношений с Марсель, они слишком
бесценны.
* «В Каролине есть колыбелька» (англ.).
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
239
— Я этого и не говорю, — согласился Матье, — и все же на сей
раз ты шутишь.
Даниель обескураженно опустил руки.
— Ну хорошо, — сказал он грустно, — поставим на этом точку.
— Нет, нет, — сказал Матье, — продолжай, это очень забавно, но
я не слишком верю твоему розыгрышу — только и всего.
— Ты мне не облегчаешь задачу, — с упреком заметил
Даниель. — Мне и без того достаточно тягостно виниться перед тобой. —
Он вздохнул. — Я бы предпочел, чтобы ты поверил мне на слово.
Но раз тебе нужны доказательства...
Он вынул из кармана бумажник, туго набитый ассигнациями.
Матье увидел купюры и подумал: «Какой мерзавец». Но как-то
лениво, по инерции.
— Смотри, — сказал Даниель.
Он протянул Матье письмо. Матье взял его; он узнал почерк
Марсель и прочел:
«Вы, как всегда, правы, мой дорогой Архангел. Это был
действительно барвинок. Но я не понимаю ничего из того, что вы мне
пишете. Раз вы завтра заняты, приходите в субботу. Мама говорит, что
будет вас сильно бранить за конфеты. Приходите скорее, дорогой
Архангел, мы с нетерпением ждем вашего визита. Марсель».
Матье посмотрел на Даниеля. Он сказал:
— Значит... это правда?
Даниель кивнул; он держался прямо, мрачный и корректный,
как секундант на дуэли. Матье прочитал письмо от начала до конца.
Оно было датировано двадцать вторым апреля. «Это написала она».
Этот галантный и игривый стиль так мало ей подходил. Он
озадаченно потер нос, потом расхохотался.
— Архангел! Она тебя называет Архангелом, никогда бы не
додумался! Скорее уж падший архангел, что-то вроде Люцифера. И к
тому же ты навещаешь и мамашу — полный набор.
Даниель казался растерянным.
— Тем лучше, — сказал он сухо. — А я боялся, что ты
рассердишься.
Матье повернулся и неуверенно посмотрел на него, он понял,
что Даниель рассчитывал на его гнев.
— Действительно, — сказал он, — я должен был рассердиться,
это было бы нормально. Заметь: возможно, это еще придет. Но
сейчас я просто ошарашен.
240
Жан Поль Сартр
Он осушил бокал, сам удивляясь тому, что не особенно сердится.
— И часто ты у нее бываешь?
— Нерегулярно, примерно раза два в месяц.
— Но о чем вы говорите?
Даниель вздрогнул, глаза его заблестели.
— Ты что, собираешься предложить нам темы для бесед? —
вымолвил он мягчайшим тоном.
— Не сердись, — примирительно сказал Матье. — Это так ново,
так неожиданно... это меня почти забавляет. Но у меня нет дурных
намерений. Значит, это правда? Вы любите беседовать? Ну не
злись, прошу тебя, я пытаюсь понять, о чем же вы говорите?
— Обо всем, — холодно сказал Даниель. — Очевидно, Марсель
не ждет от меня слишком возвышенных разговоров. Зато она просто
отдыхает.
— Но это невероятно, вы такие разные.
Ему не удавалось отделаться от диковинной картины: Даниель
со своими китайскими церемониями, притворными
комплиментами и благородством в стиле Калиостро, со своей широкой
африканской улыбкой, а напротив него — Марсель, напряженная, неловкая
и преданная... Преданная? Напряженная? Нет, не так уж она
напряжена: «Приходите, Архангел, мы ждем вашего визита». И это
написала Марсель; это она упражнялась в неповоротливых
любезностях. Впервые Матье почувствовал, что его коснулось что-то
вроде гнева. «Она мне врала, — ошеломленно подумал он. — Она
мне врет уже полгода». Он продолжал:
— Меня так удивляет, что Марсель что-то от меня скрыла...
Даниель не ответил.
— Это ты попросил ее молчать? — спросил Матье.
— Я. Я не хотел, чтобы ты направлял наши отношения. Но
теперь, когда я ее достаточно давно знаю, это уже не так важно.
— Значит, это ты попросил ее молчать? — немного спокойнее
повторил Матье. — И она охотно согласилась?
— Это ее очень удивило.
— Да. Но она не отказалась.
— Нет. Она не видела в этом ничего преступного. Помню, она
засмеялась и сказала: «Это вопрос совести». Она считает, что я
люблю окружать себя тайной, — добавил он со скрытой иронией,
которая была очень неприятна Матье. — Сначала она называла меня
Лоэнгрином. Потом, как видишь, ее выбор остановился на
Архангеле.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
241
— Да, — буркнул Матье. Он подумал: «Даниель смеется над
ней» — и почувствовал себя униженным за Марсель. Трубка его
погасла, он протянул руку и машинально взял оливку. Это было
серьезно: он не чувствовал себя достаточно удрученным. Его
охватило умственное оцепенение — так случается, когда вдруг
обнаруживаешь, что ошибался сразу во всем... Но раньше в нем было нечто
живое, и оно бы закровоточило. Он тусклым голосом произнес:
— Мы друг другу говорили все...
— Это ты так думаешь, — возразил Даниель. — Разве можно
говорить все?
Матье раздраженно пожал плечами. Но злился он главным
образом на себя.
— А это письмо! — сказал он. — «Мы ждем вашего визита»! Мне
кажется, что я открываю для себя другую Марсель.
Даниель испугался.
— «Другую Марсель», куда тебя занесло! Послушай, не будешь
же ты из-за какого-то ее ребячества...
— Ты сам меня недавно упрекнул в том, что я слишком серьезно
все воспринимаю.
— Ты бросаешься из одной крайности в другую, — упрекнул
Даниель. Он продолжал с видом сердечного понимания: — Ты
слишком доверяешь своим суждениям о людях. Эта маленькая
история доказывает только, что Марсель сложнее, чем ты думал.
— Может быть, — проговорил Матье. — Но тут есть другое...
Марсель была виновата, и он боялся дать волю гневу: нельзя
терять доверия к ней именно сегодня, когда он, вероятно, будет
вынужден принести ей в жертву свою свободу. Ему необходимо
уважать ее, иначе все слишком осложнится.
— Впрочем, — сказал Даниель, — мы все время собирались тебе
признаться, но так нелепо было выглядеть заговорщиками, что мы
откладывали это со дня на день.
«Мы»! Он говорил «мы»; другой мог употреблять «мы», говоря
ему о Марсель. Матье неприязненно посмотрел на Даниеля:
наступило время его ненавидеть. Но Даниель был, как всегда,
обезоруживающе мил. Матье резко спросил:
— Почему она так поступила?
— Но я же тебе говорил, — ответил Даниель, — потому что я ее
об этом попросил. И потом ее, видимо, забавляло, что у нее есть от
тебя тайна.
Матье покачал головой.
242
Жан Поль Сартр
— Нет. Здесь что-то другое. Она не просто так это сделала.
Почему она так поступила?
— Но... — начал Даниель, — я полагаю, что не всегда удобно жить
в твоем сиянии. Она нашла для себя тенистый уголок.
— Она считает, что я ее подавляю?
— Она мне не сказала этого определенно, но так я ее понял. Чего
ты хочешь, ты сила, — добавил он, улыбаясь. — Заметь, что она
восхищается тобой, она восхищается твоим принципом жить в
прозрачном доме и постоянно оглашать то, о чем обычно молчат; но это
ее истощает. Она тебе не говорила о моих визитах, потому что
боялась, что ты вторгнешься в ее чувства ко мне, заставишь ее дать им
название, разрушишь их и потом будешь выдавать по крохам. Ты
ведь знаешь: чувства нуждаются в тайне... Это нечто смутное,
трудноопределимое...
— Она тебе так сказала?
— Да. Она мне так сказала. Она мне сказала: «Меня забавляет,
что с вами я совсем не знаю, куда иду. С Матье я это знаю всегда».
«С Матье я это знаю всегда». Совсем как Ивиш: «С вами никогда
не боишься непредвиденного». Матье затошнило от отвращения.
— Почему она никогда не говорила обо всем этом со мной?
— По ее словам, только потому, что ты у нее никогда не
спрашиваешь.
Это была правда. Матье опустил голову: каждый раз, когда
нужно было углубиться в чувства Марсель, его охватывала
неодолимая лень. Заметив тень в ее глазах, он только пожимал плечами:
«Полно! Если б что-то было, она бы мне сказала, она мне говорит
все. И это я называл своей верой в нее. Я сам во всем виноват».
Он встряхнулся и резко сказал:
— Почему ты признался мне именно сегодня?
— Но ведь все равно рано или поздно пришлось бы.
Этот уклончивый ответ как бы подстегивал его любопытство. И
Матье хорошо понял намерение Даниеля.
— Почему сегодня и почему ты? — продолжал он. — Было бы...
естественнее, если бы первой мне сказала она.
— Ну, — Даниель деланно растерялся, — возможно, я ошибся, но
я... я подумал, что речь идет о ваших общих интересах.
Хорошо. Матье напрягся: «Готовься к неприятностям, Матье,
это только начало». Даниель продолжил:
— Я хочу тебе сказать правду: Марсель не знает, что я тебе все
рассказал, и еще вчера была не уверена, что так скоро введет тебя в
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
243
курс дела. Ты очень меня обяжешь, если тщательно скроешь от нее
наш разговор.
Матье невольно рассмеялся.
— Вот ты и обнаружил себя, Люцифер! Ты повсюду сеешь
тайны. Еще вчера ты сговаривался с Марсель против меня, а сегодня
просишь моего сообщничества против нее. Из тебя получается
оригинальный предатель.
Даниель улыбнулся.
— Во мне нет ничего от Люцифера. А признаться меня
побудило беспокойство, которое я испытал вчера вечером. Мне показалось,
что между вами возникло серьезное недоразумение. Естественно,
Марсель слишком горда и сама не скажет тебе об этом.
Матье крепко сжал бокал: он начинал понимать.
— Это по поводу вашей... — Даниель стыдливо запнулся, —
вашей неприятности.
— А! — протянул Матье. — Ты сказал ей, что знаешь?
— Нет-нет. Я ей ничего не сказал. Она заговорила первой.
— Ага. — «Еще вчера, разговаривая со мной по телефону, она
опасалась, что я ему скажу. И в тот же вечер сама ему все открыла.
Одной комедией больше». — Так что?
— Все не так просто.
— Что дает тебе основание так думать? — сдавленно спросил
Матье.
— Ничего определенного... ну, может, то, как она мне
представила события.
— А что такое? Она сердится, что я ей сделал ребенка?
— Не думаю. Тут другое. Скорее твое позавчерашнее поведение.
Она говорила о нем с обидой.
— Что же я такого сделал?
— Не могу сказать в точности. Слушай, вот что она сказала
среди прочего: «Решает всегда он, а если я с ним не согласна, значит, я
против — так у нас условлено. Но все решается в его пользу, потому
что его мнение уже сложилось и он не оставляет мне времени
сформировать свое». Не ручаюсь за точность изложения.
— Но мне не нужно было принимать решения, — удивился
Матье. — Мы всегда были согласны по поводу того, как поступать в
подобных случаях.
— Да. Но ты не побеспокоился узнать ее мнение позавчера?
— Это верно, — признал Матье. — Но я был уверен, что она со
мной согласна.
244
Жан Поль Сартр
— Но ты все-таки у нее ни о чем не спросил. Когда вы последний
раз обсуждали такую... ситуацию?
— Не знаю. Два или три года назад.
— Два или три года. А ты не думаешь, что Марсель с тех пор
могла изменить свое мнение?
Господа в глубине зала встали и, смеясь, прощались друг с
другом, посыльный принес их шляпы — три черные фетровые и один
котелок. Они вышли, обменявшись дружескими жестами с
барменом, и официант выключил радио. Бар погрузился в суховатую
тишину, в воздухе витал запашок бедствия. «Это плохо
кончится», — подумал Матье. Он не совсем понимал, что именно плохо
кончится: этот бурный день, история с абортом, его отношения с
Марсель? Нет, что-то более неопределенное, более значительное:
его жизнь, Европа, этот зловещий и пошлый мир. Он представил
себе рыжие волосы Брюне: «В сентябре будет война». В такой
момент в пустынном и темном баре начинаешь в это почти верить.
Этим летом в его жизнь проникла какая-то гнильца.
— Она боится операции? — спросил он.
— Не знаю, — отстраненно сказал Даниель.
— Она хочет, чтобы я на ней женился?
Даниель засмеялся.
— Чего не знаю — того не знаю. Ты слишком многого от меня
хочешь. Во всяком случае, все не так просто. Знаешь что? Ты
должен сегодня вечером с ней поговорить. Разумеется, не намекая на
меня, просто как будто у тебя появились сомнения. Судя по
вчерашнему ее виду, даже странно, почему она сама тебе всего не скажет: у
нее тяжело на сердце.
— Хорошо. Попытаюсь вызвать ее на откровенность.
Наступило молчание, потом Даниель смущенно добавил:
— Ну вот, я тебя уведомил.
— Да. Спасибо и на том, — сказал Матье.
— Ты на меня сердишься?
— Отнюдь. Ты мне оказал именно такую услугу, о которой
говорят: как кирпич на голову.
Даниель расхохотался: он так широко открывал рот, что видны
были ослепительные зубы и гортань.
«Я не должна была, — думала она, положив руку на телефонную
трубку, — я не должна была, мы всегда друг другу говорили все, он
теперь думает: Марсель мне говорила все, да, он это думает, он те-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
245
перь знает, он знает, в его голове мрачное недоумение, и этот
неслышный голос в его голове, Марсель всегда мне говорила все, в
этот момент он думает обо мне, это невыносимо, в сто раз лучше,
если б он меня ненавидел, но он сидел там, на скамейке кафе,
расставив руки, как будто что-то уронил, устремив взгляд на пол, как
будто там что-то разбилось. Свершилось, разговор произошел, я
ничего не видела, ничего не слышала, меня там не было, я ничего не
знала, а разговор состоялся, он был, все слова сказаны, а я ничего
не знаю, его сдержанный голос поднимался, как дым, к потолку
кафе, голос придет оттуда, звучный серьезный голос, от которого
всегда дрожит мембрана трубки, он выйдет из нее, он скажет:
свершилось; Боже мой, Боже мой, что он мне скажет? Я обнажена, я
беременна, а этот голос выйдет полностью одетым из белой трубки,
мы не должны были, мы не должны были, — она почти сердилась
на Даниеля, если бы было возможно на него сердиться, — он был
так великодушен, он один беспокоится обо мне, он взял мое дело в
свои руки, Архангел, он говорил о моем деле своим прекрасным
голосом. Женщина, слабая женщина, совсем слабая и защищенная
в этом мире живых людей только мрачным и теплым голосом, голос
выйдет оттуда, он скажет: «Марсель мне говорила все», — бедный
Матье, милый Архангел!» Она подумала: «Архангел», — и ее глаза
увлажнились, сладкие слезы, слезы изобилия и плодородия, слезы
настоящей женщины после восьми засушливых дней, слезы
нежной, нежной защищенной женщины. «Он меня обнял, погладил,
защитил с мерцающей влагой в глазах, с лаской в извивающейся
бороздке на щеках и дрожащей улыбкой на губах». Восемь дней она
смотрела пустыми и сухими глазами в одну точку вдалеке: «Они
мне его убьют, восемь дней я была Марсель ясная, Марсель твердая,
Марсель благоразумная, Марсель-мужчина, он говорил, что я
мужчина, и вот влага, слабая женщина с дождем в глазах, к чему
сопротивляться, завтра я снова буду твердой и благоразумной, один-
единственный раз слезы и муки, сладкая жалость к себе и еще более
сладкое смирение, эти бархатные руки на моих бедрах, на моих
ягодицах, ей хотелось обнять Матье, на коленях попросить у него
прощения: бедный Матье, мой бедный крепыш. Один раз, один-
единственный раз быть защищенной и прощенной, как это хорошо.
Вдруг некая мысль резко сдавила ей горло, уксус тек в ее жилах,
сегодня вечером, когда он войдет ко мне, когда я обниму его за шею,
поцелую, он все будет знать, и нужно будет делать вид, будто я не
знаю о том, что он знает. Ах! Мы обманываем его, — в отчаянии по-
246
Жан Поль Сартр
думала она, — мы еще обманываем его, мы ему говорим все, но наша
искренность отравлена. Он знает, он войдет сегодня вечером, я
увижу его добрые глаза, я буду думать: он знает, и как я смогу это
вынести, мой крепыш, мой бедный крепыш, в первый раз за всю мою
жизнь я тебе сделала больно, ах, я соглашусь на все, я пойду к бабке,
я убью ребенка, мне стыдно, я сделаю все, что он захочет, все, что
ты захочешь».
Под ее пальцами зазвонил телефон, она сжала трубку.
— Алло! — сказала она. — Алло, это Даниель?
— Да, — ответил бархатный, спокойный голос. — Кто у
телефона?
— Марсель.
— Здравствуйте, дорогая моя Марсель.
— Здравствуйте, — сказала Марсель. Сердце ее гулко билось.
— Вы хорошо спали? — Серьезный голос отозвался у нее в
животе, это было сладостно и невыносимо. — Вчера вечером я ушел от
вас ужасно поздно. Мадам Дюффе, наверно, отругала бы меня. Но,
надеюсь, она ничего не знает.
— Нет, — задыхаясь, проговорила Марсель, — она ничего не
знает. Она очень крепко спала, когда вы уходили...
— А вы? — настаивал нежный голос. — Как спали вы?
— Я? Ну... неплохо... Я, знаете, волнуюсь...
Даниель засмеялся, это был царственный, роскошный смех,
спокойный и громкий. Марсель немного расслабилась.
— Не нужно волноваться, — сказал он. — Все прошло отменно.
— Все... это правда?
— Правда. Даже лучше, чем я ожидал. Дорогая Марсель, мы
недооценивали Матье.
Марсель почувствовала острый укол совести.
— Правда? Правда, что мы его недооценивали?
— Он меня остановил при первых же словах, — заговорил
Даниель. — Он сказал мне, что догадался о ваших переживаниях, и это
терзало его весь вчерашний день.
— Вы... вы ему объяснили, что мы видимся? — сдавленным
голосом спросила Марсель.
— Естественно, — удивился Даниель. — Разве мы на этот счет
не условились?
— Да... да... Как он это воспринял?
Даниель, казалось, колебался.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
247
— Очень хорошо. В конечном счете очень хорошо. Сначала он
не мог поверить...
— Наверняка он вам сказал: «Марсель мне говорила все».
— Так и есть. — Даниель как будто развеселился. — Он мне
сказал именно это.
— Даниель! — воскликнула Марсель. — Меня мучат угрызения
совести!
Она снова услышала глубокий веселый смех.
— Какое совпадение: его тоже. Он ушел, терзаемый муками
совести. А раз вы оба в таком расположении духа, я бы очень хотел
спрятаться где-нибудь в вашей комнате, когда он к вам придет. Это
может быть восхитительно.
Он снова засмеялся, и Марсель подумала со смиренной
благодарностью: «Он смеется надо мной». Но его голос стал уже совсем
серьезным, и трубка завибрировала, как орган.
— Поверьте, Марсель, все идет превосходно: я рад за вас. Он не
дал мне говорить, он остановил меня на первых же словах и сказал:
«Бедная Марсель, я страшно перед ней виноват, я ненавижу себя,
но я это исправлю; как ты считаешь, могу я еще что-то исправить?»
И глаза у него покраснели. Как он вас любит!
— О, Даниель! О, Даниель!.. О, Даниель... — твердила Марсель.
Наступило молчание, потом Даниель добавил:
— Он сказал, что сегодня вечером хочет с вами поговорить с
открытым сердцем: «Мы вскроем нарыв». Теперь все в ваших руках,
Марсель. Он сделает все, что вы захотите.
— Вы были так добры, так... Я хотела бы увидеть вас как можно
скорее, мне столько нужно вам сказать, а я не могу с вами общаться,
не видя вашего лица. Сможете завтра?
Голос показался ей суше, он потерял свою гармоничность.
— Завтра — нет! Естественно, я тоже хотел бы вас увидеть...
Послушайте, Марсель, я вам позвоню.
— Договорились, — сказала Марсель, — звоните поскорее. Ах,
Даниель, дорогой мой Даниель...
— До свидания, Марсель. Будьте сегодня вечером ловкой...
— Даниель! — закричала она. Но их уже разъединили.
Марсель положила трубку и провела платком по влажным
глазам. «Архангел! Он быстро упорхнул — из опасения, что я буду его
благодарить!» Она подошла к окну и посмотрела на прохожих:
женщины, дети, рабочие казались ей счастливыми. Молодая
женщина бежала по мостовой: на руках у нее был ребенок, она на бегу,
248
Жан Поль Сартр
задыхаясь, говорила с ним и смеялась. Марсель проследила за ней,
затем подошла к зеркалу и с удивлением на себя посмотрела. На
полочке умывальника в стакане для полоскания зубов стояли три
красные розы. Марсель неуверенно взяла одну и робко повертела
ее в пальцах, потом закрыла глаза и воткнула розу в свои черные
волосы. «Роза в моих волосах...» Она открыла глаза, посмотрела в
зеркало, взбила прическу и смущенно себе улыбнулась.
XV
— Извольте подождать здесь, месье, — сказал человечек.
Матье сел на кушетку. Он был в сумрачном, пахнущем капустой
небольшом холле, слева поблескивала застекленная дверь.
Позвонили, человечек пошел открывать. Вошла молодая женщина, одетая
с благопристойной бедностью.
— Извольте присесть, мадам.
Он проводил женщину, слегка касаясь ее, до кушетки, и она
села, подобрав ноги.
— Я уже приходила, — сказала молодая женщина. — По поводу
займа.
— Да, мадам, конечно.
Человечек говорил ей в лицо:
— Вы служащая?
— Не я. Мой муж.
Женщина стала рыться в сумочке; она была, пожалуй, недурна
собой, но вид у нее был унылый и загнанный; человечек
рассматривал ее взглядом гурмана. Она вынула из сумочки две или три
старательно сложенные бумаги; он взял их, подошел к застекленной
двери, чтобы лучше все рассмотреть, и долго их изучал.
— Очень хорошо, — сказал он, возвращая бумаги. — Очень
хорошо. У вас двое детей? Вы так молодо выглядите... Детей всегда
ждут с нетерпением, не правда ли? Но когда они появляются, то
несколько дезорганизуют семейные финансы. У вас сейчас немного
стесненные обстоятельства?
Молодая женщина покраснела, человечек потер руки.
— Ну что ж, — добродушно сказал он, — мы все уладим, мы все
уладим, для того мы и работаем.
Некоторое время он с улыбкой задумчиво смотрел на нее, потом
удалился. Молодая женщина бросила на Матье недружелюбный
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
249
взгляд и принялась щелкать замком сумочки. Матье стало не по
себе: он проник в мир настоящих бедняков, это их деньги он
собирался отнять, деньги блеклые и серые, пахнущие капустой. Он
опустил голову и посмотрел на пол под ногами: он вспомнил
шелковистые ароматные банкноты из сундучка Лолы; то были совсем
другие деньги.
Застекленная дверь открылась, и появился высокий господин с
седыми усами. У него были серебристые волосы, старательно
зачесанные назад. Матье проследовал за ним в кабинет. Господин
приветливо указал ему на кресло из потертой кожи, и оба сели.
Господин положил локти на стол и сплел красивые белые пальцы,
На нем был темно-зеленый галстук, скромно украшенный
жемчужной булавкой.
— Вы желаете прибегнуть к нашим услугам? — по-отечески
спросил он.
-Да.
Он посмотрел на Матье: его светло-голубые глаза были немного
навыкате.
— Месье?..
— Деларю.
— Месье Деларю, вам известно, что устав нашего общества
предусматривает услуги займа исключительно государственным
служащим?
Голос был красивый и невыразительный, немного жирный, как
и руки.
— Я служащий, — сказал Матье. — Преподаватель.
— А-а! — с интересом произнес господин. — Мы особенно
счастливы помогать университетским. Вы преподаватель лицея?
— Да. Лицея Бюффон.
— Великолепно, — непринужденно продолжал господин. — Ну
что ж, для начала выполним обычные формальности... Есть ли у вас
с собой удостоверение личности, все равно какое: паспорт, военный
билет, избирательная карточка...
Матье протянул ему документы. Господин взял их и некоторое
время рассеянно изучал.
— Хорошо. Очень хорошо, — заключил он. — А на какую ссуду
вы рассчитываете?
— Я хотел бы шесть тысяч франков, — сказал Матье. Потом
немного подумал и уточнил: — Нет, пожалуй, семь тысяч.
250
Жан Поль Сартр
Матье был приятно удивлен. Он подумал: «Никогда бы не
поверил, что все решится так быстро».
— Вы знаете наши условия? Мы даем ссуду на шесть месяцев
без продления срока. Мы вынуждены брать двадцать процентов, так
как у нас огромные расходы и мы подвергаемся большому риску.
— Хорошо! Хорошо! — поспешил заверить его Матье.
Господин достал из ящика два отпечатанных бланка.
— Соблаговолите заполнить эти анкеты. Внизу подпишитесь.
Это была просьба о ссуде в двух экземплярах. Нужно было
указать фамилию, возраст, семейное положение, адрес, Матье начал
писать.
— Прекрасно, — сказал господин, пробегая взглядом по
листкам. — Родился в Париже... в 1905 году... от отца и матери
французского происхождения... Ну что ж, пока это все. При отчислении
семи тысяч франков мы попросим вас подписать на гербовой
бумаге долговое обязательство. Гербовый сбор за ваш счет.
— При отчислении? Вы разве не дадите их мне сейчас?
Господин, казалось, очень удивился.
— Сейчас? Нет, дорогой месье, нам потребуется по крайней мере
две недели, чтобы собрать сведения.
— Какие сведения? Вы же видели мои документы...
Господин посмотрел на Матье с веселой снисходительностью.
— Да! — сказал он. — Университетские все одинаковы! Все
идеалисты. Заметьте, месье, что в данном частном случае я не
подвергаю сомнению ваше слово. Но вообще ничто нам не доказывает,
что предъявленные бумаги не фальшивка. — Он грустно
усмехнулся. — Когда имеешь дело с деньгами, учишься недоверию. Это
низкое чувство, здесь я согласен с вами, но мы не имеем права быть
доверчивыми. Так вот, — заключил он, — нам нужно провести
собственное маленькое расследование; мы обратимся непосредственно
в ваше министерство. Не беспокойтесь, с надлежащим соблюдением
тайны. Но, между нами говоря, вы ведь знаете, что такое чиновники:
я сильно сомневаюсь, что вы сможете получить нашу помощь
раньше пятого июля.
— Это невозможно, — сдавленным голосом проговорил
Матье. — Мне нужны деньги сегодня вечером или самое позднее —
завтра утром, мне нужны деньги срочно. А нельзя ли... под более
высокие проценты?
Господин, казалось, был возмущен, он воздел красивые руки.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
251
— Но мы же не какие-нибудь ростовщики, дорогой месье! Наше
общество получило поддержку министерства общественного труда.
Это, так сказать, официальная организация, мы берем нормальные
проценты, которые были установлены с учетом наших расходов и
риска, и мы не можем идти на такие сделки.
Он строго добавил:
— Если вам нужно так срочно, надо было прийти раньше. Вы
разве не читали наши правила?
— Нет, — признался Матье, вставая. — Я был застигнут
врасплох.
— Тогда сожалею... — холодно произнес господин. — Разорвать
заполненные вами анкеты?
Матье подумал о Саре: «Она наверняка добьется отсрочки».
— Не рвите, — попросил он, — я постараюсь найти выход.
— Конечно, — приветливо отозвался господин, — всегда
найдется друг, который вам одолжит на две недели то, что нужно. Значит,
это ваш адрес, — сказал он, указывая пальцем на анкету, — улица
Югенс, 12?
-Да.
— В первых числах июля мы вышлем вам вызов. Он встал и
проводил Матье до двери.
— До свидания, — сказал Матье, — спасибо.
— Счастлив оказать услугу, — кланяясь, отвечал господин. —
Рад буду увидеть вас снова.
Матье широкими шагами пересек холл. Молодая женщина все
еще была там; она растерянно покусывала перчатку.
— Соблаговолите зайти, мадам, — произнес господин за спиной
Матье.
На улице в сером воздухе подрагивали зеленоватые отблески
растений. Но теперь Матье не покидало ощущение, что он заперт в
четырех стенах. «Еще одна неудача», — подумал он. Вся надежда
была только на Сару. Он дошел до Севастопольского бульвара,
зашел в кафе и попросил у стойки жетон.
— Телефоны в глубине, справа.
Набирая номер, Матье прошептал: «Только бы ей удалось!
Только бы ей удалось!» Это было что-то вроде заклинания.
— Алло, — сказал он, — алло, Сара?
— Да, — отозвался голос. — Это Веймюллер.
— Это Матье Деларю. Могу я поговорить с Сарой?
252
Жан Поль Сартр
— Она вышла.
— А? Обидно... Не знаете, когда она вернется?
— Не знаю. Что-нибудь передать?
— Нет. Просто скажите, что я звонил.
Он повесил трубку и вышел. Его жизнь больше от него не
зависела, она была в руках Сары, оставалось только ждать. Он подал
знак водителю автобуса, вошел и сел около старой женщины,
кашлявшей в платок. «Евреи всегда между собой договариваются», —
подумал он. Он согласится, он определенно согласится.
— До Данфер-Рошро, пожалуйста.
— Три билета, — сказал кондуктор.
Матье взял три билета и принялся смотреть в окно; он с
грустной обидой думал о Марсель. Стекла дрожали, старуха кашляла,
цветы подрагивали на ее черной соломенной шляпке. Шляпка,
цветы, старуха, Матье — все уносилось огромной машиной; старуха не
поднимала носа от платка и тем не менее кашляла на углу улицы
Урс и Севастопольского бульвара, кашляла на улице Реомюр,
кашляла на улице Монторгёй, кашляла на Новом мосту над серой и
спокойной водой. «А если еврей не согласится?» Но и эта мысль не
вывела его из оцепенения; он превратился в мешок с углем на
других мешках в кузове грузовика. «Тем хуже, тогда все будет кончено,
я ей скажу сегодня вечером, что женюсь на ней». Автобус, как
огромная детская игрушка, уносил его, заставлял клониться
направо, налево, сотрясал, кидал, события кидали его к спинке
сиденья, к стеклу, он был убаюкан скоростью своей жизни, он думал:
«Моя жизнь больше мне не принадлежит, моя жизнь — это просто
повороты судьбы»; он смотрел, как возникают одно за другим
огромные черные здания улицы Сен-Пэр, он смотрел на свою
жизнь, которая неслась под откос. Жениться, не жениться: «Теперь
это от меня не зависит, орел или решка».
Резко скрипнули тормоза, и автобус остановился. Матье
выпрямился и с волнением посмотрел на спину водителя: вся его свобода
вновь хлынула на него. Он подумал: «Нет, нет, только не орел и
решка. Что бы ни произошло, все должно произойти по моей воле». Даже
если он позволит обстоятельствам себя унести, растерявшегося,
отчаявшегося, как уносят старый мешок угля, он сам выберет свою
погибель: он свободен, свободен для всего, свободен валять дурака
или действовать, как автомат, свободен соглашаться, свободен
отказывать, свободен прибегать к уверткам; жениться, бросать, годами
влачить этот груз, прикованный к ноге: он мог делать то, что хотел,
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
гьз
никто не имел права ему советовать, Добро и Зло существовали для
него лишь в том случае, если он сам их для себя придумывал.
Вокруг него сгруппировались кругом предметы, они ждали, не подавая
знака, не давая ни малейшего указания. Он был один среди
чудовищной тишины, вне помощи и оправдания, осужденный решать
раз и навсегда без возможности обжалования, обреченный до конца
оставаться свободным.
— Данфер-Рошро! — крикнул кондуктор.
Матье встал и вышел; он зашагал по улице Фруадво. Он был
усталым и нервничал, он беспрестанно вспоминал открытый
сундучок в темной комнате, а в сундучке — душистые и мягкие
банкноты; это было как угрызение совести. «Эх! Я должен был их
взять», — подумал он.
— Для вас пневматическая почта, — сказала консьержка. —
Только что пришла.
Матье взял письмо и надорвал конверт; в это мгновение стены,
окружавшие его, рухнули, и ему показалось, что переменился весь
мир. Посередине страницы было три слова крупным нисходящим
почерком:
«Провалилась. В беспамятстве. Ивиш».
— Что, плохая новость?
-Нет.
— Хорошо. А то у вас стало такое удрученное лицо.
— Один из моих бывших учеников провалился на экзамене.
— А, мне говорили, что сейчас учиться стало труднее.
— Гораздо труднее.
— Подумать только! Молодые люди сдают экзамены, — сказала
консьержка. — И вот они уже с дипломами. А что потом?
— Я тоже задаю себе этот вопрос.
Он в четвертый раз перечитал послание Ивиш. Он был поражен
его красноречивым отчаянием. Провалилась.
В беспамятстве... «Сейчас она способна сделать что-то
непоправимое, — подумал он. — Это ясно как день, она способна на что
угодно».
— Который час?
— Шесть.
«Шесть часов. Она узнала о результатах в два. Вот уже четыре
часа, как она одна посреди Парижа». Он сунул письмо в карман.
— Мадам Гарине, одолжите мне пятьдесят франков, — сказал он
консьержке.
254
Жан Поль Сартр
— Ой, не знаю, найдется ли у меня, — удивилась консьержка. Она
порылась в ящике своего рабочего стола. — Послушайте, есть только
бумажка в сто франков, принесите мне тогда сдачу вечером.
— Договорились, — сказал Матье, — спасибо.
Он вышел; он думал: «Где она может быть?» Голова у него была
пустой, руки дрожали. Свободное такси проезжало по улице Фру-
адво. Матье остановил его.
— Женское общежитие, улица Сен-Жак, 173, поскорее.
— Хорошо, — сказал шофер.
«Где она может быть? В лучшем случае уже уехала в Лаон; в
худшем... я опоздал на четыре часа», — подумал он. Он нагнулся
вперед и непроизвольно нажимал правой ногой на коврик, как бы
прибавляя машине ход.
Такси остановилось. Матье вышел и позвонил в дверь
общежития.
— Мадемуазель Ивиш Сергина здесь?
Дама недоверчиво покосилась на него.
— Сейчас посмотрю, — сказала она.
Дама быстро вернулась.
— Мадемуазель Сергина не возвращалась с самого утра. Ей что-
нибудь передать?
-Нет.
Матье снова сел в такси.
— Гостиница «Полонь», улица Соммрар.
Вскоре он приник к окну.
— Здесь, здесь! Гостиница слева.
Он выскочил и толкнул застекленную дверь.
— Месье Сергин здесь?
Толстый слуга-альбинос был у кассы. Он узнал Матье и
улыбнулся ему.
— Он еще не вернулся с ночи.
— А его сестра... молодая блондинка, она здесь сегодня была?
— Да я хорошо знаю мадемуазель Ивиш, — сказал парень. — Нет,
она не приходила, звонила только мадам Монтеро два раза, просила
передать месье Борису, чтобы он пришел к ней сразу же, как
вернется; если вы его увидите, можете ему передать.
— Хорошо, — согласился Матье.
Он вышел. Где она могла быть? В кино? Вряд ли. Слонялась по
улицам? Во всяком случае, она еще не уехала из Парижа, иначе она
бы зашла в общежитие за чемоданами. Матье вынул из кармана
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
255
письмо и изучил конверт: отправлено из почтового отделения на
улице Кюжа, но это еще ничего не доказывало.
— Куда едем? — спросил шофер.
Матье неуверенно посмотрел на него, и вдруг его осенило:
«Чтобы так написать, нужно быть не в себе. Она определенно
напилась».
— Послушайте, — сказал он, — поезжайте медленно по бульвару
Сен-Мишель, начиная с набережной. Я ищу одного человека, мне
нужно осмотреть все кафе.
Ивиш не было ни в «Биаррице», ни в «Ла Суре», ни в «д'Аркур»,
ни в «Биар», ни в «Пале дю кафе». В «Капуладе» Матье заметил
китайского студента, который знал Ивиш. Он подошел. Китаец пил
портвейн, взгромоздившись на табурет подле бара.
— Извините, — начал Матье, приблизившись к нему. — Мне
кажется, вы знаете мадемуазель Сергину. Вы ее сегодня видели?
— Нет, — ответил китаец. Он говорил с трудом. — С ней
случилось несчастье.
— С ней! Несчастье! — закричал Матье.
— Нет, — пояснил китаец, — я спрашиваю, не случилось ли с ней
несчастье.
— Не знаю, — отмахнулся Матье, повернувшись к нему спиной.
Он больше даже не мечтал защитить Ивиш от нее самой, у него
была лишь острая и болезненная необходимость увидеть ее. «А что,
если она попыталась убить себя? У нее на это ума хватит», — в
ярости подумал он. Помимо всего прочего, она может быть просто где-
нибудь на Монпарнасе.
— На перекресток Вавен, — сказал он.
Он снова сел в такси. Руки его дрожали: он засунул их в
карманы. Такси сделало вираж вокруг фонтана Медичи, и Матье заметил
Ренату, итальянскую подругу Ивиш. Она выходила из
Люксембургского сада с портфелем под мышкой.
— Остановите! Остановите! — закричал Матье шоферу. Он
выпрыгнул из такси и подбежал к ней.
— Вы не видели Ивиш?
Рената сурово посмотрела на него.
— Здравствуйте, месье, — сказала она.
— Здравствуйте. Вы видели Ивиш?
— Ивиш? — переспросила Рената. — Конечно.
— Когда?
— Приблизительно час назад.
256
Жан Поль Сартр
-Где?
— В Люксембургском саду. Она была в странной компании, —
немного натянуто пояснила Рената. — Вы знаете, что ее не приняли,
бедняжку?
— Да. Куда она пошла?
— Они хотели пойти на танцы. По-моему, в «Тарантул».
— Где это?
— На улице Месье-ле-Пренс. Вы увидите, там магазин
грампластинок, а танцзал в полуподвале.
— Спасибо.
Матье сделал несколько шагов, потом вернулся.
— Извините. Попрощаться с вами я тоже забыл.
— До свидания, месье, — ответила Рената.
Матье вернулся к машине.
— Улица Месье-ле-Пренс, это в двух шагах отсюда. Езжайте
медленно, я вас остановлю.
«Хоть бы она была еще там! Я обойду все танцульки
Латинского квартала».
— Остановите, это здесь. Подождите меня немного.
Матье вошел в магазин грампластинок.
— Где «Тарантул»? — спросил он.
— В полуподвале. Спуститесь по лестнице.
Матье спустился, вдохнул прохладный и заплесневелый воздух,
толкнул створку обитой кожей двери и вздрогнул, будто его
ударили под ложечку: Ивиш была там, она танцевала. Он прислонился к
дверному косяку и подумал: «Она здесь».
Это был пустой вычищенный подвал с ровными стенами. Яркий
свет падал из-под промасленных бумажных плафонов. Матье
увидел полтора десятка покрытых скатертями столиков, затерянных в
глубине этого мертвого светового моря. По бежевым стенам
расклеены куски разноцветного картона с изображениями
экзотических растений, но картон коробился из-за сырости, кактусы
надулись пузырями. Невидимый проигрыватель играл пасодобль, и эта
скрытая музыка делала зал еще более пустым.
Ивиш положила голову на плечо своему партнеру и тесно
прижималась к нему. Он хорошо танцевал. Матье узнал его: тот
высокий молодой брюнет, который сопровождал вчера Ивиш на
бульваре Сен-Мишель. Он вдыхал запах волос Ивиш и время от времени
целовал их. Бледная, закрыв глаза, она отбрасывала волосы назад и
смеялась, в то время как он шептал ей что-то на ухо; они танцевали
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
257
одни. В глубине зала четыре молодых человека и сильно
накрашенная девушка хлопали в ладоши и кричали: «Давай!» Высокий
брюнет подвел Ивиш к их столику, обнимая ее за талию, студенты
суетились вокруг нее и весело приветствовали; у них был странный
вид, одновременно фамильярный и чопорный; они обволакивали ее
на расстоянии округлыми и нежными движениями. Накрашенная
женщина держалась сдержанно. Она стояла, тяжелая и вялая, с
неподвижным взглядом. Потом она закусила сигарету и задумчиво
сказала:
— Давай!
Ивиш рухнула на стул между молодой женщиной и маленьким
блондином с круглой бородкой. Она безумно смеялась.
— Нет! Нет! — кричала она, размахивая руками перед лицом. —
Нет алиби! Не нужно алиби!
Бородач услужливо уступил стул красивому брюнету: «Дальше
некуда, — подумал Матье, — за ним уже признают право сидеть
рядом с ней». Красивый брюнет, казалось, считал это совершенно
естественным; впрочем, он единственный из всей компании выгла-
дел довольным. Ивиш показала пальцем на бородача.
— Он убегает, потому что я обещала его поцеловать, — смеясь,
сказала она.
— Позвольте, — с достоинством молвил бородач, — вы мне не
обещали, вы мне этим грозили.
— Что ж, я тебя не поцелую, — сказала Ивиш. — Я поцелую
Ирму!
— Вы хотите меня поцеловать, моя маленькая Ивиш? —
удивилась польщенная молодая женщина.
— Да, давай. — Ивиш властно потянула ее за руку. Остальные
изумленно расступились, кто-то сказал мягко и укоризненно:
«Послушайте, Ивиш!» Красивый брюнет смотрел на нее с тонкой
усмешкой; он ее подстерегал. Матье почувствовал себя
униженным: для этого элегантного молодого человека Ивиш была только
добычей, он ее раздевал опытным и чувственным взглядом, она
была уже голой перед ним, он угадывал ее грудь, бедра, запах ее
тела... Матье резко встряхнулся и на ватных ногах подошел к
Ивиш: он заметил, что в первый раз постыдно желал ее через
желание другого.
Ивиш сделала множество гримас, прежде чем поцеловать свою
соседку. В конце концов она взяла ее голову двумя руками,
поцеловала в губы и сильно оттолкнула.
258
Жан Поль Сартр
— От тебя пахнет аптекой, — сказала она укоризненно.
Матье стал у их столика.
— Ивиш! — позвал он.
Она посмотрела на него, открыв рот, он не был уверен, узнает
ли она его. Ивиш медленно подняла левую руку и показала ему ее.
— Это ты, — сказала она. — Посмотри.
Она уже сорвала повязку. Матье увидел красноватую липкую
корочку с маленькими пузырьками желтого гноя.
— А ты свою повязку оставил, — разочарованно сказала Ивиш. —
Ах да, ты же осторожный.
— Она ее сорвала, хотя мы пытались ее остановить, —
извиняющимся тоном сказала женщина. — Она просто чертенок.
Ивиш резко встала и мрачно посмотрела на Матье.
— Уведите меня отсюда. Я унижаю себя.
Молодые люди переглянулись.
— Знаете, — сказал бородач, — мы ее не заставляли пить. Скорее
мы пытались ей помешать.
— Это правда, — с отвращением сказала Ивиш. — Маменькины
сынки, вот кто они такие.
— Кроме меня, Ивиш, — возразил красивый танцор, — кроме
меня.
Он заговорщицки посмотрел на нее. Ивиш повернулась к нему
и сказала:
— Да, кроме вот этого наглеца.
— Пойдемте, — мягко сказал Матье.
Он взял ее за плечи и увлек за собой; он услышал за спиной
ошеломленный ропот.
Посреди лестницы она стала тяжелее.
— Ивиш, — умоляюще сказал он.
Она весело тряхнула волосами.
— Я хочу сесть здесь, — сказала она.
— Прошу вас, пойдемте.
Ивиш, давясь от смеха, подняла юбку выше колен.
— Я хочу сесть здесь.
Матье поднял ее за талию и понес. Когда они оказались на
улице, он ее отпустил: Ивиш больше не отбивалась. Она сощурилась и
с мрачным видом огляделась.
— Хотите вернуться к себе? — предложил Матье.
— Нет! — во весь голос крикнула Ивиш.
— Хотите, отвезу вас к Борису?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
259
— Его нет дома.
— Где же он?
— Черт его знает.
— Куда вы хотите поехать?
— Откуда я знаю? Вам решать, вы же меня увели.
Матье немного подумал.
— Хорошо, — сказал он.
Он поддерживал ее до такси и сказал шоферу:
— Улица Югенс, 12.
— Я вас везу к себе, — сказал он. — Вы сможете прилечь на моем
диване, а я заварю вам чай.
Ивиш не возражала. Она с трудом забралась в такси и рухнула
на заднее сиденье.
— Вам плохо?
Она была мертвенно бледна.
— Я больна, — сказала Ивиш.
— Я попрошу его остановиться у аптеки, — предложил Матье.
— Нет! — выкрикнула она.
— Тогда вытянитесь и закройте глаза, — сказал Матье. — Мы
скоро приедем.
Ивиш слабо застонала. Вдруг она позеленела и высунулась через
окно наружу. Матье увидел, как ее узкая худая спина сотрясается от
рвоты. Он протянул руку и вцепился в ручку дверцы, он боялся, что
дверца откроется. Через некоторое время приступ прекратился.
Матье быстро откинулся назад, взял трубку и сосредоточенно набил
ее. Ивиш упала на сиденье, и Матье положил трубку в карман.
— Приехали, — сказал он.
Ивиш с трудом выпрямилась.
— Мне стыдно! — простонала она.
Матье вышел первым и протянул ей руки. Но она их оттолкнула
и легко спрыгнула на мостовую. Он поспешно заплатил шоферу и
повернулся к Ивиш. Она безразлично смотрела на него: кислый
запах рвоты исходил у нее изо рта. Матье жадно вдохнул этот запах.
— Вам лучше?
— Я больше не пьяна, — мрачно сообщила Ивиш. — Но у меня
башка трещит.
Матье осторожно повел ее по лестнице.
— Каждый шаг отдается в голове, — враждебно сказала она. На
второй площадке она ненадолго остановилась, чтобы перевести
дыхание. — Теперь я все вспомнила.
260
Жан Поль Сартр
— Что именно?
— Все. Я разъезжала с этими подонками и выставляла себя
напоказ. И я... я провалилась на экзамене.
— Пойдемте, — сказал Матье. — Остался только один этаж.
Они молча поднялись. Вдруг Ивиш спросила:
— Как вы меня нашли?
Матье наклонился, чтобы вставить ключ в скважину.
— Я вас долго искал, — объяснил он. — А потом встретил Ренату.
Ивиш бормотала за его спиной:
— Я все время надеялась, что вы придете.
— Прошу, — посторонясь, пригласил Матье. Она слегка задела
его, проходя, и у него появилось желание обнять ее.
Ивиш сделала несколько неуверенных шагов, вошла в комнату
и с мрачным видом огляделась.
— Это ваша квартира?
— Да, — сказал Матье. Он впервые принимал ее у себя. Матье
посмотрел на свои зеленые кожаные кресла и на рабочий стол: он
их видел глазами Ивиш, и ему стало за них стыдно. — Вот диван, —
показал он, — прилягте.
Ивиш, не говоря ни слова, бросилась на диван.
— Хотите чаю?
— Мне холодно, — пожаловалась Ивиш.
Матье принес плед и накрыл ей ноги. Ивиш закрыла глаза и
положила голову на подушку. Она страдала, на лбу, у переносицы,
прорезались три вертикальные морщины.
— Хотите чаю?
Она не ответила. Матье взял электрический чайник и пошел
наполнить его из крана. В буфете он нашел высохшую половинку
лимона, почти остекленевшую, но, если хорошо нажать, может,
удастся извлечь из него слезинку-другую. Он положил его на
поднос с двумя чашками и вернулся в комнату.
— Я поставил чайник, — сказал он.
Ивиш не ответила: она спала. Матье пододвинул к дивану стул
и бесшумно сел. Три морщинки Ивиш исчезли, лоб был гладким и
чистым, она улыбалась с закрытыми глазами. «Как она молода!» —
подумал Матье. Всю свою надежду он вложил в этого ребенка. Она
была такой слабой, такой легкой на этом диване: она никому не
могла помочь; наоборот, нужно было ей как-то помочь жить. А
Матье помочь не мог. Ивиш уедет в Лаон, там она одичает за зиму или
две, а потом появится какой-нибудь субъект — молодой, конечно, —
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
261
и уведет ее. «А я женюсь на Марсель». Матье встал и бесшумно
пошел посмотреть, не кипит ли чайник, затем вернулся и сел рядом
с Ивиш; он нежно глядел на это маленькое больное и оскверненное
тело, которое оставалось во сне таким благородным, он подумал, что
любит Ивиш, и был удивлен, что любовь его не ощущалась так, как
ощущается особое волнение или какой-то другой радостный порыв:
нет, это скорее было предвестие несчастья, неподвижный знак
проклятия на линии горизонта. В чайнике закипела вода, и Ивиш
открыла глаза.
— Я вам готовлю чай, — пояснил Матье. — Хотите?
— Чай? — недоуменно спросила Ивиш. — Но вы же не умеете
готовить чай.
Она ладонями надвинула волосы на щеки и встала, протирая
глаза.
— Дайте пачку, — распорядилась она, — я вам приготовлю чай
по-русски. Но для этого нужен самовар.
— У меня только чайник, — сказал Матье, протягивая ей пачку.
— Э-э, еще и чай цейлонский! Тем хуже.
Она засуетилась вокруг чайника.
— А заварной?
— Минуту, — сказал Матье. И помчался в кухню.
— Благодарю.
По-прежнему мрачная Ивиш несколько оживилась. Она налила
воду в заварной чайник и через несколько минут села.
— Пусть настоится, — решила она.
Наступило молчание, затем Ивиш снова заговорила:
— Мне не нравится ваша квартира.
— Я так и думал, — ответил Матье. — Но когда вы немного
придете в себя, мы сможем выйти.
— А куда идти? — удивилась Ивиш. — Нет, мне приятно быть
здесь. Все эти кафе мелькают перед глазами, там везде люди, это
какой-то кошмар. Здесь некрасиво, но спокойно. Не могли бы вы
задернуть шторы? Мы зажжем эту маленькую лампу.
Матье закрыл жалюзи и развязал шнуры. Тяжелые зеленые
шторы медленно сомкнулись. Он зажег лампу на письменном столе.
— Ночь... — зачарованно проговорила Ивиш.
Она откинулась на подушки дивана.
— Как уютно, такое впечатление, что день кончился: я хотела
бы, чтоб было темно, когда я выйду отсюда, я боюсь снова увидеть
снаружи день.
262
Жан Поль Сартр
— Вы останетесь сколько захотите, — сказал Матье. — Ко мне
никто не должен прийти. Даже если кто-то и придет, мы не откроем.
Я совершенно свободен.
Это было неправдой: в одиннадцать часов его ждала Марсель.
Он злобно подумал: «Ничего, подождет».
— Когда вы уезжаете? — спросил он.
— Завтра. Двенадцатичасовым поездом.
Некоторое время Матье молчал. Затем сказал, следя за своим
голосом:
— Я провожу вас на вокзал.
— Нет! — отрезала Ивиш. — Ненавижу эти дряблые прощания,
они тянутся, как резина. К тому же я буду подыхать от усталости.
— Как хотите, — сказал Матье. — Вы телеграфировали
родителям?
— Нет. Я... Это хотел сделать Борис, но я ему помешала.
— Но тогда вам самой нужно известить их.
Ивиш опустила голову.
-Да.
Наступило молчание. Матье смотрел на поникшую голову
Ивиш и ее хрупкие плечи: ему казалось, что она мало-помалу
покидает его.
— Итак, — произнес он, — это наш последний вечер года.
— Ха! — иронически засмеялась она. — Года!..
— Ивиш, — сказал Матье, — вы не должны... Я ведь приеду к вам
в Лаон.
— Ни в коем случае. Все, что имеет отношение к Лаону, так
гнусно...
— Уверен, что вы еще вернетесь.
-Нет.
— В ноябре будет сессия, неужели ваши родители...
— Вы их не знаете.
— Верно, не знаю. Но не станут же они из-за проваленного
экзамена коверкать вам всю жизнь, чтобы наказать вас.
— Они и не подумают меня наказывать, — сказала Ивиш. —
Будет хуже: они всего-навсего потеряют ко мне интерес, просто
выбросят меня из головы. Впрочем, этого я и заслуживаю! — сказала
она запальчиво. — Я не способна овладеть специальностью и лучше
останусь на всю жизнь в Лаоне, чем снова начну поступать на
ФХБ*.
* Факультет физики-химии-биологии.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
263
— Не говорите так, — встревожился Матье. — Не отчаивайтесь
заранее. Вы же ненавидите Лаон.
— Да! Я его ненавижу, — процедила Ивиш сквозь зубы.
Матье встал, чтобы пойти за заварным чайником и чашками.
Вдруг кровь ударила ему в лицо: он вернулся к Ивиш и, не глядя на
нее, пробормотал:
— Послушайте, Ивиш, завтра вы уедете, но я даю вам слово, что
вы вернетесь в конце октября. До тех пор я все улажу.
— Уладите? — устало удивилась она. — Но нечего, решительно
нечего улаживать. Я вам сказала, что не способна овладеть
специальностью.
Матье осмелился поднять на нее глаза, но не почувствовал себя
успокоенным; как найти слова, которые бы ее не обидели?
— Я не это хотел сказать... Если бы... Если бы вы позволили мне
вам помочь...
Ивиш, казалось, все еще не понимала. Матье добавил:
— У меня будет немного денег.
Ивиш так и подскочила.
— А, значит, вот что! — изумилась она. И сухо добавила: — Это
совершенно невозможно.
— Да нет же, — горячо сказал Матье, — это вполне возможно.
Послушайте, во время каникул я отложу немного денег; Одетта и
Жак каждый год приглашают меня провести август на их вилле в
Жуан-ле-Пен, я там никогда не был, но нужно хоть раз им уступить.
В этом году я туда поеду, это меня развеет, к тому же я немного
сэкономлю... Не отказывайтесь с ходу, — живо сказал он, — это будет
взаймы.
Он остановился. Ивиш поникла и зло посмотрела на него
исподлобья.
— Не смотрите на меня так, Ивиш!
— Уж не знаю, как я на вас смотрю, но точно знаю, что у меня
болит голова, — мрачно проворчала Ивиш. Она опустила глаза. —
Спать я должна вернуться к себе.
— Прошу вас, Ивиш! Послушайте: я непременно найду деньги,
а вы снова будете жить в Париже, только не говорите «нет»;
умоляю, не говорите «нет», не подумав. Деньги не должны вас смущать,
вы вернете мне долг, когда станете зарабатывать.
Ивиш пожала плечами, и Матье быстро предложил:
— Ну хорошо, пусть мне их отдаст Борис.
264
Жан Поль Сартр
Ивиш не ответила, она запустила руки в волосы. Матье стоял
перед ней истуканом, злой и несчастный.
— Ивиш!
Она продолжала молчать. У Матье возникло желание взять ее
за подбородок и силой поднять ей голову.
— Ивиш! Ответьте мне наконец! Почему вы не отвечаете?
Ивиш молчала. Матье начал ходить взад-вперед; он думал: «Она
согласится, я не отпущу ее, пока она не согласится. Я... я буду давать
частные уроки или займусь корректорской работой».
— Ивиш, — сказал он, — почему вы не соглашаетесь?
Ивиш можно было доконать, если утомить ее, засыпая
вопросами, постоянно меняя тон.
— Почему вы не соглашаетесь? — настаивал он. — Ну, скажите,
почему?
Наконец Ивиш пробормотала, не поднимая головы:
— Я не хочу брать у вас деньги.
— Но почему? Вы же берете деньги у родителей.
— Это совсем другое.
— Действительно другое. Вы мне сто раз говорили, что
ненавидите родителей.
— Но почему я должна брать у вас деньги?
— Но ведь их деньги вы принимаете.
— Мне не нужны благодетели. К отцу по крайней мере мне не
придется испытывать признательности.
— Но откуда такая гордыня? — воскликнул Матье. — Вы не
имеете права из-за самолюбия портить себе жизнь. Подумайте о том
существовании, которое вы будете влачить в Лаоне. Ежедневно и
ежечасно вы будете сожалеть, что не воспользовались случаем.
У Ивиш исказилось лицо.
— Перестаньте! — вскрикнула она. — Перестаньте!
Она добавила хриплым, низким голосом:
— О, что за мука не быть богатой! В какие отвратительные
ситуации попадаешь!
— Но я вас не понимаю, — мягко сказал Матье. — Еще в
прошлом месяце вы мне сказали, что деньги — это нечто низменное,
пустячное. Вы тогда говорили: «Мне безразлично, откуда они, лишь
бы они у меня были».
Ивиш пожала плечами. Матье видел только ее темя и полоску
шеи между локонами и воротничком блузки. Шея была смуглее,
чем кожа лица.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
265
— Разве вы этого не говорили?
— Я не хочу брать у вас деньги.
Матье потерял терпение.
— А, вы не хотите брать деньги у мужчины, — нервно
усмехнулся он.
— О чем вы? — удивилась Ивиш. Во взгляде ее промелькнула
холодная ненависть. — Вы меня оскорбляете. Я об этом даже не
думала, и... и мне на это плевать. У меня и в мыслях не было...
— Но тогда что? Подумайте: впервые в жизни вы будете
абсолютно свободной; вы будете жить, где захотите, будете делать все,
что заблагорассудится. Вы мне сказали, что хотели бы получить
лиценциат по философии. Так вот, вы можете попытаться; мы с
Борисом вам поможем.
— Почему вы хотите сделать мне добро? — недоумевала Ивиш. —
Я его никогда вам не делала. Я... я всегда была с вами несносна, а
теперь вы меня жалеете.
— Я вас не жалею.
— Тогда почему вы мне предлагаете деньги?
Матье поколебался, затем, отвернувшись, сказал:
— Я не могу смириться с мыслью, что больше вас не увижу.
Наступило молчание, потом Ивиш неуверенно спросила:
— Вы... вы хотите сказать... что делаете это из эгоизма?
— Из чистого эгоизма, — сухо заверил ее Матье, — я хочу снова
вас увидеть — вот и все.
Наконец он решился повернуться к ней. Ивиш смотрела на него,
подняв брови и открыв рот. Затем вдруг расслабилась.
— Тогда я, может быть, соглашусь, — безразлично сказала она. —
В этом случае вы лицо заинтересованное, так ведь? А кроме того,
вы правы: пусть деньги приходят, а откуда — не важно.
Матье вздохнул. «Готово!» — подумал он. Но облегчения не
почувствовал: Ивиш по-прежнему выглядела угрюмой.
— Как вы преподнесете это родителям? — спросил он, чтобы
закрепить успех.
— Что-нибудь придумаю, — уклонилась от ответа Ивиш. — Они
мне либо поверят, либо нет. Какое это имеет значение, раз платить
будут не они?
Она мрачно понурилась.
— А пока что надо туда вернуться, — сказала она.
Матье постарался подавить раздражение.
— Но вы ведь снова будете здесь!
266
Жан Поль Сартр
— Ну, это так нереально... — сказала она. — Я говорю «нет», я
говорю «да», но мне не слишком верится. Все это так не скоро. А в
Лаоне я буду уже завтра вечером.
Она притронулась к горлу и сказала:
— Это у меня засело вот тут. К тому же нужно собирать
чемоданы, сборы займут целую ночь.
Она встала.
— Чай уже готов. Прошу.
Ивиш налила чай в чашки. Он был черный, как кофе.
— Я буду вам писать, — сказал Матье.
— Я тоже, — пообещала она. — Хотя мне нечего будет вам
сказать.
— Вы мне опишете ваш дом, вашу комнату. Я бы хотел иметь
возможность вообразить вас там.
— Ну уж нет! — возразила она. — Я не хочу все это описывать.
Достаточно того, что я буду там жить.
Матье вспомнил о сухих, коротких письмах, которые Борис
посылал Лоле. Но только на мгновение: он посмотрел на руки Ивиш,
на ее пурпурные заостренные ногти, на худые запястья и подумал:
«Я ее снова увижу».
— Какой странный чай, — сказала Ивиш, ставя чашку на стол.
Матье вздрогнул: позвонили во входную дверь. Он ничего не
сказал: надеялся, что Ивиш не услышала.
— Что это? Кто-то звонит? — спросила она.
Матье приложил палец к губам.
— Мы ведь договорились, что не откроем, — прошептал он.
— Нет! Нет! — громко сказала Ивиш. — Возможно, это что-то
важное, откройте побыстрее.
Матье направился к двери. Он думал: «Она не хочет быть в
сговоре со мной». Он открыл дверь, когда Сара уже намеревалась
звонить вторично.
— Здравствуйте, — запыхавшись, сказала Сара. — Вы меня
заставили поторопиться. Маленький министр передал, что вы
звонили, и я побежала к вам, даже шляпку не успела надеть.
Матье с ужасом смотрел на нее: плотно облегающий
кошмарный костюм ядовито-зеленого цвета, улыбка, обнажающая все ее
испорченные зубы, растрепанные волосы, весь этот вид
болезненной доброты — она казалась воплощением неудачи.
— Здравствуйте, — быстро сказал он, — знаете ли, со мной
сейчас...
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
267
Сара дружески его оттолкнула и заглянула через его плечо.
— Кто у вас? — спросила она с жадным любопытством. — А! Это
Ивиш Сергина. Как поживаете, Ивиш?
Ивиш встала и изобразила что-то вроде реверанса. У нее был
разочарованный вид. У Сары, впрочем, тоже. Ивиш была
единственным человеком, которого Сара не выносила.
— Какая вы худышка, — сказала Сара. — Уверена, что вы мало
едите. Это неблагоразумно.
Матье сел напротив Сары и пристально посмотрел на нее, Сара
начала смеяться.
— Вот Матье делает мне страшные глаза, — весело сказала
она. — Не хочет, чтобы я поучала вас насчет диеты.
Она повернулась к Матье.
— Я поздно вернулась, — сказала она. — Вальдманна невозможно
было найти. Он всего лишь три недели в Париже и уже ввязался в
кучу сомнительных делишек. Я его поймала только около шести.
— Вы очень добры, Сара, спасибо, — пробормотал Матье.
Он торопливо добавил:
— Поговорим об этом позже. Выпейте чашечку чаю.
— Нет, нет! Я даже не присяду, — сказала она, — мне нужно
мчаться в испанский книжный магазин, они срочно хотят меня
видеть: в Париж приехал один друг Гомеса.
— Кто? — спросил Матье, чтобы выиграть время.
— Еще не знаю. Мне так и сказали: один друг Гомеса. Он приехал
из Мадрида.
Сара с нежностью посмотрела на Матье. Ее глаза как будто
помутились от доброты.
— Мой бедный Матье, у меня для вас скверные вести: он
отказался.
— Гм!..
У Матье все-таки хватило силы предпринять еще одну попытку:
— Вы, конечно, хотите поговорить со мной наедине?
Он несколько раз нахмурил брови, но Сара на него не смотрела.
— Да нет... К чему? — грустно промолвила она. — Мне почти
нечего вам сказать.
Она таинственно добавила:
— Я настаивала как могла. Но ничего не вышло. Известное вам
лицо должно быть у него завтра утром с деньгами.
— Что ж, тем хуже: не будем больше об этом, — быстро сказал
Матье.
268
Жан Поль Сартр
Он подчеркнул последние слова, но Сара считала нужным
оправдаться.
— Я сделала все возможное, поверьте, я его даже умоляла. Он
спросил: «Это еврейка?» Я сказала: «Нет». Тогда он отрезал: «Я не
делаю в кредит. Если она хочет, чтобы ей помог я, пусть платит.
Если нет, в Париже достаточно клиник».
Матье услышал, как за его спиной скрипнул диван. Сара
продолжала:
— Он сказал: «Я им больше ничего не сделаю в кредит, они нам
причинили предостаточно страданий». И, знаете ли, это правда, я
его почти понимаю. Он мне рассказывал о венских евреях, о
концентрационных лагерях. Я не хотела этому верить... — Ей изменил
голос. — Их так мучили...
Сара замолкла, воцарилась гнетущая тишина. Покачивая
головой, она снова заговорила:
— Что вы собираетесь делать?
— Еще не знаю.
— Вы не думаете о...
— Да, — грустно сказал Матье. — Думаю, что этим кончится.
— Мой дорогой Матье! — взволнованно воскликнула Сара.
Он сурово посмотрел на нее, и она растерянно замолчала; он
увидел, как на ее лице промелькнул проблеск понимания.
— Ладно! — помедлив, проговорила она. — Я побегу.
Обязательно позвоните мне завтра утром, я хочу знать, чем все кончится.
— Договорились, — сказал Матье, — до свидания, Сара.
— До свидания, моя маленькая Ивиш! — крикнула Сара уже в
дверях.
— До свидания, мадам, — ответила Ивиш.
Когда Сара ушла, Матье принялся ходить по комнате. Его
знобило.
— Эта женщина — настоящий ураган, — смеясь, проговорил
он. — Она врывается как вихрь, все сокрушает и тут же исчезает.
Ивиш промолчала. Матье знал, что она не ответит. Он сел рядом
с ней и, глядя в сторону, сказал:
— Ивиш, я женюсь на Марсель.
Снова молчание. Матье посмотрел на тяжелые зеленые шторы.
Он почувствовал, что смертельно устал.
Опустив голову, он пояснил:
— Позавчера она мне сообщила, что беременна.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
269
Слова давались ему с трудом: он не смел повернуться к Ивиш,
но знал, что она на него смотрит.
— Интересно, зачем вы мне это говорите? — ледяным голосом
спросила Ивиш. — Это ваши дела.
Матье пожал плечами.
— Вы же знали, что она...
— ...ваша любовница? — высокомерно спросила Ивиш. —
Признаться, я не очень интересуюсь подобными историями.
Она поколебалась, потом рассеянно проговорила:
— Не понимаю, почему у вас такой удрученный вид. Если вы на
ней женитесь, значит, вы, безусловно, этого хотите. В противном
случае, судя по вашему разговору, есть и другой выход...
— У меня нет денег, — сказал Матье. — Я искал повсюду...
— Так вы для этого попросили Бориса одолжить у Лолы пять
тысяч франков?
— А, вы все знаете? Я не... да, если угодно, для этого.
— Какая мерзость!
— Не спорю.
— Впрочем, меня это не касается, — сказала Ивиш. — Вы сами
отвечаете за свои поступки.
Она допила чай и спросила:
— Который час?
— Без четверти девять.
— Уже темно?
Матье подошел к окну и раздвинул шторы. Серенький день еще
сочился сквозь жалюзи.
— Не совсем.
— Ну и ладно, — вставая, сказала Ивиш, — я все-таки пойду. Мне
еще чемоданы собирать, — простонала она.
— Что ж, до свидания, — сказал Матье.
Ему не хотелось удерживать ее.
— До свидания.
— Так я вас увижу в октябре?
Это вырвалось у него помимо воли. Ивиш так и подскочила.
— В октябре! — сверкая глазами, бросила она. — В октябре!
Нет уж!
Она засмеялась.
— Извините, — продолжала она, — но у вас такой нелепый вид.
Я и не помышляла брать у вас деньги: у вас их и так не слишком
много, чтобы обустроить свою семейную жизнь.
270
Жан Поль Сартр
— Ивиш! — сказал Матье, беря ее за руку.
Ивиш вскрикнула и резко высвободилась.
— Оставьте меня! Не прикасайтесь ко мне!
Матье уронил руки. Он почувствовал, как в нем вздымается
ярость.
— Я так и думала, — задыхаясь, продолжала она. — Вчера утром...
когда вы посмели прикоснуться ко мне... я себе сказала: «Это
повадки женатого человека».
— Хорошо, — жестко оборвал ее Матье. — Не стоит продолжать.
Я все понял.
Она была еще здесь, стояла перед ним, красная от бешенства, с
наглой улыбкой на губах: он испугался себя самого. Оттолкнув ее,
он бросился вон из квартиры и захлопнул входную дверь.
XVI
Ты не умеешь любить и от любви обмирать,
Мне остается в тоске руки к тебе простирать.
Кафе «Три мушкетера» сверкало всеми огнями в дымчато-
смутном вечере. Праздная толпа скопилась у террасы: скоро
светящееся кружево ночи от кафе к кафе, от витрины к витрине
протянется вдоль Парижа; люди ждали ночь, слушая музыку, у них был
счастливый вид, они зябко жались друг к другу под первым
красноватым отблеском заката. Матье обогнул эту лирическую толпу:
сладость вечера была не для него.
Ты не умеешь любить и обмирать от любви,
Никогда не будет этого у тебя в крови.
Длинная прямая улица. За его спиной, в зеленой комнате,
маленькое злобное создание изо всех сил понуждало его бежать. Перед
ним, в розовой комнате, неподвижная женщина ждала его,
расцветая от надежды. Через час он, крадучись, зайдет в розовую комнату
и будет проглочен этой сладкой надеждой, этой благодарностью,
этой любовью. На всю жизнь, на всю жизнь. В воду бросаются даже
из-за страстей помельче.
«Идиот! Подонок!»
Матье рванулся вперед — он едва не попал под автомобиль, —
но, споткнувшись о тротуар, рухнул на землю: он упал на руки.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
271
«Черт бы меня побрал!»
Он встал, ладони саднили. Он внимательно осмотрел грязные
руки: правая была черной, с несколькими ссадинами, левая сильно
болела; грязь запачкала повязку. «Этого только не хватало, —
серьезно подумал он. — Этого только не хватало». Он вынул платок,
смочил его слюной и с некоей нежностью потер ладони; ему
хотелось плакать. Секунду он стоял в нерешительности и с удивлением,
как бы другими глазами посмотрел на себя.
А потом расхохотался. Он смеялся над собой, над Марсель, над
Ивиш, над своей нелепой неуклюжестью, над своей жизнью, над
своими жалкими страстями; он вспоминал былые надежды и
смеялся над ними, потому что они так завершились — преисполненный
серьезности человек, готовый расплакаться оттого, что растянулся
на улице; Матье смотрел на себя без стыда, с холодным и веселым
ожесточением, он думал: «И я мог воспринимать себя всерьез?»
После нескольких приступов смех утих: над кем смеяться, когда
этого человека уже как бы не существовало?
Пустота. Тело, волоча ноги, двинулось вперед, тяжелое и
горячее, с содроганиями, спазмами бешенства в горле и желудке. Но оно
уже опустело. Улицы вытекли, как через отверстие раковины; то,
что их только что заполняло, куда-то сгинуло. Предметы остались
нетронутыми, но их сочетание распалось, теперь они свисали с неба
гигантскими сталактитами или вырастали из-под земли
причудливыми мегалитами. Все их обычные, еле слышные мольбы, их
тоненький стрекот чешуйчатокрылых — все рассеялось в воздухе, они
безмолвствовали. Еще недавно в них можно было угадать будущее
человека, который бросался на них, а они его отшвыривали в
туманность различных искусов. Но будущее скончалось.
Тело повернуло направо, нырнуло в танцующий и светящийся
газ, в глубь расселины между стеклянными глыбами с мерцающими
полосками. Темные массы, поскрипывая, влачились одна за другой.
На уровне глаз раскачивались мохнатые цветы. Между цветами, в
глубине этой расщелины, скользила некая прозрачность и с
ледяной страстью созерцала себя самое.
«Я пойду и возьму их!» Мир разом видоизменился, шумный и
озабоченный, с автомобилями, людьми, витринами; Матье очнулся
посреди улицы де Депар. Но это был уже совсем не тот мир и совсем
не тот Матье. В конце мира, по ту сторону зданий и улиц, была
запертая дверь. Он порылся в бумажнике и извлек ключ. Запертая
дверь там и плоский ключ здесь: единственные реальные предметы;
272
Жан Поль Сартр
между ними только нагромождение препятствий и расстояний.
«Через час. Еще есть время пройтись пешком». Один час: как раз
столько потребуется, чтобы дойти до той двери и открыть ее; за
этим часом не было ничего. Матье шел размеренным шагом, в ладу
с самим собой, он чувствовал себя злым и хладнокровным. «А если
Лола осталась в постели?» Он положил ключ в карман и подумал:
«Что ж, пусть так: я все равно возьму деньги».
Лампа светила тускло. Около оконца между фотографиями
Марлен Дитрих и Роберта Тейлора висел календарь-реклама с
маленьким зеркалом в ржавых пятнах. Даниель подошел к нему,
немного нагнулся и начал завязывать галстук; он спешил полностью
одеться. В зеркале у себя за спиной он увидел почти стертый грязью
зеркала и полутьмой худой и суровый профиль Ральфа, и руки его
задрожали: Даниеля охватило желание стиснуть эту худую шею с
выступающим кадыком и заставить ее хрустнуть под его пальцами.
Ральф повернул голову к зеркалу, он не знал, что Даниель видит
его, и устремил на него странный взгляд. «У него рожа убийцы», —
вздрогнув, подумал Даниель, но в конечном счете это была дрожь
удовольствия. «Маленький самец унижен, он меня ненавидит». Он
помедлил, завязывая галстук. Ральф все еще смотрел на него, и
Даниель наслаждался этой ненавистью, которая их объединяла,
воспаленная ненависть, которой, казалось, уже лет двадцать, почти
привычка; и это его очищало. «Однажды вот такой тип укокошит
меня, подкравшись сзади». Молодое лицо увеличится в зеркале, а
потом все будет кончено, наступит постыдная смерть, которая ему
и подобает. Он резко повернулся, и Ральф быстро опустил глаза.
Комната была накалена, как жаровня.
— У тебя нет полотенца?
У Даниеля были влажные руки.
— Посмотрите в кувшине.
В кувшине Даниель обнаружил грязное полотенце. Он
тщательно вытер руки.
— Не похоже, что в этом кувшине когда-нибудь была вода. Вы
оба, кажется, не слишком часто умываетесь.
— Мы умываемся под краном в коридоре, — мрачно пояснил
Ральф.
Наступило молчание, потом Ральф добавил:
— Так удобнее.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
273
Присев на край складной кровати, он надевал туфли, при этом
он втянул грудную клетку и приподнял правое колено. Даниель
смотрел на эту худую спину, молодые мускулистые руки, которые
выглядывали из коротких рукавов рубашки: в Ральфе есть некая
прелесть, объективно констатировал он. Но эта прелесть была ему
противна. Еще минута, и он будет на улице, все останется в
прошлом. Но Даниель знал, что его ожидало на улице. Надевая пиджак,
он чуть помешкал: плечи и грудь были залиты потом, он с
опасением подумал, что под тяжестью пиджака льняная рубашка
приклеится к влажной коже.
— У тебя дьявольски жарко, — сказал он Ральфу.
— Ну да, квартира-то под крышей.
— Который час?
— Только что пробило девять.
До наступления дня нужно как-то скоротать десять часов. Спать
он не ляжет. Когда после этого ложишься спать, становится гораздо
тяжелее. Ральф поднял голову.
— Я хотел спросить, месье Лолик... это вы посоветовали Бобби
вернуться к тому аптекаришке?
— Посоветовал? Нет. Я ему сказал, что он поступил как идиот,
уйдя из аптеки.
— Тогда ладно. Это не одно и то же. Сегодня утром он сказал
мне, что пойдет просить прощения и что этого хотите вы; по роже
было видно — врет.
— Ничего я не хочу, — сказал Даниель, — и я ему вовсе не
советовал просить у кого-то прощения.
Оба презрительно усмехнулись. Даниель хотел надеть пиджак,
но ему не хватило решимости.
— Я ему сказал: делай как знаешь, — проговорил, наклоняясь,
Ральф. — Это меня не касается. Раз тебе советует месье Лолик... Но
теперь понятно, что да как.
Он раздраженно завозился, завязывая шнурок левой туфли.
— Я ему ничего не скажу, — проговорил он, — он такой, он не
может без вранья. Но есть один тип, которого я ей-же-ей подловлю
в каком-нибудь закоулке.
— Аптекарь?
— Да. Но не старый. Молодой.
— Ученик?
— Да. Он гомик. Это он растрепал аптекарше про Бобби и меня.
Пусть Бобби не очень-то гордится, что вернулся в эту аптеку. Но
274
Жан Поль Сартр
будьте спокойны, как-нибудь вечером я подстерегу у выхода этого
недоноска.
Ральф злобно улыбнулся, он наслаждался своим гневом.
— Я притащусь, руки в карманах, видок — оторви и брось:. «Ты
меня узнаешь? Тогда все в порядке. Скажи-ка, что ты молол про
меня? А? Что ты про меня молол?» «Я ничего не говорил! Я
ничего не говорил!» «А, ты ничего не говорил?» И бац, удар под
ложечку, я его валю на землю, прыгаю сверху и прижимаю его рожу к
асфальту!
Даниель смотрел на него с насмешливым раздражением и
думал: «Все они одинаковые». Все. Кроме Бобби, который был и
остался бабой. После они любят клясться, что набьют кому-нибудь
морду. Ральф оживился, глаза его блестели, уши пылали: он
испытывал необходимость в движениях быстрых и резких. Даниель не
смог воспротивиться желанию унизить его еще больше.
— Скажи, а вдруг он тебя отлупит?
— Он? — злобно усмехнулся Ральф. — Пусть только попробует!
Спросите у парня из «Ориенталя» — этот уже понял, кто кого
отлупит. Малый лет тридцати вот с такими ручищами. Он болтал, что
хочет выставить меня.
Даниель надменно улыбнулся.
— И ты, конечно, сделал из него котлету?
— Ого! Спросите сами, — оскорбился Ральф. — На нас смотрело
человек десять. «Выйдем», — сказал я ему. Там был Бобби и еще
один, длинный, которого я с вами видел, Корбен, он с бойни. Так
вот, тот тип выходит. Ты что, говорит, хочешь проучить меня, отца
семейства? И тут я ему врезал! Для начала в глаз, а потом локтем.
Вот так! Прямо по сопатке! — Ральф вскочил, изображая эпизоды
драки. Он вертелся, мелькали его маленькие крепкие ягодицы,
обтянутые голубыми брюками. Даниель почувствовал, как его
охватывает ярость, ему захотелось ударить Ральфа. — Потом я его
припечатал, — продолжал Ральф. — Захват за ноги, и он на земле! Он
и охнуть не успел, этот отец семейства.
Ральф замолчал, угрожающий и полный спеси, под защитой
своей доблести. Он застыл, точно какое-то насекомое. «Я убью
его», — подумал Даниель. Он не очень верил в эти россказни, и все-
таки его унижало, что Ральф повалил на землю тридцатилетнего
мужика. Он засмеялся.
— Корчишь из себя богатыря, — с трудом проговорил
Даниель, — но в конце концов нарвешься на неприятности.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
275
Ральф тоже засмеялся, и они приблизились друг к другу.
— Богатыря я из себя не корчу, но здоровяков не боюсь.
— Стало быть, ты никого не боишься? — сказал Даниель. —
Совсем-совсем никого?
Ральф был весь красный.
— Не всегда здоровяки самые сильные!
— А ты? Ну-ка, покажи, какой ты сильный, — подзадоривал
Даниель, слегка толкая его.
Ральф, на секунду застыл, открыв рот, затем глаза его сверкнули.
— С вами я схлестнуться согласен. Понарошку, конечно, —
сказал он свистящим голосом. — Если по-честному, вам меня не
одолеть.
Даниель схватил его за пояс.
— Сейчас посмотрим, мой маленький.
Ральф был гибкий и выносливый: молодые мышцы так и
ходили под пальцами Даниеля. Они боролись молча, и Даниель начал
тяжело дышать, ему смутно казалось, будто он толстый и усатый.
Ральфу удалось его приподнять, но Даниель толкнул его двумя
руками в лицо, и Ральф его отпустил. Они снова стояли друг против
друга, улыбающиеся и полные ненависти.
— А, так вы по-настоящему хотите? — странным голосом сказал
Ральф. — По-настоящему хотите бороться?
Внезапно он, наклонив голову, бросился на Даниеля. Тот ушел
от удара и ухватил Ральфа за затылок. Он уже задыхался, а у
Ральфа был совсем бодрый вид. Они снова схватились и закружились
посреди комнаты. Во рту у Даниеля был острый и горький привкус:
«Нужно с этим кончать, не то он меня одолеет». Он изо всех сил
толкнул Ральфа, но тот устоял. Бешеная ярость охватила Даниеля,
он подумал: «Я смешон». Он быстро нагнулся, ухватил Ральфа за
ягодицы, приподнял его, швырнул на кровать и в том же броске
упал на него. Ральф отбивался, пытаясь царапаться, но Даниель
схватил его за запястья и прижал их к подушке. Они довольно
долго оставались в таком положении; Даниель слишком устал и не
мог встать. Ральф был пригвожден к кровати, беспомощный и
раздавленный весом мужчины, солидного и зрелого. Даниель с
наслаждением смотрел на парня: глаза Ральфа сверкали от ненависти, он
был прекрасен.
— Ну, кто кого одолел? — отдышливо спросил Даниель. — Кто
кого одолел, дружочек?
Ральф сразу же улыбнулся и через силу выдавил:
276
Жан Поль Сартр
— Да вы силач, месье Лолик.
Даниель отпустил парнишку и встал на ноги. Он задыхался и
был унижен. Сердце его яростно колотилось.
— Когда-то я был силачом. А теперь дыхания не хватает.
Ральф поднялся и поправил воротничок рубашки; он дышал
ровно и попытался засмеяться, но избегал взгляда Даниеля.
— Дыхание — это пустяки, — сказал он. — Просто нужно
потренироваться.
— Ты хорошо дерешься, — сказал Даниель, — но у нас разница
в весе.
Оба смущенно хихикнули. Даниелю хотелось схватить Ральфа
за горло и дать ему мощную оплеуху. Он надел пиджак; промокшая
от пота рубашка прилипла к коже.
— Ну все, — сказал он, — я ухожу. Будь здоров.
— До свидания, месье Лолик.
— Я кое-что для тебя припрятал, — сказал Даниель. — Поищи
хорошенько и найдешь.
Дверь закрылась. Даниель спустился по лестнице на ватных
ногах. «Сначала вымыться, — подумал он, — прежде всего
вымыться с головы до ног». Когда он выходил на улицу, в голову ему вдруг
пришла мысль, от которой он застыл на месте: утром, перед тем как
выйти, он побрился и оставил бритву на камине широко
открытой.
Открывая дверь, Матье нажал на легкий, приглушенный
звонок. «Утром я его не заметил, — подумал он, — наверно, его
включают вечером, после девяти». Он искоса бросил взгляд сквозь
стекло конторки и увидел тень: там кто-то был. Он не торопясь
дошел до щита с ключами. Комната 21. Ключ висел на гвозде. Матье
быстро взял его и положил в карман, затем сделал полуоборот и
вернулся к лестнице. За его спиной открылась дверь. «Сейчас меня
окликнут», — подумал он. Ему не было страшно: все было
предусмотрено.
— Эй там! Куда идете? — раздался грубоватый голос.
Матье обернулся и увидел худую высокую женщину в пенсне. Вид
у нее был значительный и встревоженный. Матье улыбнулся ей.
— Куда идете? — повторила она. — Могли бы сначала спросить.
Боливар. Негра звали Боливар.
— Я иду на четвертый этаж, к месье Боливару, — спокойно
ответил Матье.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
277
— Ладно! Просто я видела, как вы возились у щита, —
настороженно сказала женщина.
— Я смотрел, там ли его ключ.
— И что?
— Его нет. Значит, Боливар у себя, — сказал Матье.
Женщина подошла к щиту. Один шанс из двух.
— Да, — сказала она с разочарованным облегчением. — Он у
себя.
Матье, не ответив, стал подниматься по лестнице. На площадке
четвертого этажа он на минуту остановился, потом вставил ключ в
скважину номера 21 и открыл дверь.
Комната утопала в ночи. Красная ночь, пропахшая лихорадкой
и духами. Матье закрыл дверь на ключ и подошел к кровати.
Сначала он вытянул руки вперед, чтобы защитить себя от препятствий,
но быстро привык к полумраку. Кровать была не убрана, на валике
было две подушки, на них еще сохранились вмятины от тяжести
двух голов. Матье стал на колени перед сундучком и открыл его; он
почувствовал легкую тошноту. Ассигнации, которые он утром
бросил, лежали на связке писем: Матье взял пять банкнот, он ничего
не хотел красть для себя. «Что делать с ключом?» Он немного
подумал и решил оставить его в замке сундучка. Вставая, он увидел
справа в глубине комнаты дверь, которую утром не заметил. Он
подошел к ней и открыл: это был туалет. Матье чиркнул спичкой и
увидел в зеркале свое лицо, позолоченное пламенем. Он смотрел на
себя, пока пламя не погасло, затем бросил спичку и вернулся в
комнату. Теперь он четко различал мебель, одежду Лолы, ее пижаму,
ее халат, ее костюм, аккуратно разложенные на стульях и висящие
на плечиках; он зло засмеялся и вышел.
Коридор был пуст, но откуда-то доносились шаги и смех. По
лестнице кто-то поднимался. Матье хотел было вернуться в
комнату; но нет, ему было абсолютно безразлично, если его схватят. Он
вставил ключ в скважину и запер дверь на два оборота. Когда он
выпрямился, он увидел женщину, за которой шел солдат.
— Нам на пятый, — сказала женщина.
Солдат сказал:
— Высоковато.
Матье пропустил их, потом сошел вниз. Он весело подумал, что
самое трудное еще впереди: нужно снова повесить ключ на щит.
На втором этаже он остановился и перегнулся через перила.
Консьержка стояла на пороге входной двери к нему спиной и смо-
278
Жан Поль Сартр
трела на улицу. Матье бесшумно спустился по ступенькам и
повесил ключ на гвоздь, затем крадучись поднялся до площадки,
подождал немного и шумно спустился по лестнице. Консьержка
обернулась, и Матье, проходя мимо, попрощался с ней:
— До свидания, мадам.
— До свидания, — буркнула та.
Матье вышел, он чувствовал ее взгляд, упиравшийся ему в
спину, ему хотелось смеяться.
Умер гад — умер яд.
Он идет широкими шагами на ватных ногах. Он трепещет, во рту
у него пересохло. Улицы слишком лазурные, погода слишком
прекрасная. Пламя бежит вдоль фитиля, в конце его пороховая бочка.
Он поднимается по лестнице, шагая через ступеньку, ему трудно
вставить ключ в замочную скважину, рука его дрожит. Две кошки
улепетывают между ног: теперь он внушает им ужас. Умер гад...
Бритва здесь, на ночном столике, широко раскрытая. Он берет
ее за рукоятку и разглядывает. Рукоятка черная, лезвие белое.
Пламя бежит вдоль фитиля. Он проводит пальцем по лезвию бритвы,
чувствует на конце пальца кисловатый вкус пореза, он вздрагивает:
его правая рука должна все сделать сама. Бритва тут не помощник,
сама по себе она нейтральна, у нее вес сидящего на руке насекомого.
Даниель делает несколько шагов по комнате, ему нужна помощь,
какой-то знак. Но все неподвижно и молчаливо. Неподвижен стол,
неподвижны стулья, они плавают в неподвижном свете. Он стоит
один, и только он живой в этом ослепительно лазурном свете.
Ничто мне не поможет, ничто не произойдет. В кухне скребутся кошки.
Он нажимает рукой на стол, стол отвечает на его нажатие ответным,
таким же — ни больше, ни меньше. Вещи раболепны. Послушны,
покладисты. Моя рука сделает все. От раздражения и тревоги он
время от времени зевает. Больше от раздражения, чем от тревоги.
Он один в обрамлении предметов. Ничто не толкает его к действию,
но ничто и не мешает: нужно решаться самому. Его поступок — это
пока нечто отсутствующее. Кровавого цветка у него между ног еще
нет; красной лужицы на паркете тоже еще нет. Он смотрит на пол.
Паркет одноцветный, гладкий, для пятна нет места. Я буду лежать
на полу, неподвижный, с расстегнутыми и липкими брюками;
бритва будет на полу, красная, зазубренная, неподвижная. Он
зачарованно смотрит на бритву, на паркет: если бы он только мог достаточно
хорошо представить себе эту красную лужу и этот ожог, так, чтобы
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
279
они реализовались сами собой, чтобы не нужно было делать это
движение. Боль я выдержу. Я ее хочу, я ее призываю. Но это
движение, это движение... Он смотрит на пол, затем на лезвие. Напрасно:
воздух мягкий, комната мягко затемнена, бритва мягко блестит и
мягко давит на руку. Движение, нужно лишь одно движение — и
настоящее погибнет с первой же каплей крови. Моя рука, моя рука
должна это сделать.
Он идет к окну, смотрит на небо. Задергивает шторы. Левой
рукой. Зажигает свет. Левой. Берет бумажник. Вынимает пять
тысяч франков. На письменном столе берет конверт, кладет туда
деньги. Пишет на конверте: «Для месье Деларю, улица Югенс, 12».
Кладет его на виду на стол. Встает, идет, уносит гада, прижатого к
его животу, гад сосет его, он его остро ощущает. Да или нет. Он в
ловушке. Нужно решаться. Для этого впереди вся ночь. Он один,
наедине с собой. И так будет всю ночь. Его правая рука снова берет
бритву. Он боится своей руки, он за ней следит. Она одеревенела. Он
говорит: «Ну же!» И легкая щекочущая дрожь пробегает по его телу
от поясницы до затылка. «Ну же, пора с этим кончать!» Если б
можно было вдруг оказаться искалеченным, как оказываешься утром на
ногах после звонка будильника, не зная, как и когда встал. Но нужно
сначала сделать это непристойное движение, это движение у
писсуара, расстегивать брюки долго и терпеливо. Неподвижность бритвы
передается его ладони, его руке. Живое, теплое тело с каменной
рукой. Огромная рука статуи, недвижная, ледяная, с бритвой на конце.
Он разжимает пальцы. Бритва падает на стол.
Бритва здесь, на столе, широко раскрытая. Ничто не
изменилось. Он может протянуть руку и снова взять ее. Безвольная бритва
подчинится. Еще есть время; времени еще много, в запасе целая
ночь. Он ходит по комнате. Он больше себя не ненавидит, он
больше ничего не хочет, он плавает. Гад здесь, у него между ног, прямой
и упругий. Мерзость! Если это так тебе противно, мой милый, то
бритва здесь, на столе. Умер гад... Бритва. Бритва. Он кружит вокруг
стола, не отрывая от нее глаз. Значит, тебе ничто не мешает ее взять?
Ничто. Все неподвижно и спокойно. Он протягивает руку, щупает
лезвие. Моя рука сделает все сама. Он отпрыгивает назад,
распахивает дверь и вылетает на лестницу. Одна из его кошек, обезумев от
испуга, скатывается по лестнице впереди него.
Даниель бежал по улице. Наверху осталась распахнутая дверь,
зажженная лампа, бритва на столе; кошки бродят по темной лест-
280
Жан Поль Сартр
нице. Ничто не мешает ему вернуться. Комната покорно ждет его.
Ничто не решено, ничто никогда не будет решено. Нужно бежать,
бежать как можно дальше, погрузиться в шум, в свет, в толпу, снова
стать человеком среди других, чтобы на тебя смотрели другие. Он
добежал до «Руа Улаф», задыхаясь, толкнул дверь.
— Виски! — тяжело выдохнул он.
Глухие удары сердца отдавались в кончиках пальцев, во рту был
привкус чернил. Он сел за огороженный столик в глубине.
— У вас усталый вид, — уважительно сказал официант.
Это был высокий норвежец, который говорил по-французски
без акцента. Он доброжелательно смотрел на Даниеля, и Даниель
почувствовал себя богатым клиентом с причудами, который
оставляет хорошие чаевые. Он улыбнулся.
— Я неважно себя чувствую, — объяснил он, — у меня
небольшая температура.
Официант покачал головой и удалился. Даниель снова
погрузился в свое одиночество. Там, наверху, ждала его комната, совсем
готовая, дверь широко распахнута, на столе блестит бритва.
«Никогда я не смогу вернуться домой». Он будет пить столько, сколько
нужно. А в четыре часа официант с помощью бармена отнесет его в
такси. Как всегда.
Официант вернулся с наполовину налитым стаканом и
бутылкой воды «Перрье».
— Именно то, что вы любите, месье, — сказал он.
— Благодарю.
В этом тихом баре Даниель был один. Золотистый свет пенился
вокруг него; золотистая облицовка перегородок мягко блестела; они
покрыты толстым слоем лака, на ощупь он липкий. Даниель налил
в бокал воду «Перрье», и виски какой-то миг искрилось,
беспокойные пузырьки поднимались на поверхность, они торопились, как
кумушки, потом этот маленький переполох успокоился. Даниель
смотрел на желтую жидкость с плавающей полоской пены: похоже
на выдохшееся пиво. Невидимые, где-то переговаривались по-
норвежски официант и бармен.
— Официант, еще!
Он смахнул рукой бокал, и тот разбился на плиточном полу.
Бармен и официант сразу замолкли; Даниель нагнулся и заглянул
под стол: жидкость медленно ползла по плиткам, продвигая
ложноножки к ножке стула.
Подбежал официант.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
281
— Как я неловок! — улыбаясь, простонал Даниель.
— Заменить? — спросил официант.
Он наклонился, чтобы вытереть жидкость и собрать осколки;
ягодицы его напряжены.
— Да... нет, — быстро сказал Даниель. — Это профилактика, —
шутливо добавил он. — Сегодня вечером мне не следует пить
спиртное. Дайте полбутылки «Перрье» с ломтиком лимона.
Официант удалился. Даниель почувствовал себя спокойнее.
Непроницаемое настоящее преобразовывалось вокруг него. Запах
имбиря, золотистый свет, деревянные перегородки...
— Благодарю.
Официант открыл бутылку и наполнил бокал. Даниель выпил
и поставил бокал на стол. «Я знал! Я знал, что не сделаю этого!»
Когда он крупным шагом шел по улице, когда через ступеньку
бежал по лестнице, он уже знал, что не доведет все до конца; он
это знал, когда брал бритву, он ни на секунду не обманывался,
какой ничтожный комедиант! Только под конец ему удалось
нагнать на себя страху, и тогда он сбежал. Даниель взял бокал и
стиснул его в руке: изо всех сил он хотел почувствовать к себе
отвращение, и сейчас для этого был прекрасный повод. «Подлец!
Трус и комедиант: подлец!» На мгновение ему показалось, что вот-
вот это ему удастся, но нет, это были только слова. Нужно было...
А, не важно кто, не важно, какой судья, он согласился бы на
любого, только не на себя самого, не на это жестокое презрение к себе,
никогда не имевшее достаточно силы, не на это слабое затухающее
презрение, ежеминутно почти исчезающее, но не проходящее до
конца. Если бы знал кто-то еще, если бы он мог почувствовать, как
на него давит тяжелое презрение другого... «Но я никогда не
смогу, лучше я оскоплю себя». Он посмотрел на часы, одиннадцать,
нужно убить еще восемь часов, и тогда наступит утро. Время
остановилось.
Одиннадцать! Он вздрогнул: «Матье сейчас у Марсель. Она с
ним говорит. Она с ним говорит именно сейчас, она обнимает его за
шею, она считает, что он недостаточно быстро объясняется... Это
тоже сделал я». Даниель задрожал всем телом: «Матье уступит, он
непременно уступит, все-таки я испортил ему жизнь».
Он отставил в сторону бокал и застыл с остановившимся
взглядом, он не мог ни презирать себя, ни забыть. Он хотел умереть, и
все-таки он существует, упорно заставляет себя существовать. Но
он хотел бы умереть, он думает, что хотел бы умереть, он думает, что
282
Жан Поль Сартр
думает, что хотел бы умереть... Впрочем, есть одно средство. Он
сказал это вслух, и к нему подбежал официант.
— Вы меня звали?
— Да, — рассеянно сказал Даниель. — Это вам.
Он бросил на стол сто франков. Есть одно средство. Есть
средство все уладить! Он выпрямился и быстрыми шагами пошел к
выходу. «Дивное средство!» Он ухмыльнулся: он всегда веселился,
когда была возможность подстроить себе гнусную каверзу.
XVII
Матье тихо закрыл дверь, слегка приподнимая ее на петлях,
чтоб не скрипнула, затем поставил ногу на первую ступеньку
лестницы, нагнулся и развязал шнурок. Грудь его касалась колена. Он
снял туфли, взял их в левую руку, выпрямился и положил правую
на перила, подняв глаза на бледно-розовый туман, повисший в
сумраке. Матье больше себя не осуждал. Он медленно поднимался в
темноте, стараясь, чтобы ступеньки не скрипели.
Дверь комнаты была полуоткрыта; он толкнул ее. Внутри стоял
удушливый запах. Казалось, весь зной дня выпал в осадок в этой
комнате. Сидевшая на кровати женщина, улыбаясь, смотрела на
него — это Марсель. Она надела красивый белый халат с
позолоченным поясом и тщательно нарумянилась, у нее был бодрый и
торжественный вид. Матье закрыл дверь и застыл на месте, опустив
руки, горло его стиснула невыносимая сладость существования. Он
здесь, здесь он расцветал, рядом с этой улыбающейся женщиной,
полностью погруженный в этот запах болезни, конфет и любви.
Марсель откинула голову и лукаво смотрела на него сквозь
полузакрытые веки. Он ответил на ее улыбку и направился ставить туфли
в стенной шкаф. Голос, полный нежности, выдохнул ему в спину:
— Мой дорогой...
Он резко обернулся и прислонился к шкафу.
— Привет, — тихо отозвался он.
Марсель подняла руку к виску и пошевелила пальцами.
— Привет, привет!
Она встала, обняла его за шею и поцеловала, проникнув языком
в его рот. Она наложила на веки голубые тени, в волосах был
цветок.
— Тебе жарко, — сказала она, лаская его затылок.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
283
Она смотрела на него снизу вверх, откинув немного голову и
просовывая кончик языка между зубов, взволнованная и
счастливая, она была красива. Матье со сжавшимся сердцем вспомнил о
безобразной худосочности Ивиш.
— Ты нынче весела, — сказал он. — Однако вчера по телефону
мне показалось, что у тебя скверное настроение.
— Нет, просто я вела себя глупо. Но сегодня все прекрасно.
— Ты хорошо провела ночь?
— Спала как сурок.
Она снова его поцеловала, и он почувствовал на своих губах
бархат ее губ, а потом их гладкую, горячую и быструю нагую
изнанку, ее язык. Он мягко высвободился. Под халатом Марсель была
голой, он видел ее красивую грудь и ощутил во рту сладковатый
привкус. Она взяла его за руку и увлекла к кровати.
— Сядь рядом со мной.
Он сел. Марсель все еще держала его руку в своих, неловко и
лихорадочно сжимала ее, и Матье казалось, что тепло этих рук
поднимается вплоть до подмышек.
— Как у тебя жарко, — сказал он.
Марсель не ответила, она пожирала его глазами, приоткрыв рот,
с видом смиренным и доверчивым. Матье исподволь пронес левую
руку мимо живота и запустил ее в карман брюк, чтобы взять
сигареты. Марсель перехватила взглядом его руку и негромко
вскрикнула:
— Что у тебя с рукой?
— Порезался.
Марсель выпустила его правую руку и на лету схватила левую;
она перевернула ее, как блин, и стала внимательно рассматривать
ладонь.
— Но повязка ужасно грязная, может быть заражение! Там все
черное; откуда такая грязь?
— Я упал.
Она снисходительно засмеялась.
— И порезался, и упал. Как вам нравится этот недотепа! Что же
ты натворил? Постой-ка, я сменю повязку, эта не годится.
Она разбинтовала руку Матье и покачала головой.
— Ой, какая скверная рана, как это тебя угораздило? Ты был
пьян?
— Вовсе нет. Это было вчера вечером в «Суматре».
— В «Суматре»?
284
Жан Поль Сартр
Широкие бледные щеки, золотые кудри, завтра, завтра я
подниму для вас волосы.
— Это затея Бориса, — ответил Матье. — Он купил нож и стал,
меня подначивать, что я не посмею всадить его себе в руку.
— А ты, естественно, тут же и всадил. Но ты абсолютно
ненормальный, бедняга, эти детишки в конце концов превратят тебя в
осла. Посмотрите-ка на эту бедную израненную лапу.
Ладонь Матье неподвижно лежала в ее горячих руках; рана была
отвратительна, с почерневшей сочащейся коркой. Марсель
медленно поднесла руку Матье к лицу, пристально посмотрела на нее,
потом вдруг нагнулась и смиренно припала губами к ране. «Что с
ней?» — подумал он. Он привлек Марсель к себе и поцеловал ее в
ухо.
— Тебе хорошо со мной? — спросила Марсель.
— Конечно.
— По твоему виду этого не скажешь.
Матье, не ответив, улыбнулся ей. Марсель встала и пошла к
шкафу за аптечкой. Она повернулась к нему спиной, стала на
цыпочки и подняла руки, чтобы дотянуться до верхней полки; рукава
скользнули вниз. Матье смотрел на обнаженные руки, которые он
так часто ласкал, и прежние желания шевельнулись в его сердце.
Марсель вернулась с неуклюжей проворностью.
— Давай лапу.
Она напитала спиртом маленькую губку и стала промывать
рану. Он чувствовал на своем бедре тепло так хорошо знакомого ему
тела.
— Лизни!
Марсель протянула ему кусочек пластыря. Он вытянул язык и
послушно лизнул розовую ткань. Марсель приложила пластырь к
ране, взяла прежнюю повязку и с веселым отвращением подержала
ее кончиками пальцев.
— Что мне делать с этой гадостью? Когда ты уйдешь, выброшу
ее в мусорный бак.
Она быстро перевязала ему руку белоснежным бинтом.
— Значит, Борис тебя подначил? И ты резанул себе руку?
Большой, а хуже ребенка! А он сделал то же?
— Нет, конечно.
Марсель засмеялась.
— Он тебя обставил!
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
285
Она зажала во рту английскую булавку, двумя руками разрывая
бинт. Сжимая губами булавку, она сказала:
— А Ивиш там тоже была?
— Когда я порезался?
-Да.
— Нет, она танцевала с Лолой.
Марсель заколола повязку булавкой. На стальной головке
осталось немного помады.
— Все! Готово. Вы славно повеселились?
— Так себе.
— В «Суматре» хорошо? Знаешь, чего я хочу? Чтобы ты когда-
нибудь меня туда сводил.
— Но это тебя утомит, — раздраженно возразил Матье.
— Ну, один-то раз... Устроим себе настоящий праздник, мы так
давно с тобой нигде не бывали вместе.
«Не бывали вместе!» Матье с раздражением повторил про себя
это супружеское выражение: Марсель вечно выбирала не те слова.
— Ты не против? — спросила она.
— Послушай, — сказал он, — с любом случае это будет не раньше
осени: до того времени тебе следует основательно отдохнуть, и
потом, скоро ресторан, как всегда раз в году, закроется. Лола
отправляется на гастроли по Северной Африке.
— Что ж, пойдем осенью. Обещаешь?
— Обещаю.
Марсель смущенно кашлянула.
— Я вижу, ты на меня немного сердишься, — проговорила она.
-Я?
— Да... Я позавчера вела себя некрасиво.
— Да нет же. С чего ты взяла?
— Да. Не спорь. Но я нервничала.
— Еще бы. И все из-за меня, бедняжка моя.
— Тебе не в чем себя упрекать, — доверчиво сказала она. — Ни
прежде, ни теперь.
Матье не осмелился повернуться к ней, он очень хорошо
представлял выражение ее лица, он не мог вынести этого
необъяснимого и незаслуженного доверия. Наступило долгое молчание: она,
конечно, ждала ласковых слов, слов прощения. Матье не
выдержал:
— Посмотри.
286
Жан Поль Сартр
Он вынул из кармана бумажник и бросил его на колени.
Марсель вытянула шею и положила подбородок на плечо Матье.
— На что я должна посмотреть?
— На это.
Он извлек из бумажника ассигнации.
— Одна, две, три, четыре, пять, — пересчитал он, победно
шелестя ими. Банкноты еще пахли Лолой. Матье помедлил, держа
деньги на коленях, и, поскольку Марсель молчала, он повернулся к ней.
Марсель подняла голову и, сощурившись, смотрела на деньги.
Казалось, она ничего не понимала. Потом она медленно повторила:
— Пять тысяч франков...
Матье добродушно развел руками, намереваясь положить
деньги на ночной столик.
— Да! — сказал он. — Пять тысяч франков. Нелегко было их
раздобыть.
Марсель не ответила. Она покусывала нижнюю губу и
недоуменно смотрела на деньги: она разом постарела. Но продолжала
грустно и доверчиво глядеть на Матье. Затем заговорила:
— А я думала...
Матье быстро перебил ее.
— Теперь ты сможешь пойти к этому еврею. Кажется, он своего
рода знаменитость. Сотни женщин в Вене прошли через его руки.
И в основном великосветские женщины, богачки.
Глаза Марсель погасли.
— Тем лучше, — сказала она. — Тем лучше.
Она взяла из аптечки английскую булавку и стала нервно
сгибать ее и разгибать. Матье добавил:
— Я тебе их оставляю. Думаю, Сара отведет тебя к нему, и ты тут
же расплатишься. Этот чертов еврей требует, чтобы ему платили
сразу.
Наступило молчание, затем Марсель спросила:
— Где ты взял деньги?
— Угадай.
— У Даниеля?
Он пожал плечами: она прекрасно знала, что Даниель отказал.
-Жак?
— Нет. Я же тебе сказал вчера, по телефону.
— Тогда не знаю, — суховато сказала Марсель. — Кто же?
— Никто мне их не давал, — буркнул он.
Марсель слабо улыбнулась.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
287
— Что ж ты их украл, что ли?
— Вот именно.
— Ты их украл? — ошеломленно переспросила она. — Но... ты
шутишь?
— Нет, не шучу. Я взял их у Лолы.
Наступило молчание. Матье вытер вспотевший лоб.
— Я тебе все расскажу, — пообещал он.
— Ты их украл! — медленно повторила Марсель.
Ее лицо посерело; она сказала, не глядя на него:
— Тебе так хотелось избавиться от этого ребенка...
— Нет, я просто не хотел, чтобы ты пошла к той бабке.
Она думала; у рта ее снова обозначились суровые и
презрительные складки. Он спросил:
— Ты меня осуждаешь за эту кражу?
— Плевать я на это хотела.
— Но тогда в чем дело?
Марсель сделала резкое движение, и аптечка упала на пол. Оба
посмотрели на нее, Матье оттолкнул ее ногой. Марсель медленно
повернула к нему удивленное лицо.
— В чем дело? — повторил Матье.
Она отрывисто засмеялась.
— Почему ты смеешься?
— Я смеюсь над собой, — сказала она.
Марсель вынула из волос цветок и стала вертеть его между
пальцев. Она прошептала:
— Какой я была дурой...
Лицо ее ожесточилось. Она так и сидела с открытым ртом, как
будто хотела что-то сказать, но слова застряли в горле: казалось, она
испугалась того, что собиралась сказать. Матье взял ее за руку, но
Марсель высвободилась. Не глядя на него, она выговорила:
— Я знаю, что ты видел Даниеля.
Вот оно что! Она откинулась назад и сжала руками простыню;
она выглядела испуганной и одновременно успокоенной. Матье
тоже почувствовал некоторое облегчение: все карты раскрыты,
теперь надо идти до конца. Для этого у них целая ночь.
— Да, я его видел. Откуда ты знаешь? Значит, это ты его
подослала? Вы это подстроили вместе?!
— Не говори так громко, — остановила его Марсель, — маму
разбудишь. Я его не подсылала, но я знала, что он хотел с тобой
встретиться.
288
Жан Поль Сартр
Матье печально проговорил:
— Как все это некрасиво!
— Да, некрасиво, — с горечью признала Марсель.
Они замолчали: Даниель был здесь, он сидел между ними.
— Что ж, — начал Матье, — нужно откровенно объясниться, нам
ничего, кроме этого, не остается.
— Нечего объяснять, — сказала Марсель. — Ты видел Даниеля,
он тебе сказал то, что намеревался сказать, а ты после встречи с ним
пошел и украл у Лолы пять тысяч франков.
— Да. А ты уже несколько месяцев тайком принимаешь
Даниеля. Видишь — есть что объяснять. Послушай, — быстро спросил
он, — что случилось позавчера?
— Позавчера?
— Не делай вид, будто не понимаешь. Даниель мне сказал, что
ты меня упрекаешь за мое позавчерашнее поведение.
— Ладно, оставь, — сказала она. — Не забивай себе голову.
— Прошу тебя, Марсель, не упрямься. Клянусь, я готов признать
все свои ошибки. Но скажи, что случилось позавчера? Будет куда
лучше, если мы снова станем друг другу доверять.
Она все еще колебалась, хмурая и немного размякшая.
— Прошу тебя, — повторил он, взяв ее за руку.
— Ну что ж... как всегда, тебе было плевать на то, что я думаю.
— А что ты думаешь?
— Зачем ты меня заставляешь говорить? Ты все хорошо знаешь
и без меня.
— Верно, мне кажется, действительно знаю.
Он подумал: «Конечно, я на ней женюсь». Это было ясно как
день. «Нужно быть просто негодяем, чтобы прикидывать, как бы с
ней порвать». Она была с ним, она страдала, она несчастна и зла, и
ему достаточно сделать только одно движение — и она успокоится.
Он спросил:
— Ты хочешь, чтобы мы поженились?
Марсель вырвала у него руку и резко поднялась. Он
недоуменно смотрел на нее: она мертвенно побледнела, губы ее дрожали.
— Ты... Так тебе сказал Даниель?
— Нет, — озадаченно ответил Матье. — Я сам сделал такой
вывод.
— Сам сделал такой вывод! — смеясь, проговорила она. — Сам
сделал такой вывод! Даниель тебе сказал, что я расстроена, и ты
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
289
решил, будто я хочу заставить тебя жениться. Вот как ты обо мне
думаешь... И это после семи лет!
Руки ее задрожали. Матье захотелось ее обнять, но он не
посмел.
— Ты права, — сказал он, — я не должен был так думать.
Марсель, казалось, не слышала его. Он продолжал настаивать:
— Послушай, у меня были веские причины: Даниель сказал, что
вы тайком от меня видитесь.
Она молчала. Матье мягко продолжил:
— Ты хочешь ребенка?
— Ха! — усмехнулась Марсель. — Это тебя не касается. То, чего
я хочу, тебя больше не касается!
— Прошу тебя, — сказал Матье, — еще есть время...
Она покачала головой.
— Неправда, времени больше нет.
— Но почему, Марсель? Почему ты не хочешь спокойно все
обсудить? Нам хватит часа: все уладится, все прояснится...
— Не хочу.
— Но почему? Почему?
— Потому что теперь я не слишком тебя уважаю. К тому же ты
меня больше не любишь.
Она говорила убежденно, но, казалось, удивилась и испугалась
собственных слов; в ее глазах застыл лишь тревожный вопрос. Она
грустно продолжила:
— Чтобы подумать обо мне то, что ты подумал, нужно совсем
меня не любить...
Это был почти вопрос. Если бы он обнял ее, сказал, что любит,
все еще могло быть спасено. Он женился бы на ней, у них был бы
ребенок, они прожили бы бок о бок всю жизнь. Матье встал, он
собирался сказать: «Я люблю тебя». Но помедлил и вдруг четко
произнес:
— Что ж, это правда...Я больше тебя не люблю.
Слова уже были сказаны, но он все еще с ошеломлением слышал
их. Он подумал: «Кончено, все кончено». Марсель отскочила, издав
торжествующий крик, но тотчас же прикрыла рот рукой и сделала
Матье знак молчать, озабоченно прошептав:
— Мама...
Оба прислушались, но до их слуха донесся лишь отдаленный
гул машин. Матье сказал:
— Но я еще очень дорожу тобой...
290
Жан Поль Сартр
Марсель надменно засмеялась.
— Естественно. Только ты дорожишь... несколько иначе, чем
прежде. Не так ли?
Матье взял ее за руку.
— Послушай, я...
Марсель резко вырвала руку.
— Не надо. Я узнала то, что хотела.
Она подняла потные пряди волос, упавшие на лоб. И вдруг
улыбнулась, как от хорошего воспоминания.
— Скажи, — с внезапной злобной радостью продолжила она, —
вчера по телефону ты говорил мне совсем другое. Ты мне сказал: «Я
люблю тебя», хотя никто тебя об этом не просил.
Матье не ответил. Она проговорила уничтожающе:
— Как же ты меня презираешь...
— Я тебя не презираю, — возразил Матье. — Я...
— Уходи! — вспыхнула Марсель.
— Ты с ума сошла, — сказал Матье. — Я не хочу уходить, мне
нужно тебе объяснить, я...
— Уходи, — повторила она глухо, с закрытыми глазами.
— Но я сохранил к тебе всю свою нежность, — отчаянно твердил
он, — я не собираюсь тебя бросать. Я хочу остаться с тобой на всю
жизнь, я женюсь на тебе, я...
— Уходи, — сказала она, — уходи, я не хочу тебя больше видеть,
уходи, или я не отвечаю за себя, я начну выть.
Она задрожала всем телом. Матье шагнул к ней, она грубо его
оттолкнула.
— Если не уйдешь, я позову мать.
Он открыл шкаф и взял туфли, он чувствовал себя смешным и
гнусным. Она сказала ему в спину:
— Забери свои деньги.
Матье обернулся.
— Нет, — возразил он. — Это само по себе. Дело в том...
Она взяла деньги с ночного столика и швырнула их ему в лицо,
Банкноты разлетелись по комнате и упали на коврик у кровати.
Матье не поднял их; он смотрел на Марсель. Тут она начала
прерывисто смеяться, закрыв глаза.
— Ха!.. Как смешно! А я-то думала...
Он хотел подойти, но она открыла глаза и, отступив назад,
показала ему на дверь. «Если я останусь, она заорет», — подумал
Матье. Он повернулся и вышел из комнаты в носках, держа туфли.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
291
Спустившись по лестнице, он обулся, ненадолго остановился,
взявшись за ручку двери, и прислушался. Внезапно до него донесся
низкий и мрачный смех Марсель. Он вздымался, как ржание, и
постепенно затухал. Раздался голос:
— Марсель! Что случилось? Марсель!
Это была ее мать. Смех резко пресекся, все погрузилось в
тишину. Матье еще минуту прислушивался, потом тихо открыл дверь и
вышел.
XVIII
Матье думал: «Я негодяй», и это его безмерно удивляло. В нем
не осталось ничего, кроме усталости и оцепенения. Он остановился
на площадке третьего этажа, чтобы отдышаться. Ноги были
ватными; за трое суток он спал всего шесть часов, а может, даже и меньше.
«Сейчас лягу спать». Он сбросит кое-как одежду, доковыляет до
кровати и рухнет на нее. Но он знал, что не уснет и будет всю ночь
лежать, устремив взгляд в темноту. Он добрался до двери квартиры,
она была открыта, Ивиш, должно быть, в панике бежала; в
кабинете еще горела лампа.
Он вошел и увидел Ивиш — та, оцепенев, сидела на диване.
— Я не ушла, — сказала она.
— Вижу, — холодно откликнулся Матье.
Они с минуту помолчали; Матье слышал громкий и мерный
шум своего собственного дыхания. Ивиш, отвернувшись,
пробормотала:
— Я вела себя мерзко.
Матье не ответил. Он смотрел на волосы Ивиш и думал:
«Неужели я все это сделал из-за нее?» Она наклонила голову, и Матье
с прилежной нежностью посмотрел на смуглый девичий затылок.
Он хотел бы почувствовать, что дорожит ею больше всего на свете,
чтобы его поступок имел хотя бы это оправдание. Но он не
чувствовал ничего, кроме беспредметного гнева от совершенного поступка,
голого, скользящего, непонятного: он украл деньги, он бросил
беременную Марсель — ради чего?
Ивиш сделала над собой усилие и вежливо сказала:
— Я не должна была вмешиваться и навязывать свое мнение...
Матье пожал плечами.
— Я только что порвал с Марсель.
292
Жан Поль Сартр
Ивиш подняла голову и бесцветным голосом произнесла:
— Вы оставили ее, не дав ей денег?
Матье улыбнулся. «Естественно, — подумал он. — Сделай я так,
она бы теперь меня в этом упрекнула».
— Нет. Я все уладил.
— Вы нашли деньги?
-Да.
— Где же?
Он не ответил. Она с беспокойством посмотрела на него.
— Но вы не...
— Да. Я их украл, если вы это имеете в виду. У Лолы. Я проник
к ней в номер, когда ее там не было.
Ивиш сощурилась, и Матье пояснил:
— Я их ей верну. Это вынужденный заем, вот и все.
У Ивиш был глупый вид, она медленно, как только что Марсель,
повторила:
— Вы обокрали Лолу.
Ее проникновенный вид разозлил Матье. Он быстро сказал:
— Да, знаете ли, это не шибко геройский поступок: нужно было
всего лишь подняться по лестнице и открыть дверь.
— Зачем вы это сделали?
Матье коротко засмеялся.
— Кабы я знал!
Она резко выпрямилась, и лицо ее стало суровым и замкнутым,
как в те минуты, когда она оборачивалась на улице, чтобы
проследить глазами за красивой женщиной или молодым человеком. Но
на сей раз она смотрела на Матье. Матье почувствовал, что
краснеет. Из щепетильности он пояснил:
— Я не собирался ее бросать. Я просто хотел дать ей денег
вместо того, чтоб жениться на ней.
— Понимаю, — кивнула Ивиш.
Но она продолжала недоуменно смотреть на него. Он настаивал,
отвернувшись:
— Все вышло не очень-то пристойно: она меня выгнала. Она все
это плохо восприняла; не знаю, чего она ожидала.
Ивиш не ответила, и Матье умолк, охваченный тревогой. Он
подумал: «Не хочу, чтоб она меня вознаградила».
— Вы красивы, — сказала Ивиш.
Матье с унынием почувствовал, как в нем возрождается
пронзительная любовь. Ему показалось, что он бросает Марсель вторич-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
293
но. Он ничего не сказал, только сел рядом с Ивиш и взял ее за руку.
Она сказала ему:
— У вас потрясающе одинокий вид.
Матье стало стыдно. Наконец он проговорил:
— Интересно, о чем вы думаете, Ивиш? Все это более чем
прискорбно: я украл деньги в смятении, и сейчас меня мучает совесть.
— Я прекрасно вижу, что вас мучает совесть, — улыбнулась
Ивиш. — Думаю, что и меня бы она мучила: в первый раз всегда так.
Матье сильно сжал маленькие неподатливые пальцы с острыми
ноготками. Он сказал:
— Вы ошибаетесь, я не...
— Молчите, — остановила его Ивиш.
Она решительно высвободила руку и отбросила назад волосы,
открывая щеки и уши. Ей хватило нескольких быстрых движений,
и, когда она опустила руки, ее лицо было оголено.
— Вот так, — произнесла она.
Матье подумал: «Она хочет отнять у меня все, вплоть до
угрызений совести». Он протянул руку, привлек к себе Ивиш, и она
этому не противилась; он услышал в себе живой и веселый
мотивчик, о котором, казалось, давно забыл. Голова Ивиш переместилась
на его плече, Ивиш ему широко улыбалась. Он улыбнулся ей в ответ
и легко поцеловал в губы, потом посмотрел на нее, и мотивчик
резко оборвался: «Но она же еще ребенок», и он почувствовал себя
совершенно одиноким.
— Ивиш, — тихо позвал он.
Она с удивлением посмотрела на него.
— Ивиш, я... я был не прав.
Она нахмурила брови и, протестуя, мелко затрясла головой.
Матье опустил руки и устало сказал:
— Я не знаю, чего хочу от вас.
Ивиш вздрогнула и быстро высвободилась. Ее глаза сверкнули,
но она притушила блеск и приняла грустный и нежный вид. Только
руки ее безумно двигались: они летали вокруг нее, хватались за
голову, тянули за волосы. У Матье пересохло в горле, но он
наблюдал этот гнев почти безразлично. Он думал: «Тут я тоже все
испортил»; он был почти доволен: получалось как бы искупление. Он
продолжил, ища взгляд, который она упорно прятала.
— Не нужно было вас трогать.
— Да это не имеет значения, — процедила она, покраснев от
бешенства.
294
Жан Поль Сартр
Потом нараспев добавила:
— У вас такой гордый вид, оттого что вы приняли решение, я уж
подумала, что вы пришли за вознаграждением.
Он нежно взял ее за руку немного выше локтя. Она не
вырывалась.
— Но я люблю вас, Ивиш.
Ивиш напряглась.
— Я не хотела бы, чтоб вы подумали... — начала она.
— О чем?
Но он догадывался. Он отпустил ее руку.
— У меня... у меня нет к вам чувства, — сказала Ивиш.
Матье не ответил. Он подумал: «Она берет реванш, и это
правильно». Впрочем, скорее всего это было правдой: с какой стати ей
любить его? Он больше ничего не желал, разве только долго
молчать, сидя рядом с ней, и еще чтоб в конце концов она молча ушла.
Тем не менее он спросил:
— Вы вернетесь в будущем году?
— Вернусь, — пообещала она.
Ивиш ему почти нежно улыбалась, должно быть, она упивалась
своей удовлетворенной гордыней. Это было то же лицо, которое она
обратила к нему вчера, когда служительница из туалета
перевязывала ей руку. Матье неуверенно смотрел на нее и чувствовал, как
возрождается его желание. Это грустное и безропотное желание не
было желанием пустоты. Он взял ее за руку, почувствовал ее
свежую кожу и сказал:
— Я вас...
Но тут же остановился. В дверь звонили: сначала один звонок,
потом два, потом непрерывный звон. Матье похолодел: «Марсель!»
Ивиш побледнела, конечно, ей тоже пришла в голову эта мысль.
Они переглянулись.
— Нужно открыть, — прошептала она.
— Думаю, да, — согласился Матье.
Но не пошевелился. В дверь уже барабанили. Ивиш, вздрогнув,
сказала:
— Страшно подумать, что за дверью кто-то есть.
— Да. Хотите... Хотите пройти на кухню? Я закрою дверь, и вас
никто не увидит.
Ивиш посмотрела на него спокойно и властно.
— Нет, я останусь.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
295
Матье пошел открывать и увидел в полумраке кривящееся,
похожее на маску лицо: это была Лола. Она оттолкнула его, чтобы
побыстрее войти.
— Где Борис? — спросила она. — Я слышала его голос.
Матье даже не успел закрыть дверь, он вошел в кабинет следом
за ней. Лола с угрожающим видом подошла к Ивиш.
— Вы мне сейчас же скажете, где Борис.
Ивиш испуганно смотрела на нее. Впрочем, та, казалось,
обращалась не к ней и вообще ни к кому. Матье даже не был уверен,
видит ли Лола ее. Он встал между ними.
— Его здесь нет.
Лола обратила к нему искаженное заплаканное лицо.
— Я слышала его голос.
— Кроме кабинета, — сказал Матье, пытаясь поймать ее взгляд, —
в квартире есть кухня и ванная. Можете обыскать все, если что-то
подозреваете.
— Но тогда где же он?
На ней было черное шелковое платье и сценический грим. Ее
большие темные глаза словно застыли.
— Он расстался с Ивиш приблизительно в три часа, — сказал
Матье. — Мы не знаем, что он делал с тех пор.
Лола засмеялась, не меняя позы, как слепая. Руки ее судорожно
тискали маленькую сумочку из черного бархата, которая, казалось,
содержала только один предмет, твердый и тяжелый. Матье увидел
сумочку и испугался, следовало немедленно отослать Ивиш.
— Ну что ж, если вы не знаете, что он делал, я могу вас
просветить, — проговорила Лола. — Он поднялся ко мне в номер часов в
семь, когда я вышла, открыл дверь, взломал замок сундучка и украл
у меня пять тысяч франков.
Матье не смел посмотреть на Ивиш, он ласково сказал ей,
опустив глаза:
— Будет лучше, если вы уйдете, мне нужно поговорить с Лолой.
Могу ли я... могу ли я снова увидеть вас сегодня ночью?
Лицо Ивиш исказилось.
— Нет-нет! — сказала она. — Я хочу вернуться к себе, мне нужно
собрать чемоданы, и вообще я хочу спать. Я так хочу спать!
Лола спросила:
— Она уезжает?
— Да, — ответил Матье. — Завтра утром.
296
Жан Поль Сартр
— Борис тоже уезжает?
-Нет.
Матье взял Ивиш за руку.
— Идите спать, Ивиш. У вас был трудный день. Вы по-прежнему
не хотите, чтобы я проводил вас на вокзал?
— Нет. Лучше не надо.
— Тогда до будущего года.
Он посмотрел на нее, надеясь обнаружить в ее глазах проблеск
нежности, но прочел в них только панику.
— До будущего года, — повторила она.
— Я буду вам писать, — грустно сказал Матье.
— Да, да.
Она направилась к выходу. Лола преградила ей дорогу.
— Простите! Как я могу быть уверена, что она не идет к Борису?
— А хоть бы и так, — сказал Матье. — Полагаю, она свободна.
— Останьтесь, — сказала Лола, ухватив левой рукой Ивиш за
запястье.
Ивиш вскрикнула от боли и гнева.
— Оставьте меня! — закричала она. — Не прикасайтесь ко мне!
Не хочу, чтобы ко мне прикасались!
Матье быстро оттолкнул Лолу, та, ворча, на шаг отступила. Он
не сводил глаз с сумочки.
— Мерзкая баба, — сквозь зубы процедила Ивиш. Она
ощупывала запястье большим и указательным пальцами.
— Лола, — сказал Матье, не отрывая глаз от сумочки, — пусть
Ивиш уйдет, мне много нужно вам сказать, но сначала дайте ей
уйти.
— Вы мне скажете, где Борис?
— Нет, — ответил Матье, — но я вам объясню эту историю с
кражей.
— Что ж, идите, — сказала Лола. — И если увидите Бориса,
передайте ему, что я подала на него заявление в полицию.
— Заявление будет отозвано, — вполголоса сказал Матье, все
еще глядя на сумочку. — Прощайте, Ивиш. Уходите быстрее.
Ивиш не ответила, и Матье с облегчением услышал ее легкие
удалявшиеся шаги. Он не видел, как она уходила, но шум шагов
стих, и у него защемило в груди. Лола сделала шаг вперед и
крикнула:
— Передайте ему, что он ошибся адресом! Передайте ему, молод
он еще меня дурачить!
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
297
Она повернулась к Матье: у нее по-прежнему был странный и
невидящий взгляд.
— Ну? — сурово сказала она. — Валяйте.
— Послушайте, Лола!.. — начал Матье.
Но Лола вновь засмеялась.
— Я не вчера родилась, — смеясь, сказала она. — Да уж! Мне уже
не раз говорили, что я ему в матери гожусь.
Матье подошел к ней.
— Лола!
— Он сказал себе: «Эта старуха без ума от меня и будет только
счастлива, если я ее надую, она еще мне скажет спасибо». Нет, он
меня не знает! Он меня не знает!
Матье схватил ее за руки и потряс, как сливу, а она, смеясь, все
кричала:
— Он меня не знает!
— Заткнитесь! — грубо крикнул Матье.
Лола успокоилась и в первый раз, казалось, его увидела.
— Валяйте!
— Лола, — спросил Матье, — вы действительно заявили на
Бориса в полицию?
— Да. Что вы хотите мне сказать?
— Деньги украл я! — выпалил Матье.
Лола безучастно смотрела на него. Он вынужден был повторить:
— Это я украл у вас пять тысяч франков.
— А! — сказала она. — Вы!
Она пожала плечами:
— Но хозяйка его видела.
— Как она могла его видеть, если это был я?
— Она его видела, — огрызнулась Лола. — Он тайком поднялся
ко мне в семь часов. Она его пропустила, потому что я ее об этом
попросила. Я его ждала весь день, а через десять минут, как я вышла,
он проник в номер. Должно быть, он следил за мной из-за угла и
поднялся, увидев, как я ушла.
Она говорила тускло и быстро, голос ее выражал
несокрушимую уверенность. «Можно подумать, что она сама себя в этом
уверяет», — обескураженно подумал Матье. Он сказал:
— Послушайте, в котором часу вы вернулись к себе?
— Первый раз? В восемь.
— Так вот, деньги были еще в сундучке.
— А я вам говорю, что Борис был в номере в семь.
298
Жан Поль Сартр
— Может, и был, наверное, он пришел повидать вас. Но вы ведь
не заглядывали в сундучок?
— Заглядывала.
— В восемь часов?
-Да.
— Лола, будьте откровенны, — сказал Матье. — Я же знаю, что
не заглядывали. Я это точно знаю. В восемь часов ключ был у меня,
и вы не могли открыть сундучок. Даже если вы обнаружили
пропажу в восемь, то, по-вашему, выходит, что вы ждали полуночи,
чтобы прийти ко мне? В восемь часов вы спокойно
загримировались, надели красивое черное платье и отправились в «Суматру».
Не так ли?
Лола настороженно на него поглядела.
— Хозяйка его видела.
— Да. Но в сундучок-то не заглянули. В восемь часов деньги еще
были там. Я пришел в десять и взял их. У конторки была старуха
консьержка, она меня видела и может это подтвердить. Вы
заметили пропажу только в полночь.
— Да, — устало сказала Лола. — В полночь. Но это не имеет
значения. В «Суматре» мне стало дурно, и я вернулась. Я легла в
постель и взяла сундучок. Там были... там были письма, которые я
хотела перечитать.
Матье подумал: «И правда, письма. Почему она хочет скрыть,
что их у нее украли?» Они помолчали; время от времени Лола
раскачивалась взад-вперед, как человек, спящий стоя. Наконец она
будто очнулась.
— Так это вы меня обокрали?
-Я.
Она коротко засмеялась.
— Приберегите вашу трепотню до суда, раз уж вам угодно
схлопотать полгода вместо него.
— Полноте, Лола, какой интерес мне рисковать свободой ради
Бориса?
Она скривила рот.
— Откуда я знаю, как вы его там обрабатываете?
— Но это же глупо! Послушайте, клянусь вам, это я: сундучок
был у окна, под чемоданом. Я взял деньги и оставил ключ в замке.
Губы Лолы дрожали, она нервно мяла сумочку.
— Вы все сказали, что хотели? Тогда позвольте мне уйти.
Она собиралась пройти к двери, но Матье остановил ее:
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
299
— Лола, вы не хотите дать себя переубедить.
Лола плечом оттолкнула его.
— Разве вы не видите, в каком я состоянии? За кого вы меня
принимаете, думаете, я поверю вашим сказкам? «Сундучок был под
чемоданом, у окна», — повторила она, передразнивая Матье. —
Борис здесь был, неужели вы думаете, что я этого не знаю? Вы
договорились, что сказать этой старухе Лоле. Пропустите меня! —
грозно пророкотала она. — Пропустите!
Матье хотел взять ее за плечи, но Лола отскочила назад и
попыталась открыть сумочку; Матье вырвал ее и бросил на диван.
— Хам! — выкрикнула Лола.
— Там серная кислота или револьвер? — улыбаясь, спросил
Матье.
Лола задрожала всем телом. «Ну вот, — подумал Матье, —
нервный срыв». Казалось, будто он видит зловещий и нелепый
сон. Но ее нужно было убедить. Лола перестала дрожать. Она
забилась в угол у окна и следила за ним сверкающими бессильной
ненавистью глазами. Матье отвернулся: он не страшился ее
ненависти, но на этом лице была такая нечеловеческая мука, что он был
потрясен.
— Сегодня утром я был у вас в номере, — настойчиво твердил
он. — Я взял ключ в вашей сумочке. Когда вы проснулись, я
собирался открыть сундучок. У меня не было времени положить ключ
на место, это и навело меня на мысль вернуться вечером к вам в
номер.
— Не трудитесь, — ледяным тоном процедила Лола, — я видела,
как вы вошли сегодня утром. Когда я с вами заговорила, вы не
дошли даже до кровати.
— Я в первый раз зашел... — Лола усмехнулась, и он нехотя
добавил: — ...из-за писем.
Она его как будто не слышала: совершенно бесполезно было
говорить ей о письмах, она могла думать только о деньгах, ей
необходимо о них думать, чтобы разжечь в себе ярость, это последнее
прибежище. Наконец она едко сказала:
— Все дело в том, что вчера вечером Борис попросил у меня
именно пять тысяч франков, понимаете? Кстати, из-за этого мы и
поссорились.
Матье почувствовал свое бессилие: было очевидно, что
виновным мог быть только Борис. «Я должен был это предвидеть», —
удрученно подумал Матье.
300
Жан Поль Сартр
— Не утруждайте себя, — со злой улыбкой сказала Лола. — Я с
ним все равно разделаюсь! Если вам удастся заговорить зубы судье,
я с ним разделаюсь по-другому, вот и все.
Матье поглядел на сумочку, лежавшую на диване. Лола тоже
поглядела на нее.
— Он просил деньги для меня, — признался Матье.
— Да. А книгу он днем тоже для вас украл? Он похвастался
этим, когда мы танцевали.
Она резко остановилась и вдруг с угрожающим спокойствием
заключила:
— Впрочем, ладно! Так это вы меня обокрали?
— Да, я.
— Что ж, верните мне деньги.
Матье озадаченно молчал. Лола добавила с торжествующей
иронией:
— Верните мне их сейчас же, и я заберу свое заявление.
Матье не ответил. Лола заключила:
— Хватит. Я все поняла.
Она взяла сумочку, и он не попытался ей помешать.
— А это ведь тоже не доказательство, если бы они у меня и
были, — с усилием сказал он. — Борис мог бы мне их передать.
— Я у вас не об этом спрашиваю. Я просто прошу их мне
вернуть.
— У меня их нет.
— Вот как? В десять вы меня обокрали, а в полночь у вас уже
ничего нет? Очень мило.
— Я отдал деньги.
— Кому?
— Этого я вам не скажу.
Он быстро добавил:
— Но не Борису.
Лола, не ответив, заулыбалась; она направилась к двери, и он ее
не остановил. Он подумал: «Ее полицейский участок на улице Мар-
тир. Я пойду туда объясниться». Но, когда он увидел со спины эту
высокую черную фигуру, которая двигалась со слепой
неминуемостью катастрофы, он испугался, подумав о сумочке, и предпринял
последнюю попытку.
— Хорошо, я скажу, для кого это: для мадемуазель Дюффе, моей
подруги.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
301
Лола открыла дверь и вышла. Он услышал, как она закричала в
прихожей, и сердце его чуть не выпрыгнуло из груди. Внезапно она
снова появилась, вид у нее был безумный.
— Там кто-то есть! — выкрикнула она.
Матье подумал: «Это Борис».
Но это был Даниель. Он с благородным видом вошел и
поклонился Лоле.
— Мадам, вот пять тысяч франков, — сказал он, протягивая
конверт. — Извольте убедиться, что это действительно ваши деньги.
Матье одновременно подумал: «Его прислала Марсель» и «Он
подслушивал под дверью». Даниель с удовольствием подслушивал
под дверью, чтобы подготовить свое эффектное появление.
Матье спросил:
— Разве она...
Даниель жестом успокоил его:
— Все в порядке.
Лола смотрела на конверт недоверчиво и тупо, как крестьянка.
— Там пять тысяч франков? А как я узнаю, что они мои?
— Вы не записали номера купюр? — спросил Даниель.
— Еще чего!
— Ах, мадам, — с упреком сказал Даниель, — всегда надо
записывать номера.
Матье внезапно осенило: он вспомнил удушливый запах «Шип-
ра» и затхлости, исходившие от сундучка.
— Понюхайте их, — предложил он.
Лола некоторое время колебалась, потом резко схватила
конверт, разорвала его и поднесла ассигнации к носу. Матье боялся, что
Даниель расхохочется. Но Даниель был необычайно серьезен, он
смотрел на Лолу с нарочитым пониманием.
— Так что? Вы принудили Бориса их вернуть? — спросила она.
— Я не знаю никого по имени Борис, — сказал Даниель. —
Подруга Матье поручила мне принести их ему. Я бегом примчался
сюда и случайно услышал конец вашего разговора, за что прошу
прощения, мадам.
Лола оцепенела, руки ее повисли вдоль тела, левой она сжимала
сумочку, правая судорожно впилась в банкноты; вид у нее был
взволнованный и недоумевающий.
— Но зачем вы это сделали? — резко спросила она. — Что для
вас значат пять тысяч франков?
302
Жан Поль Сартр
Матье невесело усмехнулся.
— Увы, немало.
И мягко добавил:
— Теперь надо забрать ваше заявление. Или, если хотите,
сообщите в полицию обо мне.
Лола отвернулась и быстро сказала:
— Я еще не подала заявления.
Она с сосредоточенным видом застыла посреди комнаты, потом
проговорила:
— Там были еще письма.
— У меня их больше нет. Я их взял для Бориса сегодня утром,
когда он решил, что вы умерли. Это меня и натолкнуло на мысль
вернуться и взять деньги.
Лола смотрела на Матье без ненависти, но с огромным
удивлением и некоторым интересом.
— Вы у меня украли пять тысяч франков! — сказала она. — Это...
просто смешно.
Но глаза ее быстро погасли, лицо ожесточилось. Она страдала.
— Я ухожу, — сказала Лола.
Они молча посторонились. На пороге она обернулась.
— Если он ничего не сделал, то почему он не приходит?
— Не знаю.
Лола коротко всхлипнула и прислонилась на минутку к
дверному косяку. Матье шагнул к ней, но она снова взяла себя в руки.
— Как вы думаете, он вернется?
— Думаю, да. Они не способны давать другим счастье, но они
также не способны бросать, это для них еще труднее.
— Да, — сказала Лола. — Да. Ну что ж, прощайте.
— Прощайте, Лола. Вам... вам ничего не нужно?
-Нет.
Она вышла. Они услышали, как за ней закрылась дверь.
— Кто эта пожилая дама? — спросил Даниель.
— Это Лола, подруга Бориса Сергина. Она тронутая.
— Оно и видно, — сказал Даниель.
Матье почувствовал себя неловко, оставшись с ним наедине;
ему казалось, что внезапно он снова поставлен перед своей виной.
Она была здесь, напротив, живая, она жила в глубине глаз Даниеля,
и кто знает, какую форму она приняла в его капризном и вычурном
сознании. Даниель был явно настроен воспользоваться моментом.
Сегодня он выглядел церемонным, дерзким и мрачным, как в свои
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
303
самые скверные дни. Матье почувствовал неприязнь и посмотрел
на Даниеля. Тот был бледен.
— Ты выглядишь отвратно, — сказал Даниель с нехорошей
улыбкой.
— Я о тебе сказал бы то же самое, — парировал Матье. — В
хорошенькую историю мы влипли.
Даниель пожал плечами.
— Ты пришел от Марсель? — спросил Матье.
-Да.
— Это она вернула деньги?
— Они ей не нужны, — уклончиво сказал Даниель.
— Не нужны?
-Нет.
— Скажи, есть ли у нее по крайней мере средство...
— Об этом речь уже не идет, мой дорогой, — сказал Даниель. —
Это уже дело прошлое.
Он приподнял левую бровь и насмешливо, будто через
воображаемый монокль, посмотрел на Матье. «Если он хочет меня чем-
нибудь ошеломить, ему не помешало бы унять дрожь в руках».
Даниель небрежно сказал:
— Я женюсь на ней. Мы решили оставить ребенка.
Матье взял сигарету и закурил. Голова его гудела, как колокол,
он спокойно спросил:
— Значит, ты ее любишь?
— А почему бы и нет?
«Это о Марсель идет речь», — подумал Матье. О Марсель! Ему
не удавалось полностью в этом себя убедить.
— Даниель, — сказал он, — я тебе не верю.
— Подожди немного и убедишься.
— Нет, я имею в виду другое: ты не заставишь меня поверить в
то, что ты ее любишь, значит, что-то за этим кроется?
У Даниеля был усталый вид, он сел на край письменного стола,
одну ногу поставил на пол, а другой непринужденно покачивал.
«Он забавляется», — в бешенстве подумал Матье.
— Ты очень удивишься, если узнаешь истину, — сказал Даниель.
Матье подумал: «Черт! Она была его любовницей».
— Если ты не должен мне ничего говорить, то молчи, — сухо
сказал он.
Даниель некоторое время смотрел на него, как будто ему было
забавно его интриговать, потом вдруг встал и провел рукой по лбу.
304
Жан Поль Сартр
— Все плохо начинается, — сказал он. Взгляд его был полон
удивления. — Я имел в виду другое. Послушай, Матье, я...
Он натянуто засмеялся.
— Если я тебе кое-что скажу, ты воспримешь это серьезно?
— Хорошо. Говори или не говори, — рассердился Матье.
— Так вот, я...
— Ты любовник Марсель. Это ты хотел сказать?
Даниель вытаращил глаза и присвистнул. Матье почувствовал,
что краснеет.
— Неплохая находка! — восхитился Даниель. — Тебе только
того и нужно, а? Нет, мой дорогой, у тебя не будет даже такого
оправдания.
— Так говори же, — униженно взмолился Матье.
— Подожди! — остановил его Даниель. — У тебя есть что-нибудь
выпить? Виски?
— Нет, — сказал Матье, — но у меня есть белый ром. Прекрасная
идея, — добавил он, — сейчас выпьем по стаканчику.
Он ушел в кухню и открыл буфет. «Какую мерзость я ему
выдал», — подумал Матье. Он вернулся в комнату с двумя бокалами
и бутылкой рома. Даниель взял бутылку и до краев наполнил
бокалы.
— Это из «Рома Мартиники»? — спросил он.
-Да.
— Ты туда захаживаешь?
— Иногда. Твое здоровье.
Даниель изучающе смотрел на него, как будто Матье что-то
скрывал.
— За мою любовь! — провозгласил он, поднимая стакан.
— Ты пьян, — возмутился Матье.
— Действительно, я немного выпил, — признался Даниель. — Но
успокойся. Я был трезв, когда пришел к Марсель. Это уже потом...
— Ты пришел сразу от нее?
— Да. Но с маленьким привалом в «Фальстафе».
— Ты... ты, должно быть, пришел к ней сразу после моего ухода?
— Я ждал, когда ты уйдешь, — улыбаясь, сказал Даниель. — Я
увидел, как ты завернул за угол, и направился к ней.
Матье не смог сдержать недовольного жеста.
— Ты меня подстерегал? — спросил он. — Что ж, тем лучше, в
конечном счете Марсель не осталась одна. Так что ты хотел мне
сказать?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
305
— Абсолютно ничего, старик, — сказал Даниель с внезапной
сердечностью. — Я просто хотел объявить тебе о своей женитьбе.
— И это все?
— Все... да, это все.
— Ну, как угодно, — холодно сказал Матье.
Они немного помолчали, затем Матье спросил:
— Как... как там она?
— Ты хотел бы, чтоб она была в восторге? — насмешливо
спросил Даниель. — Пощади мою скромность.
— Прошу тебя, — сухо сказал Матье. — Договорились, я не имею
никакого права на вопросы... Но ведь ты пришел сюда...
— Что ж, — сказал Даниель, — я предполагал, что ее будет
труднее убедить. Но она набросилась на мое предложение со скоростью
экономического кризиса.
Матье увидел в его глазах вспышку обиды; он быстро сказал,
желая извинить Марсель:
— Она потерпела крушение...
Даниель пожал плечами и стал расхаживать взад-вперед. Матье
не смел на него смотреть: Даниель сдерживался, он говорил тихо,
но с видом одержимого. Матье скрестил руки и уставился на свои
туфли. Он с трудом, как бы для себя самого, проговорил:
— Значит, она хотела ребенка? Я этого не понял. Если б она мне
сказала...
Даниель промолчал. Матье продолжил:
— Так значит, ребенок. Ладно: пусть он родится. Я... я хотел его
уничтожить. Но все же лучше ему родиться.
Даниель не ответил.
— Разумеется, я его никогда не увижу? — спросил Матье.
Едва ли это был вопрос; он продолжил, не дожидаясь ответа:
— Ну вот. Наверное, я должен быть доволен. В каком-то смысле
ты ее спасаешь... но я не понимаю, зачем ты это сделал?
— Конечно, не из гуманных побуждений, если ты это имел в
виду, — сухо отрезал Даниель. — Ром у тебя просто гадость, —
добавил он. — И все же налей мне еще.
Матье налил ему и себе, и оба выпили.
— Итак, что ты теперь собираешься делать? — спросил Даниель.
— Ничего. Больше ничего.
— А эта девочка, Сергина?
-Нет.
306
Жан Поль Сартр
— Вот ты и свободен.
— Ты так считаешь?
— До свидания, — вставая, сказал Даниель. — Я пришел вернуть
деньги и немного тебя успокоить: ей больше нечего бояться, она мне
доверяет. Вся эта история ее потрясла, но по-настоящему Марсель
не несчастна.
— Ты на ней женишься! — повторил Матье. — Она меня
ненавидит, — вполголоса добавил он.
— Поставь себя на ее место, — жестко сказал Даниель.
— Знаю. Поставил. Она тебе говорила обо мне?
— Очень мало.
— Знаешь, — сказал Матье, — мне не по себе, что ты на ней
женишься.
— Ты сожалеешь?
— Нет. По-моему, это несчастье.
— Спасибо.
— Несчастье для вас обоих! Сам не знаю почему.
— Не волнуйся, все будет хорошо. Если родится мальчик, мы
назовем его Матье.
Матье вскочил, сжав кулаки.
— Замолчи! — выкрикнул он.
— Ну, не сердись, — успокоил его Даниель.
Он рассеянно повторил:
— Не сердись. Не сердись. — Он так и не решался уйти.
— Значит, — сказал Матье, — ты пришел посмотреть, какая у
меня будет рожа после всего этого?
— Может, отчасти и так, — признался Даниель. — Если говорить
напрямую. У тебя всегда был такой... основательный вид: это меня
бесило.
— Что ж, теперь ты убедился в обратном, — сказал Матье. — Не
такой уж я основательный.
— Да, не такой уж.
Даниель сделал несколько шагов к двери и быстро вернулся; он
утратил насмешливый вид, но так получилось лишь хуже.
— Матье, я гомосексуалист, — сказал он.
— А? — изумился Матье.
Даниель отступил и удивленно посмотрел на него, в глазах его
светился гнев.
— У тебя это вызывает отвращение, так ведь?
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
307
— Ты гомосексуалист? — медленно повторил Матье. — Нет, это
не вызывает у меня отвращения, почему это должно вызывать у
меня отвращение?
— Прошу тебя, — сказал Даниель, — ты вовсе не обязан
изображать передо мной широту взглядов...
Матье не ответил. Он смотрел на Даниеля и думал: «Он
гомосексуалист». Почему-то не очень удивился.
— Ты ничего не говоришь, — свистящим голосом продолжал
Даниель. — Ты прав. У тебя правильная реакция, я в этом не
сомневался, такую следует иметь каждому нормальному человеку, но
ты можешь оставить ее при себе.
Даниель застыл, руки прижаты к телу, вид жалкий. «Почему ему
взбрело в голову каяться именно передо мной?» — жестко подумал
Матье. Он понимал, что должен найти нужные слова, но
погрузился в глубокое, парализующее безразличие. Все казалось ему в ту
минуту таким естественным, таким нормальным: он негодяй, а
Даниель — гомосексуалист, все в порядке вещей. Наконец он сказал:
— Ты можешь быть кем хочешь, это меня не касается.
— Конечно, — высокомерно улыбнулся Даниель. — Конечно
же, это тебя не касается. У тебя достаточно забот с собственной
совестью.
— Тогда зачем ты мне это сказал?
— Я... я хотел посмотреть, какое впечатление это произведет на
такого человека, как ты, — сказал, откашлявшись, Даниель. — И
потом, теперь есть кто-то, кто знает, возможно, мне... мне удастся
поверить в это самому.
Он позеленел и говорил с усилием, но продолжал улыбаться.
Матье не мог вынести этой улыбки и отвернулся.
Даниель усмехнулся.
— Это тебя удивляет? Это нарушает твои представления о
гомосексуалистах?
Матье живо поднял голову.
— Не пыжься. Ты жалок. Не стоит пыжиться передо мной.
Возможно, ты сам себе отвратителен, но не более чем я себе, мы друг
друга стоим. Впрочем, — подумав, сказал он, — именно поэтому ты
мне и исповедуешься. Это должно быть менее тяжко —
исповедоваться перед подонком; а облегчение от исповеди все равно есть.
— Ах ты, маленький лукавец! — развязно — Матье прежде
такого не слышал — сказал Даниель.
308
Жан Поль Сартр
Они замолчали. Даниель смотрел прямо перед собой,
неподвижно и тупо, как это делают старики. Матье пронзило острое
раскаяние.
— Но если ты такой, то зачем ты женишься на Марсель? —
спросил Матье.
— Это тут ни при чем.
— Я... я не могу тебе позволить жениться на ней.
Даниель выпрямился, и его зеленовато-сизое лицо пошло
багровыми пятнами.
— Вот как? Не можешь? — высокомерно спросил он. — А как ты
мне помешаешь?
Матье, не ответив, встал. Телефон был на письменном столе.
Матье набрал номер Марсель. Даниель с иронией смотрел на него.
Наступило долгое молчание.
Матье вздрогнул.
— Алло! Это Матье. Я... послушай, мы были идиотами. Я хочу...
алло! Марсель? Ты меня слушаешь? Марсель! — в ярости крикнул
он. — Алло!
Ответа по-прежнему не было. Он потерял голову и крикнул в
трубку:
— Марсель, я хочу на тебе жениться!
Наступило короткое молчание, потом что-то вроде лая на
другом конце провода и короткие гудки. Какое-то время Матье сжимал
трубку, затем тихо положил ее на стол. Даниель, не говоря ни слова,
смотрел на него, но выглядел он отнюдь не торжествующе. Матье
сделал глоток рома и сел в кресло.
— Ладно!
Даниель улыбнулся.
— Успокойся, — утешающе сказал он, — гомосексуалисты
обычно становятся прекрасными мужьями, это общеизвестно.
— Даниель! Если ты женишься на ней ради красивого жеста, ты
испортишь ей жизнь.
— Не тебе бы говорить, — оборвал его Даниель. — Знаешь, я
женюсь на ней вовсе не ради красивого жеста. Прежде всего она
хочет ребенка.
— А... А она знает?
-Нет!
— Так почему ты женишься на ней?
— Потому что мы с ней друзья.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
309
Голос его звучал неубедительно. Они налили себе еще, и Матье
упрямо произнес:
— Не хочу, чтобы она была несчастной.
— Клянусь, я сделаю все для ее счастья.
— Она думает, что ты ее любишь?
— Вряд ли. Она предложила жить у нее, но мне это не подходит.
Я поселю ее у себя. Вероятно, чувство мало-помалу возникнет — так
мы думаем.
Он добавил с вымученной иронией:
— Я ведь собираюсь скрупулезно выполнять супружеские
обязанности.
— Но как же... — Матье сильно покраснел. — Разве ты любишь
и женщин тоже?
Даниель как-то странно фыркнул:
— Не особенно.
— Понятно.
Матье опустил голову, и слезы стыда навернулись ему на глаза.
Он проговорил:
— Я сам себе стал противен еще больше с тех пор, как узнал, что
ты женишься на ней.
Даниель выпил.
— А, — сказал он рассеянно и бесстрастно, — я думаю, ты должен
чувствовать себя довольно мерзко.
Матье не ответил. Он сидел, опустив глаза: «Он гомосексуалист,
а она выйдет за него замуж».
Он расставил руки и поскреб каблуком паркет: он ощутил себя
загнанным в угол. Внезапно он почувствовал неловкость, он
подумал: «Даниель на меня смотрит» — и поспешно поднял голову.
Даниель действительно смотрел на него, да с такой ненавистью, что у
Матье сжалось сердце.
— Почему ты на меня так смотришь? — спросил он.
— Ты знаешь! — сказал Даниель. — Ты тоже знаешь!
— Ты бы, наверное, не остановился перед тем, чтобы пустить мне
пулю в лоб?
Даниель не ответил. Вдруг Матье обожгла невыносимая
мысль.
— Даниель, ты ведь женишься на ней, чтобы наказать себя?
— Ну и что? — равнодушно пробормотал Даниель. — Это
касается меня одного.
310
Жан Поль Сартр
Матье схватился за голову.
— Боже мой! — воскликнул он.
Даниель быстро добавил:
— Это не имеет никакого значения. Во всяком случае, для нее.
— Ты ее ненавидишь?
-Нет.
Матье грустно подумал: «Это меня он ненавидит».
Даниель снова заулыбался.
— Допьем бутылку? — предложил он.
— Допьем, — согласился Матье.
Они выпили, и Матье почувствовал, что хочет курить. Он взял
в кармане сигарету и закурил.
— Послушай, — сказал он, — меня не касается, кто ты. Даже
теперь, когда ты мне об этом сказал. И все-таки кое-что я хотел бы
у тебя спросить: почему тебе стыдно?
Даниель отрывисто засмеялся:
— Я ждал этого вопроса, мой дорогой. Мне стыдно быть
гомосексуалистом именно потому, что я гомосексуалист. Я знаю, что ты
мне скажешь: «Я бы на твоем месте не стыдился, я бы добивался
своего места под солнцем, эта склонность не хуже любой другой» и
т. д. Только это меня не трогает. Я знаю, что ты мне все это скажешь
именно потому, что ты сам не такой. Все гомосексуалисты стыдятся,
это в их природе.
— Но разве не лучше было бы... принять себя таким, как есть? —
робко спросил Матье.
Даниель, казалось, разозлился.
— Ты мне об этом скажешь в тот день, когда согласишься
остаться негодяем, — жестко отрубил он. — Нет. Гомосексуалисты,
которые хвалятся этим, которые афишируют это или просто с этим
смирились... мертвецы: они убили себя из-за того, что стыдились. Я
такой смерти не хочу.
Но он, казалось, успокоился и без ненависти посмотрел на
Матье.
— Я всего лишь слишком себя принял, — мягко продолжал он, —
я себя очень хорошо знаю.
Разговор был исчерпан. Матье закурил другую сигарету. На дне
его бокала осталось немного рома, и он его допил. Даниель внушал
ему ужас. Он подумал: «Через два, через четыре года... стану ли я
таким?» Ему вдруг захотелось поговорить с Марсель: только ей
одной он мог рассказать о своей жизни, своих страхах, своих на-
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
311
деждах. Но он вспомнил, что больше никогда ее не увидит, и его
неутоленное, неназванное желание медленно превратилось в
отчаяние. Он был одинок.
Даниель, казалось, размышлял: его взгляд остановился, губы
время от времени приоткрывались. Он коротко вздохнул, и что-то
дрогнуло в его лице. Он провел рукой по лбу: вид у него был
удивленный.
— Сегодня я все-таки попался, — сказал он вполголоса.
У него мелькнула странная улыбка, почти детская, которая
выглядела неуместной на оливковом лице, где плохо выбритая щетина
отсвечивала синевой. «Это правда, — подумал Матье, — на сей раз
он на пределе». Ему вдруг пришла мысль, стиснувшая его сердце:
«Он свободен». И ужас, который внушал ему Даниель, вдруг
смешался с завистью.
— Ты должен быть в странном состоянии, — сказал он.
— Да, я в странном состоянии, — согласился Даниель. Все еще
добродушно улыбаясь, он сказал: — Дай мне сигарету.
— Ты разве куришь? — спросил Матье.
— Нет, только одну. И только сегодня.
Матье быстро произнес:
— Я хотел бы быть на твоем месте.
— На моем месте? — без особого удивления переспросил
Даниель.
-Да.
Даниель пожал плечами.
— В этой истории по всем позициям выиграл ты.
Матье горько усмехнулся. Даниель пояснил:
— Ты же свободен.
— Нет, — покачав головой, сказал Матье. — Бросить женщину
еще не значит обрести свободу.
Даниель с любопытством поглядел на него.
— Однако сегодня утром ты, кажется, считал именно так.
— Не знаю. Это неясно. Все неясно. Истина в том, что я бросил
Марсель ни ради чего.
Он задержал взгляд на оконных шторах, колыхавшихся от
ночного ветра. Он устал.
— Ни ради чего, — повторил он. — Во всей этой истории я играл
роль только отказа и отрицания: в моей жизни больше нет Марсель,
но есть остальное.
— Что же?
312
Жан Поль Сартр
Матье неопределенно махнул рукой в сторону письменного
стола.
— Ну, все это, все остальное.
Он был околдован Даниелем. Он подумал: «Значит, это и есть
свобода?» Даниель действовал, он уже не может вернуться назад:
ему должно казаться странным чувствовать за собой беспричинный
поступок, которого он и сам уже почти не понимает и который
перевернет его жизнь. А я все делаю ни ради чего; можно подумать, что
у меня украдут результаты моих действий; все происходит так,
словно я всегда могу начать сначала. Не знаю, что бы я отдал, лишь
бы совершить непоправимый поступок».
Он сказал вслух:
— Позавчера вечером я видел человека, который хотел вступить
в испанское ополчение.
— Ну и что?
— Он струсил: теперь ему крышка.
— Зачем ты мне это говоришь?
— Не знаю. Просто так.
— Ты хотел уехать в Испанию?
— Да. Но недостаточно сильно.
Они замолчали. Через некоторое время Даниель бросил
сигарету и сказал:
— Я хотел бы постареть на полгода.
— Я — нет, — сказал Матье. — Через полгода я буду таким же,
как сейчас.
— С теми же угрызениями совести, — добавил Даниель.
Он встал.
— Предлагаю опрокинуть стаканчик в «Клариссе».
— Нет, — отказался Матье. — Сегодня вечером я не хочу
напиваться. Я не знаю, что сделаю, если напьюсь.
— Да ничего особенного, — заметил Даниель. — Так ты не
идешь?
— Нет. Не хочешь еще немного посидеть? — спросил Матье.
— Мне надо выпить, — сказал Даниель. — Прощай.
— Прощай. Мы... мы скоро увидимся? — спросил Матье.
Даниель смутился.
— Думаю, это будет непросто. Марсель мне сказала, что не хочет
ничего менять в моей жизни, но скорее всего ей будет неприятно,
если мы будем встречаться.
— Пусть так, — сухо сказал Матье.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
313
Даниель, не отвечая, улыбнулся ему, и Матье резко заключил:
— Ты меня ненавидишь.
Даниель подошел к нему и поспешно неловко и стыдливо
положил руку ему на плечо.
— Нет, во всяком случае, не сейчас.
— Но завтра...
Даниель, не отвечая, наклонил голову.
— Пока, — сказал Матье.
— Пока.
Даниель ушел. Матье приблизился к окну и раздвинул шторы.
За окном была нежная ночь, нежная и голубая; ветер прогнал
облака, над крышами мерцали звезды. Матье облокотился на перила
балкона и сладко зевнул. На улице, под ним, спокойным шагом шел
человек; он остановился на перекрестке улиц Югенс и Фруадво*,
поднял голову и посмотрел на небо: это был Даниель. Какая-то
мелодия порывами доносилась с проспекта дю Мэн, белый отсвет
автомобильных фар скользнул в небе, задержался над трубой и
исчез за крышами. Это было небо деревенского праздника, усеянное
блестящими звездами, пахнущее каникулами и сельскими танцами.
Матье видел, как скрылся Даниель, и подумал: «Я остался один».
Один, но не свободнее, чем прежде. Вчера он сказал себе: «Если бы
только Марсель не существовала». Но это была ложь. «Никто не
стеснял моей свободы, ее выпила моя жизнь». Матье закрыл окно
и вернулся в комнату. Здесь еще витал запах Ивиш. Он вдохнул его,
и перед ним снова пронесся этот сумасшедший день. Он подумал:
«Много шума из ничего». Из ничего: эта жизнь была ему дана ни
для чего, да и сам он был ничем, и тем не менее он не изменится, он
уже сложился окончательно. Матье разулся и застыл, сидя на ручке
кресла с туфлей в руке; горло его еще согревала сладкая теплота
рома. Матье зевнул: он закончил день, он покончил со своей
молодостью. Испытанная мораль уже скромно предлагала ему свои
услуги: искушенное эпикурейство, смешливую снисходительность,
покорность судьбе, отрешенность, строгость, стоицизм — все, что
позволяет, подобно лакомке, минута за минутой дегустировать свою
неудавшуюся жизнь. Матье снял пиджак и стал развязывать
галстук. Зевая, он про себя повторял: «Значит, это правда, значит, это
все-таки правда: я вступил в возраст зрелости».
* Ошибка автора. Улицы Югенс и Фруадво не пересекаются.
Отсрочка
Пятница, 23 сентября
Шестнадцать тридцать в Берлине, пятнадцать тридцать в
Лондоне. Отель скучал на своем холме, пустынный и торжественный,
со стариком внутри. В Ангулеме, Марселе, Генте, Дувре думали:
«Чем он там занят? Ведь уже четвертый час, почему он не
выходит?» Старик сидел в гостиной с полузакрытыми жалюзи, взгляд
его под густыми бровями был неподвижен, рот полуоткрыт, как
будто он вспоминал о чем-то стародавнем. Старик больше не читал,
его дряхлая пятнистая рука, еще держащая листки, повисла вдоль
колен. Он повернулся к Горацию Вильсону и спросил: «Который
час?», и тот сказал: «Приблизительно половина пятого». Старик
поднял большие глаза, добродушно засмеялся и сказал: «Жарко».
Рыжая, потрескивающая, усыпанная блестками жара спустилась на
Европу; жара была у людей на руках, в глубине глаз, в легких;
измученные пеклом, пылью, тревогой, все ждали. В холле отеля
ждали журналисты. Во дворе ждали три шофера, неподвижно сидя за
рулем своих машин; по другую сторону Рейна неподвижно ждали
в холле отеля «Дрезен» долговязые пруссаки, одетые во все черное.
Милан Глинка больше ничего не ждал. Не ждал с позавчерашнего
дня. Позади был этот тяжелый черный день, пронзенный
молниеносной догадкой: «Они нас бросили!» Потом время снова начало
течь как попало, нынешних дней как бы не было. Они стали только
завтрашним днем, остались только завтрашние дни.
В пятнадцать тридцать Матье еще ждал на кромке
устрашающего будущего; одновременно с ним, начиная с шестнадцати
тридцати, Милан лишился будущего. Старик встал и благородным
подпрыгивающим шагом с негнущимися коленями пересек
комнату. Он сказал «Господа!» и приветливо улыбнулся, потом положил
318
Жан Поль Сартр
документ на стол и пригладил листки кулаком; Милан стоял у
стола; развернутая газета покрывала всю ширину клеенки; он
прочел в седьмой раз:
«Президенту республики и правительству ничего не оставалось,
как принять предложения двух великих держав по поводу
будущего положения. Мы вынуждены были смириться, ибо остались в
одиночестве». Невилл Гендерсон и Гораций Вильсон подошли к
столу, старик повернулся к ним, у него был беззащитный и
обреченный вид, он сказал: «Больше ничего не осталось». Смутный шум
проникал через окно, и Милан подумал: «Мы остались одни».
Тонкий мышиный голосок пискнул на улице: «Да здравствует
фюрер!»
Милан подбежал к окну: «Ну-ка подожди! — закричал он. —
Подожди, пока я выйду!»
За окном кто-то улепетывал, шлепая галошами; в конце улицы
мальчишка обернулся, порылся в переднике и поднял руку,
размахиваясь. Потом послышались два резких удара в стену.
— Маленький бродячий Либкнехт, — усмехнувшись, сказал
Милан.
Он высунулся в окно: улица была пустынной, как по
воскресеньям. Шёнхофы на своем балконе вывесили красно-белые флаги со
свастикой. Все ставни зеленого дома были закрыты. Милан
подумал: «А у нас нет ставен».
— Нужно открыть все окна, — сказал он.
— Зачем? — спросила Анна.
— Когда окна закрыты, то бьют стекла.
Анна пожала плечами:
— Как бы то ни было... — начала она.
Их пение и вопли доносились невнятными волнами.
— Эти всегда тут как тут, — сказал Милан.
Он положил руки на подоконник и подумал: «Все кончено». На
углу улицы появился тучный мужчина. Он нес рюкзак, тяжело
опираясь на палку. У него был усталый вид, за ним шли две
женщины, сгибаясь под огромными тюками.
— Егершмитты возвращаются, — не оборачиваясь, сказал
Милан.
Они бежали в понедельник вечером и, видимо, пересекли
границу в ночь со вторника на среду. Теперь они возвращались с
высоко поднятой головой. Егершмитт подошел к зеленому дому и
поднялся по ступенькам крыльца. На сером от пыли лице играла
ОТСРОЧКА
319
странная улыбка. Он стал рыться в карманах куртки и извлек
ключ. Женщины поставили тюки на землю и следили за его
движениями.
— Возвращаешься, как только опасность миновала! — крикнул
ему Милан.
Анна живо остановила его:
— Милан!
Егершмитт поднял голову. Он увидел Милана, и глаза его
сверкнули.
— Возвращаешься, как только опасность миновала?
— Да, возвращаюсь! — крикнул Егершмитт. — А вот ты теперь
уйдешь!
Он повернул ключ в замке и толкнул дверь; женщины пошли за
ним. Милан обернулся.
— Подлые трусы! — буркнул он.
— Не надо их провоцировать, — сказала Анна.
— Это трусы, — повторил Милан. — Подлое немецкое отродье.
Еще два года назад они нам сапоги лизали.
— Не важно. Не стоит их провоцировать.
Старик кончил говорить; его рот оставался полуоткрытым, как
будто он молча продолжал излагать свои суждения по поводу
сложившейся ситуации. Его большие круглые глаза наполнились
слезами, он поднял брови и вопросительно посмотрел на Горация и
Невилла. Те молчали. Гораций резко отвернулся; Невилл подошел
к столу, взял документ, некоторое время рассматривал его, а затем
недовольно оттолкнул. У старика был сконфуженный вид; в знак
бессилия и чистосердечности он развел руками и в пятый раз
сказал: «Я оказался в совершенно неожиданной ситуации; я надеялся,
что мы спокойно обсудим имевшиеся у меня предложения».
Гораций подумал: -«Хитрая лиса! Откуда у него этот тон доброго
дедушки?» Он сказал: «Хорошо, ваше превосходительство, через десять
минут мы будем в отеле "Дрезен"».
— Приехала Лерхен, — сказала Анна. — Ее муж в Праге; она
беспокоится.
— Пусть она придет.
— Ты считаешь, что ей будет спокойнее с таким сумасшедшим,
оскорбляющим людей из окна, как ты... — усмехнулась Анна.
Он посмотрел на ее тонкое спокойное осунувшееся лицо, на ее
узкие плечи и огромный живот.
— Сядь, — сказал он. — Не люблю, когда ты стоишь.
320
Жан Поль Сартр
Она села, сложив на животе руки; человечек потрясал газетами,
бормоча: «Последний выпуск «Пари-суар». Покупайте, осталось
два экземпляра!» Он так кричал, что осип. Морис купил газету. Он
прочел: «Премьер-министр Чемберлен направил рейхсканцлеру
Гитлеру письмо, на которое, как предполагают в британских кругах,
последний должен ответить. Вследствие этого встреча с господином
Гитлером, назначенная на сегодняшнее утро, перенесена на более
позднее время».
Зезетта смотрела в газету через плечо Мориса. Она спросила:
— Есть новости?
— Нет. Все одно и то же.
Он перевернул страницу, и они увидели темную фотографию,
изображавшую что-то вроде замка: средневековая штуковина на
вершине холма, с башнями, колоколами и множеством окон.
— Это Годесберг, — сказал Морис.
— Это там находится Чемберлен? — спросила Зезетта.
— Кажется, туда послали полицейское подкрепление.
— Да, — сказал Милан. — Двух полицейских. Итого шесть. Они
забаррикадировались в участке.
В комнате опрокинулась целая тележка криков. Анна
вздрогнула; но лицо ее оставалось спокойным.
— А если позвонить? — предложила она.
— Позвонить?
— Да. В Присекнице.
Милан, не отвечая, показал ей на газету:
«Согласно телеграмме Германского информационного
агентства, датированной четвергом, немецкое население Судетской
области занято наведением порядка, включая вопросы, связанные с
употреблением немецкого и чешского языков».
— Может, это неправда, — сказала Анна. — Мне сказали, что
такое происходит только в Эгере.
Милан стукнул кулаком по столу:
— Сто чертей! И еще просить о помощи!
Он протянул руки, огромные и узловатые, в коричневых пятнах
и шрамах — вплоть до того несчастного случая он был лесорубом.
Милан смотрел на руки, растопырив пальцы. Он сказал:
— Они могут заявиться. По двое, по трое. Ну ничего, посмеемся
минут пять, и все.
— Они будут появляться человек по шестьсот, — сказала Анна.
Милан опустил голову, он почувствовал себя одиноким.
ОТСРОЧКА
321
— Послушай! — сказала Анна.
Милан прислушался: теперь шум доносился более отчетливо,
должно быть, они двинулись в путь. Он в бешенстве задрожал;
перед глазами все плыло, голова болела. Тяжело дыша, он подошел к
комоду.
— Что ты делаешь? — спросила Анна.
Милан склонился над ящиком, прерывисто дыша.
Склонившись еще ниже, он, не отвечая, выругался.
— Не надо, — сказала она.
-Что?
— Не надо. Дай его мне.
Он обернулся: Анна встала, она опиралась на стул, у нее был вид
праведницы. Милан подумал о ее животе; он протянул ей револьвер.
— Хорошо, — сказал он. — Я позвоню в Присекнице.
Он спустился на первый этаж в школьный зал, открыл окна,
потом снял трубку.
— Соедините с префектурой в Присекнице. Алло?
Его правое ухо слышало сухое прерывистое потрескивание. А
левое — их. Одетта смущенно засмеялась. «Никогда точно не знала,
где эта самая Чехословакия», — сказала она, погружая пальцы в
песок. Через некоторое время раздался щелчок:
— Да? — произнес голос.
Милан подумал: «Я прошу помощи!» Он изо всех сил стиснул
трубку.
— Говорит Правниц, — сказал он, — я учитель. Нас двадцать
чехов и еще три немецких демократа, они прячутся в погребе,
остальные в Генлейне; их окружили пятьдесят членов Свободного
корпуса, которые вчера вечером перешли границу, они согнали их
на площадь. Мэр с ними.
Наступило молчание, потом голос нагло произнес:
— Bitte! Deutsch sprechen*.
— Schweinkopf!** — крикнул Милан.
Милан повесил трубку и, хромая, поднялся по лестнице. У него
болела нога. Он вошел в комнату и сел.
— Они уже там, — сказал он.
Анна подошла к нему и положила руки ему на плечи:
— Любовь моя.
* Пожалуйста, говорите по-немецки (нем.).
** Свинячья морда! (нем.)
322
Жан Поль Сартр
— Мерзавцы! — прорычал Милан. — Они все понимали, они
смеялись на том конце провода.
Он привлек ее, поставив меж колен. Ее огромный живот
касался его живота.
— Теперь мы совсем одни, — сказал он.
— Не могу в это поверить.
Он медленно поднял голову и посмотрел на нее снизу вверх:
она была серьезная и прилежная в деле, но у нее, как и у всех
женщин, было все то же в крови: ей всегда нужно было кому-то
доверять.
— Вот они! — сказала Анна.
Голоса слышались совсем близко: должно быть, они уже были
на главной улице. Издалека радостные клики толпы походили на
крики ужаса.
— Дверь забаррикадирована?
— Да, — сказал Милан. — Но они могут влезть в окна или
обойти дом через сад.
— Если они поднимутся сюда... — сказала Анна.
— Тебе не нужно бояться. Они могут все разметать, я не
пошевелю и пальцем.
Вдруг он почувствовал теплые губы Анны на своей щеке.
— Любовь моя, я знаю, что ты это сделаешь ради меня.
— Не ради тебя. Ты — это я. Это ради малыша.
Они вздрогнули: в дверь позвонили.
— Не подходи к окну! — крикнула Анна.
Он встал и направился к окну. Егершмитты открыли все ставни;
над их дверью висел нацистский флаг. Нагнувшись, он увидел
крошечную тень.
— Спускаюсь! — крикнул он.
Он пересек комнату.
— Это Марика, — сказал он.
Он спустился по лестнице и пошел открывать. Грохот петард,
крики, музыка над крышами: праздничный день. Он посмотрел на
пустынную улицу, и сердце его сжалось.
— Зачем ты пришла сюда? — спросил он. — Уроков не будет.
— Меня послала мама, — сказала Марика. Она держала
корзиночку, в ней были яблоки и бутерброды с маргарином.
— Твоя мать с ума сошла. Сейчас же возвращайся домой.
— Она просит, чтобы вы меня не отсылали.
ОТСРОЧКА
323
Марина протянула вчетверо сложенный листок. Он развернул
его и прочел: «Отец и Георг совсем потеряли голову. Прошу вас
оставить Марику до вечера у себя».
— Где твой отец? — спросил Милан.
— Они с Георгом стали за дверью. У них топоры и ружья. — Она
серьезно добавила: — Мама провела меня через двор, она говорит, что
с вами мне будет лучше, потому что вы человек благоразумный.
— Да, — сказал Милан. — Это верно. Я человек благоразумный.
Заходи.
Семнадцать тридцать в Берлине, шестнадцать тридцать в
Париже. Легкая растерянность на севере Шотландии. Господин фон
Дернберг появился на лестнице «Гранд-отеля», журналисты
окружили его, Пьерриль спросил: «Он выйдет?» Господин фон Дернберг
держал в правой руке бумагу, он поднял левую руку и сказал: «Еще
не решено, встретится ли сегодня вечером господин Чемберлен с
фюрером».
— Это здесь, — проговорила Зезетта. — Здесь я продавала цветы
с маленькой зеленой тележки.
— Я знаю, ты старалась, — сказал Морис.
Он послушно смотрел на тротуар и мостовую, они ведь для
этого сюда и пришли. Но все это ни о чем ему не говорило. Зезетта
выпустила его руку и тихо смеялась, глядя на пробегающие
машины. Морис спросил:
— Ты сидела на стуле?
— Иногда. На складном, — ответила Зезетта.
— Наверно, нелегко было.
— Весной тут славно, — сказала Зезетта.
Она говорила с ним вполголоса, не оборачиваясь, как говорят в
комнате больного; уже некоторое время она манерно двигала
плечами и спиной, выглядела она ненатурально. Морис томился
скукой; у витрины было по меньшей мере двадцать человек, он
подошел и стал смотреть поверх их голов. Возбужденная Зезетта
осталась на краю тротуара; вскоре она присоединилась к нему и взяла
за руку... На граненой стеклянной пластинке было два куска
красной кожи с красным украшением вокруг, похожим на пуховку для
пудры. Морис засмеялся.
— Ты веселишься? — прошептала Зезетта.
— Туфли смешные, — сказал Морис.
На него стали оборачиваться. Зезетта шикнула на Мориса и
увела его.
324
Жан Поль Сартр
— А что такого? — удивился Морис. — Мы же не на мессе.
Но все же он понизил голос: люди, крадучись, шли гуськом,
казалось, они друг с другом знакомы, но никто не разговаривал.
— Я уже лет пять сюда не приходил — прошептал он.
Зезетта с гордостью показала на ресторан «Максим».
— Это «Максим», — прошептала она ему на ухо.
Морис посмотрел на ресторан и быстро отвернулся: ему о нем
рассказывали, это была мерзость, в 1914 году здесь буржуа пили
шампанское, в то время как рабочие погибали. Он процедил сквозь
зубы:
— Подонки!
Но он чувствовал себя смущенным, сам не зная почему. Он
неторопливо шагал, чуть раскачиваясь; люди казались ему хрупкими,
и он опасался их толкнуть.
— Возможно, — сказала Зезетта, — но все равно красивая улица,
правда?
— Я от нее не в восторге, — буркнул Морис. — Ничего
особенного.
Зезетта пожала плечами, и Морис стал думать о бульваре Сент-
Уан. Когда он утром уходил из гостиницы, его обгоняли,
посвистывая, какие-то люди с рюкзаками за спиной, склонившись над рулем
велосипедов. Они чувствовали себя счастливыми: одни
остановились в Сен-Дени, другие продолжали свой путь, все шли в одном
направлении — рабочий класс действовал. Морис сказал Зезетте:
— Здесь мы в краю буржуа.
Они сделали несколько шагов среди запаха
ароматизированного табака, потом Морис остановился и перед кем-то извинился.
— Что ты сказал? — спросила Зезетта.
— Ничего, — смущенно ответил Морис.
Он толкнул еще кого-то; все остальные преспокойно шли,
опустив глаза, все равно им удавалось в последний момент разминуться,
вероятно, в силу привычки.
— Ты идешь?
Но ему больше не хотелось продолжать путь, он боялся что-
нибудь разбить, и потом, эта улица никуда не вела, она не имела
направления, одни прохожие шли к Бульварам, другие спускались
к Сене, третьи уткнулись носом в витрины, это были отдельные
водовороты, а не совместное движение, здесь как нигде чувствуешь
себя одиноким. Морис протянул руку и положил ее на плечо Зезет-
ты, стиснув сквозь ткань упругую плоть. Зезетта ему улыбнулась,
ОТСРОЧКА
325
она была довольна, со светским видом она жадно поглядывала
окрест, мило вертела маленькими ягодицами. Он пощекотал ей
шею, она захихикала.
— Морис, — сказала она, — хватит!
Он любил яркие краски, которые она накладывала себе на лицо:
белую, похожую на сахар, и красивые красные румяна. Вблизи от
нее пахло вафлями. Он тихо спросил у нее:
— Тебе нравится?
— Я узнаю тут все, — сказала Зезетта, блестя глазами.
Он отпустил ее плечо, и они снова пошли молча: она знала этих
буржуа, они покупали у нее цветы, она им улыбалась, были и такие,
кто пытался ее пощупать. Морис посмотрел на ее белую шею, и ему
стало не по себе: хотелось смеяться и злиться одновременно.
— «Пари-суар»! — выкрикнул голос.
— Купим? — спросила Зезетта.
— Это тот же номер.
Люди окружили продавца и молча расхватывали газеты. Из
толпы вышла женщина на высоких каблуках и в громоздкой
умопомрачительной шляпке. Она развернула газету и на ходу стала
читать. Лицо ее сразу осунулось, она издала глубокий вздох.
— Посмотри на нее, — сказал Морис.
Зезетта взглянула и сказала:
— Наверное, ее муж уходит.
Морис пожал плечами: казалось нелепым, что можно быть
действительно несчастной в такой шляпке и в таких туфлях — как у
проститутки.
— Ну и что? — сказал он. — Видать, ее муж офицер.
— Даже если и офицер, — сказала Зезетта, — его могут там
прикончить, как и наших товарищей.
Морис покосился на нее:
— Сдохнуть можно с твоими офицерами. Посмотрела бы ты на
них в четырнадцатом году, кого из них там прикончили?
— Может, и нет, — сказала Зезетта. — Но я думала, и среди них
было много убитых.
— Убивали крестьян и таких, как мы, — ответил Морис.
Зезетта прижалась к нему:
— Морис, ты действительно думаешь, что будет война?
— Откуда мне знать? — сказал Морис.
Еще утром он был в этом уверен, и его товарищи были уверены
в том же. Они бродили по берегу Сены, смотрели на вереницу подъ-
326
Жан Поль Сартр
емных кранов и землечерпалку, там были парни без пиджаков,
крепыши из Женневилье, рывшие траншею для электрокабеля, и
было очевидно, что скоро разразится война. В конечном счете для
этих парней из Женневилье мало что изменится: они будут рыть
траншеи где-нибудь на севере, под палящей жарой, под свист пуль,
снарядов, гранат, как и сегодня, им грозят обвалы, падения и все
прочее, сопутствующее их работе, они будут ждать конца войны, как
ждали конца своей нищеты. Сандр тогда сказал: «Мы пойдем на
войну, ребята. Но когда вернемся, оставим винтовки у себя».
Теперь он был больше не уверен ни в чем: в Сент-Уане война
была безотлучно, но не здесь. Здесь был мир: витрины, предметы
роскоши, яркие ткани, зеркала, чтобы смотреться в них,
разнообразный комфорт. У людей был грустный вид, но это у них с рождения.
За что они будут сражаться? Они ничего не ждут, у них все есть. В
этом было что-то зловещее — ни на что не надеяться, а только ждать,
чтобы жизнь бесконечно текла, как это было с самого начала.
— Буржуазия не хочет войны, — вдруг сказал Морис. — Она
боится победы, потому что это будет победа пролетариата.
Старик встал и проводил Невилла Гендерсона и Горация
Вильсона до дверей. Он растроганно посмотрел на них, в эту минуту он
был похож на тех стариков с изнуренными лицами, которые
окружали продавца газет на улице Руаяль и газетные киоски на улице
Пелл-Мелл и ничего больше не желали, кроме как конца своей
жизни. Думая об этих стариках, о детях этих стариков, он сказал:
— Помимо всего прочего, вы спросите у господина фон
Риббентропа, считает ли рейхсканцлер Гитлер нужным, чтобы у нас
состоялась завершающая беседа перед моим отъездом, и обратите
его внимание на то, что наше принципиальное согласие
предусматривает для господина Гитлера необходимость ставить нас в
известность о своих предложениях. Особо подчеркните мою
решимость сделать все, что в человеческих силах, чтобы урегулировать
спор путем переговоров, ибо мне кажется недопустимым, чтобы
народы Европы, не желающие войны, были втянуты в кровавый
конфликт из-за вопроса, по которому согласие в основном
достигнуто. Удачи.
Гораций и Невилл поклонились, они спустились по лестнице, и
церемонный, боязливый, надтреснутый интеллигентный голос еще
звучал у них в ушах, Морис смотрел на нежную, дряхлую,
цивилизованную плоть стариков и женщин и с отвращением думал, что
нужно будет пустить им кровь.
ОТСРОЧКА
327
Нужно будет пустить им кровь, это будет более отвратительно,
чем раздавить улитку, но это необходимо. Пулеметы обстреляют
продольным огнем улицу Руаяль, затем на несколько дней она
останется в запустении: разбитые окна, звездчатые отверстия в стеклах,
опрокинутые столики на террасах кафе среди осколков стекла;
самолеты будут кружить в небе над трупами. Потом уберут мертвых,
поставят на место столики, вставят стекла, и возобновится жизнь,
крепкие люди с мощными красными затылками в кожаных
тужурках и фуражках вновь заполнят улицу. Во всяком случае, так было
в России, Морис видел фотографии Невского проспекта;
пролетарии завладели этим роскошным проспектом; они прогуливались по
нему, и их больше не ошеломляли дворцы и большие каменные
мосты.
— Простите, — смущенно извинился Морис.
Он сильно толкнул локтем с спину старую даму, которая
возмущенно посмотрела на него. Он почувствовал себя усталым и
обескураженным: под большими рекламными стендами, под
золотыми почерневшими буквами, прикрепленными к балкону, среди
кондитерских и обувных магазинов, перед колоннами церкви
Св. Магдалины можно было представить только такую толпу со
множеством семенящих старых дам и детей в матросских
костюмчиках. Грустный золотистый свет, запах бензина, громоздкие
здания, медовые голоса, тревожные и сонные лица, безнадежное
шуршание подошв по асфальту — все шло вперемёт, все было реальным,
а Революция была всего лишь мечтой. «Я не должен был сюда
приходить, — подумал Морис, зло посмотрев на Зезетгу. — Место
пролетария не здесь». Чья-то рука коснулась его плеча; он покраснел
от удовольствия, узнав Брюне.
— Здорово, паренек, — улыбаясь, сказал Брюне.
— Привет, товарищ, — откликнулся Морис.
Рукопожатие мозолистой руки Брюне было крепким, и Морис
ответил ему таким же. Он посмотрел на Брюне и радостно
засмеялся. Он чувствовал себя пробудившимся от спячки, он ощутил
всюду вокруг себя товарищей: в Сент-Уане, в Иври, в Монтрейе, даже
в Париже — в Белльвиле, в Монруже, в Ла-Вилетте; они
прижимались друг к другу локтями и готовились к тяжелым испытаниям.
— Что ты здесь делаешь? — спросил Брюне. — Ты безработный?
— Просто у меня оплаченный отпуск, — объяснил, немного
смутившись, Морис. — Зезетта захотела сюда прийти, она здесь когда-
то работала.
328
Жан Поль Сартр
— А вот и Зезетта, — сказал Брюне. — Привет, товарищ Зезетта.
— Это Брюне, — сказал Морис. — Ты сегодня утром читала его
статью в «Юманите».
Зезетта открыто посмотрела на Брюне и протянула ему руку
Она не боялась мужчин, будь то буржуа или ответственные
товарищи из партии.
— Я его знал, когда он был вот такой, — сказал Брюне, показывая
на Мориса, — он был в «Красных соколах», в хоровом кружке, я в
жизни не слышал, чтобы кто-нибудь так же фальшиво пел. В конце
концов договорились, что во время демонстраций он будет только
рот открывать.
Они засмеялись.
— Так что? — спросила Зезетта. — Будет война? Вы-то должны
знать, вы занимаете такое высокое положение.
Это был по-женски глупый вопрос, но Морис был ей благодарен
за то, что она его задала. Брюне посерьезнел.
— Не знаю, будет ли война, — сказал он. — Но ее не нужно
бояться: рабочий класс должен знать, что ее не избежать, идя на уступки.
Он говорил хорошо. Зезетта подняла на него полные доверия
глаза, она нежно улыбалась, слушая его. Морис разозлился: Брюне
изъяснялся газетным языком, и он не говорил больше того, о чем
пишут в газетах.
— Вы считаете, что Гитлер сдрейфит, если ему дадут
острастку? — спросила Зезетта.
Брюне стал официальным, казалось, он не понимал, что у него
спрашивают его личное мнение.
— Вполне возможно, — сказал он. — Но что бы ни произошло,
СССР с нами.
«Конечно, — подумал Морис, — партийные шишки не станут
снисходить до того, чтобы сообщить свое мнение какому-то
механику из Сент-Уана». И все-таки он был разочарован. Он посмотрел
на Брюне, и радость его совсем угасла: у Брюне были сильные
крестьянские руки, тяжелая челюсть, глаза умного, уверенного
человека; но у него были белый воротничок и галстук, фланелевый
костюм, и он не так уж выделялся среди буржуа.
Темная витрина отражала их силуэты: Морис увидел женщину
без шляпки и высокого детину в куртке и в заломленной фуражке,
ведущего беседу с респектабельным господином. Однако он
продолжал стоять, засунув руки в карманы, и не решался покинуть
Брюне.
ОТСРОЧКА
329
— Ты по-прежнему в Сен-Манде? — спросил Брюне.
— Нет, — ответил Морис, — в Сент-Уане. Работаю у Флева.
— Да? Я думал, что ты в Сен-Манде! Слесарем?
— Механиком.
— Хорошо, — сказал Брюне. — Хорошо, хорошо, хорошо. Что ж!..
Привет, товарищ.
— Привет, товарищ, — отозвался Морис, он чувствовал себя
неловко и был несколько разочарован.
— Привет, товарищ, — широко улыбаясь, сказала Зезетта.
Брюне смотрел, как они уходили. Толпа поглотила их, но
огромные плечи Мориса высились над шляпами. Видимо, он держал Зе-
зетту за талию: его фуражка касалась ее прически, и они
раскачивались — голова к голове — среди прохожих. «Славный паренек, —
подумал Брюне. — Но мне не нравится его шлюха». Он продолжал
свой путь, он был серьезен, но его слегка мучили угрызения совести.
«Что я мог ей ответить?» — подумал он. В Сен-Дени, в Сент-Уане,
в Сошо, в Крезо ждали сотни тысяч людей с таким же тревожным
и доверчивым взглядом. Сотни тысяч лиц, похожих на это, добрые,
округлые и грубоватые лица, неловко скроенные, лица грубой
заточки, настоящие мужские лица, обращенные на восток, к Годесбер-
гу, к Праге, к Москве. И что можно им ответить? Защитить их:
сейчас это все, что можно для них сделать. Защитить их вязкую и
медлительную мысль от негодяев, которые пытаются сбить ее с
пути. Сегодня мамаша Боненг, завтра Доттен, секретарь профсоюза
учителей, послезавтра пивертисты* — таков его жребий; он пойдет
от одних к другим, он попытается заставить их замолчать. Мамаша
Боненг будет мягко смотреть на него, она ему будет говорить об
«ужасе кровопролития», размахивая идеалистическими руками.
Толстая женщина лет пятидесяти: белый пушок на щеках, короткие
волосы и мягкий взгляд священника за очками; она носила мужской
пиджак с орденской лентой Почетного легиона. «Я ей скажу:
женщины должны попридержать языки; в четырнадцатом году они
заталкивали своих мужей в вагоны, тогда как нужно было лечь на
рельсы и не дать тронуться поезду, а сегодня, когда есть смысл
сражаться, вы образуете лиги за мир, вы делаете все, чтобы уничтожить
в людях чувство долга». Перед ним вновь предстало лицо Мориса,
и Брюне с раздражением передернул плечами: «Одно слово, одно-
единственное слово иногда им открывает глаза, а я не смог его
найти». Он с обидой подумал: «Все из-за его девки, они умеют задавать
* Сторонники «революционного пацифизма»; лидер — Марсо Пивер.
330
Жан Поль Сартр
дурацкие вопросы». Нарумяненные щеки Зезетгы, ее похабные
глаза, ее отвратительные духи; такие бабы пойдут повсюду собирать
подписи, эти упорные и кроткие, тучные радикальные голубки,
еврейки-троцкистки, оппозиционерки из разных фракций, они
будут соваться повсюду с дьявольским нахальством, они набросятся
на старую крестьянку, доящую корову, прижмут к ее широкой
влажной ладони ручку: «Подпишите, если вы против войны».
Необходимы переговоры. Мир прежде всего. Нет войне. А что сделает Зе-
зетта, если ей вдруг протянут ручку? Сохранила ли она классовую
закваску в достаточной мере, чтобы рассмеяться в лицо этим
толстым доброжелательным дамам? Она потащила Мориса в
фешенебельные кварталы. Она возбужденно смотрит на витрины,
накладывает на щеки густой слой румян... Бедный паренек, будет
некрасиво, если она повиснет у него на шее и не даст ему уехать; им
этого не нужно... Интеллектуал. Буржуа. «Она мне противна,
потому что у нее штукатурка на лице и обгрызенные ногти». Однако
не каждый товарищ может быть холостяком. Брюне почувствовал
себя усталым и отяжелевшим, он подумал: «Я порицаю ее за то, что
она мажется, потому что не люблю дешевую косметику».
Интеллектуал. Буржуа. Надо любить их. Надо любить их всех, каждого и
каждую без различия. Он подумал: «Я не должен даже хотеть их
любить, это должно происходить само собой, естественно, как
дыхание». Интеллектуал. Буржуа. Раз и навсегда обособленный.
«Напрасно я буду стараться, у нас никогда не будет общих
воспоминаний». Жозеф Мерсье, тридцати трех лет, с врожденным сифилисом,
преподаватель естественной истории в лицее Бюффон и в коллеже
Севинье, поднимался по улице Руаяль, шмыгая носом и
периодически кривя рот и влажно причмокивая; его не оставляла боль в
левом боку, он чувствовал себя несчастным и временами думал:
«Заплатят ли жалованье мобилизованным служащим?» Он смотрел
себе под ноги, чтобы не видеть все эти беспощадные лица, он
случайно толкнул высокого рыжего человека в сером фланелевом
костюме, который отшвырнул его к витрине; Жозеф Мерсье поднял
глаза и подумал: «Какой шкаф!» Это и в самом деле был шкаф,
целая стена, один из тех типов, бесчувственных и жестоких
животных, вроде здоровяка Шамерлье, преподавателя арифметики,
который насмехался над ним при учениках, один из тех типов, которые
никогда не сомневаются ни в себе самих, ни в чем-то еще, никогда
не болеют, у них нет нервных тиков, они хапают жизнь и женщин
загребущими руками и идут прямиком к своей цели, отшвыривая
ОТСРОЧКА
331
других к витрине. Улица Руаяль плавно текла к Сене, и Брюне тек
вместе с ней, кто-то его толкнул, он увидел, как удирает тощая
личинка с провалившимся носом, в котелке и с большим пристежным,
словно фарфоровым, воротничком, он подумал о Зезетте и Морисе
и вновь ощутил застарелую привычную тревогу, стыд перед этими
неискупимыми воспоминаниями: белый дом на берегу Марны,
библиотека отца, длинные душистые руки матери, воспоминания о
том, что навсегда отделило его от товарищей.
Был прекрасный золотистый вечер, воистину сентябрьский
спелый плод. Стивен Хартли, перегнувшись через перила балкона,
шептал: «Огромные медлительные водовороты вечерней толпы».
Шляпы, шляпы, целое фетровое море, несколько непокрытых голов
плыли меж волн, он подумал: «как чайки». Он подумал, что так и
напишет: «как чайки», две светлые головы и одна седая, красивая
рыжая шевелюра поверх остальных, с наметившейся плешинкой;
Стивен подумал: «типичная французская толпа» и был тронут.
Небольшое скопление героических и стареющих человечков. Он
напишет: «французская толпа спокойно и достойно ожидает
развития событий». В одном из номеров «Нью-Йорк геральд» будет
напечатано жирными буквами: «Я прислушивался к французской
толпе». Маленькие люди, не слишком чистые на вид, большие
женские шляпы, молчаливая, безмятежная, грязноватая толпа,
позолоченная тихим парижским вечером между церковью Св.
Магдалины и площадью Согласия под лучами заходящего солнца. Он
напишет «лицо Франции», он напишет «вечное лицо Франции».
Скольжение, шепот, которые можно назвать уважительными и
восхищенными, нет «восхищенными» будет слишком; высокий рыжий
француз, лысоватый, спокойный, как солнце на закате, несколько
солнечных бликов на стеклах автомобилей, несколько оживленных
голосов; мерцание голосов, подумал Стивен. И решил: «Моя статья
готова».
— Стивен! — позвала у него за спиной Сильвия.
— Я работаю, — не оборачиваясь, сухо произнес Стивен.
— Но ты должен мне ответить, мой дорогой, — сказала
Сильвия, — на «Лафайете» остался только первый класс.
— Возьми первый класс, возьми люкс, — ответил Стивен. —
Возможно, «Лафайет» — последний пароход в Америку на много дней
вперед.
Брюне шел медленно, вдыхая запах ароматизированного табака,
затем он поднял голову, посмотрел на почерневшие, позолоченные
332
Жан Поль Сартр
буквы, прикрепленные к балкону; война началась: она была здесь,
внутри этой светящейся зыбкости, начертанная, как очевидность,
на стенах этого прекрасного хрупкого города; это был застывший
взрыв, надвое раскалывавший улицу Руаяль; люди проходили
сквозь войну, до времени не видя ее; Брюне ее видел. Она всегда
была здесь, но люди этого пока не знали. Брюне подумал: «Небо
обрушится нам на голову». И все начало обрушиваться, он увидел
дома такими, какие они были наяву: замершее падение. Этот
изысканный магазин заключал в себе тонны камней, и каждый камень,
скрепленный с остальными, уже пятьдесят лет упрямо напирал на
основу; несколькими килограммами больше, и падение свершится;
колонны, дрожа, округлятся и покроются безобразными рваными
трещинами; витрина разлетится вдребезги; массы камней
обрушатся на подвал, расплющив тюки с товарами. У немцев есть бомбы в
четыре тонны. У Брюне сжалось сердце: еще недавно на этих
хорошо выровненных фасадах цвела человеческая улыбка, смешанная с
золотистой вечерней пылью. Она угасла: сотни тонн камней; люди,
бродящие среди застывших руин. Солдаты среди развалин, сам он,
возможно, убит. Он увидел черноватые полосы на
наштукатуренных щеках Зезетты. Пыльные стены, поверхности стен с большими
зияющими дырами в квадратах голубой или желтой бумаги, в
пятнах проказы; красный каменный пол среди обломков, плитки,
проросшие сорняками. Затем дощатые бараки военного лагеря.
Впоследствии построят большие однообразные казармы, как на
внешних бульварах. Сердце Брюне сжалось: «Я люблю Париж», — с
волнением подумал он. Очевидность вдруг исчезла, и город вокруг
него преобразился. Брюне остановился; он почувствовал подсла-
щенность трусливой доброты и подумал: «Если б не было войны!
Если б можно было избежать войны!» И жадно оглядел большие
подъезды, сверкающую витрину «Дрисколла», голубые обои
пивной Вебера. Через какое-то время ему стало стыдно, он зашагал
снова, он подумал: «Я слишком люблю Париж». Как Пильняк в
Москве, слишком любивший старые церкви. Партия права, что не
доверяет интеллектуалам. Смерть вписана в человека, а
разрушение — в предметы; придут другие люди, которые восстановят
Париж, восстановят мир. Я ей скажу: «Значит, вы хотите мира любой
ценой?» Я буду говорить с ней мягко, пристально глядя ей в глаза,
я скажу ей: «Пусть женщины оставят нас в покое. Сейчас не время
приставать к мужчинам со своими глупостями».
— Я хотела бы быть мужчиной, — сказала Одетта.
ОТСРОЧКА
333
Матье приподнялся на локте. Теперь он был бронзовый от
загара. Улыбаясь, он спросил:
— Чтобы играть в солдатики?
Одетта покраснела.
— Нет, нет! — живо возразила она. — Но мне кажется, что глупо
быть сейчас женщиной.
— Да, это не слишком-то удобно, — согласился он.
Она опять, в который раз, была похожа на попугайчика; слова,
которые она употребляла, всегда оборачивались против нее. Однако
ей казалось, что Матье не смог бы ее порицать, если б она умела
выразиться правильно; надо было бы сказать ему, что мужчины
всегда ставили ее в неловкое положение, когда в ее присутствии
говорили о войне. Они выглядели неестественными, они
выказывали слишком много уверенности, как будто хотели убедить ее, что
это мужское дело, и все-таки у них был вид, будто они чего-то от
нее ждали: нечто вроде третейского суда, потому что она женщина
и не уйдет на войну, а останется парить над схваткой. А что она
могла им сказать? Оставайтесь? Отправляйтесь? Она не могла
решать за них именно потому, что она была женщиной. Или нужно им
сказать: «Делайте что хотите». А если они ничего не хотят? Она
уходила в тень, притворялась, будто не слышит их, она подавала им
кофе или ликеры, окруженная раскатами их решительных голосов.
Она вздохнула, набрала в руку песок и стала ссыпать его, теплый и
белый, на свою загорелую ногу. Пляж был пустынным, море
говорливым и мерцающим. На деревянном понтоне «Провансаля» три
молодые женщины в пляжных костюмах пили чай. Одетта закрыла
глаза. Она лежала на песке в серёдке надвременного, надвозрастно-
го зноя: это был зной ее детства, когда она закрывала глаза, лежа на
этом же песке, и представляла себя саламандрой, окруженной
огромным красно-голубым пламенем. Тот же зной, та же влажная
ласка купальника; кажется, что чувствуешь, как он дымится на
солнце, тот же жар песка на затылке, дальние годы, она сливалась с
небом, морем и песком, она больше не отличала настоящее от
прошлого. Она выпрямилась, широко открыв глаза: сегодня ее окружала
подлинная реальность; была эта тревога под ложечкой, был
обнаженный и загорелый Матье, сидящий по-турецки на белом халате.
Он молчал. Одетте тоже хотелось бы молчать. Но когда она не
понуждала его непосредственно обращаться к ней, она его теряла: он
предупредительно давал себе время произнести маленькую речь
четким, хрипловатым голосом, а потом уходил, оставив в залог свое
334
Жан Поль Сартр
вежливое холеное тело. Если бы можно было предположить, что он
хотя бы погружается в приятные мысли: но он смотрел прямо перед
собой с видом, от которого сжималось сердце, в то время как его
большие руки машинально лепили из песка пирожки. Пирожок тут
же разваливался, руки без устали его восстанавливали; Матье
никогда не смотрел на свои руки; в конце концов это раздражало.
— Пирожки не делают из сухого песка, — проговорила Одетта. —
Это знают даже малыши.
Матье засмеялся.
— О чем вы думаете? — спросила Одетта.
— Нужно написать Ивиш, — сказал он. — Это меня тяготит.
— Не сказала бы, что это вас тяготит, — промолвила Одетта,
усмехнувшись. — Вы ей послали уже целые тома.
— Да. Но какие-то идиоты нагнали на нее страху. Она стала
читать газеты, хотя ничего в них не понимает: она хочет, чтобы я ей
все объяснил. Это будет не слишком сложно: она путает чехов с
албанцами и думает, что Прага находится на берегу моря.
— Это очень по-русски, — сухо заметила Одетта.
Матье, нахмурившись, не ответил, и Одетта почувствовала
досаду. Он с усмешкой сказал:
— Все усложняется тем, что она меня яростно возненавидела.
— Почему?
— Потому что я француз. Она спокойно жила среди французов,
и вдруг они захотели сражаться. Она считает это возмутительным.
— Очень мило! — вскинулась Одетта.
Матье принял добродушный вид:
— Но поставьте себя на ее место, — мягко сказал он. — Она
злится на нас, потому что мы готовимся быть убитыми или ранеными!
Она считает, что раненым недостает такта, потому что они
вынуждают других думать об их теле. Она называет это физиологичным.
А физиологию и у себя, и у других она ненавидит.
— Экая милашка, — усмехнулась Одетта.
— И все это совершенно искренне, — сказал Матье. — Она
целыми днями не ест, потому что процесс еды вызывает у нее омерзение.
Когда ночью ей хочется спать, она пьет кофе, чтобы взбодриться.
Одетта не ответила; она подумала: «Хорошая порка — вот что
ей нужно». Матье ворошил руками песок с поэтичным и
глуповатым видом. «Она не ест на людях, но я уверена, что она прячет в
своей комнате огромные банки с вареньем. Мужчины — круглые
дураки». Матье снова принялся лепить пирожки; он опять отбыл
ОТСРОЧКА
335
бог знает куда и насколько. «А я ем мясо с кровью и сплю когда
хочу», — с горечью подумала Одетта. На понтоне «Провансаля»
музыканты наигрывали «Португальскую серенаду». Их было трое.
Итальянцы. Скрипач был неплох; играя, он закрывал глаза. Одетта
почувствовала себя растроганной; это всегда так волнует, когда
слушаешь музыку на свежем воздухе, таком разреженном, таком
пустом. Особенно сейчас: тонны зноя и войны давили на море, на
песок, и еще этот комариный писк, вздымавшийся прямо к небу.
Она повернулась к Матье и хотела ему сказать: «Мне очень
нравится эта музыка», но промолчала: возможно, Ивиш ненавидит
«Португальскую серенаду». Руки Матье замерли, пирожок рассыпался.
— Мне очень нравится эта музыка, — сказал он, поднимая
голову. — Что это?
— «Португальская серенада», — ответила Одетта.
Восемнадцать десять в Годесберге. Старик ждет. В Ангулеме, в
Марселе, в Генте, в Дувре думают: «Что он делает? Спустился ли?
Разговаривает ли с Гитлером? Может, они в этот самый момент все
полюбовно уладили». И они ждут. Старик в гостиной с
полуопущенными жалюзи тоже ждет. Он один, он отрыгнул и подошел к
окну Бело-зеленый холм спускается к реке. Рейн совсем черный, он
похож на асфальтовую дорогу после дождя. Старик отрыгнул еще
раз, во рту у него кислый привкус. Он барабанит по оконному
стеклу, и испуганные мухи кружатся вокруг него. Белая и пыльная жара,
чопорная, скептическая, устаревшая, жара воротничков эпохи
Фридриха II; внутри этой жары скучает старый англичанин времен
Эдуарда VII, а весь остальной мир в 1938 году. В Жуан-ле-Пене
23 сентября 1938 года в семнадцать часов десять минут полнотелая
женщина в белом полотняном платье садится на складной стул,
снимает солнцезащитные очки и начинает читать газету. Это «Пти
Нисуа». Одетта Деларю видит крупный заголовок: «Хладнокровие»
и, напрягшись, разбирает подзаголовок: «Господин Чемберлен
адресует послание Гитлеру». Она задумывается: «Действительно ли я
боюсь войны?» и сама себе отвечает: «Нет. Нет, не на самом деле».
Если бы она боялась ее на самом деле, она бы вскочила, побежала
на вокзал, закричала бы, простирая руки: «Не уезжайте! Останьтесь
дома!» На мгновение она воображает себя: выпрямившаяся, со
скрещенными руками, кричащая — и у нее кружится голова. Потом
она с облегчением думает, что не способна к такой грубой
бестактности. Во всяком случае, не вполне. Благопристойная женщина,
француженка, благоразумная и сдержанная, с большим количе-
336
Жан Поль Сартр
ством запретов, с правилом: ничего не додумывать до конца. В Лао-
не, в темной комнате, ожесточенная, возмущенная девочка изо всех
сил отвергает войну, отвергает упрямо и слепо. Одетта говорит:
«Война ужасна!»; она говорит: «Я постоянно думаю о несчастных,
уходящих на войну». Но она еще толком ни о чем не думает, она
терпеливо ждет: она знает, что ей скоро скажут, что именно следует
думать, говорить и делать. Когда ее отец был убит в 1917 году, ей
сказали: «Все в порядке, нужно быть мужественной», и она очень
скоро научилась носить траурный креп и с отважной грустью
устремлять на людей ясный взгляд военной сироты. В 1924 году ее
брат был ранен в Марокко, он вернулся хромым, и Одетте снова
сказали: «Все в порядке, не надо его так уж жалеть»; и Жак через
несколько лет ей сказал: «Любопытно, я считал Этьена более
сильным, он так и не смирился со своим увечьем и порядком
ожесточился». Жак уйдет на войну, Матье уйдет на войну, и это тоже будет
«все в порядке», она была в этом уверена. В данный момент газеты
еще колебались; Жак говорил: «Это будет глупая война», и в
крайне правом «Кандиде» писали: «Мы не будем воевать из-за того, что
судетские немцы хотят носить белые чулки». Но очень скоро
страна станет сплошным единодушным одобрением, палата депутатов
единогласно одобрит политику правительства, «Жур» будет
прославлять наших отважных фронтовиков. Жак скажет: «Рабочие
великолепны», прохожие будут улыбаться друг другу на улице
благоговейно и понимающе: это война, Одетта тоже ее одобрит и
примется вязать шерстяные шлемы. Матье здесь, он как будто
слушает музыку, он знает, что действительно следует думать, но не
говорит. Он пишет Ивиш письма на двадцати страницах, чтобы
растолковать ей ситуацию. Одетте же он ничего не объясняет.
— О чем вы думаете?
Одетта вздрогнула:
— Я... ни о чем.
— Вы не совсем честны, — сказал Матье. — Я же вам ответил.
Она, улыбаясь, наклонила голову; но ей не хотелось говорить.
Матье казался совершенно проснувшимся: он смотрел на нее.
— Что случилось? — смущенно спросила она.
Он не ответил, а только удивленно засмеялся.
— Вы заметили, что я существую? — сказала Одетта. — И это вас
удивило. Так?
Когда Матье смеялся, вокруг глаз собирались морщинки, и он
становился похож на китайчонка.
ОТСРОЧКА
337
— Вы воображаете, что вас можно не заметить? — спросил он.
— Я не слишком подвижна, — сказала Одетта.
— Верно. И к тому же не слишком разговорчивы. Более того, вы
делаете все возможное, чтобы о вас забыли. Так вот, это вам не
удается: даже когда вы совсем смирная и благопристойная и смотрите
на море, производя не больше шума, чем мышь, знаешь, что вы
здесь. Это так. В театре это называется эффектом присутствия; есть
актеры, у которых это есть, а у других нет. У вас есть.
У Одетты прилила кровь к щекам:
— Вы испорчены русскими, — живо сказала она. — Эффект
присутствия, должно быть, очень славянское качество. Но я
сомневаюсь, что это в моем стиле.
Матье серьезно посмотрел на нее.
— А что в вашем стиле? — спросил он.
Одетта почувствовала, что ее глаза заметались, забегали в
глазницах. Она справилась со взглядом и направила его на свои
обнаженные ноги с накрашенными ногтями. Одетта не любила, когда о
ней говорили.
— Я обывательница, — весело сказала она, — простая
французская обывательница, в этом нет ничего интересного.
Она почувствовала, что кажется ему недостаточно
убедительной, и, чтобы закончить спор, добавила:
— Какая разница, кто я.
Матье не ответил. Одетта искоса поглядела на него: его руки
снова просеивали песок. Одетта спросила себя, какую оплошность
она допустила. Во всяком случае, он мог бы хотя бы из вежливости
что-то возразить.
Через некоторое время она услышала его мягкий хрипловатый
голос:
— Трудно чувствовать себя невесть кем, а?
— Привыкаешь, — сказала Одетта.
— Верно. А вот я так и не привык.
— Но вы-то не невесть кто, — живо возразила она.
Матье рассматривал пирожок, который он только что соорудил.
На сей раз получился красивый, не рассыпающийся пирожок. Он
смахнул его движением руки.
— Все мы невесть кто, — сказал Матье и рассмеялся. — Это так
глупо.
— Какой вы печальный, — проговорила Одетта.
338
Жан Поль Сартр
— Не больше других. Все мы немного выбиты из колеи
опасностью войны.
Она подняла глаза, намереваясь заговорить, но встретила его
взгляд, прекрасный, спокойный и нежный взгляд. Она промолчала.
Невесть кто — мужчина и женщина смотрят друг на друга на пляже;
война была здесь, вокруг них; она засела в них самих и сделала их
похожими на прочих, всех прочих. «Он чувствует себя невесть кем,
он смотрит на меня, он улыбается, он улыбается не мне, а невесть
кому». Он ничего у нее не просил, кроме молчания, кроме того,
чтобы она оставалась никем как обычно. Нужно было молчать;
скажи она ему: «Вы не невесть кто, вы красивы, сильны,
романтичны, вы ни на кого не похожи», и поверь он ей, он ускользнул бы от
нее сквозь пальцы, он бы снова ушел в свои мечты, возможно, он бы
еще больше полюбил другую, к примеру, ту русскую, которая пьет
кофе, когда ей хочется спать. Одетта почувствовала укол
самолюбия и быстро проговорила:
— На этот раз все будет ужасно.
— Скорее, глупо, — отозвался Матье. — Они уничтожат все, до
чего смогут добраться. Париж, Лондон, Рим... То-то будет картина!
Париж, Рим, Лондон. И белую роскошную виллу Жака на
берегу. Одетта вздрогнула; она посмотрела на море. Море было всего
лишь мерцающим маревом; обнаженный и коричневатый, слегка
выгнутый вперед, лыжник, влекомый моторной лодкой, быстро
скользил по этому мареву. Нет, никто на свете не сможет
уничтожить это светящееся мерцание.
— Но это, во всяком случае, останется, — сказала она.
-Что?
— Море.
Матье покачал головой:
— Даже этого не останется, — сказал он. — Даже этого.
Одетта удивленно посмотрела на него: она всегда не до конца
понимала, что он хочет сказать. Она решила расспросить его, но ей
вдруг нужно было уйти. Она вскочила, надела босоножки и
завернулась в халат.
— Что вы делаете? — спросил Матье.
— Мне нужно идти, — сказала она.
— Так вдруг?
— Я вспомнила, что обещала Жаку к ужину чесночную
похлебку. Мадлен одна не управится.
ОТСРОЧКА
339
— Вы редко долго остаетесь на одном месте, — сказал Матье. —
Что ж, я пойду купаться.
Она поднялась по усыпанным песком ступенькам и уже на
террасе оглянулась. Она увидела Матье, бегущего к морю. «Он прав, —
подумала она, — мне не сидится на месте». Всегда уходить, всегда
спохватываться, всегда убегать. Как только ей хоть немного где-то
нравилось, ее охватывало смущение и чувство вины. Она смотрела
на море и думала: «Я всегда чего-то боюсь». В ста метрах сзади была
вилла Жака, приготовление чесночной похлебки, толстая Мадлен,
трапеза. Одетта отправилась в путь. Она спросит у Мадлен: «Как
здоровье вашей матушки?» и Мадлен, немного сопя, ответит: «Да
все так же», и Одетта ей скажет: «Ей нужно сварить немного
бульону, и потом отнесите ей белого мяса, перед тем как подать на стол,
оторвите крылышко, увидите, она съест его с аппетитом», и Мадлен
ответит: «Ах, мадам, она ни к чему не притрагивается». Одетта
скажет: «Дайте-ка мне». Она возьмет цыпленка, собственноручно
отрежет крылышко и почувствует себя оправданной. «Даже этого!»
Она бросила прощальный взгляд на море. «Он сказал: «Даже
этого». Однако море было таким легким, как небо наизнанку; что у них
могло быть против него? Оно было густое и сине-зеленое, или
цвета кофе с молоком, такое гладкое, монотонное, каждодневное, оно
пахло йодом и лекарствами, их море, их морской бриз, они за него
платят сто франков в день; он приподнялся на локтях и посмотрел
на детей, игравших на сером песке, маленькая Симона Шассье
бегала и смеялась, подволакивая левую ногу в ортопедическом
ботинке. У лестницы был мальчик, которого он не знал, бесспорно,
новенький, устрашающе худой, с огромными ушами, он засунул палец
в нос и серьезно смотрел на трех девочек, лепивших пирожки. Он
горбил острые плечи и подгибал колени, но крупное туловище было
неподвижно, как камень. Корсет. Туберкулезный сколиоз. «Помимо
этого, он скорее всего дебил».
— Ложитесь, — сказала Жаннин. — Лягте ровно. Какой вы
сегодня беспокойный.
Он повиновался и увидел небо. Четыре белых облачка. Он
услышал скрип коляски на дороге: «Что-то его рано везут назад, кто
это может быть?»
— Привет, харя! — произнес грубый голос.
Он быстро поднял обе руки и повернул зеркальце над головой.
Они уже прошли, но он узнал тяжелый зад санитарки: это была
Даррье.
340
Жан Поль Сартр
— Ты когда сбреешь свою бороду? — крикнул он ей.
— Как только ты отрежешь свои шары! — ответил удаляющийся
голос Даррье.
Он радостно засмеялся: Жаннин не любила грубости.
— Скоро меня увезут назад?
Он увидел руку Жаннин, рука порылась в кармане белого
халата и извлекла оттуда часы.
— Еще минут пятнадцать. Вам скучно?
-Нет.
Он никогда не скучал. Цветочные горшки не скучают. Когда
светит солнце, их выставляют наружу, а потом с наступлением
вечера возвращают обратно. У них никогда не спрашивают их мнения,
они ничего не должны решать, ничего не должны ждать. Как
захватывающе впитывать воздух и свет всеми порами! Небо загремело,
как гонг, и он увидел пять маленьких аспидных точек в форме
треугольника, поблескивавших меж двух облаков. Он вытянулся, и
у него задвигались большие пальцы ног: звук приходил большими
медными слоями, это было приятно и ласкающе, это походило на
запах хлороформа, когда усыпляют на большом операционном
столе. Жаннин вздохнула, и он исподтишка посмотрел на нее; она
подняла голову и казалась встревоженной, определенно, что-то ее
беспокоило. «А! Вспомнил: скоро будет война». Он улыбнулся.
— Значит, — сказал он, немного повернув шею, — ходячие
решились начать свою войну.
— Напоминаю, — сухо ответила она. — Если вы будете так
говорить, я больше не буду вам отвечать.
Он замолчал, у него было много времени, самолет гудел в его
ушах, он себя хорошо чувствовал, молчание его не раздражает. Она
не могла сопротивляться, ходячие всегда обеспокоены, им нужно
говорить, двигаться: наконец она не выдержала:
— Боюсь, что вы правы: скоро будет война.
Она выглядела, как в операционные дни, — одновременно
разнесчастным ребенком и старшей медсестрой. Когда она вошла в
самый первый день и сказала ему: «Приподнимитесь, я уберу
судно», у нее был именно такой вид. Он потел, чувствовал собственный
запах, отвратительный запах кожевенного завода, а она стояла, все
понимающая и незнакомая, она протягивала к нему роскошные
руки и выглядела именно так, как сегодня.
Он слегка облизнул губы: с тех пор он попортил ей немало
крови. Он сказал ей:
ОТСРОЧКА
341
— У вас такой взволнованный вид...
— Еще бы!
— А вам-то что до этой войны? Вас это не касается.
Она отвернулась и с раздражением похлопала по краю
фиксатора. К чему ей расстраиваться из-за войны? Ее профессия —
ухаживать за больными.
— А мне плевать на войну, — сказал он.
— Зачем вы притворяетесь злым? — мягко сказала она. — Вы же
не хотите, чтобы Францию разгромили.
— Мне это безразлично.
— Месье Шарль! Когда вы такой, вы меня пугаете.
— Я же не виноват, что я нацист, — ухмыльнулся он.
— Нацист! — обескураженно повторила она. — Что это вы на
себя наговариваете! Нацист! Они убивают евреев и всех, кто с ними
не согласен, они их сажают в тюрьму, и священников тоже, они
подожгли Рейхстаг, это бандиты. Такое нельзя говорить; такой юноша,
как вы, не имеет права говорить, что он нацист, даже в шутку.
Он сохранил на губах понимающую провоцирующую улыбочку.
Он не испытывал антипатии к нацистам. Они были мрачными и
свирепыми, казалось, они хотят все уничтожить: посмотрим, до
каких пределов они дойдут, увидим. У него появилась забавная
мысль:
— Если будет война, все станут горизонтальными.
— И он доволен! — возмутилась Жаннин. — Что еще взбредет
ему на ум?
Он сказал:
— Стоячие устали стоять, они лягут плашмя в ямы. Я на спине,
они на животе: все станут горизонтальными.
Уже много времени они склонялись над ним, мыли, чистили,
обтирали ловкими руками, а он оставался неподвижным под этими
руками, он смотрел на их лица, начиная с подбородка, на
запекшиеся ноздри над выступом губ, на черную линию ресниц чуть
выше. «Теперь их очередь лечь». Жаннин не реагировала: она была
не так оживлена, как обычно. Она мягко положила руку ему на
плечо.
— Злюка! — сказала она. — Злюка, злюка, злюка!
Это был миг примирения. Он сказал:
— Что сегодня вечером дадут лопать?
— Рисовый суп и картофельное пюре, а потом — вы будете
довольны — налима.
342
Жан Поль Сартр
— А на десерт? Сливы?
— Не знаю.
— Наверное, сливы, — сказал он. — Вчера был абрикосовый
компот.
Оставалось еще пять минут; он вытянулся и надулся, чтобы еще
больше ими насладиться, он посмотрел на свой кусочек мира,
отраженный в его третьем глазу, в зеркальце. Пыльный и
неподвижный глаз с коричневыми трещинами: он немного искажал
движения, и это было забавно, они становились одеревенелыми и
механическими, как в довоенных фильмах. Вот в нем проскользнула
женщина в черном, лежащая на фиксаторе, проскользнула и
исчезла: мальчик толкал коляску.
— Кто это? — спросил он у Жаннин.
— Я ее не знаю, — сказала Жаннин. — Кажется, она с виллы
«Монрепо», вы ее знаете, тот большой рыжеватый дом на берегу
моря.
— Это там оперировали Андре?
-Да.
Он глубоко вздохнул. Свежее, шелковистое солнце текло ему в
рот, в ноздри, в глаза. А что здесь делает этот солдат? Зачем ему
дышать воздухом, предназначенным для больных? В зеркальце
прошел солдат, негнущийся, как изображение в волшебном фонаре,
вид у него был озабоченный, Шарль приподнялся на локте и с
любопытством проследил за ним взглядом: «Он ходит, ощущает
свои ноги и бедра, все его тело давит на ступни». Солдат
остановился и стал разговаривать с медсестрой. «А, это кто-то
здешний», — с облегчением подумал Шарль. Солдат говорил серьезно,
покачивая головой и не меняя печального выражения лица. «Он
умывается и одевается сам, он идет куда хочет, ему необходимо все
время заниматься собой, он чувствует себя чудным, потому что
стоит: я это знал раньше. Что-то с ним скоро произойдет. Завтра
будет война, и что-то произойдет со всеми. Но не со мной. Я —
просто вещь».
— Уже пора, — сказала Жаннин. Она грустно посмотрела на
него, глаза ее наполнились слезами. Какая она противная. Он ей
сказал:
— Вы любите меня, свою игрушку?
— Да, да!
— Не трясите меня, как при ходьбе.
ОТСРОЧКА
343
— Хорошо.
Слезы брызнули и покатились по бледным щекам. Он
недоверчиво посмотрел на нее.
— Что с вами?
Она не ответила и, всхлипывая, склонилась над ним, поправляя
ему одеяло: он видел ее ноздри.
— Вы что-то от меня скрываете...
Она не отвечала.
— Что вы от меня скрываете? Вы поссорились с мадам Гуверне?
Ну? Не люблю, когда со мной обращаются как с ребенком!
Жаннин выпрямилась и посмотрела на него с отчаянной
нежностью.
— Вас собираются эвакуировать, — плача, сказала она.
Шарль не понял. Он спросил:
— Меня?
— Всех больных из Берка. Мы слишком близко от границы.
Шарль задрожал. Он поймал руку Жаннин и сжал ее:
— Но я хочу остаться!
— Здесь никого не оставят, — сказала она хмуро.
Он изо всех сил сжал ей руку:
— Я не хочу! — сказал он. — Я не хочу!
Она, не отвечая, высвободила руку, прошла за коляску и стала
ее толкать.
Шарль наполовину приподнялся и затеребил уголок одеяла.
— Но куда нас отправят? Когда отъезд? Сестры поедут с нами?
Скажите же что-нибудь!
Она не отвечала, и он услышал, как она вздохнула над его
головой. Он снова лег и в бешенстве сказал:
— Они меня доконают.
Я не хочу смотреть на улицу. Милан встал у окна, он смотрит,
он мрачен. Их еще здесь нет, но они уже шаркают по всему
кварталу. Я их слышу. Я нагибаюсь над Марикой и говорю:
— Стань здесь.
-Где?
— У стены между окнами.
Она меня спрашивает:
— Почему меня сюда отослали?
Я не отвечаю; она спрашивает:
— Кто это кричит?
344
Жан Поль Сартр
Я молчу. Шаркающие сапоги, это их звуки: шушушу-шу-у-у-шу.
Я сажусь на пол рядом с ней. Я тяжелая. Я ее обнимаю. Милан
стоит у окна, он отрешенно грызет ногти. Я ему говорю:
— Милан! Иди к нам; не стой у окна.
Он ворчит, перевешивается через подоконник, нарочно
перевешивается. Шаркающие сапоги. Через пять минут они будут здесь.
Марика хмурит брови:
— Кто это идет?
— Немцы.
Она произносит: «А?», и ее лицо снова становится
безмятежным. Она смирно слушает шаркающие сапоги, как слушает мой
голос во время урока, или дождь, или ветер в листве: потому что эти
звуки слышны. Я смотрю на нее, и она мне отвечает ясным
взглядом. Именно этот взгляд, надо быть только этим взглядом, ничего
не понимающим, ничего не ждущим. Я хотела бы стать глухой, быть
зачарованной этими глазами, читать в этих глазах шум. Мягкий
шум, лишенный смысла, как шум листвы. Но я знаю, что означают
эти шаркающие сапоги. Они мягкие, они мягко придут, эти люди
будут его бить, пока он не станет в их руках совсем мягким. Он
здесь, пока еще крепкий и твердый, он смотрит в окно: они будут
держать его на вытянутых руках, он станет дряблым, с тупым
выражением на разбитом лице; они будут его бить, они опрокинут его
на землю, и завтра ему будет стыдно передо мной. Марика
вздрагивает в моих объятиях, я у нее спрашиваю:
— Ты боишься?
Она отрицательно качает головой. Она не боится. Она
серьезная, как в те моменты, когда я пишу на черной доске, а она, открыв
рот, следит за моей рукой. Она старается: она уже поняла, что такое
деревья и вода, потом животные, которые самостоятельно ходят,
потом люди, потом буквы алфавита. Теперь же было вот что:
молчание взрослых людей и эти шаркающие сапоги на улице; вот что
нужно осмыслить. Все это потому, что мы — маленькая страна. Они
придут, они пустят танки по нашим полям, они будут стрелять в
наших мужчин. Потому что мы — маленькая страна. Боже мой!
Сделай так, чтобы французы пришли к нам на помощь, Боже,
сделай так, чтобы они не оставили нас в беде.
— Вот они, — сказал Милан.
Я не хочу смотреть на его лицо, только на лицо Марики, потому
что она ничего не понимает. Они рядом: они приближаются, они
шаркают сапогами по нашей улице, они выкрикивают наши имена,
ОТСРОЧКА
345
я их слышу. Я здесь, я сижу на полу, тяжелая и неподвижная,
револьвер Милана в кармане моего передника. Он смотрит на Марику, она
приоткрывает рот; ее глаза чисты, она все еще ничего не понимает.
Он шел вдоль рельсов, он смотрел на лавки и смеялся от
удовольствия. Он смотрел на рельсы, он смотрел на лавки; он смотрел
на лежащую перед ним белую улицу, щуря глаза, и думал: «Я в
Марселе». Лавки были закрыты, железные жалюзи опущены, улица
пустынна, но он в Марселе. Он остановился, поставил мешок, снял
кожаную куртку и перебросил ее через руку, затем вытер лоб и
снова вскинул мешок на спину. Ему хотелось с кем-нибудь поболтать.
Он сказал себе: «У меня в носовом платке двенадцать окурков
сигарет и один окурок сигары». Рельсы блестели, длинная белая
улица слепила его, он сказал: «У меня в мешке бутылка красного».
Было жарко, и он бы с удовольствием выпил, но он предпочел бы
выпить рюмочку полынной водки в забегаловке, если только они не
все закрыты. «Никогда бы не подумал», — сказал он себе. Он опять
зашагал между рельсами, улица промеж черных домиков сверкала,
как река. Слева было много лавок, но невозможно узнать, что там
продавалось, потому что железные жалюзи закрыты; справа
тянулись пустые, открытые всем ветрам дома, похожие на вокзалы,
время от времени возникала кирпичная стена. Но зато это был
Марсель. Большой Луи спросил себя:
— Где они могут быть?
Кто-то выкрикнул:
— Быстро сюда!
На углу переулка была открытая забегаловка. На пороге стоял
крепыш с торчащими усами, он кричал: «Быстро сюда!», и люди
возникли разом, как из-под земли, и побежали к забегаловке.
Большой Луи побежал тоже; он хотел зайти вслед за парнями, но усатый
тип ладонью толкнул его в грудь и рявкнул:
— А ну, вали отсюда!
Мальчик в переднике нес круглый стол больше, чем он сам, и
пытался занести его в кафе.
— Ладно, папаша, — сказал Большой Луи, — ухожу. У тебя,
случаем, нет полынной водки?
— Я тебе сказал: сматывайся.
— Ухожу, — сказал Большой Луи. — Не надо бояться; я не лезу
в компании, где меня не хотят.
Крепыш повернулся к нему спиной, одним толчком снял
наружный засов и вошел в кафе, закрыв за собой дверь. Большой Луи
346
Жан Поль Сартр
посмотрел на дверь: на месте засова осталась маленькая круглая
дыра с неровными краями. Он почесал затылок и повторил: «Ухожу,
не надо бояться». И все-таки он подошел к окну и попытался
заглянуть в кафе, но кто-то изнутри задернул шторы, и он ничего не
увидел. Он пробормотал: «Никогда бы не подумал». Улица шла
обочь его, рельсы блестели, на рельсах стояла брошенная черная
вагонетка. «Я бы хотел куда-нибудь зайти», — подумал Большой
Луи. Ему хотелось выпить полынной водки в бистро и поболтать с
хозяином. Он объяснил себе, почесывая голову: «Я привык торчать
на улице». Когда он бывал на улице, то обычно и другие были там
же, овцы и прочие пастухи, и это все-таки была компания, а когда
не было никого, то не было никого, вот и все. Сейчас он был на
улице, а все остальные — внутри, за своими стенами и дверьми без
засовов. Он был на улице совсем один, на пару с вагонеткой.
Большой Луи побарабанил в окно кафе и подождал. Никто не ответил:
если бы он собственными глазами не видел, как туда вошли люди,
он бы поклялся, что в кафе никого не было. Он сказал себе: «Я
ухожу» и действительно ушел; ему чертовски захотелось пить; он
представлял себе Марсель не таким. Он шел, и ему казалось, что улица
пахнет затхлым. Он спросил себя: «Где бы мне присесть?» и
услышал сзади гул: так гудит стадо овец, когда его перегоняют в горы.
Он обернулся и увидел вдалеке небольшую толпу со знаменами.
«Что ж, посмотрю на них», — сказал он и обрадовался. С другой
стороны рельсов было что-то вроде площади, ярмарочного поля с
двумя зелеными лачугами, прилепившимися к высокой стене; он
сказал: «Там и присяду, чтобы поглядеть, как они проходят». Одна
из лачуг оказалась лавкой, около нее пахло колбасой и жареной
картошкой. Большой Луи увидел старика в белом переднике,
ворошившего в печке. Он сказал ему:
— Папаша, дай жареной картошки.
Старик обернулся.
— А этого не хотел?! — рявкнул он.
— У меня есть деньги, — сказал Большой Луи.
— А этого не хотел?! Плевал я на твои деньги. Я закрываюсь.
Он вышел и начал вертеть ручку. Железные жалюзи с грохотом
стали опускаться.
— Еще семи нет! — крикнул Большой Луи, чтобы перекричать
грохот.
Старик не ответил.
ОТСРОЧКА
347
— Я подумал, что ты закрываешься, потому что уже семь! —
крикнул Большой Луи.
Железные жалюзи опустились. Старик вынул ручку,
выпрямился и плюнул.
— Ты что, придурок, не видел, что они идут, а? Я не собираюсь
отдавать жареную картошку задарма, — сказал он, возвращаясь в
лачугу.
Большой Луи еще с минуту посмотрел на зеленую дверь, затем
сел на землю посреди ярмарочного поля, положил под спину мешок
и стал греться на солнце. Он подумал, что у него есть буханка
круглого хлеба, бутылка красного вина, двенадцать окурков от сигарет
и один от сигары, он сказал себе: «Ну что ж, заморим червячка». По
другую сторону рельсов двинулись люди, они размахивали
знаменами, пели и вопили; Большой Луи вынул из кармана нож и
смотрел на них, пережевывая свой харч. Одни поднимали кулаки,
другие кричали ему: «Пошли с нами!», и он, смеясь, приветствовал
их, он любил шум и движение, это его малость развлекало.
Он услышал шаги и обернулся. К нему приближался высокий
негр, на нем была выцветшая розовая рубашка с короткими
рукавами; голубые брюки болтались при каждом шаге на длинных худых
икрах. Как видно, он не торопился. Негр остановился и стал
выкручивать коричнево-розовыми руками плавки. Вода капала в пыль
и свертывалась в шарики. Негр завернул плавки в полотенце и,
равнодушно посвистывая, стал смотреть на демонстрацию.
— Эй! — крикнул Большой Луи.
Негр посмотрел на него и улыбнулся.
— Что они делают?
Негр подошел к нему, раскачивая плечами: как видно, он не
торопился.
— Это докеры, — сказал он.
— Они что, бастуют?
— Забастовка закончилась, — сказал негр. — Но эти хотят начать
ее снова.
— А-а, вот оно что! — протянул Большой Луи.
Негр с минуту молча смотрел на него, казалось, он подыскивает
слова. В конце концов он сел на землю, положил полотенце на
колени и начал свертывать сигарету. Он продолжал насвистывать.
— Откуда идешь? — спросил он.
— Из Прад, — ответил Большой Луи.
348
Жан Поль Сартр
— Не знаю, где это, — сказал негр.
— Как так не знаешь? — засмеялся Большой Луи. Они оба
посмеялись, потом Большой Луи пояснил: — Мне там разонравилось.
— Ты пришел искать работу? — спросил негр.
— Я был пастухом, — пояснил Большой Луи. — Я пас овец на
Канигу. Но это мне разонравилось.
Негр покачал головой.
— Тут работы больше нет, — строго сказал он.
— Э-э, я найду! — заверил его Большой Луи. Он показал свои
руки. — Я умею делать все, что угодно.
— Тут работы больше нет, — повторил негр.
Они замолчали. Большой Луи смотрел на орущих
демонстрантов. Они кричали: «К стенке! Сабиани к стенке!» С ними были
женщины; простоволосые и раскрасневшиеся, они разевали рты,
как будто хотели все съесть, но не было слышно, о чем они говорят,
так как мужчины горланили громче их. Большой Луи был
доволен: теперь у него есть компания. Он подумал: «Здорово». Среди
других прошла толстая женщина, ее груди болтались. Большой
Луи подумал, что неплохо было бы с ней позабавиться как-нибудь
после еды, руки были бы полны ее грудью. Негр захохотал. Он
хохотал так сильно, что задохнулся дымом от сигареты. Он
хохотал и кашлял одновременно. Большой Луи постучал кулаком ему
по спине.
— Ты чего смеешься? — смеясь, спросил он.
Негр посерьезнел.
— Просто так, — ответил он.
— Выпей глоток, — предложил ему Большой Луи.
Негр взял бутылку и отхлебнул из горлышка. Большой Луи
тоже выпил. Улица вновь опустела.
— Где ты спал? — спросил неф.
— Не знаю, — ответил Большой Луи. — На какой-то площади с
вагонетками под брезентом. Там воняло углем.
— У тебя есть деньги?
— Может, и есть, — сказал Большой Луи.
Дверь кафе открылась, вышла группа людей. Некоторое время
они оставались на улице; затеняя глаза руками, они смотрели туда,
куда ушли забастовщики. Потом одни, закурив, медленно уходили,
другие маленькими группками толклись на улице. Среди них был
бурно жестикулирующий багровый пузатый мужчина. Он гневно
крикнул молодому тщедушному парню:
ОТСРОЧКА
349
— Нам война уже в затылок дышит, а ты нам что-то толкуешь о
синдикализме!
Пузатый взмок, он был без куртки, рубашка расстегнута, под
мышками мокрые круги. Большой Луи повернулся к негру.
— Война? — спросил он. — Какая война?
— Скамейка! — сказал Даниель. — Она-то нам и нужна!
Это была зеленая скамейка у стены фермы, под открытым
окном. Даниель толкнул перекладину и вошел во двор. К нему с
лаем бросилась собака, волоча за собой цепь, на пороге дома
появилась старуха, она держала кастрюлю.
— Пошла, пошла! — сказала она, размахивая кастрюлей. —
Заткнись!
Собака, немного порычав, легла на живот.
— Моя жена немного устала, — снимая шляпу, сказал
Даниель. — Вы ей позволите посидеть на этой скамейке?
Старуха недоверчиво сощурила глаза: может, она не понимала
по-французски?
Даниель громко повторил:
— Моя жена немного устала.
Старуха повернулась к Марсель, припавшей к перекладине, и ее
недоверие растаяло.
— Конечно, ваша жена может сесть. Для того и скамейки. Она
ее не просидит. Вы идете из Пейреорада?
Марсель вошла во двор и, улыбаясь, села.
— Да, — сказала она. — Мы хотели дойти до утеса; но теперь это
для меня далековато.
Старуха понимающе подмигнула.
— Еще бы! — сказала она. — В вашем положении нужно быть
осторожной.
Марсель прислонилась к стене, полузакрыв глаза, она счастливо
улыбалась. Старуха поглядела с понимающим видом на ее живот,
затем повернулась к Даниелю, покачала головой и уважительно
осклабилась. Даниель сжал набалдашник трости и тоже улыбнулся.
Все улыбались, живот был здесь в безопасности. Из дома,
спотыкаясь, вышел ребенок, он замер и удивленно уставился на Марсель.
Он был без штанов, его красные ягодицы покрывали болячки.
— Я хотела увидеть утес, — с шаловливым видом повторила
Марсель.
— Но в Пейреораде есть такси, — сказала старуха — Оно
принадлежит Ламблену-сыну, последний дом по дороге на Бидасс.
350
Жан Поль Сартр
— Знаю, — кивнула Марсель.
Старуха повернулась к Даниелю и погрозила ему пальцем:
— Ах, месье, нужно быть к своей жене внимательным; сейчас
надо ей во всем потакать.
Марсель улыбнулась.
— Он ко мне внимателен, — заверила она. — Я сама захотела
пройтись пешком.
Она вытянула руку и погладила мальчика по голове. Вот уже
недели две, как она интересовалась детьми; это пришло внезапно.
Она трогала и щупала их, как только они оказывались в пределах
ее досягаемости.
— Это ваш внук?
— Нет, сын моей племянницы. Ему около четырех.
— Хорошенький, — сказала Марсель.
— Да, когда послушный. — Старуха понизила голос: — У вас
будет мальчик?
— Не знаю, — сказала Марсель, — я бы очень этого хотела!
Старуха засмеялась.
— Каждое утро нужно молиться святой Маргарите.
Наступила округлая, населенная ангелами тишина. Все
смотрели на Даниеля. Он склонился над тростью, смиренно по-мужски
сурово потупив глаза.
— Простите за беспокойство, мадам, — мягко сказал он. — Не
соблаговолите ли принести для моей жены чашку молока? — Он
повернулся к Марсель: — Вы выпьете чашку молока?
— Сейчас принесу, — отозвалась старуха. Она исчезла в кухне.
— Сядьте рядом со мной, — предложила Марсель.
Он опустился на скамейку.
— Как вы предупредительны! — воскликнула Марсель, беря его
за руку.
Он улыбнулся. Она растерянно смотрела на него, а Даниель
продолжал улыбаться, подавляя зевоту, растянувшую ему рот до
ушей. Он думал: «Недопустимо выглядеть до такой степени
беременной». Воздух был влажным, слегка горячечным, запахи плавали
неуклюжими сгустками, как водоросли; Даниель пристально
смотрел на зелено-рыжее мерцание кустарника по другую сторону
изгороди, его ноздри и рот были полны листвой. Еще две недели. Две
зеленые мерцающие недели, две недели в деревне. Деревню он
ненавидел. Робкий палец прогуливался по его руке с неуверенностью
ветки, колеблемой ветром. Он опустил глаза и посмотрел на па-
ОТСРОЧКА
351
лец — белый, пухловатый, на нем было обручальное кольцо. «Она
меня обожает», — подумал Даниель. Обожаемый. День и ночь это
покорное и вкрадчивое обожание втекало в него, как живительные
ароматы полей. Он прикрыл глаза, и обожание Марсель слилось с
шумящей листвой, с запахом навозной жижи и эспарцета.
— О чем вы думаете? — спросила Марсель.
— О войне, — ответил Даниель.
Старуха принесла чашку пенящегося молока. Марсель взяла ее
и стала пить медленными глотками. Верхняя губа глубоко
погрузилась в чашку и шумно втягивала молоко, с певучим звуком
проникавшее ей в горло.
— Как приятно, — вздохнула она. Над ее верхней губой
обозначились белые усики.
Старуха с выражением добросердечия смотрела на нее.
— Сырое молоко, вот что нужно для малыша, — сказала она. Обе
женщины понимающе рассмеялись, и Марсель встала, опираясь о
стену.
— Я чувствую себя совсем отдохнувшей, — промолвила она,
обращаясь к Даниелю. — Если хотите, пойдемте.
— До свидания, мадам, — сказал Даниель, опуская купюру в
руку старухи. — Мы вам признательны за любезный прием.
— Спасибо, мадам, — задушевно улыбаясь, сказала Марсель.
— До свидания, — ответила старуха. — На обратном пути идите
потихоньку.
Даниель поднял перекладину и уступил дорогу Марсель; она
споткнулась о большой камень и пошатнулась.
— Ай! — издалека вскрикнула старуха.
— Обопрись на мою руку, — сказал Даниель.
— Я такая неловкая, — сконфуженно проговорила Марсель.
Она взяла его за руку; он почувствовал ее рядом, теплую и
уродливую; он подумал: «Как только Матье мог ее хотеть?»
— Идите медленно, — сказал он.
Темные изгороди. Тишина. Поля. Черная линия сосен на
горизонте. Мужчины тяжелыми неторопливыми шагами возвращались на
фермы, сейчас они сядут за длинный стол и молча съедят свой суп.
Стадо коров перешло дорогу. Одна из них чего-то испугалась и,
подпрыгивая, шарахнулась в сторону. Марсель прижалась к Даниелю.
— Представьте себе, я боюсь коров, — сказала она вполголоса.
Даниель нежно сжал ее руку. «Пошла бы ты к черту!» —
мысленно ругнулся он. Марсель глубоко вздохнула и замолчала. Он
352
Жан Поль Сартр
покосился на нее и увидел мутные глаза, сонную улыбку,
блаженный вид: «Готово! — подумал он с удовлетворением. — Она снова
отключилась». Это временами на нее находило, когда ребенок
шевелился в животе, или когда ее охватывало какое-то незнакомое
ощущение; должно быть, она чувствовала себя до упора заселенной,
переполненной — Млечный Путь. Так или иначе, он выиграл минут
пять. Даниель подумал: «Я гуляю в деревне, мимо проходят коровы,
эта тучная женщина — моя жена». Ему захотелось смеяться: за всю
жизнь он не видел столько коров. «Ты этого хотел! Ты этого хотел!
Ты загодя желал катастрофы, что ж, ты ее получил!» Они шли
медленно, как двое влюбленных, под руку, вокруг жужжали мухи.
Какой-то старик, опершись на лопату, неподвижно стоял на краю
своего поля, он смотрел, как они проходили, и улыбнулся им.
Даниель почувствовал, что густо краснеет. В этот момент Марсель
вышла из оцепенения.
— Вы верите, что война будет? — быстро спросила она.
Ее движения потеряли агрессивную напряженность, они были
грузными и томными. Но она сохранила грубоватый категоричный
тон. Даниель смотрел на поля. Что это за поля? Он не отличал
кукурузного поля от свекольного. До него донесся голос Марсель,
повторившей:
— Вы в это верите?
Даниель подумал: «Если б разразилась война!» Марсель стала
бы вдовой. Вдова с ребенком и с шестьюстами тысячами франков
наличности. Не считая благоговейных воспоминаний о
несравненном муже: чего она могла еще хотеть? Даниель резко остановился,
потрясенный своим желанием; он изо всех сил сжал набалдашник
трости и подумал: «Господи, хоть бы началась война! Сумасшедшая
молния, которая взорвет эту мягкую тишину, чудовищно вспашет
эти деревни, изроет воронками эти поля, преобразует эти ровные и
монотонные земли в беспокойное море, война, повальная гибель
людей доброй воли, мясорубка для невинных. Они искромсают это
чистое небо собственными руками. Как они будут ненавидеть друг
друга! Как они будут содрогаться от ужаса! А сам я буду трепетать
в этом море ненависти». Марсель удивленно смотрела на него. Он
едва не рассмеялся.
— Нет. Я в это не верю.
Дети на дороге, их звонкие беззащитные голоса, их смех. Мир.
Солнце рябит в изгородях, как вчера, как завтра; на повороте дороги
показалась колокольня Пейреорада. Каждая вещь на свете имеет
ОТСРОЧКА
353
свой запах, свою вечернюю тень, бледную и длинную, свое
неповторимое будущее. И совокупность всех этих будущих — мир: до него
можно дотронуться, коснувшись трухлявого дерева этой изгороди,
нежной шейки этого мальчугана, его можно прочесть в его пытливых
глазах, он поднимается из согретой дневным солнцем крапивы, он
слышен в перезвоне этих колоколен. Повсюду люди собрались
вокруг дымящихся супниц, они ломают хлеб, наливают в стаканы
вино, вытирают ножи, их повседневные движения образуют мир. Он
здесь, сотканный из всех будущих, в нем есть изменчивое упорство
природы, он — вечное возвращение солнца, дымчатый покой полей,
суть трудов человеческих. Нет ни одного движения, которое его не
призывает и не реализует, даже тяжелая походка Марсель рядом со
мной, даже нежная хватка моих пальцев на ее руке. Град камней в
окно: «Вон отсюда! Вон отсюда!» Милан едва успел отскочить назад.
Резкий голос выкрикивал его имя: «Глинка! Милан Глинка, вон
отсюда!» Кто-то запел: «Чехи, как блохи в немецкой шубе!» Камни
покатились по полу. Булыжник разбил каминное зеркало, другой
упал на стол и размолотил чашку с кофе. Кофе разлился по клеенке
и медленно закапал на пол, под окном все горланили по-немецки.
Он подумал: «Они разлили мой кофе!» и схватил стул за спинку. Он
покрылся испариной. Он поднял стул над головой.
— Что ты делаешь? — закричала Анна.
— Я швырну его им в морду.
— Милан, не смей! Ты не один.
Он поставил стул и с удивлением поглядел на стены. Это была
больше не его комната. Они ее разворотили; красный туман заволок
ему глаза; он засунул руки в карманы и мысленно повторял: «Я не
один. Я не один». Даниель думал: «Я один». Один со своими
кровавыми мечтами в этом беспредельном безмятежном мире. Танки и
пушки, самолеты, грязные воронки, обезобразившие поля, — это
был всего лишь маленький шабаш в его голове. Никогда это небо не
расколется; будущее осеняло эти селения; Даниель был внутри, как
червь в яблоке. Будущее всех этих людей: они его творили
собственными руками, медленно, годами, и они мне в нем не оставили
крохотного местечка, самого скромного шанса. Слезы бешенства
навернулись на глаза Милану, Даниель повернулся к Марсель: «Моя
жена, мое будущее, единственное, что мне осталось, потому что мир
уже распорядился своим спокойствием».
Как крыса! Он приподнялся на локтях и смотрел, как мимо
пробегали лавки.
354
Жан Поль Сартр
— Ложитесь! — плачущим голосом взмолилась Жаннин. — И не
вертитесь во все стороны: у меня уже голова кружится.
— Куда нас отправят?
— Я же вам сказала, что не знаю.
— Вы знаете, что нас собираются эвакуировать, и не знаете куда?
Так я вам и поверил!
— Но клянусь, этого мне не сказали. Не мучьте меня!
— Прежде всего кто вам об этом сказал? Может, все это враки?
Вы готовы проглотить все, что угодно.
— Главный врач клиники, — с сожалением призналась Жаннин.
— И он не сказал куда?
Коляска катилась вдоль рыбного магазина Кюзье; он, начиная с
ног, погрузился в резкий и пресный запах свежей рыбы.
— Быстрее! Здесь пахнет немытой девчонкой!
— Я... я не могу идти быстрее. Я вас умоляю, моя куколка, не
волнуйтесь, вы нагоните себе температуру.
Она вздохнула и добавила про себя:
— Я не должна была вам этого говорить.
— Естественно! А в день отъезда мне дали бы хлороформ или
сказали бы, что везут на пикник.
Он снова лег, потому что они должны были проходить мимо
книжного магазина Наттье. Он ненавидел этот книжный магазин с
его грязно-желтой витриной. И потом, старуха всегда стояла на
пороге и сплетала руки, когда видела, как его провозят мимо.
— Вы меня трясете! Осторожно!
Как крыса! Есть люди, которые могут вскочить, побежать,
спрятаться в погребе или на чердаке. Я же мешок, им достаточно прийти
и взять меня.
— Вы будете наклеивать этикетки, Жаннин?
— Какие этикетки?
— Этикетки для отправки: верх, низ, бьется, будьте осторожны.
Одну наклеите мне на живот, другую — на задницу.
— Злюка! — возмутилась она. — Злюка! Злюка!
— Ладно! Нас, естественно, повезут на поезде?
— Да. А как же еще?
— На санитарном поезде?
— Но я не знаю! — закричала Жаннин. — Я не хочу выдумывать,
я вам уже сказала, что не знаю!
— Не кричите — я не глухой.
ОТСРОЧКА
355
Коляска резко остановилась, и он услышал, что Жаннин
сморкается.
— Что с вами? Вы меня остановили посреди улицы...
Коляска снова покатилась по неровной мостовой. Он
продолжал:
— Однако нам часто говорили, что следует избегать поездок на
поезде.
Над его головой слышалось тревожное сопение, и он замолчал:
он опасался, что она разревется. В этот час улицы кишели
больными; хороша же будет картина: взрослого парня везет плачущая
медсестра... Но тут ему пришла в голову мысль, и он, не
сдержавшись, процедил сквозь зубы:
— Ненавижу переезжать.
Они все решили за него, они берут на себя все, у них здоровье,
сила, свободное время; они проголосовали, выбрали своих вождей,
они стояли с важным и озабоченным видом, они бегали по всей
земле, они договорились между собой о судьбах планеты, и в том
числе о судьбе несчастных больных — тех же взрослых детей. И вот
результат: война, доигрались. Почему я должен расплачиваться за
их глупости? Я больной, никто не спросил моего мнения! Теперь
они вспомнили, что я существую, и хотят увлечь меня за собой, в
свое дерьмо. Меня возьмут за подмышки и щиколотки, скажут мне:
«Извини, брат. Но мы воюем», сунут меня в угол, как помет, чтобы
я не осмелился помешать их кровавым стрельбищам. Вопрос, от
которого он долго удерживался, едва не сорвался с губ. Он ей
причинит боль, ну и пусть: он все равно спросит.
— А вы... а сестры будут нас сопровождать?
— Да, — сказала Жаннин. — Некоторые.
— А... а вы?
— Нет, — ответила Жаннин. — Я — нет.
Он, задрожав, прохрипел:
— Вы нас бросаете?
— Меня направляют в госпиталь в Дюнкерке.
— Ладно, ладно! — сказал Шарль. — Все сестры стоят друг
друга, а?
Жаннин не ответила. Он привстал и осмотрелся. Его голова
вертелась сама по себе слева направо и справа налево, это было
утомительно, и в глазах у него сухо пощипывало. Навстречу им
катилась коляска, которую толкал высокий элегантный старик. На
фиксаторе лежала молодая женщина с худым лицом и золотистыми
356
Жан Поль Сартр
волосами; на ноги ей набросили роскошное меховое манто. Она
мельком взглянула на Шарля, откинула голову и пробормотала
несколько слов в склоненное лицо пожилого господина.
— Кто это? — спросил Шарль. — Я уже давно ее вижу.
— Не знаю. Кажется, артистка мюзик-холла. Ей ампутировали
ногу, потом руку.
— Она знает?
-Что?
— Я хочу сказать, больные, они знают?
— Никто не знает, доктор запретил об этом распространяться.
— Жаль, — проговорил он с усмешкой. — Может, она не так
чванилась бы.
— Побрызгайте инсектицидом, — сказал Пьер перед тем, как
сесть в фиакр. — Здесь пахнет насекомыми.
Араб послушно распылил немного жидкости на белые чехлы и
подушки сиденья.
— Готово, — сказал он.
Пьер нахмурил брови:
-Гм!
Мод закрыла ладонью его рот.
— Не надо, — умоляюще сказала она. — Не надо! И так сойдет.
— Как хочешь. Но если наберешься блох, потом не жалуйся.
Он подал ей руку, чтобы помочь подняться в фиакр, и уселся
рядом. Худые пальцы Мод оставили на его ладони сухой
лихорадочный жар: у нее всегда была небольшая температура.
— Повезите вокруг крепостных стен, — распорядился Пьер.
Что ни говори, бедность делает человека вульгарным. Мод была
вульгарна, он ненавидел ее панибратство по отношению к кучерам,
носильщикам, гидам, официантам: она постоянно принимала их
сторону, и если их заставали на месте преступления, всегда
старалась найти им извинения.
Кучер стегнул лошадь, и фиакр, скрипя, тронулся.
— Ну и колымага! — смеясь, сказал Пьер. — Того и гляди, ось
сломается.
Мод высунулась из окошка и посмотрела окрест большими,
серьезными и совестливыми глазами.
— Это наша последняя прогулка.
— Да! — ответил он. — Последняя.
Она настроена на лирический лад, так как это последний день,
и завтра мы сядем на пароход. Это его раздражало, но он лучше
ОТСРОЧКА
357
переносил ее задумчивость, нежели веселость. Она была не очень
красива, и когда хотела выказать любезность или живость, это
сразу превращалось в бедствие. «Вполне достаточно», — подумал он.
Будет завтрашний день, три дня плавания, а потом, в Марселе, до
свидания, каждый пойдет своей дорогой. Он был доволен, что
заказал себе место в первом классе: в третьем путешествовали четыре
женщины, он пригласит ее в свою каюту, когда захочет, но, будучи
робкой, она никогда не осмелится подняться в первый класс, если
он сам за ней не придет.
— Вы заказали себе место в автобусе? — спросил он.
Мод немного смутилась.
— Мы не поедем автобусом. Нас подвезут на автомобиле в
Касабланку.
-Кто?
— Один знакомый Руби, солидный господин, совершенно
обворожительный, нам придется сделать крюк через Фес.
— Жаль, — вежливо отозвался он.
Фиакр выехал из Марракеша и теперь катил среди
европейского города. Перед ними всухую гнил огромный участок с
развороченными бидонами и пустыми консервными банками. Фиакр
проезжал меж большими белыми кубами со сверкающими стеклами;
Мод надела темные очки, Пьер немного морщился из-за солнца.
Аккуратно расположенные бок о бок, кубы не давили на пустыню;
подуй ветер — и они, казалось, улетели бы. На одном из них
повесили указатель: «Улица маршала Л йоте». Но улицы не было:
совсем маленький рукав асфальтированной пустыни между
зданиями. Три туземца глазели на проезжающий фиакр; у самого
молодого было на глазу бельмо. Пьер приосанился и строго
посмотрел на них. Всегда следует показать свою силу, чтобы не быть
вынужденным ею воспользоваться, — эта формула не имела
смысла только для военных властей, но она предписывала нормы
поведения колонистам и даже обычным туристам. Не нужно
демонстрировать свое могущество: надо лишь не забываться и просто
держаться прямо. Тревога, угнетавшая его с утра, испарилась. Под
тупыми взглядами этих арабов он чувствовал, что представляет
Францию.
— Что будет, когда мы вернемся? — вдруг спросила Мод.
Он, не отвечая, стиснул кулаки. Дура — она внезапно возродила
его тревогу. Мод настаивала:
— Возможно, будет война. Ты уедешь, а я стану безработной.
358
Жан Поль Сартр
Он терпеть не мог, когда она говорила о безработице с
серьезным видом работяги. Тем не менее она была второй скрипкой в
женском оркестре «Малютки», гастролировавшем по
Средиземноморью и Ближнему Востоку: это могло сойти за артистическую
профессию. Он раздраженно дернулся:
— Прошу тебя, Мод, давай не говорить о политике. Хотя бы
один раз, а? Это наш последний вечер в Марракеше.
Она прижалась к нему:
— Действительно, это наш последний вечер.
Он погладил ее по волосам; но во рту у него оставался горький
привкус. Это был не страх — вовсе нет; ему было с кого брать
пример, он знал, что никогда не испугается. Это было скорее...
разочарование.
Теперь фиакр ехал вдоль крепостных стен. Мод показала на
красные ворота, над которыми зеленели верхушки пальм:
— Пьер, ты помнишь?
-Что?
— Сегодня ровно месяц, как мы встретились — именно здесь.
— Ах, да...
— Ты меня любишь?
У нее было худощавое личико, немного костистое, с огромными
глазами и красивыми губами.
— Да, я люблю тебя.
— Скажи повыразительней!
Он наклонился и поцеловал ее.
У старика был сердитый вид, хмуря брови, он смотрел им прямо
в глаза. Он отрывисто произнес: «Меморандум! Вот и все их
уступки!» Гораций Вильсон покачал головой, он подумал: «К чему он
ломает комедию?» Разве Чемберлен не знал, что будет
меморандум? Разве все не было решено еще накануне? Разве они не
согласились со всем фарсом, когда остались наедине с этим двуличным
доктором Шмидтом?
— Обними свою маленькую Мод, у нее сегодня вечером
скверное настроение.
Он обнял ее, и она заговорила детским голоском:
— Ты не боишься войны?
Он почувствовал неприятную дрожь, пробежавшую по затылку.
— Моя бедная девочка, нет, не боюсь. Мужчина не должен
бояться войны.
ОТСРОЧКА
359
— А я точно могу сказать, что Люсьен боится! Это меня и
отвратило от него. Он слишком труслив.
Он нагнулся и поцеловал ее в волосы: он недоумевал, почему у
него вдруг возникло желание дать ей пощечину?
— Прежде всего, — продолжала она, — как мужчина может
защищать женщину, если он все время дрейфит?
— Это не мужчина, — мягко сказал он. — А я — мужчина.
Она взяла его лицо в свои руки и начала говорить, обнюхивая
его:
— Да, вы были мужчиной, месье, да, вы были мужчиной. Черные
волосы, черная борода — вам можно было дать двадцать восемь лет.
Он высвободился; он чувствовал себя податливым и пресным;
тошнота поднималась от желудка к горлу, и он не знал, от чего его
больше тошнило — от этой мерцающей пустыни, от этих красных
стен или от этой женщины, которая съежилась в его объятиях. «Как
же я устал от Марокко!» Он хотел бы оказаться в Туре, в
родительском доме, и чтобы было утро, и мать принесла ему в постель
завтрак! «Итак, вы спуститесь в салон для журналистов, — сказал он
Невилу Гендерсону, — и сообщите, что в соответствии с просьбой
рейхсканцлера Гитлера я прибуду в отель «Дрезен»
приблизительно в двадцать два тридцать».
— Кучер! — сказал он. — Кучер! Возвращайтесь в город через эти
ворота!
— Что с тобой? — удивилась Мод.
— Мне надоели крепостные стены! — вскинулся он. — Мне
надоела пустыня и Марокко тоже.
Но он сразу же совладал с собой и двумя пальцами взял ее за
подбородок.
— Будешь умницей, — сказал он ей, — купим тебе
мусульманские туфли.
Войны не было в музыке манежей, не было в кишащих
забегаловках улицы Рошешуар. Ни дуновения ветра. Морис истекал
потом, он чувствовал у своего бедра теплое бедро Зезетты, сыграть в
белот — и все в порядке, войны не было в полях, в неподвижном
дрожании теплого воздуха над изгородями, в звонком, чистом
щебете птиц, в смехе Марсель, она возникла в пустыне вокруг стен
Марракеша. Поднялся горячий, красный ветер, он вихрем
закружился вокруг фиакра, пробежал по волнам Средиземного моря,
ударил в лицо Матье; Матье обсыхал на пустынном пляже, он ду-
360
Жан Поль Сартр
мал: «Даже этого не останется», и ветер войны дул ему прямо в
лицо.
Даже этого! Немного похолодало, но ему не хотелось сразу
возвращаться. Один за другим люди уходили с пляжа; наступило
время ужина. Само море обезлюдело, оно лежало, пустынное и
одинокое, большой лежачий свет, и черный трамплин для лыжников
дырявил его, как верхушка кораллового рифа.
«Даже этого не останется», — думал Матье. Она вязала у
открытого окна, ожидая писем Жака. Время от времени она со
смутной надеждой поднимала голову, она искала взглядом свое море. Ее
море: буек, ныряльщик, плещущая о теплый песок вода. Тихий
садик, столь подходящий для людей, садик с несколькими широкими
аллеями и бесчисленными тропинками. И каждый раз она
возобновляла свое вязание с тем же разочарованием: ей изменило ее море.
Территория страны, ощетинившаяся штыками и перегруженная
пушками, втянет в себя это побережье; вода и песок будут вовлечены
в эту воронку и продолжат свою сумрачную жизнь каждый сам по
себе. Колючая проволока избороздит белые каменные лестницы
звездчатыми тенями; пушки на бульварах между соснами, часовые у
вилл; офицеры вслепую будут шагать по этому городу скорбных вод.
Море вернется к своему одиночеству. Купаться будет запрещено:
вода, охраняемая военными, примет у кромки пляжа казенный вид;
вышка для прыжков и буйки не будут больше заманчиво маячить
вдалеке; все маршруты, которые Одетта прочертила на волнах со
времен своего детства, будут стерты. Но открытое море, наоборот —
открытое море, неспокойное и бесчеловечное, с морскими
сражениями в пятидесяти милях от Мальты, с гроздьями потопленных
кораблей у Палермо, с глубинами, изборожденными железными рыбами,
открытое море ополчится против нее, повсюду, во всем будет
обнаруживаться его ледяное присутствие, открытое море поднимется на
горизонте стеной безнадежности. Матье встал; он уже высох и стал
ладонью очищать плавки. «Война, как это омерзительно!» — подумал
он. А после войны? Это будет уже другое море. Но какое? Море
победителей? Море побежденных? Через пять, через десять лет он,
возможно, снова будет здесь, быть может, таким же сентябрьским
вечером, в тот же самый час, он будет сидеть на том же песке перед
этой огромной желатиновой массой, и те же золотистые лучи будут
скользить по поверхности воды. Но что он увидит?
Матье встал, завернулся в халат. Сосны на террасе чернели на
фоне неба. Он бросил последний взгляд на море: война еще не раз-
ОТСРОЧКА
361
разилась; люди спокойно ужинали на виллах; ни одной пушки, ни
одного солдата, нет колючей проволоки, флот стоит на рейде в Би-
зерте, в Тулоне; еще дозволено видеть море в цвету, море одного из
последних мирных вечеров. Но оно останется спокойным и
нейтральным: огромное пространство соленой воды, слегка
потревоженное, но молчаливое. Он пожал плечами и поднялся по каменным
ступеням: уже несколько дней все поочередно покидало его. Он не
ощущал запахов, всех южных запахов, не ощущал вкуса. А теперь —
море. «Как крысы бегут с тонущего корабля». Когда наступит день
отъезда, он будет совсем пуст, ему будет не о чем сожалеть. Он
медленно пошел к вилле, а Пьер выпрыгнул из фиакра.
— Идем, — сказал он, — ты заслужила пару туфель.
Они вошли на рынок. Было поздно; арабы спешили добраться
до площади Джемаа-эль-фна до захода солнца. Пьеру стало веселее;
волнение толпы его приободрило. Он смотрел на женщин в чадрах,
и когда они отвечали на его взгляд, он наслаждался своей красотой,
отраженной в их глазах.
— Смотри, — сказал он, — вот и туфли.
Прилавок был переполнен: целая груда дешевых тканей,
ожерелий, вышитых туфель.
— Как красиво! — сказала Мод. — Остановимся.
Она запустила руки в этот пестрый беспорядок, и Пьер немного
отодвинулся: он не хотел, чтобы арабы видели, как европеец
поглощен созерцанием женских безделушек.
— Выбирай, — рассеянно сказал он, — выбирай, что хочешь.
За соседним прилавком продавали французские книги; он, от
нечего делать, стал их перелистывать. Тут была уйма детективов и
кинороманов. Он слышал, как справа от него под пальцами Мод
звякали кольца и браслеты.
— Нашла туфли своей мечты? — спросил он через плечо.
— Я ищу, ищу, — ответила она. — Надо выбрать.
Он вернулся к книгам. Под стопкой «Джека из Техаса» и
«Буйвола Билла» он обнаружил книгу с фотографиями. Это было
произведение полковника Пико о ранениях лица; первых страниц не
хватало, другие были загнуты. Он хотел быстро положить ее на
место, но было слишком поздно: книга открылась сама собой; Пьер
увидел ужасное лицо, от носа до подбородка зияла дыра, дыра без
губ и зубов; правый глаз вырван, широкий шрам прорезал правую
щеку. Изувеченное лицо сохранило человеческое выражение —
отвратительно насмешливый вид. Пьер почувствовал ледяные по-
362
Жан Поль Сартр
калывания по всей коже головы и подумал: как эта книга сюда
попала?
— Хороший книга, — сказал торговец. — Не скучаешь.
Пьер принялся листать ее. Он увидел людей без носов, без глаз
или без век, с выпученными, как на анатомических плакатах,
глазными яблоками. Он был загипнотизирован, он просматривал
фотографии одну за другой и повторял про себя: «Как она попала сюда?»
Самым ужасным было лицо без нижней челюсти; на верхней
челюсти не было губы, открылись десны и четыре зуба. «Он жив, —
подумал Пьер. — Этот человек жив». Он поднял глаза — облезлое
зеркало в позолоченной раме отразило его собственное лицо, он с
ужасом посмотрел на него...
— Пьер, — сказала Мод, — посмотри-ка, я нашла.
Он замешкался: книга жгла ему руки, но он не мог решиться
отшвырнуть ее в общую кучу, отойти от нее, повернуться к ней
спиной.
— Иду, — сказал он.
Он указал торговцу пальцем на книгу и спросил:
— Сколько?
Юноша метался, как хищный зверь в клетке, по небольшой
приемной. Ирен печатала на машинке любопытную статью о
преступлениях военщины. Она остановилась и подняла голову:
— У меня от вас голова кружится.
— Я не уйду, — упорствовал Филипп. — Не уйду, пока он меня
не примет...
Ирен засмеялась:
— В чем же дело! Вы хотите его видеть? Что ж, он там, за дверью;
вам нужно только войти — и вы его увидите.
— Прекрасно! — сказал Филипп.
Он сделал шаг вперед и остановился:
— Я... это будет неловко, я его потревожу. Ирен, пожалуйста,
спросите его! В последний раз, клянусь вам, в последний раз.
— Какой вы надоедливый, — сказала она. — Оставьте все это.
Питто — подлец; неужели вы не понимаете: вам повезло, что он не
хочет вас видеть! Вам же только хуже будет.
— А, куда уж хуже! — иронично сказал он. — Разве мне можно
повредить? Сразу видно, что вы не знаете моих родителей: они —
сама добродетель, а мне оставили только водить компанию со
Злом.
Ирен посмотрела ему в глаза:
ОТСРОЧКА
363
— Вы думаете, я не знаю, чего он от вас хочет?
Юноша покраснел, но ничего не ответил.
— И потом, после всего, — сказала она, пожимая плечами.
— Пойдите спросите еще, Ирен, — умоляюще повторил
Филипп. — Пойдите спросите еще. Скажите ему, что я на пороге
кардинального решения.
— Ему на это плевать.
— И все-таки пойдите и скажите.
Она толкнула дверь и вошла, не постучав. Питто поднял голову
и скривился.
— Что такое? — прорычал он.
Ирен его не боялась.
— Все в порядке, — сказала она. — Не надо так кричать. Там этот
мальчик. Мне надоело с ним нянчиться. Вас не очень затруднит,
если я вам подброшу его на минутку?
— Я сказал нет! — рявкнул Питто.
— Он говорит, что собирается принять кардинальное решение.
— Какое мне до этого дело, черт побери!
— Ну вас! Разбирайтесь сами, — нетерпеливо сказала она. — Я
ваша секретарша, а не его нянька.
— Ладно, — сказал он, сверкнув глазами. — Пусть войдет! Так
он собирается принять кардинальное решение! Кардинальное
решение! Что ж, а я собираюсь его кардинально прикончить.
Она рассмеялась ему в лицо и вернулась к Филиппу.
— Идите.
Юноша так и бросился, но на пороге кабинета благоговейно
застыл, и она вынуждена была его подтолкнуть, чтобы заставить
войти. Она закрыла за ним дверь и вернулась к своему столу. Почти
тотчас же по ту сторону двери послышалась громкая брань. Ирен,
не обращая внимания, продолжала печатать: она знала, что для
Филиппа партия проиграна. Он корчил из себя человека, стоящего
над общественной моралью, и преклонялся перед Питто; Питто
хотел воспользоваться этим, чтобы приголубить его, и все это из
чистой порочности: он даже не был педерастом. В последний
момент малыш струсил. Он был как все мальчишки — хотел иметь все,
не давая ничего взамен. Теперь он умолял Питто сохранить с ним
дружбу, но Питто еще раньше послал его к черту. Она слышала, как
он кричал: «Пошел вон! Ты маленький трус, маленький буржуа,
маменькин сынок, корчишь из себя сверхчеловека!» Она засмеялась
и напечатала еще несколько строк статьи. «Можно ли представить
364
Жан Поль Сартр
себе более гнусных животных, чем высшие офицеры, осудившие
капитана Дрейфуса?» «Как он их приложил», — развеселившись,
подумала она.
Дверь с шумом распахнулась и захлопнулась. Филипп стоял
перед ней. Лицо у него было заплаканное. Он склонился над столом,
направив указательный палец в грудь Ирен:
— Он довел меня до крайности, — сказал он со свирепым
видом. — Никто не имеет права доводить людей до крайности. — Он
запрокинул голову и засмеялся. — Вы обо мне еще услышите!
— Не забивай себе голову чепухой, — вздохнув, сказала Ирен.
Санитарка закрыла крышку чемодана: двадцать две пары
туфель, он, видно, не часто обращался к сапожникам, когда пара
изнашивалась, он бросал ее в чемодан и покупал другую; более сотни
пар носков с дырами на пятке и большом пальце, в шкафу шесть
поношенных костюмов, и везде грязь, настоящее логово холостяка.
Ничего не случится, если она оставит его на пять минут; она
прошмыгнула в коридор, вошла в туалет, подняла юбки, оставив на
всякий случай дверь приоткрытой. Она быстро облегчилась,
внимательно прислушиваясь к малейшему шуму; но Арман Вигье
продолжал послушно лежать, совсем один в своей комнате, его желтые
руки покоились на простыне, худое лицо с седой бородой и
впавшими глазами запрокинулось, он отстраненно улыбался.
Маленькие ноги вытянулись под простыней, а ступни образовывали одна
с другой угол в восемьдесят градусов, его ногти остро торчали —
ужасные ногти больших пальцев ног, подрезаемые перочинным
ножиком каждые три месяца, они-то в течение двадцати пяти лет и
дырявили все носки. На ягодицах у него были пролежни, хотя под
него и подкладывали резиновый круг, но они больше не
кровоточили: он был мертв. На ночной столик положили его пенсне и
вставную челюсть в стакане.
Мертв. А его жизнь была здесь повсюду, неощутимая,
законченная, суровая и полная, как яйцо, до того заполненная, что все силы
на свете не смогли бы просунуть в нее и скрупул, до того пористая,
что Париж и мир проходили сквозь нее, разбросанная по четырем
сторонам Франции и полностью сконцентрированная в каждой
точке пространства, большая, неподвижная и крикливая ярмарка;
здесь были крики, смех, свистки локомотивов и взрывы шрапнели,
6 мая 1917 года, эта кровавая бомбежка в его голове, когда он падал
между двумя траншеями, здесь были окоченевшие шумы, и
настороженная санитарка слышала лишь журчание под своими юбками.
ОТСРОЧКА
365
Она выпрямилась, из уважения к смерти не спустила воду и
вернулась к изголовью Армана, проходя через большое неподвижное
солнце, навеки освещающее лицо женщины в лодке 20 июля 1900
года. Арман Вигье умер, жизнь его плавала, вобрав в себя
неподвижные горести, большой полосатый узор, который от одного до
другого конца пересекает март 1922 года, его межреберную боль,
нерушимые маленькие сокровища, радугу над набережной Берси
субботним вечером, когда шел дождь, и мостовые блестели, смеясь,
промчались два велосипедиста, удушливым мартовским полднем
шум дождя на балконе, цыганский напев, исторгнувший из глаз
слезы, капли блестевшей в траве росы, взлет голубей на площади
Святого Марка. Она развернула газету, поправила на носу очки и
прочла: «Последние новости. Встреча господина Чемберлена с
рейхсканцлером Гитлером сегодня в полдень не состоялась». Она
подумала о своем племяннике, которого, безусловно, мобилизуют,
положила газету рядом с собой и вздохнула. Мир был еще здесь, как
радуга, как солнце, как светлый рукав реки, осиянный светом. Мир
1939, а потом и 1940, и 1980 года, огромный мир людей; санитарка
сжала губы, она подумала: «Это война». Она посмотрела вдаль, и
взгляд ее проходил мир насквозь. Чемберлен покачал головой, он
сказал: «Естественно, я сделаю, что смогу, но особых надежд у меня
нет». Гораций Вильсон почувствовал, как неприятная дрожь
пробежала по спине, он сказал себе: «Искренен ли он?», а санитарка
подумала: «Муж в четырнадцатом году, племянник в тридцать
восьмом: я жила между двумя войнами». Но Арман Вигье знает: только
что родился мир, Шанталь у него спрашивает: «Почему ты воевал,
с твоими-то убеждениями?», и он отвечает: «Чтобы эта война была
последней». 27 мая 1919 года. Отныне и во веки веков. Он слушает
Бриана, совсем крошечного на трибуне под прозрачным небом, он
затерялся в толпе паломников, мир спустился на них, они касаются
его, они его видят, они кричат: «Да здравствует мир!» Отныне и во
веки веков. Он сидит на железном стульчике в Люксембургском
саду, отныне он будет всегда смотреть на эти цветущие каштаны,
война стала достоянием прошлого, он вытягивает изящные ноги,
смотрит на бегающих детей, он думает, что они никогда не узнают
ужасов войны. Предстоящие годы будут безмятежной столбовой
дорогой, время распускается веером. Он смотрит на свои старые
руки, согретые солнцем, он улыбается, он думает: «Это благодаря
нам. Войны больше не будет. Ни в моей жизни, ни после меня».
22 мая 1938 года. Отныне и во веки веков. Арман Вигье умер, и ни-
366
Жан Поль Сартр
кто не может больше признать, прав он или не прав. Никто не может
изменить нерушимое будущее его остывшего тела. Днем больше,
одним-единственным днем, и все его надежды, возможно, рухнули
бы, он вдруг обнаружил бы, что вся его жизнь была расплющена
между двумя войнами, как между молотом и наковальней. Но он
умер 23 сентября 1938 года в четыре часа утра после семи дней
агонии. Он унес с собой мир. Мир, весь мир планеты, казалось,
нерушимый. В дверь позвонили, санитарка вздрогнула, должно быть,
это кузина из Анжера, его единственная родственница, вчера ее
известили телеграммой. Санитарка отворила маленькой женщине в
черном, с крысиной мордочкой, полузакрытой волосами.
— Я — мадам Вершу.
— Очень хорошо, проходите, пожалуйста.
— Его еще можно увидеть?
— Да. Он здесь.
Мадам Вершу подошла к кровати, посмотрела на впалые щеки
и ввалившиеся глаза.
— Он очень изменился, — сказала она.
Двадцать часов тридцать минут в местечке Жуан-ле Пен,
двадцать один тридцать в Праге.
— Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует очень
важное сообщение. Не выключайте радио. В ближайшие минуты...
— Ушли, — сказал Милан.
Он стоял в оконном проеме. Анна не ответила. Она нагнулась и
начала собирать осколки стекла, самые большие камни положила в
передник и выбросила в окно. Лампа была разбита, комната стала
темно-синей.
— А сейчас, — сказала она, — я хорошенько подмету.
Она повторила «подмету» и задрожала.
— Они у нас заберут все, — плача, сказала она, — все разломают,
нас отсюда выгонят.
— Замолчи, — оборвал ее Милан. — Ради Бога, не плачь!
Он подошел к приемнику, повернул ручки, и внутри
засветились лампы.
— Работает, — удовлетворенно сказал он.
Внезапно комнату заполнил суховатый механический голос:
— Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует
важное сообщение. Не выключайте радио. В ближайшие минуты
последует важное сообщение...
— Слушай, — изменившимся голосом сказал Милан, — слушай!
ОТСРОЧКА
367
Пьер шел широкими шагами. Мод трусила рядом с ним,
прижимая рукой туфли. Она была довольна.
— Какие красивые, — лепетала она. — Руби умрет от зависти;
она купила себе туфли в Фесе, но куда им до этих. И потом, это так
удобно, надеваешь их, едва выпрыгнув из постели, не нужно даже
притрагиваться к ним руками, а с обычными туфлями столько
возни. Тут же всего одно движение, чтобы не потерять их, нужно просто
выгнуть стопу, ставя большие пальцы вот так; я расспрошу у
горничной в отеле, она арабка.
Пьер продолжал хранить молчание. Мод бросила на него
беспокойный взгляд и продолжала:
— Тебе нужно купить себе такие же, а то ты всегда ходишь по
комнате босиком; знаешь, они подходят и женщинам, и мужчинам...
Пьер резко остановился посередине улицы.
— Хватит! — прорычал он.
Она в недоумении тоже остановилась.
— Что с тобой?
— «Подходят и женщинам, и мужчинам!» — передразнил он
Мод. — Сколько можно? Ты прекрасно знаешь, о чем я думал, пока
ты болтала! Ты ведь тоже об этом думала, — в бешенстве добавил
Пьер. Он облизал губы и язвительно усмехнулся. Мод хотела что-то
сказать, но посмотрела на него и осеклась.
— Просто никто не хочет смотреть правде в глаза, — продолжал
он. — Особенно женщины: когда они о чем-то думают, тут же
начинают говорить о другом. Разве не так?
— Но, Пьер, — растерянно сказала Мод, — ты совсем сошел с
ума! Я не понимаю, что ты говоришь. О чем, по-твоему, я думаю? И
о чем думаешь ты?
Пьер вынул из кармана книгу, открыл ее и сунул ей под нос:
— Об этом.
Это была фотография обезображенного лица: носа не было, на
глазу белела повязка.
— Ты... ты это купил? — изумилась она.
— Да, — сказал Пьер, — ну и что? Я мужчина, и я ничего не
боюсь: я просто хочу видеть, какое лицо у меня будет через год.
Он помахал фотографией у нее перед носом.
— Ты будешь меня любить, когда я стану таким?
Ей стало страшно от такой мысли, она все отдала бы, лишь бы
он замолчал.
— Отвечай! Будешь любить такого?
368
Жан Поль Сартр
— Хватит, — сказала она, — умоляю тебя, хватит.
— Эти люди, — сказал Пьер, — живут в приюте Вал ьде-Грае. Они
выходят только по ночам, да и то с маской на лице.
Она хотела взять у него книгу, но он вырвал ее и сунул в карман.
Мод посмотрела на него, губы у нее дрожали, она боялась
разрыдаться.
— Пьер, — прошептала она. — Так, значит, ты боишься?
Он резко умолк и недоуменно уставился на нее. Оба на минуту
замерли, затем он протянул:
— Все люди боятся. Все. Не боятся только дураки; храбрость тут
ни при чем. И ты не имеешь права осуждать меня, потому что
воевать будешь не ты.
Они молча зашагали дальше. Мод думала: «Он трус!» Она
смотрела на его высокий загорелый лоб, на флорентийский нос, на его
красивые губы и думала: «Он трус. Как Люсьен. Как же мне не
везет».
Силуэт Одетты плавал в световом мареве, тень ее уходила в
сумрак гостиной; облокотившись о перила балкона, Одетта
смотрела на море; Большой Луи думал: «Какая еще война?» Он шел, и
красноватый свет заката плясал на его руках и бороде; Одетта
чувствовала спиной уютную полутемную комнату, уютное прибежище,
белую скатерть, слабо светившуюся в темноте, но Одетта была на
свету, свет, знание и война входили в нее через глаза, она думала,
что скоро он снова уйдет на войну, электрический свет сгущался
пучками в зыбкости уходящего дня, пучками яично-желтого цвета,
Жаннин повернула выключатель, руки Марсель двигались в
желтизне под лампой, она попросила соли, ее руки отбрасывали тени
на скатерть, Даниель сказал: «Это блеф, нужно только немного
продержаться, скоро он откроет карты». Жесткий свет царапает глаза,
как наждак, на юге всегда так, до последней минуты. Сейчас
полдень, но потом внезапно кубарем скатывается ночь, Пьер болтал, он
хотел заставить ее поверить, что он снова обрел спокойствие, но
Мод молча шла рядом с ним с таким же жестким, как этот свет,
взглядом. Когда они пришли, Мод испугалась, что он предложит ей
вместе провести ночь, но Пьер снял шляпу и холодно сказал: «Нам
завтра рано вставать, и тебе еще вещи собирать, думаю, тебе лучше
сегодня переночевать с подругами». Она ответила: «Я тоже думаю,
что так лучше». И он сказал ей: «До завтра». «До завтра, —
ответила она, — до завтра на пароходе».
ОТСРОЧКА
369
«Не выключайте радио, в ближайшие минуты последует важное
сообщение». Он лежал, положив руки под голову, и чувствовал себя
как во хмелю, он сказал: «Мы любим нашу маленькую куколку».
Она вздрогнула и ответила: «Да...» Как и каждый вечер, она боялась.
«Да, я вас очень люблю!» Иногда она соглашалась, иногда говорила
«нет», но сегодня вечером не посмела. «Значит, куколка получит
маленькую ласку, маленькую вечернюю ласку?» Жаннин
вздохнула, ей было стыдно, и это было забавно. Она сказала: «Не сегодня».
Он отдышался и проговорил: «Бедная куколка, она так волнуется,
это ее так успокоило бы. Это ей поможет уснуть, разве вы этого не
хотите? Не хотите? Ты же знаешь, это меня всегда успокаивает...»
Она напустила на себя вид старшей медсестры, как в минуты, когда
сажала его на судно, голова ее одеревенела, глаза она не закрыла, но
старалась ничего не видеть, а ее руки профессионалки быстро
расстегивали его, лицо ее стало совсем грустным, и это было ужасно
забавно, она запустила ему под одежду руку, мягкую, как
миндальное тесто, Одетта вздрогнула и сказала: «Вы меня испугали. Жак с
вами?» Шарль вздохнул, Матье сказал: нет. «Нет, — сказал
Морис, — нужно то, что нужно». Он снял ключ со щита. «Пахнет мочой,
фу, как противно». «Это малыш мадам Сальвадор, — ответила Зе-
зетта, — она его выгоняет, когда принимает мужчин, а он
развлекается: по всем углам спускает штанишки».
Они поднялись по лестнице: «Не выключайте радио, важное
сообщение...» Милан и Анна склонились над приемником,
победный гул врывался через окна. «Сделай немного потише, — сказала
Анна, — не нужно их провоцировать», рука, нежная, как миндальное
тесто, Шарль распускался, расцветал, огромный плод набух,
стручок вот-вот лопнет, плод, направленный прямо в небо, сочный плод,
удушающе-нежная весна; молчание, стук вилок и долгие
атмосферные помехи в приемнике, ласка ветра на большом бархатистом
плоде, Анна вздрогнула и сжала руку Милана.
«Сограждане,
Чехословацкое правительство объявляет всеобщую
мобилизацию; все мужчины в возрасте до сорока лет и специалисты всех
возрастов должны немедленно собраться. Все офицеры, унтер-
офицеры и солдаты запаса и резерва всех степеней, все отпускники
должны немедленно собраться в мобилизационных пунктах. Все
должны быть одеты в поношенную гражданскую одежду, иметь при
себе военные билеты и сухой паек на двое суток. Крайний срок
прибытия на соответствующие пункты сбора — четыре тридцать утра.
370
Жан Поль Сартр
Весь транспорт, автомобили и самолеты временно
конфискуются. Продажа бензина дозволена только с разрешения военных
властей. Сограждане! Наступил решающий момент. Успех зависит от
каждого из нас. Пусть каждый отдаст все силы на благо родины.
Будьте отважны и верны. Наша борьба — борьба за справедливость
и свободу!
Да здравствует Чехословакия!»
Милан выпрямился, он весь пылал, он положил руки на плечи
Анны и сказал ей:
— Наконец-то! Анна, началось! Началось!
Женский голос повторил обращение на словацком, они больше
ничего не понимали, кроме некоторых слов, но это звучало, как
боевая музыка. Анна повторила: «Наконец-то! Наконец-то!», и
слезы потекли по ее щекам. «Die Regierung hat entschlossen» — это уже
по-немецки, Милан повернул ручку до упора, и радио завопило,
этот голос разобьет о стены их отвратительные песни, их
праздничный гвалт, он выйдет через окна, он разобьет оконные стекла Егер-
шмиттов, он найдет их в мюнхенских гостиных, в их маленьком
семейном кругу, и нагонит на них страху. Запах мочи и прокисшего
молока подстерегал его, он его глубоко вдохнул, запах вошел в него,
как от взмаха веника, очищая его от золотистых опрятных ароматов
улицы Руаяль, это был запах нищеты, это был его запах. Морис
стоял у двери, пока Зезетта вставляла ключ в замочную скважину,
а Одетта весело твердила: «К столу, к столу, Жак, тебя ждет
сюрприз»; он чувствовал себя сильным и бодрым, он снова обрел
ощущение гнева и бунта; на третьем этаже выли дети: их отец вернулся
домой пьяным; в соседней комнате слышались мелкие шажки
Марии Прандзини, ее муж, кровельщик, упал с крыши в прошлом
месяце, звуки, цвета, запахи — все казалось таким подлинным, он
очнулся, подступала реальность войны.
Старик повернулся к Гитлеру; он посмотрел на эту злую
детскую мордочку, мордочку мухи, и почувствовал себя до глубины
души потрясенным. Вошел Риббентроп, он сказал несколько слов
по-немецки, и Гитлер подал знак доктору Шмидту: «Мы узнали, —
сказал по-английски доктор Шмидт, — что правительство
господина Бенеша объявило всеобщую мобилизацию». Гитлер молча развел
руками, как бы сожалея, что события подтвердили его правоту.
Старик любезно улыбнулся, и в его глазах зажегся багровый огонек.
Огонек войны. Ему оставалось только насупиться, как фюрер,
развести руками, как бы говоря: «Ну что? Стало быть, так!» — и стоп-
ОТСРОЧКА
371
ка тарелок, которую он удерживал в равновесии в течение
семнадцати дней, обрушится на паркет. Доктор Шмидт с любопытством
смотрел на него, думая, что, должно быть, заманчиво расставить
руки, когда в течение семнадцати дней несешь стопку тарелок, в
голове у него промелькнуло: «Вот исторический момент», он
подумал, что они наконец-то причалили к последней гавани, и старый
лондонский коммерсант угодил в ловушку. Теперь фюрер и старик
молча смотрели друг на друга, и никакой переводчик был им не
нужен. Доктор Шмидт слегка отступил.
Он сел на скамейку на площади Желю и положил рядом
банджо. Под платанами стоял темно-синий сумрак, слышалась музыка,
был вечер, мачты рыболовецких судов чернели у кромки суши, а с
другой стороны порта сверкали сотни окон. Какой-то мальчик
баловался водой в фонтане, на соседнюю скамейку уселись другие
негры и поздоровались с ним. Он не хотел ни есть, ни пить, он
искупался за дамбой, он встретил высокого, заросшего человека,
казалось, свалившегося с луны, и тот дал ему выпить, все было
прекрасно. Он вынул банджо из футляра, ему захотелось петь. Секунду-
другую он кашляет, прочищает горло, сейчас он запоет, Чемберлен,
Гитлер и Шмидт молча ожидали войну, она разразится через
мгновение, нога отекла, но это пройдет, через мгновение он высвободит
ее из ботинка, Морис, сидя на кровати, стягивал его изо всех сил,
через мгновение Жак доест бульон, Одетта больше не услышит этот
легкий раздражающий шелест, фейерверк, кишение снарядов,
готовых выскочить из орудий, через мгновение солнца скопом ударят
вверх, ее куколка через мгновение запахнет полынной водкой, и
нечто теплое, обильное, клейкое зальет его парализованные бедра,
в это мгновение звучный и нежный голос взмоет через платановую
листву; в то же мгновение Матье ел, ела Марсель, ел Даниель, ел
Борис, ел Брюне; у всех у них мгновенные души, заполненные до
краев маленьким вязким наслаждением, мгновение — и она войдет,
закованная в сталь, устрашающая Пьера, принятая Борисом, алкае-
мая Даниелем, война, большая война ходячих, безумная война
белых. Мгновение — и она разразилась в комнате Милана, она вышла
наружу через все окна, она с грохотом обрушилась на Егершмиттов,
она бродила у крепостной стены Марракеша, она дула на море, она
заставляла проседать здания на улице Руаяль, она наполнила
ноздри Мориса своим запахом мочи и прокисшего молока; в полях, на
конюшнях, в фермерских дворах ее еще не было, она разыгрывалась
в орла и решку между двумя зеркалами трюмо в лепных салонах
372
Жан Поль Сартр
отеля «Дрезен». Старик провел рукой по лбу и беззвучно произнес:
«Что ж, если угодно, мы обсудим одну за другой статьи вашего
меморандума». И доктор Шмидт понял, что переводчикам следует
вновь приступить к работе.
Гитлер подошел к столу, и прекрасный низкий голос взмыл в
воздух; на шестом этаже гостиницы «Массилиа» женщина,
отдыхавшая на балконе, услышала его и сказала: «Гомес, иди послушай
негра, это восхитительно!» Милан вспомнил о своей ноге, и радость
его померкла, он стиснул плечо Анны и проговорил: «Меня не
призовут, я больше ни на что не гожусь». А негр пел. Арман Вигье
мертв, его бледные руки вытянуты на простыне, две женщины
бдели у его одра, обсуждая события, они сразу же прониклись взаимной
симпатией, Жаннин взяла махровое полотенце и вытерла руки,
затем стала вытирать ему бедра, Чемберлен сказал: «Что касается
первого параграфа, то я позволю себе два замечания», а негр пел:
«Bei mir, bist du schon», что значит: «Для меня вы самая красивая».
Остановились две женщины, он их знал, Анина и Долорес, две
потаскушки с улицы Ласидон, Анина сказала: «Ты поешь?», и он не
ответил, он пел, и женщины улыбнулись ему, а Сара нетерпеливо
позвала: «Гомес, Пабло, идите же! Чем вы там заняты? Здесь негр
поет, это прелестно!»
Суббота, 24 сентября
В Кревильи в шесть часов папаша Крулар вошел в
жандармерию и постучал в дверь кабинета. Он подумал: «Они меня
разбудили». Он им так и скажет: «Зачем меня разбудили?» Гитлер спал,
Чемберлен спал, его нос посвистывал, как флейта, Даниель,
покрытый испариной, сидел на кровати и думал: «Это был всего лишь
кошмар!»
— Войдите! — крикнул жандармский лейтенант. — А, это вы,
папаша Крулар? Нужно будет постараться.
Ивиш тихо застонала и повернулась на бок.
— Меня разбудил малыш, — сказал папаша Крулар. Он с обидой
посмотрел на лейтенанта и промолвил: — Это, должно быть, что-то
важное...
— Ну, папаша Крулар, настало время смазывать сапоги!
Папаша Крулар не любил лейтенанта. Он удивился:
— При чем тут сапоги? У меня нет сапог, у меня сабо.
ОТСРОЧКА
373
— Настало время смазывать сапоги, — повторил лейтенант, —
смазывать сапоги: ну и влип же я!
Без усов он был похож на девушку. У него было пенсне и
розовые щеки, как у учительницы. Он наклонился вперед и расставил
руки, опершись на стол кончиками пальцев. Папаша Крулар
смотрел на него и думал: «Это он приказал меня разбудить».
— Вас предупредили, что нужно принести пузырек с клеем? —
спросил лейтенант.
Папаша Крулар держал клей за спиной; он молча показал его.
— А кисточки? — осведомился лейтенант. — Все нужно сделать
быстро! Домой возвращаться уже некогда.
— Кисточки у меня в кармане, — с достоинством ответил папаша
Крулар. — Меня разбудили неожиданно, но все же я не забыл
кисточки.
Лейтенант протянул ему рулон:
— Одно объявление повесите на фасаде мэрии, два — на главной
площади и одно — на доме нотариуса.
— Метра Бельомма? Но там запрещено вешать объявления, —
возразил папаша Крулар.
— Плевать! — отрезал лейтенант. Вид у него был беспокойный
и веселый. — Я беру это на себя, я все беру на себя.
— Значит, и вправду мобилизация?
— Вправду! — крикнул лейтенант. — Все мы пойдем вр-р-
рукопашную, папаша Крулар, мы пойдем вр-р-ру-копашную!
— Какое там! — вздохнул папаша Крулар. — Мы-то с вами,
наверное, останемся здесь.
В дверь постучали, и лейтенант торопливо пошел открывать. На
пороге стоял мэр. Он был в сабо, с перевязью поверх рубашки.
— Так за чем вы прислали ко мне малыша?
— Вот плакаты, — ответил лейтенант.
Мэр надел очки и развернул рулоны. Он вполголоса прочел:
«Всеобщая мобилизация» и быстро положил объявления на стол,
как будто боялся обжечься. Он сказал:
— Я был в поле, забежал только взять свою перевязь.
Папаша Крулар протянул руку, свернул плакаты и засунул
рулон под рубашку. Он обратился к мэру:
— Я удивился: с чего бы это меня в такую рань разбудили?
— Я забежал только взять свою перевязь, — повторил мэр. Он с
беспокойством посмотрел на лейтенанта: — Там ничего нет о
реквизиции.
374
Жан Поль Сартр
— Это на другом плакате, — пояснил лейтенант.
— Боже мой! — воскликнул мэр. — Боже мой! Снова все
начинается!
— Я воевал, ■— сообщил папаша Крулар. — Четыре с лишним
года, и без единой царапины! — Он сощурил глаза, развеселившись
от этого воспоминания.
— Хорошо, — сказал мэр. — Вы воевали на той войне, но не
будете воевать на этой. И потом, вам плевать на реквизиции.
Лейтенант властно ударил по столу:
— Надо что-то делать! Нужно как-то отреагировать.
У мэра был растерянный вид. Он просунул руки под перевязи
и выгнул спину.
— Барабанщик болен, — сказал он.
— Я умею бить в барабан, — ввернул папаша Крулар. — Могу
его заменить. — Он улыбнулся: вот уже десять лет, как он мечтал
стать барабанщиком.
— Барабанщик? — переспросил лейтенант. — Вы пойдете бить
в набат. Вот что вы будете делать!
Чемберлен спал, Матье спал, кабил приставил лестницу к
автобусу, взвалил на плечи чемоданы и стал подниматься, держась за
поручни, Ивиш спала, Даниель спустил ноги с кровати, в голове его
вовсю гремел колокол, Пьер посмотрел на черно-розовые ступни
кабила, он думал: «Это чемодан Мод». Но Мод здесь не было, она
уедет позже с Дусеттой, Франс и Руби в автомобиле богатого
старика, влюбленного в Руби; в Париже, в Нанте, в Маконе клеили на
стены белые плакаты, в Кревильи бил набат, Гитлер спал, Гитлер
еще ребенок, ему четыре года, на него надели красивое платьице,
прошла черная собака, он хотел поймать ее сачком; бил набат, мадам
Ребулье внезапно проснулась и сказала:
— Где-то пожар.
Гитлер спал, он маникюрными ножничками кромсал на полосы
брюки своего отца. Вошла Лени фон Рифеншталь, она подняла
фланелевые полосы и сказала: «Я заставлю тебя их съесть в салате».
Набат бил, бил, бил, Моблан сказал жене:
— Наверняка лесопилка загорелась.
Он вышел на улицу. Мадам Ребулье, стоя в розовой рубашке за
ставнями, видела, как он прошел, видела, как он окликнул
бегущего мимо почтальона. Моблан кричал:
— Эй! Ансельм!
— Мобилизация! — прокричал в ответ почтальон.
ОТСРОЧКА
375
— Что? Что он говорит? — спросила мадам Ребулье
подошедшего к ней мужа. — Разве это не пожар?
Моблан посмотрел на два плаката, вполголоса прочел их, потом
развернулся и пошел домой. Его жена стояла на пороге, он велел ей:
«Скажи Полю, пусть запрягает двуколку». Он услышал шум и
обернулся: это Шапен на тележке; он спросил у него: «Куда так
спешишь?» Шапен молча взглянул на него и не ответил. Моблан
посмотрел вслед тележке: два вола медленно шли следом,
привязанные за подуздки. Он вполголоса сказал: «Красивые животные!»
«Да, красивые! — разозлился Шапен. — Красивые, черт возьми!»
Набат бил, Гитлер спал, старик Френьо говорил сыну: «Если у меня
заберут двух лошадей и тебя, как я работать буду?» Нанетта
постучала в дверь, и мадам Ребулье спросила ее: «Это вы, Нанетта?
Узнайте, почему бьет набат», и Нанетта ответила: «Разве мадам не
знает? Всеобщая мобилизация».
Как и каждое утро, Матье думал: «Все, как каждое утро». Пьер
прильнул к стеклам: он смотрел через окно на арабов — те сидели
на земле или на разноцветных сундуках и ждали автобуса из Уар-
зазата; Матье открыл глаза, глаза новорожденного, еще незрячие, и,
как каждое утро, подумал: «Зачем?» Утро ужаса, огненная стрела,
выпущенная на Касабланку, на Марсель, автобус сотрясался у него
под ногами, мотор вращался, шофер, высокий мужчина в фуражке
из бежевого драпа с кожаным козырьком, докуривал, не спеша,
сигарету. Пьер думал: «Мод меня презирает». Утро, как всякое утро,
стоячее и пустое, ежедневная помпезная церемония с медью и
фанфарами, с прилюдным восходом солнца. Когда-то были другие утра:
утра-начала — звонил будильник, Матье одним махом вскакивал с
постели с суровыми глазами, совсем свежий, как при звуках горна.
Теперь больше не было начал, нечего было начинать. И однако же,
надо было вставать, участвовать в церемониале, пересекать по этой
жаре дороги и тропинки, делать все культовые жесты, подобно
утратившему веру священнику. Он спустил с кровати ноги, встал, снял
пижаму. «Зачем?» И снова упал на спину, совершенно голый,
положив под голову руки, сквозь белесый туман он начал различать
потолок. «Пропащий человек. Абсолютно пропащий. Когда-то я
носил дни на хребте, заставлял их переходить с одного берега на
другой; теперь они несут меня». Автобус сотрясался, он бился,
трясся под ногами, пол горел, Пьеру казалось, что его подошвы
плавятся, его большое трусливое сердце билось, стучало, колотилось о
теплые подушки спинки, стекло было горячим, но он заледенел, он
376
Жан Поль Сартр
думал: «Начинается». А кончится в окопе под Седаном или
Верденом, но пока это только начало. Презрительно глядя на него, она
сказала: «Значит, ты трус». Он представил ее разгоряченное
серьезное личико, темные глаза, тонкие губы и почувствовал толчок в
сердце, автобус тронулся. Было еще очень прохладно; Луизон
Корней, сестра дежурной на переезде, приехавшая в Лизье помогать
своей больной сестре вести хозяйство, вышла на дорогу, чтобы
поднять шлагбаум, и сказала: «Как прохладно, даже покалывает». У нее
было хорошее настроение — она была обручена. Уже два года она
была обручена, но каждый раз, когда она об этом думала, это
приводило ее в хорошее настроение. Она стала крутить ручку и вдруг
остановилась. Луизон чувствовала, что за ее спиной на дороге кто-
то был. Выйдя из дому, она и не подумала оглянуться, но теперь она
была в этом уверена. Она обернулась, и у нее перехватило дыхание:
более сотни тележек, двуколок, телег с быками, старых колясок
неподвижно ждали у шлагбаума, выстроившись в нескончаемую
очередь. На козлах продрогшие парни с кнутами в руках сидели молча,
со злым видом. Кое-кто был верхом, иные пришли пешком, таща на
веревке волов. Это было так странно, что она испугалась. Луизон
быстро повернула ручку и отскочила на обочину. Парни стегнули
лошадей, и повозки двинулись мимо, автобус катился по долгой
красной пустыне, повсюду были арабы. Пьер подумал: «Чертовы
козлы, я всегда неспокоен, когда чувствую их за спиной, я всегда
думаю: что они замышляют?» Пьер бросил взгляд в глубину
автобуса: они молча скучились, посеревшие и позеленевшие, с
закрытыми глазами. Женщина в чадре пробиралась между мешками и
тюками против движения, под чадрой виднелись ее опущенные веки.
«Однако это неприятно, — подумал он. — Через пять минут они
начнут блевать, у этих людей никудышные желудки». Пока они
проезжали, Луизон узнавала их; это были парни из Кревильи, все
из Кревильи, она могла каждого назвать по имени, но у них были
какие-то странные лица, рыжий здоровяк — это сын Шапена, как-то
она танцевала с ним на празднике Сен-Мартен, она ему крикнула:
«Эй, Марсель, какой ты бравый!» Он обернулся и сердито
посмотрел на нее. Она сказала: «Вы что, на свадьбу едете?» Он буркнул:
«Черт бы все побрал. Угадала: на свадьбу». Телега, раскачиваясь,
пересекла рельсы, за ней брели два вола, два красивых животных.
Прошли другие телеги, она смотрела на них, держа ладонь
козырьком. Она узнала Моблана, Турню, Кошуа, они не обращали на нее
внимания, они проезжали, выпрямившись на козлах, держа свои
ОТСРОЧКА
377
кнуты как скипетры, они походили на развенчанных королей. Ее
сердце сжалось, она крикнула им: «Это война?» Но никто ей не
ответил. Они проезжали в раскачивающихся, подпрыгивающих
колымагах, волы с потешным благородством брели за ними, повозки
одна за другой исчезли, Луизон еще с минуту постояла, держа руку
козырьком и глядя на восходящее солнце, автобус летел, как ветер,
поворачивал и, рыча, делал виражи, она думала о Жане Матра,
своем женихе, который служил в Ангулеме в саперном полку, повозки
снова появились, как мухи на белой дороге, приклеенные к склону
холма, автобус катил между бурыми валунами, поворачивал, при
каждом вираже арабы падали друг на друга и жалобно восклицали:
«Уех!» Женщина в чадре порывисто встала, и ее невидимый под
белым муслином рот исторг ужасные проклятия; она потрясала над
головой руками, толстыми, как ляжки, на конце рук танцевали
легкие и пухленькие пальцы с накрашенными ногтями; в конце концов
она скинула с себя чадру, высунулась в окошко, и ее начало рвать,
она стонала. «Готово, — сказал себе Пьер, — готово; сейчас они нас
обблюют». Повозки не продвигались, они как будто приклеились к
дороге. Луизон долго смотрела на них: они двигались, они все же
двигались, одна за другой они подъезжали к вершине холма и
исчезали из виду. Луизон уронила руку, ее ослепленные глаза моргали,
затем она пошла домой заниматься детьми. Пьер думал о Мод, Ма-
тье думал об Одетте, он накануне видел ее во сне, они держали друг
друга за талию и пели баркароллу из «Сказок Гофмана» на понтоне
«Провансаля». Теперь Матье был гол и весь в поту, он смотрел в
потолок, и Одетта незримо присутствовала рядом с ним. «Если я
еще не умер от скуки, то этим я обязан только ей». Белесая влага
еще подрагивала в его глазах, остатняя нежность еще подрагивала
в его сердце. Белая нежность, грустная легкая нежность
пробуждения, удобный предлог, чтобы еще несколько минут полежать на
спине. Через пять минут холодная вода потечет по его затылку и
попадет в глаза, мыльная пена будет потрескивать у него в ушах,
зубная паста обклеит его десны, у него не останется нежности ни к
кому. Цвета, свет, запахи, звуки. И потом слова — вежливые,
серьезные, искренние, смешные — слова, слова, слова — до самого вечера.
Матье... фу! Матье — это будущее. Но будущего больше не было. Не
было больше и Матье, кроме как во сне, между полуночью и пятью
часами утра. Шапен думал: «Два таких красивых животных!» На
войну ему было плевать: еще поглядим. Но за этими животными он
ухаживал пять лет, он их сам кастрировал, ему разрывало сердце
378
Жан Поль Сартр
расставанье с ними. Он ударил хлыстом лошадь и направил ее
налево; его двуколка медленно объехала телегу Сименона. «Ты чего
это?» — спросил Сименон. — «Мне надоело, — сказал Шапен, —
хочу поскорее добраться до места!» «Ты загонишь своих
животных», — пытался его урезонить Сименон. «Теперь мне плевать», —
ответил Шапен. Ему хотелось всех обогнать; он встал, зацокал
языком и, крича «Но! Но!», проскользнул мимо телеги Пополя,
мимо телеги Пуляйя. «Ты что, скачки устраиваешь?» — спросил
Пуляй. Шапен не ответил, и Пуляй крикнул вдогонку: «Осторожно
с животными! Ты же их загонишь!», и Шапен подумал: «Пусть хоть
околеют». Все стегали лошадей, но Шапен был теперь впереди,
остальные следовали за ним и скорее из соперничества настегивали
своих лошадей; стучали, Матье встал и потер глаза; стучали; автобус
сделал резкий поворот, чтобы не сбить велосипедиста-араба,
который вез на раме толстую мусульманку в чадре; СТУЧАЛИ, Чембер-
лен вздрогнул, он спросил: «Кто там? Кто стучит?», и ему ответили:
«Уже семь часов, ваше превосходительство». У входа в казарму был
деревянный шлагбаум. Шапен натянул вожжи и крикнул: «Эй! Эй!
Черт возьми!» «Что? — спросил часовой. — Что? Откуда вы
заявились?» «Давай! Поднимай эту штуку», — распорядился Шапен,
показывая на шлагбаум. «У меня нет приказа, — возразил солдат. —
Откуда вы?» «Кому я сказал, подними эту штуку». Из караульного
помещения вышел офицер. Телеги остановились; он с минуту
смотрел на них, потом прошипел: «Какого черта вы сюда явились?»
«Как? Мы мобилизованные, — удивился Шапен. — Мы что, вам не
нужны?» «У тебя есть мобилизационное предписание?» — спросил
офицер. Шапен начал рыться в карманах, офицер смотрел на всех
этих молчаливых и мрачных парней, неподвижных на козлах, с
видом рядовых, и он почувствовал гордость, не зная почему. Он
приблизился на шаг и крикнул: «А остальные? У вас тоже есть
мобилизационные предписания? Предъявите ваши военные билеты!»
Шапен вынул свой военный билет. Офицер взял его и полистал.
«Ну и что? — сказал он. — У тебя же билет №3, осел. Ты
поторопился, твоя очередь в следующий раз». «Говорю вам, я мобилизован, —
настаивал Шапен». «Ты что, лучше меня знаешь?» — изумился
офицер. «Да, знаю! — запальчиво ответил Шапен. — Я сам читал
плакат». За их спиной парни заволновались. Пуляй кричал: «Ну что?
Все, что ли? Мы заезжаем?» «Плакат? — переспросил офицер. — Вот
он, твой плакат. Полюбуйся на него, если умеешь читать». Шапен
отложил кнут, спрыгнул на землю и подошел к стене. Там было три
ОТСРОЧКА
379
плаката. Два цветных: «Вступайте в колониальные войска,
оставайтесь на сверхсрочную службу в колониальной армии» и третий
совсем белый: «Немедленный призыв некоторых категорий
резервистов». Он медленно вполголоса прочел и сказал, качая головой: «У
нас там другой». Моблан, Пуляй, Френьо сошли на землю. «Это не
наше объявление». «Откуда вы?» — спросил офицер. «Из Креви-
льи», — ответил Пуляй. «Не знаю, — сказал офицер, — но, наверное,
в жандармерии в Кревильи сидит набитый дурак. Хорошо, дайте
ваши билеты и пошли к лейтенанту». На главной площади в
Кревильи, у церкви, женщины окружили мадам Ребулье, которая
сделала столько хорошего для округи, там были Мари, Стефани, жена
сборщика налогов и Жанна Френьо. Мари тихо плакала, на мадам
Ребулье была большая черная шляпа, и мадам говорила, размахивая
зонтиком: «Не надо плакать, сейчас нужно держаться. Да! Да!
Нужно стиснуть зубы. Вот увидите, ваш муж вернется с
благодарностями в приказе и медалями. Как знать, может, ему и повезет! На этот
раз все мобилизованы, все: женщины, как и мужчины».
Она ткнула зонтиком на восток и почувствовала себя
помолодевшей на двадцать лет. «Вот увидите, — сказала она. — Вот
увидите! Может, именно гражданские и выиграют войну». Но вид у Мари
был глуповато-скаредный, ее плечи сотрясали рыдания, сквозь
слезы она смотрела на памятник павшим, храня раздражающее
молчание. «Слушаюсь, — сказал лейтенант, прижимая трубку к
уху, — слушаюсь». А ленивый раздраженный голос неистощимо тек:
«Так вы говорите, они уехали? Да-а, мой бедный друг, ну, вы и
натворили дел! Не скрою, это вам может стоить должности!» Папаша
Крулар пересекал площадь с клеем и кисточками, под мышкой он
нес белый рулон. Мари крикнула: «Что это? Что это?», и мадам
Ребулье с досадой отметила, что ее глаза загорелись глупой
надеждой. Папаша Крулар смеялся в свое удовольствие, он показал белый
рулон и сказал: «Ничего. Лейтенант перепутал плакаты!»
Лейтенант положил трубку, ноги его подкосились, и он сел. В ушах еще
звучал голос: «Это вам может стоить должности!» Он встал и
подошел к открытому окну: на стене напротив красовался плакат, совсем
свежий, еще влажный, белый как снег: «Всеобщая мобилизация».
Его горло сжал гнев; он подумал: «Я же ему сказал: надо сначала
снять этот плакат, но он нарочно снимет его последним». Внезапно
он перепрыгнул через подоконник, помчался к плакату и начал его
сдирать. Папаша Крулар окунул кисточку в клей, мадам Ребулье с
сожалением следила за его действиями, лейтенант царапал, царапал
380
Жан Поль Сартр
стену, под ногтями у него появились белые шарики; Бломар и Кор-
мье остались в казарме; остальные вернулись к повозкам и
неуверенно переглядывались; им хотелось смеяться и злиться, они
чувствовали себя опустошенными, как на следующий день после
ярмарки. Шапен подошел к своим волам и погладил их. Морды и
грудь у них были в пене, он грустно подумал: «Если б знать, я бы их
так не загнал». «Что будем делать?» — спросил у него за спиной
Пуляй. «Сразу возвращаться нельзя, — сказал Шапен. — Нужно
дать отдохнуть животным». Френьо посмотрел на казарму, и она
вызвала у него некие воспоминания, он толкнул локтем Шапена и
сказал, посмеиваясь: «Ну что? Может, пойдем?» «Куда ты хочешь
пойти, парень?» — спросил Шапен. «В бордель», — ответил Френьо.
Ребята из Кревильи окружили его, хлопали по плечу и ржали, они
говорили: «Чертов Френьо! Он всегда что-нибудь придумает!» Даже
Шапен повеселел: «Парни, я знаю, где это. Садитесь в двуколки, я
вас отвезу». Восемь часов тридцать минут. Уже вертелся лыжник
вокруг трамплина, влекомый моторной лодкой; временами до Матье
доносилось урчание мотора, а потом лодка удалялась, лыжник
становился черной точкой, и больше не было слышно ни звука. Море —
гладкое, белое и суровое — походило на пустынный каток. Скоро оно
заголубеет, заплещется, станет текучим и глубоким, превратится в
море для всех, усеется черными головами, заполнится криками.
Матье пересек террасу, некоторое время шел по бульвару. Кафе были
еще закрыты, проехали две машины. Он вышел без определенной
цели: купить газету, вдохнуть терпкий запах морских водорослей и
эвкалиптов, витающий в порту, вышел, чтобы как-то убить время.
Одетта еще спала, Жак работал до десяти часов. Матье свернул на
торговую улицу, поднимавшуюся к вокзалу, навстречу ему, смеясь,
прошли две молодые англичанки; у плаката стояло четыре человека.
Матье подошел: это поможет ему скоротать еще минутку.
Маленький господин с бородкой качал головой. Матье прочел:
«По приказу министра обороны офицеры, унтер-офицеры и
резервисты, имеющие предписание или военный билет белого
цвета с цифрой «2», обязаны незамедлительно явиться на
мобилизационные пункты, не ожидая индивидуальной повестки.
Все должны явиться в места сбора, указанные в предписании
или в военном билете в соответствии с указаниями.
Суббота, 24 сентября 1938 г., 9 часов.
Министр обороны».
ОТСРОЧКА
381
«Э-хе-хе!» — осуждающе произнес какой-то господин. Матье
улыбнулся ему и внимательно перечитал плакат — один из тех
скучных, но полезных для ознакомления документов, которые с
некоторого времени заполняли газеты под заголовками «Заявление
британского министерства иностранных дел» или «Сообщение с Кэ
д'Орсе*». Их нужно было всегда перечитывать дважды, чтобы
ухватить суть. Матье прочел: «...обязаны явиться в места сбора» и
подумал: «Но ведь у меня как раз военный билет №2!» Плакат вдруг
нацелился на него; как будто кто-то мелом написал на стене его имя
с оскорблениями и угрозами. Мобилизован — это было здесь, на
стене, а возможно, это читалось и на его лице. Он покраснел и
поспешно удалился. «Военный билет №2. Готово. Я становлюсь
интересным». Одетта будет смотреть на него со сдержанным волнением,
Жак примет воскресный вид и скажет: «Старик, мне нечего тебе
сказать». Но Матье ощущал себя человеком скромным и не хотел
становиться интересным. Он свернул налево в первый попавшийся
переулок и ускорил шаг: справа на тротуаре у плаката галдела
темная группка людей. И так было по всей Франции. По двое. По
четверо. Перед тысячами плакатов. И в каждой группе был по крайней
мере один человек, который нащупывал бумажник и военный билет
через ткань пиджака и чувствовал, что становится интересным.
Улица де ля Пост. Два плаката, две группки людей, говорящих об
одном и том же. Матье двинулся по длинному темному переулку.
Тут он был, во всяком случае, спокоен: клейщики плакатов его
пощадили. Он был один и мог поразмышлять о себе. Он подумал:
«Готово». Этот круглый заполненный день, который должен был
мирно скончаться от старости, внезапно вытянулся в стрелу, он с
грохотом вонзился в ночь, помчался в темноте, в дыму, по
пустынным полям, сквозь скопление осей и платформ, и скользил внутри,
как спортивные сани, он остановится только на исходе ночи, в
Париже, на перроне Лионского вокзала. Искусственный свет уже
сопутствовал дневному: будущий свет ночных вокзалов. Смутная
боль уже угнездилась в глубине его глаз, резкая боль его будущих
бессонниц. Это его не огорчало: это или что-либо другое... Но и не
радовало; в любом случае в этом было что-то от забавной истории,
что-то красочное. «Нужно узнать расписание поездов на
Марсель», — подумал он.
Переулок незаметно привел его к горной дороге. Внезапно он
очутился в ярком свете и уселся за столиком только что открывше-
* МИД Франции.
382
Жан Поль Сартр
гося кафе. «Кофе и расписание поездов». Господин с серебристыми
усами сел радом. С ним была почтенная женщина. Господин
раскрыл «Эклерер де Нис», дама повернулась к морю. Матье с минуту
смотрел на нее и погрустнел. Он подумал: «Нужно привести в
порядок свои дела. Поселить Ивиш в моей парижской квартире, дать
ей доверенность на получение моего жалованья». Лицо господина
возникло над газетой: «Это война», — сказал он. Дама, не отвечая,
вздохнула; Матье посмотрел на лоснящиеся гладкие щеки
господина, на его твидовый пиджак, на его сорочку в фиолетовую полоску
и подумал: «Это война».
Это война. Что-то, едва-едва державшееся за него, отделилось,
осело и запало назад. Это была его жизнь; она скончалась.
Скончалась. Он обернулся и посмотрел на нее. Вигье скончался, его руки
вытянуты на белой простыне, на его лбу жила муха, а будущее его
простиралось за горизонт, беспредельное, находившееся вне игры,
застывшее, как его застывший под мертвыми веками взгляд. Его
будущее: мир, будущее планеты, будущее Матье. Будущее Матье
было здесь, обнаженное, застывшее и стекловидное, тоже
находившееся вне игры. Матье сидел за столиком кафе, он пил, он был за
пределами своего будущего, он смотрел на него и думал: «Мир».
Госпожа Вершу показала санитарке на Вигье, ее мучили
ревматические боли в шее, в глазах покалывало, она сказала: «Он был
славным человеком». Она подыскивала немного более торжественное
слово, чтобы оценить покойника; она была самой близкой его
родственницей, и ей следовало дать ему завершающее определение. Ей
пришло на ум слово «кроткий», но оно не показалось ей достаточно
убедительным. Она сказала: «Это был мирный человек». Мирное
будущее: он любил, ненавидел, страдал, и будущее было вокруг
него, над его головой, повсюду, как океан, и каждое его возмущение,
каждое несчастье, каждая его улыбка питались его невидимым и
присутствующим здесь будущим. Улыбка, простая улыбка была
залогом завтрашнего мира, следующего года, века; иначе я не посмел
бы никогда улыбнуться. Годы и годы грядущего мира заранее на-
ложились на все и сделали все созревшим и золотистым; взять свои
часы, ручку двери, руку женщины — значит взять в руки мир.
Послевоенное время было началом. Началом мира. Эти мирные годы
протекут не торопясь, как проживают утро. «Джаз был началом, и
кино, которое я так любил, тоже было началом. И сюрреализм. И
коммунизм. Я сомневался, я долго выбирал, у меня было достаточ-
ОТСРОЧКА
383
но времени. Время и мир были одним и тем же. Теперь будущее
здесь, у моих ног, оно мертво. Это было ложное будущее, обман».
Он смотрел на эти двадцать лет, которые он прожил, штилевые,
залитые солнцем, настоящее морское прибрежье, теперь он видел их
такими, какими они были на самом деле: определенное количество
дней, спрессованных меж двух высоких стен безнадежности,
каталогизированный период с началом и концом, который будет
фигурировать в учебниках истории под названием: «Период между
двумя войнами». «Двадцать лет: 1918—1938. Только двадцать лет!
Вчера это казалось одновременно и короче, и длиннее: во всяком
случае, и в голову не приходило подсчитывать, потому что это все
еще не завершилось. Теперь поставлена точка. Будущее было
ложным. Все, что прожито за двадцать лет, прожито ложно. Мы были
старательными и серьезными, мы пытались понять, и вот результат:
эти прекрасные дни имели тайное черное будущее, они нас
дурачили, сегодняшняя война, новая Великая война, исподтишка крала у
нас эти дни. Мы были рогоносцами, не зная этого. Теперь пришла
война, и моя жизнь мертва; моя жизнь была тем: теперь нужно все
начинать сначала». Он поискал в памяти любое воспоминание, все
равно какое, то, которое возникает первым, тот вечер, проведенный
в Перудже, когда он сидел на террасе и ел абрикосовый джем, глядя
вдаль, на дымку безмятежного Ассизского холма. Что ж, это была
война, которую следовало разглядеть в алом пыланье заката. «Если
бы я мог в золотистом свете, который окрашивал стол и парапет,
заподозрить предстоящие бури и кровь, этот свет по крайней мере
теперь принадлежал бы мне, я сохранил хотя бы это. Но во мне не
было недоверия, лед таял у меня на языке, я думал: «Старое золото,
любовь, мистическая слава». А теперь я все потерял». Между
столами сновал официант, Матье подозвал его, заплатил, встал, не
очень-то сознавая, что делает. Он оставил за собой свою жизнь, я
полинял. Он перешел через мостовую и облокотился о балюстраду,
лицом к морю.
Он чувствовал себя зловещим и легким: он был, у него все
украли. «У меня больше нет ничего своего, даже своего прошлого. Но
это было ложное прошлое, и я о нем не сожалею». Он подумал:
«Меня избавили от моей жизни. Это жалкая, неудавшаяся жизнь,
Марсель, Ивиш, Даниель, неудавшаяся жизнь, мерзкая жизнь, но
сейчас мне все равно, потому что она мертва. Начиная с этого утра,
с того времени, как на стенах расклеили эти белые плакаты, все
384
Жан Поль Сартр
жизни не удались, все жизни мертвы. Если бы я сделал что хотел,
если бы я смог хоть раз, хоть один-единственный раз быть
свободным, и все-таки это был бы мерзкий обман, потому что я был бы
свободен для мира, я и сейчас в этом обманчивом мире, я стою,
облокотившись о балюстраду, с лицом, обращенным к морю, а за
спиной у меня эти белые плакаты. И все они говорят обо мне со всех
стен Франции, они утверждают, что жизнь моя мертва и что мира
никогда не было: и ни к чему было так терзаться и испытывать такие
угрызения совести». Море, пляж, тенты, балюстрада: все выглядело
холодным, обескровленным. Они потеряли свое будущее, а нового
им еще не дали; они плавали в настоящем. Плавал и Матье.
Оставшийся в живых, на пляже, голый, среди каких-то тряпок,
набрякших от воды, среди развороченных ящиков, предметов без
определенного назначения, выброшенных морем на берег. Загорелый
молодой человек вышел из палатки, вид у него был спокойный и
праздный, в нерешительности смотрел он на море: «Он остался в
живых, все мы случайно остались в живых», немецкие офицеры
улыбались и приветствовали друг друга, вращался мотор, вращался
винт, Чемберлен здоровался и улыбался, потом резко повернулся и
поставил ногу на трап.
Вавилонское изгнание, проклятие, тяготеющее над Израилем, и
Стена плача — ничто для еврейского народа не изменилось с тех пор,
как вереницы плененных, скованных цепями, проходили меж
красными башнями Ассирии под жестоким взглядом победителей с
бородами, завитыми в кольца. Шалом семенил среди этих людей с
черными, вьющимися, жесткими шевелюрами. Он размышлял о том,
что ничто не изменилось, Шалом размышлял о Жорже Леви. Он
думал: «Мы утратили былое чувство еврейской солидарности, вот в
чем истинное Господнее проклятие!» Он ощущал торжественность
минуты, он был отнюдь не в скверном настроении, так как повсюду
видел на стенах эти белые плакаты. Он попросил помощи у Жоржа
Леви, но Жорж Леви был эльзасским евреем, черствым человеком,
он ему отказал. Нет, не то чтобы отказал, но принялся ныть, ломать
руки, непрерывно твердил о своей старой матери, о кризисе. Хотя
всем было известно, что он ненавидел мать и что в скорняжном деле
не было никакого кризиса. Шалом тоже принялся стонать, он
воздевал к небесам дрожащие руки, он говорил о новом исходе и бедных
еврейских эмигрантах, плоть которых страдает за всех остальных.
Леви был жестоковыйный человек, скаредный богатей, он застонал
еще пуще и стал подталкивать Шалома к двери тучным животом,
ОТСРОЧКА
385
сопя ему прямо в лицо. Шалом стонал и пятился, воздевая руки, но
ему захотелось улыбнуться, когда он подумал о глумливом хохоте
служащих, стоящих по другую сторону двери. На углу улицы Катр-
Септамбр сверкала богатая колбасная; Шалом остановился и
зачарованно смотрел на сосиски в желе, паштеты с корочкой, связки
колбас в лоснящихся шкурках, на пузатые сморщенные сардельки с
маленькими розовыми анусами и думал о колбасных Вены. По мере
возможности он избегал есть свинину, но неимущие эмигранты
вынуждены питаться чем попало. Когда он вышел из колбасной, на
пальце у него висел на розовой ленточке пакетик, такой белый, такой
хрупкий, что его можно было принять за пакет с пирожными.
Шалом был возмущен. Он подумал: «Французы, экие гнусные богачи».
Самый богатый народ Европы. Он пошел по улице Катр-Септамбр,
призывая гнев небес на гнусных богачей, и небо его словно
услышало: краем глаза он увидел у белого плаката группу неподвижных и
безмолвных французов. Шалом опустил глаза и прошел рядом с
ними, поджав губы, так как в подобный момент бедному еврею не
следовало улыбаться на улицах Парижа. Бирненшатц, ювелир: это
здесь. Он замешкался и, прежде чем войти, положил пакет с
сардельками в портфель. Моторы, рыча, вращались, пол трясся, пахло
бензином и эфиром, автобус углублялся в пламя. «Пьер, значит, ты
трус!» Самолет плыл в солнечном свете, Даниэль постукивал по
плакату концом трости и говорил: «Я спокоен, не такие мы дураки,
чтобы воевать без самолетов». Самолет пролетал над деревьями,
прямо над ними, доктор Шмидт поднял голову, мотор рычал, он
увидел самолет сквозь листву, сверкание слюды в небесах, он
подумал: «Доброго пути! Доброго пути!» и улыбнулся: побежденные,
отчаявшиеся, бледные арабы вповалку лежали в автобусе,
негритенок вышел из хижины, помахал рукой и долго смотрел вслед
автобусу; вы видели: маленький еврей купил у меня фунт сосисок и
больше ничего, а я-то думала, что они не едят свинины! Негритенок
и переводчик медленно возвращались, в голове у них еще гудел шум
моторов. Это был круглый железный стол, покрашенный зеленой
краской, с отверстием посередине для тента, он был в коричневых
пятнах, как груша, на столе лежала сложенная пополам газета «Ле
пти нисуа». Матье кашлянул, Одетта сидела у стола, она уже
позавтракала в саду, как я скажу ей об этом? Без осложнений, только бы
без осложнений, если бы она могла промолчать, нет, промолчать —
это уж слишком, просто встать и сказать: «Что ж, я велю
приготовить вам в дорогу бутерброды». Просто. Одетта была в халате, она
386
Жан Поль Сартр
читала свою почту. «Жак еще не вышел, — сказала она ему. —
Сегодня ночью он допоздна работал». Каждый раз, когда они снова
встречались, прежде всего она говорила о Жаке, потом речь о нем больше
не шла. Матье улыбнулся и кашлянул. «Садитесь, — сказала она, —
для вас есть два письма». Он взял письма и спросил:
— Вы читали газету?
— Еще нет, Мариетта принесла ее с почтой, и я пока не решилась
ее открыть. Я и раньше не слишком любила читать газеты, а теперь
я их просто возненавидела.
Матье улыбался и одобрительно кивал головой, но зубы его
оставались стиснутыми. Между ними опять все стало как прежде.
Достаточно было плаката на стене, чтобы между ними опять все
стало как прежде: она снова сделалась женой Жака, и он не находил
больше, что ей сказать. «Сырой окорок, — подумал он, — вот что я
предпочел бы в дорогу».
— Читайте, читайте ваши письма, — живо сказала Одетта. — Не
обращайте на меня внимания; впрочем, мне нужно переодеться.
Матье взял первое письмо, со штемпелем Биаррица, он выиграл
еще немного времени. Когда она встанет, он ей скажет: «Кстати, я
уезжаю...» Нет, это покажется слишком небрежным. «Я уезжаю».
Лучше так: «Я уезжаю...» Он узнал почерк Бориса и со стыдом
подумал: «Я ему не писал больше месяца». В конверте была почтовая
открытка. Борис надписал свой собственный адрес и приклеил
марку на левой половине открытки. На правой он написал
несколько строк:
«Дорогой Борис!
Я чувствую себя хорошо/плохо1.
Причина моего молчания: оправданное/неоправданное
раздражение, злая воля, внезапная перемена отношения, безумие, болезнь,
лень, обыкновенная низость2.
Я вам напишу большое письмо через ... дней. Извольте принять
мои глубокие извинения и выражения покаянного дружества.
Подпись:
1 Ненужное вычеркнуть.
2 Idem*».
— Чему вы смеетесь? — спросила Одетта.
— Это Борис, — пояснил Матье. — Он в Биаррице с Лолой.
* Тоже (лат.).
ОТСРОЧКА
387
Он протянул ей письмо, и Одетта тоже рассмеялась.
— Он очарователен, — сказала она. — Сколько ему?
— Девятнадцать, — ответил Матье. — Дальнейшее будет
зависеть от продолжительности войны.
Одетта нежно посмотрела на него.
— Ученики сели вам на шею, — заметила она.
Говорить с ней становилось все труднее. Матье распечатал
другое письмо. Оно было от Гомеса, мужа Сары. Матье не видел Гомеса
со времени его отъезда в Испанию. Теперь он был полковником
республиканских войск.
«Дорогой Матье!
Я приехал в командировку в Марсель, где ко мне
присоединилась Сара с малышом. Уезжаю во вторник, но хочу вас
предварительно повидать. Ждите меня четырехчасовым поездом в
воскресенье и закажите мне комнату — все равно где, я попытаюсь заскочить
в Жуан-ле-Пен. Нам предстоит многое обсудить.
Дружески ваш,
Гомес».
Матье положил письмо в карман, он с неудовольствием думал:
«Воскресенье завтра, я уже уеду». Ему хотелось увидеть Гомеса; в
настоящий момент он был единственным из его друзей, кого он
хотел видеть: уж он-то знал, что такое война. «Возможно, мне
удастся встретить его в Марселе, в перерыве между двумя
поездами...» Он вынул из кармана смятый конверт: Гомес не написал
своего адреса. Матье раздраженно пожал плечами и бросил
конверт на стол; Гомес остался самим собой, хоть и стал полковником:
могущественный и бессильный. Наконец Одетта решилась
раскрыть газету, она держала ее, расставив красивые руки, и
старательно вчитывалась в нее.
— Ой! — произнесла она.
Потом повернулась к Матье и с нарочитым равнодушием
спросила:
— Надеюсь, у вас мобилизационный билет не №2?
Матье почувствовал, что краснеет, он прищурился и смущенно
ответил:
— Да, именно такой.
Одетта строго посмотрела на него, как будто он был в этом
виноват, и Матье поспешно добавил:
388
Жан Поль Сартр
— Но я уезжаю не сегодня, я останусь еще на два дня: ко мне
приезжает друг.
Он почувствовал облегчение от своего внезапного решения: это
отодвигало изменения почти до послезавтра: «Жуан-ле-Пен далеко
от Нанси, мне простят несколько часов опоздания». Но взгляд
Одетты не смягчился, и, отбиваясь от этого взгляда, он повторял:
«Я остаюсь еще на два дня, еще на два дня», в то время как Элла
Бирненшатц обвила худыми смуглыми руками шею отца.
— Какой же ты душка, папуля! — сказала Элла Бирненшатц.
Одетта резко встала:
— Что ж, я вас оставлю. Мне все-таки нужно переодеться,
думаю, Жак скоро спустится и составит вам компанию.
Она ушла, запахивая полы халата, облегавшего ее узкие
стройные бедра, Матье подумал: «Она вела себя пристойно. Что ни
говори, пристойно», и ощутил к ней благодарность. Какая красивая
девушка, какая красивая чертовка, он оттолкнул ее, округлив глаза:
у дверей стоял Вайс, выглядел он празднично.
— Ты меня обслюнявила, — сказал Бирненшатц, вытирая щеку. —
И испачкала помадой. Вот так чмокнула!
Она засмеялась:
— Ты боишься, что подумают твои машинистки. Так вот тебе! —
воскликнула она, целуя его в нос. — Вот тебе, вот тебе! — Он
почувствовал на своем лице ее теплые губы, потом поймал ее за плечи
и отстранил на всю длину своих больших рук. Она смеялась и
отбивалась, он думал: какая красивая девушка, какая красивая
девчурка! Мать ее была жирной и рыхлой, с широкими испуганными
и покорными глазами, которые его несколько конфузили, но Элла
была похожа на него, хотя, скорее, ни на кого, она сформировалась
сама по себе, в Париже; «Я им всегда говорю: что такое раса, если
вы встретите Эллу на улице, разве вы примите ее за еврейку?
Тоненькая, как парижанка, с теплым цветом лица, как свойственно
южанкам, с лицом смышленым и страстным, и одновременно
уравновешенным, с лицом без изъянов, без признаков расы, без тавра
судьбы, типичное французское лицо». Он отпустил ее, взял на
столе ящичек и протянул ей:
— Держи, — сказал он. Пока она смотрела на жемчужины, он
добавил: — В следующем году они будут стоить в два раза больше,
но это последние: колье будет закончено.
Она хотела его поцеловать еще раз, но он сказал ей:
ОТСРОЧКА
389
— Ладно, ладно, это тебе подарок! Беги, не то опоздаешь на
лекцию.
Она ушла, напоследок улыбнувшись Вайсу; какая-то девушка
закрыла дверь, пересекла секретарское бюро и ушла, и Шалом,
сидевший на краешке стула со шляпой на коленях, подумал:
«Красивая евреечка»; у нее было маленькое, вытянутое вперед обезьянье
личико, которое уместилось бы в ладони, прекрасные большие
близорукие глаза, должно быть, это дочь Бирненшатца. Шалом встал и
скромно поприветствовал ее, чего она, казалось, не заметила. Он
снова сел и подумал: «У нее слишком умный вид; такие уж мы, наша
суть запечатлена как каленым железом на наших лицах; можно
подумать, что мы их терпим, как мученики». Бирненшатц думал о
жемчужинах, он говорил себе: «Неплохое помещение капитала».
Они стоили сто тысяч франков, он подумал, что Элла приняла их
без чрезмерного восторга, но и без равнодушия: она знала цену
вещам и считала естественным иметь деньги, получать красивые
подарки, быть счастливой. «Боже, если я сделаю только это, с такой
женой, как у меня, и со всеми краковскими стариками за спиной,
если мне удалось только это — маленькая девочка, дочь польских
евреев, которая не слишком ломает себе голову, которой не
нравится страдать, которая считает естественным быть счастливой, —
уверен, что я не потеряю времени даром». Он повернулся к Вайсу:
— Ты знаешь, куда она пошла? — спросил он. — Никогда не
догадаешься. На лекцию в Сорбонну! Это феномен.
Вайс неопределенно улыбнулся, не меняя своего
ненатурального вида.
— Хозяин, — сказал он, — я пришел попрощаться.
Бирненшатц посмотрел на него из-под очков:
— Ты уезжаешь?
Вайс утвердительно кивнул, и Бирненшатц сделал большие
глаза:
— Я так и знал! У тебя, глупого, конечно же, мобилизационный
билет №2?
— Так и есть, — ответил, улыбаясь, Вайс, — у меня, глупого, — №2.
— Что ж, — сказал Бирненшатц, скрестив руки, — ты меня
ставишь в затруднительное положение! Что я буду без тебя делать?
Он рассеянно повторял: «Что я буду без тебя делать? Что я буду
без тебя делать?» Он пытался вспомнить, сколько у Вайса детей.
Вайс искоса с беспокойством поглядывал на него:
390
Жан Поль Сартр
— Пустяки! Найдете мне замену.
— Ну, нет! Хватит того, что я плачу тебе за то, что ты ни черта
не делаешь; что же мне — повесить себе на шею еще одного
бездельника? Твое место останется за тобой, мой мальчик.
Вайс выглядел растроганным; кося глазами, он тер себе нос, он
был ужасающе некрасив.
— Хозяин... — начал он.
Бирненшатц прервал его: благодарность всегда конфузит, и
потом, он не испытывал к Вайсу ни малейшей симпатии: бегающие
глаза и толстая нижняя губа, дрожащая от доброты и горечи, — он
был из тех, кто несет на лице печать обреченности.
— Хорошо, — сказал Бирненшатц, — хорошо. Ты не покидаешь
фирму, ты просто будешь представлять ее в офицерском корпусе.
Ты лейтенант?
— Я капитан, — ответил Вайс.
«Обреченный капитан», — подумал Бирненшатц. У Вайса был
счастливый вид, его большие уши были пунцовы. «Обреченный
капитан — уж такова война, такова военная иерархия».
— Какая отъявленная глупость эта война, а? — сказал он.
— Гм! — хмыкнул Вайс.
— А что, разве это не глупость?
— Конечно, — сказал Вайс. — Однако я хотел сказать: для нас
это не такая уж глупость.
— Для нас? — удивленно переспросил Бирненшатц. — Для нас?
О ком ты говоришь?
Вайс опустил глаза:
— Для нас, евреев, — сказал он. — После того что сделали с
евреями в Германии, мы имеем все основания сражаться.
Бирненшатц сделал несколько шагов по комнате, он разозлился:
— А что это такое: мы, евреи? Мне это непонятно. Я — француз.
Ты что, чувствуешь себя евреем?
— Со вторника у меня живет кузен из Граца. Он мне показал
свои руки. Они их прижигали сигарами от локтя до подмышек.
Бирненшатц резко остановился, он схватил сильными руками
спинку стула, и мрачный огонь бешенства полыхнул на его лице.
— Те, кто это сделал, — сказал он, — те, кто это сделал...
Вайс заулыбался; Бирненшатц успокоился:
— Это не потому, что твой кузен — еврей, Вайс. Это потому, что
он — человек. Не выношу, когда совершают насилие над человеком.
ОТСРОЧКА
391
Но что такое еврей? Это человек, которого другие люди считают
евреем. Вот посмотри на Эллу. Разве ты бы принял ее за еврейку,
если б не знал ее?
Вайс не казался убежденным. Бирненшатц пошел на него, ткнул
его в грудь вытянутым указательным пальцем:
— Послушай, мой маленький Вайс, вот что я тебе скажу: я уехал
из Польши в 1910 году, я прибыл во Францию. Меня здесь хорошо
приняли, я почувствовал себя здесь как дома, я сказал себе: «Все
хорошо, теперь моя родина — Франция». В 1914 году началась
война. Ладно, я сказал себе: «Воюю, потому что это моя страна». И я
знаю, что такое война, я был на Шмен-де-Дам. И сейчас я могу одно
тебе сказать: я — француз, не еврей, не французский еврей: француз.
Мне жалко евреев Берлина и Вены, евреев в концлагерях, меня
бесит от мысли, что кого-то терзают. Но послушай меня
хорошенько. Я сделаю все, что смогу, чтобы помешать французу, одному-
единственному французу, сломать себе шею ради них. Я чувствую
себя более близким первому попавшемуся прохожему, которого
встречу на улице, чем моим дядям из Ленца или племянникам из
Кракова. Дела немецких евреев нас не касаются.
У Вайса был замкнутый и упрямый вид. Он сказал с жалкой
улыбкой:
— Даже если это и правда, хозяин, вам лучше этого не говорить.
Нужно, чтобы те, кто уходит на войну, имели основания драться.
Бирненшатц почувствовал, как краска смущения залила ему
лицо. «Бедняга», — с раскаянием подумал он.
— Ты прав, — сказал он резко, — я всего лишь старая развалина,
и нечего мне болтать об этой войне — я в ней все равно не участвую.
Когда ты уезжаешь?
— Поездом в шестнадцать тридцать, — ответил Вайс.
— Сегодняшним поездом? Но тогда что ты здесь делаешь? Иди
быстрей домой, к жене. Тебе нужны деньги?
— Сейчас нет, благодарю.
— Иди. Пришлешь ко мне свою жену, я все с ней улажу. Иди,
иди. Прощай.
Он открыл дверь и вытолкнул его. Вайс кланялся и бормотал
невнятные слова благодарности. Бирненшатц через плечо Вайса
заметил человека, сидевшего в приемной со шляпой на коленях. Он
узнал Шалома и нахмурился: он не любил, когда просителей
заставляли ждать.
392
Жан Поль Сартр
— Заходите, — сказал он. — Вы давно ждете?
— С полчасика, — улыбаясь, кротко ответил Шалом. — Но что
такое полчасика? Вы так заняты. А у меня так много времени. Что
я делаю с утра до вечера? Жду. Жить в изгнании — это непрестанное
ожидание, разве не так?
— Входите, — быстро сказал Бирненшатц. — Входите.
Следовало меня предупредить.
Шалом вошел, он улыбался и кланялся. Бирненшатц вошел
следом и закрыл дверь. Он прекрасно узнал Шал ома: «Он был кем-
то там в баварском профсоюзном движении». Шалом время от
времени заходил, брал у него две-три тысячи франков и исчезал на
несколько недель.
— Пожалуйста, сигару.
— Я не курю, — сказал Шалом, делая нырок вперед. Бирненшатц
взял сигару, рассеянно покрутил ее между пальцами, потом снова
положил в коробку.
— Ну как? — спросил он. — Ваши дела улаживаются?
Шалом искал глазами стул.
— Садитесь! Садитесь! — любезно предложил Бирненшатц.
Нет. Шалом не хотел садиться. Он подошел к стулу и поставил
на него свой портфель, чтобы было удобнее, затем, повернувшись к
Бирненшатцу, издал долгий мелодичный стон:
— А-а-а! Ничего не улаживается. Нехорошо, когда человек
живет в чужой стране, его с трудом переносят; его попрекают куском
хлеба, а тут еще это недоверие к нам, типично французское
недоверие. Когда вернусь в Вену, вот какое впечатление я сохраню о
Франции: темная лестница, по которой с трудом поднимаешься,
кнопка звонка, которую нажимаешь, дверь, которая наполовину
отворяется: «Что вам нужно?» и тут же закрывается. Полиция,
мэрия, очередь в префектуру. В сущности, это естественно, мы у них
в гостях. Но присмотритесь внимательно: нас могли бы заставить
работать: я хочу всего-навсего быть полезным. Но чтобы найти
место, нужна рабочая карточка, а чтобы получить рабочую
карточку, нужно где-то работать. Как бы я ни старался, мне не удается
зарабатывать себе на жизнь. И это самое невыносимое: быть обузой
для других. Особенно когда они так жестоко дают это
почувствовать. А сколько потерянного времени: я начал писать мемуары, это
принесло бы мне немного денег. Но каждый день столько хлопот,
что пришлось все это забросить.
ОТСРОЧКА
393
Он был совсем маленький, юркий, он поставил портфель на
стул, а его освободившиеся руки так и порхали вокруг пунцовых
ушей. «До чего же у него еврейский вид». Бирненшатц небрежно
подошел к зеркалу и бросил на себя быстрый взгляд: метр
восемьдесят роста, сломанный нос, под очками — лицо американского
боксера; нет, нет, мы не одной породы. Но он не смел посмотреть на
Шалома, он чувствовал себя опороченным. «Хоть бы он ушел!
Если б он сейчас же ушел!» Но рассчитывать на это не приходилось.
Только продолжительностью своих визитов и жизнерадостной
живостью своих разговоров Шалом в собственных глазах отличался
от простого нищего. «Мне нужно что-то говорить», — подумал
Бирненшатц. Шалом имел на это право. Он имел право на три тысячи
франков и пятнадцать минут разговора. Бирненшатц присел на
край письменного стола. Правой рукой он поигрывал портсигаром
в кармане пиджака.
— Французы черствые люди, — сказал Шалом. Его голос
пророчески взмывал и опускался, но в вылинявших глазах подрагивал
оживленный огонек. — Черствые люди. С их точки зрения,
иностранец в принципе подозрителен, а то и виновен.
«Он говорит со мной так, будто я не француз. Черт возьми: да,
я еврей, польский еврей, прибывший во Францию 19 июля 1910
года, никто об этом здесь не помнит, но сам-то он этого не забыл.
Еврей, которому повезло». Он повернулся к Шалому и с
раздражением посмотрел на него. Шалом немного потупил голову и из
почтительности показывал ему лоб, но при этом смотрел из-под
выгнутых бровей прямо ему в лицо. Он не сводил с него глаз, и эти
большие бесцветные глаза видели в нем еврея. Два еврея в
уединении кабинета на улице Катр-Септамбр, два сообщника; а вокруг
них, на улицах, в других домах никого, кроме французов. Два еврея,
высокий еврей, который преуспел, и маленький худосочный
еврейчик, которому не повезло. Ни дать ни взять — Лорел и Харди*.
— Это черствые люди! — повторил Шалом. — Безжалостные
люди!
Бирненшатц резко вздернул плечи.
— Нужно поставить себя на... их место, — сухо заметил
Бирненшатц, он не смог выговорить: «на наше место», — знаете, сколько
иностранцев осело во Франции с 1934 года?
— Знаю, — сказал Шалом, — знаю. И по-моему, это большая
честь для Франции. Но что она делает, чтобы ее заслужить? Смо-
* Знаменитый дуэт кинокомиков.
394
Жан Поль Сартр
трите: какие-то молодчики прочесывают Латинский квартал, и если
кто-то похож на еврея, они набрасываются на него с кулаками.
— Министр Блюм нанес нам большой ущерб, — заметил Бир-
неншатц.
Он сказал «нам»; он вступил в сообщество этого маленького
чужака. Мы. Мы евреи. Но он это сделал из милосердия. Глаза Шалома
изучали его с почтительной настойчивостью. Он был худосочный и
маленький, его избили и выгнали из Баварии, теперь он был здесь,
ему приходилось ночевать в замызганной гостинице и проводить дни
в кафе. «А кузену Вайса прижигали руки сигарами». Бирненшатц
смотрел на Шалома и чувствовал себя липким. Не то чтобы он
испытывал к нему симпатию, вовсе нет! Это было... это было...
Она смотрела на него и думала: «Этот человек — хищник. Все
они помечены, и это из-за них начинаются войны». Но она
чувствовала, что ее давняя любовь не умерла.
Бирненшатц ощупывал свой бумажник.
— Что ж, — доброжелательно сказал он, — будем надеяться, что
это не слишком затянется.
Шалом поджал губы и быстро поднял головенку. «Я слишком
рано потянулся к бумажнику», — подумал Бирненшатц.
Человек-хищник. Он овладевает женщинами и убивает мужчин.
Он думает, что он сильный, но это неправда, он просто помечен, вот
и все.
— Это зависит от французов, — сказал Шалом. — Если
французы постигнут суть своей исторической миссии...
— Какой миссии? — холодно спросил Бирненшатц.
Глаза Шалома заблестели от гнева:
— Германия их провоцирует и всячески оскорбляет, — сказал он
резко и жестко. — Чего они ждут? Они что, рассчитывают укротить
ярость Гитлера? Каждая очередная сдача позиций удлиняет
нацистский режим на десятилетие. А в это время мы здесь, мы жертвы, мы
грызем кулаки от бессилия. Сегодня я видел на стенах белые
плакаты, и во мне затеплилась надежда. Но еще вчера я думал: у
французов в жилах не кровь, и мне суждено умереть в изгнании.
Два еврея в кабинете на улице Кэтр-Септамбр. Точка зрения
евреев на международные события. «Же сюи парту»* завтра
напишет: «Евреи толкают Францию к войне». Бирненшатц снял очки и
протер их платком: он захмелел от гнева. Он тихо спросил:
* Печатный орган крайне правых во Франции, основан в 1930 году, его
публикации следовали нацистской пропаганде.
ОТСРОЧКА
395
— А если будет война, вы пойдете воевать?
— Я уверен, что множество эмигрантов вступят в армию, —
сказал Шалом. — Но посмотрите на меня, — сказал он, показывая на
свое тщедушное тело. — Какая призывная комиссия сочтет меня
годным?
— Но тогда почему вы не оставите нас в покое? — прогремел
Бирненшатц. — Почему вы не оставите нас в покое? Зачем вы
обливаете нас грязью у нас же дома? Я — француз, я не немецкий
еврей, плевать мне на немецких евреев. Затевайте свою войну где-
нибудь в другом месте!
Шалом с минуту в оцепенении смотрел на него, затем вновь
обрел подобострастную улыбку, вытянул руку, схватил портфель и
попятился к двери. Бирненшатц вынул бумажник из кармана:
— Подождите.
Шалом уже дошел до двери.
— Мне ничего не нужно, — сказал он. — Иногда я прошу
вспомоществования для евреев. Но вы правы: вы не еврей, я ошибся
адресом.
Он вышел, и Бирненшатц долго неподвижно смотрел на дверь.
Это человек жестокий, человек — хищник, у них есть счастливая
звезда, и им все удается. Но война приходит от них; смерть и
страдание тоже от них. Они пламя и пожар, они приносят зло, он мне
принес зло, я его ношу, как горящий уголек под веками, как занозу
в сердце. «Вот что она обо мне думает». Ему не нужно было ее об
этом спрашивать, он знал ее, если б он мог проникнуть в эту
темноволосую курчавую голову, он в любой момент нашел бы там эту
упорную и неумолимую мысль, по-своему она упряма и никогда
ничего не забывает. Он перегнулся в пижаме над площадью Желю,
еще прохладно, небо бледно-голубое, серое по краям — это был час,
когда вода струится по плиточному настилу, по деревянным
прилавкам торговцев рыбой, пахло отъездом и утром. Утро, открытое в
бескрайний простор, и там — жизнь, лишенная сомнений,
маленькие округлые дымки от гранат на потрескавшейся земле Каталонии.
Но за его спиной, за приоткрытым окном, в комнате, полной сна и
ночи, угнездилась эта мертвая мысль, она подстерегает его, судит,
вызывает угрызения совести. Он уедет завтра, он их поцелует на
перроне, они с малышом вернутся в отель, Сара вприпрыжку
спустится по величественной лестнице, думая: вот он снова уехал в
Испанию. Она никогда не простит ему, что он в Испании; это
обволакивало мертвой коркой его сердце. Он перегнулся над площадью
396
Жан Поль Сартр
Желю, чтобы оттянуть момент возвращения в комнату; ему нужны
были вопли, горестное пение, яростные краткие страдания, но не
эта всепоглощающая нежность. Вода струилась по площади. Вода,
влажные запахи утра, рассветные деревенские крики. Под
платанами площадь была скользкой, жидкой, белой и быстрой, как рыба в
воде. В эту ночь пел негр, и ночь казалась тяжелой и сухой, как ночи
Испании. Гомес прикрыл глаза, он почувствовал, как терпкая тяга
к Испании и войне овладевала им, Сара ничего этого не понимает —
ни ночи, ни утра, ни войны.
— Пам, пам! Пам, пам, пам, паи, пам! — во всю глотку заорал
Пабло.
Гомес повернулся и ступил в комнату. Пабло надел каску, взял
за ствол карабин и стал упражняться им, как палицей. Он бегал по
комнате отеля, нанося в пустоту резкие удары и пытаясь при этом
сохранить равновесие. Сара следила за ним потухшим взглядом.
— Да тут побоище? — сказал Гомес.
— Я уложу их всех! — не останавливаясь, выкрикнул Пабло.
— Кого «всех»?
Сара в халате сидела на краю кровати. Она штопала чулок.
— Всех фашистов, — сказал Пабло.
Гомес откинулся назад и захохотал:
— Убей их! Ни одного не оставляй в живых. По-моему, ты забыл
вон того.
Пабло побежал туда, куда показал Гомес, и рубанул воздух
карабином.
— Бац, бац! — кричал он. — Бац, бац, бац! Никакой пощады!
Он остановился и, задыхаясь, повернулся к Гомесу, серьезный и
разгоряченный.
— Гомес! — сказала Сара. — Вот к чему это приводит! Как ты
мог?
Гомес накануне купил Пабло игрушечный военный набор.
— Ему надо научиться сражаться, — пояснил Гомес, гладя
мальчика по голове. — Иначе он будет трусом, как все французы.
Сара подняла на него глаза, и он понял, что жестоко обидел ее.
— Не понимаю, — удивилась Сара, — как можно называть людей
трусами только потому, что они не хотят воевать?
— Есть моменты, когда этого нужно хотеть, — возразил Гомес.
— Никогда! — возмутилась Сара. — Ни в коем случае. Нет
ничего на свете, ради чего стоило бы, чтоб я очутилась однажды на
ОТСРОЧКА
397
дороге рядом с моим разрушенным домом и с моим раздавленным
ребенком на руках.
Гомес не ответил. Ему нечего было ответить. Сара была права.
Со своей точки зрения, она была права. Но точка зрения Сары была
из тех, которыми следовало из принципа пренебречь, иначе ни к
чему не придешь. Сара тихо и горько засмеялась.
— Когда я с тобой познакомилась, ты был пацифистом, Гомес.
— В тот момент нужно было быть пацифистом. И наша цель не
изменилась. Но средства для ее достижения иные.
Сара в замешательстве умолкла. Рот ее оставался
полуоткрытым, и отвисшая губа обнажала испорченные зубы, Пабло вращал
карабином и кричал:
— Ну погоди, подлый француз, подлый французский трус!
— Видишь, — вымолвила Сара.
— Пабло, — вдруг сказал Гомес, — не нужно бить французов.
Французы не фашисты.
— Французы — трусы! — выкрикнул Пабло и ударил прикладом
по тяжело взлетевшим шторам. Сара промолчала, но Гомес
предпочел бы не видеть взгляда, который она бросила на Пабло. Это не
был строгий взгляд, нет: взгляд удивленный, скорее неуверенный,
казалось, она видит сына в первый раз. Она отложила в сторону
чулок и глядела на этого незнакомого ребенка, на этого
нормального маленького злодея, который отрывал головы и разбивал
вдребезги черепа, должно быть, она изумленно думала: «И это мой сын!»
Гомесу стало стыдно: «Восемь дней, — подумал он. — Хватило всего
восьми дней».
— Гомес, — быстро сказала Сара, — ты действительно считаешь,
что будет война?
— Очень на это рассчитываю, — ответил Гомес. — Надеюсь, что
Гитлер в конце концов вынудит французов воевать.
— Гомес, — проговорила Сара, — знаешь, я в последнее время
поняла: люди злы.
Гомес пожал плечами:
— Они ни добры, ни злы. Просто каждый преследует свою
цель.
— Нет, нет, — возразила Сара. — Они злы. — Она не отводила
взгляда от Пабло, казалось, она тщилась предугадать его судьбу. —
Нет, они злы и пытаются непрерывно друг другу навредить.
— Я не злой, — сказал Гомес.
398
Жан Поль Сартр
— Злой, — не глядя на него, сказала Сара. — Ты злой, мой
бедный Гомес, ты очень злой. И у тебя даже нет оправданий: другие
хотя бы несчастны. Но ты счастлив и зол.
Наступило долгое молчание. Гомес смотрел на этот короткий
жирный затылок, на это обиженное природой тело, которое он все
ночи держал в объятиях, и думал: «Она не испытывает ко мне ни
дружбы, ни нежности, ни уважения. Она меня просто любит: кто из
нас двоих злее?»
Но вдруг к нему вернулись угрызения совести: однажды
вечером он прибыл из Барселоны счастливым, да, поразительно
счастливым. Он дал себе восемь дней отгула. Завтра он снова уедет. «Да,
я не добрый», — подумал он.
— Есть горячая вода?
— Теплая, — отозвалась Сара. — Кран слева.
— Хорошо, — сказал Гомес. — Пойду-ка побреюсь.
Он вошел в ванную комнату, оставив дверь широко открытой,
повернул кран и выбрал лезвие: «Когда уеду, — подумал он, —
игрушечное оружие долго не проживет». Вернувшись домой, Сара, без
сомнения, запрет его в большом шкафу для лекарств; если только
не сочтет, что проще забыть его здесь. «Она учит Пабло только
девчачьим играм», — подумал он. Когда еще он свидится с Пабло,
и во что она его за это время превратит? Однако у мальчика
строптивый вид! Гомес подошел к умывальнику и увидел их обоих в
зеркале: Пабло, запыхавшись, застыл посреди комнаты, весь
пунцовый, расставив ноги и засунув руки в карманы; Сара стояла перед
ним на коленях и, не говоря ни слова, смотрела на него. «Она хочет
понять, похож ли он на меня», — подумал Гомес. Он почувствовал
себя неловко и бесшумно закрыл дверь.
«...где ко мне присоединилась Сара с малышом... Ждите меня
четырехчасовым поездом в воскресенье и закажите мне...», одна рука
сильно сжала его левое плечо, другая — правое. Теплое и дружеское
пожатие. Ну вот: он положил письмо в карман и поднял глаза.
— Привет.
— Одетта только что мне сказала... — проговорил Жак, погружая
взгляд в глаза Матье. — Бедный старик!
Не сводя с брата глаз, он сел в кресло, которое только что
покинула Одетта; рука его автоматически приподняла обе брючины;
ноги скрестились сами собой; он не замечал этих мелких побочных
действий. Он целиком превратился в собственный взгляд.
— Знаешь, я еду не сегодня, — сказал Матье.
ОТСРОЧКА
399
— Знаю. Ты не опасаешься неприятностей?
— Подумаешь, несколькими часами позже...
Жак глубоко вздохнул:
— Что тебе сказать? В другие времена, когда человек уходил на
войну, ему говорили: защищай своих детей, защищай свою свободу
или свой дом, наконец — защищай Францию, всегда можно было
найти причину, чтобы рискнуть своей шкурой. Но сегодня...
Он пожал плечами. Матье, опустив голову, постукивал
каблуком по земле.
— Молчишь, — проникновенно сказал Жак. — Ты предпочитаешь
молчать из страха сказать лишнее. Но я знаю, о чем ты думаешь.
Матье все еще постукивал туфлей по земле, не поднимая
головы, он ответил:
— Да нет, не знаешь.
Наступило короткое молчание, затем он услышал неуверенный
голос брата:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Что я совсем ни о чем не думаю.
— Как хочешь, — сказал Жак с легким раздражением. — Ты ни
о чем не думаешь, но ты пришел в отчаяние, а это одно и то же.
Матье заставил себя вскинуть голову и улыбнуться.
— Я вовсе не пришел в отчаяние.
— Не хочешь же ты меня убедить, будто ты уходишь,
смирившись, как баран, которого ведут на бойню?
— Да, — сказал Матье, — все же я немного похож на барана, ты
не находишь? Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе.
Справедлива эта война или нет, для меня это второстепенно.
Жак откинул голову и, полузакрыв глаза, посмотрел на Матье:
— Матье, ты меня удивляешь. Ты меня бесконечно удивляешь,
я тебя больше не узнаю. Как же так? У меня был бунтующий,
циничный, язвительный брат, который никогда не хотел быть
одураченным, который мизинцем не мог пошевелить, не пытаясь понять
при этом, почему он шевелит им, а не указательным пальцем,
почему он шевелит мизинцем правой руки, а не левой. И вот война,
его посылают в первых рядах, и мой бунтарь, мой сокрушитель
посуды, не задавая лишних вопросов, покорно уходит, говоря: «Я
уезжаю, потому что не могу поступить иначе».
— Моей вины здесь нет, — сказал Матье. — Мне никогда не
удавалось сформировать собственное мнение по вопросам такого
рода.
400
Жан Поль Сартр
— Но давай рассуждать, — сказал Жак, — мы имеем дело с неким
господином — я имею в виду Бенеша, — который твердо пообещал
построить из Чехословакии конфедерацию по швейцарской
модели. И он действительно за это взялся, — с силой повторил Жак, — я
это прочел в протоколах Мирной конференции, видишь, я от тебя
не скрываю своих источников. А это намерение равнозначно
гарантии для судетских немцев подлинной национальной автономии.
Ладно. Но потом этот господин полностью забывает о своих
обязательствах и ставит над немцами чехов, которые за ними надзирают,
их судят, ими управляют. Немцам это не нравится: это их
естественное право. Тем более что я знаю чешских чиновников, я был в
Чехословакии: ты не представляешь себе, какие они буквоеды! Так вот,
им хотелось бы, чтобы Франция, как они утверждают, страна
свободы, пролила свою кровь ради их бюрократического произвола над
немецким населением, и теперь ты, преподаватель философии в
лицее Пастера, собираешься провести свои последние молодые
годы в десятифутовых траншеях между Битхе и Виссембургом.
Теперь ты понимаешь, почему сейчас, когда ты мне сказал, что
уезжаешь, смирившись, и что тебе наплевать, справедливая это война
или нет, мне за тебя досадно.
Матье с недоумением смотрел на брата; он думал:
«Национальная автономия, никогда бы не додумался». Он все же для очистки
совести сказал:
— Они хотят не национальной автономии: Судеты уже требуют
присоединения к Германии.
Жак страдальчески скривился:
— Пожалуйста, Матье, не говори, как мой консьерж, не называй
их Судетами. Судеты — это горы. Скажи: судетские немцы, или, если
хочешь, просто немцы. Ну и что? Они хотят присоединиться к
Германии? Но это наверняка потому, что их довели до предела. Если
бы им сразу дали то, чего они просили, всего бы этого не случилось.
Но Бенеш юлил, лукавил, потому что наши шишки внушили ему,
будто у него за спиной Франция: и вот результат.
Он с грустью посмотрел на Матье.
— Все это, — сказал он, — я бы еще мог перенести, ибо давно уже
знаю, чего стоят политики. Но когда ты, разумный человек с
университетским образованием, настолько теряешь элементарное
чутье, что утверждаешь, будто идешь на эту бойню потому, что не
можешь иначе, этого я перенести не могу. Старик, если таких, как
ты, много, Франция пропала.
ОТСРОЧКА
401
— Но что, по-твоему, мы должны делать? — спросил Матье.
— Как? Ведь у нас пока еще демократия, Тье! Во Франции,
кажется, еще есть общественное мнение.
— Ну и что дальше?
— Что ж, если миллионы французов вместо того, чтобы
истощаться в пустых спорах, разом объединились бы, если б они
сказали нашим правителям: «Судетские немцы хотят вернуться в лоно
Великой Германии? Пусть возвращаются: это касается только их!»
Тогда не нашлось бы политика, который из-за подобной безделицы
осмелился бы на войну.
Он положил руку на колено Матье и примирительно
подытожил:
— Я знаю, ты не любишь гитлеровский режим. Но вполне
можно не разделять твоих предубеждений против него: это молодой,
динамичный режим, который хорошо проявил себя и имеет
неоспоримую притягательность для народов Центральной Европы. И
потом, как бы то ни было, это их дело: нам не следует во все это
вмешиваться.
Матье подавил зевок и подобрал ноги под стул; он исподтишка
бросил взгляд на слегка одутловатое лицо брата и подумал, что тот
стареет.
— Возможно, — послушно согласился он, — возможно, ты и
прав.
Одетта спустилась по лестнице и молча села рядом с ними. В ней
были грация и безмятежность домашнего животного: она садилась,
уходила, возвращалась уверенная, что ее не замечают. Матье с
раздражением повернулся к ней: он не любил видеть их вместе. Когда
Жак был здесь, лицо Одетты не менялось, оно оставалось гладким
и ускользающим, как лицо статуи без зрачков. Но его следовало
читать по-другому.
— Жак считает, что свой отъезд я воспринимаю слишком
легко, — сказал Матье, улыбаясь. — Он пытается внушить мне чувство
обреченности, растолковывая мне, что я собираюсь дать себя убить
ни за что.
Одетта улыбнулась ему в ответ. Это была не светская улыбка,
которой он ожидал, но улыбка для него одного; за одно мгновение
море снова было здесь, и легкое покачивание зыби, и китайские
тени, скользящие по волнам, и расплавленное солнце,
подрагивающее на волнах, и зеленые агавы, и зеленые иглы, устилающие землю,
и игольчатая тень высоких сосен, и белая разбухшая жара, и запах
402
Жан Поль Сартр
смолы — вся плотность сентябрьского утра в Жуан-де-Пен. Дорогая
Одетта. Неудачно вышедшая замуж, недостаточно любимая; но
разве имел кто-нибудь право сказать, что она погубила свою жизнь, раз
она могла улыбаться, могла возрождать сад на побережье и летний
зной на море? Он посмотрел на желтого, жирного Жака; его руки
дрожали, он нервно постукивал пальцами по газете. «Чего он
боится?» — подумал Матье. В субботу 24 сентября, в одиннадцать часов
утра Паскаль Монтастрюк, родившийся в Ниме 6 февраля 1899 года
и прозванный Кривым, поскольку он проткнул себе левый глаз
ножом б августа 1907 года, пытаясь перерезать веревки на качелях
своего маленького товарища Жюло Трюффье и посмотреть, что из
этого получится, продавал, как всегда по субботам, ирисы и лютики
на набережной Пасси, недалеко от станции метро; у него были свои
персональные приемы: он накладывал букеты, прекрасные букеты,
в ивовую корзинку, поставленную на складной стул, и выскакивал
на мостовую, машины, сигналя, проезжали мимо, а он кричал:
«Букеты, красивые букеты для вашей дамы!», — потрясая желтым
букетом, автомобиль бросался на него, как бык на арене, а он не
шевелился и, запрокидывая голову, позволял автомобилю переть на
него, как прет большое глупое животное, и кричал в открытую
дверцу: «Букеты, красивые букеты!», — и обычно автомобилисты
останавливались, он вскакивал на подножку, и автомобиль съезжал к
тротуару, потому что были выходные, и эти господа предпочитали
вернуться в красивые дома на улице де Винь или дю Ранелаг с
букетами для своих дам. «Красивые букеты!», — он отпрыгнул назад,
чтобы не попасть под машину, наверняка уже сотую,
проносившуюся мимо без остановки: «Черт-те что!» Что на них сегодня утром
нашло? Водители вели машины быстро и небрежно, сгорбившись
над рулем, безмолвные, как горшки. Они не сворачивали на улицу
Чарльз-Диккенс или проспект Ламбалъ, они на предельной
скорости мчались вдоль набережной, как будто хотели достигнуть
Понту аза; Кривой Паскаль больше ничего не понимал: «Но куда они
гонят? Куда?» Он уходил, глядя на свою корзину, полную желтых
и розовых цветов, сегодня ему не везло.
— Это чистое безумие, — сказал Жак. — Самое великолепное
самоубийство в истории. Вдумайтесь: Франция за сто лет
подвергалась двум ужасным кровопусканиям — одному во времена
Империи, второму в 1914 году; кроме того, каждый день падает
рождаемость. Разве это подходящий момент, чтобы ввязываться в
новую войну, которая обойдется нам от трех до четырех миллио-
ОТСРОЧКА
403
нов человек? Три или четыре миллиона, которых мы больше не
сможем воспроизвести, — отчеканил он. — Победительница или
побежденная, страна в любом случае переходит в разряд
второстепенных держав: вот что абсолютно очевидно. И потом, я сейчас
скажу тебе и другое: Чехословакия будет уничтожена, мы и охнуть
не успеем. Стоит только посмотреть на карту: у нее вид ошметка
мяса между челюстями немецкого волка. Достаточно волку
стиснуть челюсти...
— Но это будет только временно, — сказала Одетта, — после
войны Чехословацкое государство восстановят.
— Да? — вызывающе смеясь, сказал Жак. — Так я тебе и
поверил! Действительно, есть вероятность, что англичане позволят
восстановить это пепелище. Но пятнадцать миллионов жителей и
девять разных национальностей — это вызов здравому смыслу. Не
стоило бы чехам обманываться, — сурово добавил он, — в их
жизненных интересах любой ценой избежать войны.
«Чего он боится?» Он смотрел, сжимая в руке ненужный букет,
как мимо проносятся машины, это походило на дорогу из Шанти-
льи в вечер скачек, многие везли на крышах сундуки, матрацы,
детские коляски, швейные машинки — все автомобили были битком
набиты чемоданами, ящиками, корзинами. «Ну и дела!» — подумал
Кривой Паскаль. Машины были так тяжело нагружены, что при
каждой неровности дороги щитки чиркали по шинам. «Они
удирают, — подумал он, — они удирают». Он слегка отскочил назад,
чтобы не угодить под «сальмсон», но он и не думал возвращаться на
тротуар. Они улепетывали, эти господа с холеными от массажа
лицами, толстые дети, красивые дамы, им припекало задницу, они
улепетывали от бошей, от бомбежек, от коммунизма. Он терял всех
своих клиентов. Но ему казалась такой забавной эта вереница
автомобилей, это сумасшедшее бегство в сторону Нормандии, что это
даже несколько возмещало убытки. Он остался на мостовой,
уворачиваясь от машин-беглецов, и от всего сердца расхохотался.
— А скажи на милость, как мы сможем им помочь? В конце
концов мы вынуждены будем напасть на Германию. Но как?
Откуда? На востоке линия Зигфрида, мы расквасим о нее нос. На
севере — Бельгия. Нарушим бельгийский нейтралитет? Так как же?
Может, следует сделать обход через Турцию? Чистая авантюра! Мы
можем только одно: ждать с оружием на изготовку, когда Германия
расправится с Чехословакией. После этого она придет
расправиться с нами.
404
Жан Поль Сартр
— Что ж, — сказала Одетта, — вот тогда...
Жак обратил на нее супружеский взгляд:
— Что «тогда?» — холодно спросил он. Он наклонился к Ма-
тье. — Я тебе рассказывал о Лоране, который был шишкой в «Эр
Франс» и остался советником Ко и Ги Л а Шамбр? Так вот, я тебе
передаю без комментариев, что он мне сказал в июле: «Французская
армия располагает от силы сорока бомбардировщиками и
семьюдесятью истребителями. Учитывая этот фактор, немцы будут в
Париже к Новому году».
— Жак! — возмутилась Одетта.
Чего он боится? Паскаль смеялся до упаду, он отшвырнул букет,
чтобы было сподручнее смеяться, он отскочил назад, колесо
автомобиля прошло по стеблям букета. Чего он боится? Она сердита,
потому что кто-то посмел вообразить поражение Франции. У нее
нет симпатии: слова пугают ее. Они боятся дирижаблей и немецких
самолетов, я их видел тогда, в 1916 году, и помнится, им было не по
себе, и вот все начинается снова; автомобили проносились на
предельной скорости по раздавленным стеблям, и у Паскаля
выступили на глазах слезы — до того это казалось ему комичным. Морис
вовсе не считал это забавным. Он заплатил за угощение товарищей,
и его плечи еще горели от их похлопываний. Теперь он был один, и
скоро нужно будет сообщить обо всем Зезетте. Он увидел белый
плакат на высокой серой стене заводов Пеноэ и подошел, ему
нужно было перечитать одному и медленно: «По приказу министра
обороны и военно-воздушных сил». Смерть была не такой уж
страшной, всего лишь несчастный случай на работе, Зезетта
вынослива и еще достаточно молода, она еще сможет устроить свою
жизнь, это легче, когда нет детей. В остальном что ж, он уйдет на
войну, а потом, когда все кончится, сохранит свою винтовку, это
решено. Но когда наступит конец войны? Через два года? Через
пять лет? Предыдущая война длилась четыре с лишним года.
Четыре с лишним года нужно будет повиноваться сержантам, офицерам,
всем этим сволочным рожам, столь ему ненавистным.
Повиноваться им по мановению пальца, по движению глаз, отдавать им на
улице честь, тогда как до сих пор он, когда встречал одного из них,
вынужден был глубоко засовывать руки в карманы, чтобы не дать
ему в морду. На передовой они вынуждены вести себя прилично,
они боятся пули в спину; но на привале донимают солдат, как в
казарме. «Да в первой же атаке ухлопают офицерика, идущего
впереди». Он двинулся дальше, он чувствовал себя грустным и крот-
ОТСРОЧКА
405
ким, как во времена, когда занимался боксом и переодевался в
раздевалке за пятнадцать минут до поединка. Война — длинная,
длинная дорога, не нужно слишком много о ней думать, иначе в
конце концов решишь, что ничто не имеет смысла, даже конец
войны, даже возвращение с винтовкой по домам. Длинная, длинная
дорога. И может, он сдохнет на полпути, как будто у него нет другой
цели, кроме как дать продырявить себе шкуру ради заводов
Шнайдера или сундука господина де Венделя. Он шел в черной пыли меж
стен завода Пеноэ и строительных площадок Жермена; довольно
далеко справа он видел покатые крыши мастерских Северной
железной дороги и за ними, еще дальше, большую красную трубу
винокуренного завода, он шептал: «Длинная, длинная дорога».
Кривой хохотал, лавируя между автомобилями, Морис шагал в пыли, а
Матье сидел на берегу моря, слушал Жака и говорил себе: «Как
знать, возможно, он и прав», — он думал о том, что ему предстоит
отбросить свою одежду, профессию, личность, отправиться голяком
на самую абсурдную из войн, на заранее проигранную войну, и он
чувствовал, что катится в пропасть безымянности, он больше не
был никем — ни старым учителем Бориса, ни старым любовником
старой Марсель, ни слишком старым влюбленным в Ивиш; всего
лишь лишенный возраста аноним, у которого украли будущее и
оставили впереди сплошную непредсказуемость. В одиннадцать
тридцать автобус остановился в Сафи, и Пьер вышел размять ноги.
Плоские желтые хижины вдоль асфальтированной дороги; сзади
невидимый Сафи, скатывающийся к морю. Арабы жарились на
солнце, присев на широкой ленте охряной земли, самолет летал над
желто-серой шахматной доской, это была Франция. «Этим-то на
нее наплевать», — с завистью подумал Пьер; он шел между арабами,
он мог прикоснуться к ним, но его меж ними не было; они
останутся спокойно покуривать гашиш под солнцем, а он пойдет погибать
в Эльзасе, он споткнулся о кочку; самолет провалился в воздушную
яму, и старик подумал: «Не люблю летать самолетом». Гитлер
склонился над столом, генерал водил по карте и говорил: «Пять
танковых бригад. Тысяча самолетов вылетит из Дрездена, Темпельхофа
и Мюнхена»; а Чемберлен прижимал ко рту платок и думал: «Это
мое второе путешествие самолетом. Не люблю летать самолетом».
«Они не могут мне помочь, они присели под солнцем, похожие на
маленькие кастрюльки с дымящейся водой; они довольны, они одни
на земле. Черт возьми! — с отчаянием подумал он. — Черт возьми!
Если б я был арабом!»
406
Жан Поль Сартр
В одиннадцать часов сорок пять минут Франсуа Аннекен,
фармацевт первого разряда из Сен-Флура, рост 1 метр 70 сантиметров,
нос прямой, лоб средний, легкое косоглазие, борода воротником,
сильный запах изо рта и от чресел, до семи лет хронический
энтерит, эдипов комплекс преодолен около тринадцати лет, степень
бакалавра в семнадцать, мастурбация вплоть до военной службы по
два-три семяизвержения в неделю, читатель «Тан» и «Митен» (по
подписке), бездетный супруг Эсперанс Дьелафуа, верующий
католик, два или три причастия в триместр, поднялся на второй этаж,
вошел в супружескую спальню, где его жена примеряла шляпку, и
сказал: «Ну вот, как я тебе и говорил, они призывают
военнообязанных группы №2». Жена положила шляпку на трельяж, вынула
шпильки изо рта и сказала: «Значит, ты уезжаешь сегодня днем?»
Он ответил: «Да, пятичасовым поездом». «Боже мой! Я так
волнуюсь, я не успею всего тебе приготовить. Что ты возьмешь? —
спросила она. — Естественно, рубашки, кальсоны, у тебя есть шерстяные,
муслиновые, хлопчатобумажные, но лучше шерстяные. Да, и еще
фланелевые пояса, сможешь взять пять или шесть, предварительно
свернув их». «Никаких поясов, — возразил Аннекен, — это гнезда
для вшей». «Какой ужас, но у тебя не будет вшей. Возьми их, прошу
тебя, доставь мне удовольствие; когда очутишься там, увидишь, они
тебе пригодятся. К счастью, у меня есть еще консервы, это те, что я
купила в тридцать шестом году, во время забастовок, ты еще
смеялся надо мной; у меня есть банка кислой капусты в белом вине, но
она тебе не понравится...» «У меня от нее изжога, — сказал он,
потирая руки, — но если у тебя есть банка рагу...» «Банка рагу! —
воскликнула Эсперанс. — Мой бедный друг, а как же ты ее
разогреешь?» «Подумаешь», — сказал Аннекен. «Что «подумаешь»? Ее же
разогревают на паровой бане». «Ладно, но есть еще цыпленок в
желе, а?» «Да! Действительно, цыпленок в желе и прекрасная бо-
лонская колбаса, которую прислали кузены из Клермона». Он с
минуту помечтал и сказал: «Я возьму свой швейцарский нож». «А
куда я задевала термос для кофе?» «Да, кстати, кофе — нужно что-
то горячее, чтобы согреть желудок; в первый раз с тех пор, как я
женат, я буду есть без бульона, — сказал он, грустно улыбаясь. —
Положи мне несколько слив, пока ты здесь, и фляжку коньяка».
«Ты возьмешь желтый чемодан?» Он так и подскочил: «Чемодан?
Ни за что на свете, это неудобно, и потом, я не собираюсь его терять;
там все воруют, я возьму рюкзак». «Какой рюкзак?» «Тот, который
я брал на рыбалку до нашей женитьбы. Куда ты его дела?» «Куда
ОТСРОЧКА
407
дела? Да не знаю, мой бедный друг, у меня голова идет кругом,
наверное, снесла его на чердак». «На чердак! Да ты что, там же мыши!
Ну и дела». «Ты бы лучше взял чемодан, он небольшой, только не
своди с него глаз. А! Я знаю, где он: у Матильды, я ей одолжила его
для пикника». «Ты одолжила рюкзак Матильде?» «Да нет, зачем ты
мне говоришь о рюкзаке? Я же тебе сказала: термос». «Так или
иначе, мне нужен рюкзак», — твердо сказал Аннекен. «Дорогой, ну что
ты от меня хочешь, посмотри, сколько у меня дел, помоги мне
немного, поищи его сам, посмотри-ка на чердаке». Он поднялся по
лестнице и толкнул дверь на чердак: пахло пылью, ничего не было
видно, между ногами прошмыгнула мышь. «Проклятие, его,
наверное, уже сожрали крысы», — подумал он.
На чердаке громоздились многочисленные чемоданы, манекен
из ивовых прутьев, карта полушарий, старая плита, зубоврачебное
кресло, фисгармония — все это нужно было передвигать. Если бы
по крайней мере ей пришло в голову положить его в какой-нибудь
чемодан! Он открывал чемоданы один за другим и с яростью
захлопывал их. Рюкзак был такой удобный, из кожи, с застежкой-
молнией, туда можно было засунуть уйму всего, у него было два
отделения. Именно такие вещи помогают пережить дурные
времена: даже и не подозреваешь, насколько они незаменимы. «Во всяком
случае, я не поеду с чемоданом, — раздраженно подумал Аннекен, —
лучше я вообще ничего не возьму».
Он сел на чемодан, руки у него были черны от пыли, он ощущал
пыль, как сухой и шершавый клей по всему телу, он поднял руки,
чтобы не запачкать свой черный пиджак, ему казалось, что у него
никогда не хватит смелости сойти с чердака, у него полное
отсутствие желаний, и эта ночь, которую он проведет даже без горячего
бульона, чтобы согреть желудок, все было так безысходно, он
чувствовал себя одиноким и потерянным здесь наверху, на самом верху,
сидя на чемодане, и этот шумный и мрачный вокзал, который его
ждет в двухстах метрах отсюда, однако пронзительный крик Эспе-
ранс заставил его вздрогнуть; это был победоносный крик: «Нашла!
Нашла!» Он открыл дверь и побежал к лестнице: «Где он был?» «Я
нашла твой рюкзак, он был внизу, в стенном шкафу подвала». Он
спустился по лестнице, взял рюкзак из рук жены, открыл, посмотрел
на него и отряхнул ладонью, затем, ставя его на кровать, сказал:
«Дорогая, а не стоит ли мне купить себе пару хороших башмаков?»
К столу! К столу! Они вошли в ослепляющий полуденный
туннель; снаружи — белое от зноя небо, снаружи — мертвые белые
408
Жан Поль Сартр
улицы, снаружи — по man's land*, снаружи — война; за закрытыми
ставнями они задыхались от жары, Даниель постелил салфетку на
колени, Аннекен повязал на шее галстук, Брюне взял со стола
бумажную салфетку, смял ее и вытер губы, Жаннин ввезла Шарля в
почти пустую столовую со стеклами, изборожденными лиловыми
отсветами, и положила ему на грудь салфетку; это была передышка;
война, что ж, пусть война, но какая жара! Масло в воде, толстый
кусок с расплывчатыми тающими контурами, жирная серая вода и
маленькие крупинки застывшего масла, плавающие вверх
брюшком, Даниель смотрел, как в салатнице плавились ракушки из
масла, Брюне вытер лоб, сыр потел на его тарелке, как
старательный работяга, пиво, стоявшее перед Морисом, было теплым, он
оттолкнул кружку: «Тьфу! Как моча!» Льдинка плавала в красном
вине, Матье выпил, и сначала во рту у него был холод, затем
маленькое озерцо выдохшегося вина, еще немного теплого, но сразу
же смешавшегося с водой; Шарль немного повернул голову и
сказал: «Снова суп! Нужно быть идиотом, чтобы подавать суп в такую
жару». Ему поставили тарелку на грудь, она грела ему кожу сквозь
салфетку и рубашку, Шарль видел ее фаянсовый край, он погрузил
ложку наугад, вертикально поднял ее, но когда лежишь на спине,
никогда не уверен в точности вертикали, часть жидкости,
расплескавшись, попала снова в тарелку, Шарль медленно поднес ложку
к губам и наклонил ее, дерьмо! Всегда одно и то же, обжигающая
жидкость потекла по щеке и залила воротник рубашки. Война, ах
да, война! «Нет, — сказала Зезетта, — не включай радио, я больше
не хочу, не хочу об этом думать». «Да нет, успокойся, — сказал
Морис, — немного музыки». Шерсо... гуддб, ш...шрр, моя звезда,
последние известия, «Сомбреро и мантильи», «Я буду ждать» по
заказу Югетгы Арналь, Пьера Дюкрока, его жены и двух дочерей
из местечка Ла-Рош-Канильяк, мадемуазель Элиан из Кальви и
Жана-Франсуа Рокетта для его маленькой Мари-Мадлен и группы
машинисток из Тюлля, для их солдат, я буду ждать день и ночь,
возьмите еще немного ухи, нет, спасибо, отказался Матье, это не
может не уладиться, радио потрескивало, струилось над белыми и
мертвыми площадями, пронизывало стекла, входило в город, в
мрачные душные помещения, Одетта думала: это не может не
уладиться, это очевидно; было так жарко. Мадемуазель Элиан,
Зезетта, Жан-Франсуа Рокетт и семья Дюкрок из Ла-Рош-Канильяк
думали: это не может не уладиться; было так жарко. «Что, по-
* Нейтральная полоса (англ.).
ОТСРОЧКА
409
вашему, они должны делать?» — спросил Даниель; это ложная
тревога, думал Шарль, нас оставят здесь. Элла Бирненшатц
положила вилку, откинула голову и сказала: «Ну и пусть война, я в нее
не верю». Я всегда буду ждать твоего возвращения, самолет летел
над пыльным стеклом, лежащим плашмя; на краю стекла, очень
далеко, выступало немного замазки, Генри наклонился к Чембер-
лену и крикнул ему в ухо: это Англия, Англия, и толпа,
теснящаяся у турникетов аэродрома в ожидании его возвращения, моя
любовь, всегда, им на минуту овладела слабость, было так жарко, он
хотел забыть и завоевателя с мушиной головой, и отель «Дрезен»,
и меморандум, хотел верить, Господи, верить, что все еще может
уладиться, он закрыл глаза, «Моя любимая куколка», по заказу
мадам Дюранти и ее маленькой племянницы из Деказевиля, война,
Боже мой, да» война, и пекло, и грустный безмятежный
послеполуденный сон, Касабланка, вот Касабланка, автобус остановился на
белой пустынной площади, Пьер вышел первым, жгучие слезы
застили ему глаза; в автобусе задержалось еще немного утра, но
снаружи, на солнцепеке, утро уже скончалось. Кончилось утро, моя
любимая куколка, кончилась молодость, кончились надежды, вот
в чем великая трагедия полудня. Жан Сервен оттолкнул тарелку,
он читал спортивную страницу «Пари-суар», ему был еще не
известен декрет о частичной мобилизации, он был на работе, он
заскочил со службы, чтобы пообедать, и вернется туда к двум часам;
Люсьен Ренье давил руками орехи, он уже прочел белые плакаты
и думал: это блеф; Франсуа Дестют, юноша из лаборатории
института Деррьен, вытирал хлебом тарелку и не думал ни о чем, его
жена тоже не думала ни о чем, Рене Мальвиль, Пьер Шарнье также
ни о чем не думали. Утром война засела в их головах острой и
режущей ледышкой, потом она растаяла, превратилась в маленькую
теплую лужицу. «Моя любимая куколка», тяжкий и мрачный запах
бургундской говядины, запах рыбы, кусочек мяса между двумя
коренными зубами, пары красного вина и зной, зной! Дорогие
слушатели, Франция, несокрушимая, но миролюбивая, отважно
бросает вызов судьбе.
Он устал, был утомлен, он три раза провел рукой перед глазами,
свет причинял ему боль, и Доберн, сосавший кончик карандаша,
сказал своему собрату из «Морнинг пост»: «У него солнечный
удар». Он поднял руку и тихо произнес:
— Теперь, когда я вернулся, моя первейшая обязанность —
сообщить французскому и английскому правительству о результатах
410
Жан Поль Сартр
моей миссии, и пока я это не сделаю, мне будет затруднительно что-
либо о ней прилюдно сообщить.
Полдень окутывал его своим белым саваном, Доберн смотрел на
него и думал о длинных пустынных дорогах между серыми и
ржавыми, озаренными небесным огнем скалами. Старик еще более
слабым голосом добавил:
— Этим я ограничусь: я верю, что все заинтересованные стороны
продолжат усилия для мирного разрешения чехословацкой
проблемы, ибо именно тут в данный момент кроются возможности
европейского мира.
Она сосредоточенно собирает хлебные крошки со скатерти. Она
немного подавлена, как в те дни, когда мучилась сенной
лихорадкой, она мне сказала: «У меня стоит ком в груди» и в расстройстве
уронила несколько слезинок: скоро рухнет привычный уклад ее
жизни. Я ей ответил: «Это пройдет». Она думает, что несчастна, это
маленькое церебральное недомогание она считает несчастьем. Но
она держится, полагая, что не имеет права распускаться, так как
делит несчастье со всеми женщинами Франции. Достойная,
спокойная, внушающая робость, она сидит, положив прекрасные руки на
скатерть, и выглядит так, как будто восседает за кассой большого
магазина. Она не думает, она не хочет думать, что ей будет
спокойнее после моего отъезда. О чем ее мысли? О том, что на подставке
для ножей ржавое пятно. Она хмурит брови, скоблит ржавое пятно
кончиком красного ногтя. Постепенно она успокоится. Ее мать, ее
подруги, вышивка, двуспальная кровать для нее одной, она мало ест,
она будет жарить себе на плитке глазунью, малышку кормить
нетрудно, каши, все время каши, я ей говорил: «Дай мне все равно что,
все время одно и то же, не старайся усложнять меню, я никогда не
обращаю внимания на еду», — но она упрямилась, это был ее долг.
— Жорж!
— Да, любимая?
— Хочешь отвара?
— Нет, спасибо.
Она, вздыхая, пьет отвар, у нее красные глаза. Но она на меня не
смотрит, она смотрит на буфет, потому что он стоит прямо напротив
нее. Ей нечего мне сказать, или же сейчас она скажет: «Не
простудись». Возможно, она вообразит меня сегодня вечером в поезде —
худая фигурка, осевшая в глубине купе, но здесь воображение ее
остановится, дальнейшее представить слишком трудно; она думает
о своем существовании без меня. Мой отъезд создаст в ее жизни
ОТСРОЧКА
411
пустоту. Совсем небольшую пустоту, моя Андре: ведь я произвожу
так мало шума. Я сидел в кресле с книгой, она штопала чулок, нам
нечего было друг другу сказать. Кресло всегда будет здесь.
Основное — это кресло. Андре будет мне писать. Три раза в неделю.
Прилежно. Она станет совсем серьезной, долго будет искать чернила,
перо, светлые очки, затем с внушающим робость видом сядет за
неудобный секретер, который она получила в наследство от своей
прабабки Вассер: «У малышки режутся зубки, моя мать приедет на
Рождество, мадам Анселен умерла, Эмильена выходит замуж в
сентябре, жених очень хорош, среднего возраста, служит в страховой
компании». Если у малышки будет коклюш, она от меня это скроет,
чтобы я не волновался. «Бедный Жорж, ему не нужно это знать, он
тревожится из-за пустяков». Она будет мне посылать посылки,
колбасу, сахар, пачку кофе, пачку табака, пару шерстяных носков, банку
сардин, таблетки сухого спирта, соленое масло. Одна посылка из
десяти тысяч, такая же, как десять тысяч других; если мне по
ошибке дадут посылку соседа, я этого не замечу, посылки, письма, каши
Жаннетгы, пятна на подставке для ножей, пыль на буфете, ей этого
будет достаточно; вечером она скажет: «Я устала, я не могу с этим
справиться». Она не будет читать газет, не больше, чем сейчас: она
их ненавидит, потому что они потом валяются где попало, и ими
нельзя пользоваться для кухни и туалета в течение двух суток:
мадам Эберто будет приходить к ней с новостями: мы одержали
крупную победу, или дела идут скверно, мой дружочек, дела идут покуда
скверно, наши топчутся на месте. Анри и Паскаль уже договорились
с женами о шифрованном языке, чтобы сообщать, где они будут
находиться: подчеркиваешь определенные буквы. Но с Андре это
бесполезно. Тем не менее он может попытаться.
— Я постараюсь сообщить тебе, где я буду.
— А это не запрещено? — удивленно спросила она.
— Да, но люди что-то придумывают, знаешь, как во время войны
14-го года, к примеру, ты читаешь отдельно все заглавные буквы.
— Это очень сложно, — вздохнула она.
— Да нет же, вот увидишь, это совсем просто.
— Да, а потом ты попадешься, твои письма выбросят, а я буду
волноваться.
— И все же стоит рискнуть.
— Как хочешь, мой друг, но знаешь ли, у меня с географией
плохо... Я посмотрю по карте, увижу кружочек с названием внизу,
что мне это даст?
412
Жан Поль Сартр
И все же. В каком-то смысле так лучше, намного лучше. Но
главное, она будет получать мое жалованье...
— Я отдал тебе доверенность?
— Да, любимый, я ее положила в секретер.
Так намного лучше. Но обременительно оставлять человека,
который портит себе кровь, чувствуешь себя уязвимым. Я
отодвигаю стул.
— Нет, нет! Мой бедняжка, не стоит сворачивать салфетку.
— Действительно.
Она не спрашивает у меня, куда я иду. Она никогда не
спрашивает у меня, куда я иду. Я ей говорю:
— Пойду посмотрю на малышку.
— Не разбуди ее.
«Я ее не разбужу; даже если я этого захотел бы, мне не удалось
бы достаточно пошуметь, чтобы разбудить ее, я очень легкий». Он
толкнул дверь, один ставень открылся, и в комнату проникал
ослепительный меловой день; одна половина комнаты была еще в тени,
но другая сверкала под пыльным светом; малышка спала в
колыбели, Жорж сел рядом с ней. Светлые волосы, нежный ротик и
немного отвисшие пухлые щечки, которые придают ей вид
английского чиновника. Она уже начинала меня любить. Солнце
передвинулось вперед, он тихо переместил колыбель. «Сюда, сюда, вот так!»
Она не будет хорошенькой, она похожа на меня. Бедная девочка,
лучше б она походила на мать. Еще вся мягкая, как бы лишенная
костей. Но она уже носит в себе ту же непреклонную
неопределенность, которая управляет мной, клетки будут размножаться, как это
было у меня, позвонки затвердеют, как это происходило со мной,
череп окостенеет по моему образцу. Маленькая невзрачная
худышка с тусклыми волосами, сколиозом правого плеча и сильной
близорукостью, она будет бесшумно скользить, не касаясь земли,
обходя стороной людей и предметы, ибо будет слишком легкой и слабой,
чтобы сдвигать их с места. Боже мой! Все эти годы, неумолимо
предначертанные ей один за другим, и все так тщетно, так
бесполезно, так предопределено здесь, в ее плоти, и ей нужно будет пройти
свой путь, минуту за минутой, с верой, что судьба ей подвластна, а
судьба ее была спрессована целиком здесь, тошнотворная в силу
того, что определена загодя: он инфицировал это дитя собой, и
потому ей предстоит прожить мою жизнь капля за каплей; и почему
так устроено, что все на этой планете повторяется до
бесконечности! Щупленькая малышка, маленькая ясновидящая, боязливая
ОТСРОЧКА
413
душа — все, что нужно для страдалицы. Я ухожу, я призван к другим
обязанностям; она вырастет здесь, упорно и неосторожно, она будет
здесь меня замещать. И коклюш, и долгие выздоровления, и эта
злополучная тяга к красивым толстым розовотелым подругам, и
зеркала, в которые она будет смотреться, думая: «Неужели я так
некрасива, что меня никто не полюбит?» И все это день за днем, с
горьковатым привкусом уже однажды испытанного, это ли не
наказание, милосердный Боже, это ли не наказание? «Она на
мгновение проснулась и с серьезным любопытством посмотрела на отца,
для нее это было совсем новое мгновение, во всяком случае, ей
кажется, что оно совсем новое. Он вынул ее из колыбели и крепко
сжал в объятиях: «Моя маленькая! Маленькое мое дитя! Бедная
моя малышка!» Но девочка испугалась и расплакалась.
— Жорж! — с упреком позвала из-за двери Андре. Он осторожно
положил ребенка в колыбель. Еще мгновение она смотрела на него,
сурово нахмурив личико, потом ее глазки закрылись, моргая,
открылись и закрылись окончательно. Она уже начинала меня
любить. Нужно было бы присутствовать здесь день ото дня и так
приучить ее к моему существованию, чтобы она даже не замечала
меня. Сколько времени на это уйдет? Пять лет, шесть? Я увижу
настоящую маленькую девочку, которая удивленно посмотрит на
меня и подумает: «Это мой папа!», — она будет конфузиться из-за
меня перед подругами. Это у меня тоже было. Когда мой папа
вернулся с войны, мне было двенадцать. Послеполуденный свет
наполнял почти всю комнату. Послеполуденная пора, война. Война
должна походить на бесконечный излет полдня. Жорж бесшумно
встал, тихо прикрыл окно и задернул штору.
Каюта №19. Она не решалась войти, она стояла у двери с
чемоданом в руке, силясь убедить себя, что еще не все потеряно. А вдруг
это окажется действительно красивая маленькая каюта с
прикроватным ковриком, а то и с цветами в стакане для полоскания зубов
на полочке умывальника? Такое бывает, часто встречаются люди,
которые говорят: «На таких-то пароходах не стоит брать второй
класс, третий там не менее роскошный, чем первый». В этот самый
момент, может, Франс уже смирилась, может, она говорила: «Вот
это да! Вот каюта не такая, как другие. Если бы третий класс был
всегда таким...» Мод представила себе, что она — Франс.
Сговорчивая и безвольная Франс, которая говорила: «Честное слово... По-
моему, все можно уладить». Но в глубине души она оставалась
какой-то замороженной и уже смирившейся. Мод услышала шаги,
414
Жан Поль Сартр
она не хотела, чтобы ее застали слоняющейся по коридорам,
однажды случилась кража, и ее достаточно неприятным образом
допрашивали, когда ты беден, нужно обращать внимание на мелочи,
потому что люди безжалостны; она вдруг очутилась одна посреди
каюты, и у нее не было даже разочарования, она этого ожидала.
Шесть мест: три полки одна над другой справа от нее, три слева.
«Что ж, вот так... вот так!» Ни цветов на умывальнике, ни
прикроватных ковриков; такого она и вообразить не могла. Ни стульев, ни
стола. Четверым здесь было бы тесновато, но умывальник был
чистым. Ей захотелось плакать, но даже этого не стоило делать:
потому что все было предопределено. Франс не могла путешествовать
третьим классом, это факт, от которого следовало отталкиваться,
это было неоспоримо. Так же неоспоримо, как и то, что Руби не
может ездить в поезде спиной к локомотиву. Бесполезно было
задаваться вопросом, почему Франс упорно берет билеты в третьем
классе. Франс, как всегда, не заслуживала упрека: она берет самые
дешевые билеты в третьем классе, потому что склонна к экономии
и весьма разумно заведует финансами оркестра «Малютки»; кто мог
бы ее за это упрекнуть? Мод поставила чемодан на пол; секунду-
другую она пыталась укорениться в каюте, сделать вид, будто она
здесь уже много дней. Тогда полки, иллюминатор, торчащие из
перегородок головки винтов, покрашенных в желтый цвет, — все
станет привычным и почти свойским. Она самоубеждающе
пробормотала: «Очень миленькая каюта». Но внезапно она
почувствовала себя усталой, взяла чемодан и стала между полками, не зная,
что делать: «Если мы здесь останемся, нужно распаковать вещи, но
мы, определенно, не останемся, и если Франс увидит, что я начала
устраиваться, она из духа противоречия непременно захочет куда-
нибудь перейти». Мод ощутила себя гостьей в этой каюте, на этом
пароходе, на этой земле. Капитан был высокий, полный,
седовласый. Она вздрогнула и подумала: «Нам наверняка здесь будет
хорошо вчетвером, если только мы будем одни». Но достаточно было
одного взгляда, чтобы утратить эту надежду: на правой полке уже
стоял багаж: ивовая корзина, закрытая ржавой сеткой, и фанерный
чемодан — даже не фанерный, а картонный — с расползающимися
углами. В довершение всего Мод услышала неясный звук, подняла
голову и увидела лежащую на правой верхней полке женщину лет
тридцати, очень бледную, с зажатыми ноздрями и закрытыми
глазами. Все кончено. Он посмотрел на ее ноги, когда она шла по
палубе; он курил сигару, она хорошо знала подобных мужчин, пахну-
ОТСРОЧКА
415
щих сигарами и одеколоном. Что ж, завтра девушки выйдут,
шумные и накрашенные, на палубу второго класса, пассажиры
устроятся, перезнакомятся и выберут себе шезлонги, Руби будет идти
выпрямившись, с высоко поднятой головой, смеющаяся и близорукая,
покачивая бедрами, а Дусетта заботливо скажет: «Ну иди же, мой
волчонок, ведь так хочет капитан». Господа, хорошо устроившиеся
на палубе с пледами на коленях, проследят за ними холодным
взглядом, женщины их глумливо оценят, а вечером в коридорах они
встретят каких-нибудь галантерейных джентльменов,
распускающих руки. «Остаться, Боже мой! Остаться здесь, меж этих
покрашенных в желтый цвет четырех жестяных стен. Боже мой, ведь мы
рассчитывали быть одни!»
Франс толкнула дверь, за ней вошла Руби. «Багажа еще нет?» —
спросила Франс как можно громче.
Мод знаком призвала ее замолчать, показав на больную. Франс
подняла большие светлые безресничные глаза на верхнюю полку;
лицо ее оставалось властным и бесстрастным, как обычно, но Мод
поняла, что партия проиграна.
— Тут неплохо, — с жаром сказала Мод, — каюта почти
посередине: меньше чувствуется качка.
Руби только пожала плечами. Франс равнодушно спросила:
— Как разместимся?
— Как захотите. Я могу занять верхнюю полку, — с готовностью
предложила Мод.
Франс не могла уснуть, если чувствовала, что под ней спят еще
двое.
— Посмотрим, — сказала она, — посмотрим...
У капитана были светлые холодные глаза и красноватое лицо.
Открылась дверь, и появилась дама в черном. Она пробормотала
несколько слов и села на свою полку между чемоданом и корзиной.
Лет пятидесяти, очень бедно одета, землистое морщинистое лицо и
выпученные глаза. Мод посмотрела на нее и подумала: «Кончено».
Она вынула из сумочки помаду и стала подкрашивать губы. Но
Франс покосилась на нее с таким величественно-самодовольным
видом, что Мод, разозлившись, бросила помаду обратно в сумочку.
Наступило долгое молчание, которое было Мод уже знакомо: оно
царило в похожей каюте, когда «Сен-Жорж» увозил их в Танжер, а
годом раньше — на «Теофиле Готье», когда они ехали играть в «По-
литейоне» Коринфа. Молчание вдруг было нарушено странными
гнусавыми звуками: дама в черном вынула платок и, развернув,
416
Жан Поль Сартр
приложила его к лицу: она тихо, безостановочно плакала, и,
казалось, это будет длиться вечно. Через некоторое время она открыла
корзину и вынула ломоть хлеба с маслом, кусок жареной баранины
и завернутый в салфетку термос. Она принялась, плача, есть,
открыла термос и налила горячего кофе в стаканчик, рот ее был набит,
крупные блестящие слезы катились по ее щекам. Мод посмотрела
на каюту другими глазами: это был зал ожидания, всего-навсего зал
ожидания на унылом провинциальном вокзальчике. Только бы не
было хуже. Она зашмыгала носом и откинула голову, чтобы не
потекла тушь на ресницах. Франс искоса холодно наблюдала за ней.
— Здесь слишком тесно, — громко сказала Франс, — нам здесь
будет скверно. В Касабланке мне пообещали, что мы будем одни в
шестиместной каюте.
Обстановка изменилась. В воздухе витало что-то зловещее и
немного торжественное; Мод робко предложила:
— Можно доплатить за билеты...
Франс не ответила. Усевшись на полу слева, она, казалось,
размышляла. Вскоре лицо ее прояснилось, и она весело сказала:
— Если мы предложим капитану дать бесплатный концерт в
салонах первого класса, может, он согласится, чтобы наш багаж
перенесли в более комфортабельную каюту?
Мод не ответила: слово было за Руби.
— Блестящая идея! — живо откликнулась Руби.
Мод вдруг встрепенулась. Она повернулась к Франс и
взмолилась:
— Действуй, Франс! Ты у нас главная, тебе и идти к капитану
— Нет, моя дорогая, — игриво возразила Франс. — Ты что,
хочешь, чтобы такая старуха, как я, пошла к капитану? Он будет
гораздо любезнее с милашкой вроде тебя.
Краснолицый здоровяк с седыми волосами и серыми глазами.
Он, должно быть, до болезненности чистоплотен, так всегда бывает.
Франс протянула руку и нажала на кнопку звонка:
— Лучше сразу все уладить, — сказала она. Женщина в черном
все еще плакала. Внезапно она подняла голову и, казалось, только
сейчас заметила их присутствие.
— Вы собираетесь сменить каюту? — встревожилась она.
Франс холодно оглядела ее. Мод живо ответила:
— У нас много багажа, мадам. Нам здесь будет неудобно, и мы
стесним вас.
ОТСРОЧКА
417
— Нет-нет, вы меня не стесните! — возразила женщина. — Я
люблю компанию.
В дверь постучали. Вошел стюард. «Ставки сделаны», —
подумала Мод. Она вынула помаду и пудреницу, подошла к зеркалу и
стала старательно краситься.
— Спросите, пожалуйста, у капитана, — сказала Франс, — не
найдется ли у него минутка, чтобы принять мадемуазель Мод Дас-
синьи из женского оркестра «Малютки».
— Нет, — ответил стюард, — нет. Держу пари, что нет.
Плетеные кресла, тень платанов. Даниель полоскался в
допотопных докучных воспоминаниях; в Виши в 1920 году он задремал
в плетеном кресле под высокими деревьями парка, на его губах была
такая же вежливая улыбка, и его мать вязала рядом с ним, а сейчас
Марсель вязала рядом с ним пинетки для ребенка, она с
отрешенным видом думала о войне. Вечное жужжание большой мухи,
сколько воды утекло со времени Виши, а эта муха все еще жужжала,
пахло мятой; за их спиной в гостиной кто-то играл на фортепьяно
уже лет двадцать, а может, и сто. Немного солнца на пальцах,
золотящего волоски фаланг, немного солнца на дне пустой чашки в
лужице кофе и кусочке сахара, коричневом и пористом. Даниель
раздавил сахар из мрачного удовольствия почувствовать под
ложечкой этот скрежет сладкого песка. Сад мягко скользил к реке,
вода была тепла и медлительна, запах нагревшихся растений и
«Ревю де де монд», забытая месье де Летранжем, отставным
полковником, на столе по другую сторону крыльца. Смерть, вечность,
которой не избежать, сладкая, вкрадчивая вечность; зеленые
пыльные листья над головами; извечный ворох палой листвы. Эмиль,
единственный, кто был здесь жив, копал под каштанами. Это был
сын хозяев, он бросил рядом с собой, на краю ямы, мешок из серого
холста. В мешке лежала Зизи, околевшая собака: Эмиль рыл для нее
могилу, на его голове была большая соломенная шляпа; пот блестел
на голой спине. Низкорослый паренек, грубый и ничтожный, с
топорным лицом — валуном с двумя горизонтальными мшистыми
щелями вместо глаз, ему было семнадцать лет, он уже задирал
подолы девицам, был местным чемпионом по бильярду и курил
сигары: но у него было такое незаслуженно восхитительное тело.
— Ах! — сказала Марсель, — если бы я решилась вам поверить...
Естественно. Естественно, она не решается ему верить. Но в
сущности, что ей за дело до войны? Она будет по-прежнему нагуливать
418
Жан Поль Сартр
жирок в какой-нибудь сельской глуши. Но скоро ли она уберется
отсюда? Она пропускает час послеполуденного отдыха. Паренек
нажимал ногой на лопату и наваливался изо всех сил; что если
ласково положить руки ему на бедра и приподнимать их, едва надавливая,
как массажист, в то время как он копает, коснуться работающих
мышц спины, спрятать кончики пальцев во влажной тени
подмышек; его пот пахнет чабрецом. Даниель выпил глоток сока.
— Хорошо, если бы все так и было, — сказала Марсель. — Но
ведь уже начинается мобилизация.
— Но, моя дорогая Марсель, как вы можете позволить так
обмануть себя? Home Fleet* сделает небольшой вояж по Северному
морю, во Франции мобилизуют двести тысяч человек, Гитлер
сосредоточит на чешской границе четыре танковых дивизии. А потом
эти господа, вдоволь натешившись, смогут спокойно беседовать,
усевшись вокруг стола.
Женские тела прилипают. Резина, мясо без костей, в руках
всегда больше, чем нужно. Это же прекрасное тело вызывает
вожделение скульптора, его хочется ваять. Даниель резко выпрямился в
кресле и обратил на Марсель сверкающие глаза. «Только не это, не
этот расслабленный порок, у меня еще не тот возраст. Я пью сок, я
серьезно рассуждаю о грядущей войне, а в это время взгляд
рассеянно скользит по молодой обнаженной спине, по немного
напряженным бедрам, упивается всеми усладами летнего дня. Пусть она
грянет! Пусть грянет эта война, пусть она придет укротить мои
глаза, затушить их, пусть она всем им наконец покажет их грязные,
кровоточащие, изуродованные тела, пусть она окончательно
оторвет меня от всего вечного, от вечных вялых желаний, от вечных
улыбок, от вечной листвы, от вечного жужжания мух, огненный
гейзер поднимается к небу, пламя, обжигающее лицо и глаза, пусть
покажется, будто вырвало щеки, пусть придет, наконец, безымянное
мгновение, не похожее ни на одно другое».
— Но послушайте, — сказала Марсель с нежной
снисходительностью, она вовсе не ценила его политическую проницательность, —
Германия не может отступить, не так ли? А мы уже дошли до
предела в своих компромиссах. Что же дальше?
— Не бойтесь, — горько сказал Даниель. — Предела нашим
компромиссам нет. И потом, Германия может позволить себе роскошь
отступить, кто осмелится назвать это отступлением? Это назовут
великодушием.
* Внутренний флот (англ.).
ОТСРОЧКА
419
Эмиль выпрямился, вытер лоб тыльной стороной ладони, его
подмышка пламенела на солнце, он, улыбаясь, смотрел в небо, как
молодой бог. Молодой бог! Даниель царапнул ручку кресла:
сколько раз, Господи, сколько раз он говорил «молодой бог», созерцая
юношу в лучах солнца. Тривиальные словечки старого
гомосексуалиста, я педераст, он говорил себе и это, и это тоже были лишь
слова, они его не трогали, и вдруг он подумал: «Что может изменить
война?» Он будет сидеть на краю бруствера во время затишья, будет
рассеянно смотреть на голую спину молодого солдата, роющего
киркой землю или ищущего вшей, губы Даниеля сами собой снова
будут шептать: молодой бог; от себя никуда не денешься.
— Да и что из того! — резко сказал он. — Почему мы об этом
непрестанно думаем? Даже если будет война, это не должно
занимать нас более всего остального.
— Даниель! — казалось, Марсель была ошеломлена. — Как вы
можете так говорить? Ведь это будет... это будет ужасно.
Слова. Опять слова.
— Весь ужас в том, — улыбаясь, сказал Даниель, — что в мире
нет ничего слишком ужасного. Мир — это царство середины.
Марсель немного удивленно посмотрела на него, у нее были
мутные покрасневшие глаза. «Ее одолевает сон», — с
удовлетворением подумал Даниель.
— Если бы вы говорили только о моральных муках, я бы это еще
поняла. Но, Даниель! Есть еще и физические муки...
— Вот-вот! — сказал Даниель, грозя ей пальцем. — Вы уже
думаете о ваших предстоящих муках. Что ж, скоро вы убедитесь, что
и тут все преувеличено. Скоро убедитесь!
Подавив зевок, Марсель улыбнулась ему.
— Итак, — сказал он, вставая, — не мучьте себя, Марсель.
Видите, вы чуть не пропустили время послеобеденного сна. Вы слишком
мало спите; в вашем положении нужно спать как можно больше.
— Я недостаточно сплю? — зевая и смеясь в одно и то же время,
сказала Марсель. — Скорее наоборот, мне стыдно, что я ничего не
читаю и целые дни провожу в постели.
«К счастью», — подумал Даниель, целуя ей кончики пальцев.
— Могу спорить, — сказал он, — вы не написали вашей матери.
— Это правда, — сказала она, — я плохая дочь. — Она зевнула и
добавила: — Напишу ей перед тем, как лечь.
— Нет, нет! — живо запротестовал Даниель. — Ложитесь
немедленно. Я сам черкну ей несколько слов.
420
Жан Поль Сартр
— Даниель! — воскликнула Марсель сконфуженно и
восхищенно. — Письмо от зятя, она будет так этим гордиться!
Она, пошатываясь, поднялась на крыльцо, а Даниель снова
уселся в кресло. Он зевнул, время текло, он заметил, что
прислушивается к фортепьяно. Он посмотрел на часы: было двадцать пять
минут четвертого. Марсель спустится в шесть часов, чтобы
прогуляться для аппетита. «В моем распоряжении два с половиной
часа», — сказал он себе опасливо. Когда-то одиночество было для
него как воздух, которым дышишь, не замечая его. Теперь оно было
ему даровано лихорадочными урывками, и он не знал больше, что
с ним делать. «Но самое поразительное, что я, пожалуй, скучаю
меньше, когда Марсель здесь. Ты этого хотел, — сказал он себе, — ты
этого хотел!» На дне стакана оставалось немного сока, он его допил.
Тем июльским вечером, когда он решил на ней жениться, он
задыхался от тревоги, предчувствуя, что погружается в какой-то
кошмар. И все ради того, чтобы закончить этим плетеным креслом,
привкусом слегка прокисшего сока во рту, этой обнаженной спиной.
Так же будет и на войне. Ужас всегда откладывается на завтра. Я
женат, я солдат, везде только я. Даже не я: череда кратких
эксцентричных гонок, мелкие центробежные движения, но центра-то и
нет. Впрочем, центр есть. Центр один: я, я — и ужас в центре центра.
Он поднял голову, муха жужжала на уровне глаз, он отогнал ее. Еще
одно бегство. Незначительное движение руки, почти ничего, и он
уже удирал от себя самого; что для меня значит эта муха? Быть из
камня, неподвижным, бесчувственным, ни жеста, ни шума, быть
слепым и глухим, мухи, уховертки, божьи коровки будут ползать
взад и вперед по моему телу, свирепая статуя с пустыми
глазницами, предмет, не имеющий ни планов, ни забот: может быть, тогда
мне удастся совпасть с самим собой, не для того, чтобы принять
себя, нет, только не это: чтобы стать наконец беспримесным
объектом своей ненависти. Произошел разрыв, четыре ноты полонеза,
молния этой спины, зуд в большом пальце, потом он собрал себя
снова по частям. Быть тем, чем я являюсь, быть педерастом,
злыднем, трусом, быть, наконец, этой грязью, которой не удается даже
вполне существовать. Он сдвинул колени, положил ладони на
бедра, ему захотелось смеяться: «Вот уж, должно быть, у меня
благопристойный вид», но тут же пожал плечами: «Дурак! Больше не
заботиться о том, как я выгляжу, больше не смотреть на себя, ведь
именно когда я смотрю на себя, я неизбежно раздваиваюсь. Быть. В
темноте, вслепую. Быть педерастом, как дуб есть дуб. Погаснуть.
ОТСРОЧКА
421
Загасить свой внутренний взгляд». Он подумал: «Загасить». Слово
раскатилось, как гром, и отразилось в огромных пустых залах.
Изгнать слова, они размножаются, как мыши, и каждое назначает ему
свидание в конце него самого... Еще один разрыв. Даниель ощутил
себя сонным скучающим человеком, у него всего два часа впереди,
и он развлекается как может. Быть таким, каким они меня видят,
каким меня видит Матье — и Ральф в своей гнусной черепушке;
надо прогнать слова, как комаров; он начал мысленно считать: раз,
два — в голове у него мелькнуло: развлечение дачника. Но он стал
считать быстрее, он сблизил звенья цепи, и слова больше не
проходили. Пять, шесть, семь, восемь, подводные глубины, образ был
там, притаившийся, отвратительный, завсегдатай дна жизни,
морской паук, он расцветал, двадцать два, двадцать три. Даниель
заметил, что сдерживает дыхание; он его отпустил, двадцать семь,
двадцать восемь, тот все еще копал там, наверху, на поверхности;
образ: это была зияющая рана, горестный рот, он кровоточил, это я,
я — две раздвинутые губы, и кровь, булькающая между губами,
тридцать три, образ был для него привычным, и тем не менее он
ощутил его впервые. Необходимо изгнать и образы; его охватил
странный и легкий страх. Скользить, поддаться скольжению, как
будто хочешь уснуть. Сейчас я усну! Он встрепенулся, всплыл на
поверхность. Какая тишина вовне; эта расплющивающая,
полумертвая тишина, которую он тщетно искал в себе, она была здесь, вне
его, она наводила страх. Рассеянное солнце покрывало землю
бледными подвижными кругами, околевшая собака, этот шум реки в
верхушках деревьев, голая спина, такая близкая и такая далекая, он
почувствовал себя таким ужасно чужим, что позволил себе снова
уйти, он потек назад, теперь он видел сад внизу, как ныряльщик,
который поднимает голову и смотрит на небо сквозь воду. Без шума,
без голоса, какая тишина вокруг него, сверху, снизу, и он один,
маленькое болтливое отверстие среди мертвой тишины. Раз, два, три,
изгнать слово, пересекающее тишину сада, которое сходится и
соединяется во мне, надо выровнять дыхание. Медленно, глубоко,
чтобы каждая воздушная колонна прижала, как кнопку, слова,
пытающиеся родиться. Быть как дерево, как голая спина, как
мерцающие лунки на розовой земле. Надо закрыть глаза: они уводят
слишком далеко, прочь от мгновения, прочь от меня, они уже там, на
листве, на голой спине; затравленный, тайный, ускользающий
взгляд всегда на оконечности себя, он щупает на расстоянии. Но
Даниель не осмелился опустить веки: Эмиль, должно быть, время
422
Жан Поль Сартр
от времени смотрел на него снизу: наверно, у него вид пожилого
господина, охваченного послеобеденной дремотой; сосредоточиться
на предмете, скорее, дать пищу взгляду, сковать его, накормить и
проскользнуть в глубь самого себя, освобожденного от глаз в моей
густой тьме: он уставился на клумбу слева, большое зеленое
застывшее движение: остановившаяся волна в момент, когда она
рассыпается, потерявшийся взгляд, блуждающий с одного листа на
другой и растворяющийся в этом растительном хаосе. Раз (вдох),
два (выдох), три (вдох), четыре (выдох). Он, вращаясь, спускается,
на ходу им овладевает щекочущее желание смеяться, я изображаю
дервиша, если только не проглочу язык, но язык уже над ним, Да-
ниель погружается, встречая разорванные слова: Страх, Вызов уже
на поверхности. Вызов ясному небу, он думает о нем безобразно,
бессловесно, небо должно открыться, как отверстие водостока. Под
лазурью горький протест, тщетная мольба, Eli, Eli, lamma sabactane*,
это были последние слова, которые он встретил, они поднимались,
как легкие пузырьки, зеленое изобилие клумбы было там, не
увиденное, не названное, полнота присутствия перед его глазами, это
приближается, это приближается. Это разрезало его, как серпом,
это было необычное, приводящее в отчаяние, восхитительное.
Открытый, открытый, стручок лопается, открытый, открытый, сам
удовлетворенный вечностью, педераст, злыдень, трус. Я вижу. Нет:
на меня смотрят. Нет, даже иначе: меня видят. Он был объектом
взгляда. Взгляда, который обыскивал его до глубин, проникал в
него ударом ножа и не был его взглядом; непрозрачный взгляд,
сама ночь, которая ждала его там, в глубине его самого, труса,
лицемера, педераста навечно. И он сам, трепещущий под этим
взглядом и бросающий вызов этому взгляду. Взгляд. Ночь. Так, словно
сама ночь была взглядом. Я видим. Прозрачен, проницаем,
просверлен насквозь. Но кем? «Я не один», — громко сказал Даниель.
Эмиль выпрямился.
— Что случилось, месье Серено? — спросил он.
— Я вас спрашивал, скоро ли вы закончите.
— Дело движется, — ответил Эмиль, — еще пара минут.
Он не торопился сызнова копать, с дерзким любопытством
смотрел он на Даниеля. Даниель встал, от страха его била дрожь:
— Не утомительно копать на солнце?
— Я к этому привычный, — сказал Эмиль.
* Господи, почто ты меня оставил (древнеевр.) — мольба Христа на
Голгофе.
ОТСРОЧКА
423
У него была прелестная грудь, немного жирная, с двумя
махонькими розовыми пупырышками; он облокотился на лопату с
вызывающим видом; в трех шагах... Даниель испытал странное
наслаждение, более терпкое, чем обыкновенное сладострастие; этот
Взгляд.
— А для меня слишком жарко, — сказал Даниель, — я пойду в
дом немного отдохнуть.
Он слегка наклонил голову и поднялся по крыльцу. Во рту у
него было сухо, но он решил: в своей комнате, задернув шторы,
закрыв ставни, он возобновит эксперимент.
Семнадцать часов пятнадцать минут в Сен-Флуре. Госпожа
Аннекен провожала мужа на вокзал, они пошли по крутой
тропинке. Аннекен в спортивном костюме с рюкзаком через плечо; он
надел новые туфли, которые ему жмут. На полпути они встретили
госпожу Кальве. Она остановилась у дома нотариуса, чтобы
немного отдышаться.
— Ах! Бедные мои ноги, — сказала она, заметив их. — Совсем
становлюсь старухой.
— Вы свежи как никогда, — возразила госпожа Аннекен, —
немногие поднимаются по тропинке, не отдохнув.
— И куда вы так спешите? — спросила госпожа Кальве.
— Увы, Жанна! — воскликнула госпожа Аннекен. — Я провожаю
мужа. Он уезжает, его призвали!
— Не может быть, — сказала госпожа Кальве. — А я и не знала!
Но ничего не поделаешь! — Господину Аннекену показалось, что
она смотрит на него с особым интересом. — Это, должно быть,
нелегко, — добавила она, — уезжать в такой прекрасный день.
— Пустяки! — отозвался Аннекен.
— Он очень мужественный человек, — заметила его жена.
— В добрый час! — напутствовала госпожа Кальве, улыбаясь
госпоже Аннекен. — Именно это я говорила мужу вчера: французы
будут вести себя мужественно.
Аннекен почувствовал себя молодым и отважным.
— Простите, — извинился он, — но нам пора.
— До скорой встречи, — сказала госпожа Кальве.
— До скорой ли... — покачала головой госпожа Аннекен.
— Да, до скорой встречи, до скорой встречи! — с упором
повторил Аннекен.
Они продолжили путь, Аннекен шел быстро, и жена
приостановила его:
424
Жан Поль Сартр
— Тише, Франсуа, — у меня же сердце, я за тобой не поспеваю.
Они встретили Мари, сын которой служил в армии. Аннекен
крикнул ей:
— Что передать вашему сыну, Мари? Может, я его встречу: я
снова солдат.
Мари, казалось, была поражена.
— Иисусе! — всплеснула она руками.
Аннекен помахал ей на прощание рукой, и они вошли в здание
вокзала.
Билеты пробивал Шарло.
— Ну как, месье Аннекен, — спросил он, — на этот раз будет
большой бум-бум?
— Зим-бадабум, румба любви, — ответил Аннекен, протягивая
ему билет.
Господин Пино, нотариус, был на перроне. Он крикнул им
издалека:
— Что, едем в Париж пострелять барышень?
— Да, — в тон ему ответил Аннекен, — или нас постреляют в
Нанси. — И серьезно добавил: — Меня мобилизовали.
— Ах, вот как! — воскликнул нотариус. — Вот как! У вас что,
военный билет №2?
-Нуда!
— Смотрите-ка! — сказал он. — Ну, ничего. Скоро вернетесь, все
это больше для вида.
— Я в этом не уверен, — сухо ответил Аннекен. — Знаете ли, в
дипломатии бывают такие повороты, когда начинают фарсом, а
кончают кровью.
— А... Вы что, готовы сражаться за чехов?
— За чехов или не за чехов, сражаются всегда понапрасну, —
ответил Аннекен.
Рассмеявшись, они распрощались. Парижский поезд уже
входил в вокзал, но господин Пино успел поцеловать руку госпоже
Аннекен.
Аннекен поднялся в вагон без помощи рук. Он со всего размаха
швырнул рюкзак на скамью, вернулся в коридор, опустил стекло и
улыбнулся жене.
— Ку-ку, вот и я! Я славно устроился, — сказал Аннекен. —
Места в купе много. Если так будет дальше, я смогу вытянуть ноги и
посплю.
— В Клермоне наверняка сядет уйма людей.
ОТСРОЧКА
425
— Боюсь, что да.
— Ты мне будешь писать? — спросила она. — Небольшое
письмецо каждый день; не обязательно подробное.
— Договорились.
— Умоляю, не забывай надевать фланелевый пояс.
— Клянусь, — отчеканил он с комической торжественностью.
Он выпрямился, пересек коридор и спустился на подножку.
— Поцелуй меня, старушка.
Он сам поцеловал ее в толстые щеки. Она пролила две слезинки.
— Боже мой! — сказала она. — Вся эта... вся эта суета!
Только ее нам недоставало.
— Ну! Ну! — сказал он. — Тш! Тш! Уж не хочешь ли ты...
Они замолчали. Он улыбался, она смотрела на него, улыбаясь
сквозь слезы, им больше нечего было друг другу сказать. Аннекену
захотелось, чтобы поезд тронулся как можно скорее.
Семнадцать часов пятьдесят две минуты в Ниоре. Большая
стрелка башенных часов толчками перемещается каждую минуту,
немного подрагивает и останавливается. Поезд черный, вокзал
черный. Копоть. Она настояла на проводах. Из чувства долга. Я ей
сказал: «Не стоит приходить». Ее это покоробило: «Еще чего,
Жорж! И не думай!» Я попросил: «Только ненадолго, не оставляй
малышку одну». Она ответила: «Я попрошу мамашу Корню
последить за ней. Посажу тебя в поезд и сразу вернусь». Теперь она здесь,
я высовываюсь в окно своего купе и смотрю на нее. Хочется курить,
но я не решаюсь: мне это кажется неприличным. Она смотрит в
конец перрона, прикрыв от солнца рукой глаза. Время от времени
она вспоминает, что я здесь и что смотреть надо на меня. Она
поднимает голову, переводит взгляд на меня, она мне улыбается. По
существу, ей нечего мне сказать. Фактически я уже уехал.
— Кому подушки, одеяла, апельсины, лимонад, бутерброды?
— Жорж!
— Да, родная?
— Хочешь апельсинов?
Мой рюкзак и так набит битком. Но ей хочется дать мне еще
что-нибудь — ведь я уезжаю. Если я откажусь, ее будут мучить
угрызения совести. Я не люблю апельсины.
— Нет, спасибо.
-Нет?
— Нет, не нужно. Ты очень добра.
426
Жан Поль Сартр
Бледная улыбка. Я только что поцеловал эти красивые щеки,
холодные и тугие, и уголок этой улыбки. Она меня поцеловала
тоже, это меня смутило: к чему столько волнений? Поскольку я
уезжаю? Но другие уезжают тоже. Правда, их тоже целуют.
Сколько прекрасных женщин, которые вот так стоят под лучами
заходящего солнца, в дыму и копоти, обращают накрашенную улыбку к
мужчинам, высунувшимся из окна вагона! Не слишком ли все это?
Должно быть, мы немного смешны: она слишком красивая,
слишком отрешенная, я слишком некрасив.
— Пиши мне, — говорит она, — она это уже говорила, но нужно
же как-то заполнить время, — пиши так часто, как только сможешь.
Не обязательно подробно...
Это не будет слишком подробно... Мне нечего будет ей сказать,
со мной ничего не случится, со мной никогда ничего не случается.
И потом, я уже видел, как она читает письма. У нее в эти минуты
такой прилежный, значительный и скучающий вид; нацепив на
кончик носа очки, она читает вслух вполголоса и постоянно
умудряется перескакивать через строчки.
— Бедный мой, сейчас мы расстанемся. Попытайся этой ночью
хоть немного поспать.
Ничего не поделаешь, нужно же что-то говорить. Но она
прекрасно знает, что я никогда не сплю в поезде! Скоро она повторит
это мамаше Корню: «Он уехал, поезд переполнен. Бедный Жорж,
надеюсь, ему все же удастся поспать».
Она с несчастным видом озирается; большая соломенная шляпа
покачивается на ее голове. Рядом с ней остановилась юная пара.
— Мне пора уходить. Из-за малышки. — Она сказала это с
нажимом — ради них. Они внушают робость, потому что красивы. Но
пара не обращает на нее внимания.
— Да, родная. До свидания. Иди скорее. При первой же
возможности я напишу.
Под занавес все-таки крохотная слезинка. Зачем, Боже мой,
зачем? Она мешкает. А если вдруг она протянет ко мне руки, если
скажет: «Все это только недоразумение, я люблю тебя, я люблю
тебя!»
— Не простудись.
— Постараюсь. До свидания.
Она все же уходит. Слегка махнула на прощание рукой, ясный
взгляд, и вот она удаляется, медленно, немного покачивая
красивыми упругими бедрами, семнадцать часов пятьдесят пять минут. Я
ОТСРОЧКА
427
больше не хочу курить. Юная пара осталась на перроне. Я смотрю
на них. Он держит рюкзак, они говорят о Нанси: он тоже
призывник. Я смотрю на их руки, на их красивые пальцы, на которых нет
обручальных колец. Женщина бледна, высока, стройна, у нее
растрепанные черные волосы. Он — высокий блондин с золотистой
кожей, его голые руки высовываются из шелковой голубой
рубашки с короткими рукавами. Хлопают дверцы, они этого не слышат;
они даже не смотрят больше друг на друга, им не нужно больше друг
на друга смотреть, они друг в друге.
— По вагонам!
Она молча вздрагивает. Он ее не целует, он заключает в ладони
ее прекрасные голые руки на высоте плеч. Ладони медленно
скользят вниз, они останавливаются на ее запястьях, худых хрупких
запястьях. Кажется, что он сжимает их изо всех сил. Она не
сопротивляется, ее руки неподвижно повисли, лицо оцепенело.
— По вагонам!
Поезд трогается, он прыгает на подножку и стоит, уцепившись
за медные поручни. Она повернулась к нему, солнце выбеливает ее
лицо, она щурит глаза, улыбается. Широкая и теплая улыбка, такая
доверчивая, такая спокойная и такая нежная; невозможно, чтобы
человек, каким бы красивым и сильным он ни был, уносил
подобную улыбку для себя одного. Она меня не замечает, она видит
только его, она щурит глаза, борется с солнцем, чтобы еще мгновение
лицезреть его. Но я ей улыбаюсь, я отвечаю на ее улыбку.
Восемнадцать часов. Поезд выходит с вокзала и погружается в солнце, все
стекла блестят. Она осталась на перроне, совсем маленькая и
печальная. Вокруг нее машут платками. Она не двигается, не машет
платком, ее руки повисли вдоль тела, но она улыбается, она вся в
улыбке. Она, безусловно, улыбается до сих пор, хотя ее улыбки
больше не видно. Но сама она еще видна. Она там для него, для всех,
кто уезжает, и для меня тоже. Моя жена уже в нашем тихом доме,
она сидит рядом с малышкой, тишина и мир восстанавливаются
вокруг нее. Я же уезжаю, бедный Жорж, он уехал, надеюсь, ему
удастся уснуть, я уезжаю, я погружаюсь в солнце, и я изо всех сил
улыбаюсь маленькой темной фигурке, которая осталась вдалеке на
перроне.
Восемнадцать часов десять минут. Питто прохаживается по
улице Кассетт, у него на восемнадцать часов назначено свидание,
он смотрит на свои часы — восемнадцать десять, через пять минут
я поднимусь. В пятистах двадцати восьми километрах к юго-востоку
428
Жан Поль Сартр
от Парижа Жорж, облокотившись на подоконник, скользит
взглядом по пастбищам, смотрит на телеграфные столбы, потеет и
улыбается, Питто говорит себе: «Какой еще фортель выкинул этот
маленький мудак?» Его пронзило сильное желание подняться,
позвонить и закричать: «Что он еще натворил? Я тут ни при чем!» Но он
заставил себя повернуть назад, дойду до первого газового фонаря,
а там будет видно. Спокойствие, надо идти не торопясь, он даже
упрекал себя, что пришел, надо было ответить на фирменном
бланке: «Мадам, если вы желаете со мной поговорить, я каждый день у
себя в кабинете, с десяти до двенадцати». Он повернулся спиной к
фонарю и невольно ускорил шаг. Париж: пятьсот восемнадцать
километров, Жорж вытер лоб, он боком, как краб, скользил в
сторону Парижа, Питто думал: «Это мерзкое дело», он почти бежал,
поезд был за его спиной, он повернул на улицу де Ренн, вошел в дом
номер семьдесят один, поднялся на четвертый этаж и позвонил; в
шестистах тридцати восьми километрах от Парижа Аннекен
смотрел на ноги своей соседки, полные и округлые, немного волосатые,
в чулках из искусственного шелка; Питто позвонил, он ждал на
лестничной площадке, вытирая лоб, Жорж вытирал лоб, вагон
грохотал; какую глупость он натворил, это гнусная история, Питто
стало трудно глотать, пустой желудок урчал, но Питто держался
очень прямо, он напряженно поднял голову, слегка раздувая ноздри,
и на лице появилась его обычная безобразная гримаса, дверь
открылась, поезд Аннекена нырнул в тоннель, Питто нырнул в
прохладную темноту прихожей, там удушливо пахло пылью, горничная
ему сказала: «Будьте любезны войти!», кругленькая надушенная
женщина с обнаженными вялыми руками, мягкая свежая вялость
сорокалетней плоти, с белой прядью в черных волосах, бросилась к
нему, он почувствовал ее спелый запах.
— Где он?
Он поклонился, она перед этим плакала. Соседка Аннекена
сняла ногу с ноги, и он увидел кусочек ляжки над подвязкой,
Питто снова безобразно скривился и сказал:
— О ком вы говорите, мадам?
— Где Филипп?
Он почувствовал себя почти растроганным, может, она сейчас
заплачет, ломая красивые руки, женщина ее круга наверняка бреет
подмышки.
Мужской голос заставил его вздрогнуть, он исходил из глубины
прихожей.
ОТСРОЧКА
429
— Моя дорогая, мы только теряем время. Если месье Питто
соблаговолит зайти в мой кабинет, мы введем его в курс дела.
Ловушка! Он вошел, дрожа от бешенства, нырнул в
ослепительный зной, поезд вышел из тоннеля, стрела ослепительного света
проникла в купе. Они, естественно, сели спиной к свету, а я к свету
лицом. Их было двое.
— Я генерал Лазак, — представился массивный мужчина в
военной форме. Он кивнул на своего соседа, флегматичного гиганта,
и добавил:
— А это месье Жарди, врач-психиатр, он любезно согласился
обследовать Филиппа и немного наблюдал за ним.
Жорж вернулся в купе и сел, маленький брюнетик наклонился
вперед, он походил на испанца, он говорил: «Ваш хозяин вам
поможет, я за вас рад, но это бывает только у чиновников и служащих.
А у меня нет постоянного заработка, я официант кафе, у меня
чаевые — вот и весь мой навар. Вы мне говорите, что все скоро
кончится, что это только чтоб их попугать, хорошо бы так, но, если это
продлится месяца два, что будет есть моя жена?»
— Мой пасынок Филипп, — сказал генерал, — ушел из дома рано
утром, не предупредив нас. Часов в десять его мать нашла на столе
в столовой эту записку. — Он протянул ее Питто через секретер и
властно добавил: — Прошу ознакомиться.
Питто с отвращением взял записку, этот мерзкий, неровный
мелкий почерк с помарками и кляксами, этот сопляк приходил чуть
ли не каждый день, он подстерегал меня часами, я слышал, как он
ходил взад-вперед, а потом уходил, оставляя где попало — на полу,
под стулом, под дверью — маленькие кусочки мятой бумаги,
покрытые мушиными каракулями, Питто смотрел на почерк, не читая,
как на абсурдные и слишком знакомые рисунки, вызывающие у
него тошноту, пропади он пропадом.
«Мамочка, наступило время убийц*, я выбрал мученичество. Ты,
возможно, будешь немного огорчена, но я так решил. Филипп».
Он положил записку на письменный стол и улыбнулся:
— Время убийц! — сказал он. — Влияние Рембо оказалось
чудовищно губительным.
Генерал посмотрел на него:
— К вопросу о влияниях мы еще вернемся. Вам известно, где
мой пасынок?
— Откуда мне знать?
* Аллюзия на стихотворение А. Рембо.
430
Жан Поль Сартр
— Когда вы его видели в последний раз?
«А вот оно что! Они меня допрашивают!» — подумал Питто. Он
повернулся к госпоже Лаказ и подчеркнуто дружелюбно ответил:
— Клянусь вам, не знаю! Может быть, с неделю тому назад.
Голос генерала теперь хлестал по нему сбоку.
— Он вам сообщил о своих намерениях?
— Да нет же, — улыбаясь матери, сказал Питто. — Вы же знаете
Филиппа. Он действует чисто импульсивно. Я убежден, что еще
вчера вечером он и сам не знал, как поступит сегодня утром.
— А с тех пор, — продолжал генерал, — он вам писал или звонил?
Питто колебался, но рука уже зашевелилась, послушная,
раболепная рука, мимовольно нырнувшая во внутренний карман, рука
протянула клочок бумаги, и госпожа Лаказ жадно схватила его, я
больше не владею своими руками. Он еще владел своим лицом, он
приподнял левую бровь, и привычная безобразная гримаса
исказила его черты.
— Я получил это сегодня утром.
— «Laetus et errabundus», — старательно прочла госпожа
Лаказ. — «Во имя мира».
Поезд катился, пароход мерно покачивался, желудок Питто пел,
он тяжело встал:
— Это означает: «радостный и блуждающий», — вежливо
объяснил Питто. — Название поэмы Верлена.
Психиатр бросил на него взгляд:
— Поэма несколько специфическая.
— Это все? — спросила госпожа Лаказ.
Она вертела в руках листок.
— Увы, мадам, это все.
Он услышал резкий голос генерала:
— Чего вы еще хотите, моя дорогая? Мне это письмо кажется
абсолютно ясным, и я удивляюсь, что месье Питто утверждает,
будто он не знал намерений Филиппа.
Питто резко повернулся к нему, посмотрел на его форму, не на
лицо, а на форму, и кровь бросилась ему в голову.
— Месье, — сказал он, — Филипп подсовывал мне записочки
такого рода три или четыре раза в неделю, я в конце концов
перестал обращать на них внимание. Извините меня за прямоту, мне
хватает и других забот.
— Месье Питто, — сказал генерал — с 1937 года вы руководите
журналом под названием «Пацифист», в котором вы четко заняли
ОТСРОЧКА
431
позицию не только против войны, но также против французской
армии. Вы познакомились с моим пасынком в октябре 1917 года при
обстоятельствах, которые мне неизвестны, и приобщили его к своим
идеям. Под вашим влиянием он избрал недопустимую манеру
поведения по отношению ко мне, потому что я офицер, а также по
отношению к матери, потому что она вышла за меня замуж; он
прилюдно позволял себе делать заявления явно пацифистского
характера. И вот сегодня, в самый разгар международной напряженности,
он уходит из дому, уведомляя нас запиской, которую вы только что
прочли, что он намерен стать мучеником во имя мира. Вам тридцать
лет, месье Питто, а Филиппу нет и двадцати, таким образом, я вас
не удивлю, если скажу, что считаю вас персонально ответственным
за все, что может случиться с моим пасынком вследствие его
выходки.
«Что ж, — сказал Аннекен своей соседке, — признаюсь: я
мобилизован». «Ах, Боже мой!» — воскликнула она. Жорж смотрел на
официанта, он счел его симпатичным, ему хотелось сказать: «Я тоже
мобилизован», но он из щепетильности не осмеливался, вагон
ужасно мотало. «Я на колесах», — подумал он.
— Я отрицаю какую бы то ни было свою ответственность, —
решительно ответил Питто. — Я разделяю вашу тревогу, но тем не
менее не согласен стать для вас козлом отпущения. Филипп Грезинь
пришел в редакцию журнала в октябре 1937 года, этот факт я и не
собираюсь отрицать. Он предложил свое стихотворение, которое
показалось нам многообещающим, и мы его опубликовали в нашем
декабрьском номере. С тех пор он часто приходил, и мы всячески
старались его отвадить: на наш взгляд, он был слишком
экзальтирован, и, по правде говоря, мы не знали, что с ним делать. (Сидя на
краешке стула, он устремлял на Питто смущающий взгляд голубых
глаз, он смотрел, как тот пьет и курит, как двигаются его губы, сам
он не курил и не пил, время от времени он ковырял пальцем в носу
или ногтем в зубах, не сводя с Питто взгляда.)
— Но где он может быть? — вдруг выкрикнула госпожа Лаказ. —
Где он может быть? И чем он сейчас занят? Вы говорите о нем, как
о мертвом.
Все замолчали. Она наклонилась вперед с лицом
встревоженным и презрительным; Питто видел исток грудей в выкате ее
корсажа; генерал напряженно сидел в кресле, он ждал, он уделил
несколько минут тишины законному горю матери. Психиатр
посмотрел на госпожу Лаказ с предупредительной симпатией, словно она
432
Жан Поль Сартр
была одной из его пациенток. Затем он задумчиво покачал большой
головой, повернулся к Питто и возобновил враждебные выпады.
— Я согласен с вами, месье Питто, возможно, Филипп не вполне
понимал все ваши идеи. Но факт остается фактом: этот юноша,
весьма подверженный влияниям, безмерно вами восхищался.
— Разве это моя вина?
— Может быть, и не ваша. Но вы злоупотребляли своим
влиянием.
— Черт побери! — возмутился Питто. — Если уж вы
обследовали Филиппа, то сами знаете, что он ненормальный.
— Не совсем, — улыбаясь, сказал врач. — Несомненно, у него
тяжелая наследственность. Со стороны отца, — добавил он, бросив
взгляд на генерала. — Но его не назовешь психопатом. Это
нелюдимый, неприспособленный, ленивый и тщеславный мальчик. Тики,
фобии, естественно, с преобладанием сексуальных идей. В
последнее время он довольно часто приходил ко мне, мы беседовали, он
мне признался, что у него... как бы поделикатнее сказать? Простите
прямоту медика, — сказал он госпоже Лаказ, — короче, частые и
систематические поллюции. Я знаю, что многие мои коллеги видят
в этом только следствие, я же, как и Эскироль, усматривал бы в этом
причину. Одним словом, он трудно переживал то, что месье Ман-
дусс называет кризисом подростковой самобытности: он нуждался
в руководителе. Вы были плохим наставником, месье Питто, да,
плохим наставником.
Взгляд госпожи Лаказ, казалось, случайно упал на Питто, но он
был непереносим. Питто предпочел окончательно повернуться к
психиатру:
— Я извиняюсь перед мадам Лаказ, но раз вы меня к этому
вынуждаете, я вам определенно заявляю, что всегда считал Филиппа
законченным дегенератом. Если ему нужен был руководитель,
почему этим не занялись вы? Это ваша обязанность.
Психиатр грустно улыбнулся и, вздохнув, облизнул губы.
Она улыбалась, прислонясь к двери каюты, по всему телу
бегали мурашки, но улыбка была соблазнительна.
— Что ж, детка, — сказал капитан, — придете ко мне этак часов
в девять, и тогда я скажу вам, что смогу сделать для вас и ваших
подруг. — У него были пустые светлые глаза, обветренное лицо, он
погладил ей грудь и шею и повторил: — Итак, до встречи в девять
вечера.
ОТСРОЧКА
433
— Генерал Лаказ соизволил показать мне несколько страниц из
дневника Филиппа, и я счел своей обязанностью с ними
ознакомиться. Месье Питто, из дневника следует, что вы шантажировали
этого несчастного мальчика. Зная, насколько он жаждет вашего
уважения, вы этим воспользовались, чтобы потребовать у него
неких услуг, о которых он в своем дневнике не распространяется. В
последнее время он решил было взбунтоваться, и вы ему выказали
такое безжалостное презрение, что довели его до отчаяния.
Что они знают? Но гаев его оказался сильнее; он, в свою
очередь, улыбнулся.
Мод, улыбнувшись, поклонилась, ноги ее уже были снаружи, на
свободе, а туловище еще склонялось, ныряя в горячем и
благоухающем воздухе каюты.
— Конечно, капитан, договорились.
— Кто его привел в отчаяние? Кто его унижал каждый день?
Разве я дал ему пощечину за столом в прошлую субботу? Разве я
принимал его за больного и посылал к психиатру? Разве я
вынуждал его отвечать на унизительные вопросы?
— Вы тоже мобилизованы? — спросил официант.
Жорж улыбнулся ему с несчастным видом, но нужно было
говорить, отвечать на вопросы двух молодых женщин.
— Нет, — сказал он, — я еду в Париж по делам.
Резкий голос госпожи Лаказ заставил его вздрогнуть.
— Извольте замолчать! Извольте замолчать! Как же вы его
презираете! Вы его раздели, двадцатилетнего мальчика, вы его
замарали, а разве меня вы уважаете? Быть может, он бросился в Сену, а вы
сидите здесь и перекладываете ответственность друг на друга. Мы
все виноваты; он говорил: «Вы не имеете права доводить меня до
крайности», а мы сообща довели его до крайности.
Генерал побагровел, Мод побагровела.
— Прекрасно, — сказала она, — скоро придут взять наш багаж,
и ночь мы проведем во втором классе.
— Моя дорогая, — сказала Франс, — как видишь, все оказалось
проще, чем ты ожидала.
— Роза! — сказал он, не повышая голоса, устремив на нее
неживые глаза. Она, вздрогнув, воззрилась на него с открытым ртом.
— Это... это низко, — пробормотала она, — мне за вас стыдно.
Он протянул сильную ладонь и сомкнул ее на голой руке жены;
он невыразительно повторил:
434
Жан Поль Сартр
— Роза. — Тело мадам Лаказ обмякло, она закрыла рот, потрясла
головой и, казалось, проснулась; она посмотрела на генерала, и
генерал ей улыбнулся. Все вернулось в нормальную колею.
— Я не разделяю тревоги моей жены, — сказал он, — мой
пасынок ушел, взяв десять тысяч франков из секретера своей матери.
Трудно поверить, что он хотел покуситься на собственную жизнь.
Наступило молчание. Пароход уже немного качало; Пьер
чувствовал, как он весь обмяк, он стал перед полкой, открыл чемодан,
откуда пахнуло лавандой, зубной пастой и душистым табаком, что
вызвало у него тошноту, он подумал: «Бортпроводник сказал, будет
трудное плавание!» Генерал собирался с мыслями, у генеральши
был вид послушного ребенка, Питто недоумевал, его желудок
урчал, голова болела, он ничего не понимал; корабль поднимался, гоп,
и потом пикировал носом, пол вибрировал под ногами, воздух был
горячим и липким, Питто смотрел на генерала и не имел больше сил
его ненавидеть.
— Месье Питто, — сказал генерал, — в заключение этого
разговора я полагаю, что вы можете и должны помочь нам отыскать
моего пасынка. Пока я ограничился тем, что поднял на ноги
комиссариаты полиции. Но если через двое суток мы не найдем Филиппа,
я намерен передать дело в руки моего друга, прокурора Детерна, и
просить его одновременно выявить финансовые источники
«Пацифиста».
— Я... естественно, я постараюсь вам помочь, — сказал Питто. —
А что до наших счетов, то любой может сунуть в них нос, мы
вообще готовы их выставить на всеобщее обозрение.
Пароход скатился вниз, это были настоящие русские горки;
Питто сдавленно добавил:
— Я ...я не отказываюсь вам помочь, генерал. Хотя бы из
человечности.
Генерал слегка кивнул.
— Именно это я и имел в виду, — заключил он.
Море вздымалось тихо, украдкой, и так же опускалось, нельзя
было смотреть на полки или умывальник и не обнаружить при этом
какую-то вещь, которая поднимается или опускается, но в
иллюминатор не было видно ничего, только временами синюю темную
ленту, немного скошенную, которая касалась нижнего края
иллюминатора и сразу же исчезала; это было мелкое движение, живое и
робкое, биение сердца, сердце Пьера билось в унисон; в течение
многих часов море будет по-прежнему подниматься и опускаться;
ОТСРОЧКА
435
язык Пьера набухал во рту, как большой сочный плод; при каждом
глотке он слышал хруст хрящей где-то в ушах, железный обруч
сжимал ему виски, к тому же его не покидало желание зевать. Но
он был очень спокоен: морская болезнь наступает, только если ее
ждать. Ему нужно было всего лишь встать, выйти из каюты,
прогуляться по палубе: он придет в себя, легкая тошнота пройдет.
«Пойду к Мод», — подумал Пьер. Он поставил чемодан, держась
ровно и напряженно у края полки, это было как пробуждение.
Теперь пароход поднимался и опускался под его ногами, но желудок
и голова успокоились; вновь возник презрительный взгляд Мод — и
страх, и стыд. Я ей скажу, что был болен, легкий солнечный удар,
много выпил. Мне нужно объясниться, он будет говорить, Мод
будет сверлить его жестким взглядом, как это утомительно. Он с
трудом проглотил слюну, она проскользнула в горло с
отвратительным шелковистым звуком, и безвкусная жидкость вновь растеклась
по рту, как это утомительно, его мысли разбегались, осталась всего
лишь большая беспомощная легкость, желание тихо подниматься и
опускаться, чтобы его легко и долго тошнило, забыться на подушке,
раз-два, раз-два, без мыслей, отдаться гигантской качке мирозданья;
он вовремя опомнился: морская болезнь бывает, если сам ее ждешь.
Он ощущал себя напряженным и сухим, трусом, презираемым
любовником, будущим мертвецом наступающей войны, его вновь
охватил ледяной и нагой страх. Пьер взял второй чемодан с верхней
полки, положил его на нижнюю и начал его открывать. Он стоял
прямо, не нагибаясь, даже не глядя на чемодан, онемевшие пальцы
вслепую щупали замок; стоит ли? Стоит ли бороться? Ничего не
останется, кроме бесконечной мягкости, он не будет больше думать
ни о чем, он не будет больше бояться, достаточно только
положиться на судьбу. «Нужно пойти к Мод». Он поднял руку и провел ею в
воздухе с дрожащей и немного торжественной мягкостью. Мягкие
жесты, мягкое подрагивание моих ресниц, мягкий вкус у меня во
рту, мягкий запах лаванды и зубной пасты, пароход мягко
поднимается, мягко опускается; он зевнул, время замедлило ход и стало
вокруг него вязким, как сироп, достаточно было напрячься, сделать
три шага из каюты на свежий воздух. Но зачем? Чтобы оказаться
во власти страха? Он столкнул чемодан на пол и упал на койку.
Сироп. Сахарный сироп, у него не осталось страха, не осталось
стыда, так восхитительно отдаться морской болезни.
Он сел на край парапета, свесив над водой ноги; он утомился:
«Марсель был бы неплох, если б не столько домов». Под ним пере-
436
Жан Поль Сартр
двигались суда, это были легонькие суденышки, очень
многочисленные, с цветами или с красивыми красными занавесками и
обнаженными статуэтками.
Он смотрел на суда — одни скакали, как козы, другие были
неподвижны. Он видел совсем синюю воду, а вдалеке — большой
металлический мост; на то, что далеко, приятно смотреть, это внушает
покой. У него болели глаза: он спал под вагоном, потом пришли
какие-то люди с фонарями; они его осветили и, грубо ругаясь,
прогнали; после этого он нашел кучу песка, но так и не смог заснуть.
Он подумал: «Где я буду спать этой ночью?» Где-то тут наверняка
были хорошие места с мягкой травой. Но их нужно было знать: надо
было спросить у негра. Он захотел есть и встал, колени его
одеревенели, они хрустнули. «У меня не осталось еды, — подумал он, —
нужно пойти в харчевню». Он тронулся в путь, перед этим он шел
целый день, он входил и спрашивал: «Есть работа?» и уходил
восвояси, недаром негр сказал: «Работы нет». В городах ходить было
утомительно из-за мостовых. Он пересек наискосок набережную,
озираясь по сторонам, чтобы увертываться от трамваев, он пугался,
когда слышал их звонки. Вокруг было много людей, они шли
быстро, глядя себе под ноги, как будто что-то искали; проходя, они
толкали его, извинялись, даже не поднимая на него глаз: он бы к ним
охотно обратился, но они вызывали у него робость своей
хрупкостью. Он поднялся на тротуар и увидел кафе с красивыми
террасами, а потом несколько харчевен, но не зашел туда: на столах были
скатерти, а их рискуешь испачкать. Он повернул в угрюмый
переулок, пропахший рыбой, и подумал: «Так где же мне набить
брюхо?» — и как раз в этот момент нашел то, что нужно: он увидел
впереди приземистый домик, дюжину деревянных столов; на
каждом столе — два или четыре прибора и маленькая круглая лампа,
которая не шибко светила, скатертей не было вовсе. За одним из
столиков уже сидел какой-то господин с дамой приличного вида.
Большой Луи подошел, уселся за соседний столик и улыбнулся им.
Дама строго посмотрела на него и немного отодвинула стул.
Большой Луи подозвал официантку, это была миловидная деваха,
немного щуплая, но с крепким и очень подвижным задом.
— Что тут можно поесть, милая?
Она была симпатичная, от нее хорошо пахло, но она была не
слишком рада его видеть. Она нерешительно посмотрела на него:
— У вас есть меню, — ответила она, показывая на лист бумаги
перед ним на столе.
ОТСРОЧКА
437
— А, хорошо! — сказал Большой Луи.
Он взял лист и сделал вид, что читает, но он опасался, что
держит его вверх ногами. Официантка отошла и заговорила с
господином, стоявшим у порога. Господин слушал ее, покачивая головой и
поглядывая на Большого Луи. В конце концов он отошел от нее и с
грустным видом приблизился к Большому Луи.
— Что вам угодно, мой друг? — спросил он.
— Как что, я есть хочу, — удивился Большой Луи. — У вас же
найдется суп и кусок сала?
Господин печально покачал головой:
— Нет, супа у нас нет.
— Но у меня есть деньги. Я же не прошу в кредит.
— Я в этом не сомневаюсь, — сказал господин. — Но вы, должно
быть, ошиблись. Вам здесь будет неудобно, да и нас вы стесните.
Большой Луи уставился на него:
— Значит это не харчевня?
— Да, да. — сказал хозяин. — Но у нас своя клиентура... Вам
лучше перейти на ту сторону улицы Канебьер, там есть много
ресторанчиков, которые вам понравятся.
Большой Луи встал. Он в замешательстве почесал затылок.
— Но у меня есть деньги, — сказал он. — Я могу вам их показать.
— Нет, нет! — живо возразил господин. — Я верю вам на слово.
Он предупредительно взял его под руку и принудил сделать
несколько шагов по улице.
— Идите в ту сторону, — сказал он, — вы увидите набережную,
идите вдоль нее и направо, вы не заблудитесь.
— Вы очень любезны, — поблагодарил Большой Луи, приподняв
шляпу Он чувствовал себя виноватым.
Он снова очутился на набережной, среди черных человечков,
спешащих ему навстречу, он шел очень медленно, опасаясь кого-
нибудь задеть, он был печален; в этот час он обычно спускался с
Канигу в Вилльфранш, стадо шло впереди, оно составляло ему
компанию, он часто встречал месье Парду — тот поднимался на
ферму Ветиль и никогда не проходил мимо, не дав ему сигару, а
заодно и пару дружеских тумаков по спине; гора была рыжей и
молчаливой, на дне лощины виднелись дымки Вилльфранша. Он
растерялся, все эти люди шли слишком быстро, он видел только их
макушки или тульи их шляп, все они были низкорослы.
Мальчишка проскользнул у него между ног, хохоча, посмотрел на него и
сказал своему приятелю:
438
Жан Поль Сартр
— Посмотри-ка на этого типа, ему, наверное, скучно одному на
верхотуре!
Большой Луи посмотрел, как они улепетывают, и почувствовал
себя виноватым: ему стало стыдно быть таким долговязым. Он
подумал: «У них свои привычки» — и прислонился к стене. Он был
уныл и тих, как в тот день, когда приболел. Он вспомнил негра,
такого вежливого и веселого, его единственного друга в этом городе,
Большой Луи подумал: «Зря я его отпустил». И тут в голову ему
пришла занятная мыслишка: «Негра видать издалека, отыскать его
будет нетрудно»; он снова зашагал, чувствуя себя не таким одиноким,
он высматривал негра и думал: «Угощу его стаканчиком вина».
Все они были на площади, лица их покраснели от заходящего
солнца, Жанна, Урсула, сестры Клало, Мария и все остальные.
Сначала они ждали дома, но со временем одна за другой вернулись на
площадь и стали ждать там. Они видели сквозь матовые стекла, как
зажглись первые лампы в кафе вдовы Трамблен, образовавшие
вверху окон три туманных пятна. Они увидели эти пятна и
почувствовали себя опечаленными: мамаша Трамблен зажгла лампы в
пустом кафе, она сидела за мраморным столиком, положив на
мрамор рабочую корзинку, и штопала хлопчатобумажные чулки, ни о
чем не беспокоясь, потому что была вдовой. А они стояли на улице
и ждали мужей, ощущая за спиной свои пустые дома и кухни,
понемногу наполнявшиеся мраком, а перед ними тянулась эта
длинная, полная случайностей дорога и в конце дороги Кан. Мария,
посмотрев на часы церковной колокольни, сказала Урсуле: «Скоро
девять, может, их все-таки оставили...» Мэр уверял, что это
невозможно, но что он мог знать, он не лучше их разбирался в городских
обычаях. Зачем отсылать обратно крепких парней, которые
заявились сами? Им вполне могли сказать: «Ладно! Раз уж вы здесь...» —
и оставить. Прибежала маленькая Роза, запыхавшись, она кричала:
«Вот они! Вот они!» — и все женщины тоже побежали; они
добежали до фермы Дарбуа, откуда был виден добрый кусок дороги, и они
увидели их вдалеке, среди лугов: те на своих повозках ехали
гуськом, как и при отъезде; они неторопливо возвращались, они пели.
Шапен ехал впереди, он удрученно сидел на облучке, его руки вяло
держали вожжи, он спал, а лошадь шла по привычке; Мари
заметила, что у него подбит глаз, и подумала, что он еще и подрался. За
ним, стоя в повозке, сын Ренара пел во всю глотку, но вид у него был
невеселый, другие ехали чуть позади, совсем черные на фоне
ясного неба. Мари повернулась к Клапо и сказала ей: «Они напились,
ОТСРОЧКА
439
только этого не хватало». Повозка Шапена, поскрипывая, шла
совсем медленно, и женщины посторонились, пропуская ее. Когда она
миновала их, Луиза Шапен издала визгливый вопль: «Боже мой, он
ведет только одного вола, куда он дел другого, он его пропил!» Сын
Ренара голосил во всю глотку, он вел свою телегу зигзагами от
одной канавы к другой, за ним ехали остальные, стоя на своих
повозках с кнутами в руках. Мари увидела мужа, он не казался
пьяным, но когда она увидела его мрачную рожу вблизи, она поняла,
что он назюзюкался и сейчас будет драться. «Это хуже, чем вола
пропить», — подумала она со сжавшимся сердцем. Но все-таки она
обрадовалась, что он вернулся, на ферме было много работы, пусть
себе дерется время от времени, по субботам, но лучше именно ему
заниматься тяжелой работой. Большой Луи упал на стул на террасе
бистро, спросил себе вина, ему дали белого вина в малюсеньком
стаканчике, он чувствовал, как устали его ноги, он вытянул их под
столом и пошевелил большими пальцами в башмаках.
«Странно», — сказал он. Он выпил. «Странно, ведь я его хорошо искал».
Он посадил бы его напротив, он смотрел бы на его доброе черное,
лицо; только бы видеть его, он бы засмеялся, и негр тоже, он
выглядел доверчивым и нежным, как зверушка: «Я дал бы ему табака
для курева и вина, чтоб выпить».
Его сосед смотрел на него. «Он считает меня чудным, потому
что я говорю сам с собой»; это был паренек лет двадцати,
тщедушный недомерок с девичьей кожей, он сидел с красивым брюнетом,
у того был перебитый нос, волосы в ушах и вытатуированный якорь
на левом предплечье. Большой Луи понял, что они говорят на
местном наречии о нем. Он улыбнулся им и позвал официанта.
— Еще стакан того же самого, паренек, и если у тебя есть
стаканы побольше, тащи их сюда.
Официант не шелохнулся, он ничего не говорил и смотрел на
него, как бы не видя. Большой Луи вынул бумажник и положил его
на стол.
— Что с тобой, паренек? Боишься, что я не смогу заплатить?
Гляди сюда!
Он вынул три тысячные купюры и помахал ими у того перед
носом.
— Что скажешь? Давай-ка принеси еще стаканчик твоей бурды.
Большой Луи положил бумажник в карман и заметил, что
кучерявый юнец вежливо ему заулыбался.
— Все в норме? — спросил юнец.
440
Жан Поль Сартр
-А?
— Все в порядке?
— Все в порядке, — отозвался Большой Луи, — ищу своего
негритоса.
— Вы что, не здешний?
— Нет, — ответил Большой Луи, — не здешний. Не хочешь
малость дерябнуть? Я угощаю.
— Не откажусь, — откликнулся кучерявый. — Можно
прихватить моего дружка?
Он сказал несколько слов своему приятелю на местном
наречии. Приятель улыбнулся и молча встал. Они сели напротив
Большого Луи. Маленький пах духами.
— От тебя несет шлюхой, — заметил Большой Луи.
— Я только что от парикмахера.
— А, вот оно что! Как тебя зовут?
— Меня зовут Марио, — сказал маленький, — мой приятель —
итальянец, его зовут Стараче, он матрос.
Стараче засмеялся, не проронив ни слова, и отдал честь.
— Он не знает французского, но он занятный, — продолжал
говорить Марио. — А ты знаешь итальянский?
— Нет, — ответил Большой Луи.
— Ничего, увидишь сам, он очень занятный.
Они заговорили между собой по-итальянски. Это был очень
красивый язык, казалось, они пели. Большой Луи был, пожалуй, рад
посидеть с ними: они составили ему компанию, но в глубине души
он все равно чувствовал себя одиноким.
— Чего вы хотите?
— Если на то пошло, анисового ликера, — сказал Марио.
— Три ликера! — распорядился Большой Луи. — Это что,
вино?
— Нет, нет, гораздо лучше, вот увидишь.
Официант налил в три стакана какого-то ликера, Марио подлил
в стаканы воды, и ликер преобразился в белый кружащийся туман.
— За твое здоровье! — сказал Марио.
Он шумно выпил и вытер рукавом губы. Большой Луи тоже
выпил: напиток был совсем неплох, с запахом аниса.
— Посмотри на Стараче, — сказал Марио. — Сейчас он тебя
позабавит.
Стараче скосил глаза; одновременно он наморщил нос, выпятил
губы и зашевелил ушами, как кролик. Большой Луи засмеялся, но
ОТСРОЧКА
441
его покоробило: он почувствовал, что ему совсем не нравится Ста-
раче, Марио хохотал до слез.
— Я тебя предупреждал, — смеясь, говорил он. — Это забавный
малый. Теперь он покажет тебе фокус с блюдцем.
Стараче поставил свой стакан на стол, зажал блюдце в широкой
ладони и три раза подряд провел левой ладонью над правой. После
третьего раза блюдце исчезло. Пользуясь удивлением Большого
Луи, Стараче просунул руку между его коленями. Большой Луи
ощутил, как нечто твердое скребет его ноги, и тут рука появилась
снова, держа блюдце. Большой Луи сдержанно ухмыльнулся, хотя
Марио бил себя по ляжкам, плача от восторга.
— А, старый сукин сын! — говорил он между двумя приступами
смеха. — Я тебя предупреждал: с нами обхохочешься.
Постепенно он успокоился; когда он принял серьезный вид,
установилось тяжелое молчание. Большого Луи они утомили, и ему
даже хотелось, чтобы они ушли, но он подумал, что скоро наступит
ночь, и нужно будет снова наугад идти по длинным, потонувшим во
мраке улицам, бесконечно искать один уголок, чтобы поесть, а
другой, чтобы поспать, сердце его сжалось, и он еще раз заказал на всех
анисового ликера. Марио наклонился к нему, и Большой Луи
вдохнул его запах.
— Значит, ты нездешний? — спросил Марио.
— Нездешний, я тут никого не знаю, — ответил Большой Луи. —
А единственного парня, которого я знаю, не могу отыскать. Может,
вы его знаете? — спросил он, поразмышляв. — Это негритос.
Марио неопределенно покачал головой.
Вдруг он наклонился к Большому Луи, сощурив глаза.
— Марсель — это город, где веселятся, — сказал он. — Если не
знаешь Марселя, считай, что никогда в жизни не веселился.
Большой Луи не ответил. В Вилльфранше он часто веселился. А
потом в борделях Перпиньяна, когда служил в армии: вот где было
весело! Но ему не верилось, что можно веселиться в Марселе.
— Ты не хочешь повеселиться? — спросил Марио. — Не хочешь
навестить куколок?
— Не в том дело, — ответил Большой Луи. — Просто сейчас я
хотел бы поесть. Если вы знаете какую-нибудь харчевню, я бы с
удовольствием вас угостил.
С наступлением ночи все прочное расплавилось, осталась
неопределенная газообразная масса, смутный туман; Мод шла быстро,
опустив голову и плечи, она боялась неожиданно споткнуться о
442
Жан Поль Сартр
трос, она шла быстро, вдоль переборок, ей хотелось, чтобы ночь ее
поглотила, и она бы стала только молекулой пара в этом гигантском
испарении, медленно разойдясь по швам. Но она знала, что ее белое
платье были сигнальным огнем. Она проходила по палубе второго
класса, не слыша ни одного звука, кроме вечного урчания моря, но
повсюду были неподвижные молчаливые люди, очерченные на
темном плоском фоне моря, у них были глаза: время от времени
острый огонь пронзал ночь, высвечивалось чье-то розовое лицо,
чьи-то глаза блестели, смотрели на нее, гасли, ей хотелось
умереть.
Нужно было спуститься по лестнице, пересечь палубу третьего
класса, подняться по другой лестнице, прямой, как трап, и совсем
белой; если меня увидят, все будет понятно: его каюта наверху
совсем одна; у этого человека много работы, навряд ли он оставит
меня на всю ночь. Она боялась, как бы он не пристрастился и не
присылал бы каждый вечер стюарда за ней в салон, как тот
греческий капитан, но нет, для такого пожилого толстяка я слишком
худа, он будет разочарован, обнаружив одни кости. Ей не
понадобилось стучать, дверь была приоткрыта, он ждал ее в темноте, он
проговорил:
— Входите, моя красавица.
Она на миг замешкалась, у нее перехватило горло; но рука уже
затащила ее в каюту, и дверь закрылась. Она вдруг приклеилась к
толстому животу, старые губы, пахнущие пробкой, расплющились
у нее на губах. Она не сопротивлялась, она думала с гордым
смирением: «Ничего не поделаешь, это часть моей профессии». Капитан
нажал на выключатель, и его голова выплыла из темноты: белки
глаз водянистые и голубоватые, с красной точкой на левом белке.
Она, улыбаясь, высвободилась; все стало гораздо труднее с тех пор,
как зажглись лампы; до того она его представляла себе абстрактной
массой, но теперь он обрел реальность вплоть до мельчайших
деталей, она будет заниматься сексом с единственным в своем роде
существом, как все существа на свете, и эта ночь будет единственной
в своем роде, как все ночи, ночь секса, ночь по-своему единственная
и непоправимая, непоправимо потерянная. Мод, улыбнувшись,
сказала:
— Подождите, капитан, подождите, вы слишком торопитесь,
нужно сначала познакомиться поближе.
Что это? Пьер приподнялся на локте, насторожившись: пароход
казался неподвижным. Его уже трижды или четырежды рвало, один
ОТСРОЧКА
443
раз рвота, очень сильная, пошла через нос, он чувствовал себя
опустошенным и слабым, но трезвым.
«Что это?» — подумал Пьер. Вдруг он обнаружил, что сидит на
койке, железный обруч сжимает ему голову, и уже привычная
тревога укоренилась в его сердце. Время снова тронулось с места, это
был неумолимый, лихорадочный механизм, каждая секунда
разрывала его, как зубец пилы, каждая секунда приближала его к
Марселю и к серой земле, где он погибнет. Планета снова была
здесь, вокруг его каюты, жестокая планета вокзалов, дыма, военной
формы, опустошенных полей, планета, где он не мог жить и которую
не мог покинуть, планета с той грязной траншеей, которая
поджидала его во Фландрии. Трус, сын офицера, который боится воевать:
он был противен самому себе. И однако же, он отчаянно цеплялся
за жизнь. И это было еще противнее: «Я хочу жить; не потому, что
я представляю ценность, причина одна — я живу». Он чувствовал
себя способным на все, чтобы спасти свою шкуру, бежать, молить о
пощаде, предать и тем не менее он не так уж дорожил своей шкурой.
Он встал: «Что я ей скажу? Что у меня был солнечный удар,
приступ лихорадки? Что я был выбит из колеи?» Он, шатаясь, подошел
к зеркалу и увидел, что пожелтел, как лимон. «Этого только не
хватало: я больше не могу рассчитывать даже на свою физиономию.
И сверх всего, от меня, должно быть, несет блевотиной». Он протер
лицо одеколоном и прополоскал горло водой «Бото». «Сколько
церемоний, — с раздражением подумал он. Первый раз я забочусь
о том, что обо мне подумает какая-то девка. Наполовину шлюха,
наполовину скрипачка из оркестра; а ведь у меня были замужние
женщины, матери семейств. Я у нее в руках, — подумал он, надевая
пиджак, — она знает».
Он открыл дверь и вышел; капитан был совсем голым, у него
была восковая гладкая кожа, без волос, кроме четырех-пяти совсем
седых волосинок на груди, остальные, должно быть, выпали от
старости, он смеялся, у него был вид пухлого шаловливого
младенца, Мод коснулась кончиками пальцев его толстых гладких ляжек,
и он заерзал, пролепетав:
— Ты меня щекочешь!
Пьер знал номер каюты: 27; он пошел по коридору направо,
потом по другому налево: переборка дрожала от регулярных громких
ударов; 27 — это здесь. Молодая женщина лежала на спине, бледная,
как покойница; пожилая дама с красными опухшими глазами
сидела на койке и ела бутерброд с сыром.
444
Жан Поль Сартр
— А-а, — сказала она, — три дамы? Они были очень милы. Но
они уже перебрались, их поместили во второй класс; я буду без них
скучать.
Капитан удивленно посмотрел на нее и положил ей руку на
подвздошную кость.
— А вы недурны собой, и у вас прелестная мордашка, но как вы
худы!
Она засмеялась: когда касались ее подвздошной кости, то всегда
невольно хотелось смеяться.
— Вы не любите худых, капитан?
— Нет-нет, мне они вполне подходят, — поспешно ответил он.
Пьер бегом поднялся по лестнице; ему нужно было увидеть
Мод. Теперь это был коридор второго класса, красивый коридор с
ковровой дорожкой, двери и переборки покрыты серо-голубой
эмалевой краской. Ему повезло: внезапно появилась Руби в
сопровождении бортпроводника, несшего ее чемоданы.
— Здравствуйте, — сказал Пьер. — Так вы во втором?
— Да! — сказала Руби. — Франс боится заболеть. Мы все
согласились: когда на карту поставлено здоровье, нужно уметь приносить
жертвы.
— Где Мод?
Мод лежала на боку, капитан тискал ее ягодицы с рассеянной
вежливостью; она ощущала себя глубоко униженной: «Если я не в
его вкусе, ему незачем чувствовать себя обязанным». Она провела
рукой по его бедрам, чтобы ответить на его вежливость: какая
старая кожа.
— Мод? — пронзительным голосом переспросила Руби. —
Понятия не имею. Вы же ее знаете: может, ей взбрело в голову
пококетничать с кочегарами, если только не с капитаном, она обожает
морские путешествия и вечно мечется по всему кораблю.
— Моя любознательная малышка! — сказал капитан. Он
засмеялся и сжал ей запястье. — Сейчас вы сможете обследовать все
владения, — сказал он. И его глаза заблестели в первый раз. Мод не
сопротивлялась, она была смущена из-за смены кают, нужно все же
отплатить ему за это, она очень сожалела, что была слишком худа,
у нее создалось впечатление, что она обманула его; капитан
улыбался, опускал глаза, у него был целомудренный и скрытный вид, он
сжимал запястье Мод и направлял ее руку с твердой нежностью;
Мод была довольна, она думала: «Нехорошо отказывать ему в том,
ОТСРОЧКА
445
чего он хочет, после всего, что он для нас сделал, тем более что он
не любит худых...»
— Спасибо, спасибо, радость моя!
Наклонив голову, Пьер продолжил свой путь. Нужно было
найти Мод; скорее всего она на палубе. Он поднялся на палубу второго
класса, было темно, почти невозможно было узнать кого-либо,
разве что заглянуть прямо в лицо. «Я идиот, нужно подождать здесь:
откуда бы она ни шла, она непременно пойдет по этой лестнице».
Капитан совсем закрыл глаза, у него был спокойный и почти
монашеский вид, который очень нравился Мод, рука ее устала, но она
рада была доставлять ему удовольствие, и потом, ей казалось, что
она совсем одна, как когда она была маленькой и дедушка Тевенер
сажал ее себе на колени и вдруг засыпал, покачивая головой. Пьер
смотрел на море и думал: «Я трус». Прохладный ветер струился по
его щекам и развевал его волосы, он смотрел, как поднимается и
опускается море; он с удивлением смотрел на себя и думал «Трус.
Никогда бы не подумал». Законченный трус. Достаточно было
одного дня, чтобы он понял свое истинное естество; без угрозы
войны он бы никогда ничего о себе не узнал. «К примеру, родись я в
1860 году». Он бы прогуливался по жизни со спокойной
уверенностью; он бы сурово осуждал трусость других, и ничто, абсолютно
ничто не открыло бы ему его истинной природы. Не повезло. Один
день, один-единственный день: теперь он знал о себе все и был
одинок. Автомобили, поезда, пароходы бороздили эту светлую и
гулкую ночь, все стекались к Парижу, уносили таких же молодых
людей, как он, они не спали, наклонялись над релингами или
прижимали нос к темным стеклам. «Это несправедливо, — подумал он. —
Тысячи людей, может быть, миллионы, жили в счастливые времена,
они так и не узнали подлинной своей цены: им было даровано
счастье сомнения. Быть может, Альфред де Виньи был трусом. Или
Мюссе? Или Сент-Бёв? Или Бодлер? Им повезло. Тогда как мне! —
прошептал он, топнув ногой. — Она бы никогда не узнала, она бы
продолжала смотреть на меня с обожанием, хоть и продержалась бы
не дольше других, я бы бросил ее через три месяца. Но теперь она
знает. Знает. Шлюха, я у нее в руках!»
На улице было темно, но в баре было столько света, что
Большой Луи совсем ослеп. Это было как-то чудно, потому что ламп не
было видно; была длинная красная труба, извивающаяся по
потолку, и другая — белая, и свет шел оттуда; в зеркале напротив Большой
446
Жан Поль Сартр
Луи видел свою голову и макушку Стараче, ни Марио, ни Дэзи он
не видел, они были слишком маленькими. Он заплатил за еду и за
четыре порции анисового ликера; он заказал коньяк. Они сидели в
глубине бара напротив стойки, было уютно, их окружал большой
ватный убаюкивающий шум. Большой Луи сиял, ему хотелось
вскочить на стол и запеть. Но он не умел петь. Иногда его глаза
закрывались, он падал в какую-то яму и чувствовал себя
подавленным, как будто с ним случилось что-то ужасное, он снова открывал
глаза, старался вспомнить, что это было, но в конце концов
понимал, что с ним ничего не случилось. Он как бы раздвоился: один в
другом, но так он чувствовал себя, скорее, удобно, просто немного
непривычно, но уютно; ему трудно было держать глаза открытыми.
Он вытянул под столом длинные ноги, одну между ног Марио,
другую между ног Стараче, он видел себя в зеркале, и это вызывало
у него смех, он попытался скорчить гримасу, как Стараче, но он не
умел ни косить, ни шевелить ушами. Под зеркалом сидела
невысокая, вполне приличная дама, которая задумчиво курила, она,
должно быть, приняла его гримасу на свой счет: она показала ему язык,
а затем охватила правое запястье левой рукой, сжала правый кулак
и завертела им, посмеиваясь. Большой Луи озадаченно отвел взгляд,
он боялся, что обидел ее.
Дэзи сидела напротив — маленькая, суровая и теплая. Но ей не
было дела до него. От нее хорошо пахло, она была размалевана, как
надо, груди полные, но Большому Луи Дэзи показалась слишком
серьезной, он любил смешливых милашек, которые дразнят,
например, дуя в ухо, а некоторые, опустив глаза, шепчут что-нибудь
двусмысленное, что не сразу и поймешь. Дэзи была воодушевлена и
серьезна; она всерьез говорила с Марио о войне:
— Что ж, будем воевать; если надо воевать — будем.
Стараче сидел, выпрямившись на стуле, напротив Дэзи; он
казался внимательным, но, конечно, из вежливости, поскольку ничего
не понимал. Большой Луи проникся к Стараче симпатией: тот
оставался таким спокойным и никогда не злился. Марио хитро смотрел
на Дэзи, он качал головой и говорил:
— Не возражаю, не возражаю.
Но вид у него был не слишком уверенный.
— По мне, лучше война, чем стачка, — сказала Дэзи. — А как
по-твоему? Вспомни только стачку докеров, чего она всем стоила,
и нам, и всем остальным.
— Не возражаю, не возражаю.
ОТСРОЧКА
447
Дэзи рассуждала строго и страстно, она встряхивала головой,
говоря:
— Во время войны стачки кончаются. Все работают. Да-а...
Если б ты видел пароходы в семнадцатом году, ты еще под стол
пешком ходил, да и я тоже, но видишь, я помню. Вот был праздник,
вечером огни были видны до Эстака. И столько всяких лиц
мелькало на улицах — не поймешь, где находишься, какая-то гордость
появлялась, а очереди на улице Бутерилль — там были англичане,
американцы, итальянцы, немцы, даже индусы! А сколько
зарабатывала моя мать, скажу тебе!
— Нет, немцев не было, — возразил Марио, — с ними же воевали.
— А я тебе говорю, что были! — твердила Дэзи. — И даже в
военной форме, с такой штукой на фуражках. Я их видела
собственными глазами.
— С ними воевали, — настаивал Марио.
Дэзи пожала плечами:
— Да, но там, на севере. Эти явились не из траншей, они
приезжали морем для торговли.
Вошла высокая девица, жирная и белая, как сливочное масло,
но у нее тоже был слишком серьезный вид. Большой Луи подумал:
-«Городские все такие». Она наклонилась к Дэзи и казалась
негодующей:
— А я вот не люблю войну, понимаешь? Потому что сыта ею по
горло, мой брат воевал в четырнадцатом году, ты, может, хочешь,
чтобы он снова воевал? А ферма моего дяди, она, по-твоему, не
сгорела? Это тебя не убеждает?
Дэзи на минуту смутилась, но быстро обрела хладнокровие.
— Значит, ты больше любишь стачки? — спросила она. —
Признайся!
Марио посмотрел на высокую блондинку, и она ушла, не говоря
ни слова и покачивая головой. Она села недалеко от них и начала
горячо толковать о чем-то с грустным человечком, жевавшим
соломинку. Она показывала на Дэзи и говорила с поразительной
быстротой. Человечек не отвечал, он жевал соломинку, не поднимая
глаз, казалось, он даже ее не слышал.
— Она из Седана, — объяснил Марио.
— Где это? — спросила Дэзи.
— На севере.
Дэзи пожала плечами.
— Тогда чего ж она ворчит? На севере к этому привыкли.
448
Жан Поль Сартр
Большой Луи зевнул так, что слезы покатились у него по щекам.
Он скучал, но был доволен, потому что любил зевать. Марио бросил
на него быстрый взгляд. Стараче тоже начал зевать.
— Наш приятель скучает, — сказал Марио, показывая на
Большого Луи, — будь с ним полюбезнее, Дэзи.
Дэзи повернулась к Большому Луи и обвила рукой его шею.
Теперь она выглядела немного веселей.
— Это правда, мой цыпленочек, что ты скучаешь? Рядом с такой
хорошенькой девушкой?
Большой Луи собирался ей ответить, но тут заметил негра. Тот
у стойки пил из большого стакана что-то желтое. На нем был
зеленый костюм и соломенная шляпа с разноцветной лентой.
«Прекрасно!» — сказал Большой Луи. Он глядел на негра и был счастлив.
— Что с тобой? — удивленно спросила Дэзи.
Он повернул голову к ней, затем к Стараче и посмотрел на них
с удивлением. Ему было стыдно находиться с ними. Он дернул
плечами, чтобы сбросить руку Дэзи, встал и крадучись подошел к
негру. Негр пил, а Большой Луи смеялся от удовольствия. Дэзи
сказала за его спиной резким тоном: «Что на этого дурака наехало?
Он мне сделал больно». Но Большой Луи плевал на это: он
избавился от Марио и Стараче. Он поднял правую руку и влепил негру
тумак между лопаток. Негр закашлялся, сплюнул, потом с
яростным видом обернулся к Большому Луи.
— Это я, — сказал Большой Луи.
— Вы что, псих? — выпалил неф.
— Ты же видишь, это я! — повторил Большой Луи.
— Я вас не знаю, — сказал негр.
Большой Луи грустно посмотрел на него.
— Как, ты не помнишь? Мы встретились вчера, ты тогда только
что искупался, ну?
Негр кашлянул и сплюнул. Стараче и Марио поднялись и
встали по бокам Большого Луи. «Оставят они наконец меня в
покое?» — подумал Большой Луи с гневом. Марио тихо потянул его
за рукав.
— Ну, пошли, — сказал он. — Ты же видишь, он тебя не признает.
— Это мой негритос! — угрожающе настаивал Большой Луи.
— Уберите его, — сказал негр. — В котором часу вы его
укладываете спать?
Большой Луи смотрел на негра и чувствовал себя несчастным:
это был он, такой красивый и такой веселый в красивой соломен-
ОТСРОЧКА
449
ной шляпе. Почему он оказался таким забывчивым и
неблагодарным?
— Я тебя угостил вином, — сказал он.
— Пойдем же! — повторил Марио. — Это не твой негритос: они
все на одно лицо.
Большой Луи сжал кулаки и повернулся к Марио:
— Оставь меня в покое, говорю тебе! Это тебя не касается.
Марио отступил на шаг.
— Все негры похожи друг на друга, — сказал он с
беспокойством.
— Марио, оставь его — он просто хам. Иди сюда! — крикнула
Дэзи.
Большой Луи готов был драться, но тут открылась дверь, и
появился второй негр, совсем такой же, как первый, в соломенной
шляпе и розовом костюме. Он безразлично посмотрел на Большого
Луи, пересек бар танцующим шагом и облокотился о стойку.
Большой Луи протер глаза и поочередно посмотрел на обоих негров. Он
начал смеяться.
— Можно подумать, двойняшки, — сказал он.
Марио приблизился:
— Ну что, убедился?
Большой Луи сконфузился. Ему не нравились ни Стараче, ни
Марио, но он чувствовал себя виноватым перед ними. Он взял их
за руки.
— Я думал, что это мой негритос, — объяснил он.
Негр повернулся к нему спиной и снова принялся пить. Марио
посмотрел на Стараче, затем они оба повернулись к Дэзи — та
стояла, уперев руки в бедра, она их ждала. Вид у нее был не слишком
миролюбивый.
— Гм! — сказал Марио.
— Гм! — сказал Стараче.
Они повернулись, каждый схватил Большого Луи за руку, и
увлекли его за собой.
— Пойдем поищем твоего негритоса, — сказал Марио.
Улица была узкой и пустынной, пахло капустой. Над крышами
виднелись звезды. «Они все друг на друга похожи», — грустно
подумал Большой Луи.
Он спросил:
— А много их в Марселе?
— Кого много, приятель?
450
Жан Поль Сартр
— Негритосов?
— Вообще-то много, — сказал Марио, качая головой. «Я совсем
темнота», — подумал Большой Луи. «Я вам помогу, — сказал
капитан, — я буду вашей камеристкой». Марио взял Большого Луи за
талию, капитан взял комбинацию за бретельку, Мод не смогла
удержаться от смеха: «Но вы держите ее наизнанку!» Марио
наклонился вперед, он сильно сжимал талию Большого Луи и терся лицом о
его живот, он говорил: «Это мой приятель, правда, Стараче, это мой
дружок, и мы любим друг друга». А Стараче молча смеялся, его
голова вращалась, вращалась, его зубы блестели, это был кошмар,
его голова гудела от криков и света, они его не отпустят до ночи,
смех Стараче, его смуглое лицо, которое поднималось и опускалось,
кунья мордочка Марио; Пьера тошнило, море поднималось и
опускалось в его желудке; Большой Луи понял, что никогда не найдет
своего негра, Марио его подталкивал, Стараче его тянул, негр был
ангелом, а я в аду. Он сказал:
— Негр был ангелом.
Две большие слезы покатились по его щекам. Марио его
подталкивал, Стараче его тянул, они повернули за угол, Пьер закрыл
глаза, был только моргающий свет фонаря на мостовой и пенистое
пришепетывание воды о форштевень.
Ставни закрыты, окна закрыты, пахло клопами и формалином.
Старик склонился над паспортом, свеча освещала его вьющиеся
седые волосы, тень от его головы покрывала весь стол. «Почему он
не зажигает электричество, так он себе изведет глаза». Филипп
прочистил горло: он как будто затонул в безмолвии и забвении. «Там я
существую, и вообще я существую, я еще заставлю себя признать,
она не могла сглотнуть, в горле у нее стоял комок, а он изумился,
рука, которую он на меня поднял, повисла в воздухе и как бы
отсохла, он не думал, что я способен на такое, там я только что родился,
но однако я существую здесь, напротив этого седого приземистого
старика с седыми усами, хоть он и совсем обо мне забыл. Здесь,
здесь! Здесь я продолжаю свое монотонное существование среди
слепых и глухих, я растворяюсь в тени, но там, под светом
канделябра между креслом и диваном, я существую въяве, там меня
принимают в расчет». Он топнул ногой, и старик поднял глаза —
близорукие, суровые, слезящиеся и усталые.
— Вы были в Испании?
— Да, — сказал Филипп. — Три года назад.
— Паспорт недействителен. Его нужно было продлить.
ОТСРОЧКА
451
— Знаю, — нетерпеливо сказал Филипп.
— Мне это безразлично. Вы говорите по-испански?
— Как по-французски.
— Коли вас с такими белобрысыми волосами примут за испанца,
считайте, вам повезло.
— Бывают и светловолосые испанцы.
Старик пожал плечами:
— Мое дело предупредить...
Он рассеянно листал паспорт. «Я здесь, у мошенника». Это
было невероятно. С самого утра все было невероятно. Мошенник
походил скорее на жандарма.
— Вы похожи на жандарма.
Старик не ответил: Филиппу стало не по себе.
Незначительность. Она вернулась сюда, эта прозрачная незначительность
вчерашнего дня, когда я проходил сквозь взгляды, когда я был тряским
стеклом на спине стекольщика и когда я проходил сквозь солнце.
Там теперь я непрозрачен, как мертвец; она думает: «Где он? Что
делает? Думает ли он все же обо мне?» Но не похоже, что старик
знает, есть ли на земле уголок, где я — драгоценный камень.
— Ну что? — сказал Филипп.
Старик устремил на него усталый взгляд.
— Вас Питто прислал?
— Вы в третий раз спрашиваете. Да, меня прислал Питто, — с
апломбом заявил Филипп.
— Хорошо, — сказал старик. — Обычно я такое делаю бесплатно,
но с вас возьму три тысячи франков.
Филипп скопировал гримасу Питто:
— Разумеется. Я и не собирался просить вас о даровой услуге.
Старик усмехнулся. «Мой голос звучит фальшиво, — с
раздражением подумал Филипп. — У меня нет еще естественной наглости.
Особенно со стариками. Между ними и мной существует старый
счет неоплаченных пощечин. Надо бы их оплатить сполна, тогда я
смогу говорить со стариками на равных. Но последняя, —
вспыхнуло у него в мозгу, — последняя с еще не проставленной датой».
— Нате. — Филипп быстро вынул бумажник и положил на стол
три купюры.
— Глупый молокосос! Я же могу их положить себе в карман и
ничего не сделать.
Филипп встревоженно посмотрел на него и дернулся, пытаясь
взять деньги назад. Старик расхохотался.
452
Жан Поль Сартр
— Я думал... — сказал Филипп.
Старик продолжал смеяться, Филипп с досадой отдернул руку
и заулыбался:
— Я разбираюсь в людях и знаю, что вы бы этого не сделали.
Старик перестал смеяться, он выглядел веселым и злым.
— Эта сявка разбирается в людях. Бедный молокосос, ты
приходишь ко мне, ты меня в первый раз видишь, — и ты вынимаешь
деньги и кладешь их на стол, за одно это тебя следует вздуть. Ладно,
ступай, не мешай работать. Я беру у тебя тысячу франков на случай,
если ты передумаешь. Остальное принесешь, когда придешь за
документами.
Еще одна пощечина, я их верну сполна. Слезы навернулись
ему на глаза. Он должен был прийти в бешенство, но испытывал
лишь оцепенение. Как им удается быть такими жестокими, они
никогда не складывают оружия, они всегда начеку, при малейшей
ошибке они накидываются на любого и причиняют ему боль. Что
я ему сделал? И тем, в голубой гостиной, что я им сделал? Но
ничего, я научусь правилам игры, я буду жестоким, я заставлю их
содрогаться.
— Когда будет готово?
— Завтра утром.
— Я... я не думал, что на это уйдет так много времени.
— Да? — сказал старик. — А печати я, по-твоему, где беру?
Ладно, иди, придешь завтра утром, и так времени мало осталось, чтобы
все сделать.
На улице ночь, тошнотворно-теплая, с ее чудовищами; шаги уже
давно раздаются за спиной, а обернуться не смеешь, ночь в Сент-
Уане; квартал небезопасный.
Филипп беззвучно спросил:
— В котором часу я могу прийти?
— Когда хочешь, начиная с шести часов.
— А есть... есть ли здесь гостиницы?
— Проспект Сент-Уан, только выбирай. Ну, иди.
— Я приду в шесть, — твердо сказал Филипп.
Он взял свой чемоданчик, закрыл дверь и спустился по
лестнице. На площадке четвертого этажа у него брызнули слезы, он забыл
взять с собой платок, вытер глаза рукавом, дважды или трижды
шмыгнул носом, я не трус. Старый мужлан наверху принял его за
труса, его презрение следовало за Филиппом, как взгляд. Они
смотрят на меня. Филипп поспешно спустился по последним ступень-
ОТСРОЧКА
453
кам. «Откройте дверь, пожалуйста». Дверь отворилась на мутный
тепловатый серенький пейзаж. Филипп нырнул в эти помои. «Я не
трус. Только этот гнусный старик так думает. Впрочем, больше не
думает, — решил он. — Он больше обо мне не думает, он принялся
за работу». Взгляд угас, Филипп ускорил шаги. «Ну что, Филипп?
Ты боишься?» — «Я не боюсь, я просто не могу». — «Ты не можешь,
Филипп? Ты не можешь?» Он забился в угол. Питто гладил его
бедра и грудь, потрогал через рубашку соски, затем двумя пальцами
правой руки щелкнул его по губам: «Прощай, Филипп, уходи. Я не
люблю трусов». Улица была полна ночными статуями, эти люди
прислонились к стенам, они ничего не говорят, не курят и
неподвижно смотрят на прохожих увлажненными ночью глазами. Он
почти бежал, и сердце его билось все быстрее. «С твоей-то мордой?
Да, да, ты маленький трус». Они увидят, они все увидят, он придет,
как и другие, прочтет мое имя и скажет: «Смотри-ка! Для богатого
сыночка, для юнца это не так уж мало».
Справа от него взрыв света — гостиница. На пороге стоял
косоглазый служитель. «Он на меня смотрит?» Филипп пошел
медленнее, но сделал лишний шаг и прошел дверь, теперь служитель,
должно быть, косится за его спиной; он уже не мог благопристойно
вернуться. Служащий ресторана или поединок циклопов. Или вот
еще что: беда циклопа. В один прекрасный день он почувствовал
неладное, посмотрел в зеркало и увидел перекошенные глаза. Какой
ужас! Их невозможно заставить двигаться вместе, один из них
привык смотреть отдельно и так и остается особняком. На
противоположной стороне была другая гостиница — «Конкарно», маленькое
одноэтажное строение. «Может, попробовать туда? А что, если они
спросят у меня документы?» Он не решился перейти улицу и
двинулся по той же стороне. «Нужна решимость, но сегодня у меня ее
нет, старик меня окончательно опустошил; а что, если — подумал
он, глядя на вывеску «Кофе, вина, ликеры», — если выпить для
храбрости?» Он толкнул дверь.
Это было совсем маленькое кафе, цинковая стойка и два
столика, опилки приклеивались к подошвам. Хозяин недоверчиво
посмотрел на него. «Я слишком хорошо одет», — раздраженно
подумал Филипп.
— Коньяку, — сказал он, подходя к стойке.
Хозяин взял бутылку, на горлышко был надет жестяной носик.
Он налил рюмку коньяку, Филипп поставил чемоданчик и с
любопытством посмотрел на хозяина: струйка алкоголя текла из желез-
454
Жан Поль Сартр
ного носика, и у хозяина был такой вид, будто он поливает овощи.
Филипп выпил глоток и подумал: «Должно быть, это скверный
коньяк». Он не пил его никогда, коньяк показался ему прогорклым
вином и обжег горло; Филипп поспешно поставил рюмку. Хозяин
смотрел на него. Была ли ирония в его невозмутимых глазах?
Филипп снова взял рюмку и небрежным жестом поднес ее к губам:
глотка пылала, глаза слезились, он выпил оставшееся залпом.
Отставив рюмку, он почувствовал себя беспечным и немного
развеселился. Он подумал: «Вот удобный случай понаблюдать». Две
недели назад он обнаружил, что не умеет наблюдать, я поэт, я не
анализирую. С тех пор он принуждал себя мысленно составлять
опись везде, где только мог, к примеру, считать предметы,
выставленные в витрине. Он окинул взглядом бар, начну с последнего ряда
бутылок над стойкой. Четыре бутылки «Бирра», одна «Гудрона»,
две «Нойи», один кувшинчик рома.
Кто-то вошел. Рабочий в фуражке. Филипп подумал:
«Пролетарий». Ему не часто доводилось их видеть, но он много о них
думал. Этот был лет тридцати, мускулистый, неловко скроенный, со
слишком длинными руками и кривыми ногами, наверняка его
изуродовал физический труд; под носом виднелась рыжеватая жесткая
щетина; к фуражке прикреплена трехцветная кокарда, он выглядел
хмурым и встревоженным.
— Стаканчик белого, хозяин, побыстрей, — распорядился он.
— Мы уже закрываем, — сказал хозяин.
— Что ж, вы откажете в стаканчике белого призывнику? —
настаивал рабочий. Он говорил с трудом, охрипшим голосом, как
будто весь день кричал. Подмигивая правым глазом, он пояснил:
— Завтра утром уезжаю.
Хозяин взял стакан и бутылку.
— Куда едете? — спросил он, ставя стакан на стойку.
— В Суассон, — ответил мужчина. — Я в танковых войсках.
Он поднял стакан к губам, рука его дрожала, вино стекало на
пол.
— Мы им выпустим кишки, — сказал он.
— Гм! — хмыкнул хозяин.
— Именно так! — гаркнул мужчина.
Он два раза ударил ладонью правой руки по левому кулаку.
— Как сказать, — усомнился хозяин. — Эти сволочи не из
слабаков!
ОТСРОЧКА
455
— А я говорю вам, что так и будет!
Он выпил, цокнул языком и запел. Он выглядел одновременно
возбужденным и усталым; с каждой минутой лицо его увядало,
глаза закрывались, губы опускались, но сейчас же какая-то сила
открывала ему глаза, тянула кверху уголки губ: он казался
обессиленной добычей веселья, которое хотело длиться без конца. Он
повернулся к Филиппу:
— А ты? Тебя тоже призвали?
— Меня... еще нет, — пятясь, сказал Филипп.
— Чего же ты ждешь? Надо им поскорее выпустить кишки.
Это был пролетарий: Филипп ему улыбнулся и заставил себя
шагнуть к нему.
— Угощаю тебя стаканчиком белого, — сказал рабочий. —
Хозяин, два стакана, один — вам, один — ему, я плачу.
— Я не хочу пить, — сурово отрезал хозяин. — И потом, время
закрывать: мне вставать в четыре утра.
Тем не менее он поставил стакан перед Филиппом.
— Сейчас выпьем, — сказал рабочий.
Филипп поднял свой стакан. Только что он был у мошенника, а
сейчас выпивает за цинковой стойкой с рабочим. Если б они меня
видели!
— За ваше здоровье! — сказал он.
— За победу! — провозгласил рабочий.
Филипп с удивлением посмотрел на него: он, безусловно,
шутит; ведь пролетариат за мир.
— Скажи, как я, — настаивал работяга. — Скажи: за победу!
У него был суровый и угрожающий вид.
— Я не хочу этого говорить, — вымолвил Филипп.
— Что?! — вскричал рабочий.
Он сжал кулаки. Речь его осеклась, глаза побелели, челюсть
отвисла, голова вяло качнулась.
— Скажите, как он просит, — посоветовал хозяин.
Рабочий овладел собой. Он подошел к Филиппу вплотную, от
него несло перегаром.
— Ты не хочешь выпить за победу? И именно мне ты такое
говоришь? Мне, призывнику? Солдату тридцать восьмого года?
Рабочий схватил его за галстук и прижал к стойке.
— Ты это говоришь мне? Ты не хочешь выпить?
Что бы сделал Питто? Что бы он сделал на моем месте?
456
Жан Поль Сартр
— Живее, — строго сказал хозяин, — делайте то, что он вам
велит: я не хочу неприятностей; и потом, пора закрывать: мне вставать
в четыре утра.
Филипп взял стакан.
— За победу... — пролепетал он.
Он залпом опрокинул стакан, но горло перехватило, и он никак
не мог проглотить спиртное. Работяга отпустил его, самодовольно
ухмыльнувшись, и вытер тыльной стороной ладони усы.
— Он не хотел пить за победу, — объяснил он хозяину. — Я его
схватил за галстук. Какой же он француз, если говорит такое мне?
Мне, призывнику?
Филипп бросил на стойку сорок су, взял чемоданчик и
поспешил выйти. Пьянице нужно уступать, Питто уступил бы тоже;
«Я не трус».
— Эй, паренек, погоди!
Работяга вышел вслед за ним, Филипп слышал, как хозяин
закрывает дверь, поворачивая в замке ключ. Он весь похолодел: ему
казалось, что его запирают наедине с этим типом.
— Не беги так, — сказал работяга. — Говорю тебе, мы им
выпустим кишки. Это надо спрыснуть.
Он подошел к Филиппу и обнял его за шею. Марио взял руку
Большого Луи и нежно сжал ее, это была преисподняя, он шел по
темным улочкам, казалось, они никогда не остановятся. Большой
Луи изнемогал, его подташнивало, в ушах звенело.
— Я немного спешу, — сказал Филипп.
— Куда мы идем? — спросил Большой Луи.
— Идем искать твоего негритоса.
— Ты что, разыгрываешь благородного? Когда я плачу за
выпивку, нужно пить, понял?
Большой Луи посмотрел на Марио и испугался. Марио говорил:
«Мой дружок, мой маленький дружок, ты устал, мой дружок?» Но
у него было уже другое лицо. Стараче взял его за левую руку, это
была преисподняя. Он попытался высвободить правую руку, но
почувствовал острую боль в локте.
— Что ты делаешь, ты мне сломаешь руку! — крикнул он,
Филипп внезапно вильнул и побежал. Это пьяница, ничего нет
дурного в том, что я удираю от пьяницы. Стараче вдруг выпустил его руку
и сделал шаг назад, Большой Луи хотел повернуться, чтобы
посмотреть, что он делает, но Марио повис у него на руке, Филипп
слышал за спиной прерывистое дыхание: «Гнусная шлюха, гаденыш,
ОТСРОЧКА
457
маленький педик, ну подожди, я тебя сейчас проучу». «Что на тебя
нашло, мой дружок, что на тебя нашло, разве мы больше не друзья?»
Большой Луи подумал: «Сейчас они меня убьют». Страх пронзил
его до костей, свободной рукой он схватил Марио за горло и
приподнял его над землей; но в тот же миг он почувствовал острейшую
боль в голове от затылка до подбородка, он отпустил Марио и упал
на колени, кровь натекла на брови. Он попытался ухватить Марио
за пиджак. Но Марио отскочил ему за спину, и Большой Луи
больше его не видел. Он видел негра, скользящего вровень с землей, он
плыл, не касаясь ее, он был совсем не похож на других негров, он
приближался к нему, раскрыв объятия и смеясь. Большой Луи
протянул руки, у него в голове засела огромная, издающая
металлический звук боль, он крикнул негру: «На помощь!», но получил
второй удар по голове и упал лицом в сточную канаву; Филипп все еще
бежал, гостиница «Канада», он остановился, перевел дыхание и
посмотрел назад, он оторвался от преследователя. Филипп затянул
узел галстука и размеренным шагом вошел в гостиницу.
Килевая качка, бортовая качка. Килевая качка, бортовая качка.
Покачивание парохода поднималось спиралью в его икры и бедра
и мерными толчками замирало где-то внизу живота. Но голова
оставалась ясной, несмотря на две или три горьковатых рвоты; он
крепко сжимал руками поручни релингов. Одиннадцать часов; небо
испещрено звездами, красный огонь танцевал вдалеке над морем;
может быть, именно такой огонь последним мелькнет в моих глазах
и застынет в них навсегда, когда я буду валяться в воронке плашмя,
с оторванной челюстью, под мерцающим небом. И будет этот
чистый черный образ с шумом пальм и это человеческое присутствие,
такое далекое за красным огнем во мраке. Он их видел: в военной
форме, набившись точно сельди в бочку, за своим сигнальным огнем
они молча скользили к смерти. Они молча смотрели на него,
красный огонь скользил по воде, они тоже скользили, они
дефилировали перед Пьером, не сводя с него глаз. Он их всех ненавидел, он
почувствовал себя одиноким и упорствующим перед
презрительными взглядами ночи; он им крикнул: «Я прав, я прав, что боюсь, я
создан жить, жить, жить! А не умереть: нет такого, ради чего стоило
бы умереть». Но ее все нет, куда она запропастилась? Он свесился
над пустынной нижней палубой. «Шлюха, ты мне заплатишь за это
ожидание». У него были фотомодели, манекенщицы, прекрасно
сложенные танцовщицы, но эта маленькая худышка, скорее
дурнушка, была первой женщиной, которую он желал так неистово.
458
Жан Поль Сартр
«Гладить ее по затылку — она обожает это — в месте зарождения
черных волос, следить, как медленно поднимается волнение от
живота к голове, проникаться ее маленькими ясными мыслями, я
трахну тебя, я буду трахать тебя, я войду в твое презрение, я его
проткну, как пузырь; когда ты будешь полна мной и закричишь
«Мой Пьер!», безумно закатывая глаза, мы еще посмотрим, что
станет с твоим презрительным взглядом, посмотрим, назовешь ли
ты меня тогда трусом».
— До свидания, моя маленькая радость, до скорого свидания,
возвращайтесь, приходите еще!
Это был шепот, ветер его развеял. Пьер повернул голову, и
порыв ветра дунул ему в ухо. Там, на передней палубе, маленькая
лампочка, подвешенная над каютой капитана, осветила белое
платье, вздувшееся от ветра. Женщина в белом медленно спускалась по
лестнице, ветер и бортовая качка заставляли ее цепко держаться за
поручни; ее платье то раздувалось, то прилипало к бедрам, оно
казалось трезвонящим колоколом. Внезапно она исчезла, должно
быть, пересекала нижнюю палубу, пароход снова осел, море было
над ним, белое и черное одновременно, Пьер с трудом выпрямился,
и тут снова возникла ее голова — женщина поднималась по
лестнице палубы второго класса. Так вот почему им сменили каюту! Она
была вся в поту, вся влажная, чуть растрепанная, она прошла мимо
Пьера, не заметив его, она выглядела, как всегда, честной и
благопристойной.
— Потаскуха! — прошептал Пьер. Он чувствовал, как его
переполнила огромная пресность, он больше не хотел ее, он не хотел
больше жить. Пароход падал, падал в пучину, Пьер падал вместе с
ним, ватный и вялый, он на миг застыл, но его рот тут же
наполнился желчью, Пьер наклонился над черной водой, и его вырвало через
борт.
— А теперь регистрационная карточка, — сказал служащий
гостиницы.
Филипп поставил чемоданчик, взял ручку и обмакнул ее в
чернила. Служащий, скрестив руки за спиной, следил за ним взглядом.
Подавлял ли он зевоту или смех? «Все потому, что я хорошо одет, —
с гневом подумал Филипп. — Они всегда смотрят на одежду,
остального они не видят». Он твердой рукой написал:
Изидор Дюкасс*, коммивояжер.
* Французский поэт-романтик второй половины XIX века, псевдоним —
Лотреамон.
ОТСРОЧКА
459
— Проводите меня, — сказал он служителю, глядя ему прямо в
глаза.
Служитель снял большой ключ со щита, и они поднялись по
лестнице. Она была полутемной, ее освещали редкие голубые
лампы. Шлепанцы служащего шаркали по каменным ступенькам. За
одной из дверей плакал ребенок; пахло туалетом. «Это меблираш-
ки», — подумал Филипп. Меблирашки — это было грустное слово,
которое он часто и всегда с отвращением встречал в
натуралистических романах.
— Здесь, — сказал служитель, вставляя ключ в замочную
скважину.
Это была просторная комната с плиточным полом; стены до
половины были окрашены охрой, а выше, до потолка, тускло-желтой
краской. Один стол, один стул: они казались затерявшимися среди
комнаты: два окна, умывальник, похожий на слив, у стены —
большая кровать. «Как будто брачное ложе поставили в кухне», —
подумал Филипп.
Служитель не уходил.
— Десять франков. Плата вперед, — сказал он с улыбкой.
Филипп протянул ему двадцать франков:
— Сдачи не надо. И разбудите меня в половине шестого.
На служителя это, казалось, не произвело никакого впечатления.
— Доброго вечера, месье, доброй ночи, — сказал он, уходя.
Филипп с минуту вслушивался. Едва утихло шарканье
стоптанных туфель по ступенькам, он дважды повернул ключ в замке,
задвинул засов и приставил к двери стол. Затем поставил на стол
чемоданчик и, опустив руки, посмотрел на него. Канделябр в
гостиной потух, свеча мошенника погасла, мрак поглотил все.
Безымянный мрак. Только эта голая длинная комната блестела во мраке,
такая же безликая, как ночь. Филипп, оцепенелый и праздный,
смотрел на стол. Он зевнул. Однако спать ему не хотелось: он был
опустошен. Забытая муха, пробудившаяся в начале зимы, когда все
остальные мухи перемерли, муха, у которой нет больше сил летать.
Он смотрел на чемоданчик и думал: «Нужно его открыть, нужно
достать пижаму». Но желания загустевали в его голове, он был даже
не в силах поднять руку. Филипп смотрел на чемоданчик, смотрел
на стену и думал: «Зачем? Зачем мешать себе умереть, если эта
стена с гнусной наглой расцветкой существует здесь, напротив
меня?» Ему даже не было больше страшно.
460
Жан Поль Сартр
И раз — море поднимается! И два — оно опускается! Пьер
больше не боялся. Таз поднимался и опускался, полный пены, он
поднимался и опускался вместе с ним; лежа на спине, Пьер больше
ничего не боялся. Стюард будет ворчать, когда войдет и обнаружит,
что меня вырвало на пол, но мне наплевать. Все было таким
нежным, вода у него во рту, запах рвоты, этот ком в груди, его тело было
сплошной нежностью, и потом, это колесо, которое вращалось,
вращалось, вращалось, расплющивая ему лоб, он его видел, он
забавлялся, видя его, это было колесо такси с серой и потертой шиной.
Колесо вращалось, привычные мысли вращались, вращались,
вращались, но он плевал на это — наконец, наконец! — он мог на это
плевать, через неделю в Аргонне в меня будут стрелять, а мне
плевать, она меня презирает, думает, что я трус, а мне плевать, что это
для меня может значить сегодня, что это для меня может значить
вообще? Плевать мне на это, плевать, я ни о чем не думаю, мне
ничто не страшно, я себя ни в чем не упрекаю.
И раз! — море поднимается, и два! — оно опускается; это так
приятно — плевать на все.
Одиннадцать часов, одиннадцать ударов в тишине. Он протянул
руку, открыл чемоданчик, его правая щека горела, как факел;
одиннадцать часов, канделябр снова зажегся в ночи, она сидит в кресле,
маленькая и пухлая, с красивыми голыми руками, его щека горела,
пытка начиналась снова, рука поднималась, щека горела, я не трус,
он развернул пижаму: одиннадцать часов, доброй ночи, мама, я
целовал наложницу генерала в надушенные щеки, я смотрел на ее
руки, я склонялся перед ним, доброй ночи, отец, доброй ночи,
Филипп, доброй ночи, Филипп. Это было еще вчера, вчера. Он с
изумлением думал: «Это было лишь вчера. Но что же я сделал? Что
произошло с тех пор? Я положил пижаму в чемоданчик, вышел, как
всегда, и все изменилось: скала упала за моей спиной на дорогу,
напрочь перекрыв ее, и я не могу больше туда вернуться. Но когда,
когда это произошло? Я взял чемоданчик, тихо открыл дверь,
спустился по лестнице... Это было вчера. Она сидит в кресле, он стоит
у камина, вчера. В гостиной тепло и светло, я Филипп Грезинь,
пасынок генерала Лаказа, лиценциант по литературе, будущий поэт,
вчера, вчера, вчера и навсегда». Он разделся, надел пижаму: в меб-
лирашке он делал это по-новому, неуверенно, нужно заново
учиться. В чемоданчике был томик Рембо, он не стал его вынимать, ему
не хотелось читать. Один-единственный раз, если б она мне
поверила один-единственный раз, если б обвила мою шею прекрасными
ОТСРОЧКА
461
руками, если б сказала мне: «Я верю, ты мужественный, ты будешь
сильным», я бы не ушел. Это наложница, она приносила в мою
комнату слова генерала, слова этого ископаемого, она их упускала,
они были слишком тяжелы для нее, они закатывались под кровать,
пять лет я им позволял накапливаться там; пусть отодвинут
кровать, их там обнаружат: родина, честь, добродетель, семья — все они
там, в пыли, я ни одним не воспользовался для собственной выгоды.
Он стоял босиком на плитках, он чихнул и подумал: простужусь,
выключатель был рядом с дверью, он выключил свет, ощупью
добрался до кровати, он боялся наступить на какую-нибудь тварь, на
огромного паука с лапами, как человеческие пальцы, паука,
похожего на отрезанную ладонь, паука-птицееда, что, если они здесь
есть? Филипп скользнул под простыни, и кровать заскрипела. Его
щека горела, факел в ночи, жгучее пламя, он прислонил ее к
подушке. Сейчас они ложатся спать, она надела розовую сорочку с
кружевами. Сегодня вечером не так мучительно это представлять себе;
сегодня вечером он не посмеет к ней притронуться, ему будет
стыдно, а она, наложница, она все-таки не позволит, в то время как ее
сын гибнет от холода и голода невесть где, она думает обо мне, она
делает вид, что спит, но она меня видит, бледного, сурового, со
сжатыми губами п сухими глазами, она видит, как я иду в ночи под
звездами. Он не трус, мой мальчик не трус, мой мальчик, мое дитя,
мой дорогой. Если б я был там, если б мог быть там для нее одной
и пить слезы, сбегающие по ее щекам, и гладить эти прекрасные
нежные руки, мама моя, мамочка. «Генерал — канцлер», — сказал
ему в уши странный голос. Маленький зеленый треугольник
оторвался и начал вращаться, генерал — канцлер.
Треугольник вращался, это был Рембо, он рос, как гриб, высох
и покрылся коркой, опухоль на щеке, за победу, за победу, ЗА
ПОБЕДУ. «Я не трус!» — крикнул Филипп, внезапно проснувшись. Он
сидел на кровати весь в поту, с остановившимся взглядом,
простыня пахла серой, по какому праву они меня судят? Мужланы. Они
судят меня по своим законам, а я признаю только свои. По мне мое
возвышенное бунтарство! По мне моя гордость! Я из породы
властителей. «Ах! — с бешенством подумал он, — все это позже! Позже!
А пока надо ждать. Позже они повесят мраморную мемориальную
табличку на стене этой гостиницы: «Здесь Филипп Грезинь провел
ночь с 24 на 25 сентября 1938 года». Но меня уже не будет в живых».
Неясный и тихий шепот сочился из-под двери. Ночь внезапно
скончалась. Он смотрел на нее из глубины будущего, глазами этих лю-
462
Жан Поль Сартр
дей в черных пиджаках, разлагольствующих под мраморной
табличкой. Каждая минута истекала во мраке, драгоценная и
священная, уже прошедшая. Когда-нибудь эта ночь минет, полная славы,
как ночи Мальдорора*, как ночи Рембо. Моя ночь. «Зезетта», —
произнес мужской голос. Гордость разом затрепетала, прошлое
мигом взорвалось, пришло настоящее. В скважине повернули ключ,
сердце Филиппа бешено заколотилось. «Нет, это рядом». Он
услышал, как скрипнула дверь соседней комнаты. «Их по крайней мере
двое, — подумал он, — мужчина и женщина».
Они разговаривали. Филипп не разобрал о чем, но понял, что
мужчину звали Морис, и это его немного успокоило. Он снова лег,
вытянул ноги, отодвинул от подбородка простыню, боясь
подхватить какую-нибудь заразу. Раздалось что-то вроде пения.
Странного тихого пения.
— Не хныкай, — нежно промолвил мужчина, — не хныкай, это
ни к чему.
У него был теплый и шероховатый голос, он произносил слова
жестко и отрывисто, они выходили из глубины его горла то очень
быстро, то медленно, резкие и шероховатые; но все они
продлевались тихим печальным отзвуком. Странное пение прекратилось
после одного-двух всхлипов. Он наклоняется над ней, он берет ее
за плечи. Филипп чувствует две сильные руки у себя на плечах,
лицо склоняется над ним. Смуглое и худое лицо, почти черное,
голубоватые щеки, боксерский нос и прекрасные горькие губы, губы
негра.
— Не хныкай, — повторил голос. — Не раскисай, малыш,
успокойся.
Филипп совершенно успокоился. Он слышал, как они ходили
взад-вперед, как будто были в его номере. По полу проволокли
тяжелый предмет. Может быть, кровать или чемодан. Потом мужчина
снял туфли.
— В следующее воскресенье, — сказала Зезетта.
У нее был более вульгарный голос, но более певучий. Филипп
представлял ее себе не слишком отчетливо, возможно, она
блондинка с очень бледным лицом, как Сонечка из «Преступления и
наказания».
— Ну и что?
— Морис, ты что, забыл? Мы собирались к Жанне в Корбей.
— Ничего, съездишь без меня.
* Персонаж из стихов Лотреамона (Дюкасса).
ОТСРОЧКА
463
— У меня духу не хватит ехать без тебя, — сказала она.
Они понизили голос. Филипп не мог разобрать, что они
говорили, но ему стало радостно, потому что они были грустны. Это были
пролетарии. Настоящие пролетарии. Не такие, как тот пьянчуга.
— Ты когда-нибудь был в Нанси? — спросила Зезетта.
— Очень давно.
— Как там?
— Неплохо.
— Пришлешь мне оттуда почтовые открытки, ладно? Я хочу
видеть, где ты.
— Мы там наверняка долго не пробудем.
Настоящий пролетарий. Этот не хочет воевать, он не думает о
победе: он уезжает со смертью в душе только потому, что у него нет
выхода.
— Мой великан, — прошептала Зезетта.
Они замолчали. Филипп думал: «Они грустны», и сладкие
слезы увлажнили его глаза. Тихие, грустные ангелы. Я войду,
протяну им руки, я скажу им: «Я тоже грустный. Из-за вас, ради вас.
Ради вас я покинул родительский дом. Ради вас и ради всех, кто
уходит на войну». Мы будем стоять, Морис и я, по обе стороны от
нее, и я скажу им: «Я мученик мира». Он умиротворенно закрыл
глаза: теперь он не один, два грустных ангела оберегали его сон.
Мученик, лежащий на спине, как надгробное каменное изваяние,
и два грустных ангела с пальмовыми ветвями у изголовья. Они
шептали: «Мой великан, мой великан, не покидай меня, я люблю
тебя», и также другое слово, нежное и драгоценное, он уже не
помнил, какое именно, но это было самое нежное из нежных слов, оно
закружилось, вспыхнуло огненным венцом, и Филипп унес его с
собой в свой сон.
— Ах ты! — сказал Большой Луи. — Сто чертей!
Он сидел на тротуаре, он никогда бы не подумал, что у него
может так болеть голова, каждый приступ дергающей боли снова
пробуждал в нем недоумение. «Ох! — сказал он. — Ох, гад! Ах,
дерьмо, черт бы тебя побрал!» Он поднес руку к щеке и ощутил
что-то липкое и щекочущее, должно быть, это кровь. «Так, — сказал
он, — надо сделать перевязку. А куда они дели мой мешок?» Он
пошарил вокруг себя, и рука наткнулась на какой-то предмет, это
был бумажник. «Они что, потеряли свой бумажник?» — подумал
он. Он взял его и открыл, бумажник был пуст. Он нашел в кармане
серную спичку, чиркнул ею об асфальт: это был его бумажник. «Вот
464
Жан Поль Сартр
те на, — пробормотал он. — Ну и дела!» Его военный билет остался
в кармане рубашки, но бумажник был пуст. «И что же я теперь буду
делать?» Он пошарил руками по земле, он решил: «Нет, в полицию
я не пойду. Этого только не хватало». Он на минуту закрыл глаза
и начал глубоко дышать: голова так болела, что он опасался, не
было ли там дырки. Большой Луи осторожно потрогал голову — ее
вроде не проломили, но волосы липко спутались, кроме того, если
немного нажать, то как будто по голове колотушкой стучали. «В
полицию идти не годится, — подумал он. — Но что я буду делать?»
Его глаза привыкли к сумеркам, он различил в нескольких метрах
от себя на мостовой что-то темное. «Это мой мешок». Он пополз
на четвереньках, так как не мог держаться на ногах. «Что это?» Он
опустил пальцы в лужицу. «Они разбили мою бутылку», — подумал
он со сжавшимся сердцем. Он взял мешок, ткань промокла,
бутылка вдребезги. «Ох! Ну и дела! — сказал Большой Луи. — Ну и дела!»
Он выпустил мешок, сел в винную лужицу посреди мостовой и
заплакал; слезы шли носом, тело его сотрясалось, голова гудела:
после смерти матери он никогда так горько не плакал. Шарль был
совсем голый, с задранными ногами перед шестью старшими
медсестрами призывной комиссии, самая молодая из них махала
крыльями и шевелила челюстями, это означало: «Годен»; Матье
уменьшился и округлился, Марсель ждала его, раздвинув ноги,
Марсель была ракеткой, когда Матье стал совсем круглым, Жак
метнул его, он упал в черную яму, изрытую снарядами, упал в
войну; война буйствовала, бомба разбила окно и покатилась к ножке
кровати, Ивиш выпрямилась, бомба расцвела, превратилась в
букет роз, из него вышел Оффенбах. «Не уезжайте, — сказала Ивиш, —
не уходите на войну, иначе что со мной станется?» Победа, Филипп
шел в атаку с примкнутым штыком, он кричал: «Победа! Победа!
За победу!», двенадцать царей бежали, царица была освобождена,
он развязал ее путы, она была голой, маленькой, толстой и слегка
косила; шрапнель и фанаты устремились на капитана во весь опор,
Пьер принимал их на спину и складывал в заплечный мешок, но
четвертая захотела улететь, он схватил ее за подкрылье,
шуршащую и дрыгающуюся, он разразился смехом и стал ее ощипывать,
капитан молча смотрел на него, он лежал на спине, шрапнелью ему
вырвало щеки и десны, но оставались глаза, большие глаза, полные
презрения, Пьер побежал со всех ног, он дезертировал,
дезертировал, он бежал в пустыню, Мод спросила у него: «Я могу убрать со
стола?» Вигье умер, он начинал смердеть; Даниель снял брюки, он
ОТСРОЧКА
465
думал: «Есть взгляд», он встал перед взглядом — трус, педераст,
злобный вызов небесам. «Перед этим взглядом я таков, каков я
есть». Аннекен не мог уснуть, он думал: «Я мобилизован», и ему
это казалось нелепым, голова соседки тяжело давила на его плечо,
она пахла волосами и бриллиантином, он свесил руку и потрогал
соседку за бедро, это было приятно, но немного утомительно. Он
упал на живот, у него будто не было ног. «Любовь моя!» —
закричала она. «Что ты там говоришь?» — пробормотал сонный голос.
«Я во сне, — сказала Одетта, — спи, дорогой, спи». Филипп
внезапно проснулся: это был не крик петуха, это был тихий женский стон,
а, а-а-а, а-а, Филипп сначала подумал, что она плачет, но нет, он
хорошо знал такие стоны, он часто их слышал, приникнув ухом к
двери, бледный от бешенства и холода. Но на сей раз это не было
ему омерзительно. Это было совсем ново и нежно: музыка
ангелов.
— А-а-а, как я люблю тебя... — простонала-пропела Зезетта. — О!
О! О! Ох-ох-ох, а-а-а!
Наступила тишина. Он давил на нее всем своим крепким телом,
прекрасный ангел с черными волосами и горькими губами. Она
была расплющена, ублаготворена. Ужаленный ревностью, Филипп
быстро выпрямился и сел с ожесточенным сердцем и зло
искривленным ртом. Однако ему очень понравилась Зезетта.
— А-а-а-ах.
Он вздохнул: это был последний, завершающий стон; они
кончили. Через некоторое время он услышал мягкое шлепанье босых
ног по плитам пола, птицей на ветке запел кран, потом весь
водопровод затрясся в ужасающем урчанье. Зезетта вернулась к Морису,
свежая и с холодными ногами; кровать скрипнула, она прижалась
к нему, вдыхая терпкий запах его пота.
— Если тебя убьют, мне останется только наложить на себя
руки.
— Не говори чепухи.
— Да, да. Мне останется только покончить с собой, Момо.
— Ну и глупо. У тебя красивое тело, ты работящая, очень
любишь поесть и потрахаться, так что ты много потеряешь.
— Трахаться я люблю с тобой. Только с тобой! — страстно
возразила Зезетта. — Но тебе на это наплевать, ты и в ус не дуешь —
оставляешь меня, и все.
— Нет, мне не наплевать, — сказал Морис, — мне и самому
тошно.
466
Жан Поль Сартр
Он уедет. Он уйдет, он сядет на поезд в Нанси, я их никогда не
увижу, я никогда не увижу его лица, он никогда не узнает, кто я. Его
ступни скользнули по покрывалу: «Я хочу их видеть».
— Если б ты не уезжал. Если б ты мог остаться...
Морис ласково сказал ей:
— Не глупи.
«Я хочу их видеть». Он спрыгнул с кровати. Паук-птицеед
подстерегал его, спрятавшись под кроватью, но Филипп бежал быстрее
его, он нажал на выключатель и растворился в свете. «Я хочу их
видеть». Он натянул брюки, босыми ногами влез в туфли и вышел.
Две голубые лампочки освещали коридор. Над дверью
девятнадцатого номера кнопкой прикрепили серый клочок бумаги: «Морис
Тайер». Филипп прислонился к стене, сердце выпрыгивало из
груди, он задыхался, как после бега. «Что я им скажу?» Он вытянул
руку и слегка коснулся двери: они были там, за стеной. «Мне
ничего от них не надо, я просто хочу их видеть». Он наклонился и
прижался глазом к замочной скважине. Роговица ощутила дуновение,
он захлопал веками и совсем ничего не увидел: они погасили свет.
«Я хочу их видеть», — подумал он, стуча в дверь. Они не ответили.
Горло его сжалось, и все же он застучал сильнее.
— Что это? — послышался голос. Голос был резкий и суровый,
но он изменится. Дверь откроют, и голос изменится. Филипп
постучал еще раз: говорить он не мог.
— Что такое? — нетерпеливо повторили за дверью. — Кто там?
Филипп перестал стучать. Он задыхался. Глубоко вздохнув, он
сдавленно произнес:
— Я хотел бы с вами поговорить.
Наступило долгое молчание. Филипп хотел было уйти, но вдруг
услышал шум шагов и дыхание совсем рядом с дверью, щелчок, там
зажигают свет. Шаги удаляются, он надевает брюки. Филипп
попятился и прислонился к стене, ему стало страшно. Ключ
повернулся в скважине, дверь открылась, и в приоткрытом пространстве
появилась косматая рыжая голова, широкие скулы и лицо с
изрытой кожей. У мужчины были светлые, без ресниц глаза: он с
комичным изумлением смотрел на Филиппа.
— Вы ошиблись дверью, — сказал он.
Это был его голос, и в то же время неузнаваемый.
— Нет, — сказал Филипп, — я не ошибся.
— Ну? Так чего вы от меня хотите?
ОТСРОЧКА
467
Филипп смотрел на Мориса и думал: «Нет, это бессмысленно».
Но было слишком поздно. Он сказал:
— Я хотел бы с вами поговорить.
Морис колебался; по его глазам Филипп понял, что тот
собирается закрыть дверь; быстро придержав створку, он повторил:
— Я хотел бы с вами поговорить.
— Я вас не знаю, — сказал Морис. Его бесцветные глаза были
твердыми и сметливыми. Он был похож на слесаря, пришедшего
чинить кран в ванной.
— В чем дело, Морис? Чего он хочет? — взволнованно
произнесла Зезетта.
Ее голос был настоящим; настоящим было и ее нежное
невидимое лицо. Грубое лицо Мориса было сном. Кошмаром. Голос угас;
нежное лицо угасло; из темноты выступило жесткое, массивное,
реальное лицо Мориса.
— Тут какой-то тип, — сказал Морис. — Не знаю, чего он от меня
хочет.
— Я могу быть вам полезен, — пролепетал Филипп.
Морис недоверчиво смерил его взглядом. «Он видит мои
фланелевые брюки, — подумал Филипп, — мои туфли из телячьей
кожи, мою черную пижамную куртку с дорогим воротником.
— Я... я был в соседней комнате, — сказал он, придерживая
дверь. — И я... клянусь, что могу быть вам полезен.
— Иди сюда! — крикнула Зезетта. — Оставь его, Морис, иди ко
мне!
Морис все еще смотрел на Филиппа. Он с минуту
поразмышлял, и его насупленное лицо немного прояснилось.
— Это Эмиль вас послал? — спросил он, понизив голос.
Филипп отвел глаза.
— Да, — сказал он. — Эмиль.
— Ну так что?
Филипп вздрогнул.
— Я не могу говорить здесь.
— А откуда вы знаете Эмиля? — нерешительно продолжил
Морис.
— Позвольте мне войти, — взмолился Филипп. — Что с вами
случится, если вы меня впустите в комнату? Я ничего не могу
сказать в коридоре.
Морис открыл дверь.
468
Жан Поль Сартр
— Заходите, — сказал он. — Но даю вам пять минут — не больше.
Я хочу спать.
Филипп вошел. Комната была совершенно такая же, как у него.
Но на стульях висела одежда, чулки, трусики, на выложенном
красной плиткой полу у кровати лежали женские туфли, а на столе
стояла газовая плитка с кастрюлей. Пахло остывшим жиром. Зе-
зетта сидела на кровати, накинув на плечи сиреневый шерстяной
платок. Она была некрасива, со впалыми и живыми глазками. На
Филиппа она смотрела враждебно. Дверь закрылась, и он
вздрогнул.
— Ну? Чего от меня хочет Эмиль?
Филипп с мукой смотрел на Мориса: он не мог больше говорить.
— Нельзя ли побыстрее? — раздраженно сказала Зезетта. —
Завтра утром он уезжает, сейчас не время нас тревожить.
Филипп открыл рот, но не произнес ни слова. Он видел себя их
глазами, и это было невыносимо.
— Вы меня поняли или нет? — разозлилась Зезетта. — Я же вам
сказала, он завтра уезжает.
Филипп повернулся к Морису и сдавленным голосом сказал:
— Не нужно уезжать.
— Куда?
— На войну.
У Мориса был ошеломленный вид.
— Это шпик! — взвизгнула Зезетта.
Филипп, опустив руки, смотрел на красные плитки, он оцепенел,
это было почти приятно. Морис взял его за плечо и встряхнул:
— Ты знаешь Эмиля?
Филипп не ответил. Морис затряс его сильнее.
— Ты будешь отвечать? Я тебя спрашиваю, ты знаешь Эмиля?
Филипп поднял на Мориса отчаянные глаза.
— Я знаю одного старика, который делает фальшивые
документы, — сказал он тихо и быстро.
Морис тут же отпустил его. Филипп, потупившись, добавил:
— Он вам их сделает.
Наступило долгое молчание, потом Филипп услышал
торжествующий голос Зезетты:
— Что я тебе говорила, это провокатор!
Он осмелился поднять глаза, Морис грозно смотрел на него. Он
замахнулся на Филиппа большой волосатой лапой, но тот отскочил
назад.
ОТСРОЧКА
469
— Это неправда, — сказал он, закрываясь поднятым локтем, —
это неправда, я не шпик.
— Тогда какого черта ты пришел сюда?
— Я пацифист, — чуть не плача сказал Филипп.
— Пацифист! — ошеломленно повторил Морис. — Чего только
не насмотришься!
С минуту он чесал в затылке, потом расхохотался.
— Пацифист! — повторил он. — Скажи, Зезетта, ты понимаешь,
что это такое?
Филипп начал дрожать.
— Я вам запрещаю смеяться, — тихо сказал он.
Он закусил губы, чтобы удержаться от слез, и с трудом добавил:
— Даже если вы не пацифист, вы должны меня уважать.
— Уважать тебя? — переспросил Морис. — Уважать тебя?
— Я дезертир, — с достоинством сказал Филипп. — Если я вам
предлагаю фальшивые документы, то лишь потому, что заказал себе
тоже. Послезавтра я буду в Швейцарии.
Он смотрел Морису прямо в лицо: Морис сдвинул брови, у него
на лбу обозначилась морщинка в форме галочки, казалось, он
размышлял.
— Поедем со мной, — предложил Филипп. — У меня хватит
денег на двоих.
Морис с отвращением посмотрел на него.
— Ах ты, паршивец! — воскликнул он. — Видишь, какие на нем
шмотки, Зезетта? Конечно, война тебе внушает ужас, конечно, ты
не хочешь сражаться с фашистами. Ты их скорее облобызаешь, так
ведь? Именно они охраняют твои денежки, барчук чертов.
— Я не фашист! — вскинулся Филипп.
— А я, по-твоему, фашист? — взревел Морис. — А ну-ка, вон
отсюда, гад паршивый! Вон! Иначе я за себя не ручаюсь!
Ноги Филиппа хотели бежать. Его ноги, его ступни. Но он не
убежит. Он заставил себя приблизиться к Морису, он заставил
опуститься свой мальчишеский локоть. Он посмотрел на подбородок
Мориса, ему не хватало духу поднять глаза до его бледных глаз,
лишенных ресниц, он твердо сказал:
— Нет, я не уйду.
Некоторое время они молча стояли друг против друга, потом
Филиппа прорвало:
— Как вы жестоки. Все. Все. Я был рядом, я слышал, о чем вы
говорили, и я надеялся... Но вы такой же, как другие, вы — стена.
470
Жан Поль Сартр
Всегда осуждать, никогда не пытаясь понять; разве вы знаете, кто
я? Я дезертировал ради вас; я мог прекрасно остаться дома, где я
вдоволь ем и живу в тепле, среди красивой мебели, окруженный
слугами, но я все бросил ради вас. А вы, вас посылают на бойню, и
вы не противитесь этому, вы не пошевельнете и мизинцем, вам
сунут в руки ружье, и вы решите, что вы герои, а если кто-то пытается
поступить иначе, вы его сочтете барчуком, фашистом и трусом
только потому, что он не такой, как все. Я не трус, вы лжете, я не
трус, и не моя вина, что я сын богатых людей. Поверьте, гораздо
легче быть сыном бедняков.
— Я тебе советую уйти, — ровным голосом сказал Морис, —
потому что не люблю барчуков и могу разозлиться.
— Я не уйду! — топнул ногой Филипп. — С меня хватит,
наконец! С меня хватит всех этих людей, которые делают вид, будто не
видят меня, или же смотрят на меня свысока, а, собственно, по
какому праву? По какому праву? Я существую, и я вас стою. Я не уйду,
я останусь всю ночь, если нужно. Я хочу наконец объясниться.
— Ах, ты не уйдешь?! — прорычал Морис. — Ты не уйдешь?
Он схватил его за плечи и толкнул к двери; Филипп попробовал
сопротивляться, но это было безнадежно: Морис был силен, как
бык.
— Отпустите меня! — крикнул Филипп. — Отпустите меня, если
вы меня выставите, я останусь у вашей двери и подниму шум, я не
трус, я хочу, чтобы вы меня выслушали. Отпустите меня,
грубиян! — кричал он, пиная Мориса.
Он увидел поднятую руку Мориса, и сердце его остановилось.
— Нет! — воскликнул он. — Нет!
Морис два раза ударил его по лицу кулаком.
— Полегче, — сказала Зезетта, — он еще мальчишка.
— Послушай, парень... — неуверенно начал Морис.
— Вы увидите! — крикнул Филипп. — Вы все увидите! Вам
будет стыдно!
Он кинулся прочь из комнаты, вернулся в свой номер и закрыл
замок на два оборота. Поезд катился, пароход поднимался и
опускался, Гитлер спал, Ивиш спала, Чемберлен спал, Филипп
бросился на кровать и заплакал. Большой Луи шел нетвердой походкой,
дома, дома, дома, голова его горела, но он не мог остановиться, ему
нужно было идти в подстерегающей ночи, в этой ужасающей
шепчущей ночи, Филипп плакал, он был без сил, он слышал сквозь
стену их шепот, у него даже не было сил их ненавидеть, он плакал,
ОТСРОЧКА
471
изгнанный в холодную и жалкую ночь, в ночь серых перекрестков,
Матье проснулся, он встал и подошел к окну, он слышал шепот
моря, он улыбнулся этой прекрасной молочной ночи.
Воскресенье, 25 сентября
День стыда, день отдыха, день страха, день Бога, солнце вставало
над воскресеньем. Маяк, сигнальный огонь, крест, щека, ЩЕКА, Бог
несет свой крест в церквах, я ношу свою щеку по воскресным
улицам, смотрите-ка, у вас флюс; но нет: меня двинули по физиономии,
отвратительная жалкая личность, несущая ягодицы на лице; у
Большого Луи раздулась голова, она стала неудобной для ношения,
голова рассеченная, запеленутая, тыква, круглая тыква, они ударили
сзади, раз-два, он шел как бы в собственной голове, подошвы
шаркали в его голове, сегодня воскресенье, где я найду работу, двери
закрыты, большие железные двери, обитые гвоздями, ржавые,
закрытые, за ними мрак, пустота с запахом опилок, отработанной
смазки и ржавого железа на полу, усыпанном ржавыми стружками,
они закрыты, эти ужасные маленькие деревянные двери, закрыты,
за ними заполненное пространство, комнаты, набитые мебелью,
воспоминаниями, детьми, ненавистью, плотным запахом поджаренного
лука, белоснежный пристежной воротничок на кровати и
задумчивые женщины за фрамугами, он шел мимо окон, мимо взглядов,
оцепеневший и напряженный от них. Большой Луи шел между
кирпичными стенами и железными дверями, он шел без гроша в
кармане, хотелось есть, голова стучала, как сердце, он шел, и его подошвы
шлепали в голове, шлеп-шлеп, они шли, уже вспотевшие, по убитым
воскресным улицам, его щека освещала бульвар перед ним, он
думал: «Это уже военные улицы». Он думал: «Где же я поем?» Он
думал: «Неужели нет никого, кто бы мне помог?» Но маленькие
темные мужчины, рослые работяги с каменными лицами, брились,
думая о войне, думая, что у них целый день впереди, чтобы о ней
думать, целый пустой день, чтобы нести свою тревогу сквозь убитые
улицы. Война: закрытые лавки, пустынные улицы, триста
шестьдесят пять воскресений в год; Филипп теперь звался Педро Касарес,
он нес это имя в кармашке на груди: Педро Касарес, Педро Касарес,
Педро Касарес, Педро Касарес уезжал вечером в Швейцарию, он
увозил в Швейцарию опухшую прыщавую щеку, помеченную
пятерней; женщины смотрели на него с высоты своих окон.
472
Жан Поль Сартр
Бог взирал на Даниеля.
Назову ли я его богом? Одно-единственное слово — и все
меняется. Даниель прислонился к серым ставням, прикрывшим лавку
шорника, люди спешили в церковь, черные на розовой улице,
вечные. Все было вечным. Прошла молодая женщина, белокурая и
легкая, с волосами в продуманном беспорядке, она жила в
гостинице, муж, промышленник из По, навещал ее раз в неделю; у нее было
сонное лицо, потому что было воскресенье, ее ножки семенили к
церкви, ее душа была серебряным озером. Церковь: дыра; фасад в
романском стиле, во второй часовне по правую руку от входа
можно было увидеть каменную лежачую надгробную статую. Он
улыбнулся галантерейщице и ее маленькому сыну. Назову ли я его
богом? Он не был удивлен, он думал: «Это должно было случиться.
Рано или поздно. Я чувствовал, что Кто-то есть. Все, что я делал, я
делал для свидетеля. Без свидетеля тебя как бы нет».
— Здравствуйте, месье Серено, — сказала Надин Пишон. — Вы
идете к мессе?
— Да, я спешу, — ответил Даниель.
Он проследил за ней взглядом, она хромала больше обычного,
две маленькие девочки бегом догнали ее и весело закружились
вокруг нее. Он посмотрел на них. Метнуть на них мой наблюдаемый
взгляд! Мой взгляд полый, взгляд Бога пересекает его насквозь.
«Это уже фразы из романа», — вдруг подумал он. Бога больше здесь
не было. Этой ночью в испарине простыней его присутствие было
явным, и Даниель чувствовал себя Каином: «Вот я, вот я, каким Ты
меня сотворил, трус, полый человек, педераст. Ну, что дальше?» И
взгляд Его был повсюду, немой, прозрачный, таинственный.
Даниель в конце концов уснул, а проснулся уже один, осталось только
воспоминание о взгляде. Толпа текла из всех зияющих дверей,
черные перчатки, белоснежные пристежные воротнички, кроличий
мех, семейные требники в руках. «Да! — подумал Даниель. —
Необходим метод. Я устал быть всего лишь непрерывным испарением
в пустое небо, я хочу хоть какую-нибудь кровлю». Его задел,
проходя, мясник, толстый краснолицый мужчина, надевавший по
воскресеньям пенсне, чтобы подчеркнуть свою значительность; его
волосатая рука сжимала требник. Даниель подумал: «Сейчас он
будет себя демонстрировать, взгляд упадет на него от стекол и
витражей: все они будут себя демонстрировать; половина
человечества живет под взглядом. Но чувствует ли он на себе взгляд, когда
бьет топором по мясу, рассекая его и обнажая круглую голубоватую
ОТСРОЧКА
473
кость? Его видят, видят его жестокосердность, как я вижу его руки,
его жадность, как я вижу эти редкие волосы и эту толику жалости,
которая блестит под жадностью, как череп под волосами; он это
знает, и он перевернет загнутые страницы своего требника, он
застонет: «Господи, Господи, я жаден». И обращающий в камень
взгляд Медузы упадет сверху. Каменные добродетели, каменные
пороки: какой покой. «У этих людей проверенные методы», — с
досадой подумал Даниель, смотря на черные спины, погружающиеся
в сумрак церкви. Три женщины семенили рядком в рыжеватой
ясности утра. Три грустные, сосредоточенные, проживающие свою
жизнь женщины. Они зажгли очаг, подмели пол, налили молока в
кофе, они были все еще лишь рукой на конце веника, ладонью,
держащей ручку чайника, этой сетью тумана, распространяющейся на
предметы сквозь стены, по полям и лесам. Теперь они идут туда, в
сумрак, они идут стать тем, кто они есть. Он на отдалении
последовал за ними. «А что, если и я туда пойду? Для смеха: вот я, таков,
каким Ты меня сотворил, грустным, трусливым, неисправимым. Ты
смотришь на меня, и всякая надежда исчезает, я устал бежать от
самого себя. Но под Твоим оком я знаю, что не могу больше бежать
от себя. Я войду, я буду стоять среди этих коленопреклоненных
женщин, как памятник беззаконию. Я скажу: «Я — Каин. Ну и что?
Ты сотворил меня таким, терпи меня и дальше». Взгляд Марсель,
взгляд Матье, взгляд Бобби, взгляд моих кошек: эти взгляды
неизменно останавливались на мне. «Матье, я гомосексуалист. Я есмь,
я есмь, я есмь педераст, мой Бог». У старого человека с
морщинистым лицом застыла в глазу слеза, он злобно жевал порыжевшие от
табака усы. Он зашел в церковь, изношенный, разбитый, впавший
в детство, и Даниель вошел вслед за ним. А в это время Рибадо
прогуливался, посвистывая, по площадке для игры в шары, и парни ему
говорили: «Ну как, Рибадо, ты нынче в форме?» Рибадо думал об
этом, скручивая сигарету, он чувствовал себя сегодня бездельником,
он меланхолично смотрел на вагоны и на ряды бочек, у Него чего-то
не хватало в руках, тяжести обитого гвоздями шара, хорошо
примостившегося в его ладони; он смотрел на бочки и думал: «Жаль,
что воскресенье!» Мариус, Клодио, Реми уехали один за другим,
они теперь играют в солдатики; Жюль и Шарло делали что могли,
они катили бочки вдоль рельсов, они становились по двое, чтобы
поднять их, и бросали их в вагоны; ребята крепкие, но уже
немолодые, Рибадо слышал их тяжелое дыхание, пот струился по их голым
спинам; так они никогда не закончат. Какой-то высокий тип с по-
474
Жан Поль Сартр
вязкой на голове уже четверть часа бродил по складу; наконец он
подошел к Жюлю, и Рибадо увидел, как задвигались его губы.
Жюль слушал его с тупым видом, затем наполовину выпрямился,
подбоченился и кивком головы показал на Рибадо.
— Что там такое? — спросил Рибадо.
Человек неуверенно приблизился; он шел, как утка, ступнями в
сторону. Настоящий бандит. Он прикоснулся к повязке на манер
приветствия.
— Есть работа? — спросил он.
— Работа? — переспросил Рибадо. Он всмотрелся в человека:
настоящий бандит, повязка черноватая, у него крепкий вид, но лицо
его смертельно бледное.
— Работа? — еще раз переспросил Рибадо.
Они неуверенно рассматривали друг друга, Рибадо подумал: а
не упадет ли этот тип в обморок?
— Работа... — сказал он, почесывая голову. — Чего-чего, а этого
хватает.
Мужчина сощурил глаза. Вблизи он выглядел добродушней.
— Я могу работать, — сказал он.
— У тебя нездоровый вид.
— Чего?
— Я говорю, ты выглядишь больным.
Человек с удивлением посмотрел на него:
— Я не болен.
— Ты совсем белый. И потом, что это за повязка?
— Да это меня по голове ударили, — объяснил человек. —
Пустяки.
— Кто тебя ударил? Легавые?
— Нет. Дружки. Я могу работать хоть сейчас.
— Ой ли? — сказал Рибадо.
Человек наклонился, взял бочку и поднял ее на вытянутых
руках.
— Я могу работать, — сказал он, ставя ее на землю.
— Вот сучий сын! — с восхищением сказал Рибадо. Он добавил: —
Как тебя зовут?
— Меня зовут Большой Луи.
— У тебя есть документы?
— У меня есть военный билет, — сказал Большой Луи.
— Покажи.
ОТСРОЧКА
475
Большой Луи порылся во внутреннем кармане куртки,
осторожно вытащил военный билет и протянул его Рибадо. Рибадо
развернул его и присвистнул.
— Ого! — сказал он. — Ого!
— У меня все в порядке, — с беспокойством сказал Большой Луи.
— В порядке? А ты читать умеешь?
Большой Луи хитро посмотрел на него:
— Чтобы таскать бочки, читать не нужно.
Рибадо протянул ему билет:
— У тебя военный билет № 2, парень. Тебя ждут в Монпелье, в
казарме. Советую тебе поторопиться, не то тебя запишут
уклоняющимся от воинской повинности.
— В Монпелье? — озадаченно переспросил Большой Луи. — Но
мне нечего делать в Монпелье.
Рибадо разозлился.
— Я тебе говорю, что ты мобилизован! — закричал он. — У тебя
военный билет № 2, ты мобилизован.
Большой Луи положил военный билет в карман.
— Стало быть, вы меня не возьмете? — спросил он.
— Как я могу взять дезертира?
Большой Луи нагнулся и поднял бочку.
— Ладно, ладно, — живо сказал Рибадо. — Ты силач, не спорю.
Но какой мне от этого прок, если через сорок восемь часов тебя
арестуют?
Большой Луи поставил бочку на плечо; он сосредоточенно
смотрел на Рибадо, насупив густые брови. Рибадо пожал плечами:
— Извини.
Больше говорить было не о чем. Рибадо двинулся дальше,
думая: «На кой мне ляд уклоняющиеся». Он крикнул:
— Эй! Шарло!
— Чего? — отозвался Шарло.
— Посмотри на того типа, это уклоняющийся.
— Жалко, — сказал Шарло. — Он мог бы нам здорово помочь.
— Но не могу же я нанимать уклоняющегося, — сказал Рибадо.
— Понятное дело, нет, — согласился Шарло.
Оба обернулись: высокий парень, поставив бочку на землю, с
несчастным видом вертел в руках военный билет.
Толпа окружала их, несла, вращала кругами и, вращаясь,
уплотнялась сама. Рене уже не знал, был ли он неподвижен или
вращался с толпой. Он смотрел на французские флаги, развевающиеся над
476
Жан Поль Сартр
входом на Восточный вокзал; война была там, на оконечностях
рельсов, пока она не беспокоила, но он чувствовал, что ему грозит
катастрофа гораздо более близкая: толпа — это так опасно, над ней
всегда витает ветер беды. Похороны Галлиени*, он ползет, он
волочит свое белое платьице между черными корнями толпы, под
дьявольским пеклом солнца, возвышение рушится, не смотри, вот
они унесли неподвижную женщину, ее нога в красном кружеве
торчит из разорванной туфли; толпа окружала его под светлым и
пустым небом, я ненавижу толпу, он чувствовал везде глаза,
всепроникающее солнце, подкрашивающее его спину и живот, освещающее его
длинный бледный нос, отъезд в пригород в начале мая, в воскресенье,
а на следующий день в газетах: «Красное воскресенье», несколько
человек раздавлено насмерть. Ирен защищала его своим маленьким
пухленьким телом, не смотри, она меня тащит за руку, она меня
волочит, и женщина проходит за моей спиной, скользит над толпой, как
мертвец по Гангу. Она с осуждающим видом, подняв кулаки, смотрит
поверх фуражек на трехцветные флаги. Она говорит:
— Идиоты!
Рене сделал вид, что не слышит; но его сестра продолжала с
убежденной медлительностью:
— Идиоты. Их гонят на бойню, а они довольны.
Она вела себя неприлично. В автобусе, в кино, в метро она вела
себя неприлично, постоянно говорила то, что не нужно, с
решимостью исторгая из себя недопустимые слова. Он посмотрел назад,
этот тип с куньей головкой, слишком пристальным взглядом и
изъеденным носом слушал их. Ирен положила руку брату на плечо,
у нее был задумчивый вид. Только что она вспомнила, что она — его
старшая сестра, он подумал, что сейчас она станет давать ему
скучные советы, но, как бы то ни было, она потрудилась проводить его
на вокзал и теперь была одна среди этих мужчин без женщин, как
в те дни, когда он водил ее на матчи по боксу в Пюто, не стоило ее
раздражать. Она читала, лежа на диване, много курила и сама
моделировала свои мнения, как свои шляпки. Она ему сказала:
— Послушай меня, Рене, ты не поступишь,- как эти идиоты.
— Нет, — тихим голосом согласился Рене. — Нет, нет.
— Послушай меня, — снова начала она. — Ты не будешь
слишком усердствовать.
Когда она была убеждена, ее голос звучал особенно звонко.
* Французский генерал и администратор. Отличился в Судане и
организовал французскую колонию на Мадагаскаре.
ОТСРОЧКА
477
— Что это тебе даст? Иди, раз уж нельзя иначе, но попав туда,
ничем не отличайся. Ни в хорошем смысле, ни в плохом: это одно
и то же. И каждый раз, когда сможешь лечь, ложись.
— Да, да, — сказал он.
Она крепко держала его за плечи; она смотрела на него
проникновенно, но без восхищения; она продолжала свою мысль:
— Я же тебя знаю, Рене, ты — маленький бахвал и сделаешь что
угодно, лишь бы о тебе говорили. Но я тебя предупреждаю, если
вернешься с благодарностью в приказе, я с тобой перестану
разговаривать, потому что это слишком глупо. И если вернешься с одной
ногой короче другой или с изуродованным лицом, не рассчитывай,
что я тебя буду жалеть, и не рассказывай мне, что это произошло
случайно; минимум осторожности — и такого можно прекрасно
избежать.
— Да, — сказал он, — да.
Он думал, что она права, но этого нельзя было говорить. И даже
думать. Это должно происходить само собой, без слов, в силу
обстоятельств, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. Фуражки,
много фуражек, фуражки, как утром в понедельник, как по рабочим
дням, как на стройках, как на субботних митингах, Морис
чувствовал себя своим в самой гуще толпы. Прилив раскачивал поднятые
кулаки, медленно нес их с внезапными остановками, колебаниями,
новыми толчками к трехцветным флагам, товарищи, товарищи,
майские кулаки, цветущие кулаки текут к Гаршу, к красным
трибунам на лужайке Гарша, меня зовут Зезетта, и соколы поют, поют о
прекрасном месяце мае, о пробуждении планеты. Пахло бархатом и
вином, Морис был повсюду, он размножился, он пах бархатом, он
пах вином, он тер рукавом о шершавую ткань пиджака, маленький
кучерявый человек рюкзаком толкал его в поясницу, глухой топот
тысяч ног поднимался вверх, к животу. В небе над его головой
гудело, он поднял голову, увидел самолет, затем его взгляд опустился,
и он увидел под собой запрокинутые лица, отражение его лица, он
им улыбнулся. Два светлых озерка на обветренной коже, курчавые
волосы, шрам на лице, он улыбнулся. Он улыбнулся и очкарику, у
которого был такой прилежный вид, он улыбнулся худому и
бледному бородачу, который хмурился, поджимая губы. Все это кричало
в его уши, кричало и смеялось, серьезно, Жожо, это ты,
понадобилась война, чтобы мы встретились; было воскресенье. Когда заводы
закрыты, когда мужчины вместе и ждут с праздными руками на
вокзалах, с мешком за спиной, под железной судьбой, тогда воскре-
478
Жан Поль Сартр
сенье, и не имеет такого уж значения, отправляешься ли на войну
или в лес Фонтенбло. Даниель, стоя у скамеечки для молитв,
вдыхал спокойный запах погреба и ладана, смотрел на эти непокрытые
головы под фиолетовым светом, он один стоял среди
коленопреклоненных людей, Морис, окруженный стоящими мужчинами,
мужчинами без женщин, в лихорадочном запахе вина, угля, табака,
смотрел на фуражки под утренним светом и думал: «Это воскресенье».
Пьер спал. Матье нажал на тюбик, и червячок розовой пасты вышел
шипя, разорвался, упал на щетину щетки. Маленький паренек,
смеясь, толкнул Мориса: «Эй, Симон! Симон!» И Симон обернулся, у
него были красные глаза, он смеялся, он сказал: «Смотри-ка! Самое
время спеть "Мрачное воскресенье"*». Морис засмеялся, он
повторил: «Мрачное воскресенье!», и красивый молодой человек
улыбнулся ему в ответ, с ним была женщина, не слишком светская, но
недурно одетая; она цеплялась за его руку и умоляюще смотрела на
него, но он на нее не смотрел, если б он на нее посмотрел, они бы
сосредоточились друг на друге, они бы составили одно целое.
Одинокая пара. Он смеялся, он смотрел на Мориса, женщина не в счет,
Зезетта не в счет, она дышит, от нее сильно пахнет, она совсем
мягкая подо мной, любимый, войди в меня, было еще немного от ночи,
как пот между его телом и рубашкой, немного копоти, немного
тревоги, пресной и нежной, но он смеялся на открытом воздухе,
женщины были лишними; пришла война, война, революция, победа.
Мы оставим себе наши винтовки. Все они: кучерявый, бородач,
очкарик, высокий молодой человек вернутся со своими
винтовками, распевая «Интернационал», и наступит воскресенье.
Воскресенье навсегда. Он поднял кулак.
— Он поднимает кулак. Это умно.
Морис обернулся с поднятым кулаком.
— Что-что? — спросил он.
Это был бородач.
— Вы хотите умереть за Судеты?
— Заткнись! — рявкнул Морис.
Бородач, поколебавшись, зло взглянул на него, казалось, он
пытался что-то вспомнить. И вдруг закричал:
— Долой войну!
Морис отступил на шаг назад, и его рюкзак толкнулся в чью-то
спину.
* Название популярной в 1930-е годы венгерской песенки, которая, как
считалось, толкает людей на самоубийство.
ОТСРОЧКА
479
— Ты заткнешь глотку?! — крикнул он.
— Долой войну! — снова закричал бородач. — Долой войну!
Его руки начали дрожать, глаза закатились, он не мог
остановиться. Морис смотрел на него с печальным недоумением, без гнева,
на мгновение он подумал: не двинуть ли его по физиономии, только
чтобы заставить его замолчать, толкают же детей, когда у них икота;
но он еще чувствовал слабое тело, которого коснулись его руки,
оснований для гордости не было: недавно он ударил мальчишку;
много воды утечет, прежде чем я снова это сделаю. Он сунул руки в
карманы.
— Пошел вон, сука, — просто сказал он.
Бородач продолжал кричать голосом культурным и усталым,
голосом богача; и у Мориса вдруг возникло неприятное ощущение,
что все это было каким-то фарсом. Он огляделся, и радость его
улетучилась: виноваты все, они не делали того, что должны были
делать. На митингах, когда какой-нибудь тип начинает горланить
всякую ерунду, толпа набрасывается на него, сметает, сначала
видны его поднятые руки, а потом и вовсе ничего. Вместо этого
товарищи отступили, образовали вокруг бородача пустоту; молодая
женщина с любопытством смотрела на него, она отпустила руку
своего мужчины, парни отворачивались, с фальшивым видом они
притворялись, будто ничего не слышат.
— Долой войну! — снова крикнул бородач.
Странное чувство неловкости овладело Морисом: это солнце,
этот тип, одиноко выкрикивающий свое, все эти молчаливые люди,
понурившие головы... Неловкость переросла в тревогу; он плечом
раздвинул толпу и направился к входу в здание вокзала, к
настоящим товарищам, которые поднимали кулаки под флагами. Бульвар
Монпарнас был пустынным. Воскресенье. На террасе «Купола» ели
пять или шесть человек; торговка галстуками стояла на пороге
своей лавки; на втором этаже дома номер девяносто девять, над кафе
«Космос» мужчина без пиджака появился в окне и облокотился о
балюстраду. Мобер и Тереза испустили радостный крик: еще одна!
Там, там, на стене между «Куполом» и аптекой висел большой
желтый плакат, еще влажный, с красной рамкой, «Француз». Мобер
бросился, втянув шею в плечи, головой вперед. Тереза следовала за
ним, она радовалась, как безумная: они уже разорвали шесть таких
плакатов на глазах у перепуганных добрых буржуа, было здорово
иметь молодого и крепкого защитника, хорошо сложенного и
знающего, чего он хочет.
480
Жан Поль Сартр
— Мерзость! — воскликнул Мобер.
Он осмотрелся; рядом остановилась маленькая девочка лет
десяти, она смотрела на них, играя косичками; Мобер очень громко
повторил:
— Мерзость!
Тереза громким голосом сказала ему в спину:
— Как правительство допускает, чтобы вывешивалась подобная
мерзость?
Торговка галстуками не ответила: это была толстая сонная
женщина, рассеянная профессиональная улыбка застыла на ее
щекастом лице.
«Француз!
Немецкие требования неприемлемы. Мы сделали все, чтобы
сохранить Мир, но никто не может требовать, чтобы Франция
отказалась от своих обязательств и согласилась стать нацией
второго сорта. Если мы сегодня предадим чехов, завтра Гитлер
потребует Эльзас...»
Мобер схватил плакат за край и оторвал, точно ломтик утки,
длинную полоску желтой бумаги. Тереза взяла плакат за правый
угол, потянула, остался большой кусок:
Чтобы Франция
и согласилась
нацией
Если мы
предадим
На стене осталась желтая неровная звезда; Мобер отошел на
шаг, чтобы посмотреть на свою работу; желтая звезда с
безобидными разорванными словами. Тереза улыбнулась и посмотрела на
свои руки в перчатках, на них остался обрывок плаката, тонкая
кожура, приклеившаяся к правой перчатке: «Мир...», она потерла
большой палец об указательный, и маленькая желтая кожица
свернулась в шарик, высохла, скатываясь, стала твердой, как булавочная
головка. Тереза разжала пальцы, и шарик упал, она наслаждалась
ощущением собственной силы.
«Для маленького бифштекса, месье Дезире, маленького
бифштекса граммов на триста, что-нибудь хорошее, и отрежьте как
ОТСРОЧКА
481
следует, вчера меня обслуживал ваш приказчик, и я осталась
недовольна. Там было слишком много жил. Скажите, что там напротив?
В доме двадцать четыре черные занавески. Кто-то умер? — Да я не
знаю, — сказал мясник. — В доме двадцать четыре у меня нет
клиентов, они покупают у Бертье. Посмотрите, подойдет вам это,
розовое, нежное, пышное, как пена шампанского, и без жил, я бы съел
его прямо сырым. — В двадцать четвертом, — сказала мадам Лье-
тье, — ах да, вспомнила, это месье Вигье. — Месье Вигье? Не знаю
такого. Наверно, новый жилец? — Да нет, это невысокий пожилой
господин, вы его вспомните, он еще угощал конфетами Терезу. —
А-а, такой почтенный? Какая жалость! Я буду о нем сожалеть; месье
Вигье, возможно ли это! — Послушайте, он же был довольно стар —
и скончался, — сказала мадам Льетье, — знаете ли, как я сказала
мужу, он умер вовремя, этот старичок, у него нюх, может быть, через
шесть месяцев мы пожалеем, что мы не на его месте. Знаете, что они
изобрели? — Кто? — Да они же, немцы. Убивать людей, как мух, и
в ужасных страданиях. — Возможно ли это? Вот бандиты! Но что
это? Что? — Не знаю, какой-то газ, или, если хотите, луч, мне так
объяснили. — Тогда это луч смерти, — сказал мясник, качая
головой. — Да, нечто вроде этого. Уж лучше тогда лежать в сырой
земле. — Вы совершенно правы, я это все время говорю. Нет больше
хозяйства, нет больше забот; вот как я хотела бы умереть: вечером
засыпаешь, утром не просыпаешься. — Кажется, он так и умер. —
Кто? — Старичок Вигье. — Есть люди, которым везет, нам же
придется претерпеть все, несмотря на то что мы женщины, вы знаете,
что творилось в Испании. Нет, антрекот, и еще — нет ли у вас
потрохов для моей кошки? Когда я думаю: еще одна война! Мой муж
воевал в четырнадцатом, теперь очередь сына, говорю вам, люди с
ума сошли. Разве трудно договориться? — Но Гитлер не хочет
договариваться, мадам Боннетен. — Что? Гитлер? Он хочет себе
Судеты, этот субъект? Что ж, я бы ему их отдала. Я только не знаю,
люди это или горы, а мой сын пойдет из-за этого ломать себе шею.
Я бы их ему отдала! Вы их хотите: вот они. Тут бы он и попался.
Скажите, — продолжала она серьезно, — так похороны сегодня? Вы
не знаете, в котором часу? Я стану у окна — посмотреть, как его
выносят». Что они ко мне все лезут со своей войной? Большой Луи
держал военный билет, он сжимал его изо всех сил и не решался
положить его в карман: это было единственное, чем он владел на
белом свете. На ходу он развернул его, посмотрел на свою
фотографию и немного успокоился; эти маленькие черные черточки,
482
Жан Поль Сартр
которые говорили о нем, казались менее тревожащими, пока он на
них смотрел, у них был не такой уж зловещий вид. «Подумаешь!
Подумаешь! — сказал он. — Что за беда — не уметь читать?»
Дезертир, низкорослый изнуренный юноша, поднимался по проспекту
Клиши, волоча за собой свое отражение от витрины к витрине, он
был чужд ненависти и уклонялся от военной службы; он воображал
себя лихим малым с бритой головой, живущим в Барселоне, в
квартале Баррио-Чино*, в доме обожающей его девицы. Но как можно
быть в эти дни дезертиром? Он и сам уже не понимал, как к себе
относиться.
Даниель стоял внутри храма, священник пел для него; он думал:
«Отдых, покой, покой, отдых». Такой, что вечность меняет его
изнутри**. Ты меня создал, Господи, таким, каков я есть, и
неисповедимы пути Твои; я самый постыдный из Твоих замыслов, Ты меня
видишь, и я служу Тебе, я выпрямляюсь перед Тобой, я Тебя
поношу, но и понося, служу Тебе. Я Твое творение, Ты любишь себя во
мне, Ты меня терпишь, недаром же Ты создал чудовищ. Зазвенел
колокольчик, верующие склонили головы, но Даниель остался
стоять прямо, с остановившимся взглядом. Ты меня видишь, Ты меня
любишь. Он был спокоен и свят.
Похоронные дроги остановились у дверей дома двадцать
четыре. «Вот они, вот они», — сказала мадам Боннетен. «Это на
четвертом этаже», — сказала консьержка. Она узнала служащего
похоронного бюро и сказала ему: «Здравствуйте, месье Рене, как ваши
дела?» — «Здравствуйте, — сказал месье Рене. — Надо же,
придумали — хоронить в воскресенье». — «Да уж! — сказала
консьержка. — Такие уж мы вольнодумцы». Жак посмотрел на Матье и,
ударив кулаком по столу, сказал: «И даже если мы выиграем эту
войну, знаешь, кому это пойдет на пользу? Сталину». — «А если мы
ничего не предпримем, в выигрыше будет Гитлер», — тихо сказал
Матье. «Ну и что? Гитлер и Сталин — это то же самое. Зато
соглашение с Гитлером сэкономит нам два миллиона человек и спасет
нас от революции». Приехали. Матье встал и пошел посмотреть в
окно. Он даже не был раздражен; он подумал: «К чему все это?»
Филипп дезертировал, а небо хранило свой добродушный
воскресный вид, улицы пахли изысканной кухней, миндальными
пирожными, цыпленком, семьей. Прошла чета, мужчина нес пирожные в
вощеной бумаге, он нес их на розовой ленточке на мизинце. Как в
* В этом квартале жили воры, проститутки, нищие, бродяги и т. п.
** Первая строка «Могилы Эдгара По» С. Малларме.
ОТСРОЧКА
483
обычное воскресенье. Это шутка, это понарошку, видишь, как все
спокойно, ни одного водоворота, это маленькая воскресная смерть,
смерть в семье, тебе нужно только исправить свой поступок, небо
существует, продуктовый магазин существует, торт существует;
дезертиры не существуют. Воскресенье, воскресенье, первая
очередь у писсуара на площади Клиши, первое дневное тепло. Войти
в лифт, который только что спустился, вдохнуть в его темной
клети духи блондинки с четвертого этажа, нажать на белую кнопку,
легкое покачивание, тихое скольжение, вставить ключ в скважину,
как каждое воскресенье, повесить шляпу на третью вешалку,
поправить узел галстука перед зеркалом в прихожей, толкнуть дверь
гостиной, воскликнув: «Вот и я!» Что она будет делать? Разве она
не подойдет к нему, как каждое воскресенье, шепча: «Мой милый?»
Это было так правдоподобно, так удушливо от правдоподобия. И
однако, он все это потерял навсегда. «Если бы я только мог
разгневаться! Он дал мне пощечину, — подумал он. — Он дал мне
пощечину». Филипп остановился, у него кололо в боку, он
прислонился к дереву, он ни на кого не сердился. «Эх! — подумал он с
отчаянием. — Ну почему я больше не ребенок?» Матье снова сел
напротив Жака. Жак говорил, Матье смотрел на него, и все было
так скучно, письменный стол в полумраке, музыка по ту сторону
сосен, раковины сливочного масла на блюде, пустые бокалы на
подносе: какая незначительная вечность. Ему тоже захотелось
говорить. Так, ни для чего, говорить, чтобы ничего не сказать, просто
разбить эту вечную тишину, которую не удавалось прорвать голосу
брата.
— Не ломай понапрасну голову. Война, мир — это ведь одно и
то же.
— Как одно и то же? — изумился Жак. — Пойди скажи это
миллионам людей, которые готовятся идти на смерть.
— Ну и что? — добродушно возразил Матье. — Они носят в себе
смерть от рождения. И даже когда их перебьют всех до одного,
человечество будет заполнено, как и раньше: ни единого пробела, ни
единого недостающего.
— Кроме двенадцати — пятнадцати миллионов человек, —
сказал Жак.
— Дело не в количестве, — ответил Матье. — Оно заполнено
только самим собой, оно самодостаточно, и оно никого не ждет. Оно
по-прежнему будет идти никуда, и такие же люди зададут такие же
вопросы и упустят такие же возможности.
484
Жан Поль Сартр
Жак смотрел на него улыбаясь, чтобы показать, что он не
попался на удочку.
— И что ты хочешь этим сказать?
— Абсолютно ничего, — ответил Матье.
— Вот они, вот они! — взбудораженно закричала мадам Бонне-
тен. — Сейчас поставят гроб на катафалк.
Война, поезд отъезжал, ощетинясь поднятыми кулаками, Морис
нашел товарищей: Дюбеш и Лоран придавили его к окну, они пели:
«С интернационалом воспрянет род людской». «Ты поешь, как моя
задница!» — сказал ему Дюбеш. — «Как умею!» — огрызнулся
Морис. Ему было жарко, в висках ломило, это был самый прекрасный
день в его жизни. Шарлю было холодно, крутило в животе, он
позвонил в третий раз; он слышал стук торопливых шагов по
коридору, хлопали двери, но никто не приходил: «Чем они заняты? Я по
их милости наделаю под себя». Кто-то тяжело пробежал мимо
комнаты...
— Эй! — крикнул Шарль.
Топот продолжался, но шум за дверьми умолк, над его головой
стали громко стучать. Черт бы их побрал, если это маленькая Дор-
лиак, которая каждый месяц дает им пять тысяч одних только
чаевых, они подерутся, лишь бы зайти в ее комнату. Он вздрогнул,
вероятно, открыты окна, ледяной сквозняк прорывался из-под
двери, они проветривают, мы еще не уехали, а они уже проветривают;
шум, холодный ветер, крики проникали в комнату, как в мельницу,
я как будто на площади. Со времени своего первого рентгена он не
помнил такой тревоги.
— Эй! Эй! — закричал он.
Без десяти одиннадцать, Жаннин не пришла, на все утро его
бросили одного. Скоро там закончат эту суматоху наверху? Удары
молотка отдавались в глубине его глаз, можно подумать, что
заколачивают мой гроб. Глаза были сухие и болели, он внезапно
проснулся в три часа ночи после дурного сна. Впрочем, этот сон
походил на реальность: он остался в Берке; пляж, больницы, клиники —
все пусто, нет ни больных, ни медсестер, черные окна, пустынные
залы, насколько хватает глаз — голый серый песок. Но эта пустота
была не просто пустотой, такое видишь только во сне. Сон
продолжался; глаза у него были широко открыты, а сон длился: он лежал
на коляске посреди комнаты, но его комната была уже пустой; у нее
больше не было ни верха, ни низа, ни правой, ни левой стороны.
Оставалось четыре перегородки, именно четыре перегородки, кото-
ОТСРОЧКА
485
рые сходились под прямыми углами между четырьмя стенами. По
коридору волокли тяжелый и неровный предмет, наверняка
массивный чемодан богача.
— Эй! — закричал он. — Эй!
Открылась дверь, вошла госпожа Луиза.
— Наконец-то, — выдохнул он.
— Минуточку, минуточку! — сказала госпожа Луиза. — У нас сто
больных, и каждого нужно одеть; все по очереди.
— Где Жаннин?
— У нее нет времени сейчас заниматься вами. Она одевает
малышей Поттье.
— Дайте мне быстрее судно! — сказал Шарль. — Быстро, быстро!
— Что с вами? Это же не ваш час.
— Я нервничаю, — сказал Шарль. — Наверно, от этого.
— Да, но мне еще нужно вас собрать. Все должны быть готовы
к одиннадцати. Торопитесь.
Она развязала шнурок его пижамы и стянула брюки, потом
приподняла его за бедра и подсунула под него судно. Эмаль была
холодной и твердой. «У меня понос», — с ужасом подумал Шарль.
— Как же я буду в поезде, если у меня понос?
— Не беспокойтесь: все предусмотрено.
Она смотрела на него, перебирая связку ключей. Она ему
сказала:
— Во время отъезда будет хорошая погода.
Губы Шарля задрожали:
— Я не хочу уезжать...
— Будет вам! — сказала госпожа Луиза. — Ну что, все?
Шарль сделал последнее усилие.
-Все.
Она порылась в кармане передника и вынула бумажное
полотенце и ножницы. Она разрезала бумагу на восемь частей.
— Приподнимитесь, — сказала она.
Он услышал шорох бумаги, ощутил ее прикосновение.
— Уф! — произнес он.
— Так! — сказала она. — Пока я уберу судно, ложитесь на живот;
я закончу вас подтирать.
Он лег на живот, он слышал, как она ходит по комнате, потом
почувствовал касания ее ловких пальцев. Этот момент он
предпочитал всем остальным. Штучка. Бедная покинутая штучка. Член
затвердел под ним, и он поласкал его о свежую простыню.
486
Жан Поль Сартр
Госпожа Луиза повернула его, как мешок, посмотрела на его
живот и рассмеялась:
— Ах, шутник! — сказала она. — Мы будем вас вспоминать, месье
Шарль, вы настоящий затейник.
Она отбросила одеяло и сняла с него пижаму:
— Немного одеколона на лицо, — сказала она, протирая его. — Да,
туалет сегодня будет сокращен! Поднимите руку. Хорошо. Рубашка,
теперь трусы, не дрыгайтесь так, я не могу надеть вам носки.
Она отошла, чтобы оценить сделанное, и с удовлетворением
сказала:
— Теперь вы чистенький, как новая монетка.
— Путешествие будет долгим? — дрогнувшим голосом спросил
Шарль.
— Вероятно, — сказала она, надевая ему куртку.
— И куда же мы едем?
— Не знаю. Думаю, что сначала вы остановитесь в Дижоне.
Она огляделась вокруг:
— Посмотрю, не забыла ли чего. А, ну конечно! Ваша чашка!
Ваша голубая чашка! Вы ведь ее так любите!
Она взяла ее с этажерки и нагнулась над чемоданом. Это была
фаянсовая чашка, голубая, с красными бабочками. Очень красивая.
— Положу ее между рубашками, чтоб не разбилась.
— Дайте ее мне, — попросил Шарль.
Госпожа Луиза удивленно посмотрела на него и протянула ему
чашку. Он взял ее, приподнялся на локте и с размаху швырнул ее о
стену.
— Варвар! — возмущенно закричала госпожа Луиза. — Если вы
не хотели брать ее с собой, так отдали бы мне.
— Я не хочу ее ни отдавать, ни брать с собой, — сказал Шарль.
Она пожала плечами, направилась к двери и распахнула ее.
— Значит, уезжаем? — спросил он.
— Да, — сказала она. — Или вы хотите опоздать на поезд?
— Так быстро! — сказал Шарль. — Так быстро!
Она стала сзади него и толкнула коляску; он протянул руку,
чтобы на ходу коснуться стола, на мгновение он увидел окно и
кусочек стены в зеркале, прикрепленном над головой, а потом больше
ничего, он оказался в коридоре за сорока выстроенными в ряд
колясками вдоль стены; ему казалось, что у него вырывают сердце.
Похоронная процессия тронулась. «Уходят, уходят, — сказала
госпожа Боннетен. — Смотри-ка, почти никто не явился проводить
ОТСРОЧКА
487
его в последний путь». Они продвигались медленно, поминутно
останавливаясь, темная могила ждала в конце, медсестры толкали
коляски попарно, но лифт был только один, и погрузка заняла
много времени.
— Как же это все тянется! — сказал Шарль.
— Не бойтесь, без вас не уедут, — отозвалась госпожа Луиза.
Похоронная процессия проходила под окном, маленькая дама в
трауре, должно быть, родственница, консьержка закрыла
швейцарскую на ключ, дама шла рядом с крепкой женщиной в сером
костюме и в голубой шляпе, это была санитарка. Господин Боннетен
облокотился на перила балкона рядом с женой. «Папаша Вигье был
из братьев-каменщиков», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» — «Ха!
Ха!» — хохотнул он. Но спустя минуту добавил: «Он большим
пальцем рисовал треугольники у меня на ладони, когда пожимал мне
руку». Кровь прилила к вискам госпожи Боннетен: «Нельзя так
легкомысленно говорить о покойнике». Она проследила взглядом
за процессией и подумала: «Бедняга». Он лежал, вытянувшись на
спине, его уносили ногами вперед, к яме. Бедняжка! Как грустно не
иметь семьи. Она перекрестилась. Шарля толкали во всю длину к
темной яме, он почувствовал, как под ним ускользает лифт.
— Кто едет с нами? — спросил он.
— Никто из наших, — сказала госпожа Луиза. — Назначили трех
медсестер из нормандского шале и Жоржетту Фуке, которую вы,
конечно, знаете, она из клиники доктора Роберталя.
— А! Я знаю, кто это, — сказал Шарль, пока она осторожно
толкала его к яме. — Брюнетка с красивыми ногами. С виду у нее
нелегкий характер.
Он часто видел ее на пляже, где она наблюдала за группкой
маленьких рахитиков, по справедливости раздавая им
подзатыльники; у нее были обнаженные ноги, она носила холщевые туфли.
Красивые ноги, беспокойные и слегка волосатые. Он тогда
признался себе, что хотел бы, чтоб за ним ухаживала она. Сейчас его
спустят в яму на веревках, и никто не склонится над ним, кроме
этой маленькой женщины, у которой даже не слишком траурный
вид, как грустно так умирать; госпожа Луиза толкнула его в клеть
лифта, там, около перегородки, в тени, уже стояла коляска.
— Кто здесь? — спросил Шарль, щурясь.
— Петрюс.
— А, это ты, старая задница! — сказал Шарль. — Ну что?
Переезжаем?
488
Жан Поль Сартр
Петрюс не ответил, толчок, Шарлю показалось, что он парит в
нескольких сантиметрах от коляски, они погружались в яму, пол
четвертого этажа был уже над его головой, он покидал свою жизнь
сверху, как через отверстие слива.
— Но где она? — вырвалось у Шарля короткое рыдание. — Где
Жаннин?
Госпожа Луиза, казалось, не слышала его, и Шарль подавил
слезы, стесняясь Петрюса. Филипп шел, он уже не мог
остановиться; если он перестанет идти, то потеряет сознание; Большой Луи
шел, он поранил правую ногу. Какой-то господин показался на
пустынной улице, низенький толстяк с усами и в канотье, Большой
Луи протянул руку:
— Послушай, — сказал он. — Ты умеешь читать?
Господин отскочил в сторону и прибавил шагу.
— Не беги, — сказал Большой Луи, — я тебя не съем.
Господин ускорил шаги, Большой Луи захромал за ним,
протягивая ему военный билет; маленький господин в конце концов
пустился во все лопатки, испуская панические вопли. Большой Луи
остановился и посмотрел, как тот убегает, он почесывал череп над
повязкой: господин стал совсем маленьким и круглым, как мяч, он
прокатился до конца улицы, подпрыгнул, свернул за угол и исчез.
— Вот те на! — удивился Большой Луи. — Вот те на!
— Не нужно плакать, — сказала госпожа Луиза.
Она промокнула ему глаза своим платком, я даже и не
подозревал, что плачу. Шарль даже слегка умилился; было приятно
оплакивать самого себя.
— Я был так счастлив здесь...
— Непохоже, — сказала госпожа Луиза. — Вы вечно на кого-
нибудь ворчали.
Она отстранила решетку лифта и вывезла его в вестибюль.
Шарль приподнялся на локтях, он узнал Тотора и малышку Гаваль-
ду. Малышка Гавальда была бледна как полотно; Тотор зарылся в
одеяло и закрыл глаза. Мужчины в фуражках брали тележки при
выходе из лифта, перевозили их через порог клиники и исчезали с
ними в парке. Один мужчина подошел к Шарлю.
— Ну, прощайте и счастливого пути, — сказала госпожа Луиза. —
Когда приедете, пошлите нам открытку. И не забудьте: чемоданчик
с туалетными принадлежностями у вас в ногах, под одеялом.
Мужчина уже наклонялся над Шарлем.
ОТСРОЧКА
489
— Ай! — крикнул Шарль. — Будьте очень осторожны! Тут
нужна сноровка.
— Порядок, — сказал мужчина, — не такое уж хитрое дело —
толкать вашу коляску. Тачки на вокзале в Дюнкерке, вагонетки в
Лансе, тележки в Анзеле, я только это и делал всю жизнь.
Шарль замолчал, ему было страшно: парень, который катил
коляску малышки Гавальды, повернул ее на двух колесах и
оцарапал планку о стену.
— Подождите! — раздался голос Жаннин. — Подождите! Его
провожу на вокзал я.
Она бегом спускалась по лестнице, она запыхалась.
— Месье Шарль! — сказала она.
Она смотрела на него с грустным восторгом, грудь ее
вздымалась, она сделала вид, будто поправляет его одеяло, чтобы иметь
возможность дотронуться до него; значит, он владел еще чем-то на
земле; где бы он ни был, он будет владеть еще этим: этим большим
хлопотливым и почтительным сердцем, которое будет продолжать
биться для него в Берке, в пустой клинике.
— Что ж, — сказал он. — А я уж думал, вы меня бросили на
произвол судьбы.
— Месье Шарль, мне казалось, время так медленно движется.
Но раньше я не могла. Госпожа Луиза должна была вам сказать.
Она обошла коляску, грустная и озабоченная, стоя вертикально
на двух ногах, и он задрожал от ненависти: это была ходячая, у нее
вертикальные воспоминания, нет, он недолго задержится в этом
сердце.
— Ладно! Ладно! — сухо сказал он. — Поторопимся, везите
меня.
— Войдите, — произнес слабый голос.
Мод открыла дверь, и от запаха рвоты у нее перехватило горло.
Пьер вытянулся на полке. Он был бледен, на лице остались одни
глаза, но вид у него был вполне умиротворенный. Она сделала
движение назад, но заставила себя войти в каюту. На стуле у изголовья
Пьера стоял тазик, наполненный мутной пенистой жидкостью.
— Меня рвет уже только слизью, — ровным голосом сказал
Пьер. — Уже давно я вывернул все, что было в желудке. Убери таз
и сядь.
Мод, задержав дыхание, убрала таз и поставила его рядом с
умывальником. Она села, оставив дверь приоткрытой, чтобы про-
490
Жан Поль Сартр
ветрить каюту. Наступило молчание; Пьер смотрел на нее со
смущающим любопытством.
— Я не знала, что тебе плохо, — сказала она, — иначе пришла бы
раньше.
Пьер приподнялся на локте.
— Сейчас уже немного лучше, — сказал он. — Но я еще очень
слаб. Со вчерашнего дня меня не переставая рвет. Может, стоит
съесть что-нибудь в полдень, как ты думаешь? Я как раз собирался
заказать крылышко цыпленка.
— Но я не знаю, — раздраженно ответила Мод. — Ты должен сам
чувствовать, сможешь ли ты что-либо съесть.
Пьер озабоченно смотрел на одеяло:
— Конечно, есть риск нагрузить желудок, но, с другой стороны,
это может его наполнить, и если рвота возобновиться, то хоть чем-
то вырвет.
Мод недоуменно смотрела на него. Она думала: «Ив самом деле
нужно время, чтобы узнать мужчину».
— Что ж, скажу стюарду, чтобы принес тебе овощной бульон и
белого мяса.
Она принужденно засмеялась и добавила:
— Раз хочешь есть, значит, поправляешься.
Наступило молчание, Пьер поднял глаза и стал наблюдать за
ней с озадачивающей смесью внимания и безразличия.
— Ну, рассказывай: вы теперь во втором классе?
— Откуда ты знаешь? — недовольно спросила Мод.
— От Руби. Я ее вчера встретил в коридоре.
— Это верно, — призналась Мод, — мы уже во втором.
— Как вам это удалось?
— Мы предложили дать концерт.
— Вот как! — вымолвил Пьер.
Он не переставал смотреть на нее. Потом вытянул руки на
простыне и вяло сказал:
— К тому же ты переспала с капитаном?
— Что ты мелешь? — возмутилась Мод.
— Я видел, как ты выходила из его каюты, — сказал Пьер, —
ошибка исключена.
Мод стало не по себе. С одной стороны, она больше не должна
перед ним отчитываться, но с другой — было бы честнее
предупредить его. Она опустила глаза и кашлянула; она ощутила себя
виноватой и в итоге почувствовала нечто вроде нежности к Пьеру.
ОТСРОЧКА
491
— Но послушай, — сказала она, — если б я отказалась, Франс
меня не поняла бы.
— Ну при чем тут Франс? — миролюбиво сказал Пьер.
Она резко подняла голову: он улыбался, на лице его
сохранилось то же вялое любопытство. Мод почувствовала себя
оскорбленной, она предпочла б, чтобы он бесновался.
— Если хочешь знать, — сухо сказала она, — когда мы плывем,
я всегда сплю с капитаном, чтобы оркестр «Малютки» мог
путешествовать во втором классе. Вот так.
Некоторое время она ждала его возмущения, но он не проронил
ни слова. Мод наклонилась над ним и яростно выкрикнула:
— Но я не шлюха!
— Кто тебе сказал, что ты шлюха? Ты делаешь что хочешь или
что можешь. По-моему, ничего плохого в этом нет.
Ей показалось, что он ударил ее хлыстом по лицу Она резко
встала:
— Вот как? Ничего плохого в этом нет? Ничего плохого в этом
нет?
— Конечно, нет.
— Так вот, ты не прав, — с волнением сказала она. — Ты
совершенно не прав.
— Значит, что-то плохое есть? — шутливо спросил Пьер.
— Не пытайся меня запутать! Нет, ничего плохого в этом нет,
что тут может быть плохого? Кто против этого возражает? Ни типы,
которые вечно вертятся вокруг меня, ни мои подруги, которые
охотно меня используют, ни моя мать, которая больше ничего не
зарабатывает и которой я высылаю деньги. Ни ты, а ведь ты должен
думать иначе, чем они, потому что ты мой любовник.
Пьер сплел руки на одеяле, у него был загадочный и
блуждающий взгляд больного.
— Не кричи, — тихо сказал он, — у меня болит голова.
Она сдержалась и холодно посмотрела на него.
— Не бойся, — вполголоса сказала она, — я больше не буду
кричать. Только учти, что между нами все кончено. Потому что, поверь,
мне противно, что я позволяю трогать себя этому налитому супом
старику, и если б ты меня обругал, если б ты меня пожалел, я бы
решила, что ты немного дорожишь мной, и это придало бы мне
силы. Но если я сплю с кем придется, и от этого никому ни холодно
ни жарко, даже тебе, тогда я грязная девка, шлюха. Что ж, дорогой
492
Жан Поль Сартр
мой, шлюхам положено гоняться за толстосумами, и у них нет
необходимости путаться с нищей братией вроде тебя.
Пьер не ответил: он закрыл глаза. Мод отшвырнула ногой стул
и вышла, хлопнув дверью.
Шарль скользил, приподнявшись на локте, мимо шале, клиник,
семейных пансионов; все было пусто, сто двадцать два окна отеля
«Брен» были открыты; в вестибюле шале «Мон Дезир», в саду
виллы «Оазис» больные ждали, лежа в своих гробах, приподняв
головы, они молча смотрели на парад колясок; целая вереница колясок
катилась к вокзалу. Никто не разговаривал, слышны были только
поскрипывания осей и глухой стук колес, переваливающихся с
тротуара на мостовую. Жаннин шла быстро; они обогнали толстую
краснолицую старуху, которую вез сморщенный плачущий
старичок, они обогнали Зозо, его везла на вокзал его мать, хромая
женщина, служительница общественного туалета.
— Эй! эй! — закричал Шарль.
Зозо вздрогнул, он немного приподнялся и посмотрел на
Шарля светлыми пустыми глазами.
— Невезучие мы, — вздохнул он.
Шарль снова упал на спину; он чувствовал справа и слева от себя
эти горизонтальные тела, десять тысяч маленьких похорон. Он
снова открыл глаза и увидел кусочек неба, а потом сотни людей,
высунувшихся из окон домов на Большой улице и махавших платками.
Негодяи! Негодяи! Это им не 14 июля. Стая чаек, крича,
закружилась у него над головой, и Жаннин высморкалась за коляской.
Госпожа Верту плакала под траурным крепом, санитарка пристально
смотрела на единственный венок, который раскачивался позади
катафалка, но она слышала, как та плачет, она не должна была очень
о нем сожалеть, больше десяти лет она его не видела, но всегда
хранишь где-то внутри себя стыдливую и неутоленную нежность,
смиренно ждущую похорон, первого причастия, свадьбы, чтобы наконец
исторгнуть затаенные слезы; санитарка подумала о своей
парализованной матери, о войне, о племяннике, который скоро будет призван,
о нелегкой своей работе и тоже начала плакать, она была довольна,
маленькая дама плакала, за ними зашмыгала носом консьержка,
бедный старик, так мало народа его провожает, хотя у всех грустный
вид; Жаннин плакала, толкая тележку, Филипп шел, я сейчас
потеряю сознание, Большой Луи шел, война, болезнь, смерть, отъезд,
нищета; было воскресенье, Морис пел у окна купе, Марсель зашла в
кондитерскую, чтобы купить пирожных с кремом.
ОТСРОЧКА
493
— Вы не очень-то разговорчивы, — сказала Жаннин. — Я думала,
вам будет нелегко расставаться со мной.
Они поехали по вокзальной улице.
— Вы считаете, что я недостаточно расстроен? — спросил
Шарль. — Меня упаковывают, увозят неизвестно куда, не
спрашивая моего мнения, а вы хотите, чтобы я сожалел о вас?
— У вас нет сердца.
— Пусть так, — жестко сказал Шарль. — Вас бы на мое место.
Посмотрел бы я тогда на вас.
Она не ответила, внезапно он увидел над собой темный
потолок.
— Приехали, — сказала Жаннин.
Кого позвать на помощь? Кого нужно умолять, чтобы меня не
увозили, я сделаю все, чего захотят, но пусть меня оставят здесь, она
будет за мной ухаживать, она будет меня прогуливать, она
поласкает мою штучку...
— Эх! — сказал он. — Я, наверное, сдохну во время этого
путешествия.
— Вы с ума сошли! — встревоженно воскликнула Жаннин. — Вы
совсем сошли с ума, как вы можете так говорить?
Она обошла вокруг коляски и склонилась над ним, он
почувствовал ее горячее дыхание.
— Бросьте, будет вам! — сказал он, смеясь ей в лицо. — Не надо
сцен. Уж вы-то не будете печалиться, если я умру! Разве что
красивая брюнетка, медсестра доктора Роберталя.
Жаннин резко выпрямилась.
— Она дура и уродина, — сказала она. — Вы себе представить не
можете, сколько неприятностей она доставила Люсьенне. Вы бы с
ней ох как намучились, — прибавила она сквозь зубы. — И с ней не
пококетничаешь, она не такая глупая, как я.
Шарль привстал и с беспокойством осмотрелся. Более двухсот
колясок выстроились в ряд в вокзальном зале. Носильщики
толкали их одну за другой на перрон.
— Я не хочу уезжать, — прошептал он сквозь зубы. Жаннин
вдруг растерянно посмотрела на него.
— Прощайте, — сказала она ему, — прощайте, милая моя куколка.
Он хотел ей ответить, но тут коляска тронулась. Дрожь
пробежала у него от ног до затылка; он отбросил назад голову и вдруг
увидел красное лицо, склонившееся над ним.
— Пишите! — крикнула Жаннин. — Пишите!
494
Жан Поль Сартр
Но он был уже на перроне, в гомоне свистков и прощальных
криков.
— Это... это что, наш поезд? — с тревогой спросил он.
— Он самый. А чего вы ожидали? Восточный экспресс? — с
иронией спросил служащий.
— Но это же товарные вагоны!
Служащий сплюнул себе под ноги.
— В пассажирском вы не поместились бы, — объяснил он. —
Нужно было бы убрать сиденья, думаете это так просто?
Носильщики брали фиксаторы за два конца, отделяли от
тележек и несли их к вагонам. Их ждали служащие в фуражках, они
нагибались, хватали фиксаторы как могли и уносили их в темноту.
Красавец Самуэль, ловелас Берка, у которого было восемнадцать
костюмов, проплыл совсем рядом с Шарлем в руках двух
носильщиков и вверх ногами исчез в вагоне.
— Но ведь есть же санитарные поезда! — негодовал Шарль.
— Не спорю. Но кто же пошлет накануне войны санитарные
поезда, чтобы подбирать инвалидов?
Шарль хотел ответить, но его фиксатор вдруг качнулся, и он
был вознесен в воздух головой вниз.
— Несите меня прямо! — крикнул он. — Несите меня прямо!
Носильщики засмеялись, зияющая дыра приблизилась,
увеличилась, они отпустили веревку, и гроб с мягким стуком упал на
свежую землю. Склонившись над краем ямы, санитарка и
консьержка безудержно зарыдали.
— Видишь, — сказал Борис, — все они смываются.
Они сидели в холле отеля рядом с орденоносным господином,
читавшим газету. Портье спустил два чемодана из свиной кожи и
поставил их рядом с другими у входа.
— Семь отъезжающих сегодня утром, — сказал он безразлично.
— Взгляни на чемоданы: они из свиной кожи. Эти люди не
достойны их, — строго заметил Борис.
— Почему, мой красавец?
— Они должны быть обклеены ярлыками.
— Но тогда не была бы видна свиная кожа, — возразила Лола.
— Вот именно. Настоящую роскошь должно прятать. И потом,
это заменяло бы чехлы. Будь у меня такой чемодан, меня бы здесь
не было.
— А где бы ты был?
ОТСРОЧКА
495
— Все равно где: в Мексике или в Китае. — Он добавил: — С
тобой.
Высокая женщина в серой шляпе взволнованно прошла через
холл, она кричала:
— Мариетта! Мариетта!
— Это мадам Деларив, — сказала Лола. — Она уезжает сегодня
днем.
— Мы скоро останемся в отеле одни, — заметил Борис. — Вот
будет забавно: будем менять комнату каждый вечер.
— Вчера в казино, — сказала Лола, — меня слушали десять
человек. Поэтому я больше себя не утруждаю. Я попросила, чтобы их
всех собрали за столом посередине, и я им шепчу свои песни прямо
в уши.
Борис встал и пошел посмотреть на чемоданы. Он их украдкой
пощупал и вернулся к Лоле.
— Зачем они уезжают? — спросил он усаживаясь. — Им было
бы и здесь неплохо. Если это случится, их дома разбомбят на
следующий день после их приезда.
— Наверняка, — сказала Лола, — но ведь это их дома, тебе не
понятно?
-Нет.
— Так уж заведено, — сказала она. — Начиная с определенного
возраста неприятности ждешь у себя дома.
Борис засмеялся, и Лола с беспокойством выпрямилась; она
сохранила эту привычку с прежних времен: когда он смеялся, она
всегда опасалась, что он смеется над ней.
— Почему ты смеешься?
— Потому что ты считаешь себя очень смелой. Ты мне
объясняешь, что чувствуют люди определенного возраста. Но ведь ты
ничего в этом не смыслишь, моя бедная Лола: у тебя никогда не было
своего дома.
— Это верно, — грустно согласилась она.
Борис взял ее руку и поцеловал в ладонь. Лола покраснела.
— Как ты мил со мной. Ты так изменился...
— Ты недовольна?
Лола с силой сжала его руку.
— Довольна. Но я хотела бы знать, почему ты так мил.
— Потому что я взрослею, — ответил он.
Она не отняла у него руки и улыбалась, откинувшись в кресле.
Он был рад, что она счастлива: он хотел оставить ей добрые воспо-
496
Жан Поль Сартр
минания о себе. Он погладил ее руку и подумал: «Один год; у меня
только один год жизни с ней»; он совсем расчувствовался: их
история уже имела очарование прошлого. Раньше он держал ее в ежовых
рукавицах, но у них был как бы бессрочный контракт; это его
раздражало, он любил обязательства, ограниченные во времени. Один
год: он даст ей все счастье, которое она заслуживает, он исправит всю
свою неправоту, потом покинет ее, но не мерзко, не ради другой
женщины или потому, что она ему надоела: это случится само собой,
в силу обстоятельств, так как он станет совершеннолетним, и его
пошлют на фронт. Он украдкой посмотрел на нее: она выглядела
молодой, ее прекрасная грудь вздымалась от счастья; он грустно
подумал: «Я буду мужчиной одной женщины». Мобилизован в 40-м,
убит в 41-м, нет, в 42-м, ибо мне еще потребуется время обучиться —
вот и получится одна женщина за всю жизнь. Три месяца тому назад
он еще мечтал спать со светскими женщинами. «Каким я был тогда
мальчишкой», — снисходительно подумал он. Он умрет, не познав
герцогинь, но он ни о чем не жалел. С одной стороны, он мог бы за
те месяцы, которые еще остались, коллекционировать успехи, но
перестал этим интересоваться: «Стоит ли себя расточать? Когда
имеешь только два года жизни впереди, скорее подобает
сосредоточиться». Жюль Ренар сказал сыну: «Изучай только одну женщину,
но изучай ее хорошо, только так узнаешь женщин вообще». Нужно
было старательно изучать Лолу в ресторане, на улице, в постели. Он
провел пальцем по запястью Лолы и подумал: «Я ее еще не очень
хорошо знаю». Были закоулки ее тела, ему еще неведомые, он не
всегда знал, что творится у нее в голове. Но впереди у него был еще
год. И он примется за дело сейчас же. Он повернул к ней голову и
стал внимательно рассматривать Лолу.
— Почему ты на меня так смотришь? — спросила Лола.
— Я тебя изучаю, — ответил Борис.
— Я не хочу, чтобы ты на меня слишком внимательно смотрел,
я всегда опасаюсь, что покажусь тебе слишком старой.
Борис ей улыбнулся: она оставалась недоверчивой, она не могла
привыкнуть к своему счастью.
— Не волнуйся, — сказал он ей.
Вдова сухо с ними поздоровалась и села в кресло рядом с
орденоносным господином.
— Что ж, дорогая мадам, — сказал господин. — Скоро мы
услышим речь Гитлера.
— Да? Когда? — спросила вдова.
ОТСРОЧКА
497
— Он будет выступать завтра вечером в Sportpalast*.
— Брр! — вздрогнув, сказала она. — Тогда я рано пойду спать и
спрячу голову под простыню, не хочу его слышать. Думаю, ничего
хорошего он нам не скажет.
— Боюсь, что так, — сказал господин.
Наступило молчание, потом он продолжил:
— Самую большую ошибку мы совершили в 36-м году, во время
демилитаризации рейнской зоны. Туда следовало послать десять
дивизий. Покажи мы тогда зубы, и немецкие офицеры получили бы
приказ об отступлении. Но Сарро ждал согласия Народного
фронта, а Народный фронт предпочел отдать наше оружие испанским
коммунистам.
— Англия бы за нами не последовала, — заметила вдова.
— Она бы за нами не последовала! Она бы за нами не
последовала! — нетерпеливо повторил господин. — Что ж, тогда я задам вам
такой вопрос, мадам. Знаете, что бы сделал Гитлер, объяви Сарро
мобилизацию?
— Не знаю, — сказала вдова.
— Он бы покончил жизнь са-мо-у-бий-ством, мадам; я это знаю
из достоверных источников: я уже двадцать лет знаком с офицером
из 2-го отдела.
Вдова грустно покачала головой.
— Сколько потерянных возможностей! — воскликнула она.
— А по чьей вине, мадам?
— Ах! — вздохнула дама.
— Да! — сказал господин. — Да! Вот что значит голосовать за
красных. Француз неисправим: война у дверей, а он требует
оплаченных отпусков.
Вдова подняла глаза: на лице ее читалось подлинное
беспокойство.
— Значит, вы думаете, что будет война?
— Война... — озадаченно сказал господин. — Ну-ну, не так
быстро. Нет: Даладье не ребенок; он, безусловно, пойдет на необходимые
уступки. Но нас ждут большие неприятности.
— Мерзавцы! — сквозь зубы процедила Лола.
Борис с симпатией ей улыбнулся. Для нее чехословацкий
вопрос был очень простым: на маленькую страну напали, Франция
обязана ее защитить. Пусть она плохо разбиралась в политике, но
она великодушна.
* Дворец спорта (нем.).
498
Жан Поль Сартр
— Пойдем завтракать, — сказала она. — Они мне действуют на
нервы.
Она встала. Он посмотрел на ее красивые широкие бедра и
подумал: женщина. Это была женщина, вся женщина, которой он
будет обладать этой ночью. Он почувствовал, как от сильного
желания запылали его уши.
За спиной вокзал — и Гомес в поезде, ноги на скамейке, он
ускорил расставание: «Не люблю вокзальные объятия!» Она спускалась
по монументальной лестнице, поезд еще стоял, Гомес курил и читал,
положив ноги на скамейку, у него были красивые новые туфли из
отличной кожи. Она видела его туфли на серой обивке скамейки;
он был в первом классе; война приносит свои выгоды. «Я его
ненавижу», — подумала Сара. Она была сухой и опустошенной. Сначала
она еще видела ослепительное море, порт и пароходы, потом все это
исчезло: темные отели, крыши и трамваи.
— Пабло, не беги так вниз по лестнице — упадешь!
Малыш застыл на ступеньке, нога его зависла в воздухе. Скоро
он увидит Матье. Он мог бы остаться еще на день со мной, но
предпочел общество Матье. Руки ее горели. Пока он был здесь, это была
пытка; теперь, когда он уехал, я больше не знаю, куда идти.
Маленький Пабло серьезно смотрел на нее.
— Папа уже уехал? — спросил он.
Напротив были часы, они показывали час тридцать пять. Поезд
ушел семь минут назад.
— Да, — сказала Сара, — он уехал.
— Он уехал сражаться? — сверкая глазами, спросил Пабло.
— Нет, — сказала Сара. — Он поехал повидать друга.
— А потом он будет сражаться?
— Потом, — сказала Сара, — он будет заставлять сражаться
других.
Пабло остановился на предпоследней ступеньке. Он согнул
коленки и, соединив ноги, прыгнул на тротуар, затем обернулся и
посмотрел на мать, гордо улыбаясь. «Комедиант», — подумала она.
Она обернулась, не улыбнувшись, и пробежала взглядом
монументальную лестницу. Поезда шли, останавливались, снова трогались
у нее над головой. Поезд Гомеса катил на восток между меловыми
утесами, а возможно, между домами. Вокзал был пуст над ее
головой, большой серый пузырь, полный солнца и дыма, запаха вина и
сажи, рельсы блестели. Она опустила голову, ей было неприятно
думать об этом вокзале, покинутом наверху в белом полуденном
ОТСРОЧКА
499
зное. В апреле тридцать третьего года он уехал этим же поездом, на
нем был серый твидовый костюм, миссис Симпсон ждала его в
Каннах, они провели две недели в Сан-Ремо. «Лучше уж это», —
подумала она. Маленький робкий кулачок коснулся ее руки. Она
открыла ладонь и сомкнула ее на запястье Пабло. Она опустила
глаза и посмотрела на него. На нем была матроска и полотняная
шапочка.
— Почему ты на меня так смотришь? — спросил Пабло.
Сара отвернулась и поглядела на мостовую. Она ужаснулась
своей жестокости. «Ведь это всего лишь ребенок!» — подумала она.
Сара снова посмотрела на него, пытаясь улыбнуться, но ей это не
удалось, челюсти были сжаты, рот одеревенел. Губы малыша
задрожали, и она поняла, что сейчас он заплачет. Она резко потянула его
и пошла широкими шагами. Удивленный, малыш забыл про слезы
и засеменил рядом с ней.
— Куда мы идем, мама?
— Не знаю.
Она свернула направо, в первую попавшуюся улицу. Улица была
безлюдная, все магазины были закрыты. Она еще ускорила шаг и
свернула на улицу налево, тянувшуюся между высокими мрачными
и грязными домами. И тут было тоже пустынно.
— Ты меня заставляешь бежать, — сказал Пабло.
Сара сжала его руку, не отвечая, и поволокла его дальше. Они
пошли по большой прямой улице с трамвайными путями. Тут не
было ни автобусов, ни трамваев, только опущенные железные
шторы и рельсы, ведущие к порту. Она вспомнила, что сегодня
воскресенье, и сердце ее сжалось. Она грубо дернула Пабло за руку.
— Мама! — захныкал Пабло. — Ой, мама!
Он побежал, чтобы поспеть за ней. Он не плакал, он был совсем
белый, с кругами под глазами; он поднимал к ней недоверчивое
удивленное лицо. Сара резко остановилась; слезы увлажнили ее щеки.
— Бедный мальчик, — сказала она. — Бедный невинный малыш.
Она присела перед ним на корточки: какая разница, кем он
позже станет? Сейчас он здесь, безобидный и некрасивый, с
малюсенькой тенью у ног; в конце концов, он не просил, чтоб его родили.
— Почему ты плачешь? — спросил Пабло. — Потому что уехал
папа?
Слезы Сары сразу иссякли, и ей захотелось рассмеяться. Но
Пабло с озабоченным видом смотрел на нее. Она встала и сказала,
отворачиваясь:
500
Жан Поль Сартр
— Да. Да, потому что уехал папа.
— А мы скоро вернемся?
— Ты устал? Мы еще далеко от дома. Пошли, — сказала она, —
пошли. Мы пойдем медленно.
Они сделали несколько шагов, а потом Пабло остановился и
вытянул палец.
— Ой, смотри! — сказал он с почти болезненным восторгом.
Это была афиша на дверях совсем синего кинотеатра. Они
подошли. Запах формалина шел из темного прохладного холла. На
афише ковбой преследовал всадника в маске, стреляя из
револьвера. Опять выстрелы, опять револьверы! Пабло смотрел, тяжело
дыша; скоро он наденет каску, возьмет ружье и будет бегать по
комнате, изображая бандита в маске. У нее не хватило мужества увести
его. Она просто отвернулась. Кассирша обмахивалась у себя в
будке. Это была толстая брюнетка с бледной кожей и огненными
глазами. На полочке кассы за стеклом стояли цветы в кувшине; на
стене была прикноплена фотография Роберта Тейлора. Господин
средних лет вышел из зала и подошел к кассе.
— Сколько? — спросил он через окошечко.
— Пятьдесят три билета, — сказала она.
— Так я и думал. А вчера шестьдесят семь. А ведь какой хороший
фильм, с погонями!
— Люди предпочитают сидеть дома, — сказала кассирша,
пожимая плечами.
Какой-то человек остановился рядом с Пабло, он, тяжело дыша,
смотрел на афишу, но, казалось, не видел ее. Это был высокий
бледный мужчина в разорванной одежде, с окровавленной повязкой
вокруг головы и с засохшей грязью на щеках и руках. Должно быть,
он пришел издалека. Сара взяла Пабло за руку.
— Пошли, — сказала она.
Она заставила себя идти очень медленно — из-за малыша, но ей
хотелось бежать, ей казалось, что кто-то смотрит ей в спину.
Впереди блестели рельсы, асфальт медленно плавился на солнце, воздух
слегка дрожал вокруг фонаря, это было уже не то воскресенье.
«Люди предпочитают сидеть дома». Еще недавно она угадывала за
группой домов веселые оживленные бульвары, пахнущие рисовой
пудрой и сигаретами; она шла по тихой улице предместья, и ее
сопровождала невидимая, хоть и близкая толпа. Достаточно было
одного слова — и бульвары опустели. Теперь они сбегали к порту,
белые и пустынные; воздух подрагивал между пустых стен.
ОТСРОЧКА
501
— Мама, — сказал Пабло, — тот человек идет за нами.
— Да нет. Он делает то же, что и мы, он гуляет.
Она повернула налево, и это была такая же улица, бесконечная
и неподвижная; единственная улица шла теперь через весь Марсель.
И Сара была на этой улице с ребенком; а все марсельцы сидели по
домам. Пятьдесят три билета. Она думала о Гомесе, о смехе Гомеса:
конечно, все французы трусы. Ну и что? Они сидят по домам, это
естественно; они боятся войны, и они совершенно правы. Но ей по-
прежнему было не по себе. Она заметила, что ускорила шаги, но тут
же решила идти медленнее — из-за Пабло. Но теперь мальчик сам
тянул ее вперед.
— Быстрее, быстрее, — задыхаясь, умолял он. — Ну, мама!
— Что такое? — сухо спросила она.
— Он все еще здесь, он идет за нами.
Сара немного повернула голову и увидела того же оборванца;
он шел за ними, это очевидно. Сердце ее заколотилось.
— Бежим! — сказал Пабло.
Она подумала об окровавленной повязке и резко повернулась.
Бродяга сразу остановился и посмотрел на них затуманенными
глазами. Саре стало страшно. Мальчик цеплялся за нее обеими
руками и изо всех сил тянул ее назад. «Люди сидят по домам». Она
может сколько угодно кричать, звать на помощь, никто не придет.
— Вам что-нибудь нужно? — спросила она бродягу, смотря ему
в глаза.
Он жалко улыбнулся, и страх Сары исчез.
— Вы умеете читать? — спросил он.
Он протянул ей старую разорванную книжку, это был военный
билет. Пабло обхватил ноги Сары руками, она чувствовала его
теплое тельце.
— А что? — спросила она.
— Я хочу знать, что там написано, — сказал оборванец, указывая
пальцем на листок.
Несмотря на фиолетовый, наполовину закрывшийся глаз, у него
был добродушный вид. Сара искоса посмотрела на него, потом на
листок.
— Вот беда-то, — смущенно пробормотал человек. — Вот беда-
то — совсем не умею читать.
— Что ж, у вас предписание, — сказала Сара. — Вам нужно ехать
в Монпелье.
502
Жан Поль Сартр
Она протянула ему билет, но человек не сразу его взял. Он
спросил:
— Правда, что будет война?
— Не знаю, — сказала Сара.
Она подумала: «Он скоро уедет». И потом подумала о Гомесе.
Она спросила:
— Кто вам сделал повязку?
— Сам, — сказал бродяга.
Сара порылась в сумочке. У нее были булавки и два чистых
платка.
— Сядьте на тротуар, — властно сказала она.
Бродяга тяжело сел.
— У меня окоченели ноги, — с извиняющимся смехом сказал он.
Сара разорвала платки. Гомес читал «Юманите» в первом
классе, положив ноги на скамейку. Он увидится с Матье, потом
направится в Тулузу и сядет на самолет в Барселону. Сара развязала
окровавленную повязку и осторожными рывками сняла ее. Бродяга
слегка застонал. Черная липкая корка покрывала половину головы.
Сара протянула платок Пабло:
— Пойди намочи в фонтане.
Малыш убежал, обрадовавшись, что может уйти. Бродяга
поднял глаза на Сару и сказал ей:
— Я не хочу воевать.
Сара мягко положила руку ему на плечо. Ей хотелось попросить
у него прощения.
— Я пастух, — сказал он.
— Что вы делаете в Марселе?
Он покачал головой.
— Я не хочу воевать, — повторил он.
Пабло вернулся, Сара кое-как промыла рану и быстро
наложила повязку.
— Вставайте, — сказала она.
Он встал. Он растерянно смотрел на нее.
— Значит, мне нужно в Монпелье?
Она порылась в сумочке и вынула две купюры по сто франков.
— Вам на дорогу, — сказала она.
Человек взял их не сразу: он пристально смотрел на нее.
— Возьмите, — тихо и быстро сказала Сара. — Возьмите. И не
воюйте, если можете этого избежать.
Он взял деньги. Сара сильно сжала его руку.
ОТСРОЧКА
503
— Не воюйте, — повторила она. — Делайте что хотите, вернитесь
домой, спрячьтесь. Все лучше, чем воевать.
Он смотрел на нее, не понимая. Она схватила Пабло за руку,
сделала полуоборот, и они пошли дальше. Через некоторое время
она обернулась: он смотрел на повязку и влажный платок, которые
Сара бросила на мостовую. Потом наклонился, взял их, пощупал и
положил в карман.
Капли пота катились по его лбу до висков, спускались по щекам
от ноздрей до ушей, он сначала подумал, что это насекомые, он
ударил себя по щеке, и его рука раздавила теплые слезы.
— Черт возьми! — сказал его сосед слева. — Ну и жара. Он узнал
голос, это был Бланшар, жирная скотина.
— Они это делают нарочно, — сказал Шарль, — часами
оставляют вагоны на солнце.
Наступило молчание, потом Бланшар спросил:
— Это ты, Шарль?
— Я, — сказал Шарль.
Он пожалел, что заговорил. Бланшар обожал выбрасывать
разные фортели: он брызгал на людей из водяного пистолета, или же
скатывался на них и прикалывал картонного паука к их одеялам.
— Вот и встретились, — сказал Бланшар.
-Да.
— Мир тесен.
Шарль получил струю воды прямо в лицо. Он вытерся и
плюнул: Бланшар хохотал.
— Мать твою за ногу! — выругался Шарль. Он достал платок и
вытер шею, принуждая себя засмеяться. — Это опять твой водяной
пистолет?
— Да, — смеясь, сказал Бланшар. — Я не промахнулся, а? Прямо
в рожу! Не огорчайся, у меня шуточек полные карманы: будем
развлекаться в дороге.
— Ну и мудило! — сказал Шарль со счастливым смехом. — Ну
и мудило же ты!
Бланшар внушал ему страх: их фиксаторы соприкасались, если
он захочет меня ущипнуть или бросить мне под одеяло колючку
шиповника, ему достаточно протянуть руку. «Мне не везет, —
подумал он, — нужно быть начеку всю дорогу». Он вздохнул и
заметил, что смотрит на потолок, большую мрачную поверхность,
усеянную заклепками. Он повернул свое зеркальце назад, стекло было
черное, как закопченная стеклянная пластинка. Шарль приподнял-
504
Жан Поль Сартр
ся и огляделся вокруг. Раздвижную дверь оставили широко
открытой; в вагон проникал золотистый свет, пробегая по лежащим телам,
он касался одеял, высвечивал лица. Но освещенная часть была
строго ограничена рамкой двери; слева и справа была почти полная
темнота. Счастливчики, они, должно быть, дали деньги
носильщикам; у них будет и воздух, и свет; время от времени, приподнимаясь
на локте, они будут видеть, как снаружи мелькает зеленое дерево.
Обессиленный, он снова упал, его рубашка взмокла. Хоть бы скорее
тронуться! Но поезд стоял, заброшенный, окутанный солнцем.
Странный запах — гнилой соломы и духов «Убиган» — застоялся
на уровне пола. Шарль вытянул шею, чтобы избавиться от него — он
вызывал тошноту, но, обливаясь потом, оставил эти попытки, и
запахи плотной салфеткой накрыли его нос. Снаружи были рельсы,
и солнце, и пустые вагоны на запасных путях, и выбеленные пылью
кустарники: пустыня. А чуть дальше было воскресенье. Воскресенье
в Берке: дети играют на пляже, семьи пьют кофе с молоком в кафе.
«Забавно, — подумал он, — забавно». В другом конце вагона
раздался голос:
— Дени! Эй, Дени!
Никто не ответил.
— Морис, ты здесь?
Снова молчание, потом голос огорченно заключил:
— Негодяи!
Тишина была прервана. Рядом с Шарлем кто-то застонал:
— Какая жара...
Слабый и дрожащий голос, голос тяжело больного, ответил:
— Когда поезд тронется, будет полегче.
Они говорили вслепую, не узнавая друг друга; кто-то со
смешком сказал:
— Вот так и ездят солдаты.
Потом снова наступила тишина. Жара, тишина, тревога. Вдруг
Шарль увидел две красивые ноги в белых нитяных чулках, его
взгляд поднялся вдоль белого халата: это была красивая медсестра.
Она только что поднялась в вагон. В одной руке она держала
чемодан, в другой — складной стул; она злым взглядом окинула вагон.
— Безумие, — сказала она, — чистое безумие.
— Чего-чего? — грубо переспросил кто-то снаружи.
— Если бы вы хоть чуть-чуть подумали, то, конечно, уразумели
бы, что нельзя помещать мужчин в одном вагоне с женщинами.
— Мы их разместили в том порядке, как нам их привезли.
ОТСРОЧКА
505
— Так что, я должна их обихаживать друг при друге?
— Нужно было быть здесь, когда их привезли.
— Не могу же я быть одновременно повсюду! Я в это время
занималась багажом.
— Какая неразбериха! — возмутился какой-то мужчина.
— Это еще мягко сказано.
Наступило молчание, потом медсестра сказала:
— Окажите мне любезность и позовите ваших сотрудников; мы
переведем мужчин в последний вагон.
— Еще чего! Кто нам заплатит за дополнительную работу?
— Я подам жалобу, — сухо сказала медсестра.
— Хорошо. Можете подавать жалобу, моя красавица. Мне на это
плевать.
Медсестра пожала плечами и отвернулась; она осторожно
прошла между лежащими и села на свой складной стул неподалеку от
Шарля, на самом краю светового прямоугольника.
— Эй! Шарль! — позвал Бланшар.
— Чего? — вздрогнув, отозвался Шарль.
— Оказывается, здесь бабы.
Шарль не ответил.
— А как же, если мне понадобится пос.ть? — громко сказал
Бланшар.
Шарль покраснел от бешенства и стыда, но тут же вспомнил о
колючке шиповника и издал заговорщицкий смешок.
На уровне пола кто-то копошился, наверняка мужчины
выворачивали шеи, чтобы разглядеть, есть ли у них соседки. Но в общем
и целом в вагоне витало нечто вроде смущения. Тут и там раздался
шепот и умолк. «А что, если мне понадобится пос.ть?» Шарль
почувствовал себя грязным изнутри, каким-то свертком липких и
влажных кишок: какой стыд, если придется просить судно в
присутствии девушек. Он натужился и подумал: «Я буду держаться до
конца». Бланшар сопел, его нос издавал какую-то невинную
мелодию, надо же, он умудрился уснуть. У Шарля мелькнула надежда,
он вынул из кармана сигарету и чиркнул спичкой.
— Что такое? — всполошилась медсестра.
Она положила вязанье на колени. Шарль видел ее разгневанное
лицо очень высоко и далеко над собой, в синей тени.
— Я зажигаю сигарету, — сказал он; собственный голос
показался ему чудным и нескромным.
— Нет-нет, — сказала она. — Это нельзя. Здесь не курят.
506
Жан Поль Сартр
Шарль задул спичку и кончиками пальцев пощупал вокруг себя.
Между двумя одеялами он обнаружил влажную и шероховатую
доску, которую он поцарапал ногтем, перед тем как положить туда
маленький, наполовину обуглившийся кусочек дерева; но вдруг это
прикосновение привело его в ужас, и он положил руки на грудь. «Я
на уровне пола», — подумал он. На уровне пола. На земле. Под
столами и стульями, под каблуками медсестер и носильщиков,
раздавленный, наполовину смешанный с грязью и соломой, любое
насекомое, бегающее в бороздках пола, может вскарабкаться мне на
живот. Он пошевелил ногами, поскреб пятками о фиксатор. Но так
тихо, чтобы не разбудить Бланшара. Пот струился по его груди; он
поднял колени под одеялом. Бесконечные мурашки в ягодицах и в
ногах — такие же мучили его в первое время в Берке. Со временем
все успокоилось: он забыл свои ноги, он привык, что его толкают,
катят, несут, он стал вещью. «Это не вернется, — с тревогой подумал
он. — Боже мой, неужели это уже никогда не вернется?» Он
вытянул ноги и закрыл глаза. Нужно было думать: «Я всего лишь
камень, просто камень». Его стиснутые ладони открылись, он
почувствовал, как его тело медленно окаменевает под одеялом. Камень
среди других камней.
Он резко выпрямился, открыв глаза, шея напряглась; был
толчок, затем скрип, монотонное движение, умиротворяющее, как
дождь: поезд тронулся. Он что-то миновал; снаружи проходили
прочные и тяжелые от солнца предметы, они скользили вдоль
вагонов: неразличимые тени, сначала медленно, потом все быстрее и
быстрее, бежали по светящейся перегородке напротив открытой
двери; это было как на экране кинотеатра. Свет на перегородке
немного побледнел, затем посерел, потом совсем поблек: «Выезжаем
с вокзала». У Шарля болела шея, но он чувствовал себя спокойнее;
он снова лег, поднял руки и повернул свое зеркальце на девяносто
градусов. Теперь в левом углу зеркала он видел кусочек
освещенного прямоугольника. Ему этого было достаточно: эта блестящая
поверхность жила, на ней видоизменялся целый пейзаж, свет то
дрожал и бледнел, как будто собираясь окончательно истаять, то снова
затвердевал и застывал, принимая вид охряной побелки; потом на
мгновение он вздрагивал, пронзенный косыми волнообразными
движениями, как бы морщинясь от ветра. Шарль подолгу смотрел
на него: через некоторое время он почувствовал себя
освобожденным, ему казалось, будто он сидит, свесив ноги, на подножке вагона
и созерцает пробегающие деревья, уходящие поля, море.
ОТСРОЧКА
507
— Бланшар, — прошептал он.
Ответа не было. Он немного подождал и снова прошептал:
— Ты спишь?
Бланшар не ответил. Шарль вздохнул и удовлетворенно
расслабился, он полностью вытянулся, не сводя глаз с зеркала. Он
спит, он уже спит; когда Филипп зашел в кафе, он едва держался на
ногах; он опустился на скамейку, но глаза его были сонными, они
говорили: «Вы со мной не справитесь!» С очень злым видом он
заказал кофе, такой вид бывает у тех, кто принимает официантов за
возможных врагов; обычно это совсем молодые: юнцы думают, что
жизнь — сплошная борьба, они это вычитали в книжках, и, попав в
кафе, заказывают какой-нибудь гранатовый напиток и смотрят при
этом так, что бросает в дрожь.
— Один кофе и два китайских чая, и отнесите это на террасу, —
распорядился Филипп.
Она нажала на кнопку и повернула рукоятку. Феликс
подмигнул ей и показал на спящего миниатюрного юношу. Это была не
борьба, это болото, как только делаешь движение, то погружаешься
в трясину, но они это сразу не осознают, в первые годы они много
перемещаются, а фактически увязают. Когда-то я поступала так же,
но теперь постарела, я сохраняю спокойствие, прижав руки к телу,
я не двигаюсь, в моем возрасте главное — оставаться на
поверхности. Он спал, открыв рот, его челюсть отвисла, он был некрасив,
красные опухшие веки, красный нос делали его похожим на барана.
Я сразу догадалась, когда увидела, как он слепо входил в пустой зал,
снаружи было солнце, а на террасе — клиенты, я подумала: «Ему
нужно написать письмо, а может, он ждет женщину, но скорее всего
с ним что-то случилось». Он поднял длинную бледную руку,
отогнал, не открывая глаз, несуществующих мух. Горести преследовали
его и во сне; неприятности следуют за человеком везде; я сидела
тогда на скамье, смотрела на рельсы и на туннель, где-то пела птица,
а я была беременна, и меня выгнали, я все глаза выплакала, в
сумочке не было ни гроша, только билет, я уснула, и мне приснилось, что
меня убивают, тащат куда-то за волосы, называют потаскухой,
потом пришел поезд, и я в него села. Я уговариваю себя, что он
получит пособие, он — старый рабочий, инвалид, нельзя ему в пособии
отказать, но они постараются отвязаться от него, ведь они так
жестоки; а я, я старая, я больше не барахтаюсь, я просто размышляю.
Он одет как молодой барчук, у него, конечно, есть мама, которая
следит за его одеждой, но туфли его белы от пыли; что он делал?
508
Жан Поль Сартр
Куда ходил? У молодых бурлит кровь, если бы он мне сказал:
«Выдай меня, я убил отца и мать», — ведь может быть и такое;
возможно, он убил старуху, женщину вроде меня, они его, конечно,
арестуют, вот увидите, он не в силах сопротивляться; возможно, они
придут за ним сюда, и «Матен» опубликует его фотографию, многие
увидят отвратительное лицо хулигана, совсем не похожее, и всегда
кто-нибудь скажет: «По лицу видно, что он на такое способен»;
что ж, а я говорю: чтобы их осудить, не нужно их видеть вблизи,
потому что, когда смотришь, как они с каждым днем мало-помалу
погружаются, думаешь, что спасение невозможно и что в конце
концов все придет к одному: пить кофе с молоком на террасе, или
скопить деньжат, чтобы купить себе дом, или убить свою мать.
Зазвонил телефон, она вздрогнула.
— Алло? — отозвалась она.
— Я хотел бы поговорить с мадам Кузен.
— Это я, — сказала она. — Ну что?
— Они мне отказали, — сказал Жюло.
— Что? — переспросила она. — Что-что?
— Мне отказали.
— Но этого не может быть!
— Мне отказали.
— Но инвалиду, старому рабочему... что они тебе сказали?
— Что я не имею права.
— Как же так? — сказала она. — Как же так?
— До вечера, — сказал Жюло.
Она повесила трубку. Они ему отказали. Инвалиду, старому
рабочему сказали, что он не имеет права. «Теперь я буду портить себе
кровь», — подумала она. Молодой человек храпел, у него был глупый
и поучительный вид. Феликс вышел, неся на подносе два китайских
чая и черный кофе. Он толкнул дверь, и вошло солнце, над спящим
блеснуло зеркало, затем дверь закрылась, зеркало угасло, они
остались одни. «Что он сделал? Где он ходил? Что у него в чемодане?
Теперь он заплатит за все: в течение двадцати лет, тридцати лет, если
только его не убьют на войне, бедняга, у него призывной возраст. Он
спит, он посапывает, у него неприятности, на террасе люди говорят
о войне, у моего мужа не будет пособия. Бедные мы, бедные!»
— Питто! — крикнул молодой человек.
Он внезапно проснулся; секунду-другую он смотрел на нее
красными глазами, открыв рот, потом щелкнул челюстями,
прикусил губы, у него был сметливый и недобрый вид.
ОТСРОЧКА
509
— Официант!
Феликс не слышал; она видела его на террасе: он сновал туда-
сюда, брал заказы. Молодой человек, потеряв уверенность, хлопнул
по мрамору, вертя головой с загнанным видом. Ей стало его жалко.
— Двадцать су, — сказала она ему с высоты кассы.
Он метнул на нее взгляд, полный ненависти, швырнул пять
франков на стол, взял чемодан и, хромая, ушел. Зеркало заблестело,
порыв криков и жары прорвался в зал, потом наступило
одиночество. Она смотрела на столы, на зеркала, на дверь, на все эти такие
знакомые предметы, которые не могли больше удержать ее мысль.
«Начинается, — подумала она, — сейчас начну портить себе
кровь».
Он был обрызган светом. Кто-то направил на него сбоку
карманный фонарик. Он повернул голову и чертыхнулся. Фонарик парил
на уровне земли, Шарль заморгал. Фонарик светил спокойно и
неумолимо, это было неприятно.
— Что такое? — спросил он.
— Да, это он, — сказал певучий голос.
Женщина. Продолговатый сверток справа от меня — это
женщина. На миг он почувствовал удовлетворение, потом с гневом
подумал, что она осветила его как предмет: «Она провела по мне
лучом, как будто я просто стена». Он сухо проронил:
— Я вас не знаю.
— Мы часто встречались, — сказала она.
Фонарик погас. Шарль остался ослепленным, фиолетовые
круги вращались у него перед глазами.
— Я вас не вижу.
— А я вас вижу, — сказала она. — Даже без фонарика.
Голос был молодой и красивый, но Шарль не доверял ему. Он
повторил:
— Я вас не вижу, вы меня ослепили.
— А я вижу в темноте, — гордо сказала она.
— Вы что, альбинос?
Она засмеялась.
— Альбинос? У меня не красные глаза и не белые волосы, если
вы это имеете в виду.
У нее был резко выраженный акцент, придававший всем ее
фразам вопросительную интонацию.
— Кто вы?
510
Жан Поль Сартр
— А вот угадайте, — сказала она. — Это не очень трудно: еще
позавчера вы меня встретили, и у вас был такой ненавидящий
взгляд.
— Ненавидящий? Но я никого не ненавижу.
— Еще как ненавидите, — сказала она. — Я думаю, что вы
ненавидите всех.
— Погодите! У вас есть шуба?
Она снова засмеялась.
— Протяните руку, — сказала она. — Потрогайте.
Он протянул руку и прикоснулся к большой бесформенной
массе. Это был мех. Под мехом, безусловно, было одеяло, затем
свертки с одеждой, а потом белое мягкое тело, улитка в своей
раковине. Как ей должно быть жарко! Он немного погладил мех и
ощутил тяжелый теплый аромат. Вот чем еще тут пахло. Он гладил мех
против шерсти и был доволен.
— Вы блондинка, — победоносно сказал он, — и у вас золотые
серьги.
Она засмеялась, и фонарик снова зажегся. Но на этот раз она его
повернула на собственное лицо; покачивание поезда колебало
фонарик в ее руке; свет поднимался от груди ко лбу, скользил по
накрашенным губам, золотил легкий светлый пушок в уголках губ,
обрисовывал розовые ноздри. Загнутые черные ресницы
маленькими лапками торчали над утолщенными веками; они казались двумя
перевернутыми на спину насекомыми. Женщина была блондинкой:
ее волосы пенились легким облачком вокруг головы. У него екнуло
сердце. Он подумал: «Она красива», и резко отдернул руку.
— Теперь я вас узнал. С вами всегда был старый господин — он
толкал вашу коляску; вы проезжали, ни на кого не глядя.
— Я вас прекрасно разглядела сквозь ресницы.
Она приподняла голову, и он окончательно ее узнал.
— Я никогда не подумал бы, что вы можете на меня смотреть, —
сказал он. — По сравнению с нами у вас был вид очень
состоятельной дамы; я думал, что вы из пансиона «Бокер».
— Нет, — сказала она. — Я была в «Мон Шале».
— Я не ожидал встретить вас в вагоне для скота.
Свет погас.
— Я очень бедна, — сказала она.
Он протянул руку и мягко нажал на мех:
— А это?
Она засмеялась.
ОТСРОЧКА
511
— Это все, что у меня осталось.
Она вернулась в тень. Большой сверток, бесформенный и
темный. Но его взгляд все еще хранил ее облик. Он сложил обе руки
на животе и стал глазеть в потолок. Бланшар тихо храпел; больные
начали переговариваться между собой, по двое, по трое; поезд со
стоном мчался в пространство. Она была бедной и больной, ее
одевали и раздевали, точно куклу. И она была красива. Она пела в
мюзик-холле, сквозь длинные ресницы она смотрела на него и
желала с ним познакомиться: ему казалось, будто его снова поставили
на ноги.
— Вы были певицей? — вдруг спросил он.
— Певицей? Нет. Я играла на фортепьяно.
— А я принимал вас за певицу.
— Я из Австрии, — сказала она. — Все мои деньги там, в руках у
немцев. Я покинула Австрию после аншлюса.
— Вы уже были больны?
— Да, я уже была на доске. Родители увезли меня поездом. Все
было, как сейчас, только было светло, и я лежала на полке первого
класса. Над нами кружили немецкие самолеты, мы все время
опасались, что нас начнут бомбить. Мать плакала, я же не унывала, я
чувствовала сквозь потолок небо. Это был последний поезд,
который они пропустили.
— А потом?
— Потом я приехала сюда. Моя мать в Англии: ей нужно
зарабатывать нам на жизнь.
— А этот старый господин, который вас возил?
— Это старый идиот, — жестко сказала она.
— Значит, вы совсем одна?
— Совсем одна.
Он повторил:
— Совсем одна на свете, — и почувствовал себя сильным и
крепким, как дуб.
— Как вы узнали, что это я?
— После того, как вы чиркнули спичкой.
Он еле сдерживал радость. Она была здесь, про запас, тяжелая
и безымянная, почти забытая; это из-за нее его голос горько
подрагивал! Но он решил сохранить свою тайну на ночь, он хотел по-
наслаждаться ею один.
— Вы видели свет на перегородке?
— Да, — сказала она. — Я глядела на него целый час.
512
Жан Поль Сартр
— Смотрите, смотрите: дерево проезжает.
— Или телеграфный столб.
— Поезд идет тихо.
— Да, — сказала она. — А вам хотелось бы, чтоб побыстрее?
— Нет, все равно. Ведь не знаешь, куда едешь.
— Это верно! — весело согласилась она. Ее голос тоже слегка
дрожал.
— В конечном счете, — заметил он, — здесь не так уж и плохо.
— Много воздуха, — подхватила она. — И потом, хоть как-то
развлекают проплывающие тени.
— Вы помните миф о пещере?
— Нет, а что это за миф?
— Это о рабах, привязанных в глубине пещеры. Они видят тени
на стене.
— Почему их там привязали?
— Не знаю. Это написал Платон.
— Ах да! Платон... — неуверенно сказала она.
«Я расскажу ей, кто такой Платон», — в опьянении подумал он.
У него побаливал живот, но он жаждал, чтобы путешествие было
бесконечным.
Жорж подергал ручку двери. Сквозь стекло он видел высокого
усатого человека и молодую женщину с тряпкой, повязанной
вокруг головы; женщина мыла за деревянной стойкой стаканы и
чашки. Какой-то солдат дремал за столом. Жорж сильно дернул за
ручку, и стекло задрожало. Но дверь не поддалась. Женщина и
мужчина, казалось, ничего не слышали.
— Они не откроют.
Он обернулся: какой-то немолодой толстяк, улыбаясь, смотрел
на него. На нем был черный пиджак, военные брюки, обмотки,
мягкая шляпа и крахмальный отложной воротничок. Жорж показал
ему на табличку: «Столовая открывается в пять часов».
— Сейчас десять минут шестого, — сказал он.
Толстяк пожал плечами. Объемистый рюкзак висел на левом
боку, на правом — противогаз: толстяку пришлось раздвинуть руки
и держать локти на весу.
— Они открывают, когда хотят.
Двор казармы был заполнен мужчинами средних лет, у них был
скучающий вид. Многие, уставя глаза в землю, прогуливались в
одиночку. На одних была военная куртка, на других — брюки цвета
хаки, третьи остались в гражданском и в совсем новых сабо, кото-
ОТСРОЧКА
513
рые хлопали по казарменному асфальту. Высокий рыжий тип,
которому повезло получить полную форму, задумчиво расхаживал,
засунув руки в карманы военной куртки и лихо сдвинув котелок на
ухо. Лейтенант рассредоточил группы и быстро направился к
столовой.
— Вы что, не ходили за формой? — спросил маленький толстяк.
Он подтягивал ремни рюкзака, чтобы забросить его за спину.
— У них больше ничего нет.
Толстяк плюнул себе под ноги.
— А мне вот что выдали. Я в этом задыхаюсь на солнце, хоть
подыхай. Какая неразбериха!
Жорж показал на офицера:
— Ему нужно отдавать честь?
— А каким образом? Не могу же я снимать перед ним шляпу.
Офицер прошел мимо, не посмотрев на них. Жорж проследил
взглядом за его худой спиной и почувствовал себя удрученным.
Было жарко, стекла военных строений были покрашены в голубой
цвет; за белыми стенами простирались белые дороги, вдалеке
зеленели под солнцем аэродромы; стены казармы прорезали в середине
лужайки маленькую гладкую и пыльную площадь, где усталые
мужчины ходили взад-вперед, как по улицам города. Это был час,
когда его жена открывала жалюзи; солнце вплывало в столовую; оно
было повсюду: в домах, в казармах, в деревнях. Он сказал себе:
«Всегда одно и то же». Но он не слишком хорошо знал, что одно и
то же. Он подумал о войне и понял, что не боится смерти. Вдалеке
раздался гудок поезда — словно кто-то ему улыбнулся.
— Послушайте, — сказал он.
-А?
— Поезд.
Маленький толстяк, не понимая, посмотрел на него, затем
вынул из кармана платок и стал утирать лоб. Поезд загудел еще раз.
Он уходил, полный штатских, красивых женщин, детей; вдоль окон
скользили безмятежные поля. Поезд засвистел и замедлил ход.
— Сейчас остановимся, — сказал Шарль.
Заскрипели оси, и поезд остановился; движение вытекло из
Шарля, он остался сухим и пустым, словно из него вытекла вся
кровь, это была репетиция смерти.
— Не люблю, когда поезда останавливаются, — сказал он.
Жорж думал о пассажирских поездах, которые спускаются к
югу, к морю, к белым виллам на побережье; Шарль ощущал зеленую
514
Жан Поль Сартр
траву, растущую под полом между рельсами, он чувствовал ее
сквозь листы железа, он видел в светящемся прямоугольнике,
выделявшемся на фоне перегородки, бесконечные зеленые поля, поезд
был окружен лугами, как пароход льдом, трава поднимется по
колесам, пройдет между разошедшимися досками, поле местами
пересекало неподвижный поезд. Поезд, попавшийся в ловушку, жалобно
свистел; отдаленный свист разносился так поэтично; поезд шел
очень медленно, голова соседа Мориса тряслась в бежевом
воротнике, это был тучный человек, от которого пахло чесноком, с
самого отъезда он пел «Интернационал» и выпил два литра вина. В
конце концов он, бормоча, свалился на плечо Мориса. Морису было
жарко, но он не решался пошевелиться, сердце подступало к горлу
из-за этого пекла, белого вина и белого солнца, слепившего его
сквозь пыльные стекла, он думал: «Приехать бы уж что-ли...» У него
чесались глаза, он таращил и напрягал их, затем он прикрыл глаза
и услышал, как кровь шумит в ушах и солнце проникает сквозь
веки; он чувствовал, как подступает белый, потный, ослепляющий
сон, волосы товарища щекотали ему шею и подбородок, какой
безнадежный день. Толстяк вынул из бумажника фотографию.
— А вот моя жена, — похвастался он.
Это была женщина без возраста, как обычно бывает на
фотографиях, о ней нечего было сказать.
— Она в теле, — заметил Жорж.
— Уплетает за четверых, — пояснил сосед.
Они сидели друг против друга в нерешительности. Жорж не
испытывал особой симпатии к этому толстому, красномордому
типу, говорившему с сильной одышкой, но ему захотелось показать
ему фотографию своей дочери.
— Ты женат?
-Да.
— Дети есть?
Жорж, не отвечая, посмотрел на него, немного посмеиваясь.
Потом быстро сунул руку в карман, вынул бумажник, взял из него
фотографию и, опустив глаза, протянул ее толстяку.
— Это моя дочь.
— У вас хорошие ботинки, — сказал тип, беря фотографию. —
Они вам еще пригодятся.
— У меня мозоли, — смиренно признался Жорж. — По-вашему,
они их мне оставят?
— Скорее всего. Может, у них нет обуви на всех.
ОТСРОЧКА
515
Он еще с минуту смотрел на ботинки Жоржа, потом с
сожалением отвернулся и бросил взгляд на фото. Жорж почувствовал, что
краснеет.
— Какой красивый ребенок! — воскликнул толстяк. — Сколько
она весит?
— Не знаю, — признался Жорж.
Он оцепенело смотрел на толстяка, устремившего бесцветный
взгляд поверх фотографии. Потом сказал:
— Когда вернусь, она меня не узнает.
— Наверняка, — согласился человек, — если вообще...
— Да, если вообще... — повторил Жорж.
— Так как? — спросил Сарро. — Так мне идти?
Он вертел между пальцев листок. Даладье перочинным
ножичком обстругал спичку и сунул ее меж зубов; обмякнув на стуле, он
молчал.
— Так мне идти? — повторил Сарро.
— Это война, — тихо сказал Бонне. — И война проигранная.
Даладье содрогнулся и посмотрел на него тяжелым взглядом.
Бонне невинно ответил ему бесцветным незамутненным взором. У
него был вид муравьеда. Шампетье де Риб и Рейно стояли немного
сзади, хмурые и молчаливые. Даладье, казалось, на глазах
уменьшался в размерах.
— Идите, — проворчал он, вяло махнув рукой.
Сарро встал и вышел из комнаты. Он спустился по лестнице,
думая о своей мигрени. Он вспомнил, как они одновременно
замолкли, как они напустили на себя деловой вид. «Какая банда
подонков», — подумал Сарро.
— Сейчас я зачитаю вам коммюнике, — сказал он.
Раздался гул, он воспользовался этим, чтобы протереть очки,
затем прочел:
— Совет правительства Французской республики выслушал
доклад господина Президента Совета и господина Жоржа Бонне о
меморандуме, переданном господину Чемберлену рейхсканцлером
Гитлером.
Он единогласно одобрил заявления, которые господа Эдуар
Даладье и Жорж Бонне намерены отвезти в Лондон английскому
правительству.
«Ну вот, — подумал Шарль. — Я хочу с.ть». Это произошло
сразу: его живот наполнился до краев.
— Да, — сказал он, — да. Я думаю, как вы.
516
Жан Поль Сартр
Голоса слышались разом, умиротворенные. Он хотел бы весь
спрятаться в свой голос, превратиться только в него рядом с этим
красивым певучим светлым голоском. Но он был прежде всего этим
пеклом, этим неодолимым страхом, этой массой влажного вещества,
булькавшего в его кишечнике. Наступило молчание; она молчала
рядом с ним, свежая и снежная; он осторожно приподнял руку и
провел ею по влажному лбу. «Ух! — простонал он вдруг.
— Что случилось?
— Ничего, — сказал он. — Это мой сосед храпит.
Его желудок скрутило подобие безумного смеха, его охватило
темное, сильное желание открыть нижние шлюзы и опорожниться;
обезумевшая от ужаса бабочка била крыльями между его
ягодицами. Он их крепко стиснул, пот заструился по его лицу, потек к ушам,
щекоча щеки.
«Я сейчас обделаюсь», — с ужасом подумал он.
— Вы больше ничего не говорите, — сказал светлый голос.
— Я... — сказал он, — я думал... Почему вы хотели со мной
познакомиться?
— У вас красивые надменные глаза, — сказала она. — И потом,
я хотела знать, почему вы меня ненавидели.
Он слегка передвинул бедра, чтобы обмануть свою надобность,
и сказал:
— Я ненавидел всех, потому что беден. И вообще у меня
скверный характер.
Это вырвалось у него под давлением его желания; он открылся
сверху; сверху или снизу, но ему необходимо было открыться.
— Да, скверный характер, — задыхаясь, повторил он. — Я
завистник.
Он никогда такого не говорил. Она кончиками пальцев
коснулась его руки.
— Не надо ненавидеть меня: я тоже бедна.
Щекотка пробежала по его члену: это было не из-за ее худых
теплых пальцев на его руке, это шло издалека, из большой голой
комнаты на берегу моря. Он звонил, приходила Жаннин,
поднимала одеяло, подсовывала ему под ягодицы судно, смотрела, как он
оправляется, и иногда брала его дружка большим и указательным
пальцем, он это обожал. Теперь его плоть была выдрессирована,
привычка укоренилась: все его желания облегчаться были
отравлены горькой истомой, изнемогающим желанием открываться,
освобождаться под профессиональным взглядом. «Вот я какой», — по-
ОТСРОЧКА
517
думал он. И мужество изменило ему Он был противен сам себе, он
тряхнул головой, пот обжег ему глаза. «Поезд что, не пойдет?» Ему
казалось, что если бы вагон тронулся, он вырвался бы от самого
себя, он оставил бы на месте двусмысленные болезненные желания
и он смог бы еще немного сдержаться. Он подавил еще один стон:
он страдал, вот-вот он разорвется, как ткань; он молча сжал такую
худую мягкую руку. Руки, мягкие, как миндальное тесто, искусно
берут его дружка, его дружок ликует, вялый, немного наклонив
головку, девушка из колбасной берет пальцами сосиску на слое
желе. Совсем голый. Расщепленный. Видимый. Скорлупа треснула,
это весна. Ужас! Он ненавидел Жаннин.
— Какие у вас горячие руки, — сказал светлый голос.
— У меня температура.
Кто-то тихо застонал в солнце, один из больных рядом с дверью.
Медсестра встала и пошла к нему, перешагивая через тела. Шарль
поднял левую руку и быстро покрутил зеркальце; зеркальце вдруг
выхватило медсестру, склонившуюся над толстым краснощеким
лопоухим подростком. Вид у него был торопливый и
требовательный. Медсестра выпрямилась и вернулась на свое место. Шарль
видел, как она роется в своем чемодане. Потом она повернулась к
ним лицом, держа в руках «утку». Она громко спросила:
— Больше никто не хочет? Если кому-то нужно, лучше сказать об
этом во время остановки, так удобнее. Не терпите и не стесняйтесь
друг друга. Здесь нет ни мужчин, ни женщин — только больные.
Она оглядела всех строгим взглядом, но никто не отозвался.
Толстый паренек поспешно схватил «утку» и сунул под одеяло.
Шарль крепко стиснул руку своей подруги. Достаточно было
сказать хоть вполголоса: «Я, я хочу». Медсестра наклонилась, взяла
«утку» и подняла ее. Она сверкала на солнце, заполненная красивой
желтоватой пенистой жидкостью. Сестра подошла к двери и
наклонилась наружу; Шарль видел ее тень с поднятой рукой на
перегородке, пересекающей световой прямоугольник. Она наклонила
«утку», из нее вылилась тень янтарной жидкости.
— Мадам!.. — послышался слабый голос.
— Ага! — сказала она. — Вы тоже решились. Иду.
Они капитулируют один за другим. Женщины будут терпеть
дольше мужчин. Они засмердят своих соседок, как они после этого
будут с ними разговаривать? «Негодяи», — подумал Шарль. На
уровне пола поднялась возня; сконфуженные шелестящие призывы
слышались изо всех углов. Шарль различил женские голоса.
518
Жан Поль Сартр
— Терпение, — сказала сестра. — Ждите своей очереди.
«Здесь только больные». Они считают, что им все дозволено,
потому что они больные. Ни мужчины, ни женщины: больные. Он
мучился, но гордился своей мукой: я не сдамся, все-таки я мужчина.
Сестра ходила от одного к другому; ее туфли поскрипывали по полу,
и время от времени слышалось шуршание бумаги. Пресный и
теплый запах наполнил вагон. «Я не сдамся», — думал он, корчась от
боли.
— Мадам!.. — произнес нежный голос.
Он подумал, что ослышался, но стыдливый и певучий голос
повторил:
— Мадам! Мадам! Сюда.
— Иду, — сказала сестра.
Теплая и худая рука скрючилась в его руке, потом
выскользнула. Он услышал скрип туфель: сестра стояла над ними, суровая
и огромная, как архангел.
— Отвернитесь, пожалуйста, — пролепетал умоляющий голос.
А потом еще раз: — Отвернитесь.
Он отвернулся, ему хотелось заткнуть нос и уши. Сестра
наклонилась — огромный косяк черных птиц, — затемняя его
зеркальце. Он больше ничего не увидел. «Она — больная», — подумал он.
Она, должно быть, откинула мех: на мгновение душный аромат
покрыл все, а затем мало-помалу пробился едкий сильный запах, он
забил ему ноздри. Она — больная; прекрасная гладкая кожа была
натянута на жидких позвонках, на гноящихся кишках. Он
колебался, раздираемый отвращением и звериным желанием. А потом,
вдруг он закрылся, его внутренности сжались, как кулак, он больше
не чувствовал своего тела. Она — больная. Все его желания, все его
влечения стерлись, он почувствовал себя сухим и чистым, как
будто вновь обрел здоровье. Больная. «Она сопротивлялась сколько
могла», — с любовью подумал он. Зашуршала бумага, сестра
выпрямилась, уже многие звали ее из другого конца вагона. Он ее не
позовет; он парил над ними в нескольких пядях от пола. Он не вещь;
он не был грудным младенцем. «Она больше не смогла
противиться», — подумал он с такой нежностью, что глаза его наполнились
слезами. Она больше не говорила, она не смела обратиться к нему,
ей было стыдно. «Я буду ее защищать», — с любовью подумал он.
Стоя. Стоя, склонившись над ней, созерцая ее нежное растерянное
лицо. Она тяжело дышала в темноте. Он протянул руку и на ощупь
провел по меху. Молодое тело напряглось, но Шарль встретил руку
ОТСРОЧКА
519
и завладел ею. Рука сопротивлялась, он привлек ее к себе, он
сжимал ее изо всех сил. Больная. Он был здесь, сухой и твердый,
освобожденный; он будет ее защищать.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Ну что ж, читайте! — нетерпеливо потребовал Чемберлен.
Лорд Галифакс взял послание Масарика и начал читать. «Ему
нет необходимости читать с выражением», — подумал Чемберлен.
«Мое правительство, — читал Галифакс, — изучило документ и
карту. Это ультиматум de facto*, какой обычно предъявляют
побежденной нации, а не предложение суверенному государству,
выказавшему максимальную готовность сделать все возможное для
умиротворения Европы. Правительство господина Гитлера еще не
выказало и грана подобной готовности. Мое правительство
удивлено содержанием меморандума. Требования намного превышают
предложения, которые мы высказали в так называемом
англофранцузском коммюнике. Они ставят под угрозу нашу
национальную независимость. Нам предлагают сдать без боя наши глубоко
эшелонированные укрепления и открыть путь германским войскам
задолго до того, как мы заново подготовимся к самозащите. Наша
национальная и экономическая независимость автоматически
исчезнет с принятием плана господина Гитлера. Вторжение немецких
войск вызовет сильнейшую панику среди той части населения,
которая не примет фашистский режим. Люди вынуждены будут
покинуть свои дома, оставив личное имущество, а крестьяне —
домашний скот.
Мое правительство уполномочило меня официально отвергнуть
требования господина Гитлера в их настоящей форме как
абсолютно неприемлемые для моего правительства. Эти новые жесткие
требования вынуждают мое правительство быть готовым к
решительному сопротивлению, что мы и исполним с Господней
помощью. Нация Святого Венцлава, Яна Гуса и Томаша Масарика
никогда не станет нацией рабов.
Мы рассчитываем на помощь двух великих западных
демократий, рекомендательным резолюциям которых мы следовали,
вопреки нашим собственным пожеланиям, и выражаем надежду, что они
не покинут нас в час испытаний».
— Это все? — спросил Чемберлен.
-Все.
* Фактически (лат.).
520
Жан Поль Сартр
— Что ж, вот и очередные затруднения, — сказал он. Лорд
Галифакс не ответил; он стоял прямо, как воплощение совести,
почтительный и сдержанный.
— Французские министры прибудут через час, — сухо сказал
Чемберлен. — Этот документ мне представляется по крайней мере...
несвоевременным.
— Вы думаете, он способен повлиять на их решения? — с долей
иронии спросил лорд Галифакс.
Старик не ответил; он взял документ и начал, бормоча под нос,
его читать.
— Домашний скот! — с раздражением воскликнул он. — При чем
тут домашний скот? Это по меньшей мере нелепо.
— Я не считаю это нелепым. Скорее трогательным, — заметил
лорд Галифакс.
— Трогательным? — со смешком повторил старик. — Дорогой
мой, мы ведем переговоры. Тот, кто будет растроган, неизбежно
проиграет.
Ткани розовые, красные, лиловые, платья сиреневые и белые,
голые шеи, прекрасные груди под платками, солнечные пятна на
столах, густые, золотистые напитки, руки, чуть прикрытые бедра,
выпирающие из шортов, веселые голоса, снова платья красные,
розовые и белые, веселые голоса, кружащиеся в воздухе, опять
бедра, вальс из «Веселой вдовы», запах сосен, горячего песка,
ванильный запах открытого моря, все видимые и невидимые солнечные
острова мира, остров Ветров, остров Пасхи, Сандвичевы острова,
лавки с предметами роскоши вдоль моря, плащ на даме, стоящий
три тысячи франков, клипсы, красные, розовые и белые цветы, и
опять же руки, бедра, музыка, и снова веселые голоса, кружащиеся
в воздухе, Сюзанна, а как же твоя диета? А, пускай! Паруса на море
и лыжники с вытянутыми руками, прыгающие с волны на волну,
порывистый запах сосен, мир. Мир в местечке Жуан-ле-Пен. Он
еще оставался здесь, рухнувший, позабытый, он слегка прокисал.
Люди ловились на это: цветные чащи, кусты музыки скрывали от
них их маленькие наивные тревоги; Матье медленно шел вдоль
кафе, вдоль лавок, по левую сторону было море: поезд Гомеса
прибывал только в восемнадцать часов семнадцать минут; он по
привычке смотрел на женщин, на их мирные бедра, на их мирные груди.
Но он чувствовал себя виноватым. С трех часов двадцати пяти
минут: в три двадцать пять ушел поезд на Марсель. «Я не здесь. Я в
Марселе, в кафе на Вокзальном проспекте, я жду парижский поезд,
ОТСРОЧКА
521
я в парижском поезде. Ранним сонным утром я в Париже, я в
казарме, я хожу кругами по двору казармы в Эссе-лес-Нанси». В Эссе-
лес-Нанси Жорж перестал разговаривать, чтобы не пришлось
кричать: вверху с громоподобным грохотом проносился самолет. Жорж
следил, как он несся над стенами, над крышами, над Нанси, над
Ниором, Жорж был в Ниоре, в своей комнате, с малышкой, он
ощущал во рту привкус пыли. Матье подумал: «Что он мне скажет?
Сейчас он выскочит из поезда, подвижный и загорелый, как
отдыхающий из местечка Жуан-ле-Пен, я теперь такой же загорелый, как
он, но мне нечего ему сказать. Я был в Толедо, в Гвадалахаре, а что
делал ты? Я жил... Я был в Малаге, я покинул город в числе
последних, а что делал ты? Я жил. Эх! — с раздражением подумал он. — Я
ведь жду друга, это все-таки не судья». Шарль смеялся, она ничего
не говорила, ей было еще немного стыдно, он держал ее за руку, он
смеялся. «Катрин, какое красивое имя», — нежно прошептал он.
Если на то пошло, Гомесу посчастливилось, он воевал в Испании,
он мог воевать, он воевал практически безоружный, динамит против
танков, орлиные гнезда на побережье, любовь в опустевших отелях
Мадрида, отдельные легкие дымки в долине, бои местного
значения, Испания не потеряла своего аромата; меня же ждет тоскливая
война, организованная и унылая; против танков есть
противотанковое оружие, это война коллективная и технически оснащенная,
ползучая эпидемия. Испания осталась там, вдалеке, бегущая полоса
на голубой воде. Мод облокотилась на релинги и смотрела на
Испанию. Там сражаются. Пароход скользил вдоль берега; там гремят
пушки; она прислушивалась к плеску волн, из воды выпрыгнула
рыба. Матье шел по направлению к Испании, слева от него было
море, справа — Франция. Мод скользила вдоль берега, слева от нее
был Алжир, ее уносило направо к Франции; Испания была этим
знойным дыханием и этим зыбким туманом. Мод и Матье думали
об испанской войне, и это давало им отдохновение от другой войны,
от войны цвета окиси меди, от войны, которую готовили справа от
них. Нужно было проскользнуть до разрушенной стены, обогнуть
ее и вернуться, тогда его задание будет выполнено. Марокканец
полз среди почерневших камней, земля была горячей, он ощущал
ее ногтями рук и ног, ему было страшно, он думал о Танжере; в
верхней части Танжера есть желтый двухэтажный дом, откуда
виднеется вечное мерцание моря, в нем живет негр с седой бородой,
который кладет себе в рот змей, чтобы поразвлечь англичан. Нужно
думать об этом желтом доме. Матье думал об Испании, Мод думала
522
Жан Поль Сартр
об Испании, марокканец полз по растрескавшейся земле Испании
и думал о Танжере, ему было одиноко. Матье свернул на ярко
освещенную улицу, Испания повернулась к нему, вспыхнула, стала
всего лишь отсветом неразличимого огня слева от него. Ницца
справа, за Ниццей дыра — Италия. Напротив него — вокзал;
напротив него — Франция и война, настоящая война, Нанси. Он был в
Нанси; минуя вокзал, он шел к Нанси. Он не хотел пить, ему не
было жарко, он не устал. Собственное тело казалось ему
безымянным и вялым; краски и звуки, сверкание солнца, запахи как бы
гасли в его теле; все это его больше не касалось. «Так начинается
болезнь», — подумал он. Филипп переложил чемоданчик в левую
руку; он изнемогал, но нужно было продержаться до вечера. До
вечера: а там я высплюсь в поезде. Терраса «Серебряной Башни»
гудела как улей, платья красные, розовые, сиреневые, чулки из
искусственного шелка, нарумяненные щеки, сладкие густые напитки,
толпа сиропная и клейкая, сердце его пронзила жалость: скоро их
вырвут из кафе, из их комнат и погонят на войну. Ему было их
жалко, ему было жалко себя; они пеклись в этом свете, липкие, сытые,
отчаявшиеся. У Филиппа вдруг закружилась голова от усталости и
гордости: я — их совесть.
Еще одно кафе. Матье смотрел на красивых загорелых мужчин,
таких веселых, таких крепышей, и почувствовал себя чужаком.
Справа от них было казино, слева — почта, за ними — море; и все
это — Франция, Испания, Италия — лампы, которые для них скоро
погаснут. Но пока все эти люди здесь, во плоти, а война — всего
лишь призрак. «И я призрак», — подумал он. Они станут
лейтенантами, капитанами, они будут спать в кроватях, каждый день
бриться, а потом многие из них сумеют остаться в тылу. Нет, он их не
осуждал. «Что им могло помешать так поступить? Солидарность с
теми, кто идет в эту мясорубку? Вот и я туда иду, как раз туда. Но
я не жду никакой солидарности. А почему я туда иду?» — вдруг
подумал он. «Осторожно!» — вскрикнул Филипп — его толкнули. Он
нагнулся, чтобы подобрать свой чемоданчик; рослый субъект в
стоптанных башмаках даже не обернулся. «Скотина!» — проворчал
Филипп. Он стоял напротив кафе и разъяренно смотрел на
посетителей. Но никто даже не заметил случившегося. Какой-то ребенок
плакал, мамаша платком вытирала ему глаза. За соседним столиком
перед стаканами с оранжадом сидели трое усталых мужчин. «Они
не так уж и невинны, — подумал Филипп, рассекая толпу
пронзительным взглядом. — Почему они подчиняются? Им достаточно
ОТСРОЧКА
523
сказать «нет». Автомобиль катил. Даладье, углубившись в сиденье,
глядя на прохожих, сосал потухшую сигарету. Ему чертовски не
хотелось ехать в Лондон, ни тебе аперитива, ни сносной пищи.
Какая-то женщина без шляпы хохотала, широко раскрыв рот, он
подумал: «Они ни в чем не отдают себе отчета» — и покачал
головой. Филипп подумал: «Их ведут на бойню, а они этого даже не
понимают. Они принимают войну как болезнь. Но война — не
болезнь, — яростно подумал он. — Это невыносимое зло, потому что
люди инфицируют им друг друга». Матье толкнул дверцу. «Я
встречаю друга», — сказал он контролеру. Вокзал осклабился, пустой и
молчаливый, как кладбище. Почему я иду в мясорубку? Он сел на
зеленую скамейку. «Есть ведь такие, кто откажется ехать. Но это не
мое дело. Отказаться, скрестить на груди руки или же бежать в
Швейцарию. Но почему? Непонятно. Нет, это не мое дело. И война
в Испании тоже была не моим делом. И компартия. Но что же
тогда — мое дело?» — с некой тревогой подумал он. Рельсы блестели,
поезд придет слева. Слева, в самом конце, в точке, где сходились
рельсы, мерцало маленькое озеро, это Тулон, Марсель, Пор-Бу,
Испания. Бессмысленная, неоправданная война. Жак сказал, что она
проиграна заранее. «Война — это недуг, — подумал он, — мое дело —
вынести ее, как недуг. Просто так. Из чистоплотности. Я буду
мужественным больным, вот и все. Зачем воевать? Я эту войну не
одобряю. Но почему бы и не воевать? Моя шкура не стоит того,
чтобы ее спасать. Я всего лишь служака, — подумал он, — а служаки
должны служить». И ему оставили лишь грустный стоицизм
служилых людей, которые переносят все — бедность, болезнь и
войну, — из уважения к себе самим. Он улыбнулся и подумал: «А я даже
не уважаю себя». «Мученик, им нужен мученик», — подумал
Филипп. Он плыл, он купался в усталости, это не было неприятно, но
этому следовало отдаться; просто он не очень хорошо видел, две
ставни справа и слева закрывали от него улицу. Толпа сжимала его,
люди выходили отовсюду, дети метались у них под ногами, лица
щурились от солнца, скользили над ним и под ним, все время одно
и то же лицо, оно раскачивается, наклоняется вперед-назад, да-да-
да. Да, мы согласимся на нищую зарплату, да, мы пойдем на войну,
да, мы отпустим наших мужей, да, мы будем стоять в очередях за
хлебом с детьми на руках. Толпа; это была толпа, огромное
молчаливое согласие. А если им все объяснить, они просто набьют морду,
подумал Филипп, ощущая пылающую щеку, они любого затопчут
ногами, крича: да! Он смотрел на эти мертвые лица: им ничего не
524
Жан Поль Сартр
следует говорить, им просто нужен мученик. Тот, кто вдруг
приподнимется на носках и возгласит: «НЕТ». Они на него набросятся и
разорвут в клочья. Но эта кровь, пролитая ими же и за них, придаст
им новую силу; дух мученика будет жить в них, они будут
поднимать голову, не щурясь, и раскаты отказа покатятся от одного края
толпы к другому, как гром. «Этот мученик — я», — подумал он. Его
охватила радость подвергнутого пытке, невыносимая радость; его
голова склонилась, он уронил чемоданчик и упал на колени,
охваченный вселенским единодушием.
— Привет! — закричал Матье.
Гомес бежал к нему с непокрытой головой, красивый, как всегда.
У Филиппа был туман перед глазами, какая-то пелена: где я? Над
ним раздавались голоса: «Что с ним? Это обморок, где вы живете?»
Над ним склонилось чье-то лицо, это была старая женщина, она
собирается меня укусить? Ваш адрес! Матье и Гомес, смеясь,
смотрели друг на друга, ваш адрес, ваш адрес, ВАШ АДРЕС, он сделал
невероятное усилие и встал. Улыбнувшись, он пробормотал:
— Пустяки, мадам, это от жары. Я живу рядом, сейчас буду дома.
— Нужно его проводить, — сказал кто-то у него за спиной, — он
не дойдет сам, — и голос затерялся в густом шуме листвы: — Да, да,
ДА, нужно его проводить, нужно его проводить, нужно его
проводить.
— Оставьте меня, оставьте! — закричал он. — Не трогайте меня.
Нет! Нет! НЕТ! — Он посмотрел им в лицо, он посмотрел в их
изнуренные, ошеломленные глаза и еще раз крикнул: «Нет!» Нет
войне, нет генералам, нет безответственным матерям, нет Зезетте и
Морису, нет, оставьте меня в покое. Они расступились, и он
побежал, как на свинцовых подошвах. Он бежал, бежал, кто-то положил
ему на плечо руку, и он подумал, что сейчас зарыдает. Это был
молодой человек с усиками, он протягивал ему чемоданчик.
— Вы забыли свой чемоданчик, — ухмыляясь, сказал он.
Марокканец резко остановился: он увидел змею, которую сначала
принял за сухую ветку. Маленькая змея; нужен камень, чтобы
размозжить ей голову. Но змея вдруг скрутилась, прорезала землю
коричневой молнией и исчезла в канаве. Это было счастливым
предзнаменованием. За стеной ничто не шевелилось. «Я сюда
вернусь», — подумал он.
Матье обнял Гомеса за плечи:
— Привет, — сказал он. — Привет, полковник!
Гомес благородно и загадочно улыбнулся.
ОТСРОЧКА
525
— Генерал, — поправил он.
Матье опустил руки.
— Генерал! Скажи-ка, быстро там продвигаются.
— Не хватает кадров, — не переставая улыбаться, сказал Го-
мес. — Как вы загорели, Матье!
— Это загар бездельника, — смущенно сказал Матье. — Его
получают на пляжах задарма.
Он искал на руках, на лице Гомеса следы испытаний; он был
готов к тяжким угрызениям совести. Но Гомес, подвижный и
тонкий, во фланелевом костюме, выставив вперед узкую грудь, не
сразу давался: сейчас у него был вид курортника.
— Куда пойдем? — спросил он.
— Поищем какой-нибудь спокойный ресторанчик, — предложил
Матье. — Я живу у брата с невесткой, но к ним я вас не приглашаю:
они отнюдь не забавные.
— Я хотел бы какое-нибудь местечко с музыкой и
женщинами, — сказал Гомес. Он цинично посмотрел на Матье и добавил: — Я
неделю проторчал в семейном кругу.
— Ах вот как! — сказал Матье. — Отлично. Что ж, тогда пойдем
в «Провансаль».
Дежурный не строго, но деловито смотрел, как они
приближались. Он стоял, немного сгорбившись, между двумя билетными
автоматами; солнце обагряло его ружье и каску. Он окликнул их,
когда они поравнялись с ним.
— Куда?
— Эссе-лес-Нанси, — сказал Морис.
— Сядьте на трамвай по левую руку и сойдете на конечной.
Они вышли. Это была угрюмая площадь, типично
привокзальная, с кафе и гостиницами. В небе висел дым.
— Хорошо бы размять ноги, — вздыхая, сказал Дорнье.
Морис поднял голову и, подмигнув, улыбнулся.
— Трамвая нет и в помине, — сказал Бебер.
Какая-то женщина участливо посмотрела на них.
— Трамвая пока нет. А вам куда?
— В Эссе-лес-Нанси.
— Вам ждать еще добрых четверть часа. Он ходит раз в двадцать
минут.
— Успеем пропустить стаканчик, — сказал Дорнье Морису.
Было прохладно, поезд шел, воздух был красноват; по телу
Шарля пробежала дрожь счастья, и он слегка потянул за одеяло. Он
526
Жан Поль Сартр
позвал: «Катрин!» Но она ему не ответила. Однако что-то
прикоснулось к его груди, легкое подобие птицы, и медленно поднялось к
его шее; затем птица улетела и вдруг села ему на лоб. Это была ее
рука, ее нежная ароматная рука, она скользнула по носу Шарля,
легкие пальцы коснулись губ, ему было щекотно. Он схватил руку
и прижал ее к губам. Она была теплой; он провел пальцами вдоль
запястья и почувствовал, как бьется ее пульс. Он закрыл глаза и
поцеловал эту худую руку, и пульс забился под его пальцами, как
птичье сердце. Она засмеялась: «Мы как слепые: приходится
знакомиться пальцами». Он, в свою очередь, вытянул руку, он боялся
причинить ей боль; он коснулся железного стержня зеркала, а затем
светлых волос на одеяле, потом виска, щеки, нежной и полновесной,
как любое женское тело, и почувствовал, как теплый рот всосал его
пальцы, легко покусывая их зубами, в то время как тысячи иголок
покалывали его от ягодиц до затылка; он прошептал «Катрин!» и
подумал: «Мы занимаемся любовью». Она выпустила его руку и
вздохнула. Морис подул на кружку и сдул пену на пол; Катрин
спросила: «Как называются лодки, где люди лежат бок о бок?»
Морис прикусил верхнюю губу, облизнул ее и сказал: «А пиво-то
холодное!» «Не знаю, — ответил Шарль, — может быть, гондолы, —
Нет, не гондолы, впрочем, не важно: мы в одной из таких лодок».
Он взял ее за руку, они скользили бок о бок по водной глади, она
была его любовницей, кинозвездой с волосами тусклого золота, он
стал совсем другим человеком, он защищал ее. Он ей сказал:
«Хорошо бы, поезд шел бесконечно». Даниель покусывал ручку,
постучали в дверь, и он затаил дыхание, невидящим взглядом глядя на
белый лист бювара. «Даниель! — послышался голос Марсель. — Вы
здесь?» Он не ответил; тяжелые шаги Марсель удалились, она
спускалась по лестнице, ступеньки поскрипывали одна за другой; он
улыбнулся, обмакнул перо в чернила и написал: «Дорогой Матье».
Рука, сжатая в сумерках, скрип пера, лицо Филиппа выплывает из
тени и идет ему навстречу, бледное в сумерках зеркала, небольшая
килевая качка, ледяное пиво булькает у него в горле и
перехватывает дыхание, поезд на пневматическом ходу пробегает тридцать
три метра между Парижем и Руаном, секунда человека,
трехтысячная секунда двадцатого часа двадцать пятого дня сентября 1938
года. Потерянная секунда, прокатившаяся за Шарлем и Катрин в
теплом поле, между рельсами, покинутая Морисом в опилках
темного и прохладного кафе, плывущая в кильватере пассажирского
парохода компании Паке, зацепленная в озерце свежих чернил,
ОТСРОЧКА
527
мерцающая и высыхающая в изгибах буквы «М» в слове «Матье»,
пока перо царапает бумагу и рвет ее, пока Даладье, погрузившись в
сиденье, посасывает потухшую сигарету, глядя на пешеходов. Ему
чертовски наскучило пребывание в Лондоне; он упорно переводил
взгляд на дверцу, чтобы не видеть мерзкую рожу Бонне и замкнутое
лицо этого выблядка англичанина; он думал: «Они не отдают себе
во всем этом отчета!» Даладье увидел женщину без шляпы,
хохотавшую, широко раскрыв рот. Все они равнодушно смотрели на
автомобиль, двое или трое кричали «Ура!», но они решительно не
отдавали себе ни в чем отчета, они не понимали, что эта машина
везет на Даунинг-стрит войну и мир, войну или мир, орел или
решка, да, этот черный автомобиль, который, сигналя, катил по
лондонской дороге. Даниель писал. Капитан остановился перед дверью в
салон первого класса, он читал: «Сегодня вечером, в двадцать один
час, женский оркестр «Малютки» даст камерный концерт в салоне
первого класса. Любезно приглашаются все пассажиры, без
различия классов». Он затянулся трубкой и подумал: «Слишком уж она
худа». Как раз в этот момент он уловил теплый аромат, он услышал
легкий шум крыльев, это была Мод, он обернулся; в Мадриде
заходящее солнце золотило разрушенные фасады Университетского
городка; Мод смотрела на него, он шагнул, марокканец полз между
развалинами, бельгиец прицелился в него, Мод и капитан смотрели
друг на друга. Марокканец поднял голову и увидел бельгийца; они
пристально смотрели друг на друга, потом Мод, сухо улыбнувшись,
отвернулась, бельгиец нажал курок, марокканец умер, капитан
шагнул к Мод, но затем подумал: «Слишком уж она худа». И
остановился. «Сукин сын», — сказал бельгиец. Он посмотрел на мертвого
марокканца и повторил: «Сукин сын!»
— Ладно, — сказал Гомес. — А Марсель? Сара мне сказала, что
между вами все кончено.
— Все кончено, — согласился Матье. — Она вышла замуж за
Даниеля.
— Даниеля Серено? Странно, — промолвил Гомес. — Но так или
иначе, вы свободны.
— Свободен? — удивился Матье. — Свободен от чего?
— Марсель вам не подходила, — сказал Гомес.
— Да нет же! — возразил Матье. — Вовсе нет!
Покрытые белыми скатертями столы полукругом обрамляли
песчаную, усыпанную сосновыми иглами площадку. «Провансаль»
был пуст. Только какой-то господин ел куриное крылышко, запивая
528
Жан Поль Сартр
водой «Виши». Музыканты вяло поднялись на эстраду, сели, двигая
стульями, и зашептались между собой, настраивая инструменты;
еще можно было различить море, чернеющее между сосен. Матье
вытянул под столом ноги и выпил глоток портвейна. В первый раз
за неделю ему было хорошо и спокойно, как дома; он разом
подобрался, он был целиком в этом странном месте, наполовину частном
салоне, наполовину священной роще. Сосны казались
вырезанными из картона, маленькие розовые лампочки посреди мягкой
природной темноты отбрасывали на скатерть интимный свет; в
деревьях зажегся прожектор и вдруг выбелил площадку, которая
показалась сделанной из цемента. Но над их головами была пустота, и в
небе замерли звезды, как непонятные озабоченные зверьки; пахло
смолой, морской ветер, резвый и неспокойный, как страдающая
душа, раскачивал скатерти и будто касался шеи куцей мордочкой.
— Поговорим лучше о вас, — сказал Матье.
Гомес, казалось, удивился:
— Неужели с вами ничего больше не произошло?
— Ничего, — подтвердил Матье.
— За два года?
— Абсолютно ничего. Вы меня нашли таким же, каким оставили.
— Чертовы французы! — рассмеялся Гомес. — Все вы какие-то
вечные.
Саксофонист хихикал, скрипач что-то шептал ему на ухо. Руби
наклонилась к Мод, которая настраивала свою скрипку.
— Посмотри на старика во втором ряду, — сказала она.
Мод прыснула: старик был лыс, как бильярдный шар. Ее взгляд
пробежал по аудитории, публики было человек пятьсот. Она
увидела Пьера, стоящего у двери, и перестала смеяться. Гомес с
мрачным видом посмотрел на скрипача и бросил взгляд на пустые
стулья.
— Что касается маленького спокойного уголка, думаю, лучше и
не бывает, — покорно сказал он.
— Здесь есть музыка, — сказал Матье.
— Слышу, — сказал Гомес. — Очень даже слышу.
Он осуждающе посмотрел на музыкантов. Мод читала
осуждение во всех глазах, щеки ее горели, как всегда, она думала: «Боже
мой, зачем? Зачем?» Но стоящая рядом Франс, пенистая и
трехцветная, выказывала все признаки радости, она отбивала заранее
такт, смычок она держала, отставив мизинец, как будто это была
вилка.
ОТСРОЧКА
529
— Вы мне обещали женщин, — сказал Гомес.
— Да! — огорченно согласился Матье. — Не знаю, что
произошло: на прошлой неделе в это же время все столики были заняты и,
клянусь вам, тут были женщины.
— Это из-за текущих событий, — тихо сказал Гомес.
— Безусловно.
События; для каждого — свои: для них там тоже существуют
«события». Они сражаются, прижавшись спиной к Пиренеям, их
лица обращены к Валенсии, к Мадриду, к Таррагоне; но и они
читают газеты и думают обо всем этом кишении людей и оружия за их
спиной, и они имеют свою точку зрения на Францию,
Чехословакию, Германию. Он заерзал на стуле: рыба подплыла к стенке
аквариума и посмотрела на него круглыми глазами. Он заговорщицки
ухмыльнулся Гомесу и неуверенно сказал:
— Люди начинают понимать.
— Они совершенно ничего не понимают, — возразил Гомес. —
Испанец может понять, чех тоже, может быть, даже немец, потому
что они в деле. Французы над схваткой; они ничего не понимают,
они только боятся.
Матье почувствовал себя уязвленным, он живо возразил:
— Их нельзя в этом упрекать. Мне терять нечего, и меня не так
уж расстраивает перспектива ввязаться в войну: ничто меня не
держит. Но если сильно чем-то дорожишь, думаю, не так уж легко
перескочить от мира к войне.
— Я это сделал за час, — проговорил Гомес. — Думаете, я не
дорожил своей живописью?
— Вы — другое дело, — сказал Матье.
Гомес пожал плечами.
— Вы говорите, как Сара.
Они замолчали. Матье не так уж уважал Гомеса. Меньше, чем
Брюне, меньше, чем Даниеля. Но он чувствовал себя перед ним
виноватым, потому что тот был испанец. Матье вздрогнул. Рыба у
стенки аквариума. А он чувствовал себя французом под этим
бесстрастным взглядом, французом до мозга костей. Виноватым.
Виноватым французом. Ему хотелось сказать ему: «Но черт возьми! Я
был за вмешательство в войну в Испании». Но вопрос был не в этом.
То, чего он желал, в счет не шло. Он был француз, и ничего бы не
дало, выпади он из числа других французов. Я был против
вмешательства в испанские дела, я не посылал оружия, я перекрывал
границы волонтерам. Он мог либо быть прав вкупе со всеми, либо
530
Жан Поль Сартр
виноват так же, как этот метрдотель и геморроидальный господин,
пьющий «Виши».
— Как это ни глупо, — сказал он, — но я почему-то думал, что
вы придете в форме.
Гомес улыбнулся:
— В форме? Вы хотите видеть меня в форме?
Он вынул из бумажника пачку фотографий и стал их
поочередно протягивать Матье.
— Се человек.
Матье разглядывал сурового офицера на ступеньках церкви.
— У вас тут не слишком покладистый вид.
— Так нужно, — отчеканил Гомес.
Матье посмотрел на него и рассмеялся.
— Это шутка, — сказал Гомес.
— Да я не из-за этого, — сказал Матье. — Просто подумал:
неужели и у меня будет такой же жуткий вид в форме.
— Вы офицер? — с интересом спросил Гомес.
— Нет. Простой солдат.
Гомес раздраженно дернул плечами:
— Все французы простые солдаты.
— А все испанцы — генералы, — живо заметил Матье.
Гомес добродушно засмеялся.
— Посмотрите-ка на эту, — сказал он, протягивая ему
фотографию.
Это была совсем молодая девушка, загорелая и мрачноватая.
Очень красивая. Гомес обнимал ее за талию и улыбался с
залихватским видом, который он всегда напускал на себя, позируя перед
фотообъективом.
— Марс и Венера, — сказал он.
— Узнаю вас, — сказал Матье. — Скажите, давно вы
предпочитаете таких молоденьких?
— Этой пятнадцать, но на войне они быстро взрослеют. А вот я
в бою.
Матье увидел маленького человека, съежившегося под частью
разрушенной стены.
— Где это?
— В Мадриде. В Университетском городке. Там еще сражаются.
Он сражался. Он действительно лежал за стеной, и в него
стреляли. В то время он был еще капитаном. Может, ему не хватало
патронов, и он думал: «Подлые французы». Гомес, откинувшись на
ОТСРОЧКА
531
стуле, заканчивал пить портвейн, затем неторопливо взял
спичечный коробок, зажег сигарету, его благородное и гротескное лицо
возникло из тени и тут же погасло. Он сражался; но в его глазах это
не запечатлелось. Наступающая ночь обволакивала его нежностью,
лицо его голубело над розовой лампой, оркестр играл «No te quiero
mas»*, ветер нежно колыхал скатерть, вошла женщина, богатая и
одинокая, и села недалеко от них, они ощутили запах ее духов. Гомес
глубоко вдохнул его, раздувая ноздри, черты его лица стали тверже,
он с ищущим видом повернул голову.
— Справа, — сказал Матье.
Гомес остановил на ней волчий взгляд и мгновенно стал
серьезным. Он сказал:
— Красивая баба.
— Она актриса, — сказал Матье. — У нее дюжина пляжных
пижам. Ее содержит промышленник из Лиона.
— Гм! — хмыкнул Гомес.
Она ответила на его взгляд и, вскользь улыбнувшись,
отвернулась.
— Что ж, для вас вечер не будет потерян, — сказал Матье.
Гомес не ответил. Он положил руку на скатерть, Матье смотрел
на его волосатые пальцы в кольцах, розовые в свете лампы. Итак,
он здесь, голубой с розовыми руками, он вдыхает аромат
блондинки, он завлекает ее взглядом. Он сражался. За его спиной —
опаленные города, завихрения красной пыли, облезлые конские крупы,
взрывы снарядов, не оставившие ни малейшего отблеска в его
глазах. Он сражался; он снова будет сражаться, а здесь он видит те же
белые скатерти, которые вижу я. Матье попытался увидеть сосны,
площадку, женщину глазами Гомеса, этими глазами, опаленными
пламенем войны; ему это на мгновение удалось, но тут же
беспокойная и внезапная терпкость, пронзившая его, исчезла. Он сражался,
он... он такой романтичный! «Я же не романтичен», — подумал
Матье. «Нет, — сказала Одетта, — только два прибора, месье Матье не
придет к ужину». Она подошла к открытому окну, она слышала
музыку из «Провансаля», это было танго. Они слушали музыку;
Матье думал: «Он проездом». Официант принес им суп. «Нет, —
сказал Гомес, — не хочу супа». «Малютки» играли «Кошачье танго»;
скрипка Франс выпрыгивала в полосу света и внезапно ныряла в
тень, как летающая рыба. Франс улыбалась, полузакрыв глаза, она
ныряла за скрипкой, смычок царапал, скрипка мяукала, Мод слы-
* Я больше тебя не люблю (исп.).
532
Жан Поль Сартр
шала, как у ее уха мяукает скрипка, она услышала кашель лысого
господина, Пьер смотрел на нее, Гомес засмеялся, вид у него был
недобрый.
— Танго, — сказал он, — танго! Если бы французы вздумали вот
так играть танго в мадридском кафе...
— Их бы забросали печеными яблоками? — спросил Матье.
— Камнями! — сказал Гомес.
— Нас там не очень любят? — спросил Матье.
— Еще бы! — воскликнул Гомес.
Он толкнул дверь: «Баскский бар» был пуст. Однажды вечером
Борис зашел туда, клюнув на название: Ваг basque — на слух оно
(«барбаск») было похоже на слово «барбак», что означает
«тухлятина», и это вызывало у него смех. Потом оказалось, что бар был
совершенно замечательный, и Борис приходил туда каждый вечер,
пока Лола работала. Через открытые окна доносилась далекая
музыка казино; однажды он даже подумал, что узнал голос Лолы, но
это больше не повторилось.
— Здравствуйте, месье Борис, — сказал хозяин.
— Здравствуйте, — отозвался Борис. — Дайте мне белого рома.
Он чувствовал себя безмятежно. Он решил, что выпьет две
порции белого рома, покуривая трубку; затем, ближе к одиннадцати,
съест сандвич с колбасой. Около полуночи он пойдет за Лолой.
Хозяин склонился над ним и наполнил его бокал.
— Марсельца нет? — спросил Борис.
— Нет, — сказал хозяин. — У него профессиональный банкет.
— А-а! Простите!
Марселец был агентом по сбыту корсетов, был также и другой
по имени Шарлье, наборщик. Борис иногда играл с ними в белот,
иногда они говорили о политике или о спорте или же сидели молча,
кто у стойки, кто за столиком; время от времени Шарлье нарушал
молчание и ронял: «Да! Да! Да! Это так», покачивая головой, и
время проходило приятно.
— Сегодня мало людей, — сказал Борис.
Хозяин пожал плечами.
— Все удирают. Обычно мы открыты до Праздника всех
святых, — сказал он, возвращаясь к стойке. — Но если так будет
продолжаться, я закрою первого октября и тоже смотаюсь.
Борис перестал пить и замер. Как бы то ни было, контракт Лолы
заканчивался первого октября, они уже уедут. Но ему было
неприятно думать, что «Баскский бар» закроется сразу после них. Казино
ОТСРОЧКА
533
тоже закроется, как и все отели, Биарриц опустеет. Это как перед
смертью: если точно знаешь, что другие после тебя будут еще пить
белый ром, принимать морские ванны, слушать джазовые мелодии,
то бывает не так грустно; но если понимаешь, что после тебя все в
одночасье умрут и человечество закроет свою лавочку, то
неизбежно впадешь в отчаяние.
— Когда вы снова откроетесь? — спросил Борис, чтобы хоть
отчасти успокоиться.
— Если будет война, — сказал хозяин, — мы не откроемся
вообще.
Борис посчитал на пальцах: «двадцать шестое, двадцать
седьмое, двадцать восьмое, двадцать девятое, тридцатое, я сюда приду
еще пять раз, а потом все будет кончено; я больше никогда не
вернусь в «Баскский бар». Это было забавно. Пять раз. Он еще пять раз
будет пить за этим столиком белый ром, а потом начнется война,
«Баскский бар» закроется, а в октябре тридцать девятого года
Борис будет мобилизован. Свечеобразные лампы бросали из дубовых
люстр янтарно-рыжий свет на столы. Борис подумал: «Никогда
больше я не увижу такого света. Именно такого: рыжего на черном».
Естественно, он увидит много другого, ночные взрывы над полем
брани, говорят, это неплохо, но этот свет потухнет первого октября,
и Борис его больше никогда не увидит. Он с уважением посмотрел
на светлое пятно, расположившееся на столе, и подумал, что когда-
то совершил ошибку. Он всегда относился к предметам, как к
вилкам и ложкам, будто они бесконечно возобновимы: это было
глубокое заблуждение; существует определенное число баров,
кинотеатров, домов, городов и деревень, и в каждом из них определенный
человек может побывать строго определенное число раз.
— Хотите, я включу радиоприемник? — предложил хозяин. —
Это разгонит вашу скуку.
— Нет, спасибо, — отказался Борис. — И так хорошо.
В момент своей смерти в сорок втором году он позавтракает
триста шестьдесят пять помножить на двадцать два — ровно восемь
тысяч тридцать раз, с учетом кормления в грудном возрасте. И если
предположить, что он ел омлет один раз из десяти, то он съест
восемьсот три омлета. «Только восемьсот три омлета? — удивился
он. — А, нет! Есть еще и ужины, это составляет шестнадцать тысяч
шестьдесят завтраков и ужинов, из которых тысяча шестьсот
шесть — омлетов. Как бы то ни было, для любителя это не так
много. «А кафе, — продолжал он. — Можно посчитать число заказов в
534
Жан Поль Сартр
кафе; предположим, что я хожу туда дважды в день и что я буду
мобилизован через год, получается семьсот тридцать раз. Семьсот
тридцать раз! Как это мало». Это все же произвело на него
впечатление, но он был не особенно удивлен: он всегда знал, что умрет
молодым. Он всегда говорил себе, что его убьет либо туберкулез,
либо Лола. Но в глубине души он никогда не сомневался, что
погибнет на войне. Он учился, готовил экзамен на степень бакалавра
и свой лиценциат, но это было скорее времяпрепровождение, как у
девушки, которая ходит на лекции в Сорбонну в ожидании
замужества. «Забавно, — подумал он, — были времена, когда люди изучали
право или проходили конкурс на замещение должности
преподавателя философии, рассчитывая, что в сорок лет у них будет
нотариальная контора, а в шестьдесят — пенсия. Что могло твориться у
таких людей в голове? Люди, перед которыми были десять тысяч,
пятнадцать тысяч вечеров в кафе, четыре тысячи омлетов, две
тысячи ночей любви! И если они покидали место, которое им
нравилось, они вполне могли сказать себе: «Мы сюда вернемся в
следующем году или через десять лет». Они, должно быть, наделали
глупостей, — сурово решил он. — Нельзя управлять своей жизнью с
расстояния в сорок лет». Он же был скромен: у него были планы на
два года, потом все будет кончено. Следует быть непритязательным.
По Голубой реке медленно проплыла джонка, и Борис вдруг
опечалился. Он никогда не поедет ни в Индию, ни в Китай, ни в Мехико,
ни даже в Берлин, его жизнь была скромнее, чем он желал.
Несколько месяцев в Англии, Лаоне, Биаррице, Париже — а сколько таких,
что совершили кругосветное путешествие. Одна-единственная
женщина. Совсем короткая жизнь; у нее уже был законченный вид,
потому что заранее известно все, чего в ней никогда не будет.
Нужно быть скромным. Он выпрямился, выпил глоток рома и подумал:
«Так лучше — меньше шансов растратиться».
— Еще рома!
Филипп поднял голову и стал старательно рассматривать
электрические лампочки. Напротив него над зеркалом пробили часы; он
видел в зеркале свое лицо. Девять сорок пять, он подумал: «В десять
часов!» и позвал официантку.
— Повторить.
Официантка ушла и вернулась с бутылкой коньяка и блюдцем.
Она налила коньяку в рюмку Филиппа и положила блюдце на три
других. Она насмешливо улыбалась, но Филипп трезво смотрел ей
прямо в глаза; он уверенно взял рюмку и поднял ее, не пролив ни
ОТСРОЧКА
535
капли; потом отпил глоток и поставил рюмку, продолжая
пристально смотреть на официантку.
— Сколько?
— Вы хотите расплатиться? — спросила она.
— Да, сейчас же.
— Что ж, двенадцать франков.
Он дал ей двенадцать франков и отослал ее жестом. Он подумал:
«Все, я больше никому ничего не должен!» Он хохотнул,
прикрывшись рукой. И еще раз подумал: «Никому!» Он увидел свое
смеющееся лицо в зеркале и засмеялся еще пуще: при десятом ударе
часов он встанет, отнимет свое изображение у зеркала, и начнется
его мученичество. Сейчас ему было скорее весело, он рассматривал
ситуацию по-дилетантски. Кафе было гостеприимным, это была
«Капуя», скамейка была мягкой, как пуховый матрац, он
погрузился в нее, из-за стойки доносились музыка и звон посуды,
напоминавший ему колокольчики коров в Зелисберге. Он видел себя в
зеркале, он мог бы и дальше сидеть здесь, смотреть на себя и
слушать эту музыку целую вечность. В десять часов. Он встанет,
возьмет руками свое изображение, вырвет его из зеркала, как бельмо из
глаза. Он увидит.
Зеркала после удаления катаракт...
катаракт дня,
в зеркалах, избавленных от катаракт.
Или же:
День низвергался в катаракту зеркала, избавленного от
катаракты.
Или еще:
Ниагара дня в катаракте зеркала, избавленного от катаракты.
Слова рассыпались в порошок, он уцепился за холодный
мрамор, ветер уносит меня, во рту застоялся липкий вкус спиртного.
МУЧЕНИК. Он посмотрел на себя в зеркало, он подумал, что
смотрит на мученика; он улыбнулся себе и отдал честь. «Без десяти
десять, ха! — с удовлетворением подумал он. — Время мне кажется
долгим». Пройденные пять минут, вечность. Еще две вечности без
движения, без мысли, без страдания, в созерцании истощенного
лица мученика, потом время, мыча, низвергнется в такси, в поезд,
до Женевы.
Атараксия.
Ниагара времени.
Ниагара дня.
536
Жан Поль Сартр
В зеркалах, избавленных от катаракт.
Я уезжаю на такси.
В Гобург, в Бибракт.
А там неизбежен акт,
Неоспоримый факт —
Избавление от катаракт.
Он засмеялся, потом осекся, огляделся, кафе пахло вокзалом,
поездом, больницей; ему хотелось позвать на помощь. Семь минут.
«Что было бы более революционным? Уехать или остаться? Если я
уеду, то совершу революцию против других; если останусь, то
совершу ее против себя, а это посильнее. Все подготовить, украсть,
заказать фальшивые документы, оборвать все связи, а потом, в
последний момент, все отменяется, добрый вечер! Свобода второй
степени; свобода, побеждающая свободу». Без трех минут десять он
решил разыграть свой отъезд в орел или решку. Он четко видел
большой зал вокзала Орсэ, пустынный и сверкающий от света,
лестницу, уходящую под землю в дыму локомотивов, у него был во
рту привкус дыма; он взял монету в сорок су, если орел — уезжаю;
он бросил ее вверх — орел, уезжаю! Орел, уезжаю. Что ж, уезжаю! —
сказал он своему изображению. — Не потому что я ненавижу войну,
не потому что я ненавижу свою семью, даже не потому, что я решил
уехать: по чистой случайности, потому что монета легла на одну
сторону, а не на другую. «Восхитительно, — подумал он, — я в
наивысшей точке свободы. Дармовой мученик; если бы она видела, как
я подбрасываю монету! Еще минута. Монета, вместо игральной
кости! Динь, никогда, динь, динь, выброс, динь, костей, динь, динь,
не уни, динь, динь, чтожит, динь, динь, случая. Динь!» Он встал, он
шел прямо, он ставил ступни одну за другой на бороздки паркета,
он чувствовал взгляд официантки на своей спине, но он не даст ей
повода посмеяться. Она его окликнула:
— Месье!
Он, вздрогнув, обернулся.
— Ваш чемоданчик.
Черт! Филипп бегом пересек зал, схватил чемоданчик и,
споткнувшись, с трудом достиг двери под хохот присутствующих,
выскочил и позвал такси. В левой руке он держал чемоданчик, в
правой сжимал монету в сорок су. Машина остановилась перед ним.
— Адрес?
Шофер был усат и с бородавкой на щеке.
— Улица Пигаль, — сказал Филипп. — В «Кубинскую хижину».
ОТСРОЧКА
537
— Мы проиграли войну, — сказал Гомес.
Матье это знал, но думал, что Гомес этого еще не понимает.
Оркестр играл «Гт looking for Sally»*, под лампой блестели тарелки,
и свет прожекторов падал на площадку, как чудовищный лунный
свет — реклама для Гонолулу. Гомес сидел здесь, лунный свет лежал
справа от него, слева ему слегка улыбалась женщина; скоро он
вернется в Испанию, хотя знает, что республиканцы уже проиграли
войну.
— Вы не можете быть в этом уверены, — сказал Матье. — Никто
не может быть в этом уверен до конца.
— Нет, — возразил Гомес. — Мы в этом уверены.
Казалось, он не грустил: он просто констатировал факт, вот и
все. Он спокойно и открыто посмотрел на Матье и сказал:
— Все мои солдаты уверены, что эта война проиграна.
— И тем не менее они сражаются? — спросил Матье.
— А что им, по-вашему, делать?
Матье пожал плечами.
— Конечно, сражаться.
Я беру свой бокал, я пью два глотка «шато-марго», мне говорят:
«Они сражаются до последнего, им ничего другого не остается, я
пью глоток «шато-марго», пожимаю плечами и говорю: «Конечно,
сражаться». Подонок.
— Что это? — спросил Гомес.
— Турнедо** Россини, — сказал метрдотель.
— Ах да! — сказал Гомес. — Давайте.
Он взял у него блюдо из рук и поставил на стол.
— Неплохо, — сказал он. — Неплохо.
Турнедо на столе; один для него, один для меня. Он имеет право
смаковать свой, раздирать его красивыми белыми зубами, он имеет
право смотреть на красивую женщину слева и думать: «Красивая
шлюха!» Я же — нет. Если я ем, сотня мертвых испанцев
вцепляется мне в горло. Я за это не заплатил.
— Пейте! — сказал Гомес. — Пейте!
Он взял бутылку и наполнил бокал Матье.
— Только ради вас, — со смешком сказал Матье. Он взял бокал
и выпил до дна. Турнедо вдруг оказался у него в тарелке. Он взял
вилку и нож.
— Раз так хочет Испания... — прошептал он.
* Я ищу Салли (англ.).
** Говяжье филе, нарезанное кусками.
538
Жан Поль Сартр
Гомес, казалось, его не слышал. Он налил себе бокал «шато-
марго», выпил и улыбнулся:
— Сегодня турнедо, завтра — турецкий горох. Сегодня мой
последний вечер во Франции, — сказал он. — И единственный
хороший ужин.
— Разве? — удивился Матье. — А в Марселе?
— Сара — вегетарианка.
Ом смотрел прямо перед собой; вид у него был симпатичный.
Он сказал:
— Когда я уезжал в отпуск, в Барселоне уже три недели не было
табака. Вам это ни о чем не говорит — целый город без курева?
Он обратил взгляд на Матье и, казалось, увидел его впервые.
Его взгляд снова стал неприязненным.
— Вы все это еще узнаете, — сказал он.
— Не обязательно, — возразил Матье, — войны еще можно
избежать.
— Конечно! — сказал Гомес. — Войны всегда можно избежать.
Он усмехнулся и добавил:
— Достаточно бросить чехов на произвол судьбы.
«Нет, старина, — подумал Матье, — нет, старина! Испанцы могут
давать мне урок относительно Испании, это их право. Но для
чешских уроков требуется присутствие чеха».
— Скажите честно, Гомес, — спросил он, — нужно ли их
поддерживать? Еще не так давно коммунисты требовали автономии для
судетских немцев.
— Нужно ли их поддерживать? — спросил Гомес, передразнивая
Матье. — Нужно ли было нас поддерживать? Нужно ли было
поддерживать австрийцев? А кто поддержит вас, когда наступит ваш
черед?
— Речь идет не о нас, — сказал Матье.
— Речь идет о вас, — сказал Гомес. — О ком же еще мы
говорим?
— Гомес, — сказал Матье, — ешьте турнедо. Я прекрасно
понимаю, что вы нас всех ненавидите. Но сегодня ваш последний вечер
отпуска, мясо стынет на тарелке, вам улыбается женщина, и, кроме
всего прочего, я был за вмешательство.
Гомес спохватился.
— Знаю, — улыбаясь, сказал он, — знаю-знаю.
— И потом, согласитесь, — продолжал Матье, — в Испании
ситуация была ясной. Но ваши разговоры о Чехословакии менее
ОТСРОЧКА
539
убедительны, и я вижу здесь гораздо меньше ясности. Есть вопрос
права, который мне не удается разрешить: допустим, судетские
немцы действительно не хотят быть чехами?
— Оставьте вопросы права, — сказал Гомес, пожимая плечами. —
Вы ищете конкретную причину для войны? Есть только одна: если
вы не будете воевать, вам хана. Гитлеру нужна не Прага, не Вена, не
Данциг — ему нужна вся Европа.
Даладье посмотрел на Чемберлена, затем на Галифакса, потом
отвел глаза и взглянул на позолоченные часы на консоли; стрелки
показывали десять часов тридцать шесть минут; такси остановилось
перед «Кубинской хижиной». Жорж повернулся на спину и слегка
застонал, храп соседа мешал ему спать.
— Я могу, — сказал Даладье, — только повторить то, что уже
заявлял: французское правительство взяло на себя обязательства по
отношению к Чехословакии. Если правительство Праги отвергнет
немецкие предложения и если, вследствие этого отказа, оно станет
жертвой агрессии, французское правительство будет считать себя
обязанным выполнить свои обязательства.
Он кашлянул, посмотрел на Чемберлена и подождал.
— Да, — сказал Чемберлен. — Да, разумеется.
Казалось, он был расположен добавить еще несколько слов; но
слова не прозвучали. Даладье ждал, чертя носком туфли круги на
ковре. Наконец он поднял голову и усталым голосом спросил:
— Какой будет при такой ситуации позиция британского
правительства?
Франс, Мод, Дусетга и Руби встали и поклонились. В первых
рядах раздались вялые аплодисменты, и тут же толпа направилась
к выходу, с шумом двигая стульями. Мод поискала взглядом Пьера,
но он исчез. Франс повернулась к ней, у нее горели щеки, она
улыбалась.
— Хороший вечер, — сказала она. — По-настоящему хороший
вечер.
Война была здесь, на белой площадке, она была мертвым
сверканием искусственного лунного света, фальшивой горечью
заткнутой трубы, этим холодом на скатерти, в запахе красного вина и этой
затаившейся старости в чертах Гомеса. Война; смерть; поражение.
Даладье смотрел на Чемберлена, он читал в его глазах войну,
Галифакс смотрел на Бонне, Бонне смотрел на Даладье; они молчали, а
Матье видел войну в своей тарелке, в темном, покрытом глазками
соусе турнедо.
540
Жан Поль Сартр
— А если мы тоже проиграем войну?
— Тогда Европа будет фашизирована, — с легкостью сказал Го-
мес. — А это неплохая подготовка к коммунизму.
— Что станет с вами, Гомес?
— Думаю, что полицейские убьют меня в меблирашках, или же
я отправлюсь бедствовать в Америку. Какая разница? Я буду
жить.
Матье с любопытством посмотрел на Гомеса.
— И вы ни о чем не жалеете? — спросил он.
— Абсолютно.
— Даже о живописи?
— Даже о живописи.
Матье грустно покачал головой. Ему нравились картины
Гомеса.
— Вы писали красивые картины, — сказал он.
— Я никогда больше не смогу рисовать.
— Почему?
— Не знаю. Физически. Я потерял терпение; это мне будет
казаться скучным.
— Но на войне тоже нужно быть терпеливым.
— Это совсем другое терпение.
Они замолчали. Метрдотель принес на оловянном блюде
блинчики, полил их ромом и кальвадосом, затем поднес к блюду
зажженную спичку. Призрачный радужный огонек на мгновение закачался
в воздухе.
— Гомес! — вдруг сказал Матье. — Вы сильный; вы знаете, за что
сражаетесь.
— Вы хотите сказать, что вы этого не знаете?
— Да. Хотя думаю, что знаю. Но я думаю не о себе. Есть люди,
у которых ничего, кроме собственной жизни, нет, Гомес. И никто
ничего для них не делает. Никто. Никакое правительство, никакой
режим. Если фашизм заменит во Франции республику, они этого
даже не заметят. Возьмите пастуха из Севенн — вы думаете, он
знает, за что сражается?
— У нас именно пастухи самые ярые, — сказал Гомес.
— За что они сражаются?
— Кто за что. Я знал одного — так он сражался, чтобы
научиться читать.
— Во Франции все умеют читать, — сказал Матье. — если я
встречу в своем полку пастуха из Севенн и если увижу, что он уми-
ОТСРОЧКА
541
рает рядом со мной, чтобы сохранить для меня республику и
гражданские свободы, клянусь, я не буду этим гордиться. Гомес! Разве
вам не бывает стыдно, что эти люди умирают за вас?
— Это меня не смущает, — ответил Гомес. — Я рискую жизнью
не меньше их.
— Генералы умирают в своих постелях.
— Я не всегда был генералом.
— Все равно это не одно и то же.
— Я их не жалею, — сказал Гомес. — У меня нет к ним жалости. —
Он протянул руку над скатертью и схватил Матье за локоть. — Ма-
тье, — добавил он тихо и медленно, — война — это прекрасно.
Его лицо пылало. Матье попытался высвободиться, но Гомес с
силой сжал его локоть и продолжал:
— Я люблю войну.
Говорить больше было нечего. Матье смущенно засмеялся, и
Гомес отпустил его руку.
— Вы произвели большое впечатление на нашу соседку, —
заметил Матье.
Гомес сквозь красивые ресницы бросил взгляд налево.
— Да? — сказал он. — Что ж, будем ковать железо, пока горячо.
Здесь танцуют?
— Ну да.
Гомес встал, застегивая пиджак. Он направился к актрисе, и
Матье увидел, как он склонился над ней. Она отбросила назад
голову и, смеясь, посмотрела на него, затем они отошли чуть в
сторону и начали танцевать. Филипп тоже танцевал; от его партнерши
совсем не пахло негритянкой, она, должно быть, была с Мартиники.
Филипп думал: «Мартиниканка», а на язык пришло слово
«Малабарка»*. Он прошептал:
— Моя прекрасная малабарка.
Она ответила:
— Вы прекрасно танцуете.
В ее голосе слышалась музыка флейты, это было по-своему
приятно.
— А вы прекрасно говорите по-французски, — сказал он.
Она возмущенно посмотрела на него:
— Я родилась во Франции!
— Это ничего не значит, — сказал он. — Вы все равно хорошо
говорите по-французски.
* Воспоминание о стихотворении Ш. Бодлера «Малабарке».
542
Жан Поль Сартр
Он подумал: «Я пьян» и засмеялся. Она беззлобно сказала ему:
— Вы совсем пьяны.
— Ага, — согласился он.
Он больше не чувствовал усталости; он был готов танцевать до
утра; но он решил переспать с негритянкой, это было важнее. То, что
было особенно отрадно в опьянении, так это власть над предметами,
которую оно давало. Не было необходимости трогать их: просто
взгляд — и ты ими владеешь; он владел этим лбом, этими черными
волосами; он ласкал свои глаза этим гладким лицом. Дальше все
становилось туманным; был толстый господин — он пил
шампанское, а потом люди, которые сгрудились все разом и которых он едва
различал. Танец закончился; они направились к столику.
— Вы хорошо танцуете, — сказала она. — У такого красавчика,
как вы, наверняка было много женщин.
— Я девственник, — ответил Филипп.
— Врунишка!
Он поднял руку:
— Клянусь вам, я девственник. Клянусь жизнью матери.
— Да? — разочарованно протянула она. — Значит, женщины вас
не интересуют?
— Не знаю, — ответил он. — Посмотрим.
Он посмотрел на нее, он владел ею глазами, потом скорчил рожу
и сказал:
— Я рассчитываю на тебя.
Она выдохнула ему в лицо дым от сигареты.
— Что ж, увидишь, на что я способна.
Он взял ее за волосы и притянул к себе; вблизи она все же
слегка пахла салом. Он легко поцеловал ее в губы. Она сказала:
— Девственник. Кажется, у меня крупный выигрыш!
— Выигрыш? — удивился он. — Бывает только проигрыш.
Он ее совсем не желал. Но он был доволен, потому что она была
красива и не смущала его. Ему стало легко-легко, и он подумал: «Я
умею говорить с женщинами». Он отпустил ее, она выпрямилась;
чемоданчик Филиппа упал на пол.
— Осторожно! — сказал он. — Ты что, пьяна?
Она подняла чемоданчик:
— Что там?
— Тш! Не трогай: это дипломатический чемоданчик.
— Я хочу знать, что там, — ребячливо настаивала она. —
Дорогой, скажи, что там?
ОТСРОЧКА
543
Он хотел вырвать у нее чемоданчик, но она его уже открыла.
Она увидела пижаму и зубную щетку.
— Книжка! — удивилась она, открывая томик Рембо. — Что
это?
— Это, — сказал он, — написал один человек, который уехал.
— Куда?
— Какая тебе разница? Уехал, и все.
Он взял книгу у нее из рук и положил ее в чемоданчик.
— Это поэт, — насмешливо пояснил он. — Так тебе понятней?
— Да, — ответила она. — Так нужно было сразу и сказать.
Он закрыл чемоданчик, он подумал: «А я не уехал», и опьянение
его разом прошло. «Почему? Почему я не уехал?» Теперь он очень
хорошо различал толстого господина напротив: он был не такой уж
толстый, и у него были внушающие робость глаза. Человеческие
грозди сами по себе расклеились; тут были женщины, черные и
белые; были и мужчины. Ему показалось, что на него все смотрят.
«Зачем я здесь? Как я сюда попал? Почему я не уехал?» В его памяти
был провал: он подбросил монету, взял такси, и вот теперь он сидит
за столиком перед бокалом шампанского с негритянкой,
попахивающей рыбьим клеем. Он рассматривал самого себя, как он
подбрасывал монету, он пытался себя разгадать, он думал: «Я кто-то другой»,
он думал. «Я себя не знаю». Потом повернулся к негритянке.
— Почему ты на меня смотришь? — спросила она.
— Просто так.
— Я, по-твоему, красивая?
— Да вроде ничего.
Она кашлянула, ее глаза сверкнули. Она приподняла зад и
привстала, опираясь руками о стол.
— Если я, по-твоему, безобразная, я могу и уйти: мы не женаты.
Он порылся в кармане и вынул три смятых купюры по тысяче
франков.
— На, возьми, — сказал он, — и оставайся.
Она взяла деньги, развернула их, разгладила и, смеясь, села.
— Противный мальчишка, — сказала она. — Противный-
противный мальчишка.
Бездна стыда разверзлась прямо перед ним: ему оставалось
только упасть в нее. Отхлестанный по щекам, побитый, изгнанный,
даже не уехавший. Он склонился над пропастью, и у него
закружилась голова. Стыд поджидал его на дне; ему только оставалось из-
544
Жан Поль Сартр
брать для себя этот стыд. Он закрыл глаза, и вся усталость дня
нависла на нем. Усталость, стыд, смерть. Избрать для себя стыд.
«Почему я не уехал? Почему я не избрал для себя отъезд?» Он
ощущал на плечах всю вселенную.
— Ты не больно-то разговорчив, — сказала она.
Он коснулся пальцем ее подбородка.
— Как тебя зовут?
— Флосси.
— Но это же не малабарское имя.
— Я же тебе сказала, что родилась во Франции, — раздраженно
сказала она.
— Я дал тебе три тысячи франков, Флосси. Ты хочешь, чтобы я
с тобой еще и беседовал?
Она пожала плечами и отвернулась. Черная пропасть по-
прежнему зияла, стыд ждал на самом дне. Он посмотрел на нее,
склонился к ней, но внезапно все понял, и тревога сжала его сердце:
«Это ловушка, если я в нее упаду, то стану сам себе противен.
Навсегда». Он выпрямился и в бешенстве подумал: «Я не уехал,
потому что был пьян!», и пропасть закрылась: он сделал выбор. «Я не
уехал, потому что был пьян». Он прошел мимо стыда совсем рядом;
он слишком испугался; но теперь он выбрал: никогда не стыдиться.
Больше никогда.
— Представь себе, я должен был сесть на поезд. А вместо этого
напился.
— Уедешь завтра, — добродушно сказала она.
Он так и подскочил:
— Зачем ты мне это говоришь?
— А что такого? — удивилась она. — Когда опаздывают на поезд,
садятся на следующий.
— Я вообще не поеду, — проговорил он, хмуря брови. — Я
изменил решение. Знаешь, что такое знак?
— Знак? — переспросила она.
— Мир полон знаков. Все — знак. Нужно только уметь их
разгадывать. Представь себе: человек должен был уехать, но напился
и не уехал. Почему? Потому что так было нужно. Это знак: ему
лучше остаться здесь.
Она покачала головой.
— Правда, — согласилась она. — То, что ты говоришь, правда.
Лучше здесь. Толпа на площади Бастилии, это там нужно
выступить. На площади. Чтоб тебя разорвали на месте. Орфей. Долой
ОТСРОЧКА
545
войну! Кто сможет сказать, что я трус? Я пролью кровь за них всех,
за Мориса и за Зезетту, за Питто, за генерала, за всех людей, чьи
лапы меня разорвут на части. Он повернулся к негритянке и нежно
посмотрел на нее: одна ночь, только одна ночь. Моя первая ночь
любви. Моя последняя ночь.
— Ты красивая, Флосси.
Она ему улыбнулась.
— А ты можешь быть милым, когда захочешь.
— Пошли танцевать, — сказал он ей. — Я буду милым до
рассвета.
Они танцевали. Матье смотрел на Гомеса; он думал: «Его
последняя ночь», и улыбался; негритянка любила танцевать, она
танцевала, полузакрыв глаза; Филипп танцевал, думая: «Это моя
последняя ночь, моя первая ночь любви». Ему больше не было стыдно;
он устал, было жарко; завтра я пролью кровь за мир. Но заря была
еще далеко. Он танцевал, ему было уютно, он чувствовал себя
правым, он сам себе казался романтичным. Свет скользил вдоль
перегородки; поезд замедлял ход, скрип, толчки, он остановился, свет
залил вагон, Шарль зажмурился и выпустил руку Катрин.
— Ларош-Миженн! — крикнула медсестра. — Приехали.
— Ларош-Миженн? — удивился Шарль. — Но мы не проезжали
Париж.
— Нас провезли другим путем, — сказала Катрин.
— Собирайте вещи! — крикнула сестра. — Сейчас вас будут
выносить.
Бланшар вдруг проснулся:
— Что, что? Где мы?
Никто не ответил. Медсестра объяснила:
— Завтра снова сядем в поезд. А здесь мы переночуем.
— Болят глаза, — смеясь, сказала Катрин. — Это от света.
Шарль повернулся к ней, она смеялась, закрывая ладонью
лицо.
— Собирайте вещи! — кричала медсестра. — Собирайте вещи.
Она склонилась над лысым мужчиной, его череп сверкал.
— Готово?
— Минутку, какого черта! — разозлился тот.
— Поторопитесь, — сказала она, — сейчас придут носильщики.
— Черт! — сказал он. — Можете забрать, вы мне отбили всю
охоту.
546
Жан Поль Сартр
Медсестра выпрямилась, в вытянутых руках у нее было судно,
она перешагнула через тела и направилась к двери.
— Спокойствие! — сказал Шарль. — В бригаде их, может, только
дюжина, а разгрузить надо двадцать вагонов. Когда еще они до нас
доберутся!
— Если только не начнут с хвоста...
Шарль поднял руку над глазами.
— Куда нас поместят? В залы ожидания?
— Думаю, да.
— Мне немного досадно покидать этот вагон. Я здесь как-то
укоренился. А вы?
— Я тоже, — сказала Катрин. — С тех пор как... мы вместе...
— Вот они! — крикнул Бланшар.
В вагон зашли люди. Они были черными, потому что стояли
спиной к свету. Их тени выделялись на перегородке; казалось, они
заходили одновременно с двух сторон. Наступило молчание;
Катрин прошептала:
— Я же вам сказала, что начнут с нас.
Шарль не ответил. Он увидел, как два человека склонились над
больным, и сердце его сжалось. Жак спал, его нос что-то
насвистывал, но она не могла спать; пока он не вернется, она не заснет.
Прямо напротив своих ног Шарль увидел огромную тень, которая
сложилась вдвое, они уносили инвалида перед ним, потом моя
очередь, ночь, дым, холод, качка, пустынные перроны, ему было
страшно. Под дверью была полоска света, она услышала шум на первом
этаже; это он. Она узнала его шаги на лестнице, и покой сошел на
нее: «Он здесь, в нашем доме, он у меня есть». Еще одна ночь.
Последняя. Матье открыл дверь, закрыл ее, отворил окно и захлопнул
ставни, она услышала, как потекла вода. Он собирается спать. Там,
за стеной, в нашем доме.
— Это за мной, — сказал Шарль. — Попросите их, чтобы они вас
унесли сразу после меня.
Он сильно сжал ее руку, пока два носильщика наклонялись над
ним, и его обдало перегаром.
— Гоп! — сказал носильщик позади него.
Шарль вдруг испугался и стал вертеть зеркало, пока его
поднимали, он тщился рассмотреть, несут ли ее за ним, но видел
только плечи носильщика и его голову, нахохленную, как у ночной
птицы.
— Катрин! — крикнул он.
ОТСРОЧКА
547
Ответа он не услышал. Он покачивался над порогом, носильщик
сзади него о чем-то распоряжался, ноги Шарля опустились, ему
показалось, что он падает.
— Осторожно! Осторожно! — сказал он.
Но он уже видел звезды на черном небе, было холодно.
— Ее несут за мной? — спросил он.
— Кого? — спросил носильщик с птичьей головой.
— Соседку. Это моя подруга.
— Женщинами займутся потом, — ответил носильщик. — Вас
разместят в разных местах.
Шарль задрожал.
— Но я думал... — начал он.
— Вы что, хотите, чтоб они мочились прямо перед вами?
— Я думал... — сказал Шарль, — я думал...
Он провел рукой по лбу и вдруг заголосил:
— Катрин! Катрин! Катрин!
Он раскачивался в их руках, он видел звезды, свет фонаря
брызнул ему в глаза, потом снова звезды, потом опять фонарь, он снова
закричал:
— Катрин! Катрин!
— Он что, ненормальный? — спросил носильщик сзади. — Вы
замолчите или нет?
— Но я даже не знаю ее фамилии... — сказал Шарль
прерывающимся от слез голосом. — Я потеряю ее навсегда.
Они поставили его на пол, открыли дверь, снова подняли его,
он увидел зловещий желтый потолок, услышал, как снова
закрылась дверь, он попал в ловушку.
— Мерзавцы! — сказал он, когда они ставили носилки на
землю. — Мерзавцы!
— Ну, ты там, потише! — сказал субъект с птичьей головой.
— Ладно, — успокоил его другой. — Ты же видишь, у него
котелок не варит.
Он услышал их удаляющиеся шаги, дверь открылась и
закрылась.
— Вот и встретились, — услышал он голос Бланшара.
В тот же миг Шарль получил струю воды прямо в лицо. Но он
молчал и застыл неподвижно, как покойник, широко открытыми
глазами он смотрел в потолок, в то время как вода текла ему в уши
и по шее. Она не хотела спать, она лежала неподвижно на спине в
темной комнате. «Сейчас он ложится, скоро он уснет, а я охраняю
548
Жан Поль Сартр
его сон. Он сильный, он чистый, сегодня утром он узнал, что уходит
на войну, и даже бровью не повел. Но теперь он безоружен: он будет
спать, это его последняя ночь дома. Ах, — подумала она, — как он
романтичен!»
Это была благоухающая теплая комната с атласным светом и
цветами повсюду.
— Входите, — сказала она.
Гомес вошел. Он огляделся, увидел куклу на диване и подумал
о Теруэле. Он там спал в такой же комнате с лампами, куклами и
цветами, но без запаха и без потолка; посередине пола была дыра.
— Почему вы улыбаетесь?
— Здесь очаровательно, — ответил он.
Она подошла к нему:
— Если комната вам нравится, можете приходить сюда, когда
хотите.
— Я завтра уезжаю, — сказал Гомес.
— Завтра? Куда?
Она не сводила с него красивых невыразительных глаз.
— В Испанию.
— В Испанию? Значит...
— Да, — сказал он. — Я солдат в отпуске.
— И на чьей же вы стороне? — спросила она.
— А вы как думаете?
— На стороне Франко?
— Ну уж нет!
Она обвила руками его шею.
— Мой красивый солдат.
У нее было чудесное дыхание; он поцеловал ее.
— Всего одна ночь, — сказала она. — Это так мало. И именно
тогда, когда я нашла мужчину, который мне нравится.
— Я вернусь, — сказал он. — Когда Франко выиграет войну...
Она еще раз поцеловала его и мягко высвободилась.
— Подожди меня. На столике есть джин и виски.
Она открыла дверь туалетной комнаты и исчезла. Гомес
подошел к столику и налил себе джина. Грузовики ехали, стекла
дрожали. Сара внезапно проснулась и села на кровати. «Сколько же
их? — подумала она. — Им нет конца». Тяжелые грузовики, уже с
маскировкой, с серыми чехлами и зелеными и коричневыми
полосами на капоте, они, должно быть, набиты людьми и оружием. Она
подумала: «Это война» — и заплакала. Катрин! Катрин! Два года у
ОТСРОЧКА
549
нее были сухие глаза; и когда Гомес сел в поезд, она не проронила
ни слезинки. Теперь же слезы лились ручьем. Катрин! Спазмы
приподняли ее, она упала на подушку, она плакала, кусая ее, чтобы не
разбудить малыша. Гомес выпил глоток джина, джин ему
понравился. Он прошелся по комнате и сел на диван. В одной руке он держал
бокал, другой схватил за шею куклу и посадил себе на колени. Он
слышал, как в туалетной комнате текла вода из крана, хорошо
знакомое тепло поднималось вдоль его бедер, как две гладкие ладони.
Он был счастлив, он выпил и подумал: «Я сильный». Грузовики
ехали, стекла дрожали, текла вода из крана, Гомес думал: «Я люблю
жизнь, я рискую жизнью, я жду смерти завтра, скоро, я ее не боюсь,
я люблю роскошь, и я скоро познаю нищету и голод, я знаю, чего
хочу, я знаю, за что сражаюсь, я командую, и мне подчиняются, я
отказался ото всего, от живописи, от славы, и я доволен». Он
вспомнил о Матье и подумал: «Не хотел бы я быть на его месте». Она
открыла дверь, под розовым халатом она была голой. Она сказала:
— Вот и я.
— Вот те и на! Черт! — сказала она.
Она провела в туалетной комнате полчаса, моясь и душась,
потому что белые всегда не любят ее запах, она подошла к нему
улыбаясь и раскрыв объятия, а он спал совсем голый на кровати,
зарывшись головой в подушку. Она схватила его за плечо и яростно
затрясла.
— Ты проснешься? — прошипела она. — Маленький паршивец,
проснешься ты или нет?
Он открыл глаза и мутным взглядом посмотрел на нее. Он
поставил бокал на этажерку, положил куклу на диван, неторопливо
встал и обнял ее. Он был счастлив.
— Ты можешь это прочесть? — спросил Большой Луи.
Служащий оттолкнул его.
— Ты в третий раз меня об этом спрашиваешь. Я тебе уже сказал:
тебе надо в Монпелье.
— А где поезд на Монпелье?
— Он отправляется в четыре утра; пока еще не сформирован.
Большой Луи с беспокойством посмотрел на него:
— Как это? Что же мне делать?
— Сядь в зале ожидания и вздремни до четырех. У тебя есть
билет?
— Нет, — сказал Большой Луи.
— Ну так пойди возьми. Нет, не сюда! Ну и осел! В кассе, олух.
550
Жан Поль Сартр
Большой Луи подошел к кассе. Кассир в очках дремал в окошке.
— Эй! — сказал Большой Луи.
Кассир вздрогнул.
— Мне надо в Монпелье, — сказав Большой Луи.
— В Монпелье?
У кассира был удивленный вид; он еще толком не проснулся.
Подозрение, однако, закралось в душу Большого Луи.
— Здесь действительно написано Монпелье?
Он показал свой военный билет.
— Монпелье, — подтвердил кассир. — Со скидкой с вас
пятнадцать франков.
Большой Луи протянул ему сто франков той женщины.
— А теперь? — спросил он. — Что мне делать?
— Идите в зал ожидания.
— А когда поезд?
— В четыре утра. Вы что, не умеете читать?
— Нет, — сказал Большой Луи.
Помешкав, он спросил:
— А правда, что будет война?
— Откуда мне знать? В расписании это не написано, так ведь?
Он встал и пошел в глубь кассы. Он делал вид, что смотрит
бумаги, но через некоторое время сел, обхватил руками голову и
снова погрузился в сон. Большой Луи огляделся, он хотел найти
кого-нибудь, кто объяснил бы ему насчет войны, но зал был пуст.
Большой Луи сказал себе: «Хорошо, пойду в зал ожидания». Он
пересек зал, волоча ноги: ему хотелось спать, ляжки его болели.
— Отстань, я хочу спать, — простонал Филипп.
— Еще чего! — сказала Флосси. — Девственник! Нужно, чтоб ты
прошел через все, что принесет мне счастье.
Он толкнул дверь и вошел в зал. Там было полно людей,
спавших на скамейках, а на полу много чемоданов и мешков. Свет был
унылый; в глубине стеклянная дверь открывалась в темноту. Он
подошел к скамейке и сел между двух женщин. Одна из них спала
с открытым ртом. Пот катился по ее щекам, оставляя розовые
следы. Другая открыла глаза и посмотрела на него.
— Я призван, — объяснил Большой Луи. — Мне нужно в
Монпелье.
Женщина живо отодвинулась и бросила на него полный
осуждения взгляд. Большой Луи подумал, что она не любит солдат, но
все же спросил:
ОТСРОЧКА
551
— Разве будет война?
Она не ответила: откинув назад голову, она снова уснула.
Большой Луи боялся уснуть. Он подумал: «Если я усну, то не проснусь».
Он вытянул ноги; он бы охотно чего-нибудь пожевал, хлеб или
колбасу, например; у него оставались деньги, но была ночь, все лавки
закрыты. Он спросил себя: «Но с кем воюют?» Наверняка с
немцами. Может, из-за Эльзаса и Лотарингии? На полу у его ног валялась
газета, он поднял ее, потом вспомнил о женщине, которая
перевязала ему голову, и подумал: «Я не должен уезжать». Он сказал себе:
«Ладно, но куда же мне деваться, у меня больше нет денег». Он
подумал: «В казарме меня будут кормить». Но он не любил казармы.
Залы ожидания тоже. Вдруг ему стало грустно и сиротливо.
Сначала его напоили и побили, а теперь отправляют в Монпелье. Он
подумал: «Господи, я же ничего в этом не понимаю». Он сказал себе:
«А все потому, что я не умею читать». Все эти спящие люди знали
больше, чем он; они прочли газету, они знали, почему будет война.
А он был совсем один в ночи, совсем один и такой ничтожный, он
ничего не знал, ничего не понимал, как будто он вот-вот умрет. Он
ощутил листок газеты у себя в руках. Там все написано. Они все
написали: война, погода на завтра, цены, расписание поездов. Он
развернул газету и посмотрел на нее. Он увидел тысячи черных точек,
похоже на валики шарманки с дырками на бумаге, которые дают
музыку, когда крутят ручку. Когда на них долго смотришь, кружится
голова. Было еще и фото: опрятный, хорошо причесанный человек
смеется. Большой Луи бросил газету и заплакал.
Понедельник, 26 сентября
Шестнадцать часов тридцать минут. Все смотрят в небо, я
смотрю в небо. Дюмюр говорит: «Они не опаздывают». Он уже
приготовил свой «кодак», он смотрит на небо, морщится от солнца.
Самолет то черный, то блестящий, он увеличивается, но его шум не
меняется: красивый полнозвучный шум, приятный на слух. Я говорю:
«Не толкайтесь же!» Они все здесь и толкутся за мной. Я
оборачиваюсь: они откидывают головы назад, они морщатся, они зеленые
под солнцем, их тела непонятно дергаются, как у обезглавленных
лягушек. Дюмюр говорит: «Придет день, когда мы вот так же будем
смотреть в небо где-нибудь в поле, только мы будем одеты в хаки,
а самолет будет «мессершмит». Я говорю: «Это будет не завтра —
552
Жан Поль Сартр
кишка у них тонка». Самолет описывает круги в небе, он
опускается, опускается, касается земли, поднимается, еще раз касается,
бежит по траве, подпрыгивая, и останавливается. Мы бежим к
самолету, нас пятьдесят человек, Сарро, согнувшись пополам, бежит
впереди нас; здесь же десяток господ в котелках, которые,
выворачивая ноги, бегут по газону, все останавливаются, самолет замер, мы
молча смотрим на него, дверца кабины все еще закрыта, можно
подумать, что внутри все вымерли. Человек в голубой рабочей блузе
подвозит трап к самолету, дверца открывается, какой-то человек
спускается по трапу, потом другой, а за ним — Даладье. Сердце мое
бешено колотится. Даладье поднимает плечи и опускает голову.
Сарро приближается к нему, я слышу, как он спрашивает:
— Ну что?
Даладье вынимает руку из кармана и неопределенно
взмахивает ею. Опустив голову, он идет вперед, свора бросается к нему и
перекрывает ему дорогу. Я не двигаюсь, я знаю, что он ничего не
скажет. Генерал Гамелен выскакивает из самолета. Он подвижный,
у него красивые сапоги, бульдожье лицо. Он смотрит перед собой
молодо и пронзительно.
— Ну что? — спрашивает Сарро. — Что, генерал? Война?
— Э Боже мой... — мямлит генерал.
У меня пересыхает во рту. Я кричу Дюмюру: «Я смываюсь,
фотографируй один!» Я бегу к выходу, бегу по дороге, хватаю
такси, говорю: «В редакцию "Юманите"». Шофер улыбается, я
улыбаюсь ему.
— Ну что, товарищ?
Я ему отвечаю:
— Готово! На сей раз она у них в заднице; они не смогли
отвертеться.
Такси мчится на полной скорости, я смотрю на людей и дома.
Люди ничего не знают, они не обращают внимания на такси, а такси
мчится мимо них на полной скорости, а в нем — кто-то, кто знает.
Я прислоняю голову к дверце, я хочу им крикнуть: «Готово!» Я
выскакиваю из такси, быстро расплачиваюсь, бегу вверх по лестницам.
Они все там — Дюпре, Шарвель, Ренар и Шабо. Они без пиджаков,
Ренар курит, Шарвель пишет, Дюпре смотрит в окно. Они
удивленно смотрят на меня. Я им говорю:
— Пошли, ребятки, вниз, я угощаю.
Они все еще смотрят на меня; Шарвель поднимает голову и
тоже смотрит на меня. Я говорю:
ОТСРОЧКА
553
— Готово! Готово! Война! Пошли вниз, я угощаю, я плачу за
выпивку.
— У вас красивая шляпа, — заметила хозяйка.
— Правда? — спросила Флосси. Она посмотрела на себя в
зеркало в вестибюле и с удовлетворением прибавила:
— С перьями.
— Да-да, — подтвердила хозяйка. И добавила: — У вас кто-то
есть; Мадлен не смогла убрать.
— Знаю, — сказала Флосси. — Ничего, я уберу сама.
Она поднялась по лестнице и открыла дверь своей комнаты.
Ставни были закрыты, комната пахла ночью. Флосси вышла, тихо
затворила дверь и постучала в пятнадцатый номер.
— Кто там? — хриплым голосом отозвалась Зу.
— Флосси.
Зу пошла открыть, она была в трусиках.
— Входи быстро.
Флосси вошла. Зу отбросила назад волосы, стала посреди
комнаты и начала укладывать большие груди в бюстгальтер. Флосси
подумала, что ей не мешало бы побрить подмышки.
— Ты только встала? — спросила она.
— Я легла в шесть, — сказала Зу. — Что случилось?
— Пойди посмотри на моего альфонсика.
— Что ты болтаешь, негритяночка?
— Пойди посмотри на моего альфонсика.
Зу надела халат и пошла за ней по коридору. Флосси завела ее
в свою комнату, прижав палец к губам.
— Ничего не видно, — сказала Зу.
Флосси подтолкнула ее к кровати и прошептала:
— Смотри.
Обе нагнулись, и Зу беззвучно захохотала.
— Ни фига себе! — шепотом проговорила она. — Ни фига себе,
это же совсем мальчишка.
— Его зовут Филипп.
— Какой красивый!
Филипп спал, лежа на спине, он был похож на ангела. Флосси
смотрела на него со смесью восхищения и обиды.
— Он еще светлее меня, — заметила Зу.
— Он девственник, — сказала Флосси.
Зу посмотрела на нее, хихикая:
— Был.
554
Жан Поль Сартр
-Что?
— Ты говоришь: он девственник. А я говорю: был
девственником.
— А! Ну да! Знаешь, по-моему, он им и остался.
— Кроме шуток?
— Он спит с двух часов, — сухо сказала Флосси.
Филипп открыл глаза, он посмотрел на двух склонившихся над
ним женщин, ойкнул и перевернулся на живот.
— Смотри, — сказала Флосси.
Она отбросила одеяло: появилось голое белое тело. Зу
многозначительно вытаращила глаза.
— Вот это да! Прикрой его, не то я за себя не ручаюсь!
Флосси легонько погладила узкие бедра юноши, его
миниатюрные молодые ягодицы, затем, вздохнув, натянула одеяло.
— Дайте мне черносмородинной наливки, — сказал Бирненшатц.
Он тяжело опустился на скамейку и вытер лоб. Через стекла
дверного тамбура он мог наблюдать за входом в свою контору.
— Что вы выпьете? — спросил он у Нэ.
— То же самое, — сказал тот.
Официант уходил, Нэ позвал его:
— Принесите мне «Информасьон».
Они молча посмотрели друг на друга, потом Нэ вдруг вскинул
руки.
— Ай, ай! — сказал он. — Ай, ай! Мой бедный Бирненшатц!
— Да, — согласился Бирненшатц.
Официант наполнил бокалы и протянул газету Нэ. Нэ
посмотрел на дневную котировку курса, скорчил гримасу и положил
газету на стол.
— Плохо, — сказал он.
— Конечно. А как, по-вашему, они должны поступать? Все ждут
речи Гитлера.
Бирненшатц окинул угрюмым взглядом стены и зеркала.
Обычно ему нравилось в этом маленьком прохладном и уютном кафе;
сегодня он раздражался, что не чувствует здесь себя хорошо, как
раньше.
— Остается только ждать, — продолжал он. — Даладье сделал,
что мог; Чемберлен сделал, что мог. Теперь остается только ждать.
Будем ужинать без аппетита, а с половины девятого будем крутить
ручки приемника, чтобы услышать речь. Ждать чего? — вдруг
сказал он, стукнув по столу. — Прихоти одного человека? Одного-
ОТСРОЧКА
555
единственного человека. Дела пришли в упадок, биржа катится в
пропасть, у моих служащих голова идет кругом, беднягу Зе
мобилизовали, и все это — из-за одного-единственного человека; война
и мир в его руках. Мне стыдно за человечество.
Брюне встал. Мадам Самбулье посмотрела на него. Он ей
немного нравился; должно быть, он хорош в постели — любит глухо,
мирно, с крестьянской медлительностью.
— Вы не останетесь? — спросила она. — Мы бы вместе
поужинали.
Она показала на радиоприемник и добавила:
— В качестве пищеварительного средства предлагаю вам речь
Гитлера.
— У меня в семь часов встреча, — сказал Брюне. — И потом,
откровенно говоря, мне плевать на речь Гитлера.
Мадам Самбулье непонимающе посмотрела на него.
— Если капиталистическая Германия хочет выжить, — пояснил
Брюне, — ей нужны все европейские рынки; значит, ей следует
силой устранить всех промышленно развитых конкурентов. Германия
должна воевать, — с силой добавил он, — и она должна проиграть.
Если бы Гитлера убили в 1914 году, мы сегодня были бы в том же
положении.
— Значит, — сдавленным голосом спросила мадам Самбулье, —
это чешское дело — не блеф?
— В мыслях Гитлера это, может быть, и блеф, — ответил
Брюне. — Но мысли Гитлера не имеют никакого значения.
— Он, может, и не решится на войну, — подтвердил Бирнен-
шатц. — Если он захочет, то может помешать ей. Все козыри в его
руках: Англия не хочет войны, Америка слишком далеко, Польша
следует за ним; если бы он захотел, то стал бы завтра хозяином мира
без единого выстрела. Чехи приняли англо-французский план; ему
лишь остается тоже принять его. Если бы он дал это доказательство
умеренности...
— Он уже не может отступить, — продолжал Брюне. — Позади
него вся Германия, и она его подталкивает.
— Но мы-то можем отступить, — сказала мадам Самбулье.
Брюне посмотрел на нее и засмеялся.
— Действительно! — согласился он. — Вы же пацифистка.
Нэ перевернул коробочку, и домино выпало на стол.
— Ай! Ай! — сказал он. — Я боюсь умеренности Гитлера. — Вы
отдаете себе отчет в том, как это поднимет его престиж?
556
Жан Поль Сартр
Он наклонился к Бирненшатцу и зашептал ему в ухо. Бирнен-
шатц в раздражении отодвинулся: Нэ не мог сказать трех слов,
чтобы не зашептать с заговорщицким видом, размахивая руками.
— Если он примет англо-французский план, через три месяца
Дорио будет у власти.
— Дорио?.. — удивился Бирненшатц, пожимая плечами.
— Дорио или кто-то другой.
— А дальше что?
— А мы? — спросил Нэ, снова понижая голос.
Бирненшатц смотрел на его большой страдальческий рот и
почувствовал, как от гнева горят его уши.
— Все лучше, чем война, — сухо сказал он.
— Дайте письмо, малышка отнесет его на почту.
Он положил конверт на стол между кастрюлей и оловянным
блюдом: Мадемуазель Ивиш Сергин, 12, улица Межиссери, Лаон.
Одетта бросила взгляд на адрес, но промолчала; она заканчивала
обертывать шпагатом большой сверток.
— Вот-вот, — сказала она. — Еще минута! Сейчас закончу, не
сердитесь.
Кухня была белой и чистой, как процедурный кабинет. Она
пахла смолой и морем.
— Я положила два куриных крылышка, — сказала Одетта, — и
немного студня, ведь вы его любите, а еще — несколько ломтиков
пеклеванного хлеба и сандвичи с ветчиной. В термосе — вино.
Термос оставьте себе, он вам там пригодится.
Он пытался поймать ее взгляд, но она, опустив глаза, смотрела
на сверток и казалась очень озабоченной. Она подбежала к буфету,
отрезала большой кусок шпагата и бегом вернулась к свертку.
— Он и так уже хорошо завязан, — сказал Матье.
Маленькая служанка засмеялась, но Одетта не ответила. Она
прикусила шпагат, удержала его, подобрав губы, и быстро
перевернула сверток на другую сторону. Запах смолы вдруг заполнил
ноздри Матье, и в первый раз с позавчерашнего дня ему
показалось, что вокруг есть нечто, о чем он сможет пожалеть. Тишина
этого дня в кухне, спокойные хозяйственные работы, смягченное
шторой солнце, пылинками скользящее сквозь квадраты окна, а за
всем этим, может быть, его детство, определенный образ жизни,
спокойной и заполненной делами, от которого он отказался раз и
навсегда.
— Прижмите здесь пальцем, — сказала Одетта.
ОТСРОЧКА
557
Он подошел, склонился над ее затылком, прижал пальцем
шпагат. Он хотел бы сказать ей какие-то нежные слова, но тон Одетты
не располагал к нежности. Она подняла на него глаза:
— Хотите крутых яиц? Вы их положите в карман.
Она была похожа на молодую девушку. Он не жалел о ней.
Может, потому, что она была жена Жака. Он подумал, что быстро
забудет это скромное лицо. Но ему хотелось, чтобы его отъезд
причинил бы ей немного боли.
— Нет, — ответил он, — благодарю вас. Не нужно крутых яиц.
Она положила сверток ему в руки.
— Вот, — сказала она. — Красивый сверток.
Он сказал ей:
— Вы проводите меня на вокзал?
Она покачала головой:
— Не я. Вас проводит Жак. Думаю, что он предпочитает
остаться с вами наедине до конца.
— Тогда прощайте, — сказал он. — Вы будете мне писать?
— Мне будет стыдно: я пишу типичные письма школьницы, с
орфографическими ошибками. Но я вам буду посылать посылки.
— Я предпочел бы, чтобы вы писали, — настаивал он.
— Что ж, тогда время от времени вы найдете записку между
банкой сардин и куском мыла.
Он протянул ей руку, и она ее быстро пожала. Ладонь ее была
сухой и пылающей. Он смутно подумал: «Жалко». Длинные пальцы
скользили в его пальцах, как горячий песок. Он улыбнулся и вышел
из кухни. Жак стоял в гостиной на коленях перед
радиоприемником, крутя ручки. Матье прошел мимо двери и медленно поднялся
по лестнице. Он не слишком досадовал, что уезжает. Когда он
подходил к своей комнате, то услышал позади легкий шум и обернулся:
это была Одетта. Она стояла на последней ступеньке, была бледна
и глядела на него.
— Одетта... — сказал он.
Она не ответила и лишь печально смотрела на него. Он
смутился и переложил сверток в левую руку.
— Одетта... — повторил он.
Она подошла к нему, у нее было открытое и провидческое
выражение лица, которого он у нее никогда не видел.
— Прощайте, — сказала она.
Она была совсем рядом с ним. Она закрыла глаза и вдруг
прижала губы к его губам. Он хотел было обнять ее, но она ускольз-
558
Жан Поль Сартр
нула. Вновь приняв благопристойный вид, она спускалась по
лестнице, не повернув головы.
Он вошел в свою комнату, положил сверток в чемодан. Тот был
таким полным, что Матье вынужден был стать коленями на
крышку, чтобы закрыть его.
— Что такое? — спросил Филипп.
Он резко вскочил и с ужасом смотрел на Флосси.
— Это я, мой малыш, — сказала она.
Он упал назад, поднеся руку ко лбу.
— У меня болит голова.
Она выдвинула ящик ночного столика и достала пузырек с
аспирином; он открыл дверцу столика, вынул оттуда стакан и бутылку
перно, поставил их на президентский письменный стол и опустился
в кресло. Двигатель самолета еще шумел в голове; ему оставалось
пятнадцать минут, ровно пятнадцать минут, чтобы прийти в себя. Он
налил перно в стакан, взял со стола графин с водой и опрокинул его
над стаканом. Жидкость, наполняя стакан, серебряно пузырилась.
Он отклеил окурок от нижней губы и бросил его в корзинку для
бумаг. Я сделал все, что мог. Он был опустошен. Он подумал:
«Франция... Франция...» и отпил глоток перно. Я сделал все, что мог; теперь
слово за Гитлером. Он сделал еще глоток перно, чмокнул языком и
подумал: «Позиция Франции четко определена». Он заключил:
«Теперь мне остается только ждать». Даладье устал; он вытянул ноги
под столом и с неким удовлетворением повторил: «Мне остается
только ждать». Как всем. Ставки сделаны. Он сказал тогда: «Если
чешские границы будут нарушены, Франция выполнит свои
обязательства». И Чемберлен ему ответил: «Если вследствие этих
обязательств французские войска активно вступят в военные действия
против Германии, мы сочтем своим долгом поддержать их».
Подошел сэр Невил Гендерсон, сэр Гораций Галифакс стоял
чуть позади него и держался прямо; сэр Невил Гендерсон протянул
послание рейхсканцлеру; рейхсканцлер взял послание и начал
читать. Когда рейхсканцлер закончил, он спросил у сэра Невила
Гендерсона:
— Это и есть послание господина Чемберлена?
Даладье выпил глоток перно и вздохнул, а сэр Невил Гендерсон
твердо ответил:
— Да, это послание господина Чемберлена.
Даладье встал и пошел поставить бутылку перно на место;
рейхсканцлер сказал хриплым голосом:
ОТСРОЧКА
559
— Рекомендую вам рассматривать мою речь сегодня вечером как
ответ на послание господина Чемберлена.
Даладье думал: «Ну и тварь! Ну и тварь! Что же он скажет?»
Легкое опьянение ударило ему в голову, он подумал: «События
ускользают от меня». Он испытывал подобие полного отдыха. Он
подумал: «Я сделал все, чтобы избежать войны, теперь война и мир
уже не в моих руках». Больше нечего было решать, оставалось
только ждать. Как все. Как угольщик на углу. Он улыбнулся, он стал
угольщиком на углу, с него сняли всю ответственность; позиция
Франции четко определена... Это был настоящий отдых. Он
смотрел на темный узор на ковре, он чувствовал, как им завладевает
легкое головокружение. Мир, война. Я сделал все, чтобы сохранить
мир. Но сейчас он сомневался: не хотел ли он, чтобы этот огромный
поток унес его, как соломинку, он сомневался: не хотел ли он этих
больших каникул: войны?
Он остолбенело осмотрелся и вдруг закричал:
— Я не уехал!
Она пошла открыть ставни, вернулась к кровати и наклонилась
над ним. Ей было жарко, он вдохнул ее рыбный запах.
— О чем это ты, мой маленький негодник? О чем ты?
Она положила ему на грудь сильную черную руку. Солнце
образовало масляное пятно на ее левой щеке. Филипп посмотрел на
нее и почувствовал себя глубоко униженным: у нее были морщины
вокруг глаз и в уголках губ. «А при свете ламп она была такой
красивой», — подумал он. Она дышала ему в лицо и просунула розовый
язык между его губ. «Я не уехал», — подумал он. Ей он сказал:
— А ты не такая уж молодая.
Она сделала странную гримасу и закрыла рот. Она сказала:
— Да уж не такая молодая, как ты, негодник.
Он хотел встать с постели, но она его крепко держала; он был
голый и беззащитный; он почувствовал себя жалким.
— Маленький негодник, — сказала она, — ах ты, маленький
негодник.
Черные руки медленно опустились вдоль его бедер. «Как бы то
ни было, не каждому дано потерять девственность с негритянкой».
Он откинулся назад, и черные и серые юбки закружились совсем
рядом с его лицом. Человек сзади него кричал уже не так сильно,
это был скорее хрип, нечто вроде бульканья. Над его головой
поднялся туфель, он увидел остроносую подошву, кусочек земли
прилип к каблуку; подошва, скрипя, стала рядом с его фиксатором; это
560
Жан Поль Сартр
был большой черный башмак с пуговицами. Он поднял глаза,
увидел сутану и высоко в воздухе две волосатые ноздри над брыжами.
Бланшар зашептал ему на ухо:
— Должно быть, ему совсем плохо, нашему приятелю, раз
позвали священника.
— Что с ним? — спросил Шарль.
— Не знаю, но Пьеро говорит, что он скоро отмучается.
Шарль подумал: «Почему это не я?» Он видел свою жизнь, и он
думал: «Почему не я?» Два человека из бригады прошли мимо него,
он узнал их по сукну брюк; он услышал за собой елейный и
спокойный голос кюре; больной больше не стонал. «Может, он умер?» —
подумал Шарль. Прошла медсестра, она держала в руках таз; он
робко сказал:
— Мадам! Не могли бы вы теперь туда зайти?
Она, красная от гнева, опустила на него глаза.
— Это опять вы? Что вы хотите?
— Пошлите кого-нибудь к женщинам. Ее зовут Катрин.
— Ах, оставьте меня в покое! — вскричала медсестра. — Вы
просите об этом уже в четвертый раз!
— Только спросите ее фамилию и скажите ей мою. Это вас не
очень затруднит, не правда ли?
— Здесь умирающий, — жестко сказала она. — Как вы думаете,
есть у меня время заниматься вашей чепухой?
Она ушла, и умирающий снова застонал; это было невыносимо.
Шарль покрутил зеркало: он увидел барашки тел, вытянувшихся
бок о бок, а в глубине — огромный зад кюре, стоящего на коленях
рядом с больным. Над ними был камин с зеркалом в рамке. Кюре
встал, и носильщики склонились над телом, они его уносили.
— Он умер? — спросил Бланшар.
У Бланшара на фиксаторе не было вертящегося зеркала.
— Не знаю, — сказал Шарль.
Шествие прошло рядом с ними, поднимая облако пыли. Шарль
начал кашлять, потом увидел согнутые спины носильщиков,
направлявшихся к двери. Чье-то платье закружилось и рядом с ним
вдруг замерло. Он услышал голос медсестры.
— Мы теперь отрезаны от мира, мы не знаем никаких новостей.
Как идут дела, господин кюре?
— Худо, — сказал кюре. — Совсем худо. Сегодня вечером будет
выступать Гитлер, не знаю, что он скажет, но думаю, начинается
война.
ОТСРОЧКА
561
Голос его падал полотнищами на лицо Шарля. Шарль
рассмеялся.
— Чего ты веселишься? — спросил Бланшар.
— Потому, что поп сказал, будто будет война.
— По-моему, ничего смешного, — возразил Бланшар.
— А мне смешно, — сказал Шарль.
«Получат они войну; она у них засядет в печенке». Он все еще
смеялся: в одном метре семидесяти сантиметрах над его головой
была война, буря, оскорбленная честь, патриотический долг; но на
уровне пола не было ни мира, ни войны; ничего, кроме несчастья и
стыда недолюдей, гнили, лежачих. Бонне не хотел войны; Шампе-
тье де Риб ее хотел; Даладье смотрел на ковер, это был кошмар, он
не мог избавиться от головокружения, охватившего его с затылка:
пусть она разразится! Пусть она разразится, пусть он ее объявит
сегодня вечером, этот свирепый берлинский волк. Он сильно
царапнул туфлей о паркет; Шарль чувствовал, как головокружение
поднимается от живота к голове: стыд, сладкий, сладкий, удобный
стыд, ему не оставалось ничего, кроме этого. Медсестра подошла к
двери, она перешагнула через кого-то, и аббат посторонился,
пропуская ее.
— Мадам! — закричал Шарль. — Мадам!
Она повернулась: высокая и сильная, красивое, слегка усатое
лицо и разъяренные глаза.
Шарль сказал четким голосом, прозвучавшим на весь зал:
— Мадам, мадам! Побыстрее! Дайте мне судно, я больше не могу
терпеть!
Вот он! Вот он, их толкали сзади, они толкнули полицейского,
который отступил на шаг, расставив руки, они кричали: «Ура, вот
он!» Он шел ровным, спокойным шагом, он вел под руку жену, Фред
был растроган, мой отец и моя мать в воскресенье в Гринвиче; он
крикнул: «Ура!», было так приятно видеть их здесь, таких
спокойных, кто осмелится бояться, когда видишь, как они совершают
дневной променад, словно пожилые, очень дружные супруги? Он
сильно стиснул чемодан, затряс им над головой и выкрикнул: «Да
здравствует мир, ура!» Оба обернулись к нему, и господин Чембер-
лен лично ему улыбнулся; Фред почувствовал, как покой и мир
проникают до глубины его сердца, его защищали, им управляли, его
укрепляли, а старый Чемберлен находил еще возможность
спокойно разгуливать по улицам, как любой другой, и адресовать ему
лично улыбку. Вокруг него все кричали «Ура!», Фред смотрел на
562
Жан Поль Сартр
худую спину Чемберлена, который удалялся походкой
протестантского пастора, он подумал: «Это Англия», и слезы навернулись ему
на глаза. Маленькая Сейди наклонилась и щелкнула
фотоаппаратом под рукой полицейского.
— В очередь, мадам, в очередь, как все.
— Нужно стоять в очереди, чтобы купить «Пари-суар»?
— А как же! И я очень удивлюсь, если вам достанется.
Она не верила своим ушам.
— Что ж, черт побери! Не буду я стоять в очереди за «Пари-
суар», мне еще не приходилось торчать в очереди за газетой!
Она повернулась к ним спиной, подъехал велосипедист с пачкой
листков. Он их положил на стол рядом с киоском, и они принялись
их считать.
— Вот они! Вот они.
Толпа зашевелилась.
— Сколько можно! — огрызнулась продавщица, — вы мне
дадите их посчитать?
— Не толкайтесь же! — возмутилась приличного вида дама. —
Говорю вам, не толкайтесь.
— Я не толкаюсь, мадам, — ответил какой-то толстячок, — меня
самого толкают.
— А я, — вмешался сухощавый господин, — попрошу вас быть
повежливей с моей женой.
Дама в трауре повернулась к Эмили.
— Это уже третья ссора с утра.
— Да! — сказала Эмили. — Все потому, что сейчас люди стали
такими взвинченными.
Самолет приближался к горам; Гомес поглядел на них, потом
посмотрел вниз, на реки и поля, слева от него был совсем круглый
город, все было смехотворным и таким малюсеньким, это была
Франция, зеленая и желтая, с ее коврами травы и тихими реками.
«Прощай! Прощай!» Он углубился в горы, прощайте, турнедо
Россини, сигары и красивые женщины, он, планируя, спустится к
красной голой земле, к крови. Прощай! Прощай: все французы были
там, под ним, в круглом городе, в полях, на берегах рек: 18 часов
35 минут, они копошатся, как муравьи, они ждут речи Гитлера. Я же
ничего не жду Через четверть часа он больше не увидит эти мирные
луга, огромные каменные глыбы отделят его от этой земли страха и
алчности. Через четверть часа он спустится к худым людям с жи-
ОТСРОЧКА
563
выми движениями, суровыми глазами, к своим людям. Он был
счастлив, от волнения ком стоял у него в горле. Горы приближались,
теперь они были коричневыми. Он подумал: «Какой я застану
Барселону?»
— Войдите, — сказала Зезетта.
Это была дама, полноватая и очень импозантная, в соломенной
шляпке и английском костюме. Она осмотрелась, раздувая ноздри,
и сразу же мило улыбнулась.
— Вы — мадам Сюзанн Тайер?
— Да, это я, — сказала заинтригованная Зезетта.
Она встала. Решила, что у нее покраснели глаза, и обернулась к
окну. Дама, щурясь, смотрела на нее. Если ее получше рассмотреть,
она казалась старше. У нее был утомленный вид.
— Я вас не побеспокоила?
— Нет, — сказала Зезетта. — Присаживайтесь.
Дама наклонилась над стулом, посмотрела на него, потом села.
Она держалась очень прямо и сидела, не касаясь спинки.
— С сегодняшнего утра я поднялась на сорок этажей. А людям
не всегда приходит в голову предложить стул.
Зезетта заметила, что у нее на пальце по-прежнему надет
наперсток. Она сняла его и бросила в коробку для шитья. В этот
момент на плитке стал потрескивать бифштекс. Она покраснела,
подбежала к плитке и выключила газ. Но запах остался.
— Ой, я вас отрываю от еды...
— Да нет, у меня есть время, — возразила Зезетта.
Она смотрела на даму и чувствовала смущение и одновременно
желание рассмеяться.
— Ваш муж мобилизован?
— Он уехал вчера утром.
— Все уезжают, — сказала дама. — Это ужасно. Вы, видимо,
оказались в трудном... материальном... положении.
— Я решила вернуться к прежнему ремеслу, — призналась
Зезетта. — Я была цветочницей.
Дама покачала головой:
— Это ужасно! Это ужасно! — У нее был такой удрученный вид,
что у Зезетты возникло сочувствие к ней.
— Ваш муж тоже уехал?
— Я не замужем. — Она посмотрела на Зезетту и живо
добавила: — Но у меня два брата, которым предстоит мобилизация.
— И чего вы хотите? — сухо спросила Зезетта.
564
Жан Поль Сартр
— А вот чего: я не знаю ваших убеждений, — сказала дама,
улыбнувшись, — и то, о чем я вас попрошу, не имеет отношения к
политике. Вы курите? Хотите сигарету?
Зезетта заколебалась.
— Да, — сказала она.
Она стояла у газовой плитки, и ее руки сжимали край стола у
нее за спиной. Запахи бифштекса и духов гостьи теперь смешались.
Дама протянула ей портсигар, и Зезетта сделала шаг вперед. У дамы
были тонкие белые пальцы с ухоженными ногтями. Зезетта взяла
сигарету красными пальцами. Она смотрела на свои пальцы и на
пальцы дамы и хотела, чтобы та ушла как можно скорее. Они
закурили, и дама спросила:
— Вы не считаете, что необходимо любой ценой помешать войне?
Зезетта попятилась к плитке и недоверчиво посмотрела на нее.
Она встревожилась. Она заметила, что на столе валялись подвязки
для чулок и панталоны.
— Не думаете ли вы, — сказала дама, что если мы объединим
наши силы...
Зезетта с небрежным видом пересекла комнату; когда она дошла
до стола, она спросила:
— Кто это «мы»?
— Мы, женщины Франции, — с пафосом сказала дама.
— Мы, женщины Франции? — повторила Зезетта. Она быстро
открыла ящик и бросила туда подвязки с панталонами, затем с
облегчением повернулась к даме. — Мы, женщины Франции? Но что
мы можем сделать?
Дама курила, как мужчина, выпуская дым через ноздри; Зезетта
смотрела на ее костюм и нефритовое ожерелье, и ей было как-то
неловко говорить ей «мы».
— Одна вы ничего не можете, — кротко сказала дама. — Но вы
не одна: сегодня пять миллионов женщин боятся за жизнь дорогих
им мужчин. Этажом ниже живет мадам Панье, у которой только что
призвали брата и мужа, а у нее шестеро детей. В доме напротив —
булочница. В Пасси — герцогиня де Шоле.
— Как? Герцогиня де Шоле... — прошептала Зезетта.
— Ну и что?
— Это совсем другое дело.
— Почему совсем другое? Почему? Потому что одни ездят на
машинах, тогда как другие сами ведут домашнее хозяйство? Ах,
мадам, я первая требую более справедливого устройства общества.
ОТСРОЧКА
565
Но неужели вы думаете, что нам его даст война? Классовые
вопросы так мало значат перед лицом угрожающей нам опасности. Мы
прежде всего женщины, мадам, женщины, у нас под угрозой самое
дорогое. Представьте себе, что мы все протянем друг другу руки и
хором крикнем: «Мы против!» Послушайте, мадам, разве вы не
хотели бы, чтобы ваш муж вернулся?
Зезетта покачала головой: ей показалось нелепым кривляньем,
что эта дама называет ее «мадам».
— Войне нельзя помешать, — сказала она.
Дама слегка покраснела:
— Почему же?
Зезетта пожала плечами. Эта особа хотела помешать войне.
Другие, вроде Мориса, хотели уничтожить нищету. В конечном
счете никто ничего не добился.
— Так уж получается, — сказала она. — Ей нельзя помешать.
— Нет, не нужно так думать! — с упреком сказала гостья. —
Именно те, кто так думает, приближают наступление войны. Кроме
того, нужно немного думать и о других. Что бы вы ни делали, вы с
нами солидарны.
Зезетта не ответила. Она сжимала потухшую сигарету, у нее
было ощущение, что она находится в коммунальной школе.
— От вас требуется только подпись, — сказала дама. — Ваша
подпись, мадам: всего лишь подпись.
Она вынула из сумочки лист бумаги и сунула его под нос Зезетте.
— Что это? — удивилась Зезетта.
— Петиция против войны, — сказала дама. — У нас уже тысячи
подписей.
Зезетта вполголоса прочла:
«Женщины Франции, подписавшие данную петицию, заявляют:
мы верим, что правительство Французской Республики сохранит
мир любыми средствами. Мы абсолютно убеждены, что война, при
любых обстоятельствах, является преступлением. Переговоры,
обмен мнениями — всегда; обращение к насилию — никогда. За
всеобщий мир, против войны во всех формах!
22 сентября 1938 г.
Лига французских матерей и жен».
Зезетта перевернула страницу: обратная сторона покрыта
подписями, прижатыми друг к другу, горизонтальными, косыми, взды-
566
Жан Поль Сартр
мающимися, опускающимися, черными чернилами, фиолетовыми,
синими. Некоторые размашисты и написаны большими
угловатыми буквами, другие же, скупые и заостренные, стыдливо жались в
уголке. Рядом с каждой подписью — адрес: мадам Жанна Племе,
улица д'Обиньяк, 6; мадам Соланж Пэр, проспект Сент-Уан, 142,
Зезетта пробежала глазами имена всех этих особ. Они все
склонялись над этим листом. Были среди них такие, чья детвора кричала
рядом в комнате, другие подписывали в будуаре ручкой с золотым
пером. Теперь их имена рядом, и они были похожи друг на друга.
Мадам Сюзанн Тайер. Ей достаточно попросить ручку у дамы, и она
тоже станет мадам, ее имя, значительное и суровое, будет стоять под
другими.
— Что вы со всем этим будете делать? — спросила она.
— Когда у нас будет много подписей, мы пошлем делегацию
женщин в канцелярию Совета.
Мадам Сюзанн Тайер. Она мадам Сюзанн Тайер. Морис ей все
время повторял, что мы солидарны только со своим классом. И вот
теперь у нее оказались общие обязанности с герцогиней де Шоле.
Она подумала: «Только подпись: я не могу отказать им в подписи».
Флосси облокотилась о подушку и посмотрела на Филиппа.
— Ну что, негодник? Что ты теперь скажешь?
— Неплохо, — сказал Филипп. — Но должно быть, еще лучше,
когда не болит голова.
— Мне нужно вставать, — сказала Флосси. — Я что-нибудь
пожую, потом пойду в заведение. Ты идешь?
— Я слишком устал, — сказал Филипп. — Иди без меня.
— Ты меня подождешь здесь, ладно? Поклянись, что
подождешь!
— Ну конечно, — хмуря брови, ответил Филипп. — Иди быстрей,
иди, я тебя подожду.
— Итак, — сказала дама, — вы подписываете?
— У меня нет ручки, — сказала Зезетта.
Дама протянула ей авторучку. Зезетта взяла ее и подписалась в
низу страницы. Она вывела прописью свое имя и адрес рядом с
подписью, потом подняла голову и посмотрела на даму: ей казалось,
что сейчас что-то произойдет.
Но ничего не произошло. Дама встала, взяла бумагу и
внимательно на нее посмотрела.
— Прекрасно, — сказала она. — Что ж, мой рабочий день
завершен.
ОТСРОЧКА
567
Зезетта открыла рот: ей казалось, что у нее есть уйма вопросов.
Но вопросы не приходили на ум. Она просто сказала:
— Значит, вы отнесете это Даладье?
— Да, — сказала дама. — Да, именно ему.
Она помахала листком, затем сложила его и положила в
сумочку. У Зезетты сжалось сердце, когда сумочка защелкнулась. Дама
подняла голову и посмотрела ей прямо в глаза.
— Спасибо, — сказала она. — Спасибо за него. Спасибо за всех
нас. Вы мужественная женщина, мадам Тайер.
Она протянула ей руку.
— А теперь, — сказала она, — мне пора.
Зезетта пожала ей руку, предварительно вытерев свою о
передник. Ее охватило горькое разочарование.
— И это... и это все? — спросила Зезетта.
Дама засмеялась. Зубы у нее были, как жемчужные. Зезетта
повторила про себя: «Мы солидарны». Но эти слова потеряли
смысл.
— Да, пока это все.
Она быстрым шагом дошла до двери, открыла ее, в последний
раз обратила к Зезетте улыбающееся лицо и исчезла. Аромат ее
духов еще витал в комнате. Зезетта услышала, как удаляются ее
шаги, и два-три раза потянула носом. Ей казалось, будто у нее что-
то украли. Она подошла к окну, открыла его и высунулась. У
тротуара стояла машина. Дама вышла из гостиницы, открыла дверцу и
села в машину, которая тут же тронулась. «Я сделала глупость», —
подумала Зезетта. Машина повернула на проспект Сент-Уан и
исчезла, унося навсегда ее подпись и красивую благоухающую даму.
Зезетта вздохнула, закрыла окно и зажгла газ. Жир затрещал, запах
горячего мяса перекрыл аромат духов, и Зезетта подумала: «Если
Морис когда-нибудь об этом узнает, он меня расчихвостит».
— Мама, я хочу есть.
— Который час? — спросила мать у Матье.
Это была плотная красивая жительница Марселя с
намечающимися усиками.
Матье бросил взгляд на часы.
— Двадцать минут девятого.
Женщина взяла из-под ног корзину, закрытую на железную
застежку.
— Радуйся, мое мученье, сейчас ты поешь.
Она повернула голову к Матье.
568
Жан Поль Сартр
— Она и святого выведет из терпения.
Матье им неопределенно и доброжелательно улыбнулся.
«Двадцать минут девятого, — подумал он. — Через десять минут будет
говорить Гитлер. Они в гостиной, уже более четверти часа Жак
крутит ручки радиоприемника».
Женщина поставила корзину на скамейку; она открыла ее, Жак
закричал:
— Поймал! Поймал! Я поймал, это Штутгарт!
Одетта стояла рядом с ним, она положила руку ему на плечо.
Она услышала шум, и ей показалось, что дыхание длинного
сводчатого зала ударило ей в лицо. Матье немного подвинулся,
освобождая место для корзины: он не покинул Жуан-ле-Пэн. Он был
рядом с Одеттой, напротив Одетты, но слепой и глухой, поезд
уносил его уши и глаза к Марселю. У него не было к ней любви, это
было другое: она на него посмотрела, как будто он не совсем еще
умер. Он хотел придать лицо этой бесформенной нежности, которая
давила на него; он поискал в памяти лицо Одетты, но оно
ускользало, на его месте два раза появилось лицо Жака, Матье наконец
различил неподвижную фигуру в кресле: вид наклоненного
затылка и внимательное выражение на лице без губ и носа.
— Вовремя, — сказал Жак, поворачиваясь к ней. — Он еще не
начал говорить.
Мои глаза здесь. Он видел корзину: красивая белая салфетка с
красными и черными полосками покрывала содержимое. Матье
некоторое время изучал темноволосый затылок, потом перестал: это
было слишком мало для такой тяжелой нежности. Затылок исчез в
тени, и возникла вполне реальная салфетка, она как бы заволокла
его глаза, затеняя мешанину образов и мыслей. Мои глаза здесь.
Приглушенный звонок заставил его вздрогнуть.
— Цыпонька, быстро, быстро! — сказала марселька.
Она повернулась к Матье с извиняющимся смехом:
— Это будильник. Я его всегда ставлю на половину девятого.
Девочка поспешно открыла чемоданчик, засунула туда руку, и
звон прекратился. Половина девятого, он сейчас войдет в Шпорт-
паласт. Я в Жуан-ле-Пэне, я в Берлине, но мои глаза здесь. Где-то
длинный черный автомобиль останавливался у дверей, из него
выходили люди в коричневых рубашках. Где-то на северо-востоке,
справа от него и позади него: но здесь была эта салфетка, которая
закрывала ему все. Пухлые пальцы в кольцах ловко вытащили ее за
ОТСРОЧКА
569
углы, она исчезла, Матье увидел лежащий на боку термос и горку
тартинок: ему захотелось есть. Я в Жуан-ле-Пэне, я в Берлине, я в
Париже, у меня больше нет жизни, больше нет судьбы. Но здесь я
хочу есть. Здесь, рядом с этой полной брюнеткой и этой маленькой
девочкой. Он встал, достал из сетки свой чемодан, открыл его и на
ощупь взял сверток Одетты. Он снова сел, взял нож и разрезал
шпагат; он торопился есть, как будто должен был вовремя
закончить, чтобы слушать речь Гитлера. Он входит; от чудовищного
вопля задрожали стекла; вопль умолкает, он вскидывает руку. Где-то
эти десять тысяч вооруженных людей — голова прямо, рука
вскинута. Где-то за его спиной Одетта склонялась над
радиоприемником. Он начинает, он говорит: «Мои соотечественники», и его голос
уже не принадлежит ему, он принадлежит всему миру. Его слышат
в Брест-Литовске, в Праге, в Осло, в Танжере, в Каннах, в Морле,
на большом белом теплоходе компании «Паке», идущем между
Касабланкой и Марселем.
— Ты уверен, что поймал Штутгарт? — спросила Одетта. —
Ничего не слышно.
— Тихо! — прошипел Жак. — Да, я уверен.
Лола остановилась у входа в казино.
— До скорого, — сказала она.
— Пой хорошо, — сказал Борис.
— Постараюсь. Куда ты идешь, любимый?
— В «Баскский бар». Там приятели, которые не знают
немецкого, они попросили меня переводить им речь Гитлера.
— Бррр! — вздрогнула Лола. — Невеселенькое занятие.
— Я как раз очень люблю переводить, — сказал Борис.
Он говорит! Матье сделал отчаянное усилие, чтобы услышать
его, но потом ощутил пустоту внутри и перестал. Он ел; напротив
него девочка кусала тартинку с конфитюром; слышно было лишь
мирное прерывистое дыхание локомотивов, медовый вечер, все
закрыто, Матье отвел глаза и посмотрел на море сквозь стекло.
Розовый, круглый вечер смыкался над ним, и, однако, голос пронзал это
сахарное яйцо. Он существует повсюду, поезд углубляется в него, и
он в поезде, под ногами девочки, в волосах дамы, в моем кармане,
если бы у меня было радио, я заставил бы его зазвучать в сетке или
под скамейкой. Он здесь, огромный, он перекрывает шум поезда, от
него дрожат стекла, а я его не слышу. Матье устал, он заметил
вдалеке парус на воде и думал только о нем.
570
Жан Поль Сартр
— Слушай! — победно воззвал Жак. — Слушай же!
Радиоприемник внезапно исторг протяжный гул. Одетта
отступила на шаг, это было почти невыносимо. «Как их много! —
подумала она. — Как они им восхищаются!» Там, за тысячи километров,
десятки тысяч негодяев. И их голоса заполнили тихую семейную
гостиную, и где-то там решалась именно ее судьба.
— Вот оно, — сказал Жак, — вот оно.
Шквал мало-помалу стихал; можно было различить гортанные,
гнусавые голоса, затем наступила тишина, и Одетта поняла, что он
будет сейчас говорить. Борис открыл дверь бара, и хозяин подал ему
знак поторопиться.
— Скорее, — сказал он, — сейчас начнется.
Их было трое, они облокотились о цинковую стойку: марселец
Шарлье, наборщик из Руана и высокий грубо скроенный здоровяк
по имени Шомис, продававший швейные машинки.
— Привет, — тихо сказал Борис.
Они поспешно с ним поздоровались, и он подошел к
радиоприемнику. Он их уважал, потому что они решились сократить свой
ужин, чтобы послушать, как им в лицо скажут нечто жуткое. Эти
сильные люди смотрели правде в глаза.
Он оперся обеими руками о стол, слушает бескрайний океан,
океанический гул. Он поднимает правую руку, и пучина
успокаивается. Он говорит:
«Дорогие соотечественники!
Есть предел, когда уже невозможно уступать, потому что это
стало бы непростительной немочью. Десять миллионов немцев
находились вне пределов рейха на двух больших искусственно
созданных территориях. Эти немцы желали вернуться в свой рейх. Я
не имел бы права войти в историю Германии, если бы позволил себе
бросить их на произвол судьбы. Я бы также не имел права быть
фюрером этого народа. Я уже пошел на мучительные уступки, но
здесь мы подошли к черте, которую я не могу преступить.
Плебисцит в Австрии показал, насколько наши чувства справедливы.
Это — яркий пример, и подобных результатов мир не ждал. Но мы
уже убедились, что для демократий плебисцит становится фикцией
и даже помехой, если он не приносит результата, на который
надеялись демократы. И все-таки эта проблема была решена — к счастью
для всего немецкого народа.
И теперь перед нами последняя проблема, которая должна быть
решена и будет неукоснительно решена».
ОТСРОЧКА
571
Море разбушевалось у его ног, и он некоторое время молча
смотрел на огромные волны. Одетта прижала руку к груди, эти вопли
каждый раз заставляли усиленно колотиться ее сердце. Она
нагнулась к уху Жака, по-прежнему нахмуренного и крайне
внимательного, хотя Гитлер уже несколько секунд назад прервал речь. Она без
особой надежды спросила:
— Что он сказал?
Жак претендовал на понимание немецкого языка, потому что
провел три месяца в Ганновере, и уже десять лет старательно
слушал по радио всех берлинских ораторов, он даже подписался на
«Франкфуртер цайтунг» ради финансовых статей. Но его пересказ
прочитанного или услышанного всегда был неопределенным. Он
пожал плечами:
— Все то же. Он говорил о жертвах и о счастье немецкого
народа.
— Он согласен принести жертвы? — живо спросила Одетта. —
Значит, он пойдет на уступки?
— Да нет... Это просто пустословие.
Фюрер вытянул руку, и Карл перестал кричать: это был приказ.
Он обернулся направо и налево, шепча: «Слушайте! Слушайте!», и
ему показалось, что немой приказ фюрера пронзил каждую его
клетку и воплотился в его голосе. «Слушайте! — сказал он. —
Слушайте!» Он стал лишь послушным инструментом, резонатором: он
с головы до пят дрожал от удовольствия. Все замолчали, весь зал
погрузился в тишину и ночь; Гесс, Геринг и Геббельс исчезли, в мире
никого больше не было, только Карл и его фюрер. Фюрер говорил
перед большим красным флагом со свастикой, он говорил для
Карла, для него одного. Это был единственный в мире голос. Он
говорит за меня, думает за меня, решает за меня. Мой фюрер!
«Это последнее территориальное требование, которое я намерен
предъявить Европе, но это требование, от которого я ни за что не
отступлюсь и которое я исполню, да будет на то Божья воля».
Он сделал паузу. Карл понял, что ему разрешили кричать, и
закричал изо всех сил. Начали кричать все, голос Карла взлетел,
поднялся до сводов, заставил дрожать стекла. Карл пылал от восторга, у
него было десять тысяч глоток, он чувствовал, что делает историю.
— Заткнись! Заткнись! — закричал Мимиль на радиоприемник.
Он повернулся к Роберу и сказал ему:
— Представляешь себе! Какая шайка подонков! Эти подлецы
довольны, только когда горланят все вместе. У них все развлечения
572
Жан Поль Сартр
в том же духе. В Берлине у них есть специальные большие залы, там
могут поместиться разом двадцать тысяч, так вот они там
собираются по воскресеньям и горланят свои песни и дуют пиво.
Радиоприемник продолжал завывать.
— Ой! Скажи-ка, — проговорил Робер, — они что, хотят его
прервать?
Они повернули ручку, голоса стихли, и им вдруг показалось, что
комната вышла из тени, она была здесь, вокруг них, маленькая и
безобидная, коньяк был у них под рукой, но стоило только
повернуть ручку, и эти оглашенные вопли вернулись в их заведение, в их
прекрасный, размеренный французский вечер, который лился через
окно, и они все еще были среди французов.
«Это чешское государство начало с большой лжи. Автор этой
лжи — Бенеш».
В радиоприемнике — шквал.
«Этот господин Бенеш появился в Версале и начал с
утверждения, что существует какая-то чехословацкая нация».
Гогот в радиоприемнике. Голос злобно продолжал:
«Он вынужден был выдумать эту ложь, эту подлую ложь, чтобы
придать жалкой численности своих сограждан немного большую
значимость и, следовательно, уподобить ее нации. И
англосаксонские государственные мужи, как всегда безграмотные в
этнических и географических вопросах, приняли эти бредни Бенеша на
веру.
Чтобы их государство казалось жизнеспособным, они просто
захватили три с половиной миллиона немцев, игнорируя их
законное право на свободу и самоопределение».
Радиоприемник провизжал: «Позор! Позор!» Бирненшатц
крикнул: «Какой лжец! Этих немцев не взяли из Германии!» Элла
посмотрела на отца — красный от возмущения, он курил в кресле
сигару, она посмотрела на мать и сестру Иви, в эту минуту она их
почти ненавидела: «Как они могут это слушать!»
«Для пущей убедительности им понадобилось присовокупить
еще миллион мадьяр, затем русских Закарпатья и, наконец,
несколько сотен тысяч поляков.
Вот что такое это государство, которое позже было названо
Чехословакией, вопреки правам народов на самоопределение, вопреки
ясно выраженному желанию подневольных наций. Говоря здесь с
вами, я сочувствую судьбе угнетенных словаков, поляков, венгров,
ОТСРОЧКА
573
украинцев; но я, естественно, говорю лишь о судьбе моих
соотечественников — немцев».
Звериный вопль наполнил комнату. Как они могут слушать
подобное? И эти бесконечные «Хайль, хайль!» отдавались в ней
острой сердечной болью. «В конце концов мы — евреи, мы не
должны слушать своего палача. Отец еще ладно, я всегда слышала его
толки, что евреев не существует. Но она, — подумала Элла, глядя на
мать, — она ведь знает, что она еврейка, она это чувствует, и она
все-таки слушает». Мать еще позавчера пророчески воскликнула:
«Это война, дети мои, и проигранная война, еврейскому народу
остается только снова взять свою переметную суму». Теперь она
дремала среди воплей, время от времени закрывала подкрашенные
глаза, и ее большая темная голова с черными как смоль волосами
мелко подрагивала. А голос снова вещал, заглушая бурю:
«Какой цинизм! Это псевдогосударство, управляемое всего
лишь меньшинством, обязывает своих подданных проводить
политику, которая вынудит их стрелять в своих братьев».
Она встала. Эти хриплые звуки, натужно вырывавшиеся из
хрипатого горла, были как удары ножа. Он мучил евреев: пока он
говорит, тысячи агонизируют в концлагерях, а его голосу позволяют
гарцевать у нас, в этой гостиной, где еще вчера мы принимали
кузена, бывшего узника Дахау, несчастного с обожженными веками.
«"Если я буду воевать с Германией, — требует от немцев Бе-
неш, — ты обязан стрелять в немцев. А если откажешься, то будешь
предателем, и я прикажу тебя расстрелять". То же самое он требует
от венгров и поляков».
Голос заполнил собой здесь все, голос ненависти: этот тип был
рядом с Эллой. Широкие немецкие равнины, горы Франции
исчезли, он был совсем рядом с ней, вне расстояния, он суетился в ее
доме, он на меня смотрит, он меня видит. Она повернулась к матери,
к Иви, но они отпрянули назад, Элла еще могла их видеть, но не
коснуться. Париж тоже отступил и стал вне досягаемости, свет,
проникающий через окна, мертвенно падал на ковер. Произошло
незаметное размежевание людей и предметов, она осталась совсем одна
на свете с этим голосом.
«20 февраля этого года я заявил в рейхстаге, что необходимо
изменение в жизни десяти миллионов немцев, которые живут вне
наших границ. Однако господин Бенеш поступил иначе. Он
прибегнул к еще более жесткому произволу».
574
Жан Поль Сартр
Он говорил с нею один на один, глаза в глаза, с возрастающим
раздражением, желая запугать ее, причинить ей боль. Она
оставалась завороженной, она неотрывно смотрела на слюду, его слова как
будто сдирали с нее кожу — она их уже не слышала, а осязала.
«Еще больший террор... Эпоха ликвидации...»
Она резко отвернулась и вышла из комнаты. Голос преследовал
ее в вестибюле, неразличимый, раздавленный, по-прежнему
ядовитый; Элла быстро вошла в свою комнату и закрыла дверь на ключ.
Там, в гостиной, он еще угрожал. Но здесь она слышала только
неясное бормотание. Она тяжело опустилась на стул: значит, не
найдется никого, ни одной матери замученного еврея, ни одной жены
убитого коммуниста, чтобы взять револьвер и пойти уничтожить
его? Она сжимала кулаки, она думала, что будь она немкой, то
нашла бы в себе силы убить его.
Матье встал, достал одну из сигар Жака из кармана плаща и
открыл дверь купе.
— Если это из-за меня, — сказала марселька, — не стесняйтесь:
мой муж курит трубку, я привыкла.
— Благодарю вас, — сказал Матье, — но мне хочется немного
размять ноги.
На самом деле ему хотелось больше не видеть ни ее, ни девочку,
ни корзину. Он сделал несколько шагов по коридору, остановился,
зажег сигару. Море было голубым и спокойным, он скользил вдоль
моря, он думал: «Что со мной происходит?» Таким образом, ответ
этого человека был категоричным. «Будем расстреливать,
арестовывать, сажать в тюрьму». И все это для тех, кто чем-либо ему не
подходит. Матье захотелось понять. Никогда еще не бывало, чтобы
он чего-то не понимал; это была его единственная сила,
единственная защита, его последняя гордость. Он смотрел на море и думал:
«Я не понимаю, и тогда я выдвинул нюрнбергские требования. Эти
требования были вполне определенными: прежде всего почему я
еду на войну». Это было не очень-то хитро и, однако, совсем неясно.
Что касалось его лично, все было ясно и четко, он играл и проиграл,
его испорченная жизнь позади. Я ничего не оставляю, я ни о чем не
сожалею, даже об Одетте, даже об Ивиш, я никто. Оставалось само
событие. Я заявил, что теперь, через двадцать лет после заявлений
президента Вильсона, войдет в силу право на свободное
перемещение для тех трех с половиной миллионов человек... все, чего он
достиг до сих пор, было соразмерно его человеческим возможностям,
ОТСРОЧКА
575
маленькие неприятности и провалы, он видел, как они наступают,
он им смотрел в лицо. Когда он брал деньги в комнате Лолы, он
видел купюры, он их трогал, он вдыхал аромат, который витал в
комнате; и когда он расставался с Марсель, он смотрел ей в глаза,
говоря с ней; его трудности были всегда связаны только с ним
самим; он мог себе сказать: «Я был прав, я был виноват»; он мог
судить самого себя. Теперь это стало невозможным и снова господин
Бенеш дал отчет: новые смерти, новые заключения в застенки,
новые... он подумал: «Я иду на войну», и это ничего не значило.
Случилось нечто, что его превосходило. Война превосходила его. «Дело
не в том, что меня превосходит, просто она не здесь. А кстати, где
она? Повсюду: она зачинается в любом месте, поезд углубляется в
войну, Гомес приземляется в войну, эти курортники в белом
прогуливаются по войне, нет ни одного биения сердца, которое бы ее
не питало, ни одного сознания, не пронизанного ею. И однако, она
похожа на голос Гитлера, который заполняет поезд и который я не
могу слышать: я ясно представил господину Чемберлену то, что мы
теперь считаем единственно возможным решением; время от
времени кажется, что ты сейчас к ней притронешься — все равно где —
в соусе турнедо, протягиваешь руку, и она исчезает: остается только
кусок мяса в соусе. «Да! — подумал он, — нужно быть
одновременно повсюду».
Мой фюрер, мой фюрер, ты говоришь — и я превращаюсь в
камень, я больше не думаю, я больше ничего не хочу, я — только твой
голос, я его подожду у выхода, я пропущу его через сердце; прежде
всего я являюсь рупором немцев, именно ради немцев я говорил,
что не собираюсь оставаться пассивным наблюдателем действий
этого безумца из Праги; Филипп думал: я буду мучеником, я не
уехал в Швейцарию, и теперь мне остается только быть мучеником,
и я клянусь стать им, клянусь, клянусь, клянусь; тихо, шикнул
Гомес, слушаем речь марионетки.
— Говорит Парижское радио, не отходите от приемников: через
некоторое время мы будем передавать французский перевод первой
части речи рейхсканцлера Гитлера.
— Вот видишь! — сказал Жермен Шабо. — Видишь! Не стоило
выходить и бегать два часа за «Энтранзижаном». Я же тебе говорил:
они всегда так делают.
Мадам Шабо положила вязанье в рабочую корзинку и
пододвинула кресло.
576
Жан Поль Сартр
— Скоро узнаем, что он сказал. Не нравится мне это. У меня от
этого как бы сосет под ложечкой. А у тебя?
— Тоже, — признался Жермен Шабо.
Радиоприемник гудел, два-три раза проурчал что-то, и Шабо
сжал руку жены.
— Слушай.
Они немного наклонились, прислушиваясь, и по радио запели
«Кукарачу».
— Ты уверен, что это Парижское радио? — спросила мадам
Шабо.
— Уверен.
— Значит, передают музыку, чтобы мы запаслись терпением.
Голос пропел три куплета, затем пластинка остановилась.
— Ну вот, — сказал Шабо.
Послышалось легкое потрескивание, и гавайский оркестр
заиграл «Honey Moon»*.
Нужно быть повсюду. Он грустно посмотрел на кончик сигары:
повсюду, иначе ты одурачен. «Я одурачен. Я — солдат, я ухожу на
войну. Вот что нужно видеть: войну и солдата. Кончик сигары,
белые виллы на берегу моря, монотонное скольжение вагонов по
рельсам и этот слишком знакомый пассажир, Фес, Марракеш,
Мадрид, Перуджа, Сиенна, Рим, Прага, Лондон, который в тысячный
раз курит в коридоре вагона третьего класса. Нет войны, нет
солдата: нужно быть повсюду, нужно видеть себя повсюду, из Берлина,
как трехмиллионную часть французской армии, глазами Гомеса, как
одного из этих сучьих французов, которых пинками гонят воевать,
глазами Одетты. Нужно видеть себя глазами войны. Но где глаза
войны? Я здесь, у меня перед глазами скользят большие светлые
равнины, я ясновидящий, я вижу, и, однако, я ориентируюсь на
ощупь, вслепую, и каждое мое движение зажигает лампочку или
включает звонок в мирах, которых я не вижу». Зезетта закрыла
ставни, но свет уходящего дня все равно проникал сквозь щели, она
чувствовала себя усталой и мертвой, она бросила комбинацию на
стул и голой скользнула в постель, я всегда так хорошо сплю, когда
у меня горе; но когда она очутилась в постели, вот в этой кровати
Момо ласкал ее позавчера, как только она забывалась, он ложился
на нее, он давил на нее, а если она открывала глаза, его здесь не
было, он спал там, в казарме, и потом, еще это чертово радио,
которое горланило на чужом языке; это работал приемник Хайнеманнов,
* «Медовый месяц» (англ.).
ОТСРОЧКА
577
немцев-беженцев со второго этажа, хриплый гадючий голос,
который выматывает нервы, значит, это не закончится, значит, это не
скоро закончится! Матье позавидовал Гомесу, а потом подумал:
Гомес видит не больше меня, он бьется против невидимок — и он
перестал завидовать ему. Что он видит: стены, телефон на столе,
лицо своего адъютанта. Он воюет, но он не видит войну. Что
касается войны, то воюем мы все: я поднимаю руку, затягиваюсь
сигарой — и я воюю; Сара проклинает безумие людей, сжимает в
объятиях Пабло — она воюет. Одетта воюет, когда заворачивает
сандвичи с ветчиной в бумагу. Война берет все, собирает все, она не
упускает ничего, ни одной мысли, ни одного жеста, и никто не может
ее увидеть, даже Гитлер. Никто. Он повторил: «Никто», и вдруг он
ее смутно увидел. Это было странное, подлинно немыслимое тело.
— Говорит Парижское радио, не отходите от приемников: через
несколько минут мы будем передавать французский перевод первой
части речи рейхсканцлера Гитлера.
Они не пошевелились. Они краем глаза смотрели друг на друга,
и когда Рина Кетти запела «Я буду ждать», они улыбнулись друг
другу. В конце первого куплета мадам Шабо расхохоталась.
— «Я буду ждать»! — сказала она. — Хорошо найдено! Они
смеются над нами.
Огромное тело, планета, в пространстве ста миллионов
измерений: существа трех измерений не могут этого даже себе представить.
И однако, каждое измерение было самостоятельным сознанием.
Если попытаться посмотреть на планету прямо, она рассыплется на
крошки, останутся только сознания. Сто миллионов свободных
сознаний, каждое из которых видело стены, кончик горящей сигары,
знакомые лица и строило свою судьбу под собственную
ответственность. И однако, если ты был одним из этих сознаний, то замечал
по неуловимым касаниям, по незаметным изменениям, что ты
солидарен с гигантской и невидимой колонией полипов. Война:
каждый свободен, и, однако, ставки сделаны. Она здесь, она повсюду,
это совокупность всех моих мыслей, всех слов Гитлера, всех
действий Гомеса: но никого нет, чтобы подвести итог. Она существует
только для Бога. Но Бога нет. А война все равно существует.
— У меня нет никаких сомнений, что и немецкому терпению
есть предел. У меня нет никаких сомнений, что немецкой натуре
оно свойственно в высшей степени, но грядет час — и мы призваны
с ним покончить.
— Что он говорит? Что он говорит? — спросил Шомис.
578
Жан Поль Сартр
Борис объяснил:
— Он говорит, что немецкое терпение имеет предел.
— Наше тоже, — заметил Шарлье.
В приемнике все начали орать, и в этот момент Эррера вошел в
комнату.
— А, привет! — сказал он, заметив Гомеса. — Ну как? Хороший
был отпуск?
— Так себе, — ответил Гомес.
— Французы, как всегда... осторожны?
— Ха! Вы даже себе не представляете. Но я думаю, этим гадам
скоро станет жарко! — Он показал на приемник. — Берлинская
марионетка разбушевалась.
— Кроме шуток? — Глаза Эрреры блеснули. — Слушайте-ка,
ведь это сильно изменит обстоятельства.
— Наверняка, — отозвался Гомес.
Они некоторое время смотрели, улыбаясь, друг на друга. Тиль-
кен, стоявший у окна, вернулся к ним.
— Приглушите радио, я что-то слышу.
Гомес повернул ручку, и шум из приемника ослабел.
— Слышите? Слышите?
Гомес прислушался; он уловил глухой гул.
— Ну точно, — сказал Эррера. — Тревога. Четвертая с утра.
— Четвертая! — удивился Гомес.
— Да, — подтвердил Эррера. — Да уж, грядут перемены!
Гитлер снова говорил; они склонились над приемником. Гомес
слушал речь одним ухом; другим он следил за гулом самолетов.
Вдалеке раздался глухой взрыв.
— Что он делает? Он не только не уступил территорию, он
теперь изгоняет немцев! Не успел господин Бенеш закрыть рот, как с
еще большей силой возобновились строгие меры военного
подавления. Мы констатируем кошмарные цифры: за один день убежали
десять тысяч человек, на следующий день — двадцать тысяч...
Гул уменьшился, затем вдруг возрос. Послышалось два долгих
взрыва.
— Это в порту, — прошептал Тилькен.
— ... на следующий день тридцать семь тысяч, два дня спустя —
сорок одна тысяча, затем — шестьдесят две, затем — семьдесят
восемь; девяносто тысяч, сто семь, сто тридцать семь. А сегодня двести
четырнадцать тысяч. Целые районы обезлюдели, дома сожжены,
снарядами и газом пытаются отделаться от немцев. А господин
ОТСРОЧКА
579
Бенеш расположился в Праге и думает так: «Ничего не случится, в
конце концов, у меня за спиной Англия и Франция».
Эррера ущипнул Гомеса за руку.
— Слушай, — сказал он, — слушай: сейчас он выскажется без
обиняков!
Его лицо порозовело, и он с воодушевлением смотрел на
приемник. Голос, громоподобный и шероховатый, прогрохотал:
— И теперь, дорогие соотечественники, пробил час говорить
напрямик.
Серия взрывов, которые приближались, покрыла шум
аплодисментов. Но Гомес едва обратил на них внимание: он устремил взгляд
на приемник, он слушал этот угрожающий голос и ощущал, как в
нем вновь зарождается давно уже похороненное чувство, нечто,
походящее на надежду.
На тонкой кромке хмурого дня
Вы не заметили меня,
А мне постыло и одиноко.
Одной надеждой еще дышу,
Одной надежды еще прошу...
— Я понял, — произнес Жермен Шабо. — На сей раз я понял.
— Что? — спросила его жена.
— Да все эти махинации с вечерней прессой. Они не хотят
передавать по радио перевод до того, как его опубликуют газеты.
Он встал и взял шляпу.
— Я ухожу. Пойду куплю «Энтранзижан» на бульваре Барбес.
Пора. Филипп выпростался из кровати и подумал: «Пора». Она
обнаружит, что птичка улетела, а к одеялу приколота купюра в
тысячу франков, если будет время, присоединю к этому прощальное
стихотворение. У него была тяжелая голова, но она уже не болела.
Он провел руками по лицу и с отвращением опустил их: они пахли
негритянкой. На стеклянной полке над умывальником, рядом с
пульверизатором, лежало розовое мыло и резиновая губка. Он взял
губку, но в нем поднялась тошнота, и он поискал в своем
чемоданчике туалетную перчатку и мыло. Он вымылся с головы до пят, вода
текла на пол, но он не обращал на это внимания. Он причесался,
вынул из чемодана чистую рубашку и надел ее. Рубашка мученика.
Он был грустен и тверд. На столике была щетка, он старательно
почистил пиджак. «Но куда же я засунул брюки?» — подумал он.
Он посмотрел под кровать и даже между простынями: брюк не
580
Жан Поль Сартр
было; он решил: «Должно быть, я был пьян». Он открыл шкаф с
зеркалом и начал беспокоиться: брюк не было и там. Некоторое
время он стоял посреди комнаты в одной рубашке и чесал голову,
оглядываясь вокруг, потом его охватил гнев, потому что не было
ничего нелепее для будущего мученика, как оставаться таким
образом в одних носках в спальне проститутки, когда полы рубашки
мученика хлопают его по голым коленям. В этот момент он заметил
справа шкаф, вделанный в стену. Он подбежал к нему, но ключа в
скважине не было; он попытался открыть его ногтями, затем
ножницами, которые нашел на столе, но это ему не удалось. Он бросил
ножницы и начал пинать дверцу, разъяренно бормоча: «Проклятая
шлюха, проститутка! Заперла мои брюки, чтобы я не смог уйти».
— И теперь я могу сказать только одно: два человека сошлись
лицом к лицу: там — господин Бенеш, а здесь — я!
Вся толпа начала выть. Анна тревожно смотрела на Милана. Он
подошел к радио и, засунув руки в карманы, смотрел на него. Его
лицо почернело, на скулах ходили желваки.
— Милан... — позвала Анна.
— Мы — люди разного склада. Господин Бенеш во время
великого столкновения народов ездил по свету, держась в стороне от
опасности; я же, как честный немецкий солдат, выполнял свой долг. И вот
сегодня я стою напротив этого человека как солдат моего народа.
Они снова зааплодировали. Анна встала и положила ладонь на
руку Милана: его бицепс напрягся, все тело окаменело. «Он сейчас
упадет», — подумала она. Милан, заикаясь, сказал:
— Сволочь!
Она изо всех сил сжала его руку, но он ее оттолкнул. Его глаза
налились кровью.
— Бенеш и я! — пробормотал он. — Бенеш и я! Потому что за
тобой семьдесят пять миллионов человек!
Он сделал шаг вперед; она подумала: «Что он собирается
делать?» и бросилась за ним; но он успел дважды плюнуть на
приемник.
Гитлер продолжал:
— Мне нужно заявить немногое: я признателен господину Чем-
берлену за его усилия. Я заверил его, что немецкий народ не хочет
ничего иного, как мира: но я ему также заявил, что не могу
расширять пределы нашего терпения. Кроме того, я его заверил, и
повторяю это теперь, что, как только эта проблема будет решена, для
Германии в Европе не останется ни одной территориальной про-
ОТСРОЧКА
581
блемы! Кроме того, я его заверил, что с того момента, как
Чехословакия мирно, без угнетения объяснится со своими
нацменьшинствами, я не буду больше интересоваться чешским государством. Я
это гарантирую! Нам не нужны чехи как таковые. А пока что я
заявляю немецкому народу, что в том, что касается проблемы судет-
ских немцев, мое терпение на исходе. Я предложил господину Бе-
нешу вариант, который является фактически осуществлением его
собственных деклараций. Теперь решение в его руках: мир или
война. Или же он примет эти предложения и даст свободу немцам,
или мы придем за ней сами.
Эррера поднял голову, он злорадствовал:
— Черт побери! — рявкнул он. — Черт, так им и надо! Слышали?
Это война!
— Да, — согласился Гомес. — Бенеш — упрямый человек, и он не
уступит: это война.
— Черт! — ругнулся Тилькен. — Если б так все и было! Если б
только так все и было!
— Что это? — спросил Чемберлен.
— Продолжение, — сказал Вудхауз.
Чемберлен взял листки и начал читать. Вудхауз с
беспокойством следил за его лицом. Немного погодя премьер-министр
поднял голову и приветливо ему улыбнулся.
— Что ж, — сказал он, — ничего нового.
Вудхауз удивленно посмотрел на него.
— Рейхсканцлер Гитлер выразился в весьма резких тонах, —
заметил он.
— Полноте! Полноте! — возразил Чемберлен. — Его вынудили
обстоятельства.
«Сегодня я иду впереди моего народа, как его первый солдат; а
за мной — пусть мир это знает — теперь идет народ, народ иной, чем
в 1918 году. В этот час весь немецкий народ объединится со мной.
Он почувствует мою волю, как свою собственную, я между тем
рассматриваю его будущее и его судьбу как двигатель моих действий!
И мы хотим усилить эту общую волю, такую, какой она была у нас
во время сражения, в то время, когда я ушел на войну простым
неизвестным солдатом, чтобы завоевать рейх, нисколько не
сомневаясь в успехе и окончательной победе. Вокруг меня сплотились
храбрые мужчины и храбрые женщины, которые пошли со мной. И
теперь, мой немецкий народ, я обращаюсь к тебе так: "Иди за мной,
мужчина за мужчиной, женщина за женщиной. В этот час мы все
582
Жан Поль Сартр
хотим иметь общую волю. Эта воля должна быть сильнее любых
невзгод и любой опасности; и если эта воля сильнее невзгод и
опасности, она справится с невзгодами и опасностями". Мы решились!
Теперь выбирать господину Бенешу».
Борис повернулся к остальным и произнес:
-Все.
Они не сразу отозвались: с внимательным видом они курили.
Через какое-то время хозяин сказал:
— Держу пари, ему сломают хребет.
— Думаю, что так.
Хозяин склонился над бутылками и повернул ручку приемника;
на какую-то минуту Борису стало не по себе: было ощущение
огромной пустоты. Через открытую дверь тихо проникали ветер и ночь.
— Так что он сказал? — спросил марселец.
— В конце он объявил: «За мной весь мой народ, я готов к войне.
Выбирать господину Бенешу».
— Приплыли! — протянул марселец. — Значит, будет война?
Борис пожал плечами.
— Что же, — сказал марселец, — я уже полгода не видел жену и
двух дочерей. А теперь я возвращаюсь в Марсель и здрасьте:
помаши ручкой на прощание и снова в казарму.
— А я, наверное, даже не успею повидать мать, — откликнулся
Шомис. Он объяснил: — Я с севера.
— Вот оно что! — покачал головой марселец.
Наступило молчание. Шарлье выбил трубку о каблук. Хозяин
спросил:
— Что-нибудь еще будете? Раз уж война — я угощаю.
— Давайте пропустим еще по стаканчику.
Снаружи было свежо и темно, издалека доносилась музыка из
казино: возможно, это пела Лола.
— А я там, в Чехословакии, бывал, — сказал северянин. — И оно
к лучшему: так хотя бы знаешь, ради чего дерешься.
— Вы долго там пробыли? — спросил Борис.
— Полгода. На лесозаготовке. Я с чехами ладил. Они ребята
работящие.
— Так ведь и немцы тоже работящие, — возразил бармен.
— Да, но дерьма в них много, а чехи спокойные.
— Ваше здоровье! — произнес Шарлье.
— Ваше здоровье!
ОТСРОЧКА 583
Они чокнулись и выпили, затем марселец заметил:
— Холодает.
Матье резко проснулся.
— Где мы? — спросил он, протирая глаза.
— В Марселе, это вокзал Сен-Шарль, приехали: все выходят.
— Хорошо, — сказал Матье, — хорошо, хорошо.
Он снял с крючка свой плащ и взял чемодан. Он двигался так,
словно еще спал. «Гитлер, должно быть, уже закончил речь», —
удовлетворенно подумал он.
— Я видел, как тогда, в четырнадцатом году, уходили на войну, —
говорил северянин. — Мне тогда было десять лет. Тогда все было
по-другому.
— Они хотели идти на войну?
— Ха! Не то слово! Все сверкало! Все пело! Все плясало!
— Да они просто ничего не понимали, — сказал марселец.
— Конечно.
— Зато мы все понимаем, — отозвался Борис.
Наступило молчание. Северянин смотрел прямо перед собой.
Он продолжал:
— Я видел фрицев вблизи. Четыре года мы были оккупированы.
Чего только мы не натерпелись! Деревня была стерта с лица земли,
мы целыми неделями прятались в карьерах. Как подумаю, что это
снова придется пережить...
Он добавил:
— Но это не значит, что я не поступлю, как другие.
— Что касается меня, — улыбаясь, сказал хозяин, — то я боюсь
смерти. С самых малых лет. Но в последнее время я нашел себе
оправдание, я решил так: «Что противно, так это умереть. Хоть от
испанки, хоть от взрыва снаряда...»
Борис бессмысленно смеялся: они ему нравились; он подумал:
«Я больше люблю мужчин, чем женщин». В войне было хорошо то,
что она происходила среди мужчин. Три года, а то и пять лет он
будет видеть только мужчин. «И я уступлю свою очередь на отпуск
семейным».
— Самое главное, — заключил Шомис, — если можешь себе
сказать, что жил. Мне тридцать шесть лет, и не всегда было весело.
Были взлеты, были падения. Но я жил. Пусть меня хоть разрежут
на кусочки, но этого у меня не отнять. — Он повернулся к Борису. —
Такому молодому парню, как вы, должно быть, тяжелее.
584
Жан Поль Сартр
— Да нет! — живо откликнулся Борис. — Все давно твердят, что
скоро война!
Он слегка покраснел и добавил:
— Когда женат, это похуже.
— Да, — вздохнул марселец. — Моя жена мужественная, и потом,
у нее есть специальность: она парикмахер. С детьми посложнее:
все-таки лучше иметь отца, верно? И все-таки не все же отдают там
концы?
— Конечно, нет, — поспешил заверить его Борис.
Музыка смолкла. В бар зашла пара. Женщина была рыжая, в
зеленом платье, очень длинном и сильно декольтированном. Пара
расположилась за столиком в глубине.
— Все-таки что за дерьмо — война! — подытожил Шарлье. — Нет
на свете ничего хуже.
— Согласен, — поддержал его хозяин.
— Я тоже, — сказал Шомис.
— Итак, — спросил марселец, — сколько я должен? Одна порция
за мной.
— А одна за мной, — подхватил Борис.
Они расплатились. Шомис и марселец вышли под руку. Шарлье
помешкал, повернулся на каблуках и пошел к столику, прихватив
свою рюмку коньяка. Борис остался у стойки, он подумал: «Какие
они все-таки симпатичные!» Он был уверен, что и в траншеях все
эти тысячи солдат будут такими же милягами. И Борис будет жить
среди них, и днем, и ночью, общая работенка найдется. Он подумал:
«Пока что мне везет»; он сравнивал себя с бедолагами, своими
ровесниками, которые попали под машину или умерли от холеры —
тут удача была налицо. К тому же с ним не поступили по-
предательски; речь шла не о внезапной войне, настигающей
человека врасплох, как несчастный случай: эта война была объявлена
заранее, за шесть или семь лет, и у всех хватило времени ощутить ее
приближение. Сам Борис никогда не сомневался, что она в конце
концов разразится; он ждал ее, как наследный принц, сызмальства
знающий, что он рожден царствовать. Его произвели на свет для
этой войны, его воспитали для нее, послали в лицей, в Сорбонну,
дали ему образование. Ему говорили, что это нужно для карьеры
преподавателя, но это всегда ему казалось подозрительным; теперь
он знал, что из него хотели сделать офицера запаса; ничего не
пожалели, чтобы он стал красивым покойником, совсем свежим и
ОТСРОЧКА
585
здоровым. «Самое забавное, — подумал он, — это то, что я родился
не во Франции, я здесь только натурализовался. Но в конечном
счете это было не так уж важно; останься он в России, укройся его
семья в Берлине или Будапеште, все было бы приблизительно
одинаково: война — это вопрос не национальности, а возраста; молодых
немцев, молодых венгров, молодых англичан, молодых греков
ждала одна и та же война, одна и та же судьба. В России было сначала
поколение революции, затем — пятилетки, теперь — мирового
конфликта: каждому свой жребий. В конечном счете рождаешься для
войны или для мира, как рождаешься рабочим или буржуа, делать
нечего, не всем везет родиться швейцарцем. «Кто имеет право
протестовать, — подумал он, — так это Матье: он уж точно родился для
мира; он в самом деле думал, что доживет до старости, у него
сложились свои привычки; в его возрасте уже не меняются. Эта
война — моя. Она идет ко мне, и я пойду на нее, мы неразлучны; я даже
не могу себе представить, кем бы я был, если б она не разразилась».
Он подумал о своей жизни, и она уже не казалась ему слишком
короткой: «Жизнь не бывает ни короткой, ни долгой. Моя жизнь —
это просто жизнь, которая закончится войной». Он даже
почувствовал себя облаченным новым достоинством, потому что у него была
теперь определенная роль в обществе, а также потому, что он
погибнет насильственной смертью, и в этом есть особое смирение.
Однако пора было идти за Лолой. Он улыбнулся хозяину и быстро
вышел.
Небо было облачным; местами поблескивали звезды; с моря дул
ветер. Некоторое время в голове Бориса был туман, а затем он
подумал: «Моя война», и сам этому удивился, так как не имел
привычки долго думать об одном и том же. «Вот уж натерплюсь
страху! — подумал он. — Вот уж буду дрейфить! Это точно!», и он
засмеялся при мысли об этом позорище, об этом гигантском сраме.
Но через несколько шагов он перестал смеяться — его охватило
внезапное беспокойство: не нужно слишком бояться. Пусть он
умрет молодым, но это не повод, чтобы самому портить свою жизнь
и пускаться во все тяжкие. С самого рождения его обрекли, но ему
оставили шанс, его война была скорее призванием, чем судьбой.
Конечно, он бы мог пожелать себе другую судьбу: великого
философа, например, или ловеласа, или великого финансиста. Но
призвание не выбирают: или оно удается, или его упускают, вот и все;
самое дрянное в его положении это то, что ничего нельзя начать
586
Жан Поль Сартр
сызнова. Бывает жизнь, похожая на экзамен на степень бакалавра:
нужно выполнить множество письменных работ, и если
промахнешься на физике, можно наверстать в естественных науках или в
филологии. Его жизнь напоминала скорее диплом по всеобщей
философии, где все решает один экзамен; это ужасно смущает. Но
как бы то ни было, именно на этом экзамене он должен преуспеть,
а не на каком-то другом, и у него будут трудности. Нужно вести себя
подобающим образом, но этого недостаточно. Нужно еще
обустроиться на войне, найти в ней свою нишу и постараться извлекать
пользу из любых обстоятельств. Нужно убедить себя, что с
определенной точки зрения все равноценно: атака на Аргоне стоит
прогулки в гондоле, сок, который рано утром пьешь в траншеях, стоит
кофе на испанских вокзалах на заре. И потом, есть товарищи, жизнь
на свежем воздухе, посылки и особенно зрелища: бомбежка, должно
быть, впечатляет. Только не нужно бояться. «Если я испугаюсь, то
пущу свою жизнь на ветер, это будет глупо. Нет, я не буду
бояться», — твердо решил он.
Огни казино отвлекли его от мечтаний, звуки музыки лились
через открытые окна, черный автомобиль тихо замер у подъезда.
«Еще один год», — раздраженно подумал он.
Было за полночь, Шпортпаласт был темен и пуст, кругом
перевернутые стулья, раздавленные окурки сигар, господин Чемберлен
говорил по радио, Матьс бродил по перрону Вье-Пор, думая: «Это
болезнь, именно болезнь, она свалилась на меня случайно, она меня
не касается, нужно принимать ее со стоицизмом, как подагру или
зубную боль». Господин Чемберлен сказал:
«Я надеюсь, что рейхсканцлер не отвергает это предложение,
составленное в том же духе дружбы, в котором я был принят в
Германии, и, в случае его принятия, Германия осуществит свое желание
объединиться с Судетами, не пролив ни капли крови ни в одной
точке Европы».
Он сделал движение рукой, показывая, что он закончил, и
отошел от микрофона. Зезетта не могла уснуть, она стояла у окна и
смотрела на звезды над крышами, Жермен Шабо спустил брюки в
туалете. Борис ждал Лолу в холле казино; повсюду в воздухе, почти
никем не услышанный, тщился распуститься темный цветок «If the
moon turns green»*, выращиваемый джазом отеля «Астория» и
транслируемый Давентри.
* Если луна позеленеет (англ.).
ОТСРОЧКА
587
Вторник, 27 сентября
Двадцать два часа тридцать минут. «Месье Деларю! —
удивилась консьержка. — Вот так сюрприз! Я вас ждала только через
неделю».
Матье ей улыбнулся. Он предпочел бы пройти незамеченным,
но нужно было попросить ключи.
— Вы-то по крайней мере не мобилизованы?
— Я? — переспросил Матье. — Нет.
— Ага, — сказала она. — Тем лучше! Тем лучше! Такое всегда
приходит слишком рано. Ох уж эти события! Столько всего
произошло после вашего отъезда. Вы думаете, это война?
— Не знаю, мадам Гарине, — ответил Матье. — Он живо
добавил: — Есть какая-нибудь почта?
— Да, я вам все туда отправила. Еще вчера я отправила какую-то
повестку в Жуан-ле-Пэн; если бы вы меня только предупредили, что
возвращаетесь. Да! Сегодня утром пришло для вас еще вот это.
Она протянула ему длинный черный конверт; Матье узнал
почерк Даниеля. Он взял письмо и положил его, не распечатав, в
карман.
— Вам ключи? — спросила консьержка. — Эх! Как досадно, что
вы не смогли предупредить о своем приезде: я бы успела прибрать.
А сейчас... Даже ставни не открыты.
— Пустяки, — сказал Матье, беря ключи. — Пустяки. Всего
доброго, мадам Гарине.
Дом был еще пуст. Снаружи Матье уже заметил, что все ставни
закрыты. С лестницы на лето убрали ковер. Он медленно прошел
мимо квартиры на втором этаже. Раньше там кричали дети, и Матье
часто вертелся в постели, просыпаясь от воплей очередного
младенца. Теперь комнаты за закрытыми ставнями были темны и пусты.
Каникулы. Но в глубине души он думал: «Война». Это была война,
эти ошеломленные каникулы, укороченные для одних, продленные
для других. На третьем этаже жила содержанка: аромат ее духов
нередко просачивался под дверь и распространялся по лестничной
площадке. Сейчас она, должно быть, в Биаррице, в большом отеле,
изнуренном жарой и беспорядком в делах. Он дошел до четвертого
этажа и повернул в скважине ключ. Под ним, над ним — камни,
ночь, тишина. Он вошел в темноту, в темноту положил чемодан и
плащ: прихожая пахла пылью. Он стоял неподвижно, опустив руки,
погребенный в темноте, потом вдруг повернул выключатель и одну
588
Жан Поль Сартр
за другой прошел комнаты квартиры, оставляя двери открытыми;
он зажег свет в кабинете, в кухне, в туалете, в спальне. Все лампы
сверкали, непрерывный поток света циркулировал между
комнатами. Он остановился возле кровати.
Кто-то там недавно спал: одеяло свернулось трубочкой,
наволочка была грязной и мятой, крошки от рогалика усеяли простыню.
Кто-то: «Я сам». Он думал: «Это я спал здесь. Я, пятнадцатого июля,
в последний раз». Но он с отвращением смотрел на постель: его
прежний сон охладился в простынях, теперь это был сон другого.
«Я не буду здесь спать».
Он отвернулся и прошел в кабинет: отвращение не покидало
его. Грязный стакан на камине. На столе, рядом с бронзовым
крабом, сломанная сигарета: из нее торчало множество сухих былинок.
«Когда я сломал эту сигарету?» Он надавил на нее и почувствовал
под пальцами скрип сухих листьев. Книги. Том Арбле, другой —
Мартино, «Ламьель», «Люсьен Левен», «Воспоминания
самовлюбленности». Кто-то намеревался писать статью о Стендале. Книги
оставались здесь, а окаменевший план стал предметом. Май 38-го
года: тогда еще не было абсурдно писать о Стендале. Предмет. Такой
же, как их серые обложки, как пыль, осевшая на их корешках.
Непрозрачный, пассивный предмет, непроницаемое нечто. Мое
намерение.
Его намерение выпить, которое отразилось тусклыми пятнами
на прозрачности стакана, его намерение курить, его намерение
писать, человек развесил свои намерения повсюду. Вот кресло из
зеленой кожи, где человек сидел вечерами. Сейчас вечер: Матье
посмотрел на кресло и сел на краешек стула. «Твои кресла действуют
развращающе». Кто-то однажды сказал это как раз здесь: «Твои
кресла действуют развращающе». На диване светловолосая девушка
гневно трясла локонами. В это время человек едва видел локоны,
едва слышал голос: он видел и слышал сквозь них свое будущее.
Теперь человек уехал, увозя свое лживое старое будущее; былое
понемногу охладилось, оно оставалось здесь, пленка жира, застывшая
на мебели, голоса, витающие на уровне глаз: они поднялись до
потолка, потом упали, взлетели снова. Матье почувствовал себя
нескромным, он подошел к окну и открыл жалюзи. На небе еще были
остатки дня, некий безымянный свет: он вдохнул полной грудью.
Письмо Даниеля. Он потянулся было за ним, затем опустил
руку на подоконник. Даниель ушел по этой улице июньским
вечером, он прошел под этим фонарем: Матье тогда, встав у окна, про-
ОТСРОЧКА
589
водил его взглядом. Этому человеку писал Даниель. Матье не хотел
читать его письмо. Он быстро повернулся и с сухой радостью
пробежал глазами по письменному столу. Они все там, запертые,
мертвые — Марсель, Ивиш, Брюне, Борис, Даниель. Они туда пришли,
они там были схвачены, они там останутся. Гнев Ивиш, упреки
Брюне, Матье о них вспоминал уже с той же беспристрастностью,
как о смерти Людовика XVI. Они принадлежали прошлому миру,
но не его личному прошлому: у него не осталось собственного
прошлого.
Он закрыл ставни, пересек комнату, поколебался и,
поразмыслив, оставил лампу зажженной. Завтра утром приду сюда забрать
чемоданы. Он закрыл входную дверь, оставив всех и все внутри, и
спустился по лестнице. Там, у него за спиной электрические свечи
всю ночь будут освещать его мертвую жизнь.
— О чем ты думаешь? — спросила Лола.
— Ни о чем, — ответил Борис.
Они сидели на пляже. Лола в этот вечер не пела, потому что в
казино был гала-спектакль. Перед ними прошла пара, затем солдат.
Борис думал о солдате.
— Не дуйся. Ну, скажи мне, о чем ты думаешь? — настаивала
Лола.
Борис пожал плечами:
— Я думал о солдате, который только что прошел мимо.
— Да? — удивилась Лола. — И что же ты о нем подумал?
— А что, по-твоему, я мог подумать о солдате?
— Борис, — простонала Лола, — что с тобой? Ты был таким
милым, таким нежным. И вот ты снова принялся за старое. Ты мне
ничего не рассказал о том, как провел день.
Борис не ответил, он думал о солдате. Он думал: "Ему повезло,
а мне еще ждать целый год». Один год: он вернется в Париж, будет
гулять по бульвару Монпарнас по бульвару Сен-Мишель, который
он знал наизусть, пойдет в «Дом», в «Купол», каждую ночь будет
спать у Лолы. «Если бы я мог видеться с Матье, это было бы
замечательно, но Матье мобилизован. А мой диплом!» — вдруг подумал
он. Ко всему была еще эта скверная шутка: диплом о высшем
образовании. Его отец наверняка потребует, чтобы он был ему
представлен, и Борис будет вынужден предъявить диссертацию о
воображении у Ренувье или о привычке у Мэн ле Биран. «Зачем они все
ломают комедию?» — с раздражением подумал он. Его воспитали
для войны, это было их право, но теперь его хотят принудить по-
590
Жан Поль Сартр
лучить диплом, будто ему предстояла целая мирная жизнь. Будет
просто смешно: весь год он будет ходить в библиотеку, будет делать
вид, что читает полное собрание сочинений Мэн ле Биран в издании
Тиссерана, будет делать вид, что конспектирует, будет имитировать
подготовку к экзамену, а сам при этом будет безостановочно думать
о том настоящем экзамене, который его подстерегает; он будет
непрерывно думать, трус он или храбрец. «Если бы не было этой, —
подумал он, бросив недоброжелательный взгляд на Лолу, — я бы
сейчас же пошел добровольцем, и им всем бы стало кисло».
— Борис! — испуганно вскрикнула Лола. — Что ты на меня так
смотришь? Ты меня больше не любишь?
— Наоборот, — сквозь зубы процедил Борис. — Ты даже
представить себе не можешь, как я тебя люблю. Ты даже не подозреваешь.
Ивиш зажгла лампу у изголовья и совсем голая легла на
кровать. Она оставила дверь открытой, наблюдая за коридором. На
потолке был круг света, а остальная часть комнаты оставалась
синей. Синий туман висел над столом, пахло лимоном, чаем и
сигаретным дымом.
Она услышала шорох в коридоре, и кто-то большой тихо
прошел перед дверью.
— Постой-ка! — крикнула она.
Ее отец повернул голову и с укоризненным видом посмотрел на
нее.
— Ивиш, я тебя уже просил: нужно или закрывать дверь, или
одеваться.
Он слегка покраснел, но его голос был более певуч, чем обычно.
— Из-за горничной.
— Горничная легла спать, — не смущаясь, сказала Ивиш. Она
добавила:
— Я тебя ждала. Когда ты проходишь, ты так мало шумишь: я
боялась тебя пропустить. Отвернись.
Господин Сергин отвернулся, она встала и надела халат. Ее отец
стоял в дверном проеме напряженно, повернувшись спиной. Она
посмотрела на его затылок, атлетические плечи и беззвучно
засмеялась.
— Можешь смотреть.
Теперь он стоял лицом. Два-три раза он втянул носом воздух и
отметил:
— Ты слишком много куришь.
— Я нервничаю, — ответила она.
ОТСРОЧКА
591
Он замолчал. Лампа освещала его большое угловатое лицо,
Ивиш он показался красивым. Красивым, как гора; как водопад
Ниагара. Наконец он сказал:
— Я иду спать.
— Нет, — взмолилась Ивиш. — Нет, папа, я хотела бы послушать
радио.
— Что это значит? — изумился Сергин. — В такой час?
Ивиш не поймалась на это возмущение: она знала, что каждый
вечер к одиннадцати часам он выходил из своей комнаты
втихомолку послушать новости в своем кабинете. Он был скрытен и легок,
как эльф, несмотря на свои девяносто килограммов.
— Иди одна. Мне завтра рано вставать.
— Но папа, — жалобно заныла Ивиш, — ты же знаешь, что я не
умею включать приемник.
Сергин засмеялся.
— Ха! Ха! — произнес он. — Ха! Ха!
— Ты хочешь послушать музыку? — спросил он, снова став
серьезным. — Но мать, бедняжка, спит.
— Да нет же, папа, — сердито сказала Ивиш. — Я не хочу
слушать музыку. Я хочу знать, что там решили насчет войны.
— Тогда пошли.
Она босиком двинулась за ним в кабинет, и он наклонился над
приемником. Его длинные сильные руки так легко управлялись с
настройкой, что у нее дрогнуло сердце, и она пожалела, что ушла их
былая близость. Когда ей было пятнадцать, они всегда были вместе,
госпожа Сергин ревновала; когда отец водил Ивиш в ресторан, он
сажал ее на скамью напротив себя, она сама выбирала себе меню;
официанты называли ее «мадам», это ее веселило, а он был горд, и
у него был торжествующий вид. Были слышны последние такты
военного марша, потом какой-то немец заговорил раздраженным
голосом.
— Папа, — с упреком напомнила Ивиш, — я же не знаю
немецкого.
Он посмотрел на нее с наивным видом. «Он сделал это
нарочно», — подумала она.
— В этот час передают самую точную информацию.
Ивиш внимательно слушала, чтобы уловить во время речи
слово Krieg*, смысл которого она знала. Немец замолчал, и оркестр
* Война (нем.).
592
Жан Поль Сартр
заиграл новый марш; у Ивиш от него лопались уши, но Сергин
дослушал его до конца: он любил военную музыку.
— Ну что? — с волнением спросила Ивиш.
— Очень плохо, — заявил Сергин. Но вид у него был не слишком
огорченный.
— Да? — переспросила она с пересохшим горлом. — По-прежнему
из-за чехов?
-Да.
— Как же я их ненавижу! — страстно проговорила она. А потом
добавила:
— Но если страна отказывается воевать, разве ее можно
заставить?
— Ивиш, — строго сказал Сергин, — ты еще дитя.
— А? — удивилась Ивиш. — А, ну конечно.
Она подозревала, что отец разбирается во всем этом не лучше
ее.
— И больше ничего не сказали?
Сергин колебался.
— Папа!
«Он зол, что я пришла, я ему порчу маленький праздник».
Сергин любил секреты, у него было шесть чемоданов с замками, два
чемодана на задвижках, он иногда их открывал, когда оставался
один. Ивиш растроганно смотрела на него, он был такой
симпатичный, что она чуть не рассказала ему о своих страхах.
Он опустил на нее взгляд своих светлых глаз, и она
почувствовала, что он ничего для нее не сможет сделать. Она только спросила:
— Что будет, если начнется война?
— Французы будут разбиты.
— Да?! Неужели немцы войдут во Францию?
— Естественно.
— Они придут в Лаон?
— Вероятно. Я думаю, они дойдут до Парижа.
«Он совершенно ничего не знает, — подумала Ивиш. — Он
человек, легко меняющий взгляды». Но сердце дрогнуло у нее в груди.
— Они возьмут Париж, но они же его не разрушат?
Она раскаялась, что задала этот вопрос. С тех пор как
большевики сожгли их имения, отец приобрел вкус к катастрофам. Он
покачал головой, наполовину закрыв глаза:
— Эх! — сказал он. — Эх! Эх!
ОТСРОЧКА
593
Двадцать три часа тридцать минут. Это была мертвая улица,
темнота затопляла ее; изредка встречался большой фонарь. Улица
в никуда, ряд больших безымянных мавзолеев. Все жалюзи
закрыты, ни щели света. «Это была улица Деламбр». Матье пересек
улицу Сельс, улицу Фруадво, прошел по проспекту дю Мэн и даже по
улице де ля Гетэ; они все были друг на друга похожи: еще теплые,
уже неузнаваемые, уже улицы войны. Что-то выветрилось. Париж
был уже кладбищем улиц.
Матье вошел в «Дом», потому что «Дом» оказался у него на
пути. Официант с милой улыбкой засуетился вокруг него: это был
невысокий паренек в очках, тщедушный и услужливый. Новенький:
его предшественники заставляли клиентов ждать по часу, затем
небрежно подходили и без тени улыбки брали заказ.
— Где Анри?
— Анри? — спросил официант.
— Высокий брюнет, с глазами навыкате.
— А-а! Он мобилизован.
— А Жан?
— Блондин? Его тоже мобилизовали. Я его замещаю.
— Дайте мне коньяку.
Официант бегом удалился. Матье сощурился, потом с
удивлением осмотрел зал. В июле «Дом» не имел определенных пределов,
он тек в ночи сквозь стекла и двери; он разливался на мостовую,
прохожие купались в этой сыворотке, которая еще дрожала у них
на руках и на левой стороне лиц шоферов, стоящих посреди
бульвара Монпарнас. Еще один шаг — и ты нырял в красное, правый
профиль шоферов был красный: это была «Ротонда». Теперь
наружные сумерки толкались в стекла, «Дом» был сведен к самому
себе: коллекция столиков, скамей, стаканов, сухих, укороченных,
лишенных того рассеянного сверкания, которое было их ночной
тенью. Исчезли немецкие эмигранты, венгерский пианист, старая
алкоголичка американка. Ушли все те очаровательные пары,
которые держались за руки под столом и до утра говорили о любви, и
глаза их были красными от бессонницы. Слева от него ужинал
майор с женой. Напротив маленькая аннамская проститутка мечтала о
чем-то перед кофе со сливками, а за соседним столиком капитан ел
кислую капусту. Справа молодой человек в военной форме
прижимал к себе женщину. Матье знал его в лицо, это был ученик
Академии художеств, длинный, бледный и смущенный; военная форма
594
Жан Поль Сартр
придавала ему свирепый вид. Капитан поднял голову, и его взгляд
пересек стену; Матье проследил за этим взглядом: в конце был
вокзал, огни, отблески на рельсах, люди с землистыми лицами,
запавшие от бессонницы глаза, люди напряженно сидели в вагонах,
положив руки на колени. В июле мы сидели кружком под лампами,
мы не сводили друг с друга глаз, ни один из наших взглядов не
терялся. Теперь они теряются, они бегут к Висембургу, к Монмеди;
между людьми много тьмы и много пустоты. «Дом» мобилизовали,
из него сделали предмет первой необходимости: буфет. «Эх! —
радостно подумал он. — Я ничего не узнаю, я ни о чем не жалею, я
ничего не оставляю после себя».
Маленькая индокитаянка улыбнулась ему. Она была
миловидная, с малюсенькими ручками; уже два года Матье обещал ей
провести с ней ночь. Как раз наступил такой момент. Я проведу губами
по ее холодной коже, я вдохну ее запах насекомых и нафталина; я
буду голым и неизвестно каким под ее искусными пальцами; во мне
есть какая-то ветошь, которая от этого отомрет. Достаточно горько
улыбнуться в ответ.
— Официант!
Официант подбежал:
— С вас десять франков.
Матье расплатился и вышел. Нет, я ее еще слишком хорошо
знаю.
Было темно. Первая ночь войны. Нет, не совсем. Еще оставалось
много света, зацепившегося за бока домов. Через месяц, через две
недели первая тревога его сдует; а пока это всего лишь генеральная
репетиция. Но Париж все-таки потерял свой потолок из розовой
ваты. В первый раз Матье видел темный пар, подвешенный над
городом: небо. Небо Жуан-ле-Пэна, Тулузы, Дижона, Амьена, то же
самое небо для деревни и для города, для всей Франции. Матье
остановился, поднял голову и посмотрел на него. Небо все равно
где, одинаковое для всех. И я под ним — всего лишь один из людей,
любой. И война — тоже всюду война. Он остановил взгляд на
светлом пятне, повторил про себя, чтобы запечатлеть в слове: «Париж,
бульвар Распай». Но их тоже мобилизовали, все эти роскошные
названия, они как будто сошли с карты генерального штаба или со
страниц коммюнике. От бульвара Распай не осталось ничего.
Дороги, только дороги, которые бежали с юга на север, с запада на
восток; пронумерованные дороги. Время от времени их мостили на
ОТСРОЧКА
595
километр-другой, тротуары и дома покрывали землю, это
называлось улицей, проспектом, бульваром. Но всегда это был только
кусочек дороги; Матье шел, обратив лицо к бельгийской границе,
по участку департаментской дороги, исходящей из шоссе
государственного значения № 14. Он свернул на длинный путь, прямой и
проезжий, продолжающий железнодорожные пути Западной
компании, прежде это была улица де Ренн. Его окутало пламя,
высветило из тени уличный фонарь, погасло: направляясь к вокзалам
правого берега, проехало такси. За ним последовал черный
автомобиль, полный офицеров, потом все смолкло. На краю дороги, под
равнодушным небом, дома были сведены к своей самой
примитивной функции: это были доходные дома. Спальни-столовые для
подлежащих мобилизации, для семей мобилизованных. Уже
предчувствовалось их последнее предназначение: они станут
«стратегическими точками», и под конец — мишенями. После этого можно
разрушить Париж: он уже мертв. Зарождается новый мир: суровый
и практичный мир строений.
Луч света проникал через занавески кафе «Де-Маго». Матье сел
на террасе. За ним в тени шептались люди: последние клиенты.
Становилось прохладно.
— Кружку пива, — попросил Матье.
— Скоро полночь, — сказал официант, — на террасе больше не
обслуживают.
— Только кружку пива.
— Тогда быстро.
У него за спиной засмеялась женщина. Впервые со времени
своего возвращения он слышал смех, и он был этим почти
шокирован. Однако ему не было грустно; но и смеяться ему не хотелось. На
небе разорвалось облако, и показались две звезды. Матье подумал:
«Это война».
— Вы не могли бы заплатить сразу, и тогда потом я вас уже не
побеспокою.
Матье расплатился, официант вернулся в зал. Встала пара
теней, проскользнула между столов и исчезла. Матье остался на
террасе один. Он поднял голову и увидел на другой стороне площади
новую красивую церковь, белую на фоне черного неба. Деревенская
церковь. Вчера на ее месте возвышалось настоящее парижское
здание: церковь Сен-Жермен-де-Пре, исторический памятник, Матье
часто назначал Ивиш свидания под ее портиком. Может быть,
завтра напротив «Де-Маго» останется только разбитое строение, по
596
Жан Поль Сартр
которому будут упорно стрелять сто пушек. Но сегодня... сегодня
Ивиш была в Лаоне, Париж умер, только что похоронили Мир,
война еще не объявлена. Был только большой белый предмет,
поставленный на площади, .белые чешуйки ночи. Деревенская
церковь. Она была новой, красивой; сейчас она была бесполезной.
Подул легкий ветер; проехал автомобиль с погашенными фарами,
потом — велосипедист, потом — два грузовика, от которых
задрожала земля. Каменный образ на миг помутнел, затем ветер стих,
наступила тишина, белая, ненужная, нечеловеческая, вставшая
посреди всех этих зеркальных предметов по краям Восточной дороги,
бесстрастное и голое будущее скалы. Достаточно совсем маленькой
черной точки в небе, чтобы он рассыпался в прах, и, однако, он был
вечным. Совсем одинокий человек, забытый, снедаемый мраком
напротив этой преходящей вечности. Он вздрогнул и подумал: «Я
тоже вечен».
Все свершилось безболезненно. Жил человек, нежный и
боязливый, он любил Париж и гулял по нему. Человек умер. Умер, как
и Вальдек-Руссо, как и Тюро-Данжен; он навсегда вошел в прошлое
планеты, вместе с Миром, его жизнь влилась в архивы Третьей
республики; его ежедневные расходы будут питать статистику,
касающуюся уровня жизни среднего класса после 1918 года, его письма
послужат документами для истории буржуазии между двумя
войнами, его тревоги, сомнения, стыд и угрызения совести будут очень
ценными для изучения французских нравов после падения Второй
империи. Этот человек скроил собственное будущее по своей мерке,
обкуренное, проваленное, безропотное, перегруженное знаками,
свиданиями, планами. Маленькое историческое и смертное
будущее: война всем своим весом обрушилась на него и раздавила.
Однако вплоть до этой минуты еще оставалось что-то, что могло
зваться Матье, что-то, за что он цеплялся изо всех сил. Он не мог
бы толком сказать, что это. Может, какая-то очень старая привычка,
может, какая-то манера выбирать свои мысли по своему образу, день
ото дня выбирать себя по образу своих мыслей, выбирать пищу,
одежду, деревья и дома, которые он видел. Он опустил руки и
отказался от дальнейших попыток; это происходило очень далеко — в
глубине души, там, где слова уже не имеют смысла. Он отказался
от дальнейших попыток, теперь от него остался только взгляд. Но
совсем новый взгляд, без страсти, совсем прозрачный. «Я потерял
свою душу», — радостно подумал он. Эту прозрачность пересекла
какая-то женщина. Она торопилась, ее каблуки стучали по тротуа-
ОТСРОЧКА
597
ру. Она проскользнула в неподвижном взгляде, озабоченная,
смертная, мирская, снедаемая тысячью мелких планов, она на ходу
провела рукой по лбу, чтобы отбросить назад прядь волос. Я был похож
на нее; целый улей планов. Ее жизнь — это моя жизнь; под этим
взглядом, под этим безразличным небом все жизни равны. Ее
поглотил мрак, ее каблуки стучали на улице Бонапарта; все
человеческие жизни расплавились в темноте, стук каблуков затих.
Мой взгляд. Он смотрел на приглушенную белизну
колокольни. Все мертво. Мой взгляд и эти камни. Вечное и минеральное,
похожее на нее. В моем старом будущем люди ждали меня 20 июня
1940 года, 16 сентября 1942 года, 8 февраля 1944 года, они мне
делали знаки. Теперь лишь мой взгляд ожидает сам себя в будущем,
насколько хватает глаз, как эти камни ожидают камни, завтра,
послезавтра, всегда. Взгляд и радость, огромная, как море; это
праздник. Он положил руки на колени, он хотел быть спокойным: кто
мне докажет, что я не стану завтра тем, кем был вчера? Но он не
боялся. Церковь может обрушиться, я могу упасть в воронку от
снаряда, вернуться в собственную свою жизнь: ничто не может
лишить меня этого вечного мгновения. Ничто: всегда будет эта
сухая молния, озаряющая пламенем камни под черным небом;
вечный абсолют; абсолют без причины, без оснований, без цели, без
другого прошлого, без другого будущего, кроме этого постоянства,
безвозмездного, нечаянного, великолепного. «Я свободен», — вдруг
подумал он. И сразу же его радость сменилась изнурительной
тревогой.
Ирен скучала. Ничего не происходило, разве что оркестр играл
Music Maestro please*, да еще Марк смотрел на нее тюленьими
глазами. Никогда ничего не происходит, или если что-то случайно и
происходит, то в тот момент этого не замечаешь. Она следила
взглядом за скандинавкой, высокой блондинкой, которая танцевала
более часа кряду, даже не присев между танцами, и Ирен подумала без
предвзятости: «Эта женщина хорошо одета». Марк тоже был
хорошо одет; все были хорошо одеты, кроме Ирен, которой было
противно в гранатового цвета платье, но ей плевать на это; я знаю, что
у меня нет вкуса, чтобы выбирать себе туалеты, и потом, где взять
денег, чтобы их обновлять, просто если уж бываешь среди богатых,
нужно найти средство сделаться незаметной. Уже несколько
мужчин посматривали на нее: дешевенькое платье, немного блестящее,
разжигало у них аппетит, они уже не так робели. Марку было хоро-
* Пожалуйста, музыку, маэстро (англ.).
598
Жан Поль Сартр
шо: он богат; он любил водить ее к богатым, потому что от этого она
чувствовала себя приниженно и, как он считал, меньше
сопротивлялась.
— Почему вы не хотите? — спросил он.
Ирен вздрогнула:
— Чего я не хочу? Ах да...
Она улыбнулась, не отвечая.
— О чем вы думаете?
— О том, что мой бокал пуст. Закажите мне еще «Шерри Гоб-
лер».
Марк выполнил просьбу. Было забавно заставлять его платить,
потому что он изо дня в день записывал свои расходы в записную
книжку. Сегодня вечером он запишет: «Вечер с Ирен: шипучий
джин, два «Шерри Гоблер» — сто семьдесят пять франков. Она
заметила, что он гладит ей руку концом указательного пальца,
должно быть, он давно этим развлекался.
— Скажите, Ирен, скажите! Почему?
— Просто так, — зевая, ответила она. — Не знаю.
— Ну что ж, если вы действительно не знаете...
— Да нет! Наоборот: если я с кем-то сплю, то хочу знать почему.
Из-за его глаз, или какой-нибудь фразы, которую он произнес, или
потому что он красивый.
— Я красивый, — тихо сказал Марк.
Ирен засмеялась, и он покраснел.
— Короче, — живо добавил он, — вы понимаете, что я хочу
сказать.
— Конечно, — ответила она. — Конечно.
Он схватил ее за запястье.
— Ирен, Боже мой! Что мне сделать?
Он наклонился к ней со злобным смирением, от волнения он
тяжело дышал. «Как мне скучно», — подумала она.
— Ничего. Нечего делать.
— Эх! — выдохнул он.
Он отпустил ее и откинул назад голову, обнажив зубы. Она
видела себя в зеркале, маленькую замарашку с красивыми глазами и
подумала: «Боже мой! Сколько шума вокруг этого!» Ей было
стыдно за него и за себя, и все было так плоско и так скучно; она уже и
сама не понимала, почему отказывается: я создаю много трудностей;
лучше было бы ему сказать: «Вы этого хотите? Что ж, валяйте:
полчаса в гостиничном номере, всего разок, подумаешь! Маленькое
ОТСРОЧКА
599
скотство между двумя простынями, а потом вернемся сюда
закончить вечер, и вы оставите меня в покое». Но нужно было делать вид,
будто она придает большое значение своему жалкому телу: она
хорошо знала, что не уступит.
— Какая вы странная!
Он в растерянности вращал большими злыми глазами, сейчас
он попытается обидеть меня, как обычно, а потом попросит у меня
прощения.
— Как вы защищаетесь! — насмешливо продолжал он. — Если
бы я вас не знал уже четыре года, то мог бы подумать, что вы —
воплощенная добродетель.
Она вдруг с интересом посмотрела на него и начала
размышлять. Мысли всегда не давали ей томиться скукой.
— Вы правы, — согласилась она, — это очень странно: я
доступная, это факт, и, однако, я скорее позволю четвертовать себя, чем
спать с вами. Поди-ка объясни! — Она равнодушно посмотрела на
него и заключила: — Я даже не сказала бы, что вы у меня
действительно вызываете отвращение.
— Тише! — прошептал он. — Говорите тише. — Он злобно
добавил: — Ваш звонкий голосок слышно издалека.
Они замолчали. Люди танцевали, оркестр играл «Караван»;
Марк вертел на скатерти бокал, в нем ударялись друг о друга
льдинки. Ирен снова погрузилась в скуку.
— В принципе, — сказал он, — я слишком хорошо дал вам
понять, что хочу вас.
Он положил ладони на стол и спокойно полировал его; он
пытался вновь обрести достоинство. Не важно, что он его снова
утратит через пять минут. Она ему улыбнулась, однако, потому что он
предоставил ей случай подумать о себе самой.
— Что ж, — сказала она, — есть и это. Должно быть, есть и это.
Марк виделся ей сквозь туман. Мирный легкий туман
удивления, который поднялся от сердца к глазам. Она обожала вот так
удивляться, когда одни и те же вопросы задаешь себе бесконечно, и
на них никогда нет ответа. Она ему пояснила:
— Когда меня слишком хотят, меня это коробит. Послушайте,
Марк, мне просто смешно: быть может, завтра Гитлер нападет на
нас, а вы тут волнуетесь, что я не хочу с вами переспать. Неужто вы
настолько жалкий тип, что доводите себя до такого состояния из-за
какой-то бабенки вроде меня?
— Это мое дело! — в бешенстве воскликнул он.
600
Жан Поль Сартр
— Но и мое тоже; терпеть не могу, когда меня недооценивают.
Наступило молчание. Мы — животные, мы прикрываем
словами инстинкт. Она искоса посмотрела на него: готово, сейчас он сдаст
позиции. Его черты опали, самый тягостный момент еще впереди;
однажды в «Мелодии» он заплакал. Он открыл рот, но она
опередила его:
— Замолчите, Марк, прошу вас: вы сейчас скажете глупость или
гадость.
Он ее не услышал; он мотал головой справа налево, вид у него
был обреченный.
— Ирен, — вполголоса сказал он, — я скоро уезжаю.
— Уезжаете? Куда?
— Не стройте из себя дурочку. Вы меня поняли.
— Ну и что?
— Я думал, что это для вас что-нибудь значит.
Она не ответила: она пристально смотрела на него. Через какое-
то время он, отворачиваясь, снова заговорил:
— В четырнадцатом году многие женщины отдавались
мужчинам, которые их любили, просто потому, что те уезжали.
Она молчала; у Марка задрожали руки.
— Ирен, для вас это сущий пустяк, а для меня имело бы такое
значение, особенно в этот момент...
— Это меня не трогает, — наконец ответила Ирен.
Он резко повернулся к ней:
— Черт возьми! Я же иду сражаться за вас!
— Подлец! — сказала Ирен.
Он тотчас же сник; глаза его покраснели.
— Мне тошно думать, что я сдохну, так и не завладев вами.
Ирен встала:
— Пошли танцевать.
Он послушно встал, и они пошли танцевать. Он прижался к ней;
он прокружил ее по всему залу, и вдруг у нее перехватило дыхание.
— Что случилось? — спросил он.
— Ничего.
Она узнала Филиппа — он смирно сидел рядом с довольно
красивой, но не слишком молодой креолкой. «Он был здесь! Он был
здесь, а его везде искали». У него было бледноватое лицо, под
глазами круги. Она подтолкнула Марка в толпу танцующих: она не
хотела, чтобы Филипп ее узнал. Оркестр перестал играть, и они
вернулись к своему столику. Марк тяжело сел на скамью. Ирен со-
ОТСРОЧКА
601
биралась садиться, когда увидела, как какой-то мужчина склонился
над негритянкой.
— Садитесь же, — сказал Марк. — Я не люблю, когда вы стоите.
— Минутку! — нетерпеливо ответила она.
Негритянка лениво встала, и мужчина обнял ее. Филипп
секунду-другую смотрел на них с затравленным видом, и Ирен
почувствовала, как сердце чуть не выскочило у нее из груди. Он вдруг
встал и бросился наружу.
— Извините, я на минуту... — сказала Ирен.
— Куда вы?
— В туалет. Вы довольны?
— Вы сделаете вид, что идете туда, а сами удерете.
Она показала на свою сумочку на столе:
— Моя сумочка остается в залог.
Марк, не отвечая, заворчал; Ирен прошла через площадку,
раздвигая танцующих плечами.
— Она с ума сошла, — бросила какая-то женщина, Марк встал,
она услышала, как он крикнул:
— Ирен!
Но она уже вышла: как бы то ни было, ему понадобится минут
пять, чтобы расплатиться. На улице было темно. «Вот глупо, —
подумала она, — я его потеряла». Но когда ее глаза привыкли к
темноте, она увидела, как он устремился вдоль стен по направлению к
Тринитэ. Она побежала: «Шут с ней, с сумочкой; я оставила в ней
пудреницу, сто франков и два письма Максима». Она больше не
скучала. Так они пробежали сотню метров, оба бегом, затем Филипп
так внезапно остановился, что Ирен испугалась, что наткнется на
него. Она быстро сделала крюк, обогнала его и, приблизившись к
двери какого-то дома, дважды позвонила. Дверь открылась, когда
Филипп проходил сзади. Она секунду выждала, потом сильно
хлопнула створкой, как будто вошла в дом. Теперь Филипп шел
медленно, преследовать его было сущим пустяком. Время от времени его
поглощал мрак, но немного дальше, под светящимся дождиком
фонаря, он выныривал из ночи. «Вот это развлечение!» — подумала
она. Она обожала выслеживать людей; она могла часами идти за
совершенно незнакомым человеком.
На бульварах было еще много народу, и было светлее из-за кафе
и витрин. Филипп остановился во второй раз, но Ирен была начеку:
она остановилась позади него в темном углу и ждала. «Может быть,
у него свидание». Филипп повернулся к ней, он был мертвенно
602
Жан Поль Сартр
бледен; вдруг он начал говорить, и она подумала, что он ее узнал;
однако она была уверена, что он не мог ее видеть. Он отступил на
шаг и что-то пробормотал; вид у него был затравленный. «Он сошел
с ума!» — подумала она.
Прошли две женщины, девушка и старуха, в провинциальных
шляпах. Он подошел к ним, у него было лицо эксгибициониста.
— Долой войну! — сказал он.
Женщины ускорили шаг: они, должно быть, его не поняли. За
ними приближались два офицера; Филипп замолчал и пропустил
их. Сразу за ними шла потрепанная надушенная проститутка, запах
которой ударил Ирен в нос. Филипп стал перед ней со злым видом;
она уже улыбалась ему, но он проговорил придушенным голосом:
— Долой войну, долой Даладье! Да здравствует мир!
— Дурак! — обиделась женщина.
Она прошла мимо. Филипп покачал головой, с яростным видом
посмотрел направо и налево, а потом вдруг нырнул во мрак улицы
Ришелье. Ирен смеялась так сильно, что чуть не обнаружила себя.
— Еще две минуты.
Он покрутил ручку, брызнула джазовая мелодия, четыре ноты
саксофона, падающая звезда.
— Ну оставь! — попросила Ивиш. — Это красиво.
Сергин повернул ручку, и жалоба саксофона сменилась долгим
тяжелым тягучим звуком; он строго посмотрел на Ивиш:
— Как ты можешь любить эту дикарскую музыку?
Он презирал негров. Со студенческой поры в Мюнхене он
сохранил острые воспоминания, культ Вагнера.
— Уже время, — снова сказал он.
Приемник задрожал от голоса. Настоящий французский голос,
степенный, приветливый, он старался передать все изгибы речи с
помощью мелодичных модуляций, проникновенный и
убедительный голос старшего брата. Терпеть не могу французские голоса. Она
улыбнулась отцу и вяло произнесла, чтобы немного восстановить
их прежнее согласие:
— Терпеть не могу французские голоса.
Сергин издал легкое кудахтанье, но не ответил и рукой сделал
ей знак помолчать.
«Сегодня, — говорил голос, — посланник британского премьера
был снова принят рейхсканцлером Гитлером, который ему сообщил,
что, если завтра в четырнадцать часов у него не будет удовлетвори-
ОТСРОЧКА
603
тельного ответа из Праги по поводу эвакуации судетских областей,
он оставляет за собой право принять необходимые меры.
В целом считают, что рейхсканцлер хотел упомянуть о всеобщей
мобилизации, объявление которой ожидалось в понедельник в речи
канцлера, что, вне сомнений, было отсрочено только из-за письма
британского премьера».
Голос умолк. Ивиш с пересохшим горлом подняла глаза на отца.
Он упивался этими словами с видом совершенно ошалелого
блаженства.
— Что на самом деле означает мобилизация? — спросила она
безразлично.
— Это означает войну.
— Но необязательно?
— Как же, как же!
— Мы воевать не будем! — яростно сказала она. — Мы не можем
воевать из-за чехов!
Сергин мягко улыбнулся.
— Знаешь, когда человек мобилизован...
— Но мы же не хотим воевать.
— Если бы мы не хотели воевать, мы бы не объявили
мобилизацию.
Она недоуменно посмотрела на него:
— Мы объявили мобилизацию? Мы тоже?
— Нет, — краснея, ответил он. — Я хотел сказать: немцы.
— Да? Я-то говорила о французах, — сухо сказала Ивиш.
Голос продолжал, благостный и умиротворенный:
«В иностранных кругах Берлина полагают...»
— Тш! — шикнул Сергин.
Он снова сел, обратив лицо к приемнику. «Я сирота», —
подумала Ивиш. Она на цыпочках вышла из комнаты, прошла по
коридору и заперлась у себя в спальне. У нее стучали зубы: немцы
пройдут через Лаон, сожгут Париж, улицу Сены, улицу де ля Гетэ,
улицу Розье, площадку Монтань-Сент-Женевьев; если Париж
загорится, я покончу с собой. «Ужас! — подумала она, бросившись на
кровать. — А музей Гревэн?» Она там никогда не была, Матье
пообещал сводить ее туда в октябре, а они превратят его бомбами в пыль.
А что, если это произойдет сегодня ночью? Сердце выпрыгивало у
нее из груди, руки похолодели: что им может помешать? Может
быть, в этот самый час от Парижа остался лишь пепел, а это скры-
604
Жан Поль Сартр
вают, чтобы не пугать население. Или это запрещено
международными соглашениями? Как узнать? «Черт! — в ярости подумала
она. — Я уверена, что есть люди, которые знают; а я ничего в этом
не понимаю, меня держали в неведении, заставляли изучать латынь,
и никто мне ничего не говорил, а теперь — на тебе! Но я имею
право жить, — подумала она растерянно, — меня произвели на свет,
чтобы я жила, я имею на это право». Она почувствовала себя так
глубоко оскорбленной, что упала на подушку и зашлась в рыданиях.
«Это несправедливо, — прошептала она, — даже при наилучших
прогнозах это продлится шесть лет, десять лет — и все женщины
будут одеты как санитарки, а когда все закончится, я буду старой».
Но слезы больше не текли, ее сердце заледенело. Она резко
выпрямилась: «Кому, кому нужна война?» Ведь поодиночке люди не
воинственные, они думают только о том, чтобы поесть, заработать
денег и делать детей. Даже немцы. И однако, война пришла, Гитлер
призвал всех под ружье. «Все-таки он не мог решить это совсем
один», — подумала она. И в голове у нее промелькнула фраза, где
она ее вычитала? Конечно, в газетах, а может, услышала, как ее
произнес за завтраком один из клиентов отца: «Кто стоит за ним?»
Хмуря брови и глядя на носки комнатных туфель, она вполголоса
повторила: «Кто стоит за ним?», еще надеясь, что все прояснится,
она перебирала в уме названия всех тех темных сил, которые
руководят миром: франкмасонство, иезуиты, двести семей, торговцы
оружием, владельцы золота, Серебряная стена, американские
тресты, Коммунистический интернационал, Ку-клукс-клан... Вероятно,
тут было всего понемножку, а сверх всего — еще что-то, может быть,
какая-то совершенно секретная всесильная ассоциация, даже
названия которой никто не знает. «Но что им нужно?» — подумала
она, в то время как две слезы отчаяния катились по ее щекам. Она
с минуту пыталась угадать их намерения, но в голове было пусто, и
лишь какой-то металлический круг вращался в ней. «Если бы я хотя
бы знала, где находится Чехословакия!» Когда-то она кнопками
приколола к стене большую сине-золотую акварель: это была
Европа, Ивиш от нечего делать раскрашивала ее прошлой зимой,
сверяясь по атласу, немного подправляя контуры; она везде добавила рек,
сделала выемки у слишком плоских побережий, но особенно она
остерегалась писать какое-либо название на карте: это делало ее
забаву научной и претенциозной; границ на карте также не было:
она ненавидела пунктиры. Она подошла к карте: Чехословакия
была где-то там, в глубине земель. Например, вон там, если только
ОТСРОЧКА
605
это не Россия. А Германия, где она? Ивиш смотрела на большую
желтую полированную форму, очерченную синим, и думала:
«Сколько земли!», она почувствовала себя потерянной. Она отвернулась,
сбросила халат и голой посмотрелась в зеркало; когда у нее были
неприятности, обычно это ее немного утешало. Но внезапно она
увидела себя совсем маленькой: былинка с шершавой кожей,
потому что она покрылась мурашками, соски торчат, она это
ненавидела, настоящее больничное тело, созданное для ран, говорят, что
они будут насиловать всех женщин, они могут мне отрезать ногу.
Они войдут в ее комнату, обнаружат ее совсем голой под одеялом:
у вас пять минут на одевание, и повернутся спиной, как было с
Марией-Антуанеттой, но они услышат все: мягкое шлепанье ног по
прикроватному коврику и шуршание ткани о кожу. Она взяла
панталоны и чулки и быстро надела их, следует ждать несчастья стоя
и одетой. Когда она надела юбку и кофточку, то почувствовала себя
немного безопаснее, но когда она надевала туфли, в коридоре бас
начал напевать по-немецки.
Ich hatt' einen Kameraden...*
Ивиш бросилась к двери и открыла ее: она очутилась нос к носу
с отцом: у него был веселый и даже торжественный вид.
— Что ты поешь?! — гневно выкрикнула она. — Что ты
позволяешь себе петь?
Он с понимающей улыбкой посмотрел на нее.
— Подожди, — сказал он, — подожди немного, мой лягушонок:
мы еще увидим нашу Святую Русь.
Она, хлопнув дверью, вернулась в свою комнату: «Плевала я на
Святую Русь, я не хочу, чтобы разрушили Париж, и если они
позволят себе что-нибудь такое, то увидишь, как французские
самолеты полетят бомбить твой Мюнхен!»
Шум шагов в коридоре стих, все погрузилось в тишину. Ивиш
одеревенело стояла посреди комнаты, стараясь не смотреть в
зеркало. Вдруг раздалось три повелительных свистка, звук шел с улицы,
и она задрожала с головы до ног. Снаружи. На улице. Все
происходило снаружи: ее комната была тюрьмой. Ею распоряжались
всюду, на севере, на востоке, на юге, повсюду в этой отравленной
ночи, продырявленной молниями, полной шепотов и шушуканий,
* «У меня был товарищ» (нем.). — Популярная немецкая песня XIX века,
которую позднее часто пели нацисты.
606
Жан Поль Сартр
повсюду, но не здесь, где она оставалась затворницей и где вообще
ничего не происходило. Ее руки и ноги задрожали, она взяла
сумочку, провела расческой по волосам, бесшумно открыла дверь и
выскользнула наружу.
Снаружи. Все снаружи: деревья на набережной, два дома у
моста, которые розовят ночь, застывший галоп Генриха IV над моей
головой: все, что имеет вес. Внутри ничего, даже ни единого дымка;
нет никакого внутри, ничего нет. Я — ничто. «Я свободен», —
подумал Матье, и у него пересохло во рту.
Посреди Нового моста он остановился и засмеялся: «Эту
свободу я искал очень далеко; она была так близко, что я не мог ее видеть,
что я не мог к ней притронуться, она была только мной. Я — моя
свобода». Он надеялся, что однажды будет преисполнен радостью,
пронзенный насквозь молнией. Но не было ни молнии, ни радости:
только это лишение, эта пустота с головокружением перед самим
собой, эта тревога, что его собственная прозрачность навсегда
помешает ему себя увидеть. Матье протянул ладони и медленно
провел ими по камню балюстрады: он был шероховатым,
потрескавшимся, окаменевшей губкой, еще теплой от послеобеденного
солнца. Вот он, огромный и массивный, он заключает в себе
раздавленное молчание, спрессованный мрак, который является внутренним
содержанием вещей. Вот он: полнота. Матье хотел бы зацепиться за
этот камень, расплавиться в нем, наполниться его непрозрачностью,
его покоем. Но он не мог быть Матье в помощь: он был снаружи,
навсегда. Однако ладони Матье были на белой балюстраде, когда
он смотрел на них, они казались из бронзы. Но именно потому, что
он мог на них смотреть, они ему уже не принадлежали, это были
ладони другого, кого-то снаружи, как деревья, как отражения,
которые дрожали в Сене, это были отрезанные ладони. Он закрыл глаза,
и они снова стали его: рядом с теплым камнем был только кислый
и привычный привкус, привкус ничтожного муравья. «Мои ладони:
неощутимая дистанция, которая открывает мне вещи и навсегда
отделяет их от меня. Я — ничто, я ничего не имею. Такой же
неотделимый от мира, как свет, и тем не менее изгнанник, как свет,
скользящий по поверхности камней и воды, и никогда ничто меня
не зацепит и не занесет песком. Снаружи. Снаружи. Вне мира, вне
прошлого, вне самого себя: свобода — это изгнание, и я обречен
быть свободным».
Он сделал несколько шагов, снова остановился, сел на
балюстраду и посмотрел, как течет вода. «А что мне делать со всей этой
ОТСРОЧКА
607
свободой? Что мне делать с собой?» На его будущее поставили
ворох определенных задач: вокзал, поезд на Нанси, казарма, владение
оружием. Но ни это будущее, ни эти задачи ему уже не
принадлежали. Ничего ему уже не принадлежало: война бороздила землю, но
это была не его война. Он был один на этом мосту, один на свете, и
никто не мог отдать ему приказ. «Я свободен ни для чего», — устало
подумал он. Ни одного знака ни в небе, ни на земле, предметы
этого мира были поглощены своей войной, они обращали на восток
многочисленные головы, Матье бежал по поверхности вещей, а они
этого не чувствовали. Забытый. Забытый мостом, который
безразлично нес его, дорогами, которые мчались к границам, этим
городом, который медленно приподнимался, чтобы высмотреть на
горизонте пожар, который его пока не касался. Забытый, безымянный,
совсем один: опоздавший; все мобилизованные уехали позавчера,
ему больше нечего здесь делать. Поеду ли я поездом? Но какое это
имеет значение? Уехать, остаться, бежать: не эти действия поставят
на карту его свободу. И однако, нужно на что-то решаться. Он
обеими руками схватился за камень и склонился над водой. Достаточно
броситься в воду — и вода поглотит его, его свобода обратится
влагой. Покой. Почему бы и нет? Это безвестное самоубийство тоже
будет абсолютом. Законом, выбором, моралью. Единственный,
несравнимый поступок, который на миг осветит мост и Сену.
Достаточно чуть больше наклониться, и он изберет вечность. Он
наклонился, но его руки не отпускали камня, они поддерживали вес его
тела. Но почему бы и нет? У него не было особого повода
утопиться, но также не было особого повода помешать этому. И этот
поступок наличествовал здесь, перед ним, на черной воде, он ему
рисовал его будущее. Все крепления перерезаны, ничто на свете не
могло его удержать: такова ужасная, последняя свобода. Глубоко
внутри он чувствовал биение своего обезумевшего сердца; одно
движение — и его руки разомкнутся, и я убью Матье. Над рекой
тихо поднялось головокружение; небо и мост обрушились, остались
только он и вода; она поднималась до него, она лизала его
свесившиеся ноги. Вода, его будущее. «Теперь это правда, сейчас я покончу
с собой». И вдруг он решил этого не делать. Он решил: «Это будет
только испытанием». Он почувствовал, что стоит на ногах, идет,
скользит по корке мертвого светила. Это будет в следующий раз.
Пока Ивиш бежала по главной улице, до нее донеслись два-три
свистка, потом все стихло, и вот главная улица тоже стала тюрьмой:
здесь ничего не происходило, фасады домов плоские и слепые, все
608
Жан Поль Сартр
ставни закрыты, война была где-то в другом месте. Она на секунду
оперлась на водоразборную колонку; ей было тревожно, и она не
знала, на что надеяться: может быть, на рассвет, на открытые
магазины, на людей, обсуждающих события. Но ничего не было: свет
освещал в крупных городах только политические центры,
посольства и дворцы; она же была заключена в тривиальную ночь. «Все
всегда происходит где-нибудь еще», — подумала она, топнув ногой.
Она услышала шорох, как будто кто-то крался за ней. Ивиш
затаила дыхание и долго прислушивалась; но шум не возобновился. Ей
было холодно, страх сжимал горло, она засомневалась, не лучше ли
вернуться домой? Но она не могла вернуться, ее комната внушала
ей ужас; здесь по крайней мере она шла под всеобщим небом, это
небо объединяло ее с Парижем и Берлином. Она услышала за
спиной продолжительное царапанье, и на сей раз ей хватило смелости
обернуться. Это была всего лишь кошка: Ивиш увидела ее
сверкающие зрачки, кошка пересекла мостовую справа налево, это был
плохой знак. Ивиш пошла дальше, повернула на улицу Тьер и,
запыхавшись, остановилась. «Самолеты!» Они рычали глухо,
вероятно, они были еще очень далеко. Она прислушалась: это шло не с
неба. Можно подумать... «Ну конечно, — раздосадованно подумала
она, — это кто-то храпит». Действительно, это был нотариус Леска,
она узнала вывеску у себя над головой. Он храпел при открытых
окнах, она не удержалась от смеха, затем смех вдруг замер у нее на
губах. «Они все спят. Я одна на улице, я окружена спящими
людьми, никто не принимает меня во внимание.
Повсюду на земле спят или готовят войну в своих кабинетах,
никто не держит в голове мое имя. Но я здесь! — возмущенно
подумала она. — Я здесь, я вижу, чувствую, я существую так же, как
этот Гитлер!»
Через некоторое время она двинулась дальше и дошла до
эспланады. Под Лаоном простиралась угрюмая долина. Местами
встречались фонари, но они ее не успокаивали; Ивиш слишком хорошо
знала, что они освещали: рельсы, деревянные шпалы, булыжники,
брошенные на запасных путях вагоны. В конце долины был Париж.
Она вздохнула: «Если б он горел, на горизонте был бы виден
отсвет». Ветер трепал ее платье, и оно хлопало о колени, но она не
двигалась. «Париж там, еще сияет от света, и это, может быть, его
последняя ночь». В этот самый момент какие-то люди
поднимаются и спускаются по бульвару Сен-Мишель, другие направляются в
ОТСРОЧКА
609
«Дом», некоторые из них, может быть, ее знают и говорят друг с
другом. «Последняя ночь, а я здесь, в этой черной воде, а когда я
попаду туда, то наверняка обнаружу только груду руин и палатки
между камней. Боже мой! — сказала она. — Боже мой! Сделай так,
чтобы я могла его увидеть еще раз». Прямо под ней был вокзал, эта
красноватая полоса внизу лестницы; ночной поезд отправляется в
три часа двадцать минут. «У меня есть сто франков! — мысленно
ликовала она. — У меня в сумочке сто франков».
Она уже бегом спускалась по крутым ступенькам, Филипп
бегом спускался по улице Монмартр, трус, подлый трус, так я трус?!
Что ж, они еще увидят! Он выскочил на площадь; огромный,
темный жужжащий зев открывался по другую сторону мостовой; пахло
капустой и сырым мясом. Он остановился перед решеткой станции
метро, на краю тротуара стояли пустые ящики из-под фруктов; он
увидел у себя под ногами стебли соломы и листы салата,
испачканные грязью; в белом свете кафе справа мелькали чьи-то тени. Ивиш
подошла к кассе:
— Третий класс до Парижа.
— Туда и обратно? — спросил кассир.
— Нет, только туда, — твердо ответила она.
Филипп прочистил горло и во всю мочь закричал:
— Долой войну!
Ничего не произошло, снование теней перед кафе
продолжалось. Тогда он приставил руки ко рту рупором:
— Долой войну!
Собственный голос показался ему громоподобным. Несколько
теней остановились, и он увидел, что к нему идут люди. Их было
довольно много, на большинстве были фуражки. Они небрежно
приближались и с любопытством смотрели на него.
— Долой войну! — крикнул он им.
Они подошли совсем близко; среди них были две женщины и
темноволосый молодой человек приятной наружности. Филипп с
симпатией посмотрел на него и закричал, не сводя с него глаз:
— Долой Даладье! Долой Чемберлена! Да здравствует мир!
Теперь они окружали его, и он почувствовал себя вольготно — в
первый раз за двое суток. Они смотрели на него, поднимая брови от
удивления и молчали. Он хотел им объяснить, что они жертвы
империализма, но у него словно заело: он кричал: «Долой войну!» Это
был победный гимн. Он получил сильный удар в ухо и продолжал
610
Жан Поль Сартр
кричать, потом удар в челюсть и в левый глаз: он упал на колени,
он больше не кричал. Перед ним оказалась какая-то женщина: он
видел ее ноги и туфли без каблуков; она отбивалась и кричала:
— Негодяи! Негодяи! Он же совсем мальчишка, не трогайте
его!
Матье услышал пронзительный голос, кто-то кричал: «Негодяи!
Негодяи! Он же совсем мальчишка, не трогайте его!» Кто-то
отбивался среди десятка типов в фуражках — это была маленькая
женщина, она размахивала руками, волосы падали ей на лицо.
Темноволосый молодой человек со шрамом под ухом грубо тряс ее, а она
кричала:
— Он прав, вы все трусы! Ваше место — на площади Согласия,
на митинге против войны; но вы предпочитаете бить мальчишку, это
не так опасно.
Толстая сводница, стоявшая перед Матье, блестящими глазами
смотрела на эту сцену.
— Разденьте ее догола! — крикнула она.
Матье досадливо отвернулся: подобные спектакли должны
сейчас происходить на каждом перекрестке. Канун войны, канун
оружия: это было красочно, но его это не касалось. Внезапно он решил,
что это его касается. Он кулаком оттолкнул сводню, вошел в круг и
положил руку на плечо брюнета.
— Полиция, — сказал он. — Что случилось?
Брюнет недоверчиво посмотрел на него.
— Да все из-за этого мальчишки. Он кричал: «Долой войну!»
— А ты его ударил? — строго спросил Матье. — Ты что, не мог
позвать полицейского?
— Полицейских нигде не было, господин инспектор, —
вмешалась сводня.
— А ты, сводня, — оборвал ее Матье, — будешь говорить, когда
тебя спросят.
Брюнет приуныл.
— Ему не сделали больно, — сказал он, облизывая ссадины на
пальцах. — Дали тумака для острастки.
— Кто дал? — спросил Матье.
Субъект со шрамом, вздыхая, посмотрел на свои руки.
— Я, — сознался он.
Остальные отступили на шаг; Матье повернулся к ним.
— Вы хотите, чтобы вас записали свидетелями?
Не отвечая, они отступили еще дальше. Сводня уже исчезла.
ОТСРОЧКА
611
— Расходитесь, или я запишу ваши фамилии. Ты останься.
— Значит, — сказал брюнет, — теперь французов бросают в
каталажку, когда они не дают фрицу устраивать провокации?
— Это не твое дело. Сейчас все выясним.
Зеваки рассеялись. Осталось два или три, которые наблюдали
за происходящим с порога кафе. Матье склонился на парнишкой:
его здорово отделали: из разбитой губы текла кровь, левый глаз
совсем заплыл. Правым глазом он пристально смотрел на Матье.
— Это я кричал, — гордо сообщил он.
— Больше ничего не придумал? — сказал Матье. — Можешь
встать?
Паренек с трудом поднялся. Он упал в салат, лист салата
прилип к заду, стебли грязной соломы зацепились за пиджак.
Маленькая женщина ладонью почистила его одежду.
— Вы его знаете? — спросил у нее Матье.
— Н-нет...
Паренек засмеялся.
— Конечно, знает. Это Ирен, секретарша Питто.
Ирен мрачно посмотрела на Матье.
— Вы его не отправите за это в кутузку?
— Разберемся.
Субъект со шрамом потянул его за рукав: у него был смущенный
вид.
— Я зарабатываю на жизнь, господин инспектор, я работаю.
Если я пойду с вами в комиссариат, то опоздаю на работу.
— Документы.
Малый вынул нансеновский паспорт*, его звали Канаро.
Матье засмеялся.
— Родился в Константинополе! Стало быть, ты так любишь
Францию, что готов уничтожить любого, кто на нее нападет?
— Это моя вторая родина, — с достоинством ответил турок.
— Ты, конечно, запишешься добровольцем?
Тот не ответил. Матье записал в блокноте его фамилию и
адрес.
— Мотай отсюда, — сказал он. — Тебя вызовут. А вы идемте со
мной.
Они втроем пошли по улице Монмартр и сделали несколько
шагов. Матье поддерживал паренька — тот шел, покачиваясь. Ирен
спросила:
* Удостоверение личности для беженцев и лиц без гражданства.
612
Жан Поль Сартр
— Скажите, вы его отпустите?
Матье не ответил: они недостаточно удалились от Центрального
рынка. Они шли еще некоторое время, а потом, когда подошли к
фонарю, Ирен стала перед Матье и с ненавистью бросила ему в лицо:
— Гнусный шпик!
Матье рассмеялся: волосы сползли ей на лицо, пряди мешали
ей смотреть, и она скосила глаза, чтобы лучше разглядеть его.
— Я не шпик, — возразил он.
-Нуда!
Она трясла головой, чтобы освободиться от волос. В конце
концов она яростно схватила их и отбросила назад. Открылось ее лицо,
матовое, с большими глазами. Она была очень красива и, похоже,
не слишком удивилась.
— Коли так, вы их всех здорово надули, — заметила она.
Матье не ответил. Эта история его больше не забавляла. Ему
вдруг захотелось прогуляться по улице Монторгей.
— Что ж, — сказал он, — сейчас я посажу вас в такси.
Посередине мостовой стояли две или три машины. Матье
подошел к одной из них, увлекая за собой парнишку. Ирен шла за ними.
Правой рукой она придерживала волосы над лицом.
— Садитесь.
Она покраснела.
— Увы, честно говоря, я потеряла сумочку.
Матье подталкивал паренька в машину: он положил одну руку
ему между лопаток, а другой открывал дверцу.
— Поищите в кармане моего пиджака, — сказал он. — В правом.
Немного погодя Ирен вынула руку из кармана.
— Здесь сто франков и еще мелочь.
— Возьмите себе сто франков.
Последний толчок, и паренек рухнул на сиденье. Ирен села за
ним.
— Ваш адрес? — спросила она.
— У меня его больше нет, — ответил Матье. — До свидания.
— Эй! — крикнула Ирен.
Но он уже повернулся к ним спиной: он хотел еще раз увидеть
улицу Монторгей. Он хотел ее увидеть немедленно. Он шел с
минуту, а затем такси остановилось у тротуара, прямо рядом с Матье.
Дверца открылась, и высунулась женщина, это была Ирен.
— Садитесь, — сказала она ему. — Быстро.
Матье влез в такси.
ОТСРОЧКА
613
— Садитесь на откидное сиденье.
Он сел.
— Что случилось?
— Он совсем потерял голову: говорит, что хочет сдаться
властям; он все время дергает дверцу и хочет выброситься. Мне не
хватает сил, чтобы удержать его.
Паренек забился в угол на сиденье, колени его были выше
головы.
— У него тяга к мученичеству, — пояснила Ирен.
— Сколько ему лет?
— Не знаю, кажется, девятнадцать.
Матье рассматривал длинные худые ноги паренька: он был
ровесником самых старших его учеников.
— Если он так хочет сесть в тюрьму, — сказал он, — вы не
имеете права ему мешать.
— Какой вы странный, — возмутилась Ирен. — Вы не знаете, чем
он рискует.
— Он кого-нибудь укокошил?
— Да нет.
— Что же он сделал?
— Это целая история, — мрачно ответила она. Он заметил, что
она сбила волосы на макушку. Это придавало ей комичный и
упрямый вид, несмотря на красивые усталые губы.
— Как бы то ни было, это его дело. Он свободен.
— Свободен! — повторила она. — А я вам говорю, что он потерял
голову.
При слове «свободен» паренек открыл единственный глаз и что-
то пробормотал, чего Матье не разобрал, затем без предупреждения
бросился на ручку дверцы и попытался ее открыть. В тот же миг
другой автомобиль слегка задел остановившееся такси. Матье
нажал рукой на грудь паренька и отбросил его на сиденье.
— Если б я захотел сдаться властям, — продолжил он,
поворачиваясь к Ирен, — я не хотел бы, чтобы мне мешали.
— Долой войну! — выкрикнул парнишка.
— Да, да, — согласился Матье. — Ты прав.
Он все еще придерживал его на сиденье. Он повернулся к
Ирен:
— Я думаю, он действительно потерял голову.
Шофер опустил стекло.
— Куда едем?
614
Жан Поль Сартр
— Проспект Парк-Монсури, 15, — уверенно сказала Ирен.
Паренек схватил руку Матье, потом, когда такси тронулось, он
уже сидел тихо. Они с минуту молчали; такси катилось по темным
улицам, которых Матье не знал. Время от времени лицо Ирен
выплывало из тени и вскоре снова погружалось в нее.
— Вы бретонка? — спросил Матье.
— Я? Я из Меца. Почему вы меня об этом спрашиваете?
— У вас такая прическа...
— Безобразная, да? Это подруга захотела, чтобы я так
причесывалась.
Она немного помолчала, потом спросила:
— Как получилось, что у вас нет адреса?
— Я переезжаю.
— Да, да... Вы мобилизованы, не так ли?
— Да. Как все.
— Вам хочется воевать?
— Я еще не знаю: я пока не воевал.
— Я — против войны, — сказала Ирен.
— Я заметил.
Ирен заботливо наклонилась к нему:
— Скажите, вы кого-нибудь потеряли?
— Нет. Разве у меня такой вид, будто я кого-то потерял?
— У вас странный вид, — ответила она. — Смотрите! Смотрите!
Паренек украдкой протянул руку и пытался открыть дверцу.
— Будешь ты сидеть спокойно! — прикрикнул Матье,
отбрасывая его в угол. — Ну и осел! — сказал он Ирен.
— Он — сын генерала.
— Да? Что ж, должно быть, он не слишком гордится своим
отцом.
Такси остановилось, Ирен вышла первой, потом нужно было
вытащить парнишку. Он цеплялся за подлокотники и брыкался.
Ирен рассмеялась:
— Он весь из противоречий. Теперь выходить не хочет.
В конце концов Матье взял его в охапку и перенес на тротуар.
-Уф!
— Подождите секунду, — сказала Ирен. — Ключ остался у меня
в сумочке, придется влезть через окно.
Она подошла к двухэтажному домику, одно из окон которого
было приоткрыто. Матье поддерживал юношу одной рукой. Другой
порылся в кармане и протянул деньги шоферу.
ОТСРОЧКА
615
— Сдачи не надо.
— Что это с парнишкой? — весело спросил шофер.
— Он получил по заслугам, — ответил Матье.
Такси тронулось. За спиной Матье открылась дверь, и в
прямоугольнике света появилась Ирен.
— Входите.
Матье вошел, подталкивая паренька — тот больше ничего не
говорил. Ирен закрыла за ним дверь.
— Налево, — сказала она. — Выключатель по правую руку.
Матье на ощупь нашарил выключатель, и брызнул свет. Он
увидел пыльную комнату с раскладушкой, кувшин с водой и тазик
на туалетном столике; под потолком висел на веревке велосипед без
колес.
— Это ваша комната?
— Нет. Это комната друзей.
Он посмотрел на нее и рассмеялся:
— Посмотрите на чулки.
Они были белы от пыли и разорваны на коленках.
— Это я лезла через окно, — беззаботно пояснила она.
Паренек стоял посреди комнаты, он угрожающе качался и
оглядывал все единственным глазом. Матье показал на него, обращаясь
к Ирен.
— Что будем с ним делать?
— Снимите с него туфли и уложите: я его сейчас умою.
Паренек не сопротивлялся: он весь как-то сник. Ирен вернулась
с тазиком и ватой.
— Ну, Филипп, — сказала она, — теперь потерпите.
Она склонилась над ним и стала неловко водить ватным
тампоном по брови. Паренек что-то забормотал.
— Да, — по-матерински говорила она, — щиплет, но ради вашей
же пользы.
Она пошла поставить таз на туалетный столик. Матье встал.
— Ладно, — сказал он. — Что ж, я удаляюсь.
— Нет-нет! — живо возразила она. И тихо добавила:
— Если он захочет уйти, я с ним не справлюсь, чтобы ему
помешать.
— Вы что же, думаете, я буду стеречь его всю ночь?
— Как вы нелюбезны! — раздраженно заметила она.
Потом добавила более примирительно:
— Подождите по крайней мере пока он уснет, это будет скоро.
616
Жан Поль Сартр
Юноша метался по кровати, невнятно бормоча.
— Где он только шатался, что довел себя до подобного
состояния? — удивилась Ирен.
Она была немного толстенькой, с матовой кожей, пожалуй,
слишком нежной и немного влажной, как будто не совсем чистой;
можно было подумать, что она только проснулась. Но голова была
восхитительной: совсем маленький ротик с усталыми углами,
огромные глаза и малюсенькие розовые ушки.
— Что ж, — сказал Матье, — он спит!
— Вы думаете?
Они вздрогнули: паренек вскочил и громко крикнул:
— Флосси! Где мои брюки?!
— Черт! — ругнулся Матье.
Ирен улыбнулась:
— Вам здесь быть до утра.
Но это был полубред, предвестник сна: Филипп упал на спину,
несколько минут бормотал что-то, и почти тотчас же захрапел.
— Пойдемте, — тихо сказала Ирен.
Он проследовал за ней в большую комнату с розовыми
кретоновыми обоями. На стене висели гитара и укулеле*.
— Это моя комната. Я оставлю дверь приоткрытой, чтобы
слышать его.
Матье увидел большую разобранную кровать с балдахином, пуф
и граммофон с пластинками на столе в стиле Генриха II. На кресле-
качалке были брошены в кучу ношеные чулки, женские трусики,
комбинации. Ирен проследила за его взглядом.
— Я отоваривалась на барахолке.
— Это неплохо, — сказал Матье. — Совсем неплохо.
— Садитесь.
— Куда? — спросил Матье.
— Подождите.
На пуфе стоял кораблик в бутылке. Она взяла ее и поставила на
пол, затем освободила кресло-качалку от белья, которое перенесла
на пуф.
— Вот. А я сяду на кровать.
Матье сел и начал раскачиваться.
— Последний раз я сидел в кресле-качалке в Ниме, в холле
отеля дез Арен. Мне было пятнадцать лет.
* Африканский музыкальный инструмент.
ОТСРОЧКА
617
Ирен не ответила. Матье вспомнил большой мрачный холл со
стеклянной дверью, сверкающей от солнца: это воспоминание ему
еще принадлежало; были и другие, интимные и смутные, которые
туманились вокруг. «Я не потерял своего детства». Зрелый возраст,
возраст зрелости, рухнул одним махом, но оставалось теплое
детство: никогда еще оно не было так близко. Он вновь подумал о
маленьком мальчике, лежащем на дюнах Аркашона и взыскующем
свободы, и Матье перестал стыдиться перед этим упрямым
мальчишкой. Он встал.
— Вы уходите? — спросила Ирен.
— Пойду погуляю, — ответил он.
— Вы не хотите ненадолго остаться?
Он поколебался:
— Честно говоря, мне скорее хочется побыть одному. Она
положила ладонь на его руку:
— Вот увидите — со мной будет так, словно вы один.
Он посмотрел на нее: у нее была странная манера говорить,
вялая и глуповатая в своей серьезности; она едва открывала
маленький рот и немного покачивала головой, как бы вынуждая ее ронять
слова.
— Я остаюсь, — сказал он.
Она не проявила никакой радости. Впрочем, ее лицо казалось
маловыразительным. Матье прошелся по комнате, подошел к столу
и взял несколько пластинок. Они были заигранные, некоторые —
надтреснутые, большая часть была без конвертов. Здесь было
несколько джазовых мелодий, попурри Мориса Шевалье, «Концерт
для левой руки» Мориса Равеля и «Квартет» Дебюсси, «Серенада»
Тозелли и «Интернационал» в исполнении русского хора.
— Вы коммунистка? — спросил он ее.
— Нет, — ответила она, — у меня нет убеждений. Я думаю, что
была бы коммунисткой, не будь люди таким дерьмом. — Подумав,
она добавила: — Пожалуй, я пацифистка.
— Забавная вы, — заметил Матье. — Если люди — дерьмо, вам
должно быть все равно, умирают они на войне или как-то иначе.
Она с упрямой серьезностью покачала головой:
— Вовсе нет. Именно потому, что они дерьмо, отвратительно
воевать с их помощью.
Наступило молчание. Матье посмотрел на паутину на потолке
и начал насвистывать.
618
Жан Поль Сартр
— Я ничего не могу предложить вам выпить, — сказала Ирен. —
Разве что вы любите миндальное молоко. На дне бутылки кое-что
осталось.
— Гм! — неопределенно отозвался Матье.
— Да, я так и думала. А, на камине есть сигара, возьмите, если
хотите.
— С удовольствием, — сказал Матье.
Матье встал, взял сигару, которая оказалась пересохшей и
сломанной.
— Можно мне набить ею свою трубку?
— Делайте с ней все, что угодно.
Он снова сел, разминая сигару в пальцах; он чувствовал на себе
взгляд Ирен.
— Устраивайтесь поудобнее, — сказала она. — Если не хотите
разговаривать, молчите.
— Хорошо, — согласился Матье.
Через некоторое время она спросила:
— Вы не хотите спать?
— Нет-нет.
Ему казалось, что он больше никогда не захочет спать.
— Где бы вы сейчас были, если бы не встретили меня?
— На улице Монторгей.
— А что бы вы там делали?
— Гулял бы.
— Вам должно казаться странным, что вы здесь.
-Нет.
— И то правда, — сказала она со смутным упреком, — вас здесь
будто и нет.
Он не ответил: он думал, что она права. Эти четыре стены и эта
женщина на кровати были незначительным случаем, одной из
призрачных фигур ночи. Матье был везде, где простиралась ночь, от
северных границ до Лазурного берега; он составлял одно целое с
ней, он смотрел на Ирен всеми глазами ночи: она была всего лишь
крохотным огоньком во тьме. Пронзительный крик заставил его
вздрогнуть.
— Вот мучение! Пойду посмотрю, что там с ним.
Она на цыпочках вышла, и Матье зажег трубку. Ему расхотелось
идти на улицу Монторгей: улица Монторгей была здесь, она
пересекала комнату: все дороги Франции проходили здесь, здесь
произрастали все травы. Эти четыре перегородки из досок поставили
ОТСРОЧКА
619
где-то. Матье и был где-то. Ирен вернулась и села: она была просто
кто-то. Нет, она не похожа на бретонку. Скорее, маленькая аннамит-
ка из кафе «Дом» — такая же шафранная кожа, невыразительное
лицо и бессильная грация.
— Ничего страшного, — сказала она. — У него кошмары.
Матье мирно попыхивал трубкой.
— Этот парнишка, должно быть, видал виды.
Ирен передернула плечами, и ее лицо резко изменилось.
— Вздор! — возразила она.
— Вы вдруг стали очень жесткой, — заметил Матье.
— Да просто меня раздражает, когда жалеют барчуков вроде
него, это типичные выходки сынков толстосумов.
— Но и при этом он, видимо, несчастен.
— Не смешите меня. Мой отец вышвырнул меня за дверь в
семнадцать лет: мы с ним не слишком ладили, как вы понимаете. Но я
бы не сказала, что была несчастной.
На мгновение Матье различил под ее ухоженной маской
искушенное и жесткое лицо многое испытавшей женщины. Ее
голос, медленный и объемный, тек с каким-то размеренным
возмущением.
— Человек несчастен, — сказала она, — когда ему холодно, или
когда он болен, или когда ему нечего есть. Все остальное —
истерические причуды.
Он засмеялся: она старательно хмурила брови и широко
открывала маленький рот, изрыгая слова. Он ее едва слушал: он ее видел.
Взгляд. Огромный взгляд, пустое небо: она металась в этом взгляде,
как насекомое в свете фонаря.
— Поверьте, — сказала она, — я готова его приютить, ухаживать
за ним, помешать ему делать глупости, но я не хочу, чтобы его
жалели. Потому что я насмотрелась на несчастных! И когда буржуа
претендуют на какое-то особое несчастье...
Она перевела дыхание и внимательно на него посмотрела.
— Правда, вы тоже буржуа.
— Да, — подтвердил Матье. — Я буржуа.
Она меня видит. Ему показалось, что он затвердевал и
стремительно уменьшался. За ее глазами было небо без звезд, у нее тоже
есть взгляд. Она меня видит; как видит стол и укулеле. И для нее я
существую: подвешенная частица во взгляде, буржуа. Это правда,
что я буржуа. И однако, ему не удавалось это почувствовать. Она
все еще смотрела на него.
620
Жан Поль Сартр
— Чем вы занимаетесь? Нет, я угадаю сама. Вы врач?
-Нет.
— Адвокат?
-Нет.
— Вот как! Тогда, может, вы жулик?
— Я преподаватель, — признался Матье.
— Вот оно что! — немного разочарованно сказала она. И живо
добавила: — Впрочем, это не имеет значения.
Она на меня смотрит. Он встал, взял ее за руку чуть ниже локтя.
Мягкая теплая плоть немного углублялась под его пальцами.
— Что с вами?
— Мне захотелось к вам притронуться. В качестве ответа: вы
ведь на меня смотрели.
Она прижалась к нему, и ее взгляд затуманился.
— Вы мне нравитесь, — сказала она.
— Вы мне тоже нравитесь.
— У вас есть жена?
— У меня никого нет.
Он сел на кровати рядом с ней.
— А у вас? Есть кто-нибудь в вашей жизни?
— Есть... некоторые. — Она сокрушенно поежилась. — Я —
доступная, — пояснила она.
Ее взгляд исчез. Осталась китайская куколка, пахнущая
красным деревом.
— Доступная? И что же? — спросил Матье.
Она не ответила. Она обхватила голову руками и с серьезным
видом смотрела в пустоту. «Она часто задумывается», — решил
Матье.
— Если женщина бедно одета, ей приходится быть доступной, —
добавила она, помолчав.
Тут же она с волнением повернулась к Матье.
— Я не вызываю в вас робости?
— Нет, — с сожалением сказал Матье. — Ничуть.
Но у нее был такой отчаянный вид, что Матье ее обнял.
Кафе было безлюдно.
— Сейчас два часа ночи, не так ли? — спросила Ивиш у
официанта.
Он протер глаза рукой и бросил взгляд на часы. Они
показывали половину девятого.
— Может, и так, — буркнул он.
ОТСРОЧКА
621
Ивиш скромно села в углу, натянув юбку на колени. Я якобы
сирота, еду к тетке в предместье Парижа. Она подумала, что у нее
слишком блестят глаза, и опустила волосы на лицо. Но ее сердце
переполнилось почти радостным возбуждением: один час ждать,
одну улицу пересечь — и она впрыгнет в поезд; к шести часам я буду
на Северном вокзале, сначала пойду в «Дом», съем два апельсина,
а оттуда — к Ренате, занять пятьсот франков. Ей хотелось заказать
коньяк, но сироты не пьют спиртного.
— Вы не дадите мне липового отвара? — спросила она жалобным
голоском.
Официант повернулся, он был ужасен, но его нужно было
обольстить. Когда он принес липовый отвар, она бросила на него
нежный испуганный взгляд.
— Спасибо! — вздохнула она.
Он стал перед ней и в замешательстве засопел.
— Куда это вы едете?
— В Париж, — ответила она, — к тетке.
— А вы, случайно, не дочь месье Сергина оттуда, с лесопилки?
Ну и осел!
— Нет-нет, — сказала она. — Мой отец умер в 1918 году. Я
воспитанница приюта.
Он несколько раз покачал головой и удалился: это был
неотесанный болван, мужлан. В Париже у официантов кафе бархатный
взгляд, они верят всему, что им говорят. Скоро я вновь увижу Париж.
Начиная с Северного вокзала, ее будут узнавать: ее ждут. Ее ждут
улицы, витрины, деревья кладбища Монпарнас и... и люди тоже.
Некоторые из тех, что не уехали, как Рената, или те, что вернулись. Я
вновь обрету себя; только там она была Ивиш, между проспектом дю
Мэн и набережными. Мне покажут на карте Чехословакию. «Пусть! —
страстно подумала она. — Пусть бомбят, если хотят, мы умрем вместе,
останется только Борис, и он будет скорбеть о нас».
— Потушите свет.
Он повиновался, комната растворилась в ночи; оставалась
только узкая полоска света между дверью и приоткрытой створкой,
удлиненный глаз, который, казалось, наблюдал за ними.
— Нет, — сказала она за его спиной. — Приоткройте: я хочу его
слышать.
Он вернулся в тишину, снял туфли и брюки. Правый туфель
брякнул об пол.
622
Жан Поль Сартр
— Положите одежду на кресло.
Он положил брюки и пиджак, потом рубашку на кресло-качалку,
которое, заскрипев, качнулось. Он остался посреди комнаты совсем
голый, опустив руки и скрючив большие пальцы ног. Его разбирал
смех.
— Идите.
Он лег на кровати рядом с горячим голым телом; она лежала на
спине, она не пошевелилась, ее руки лежали вдоль боков. Но когда
он поцеловал ее грудь чуть ниже шеи, он почувствовал биение ее
сердца, большие удары деревянного молотка, сотрясавшие ее с ног
до головы. Он долго не шевелился, захваченный этой трепещущей
неподвижностью: он забыл лицо Ирен; он протянул руку и провел
пальцами по слепой плоти. Все равно кто. Недалеко от них
проходили люди, Матье слышал скрип их туфель; люди громко
переговаривались и смеялись.
— Сознайся, Марсель, — говорила какая-то женщина, — если бы
ты был Гитлером, ты мог бы сегодня ночью уснуть?
Они засмеялись, их шаги и смех удалились, и Матье остался
один.
— Если я должна о себе позаботиться, — сказала она
полусонно, — предупредите меня заранее.
— Не думайте об этом, — ответил Матье. — Я не негодяй.
Она промолчала. Он услышал ее сильное размеренное дыхание.
Лужайка, лужайка в ночи; она дышала, как травы, как деревья; он
засомневался: уж не заснула ли она? Но неловкая, полураскрытая
ладонь быстро коснулась его бедра и ляжки: в крайнем случае это
могло сойти за ласку. Он тихо приподнялся и скользнул на нее.
Борис резко отстранился, отбросил простыню и повернулся на
бок. Лола не пошевелилась; она лежала на спине с закрытыми
глазами. Борис съежился, чтобы, насколько возможно, избежать
прикосновения потной простыни и тела. Лола сказала, не открывая
глаз:
— Я начинаю верить, что ты меня любишь.
Он не ответил. В эту ночь через нее он любил всех женщин,
герцогинь и других. Если прежде непреодолимая стыдливость
удерживала его руки на плечах и груди Лолы, то теперь он ласкал ее всю:
он водил повсюду губами; полуобмороки, в которые он обычно
погружался посреди наслаждения и вызывавшие у него ужас, он
теперь с яростью искал, единственное, чего он остерегался, — мыслей.
Теперь он казался себе нечистым и оскверненным, его сердце би-
ОТСРОЧКА
623
лось на разрыв; ему это даже нравилось: в такие минуты нужно
было поменьше думать. Ивиш всегда ему говорила: «Ты слишком
много думаешь», и она была права. Он вдруг увидел, как в уголках
закрытых глаз Лолы блестит немного влага, получалось два
маленьких озерца, уровень которых медленно поднимался с обеих сторон
носа. «Это еще что?» — встрепенулся он. Уже целые сутки у него
тревожно сосало под ложечкой, и у него не было настроения чем-
либо умиляться.
— Дай мне носовой платок, — попросила Лола. — Он под
валиком.
Лола вытерла глаза и открыла их. Она смотрела на него жестко
и недоверчиво. «Что я еще такого сделал?» Но это было вовсе не то,
о чем он думал: она угасающим голосом проговорила:
— Ты уедешь...
— Куда? Ах да... Но это же не сейчас — через год.
— А что такое год?
Она настойчиво смотрела на него; он вынул руку из-под
простыни и опустил челку на глаза.
— Через год война, может быть, уже кончится, — проговорил он
осторожно.
— Кончится? Так я тебе и поверила: все знают, когда война
начнется, но никто не знает, когда она кончится.
Ее белая рука поднялась с простыни; Лола стала ощупывать
лицо Бориса, словно была слепой. Она гладила его висок и щеки,
она обвела контур его ушей, кончиками пальцев ласкала его нос:
ему стало неловко.
— Год — это долго, — с горечью сказал он. — Есть время
подумать.
— Сразу видно, что ты ребенок. Если б ты знал, как быстро
проходит год в моем возрасте.
— А я считаю, это долго, — упрямо повторил Борис.
— Значит, ты хочешь воевать?
— Не в этом дело.
Ему было не так жарко, он повернулся на спину и вытянул ноги,
они натолкнулись на какую-то ткань в изножье кровати, его
пижамные брюки. Глядя в потолок, он объяснил:
— Как бы то ни было, раз я должен участвовать в этой войне, пусть
лучше это будет сразу, чтобы больше к этому не возвращаться.
— Ха! А я? — крикнула Лола.
Она задыхающимся голосом добавила:
624
Жан Поль Сартр
— Для тебя ничего не значит оставить меня, мой маленький
негодяй?
— Но ведь я тебя все равно оставлю.
— Да, но как можно позже! — страстно прошептала она. — Это
меня погубит. Я ведь знаю, что такой, как ты, из лени не будет мне
писать по три дня, а я буду думать, что ты погиб. Ты не знаешь, что
это такое.
— Ты тоже этого не знаешь. Подожди, когда это случится, тогда
и будешь мучиться.
Наступило молчание, потом она сказала хриплым и злобным
голосом, который он не раз уже слышал:
— Во всяком случае, не так трудно кого-то освободить от армии.
Старуха знает о жизни больше, чем ты думаешь.
Он живо повернулся на бок и яростно посмотрел на нее.
— Лола, если ты это сделаешь...
— То что?
— Мы расстанемся навсегда.
Она успокоилась и со странной улыбкой сказала:
— Мне казалось, что война внушает тебе ужас? Ты ведь мне
часто повторял, что ты — за мир.
— Я и теперь за мир.
— Тогда почему?..
— Это не одно и то же.
Она снова закрыла глаза и теперь лежала совсем спокойно, но
у нее было уже другое лицо: две усталые и скорбные морщины
появились в уголках губ. Борис сделал над собой усилие и
заговорил:
— Я против войны, потому что на дух не выношу офицерья, —
примирительно продолжал он. — А простых солдат я очень люблю.
— Но ты будешь офицером. Тебя заставят.
Борис не ответил: это было слишком сложно, он сам терялся.
Он ненавидел офицеров, это факт. Но с другой стороны, раз это его
война, и ему уготована краткая военная карьера, то он должен стать
младшим лейтенантом. «Эх! — подумал он. — Если б я мог уже быть
там и проходить подготовку в учебном взводе помимо своей воли,
то больше не донимал бы себя всем этим». Он резко сказал:
— Я думаю: буду ли я бояться?
— Бояться?
— Это меня беспокоит.
ОТСРОЧКА
625
Он решил, что она не понимает: лучше было бы поговорить с
Матье или даже с Ивиш. Но тут была только она...
— Весь год будем читать в газетах: французы наступают под
ураганным огнем, или что-то в этом роде. А я каждый раз буду
думать: «Выдержу ли я такое?» Или буду спрашивать отпускников:
«Тяжело там?» И они мне ответят: «Очень тяжело», и мне будет
тошно. То-то весело будет!
Она засмеялась и невесело передразнила его:
— Потерпи, скоро узнаешь! Ну и что, глупенький, если ты и
струсишь? Велика беда!
Он подумал: «Стоит ли с ней об этом говорить? Что она
понимает?» Он зевнул и спросил:
— Тушим свет? Я хочу спать.
— Ладно, — согласилась Лола. — Поцелуй меня.
Он поцеловал ее и потушил свет. В эту минуту он ее ненавидел,
он подумал: «Она меня любит только ради себя, иначе она бы
поняла». Они все одинаковые, они делали вид, что слепы: они сделали
из меня боевого петуха, быка-производителя, а теперь залепляют
себе глаза, отец хочет, чтобы я получил диплом, а эта хочет
заставить меня окопаться в тылу, потому что она когда-то спала с каким-
то полковником. Вскоре он почувствовал, как пылающее голое тело
навалилось ему на спину. «Еще целый год это тело всегда будет
рядом со мной. Она пользуется мной», — подумал он и ощутил себя
жестким и непримиримым. Он сдвинулся в пространство между
кроватью и стеной.
— Куда ты? — спросила Лола. — Куда ты? Ты упадешь на пол.
— Мне от тебя жарко.
Она, бормоча, отодвинулась. Один год. Один год сомневаться:
трус ли я; в течение года я буду бояться, что буду бояться. Он
слышал ровное дыхание Лолы, она спала; затем ее тело снова скатилось
на него; она не виновата, посреди матраца была впадина, но Борис
вздрогнул от бешенства и отчаяния: «Она будет давить на меня до
завтрашнего утра. О, мужчины! — подумал он. — Жить вместе с
мужчинами, и у каждого — своя койка». Вдруг у него началось нечто
вроде головокружения, у него были открытые, устремленные в
темноту глаза, и ледяная дрожь пробежала по его потной спине: он вдруг
понял, что решил завтра же записаться добровольцем.
Открылась дверь, в ночной рубашке и косынке на голове
появилась госпожа Бирненшатц.
626
Жан Поль Сартр
— Гюстав! — позвала она, перекрикивая шум
радиоприемника. — Умоляю, иди спать.
— Спи, спи, — сказал Бирненшатц, — не беспокойся обо мне.
— Но я не могу уснуть, если ты не лег.
— Ты же видишь, что я кое-что слушаю! — раздраженно дернул
он плечом.
— Но что? — спросила она. — Почему ты все время крутишь это
проклятое радио? В конце концов соседи начнут жаловаться. Чего
ты ждешь?
Бирненшатц повернулся к ней и сильно схватил ее за локти.
— Держу пари, что все это блеф, — сказал он. — Держу пари, что
ночью будет опровержение.
— Но что? — растерянно переспросила она. — О чем ты
говоришь?
Он сделал ей знак замолчать. У диктора был спокойный и
степенный голос:
«Авторитетные источники в Берлине опровергают все
сообщения, которые появились за границей: прежде всего об ультиматуме,
который якобы был адресован Чехословакии Германией с
последним сроком сегодня в четырнадцать часов, и, кроме того, о так
называемой всеобщей мобилизации, которая должна быть объявлена
после названного срока».
— Слушай! — закричал Бирненшатц. — Слушай!
«Полагают, что эти новости могут только способствовать
панике и военному психозу.
Опровергается также заявление, якобы сделанное министром
Геббельсом иностранной газете об этом же сроке, ибо доктор
Геббельс за последние несколько недель не видел и не принимал ни
одного иностранного журналиста».
Бирненшатц еще немного послушал, но голос умолк. Тогда он
сделал тур вальса с госпожой Бирненшатц, крича:
— Я тебе говорил! Я же тебе говорил, они пошли на попятную,
эти трусы пошли на попятную. Войны не будет, Катрин, войны не
будет, и нацистам крышка!
Свет. Четыре стены вдруг возникли между Матье и ночью. Он
приподнялся на руках и посмотрел на спокойное лицо Ирен: нагота
этого женского тела поднялась до лица, тело забрало его, как
природа забирает заброшенные сады; Матье больше не мог отделить его
от круглых плечей, маленьких острых грудей, это был просто цветок
плоти, мирный и смутный.
ОТСРОЧКА
627
— Вам не было скучно? — спросила она.
— Скучно?
— Некоторые считают меня скучной, потому что я не очень
активна. Однажды один тип так истомился со мной, что утром ушел
и больше не появлялся.
— Я не томился скукой, — сказал Матье.
Она легким пальцем провела по его шее:
— Но знаете, не нужно думать, будто я холодная.
— Знаю, — ответил Матье. — Замолчите.
Он обеими руками взял ее за голову и склонился к ее глазам.
Это были два ледяных озерца, прозрачных и бездонных. Она
смотрит на меня. За этим взглядом тело и лицо исчезли. В глубине
этих глаз — ночь. Девственная ночь. Она впустила меня в свои
глаза; я существую в этой ночи: голый человек. Через несколько
часов я ее покину и тем не менее останусь в ней навсегда. В ней, в
этом безымянном мраке. Он подумал: «А она даже не знает моего
имени». И вдруг он так сильно почувствовал привязанность к ней,
что ему захотелось сказать ей об этом. Но он промолчал; слова
солгали бы; так же, как ею, он дорожил этой комнатой, гитарой на
стене, пареньком, спавшим на раскладушке, этим мгновением, этой
ночью.
Она ему улыбнулась:
— Вы на меня смотрите, но вы меня не видите.
— Я вас вижу.
Она зевнула:
— Я бы хотела немного поспать.
— Спите, — сказал Матье. — Только поставьте будильник на
шесть часов: мне нужно заскочить к себе, перед тем как ехать на
вокзал.
— Вы уезжаете сегодня утром?
— Да, в восемь утра.
— Можно проводить вас на вокзал?
— Если хотите.
— Подождите. Мне нужно встать с постели, чтобы завести
будильник и потушить свет. Но не смотрите, я стесняюсь своего зада,
он слишком толстый и низкий.
Он отвернулся и услышал, как она ходит по комнате, потом она
потушила свет. Укладываясь, она ему сказала:
— Бывает, что я встаю во сне и разгуливаю по комнате. Тогда
дайте мне пощечину — и все пройдет.
628
Жан Поль Сартр
Среда, 28 сентября
Шесть часов утра...
Она очень гордилась собой: всю ночь она не сомкнула глаз и,
однако, не хотела спать. Только сухой ожог в глубине глаз, зуд в
левом глазу, подрагивание век и время от времени дрожь усталости,
пробегающая по спине, от поясницы к затылку. Она приехала в
ужасно пустом поезде, последнее живое существо, которое она
видела, был начальник вокзала в Суассоне, который размахивал
красным флажком. И потом вдруг в холле Восточного вокзала — толпа.
Это была очень разномастная толпа, нашпигованная старухами и
солдатами, но у нее было столько глаз, столько взглядов, и потом,
Ивиш обожала эту непрерывную маленькую бортовую качку, эти
толчки локтями, бедрами, плечами и упорное раскачивание одних
голов за другими; было так приятно не одной претерпевать бремя
войны. Она остановилась у одной из больших внешних дверей и
благоговейно созерцала Страсбургский бульвар: нужно было
наполнить им взгляд и собрать в памяти деревья, закрытые лавки,
автобусы, трамвайные рельсы, открывающиеся кафе и дымный
воздух раннего утра. Даже если они начнут бомбить через пять минут,
через тридцать секунд, они не смогут отобрать у меня это. Она
удостоверилась, что ничего не упустила, даже большую афишу «Дюбо-
дюбон-дюбонне» слева, и вдруг ее охватило легкое исступление:
нужно войти в город прежде, чем там появятся они. Она толкнула
двух бретонок с клетками для птиц, перепрыгнула через порог и
ступила на настоящий парижский тротуар. Ей показалось, что она
вошла в пылающий костер, это было возбуждающе и зловеще. «Все
сгорит: женщины, дети, старики, и я погибну в пламени». Ей не
было страшно: «Все равно я боюсь постареть»; от спешки в горле у
нее пересохло; нельзя терять ни минуты; столько всего нужно еще
раз увидеть — Блошиный рынок, Катакомбы, Менильмонтан и
другое, где она еще не была, как, например, музей Гревен. «Если
только они мне оставят неделю, если только они не придут раньше
следующего вторника, у меня хватит времени на все. Ах! —
страстно подумала она. — Прожить здесь неделю, я буду развлекаться
больше, чем за целый год, я хочу умереть, развлекаясь». Она
подошла к такси:
— Улица Юнгенс, 12
— Садитесь.
ОТСРОЧКА
629
— Поезжайте по бульвару Сен-Мишель, по улице Огюст-Конт,
по улице Вавен, по улице Деламбр, а потом по улице де ля Гетэ и
проспекту дю Мэн.
— Так же длиннее.
— Не важно.
Она села в такси и захлопнула дверцу. Позади она навсегда
оставила Лаон. Никаких Лаонов: мы умрем здесь. «Какая
прекрасная погода! — подумала она. — Какая прекрасная погода! Сегодня
после обеда мы пойдем на улицу Розье и на остров Святого
Людовика».
— Быстрее! Быстрее! — крикнула Ирен. — Идите сюда!
Матье был без пиджака, он причесывался перед зеркалом. Он
положил расческу на стол, сунул под мышку пиджак и вошел в
комнату друзей.
-Что?
Она с несчастным видом показала на раскладушку:
— Он удрал!
— Вот дела! — ахнул Матье. — Вот дела!
Некоторое время он рассматривал разобранную постель,
почесывая голову, а потом расхохотался. Ирен посмотрела на него
серьезно и удивленно, но смех заразил и ее.
— Ловко он нас провел, — сказал Матье.
Он надел пиджак. Ирен все еще смеялась.
— Встретимся в кафе «Дом» в семь часов.
— В семь часов, — повторила она.
Он наклонился и легко поцеловал ее.
Ивиш бегом поднялась по лестнице и, запыхавшись,
остановилась на площадке четвертого этажа. Дверь была приоткрыта. «А
вдруг это консьержка?» Она вошла: все двери были открыты, все
лампы зажжены. В прихожей она увидела большой чемодан: «Он
здесь».
— Матье!
Никто не ответил. Кухня была пустой, но в спальне постель
была разобрана. «Он ночевал здесь». Ивиш вошла в кабинет,
открыла окна и ставни. «Здесь не так уж безобразно, — растроганно
подумала она, — я была к нему несправедлива». Она будет жить
здесь, четыре раза в неделю она будет писать ему; нет, пять раз.
Потом, в один прекрасный день, он прочтет в газетах: «Бомбежка
Парижа» и перестанет получать письма. Она обошла вокруг
письменного стола, прикоснулась к книгам, к пресс-папье в форме краба.
630
Жан Поль Сартр
Около произведения Мартино о Стендале лежала сломанная
сигарета: она взяла ее и положила в сумочку с реликвиями. Затем она
аккуратно села на диван. Через минуту на лестнице послышались
шаги, и ее сердце подпрыгнуло.
Это был Матье. Он на несколько секунд задержался в прихожей,
затем вошел, держа чемодан. Ивиш разомкнула руки, и ее сумочка
упала на пол.
— Ивиш!
Казалось, он не слишком удивился. Он поставил чемодан,
поднял сумочку и отдал ей.
— Вы здесь давно?
Ивиш не ответила; она немного сердилась на него, потому что
уронила сумочку. Он подошел и сел рядом с ней. Она его не видела.
Она видела ковер и носки своих туфель.
— Мне повезло, — радостно сказал он. — Еще час, и вы бы меня
не застали: я еду восьмичасовым поездом в Нанси.
— Как? Вы так сразу уезжаете?
Она замолчала, недовольная собой, ей был противен
собственный голос. У них было так мало времени, и она так хотела бы быть
простой, но не могла пересилить себя: когда она долго не видела
людей, она не умела снова быть с ними запросто, ее охватывало
ватное оцепенение, сходное с недовольством. Ивиш старательно
прятала от него лицо, но все же выдала свое волнение. Оттого, что
она на него не смотрела, она казалась себе еще бесстыдней. Две руки
потянулись к чемодану, открыли его, взяли оттуда будильник и
завели его. Матье встал и поставил будильник на стол. Ивиш робко
подняла глаза и увидела его, совсем черного против света. Матье
снова сел; он продолжал молчать, но Ивиш обрела немного
смелости. Он смотрел на нее; она знала, что он смотрит на нее. Три
месяца никто не смотрел на нее так, как он сейчас. Она казалась себе
драгоценной и хрупкой; маленький молчаливый божок; это было
приятно, раздражающе и слегка болезненно. Вдруг она услышала
тиканье будильника и вспомнила, что он скоро уедет. «Не хочу быть
хрупкой, не хочу быть божком». С немалым усилием ей удалось
повернуться к нему. У него был совсем не тот взгляд, которого она
ожидала.
— Вот и вы, Ивиш. Вот и вы.
Казалось, он не думал, что говорит. Она ему все же улыбнулась,
но тут же заледенела с ног до головы. Он не ответил на ее улыбку;
он медленно проговорил:
ОТСРОЧКА
631
— Это вы...
Он с удивлением рассматривал ее.
— Как вы приехали? — спросил он более оживленно.
— Поездом.
Она свела кисти рук и сильно сжимала их, чтобы хрустнуть
пальцами.
— Я хотел спросить: ваши родители в курсе?
-Нет.
— Вы убежали?
— Почти.
— Да, — сказал он. — Да. Что ж, прекрасно: будете жить здесь. —
Он с интересом добавил:
— Вы скучали в Лаоне?
Она не ответила: голос падал ей на затылок, как нож гильотины,
холодный и бесстрастный.
— Бедная Ивиш!
Она начала беспорядочно теребить волосы. Он заговорил снова:
— Борис в Биаррице?
-Да.
Борис ощупью встал, дрожа, надел брюки и куртку, бросил
взгляд на Лолу, спавшую с открытым ртом, бесшумно отпер дверь
и вышел в коридор с туфлями в руках.
Ивиш бросила взгляд на будильник и увидела, что уже двадцать
минут седьмого. Она жалобным голосом спросила:
— Который час?
— Двадцать минут седьмого, — ответил он. — Подождите: я
сейчас брошу кое-что в рюкзак, это быстро; потом я буду совершенно
свободен.
Он стал на колени у чемодана. Она инертно смотрела на него.
Она больше не чувствовала своего тела, но тиканье будильника
разрывало ей уши. Вскоре Матье встал:
— Все готово.
Он стоял перед ней. Она видела его брюки, немного потертые
на коленях.
— Слушайте хорошенько, Ивиш, — мягко начал он. — Мы будем
говорить о серьезном: квартира — ваша; ключ висит на гвозде рядом
с дверью, вы будете жить здесь до конца войны. С жалованьем я все
уладил: я дал доверенность Жаку, он его будет получать и отсылать
вам каждый месяц. Время от времени нужно будет оплачивать
мелкие счета: за квартиру, наверно, налоги — хотя, возможно, солдат от
632
Жан Поль Сартр
них освобождают, — и потом, иногда будете посылать мне посылки.
Что останется — ваше, думаю, вам хватит.
Она в оцепенении слушала этот ровный и монотонный голос,
похожий на голос диктора. Как он смеет быть таким нудным? Она
не очень хорошо понимала, что он говорит, но четко представляла
себе лицо, которое у него должно быть: полуулыбка, тяжелые веки,
благопристойная степенность.
Она посмотрела на него, чтобы еще больше его возненавидеть,
и ее ненависть угасла: его лицо не соответствовало голосу. Он
страдает? Но нет, он не казался несчастным. Такого выражения лица она
у него никогда не видела, вот и все.
— Вы меня слушаете, Ивиш? — улыбаясь, спросил он.
— Конечно, — ответила она. Она встала. — Матье, покажите мне
на карте Чехословакию.
— Но у меня нет карты, — сказал он. — Ах да! Кажется, у меня
есть старый атлас.
Он взял альбом в картонной обложке из книжного шкафа,
положил его на стол, перелистал и открыл на странице «Центральная
Европа». Цвета были убийственно скучными: только бежевое и
фиолетовое. Голубого не было: ни моря, ни океана. Ивиш
внимательно смотрела на карту, но так и не обнаружила Чехословакии.
— Он выпущен до четырнадцатого года, — пояснил Матье.
— А до четырнадцатого года Чехословакии не было?
-Нет.
Он взял ручку и посреди карты прочертил неправильную и
замкнутую кривую линию.
— Приблизительно так, — сказал он.
Ивиш посмотрела на это широкое пространство земли без воды,
с грустными красками, на эту линию черных чернил, такую
неуместную, такую некрасивую рядом с печатными буквами, она
прочла слово «Богемия» внутри кривой линии и сказала:
— Ах! Вот это! Вот это Чехословакия...
Все ей показалось тщетным, и она зарыдала.
— Ивиш! — сказал Матье.
Она внезапно очутилась на диване; она полулежала, а Матье
обнимал ее. Сначала она напряглась: «Я не хочу его жалости, я
смешна», но через несколько минут она расслабилась, не было
больше ни войны, ни Чехословакии, ни Матье; только эти мягкие и
горячие руки на ее плечах.
— Вы сегодня ночью спали? — спросил он.
ОТСРОЧКА
633
— Нет... — сквозь рыдания ответила она.
— Бедная маленькая Ивиш! Подождите.
Он встал и вышел; она слышала, как он расхаживает по соседней
комнате. Когда он вернулся, он снова обрел тот наивный и
безмятежный вид, который ей так нравился.
— Я там постелил чистые простыни, — сказал он, садясь рядом
с ней. — Постель готова, вы сможете лечь, как только я уйду.
Она посмотрела на него:
— Я... разве я вас не провожу на вокзал?
— Я считал, что вы не любите прощания на перроне.
— Да, — примирительно сказала она, — но ради такого случая...
Но он покачал головой:
— Я предпочитаю уйти один. И потом, вам нужно поспать.
— Ах! — вздохнула она. — Ах! Ладно.
Она подумала: «Как я была глупа!» Она вдруг похолодела и
оцепенела. Она энергично затрясла головой, вытерла глаза и
улыбнулась.
— Вы правы, я слишком взвинчена. Это усталость: я буду
отдыхать.
Он взял ее за руку и поднял:
— А теперь я введу вас в права собственника.
В спальне он остановился у шкафа.
— Здесь — шесть пар простыней, наволочки и одеяла. Где-то есть
еще и перина, но я не помню, куда я ее положил, консьержка вам
скажет.
Он открыл шкаф и посмотрел на стопки белого белья. Он
засмеялся, у него был недобрый вид.
— Что случилось? — вежливо спросила Ивиш.
— Все это было моим. Забавно.
Он повернулся к ней.
— Я вам также покажу кладовую. Пошли.
Они вошли в кухню, и он показал ей на стенной шкаф.
— Это здесь. Остается растительное масло, соль и перец, и еще
вот банки с консервами. — Он поднимал одну за другой
цилиндрические банки на уровень глаз и крутил их перед лампой. — Это
семга, это рагу, вот три банки кислой капусты. Вы поставите это на
водяную баню... — Он остановился, снова зло засмеялся. Но ничего
не добавил, посмотрел на банку зеленого горошка мертвыми
глазами и поставил ее в шкаф.
634
Жан Поль Сартр
— Осторожно с газом, Ивиш. Каждый вечер перед сном нужно
опускать рукоятку счетчика.
Они вернулись в кабинет.
— Кстати, — сказал он, — уходя, я предупрежу консьержку, что
я вам оставляю квартиру. Завтра она пришлет вам мадам Кит — она
здесь делает уборку. Она приятная.
— Кит, — удивилась Ивиш, — какое смешное имя.
Она засмеялась, и Матье улыбнулся.
— Жак вернется не раньше начала октября, — продолжал он. —
Мне нужно дать вам немного денег, чтобы вы могли его дождаться.
У него в бумажнике была тысяча франков и две купюры по сто
франков. Он взял тысячефранковую купюру и отдал ей.
— Большое спасибо, — сказала Ивиш.
Она взяла ее и зажала в руке.
— В случае чего зовите Жака. Я напишу ему, что поручаю ему
вас.
— Спасибо, — повторяла Ивиш. — Спасибо. Спасибо.
— Вы знаете его адрес?
— Да, да. Спасибо.
— До свидания. — Он подошел к ней. — До свидания, дорогая
Ивиш. Как только у меня будет адрес, я вам напишу.
Он взял ее за плечи и привлек к себе.
— Моя дорогая маленькая Ивиш.
Она послушно подставила ему лоб, и он поцеловал ее. Затем он
пожал ей руку и вышел. Она услышала, как в прихожей хлопнула
дверь; тогда она разгладила тысячефранковую купюру, рассмотрела
виньетки, а потом разорвала банкнот на восемь кусочков и бросила
их на ковер.
Старый рыжебородый солдат колониальных войск, положив
руку на плечо рекрута, другой показывал ему на африканский берег.
«Вербуйтесь и перевербовывайтесь в колониальную армию». У
молодого рекрута был абсолютно дурацкий вид. Очевидно, нужно
будет пройти и через это: полгода у Бориса будет вид олуха.
Положим, три месяца: год войны считается за два. «Мне обстригут
чуб, — подумал он, стиснув зубы. — Сволочи!» Никогда еще он не
чувствовал в себе такой ненависти к войне и военным. Он прошел
мимо неподвижного часового в постовой будке. Он исподтишка
бросил на него взгляд, и вдруг мужество ему изменило.
«Дерьмо!» — подумал он. Но он решился, он весь был охвачен злой
решимостью, тем не менее в казарму он вошел на ватных ногах. Небо
ОТСРОЧКА
635
сияло, совсем легкий ветерок доносил до этих удаленных
предместий запах моря. «Какая жалость, — подумал Борис, — какая
жалость, что такая хорошая погода». У двери комиссариата
прохаживался полицейский. Филипп смотрел на него; ему стало очень
одиноко и холодно; щека и верхняя губа болели. Это будет
мученичество без славы. Без славы и без радости: камера, и потом,
однажды утром, виселица в глубине Венсеннской башни; никто этого не
узнает; они все его отвергли.
— Где комиссар полиции? — спросил он.
Полицейский посмотрел на него:
— На втором этаже.
Я буду своим собственным свидетелем, я держу ответ только
перед собой.
— Где бюро по добровольному вступлению на военную службу?
Два солдата переглянулись, и Борис почувствовал, как
вспыхнули его щеки: «Хорошая у меня физиономия», — подумал он.
— Дом в глубине двора, первая дверь налево.
Борис сделал небрежное приветствие двумя пальцами и
твердым шагом пересек двор; но он думал: «У меня идиотский вид», и
его это сильно удручало. «Они, должно быть, потешаются, —
подумал он. — Явился сюда голубчик сам собой, без принуждения —
то-то для них потеха». Филипп стоял при полном свете, смотрел в
глаза маленькому господину с орденами, с квадратной челюстью и
думал о Раскольникове.
— Вы комиссар?
— Я его секретарь, — ответил господин.
Филипп говорил с трудом из-за распухшей губы, но голос его
был ясным. Он сделал шаг вперед.
— Я дезертир, — твердо произнес он. — И я пользуюсь
фальшивыми документами.
Секретарь внимательно разглядывал его.
— Садитесь, — вежливо предложил он.
Такси ехало к Восточному вокзалу.
— Вы опаздываете, — сказала Ирен.
— Нет, — ответил Матье. — Впритык успеем.
В качестве объяснения он добавил:
— Меня задержала одна девушка.
— Какая девушка?
— Она приехала из Лаона повидать меня.
— Она вас любит?
636
Жан Поль Сартр
— Да нет.
— А вы ее любите?
— Нет: просто я ей уступаю свою квартиру.
— Она хорошая девушка?
— Нет, — сказал Матье. — Она не хорошая девушка. Но и не
слишком плохая.
Они замолчали. Такси ехало мимо Центрального рынка.
— Здесь, здесь! — вдруг воскликнула Ирен. — Это было здесь.
-Да.
— Это было вчера. Надо же! Как давно...
Она откинулась в глубь такси, чтобы смотреть через слюду.
— Конечно, — сказала она, снова усаживаясь прямо.
Матье не ответил: он думал о Нанси — он там ни разу не был.
— Вы не слишком разговорчивы, — заметила Ирен. — Но мне с
вами не скучно.
— Я слишком много разговаривал раньше, — усмехнулся Матье.
Он повернулся к ней:
— Что вы будете сегодня делать?
— Ничего, — ответила Ирен. — Я никогда ничего не делаю: мой
старик всем меня обеспечивает.
Такси остановилось. Они вышли, и Матье расплатился.
— Не люблю вокзалы, — призналась Ирен. — Они какие-то
зловещие.
Вдруг она просунула ладонь ему под руку. Молчаливая и такая
свойская, Ирен шла рядом с ним: ему казалось, что он знает ее уже
лет десять.
— Мне нужно взять билет.
Они прошли сквозь толпу. Это была гражданская толпа,
медлительная и молчаливая, в ней было несколько солдат.
— Вы знаете Нанси?
— Нет, — ответил Матье.
— А я знаю. Скажите, куда вы едете.
— В авиационную казарму Эссе-лес-Нанси.
— Я знаю, где это, — сказала ока. — Знаю.
Мужчины с рюкзаками стояли в очереди у кассы.
— Хотите, я куплю вам газету, пока вы будете стоять в очереди?
— Нет. Останьтесь рядом со мной.
Она с довольным видом улыбнулась ему. Шаг за шагом они
продвигались.
ОТСРОЧКА
637
— До Эссе-лес-Нанси, пожалуйста.
Он протянул свое военное удостоверение, и кассир выдал ему
билет. Он повернулся к Ирен:
— Проводите меня до двери. Но, если можно, не выходите на
перрон.
Они сделали несколько шагов и остановились.
— Тогда прощайте, — сказала она.
— Прощайте, — сказал Матье.
— Все длилось только одну ночь.
— Да, одну ночь. Но вы будете моим единственным
воспоминанием о Париже.
Он поцеловал ее. Она у него спросила:
— Вы будете мне писать?
— Не знаю, — ответил Матье.
Он молча посмотрел на нее и зашагал прочь.
— Эй! — крикнула она ему.
Он обернулся. Она улыбалась, но губы ее слегка дрожали.
— Я даже не знаю, как вас зовут.
— Матье Деларю.
— Войдите.
Он сидел в пижаме на своей кровати, как всегда хорошо
причесанный, как всегда красивый, она подумала, не надевает ли он на ночь
сетку для волос. В комнате пахло одеколоном. Он с растерянным
видом поглядел на нее, взял с ночного столика очки и надел их.
— Ивиш, это вы?
— Да, это я! — простодушно ответила она.
Она села на край кровати и улыбнулась ему. Поезд на Нанси
отправлялся с Восточного вокзала; в Берлине, возможно, только что
взлетели бомбардировщики. «Я хочу развлекаться! Я хочу
развлекаться!» Она осмотрелась: гостиничный номер, безобразный и
богатый. Бомба пробьет крышу и пол седьмого этажа: именно здесь я
и умру.
— Я не думал, что снова вас увижу, — с достоинством произнес он.
— Почему? Потому что вы вели себя как хам?
— Мы просто выпили, — оправдывался он.
— Я выпила, потому что узнала, что провалилась на экзамене.
Но вы не пили: вы хотели увести меня в свою комнату; вы меня
подстерегали.
Он совсем растерялся.
— Что ж, я здесь, в вашей комнате, — сказала она. — Что дальше?
638
Жан Поль Сартр
Он сделался пунцовым.
— Ивиш!
Она рассмеялась ему в лицо:
— А вы не такой уж противный.
Наступило долгое молчание, затем неловкая рука слегка
коснулась ее талии. Бомбардировщики уже пересекли границу. Она
смеялась до слез: «Во всяком случае, не умру девственницей».
— Это место свободно?
— Ага! — буркнул толстый старик.
Матье положил рюкзак на сетку и сел. Купе было набито
битком; Матье попытался разглядеть своих спутников, но было еще
темно. Через минуту был резкий толчок, и поезд тронулся. Матье
вздрогнул от радости: кончено. Завтра — Нанси, война, страх, быть
может, смерть, свобода. «Посмотрим, — сказал он. — Посмотрим».
Он полез в карман, чтобы взять трубку, и его пальцы наткнулись на
конверт: это было письмо Даниеля. Ему захотелось положить его
обратно в карман, но нечто вроде деликатности помешало ему: все
же нужно его прочесть. Он набил трубку, зажег ее, разорвал конверт
и вынул из него семь листов, покрытых ровным убористым
почерком, без помарок. «Он его писал с черновиком. Какое оно
длинное», — с тоской подумал Матье. К счастью, поезд вышел из
вокзала, и в купе посветлело. Он прочел:
«Дорогой Матье!
Хорошо себе представляю твое изумление, каковое лишний раз
подчеркивает всю неуместность этой моей эпистолы. В сущности,
я сам толком не знаю, почему обращаюсь именно к тебе: видимо,
склон покаяния, как и склон грехопадения, достаточно скользок и
влекущ. Когда в июне я приоткрыл тебе некий живописный аспект
своей натуры, я тем самым избрал тебя своим пожизненным
поверенным. Мне стоит об этом пожалеть, ибо, пропуская через тебя все
события своей жизни, я передавал бы тебе активную ненависть, что
для меня было бы тягостно, а для тебя — пагубно. Ты, по-видимому,
считаешь, что я пишу тебе об этом с неким ироническим смешком.
Не сочти это экстравагантным, но легкость моих литер отягощена
свинцом, так что смешливость дарована мне как особое
благодеяние. Но оставим эти выспренности, ибо я не намереваюсь
живописать тебе всевозможные обыденности своего существования, но
события чрезвычайные, а оные приобретут вкус реальности только
в том случае, если будут существовать для других не меньше, чем
ОТСРОЧКА
639
для меня самого. Дело не в том, что я чрезмерно рассчитываю на
твое доверие или даже чистосердечие. Увы, если даже я и попрошу
тебя отрешиться от твоего излюбленного скептицизма, каковой уже
более десяти лет кормит тебя и поит, ты, несомненно, пренебрежешь
моей просьбой. Но как знать, возможно, я выбрал из всех своих
друзей именно тебя, человека, в наименьшей степени способного
понять меня, поелику рассчитываю на точность твоего
экспериментального анализа. Не подумай, что я вынуждаю тебя к ответу — к
плоским рацеям и взыванию к здравому смыслу. Все это я всегда
был вполне способен адресовать себе сам, как ты знаешь. Но
признаюсь тебе: когда я думаю о здравом смысле и всяком
позитивистском вздоре, легкая манна небесная в виде смеха тут же снисходит
на меня. Не пиши мне еще и потому, что едва Марсель обнаружит
в почтовом ящике твое письмо, она вообразит нашу подпольную
переписку и, зная тебя, заподозрит, что ты великодушно
предлагаешь мне в моем супружеском дебюте свои услуги. Зато твое
молчание может мне сослужить добрую службу: если я смогу представить
себе твою «чудовищную улыбку» без волнения и постичь скрытую
иронию, с которой ты будешь рассматривать мой «случай», все же
не похерив мой особый опыт, во мне в конце концов окрепнет
уверенность, что я на верном пути. Чтобы избежать возможных
недоразумений, а также из-за психологического характера проблемы, я
совершенно сознательно на этот раз обращаюсь к
профессиональному философу, а посему перевожу свое повествование в план
метафизический. Разумеется, ты сочтешь, что мои претензии
непомерны, так как я не читал ни Гегеля, ни Шопенгауэра; но не
придирайся, я в любом случае не смог бы определить строго
философскими категориями все нынешние движения моего духа, но я
охотно предоставляю эту заботу тебе, ибо это твое ремесло, я же
буду жить на ощупь, вслепую, нимало не считаясь с вами,
избранными прозорливцами. Однако я не думаю, что ты так легко
уступишь: этот внезапный смех, эти тайные тревоги, эти молниеносные
инстинктивные озарения ты, вероятно, и увы — ошибочно отнесешь
к психологическим «состояниям» и своеобычности моей натуры,
опираясь при этом на признания, которые я допустил в разговоре с
тобой. Впрочем, меня это мало волнует: что сказано, то сказано, и
ты волен использовать мои признания по собственному
усмотрению, даже если ход твоих мыслей приведет тебя к глубочайшим
заблуждениям на мой счет. Я даже признаюсь тебе, что с тайным
удовольствием дам тебе все необходимые сведения для восстанов-
640
Жан Поль Сартр
ления истины, хорошо зная, что и вместе с ними ты сознательно
попадешь в объятия лжи.
Но перейдем к фактам. Тут смех понуждает меня выронить перо
из рук. А может, и слезы умиления. Дрожа, приступаю к материи,
каковой до сих пор не касался как из стыдливости, так и из
самоуважения. Однако час настал, сейчас я озвучу эти сакраментальные
слова и обращу их именно к тебе, с тем чтобы они, оставшись на
этих голубых листках, дали тебе возможность повеселиться и лет
через десять. Уверен, что я тем самым совершу святотатство против
себя самого, что само по себе непростительно, но одновременно
предам осмеянию и то, что люблю более всего — ибо святотатство
вызывает смех. И все же оно никогда не станет мне по-настоящему
дорого, если я хоть единожды не посмеюсь над ним. Знаю, что
заставлю тебя посмеяться над моей новой верой. Я ношу в себе
смиренную уверенность, которая удивит тебя своей необъятностью и
все же окажется целиком у тебя в руках; она поразит тебя тем, что
способна меня сокрушить, это и будет основой твоей обиды. Знай
же, если ты веселишься, читая это письмо, что я тебя опередил: я
смеюсь, Матье, я смеюсь; Бог создал человека, превосходящего всех
людей и, однако же, осмеиваемого всеми, висящего на кресте, с
открытым ртом, позеленевшего, немого как рыба, перед
насмешками — что может быть смешнее! Но как ты ни будешь тщиться,
сладчайшие слезы смеха не потекут по твоим щекам.
Посмотрим же, что могут сделать слова. Поймешь ли ты меня,
если я тебе скажу, что я никогда не знал, что я такое? Мои пороки,
мои добродетели — я выше их, я не могу их ни увидеть, ни
достаточно отойти в сторону, чтобы рассмотреть себя целиком. И потом,
у меня неописуемое чувство, что я мягкая и зыбкая субстанция, в
которой увязают слова; едва я попытался себя определить, как уже
тот, кто был определен, смешался с тем, кто определяет, и все снова
подвергнуто вопросу. Я часто желал ненавидеть себя, ты знаешь, что
у меня были для того веские причины. Но эта ненависть, как
только я ее испытывал на себе, тонула в моей непрочности, это было уже
всего лишь воспоминание. Я также не мог себя любить, я в этом
уверен, хотя и не пытался. Но для этого всегда нужно, чтобы я был:
я же ощущал себя своей собственной ношей. Недостаточно
тяжелой, Матье, всегда недостаточно тяжелой. В какой-то миг, тем
июньским вечером, когда мне заблагорассудилось исповедаться
тебе, я подумал, что коснулся себя в твоих растерянных глазах. Ты
меня видел, в твоих глазах я был прочным и предусматриваемым;
ОТСРОЧКА
641
мои поступки и мои настроения были только следствиями
постоянной сущности. Эту сущность ты узнал через меня, я тебе ее
описал словами, я тебе открыл факты, которых ты не знал и которые
тебе позволили ее заметить. Однако ее видел ты, а я видел только,
что ты ее видишь. На мгновение ты был посредником между мной
и моей оболочкой, самым драгоценным в мире существом в моих
глазах, потому что то прочное и плотное существо, которым я был,
вернее, которым я хотел быть, ты так просто чувствовал, так
обыкновенно, как чувствовал себя я. Ибо я все же существую, я есмь,
даже если сам в этом сомневаюсь; и это редкая пытка — находить в
себе такую уверенность без малейшего основания, такую
беспредметную гордыню. Я тогда понял, что можно добраться до себя
только через суд другого, через ненависть другого. Может быть,
также и через любовь другого; но речь здесь не об этом. За это
открытие я сохранил к тебе смешанную благодарность. Я не знаю,
каким именем ты сегодня называешь наши отношения. Это не была
дружба, но и не совсем ненависть. Скажем, что между нами был
труп. Мой труп.
Я был еще в этом расположении духа, когда уехал с Марсель в
Совтерр. Я то хотел соединиться с тобой, то мечтал тебя убить. Но
в один прекрасный день я заметил взаимность наших отношений.
Чем бы ты был без меня, если не той же непрочностью, каковой я
сам для себя являюсь? Ведь благодаря моему посредничеству ты
мог иногда — не без некоторого раздражения — угадать себя таким,
каков ты есть: куцый рационалист, с виду очень уверенный, а в
глубине души очень неуверенный, полный доброй воли для всего,
что, естественно, находится в ведении твоего разума, слепой и
лживый для всего остального; резонёр из осторожности,
сентиментальный из склонности, почти без чувственности; короче,
осмотрительный умеренный интеллектуал, сладкий плод наших средних
классов. Если я и вправду не могу добраться до себя без твоего
посредничества, то мое тебе необходимо, чтобы познать себя. Я увидел нас
тогда, как мы подпираем наши два небытия, и в первый раз я
засмеялся тем глубоким и удовлетворенным смехом, который
сжигает все; потом я вновь погрузился в подобие черного безразличия,
тем более что жертва, которую я принес тогда же, в июне, и которая
мне тогда показалась болезненным искуплением, проявила себя так
чудовищно переносимой. Но здесь я должен замолчать: я не могу
говорить о Марсель без смеха, и из заботы о приличии, которую ты
оценишь, я не хочу смеяться над ней вместе с тобой. И вот тогда мне
642
Жан Поль Сартр
выпал невероятнейший и самый безумный шанс. Бог меня видит,
Матье, я это чувствую, я это знаю. Итак: все в одночасье сказано;
что я хотел бы быть рядом с тобой и черпать более сильную
уверенность, если это возможно, в спектакле плотного смеха, который
долго будет сотрясать тебя.
Теперь достаточно. Мы оба довольно посмеялись друг над
другом: я продолжаю свой рассказ. Ты, безусловно, испытывал в метро,
в театральном фойе, в вагоне внезапное и непереносимое
впечатление, что сзади за тобой кто-то следит. Ты оборачиваешься, но
любопытный уже погрузил нос в книгу; тебе не удается узнать, кто
за тобой наблюдает. Ты возвращаешься в прежнее положение, но
ты знаешь, что незнакомец поднял глаза, ты это чувствуешь по
легким мурашкам на спине, сравнимым с сильным и быстрым
сжатием всех твоих тканей. Так вот, это я почувствовал в первый раз
26 сентября в три часа дня в парке отеля. И никого вокруг не было,
слышишь, Матье, никого. Но взгляд — был. Пойми меня
правильно: я не ухватил его, как ловят на проходе профиль, лоб, глаза, так
как его отличительная черта — быть неуловимым. Я только сжался,
собрался, я был одновременно пронзен насквозь и непроницаем, я
существовал в присутствии взгляда. С тех пор я всегда был в
присутствии свидетеля. В присутствии свидетеля — даже у себя в
запертой комнате: иногда от сознания, что я пронзен этим мечом, что
сплю перед свидетелем, я просыпался и вскакивал. Словом, я
почти полностью потерял сон. Да! Матье, какое открытие: меня
видели, я суетился, чтобы познать себя, я считал, что обрушиваюсь по
всем краям, я требовал твоего благожелательного посредничества,
а в это время меня видели, взгляд был здесь, невозмутимая,
невидимая сталь. И тебя тоже, недоверчивый насмешник, тебя тоже
видят. Но ты этого не знаешь. Сказать тебе, что такое этот взгляд,
мне будет очень легко, ибо это — ничто; это — отсутствие;
представь себе самую темную ночь. И ночь на тебя смотрит. Но
ослепительная ночь; ночь, полная света; тайная ночь дня. Я облит черным
светом; он везде, на моих руках, на моих глазах, в моем сердце, и я
его не вижу. Поверь, что постоянное насилие мне сначала было
отвратительно: ты знаешь, что моей старой мечтой было стать
невидимым; я сто раз желал не оставлять никакого следа ни на земле,
ни в сердцах. Какая мука — обнаружить вдруг этот взгляд как
всеокружающую среду, откуда я не могу убежать. Но также и какой
покой! Я наконец знаю, что существую. Я преобразую для своего
пользования и к твоему величайшему негодованию глупое и пре-
ОТСРОЧКА
643
ступное высказывание вашего пророка — «Я мыслю,
следовательно, существую», которое заставило меня столько страдать, так как
чем больше я мыслил, тем меньше казался себе существующим, и
я говорю: меня видят, следовательно, я существую. Я не могу
больше выносить ответственности за свое вязкое течение: тот, кто меня
видит, заставляет меня существовать; я таков, каким он меня видит.
Я обращаю к ночи мое ночное и вечное лицо, я встаю, как вызов, я
говорю Богу: вот я. Вот я такой, каким вы меня видите, такой,
какой я есть. Что я могу поделать: вы меня знаете, а я себя не знаю.
Что мне делать, если не терпеть себя? И вы, чей взгляд вечно
следит за мной, терпите меня. Матье, какая радость, какая пытка! Я
наконец изменился внутри самого себя. Меня ненавидят, меня
презирают, меня терпят, некое присутствие меня поддерживает —
всегда и навсегда. Я бесконечен и бесконечно виновен. Но я существую,
Матье, я существую. Перед Богом и перед людьми я существую. Се
человек.
Я пошел повидать кюре из Совтерра. Это образованный и
хитрый крестьянин с подвижным и потрепанным лицом старого актера.
Он мне совсем не нравится, но я вполне доволен, что первый
контакт с церковью произошел через его посредничество. Он принял
меня в кабинете, украшенном множеством книг, которые он, конечно
же, прочел не все. Сначала я дал ему тысячу франков для бедных, и
я увидел, что он принимает меня за кающегося преступника. Я
почувствовал, что вот-вот расхохочусь, и должен был представить себе
весь трагизм своего положения, чтобы сохранить серьезный вид.
— Господин кюре, — сказал я ему, — я желаю только справку:
ваша религия учит, что Бог нас видит?
— Он нас видит, — удивленно ответил он. — Он читает в наших
сердцах.
— Но что он там видит? — спросил я. — Видит ли он этот мох,
эту пену, из которых сделаны мои повседневные мысли, или же его
взгляд достигает нашей вечной сущности?
И старый хитрец дал тот ответ, в котором я признал вековую
мудрость:
— Месье, Бог видит все.
Я понял, что...»
Матье нетерпеливо смял листы.
«Какое старье», — подумал он. Окно было опущено. Он, не
читая дальше, скатал письмо в шар и выбросил его в окно.
644
Жан Поль Сартр
— Нет, нет, — сказал комиссар, — возьмите телефон: я не люблю
разговаривать со старшими офицерами; они всех принимают за
своих лакеев.
— Я думаю, что этот будет любезнее, — заметил секретарь. — В
конце концов, мы ему возвращаем сына; и потом, в конечном счете
он сам виноват: нужно было лучше за ним следить...
— Вот увидите, увидите, — сказал комиссар, — он все равно
будет вести себя некрасиво. Особенно в нынешних обстоятельствах:
даже накануне войны вы можете попытаться заставить генерала
признать свою вину.
Секретарь взял телефон и набрал номер. Комиссар закурил
сигарету.
— Главное — чувство меры, Миран, — предупредил он. — Не
оставляйте профессиональный тон и не слишком много говорите.
— Алло, — заговорил секретарь, — алло? Генерал Лаказ?
— Да, — ответил неприятный голос. — Что вам угодно?
— С вами говорит секретарь комиссариата улицы Деламбр.
Голос, казалось, проявил немного больше интереса:
— Да. И что?
— В моем кабинете в восемь утра появился молодой человек, —
сказал секретарь нейтральным и вялым голосом. — Он утверждает,
что он дезертир и пользуется фальшивыми документами.
Действительно, мы нашли при нем грубо сделанный испанский паспорт. Он
отказался сообщить свое настоящее имя. Но префектура
предоставила нам описание и фотографию вашего пасынка, и мы его сейчас
же узнали.
Наступило молчание, и секретарь несколько растерянно
продолжал:
— Разумеется, господин генерал, ему не предъявлено никаких
обвинений. Он не дезертир, потому что не был призван; у него в
кармане фальшивый паспорт, но это не составляет преступления,
потому что у него не было возможности его использовать. Мы
готовы его передать в ваше распоряжение, и вы можете прийти за ним
в любое время.
— Вы его избили? — спросил сухой голос.
Секретарь так и подскочил.
— Что он говорит? — спросил комиссар.
Секретарь закрыл трубку рукой.
— Он спрашивает, не избили ли мы его.
Комиссар воздел руки к небу, а секретарь между тем ответил:
ОТСРОЧКА
645
— Нет, господин генерал. Нет, разумеется.
— Жаль, — сказал генерал.
Секретарь позволил себе подобострастно хихикнуть.
— Что он сказал? — спросил комиссар.
Но выведенный из терпения секретарь повернулся к нему
спиной и склонился над аппаратом.
— Я приду сегодня вечером или завтра. До тех пор держите его
взаперти; это ему будет уроком.
— Хорошо, господин генерал.
Генерал повесил трубку.
— Что он сказал? — спросил комиссар.
— Он хотел, чтобы мы вздули этого сопляка.
Комиссар раздавил сигарету в пепельнице.
— Ишь ты! — насмешливо сказал он.
Половина седьмого. Солнце еще не покидает моря, оса
продолжает жужжать, война продолжает приближаться; Одетта небрежно
и монотонно отгоняет осу; Жак у нее за спиной маленькими
глотками попивает виски. Она подумала: «Жизнь бесконечна». Отец,
мать, братья, дяди и тети пятнадцать лет кряду собирались в этой
гостиной прекрасными сентябрьскими днями, чопорные и
безмолвные, как семейные портреты; каждый вечер она ждала ужин,
сначала под столом, потом на маленьком стульчике, занимаясь
рукоделием, непрестанно думая: «Зачем жить?» Они все были здесь, все
потерянные послеполуденные часы, в рыжем золоте этой
бесполезной поры. Отец был здесь, сзади нее, он читал «Тан». Зачем жить?
Зачем жить? Муха неуклюже карабкалась по стеклу, скатывалась и
снова поднималась; Одетта следила за ней глазами, ей хотелось
плакать.
— Иди сядь, — сказал Жак. — Сейчас будет говорить Даладье.
Она повернулась к нему: он плохо спал; он сидел в кожаном
кресле с ребяческим видом, который принимал, когда чего-то
боялся. Она присела на ручку кресла. Все дни будут одинаковы. Все дни.
Она посмотрела в окно и подумала: «Он был прав, море
изменилось».
— Что он скажет?
Жак пожал плечами:
— Сообщит, что объявлена война.
Она получила маленький толчок, но не такой уж сильный.
Пятнадцать ночей. Пятнадцать тревожных ночей она умоляла пустоту;
она бы отдала все — дом, здоровье, десять лет жизни, чтобы спасти
646
Жан Поль Сартр
мир. Но пусть она начинается, черт возьми! Пусть война
начинается. Пусть наконец что-то произойдет: пусть зазвонит гонг к ужину,
пусть молния сверкнет над морем, пусть мрачный голос объявит
вдруг: немцы вошли в Чехословакию. Муха. Муха, утонувшая на
дне чашки; она утоплена этой спокойной губительной
послеполуденной порой; она смотрела на редкие волосы мужа и уже не очень
хорошо понимала, зачем нужно предохранять людей от смерти, а их
дома от разрушения. Жак поставил стакан на столик. Он грустно
сказал:
— Это конец.
— Конец чего?
— Всего. Я уже и не знаю, чего желать, победы или поражения.
— А-а... — вяло протянула она.
— Если мы проиграем, то будем онемечены, но, уверяю тебя,
немцы сумеют восстановить порядок. Коммунистам, евреям и
франкмасонам останется только паковать чемоданы. Зато победив,
мы будем обольшевичены, это будет триумф Frente Crapular*,
анархия, а может быть, и хуже... Эх! — продолжал он жалобным
голосом. — Не нужно было объявлять эту войну, не нужно было ее
объявлять!
Одетта не вслушивалась в то, что он говорил. Она думала: «Он
боится, он злой, он одинок». Она наклонилась к нему и погладила
его по волосам. «Мой бедный Жак».
— Мой дорогой Борис.
Она ему улыбалась, у нее был бесхитростный вид, и Борис
почувствовал угрызения совести, нужно бы все-таки ей сказать.
— Это глупо, — продолжала Лола, — я взвинчена, я хочу знать,
что он скажет, но, понимаешь, ты же все-таки не прямо сейчас
уезжаешь.
Борис смотрел себе под ноги и начал насвистывать. Лучше
сделать вид, что не услышал, иначе она его обвинит, кроме всего
прочего, в лицемерии. С минуты на минуту это становилось все
труднее. Она скорчит бедную растерянную мину, она ему скажет: «Ты
сделал это? Ты сделал это, не сказав мне ни слова!» «Я не готов», —
заключил он.
— Дайте мне мартини, — сказала Лола. — А ты что выпьешь?
— То же.
Он снова принялся свистеть. После обращения Даладье, может
быть, представится случай: она узнает, что объявлена война, это ее
* Фронт негодяев (искаж. исп. «Народный фронт»).
ОТСРОЧКА
647
все же немного оглушит; тогда Борис, не теряя ни минуты, ей
скажет: «Я записался добровольцем!» — и не даст ей времени
опомниться. Бывают случаи, когда избыток несчастья вызывает
неожиданные реакции: смех, например; будет забавно, если она начнет
смеяться. «Мне будет все-таки немного досадно», — беспристрастно
подумал он. Все постояльцы собрались в холле отеля, даже два
кюре. Они погрузились в кресла и приняли довольный вид, потому
что чувствовали, что за ними наблюдают, но им было не по себе, и
Борис заметил, как многие тайком смотрят на часы. Ладно! Ладно!
Вам ждать еще полчаса. Борис был недоволен, он не любил Даладье,
и ему было противно думать, что по всей Франции были сотни
тысяч пар, многочисленные семьи и кюре, готовые принимать как
манну небесную речь этого типа, который торпедировал Народный
фронт. «Дешевый тип!» — подумал он. И, повернувшись к
радиоприемнику, он подчеркнуто зевнул.
Было жарко и хотелось пить, трое спали: двое рядом с
коридором и маленький старичок, скрестивший руки с видом молящегося;
четверо остальных расстелили на коленях носовой платок и играли
в карты. Они были молоды, вполне симпатичны, под сетками они
развесили свои пиджаки, те раскачивались за их затылками и
ворошили им волосы. Время от времени Матье искоса смотрел на
загорелые, покрытые курчавыми волосами руки своего соседа,
маленького блондина, пальцы которого с широкими черными ногтями
ловко управлялись с картами. Он был наборщик; рядом с ним сидел
слесарь. Из двух других на скамейке напротив один, ближе к Матье,
был адвокатом, другой — скрипач в кафе «Буа-Коломб». Купе
пахло мужчинами, табаком и вином, пот катился по их жестким лицам,
менял их и придавал им блеск; на раскачивающемся подбородке
старика между жесткой белой щетиной его щек выступал пот,
жирный и едкий: экскремент лица. По другую сторону окна под
тусклым солнцем тянулось серое и плоское поле.
Наборщику не везло, он проигрывал; он наклонялся над
картами, поднимая брови с удивленным и упрямым видом.
— Ах, черт возьми! — говорил он.
Адвокат собирал карты и тасовал их. Наборщик внимательно
следил, как они переходят из руки в руку.
— Я невезучий, — с обидой произнес он.
Они играли молча. Через некоторое время наборщик взял взятку.
— Козырь! — торжествовал он. — Эх! Сейчас все изменится,
ребятки. Просто я немножко подергаюсь!
648
Жан Поль Сартр
Но стряпчий уже раскрыл карты:
— Козырь, козырь и еще козырь. Вот так: дама не играет.
Наборщик оттолкнул карты.
— Я больше не играю: я слишком много проигрываю.
— Ты прав, — сказал слесарь. — И потом, сильно трясет.
Стряпчий сложил платок и положил его в карман. Это был
высокий толстый мужчина с бледной кожей, дряблым лягушачьим
лицом, широкими скулами и узким черепом. Трое остальных
говорили ему «вы», потому что у него было образование и он был
сержантом. Он же им тыкал. Бросив недоброжелательный взгляд на
Матье, он, покачиваясь, встал.
— Пожалуй, я выпью стаканчик.
— Неплохая мысль.
Слесарь и наборщик вынули из рюкзаков бутылки; слесарь
отпил из горлышка и протянул свою бутылку скрипачу:
— Глотни-ка!
— Не сейчас.
— Много ты понимаешь.
Они замолчали, изнемогая от жары. Слесарь надул щеки и тихо
вздохнул, стряпчий закурил «Хай лайф». Матье думал: «Я им не
нравлюсь, они считают меня гордым». Однако они были ему
интересны, даже спящие, даже стряпчий; они зевали, спали, играли в
карты, качка раскачивала их пустые головы, но у них была судьба,
как у королей, как у мертвых. Изнуряющая судьба, которая
смешивалась с жарой, усталостью и жужжанием мух: вагон, закрытый, как
парильня, забаррикадированный солнцем, скоростью, покачиваясь,
уносил их к одному и тому же испытанию. Блеск света окаймлял
пунцовое ухо наборщика; мочка уха была похожа на кровавую
землянику. «Это ими делают войну», — подумал Матье. До сих пор она
ему представлялась переплетением искореженной стали, разбитых
балок, чугуна и камня. Сейчас кровь дрожала в лучах солнца, рыжий
свет заполнил вагон: война будет кровавой судьбой; ее будут вести
кровью этих шести человек, кровью, застаивающейся в их мочках,
кровью, которая, голубея, текла под их кожей, кровью их губ. Их
раскроют, как бурдюки, все отбросы выскочат наружу; резвые кишки
слесаря, которые урчали и иногда выпускали газы, будут волочиться
в пыли, трагические, как кишки вспоротой на арене лошади.
— Что ж! Пойду разомну ноги, — сказал как бы сам себе
наборщик, Матье посмотрел, как он встает и идет к коридору: эта фраза
была уже исторической. Ее вполголоса произнес мертвец одним
ОТСРОЧКА
649
летним днем, еще будучи живым. Мертвец или, что одно и то же,
выживший. Мертвецы — уже мертвецы. Оттого-то мне и нечего им
сказать. Он смотрел на них с каким-то головокружением, он хотел
бы быть втянутым в их великое историческое испытание, но он был
исключен. Он загнивал в их жаре, он будет обливаться кровью на
тех же дорогах, и, однако, он был не с ними, он был только бледным
и вечным сиянием: у него не было судьбы.
Наборщик, куривший в коридоре, вдруг повернулся к ним.
— Самолеты.
-А?
Стряпчий наклонился. Его грудь касалась толстых ляжек, и он
поднимал голову и брови.
-Где?
— Там, там! Бомбардировщики...
— Я... А! Ого... Ого! Скажи-ка, — пробормотал слесарь.
— Это французы? — спросил скрипач, поднимая на наборщика
красивые блуждающие глаза.
— Они высоко, не видно.
— Конечно, французы, — сказал слесарь. — Кому же еще быть?
Война пока не объявлена.
Наборщик наклонился к ним, держась двумя руками за косяки.
— Что ты об этом знаешь? Ты уже одиннадцать часов сидишь в
поезде. Ты, может быть, думаешь, что все подождут, пока ты
приедешь, и тогда объявят ее?
Слесарь, казалось, изумился:
— Черт! Ты прав, чертенок. Слушайте, ребята, а может, мы уже
с утра воюем?
Они повернулись к стряпчему.
— Что вы скажете? Вы думаете, война уже началась?
У стряпчего был мирный вид. Он высокомерно пожал плечами:
— Что вы выдумываете? Неужели мы пойдем воевать за
Чехословакию? Вы ее видели на карте, эту Чехословакию? Нет? А я
видел. И не раз. Дерьмо это, вот что. И размером с носовой платок.
Там, может быть, жалких миллиона два, которые даже не говорят
на одном языке. Вы рассуждаете о том, плюет ли Гитлер на
Чехословакию. А Даладье? Прежде всего Даладье — это не Даладье: это
двести семей. И эти двести семей тошнит от Чехословакии.
Он пробежал взглядом по своей аудитории и заключил:
— Дело в том, что и у нас, и у них все назревало с тридцать
шестого года. И что тогда сделали Чемберлены, Гитлеры и Дала-
650
Жан Поль Сартр
дье? Они решили: «Этих людей мы заставим замолчать», и они
заключили хороший секретный договорчик. Гитлер придумал
такую штуку: когда рабочие буянят, загнать их на военную службу.
Вот так, молчок, рот на замок. Будешь рыпаться — два часа на
плацу. Будешь еще рыпаться? Схлопочешь шесть часов. После этого
парни на коленях, они думают только о том, чтобы завалиться
спать. Ладно, другие министры решили: «Сделаем, как он». И вот
итог: войны нет и в помине. Ни ради Чехословакии, ни ради кого-
нибудь еще — хоть турецкого султана. Только мы мобилизованы,
потянут три-четыре года, а за это время там, в тылу, сломают хребет
пролетариату.
Они растерянно смотрели на него; они не слишком ему верили,
или, может быть, не совсем его поняли. Слесарь философски
заметил:
— Одно ясно — паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
Скрипач одобрительно покачал головой, и они погрузились в
молчание, наборщик отвернулся и приник лбом к одному из
больших оконных стекол коридора. «Очевидно, — подумал Матъе, —
они не горят желанием воевать». Он думал о людях
четырнадцатого года, об их широко раскрытых глотках и ружьях, украшенных
цветами. Ну и что дальше? Правы эти. Они говорят пословицами,
но слова их выдают, в их голове есть нечто, что не может быть
выражено словами. Их отцы участвовали в бессмысленном побоище,
и вот уже двадцать лет им объясняют, что война — это разорение.
После этого от них хотят, чтобы они кричали: «На Берлин!» Тем не
менее все, что они говорили, все, что они думали, не имело
никакого значения: крошечные тайные мерцания на полях их судьбы.
Скоро будут говорить: «солдаты тридцать восьмого года», как
говорили: «солдаты одиннадцатого года», «солдаты четырнадцатого
года». Они будут рыть траншеи, как другие, не лучше, не хуже, а
потом лягут в них, потому что таков их жребий. «А ты? — вдруг
подумал он. — Что ты лезешь в свидетели, хотя никто тебя об этом
не просил; кто ты? Что ты там будешь делать? И если ты выживешь,
кем ты станешь?»
Наборщик ткнул пальцем в стекло.
— А они все еще там.
— Кто? — вздрогнув, спросил скрипач.
— Самолеты. Они кружат вокруг поезда.
— Кружат? Ты не спятил?
— Ну я же их вижу!
ОТСРОЧКА
651
— Ну и ну! — сказал слесарь. — Ну и ну!
Проснулся маленький старичок.
— Что случилось? — спросил он, приставляя к уху ладонь.
— Самолеты.
— А-а, самолеты!
Он бессмысленно улыбнулся и снова заснул.
— Идите сюда! — позвал наборщик. — Идите сюда! Их, может,
штук тридцать. Я столько никогда не видел со времен авиапарада в
Виллакубле.
Слесарь и стряпчий встали. Матье вышел за ними в коридор.
Он увидел десятка два маленьких прозрачных существ, креветок в
воде неба. Казалось, они существуют переменно: когда они не были
под солнцем, они исчезали.
— А если это фрицы?
— Не каркай. Все будет в порядке. Иначе выходит, мы мишени.
Теперь в коридоре было человек двадцать, и все задрали головы.
— Дело нешуточное, — сказал стряпчий.
У всех был обеспокоенный вид. Один барабанил по стеклу,
другой нервно постукивал ногой. Эскадрилья сделала крутой вираж и
исчезла над поездом.
— Уф! — вздохнул кто-то.
— Смотрите! — воскликнул наборщик. — Смотрите! Они уже
своего добились, говорю вам, они кружат над составом.
— Вот они! Вот они!
Высокий усатый молодец опустил стекло и высунул голову
наружу. Самолеты снова появились, один оставил за собой белую
полосу.
— Это фрицы, — выпрямляясь, объявил усатый.
— Повезло.
Позади Матье вдруг вскочил скрипач: он начал трясти двух
спящих.
— В чем дело? — еле ворочая языком, спросил один из них,
приоткрывая покрасневшие глаза.
— Войну объявили! — говорил скрипач. — Сейчас фрицы будут
бомбить поезд — над нами их самолеты.
Лола нервно сжала запястье Бориса.
— Слушай, — сказала она, — слушай.
Жак позеленел.
— Слушай. Он сейчас будет говорить.
Это был медленный, тихий и глухой голос, немного гнусавый.
652
Жан Поль Сартр
«Ранее я объявил, что сегодня вечером сделаю сообщение о
международном положении, но сегодня днем я был извещен о
приглашении немецкого правительства встретиться в Мюнхене с
рейхсканцлером Гитлером, а также господами Муссолини и Чемберле-
ном. Я принял это приглашение.
Надеюсь, вы поймете, что накануне таких важных переговоров
я обязан отложить те объяснения, которые намеревался
представить. Но сейчас я считаю необходимым адресовать французскому
народу мою благодарность за его поведение, полное мужества и
достоинства.
Я считаю необходимым особенно поблагодарить тех французов,
которые были мобилизованы, за их хладнокровие и решительность,
столь ярко ими продемонстрированные.
Моя задача тяжела. С самого начала сложностей, которые мы
переживаем, я не переставал трудиться изо всех сил ради
сохранения мира и жизненных интересов Франции. Завтра я продолжу эти
усилия с мыслью о том, что я в полном согласии со всем народом».
— Борис! — позвала Лола. — Борис!
Он не ответил. Она его тормошила:
— Проснись, дорогой, что с тобой? Объявили мир: завтра будет
международная конференция!
Она, красная и возбужденная, повернулась к нему. Он тихо
выругался сквозь зубы:
— Черт бы все побрал! Чтоб им всем...
Радость Лолы угасла:
— Что с тобой, дорогой? Ты весь позеленел...
— Я же завербовался в армию на три года, — сказал Борис.
Поезд шел, самолеты кружили.
— Машинист рехнулся! — крикнул кто-то. — Чего он ждет,
почему не останавливается? Если начнут бомбить, нас перебьют, как
скот.
Наборщик был бледен и совершенно спокоен; задрав голову, он
не переставал следить за самолетами.
— Придется прыгать, — процедил он.
— Еще чего! — вскинулся стряпчий. — Прыгать на такой
скорости! — Он вытащил платок и промокнул лоб. — Лучше сорвать
стоп-кран.
Наборщик и слесарь переглянулись.
— Давай-ка! — предложил наборщик.
— А вдруг это наши? Хороши же мы будем!
ОТСРОЧКА
653
Матье толкнули в спину: какой-то толстяк бежал к дверям и
кричал:
— Он сбавляет ход: все к выходу!
Наборщик повернулся к стряпчему; у него были странные,
медленные и неуверенные движения, на губах играла злая улыбочка.
— Вот видите, и этот храбрец замедляет ход: значит, фрицы.
«Это для вида, это для вида!» — сказал он, передразнивая
стряпчего. — Что ж, смотрите, для какого это вида...
— Я этого не говорил, — вяло возразил тот, — я сказал...
Наборщик повернулся к нему спиной и направился вперед по
ходу поезда. Из всех купе выскакивали люди, они спешили в
коридор, чтобы первыми выпрыгнуть в поле. Кто-то тронул Матье за
руку — это был маленький старичок, он поднимал к нему лицо и в
замешательстве смотрел на него.
— Что случилось? Что случилось?
— Ничего, — раздраженно ответил Матье. — Спите дальше.
Он высунулся в окно. Два человека спустились на подножку
вагона. Один из них с криком прыгнул, сделал два шага по инерции,
ударился плечом о телеграфный столб и головой вперед покатился
по откосу. Поезд уже прошел мимо него. Матье повернул голову и
увидел, как человек встал, совсем маленький издали, поднял руки
и побежал через поле. Другой колебался, свесившись вперед, и
держался одной рукой за медный поручень.
— Не толкайтесь там, черт побери, — произнес сдавленный
голос. — Тут задохнуться можно.
Поезд еще больше замедлил ход. Во всех окнах торчали головы,
а на подножках висели люди, готовые прыгать. На повороте
появился вокзал, он был в трехстах метрах, вдали Матье заметил
маленький городок. Еще два человека спрыгнули и перемахнули через
переезд. Поезд уже подходил к перрону. «Вот из таких, — подумал
Матье, — будут делать героев».
Из здания вокзала исходил нараставший гул, светлые платья
сверкали на солнце, поднимались руки в белых нитяных перчатках,
девушки в соломенных шляпках махали платками, вдоль перрона,
смеясь и крича, бегали дети. Скрипач грубо оттолкнул Матье и
наполовину высунулся из окна. Он рупором приложил руки ко
рту:
— Бегите! — крикнул он в толпу. — Самолеты!
Люди на вокзале, не понимая, смотрели на него, они улыбались
и кричали. Он поднял руку над головой, показывая на небо паль-
654
Жан Поль Сартр
цем. Ему ответил общий громкий крик. Сначала Матье толком не
расслышал, потом вдруг понял:
— Мир1 Мир, ребята!
Весь поезд гудел:
— Самолеты! Самолеты!
— Ура! — кричали девушки. — Ура!
В конце концов они посмотрели на небо и, подняв руки,
замахали платками, приветствуя самолеты. Стряпчий нервно грыз ногти.
— Не понимаю, — бормотал он, — не понимаю...
После двух-трех толчков поезд окончательно остановился.
Вокзальный служащий поднялся на скамью, держа под мышкой свой
красный флажок, он крикнул:
— Мир! Конференция в Мюнхене. Даладье уезжает сегодня
вечером.
Поезд притих, неподвижный, непонимающий. И потом
внезапно завопил:
— Ура! Да здравствует Даладье! Да здравствует мир!
Платья из голубой и розовой тафты исчезли в массе коричневых
и черных пиджаков; толпа заволновалась и зашумела, как листва,
солнечные блики мелькали повсюду, фуражки и соломенные
шляпы кружились, кружились, это был вальс, Жак закружил в вальсе
Одетту посередине гостиной, госпожа Бирненшатц прижимала к
груди Эллу и стонала:
— Я счастлива, Элла, дочь моя, дитя мое, я счастлива.
Под окном краснолицый молодой парень хохотал как
сумасшедший, он налетел на крестьянку и расцеловал ее в обе щеки. Она тоже
смеялась, вся растрепанная, со сползшей назад соломенной шляпой,
и кричала «Ура!» между поцелуями. Жак поцеловал Одетту в ухо,
он ликовал:
— Мир! Теперь они наверняка не ограничатся урегулированием
судетского вопроса. Пакт четырех держав. Именно с этого надо
было начинать.
Горничная приоткрыла дверь:
— Мадам, я могу подавать?
— Подавайте, — сказал Жак, — подавайте! А потом сходите в
погреб за бутылкой шампанского и бутылкой шамбертена.
Высокий старик в темных очках вскарабкался на скамью, одной
рукой он держал бутылку красного, другой — стакан.
— Стакан вина, парни, стакан вина за мир!
— Мне! — крикнул слесарь. — Мне! Да здравствует мир!
ОТСРОЧКА
655
— Ах, господин аббат, я вас поцелую!
Кюре попятился, но старуха опередила его и в самом деле
поцеловала, Грессье погрузил разливательную ложку в супницу: «Ах,
дети мои, дети мои! Кончился этот кошмар». Зезетта открыла дверь:
«Значит, это правда, мадам Изидор?» — «Да, детка, правда, я сама
слышала, так сказали по радио, ваш Момо вернется, я же вам
говорила, что небо над вами сжалится». Он затанцевал на месте,
сдрейфил, сдрейфил, Гитлер сдрейфил; я-то думаю, что это мы
сдрейфили, но как мне на это наплевать, раз мы не воюем, но нет, но нет, я
был предупрежден, в два часа я все скупил, это двести тысяч
векселей, послушайте меня, мой друг, это ис-клю-чи-тель-но-е
обстоятельство, в первый раз война, казавшаяся неизбежной,
предотвращена четырьмя главами государств, значимость их решения далеко
превосходит текущий момент: теперь война уже невозможна,
Мюнхен — первый вестник мира. Боже мой, Боже мой, я молилась, я
молилась, я говорила: «Боже, возьми мое сердце, возьми мою
жизнь», и ты внял моей мольбе, Боже мой, ты самый великий, ты
самый мудрый, ты самый добрый», аббат высвободился — но я вам
всегда это говорил, мадам: Бог всеблаг. А эти чертовы чехи пусть
сами выпутываются. Зезетта шла по улице, она пела, все птицы в
моем сердце, у людей были добрые улыбающиеся лица, они молча
здоровались друг с другом, даже если не были знакомы. Он знал,
она знала, они знали, что знают все, у всех была одна и та же мысль,
все были счастливы, оставалось только быть вместе со всеми;
прекрасный вечер, эта женщина, которая идет мимо, я читаю в глубине
ее сердца, а этот добрый старик читает в моем, все открыто всем, все
составляют одно целое, она заплакала, все любили друг друга, все
были счастливы, и Момо там, со всеми, он должен быть все-таки
доволен, она плакала, все смотрели на нее, и это грело ей спину и
грудь, чем больше все эти люди на нее смотрели, тем больше она
заливалась слезами, она чувствовала себя гордой и щедрой, как
мать, кормящая грудью свое дитя.
— Ну и здорово же ты пьешь! — заметил Жак.
Одетта вдруг рассмеялась. Она сказала:
— Думаю, скоро резервистов демобилизуют?
— Через две недели или через месяц, — предположил Жак.
Она снова засмеялась и сделала еще глоток. Внезапно кровь
прилила к ее щекам.
— Что с тобой? — спросил Жак. — Ты стала совсем пунцовой.
— Пустяки. Просто я выпила лишнего.
656
Жан Поль Сартр
Я бы никогда его не поцеловала, если бы знала, что он так
быстро вернется.
— Садитесь, садитесь!
Поезд медленно тронулся. Люди, крича и смеясь, побежали к
нему; они гроздьями висли на подножках. В окне появилось лицо
слесаря, он двумя руками цеплялся за подоконник.
— Черт возьми! — кричал он. — Подсобите мне, а то я сорвусь.
Матье подхватил его, и тот, перекинув ноги через подоконник,
спрыгнул в коридор.
— Уф, — выдохнул он, вытирая лоб. — Я уж думал, что оставлю
там обе ноги.
Тут появился скрипач.
— Что ж, все в сборе.
— Сыграем в белот?
— Согласен.
Они вернулись в купе; Матье через стекло смотрел на них. Они
начали с того, что выпили красного, затем стряпчий вынул платок
и разложил его на коленях.
— Тебе сдавать.
Слесарь громко пукнул.
— Прямо в небо полетела! — пошутил он, показывая на
воображаемую ракету на потолке.
— Фу, козел! — весело сказал наборщик.
«Что они здесь делают? — подумал Матье. — А я, что здесь
делаю я?» Их судьбы разметались, время снова потекло наугад, без
цели, по привычке; вдоль поезда тянулась равнодушная дорога;
теперь она больше никуда не вела, это была всего лишь полоса
асфальтированной земли. Самолеты исчезли; война исчезла. Бледное
небо, становившееся все более мирным к вечеру, оцепенелая
долина, игроки в карты, спящие пассажиры, разбитая бутылка в
коридоре, окурки в луже вина, сильный запах мочи, все эти ординарные
остатки... «Как на следующий день после праздника», — подумал
Матье со сжавшимся сердцем.
Дус, Мод и Руби поднимались по улице Канебьер. Дус была
очень оживлена: у нее всегда была склонность к политике.
— Кажется, это недоразумение. Гитлер думал, что Чемберлен и
Даладье строили против него козни, а в это время Чемберлен и
Даладье опасались, что на них нападут. Но их собрал Муссолини и
дал им понять, что они ошибаются; теперь все улажено: завтра они
все четверо обедают вместе.
ОТСРОЧКА
657
— Какая пирушка, — вздохнула Руби.
У Канебьеры был праздничный вид, люди шли мелкими
шагами, некоторые смеялись. Мод хандрила. Конечно, она была
довольна, что все так хорошо уладилось, но она особенно радовалась за
других. Как бы то ни было, она проведет еще одну ночь в вонючей
клетушке отеля «Женьевр», а потом вокзал, поезда, Париж,
безработица, скверные столовые и боли в желудке: встреча в Мюнхене,
каков бы ни был ее исход, ничего не изменит. Ей было одиноко.
Проходя мимо кафе «Риш», она вздрогнула.
— Что случилось? — спросила Руби.
— Это Пьер, — ответила Мод. — Не смотри. Он за третьим
столиком слева. Ну вот, он нас увидел.
Пьер встал, он блистал в льняном костюме, у него был весьма
мужественный и вальяжный вид. «Конечно, — подумала она, —
теперь-то опасность миновала». Пока он шел к ней, она попыталась
восстановить в памяти его зеленое лицо в той пропахшей рвотой
каюте. Но запах и лицо выдуло морским ветром. Он поздоровался
с ней, он казался абсолютно в себе уверенным. Она хотела
повернуться к нему спиной, но дрожащие ноги понесли ее к нему помимо
воли. Он, улыбаясь, сказал ей:
— Значит, мы вот так расстаемся, даже не выпив рюмки?
Она посмотрела ему в лицо и подумала: «Трус». Но этого не
было заметно. Она видела его насмешливые, смело сжатые губы,
мужественные щеки, выступающее адамово яблоко.
— Пошли, — прошептал он. — Все это старая история.
Она подумала о гостиничном номере, пропахшем нашатырным
спиртом. Она сказала:
— Тогда пригласи Дус и Руби.
Он подошел к ним и улыбнулся. Руби он нравился, потому что
был изысканным мужчиной. Три цветка сели кружком на террасе
кафе «Риш». Это была целая цветочная клумба, цветы, солнечные
оживленные лица, знамена, фонтаны, солнце. Она опустила взгляд
и глубоко вздохнула: у нее перед глазами вращалось солнце, нельзя
судить о человеке только по приступу морской болезни. Для нее
тоже наступил Мир.
«Почему они меня не любят?» Он был один в сером
помещении, он наклонился вперед, положив локти на колени,
поддерживая руками тяжелую голову. Рядом с собой на скамейку он
положил сандвичи и поставил чашку кофе, которые в полдень ему
принес полицейский; зачем есть: все кончено. Его захотят силой
658
Жан Поль Сартр
взять в армию, он откажется, это означает либо виселицу, либо все
двадцать лет тюрьмы; так или иначе, его жизнь кончилась здесь.
Он смотрел на нее с глубоким удивлением: от начала до конца
неудавшаяся затея. Его мысли текли направо и налево, бесцветные
и жидкие: одна оставалась неизменной, вопрос, на который не было
ответа: почему они меня не любят? В соседней комнате раздался
взрыв смеха, полицейские веселились. Кто-то низким голосом
крикнул:
— Это надо обмыть!
Возможно, есть полицейские, которые любят друг друга, или
люди на улице и в домах, они улыбаются друг другу, они помогают
один другому, они разговаривают друг с другом почтительно и
вежливо, вероятно, есть среди них такие, кто любит друг друга изо всех
сил, как Зезетта и Морис. Наверно, все потому, что они старше: у
них было время привыкнуть друг к другу. Молодой человек — это
путник, который ночью заходит в полупустое купе: люди его
ненавидят и рассаживаются так, чтобы он подумал, будто места нет.
Однако мое место обозначено, потому что я родился. Иначе я
просто гниль. Полицейские за дверью снова засмеялись, один из них
произнес слово «Мюнхен». Улицы, дома, вагоны, комиссариат:
доверху переполненный мир, мир людей, и Филипп не мог туда войти.
Он на всю жизнь останется в камере вроде этой, в норе, которую
люди придерживают для тех, кого не признают. Он увидел
маленькую женщину, полную и смешливую, с гладкими руками,
наложницу. Он подумал: «Как бы то ни было, она будет носить по мне
траур». Дверь вдруг открылась, и вошел генерал. Филипп отодвинулся
на скамье в самый темный угол и крикнул:
— Оставьте меня! Я хочу отбыть наказание, мне не нужно
вашего покровительства.
Генерал разразился смехом. Быстрым сухим шагом он пересек
камеру и стал перед Филиппом.
— Отбыть наказание? За кого ты себя принимаешь, олух?
Локоть поднялся помимо воли Филиппа и расположился перед
щекой, чтобы отразить удары. Но Филипп тут же опустил его и
твердым голосом сказал:
— Я дезертир.
— Дезертир! Гитлер и Даладье завтра подписывают мирный
договор, мой бедный друг: войны не будет, и дезертиром ты не был и
не будешь.
Он с издевкой рассматривал Филиппа.
ОТСРОЧКА
659
— Даже для того, чтобы совершить зло, нужно быть мужчиной,
Филипп, нужно иметь волю и твердость. Ты же всего лишь
вздорный и плохо воспитанный мальчишка; ты проявил неуважение ко
мне и вверг мать в страшное беспокойство: вот и все, на что ты
оказался способен.
Смеющиеся полицейские заглядывали в полуоткрытую дверь.
Филипп вскочил, но генерал взял его за плечо и принудил сесть.
— Ты куда? Нет уж, выслушай меня до конца. Твоя последняя
выходка доказывает, что твое воспитание надлежит исправить.
Теперь твоя мать согласна, что она проявляла к тебе чрезмерную
слабость. Теперь я беру на себя заботу о тебе.
Он еще ближе подошел к Филиппу Филипп поднял локоть и
закричал:
— Если вы меня тронете, я покончу с собой!
— А вот это мы еще посмотрим, — сказал генерал.
Он левой рукой опустил его локоть, а правой дал ему две
пощечины. Филипп рухнул на скамью и заплакал.
В коридоре царило веселое оживление, какая-то женщина
напевала «Иди, маленький юнга». Он их всех ненавидел, они мне до
смерти надоели. Вошла медсестра, неся на подносе обед.
— Я не хочу есть, — сказал он.
— Нет, нужно поесть, месье Шарль, а то вы еще больше
ослабнете. А вот вам хорошие новости для аппетита: войны не будет;
Даладье и Чемберлен будут встречаться с Гитлером.
Он недоуменно посмотрел на нее: и правда, ведь эта история с
Судетами все еще тянется. Она немного покраснела, глаза ее
блестели:
— Что? Вы недовольны?
Меня сорвали с места, унесли, как мешок, измучили, а сами и
не собираются воевать! Но он не разгневался: все это было так
далеко.
— А что, по-вашему, мне веселиться? — спросил он.
Ночь с 29 на 30 сентября
1 час 30 минут.
Господа Масарик и Мастный, члены чехословацкой делегации,
ждали в комнате сэра Горация Вильсона в обществе господина
Эштон-Гуоткина. Мастный был бледен и потел, под глазами у него
660
Жан Поль Сартр
были темные круги. Масарик шагал взад-вперед; господин Эштон-
Гуоткин сидел на кровати; Ивиш забилась в угол кровати, она его
не чувствовала, но ощущала его тепло и слышала его дыхание; она
не могла заснуть и знала, что он тоже не спит. Электрические
разряды пробегали по ее ногам и бедрам, она умирала от желания
повернуться на спину, но если она шевелилась, то прикасалась к нему;
пока он думает, что она спит, он оставит ее в покое. Мастный
обернулся к Эштон-Гуоткину и сказал:
— Как долго...
Господин Эштон-Гуоткин виновато и безразлично покачал
головой. Масарик покраснел и глухо сказал:
— Обвиняемые ожидают приговора.
Господин Эштон-Гуоткин, казалось, не слышит его. Ивиш
думала: «Неужели эта ночь никогда не закончится?» Она вдруг
почувствовала на своем бедре очень нежную плоть, он пользовался ее
сном, чтобы притронуться к ней, не нужно шевелиться, иначе он
заметит, что я проснулась. Плоть скользнула вдоль бедер, она была
горячая и мягкая, это была его нога. Она сильно прикусила нижнюю
губу, а Масарик продолжил:
— Чтобы сходство было полным, нас встречала полиция.
— Каким образом? — скроив удивленную мину, спросил Эштон-
Гуоткин.
— Нас доставили в отель «Регина» в полицейской машине, —
пояснил Мастный.
— Ай-ай-ай, — неодобрительно произнес Эштон-Гуоткин.
Теперь это была рука; она спускалась вдоль бедер, легкая и как
бы рассеянная; пальцы легко коснулись ее живота. «Это ничего, —
подумала она, — это насекомое. Я сплю. Я сплю. Я грежу; я не
пошевелюсь». Масарик взял карту, которую ему вручил сэр Гораций
Вильсон. Территории, которые немедленно оккупировались
немецкой армией, были помечены голубым. Он какое-то время смотрел
на нее, потом гневно бросил на стол.
— Я... я все еще не понимаю, — сказал он, глядя в глаза
господину Эштон-Гу откину. — Мы еще суверенное государство?
Господин Эштон-Гуоткин пожал плечами; он, казалось, хотел
сказать, что он ни при чем; но Масарик понял, что тот был
взволнован больше, чем хотел показать.
— Переговоры с Гитлером очень трудны, — заметил он. —
Учитывайте это.
ОТСРОЧКА
661
— Все зависело от твердости великих держав, — резко ответил
Масарик.
Англичанин слегка покраснел. Он выпрямился и
торжественным тоном произнес:
— Если вы не примете этого соглашения, вам придется
улаживать дела с Германией без нас. — Он прочистил горло и уже мягче
добавил: — Может быть, французы вам это скажут в более
надлежащей форме. Но поверьте, они того же мнения; в случае отказа они
потеряют к вам интерес.
Масарик недобро засмеялся, и они замолчали. Послышался
шепот:
— Ты спишь?
Она не ответила, но тотчас же почувствовала губы на своем ухе,
а потом все тело навалилось на нее.
— Ивиш! — прошептал он. — Ивиш...
Не нужно ни кричать, ни отбиваться; меня же не насилуют. Она
повернулась на спину и четким голосом сказала:
— Нет, я не сплю. Что дальше?
— Я люблю тебя, — сказал он.
Бомба! Бомба упадет с высоты пяти тысяч метров и убьет их
наповал! Открылась дверь, и вошел сэр Гораций Вильсон: он
смотрел в пол; с самого их приезда он опускал глаза, он говорил с ними,
глядя в пол. Время от времени он, должно быть, сам это чувствовал:
он резко поднимал голову и погружал в их глаза пустой взгляд.
— Господа, вас ждут.
Трое мужчин последовали за ним. Они прошли по длинным
пустым коридорам. Коридорный спал на стуле; отель казался
мертвым; его тело было горячим, он прижался грудью к груди Ивиш, и
она услышала глухой шлепок клапана, она была залита их потом.
— Если вы меня любите, — сказала она, — отодвиньтесь, мне
слишком жарко.
— Это здесь, — посторонившись, сказал сэр Гораций Вильсон.
Он не отодвинулся, одной рукой он сорвал одеяло, другой крепко
держал ее за плечо, теперь он лежал на ней и сильными руками мял
ей плечи и руки, этими хищными руками, и при этом детским и
умоляющим голосом шептал:
— Я люблю тебя, Ивиш, любовь моя, я люблю тебя.
Это был маленький, низкий и живо освещенный зал. Господа
Чемберлен, Даладье и Леже стояли за столом, покрытым бумагами.
662
Жан Поль Сартр
Пепельницы были полны окурков, но никто уже не курил. Чембер-
лен положил обе руки на стол. Вид у него был усталый.
— Здравствуйте, господа, — сказал он с приветливой улыбкой.
Масарик и Мастный молча поклонились. Эштон-Гуоткин
быстро отстранился от них, как будто больше не мог выносить их
общества, и стал за Чемберленом, рядом с сэром Горацием Вильсоном.
Теперь перед двумя чехами по другую сторону стола было пять
человек. Позади них была дверь и пустые коридоры отеля.
Некоторое время стояла тяжелая тишина. Масарик по очереди смотрел на
каждого из них, а потом поискал взгляд Леже. Но Леже укладывал
в портфель документы.
— Соблаговолите сесть, господа, — сказал Чемберлен.
Французы и чехи сели, но Чемберлен продолжал стоять.
— Что ж... — сказал Чемберлен. У него были красные после сна
глаза. С неуверенным видом разглядывал он свои руки, затем резко
выпрямился и сказал:
— Франция и Великобритания подписали соглашение,
касающееся немецких притязаний по поводу Судет. Это соглашение,
благодаря доброй воле всех, может рассматриваться как некоторый
прогресс по сравнению с меморандумом Годесберга.
Он кашлянул и умолк. Масарик держался в кресле очень
напряженно, он ждал. Чемберлен, казалось, хотел продолжать, но
передумал и протянул листок Мастному.
— Будьте любезны ознакомиться с этим соглашением. Может
быть, будет лучше, если вы прочтете его вслух?
Мастный взял листок; кто-то легкими шагами прошел по
коридору. Потом шаги удалились, и где-то в городе башенные часы
пробили два удара, Мастный начал читать. У него был гнусавый
монотонный выговор; он читал медленно, как бы размышляя между
фразами, и листок дрожал у него в руках:
«Четыре державы: Германия, Соединенное Королевство,
Франция и Италия, учитывая уже реализованное в принципе соглашение
о передаче Германии территории Судетских немцев, условились о
следующих предписаниях и условиях, регламентирующих
указанную передачу, и о мерах, которые она содержит. Этим соглашением
каждая из сторон обязуется выполнить необходимые условия,
чтобы обеспечить ее исполнение.
1. Эвакуация начнется 1 октября.
2. Соединенное Королевство, Франция и Италия
договариваются, что эвакуация из названных территорий должна быть закончена
ОТСРОЧКА
663
10 октября без разрушения любого из существующих предприятий.
Чехословацкое правительство будет нести ответственность за
осуществление этой эвакуации и препятствовать какому-либо ущербу
указанным предприятиям.
3. Условия этой эвакуации будут определены в деталях
международной комиссией, составленной из представителей Германии,
Соединенного Королевства, Франции, Италии и Чехословакии.
4. Последовательная оккупация германскими войсками
территорий немецкого подчинения начнется 1 октября. Четыре
указанные на прилагаемой карте зоны будут оккупированы немецкими
войсками в следующем порядке:
Зона 1 — 1 и 2 октября.
Зона 2 — 2 и 3 октября.
Зона 3 — 3, 4 и 5 октября.
Зона 4 — 6 и 7 октября.
Другие территории немецкого подчинения будут определены
международной комиссией и оккупированы германскими войсками
до 10 октября».
Монотонный голос звучал в тишине уснувшего города. Он
спотыкался, он безжалостно останавливался, немного дрожал, а вокруг
него миллионы немцев спали насколько хватает глаз, в то время как
он тщательно излагал приемы исторического убийства.
Умоляющий, шепчущий голос, моя любовь, мое желание, я люблю твои
груди, я люблю твой запах, ты меня любишь, поднимался в ночи, и
руки над ее горячим телом убивали.
— Я хотел бы задать один вопрос, — сказал Масарик. — Что
нужно понимать под «территориями немецкого подчинения»?
Он обращался к Чемберлену, но Чемберлен, не отвечая,
посмотрел на него со слегка оторопевшим видом. Он явно не слушал, что
тут читали. Леже заговорил сзади Масарика, Масарик повернулся
вместе с креслом и увидел Леже в профиль.
— Речь идет, — сказал Леже, — о рассчитанном большинстве в
соответствии с предложениями, принятыми вами.
Мастный вынул платок и вытер лоб, затем продолжил читать:
«5. Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия
определит территории, где должен быть проведен плебисцит.
Эти территории будут оккупированы международным
контингентом вплоть до окончания плебисцита...»
Он прервался и спросил:
664
Жан Поль Сартр
— Этот международный контингент будет действительно
международным, или это будут только английские войска?
Чемберлен зевнул, прикрываясь рукой, и по его щеке скатилась
слеза. Он отвел руку:
— Этот вопрос еще полностью не уточнен. Рассматривается
также участие бельгийских и итальянских соединений.
«Эта комиссия, — продолжал Мастный, — также определит
условия, при которых должен быть проведен плебисцит, беря за
основу условия плебисцита в Саарской области. Кроме того, она
назначит для начала плебисцита дату не позднее конца ноября».
Он еще раз остановился и насмешливо мягко спросил у Чембер-
лена:
— Чехословацкий член этой комиссии будет иметь такое же
право голоса, как и остальные?
— Естественно, — доброжелательно ответил Чемберлен.
Липкое, как кровь, волнение пачкало бедра и живот Ивиш, оно
проскользнуло ей в кровь, меня же не насилуют, она открылась,
позволила причинить себе острую боль, но в то время как ледяная
и огненная дрожь поднималась до самой ее груди, голова ее
оставалась холодной, она спасла голову, и она кричала ему там, в голове:
«Я тебя ненавижу!»
«6. Окончательное установление границ будет сделано
международной комиссией. Эта комиссия будет также иметь
компетенцию рекомендовать четырем державам — Германии, Соединенному
Королевству, Франции и Италии — в некоторых исключительных
случаях изменения в ограниченных пределах строго
этнографических определений зон, передаваемых без плебисцита».
— Должны ли мы, — спросил Масарик, — рассматривать эту
статью в качестве оговорки, обеспечивающей защиту наших
жизненных интересов?
Он повернулся к Даладье и настойчиво смотрел на него. Но
Даладье не ответил; у него был подавленный вид, он весь как-то
постарел. Масарик заметил, что в уголке рта у него торчит
потухший окурок.
— Такая оговорка была нам обещана, — настаивал Масарик.
— В каком-то смысле, — сказал Леже, — эта статья может
рассматриваться в качестве оговорки, о которой вы говорите. Но для
начала нужно проявлять скромность. Вопросы гарантии ваших
границ будут в компетенции международной комиссии.
Масарик коротко засмеялся и скрестил руки.
ОТСРОЧКА
665
— И ни единой гарантии! — сказал он, качая головой.
«7. — прочел Мастный. — Будет право выбора, позволяющее
быть включенным в переданные территории или исключенным из
них.
Этот выбор должен быть сделан в течение шести месяцев
начиная со дня настоящего соглашения.
8. Чехословацкое правительство освободит в течение четырех
недель, начиная от заключения настоящего договора, всех судет-
ских немцев, которые этого пожелают, от службы в военных
формированиях или полиции, которую они несут на данный момент.
В тот же отрезок времени чехословацкое правительство
освободит немецких узников из Судет, которые отбывают наказание по
политическим мотивам.
Мюнхен, 29 сентября 1938 г.».
— Вот так, — сказал он, — это все.
Он смотрел на листок, как будто еще не закончил читать. Чем-
берлен широко зевнул и начал похлопывать по столу.
— Вот так, — еще раз сказал Мастный.
Это был конец, Чехословакия 1918 года перестала
существовать. Масарик следил глазами за белым листком, который Мастный
клал на стол; затем повернулся к Даладье и Леже и пристально
посмотрел на них. Даладье осел в кресле, опустив подбородок на
грудь. Он вынул из кармана сигарету, с минуту смотрел на нее и
положил ее обратно в пачку. Леже слегка покраснел, он выглядел
несколько раздраженным.
— Вы ожидаете, — обратился Масарик к Даладье, — декларацию
или ответ моего правительства?
Даладье не ответил. Леже опустил голову и очень быстро
сказал:
— Господин Муссолини должен вернуться в Италию сегодня
утром; мы практически не располагаем временем.
Масарик все еще смотрел на Даладье. Он сказал:
— Даже никакого ответа? Следует ли это понимать так, что мы
обязаны согласиться?
Даладье устало махнул рукой, и из-за его спины ответил Леже:
— А что вам еще остается?
Она плакала, отвернувшись лицом к стене, она плакала
беззвучно, и рыдания сотрясали ее плечи.
— Почему ты смеешься? — неуверенно спросил он.
666
Жан Поль Сартр
— Потому что я вас ненавижу, — ответила она.
Масарик поднялся, Мастный тоже встал. Чемберлен зевал так,
что у него свело скулы.
Пятница, 30 сентября
Маленький солдатик шел к Большому Луи, размахивая
газетой.
— Мир! — кричал он.
Большой Луи поставил ведро:
— Парень, ты о чем это?
— Мир объявили, вот что!
Большой Луи недоверчиво посмотрел на него:
— Не может быть мира, коли войны не было.
— Мир подписали, дядя! На, посмотри сам.
Он протянул ему газету, но Большой Луи оттолкнул ее:
— Я не умею читать.
— Эх ты, дурень! — с жалостью сказал паренек. — Ну тогда хоть
посмотри на фотографию!
Большой Луи с отвращением взял газету, подошел к окну
конюшни и посмотрел на фотографию. Он узнал улыбающихся Дала-
дье, Гитлера и Муссолини; у них был вид добрых друзей.
— Ну и ну! — удивился он. — Ну и ну!
Он, хмуря брови, посмотрел на солдатика, потом вдруг
развеселился.
— Вот уже и помирились! — смеясь, говорил он. — А я даже не
знаю, почему они ссорились.
Солдат засмеялся, и Большой Луи тоже засмеялся.
— Привет, старина! — сказал солдат.
Он ушел. Большой Луи подошел к черной кобыле и начал
гладить ее по крупу.
— Ну-ну, красотка! — приговаривал он. — Ну-ну!
Он как-то растерялся. Он сказал:
— Ладно, а что мне теперь делать? Что мне делать?
Бирненшатц прятался за газетой; было видно, как над
развернутыми листами прямо поднимается дымок, госпожа Бирненшатц
вертелась в кресле.
— Мне нужно увидеть Розу — из-за этой истории с пылесосом.
ОТСРОЧКА
667
Она в третий раз говорила о пылесосе, но не уходила. Элла
недовольно посматривала на нее: она хотела бы остаться наедине с
отцом.
— Как ты думаешь, у меня его заберут? — спросила госпожа
Бирненшатц, поворачиваясь к дочери.
— Ты у меня все время это спрашиваешь. Но я не знаю, мама.
Вчера госпожа Бирненшатц плакала от счастья, прижимая к
груди дочь и племянниц. Сегодня она уже не знала, что делать со
своей радостью; это была толстая радость, дряблая, как она сама,
которая вот-вот обратится в пророчество, если ее с ней никто не
разделит.
Она повернулась к мужу.
— Гюстав, — прошептала она.
Бирненшатц не ответил.
— Ты сегодня совсем тихий.
— Да, — признал Бирненшатц.
Тем не менее он опустил газету и посмотрел на жену из-под
очков. Он выглядел усталым и постаревшим: Элла почувствовала,
как у нее сжимается сердце; ей хотелось поцеловать его, но лучше
было не начинать излияния чувств при матери, которая и так была
к ним сильно расположена.
— Ты хотя бы доволен? — спросила госпожа Бирненшатц.
— Чем? — сухо спросил он.
— Ну как же, — уже стеная, проговорила она, — ты мне сто раз
говорил, что не хочешь этой войны, что это была бы катастрофа,
что нужно вести переговоры с немцами, я думала, что ты будешь
доволен.
Бирненшатц пожал плечами и снова взял газету. Госпожа
Бирненшатц на минуту остановила полный удивления и упрека взгляд
на этом бумажном укреплении, ее нижняя губа дрожала. Потом она
вздохнула, с трудом встала и направилась к двери.
— Я больше не понимаю ни мужа, ни дочь, — выходя, сказала
она.
Элла подошла к отцу и нежно поцеловала его в макушку.
— Что с тобой, папа?
Бирненшатц положил очки и поднял к ней лицо.
— Мне нечего сказать. Я уже не в том возрасте, чтобы
участвовать в войне, не так ли? Поэтому я лучше промолчу.
Он старательно сложил газету; он пробормотал как бы самому
себе:
668
Жан Поль Сартр
— Я был за мир...
— В чем же дело?
— В чем же дело...
Он наклонил голову направо и поднял правое плечо смешным
детским движением.
— Мне стыдно, — мрачно сказал он.
Большой Луи вылил ведро в уборную, тщательно подобрал всю
воду губкой, затем положил губку в ведро и отнес на конюшню.
Он закрыл дверь конюшни, перешел через двор и вошел в
корпус Б. Общая спальня была пуста. «Они совсем не торопятся
уезжать; наверное, им здесь нравится». Он вытащил из-под кровати
свои гражданские брюки и пиджак. «А мне не нравится», — сказал
он, начиная раздеваться. Он еще не смел радоваться, он говорил:
«Вот уже восемь дней, как ко мне тут все цепляются». Он надел
брюки и старательно разложил на кровати свои военные вещи. Он
не знал, возьмет ли его обратно хозяин. «А кто же теперь пасет
баранов?» Он взял рюкзак и вышел. Около умывальника стояли
четыре человека, они смеялись, глядя на него. Большой Луи
поприветствовал их рукой и пересек двор. Теперь у него не было ни гроша,
но вернуться можно и пешком. «Я буду помогать на фермах, и мне
дадут чего-нибудь перекусить». Вдруг он снова увидел бледно-
голубое небо над вересковыми зарослями Канигу, снова увидел
маленькие подвижные зады баранов и понял, что он свободен.
— Эй, вы! Куда вы идете?
Большой Луи обернулся: это был сержант Пельтье, толстяк. Он,
задыхаясь, подбежал к Большому Луи.
— Что это такое! — на бегу говорил он. — Что это такое!
Он остановился в двух шагах от Большого Луи, багровый от
гнева и удушья.
— Куда вы направляетесь? — повторил он.
— Я ухожу, — сказал Большой Луи.
— Вы уходите? — изумился сержант, скрестив руки. — Вы
уходите!.. И куда же вы уходите? — с безнадежным негодованием
спросил он.
— Домой! — ответил Большой Луи.
— Домой! — вскричал сержант. — Он идет домой! Ну конечно,
ему не нравится еда, или же койка скрипит. — Он снова стал
угрожающе серьезным и приказал:
— Доставьте мне удовольствие, сделайте полуоборот и назад —
рысью марш! И я вами займусь, мой мальчик.
ОТСРОЧКА
669
«Он еще не знает, что они помирились», — подумал Большой
Луи. Он сказал:
— Господин сержант, подписан мир.
Сержант, казалось, не верил своим ушам.
— Вы строите из себя дурака или хотите меня купить?
Большой Луи не хотел сердиться. Он повернулся и продолжал
свой путь. Но толстяк побежал за ним, дернул его за рукав и
загородил ему дорогу. Он уперся в него животом и закричал:
— Если вы сейчас же не подчинитесь, вас ждет военный
трибунал!
Большой Луи остановился и почесал голову. Он думал о
Марселе, и у него заболела голова.
— Вот уже восемь дней, как ко мне тут все цепляются, — тихо
произнес он.
Сержант вопил и тряс его за куртку:
— Что вы говорите?!
— Вот уже восемь дней, как ко мне тут все цепляются! —
громовым голосом крикнул Большой Луи.
Он схватил сержанта за плечо и ударил его по лицу. В
следующий момент ему пришлось просунуть руку сержанту под мышку,
чтобы поддержать его, и он продолжил избиение; он почувствовал,
как сзади его обхватили, а затем заломили руки. Он отпустил
сержанта Пельтье, который, не охнув, упал на землю, и начал трясти
типов, вцепившихся в него, но кто-то подставил ему подножку, и он
упал на спину. Они начали его тузить, а он, уклоняясь от ударов,
вертел головой налево и направо и повторял, задыхаясь:
— Дайте мне уйти, парни, дайте мне уйти, я же вам говорю:
объявили мир.
Гомес выскреб дно кармана ногтями и извлек оттуда несколько
крошек табака, смешанного с пылью и кусочками ниток. Он набил
всем этим трубку и зажег ее. У дыма был острый и удушающий
вкус.
— Запасы табака уже кончились? — спросил Гарсен.
— Вчера вечером, — ответил Гомес. — Если б я знал, то привез
бы побольше.
Вошел Лопес, он нес газеты. Гомес посмотрел на него, затем
опустил глаза на трубку. Он все понял. Он увидел слово «Мюнхен»
большими буквами на первой странице газеты.
— Значит?.. — спросил Гарсен.
Вдалеке слышалась канонада.
670
Жан Поль Сартр
— Значит, нам крышка, — сказал Лопес.
Гомес сжал зубами мундштук трубки. Он слышал канонаду и
думал о тихой ночи в Жуан-ле-Пене, о джазе на берегу моря: у Ма-
тье будет еще много таких вечеров.
— Сволочи, — пробормотал он.
Матье на миг остановился на пороге столовой, затем вышел во
двор и закрыл дверь. На нем была гражданская одежда: на складе
обмундирования больше не осталось военной формы. Солдаты
прогуливались маленькими группками, у них был ошеломленный и
беспокойный вид. Двое молодых парней, которые приближались к
нему, начали одновременно зевать.
— Ну что, веселитесь? — спросил их Матье.
Тот, что помоложе, закрыл рот и, как бы извиняясь, ответил:
— Не знаем, чем заняться.
— Привет! — сказал кто-то позади Матье.
Он обернулся. Это был Жорж, его сосед по койке, у него было
доброе и грустное лунообразное лицо. Он ему улыбался.
— Ну что? — спросил Матье. — Все нормально?
— Нормально, — ответил тот. — Вот ведь как идут дела.
— Не жалуйся, — сказал Матье. — При другом раскладе ты бы
уже был не здесь. Ты был бы там, где стреляют.
— Что ж, да, — согласился тот. Он пожал плечами: — Здесь или
в другом месте.
— Да, — подтвердил Матье.
— Я доволен, что увижу дочку, — сказал Жорж. — Если бы не
это... Я снова вернусь в контору; я не очень лажу с женой... Будем
опять читать газеты, волноваться из-за Данцига; все начнется, как
в прошлом году. — Он зевнул и добавил: — Жизнь везде одинакова,
правда?
— Везде одинакова.
Они вяло улыбнулись. Им больше нечего было друг другу
сказать.
— До скорого, — сказал Жорж.
— До скорого.
По другую сторону решетки играли на аккордеоне. По другую
сторону решетки был Нанси, был Париж, четырнадцать часов
лекций в неделю, Ивиш, Борис, может быть, Ирен. Жизнь везде
одинакова, всегда одинакова. Он медленным шагом пошел к решетке.
— Осторожно!
ОТСРОЧКА
671
Солдаты сделали ему знак отойти: они на земле провели линию
и без особого пыла играли в расшибалочку. Матье на минуту
остановился: он увидел, как катились монетки, а потом другие, а потом
еще одна. Время от времени монета вращалась вокруг своей оси, как
волчок, спотыкалась и падала на другую монету, наполовину
закрывая ее. Тогда солдаты выпрямлялись и вопили. Матье пошел
дальше. Столько поездов и грузовиков бороздили Францию,
столько мук, столько денег, столько слез, столько криков по всем радио
мира, столько угроз и вызовов на всех языках, столько сборищ — и
все пришло к тому, чтобы кружить по двору и бросать монеты в
пыль. Все эти люди сделали над собой усилие, чтобы уехать с
сухими глазами, все вдруг посмотрели смерти в лицо, и все после многих
затруднений или же смиренно приняли решение умереть. Теперь
они ошалели и, опустив руки, были втянуты этой жизнью, которая
нахлынула на них, которую им еще оставляли на миг, на малый миг,
и с которой они уже не знали, что делать. «Это день обманутых», —
подумал Матье. Он схватил прутья решетки и посмотрел наружу:
солнце на пустой улице. На торговых улицах городов уже сутки был
мир. Но вокруг казарм и фортов оставался смутный военный туман,
который никак не рассеивался. Невидимый аккордеон играл «Ля
Мадлон»; теплый ветерок поднял на дороге вихрь пыли. «А моя
жизнь, что я с ней буду делать?» Это было совсем просто: в Париже
на улице Юнгенс была квартира, которая его ждала: две комнаты,
центральное отопление, вода, газ, электричество, зеленые кресла и
бронзовый краб на столе. Он вернется к себе, вставит ключ в
замочную скважину; он снова займет свою кафедру в лицее Бюффон.
И ничего не произойдет. Совсем ничего. Привычная жизнь ждала
его, он ее оставил в кабинете, в спальне; он проскользнет в нее без
затруднений, никто не причинит ему затруднений, никто не
намекнет о встрече в Мюнхене, через три месяца все будет забыто,
останется всего лишь маленький невидимый шрам на непрерывности
его жизни, маленький излом: воспоминания об одной ночи, когда
он посчитал, что уходит на войну.
«Я не хочу, — подумал он, изо всех сил сжимая прутья
решетки. — Я не хочу! Этого не будет!» Он резко обернулся и, улыбаясь,
посмотрел на блестящие от солнца окна. Он чувствовал себя
сильным; в глубине души появилась маленькая тревога, которую он
начинал узнавать, маленькая тревога, которая придавала ему
уверенности. Не важно кто; не важно где. Он больше ничем не владел,
672
Жан Поль Сартр
он больше ничем не был. Мрачная позавчерашняя ночь не будет
потеряна; эта большая суматоха не будет совсем бесполезной.
«Пусть они вложат в ножны свои сабли, если хотят; пусть начинают
войну, пусть не начинают, мне наплевать; я не одурачен».
Аккордеон умолк. Матье снова закружил по двору. «Я останусь
свободным», — подумал он.
Самолет описывал широкие круги над Бурже, черная
волнообразная смола покрывала половину посадочной полосы. Леже
наклонился к Даладье и крикнул, показывая на нее:
— Какая толпа!
Даладье, в свою очередь, посмотрел; он в первый раз после их
отлета из Мюнхена заговорил:
— Они пришли набить мне морду!
Леже не возразил. Даладье пожал плечами:
— Я их понимаю.
— Все зависит от службы охраны порядка, — вздыхая, сказал
Леже.
Он вошел в комнату с газетами. Ивиш сидела на кровати,
опустив голову.
— Так и есть! Сегодня ночью подписали.
Она подняла глаза, у него был счастливый вид, но он замолчал,
внезапно смутившись от взгляда, который она на нем остановила.
— Вы хотите сказать, что войны не будет? — спросила она.
— Ну да.
Войны не будет; не будет самолетов над Парижем; потолки не
рухнут под бомбами: нужно будет жить.
— Войны не будет, — рыдая, говорила она, — не будет, а у вас
довольный вид!
Милан подошел к Анне, он спотыкался, у него были красные
глаза. Он дотронулся до ее живота и сказал:
— Вот кому не повезет.
-Что?
— Малыш. Я говорю, что ему не повезет.
Он, прихрамывая, дошел до стола и налил себе стакан. С утра
это был пятый.
— Помнишь, — сказал он, — ты однажды упала с лестницы? Я
тогда подумал, что у тебя будет выкидыш.
— Ну и что? — сухо спросила она.
Он повернулся к ней со стаканом в руке; у него был вид
человека, произносящего тост.
ОТСРОЧКА
673
— Это было бы лучше, — усмехаясь, ответил он.
Она посмотрела на него: он подносил ко рту стакан, и рука его
мелко дрожала.
— Может быть, — сказала она. — Может быть, это было бы и
лучше.
Самолет сел. Даладье с трудом вышел из салона и поставил ногу
на трап; он был бледен. Раздался дикий вопль, и люди побежали,
прорвав полицейский кордон, снося барьеры; Милан выпил и,
смеясь, провозгласил: «За Францию! За Англию! За наших славных
союзников!» Потом он изо всех сил швырнул стакан о стену; они
кричали: «Да здравствует Франция! Да здравствует Англия! Да
здравствует мир!», они размахивали флагами и букетами. Даладье
остановился на первой ступеньке; он ошеломленно смотрел на них.
Он повернулся к Леже и процедил сквозь зубы:
— Ну и мудаки!
Смерть в душе
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Нью-Йорк, 9 часов утра,
суббота, 15 июня 1940 г.
Спрут? Он взял нож, открыл глаза, это был сон. Нет. Спрут был
здесь, он его всасывал своими щупальцами: жара. Он потел. Он
уснул к часу ночи; в два часа жара его разбудила, весь в поту, он
бросился в холодную ванну, затем, не вытираясь, снова лег: и сразу
же после этого под его кожей опять загудела кузница, его снова
бросило в пот. На заре он уснул, ему снился пожар, теперь солнце,
конечно, было уже высоко, а Гомес все потел: он без передышки потел
уже двое суток. «Боже мой!» — вздохнул он, проводя влажной рукой
по мокрой груди. Это была уже не жара; это была болезнь
атмосферы: у воздуха была горячка, воздух потел, и ты потел в его поту.
Встать. Лучше уж потеть в рубашке. Он встал. «Hombre!* У меня
кончились рубашки!» Он промочил последнюю, голубую, так как
вынужден был переодеваться дважды в день. Теперь кончено: он
будет напитывать эту влажную вонючую тряпку, пока белье не
вернется из прачечной. Он осторожно встал, но не смог избежать
водопада, капли катились по бокам, как вши, они его щекотали.
Изжеванная рубашка, в сплошных складках, на спинке кресла. Он ее
пощупал: ничто никогда не высыхает в этой блядской стране. Сердце
его колотилось, горло одеревенело, словно он накануне напился.
Он надел брюки, подошел к окну и раздвинул шторы: на улице
свет, белый, как катастрофа; и впереди еще тринадцать часов
света. Он с тревогой и гневом посмотрел на мостовую. Та же
катастрофа; там, на жирной черной земле, под дымом, кровью и криками;
здесь, между красными кирпичными домиками свет, именно свет
и обильный пот. Но это была та же самая катастрофа. Смеясь,
* Вот это да! (исп.)
678
Жан Поль Сартр
прошагали два негра, женщина вошла в аптеку. «Боже мой! —
вздохнул он. — Господи!» Он видел, как кричали все эти краски:
даже если бы у меня было время, даже если бы у меня было
настроение, как можно рисовать с этим светом! «Господи! —
повторил он. — Господи!»
Позвонили. Гомес пошел открывать. На пороге стоял Ричи.
— Убийственно, — входя, сказал Ричи.
Гомес вздрогнул:
-Что?
— Эта жара: убийственно. Как, — с упреком добавил он, — ты еще
не одет? Рамон ждет нас к десяти часам.
Гомес пожал плечами:
— Я поздно заснул.
Ричи, улыбаясь, посмотрел на него, и Гомес живо добавил:
— Слишком жарко. Я не мог уснуть.
— Первое время всегда так, — снисходительно сказал Ричи. —
Потом привыкнешь. — Он внимательно посмотрел на него. — Ты
принимаешь солевые пилюли?
— Естественно, но толку никакого.
Ричи покачал головой, и его доброжелательность оттенилась
строгостью: солевые таблетки должны были мешать потеть. Если
они не действовали на Гомеса, значит, он был не таким, как все.
— Но позволь! — сказал он, хмуря брови. — Ты ведь должен быть
натренирован: в Испании тоже жарко.
Гомес подумал о сухих и трагических утрах Мадрида, об этом
благородном свете над Алькалой, в котором была еще надежда; он
покачал головой:
— Это не та жара.
— Менее влажная, да? — с некоей гордостью спросил Ричи.
— Да. И более человечная.
Ричи держал газету; Гомес протянул было руку, чтобы взять ее,
но не осмелился. Рука опустилась.
— Нынче большой день, — весело сказал Ричи, — праздник
Делавэра. Ты знаешь, я ведь из этого штата.
Он открыл газету на тринадцатой странице; Гомес увидел
фотографию: мэр Нью-Йорка Ла Гардиа пожимал руку толстому
мужчине, оба самозабвенно улыбались.
— Этот тип слева — губернатор Делавэра, — пояснил Ричи. — Ла
Гардиа принял его вчера в World Hall*. Это было превосходно.
* Всемирный зал (англ.).
СМЕРТЬ В ДУШЕ
679
Гомес хотел вырвать у него газету и посмотреть на первую
страницу. Но подумал: «Плевать» — и прошел в туалет. Он пустил в
ванну холодную воду и быстро побрился. Когда он залезал в ванну,
Ричи ему крикнул:
— Как ты?
— Исчерпал все средства. У меня больше нет ни одной рубашки,
и осталось всего восемнадцать долларов. И потом, в понедельник
возвращается Мануэль, я должен вернуть ему квартиру.
Но он думал о газете: Ричи, ожидая его, читал; Гомес слышал,
как он шелестит страницами. Он старательно вытерся; все
напрасно: вода сильно намочила полотенце. Он с дрожью надел влажную
рубашку и вернулся в спальню.
— Матч гигантов.
Гомес непонимающе посмотрел на Ричи.
— Вчерашний бейсбол. «Гиганты» выиграли.
— Ах да, бейсбол...
Гомес наклонился, чтобы зашнуровать туфли. Он снизу
пытался прочесть заголовок на первой странице. Наконец он спросил:
— А что Париж?
— Ты не слышал радио?
— У меня нет радио.
— Кончен, пропал, — мирно сказал Ричи. — Они вошли туда
сегодня ночью.
Гомес направился к окну, прильнул лбом к раскаленному стеклу,
посмотрел на улицу, на это бесполезное солнце, на этот бесполезный
день. Отныне будут только бесполезные дни. Он повернулся и
тяжело сел на кровать.
— Поторопись, — напомнил Ричи. — Рамон не любит ждать.
Гомес встал. Рубашка уже вымокла насквозь. Он пошел к
зеркалу завязать галстук:
— Он согласен?
— В принципе — да. Шестьдесят долларов в неделю за твою
хронику выставок. Но он хочет тебя видеть.
— Увидит, — сказал Гомес. — Увидит.
Он резко обернулся:
— Мне нужен аванс. Надеюсь, он не откажет?
Ричи пожал плечами. Через некоторое время он ответил:
— Я ему говорил, что ты из Испании, и он опасается, как бы ты
не оказался сторонником Франко; но я ему не сказал о... твоих под-
680
Жан Поль Сартр
вигах. Не говори ему, что ты генерал: неизвестно, что у него на
душе.
Генерал! Гомес посмотрел на свои потрепанные брюки, на
темные пятна, которые пот уже оставил на рубашке. И с горечью
проговорил:
— Не бойся, у меня нет желания хвастаться. Я знаю, чего здесь
стоит, что ты воевал в Испании: вот уже полгода, как я без работы.
Казалось, Ричи был задет.
— Американцы не любят войну, — сухо пояснил он.
Гомес взял под мышку пиджак:
— Пошли.
Ричи медленно сложил газету и встал. На лестнице он спросил:
— Твоя жена и сын в Париже?
— Надеюсь, что нет, — живо ответил Гомес. — Я очень надеюсь,
что Сара сообразит бежать в Монпелье.
Он добавил:
— У меня нет о них известий с первого июня.
— Если у тебя будет работа, ты сможешь их вызвать к себе.
— Да, — сказал Гомес. — Да, да. Посмотрим.
Улица, сверкание окон, солнце на длинных плоских казармах из
почерневшего кирпича без крыши. У каждой двери ступеньки из
белого камня; марево зноя со стороны Ист-Ривер; город выглядел
хиреющим. Ни тени: ни на одной улице мира не чувствуешь себя
так ужасно, весь на виду. Раскаленные добела иголки вонзились ему
в глаза: он поднял руку, чтобы защититься, и рубашка прилипла к
коже. Он вздрогнул:
— Убийственно!
— Вчера, — говорил Ричи, — передо мной рухнул какой-то
бедняга старик: солнечный удар. Брр, — поежился он. — Не люблю
видеть мертвых.
«Поезжай в Европу, там насмотришься», — подумал Гомес.
Ричи добавил:
— Это через сорок кварталов. Поедем автобусом.
Они остановились у желтого столба. Молодая женщина ждала
автобус. Она посмотрела на них опытным угрюмым взглядом,
потом повернулась к ним спиной.
— Какая красотка, — ребячески заметил Ричи.
— У нее вид потаскухи, — с обидой буркнул Гомес.
Он почувствовал себя под этим взглядом грязным и потным.
Она не потела. Ричи тоже был розовым и свежим в красивой белой
СМЕРТЬ В ДУШЕ
681
рубашке, его вздернутый нос едва блестел. Красавец Гомес.
Красавец генерал Гомес. Генерал склонялся над голубыми, зелеными,
черными глазами, затуманенными трепетом ресниц; потаскуха
увидела только маленького южанина с полсотней долларов в неделю,
потеющего в костюме из магазина готового платья. «Она меня
приняла за даго*». Тем не менее он посмотрел на красивые длинные
ноги и снова покрылся потом. «Четыре месяца, как я не имел
женщины». Когда-то желание пылало сухим солнцем у него в животе.
Теперь красавец генерал Гомес упивался постыдными и тайными
вожделениями зрителя.
— Сигарету хочешь? — предложил Ричи.
— Нет. У меня горит в горле. Лучше б выпить.
— У нас нет времени.
Он со смущенным видом похлопал его по плечу.
— Попытайся улыбнуться, — сказал он.
-Что?
— Попытайся улыбнуться. Если Рамон увидит у тебя такую
физиономию, ты нагонишь на него страх. Я не прошу тебя быть
подобострастным, — живо добавил он в ответ на недовольный жест
Гомеса. — Войдя, ты приклеишь к губам совершенно нейтральную
улыбку и там ее и забудешь; в это время ты можешь думать о чем
хочешь.
— Хорошо, я буду улыбаться, — согласился Гомес.
Ричи участливо посмотрел на него.
— Ты тревожишься из-за сына?
-Нет.
Ричи сделал тягостное мыслительное усилие.
— Из-за Парижа?
— Плевать мне на Париж! — запальчиво выкрикнул Гомес.
— Хорошо, что его взяли без боя, правда?
— Французы могли его защитить, — бесстрастно ответил Гомес.
— Ой ли! Город на равнине?
— Они могли его защитить. Мадрид держался два с половиной
года...
— Мадрид... — махнув рукой, повторил Ричи. — Но зачем
защищать Париж? Это глупо. Они бы разрушили Лувр, Оперу, собор
Парижской Богоматери. Чем меньше будет ущерба, тем лучше.
Теперь, — с удовлетворением добавил он, — война закончится
скоро.
* Мексиканец (амер. жаргон).
682
Жан Поль Сартр
— А как же! — насмешливо подхватил Гомес. — При таком ходе
событий через три месяца воцарится нацистский мир.
— Мир, — сказал Ричи, — не бывает ни демократическим, ни
нацистским: мир — это просто мир. Ты прекрасно знаешь, что я не
люблю гитлеровцев. Но они такие же люди, как и все остальные.
После завоевания Европы у них начнутся трудности, и им придется
умерить аппетиты. Если они благоразумны, то позволят каждой
стране быть частью европейской федерации. Нечто вроде наших
Соединенных Штатов. — Ричи говорил медленно и рассудительно.
Он добавил: — Если это помешает вам воевать предстоящие
двадцать лет, это уже будет достижением.
Гомес с раздражением посмотрел на него: в серых глазах была
огромная добрая воля. Ричи был весел, любил человечество, детей,
птиц, абстрактное искусство; он думал, что даже с грошовым
разумом все конфликты будут разрешены. Он не особенно почитал
эмигрантов латинской расы; он больше ладил с немцами. «Что для
него падение Парижа?» Гомес отвернулся и посмотрел на
разноцветный лоток продавца газет: Ричи вдруг показался ему
безжалостным.
— Вы, европейцы, — продолжал Ричи, — всегда привязываетесь
к символам. Уже неделя, как все знают, что Франция разбита.
Ладно: ты там жил, ты там оставил воспоминания, я понимаю, что это
тебя огорчает. Но падение Парижа? Что это значит, если город
остался цел? После войны мы туда вернемся.
Гомес почувствовал, как его приподнимает грозная и гневная
радость:
— Что это для меня значит? — спросил он дрожащим голосом. —
Это мне доставляет радость! Когда Франко вошел в Барселону,
французы качали головами, они говорили, что это прискорбно; но
ни один не пошевелил и мизинцем. Что ж, теперь их очередь, пусть
и они свое отведают! Это мне доставляет радость! — крикнул он в
грохоте автобуса, который остановился у тротуара. — Это мне
доставляет радость!
Они вошли в автобус за молодой женщиной. Гомес сделал так,
чтобы при посадке увидеть ее подколенки; Ричи и Гомес остались
стоять. Толстый мужчина в золотых очках поспешно отодвинулся
от них, и Гомес подумал: «От меня, вероятно, пахнет». В последнем
ряду сидячих мест один человек развернул газету. Гомес прочел
через его плечо: «Тосканини устроили овацию в Рио, где он играет
впервые за пятьдесят четыре года». И ниже: «Премьера в Нью-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
683
Йорке: Рей Милланд и Лоретта Янг в «Доктор женится». Там и тут
другие газеты расправляли крылья: Ла Гардиа принимает
губернатора Делавэра; Лоретта Янг, пожар в Иллинойсе; Рей Милланд; муж
полюбил меня с того дня, как я пользуюсь дезодорантом «Пите»;
покупайте «Крисаргил», слабительное медовых месяцев; мужчина
в пижаме улыбался своей молодой супруге; Ла Гардиа улыбался
губернатору Делавэра; «Шахтеры кусок пирога не получат»,
заявляет Бадди Смит. Они читали; широкие черно-белые страницы
говорили им о них самих, об их заботах, об их удовольствиях; они
знали, кто такой Бадди Смит, а Гомес этого не знал; они
поворачивали к солнцу, к спине водителя большие буквы: «Взятие Парижа»
или же «Монмартр в огне». Они читали, и газеты голосили в их
руках, но их никто не слушал. Гомес почувствовал, как он постарел
и устал. Париж далеко; среди ста пятидесяти миллионов он был
один, кто им интересовался, это была всего лишь небольшая личная
проблема, едва ли более значимая, чем жажда, раскаляющая ему
горло.
— Дай мне газету! — сказал он Ричи.
Немцы занимают Париж. Наступление на юге. Взятие Гавра.
Прорыв линии Мажино.
Буквы кричали, но три негра, болтавшие позади него,
продолжали смеяться, не слыша этого крика.
Французская армия невредима. Испания захватила Танжер.
Мужчина в золотых очках методично рылся в портфеле, он
вынул из него большой ключ, который удовлетворенно рассматривал.
Гомесу стало стыдно, ему хотелось сложить газету, как будто там
бесстыдно разглашались его самые сокровенные тайны. Эти
отчаянные вопли, заставляющие дрожать его руки, эти призывы о
помощи, эти хрипы были здесь слишком неуместны, как его пот
иностранца, как его слишком сильный запах.
Обещания Гитлера подвергаются сомнению; президент
Рузвельт не верит, что... Соединенные Штаты сделают все возможное
для союзников. Правительство Его Величества сделает все
возможное для чехов, французы сделают все возможное для
республиканцев Испании. Перевязочные материалы, медикаменты,
консервированное молоко. Позор! Студенческая демонстрация в Мадриде с
требованием возвратить Гибралтар испанцам. Он увидел слово
«Мадрид» и не смог читать дальше. «Здорово сработано, негодяи!
Негодяи! Пусть они поджигают Париж со всех четырех сторон;
пусть они превратят его в пепел».
684
Жан Поль Сартр
Тур (от нашего собственного корреспондента Аршамбо):
сражение продолжается, французы заявляют, что вражеский натиск
ослабевает; серьезные потери у нацистов.
Естественно, натиск ослабевает, он будет ослабевать до
последнего дня и до последней французской газеты; серьезные потери,
жалкие слова, последние слова надежды, не имеющие больше
оснований; серьезные потери у нацистов под Таррагоном; натиск
ослабевает; Барселона будет держаться... а на следующий день —
беспорядочное бегство из города.
Берлин (от нашего собственного корреспондента Брукса Питер-
са): Франция потеряла всю свою промышленность; Монмеди взят;
линия Мажино прорвана с ходу; враг обращен в бегство.
Песнь славы, трубная песнь, солнце; они поют в Берлине, в
Мадриде, в своей военной форме, в Барселоне, в Мадриде, в своей
военной форме; в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Варшаве, Париже;
а завтра — в Лондоне. В Туре господа французские чиновники в
черных сюртуках бегали по коридорам отелей. Здорово сработано!
Это здорово, пусть берут все, Францию, Англию, пусть
высаживаются в Нью-Йорке, здорово сработано!
Господин в золотых очках смотрел на него: Гомесу стало стыдно,
словно он закричал. Негры улыбались, молодая женщина
улыбалась, кондуктор улыбался, not to grin is a sin*.
— Выходим, — улыбаясь, сказал Ричи.
С афиш, с обложек журналов улыбалась Америка. Гомес
подумал о Рамоне и тоже улыбался.
— Десять часов, — сказал Ричи, — мы опоздали только на пять
минут.
Десять часов, значит, во Франции три часа: бледный, лишенный
надежды день таился в глубине этого заморского утра.
Три часа во Франции.
— Вот и приехали, — сказал владелец машины.
Он окаменел за рулем; Сара видела, как пот струится по его
затылку; за спиной неистовствовали клаксоны.
— Бензин кончился!
Он открыл дверцу, спрыгнул на дорогу и стал перед машиной.
Он нежно смотрел на нее.
— Мать твою! — сквозь зубы процедил он. — Мать твою за
ногу!
* Не улыбаться — это грех (англ.).
СМЕРТЬ В ДУШЕ
685
Он нежно гладил рукой горячий капот: Сара видела его через
стекло на фоне сверкающего неба, среди всего этого
столпотворения; машины, за которыми они ехали с утра, исчезли в облаке пыли.
А сзади — гудки, свистки, сирены: клокотание железных птиц, песнь
ненависти.
— Почему они сердятся? — спросил Пабло.
— Потому что мы загораживаем им дорогу.
Она хотела выйти из машины, но отчаяние вдавливало ее в
сиденье. Водитель поднял голову.
— Выходите же! — раздраженно сказал он. — Вы что, не
слышите, как гудят? Помогите мне подтолкнуть машину.
Они вышли.
— Идите назад, — сказал водитель Саре, — и толкайте получше.
— Я тоже хочу толкать! — пискнул Пабло.
Сара уперлась в машину и, закрыв глаза, в кошмаре толкала изо
всех сил. Пот пропитал ее блузку; сквозь закрытые веки солнце
выкалывало ей глаза. Она их открыла: перед ней водитель толкал
левой рукой, упираясь в дверцу, а правой крутил руль; Пабло
бросился к заднему буферу и с дикими криками уцепился за него.
— Не растянись, — сказала Сара.
Машина вяло катилась по обочине дороги.
— Стоп! Стоп! — сказал водитель. — Хватит, хватит, черт
побери!
Гудки умолкли: поток восстановился. Машины шли мимо
застрявшего автомобиля, лица приникали к стеклам; Сара
почувствовала, что краснеет под взглядами, и спряталась за машиной.
Высокий худой человек за рулем «шевроле» крикнул им:
— Выблядки!
Грузовики, грузовички, частные машины, такси с черными
занавесками, кабриолеты. Каждый раз, когда мимо них проходила
машина, Сара теряла надежду — Жьен еще больше удалялся от них.
Потом пошла вереница тележек, и Жьен, скрипя, продолжал
удаляться; затем дорогу покрыла черная смола пешеходов. Сара
спряталась у края кювета: толпы наводили на нее страх. Люди шли
медленно, с трудом, страдание придавало им семейный вид: любой,
кто войдет в их ряды, будет на них походить. Я не хочу. Я не хочу
стать, как они. Они на нее не смотрели; они обходили машину, не
глядя на нее: у них больше не было глаз. Гигант в канотье с
чемоданом в каждой руке задел автомобиль, как слепой ударился о крыло,
повернулся вокруг своей оси и, шатаясь, пошел снова. Он был бле-
686
Жан Поль Сартр
ден. На одном из чемоданов были разноцветные наклейки: Севилья,
Каир, Сараево, Стреса.
— Он умирает от усталости, — крикнула Сара. — Он сейчас
упадет.
Но он не падал. Сара проследила глазами за канотье с красно-
зеленой лентой, которое легкомысленно раскачивалось над морем
шляп.
— Берите чемодан и добирайтесь дальше без меня.
Сара, не отвечая, вздрогнула: она затравленно, с отвращением
смотрела на толпу.
— Вы слышите, что я вам говорю?
Она повернулась к нему:
— Но ведь можно подождать проходящую машину и попросить
канистру бензина? После пешеходов будут еще автомобили.
Водитель нехорошо улыбнулся:
— Я вам не советую даже пытаться.
— А почему нет? Почему бы не попытаться?
Он презрительно сплюнул и некоторое время не отвечал.
— Вы же их видели? — наконец сказал он. — Они толкают друг
дружку в задницу. Так с чего бы им останавливаться?
— А если я найду бензин?
— Говорю же вам, не найдете. Вы что, думаете, они из-за вас
потеряют свой ряд? — Он, ухмыляясь, смерил ее взглядом. — Будь вы
красивой девчонкой и будь вам двадцать лет, но я молчу, молчу.
Сара сделала вид, что не слышит его. Она настаивала:
— Но если я все-таки достану?
Он с упрямым видом покачал головой:
— Не стоит. Я дальше не поеду. Даже если вы достанете двадцать
литров, даже если сто. Баста.
Он скрестил руки.
— Вы отдаете себе отчет? — сурово сказал он. — Тормозить,
заноситься на повороте, включать сцепление каждые двадцать метров.
Менять скорость сто раз в час: это значит загубить машину!
На стекле были коричневые пятна. Он вынул платок и
заботливо их вытер.
— Я не должен был соглашаться.
— Вам нужно было только взять побольше бензина, — сказала
Сара.
Тот, не отвечая, покачал головой; ей захотелось дать ему
пощечину. Но она сдержалась и спокойно сказала:
СМЕРТЬ В ДУШЕ
687
— Итак, что вы собираетесь делать?
— Остаться здесь и ждать.
— Ждать чего?
Он не ответил. Она изо всех сил стиснула ему запястье.
— Да знаете ли вы, что с вами случится, если вы здесь
останетесь? Немцы депортируют всех годных к военной службе.
— Конечно! А еще они отрубят руки вашему малышу и залезут
на вас, если у них хватит смелости. Все это враки: они, конечно, и
на четверть не такие, какими их расписывают.
У Сары пересохло в горле, губы ее дрожали. Почти равнодушно
она сказала:
— Ладно. Где мы находимся?
— В двадцати четырех километрах от Жьена.
«Двадцать четыре километра! И все-таки я не буду плакать
перед этой скотиной». Она залезла в машину, забрала чемодан, вышла,
взяла за руку Пабло.
— Пошли, Пабло.
— Куда?
— В Жьен.
— Это далеко?
— Далековато, но я тебя понесу, как только ты устанешь. И
потом, — с вызовом добавила она, — бесспорно, найдутся добрые
люди, которые нам помогут.
Водитель стал перед ними и преградил им путь. Он хмурил
брови и обеспокоенно чесал в затылке.
— Чего вы хотите? — сухо спросила Сара.
Он и сам толком не знал, чего хотел. Он смотрел то на Сару, то
на Пабло; он выглядел растерянным.
— Так что? — неуверенно спросил он. — Так и уходим? Даже не
сказав спасибо?
— Спасибо, — очень быстро сказала Сара. — Спасибо.
Но его томил гнев, и он дал ему волю. Лицо его побагровело.
— А мои двести франков? Где они?
— Я вам ничего не должна, — сказала Сара.
— Разве вы не обещали мне двести франков? Сегодня утром? В
Мелене? В моем гараже?
— Да, если вы отвезете меня в Жьен; но вы бросаете меня с
ребенком на полдороге.
— Это не я вас бросаю, это мой драндулет виноват.
688
Жан Поль Сартр
Он покачал головой, и вены у него на висках вздулись. Его
глаза заблестели. Но Сара его не боялась.
— Отдайте мне двести франков.
Она порылась в сумочке.
— Вот сто франков. Вы, конечно, богаче меня, и я вам их не
должна. Я вам их отдаю, чтобы вы оставили меня в покое.
Он взял купюру и положил ее в карман, потом снова протянул
руку. Он был очень красный, с открытым ртом и блуждающими
глазами.
— Вы мне должны еще сто франков.
— Вы больше не получите ни гроша. Пропустите меня.
Он не шевелился, обуреваемый противочувствиями. В
действительности они ему не нужны были, эти сто франков; может, он
хотел, чтобы малыш поцеловал его перед уходом: он просто перевел
это желание на свой язык. Он подошел к ней, и она поняла, что
сейчас он возьмет чемодан.
— Не прикасайтесь ко мне.
— Или сто франков, или я беру чемодан.
Они смотрели друг на друга в упор. Ему совсем не хотелось
брать чемодан, это было очевидно, а Сара так устала, что охотно
отдала бы его ему. Но теперь нужно было доиграть сцену до конца.
Они колебались, как будто забыли слова своей роли; потом Сара
сказала:
— Попробуйте его отнять! Попробуйте!
Он схватил чемодан за ручку и начал тянуть к себе. Он мог бы
его отнять одним рывком, но он ограничился тем, что тянул
вполсилы, отвернувшись, Сара тянула к себе; Пабло начал плакать.
Стадо пешеходов было уже далеко; теперь снова двинулся поток
автомобилей. Сара почувствовала, как она нелепа. Она с силой
тянула за ручку; он тянул сильнее со своей стороны и в конце концов
вырвал его у нее. С удивлением смотрел он на Сару и на чемодан;
возможно, он не собирался его отнимать, но теперь кончено:
чемодан был у него в руках.
— Отдайте сейчас же чемодан! — потребовала Сара.
Он не отвечал, вид у него был по-идиотски упорный. Гнев
приподнял Сару и бросил ее к машинам.
— Грабят! — крикнула она.
Длинный черный «бьюик» проезжал рядом с ними.
— Хватит дурить! — сказал шофер.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
689
Он схватил ее за плечо, но она вырвалась; слова и жесты ее были
непринужденны и точны. Она прыгнула на подножку «бьюика» и
уцепилась за ручку дверцы.
— Грабят! Грабят!
Из машины высунулась рука и оттолкнула ее.
— Сойдите с подножки, вы разобьетесь.
Она почувствовала, что теряет рассудок: так было даже лучше.
— Остановитесь! — закричала она. — Грабят! На помощь!
— Да сойдите же! Как я могу остановиться: в меня врежутся.
Гнев Сары угас. Она спрыгнула на землю и оступилась. Шофер
подхватил ее на лету и поставил на ноги. Пабло кричал и плакал.
Праздник закончился: Саре хотелось умереть. Она порылась в
сумочке и достала оттуда сто франков.
— Вот! И пусть вам будет стыдно!
Субъект, не поднимая глаз, взял купюру и выпустил из рук
чемодан.
— Теперь пропустите нас.
Он посторонился; Пабло продолжал плакать.
— Не плачь, Пабло, — твердо сказала она. — Все, все кончено;
мы уходим.
Она удалилась. Водитель проворчал им в спину:
— А кто бы мне заплатил за бензин?
Удлиненные черные муравьи заполнили всю дорогу; Сара
некоторое время пыталась идти между ними, но рев клаксонов за
спиной вытеснил их на обочину.
— Иди за мной.
Она подвернула ногу и остановилась.
— Сядь.
Они сели в траву. Перед ними ползли насекомые, огромные,
медлительные, таинственные; водитель повернулся к ним спиной,
он еще сжимал в руке бесполезные сто франков; автомобили
поскрипывали, как омары, пели, как кузнечики. Люди превратились
в насекомых. Ей стало страшно.
— Он злой, — сказал Пабло. — Злой! Злой!
— Никто не злой! — страстно сказала Сара.
— Тогда почему что он взял чемодан?
— Не говорят: почему что. Почему он взял чемодан.
— Почему он взял чемодан?
— Ему страшно, — пояснила она.
690
Жан Поль Сартр
— Чего мы ждем? — спросил Пабло.
— Чтобы прошли автомобили и мы двинулись дальше.
Двадцать четыре километра. Малыш самое большее сможет
пройти восемь. Вдруг она вскарабкалась на насыпь и замахала
рукой. Машины проходили мимо, и она чувствовала, что ее видят
спрятанные глаза, странные глаза мух, муравьев.
— Что ты делаешь, мама?
— Ничего, — горько сказала Сара. — Так, глупости.
Она спустилась в кювет, взяла за руку Пабло, и они молча
посмотрели на дорогу. На дорогу и на скорлупки, которые ползли по
ней. Жьен, двадцать четыре километра. После Жьена — Невер, Ли-
мож, Бордо, Андай, консульства, хлопоты, унизительные ожидания
в конторах. Им очень повезет, если она найдет поезд на Лиссабон.
В Лиссабоне будет чудо, если окажется пароход на Нью-Йорк. А в
Нью-Йорке? У Гомеса ни гроша, возможно, он живет с какой-
нибудь женщиной; это будет несчастье, кромешный срам. Он
прочтет телеграмму, скажет «Черт побери!». Потом он обернется к
толстой блондинке с сигаретой, зажатой в скотских губах, и скажет ей:
«Моя жена приезжает, это как снег на голову!» Он на набережной,
все машут платками, он не машет своим, он злым взглядом смотрит
на сходни. «Давай! Давай! — подумала она. — Будь я одна, ты бы
никогда больше не услышал обо мне; но мне нужно жить, чтобы
воспитать ребенка, которого ты мне сделал».
Автомобили исчезли, дорога опустела. По обе стороны дороги
тянулись желтые поля и холмы. Какой-то мужчина промчался на
велосипеде; бледный и потный, он сильно нажимал на педали.
Растерянно посмотрев на Сару, он не останавливаясь крикнул:
— Париж горит! Зажигательные бомбы!
-Как?
Но он уже доехал до последних машин, она увидела, как он
сзади подцепился к «рено». Париж в огне. Зачем жить? Зачем
спасать эту маленькую жизнь? Чтобы он бродил из страны в страну,
горестный и боязливый; чтобы он полвека пережевывал проклятие,
которое тяготеет над его расой? Чтобы он погиб в двадцать лет на
простреливаемой дороге, держа в руках свои кишки? От отца ты
унаследуешь спесь, жестокость и чувственность. От меня — только
мое еврейство. Она взяла его за руку:
— Ну, пошли! Пора.
Толпа запрудила дорогу и поля, плотная и упорная,
беспощадная: наводнение. Ни звука, кроме шипящего шарканья подошв о
СМЕРТЬ В ДУШЕ
691
землю. На мгновение Сара почувствовала ужас; ей захотелось
бежать в поле, но она взяла себя в руки, схватила Пабло, увлекла его
за собой, отдалась течению. Запах. Запах людей, горячий и пресный,
болезненный, резкий, с привкусом одеколона; противоестественный
запах мыслящих животных. Между двумя красными затылками,
втиснутыми в котелки, Сара увидела вдалеке последние убегающие
машины, последние надежды. Пабло засмеялся, и Сара вздрогнула.
— Замолчи! — смущенно сказала она. — Не нужно смеяться.
Он продолжал тихо смеяться.
— Почему ты смеешься?
— Как на похоронах, — объяснил он.
Сара угадывала лица и глаза справа и слева от себя, но не смела
на них посмотреть. Они шли; они упорно продолжали идти, как она
упорно продолжала жить: стены пыли поднимались и
обрушивались на них; они продолжали идти. Сара, выпрямившись, с высоко
поднятой головой, устремила взгляд очень далеко над затылками и
повторяла себе: «Я не стану такой, как они». Но через какое-то
время этот коллективный марш пронзил ее, поднялся от бедер к
животу, начал биться в ней, как большое напружиненное сердце. Сердце
всех.
— Нацисты нас убьют, если схватят? — вдруг спросил Пабло.
— Тихо! — сказала Сара. — Я не знаю.
— Они убьют всех, кто здесь?
— Да замолчи же, говорю тебе, что не знаю.
— Тогда нужно бежать.
Сара стиснула его руку.
— Не беги. Останемся здесь. Они нас не убьют.
Слева от нее неровное дыхание. Она его слышала уже минут
пять, не остерегаясь. Оно проскользнуло в нее, разместилось у нее
в легких, стало ее дыханием. Она повернула голову и увидела
старуху с серыми космами, склеенными потом. Это была городская
старуха: бледные щеки, мешки под глазами, она тяжело дышала.
Должно быть, она прожила шестьдесят лет в одном из дворов Мон-
ружа, в одной из комнат за магазином Клиши; теперь ее выгнали на
дорогу; она прижимала к бедру продолговатый тюк; каждый ее шаг
был падением: она перепадала с ноги на ногу, и одновременно с этим
падала ее голова. «Кто ей посоветовал уходить, в ее-то возрасте?
Разве людям мало несчастий, чтобы еще нарочно придумывать новые?»
Доброта торкнулась ей в грудь, как молоко: «Я ей помогу, возьму у
нее тюк, разделю ее усталость, ее несчастья». Она мягко спросила:
692
Жан Поль Сартр
— Вы одна, мадам?
Старуха даже не повернула головы.
— Мадам, — громче сказала Сара, — вы одна?
Старуха с замкнутым видом посмотрела на нее.
— Я могу поднести вам тюк, — предложила Сара.
Некоторое время она подождала, глядя на тюк. Потом
настойчиво добавила:
— Дайте мне его, прошу вас: я его понесу, пока малыш может
идти сам.
— Я не отдам свой тюк, — сказала старуха.
— Но вы же выбились из сил; так вы не дойдете до цели.
Старуха бросила на нее ненавидящий взгляд и шагнула в
сторону.
— Я никому не отдам свой тюк, — повторила она.
Сара вздохнула и замолчала. Ее невостребованная доброта
разрывала ее, как газ. Они не хотят, чтобы их любили. Несколько голов
повернулись к ней, и она покраснела. Они не хотят, чтобы их
любили, у них нет к этому привычки.
— Еще далеко, мама?
— Почти столько же, — раздраженно ответила Сара.
— Понеси меня, мама.
Сара пожала плечами. «Он ломает комедию, он ревнует, потому
что я захотела нести старухин тюк».
— Попытайся еще немного идти сам.
— Я больше не могу, мама. Понеси меня.
Она со злостью вырвала руку: он высосет из меня все силы, и я
не смогу никому помочь. Она будет нести малыша, как старуха
несет свой тюк, она уподобится им.
— Понеси меня! — топая ногами, капризничал Пабло. — Понеси
меня!
— Ты еще не устал, Пабло, — строго прошептала она, — ты
только что вышел из машины.
Малыш снова засеменил. Сара шла, высоко подняв голову,
стараясь больше не думать о нем. Через какое-то время она краем
глаза на него посмотрела и увидела, что он плачет. Он плакал
смирно, бесшумно, для себя самого; время от времени он поднимал
кулачки, чтобы стереть слезы со щек. Она устыдилась и подумала: «Я
слишком сурова. Добра ко всем из гордости, сурова с ним, потому
что он мой». Она отдавала себя всем, она забывала себя, она
забывала, что она еврейка и сама преследуема, она убегала в безличное
СМЕРТЬ В ДУШЕ
693
милосердие, и в эти минуты она ненавидела Пабло, потому что он
был плотью от ее плоти и напоминал ей о ее расе. Она положила
большую руку на голову малыша и подумала: «Ты не виноват, что
у тебя лицо отца и раса матери». Свистящий хрип старухи проникал
ей в легкие. «Я не имею права быть великодушной». Она
перебросила чемодан в левую руку и присела.
— Обними меня руками за шею, — весело сказала Сара. —
Сделайся легким. Гоп! Я тебя поднимаю.
Пабло был тяжелым, бессмысленно смеялся, и солнце
высушивало его слезы; она стала подобной другим, стадным животным; языки
пламени лизали ей легкие при каждом вдохе; острая и обманчивая
боль пилила ей плечо; усталость, которая не была ни великодушной,
ни желаемой, била как в барабан в ее груди. Усталость матери и
еврейки, ее усталость, ее судьба. Надежда иссякла: она никогда не придет в
Жьен. Ни она, ни все другие. Надежды не было ни у кого — ни у
старухи, ни у двух затылков в котелках, ни у пары, которая толкала
велосипед-тандем со спущенными шинами. Но мы охвачены толпой,
толпа идет, и мы идем; мы всего лишь лапки этого нескончаемого
насекомого. К чему идти, если надежда умерла? К чему жить?
Когда толпа стала кричать, Сара слегка удивилась; она
остановилась в то время, как люди разбегались, прыгали под насыпь,
распластывались в кюветах. Она уронила чемодан и осталась посреди
дороги, прямая, одинокая и гордая; она слышала, как гудит небо,
она смотрела на свою уже довольно длинную тень у ног, она
прижимала Пабло к груди, ее уши заполнились грохотом; на какой-то
миг она словно умерла. Но шум утих, она увидела, как на глади неба
замелькали головастики, люди выходили из кюветов, нужно было
снова жить, снова идти.
— В итоге, — сказал Ричи, — он оказался не такой уж свиньей:
он предложил нам пообедать и дал тебе сто долларов аванса.
— Да, это так, — согласился Гомес.
Они были на первом этаже Музея современного искусства, в
зале временных выставок. Гомес стоял спиной к Ричи и к картинам:
он прижался лбом к оконному стеклу и смотрел наружу, на асфальт
и чахлый газон садика. Не оборачиваясь, он сказал:
— Теперь я, возможно, смогу думать не только о собственном
пропитании.
— Ты должен быть очень доволен, — благожелательно сказал
Ричи.
694
Жан Поль Сартр
Это был завуалированный намек: «Ты нашел себе местечко, все
к лучшему в этом лучшем из новых миров, и тебе подобает
демонстрировать примерный энтузиазм». Гомес бросил через плечо
мрачный взгляд на Ричи: «Доволен? Ты-то как раз доволен, потому что
я больше не буду сидеть у тебя на шее».
Он не чувствовал ни малейшей благодарности.
— Доволен? — сказал он. — Надо еще подумать.
Лицо Ричи стало слегка жестким.
— Ты недоволен?
— Надо еще подумать, — ухмыляясь, повторил Гомес.
Снова упершись лбом в стекло, он посмотрел на траву со
смесью вожделения и отвращения. До сегодняшнего утра, слава Богу,
краски его не волновали; он похоронил воспоминания о том
времени, когда бродил по улицам Парижа, завороженный, безумный
от гордости перед своей судьбой, сто раз на дню повторяя: «Я —
художник». Но Рамон дал денег, Гомес выпил чилийского белого
вина, он впервые за три года говорил о Пикассо. Рамон сказал:
«После Пикассо я не знаю, что еще может сделать художник», а
Гомес улыбнулся и сказал: «Я знаю», и сухое пламя воскресло в его
сердце. Выходя из ресторана, он чувствовал себя так, будто его
избавили от катаракты: все краски разом зажглись и радостно
встретили его, как в двадцать девятом году; это был бал, Карнавал,
Фантазия; люди и предметы были воспалены; фиолетовый цвет
платья окрашивал все в фиолетовый цвет, красная дверь аптеки
превращалась в темно-красную, краски переполняли предметы, как
обезумевшие пульсы; это были порывы вибрации, разбухавшие до
взрыва; сейчас предметы разорвутся или упадут в апоплексическом
ударе, и все это кричало, все диссонировало, все было частью
ярмарки. Гомес пожал плечами: ему возвращали краски, когда он
перестал верить в свою судьбу; я хорошо знаю, что нужно делать,
но это сделает кто-то другой. Он уцепился за руку Ричи; он
ускорил шаг и смотрел прямо перед собой, но краски осаждали его
сбоку, они вспыхивали у него в глазах, как пузыри крови и желчи.
Ричи привел его в музей, теперь он был там, внутри, и был этот
зеленый цвет по ту сторону стекла, этот незаконченный,
естественный, двусмысленный зеленый цвет, органическая секреция,
подобная меду и сырому молоку; этот зеленый цвет нужно было
взять; я его привлеку, я его накалю... Но что мне с ним делать: я
больше не могу рисовать. Он вздохнул: «Художественному
критику платят не за то, что он занимается дикой травой, он думает над
СМЕРТЬ В ДУШЕ
695
мыслью других. Краски других красовались перед ним на
полотнах: отрывки, разновидности, мысли. Им удалось принести
результаты; их увеличили, надули, толкнули к крайнему пределу их
самих, и они исполнили свою судьбу, оставалось только сохранить их
в музеях. Краски других: теперь это его жребий».
— Ладно, — сказал он, — пойду зарабатывать сто долларов.
Он обернулся и увидел пятьдесят полотен Мондриана на белых
стенах этой клиники: стерилизованная живопись в зале с
кондиционированным воздухом; ничего подозрительного; все защищено
от микробов и страстей. Он подошел к одной из картин и долго
рассматривал ее. Ричи следил за лицом Гомеса и заранее улыбался.
— Мне это ни о чем не говорит, — пробормотал Гомес.
Ричи перестал улыбаться, но понимающе посмотрел на него.
— Конечно, — тактично заметил он. — Это не может вернуться
сразу, тебе нужно привыкнуть.
— Привыкнуть? — зло переспросил Гомес. — Но не к этому же.
Ричи повернул голову к картине. Черная вертикаль,
перечеркнутая двумя горизонтальными полосами, возвышалась на сером
фоне; левый конец верхней полосы венчался голубым диском.
— Я думал, тебе нравится Мондриан.
— Я тоже так думал, — сказал Гомес.
Они остановились перед другим полотном; Гомес смотрел на
него и пытался вспомнить.
— Действительно необходимо, чтобы ты об этом написал? —
обеспокоенно спросил Ричи.
— Необходимо — нет. Но Рамон хочет, чтобы я посвятил ему
свою первую статью. Думаю, он считает, что это будет солидно.
— Будь осторожен, — сказал Ричи. — Не начинай с разноса.
— Почему бы и нет? — ощетинился Гомес.
Ричи улыбнулся со снисходительной иронией:
— Видно, что ты не знаешь американскую публику. Она очень
не любит, когда ее пугают. Начни с того, что сделай себе имя: пиши
о простом и естественном, и так, чтобы было приятно читать. А если
уж непременно хочешь напасть на кого-нибудь, в любом случае не
трогай Мондриана: это наш бог.
— Черт возьми, — сказал Гомес, — он совсем не задает вопросов.
Ричи покачал головой и несколько раз цокнул языком в знак
неодобрения.
— Он их задает в огромном количестве, — сказал он.
— Да, но не затруднительные вопросы.
696
Жан Поль Сартр
— А! — сказал Ричи. — Ты имеешь в виду что-нибудь о
сексуальности, или о смысле жизни, или об обнищании народа?
Действительно, ты научился в Германии Gründlichkeit*, а? — сказал он,
хлопая его по плечу. — Тебе не кажется, что это немного устарело?
Гомес не ответил.
— По-моему, — сказал Ричи, — искусство создано не для того,
чтобы задавать затруднительные вопросы. Представь себе, что
некто приходит ко мне и спрашивает, не желал ли я свою мать; я его
вышвырну вон, если только он не какой-нибудь ученый-
исследователь. И я не понимаю, почему художникам позволительно
спрашивать меня о моих комплексах. Я как все, — примирительным
тоном добавил он, — у меня свои проблемы. Только в тот день,
когда они меня беспокоят, я иду не в музей: я звоню психоаналитику.
У каждого свое ремесло: психоаналитик внушает мне доверие,
потому что он начал с собственного психоанализа. Пока художники
не будут поступать так, они будут говорить обо всем кстати и
некстати, и я не попрошу их поставить меня перед самим собой.
— А чего ты у них попросишь? — рассеянно спросил Гомес.
Он осматривал полотно с мрачным ожесточением. Он думал:
«Сколько воды!»
— Я у них попрошу чистоты, — сказал Ричи. — Это полотно...
-Что?
— Это ангельское деяние, — восторженно сказал Ричи. — Мы,
американцы, хотим живописи для счастливых людей или тех, кто
пытается быть счастливым.
— Я не счастливый, — сказал Гомес, — и я был бы негодяем, если
бы попытался им быть, когда все мои товарищи или в тюрьме, или
расстреляны.
Ричи снова цокнул языком.
— Старина, — сказал он, — я хорошо понимаю все твои
человеческие тревоги. Фашизм, поражение союзников, Испания, твоя
жена, твой сын: конечно! Но ведь иногда неплохо подняться над
всем этим.
— Ни на одно мгновение! — сказал Гомес. — Ни на одно
мгновение!
Ричи слегка покраснел.
— Что же ты рисовал? — оскорбленно спросил он. — Стачки?
Резню? Капиталистов в цилиндрах? Солдат, стреляющих в народ?
Гомес улыбнулся.
* Основательность (нем.).
СМЕРТЬ В ДУШЕ
697
— Знаешь, я всегда не очень-то верил в революционное
искусство, а теперь и вовсе перестал в него верить.
— Так что? — сказал Ричи. — Значит, мы согласны друг с
другом.
— Может быть, только теперь я думаю: не перестал ли я вообще
верить в искусство?
— И вообще в революцию? — продолжил Ричи.
Гомес не ответил. Ричи снова заулыбался.
— Вы, европейские интеллектуалы, меня забавляете: у вас
комплекс неполноценности по отношению к любому действию.
Гомес резко отвернулся и схватил Ричи за руку.
— Пошли. Я достаточно насмотрелся. Я знаю Мондриана
наизусть и всегда смогу нацарапать статью. Поднимемся.
— Куда?
— На второй этаж. Я хочу увидеть других.
— Каких других?
Они прошли три зала выставки. Гомес, ни на что не глядя,
подталкивал Ричи перед собой.
— Каких других? — недовольно повторил Ричи.
— Всех других. Клее, Руо, Пикассо: тех, кто задает
затруднительные вопросы.
Они были вывешены у начала лестницы. Гомес остановился. Он
в замешательстве посмотрел на Ричи и почти робко признался:
— Это первые картины, которые я вижу с тридцать шестого
года.
— С тридцать шестого года! — изумленно повторил Ричи.
— Именно в том году я уехал в Испанию. В то время я делал
гравюры на меди. Была одна, которую я не успел закончить, она
осталась на моем столе.
— С тридцать шестого года! Но ведь в Мадриде есть полотна
Прадо?
— Упакованы, спрятаны, рассеяны.
Ричи покачал головой:
— Ты, должно быть, много страдал.
Гомес грубо засмеялся:
-Нет.
Удивление Ричи оттенялось осуждением:
— Лично я никогда не прикасался к кисти, но мне нужно ходить
на все выставки, это потребность. Как может художник четыре года
не видеть живописи?
698
Жан Поль Сартр
— Подожди, — сказал Гомес, — подожди немного! Через минуту
я буду знать, художник ли я еще.
Они поднялись по лестнице, вошли в зал. На левой стене была
картина Руо, красная и голубая. Гомес стал перед картиной.
— Это волхв, — сказал Ричи.
Гомес не ответил.
— Мне не так уж нравится Руо, — признался Ричи. — Тебе же
он, очевидно, должен нравиться.
— Да замолчи же ты!
Он посмотрел еще мгновение, потом опустил голову:
— Пошли отсюда!
— Если ты любишь картины Руо, там дальше есть одна, которую
я считаю гораздо красивее.
— Не стоит, — сказал Гомес. — Я ослеп.
Ричи посмотрел на него, приоткрыл рот и замолчал. Гомес
пожал плечами.
— Не надо было стрелять в людей.
Они спустились по лестнице, Ричи очень напряженный, с
важным видом. «Он меня считает подозрительным», — подумал Гомес.
Ричи, разумеется, был ангелом; в его светлых глазах можно было
прочитать упорство ангелов; его прадеды, которые тоже были
ангелами, жгли ведьм на площадях Бостона. «Я потею, я беден, у меня
подозрительные мысли, европейские мысли; прекрасные ангелы
Америки в конце концов меня сожгут». Там концлагеря, здесь
костер: выбор невелик.
Они подошли к коммерческому прилавку у входа. Гомес
рассеянно листал альбом с репродукциями. Искусство оптимистично.
— Нам удается делать великолепные фотографии, — сказал
Ричи. — Посмотри на эти краски: картина как настоящая.
Убитый солдат, кричащая женщина: отражения в
умиротворенном сердце. Искусство оптимистично, страдания оправданы,
потому что они служат для создания красоты. «Меня не умиротворишь,
я не хочу оправдывать страдания, которые я видел. Париж...»
Он резко повернулся к Ричи:
— Если искусство не все, то это пустяк.
— Что ты сказал?
Гомес с силой закрыл альбом:
— Нельзя рисовать Зло.
Недоверие заледенило взгляд Ричи; он смотрел на Гомеса с
провинциальным недоумением. Вдруг он откровенно рассмеялся и
ткнул его пальцем в бок:
СМЕРТЬ В ДУШЕ
699
— Понимаю, старина! Четыре года войны чего-то стоят: нужно
заново всему учиться.
— Пустяки, — сказал Гомес. — Я в состоянии быть критиком.
Наступило молчание; потом Ричи очень быстро спросил:
— Ты знаешь, что в полуподвале есть кинотеатр?
— Я никогда здесь не был.
— Они показывают классику и документальные фильмы.
— Хочешь туда пойти?
— Мне нужно побыть где-то здесь, — сказал Ричи. — У меня
встреча в семи кварталах отсюда, в пять часов.
Они подошли к панно из лакированного дерева и взглянули на
афишу:
— «Караван на запад», я это видел три раза, — сказал Ричи. — Но
добыча бриллиантов в Трансваале может быть забавной. Ты
идешь? — вяло добавил он.
— Я не люблю бриллианты, — сказал Гомес.
Ричи полегчало, он широко улыбнулся Гомесу, вывернув губы,
и хлопнул его по плечу.
— See you again!* — сказал он по-английски, словно разом обрел
родной язык и свободу.
«Хороший момент поблагодарить его», — подумал Гомес. Но не
смог выдавить из себя ни слова. Он молча пожал ему руку
Снаружи спрут; тысячи щупальцев прикасались к нему, вода
выступала каплями из его пор и сразу пропитала рубашку; перед
его глазами будто проводили раскаленным добела лезвием. Не
важно! Не важно! Он был рад, что ушел из музея; жара была
катастрофой, но она была настоящей. Это было настоящее, дикое индейское
небо, проколотое остриями небоскребов выше всех небес Европы;
Гомес шел между настоящих кирпичных домов, таких безобразных,
что никто и не подумает их нарисовать, а вот это далекое высотное
здание, похожее на корабли Клода Лоррена, словно созданное
легким прикосновением кисти к полотну, было настоящим, а корабли
Клода Лоррена настоящими не были: картины — это мечты. Он
подумал о той деревне Сьерра-Мадре, где сражались с утра до вечера:
на дороге был настоящий красный цвет. «Я больше никогда не буду
рисовать», — решил он с жестоким удовольствием. Он решил это
именно здесь, по эту сторону стекла, раздавленный в толще этого
пекла, на этом раскаленном тротуаре; Истина сооружала вокруг
него эти высокие стены, закупоривая все стены горизонта; в мире
*До встречи! (англ.)
700
Жан Поль Сартр
не было ничего другого, только эта жара и эти камни, а еще —
мечты. Он повернул на Седьмую авеню; толпа накатилась на него,
волны несли на гребнях пучки блестящих и мертвых глаз, тротуар
дрожал, перегретые краски брызгали на него, толпа дымилась, как
влажное сукно на солнце; улыбки и глаза, not to grin is a sin, глаза
неопределенные и точные, быстрые и медленные, все мертвые. Он
попытался продолжить комедию: настоящие люди; но нет:
невозможно! Все лопнуло в его руках, его радость угасла; у них были
глаза, как на портретах. Знают ли они, что Париж взят? Думают ли
они об этом? Они все шли одной и той же торопливой походкой,
белая пена их взглядов обжигала его. «Это ненастоящие, — подумал
он, — это двойники. А где настоящие? Где угодно, но не здесь. Все
здесь невсамделишные, и я тоже». Двойник Гомеса сел в автобус,
прочел газету, улыбнулся Рамону, говорил о Пикассо, смотрел
картины Мондриана. Я шагал по Парижу, улица Руаяль пустынна,
площадь Согласия пустынна, немецкий флаг реет над палатой
депутатов, полк СС проходит под Триумфальной аркой, небо усеяно
самолетами. Кирпичные стены рухнули, толпа вернулась под
землю, Гомес шел один по Парижу. По Парижу, в Правде, в
единственной Правде, в крови, в ненависти, в поражении, в смерти. «Негодяи
французы! — сжимая кулаки, прошептал он. — Они не смогли
справиться, они побежали, как трусливые зайцы, я это знал, я знал, что
им каюк». Он повернул направо, пошел по Пятьдесят шестой улице,
остановился перед французским бар-рестораном «У маленькой
кокетки». Он посмотрел на красно-зеленый фасад, какое-то время
колебался, затем толкнул дверь: ему хотелось увидеть, какие у
французов физиономии.
Внутри было темно и почти прохладно; шторы были опущены,
лампы зажжены.
Гомес был рад искусственному свету. Дальний зал,
погруженный в тень и тишину, служил рестораном. В баре сидел высокий
крепыш: волосы подстрижены ежиком, неподвижные глаза под
пенсне; время от времени его голова падала вперед, но он сразу же
с большим достоинством ее выпрямлял. Гомес сел на табурет за
стойкой бара. Он немного знал бармена.
— Двойной скотч, — сказал он по-французски. — Нет ли у вас
сегодняшней газеты?
Бармен вынул из ящика «Нью-Йорк тайме» и дал ему. Это был
молодой блондин, грустный и аккуратный; его можно было принять
за уроженца Лилля, если бы не его бургундский акцент. Гомес еде-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
701
лал вид, что просмотрел «Тайме» и вдруг поднял голову. Бармен
устало смотрел на него.
— Новости не ахти, а? — сказал Гомес.
Бармен покачал головой.
— Париж взят, — сказал Гомес.
Бармен издал грустный вздох, наполнил маленький стакан
виски и вылил его содержимое в большой стакан; он сделал это еще
раз и подтолкнул большой стакан Гомесу. На секунду американец в
пенсне обратил на них остекленевшие глаза, потом голова его вяло
наклонилась, словно он с ними поздоровался.
— С содовой?
-Да.
Гомес, не падая духом, продолжал:
— Думаю, Франция пропала.
Бармен, не отвечая, вздохнул, и Гомес с жестокой радостью
подумал, что тот был до того несчастен, что не мог говорить. Но он
почти нежно настаивал:
— Вы так не думаете?
Бармен наливал газированную воду в стакан Гомеса. Гомес не
спускал глаз с этого лунообразного и плаксивого лица. Самое время
сказать изменившимся голосом: «А что вы сделали для Испании?
Что ж, теперь ваша очередь лезть в пекло!» Бармен поднял глаза и
палец; он вдруг заговорил грубым, медленным и спокойным
голосом, немного в нос, с сильным бургундским акцентом:
— За все приходится платить.
Гомес ухмыльнулся:
— Да, за все приходится платить.
Бармен провел пальцем в воздухе над головой Гомеса: комета,
объявляющая о конце света. Но вид у него был вовсе не
несчастный.
— Франция, — изрек он, — узнает, чего стоит бросать в беде
своих естественных союзников.
«Что это?» — удивленно подумал Гомес. То заносчивое и злое
торжество, которое он рассчитывал изобразить на своем лице, он
прочел в глазах бармена.
Чтобы его прощупать, он осторожно начал:
— Когда Чехословакия...
Бармен пожал плечами и перебил его.
— Чехословакия! — с презрением сказал он.
— Так что? — продолжал Гомес. — Вы же ее бросили!
702
Жан Поль Сартр
Бармен улыбался.
— Месье, — сказал он, — в царствование Людовика XV Франция
уже совершила все свои ошибки.
— А! — сообразил Гомес. — Вы канадец?
— Я из Монреаля, — ответил бармен.
— Так надо было и сказать.
Гомес положил газету на стойку. Через некоторое время он
спросил:
— К вам никогда не заходят французы?
Бармен показал пальцем куда-то за спину Гомеса. Гомес
обернулся: за столом, накрытым белой скатертью, перед газетой о чем-то
задумался какой-то старик. Настоящий француз: осевшее,
изборожденное, изрытое лицо, блестящие и жесткие глаза и седые усы.
Рядом с красивыми американскими щеками мужчины в пенсне его
щеки казались скроенными из более жалкого материала.
Настоящий француз, с настоящим отчаянием в сердце.
— Смотри-ка! — удивился Гомес. — Я его не заметил.
— Этот месье из Роанна, — сказал бармен. — Это наш клиент.
Гомес залпом выпил виски и спрыгнул на пол. «Что вы сделали
для Испании?» Старик безо всякого удивления смотрел на
подходящего Гомеса. Гомес остановился у стола и с жадностью
рассматривал это старое лицо.
— Вы француз?
— Да, — ответил старик.
— Я вас угощаю, — сказал Гомес.
— Спасибо. Не тот день.
Жестокость заставила забиться сердце Гомеса.
— Из-за этого? — спросил он, кладя палец на заголовок в газете.
— Из-за этого.
— Именно из-за этого я вас и угощаю, — сказал Гомес. — Я
прожил десять лет во Франции, моя жена и сын еще там. Виски?
— Тогда без содовой.
— Один скотч без содовой и один с содовой, — заказал Гомес.
Они замолчали. Американец в пенсне повернулся на табурете и
молча смотрел на них.
Вдруг старик спросил:
— Надеюсь, вы не итальянец?
Гомес улыбнулся:
— Нет, я не итальянец.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
703
— Все итальянцы сволочи, — сказал старик.
«А французы?» — подумал Гомес. Он продолжал вкрадчивым
голосом:
— У вас там кто-нибудь есть?
— В Париже — нет. У меня племянники в Мулене.
Он внимательно посмотрел на Гомеса:
— Я вижу, вы здесь недавно.
— А вы?
— Я здесь поселился в девяносто седьмом году. Уже давно.
Он добавил:
— Я их не люблю.
— Почему же вы здесь?
Старик пожал плечами:
— Я делаю деньги.
— Вы коммерсант?
— Парикмахер. Мое заведение в двух кварталах отсюда. Раз в
три года я проводил два месяца во Франции. В этом году должен
был туда поехать, а теперь — вот тебе на.
— Вот тебе на, — повторил Гомес.
— Сегодня с утра, — продолжал старик, — в мою
парикмахерскую пришло сорок человек. Бывают такие дни. И им нужно все:
бритье, стрижка, шампунь, электрический массаж. И вы, может
быть, думаете, что они со мной говорили о моей стране? Дудки!
Читали газеты, не говоря ни слова, а я видел заголовки, пока брил.
Среди них были клиенты, которые двадцать лет ко мне ходят, но
даже они ничего не сказали. Если я их не порезал, значит, им
повезло: у меня руки дрожали. В конце концов я оставил работу и
пришел сюда.
— Им плевать, — сказал Гомес.
— Не то чтобы им плевать, но они не способны найти
человеческие слова. Вообще-то они о Париже слыхали. А помалкивают
именно потому, что это их затронуло. Они такие.
Гомес вспомнил толпу на Седьмой авеню.
— Вы считаете, — спросил он, — что все эти люди на улице
думают о Париже?
— В каком-то смысле да. Но знаете ли, они думают иначе, чем
мы. Для американца думать о чем-нибудь, что его раздражает,
значит напрочь изгнать такие мысли.
Бармен принес стаканы. Старик поднял свой.
— Что ж, — сказал он, — за ваше здоровье.
704
Жан Поль Сартр
— За ваше здоровье, — ответил Гомес.
Старик грустно улыбнулся:
— Не очень-то знаешь, чего себе пожелать, да?
После короткого размышления он продолжил:
— Да, я пью за Францию. Все-таки за Францию.
Гомес не хотел пить за Францию.
— За вступление в войну Соединенных Штатов.
Старик коротко усмехнулся:
— Вы дождетесь этого после дождичка в четверг.
Гомес выпил и повернулся к бармену:
— То же самое.
Ему нужно было пить. Только что он считал себя единственным,
кого волновала Франция, падение Парижа было его делом:
одновременно несчастье для Испании и справедливое наказание для
французов. Теперь же он чувствовал, что эта новость бродила по
бару, что она вращалась кругами неопределенной абстрактной
формы в душах шести миллионов. Это было почти невыносимо: его
личная связь с Парижем оборвана, он был всего лишь недавно
прибывшим эмигрантом, пронзенным, как множество других, одним
общим кошмаром.
— Не знаю, — сказал старик, — поймете ли вы меня, но я живу
здесь уже более сорока лет, и только с сегодняшнего утра я
чувствую себя действительно иностранцем. Я не строю иллюзий,
поверьте. Но я все же думал, что найдется хоть один человек, который
протянет мне руку или скажет нужное слово.
Его губы задрожали, он повторил:
— Клиенты, которые двадцать лет ко мне ходят.
«Это француз, — подумал Гомес. — Один из тех, кто называл нас
Frente crapular»*. Но радость не появлялась. «Он слишком стар», —
решил Гомес. Старик смотрел в пустоту, он сказал, сам не веря себе
до конца:
— Но может, это из деликатности...
— Гм! — хмыкнул Гомес.
— Может быть. У них все может быть.
Тем же тоном он продолжил:
— В Роанне у меня был дом. Я рассчитывал туда вернуться.
Теперь, наверное, придется подыхать здесь: на все по-другому
смотришь.
* Пьяная (развратная) рожа (исп.), исковерканное «народный фронт»
(фр.).
СМЕРТЬ В ДУШЕ
705
«Естественно, — подумал Гомес, — естественно, ты подохнешь
здесь». Он отвернулся, ему захотелось уйти. Но он овладел собой,
внезапно покраснел и свистящим голосом спросил:
— Вы были за интервенцию в Испанию?
— Какую интервенцию? — ошеломленно спросил старик.
Он с любопытством посмотрел на Гомеса.
— Так вы испанец?
-Да.
— Вы тоже хлебнули лиха.
Французы нам не очень-то помогли, — нейтральным голосом
сказал Гомес.
— Верно, вот увидите, американцы нам тоже не помогут. Люди
и страны похожи — каждый за себя.
— Да, — согласился Гомес, — каждый за себя.
Он и пальцем не пошевелил, чтобы защитить Барселону; теперь
Барселона пала; Париж пал, и мы оба в изгнании, оба одинаковы.
Официант поставил на стол два стакана; они их одновременно
взяли, не отводя друг от друга взгляда.
— Я пью за Испанию, — сказал старик.
Гомес поколебался, потом сквозь зубы процедил:
— Я пью за освобождение Франции.
Они замолчали. Жалкое зрелище: две старые сломанные
марионетки в глубине нью-йоркского бара. И такие пьют за Францию, за
Испанию! Позор! Старик старательно свернул газету и встал.
— Мне нужно возвращаться в парикмахерскую. Я плачу за
последнюю выпивку.
— Нет, — возразил Гомес. — Нет, нет. Бармен, все они за мной.
— Тогда спасибо.
Старик дошел до двери, Гомес заметил, что он хромает. «Бедный
старик», — подумал он.
— То же самое, — сказал он бармену.
Американец в пенсне слез с табурета и, качаясь, направился к
нему.
— Я пьян, — сказал он.
— Что? — не понял Гомес.
— Вы не заметили?
— Представьте себе, нет.
— А знаете, почему я пьян?
— Мне на это плевать, — ответил Гомес.
706
Жан Поль Сартр
Американец звучно отрыгнул и рухнул на стул, на котором
только что сидел старик.
— Потому что гунны взяли Париж.
Его лицо помрачнело, и он добавил:
— Это самое плохое известие с 1927 года.
— А что было в 1927 году?
Он приложил палец ко рту:
— Тсс! Личное.
Он положил голову на стол и, казалось, уснул. Бармен вышел
из-за стойки и подошел к Гомесу.
— Постерегите его две минуты, — попросил он. — Ему пора,
пойду вызвать ему такси.
— Что это за тип? — спросил Гомес.
— Он работает на Уолл-стрит.
— Это правда, что он напился, потому что взят Париж?
— Раз говорит, должно быть, правда. Только на прошлой неделе
он набрался из-за событий в Аргентине, на позапрошлой — из-за
катастрофы в Солт-Лейк-Сити. Он напивается каждую субботу, и
всегда есть причина.
— Он слишком чувствителен, — сказал Гомес.
Бармен быстро вышел. Гомес обнял голову руками и посмотрел
на стену; он четко представил себе гравюру, которую оставил тогда
на столе. Нужна была бы темная масса слева, чтобы уравновесить
композицию — возможно, куст. Он вспомнил гравюру, стол,
большое окно и заплакал.
Воскресенье, 16 июня
— Там! Там! Как раз над деревьями.
Матье спал, и война была проиграна. Вплоть до глубины его сна
она была проиграна. Голос резко разбудил его: он лежал на спине,
закрыв глаза и вытянув руки вдоль тела, и он проиграл войну.
— Справа! — живо сказал Шарло. — Я же тебе говорю, как раз
над деревьями. У тебя что, глаз нет?
Матье услышал медленный голос Ниппера.
— Ага! Ишь ты! — сказал Ниппер. — Ишь ты!
Где мы? В траве. Восемь горожан в полях, восемь гражданских
в военной форме, завернутые по двое в армейские одеяла и лежащие
посреди огорода. Мы проиграли войну; нам ее доверили, а мы ее
СМЕРТЬ В ДУШЕ
707
проиграли. Она у них проскользнула сквозь пальцы, и теперь с
грохотом ушла проигрываться куда-то на север.
— Ишь ты! Ишь ты!
Матье открыл глаза и увидел небо; оно было жемчужно-серым,
без облаков, без дна, одна лишь пустота. На нем медленно
рождалось утро, капля света, которая скоро упадет на землю и затопит ее
золотом. Немцы в Париже, и мы проиграли войну. Начало, утро.
Первое утро на свете, как и все остальные: все нужно было сделать,
все будущее было в небе. Он вынул руку из-под одеяла и почесал
ухо: это будущее других. В Париже немцы поднимали глаза к небу,
читали на нем свою победу и свои завтрашние дни. У меня же нет
больше будущего. Шелк утра ласкал его лицо; но у своего правого
бедра он чувствовал тепло Ниппера; у левой ляжки тепло Шарло.
Еще годы жить: годы убивать. Этот зарождающийся победоносный
день, светлый утренний ветер в тополях, полуденное солнце на
колосьях пшеницы, аромат разогретой вечерней земли, нужно будет
этот день убивать постепенно, минута за минутой; ночью немцы нас
возьмут в плен. Гудение усилилось, и в лучах восходящего солнца
он увидел самолет.
— Это макаронник, — сказал Шарло.
Заспанные голоса стали клясть самолет. Они привыкли к
небрежному эскорту немецких самолетов, к циничной, безвредной,
болтливой войне: это была их война. Итальянцы в эту игру не
играли, они бросали бомбы.
— Макаронник? Так я и поверил! — возразил Люберон. — Ты
что, не слышишь, как четко работает мотор? Это «мессершмит»,
модель 37.
Под одеялами наступила разрядка; запрокинутые лица
заулыбались немецкому самолету. Матье услышал несколько глухих
взрывов, и в небе образовались четыре маленьких круглых облачка.
— Бляди! — выругался Шарло. — Теперь они стреляют в немцев.
— За это нас всех перебьют, — раздраженно сказал Лонжен.
А Шварц с презрением добавил:
— Эти придурки еще ничего не поняли.
Раздалось еще два взрыва, и над тополями появились два
темных ватных облака.
— Бляди! — повторил Шарло. — Бляди!
Пинетт приподнялся на локте. Его красивое парижское личико
было розовым и свежим. Он высокомерно посмотрел на своих
товарищей.
708
Жан Поль Сартр
— Они делают свое дело, — сухо сказал он.
Шварц пожал плечами:
— А зачем это сейчас?
Противовоздушная оборона умолкла; облака рассосались;
слышно было только гордое и четкое пение.
— Я его больше не вижу, — сказал Ниппер.
— Нет, нет, он там, на конце моего пальца.
Белый овощ вышел из-под земли и указывал ввысь, на самолет:
Шарло спал голым под одеялом.
— Лежи спокойно, — встревожился сержант Пьерне, — ты нас
обнаружишь.
— Еще чего! В такой час он нас принимает за цветную капусту.
Он все-таки спрятал руку, когда самолет пролетал над его
головой, мужчины, улыбаясь, следили глазами за этим сверкающим
кусочком солнца: это было утреннее развлечение, первое событие дня.
— Он совершает маленькую прогулку, нагуливает аппетит, —
сказал Люберон.
Их было восемь, проигравших войну, — пять секретарей, два
наблюдателя и один метеоролог, они лежали бок о бок среди лука и
морковки. Они профукали войну, как профукивают время: не
замечая этого. Восемь: Шварц — слесарь, Ниппер — служащий банка,
Лонжен — фининспектор, Люберон — коммивояжер, Шарло
Вроцлав — зонтичных дел мастер, Пинетт — транспортный контролер и
два преподавателя: Матье и Пьерне. Они скучали девять месяцев,
то среди пихт, то в виноградниках; в один прекрасный день голос из
Бордо объявил им об их поражении, и они поняли, что были не
правы. Неуклюжая рука коснулась щеки Матье. Он повернулся к
Шарло:
— Чего ты хочешь, дурачок?
Шарло лежал на боку, Матье видел его добрые красные щеки и
широко растянутые губы.
— Я хотел бы знать, — тихим голосом сказал Шарло. — Мы
сегодня отправимся?
На его улыбчивом лице беспрестанно мелькала смутная
тревога.
— Сегодня? Не знаю.
Они покинули Морброн двенадцатого, все началось как
беспорядочное бегство, а потом вдруг эта остановка.
— Что мы здесь делаем? Ты мне можешь сказать?
— Вроде бы ждем пехоту.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
709
— Если пехотинцы не могут выбраться, то почему мы должны
влипнуть на пару с ними?
Он скромно добавил:
— Понимаешь, я еврей. У меня польская фамилия.
— Знаю, — грустно ответил Матье.
— Замолчите, — одернул их Шварц. — Слушайте!
Послышался приглушенный продолжительный грохот. Вчера и
позавчера он длился с утра до ночи. Никто не знал, кто стреляет и
в кого.
— Сейчас должно быть около шести, — сказал Пинетт. — Вчера
они начали в пять сорок пять.
Матье поднял запястье к глазам и повернул его, чтобы
посмотреть на часы:
— Сейчас пять минут седьмого.
— Пять минут седьмого, — повторил Шварц. — Я удивлюсь, если
мы уйдем сегодня. — Он зевнул. — Что ж! Еще один день в этой
дыре.
Сержант Пьерне тоже зевнул.
— Ладно, — сказал он. — Нужно вставать.
— Да, — согласился Шварц. — Да, да. Нужно вставать.
Никто не пошевелился. Рядом с ними зигзагами промчалась
кошка. Внезапно она притаилась, будто собираясь прыгнуть; затем,
забыв о своем намерении, небрежно удалилась. Матье приподнялся
на локте и проследил за ней взглядом. Вдруг он увидел пару кривых
ног в обмотках цвета хаки и поднял голову: перед ними стоял
лейтенант Юлльманн; скрестив руки и подняв брови, он смотрел на
них. Матье отметил, что он небрит.
— Что вы здесь делаете? Ну что вы здесь делаете? Вы что,
совсем рехнулись? Скажете вы мне, что вы здесь делаете?
Матье несколько мгновений подождал, и поскольку никто не
отвечал, не вставая, ответил:
— Мы решили спать на свежем воздухе, господин лейтенант.
— Смотрите-ка! При вражеских-то облетах! Ваши капризы
могут нам дорого обойтись: из-за вас могут разбомбить дивизию.
— Немцы хорошо знают, что мы здесь, потому что мы совершали
все перемещения среди белого дня, — терпеливо возразил Матье.
Лейтенант, казалось, не слышал.
— Я вам это запретил, — сказал он. — Я вам запретил покидать
крытую ригу. И что это за манера лежать в присутствии старшего
по званию?
710
Жан Поль Сартр
На уровне земли произошла вялая возня, и восемь человек сели
на одеялах, моргая полусонными глазами. Голый Шарло прикрыл
половой член носовым платком. Было прохладно. Матье вздрогнул
и поискал вокруг себя куртку, чтобы набросить ее на плечи.
— И вы тоже здесь, Пьерне! Вам не стыдно, вы же сержант! Вы
должны бы подавать пример.
Пьерне, не отвечая, поджал губы.
— Невероятно! — воскликнул лейтенант. — Вы наконец
объясните мне, почему вы покинули ригу?
Он говорил без убеждения, голосом свирепым и усталым; под
глазами у него были круги, и свежий цвет его лица поблек.
— Нам было слишком жарко, господин лейтенант. Мы не могли
уснуть.
— Слишком жарко? А что вам нужно? Спальню с
кондиционером? Сегодня ночью я пошлю вас спать в школу. С остальными. Вы
что, забыли, что мы на войне?
Лонжен махнул рукой.
— Война закончилась, господин лейтенант, — сказал он, странно
улыбаясь.
— Она не закончилась. Постыдились бы говорить, что она
закончилась, когда в тридцати километрах отсюда парни гибнут,
прикрывая нас.
— Бедняги, — не унимался Лонжен. — Их гонят на гибель, в то
время как на носу перемирие.
Лейтенант сильно покраснел.
— Во всяком случае, вы пока еще солдаты. Пока вас не отошлют
по домам, вы остаетесь солдатами и будете повиноваться своим
командирам.
— Даже в лагерях для военнопленных? — спросил Шварц.
Лейтенант не ответил: он с презрительной робостью смотрел на
солдат; люди отвечали на его взгляд без нетерпения и смущения: им
нравилось новое удовольствие — вызывать робость. Помешкав,
лейтенант пожал плечами и круто повернулся.
— Будьте любезны быстро встать, — сказал он через плечо.
Он удалился, очень прямой, танцующим шагом. «Его последний
танец, — подумал Матье, — через несколько часов немецкие
пастухи погонят нас всех на восток толпой без различия в чинах». Шварц
зевнул и заплакал; Лонжен закурил сигарету; Шарло вырывал
вокруг себя пучками траву: все они боялись встать.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
711
— Видели? — спросил Люберон. — Он сказал: «Я вас отошлю
спать в школу». Значит, мы не уходим.
— Он сказал просто так, — возразил Шарло. — Он знает не
больше нашего.
Сержант Пьерне внезапно взорвался:
— Тогда кто знает?! Кто знает?!
Никто не ответил. Через какое-то время Пинетт вскочил на
ноги.
— Ну что, умываться? — предложил он.
— Хорошо бы, — зевая, сказал Шарло.
Он встал. Матье и сержант Пьерне тоже встали.
— Ой, какой у нас младенец! — крикнул Лонжен.
Розовый, голый, без растительности, с розовыми щеками и
маленьким толстеньким животиком, обласканный светлым утренним
солнцем, Шарло был похож на самого красивого младенца
Франции. Шварц, крадучись, подошел к нему сзади, как каждое утро.
— Ты дрожишь от страха, — приговаривал он, щекоча его. — Ты
дрожишь от страха, младенец.
Шарло смеялся и, извиваясь, вскрикивал, но не так резво, как
обычно. Пинетт обернулся к Лонжену, тот с упрямым видом курил.
— Ты не идешь?
— Куда?
— Умываться!
— К чертям! — сказал Лонжен. — Умываться! Для кого? Для
фрицев? Они меня и таким возьмут.
— Никто тебя не возьмет.
— Да ладно уж! — прикрикнул Лонжен.
— Можно еще выкарабкаться, черт возьми! — сказал Пинетт.
— Ты что, веришь в сказки?
— Даже если тебя возьмут, это еще не значит, что надо
оставаться грязным.
— Я не хочу умываться для них.
— Какую ерунду ты несешь! — возмутился Пинетт. — Глупее не
бывает!
Лонжен, не отвечая, ухмыльнулся: он с видом превосходства
лежал на одеяле. Люберон тоже не пошевелился: он притворился
спящим. Матье взял свой рюкзак и подошел к желобу. Вода текла
по двум чугунные трубам в каменное корыто; она была холодная и
голая, как кожа; всю ночь Матье слышал ее полный надежды шепот,
712
Жан Поль Сартр
ее детский вопрос. Он погрузил голову в корыто, легкое пение
стихии стало немой и свежей прохладой в его ушах, в его ноздрях,
букетом влажных роз, цветами воды в его сердце: купание в Луаре,
тростник, зеленый островок, детство. Когда он выпрямился, Пинетт
яростно мылил шею. Матье ему улыбнулся: ему нравился Пинетт.
— Он осел, этот Лонжен. Если фрицы притащатся, нужно быть
чистым.
Он засунул палец в ухо и яростно завращал им.
— Если уж ты такой чистюля, — со своего места крикнул ему
Лонжен, — вымой заодно и ноги.
Пинетт бросил на него сострадательный взгляд.
— Их же не видно.
Матье начал бриться. Лезвие было старым и жгло кожу. «В
плену отпущу бороду». Солнце вставало. Его длинные косые лучи
скашивали траву; под деревьями трава была нежной и свежей,
ложбина сна на боках утра. Земля и небо были полны знамений,
знамений надежды. В тополиной листве, повинуясь невидимому сигналу,
в полный голос защебетало множество птиц, это был маленький
металлический шквал чрезвычайной силы, потом они все вместе
таинственно замолчали. Тревога вращалась кругами посреди зелени
и толстощеких овощей, как на лице Шарло; ей не удавалось нигде
остановиться. Матье старательно вытер бритву и положил ее в
рюкзак. Сердце его было в сговоре с зарей, росой, тенью; в глубине
души он ждал праздника. Он рано встал и побрился, как для
праздника. Праздник в саду, первое причастие или свадьба с
крутящимися красивыми платьями в грабовой аллее, стол на лужайке, влажное
жужжание ос, опьяненных сахаром. Люберон встал и пошел
помочиться к изгороди; Лонжен вошел в ригу, держа одеяла под мышкой;
затем он появился, апатично подошел к желобу и намочил в воде
палец с насмешливым и праздным видом. Матье не было
необходимости долго смотреть на это бледное лицо, чтобы почувствовать, что
праздника больше не будет, ни сейчас, ни когда-либо после.
Старый фермер вышел из дома. Куря трубку, он смотрел на них.
— Привет, папаша! — сказал Шарло.
— Привет, — ответил фермер, качая головой. — Э! Да уж.
Привет!
Он сделал несколько шагов и стал перед ними.
— Ну что? Вы не ушли?
— Как видите, — сухо сказал Пинетт.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
713
Старик ухмыльнулся, вид у него был недобрый.
— Я же вам говорил. Вы не уйдете.
— Может, и так.
Он сплюнул под ноги и вытер усы.
— А боши? Они сегодня придут?
Все засмеялись.
— Может, да, а может, нет, — ответил Люберон. — Мы, как и вы,
ждем их: приводим себя в порядок, чтобы встретить их достойно.
Старик со странным видом посмотрел на них.
— Вы другое дело, — сказал он. — Вы выживете.
Он затянулся и добавил:
— Я эльзасец.
— Знаем, папаша, — вмешался Шварц, — смените пластинку.
Старик покачал головой:
— Странная война. Теперь гибнут гражданские, а солдаты
выкарабкиваются.
— Да ладно! Вы же знаете, никто вас не убьет.
— Я же тебе говорю, что я эльзасец.
— Я тоже эльзасец, — сказал Шварц.
— Может, и так, — ответил старик, — только когда я уезжал из
Эльзаса, он принадлежал им.
— Они вам не причинят зла, — уговаривал его Шварц. — Они
такие же люди, как и мы.
— Как и мы! — внезапно возмутился старик. — Сучий потрох!
Ты тоже смог бы отрезать руки у ребенка?
Шварц разразился смехом.
— Он нам рассказывает сказки о прошлой войне, — подмигивая
Матье, сказал он.
Шварц взял полотенце, вытер большие мускулистые руки и,
повернувшись к старику, объяснил:
— Они же не психи. Они вам дадут сигареты, да! И шоколад, это
называется пропагандой, а вам останется только принять их, это ни
к чему не обязывает.
Потом, все еще смеясь, добавил:
— Я вам говорю, папаша, сегодня лучше быть уроженцем
Страсбурга, чем Парижа.
— Я на старости лет не хочу становиться немцем, — сказал
фермер. — Сучий потрох! Пусть лучше меня расстреляют.
Шварц хлопнул себя по ляжке.
714
Жан Поль Сартр
— Вы слышите? Сучий потрох! — передразнил он старика. —
Лично я предпочитаю быть живым немцем, а не мертвым
французом.
Матье быстро поднял голову и посмотрел на него; Пинетт и
Шарло тоже на него смотрели. Шварц перестал смеяться, покраснел
и пожал плечами. Матье отвел глаза, он не имел склонности к
судейству, к тому же он любил этого большого крепкого парня,
спокойного и стойкого в трудностях; ему вовсе не хотелось
увеличивать его неловкость. Никто не проронил ни слова; старик покачал
головой и зло посмотрел на них.
— Эх, — сказал он, — не нужно было проигрывать эту войну. Не
нужно было ее проигрывать.
Они молчали; Пинетт кашлянул, подошел к желобу и с
идиотским видом начал щупать кран. Старик вытряхнул трубку на
дорожку, потоптал каблуком землю, чтобы зарыть пепел, потом
повернулся к ним спиной и медленно вернулся в дом. Наступило
долгое молчание. Шварц держался очень напряженно, расставив
руки. Через некоторое время он, казалось, очнулся и с усилием
засмеялся:
— Я нарочно сказал, чтобы над ним подшутить.
Ответа не последовало: все смотрели на него. И потом внезапно,
хотя по видимости ничего не изменилось, что-то дрогнуло,
наступила разрядка, нечто вроде неподвижного рассеивания; маленькое
разгневанное общество, которое образовалось вокруг него,
разбрелось, Лонжен снова принялся ковырять в зубах ножом, Люберон
прочистил горло, а Шарло с невинным взором начал напевать; им
никогда не удавалось упорствовать в возмущении, если речь не шла
об увольнительных или еде. Матье вдруг вдохнул робкий аромат
полыни и мяты: после птиц пробуждались травы и цветы; они
испускали запахи, как птицы до этого испускали крики.
«Действительно, — подумал Матье, — есть еще и запахи». Запахи зеленые и
веселые, и мелкие, и кислые: они будут все более и более сладкими,
все более и более пышными и женственными по мере того, как
заголубеет небо и приблизятся немецкие танкетки. Шварц шумно
потянул носом и посмотрел на скамейку, которую они накануне
подтащили к стене дома.
— Ладно, — сказал он, — ладно, ладно.
Он сел на скамейку, опустил руки между коленями и
ссутулился, но голову держал высоко и сурово смотрел прямо перед собой.
Матье поколебался, потом подошел к нему и сел рядом. Немного
СМЕРТЬ В ДУШЕ
715
погодя Шарло отделился от группы и стал перед ними. Шварц
поднял голову и серьезно посмотрел на Шарло.
— Мне нужно постирать белье, — сообщил он.
Наступило молчание. Шварц все еще смотрел на Шарло.
— Не я проиграл эту войну...
Шарло как будто смутился; он засмеялся. Но Шварц продолжал
свою мысль:
— Если бы все поступили, как я, ее можно было и выиграть. Мне
не в чем себя упрекнуть.
Он с удивленным видом почесал щеку.
— Это забавно! — сказал он.
Это забавно, подумал Матье. Да, это забавно. Он смотрит в
пустоту, он думает: «Я француз» и впервые в жизни считает это
забавным. Это забавно. Франция — мы ее никогда не видели, мы
были внутри, это было давление воздуха, притяжение земли,
пространство, видимость, спокойная уверенность, что мир создан для
человека; так естественно было быть французом; это было самое
простое, самое экономичное средство чувствовать себя
всемирным. Ничего не нужно объяснять; это другим — немцам,
англичанам, бельгийцам — нужно объяснять, из-за какой незадачи или
ошибки они были не совсем людьми. Теперь Франция легла
навзничь, и мы ее видим, мы видим большой поврежденный
механизм и думаем: вот и случилось. Плохой участок почвы, плохой
поворот истории. Мы пока еще французы, но это больше не
естественно. Достаточно было плохого поворота, чтобы дать нам
понять, что мы случайны. Шварц думает, что он случаен, он больше
сам себя не понимает, он обременен самим собой; он думает: как
можно быть французом? Он думает: «Если бы мне чуть-чуть
повезло, я мог бы родиться немцем». Теперь он принимает суровый
вид и напрягает слух, пытаясь услышать, как катится к нему его
сменная родина; он ждет сверкающие армии, которые устроят ему
праздник; он ждет того момента, когда сможет обменять наше
поражение на их победу, когда ему покажется естественным быть
победителем и немцем.
Шварц, зевая, встал.
— Что ж, — сказал он, — пойду стирать белье.
Шарло развернулся и присоединился к Лонжену, который
разговаривал с Пинеттом. Матье остался один на скамейке.
В свою очередь, шумно зевнул Люберон.
— Как здесь осточертело! — в сердцах произнес он.
716
Жан Поль Сартр
Шарло и Лонжен зевнули. Люберон посмотрел, как они зевают,
и снова зевнул.
— Эх, хорошо бы, — сказал он, — сейчас потрахаться.
— Ты что, можешь трахаться в шесть часов утра? — возмущенно
спросил Шарло.
— Я? В любое время.
— А я нет. У меня трахаться не больше желания, чем получать
пинки в зад.
Люберон ухмыльнулся.
— Был бы ты женат, ты б научился делать это и без желания,
дурак! Что хорошо в траханье, так это то, что по ходу ни о чем не
думаешь.
Они замолчали. Тополя дрожали, вечное солнце дрожало среди
листвы; издалека слышался добродушный грохот канонады, такой
повседневный, такой успокаивающий, что его можно было принять
за шум природы. Что-то оборвалось в воздухе, и оса совершила
среди них долгое изящное пике.
— Послушайте! — сказал Люберон.
— Что это?
Вокруг них было что-то вроде пустоты, странное спокойствие.
Птицы пели, на заднем дворе кричал петух; вдалеке кто-то
равномерно бил по куску железа; однако это была тишина: канонада
прекратилась.
— Э! — удивленно протянул Шарло. — Э! Скажи-ка!
— Ага.
Они прислушались, не переставая смотреть друг на друга.
— Так все и начинается, — равнодушным тоном проговорил
Пьерне. — В определенный момент по всему фронту наступает
тишина.
— По какому фронту? Фронта нет.
— Ну, повсюду.
Шварц робко шагнул к ним.
— Знаете, — сказал он, — я думаю, сначала должен быть сигнал
горна.
— Придумал! — возразил Ниппер. — Связи больше нет; даже
если бы они заключили мир сутки тому назад, мы бы его все еще
ждали.
— Может быть, война кончилась уже с полуночи, — сказал
Шарло, смеясь от надежды. — Прекращение огня всегда происходит в
полночь.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
717
— Или в полдень.
— Да нет же, глупый, в ноль часов, понимаешь?
— Да замолчите же! — прикрикнул Пьерне.
Они замолчали. Пьерне прислушивался с нервным тиком на
лице; у Шарло был полуоткрыт рот; сквозь оглушающую тишину
они вслушивались в Мир. Мир без славы и без колокольного звона,
без барабанов и труб, Мир, похожий на смерть.
— Мать твою! — выругался Люберон.
Гул возобновился, он казался менее глухим, более близким и
угрожающим. Лонжен скрестил длинные руки и хрустнул
пальцами. Он с досадой сказал:
— Черт побери, чего они ждут? Они думают, что мы еще
недостаточно разгромлены? Что мы потеряли недостаточно людей?
Неужели нужно, чтобы Франция полностью пропала, а иначе они
не остановят бойню?
Все были вялы, издерганы, уязвлены, с землистыми лицами
людей, страдающих несварением. Достаточно было удара барабана
на горизонте — и большая волна войны снова обрушилась на них.
Пинетт резко повернулся к Лонжену. Его глаза смотрели
остервенело, пальцы стиснули край желоба.
— Какая бойня? А? Какая бойня? Где они, убитые и раненые?
Если ты их видел, значит, тебе повезло. Я же видел только трусов
вроде тебя, которые бегали по дорогам с дрейфометром на шее.
— Что с тобой, дурачок? — с ядовитым участием спросил
Лонжен. — Ты себя плохо чувствуешь?
Он бросил на остальных многозначительный взгляд:
— Он был хороший паренек, наш Пинетт, его очень любили,
потому что он сачковал, как и мы, уж он не вышел бы вперед, если бы
потребовался доброволец. Жалко, что он хочет повоевать теперь,
когда война уже закончена.
Глаза Пинетта сверкнули:
— Ничего я не хочу, мудил о!
— Хочешь! Ты хочешь в солдатики поиграть.
— И то лучше, чем обделываться, как ты.
— Слыхали: я обделываюсь, потому что сказал, что французская
армия получила взбучку.
— А ты уверен, что французская армия получила взбучку? —
заикаясь от гнева, спросил Пинетт. — Ты что, посвящен в тайны
главнокомандующего, генерала Вейгана?
Лонжен заносчиво и устало улыбнулся:
718
Жан Поль Сартр
— Кому нужны тайны главнокомандующего: половина войск
беспорядочно отступает, а другая окружена; тебе этого мало?
Пинетт рубанул воздух рукой:
— Мы перегруппируемся на Луаре, а в Сомюре соединимся с
Северной армией.
— Ты в это веришь, умник?
— Так мне сказал капитан. Спроси у Фонтена.
— Северной армии придется повертеться, потому что у них на
хвосте боши. А что до нас, то мы вряд ли с ними встретимся.
Пинетт исподлобья посмотрел на Лонжена, тяжело дыша и
топая ногой. Он сердито тряхнул плечами, как бы намереваясь
сбросить ношу. Наконец он зло и затравленно проговорил:
— Даже если мы отступим до Марселя, даже если пересечем всю
Францию, останется Северная Африка.
Лонжен скрестил руки и презрительно улыбнулся:
— А почему не Сен-Пьер и Микелон*, болван?
— Ты себя считаешь умником? Скажи, ты себя считаешь
умником? — спросил Пинетт, наступая на него.
Шарло бросился между ними.
— Ну! Ну! — сказал он. — Вы что, собираетесь ссориться? Все
согласны, что война ничего не решает и что вообще больше не
нужно воевать. Бог нам в помощь! — воскликнул он пылко. — Вообще
никогда!
Он напряженно смотрел на всех, он дрожал от страсти. Страсти
всех примирить: Пинетта и Лонжена, немцев и французов.
— Наконец, — почти умоляющим голосом сказал он, — нужно
суметь с ними поладить, они ведь не собираются всех нас
уничтожить.
Пинетт обратил свое бешенство на него:
— Если война проиграна, то лишь из-за таких, как ты.
Лонжен ухмылялся:
— Еще один никак не поймет.
Наступило молчание; потом все медленно повернулись к Матье.
Он этого ждал: в конце каждого спора его делали арбитром, так как
он был самый образованный.
— Что ты об этом думаешь? — спросил Пинетт.
Матье опустил голову и не ответил.
— Ты что, глухой? Тебя спрашивают, что ты об этом думаешь?
— Ничего, — ответил Матье.
* Острова у восточного побережья Канады, колонии Франции.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
719
Лонжен пересек тропинку и стал перед ним:
— Как — ничего? Преподаватель все время думает.
— Что ж, как видишь, не все время.
— Ты все-таки не дурак: ты хорошо знаешь, что сопротивление
невозможно.
— Откуда мне это знать?
В свою очередь, подошел и Пинетт. Они стояли по обе стороны
Матье, словно его добрый и злой ангелы.
— Ведь ты не пал духом, — сказал Пинетт. — Неужто ты
считаешь, что французы не должны сражаться до конца?
Матье пожал плечами:
— Если бы сражался я, я мог бы иметь свое мнение. Но
погибают другие, сражаться будут на Луаре, и я не могу решать за них.
— Вот видишь, — сказал Лонжен, насмешливо глядя на Пинет-
та, — бойню за других не решают.
Матье встревоженно посмотрел на него:
— Я этого не сказал.
— Как не сказал? Ты только что это сказал.
— Если бы оставался шанс, — промолвил Матье, — совсем
крохотный шанс...
— И что?
Матье покачал головой:
— Как знать?..
— И что же это означает? — спросил Пинетт.
— Это означает, — объяснил Шарло, — что осталось только
ждать, стараясь при этом не портить себе кровь.
— Нет! — крикнул Матье. — Нет!
Он резко встал, сжимая кулаки.
— Я жду с самого детства!
Они недоуменно смотрели на него, он понемногу успокоился.
— Что означает наше решение? — сказал он. — Кто спрашивает
наше мнение? Вы отдаете себе отчет в нашем положении?
Они испуганно попятились.
— Ладно, — сказал Пинетт, — ладно, мы его знаем.
— Ты прав, — сказал Лонжен, — солдат не имеет права на
собственное мнение.
Его холодная и слюнявая улыбка ужаснула Матье.
— Пленный еще меньше, — сухо ответил он.
Всё спрашивает у нас нашего мнения. Всё. Большой вопрос
окружает нас: это фарс. Нам задают вопрос, как людям; нас хотят
720
Жан Поль Сартр
заставить думать, что мы еще люди. Но нет. Нет. Нет. Какой фарс —
эта тень вопроса, который задают одни тени войны другим.
— А что за польза иметь собственное мнение? Решать-то не
тебе.
Матье замолчал. Он вдруг подумал: «Нужно будет жить». Жить,
срывать день за днем заплесневелые плоды поражения, платить за
этот тотальный выбор, от которого он сегодня отказывался. «Но,
Боже мой! Я не хотел ни этой войны, ни этого поражения: что за
фокус — обязывать меня нести за них ответственность?» Он
почувствовал, как в нем поднимается гнев — ярость попавшего в
ловушку зверя, и, подняв голову, он увидел, как такой же гнев блестит
в глазах его товарищей. Крикнуть в небо всем вместе: «Мы не
имеем ничего общего с этой бойней! Мы не имеем ничего общего с этой
бойней! Мы невиновны!» Его порыв угас: безусловная
невиновность сияла в утреннем солнце, ее можно было ощутить на листьях
травы. Но она так мала: истиной была эта неуловимая общая вина,
наша вина. Призрак войны, призрак поражения, призрачная
виновность. Он по очереди посмотрел на Пинетта и Лонжена и развел
руками: он не знал, хотел ли он им помочь или попросить у них
помощи. Они тоже посмотрели на него, потом отвернулись и
удалились. Пинетт смотрел себе под ноги. Лонжен улыбался самому себе
напряженной и смущенной улыбкой; Шварц стоял в стороне с Нип-
пером, они говорили друг с другом по-эльзасски, они уже были
похожи на двух сообщников; Пьерне судорожно сжимал и
разжимал правый кулак. Матье подумал: «Вот чем мы стали».
Марсель, 14 часов
Разумеется, он сурово осуждал грусть, но когда в нее впадаешь,
чертовски трудно от нее избавиться. «Должно быть, у меня
несчастный характер», — подумал он. У него было много поводов
радоваться, в частности, он мог бы себя поздравить с тем, что избежал
перитонита, выздоровел. Но вместо этого он думал: «Я пережил самого
себя» и сокрушался. В грусти именно причины радоваться
становятся грустными, и радуешься грустно. «Однако, — подумал он, — я
умер». Насколько это зависело от него, он умер в Седане в мае
сорокового года: скукой были все те годы, которые ему оставалось
жить. Он снова вздохнул, проследил взглядом за большой зеленой
мухой, ползающей по потолку, и решил: «Я — посредственность».
СМЕРТЬ В ДУШЕ
721
Эта мысль была ему глубоко неприятна. До сих пор Борис
выдерживал правило никогда не задумываться о себе и чувствовал себя
превосходно; с другой стороны, пока речь шла только о том, чтобы
погибнуть, его посредственность не имела такого уж значения:
наоборот, меньше оснований для сожалений. Но теперь все
изменилось: ему выпала участь жить, и он вынужден был признать, что не
имел для этого ни призвания, ни таланта, ни денег. Короче, ни
одного потребного качества, кроме здоровья. «Как я буду скучать!» —
подумал он. И почувствовал себя обманутым. Муха, жужжа,
улетела. Борис провел рукой под рубашкой и погладил шрам, который
прочертил его живот на уровне паха; он любил трогать этот
маленький рубец плоти. Он смотрел на потолок, он гладил шрам, и на
сердце у него было тяжело. В палату вошел Франсийон,
направился к Борису, неторопливо шагая между пустыми койками, и вдруг
остановился, разыгрывая удивление.
— Я тебя искал во дворе.
Борис не ответил. Франсийон негодующе скрестил руки.
— Два часа дня — а ты еще в постели!
— Я сам себе надоел, — сказал Борис.
— У тебя хандра?
— Никакая не хандра, просто я сам себе надоел.
— Не переживай. В конце концов это закончится.
Он сел у изголовья Бориса и начал скручивать папиросу. У
Франсийона были большие глаза навыкате и нос, как орлиный
клюв; вид у него был свирепый. Борис его очень любил: иногда, едва
взглянув на него, он разражался безумным хохотом.
— Ждать недолго! — сказал Франсийон.
— А сколько?
— Четыре дня.
Борис посчитал по пальцам:
— Получается восемнадцатого.
Франсийон в знак согласия что-то пробормотал, лизнул клейкую
бумагу, закурил папиросу и доверительно наклонился к Борису.
— Здесь никого нет?
Все койки были пусты: люди были во дворе или в городе.
— Как видишь, — сказал Борис. — Разве что шпионы под
койками.
Франсийон нагнулся ниже.
— В ночь на восемнадцатое дежурит Блен, — объяснил он. —
Самолет будет на площадке, готовый к отлету. Он нас пропустит в
722
Жан Поль Сартр
полночь, в два часа взлетаем, в Лондоне будем в семь. Что
скажешь?
Борис ничего не ответил. Он щупал шрам и думал: «Они
везучие», — и ему становилось все грустнее и грустнее. Сейчас он меня
спросит, что я решил.
— А? Ну? Так что ты об этом думаешь?
— Я думаю, что вы везучие, — сказал Борис.
— Как везучие? Тебе остается только пойти с нами. Ты же не
скажешь, что это для тебя неожиданность? Мы ведь тебя
предупредили.
— Да, — признал Борис. — Это так.
— Так что же ты решил?
— Я решил: черта с два, — с раздражением ответил Борис.
— Однако же ты не собираешься оставаться во Франции?
— Не знаю.
— Война не закончена, — упрямо сказал Франсийон. — Те, кто
говорит, что она закончена, трусы и лжецы. Ты должен быть там, где
сражаются; ты не имеешь права оставаться во Франции.
— И ты меня в этом уверяешь? — горько спросил Борис.
— Тогда решай.
— Подожди. Я жду приятельницу, я тебе об этом говорил. Решу,
когда ее увижу.
— Тут не до приятельниц: это мужское дело.
— Сделаю, как сказал, — сухо промолвил Борис.
Франсийон смутился и замолчал. «А вдруг он решит, что я их
выдам?» Борис заглядывал ему в глаза, пока не увидел на лице
Франсийона доверчивой улыбки, которая его успокоила.
— Вы прилетите в семь? — спросил Борис.
— В семь.
— Берега Англии по утрам должны быть восхитительны. Со
стороны Дувра там большие белые утесы.
— Да, — подтвердил Франсийон.
— Я никогда не летал самолетом, — сказал Борис.
Он вынул руку из-под рубашки.
— Тебе случается чесать шрам?
-Нет.
— Я свой все время чешу: это меня раздражает.
— Если вспомнить, где расположен мой, — сказал Франсийон, —
мне было бы сложно чесать его на людях.
Наступило молчание, потом Франсийон продолжил:
СМЕРТЬ В ДУШЕ
723
— Когда придет твоя приятельница?
— Не знаю. Она должна приехать из Парижа — попробуй
доберись оттуда!
— Ей лучше поторопиться, — заметил Франсийон, — потому что
времени у нас в обрез.
Борис вздохнул и повернулся на живот. Франсийон
равнодушно продолжал:
— Свою я оставляю в неведении, хотя я ее вижу каждый день. В
вечер отъезда я ей пошлю письмо: когда она его получит, мы будем
уже в Лондоне.
Борис, не отвечая, покачал головой.
— Ты меня удивляешь, — сказал Франсийон. — Сергин, ты меня
удивляешь!
— Кое-что тебе не понять, — ответил Борис.
Франсийон замолчал, протянул руку и взял книгу. Они
пролетят над утесами Дувра ранним утром. Но что толку об этом думать:
Борис не верил в чудеса, он знал, что Лола скажет нет.
— «Война и мир», — прочел Франсийон. — Что это?
— Это роман о войне.
— О войне четырнадцатого года?
— Нет. О другой. Но там всегда одно и то же.
— Да, — смеясь, согласился Франсийон, — там всегда одно и
тоже.
Он наугад открыл книгу и погрузился в чтение, хмуря брови с
видом горестного интереса.
Борис снова прилег на койку. Он думал: «Я не могу причинить
ей боль, я не могу уйти второй раз, не поговорив с ней. Если я
останусь ради нее, это будет доказательством любви. Да уж, странное
получается доказательство». Но есть ли у солдата право оставаться
ради женщины? Франсийон и Габель, разумеется, скажут, что нет.
Но они слишком молоды, они не знают, что такое любовь. «Что
такое любовь, я уже знаю, тут меня просвещать не надо, и я знаю ее
цену. Следует ли остаться, чтобы сделать женщину счастливой?
При таком раскладе скорее всего что нет. Но можно ли уехать,
сделав при этом кого-то несчастным?» Он вспомнил высказывание
Матье: «У меня всегда хватит храбрости, чтобы при необходимости
доставить кому-то страдание». Все так, но Матье всегда поступал
обратно своим словам, и храбрости доставить кому-то горе ему явно
не хватало. У Бориса сжалось горло: «А что, если это просто
безрассудная выходка? Что, если это чистейший эгоизм: отказ от тягот
724
Жан Поль Сартр
цивильной жизни? А может, я прирожденный искатель
приключений? А может, вообще погибнуть легче, чем жить? А может, я
остаюсь из-за любви к комфорту, из-за страха, из-за желания иметь под
рукой женщину?» Он обернулся. Франсийон склонился над книгой
прилежно и в то же время с каким-то недоверием, как будто он
пытался уличить автора в неправде. «Если я смогу ему сказать: я
еду, если это слово сможет сорваться с моих губ, то так тому и быть».
Он прочистил горло, приоткрыл рот и ждал. Но слово не шло на
язык. «Я не могу причинить ей такое горе». Борис понял, что без
совета Лолы он ничего не решит. «Она, безусловно, скажет нет, и
все будет улажено. А если она не придет вовремя? — испуганно
подумал он. — Если ее не будет к восемнадцатому? Нужно будет
решать одному? Предположим, я остался, она приезжает двадцатого
и говорит: я бы позволила тебе уехать. То-то физиономия у меня
будет. Другое предположение: я уезжаю, она приезжает
девятнадцатого и кончает с собой. Ох! Дьявол!» Все перемешалось у него в
голове, он закрыл глаза и погрузился в сон.
— Сергин! — крикнул от двери Берже. — Тебя во дворе ждет
девушка.
Борис вздрогнул, Франсийон поднял голову.
— Это твоя приятельница.
Борис опустил ноги и почесал стриженую голову.
— Держи карман шире, — зевая, сказал он. — Нет, сегодня меня
навещает сестра.
— Да? Сегодня тебя навещает сестра? — ошалело повторил
Франсийон. — Это та девушка, которая была с тобой прошлый раз?
-Да.
— Она недурна, — вяло заметил Франсийон.
Борис замотал обмотки и надел куртку; он двумя пальцами
отдал честь Франсийону, пересек палату и, посвистывая, спустился
по лестнице. На середине лестницы он остановился и рассмеялся.
«Забавно! — подумал он. — Забавно, что я печален». Ему вовсе не
хотелось видеть Ивиш. «Когда мне грустно, она не помогает, —
подумал он, — наоборот, удручает».
Ивиш ждала его во дворе госпиталя: вокруг кружили солдаты,
поглядывая на нее, но она не обращала на них внимания. Она
издалека улыбнулась ему:
— Здравствуй, братик!
Увидев Бориса, солдаты засмеялись и закричали; они его очень
любили. Борис приветственно махнул им рукой, но без удоволь-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
725
ствия отметил, что никто ему не говорит: «Счастливчик» или
«Лучше бы мне ее иметь в своей постели, чем винтовку». Действительно,
после выкидыша Ивиш сильно постарела и подурнела. Естественно,
Борис по-прежнему гордился ею, но уже как-то иначе.
— Здравствуй, страхолюдина, — сказал он, касаясь шеи Ивиш
кончиками пальцев.
От нее теперь всегда веяло одеколоном и лихорадкой. Он
беспристрастно оглядел ее.
— Ты паршиво выглядишь, — сказал он.
— Знаю. Я безобразна.
— Ты больше не красишь губы?
— Нет, — жестко сказала она.
Они замолчали. На ней была ярко-красная блузка с закрытым
воротом, очень русская, которая делала ее еще бледней. Ей бы очень
пошло открыть немного плечи и грудь: у нее были очень красивые
круглые плечи. Но она предпочитала закрытые блузки и слишком
длинные юбки: можно подумать, что она стыдилась своего тела.
— Останемся здесь? — спросила она.
— У меня есть право выходить в город.
— Автомобиль ждет нас, — сказала Ивиш.
— Он не здесь? — испуганно спросил Борис.
-Кто?
— Свекор.
— Еще чего!
Они пересекли двор и прошли через ворота. Увидев огромный
зеленый «бьюик» господина Стюреля, Борис почувствовал, до чего
он раздосадован:
— В следующий раз скажи, чтобы он ждал на углу улицы.
Они сели в автомобиль; он был до смешного просторным, в нем
можно было затеряться.
— Здесь можно играть в жмурки, — процедил сквозь зубы
Борис.
Шофер обернулся и улыбнулся Борису; это был кряжистый и
подобострастный мужчина с седыми усами.
— Куда отвезти мадам?
— Что скажешь? — спросил Борис.
Ивиш подумала:
— Я хочу видеть людей.
— Тогда на ла Канебьер?
— Л а Канебьер? Нет! Да, да, если хочешь.
726
Жан Поль Сартр
— На набережные на углу ла Канебьер, — сказал Борис.
— Хорошо, месье Сергин.
«Бездельник!» — подумал Борис. Машина тронулась, и Борис
стал смотреть в окно, ему не хотелось разговаривать, потому что
шофер мог их слышать.
— Ну что Лола? — спросила Ивиш.
Он повернулся к ней: у нее был совершенно непринужденный
вид; он приложил палец к губам, но она повторила звучно и громко,
как будто шофер был просто деревянной чуркой:
— Как Лола? У тебя есть от нее известия?
Он, не отвечая, пожал плечами.
-Эй!
— Известий нет, — сказал он.
Когда Борис лечился в Туре, Лола приехала и поселилась рядом
с ним. В начале июня его эвакуировали в Марсель, а она заехала в
Париж, чтобы взять деньги в банке перед тем, как присоединиться
к нему. С тех пор произошли «события», и он больше ничего не знал.
Толчок бросил его на Ивиш; они занимали так мало места в
«бьюике», что он вспомнил время, когда они только что приехали в
Париж: они развлекались, считая себя двумя сиротами,
заблудившимися в Париже, и часто вот так прижимались друг к другу на скамье
в «Доме» или в «Куполе». Он поднял голову, собираясь напомнить
ей об этом, но увидел, какая она угрюмая, и только сказал:
— Париж взят, ты знаешь?
— Знаю, — безразлично сказала Ивиш.
— А что твой муж?
— Никаких известий.
Она наклонилась к нему и тихо сказала:
— Пусть он подохнет.
Борис бросил взгляд на шофера и увидел, что тот смотрит на
них в зеркало. Он толкнул локтем Ивиш, и она замолчала: но на ее
губах сохранялась злобная и мрачная улыбка. Машина
остановилась в нижней части ла Канебьер. Ивиш спрыгнула на тротуар и
повелительно-непринужденно сказала шоферу:
— Заедете за мной в кафе «Риш» в пять часов.
— До свидания, месье Сергин, — любезно попрощался шофер.
— Пока, — раздраженно сказал Борис.
Он подумал: «Я вернусь на трамвае». Он взял Ивиш за руку, и
они пошли вверх по ла Канебьер. Мимо прошли офицеры; Борис
СМЕРТЬ В ДУШЕ
727
их не поприветствовал, и их это, похоже, нисколько не задело.
Борис был раздосадован, потому что женщины на него
оборачивались.
— Ты не отдаешь честь офицерам? — спросила Ивиш.
— Зачем?
— На тебя смотрят женщины, — заметила Ивиш.
Борис не ответил; одна брюнетка улыбнулась ему, Ивиш живо
обернулась.
— Да, да, он красив, — сказала она в спину брюнетке.
— Ивиш! — взмолился Борис. — Не привлекай к нам внимания.
Это была новая надоевшая песенка. Однажды утром кто-то
сказал ему, что он красив, и с тех пор все ему это повторяли, Фран-
сийон и Габель прозвали его «Рожица Амура». Естественно, Борис
не поддавался на лесть, но это раздражало, потому что красота — не
мужское качество. Было бы предпочтительнее, чтобы все эти бабы
занимались своими ягодицами, а мужчины, проходя, немного
обращали внимание на Ивиш, не слишком, но как раз достаточно,
чтобы она чувствовала себя привлекательной.
На террасе кафе «Риш» почти все столики были заняты; они
сели среди смазливых темноволосых девок, офицеров, элегантных
солдат, пожилых мужчин с жирными руками; безобидная
доброжелательная публика, их можно убить, но не причиняя им боли.
Ивиш принялась дергать себя за локоны. Борис спросил ее:
— Что-то не так?
Она пожала плечами. Борис вытянул ноги и ощутил скуку.
— Что будешь пить? — спросил он.
— У них хороший кофе?
— Так себе.
— Я до смерти хочу выпить кофе. Там они варят
отвратительный.
— Два кофе, — сказал Борис официанту. Он повернулся к Ивиш
и спросил: — Как у тебя дела со свекром и свекровью?
Страсть угасла на лице Ивиш.
— Нормально. Постепенно становлюсь похожей на них. — Она,
усмехнувшись, добавила: — Свекровь говорит, что я на нее похожа.
— Что ты делаешь целый день?
— К примеру, вчера я встала в десять часов, как можно
медленнее привела себя в порядок. Так прошло полтора часа, затем читала
газеты...
728
Жан Поль Сартр
— Ты не умеешь читать газеты, — сурово сказал Борис.
— Да, не умею. За обедом говорили о войне, и мамаша Стюрель
пустила слезу, вспомнив о своем дорогом сыночке; когда она плачет,
ее губы приподнимаются, и мне всегда кажется, что сейчас она
начнет смеяться. Потом мы вязали, и она мне, как женщина женщине,
призналась: Жорж был слабого здоровья, когда был маленьким,
представляешь, у него был энтерит в восемь лет, если бы ей
пришлось выбирать между сыном и мужем, это было бы ужасно, но она
предпочла бы, чтобы умер муж, потому что она больше мать, чем
жена. Затем она мне говорила о своих болезнях: матка, кишечник и
мочевой пузырь, кажется, с ними не все в порядке.
У Бориса на языке вертелась великолепная шутка: она пришла
так быстро, что он засомневался, не вычитал ли он ее где-то?
Однако нет. «Женщины между собой говорят о своем домашнем или
физиологическом хозяйстве». Но фраза получалась немного
педантичной, похоже на высказывание Ларошфуко. «Женщине нужно
говорить о своем домашнем или физиологическом хозяйстве», или
«когда женщина не говорит о своем домашнем хозяйстве, она
говорит о своем физиологическом хозяйстве». Так, да, может быть... Он
подумал, не рассказать ли эту шутку Ивиш? Но Ивиш все меньше
и меньше понимала шутки. Он просто сказал:
— Ясно. А потом?
— Потом поднялась к себе в комнату и не выходила до ужина.
— И что ты там делала?
— Ничего. После ужина слушали новости по радио, потом
комментировали их. Кажется, ничего непоправимого не произошло,
нужно сохранять хладнокровие, Франция видывала времена и
похуже. Потом я поднялась в свою комнату и заварила себе чай на
электрической плитке. Я ее прячу, потому что она выбивает пробки
один раз из трех. Потом я села в кресло и подождала, пока они
уснут.
— И что тогда?
— Я вздохнула полной грудью.
— Тебе надо бы записаться в библиотеку, — сказал Борис.
— Когда я читаю, буквы прыгают у меня перед глазами. Я все
время думаю о Жорже. Я помимо воли надеюсь, что мы вот-вот
получим известие о его смерти.
Борис не любил своего зятя и никогда не понимал, что
толкнуло Ивиш в сентябре тридцать восьмого года бежать из дому и
броситься на шею этому длинному вялому типу. Но он охотно призна-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
729
вал, что тот не был подлецом; когда Жорж узнал, что Ивиш
забеременела, он повел себя в высшей степени порядочно и настоял на их
браке. Но было слишком поздно: Ивиш его ненавидела, потому что
он сделал ей ребенка. Она говорила, что сама себе внушает ужас,
она спряталась в деревне и не хотела видеть даже брата. Она,
безусловно, покончила бы с собой, если бы так не боялась смерти.
— Какая гадость!
Борис вздрогнул.
-Что?
— Вот! — сказала она, показывая на свою чашку кофе.
Борис попробовал кофе и мирно сказал:
— Прямо скажем, не высший сорт! — Помедлив, он заметил: —
Думаю, он будет становиться все хуже и хуже.
— Страна побежденных! — сказала Ивиш.
Борис осторожно посмотрел вокруг. Но никто не обращал на
них внимания: люди благопристойно и сосредоточенно говорили о
войне. Можно подумать, что они вернулись с похорон. Неся пустой
поднос, прошел официант. Ивиш обратила на него взгляд
чернильных глаз.
— Он отвратителен! — выкрикнула она.
Официант удивленно посмотрел на нее: у него были седые усы,
Ивиш годилась ему в дочери.
— Этот кофе отвратителен, — сказала Ивиш. — Можете его
унести.
Официант с любопытством смерил ее взглядом: она была
слишком молода и не вызвала в нем робость. Когда он понял, с кем
имеет дело, он грубо ухмыльнулся:
— Вы хотели бы мокко? Вы, может быть, не в курсе, что идет
война?
— Я, может быть, и не в курсе, — живо ответила она, — но мой
брат, который был недавно ранен, безусловно, знает это лучше вас.
Борис, пунцовый от смущения, отвел глаза. Она стала дерзкой
и в карман за словом не лезла, но он сожалел о той поре, когда она
злилась молча, опустив на лицо волосы: тогда было меньше
неприятностей.
— В день, когда боши вошли в Париж, я не стал бы жаловаться
на плохой кофе, — раздосадованно пробурчал официант.
Он ушел; Ивиш топнула ногой.
— У них только война на языке; они сами себя гонят воевать, и
можно подумать, что этим гордятся. Пусть они проиграют эту вой-
730
Жан Поль Сартр
ну, пусть проиграют хотя бы раз, только бы о ней больше не
говорили.
Борис подавил зевок: вспышки Ивиш его больше не забавляли.
Когда она была девушкой, одно удовольствие было смотреть, как
она теребит волосы, топает ногами и косится, это могло развеселить
на целый день. Теперь ее глаза оставались угрюмыми, казалось, в
этом была некая нарочитость, в такие минуты Ивиш была похожа
на их мать. «Она замужняя женщина, — с ужасом подумал Борис. —
Замужняя женщина, со свекром и свекровью, с мужем на фронте и
семейным автомобилем». Он недоуменно посмотрел на нее и отвел
глаза, потому что почувствовал, что сейчас она вызовет у него
отвращение. «Я уеду!» Он резко выпрямился: решение принято. «Я
уеду, уеду с ними, я не могу больше оставаться во Франции». Ивиш
что-то говорила.
— Что? — спросил он.
— Родители.
— Так что?
— Я говорю, что им не надо было уезжать из России; ты меня не
слушаешь.
— Если бы они остались, их бы засадили в тюрьму.
— Во всяком случае, они не должны были заставлять нас
принимать гражданство. Мы могли бы уехать к себе домой.
— У себя дома — это во Франции, — сказал Борис.
— Нет, в России.
— Во Франции, потому что они нам дали французское
гражданство.
— Вот именно, — сказала Ивиш. — Они не должны были этого
делать.
— Да, но ведь сделали.
— Мне это все равно. Раз они не должны были этого делать,
значит, этого как бы нет.
— Будь ты сейчас в России, — сказал Борис, — ты бы там на
стенку лезла.
— Мне это было бы все равно, потому что Россия — большая
страна, и я бы испытывала гордость. А здесь я живу в стыде.
Она на мгновение замолчала, вид у нее был нерешительный.
Борис блаженно посмотрел на нее; у него не было ни малейшего
желания ей противоречить. «Она будет вынуждена остановиться, —
с надеждой подумал он. — Ей уже просто нечего добавить». Но у
СМЕРТЬ В ДУШЕ 731
Ивиш было воображение: она подняла руку и сделала странный
маленький бросок вперед, словно прыгала в воду.
— Ненавижу французов, — сказала она.
Господин, читавший рядом с ними газету, поднял голову и
поглядел на них с рассеянным видом. Борис посмотрел ему прямо в
глаза. Но почти сразу же господин встал: к нему подходила молодая
женщина; он поклонился ей, она села, и они, улыбаясь, взяли друг
друга за руки. Успокоенный, Борис повернулся к Ивиш. Это была
большая коррида — Ивиш бормотала сквозь зубы:
— Я их ненавижу, ненавижу!
— Ты их ненавидишь, потому что они варят плохой кофе?
— Я их ненавижу за все.
Борис надеялся, что буря утихнет сама собой; но теперь стало
ясно, что он ошибался и что нужно сопротивляться до последнего.
— А я их очень люблю, — сказал он. — Теперь, когда они
проиграли войну, все на них будут нападать; но я их видел в деле, и
уверяю тебя, что они сделали, что смогли.
— Вот видишь! — воскликнула Ивиш. — Вот видишь!
— Что я вижу?
— Почему ты говоришь: они сделали, что смогли? Если бы ты
чувствовал себя французом, ты сказал бы мы.
Борис не сказал «мы» из скромности. Он покачал головой и
нахмурил брови.
— Я не чувствую себя ни французом, ни русским, — ответил
он. — Но я был там с другими солдатами, и мне с ними нравилось.
— Это кролики, — сказала она.
Борис притворился, будто не понимает.
— Да, замечательные кролики*.
— Нет, нет: кролики, которые удирают. Вот так! — показала она,
пробегая пальцами по столу.
— Ты как все женщины, замечаешь только воинский героизм.
— Не в этом дело. Раз они собрались воевать, нужно было
воевать до конца.
Борис устало поднял руки: «Раз они собрались воевать, нужно
было воевать до конца». Безусловно. Именно об этом он еще вчера
говорил с Габелем и Франсийоном. Но... его рука вяло опустилась:
когда человек думает не так, как вы, трудно и утомительно
доказывать ему, что он не прав. Но когда он придерживается вашего мне-
* Lapin — кролик, но еще и храбрец, молодец (фр.).
732
Жан Поль Сартр
ния, а ему нужно объяснить, что он ошибается, тут поневоле
теряешься.
— Перестань, — попросил он.
— Кролики! — повторила Ивиш, улыбаясь от бешенства.
— Солдаты, которые были со мной, не были кроликами, —
сказал Борис. — Там были даже отчаянные ребята.
— Ты мне говорил, что они боялись умереть?
— А ты? Ты не боишься умереть?
— Я женщина.
— Что ж, они боялись умереть, и это были мужчины. Это и
называется храбростью. Они знали, чем рисковали.
Ивиш подозрительно посмотрела на него:
— Уж не хочешь ли ты сказать, что и ты боялся?
— Я не боялся умереть, потому что считал, что я за смертью туда
и отправился.
Он посмотрел на свои ногти и равнодушно добавил:
— Но забавно то, что я все-таки боялся.
Ивиш резко дернулась назад.
— Но из-за чего?
— Не знаю. Может быть, из-за грохота.
Фактически это длилось не более десяти, от силы двадцати
минут, как раз в начале атаки. Но он не разозлился, что Ивиш
приняла его за труса: это будет ему уроком. Она с нерешительным
видом смотрела на него, пораженная тем, что можно бояться, будучи
русским, Сергиным, ее братом. В конце концов он устыдился и
поспешил уточнить:
— Ну, я не все время боялся...
Она с облегчением ему улыбнулась, и он грустно подумал: «Мы
больше ни в чем не согласны». Наступило молчание; Борис отпил
глоток кофе и чуть не выплюнул: ему как будто влили в рот всю его
грусть. Но он подумал, что скоро уедет, и ему полегчало.
— Что ты теперь собираешься делать? — спросила Ивиш.
— Думаю, меня демобилизуют, — сказал Борис. —
Действительно, мы почти все вылечились, но нас держат здесь, потому что не
знают, что с нами делать.
— А потом?
— Я... попрошу должность преподавателя.
— Разве у тебя есть диплом?
— Нет. Но я имею право быть преподавателем коллежа.
— Тебе будет интересно вести уроки?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
733
— Какое там! — вырвалось у него. Он покраснел и смиренно
добавил: — Я не создан для этого.
— А для чего ты создан, братик?
— Сам не знаю.
Глаза Ивиш блеснули.
— Хочешь, я тебе скажу, для чего мы созданы? Чтобы быть
богатыми.
— Это не то, — раздраженно сказал Борис.
Он искоса посмотрел на нее и повторил, сжимая в пальцах
чашку:
— Это не то!
— Что же тогда то?
— Со мной было все решено, — сказал он, — но потом у меня
украли мою смерть. Я ничего не умею, ни к чему не способен, у меня
ни к чему нет вкуса.
Он вздохнул и замолчал, стыдясь говорить о себе самом: я не
могу решиться жить посредственно. По существу, что-то подобное
она только что сказала.
Ивиш продолжала свою мысль.
— Значит, у Лолы нет денег? — спросила она.
Борис подпрыгнул и ударил по столу: у нее был дар читать его
мысли и переводить их в неприемлемые выражения.
— Мне не нужны деньги Лолы!
— Почему? До войны она их тебе давала.
— Что ж, больше не будет давать.
— Тогда давай вместе наложим на себя руки! — пылко сказала
она.
Он вздохнул. «Ну вот, теперь она начнет снова, — тоскливо
подумал он. — А ведь она уже вышла из этого возраста». Ивиш с
улыбкой посмотрела на него.
— Снимем комнату у Старого порта и откроем газ.
Борис просто помахал указательным пальцем правой руки в
знак отказа. Ивиш не настаивала; она опустила голову и принялась
теребить локоны: Борис понял, что она хочет о чем-то его спросить.
Через некоторое время она, не глядя на него, сказала:
— Я подумала...
-Что?
— Я подумала, что ты возьмешь меня с собой, и мы будем жить
втроем на деньги Лолы.
Борис, чуть не подавившись, проглотил слюну.
734
Жан Поль Сартр
— А, — сказал он, — вот что ты подумала.
— Борис, — с внезапным жаром заговорила Ивиш, — я не могу
жить с этими людьми.
— Они худо с тобой обращаются?
— Наоборот, они меня окружают чрезмерными заботами: ведь
я — жена их сына, понимаешь... Но я их ненавижу, я ненавижу
Жоржа, я ненавижу их слуг...
— Ты и Лолу ненавидишь, — заметил Борис.
— Лола — это другое.
— Другое потому, что она далеко, и ты ее не видела два года.
— Лола поет, и потом, она пьет, и потом, она красива... Борис! —
крикнула она. — Они безобразны! Если ты оставишь меня в их
руках, я покончу с собой, нет, я не покончу с собой, будет еще хуже.
Если б ты знал, какой я иногда сама себе кажусь старой и злой!
«Вот те раз!» — подумал Борис. Он выпил немного кофе, чтобы
слюна проскользнула в горло; он подумал: «Нельзя причинять
страдание сразу двум людям». Ивиш перестала теребить волосы. Ее
широкое бледное лицо порозовело, она твердо и тревожно смотрела
на него, немного походя на прежнюю Ивиш. «Может быть, она
снова помолодеет? Может быть, снова станет красивой?»
Он сказал:
— При условии, что ты нам будешь готовить, страхолюдина.
Она схватила его за руку и изо всех сил сжала:
— Ты согласен?! Борис! Ты согласен?!
Я буду преподавателем в Гере. Нет, не в Гере: это лицей. В Ка-
стельнодари. Я женюсь на Лоле: преподаватель коллежа не может
жить с любовницей; с завтрашнего дня я начну готовить свои
лекции. Он медленно провел рукой по волосам и осторожно потянул
за чуб, чтобы проверить его прочность. «Я буду лысым, — решил
он, — теперь это ясно: я полысею до того, как я умру».
— Естественно, я согласен.
Он видел, как ранним утром кружится самолет, и повторял про
себя: «Утесы, красивые белые утесы, утесы Дувра».
Три часа в Паду
Матье сидел в траве; он наблюдал за черными клоками дыма над
стеной. Время от времени в дыму поднималось огненное сердце и
окрашивало его своей кровью: тогда искры прыгали в небо, как
блохи.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
735
— Так ведь они и пожар могут устроить, — сказал Шарло.
Бабочки сажи летали вокруг них; Пинетт поймал одну и
задумчиво растер пальцами.
— Все, что осталось от картины с масштабом в десять
тысячных, — сказал он, показывая свой почерневший большой палец.
Лонжен толкнул калитку и вошел в сад; он плакал.
— Лонжен плачет! — удивился Шарло.
Лонжен вытер глаза.
— Сволочи! Я уж думал, что они меня прикончат.
Он рухнул на траву; в руке у него была книга с разорванной
обложкой.
— Мне было нужно раздувать огонь кузнечным мехом, а они
бросали в огонь свои бумаги. Весь дым шел мне в морду.
— Закончили?
— Нет. Нас прогнали, потому что будут жечь секретные
документы. Тоже мне секрет: приказы, которые я сам и печатал.
— Это плохо пахнет, — сказал Шарло.
— Пахнет жареным.
— Нет, я говорю: раз жгут архивы, это плохо пахнет.
— Ну да, плохо пахнет, пахнет жареным. Я о том и говорю.
Они засмеялись. Матье показал на книгу и спросил:
— Где ты ее нашел?
— Там, — неопределенно сказал Лонжен.
— Где там? В школе?
-Да.
Он с подозрительным видом прижал к себе книгу.
— А другие там есть? — спросил Матье.
— Были и другие, но типы из интендантской службы взяли их
себе.
— А это что?
— Книжка по истории.
— Какая?
— Я не знаю названия.
Он бросил взгляд на обложку, потом неохотно добавил:
— История двух Реставраций.
— А кто автор? — спросил Шарло.
— Во-ла-белль, — прочел Лонжен.
— Волабелль, кто это?
— Откуда мне знать?
— Ты мне ее одолжишь? — спросил Матье.
736
Жан Поль Сартр
— Когда прочту.
Шарло забрался в траву и взял у него книгу из рук.
— Так это же третий том!
Лонжен вырвал ее.
— Ну и что? Зато можно хоть как-то мысли переключить.
Он наугад открыл книгу и сделал вид, будто читает, чтобы
утвердиться в правах владельца. Исполнив эту формальность, он
поднял голову.
— Капитан сжег письма своей жены, — сказал он.
Он смотрел на них, подняв брови, с простодушным видом,
заранее изображая глазами и губами удивление, которое рассчитывал
вызвать. Пинетт очнулся от угрюмой задумчивости и с
любопытством повернулся к нему:
— Кроме шуток?
— Да. И ее фотографии он тоже сжег, я их видел в огне. Она
премиленькая.
— Неужели?
— Ну я врать не буду.
— Что он говорил?
— Ничего. Он смотрел, как они горят.
— А все остальные?
— Они тоже молчали. Улльрих вынул из бумажника письма и
бросил их в огонь.
— Странная затея, — пробормотал Матье.
Пинетт повернулся к нему:
— Ты не будешь жечь фотографии своей милой?
— У меня нет милой.
— А! Вот оно что.
— А ты сжег фотографии жены? — спросил Матье.
— Я жду, когда фрицы будут в поле зрения.
Они замолчали; Лонжен действительно углубился в чтение.
Матье бросил на него завистливый взгляд и встал. Шарло положил
руку на плечо Пинетта.
— Реванш?
— Если хочешь, давай.
— Во что играете? — спросил Матье.
— В крестики-нолики.
— А втроем можно играть?
-Нет.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
737
Пинетт и Шарло сели верхом на скамейку; сержант Пьерне,
который писал что-то на коленях, немного отодвинулся, чтобы
освободить им место.
— Ты пишешь мемуары?
— Нет, — сказал Пьерне, — я занимаюсь физикой.
Они начали играть. Ниппер спал, лежа на спине и скрестив
руки, с бульканьем слива воздух врывался в открытый рот. Шварц
сидел в сторонке и мечтал. Никто не разговаривал, Франция была
мертва. Матье зевнул, он посмотрел, как секретные документы
дымом исчезают в небе, и его голова опустела: он был мертв; этот
белый и тусклый послеполуденный час был могилой.
В сад вошел Люберон. Он жевал, его ресницы трепетали под
большими глазами альбиноса, уши двигались одновременно с
челюстями.
— Что ты ешь? — спросил Шарло.
— Хлеб.
— Где ты его взял?
Люберон вместо ответа показал куда-то в сторону и продолжал
жевать. Шарло внезапно замолчал и с каким-то ужасом посмотрел
на него; сержант Пьерне, подняв карандаш и запрокинув голову,
тоже смотрел на него. Люберон продолжал не спеша жевать: Матье
обратил внимание на его важный вид и понял, что тот принес
новости; как и все, Матье испугался и отступил на шаг назад. Люберон
мирно закончил есть и вытер руки о штаны. «Это был не хлеб», —
подумал Матье. Подошел Шварц, и все молча ждали.
— Ну все, свершилось! — объявил Люберон.
— Что ты мелешь? — грубо спросил Пьерне. — Что
свершилось?
— То самое.
— Значит...
-Да.
Стальная молния, потом тишина; вялое сизое мясо этого дня
получило знак вечности, это было как удар серпа. Ни звука, ни
дуновения ветра, время застыло, война отступила: только что они
были в ней, под ее защитой, они могли еще верить в чудеса, в
бессмертную Францию, в американскую помощь, в гибкую защиту, во
вступление России в войну; теперь война была позади них,
закрытая, завершенная, проигранная. Последние надежды Матье
превратились в воспоминания о надеждах.
738
Жан Поль Сартр
Лонжен опомнился первым. Он вытянул длинные руки, чтобы
осторожно как бы пощупать новость. Он робко спросил:
— Значит... оно подписано?
— С сегодняшнего утра.
Девять месяцев Пьерне желал мира. Мира любой ценой.
Теперь Пьерне стоял бледный и потный; его удивление перешло в
ярость.
— Откуда ты знаешь? — крикнул он.
— Мне только что сказал Гвиччоли.
— А он откуда знает?
— По радио слышал. Только что передавали.
Он говорил голосом диктора, терпеливым и нейтральным; ему
нравилось изображать из себя всеведущего.
— А как же артиллерия?
— Прекращение огня назначено на полночь.
Шарло тоже покраснел, но глаза его сверкали:
— Вот это да!
Пьерне встал. Он спросил:
— Есть подробности?
— Нет, — сказал Люберон.
Шарло кашлянул:
— А мы?
— Что мы?
— Когда мы вернемся по домам?
— Говорю же тебе, что подробностей нет.
Они помолчали. Пинетт пнул булыжник, и тот покатился в
морковку.
— Перемирие! — сказал он злобно. — Перемирие!
Пьерне покачал головой; на его пепельном лице левое веко
стало дергаться, как ставень в ветреный день.
— Условия будут жесткими, — сказал он, удовлетворенно
ухмыляясь.
Начали ухмыляться и все остальные.
— Еще бы! — сказал Лонжен. — Еще бы!
Шварц тоже ухмыльнулся; Шарло повернулся и удивленно
посмотрел на него. Шварц перестал смеяться и сильно покраснел.
Шарло продолжал смотреть на него так, как будто видел его в
первый раз.
— Ты теперь фриц... — тихо сказал он.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
739
Шварц энергично и неопределенно махнул рукой, повернулся
и вышел из сада; Матье почувствовал себя совсем разбитым от
усталости. Он рухнул на скамейку.
— Ну и жара, — сказал он.
На нас смотрят. Все более и более плотная толпа смотрела, как
они глотают эту историческую пилюлю, толпа на глазах старела и
пятилась назад, шепча: «Побежденные сорокового года, солдаты-
пораженцы, из-за них мы оказались в цепях». Они оставались здесь,
неизменные под этими изменчивыми взглядами, судимые, точно
измеренные, объясненные, обвиненные, прощенные,
приговоренные, заточенные в этом неизгладимом полудне, погребенные в
жужжании мух и пушек, в запахе нагретой зелени, в воздухе,
дрожащем над морковью, бесконечно виновные в глазах своих сыновей,
внуков и правнуков, побежденные сорокового года навсегда. Он
зевнул, и миллионы людей увидели, как он зевает: «Он зевает, ну и
дела! Побежденный сорокового года имеет наглость зевать!» Матье
резко погасил этот неудержимый зевок, он подумал: «Мы не
одни».
Он посмотрел на своих товарищей, его взгляд столкнулся с
вечным и цепенящим взглядом истории: в первый раз величие
спустилось им на головы: они были знаменитыми солдатами
проигранной войны. Живые истуканы! «Боже мой, я читал, зевал,
размахивал погремушкой своих проблем, не решался выбрать, а на самом
деле я уже выбрал, выбрал эту войну, это поражение, и в сердце
ждал этого дня. Все нужно начинать заново, делать больше нечего»:
две мысли вошли одна в другую и взаимоуничтожились; осталась
лишь спокойная поверхность Небытия.
Шарло тряхнул плечами и головой; он засмеялся, и время снова
потекло. Шарло смеялся, он смеялся вопреки Истории, он
защищался смехом от окаменения; он лукаво смотрел на них и говорил:
— Хорошо же мы выглядим, ребята. Что-что, а выглядим мы
хорошо.
Они озадаченно повернулись к нему, и потом Люберон решил
засмеяться. Он морщил нос, еле сдерживаясь, и смех выходил у него
через ноздри:
— Что да, то да! Как они с нами разделались!
— Вздули что надо! — в каком-то опьянении воскликнул
Шарло. — Всыпали по первое число!
В свою очередь, засмеялся Лонжен:
740
Жан Поль Сартр
— Солдаты сорокового, или короли спринта!
— Победители!
— Олимпийские чемпионы по ходьбе!
— Не волнуйтесь, — сказал Люберон, — нас хорошо примут,
когда вернемся, организуют нам торжественную встречу!
Лонжен издал счастливый хрип:
— Нас придут встречать на вокзал! С хоровой капеллой и
гимнастическими группами.
— А каково мне, еврею! — смеясь до слез, сказал Шарло. —
Представляете себе антисемитов из моего квартала!
Матье заразился этим неприятным смехом, ему показалось, что
его, дрожащего от лихорадки, бросили на ледяные простыни; потом
его вечное и прочное естество разбилось, разлетелось на осколки
смеха. Смеясь, они отказывались от перспективы величия,
отказывались во имя озорства; не следует слишком волноваться, раз есть
здоровье, питье и еда, а раз так, можно пренебречь одной половиной
мира и насрать на другую, из суровой ясности они отказывались от
утешений величия, они отказывали себе вправе играть трагические,
нет, исторические, нет: всего лишь комические роли, мы не стоим и
слезинки; все предопределено: даже этого нет, в мире все случайно.
Они смеялись, натыкаясь на стены Абсурда и Судьбы, которые их
отшвыривали; они смеялись, чтобы наказать себя, очиститься,
отомстить за себя, бесчеловечные, слишком человечные, по ту и другую
сторону отчаяния: просто люди. Еще на мгновение они невольно
бросили упрек лазури за свои неудачи: Ниппер по-прежнему храпел
с открытым ртом, и храп его тоже был жалобой. Но вскоре их смех
отяжелел, загустел, остановился после нескольких финальных
взрывов: церемония закончена, перемирие признано; их после
санкционировано. Время текло медленно, отвар, остуженный солнцем:
нужно было снова начинать жить.
— Вот так! — сказал Шарло.
— М-да, — хмыкнул Матье.
Люберон украдкой вытащил руку из кармана, приложил ее к
губам и зажевал; его челюсти прыгали под кроличьими глазами.
— Вот так, — сказал он. — Вот так.
Пьерне принял победный и хвастливый вид:
— Что я вам говорил?
— А что ты нам говорил?
— Не стройте из себя идиотов. Деларю, ты помнишь, что я тебе
говорил после нападения на Финляндию? И после Нарвика, пом-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
741
нишь? Ты считал, что я каркаю, а так как ты половчее меня, то меня
всегда сбивал с толку.
Он порозовел, за стеклами очков его глаза сверкали от обиды и
гордости.
— Не нужно было ввязываться в эту войну. Я всегда говорил,
что не нужно в нее ввязываться: тогда бы мы не докатились до
такого.
— Было бы еще хуже, — сказал Пинетт.
— Хуже быть не могло: нет ничего хуже войны.
Он вкрадчиво потирал руки, лицо его излучало невинность; он
потирал руки, он умывал руки, отрекаясь от этой войны, он в ней
не участвовал, он даже ее не прожил; он дулся десять месяцев,
отказываясь видеть, говорить, чувствовать, протестуя против
приказов тем, что выполнял их с маниакальным рвением, рассеянный,
нервный, напыщенный, бездушный. Теперь он был сполна
вознагражден за все. У него были чистые руки, и его предсказания
сбылись: побежденными были другие, Пинетты, Любероны, Деларю и
прочие. Но не он. Губы Пинетта дрожали.
— Так что? — прерывающимся голосом сказал он. — Все
хорошо? Ты доволен?
— Кто, я?
— Ну что, получил свое поражение?
— Мое поражение? Скажешь тоже, оно такое же твое, как и
мое.
— Ты надеялся на него: оно твое. Мы же на него не надеялись и
не хотим тебя его лишать.
Пьерне улыбнулся улыбкой непонятого человека.
— Кто тебе сказал, что я на него надеялся? — терпеливо
спросил он.
— Ты сам и сказал — только что.
— Я сказал, что я его предвидел. Предвидеть и надеяться — две
разные вещи, разве не так?
Пинетт, не отвечая, смотрел на него, все его лицо осело, губы
вытянулись трубочкой; он вращал большими красивыми
зачарованными глазами. Пьерне продолжал защищаться:
— А зачем мне на него надеяться? Докажи! Может, я из пятой
колонны?
— Ты пацифист, — выдавил из себя Пинетт.
— Ну и что?
— Это одно и то же.
742
Жан Поль Сартр
Пьерне пожал плечами и изнеможенно развел руками. Шарло
подбежал к Пинетту и обнял его за шею.
— Не ссорьтесь, — благодушно сказал он. — К чему спорить? Мы
проиграли, это не наша вина, никто не должен ни в чем себя
упрекать. Это общее несчастье, вот и все.
У Лонжена появилась улыбка дипломата:
— Разве это несчастье?
— Да! — примирительно сказал Шарло. — Нужно быть
справедливым: это несчастье. Большое несчастье. Но как ни верти, я говорю
себе: каждому свой черед. Последний раз выиграли мы, на сей раз
они, в следующий раз снова будем мы.
— Следующего раза не будет, — сказал Лонжен.
Он поднял палец и с саркастическим видом добавил:
— Мы воевали последнюю из последних войн, вот истина.
Победителям или побежденным, ребяткам сорокового года удалось то,
что не удалось их папашам. Покончено с нациями. Покончено с
войнами. Сегодня на коленях мы; завтра будут англичане, немцы
захватят все, везде установят свой порядок — и вперед к
Соединенным Штатам Европы.
— Соединенные Штаты Моей Задницы, — сказал Пинетт. — Все
станут холуями Гитлера.
— Гитлера? А что такое Гитлер? — высокомерно спросил
Лонжен. — Естественно, он был нужен. Как придут к согласию страны,
если их оставить свободными? Они ведь как люди — каждый тянет
в свою сторону. Но кто будет говорить о твоем Гитлере через сто
лет? К тому времени он сдохнет, а с ним и нацизм.
— Мать твою! — крикнул Пинетт. — А кто их проживет, эти сто
лет?!
Лонжен был явно возмущен:
— Нельзя так думать, дуралей, — нужно смотреть немного дальше
кончика своего носа: следует думать и о послезавтрашней Европе.
— А эта послезавтрашняя Европа даст мне пожрать?
Лонжен умиротворяюще поднял руку и помахал ею на солнце.
— Хватит! — сказал он. — Хватит! Ловкачи выпутаются всегда.
Пастырская рука опустилась и погладила вьющиеся волосы
Шарло:
— Ты думаешь иначе?
— Я, — сказал Шарло, — думаю, что раз уж пришли к
перемирию, надо подписать его побыстрее: меньше убитых, да и фрицы не
успеют остервенеть.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
743
Матье смотрел на него с недоумением. Все! Все мгновенно
переменились: Шварц стал другим, Ниппер уцепился за дрему, Пинетт
спасался яростью, Пьерне — невинностью, Люберон под сурдинку
жрал, затыкал все свои дырки жратвой; Лонжен ушел в иные
времена. Каждый из них поспешно выработал себе позицию, которая
позволяла ему жить. Матье резко встал и громко сказал:
— Вы мне отвратительны!
Они посмотрели на него без удивления, жалко улыбаясь: он был
удивлен больше, чем они; фраза еще звучала в воздухе, а он
дивился, как он мог ее произнести. Мгновение он колебался между
смущением и гневом, затем выбрал гнев: он повернулся к ним спиной,
толкнул калитку и перешел через дорогу. Она была ослепительной
и пустой; Матье прыгнул в ежевику, которая вцепилась ему в
обмотки, и спустился по склону перелеска до ручья. «Дерьмо!» —
сказал он громко. Он посмотрел на ручей и повторил: «Дерьмо!
Дерьмо!», сам не зная почему. В ста метрах от него, в полосках солнца,
голый по пояс, солдат стирал свое белье, он там, он посвистывает,
он месит эту влажную муку, он проиграл войну, и он этого не знает.
Матье сел; ему было стыдно: «Кто дал мне право быть таким
суровым? Они только что узнали, что разбиты, они выпутываются как
могут, потому что для них это внове. У меня же есть навык, но от
этого я не стою больше. И помимо всего, я тоже выбрал бегство. И
злость». Он услышал легкий хруст — Пинетт сел у края воды. Он
улыбнулся Матье, Матье улыбнулся ему, и они долго молчали.
— Посмотри на того парня, — сказал Пинетт. — Он еще ничего
не знает.
Солдат, согнувшись над водой, с прилежным упорством стирал
белье; реликтовый самолет урчал над ними. Солдат поднял голову
и сквозь листву посмотрел на небо с рассмешившей их боязнью:
эта маленькая сцена имела живописность исторического
свидетельства.
— Скажем ему?
— Нет, — сказал Матье, — пусть не знает и дальше.
Они замолчали. Матье погрузил руку в воду и пошевелил
пальцами. Его рука была бледной и серебристой, с голубым ореолом
неба вокруг. На поверхность поднялись пузырьки. Травинка,
принесенная соседним водоворотом, кружась, приклеилась к его
запястью, подпрыгнула, снова приникла. Матье вынул руку.
— Жарко, — сказал он.
— Да, — согласился Пинетт. — Все время тянет спать.
744
Жан Поль Сартр
— Ты хочешь спать?
— Нет, но постараюсь.
Он лег на спину, заложил руки за голову и закрыл глаза. Матье
погрузил сухую ветку в ручей и пошевелил ею. Через некоторое
время Пинетт открыл глаза.
— Черт!
Он встал и обеими руками начал ерошить волосы.
— Не могу уснуть.
— Почему?
— Я злюсь.
— В этом нет ничего дурного, — успокоил его Матье. — Это
естественно.
— Когда я злюсь, — сказал Пинетт, — мне нужно подраться,
иначе я задыхаюсь.
Он с любопытством посмотрел на Матье:
— А ты не злишься?
— Конечно, злюсь.
Пинетт склонился над башмаками и стал их расшнуровывать.
— Я даже ни разу не выстрелил из винтовки, — с горечью
произнес он.
Он снял носки, у него были по-детски маленькие нежные
ступни, пересеченные полосками грязи.
— Приму-ка я ножную ванну.
Он смочил правую ступню, взял ее в руку и начал тереть. Грязь
сходила шариками. Вдруг он снизу посмотрел на Матье.
— Они нас найдут, да?
Матье кивнул.
— И уведут к себе?
— Скорее всего.
Пинетт яростно растирал ногу.
— Без этого перемирия меня так легко не одолели бы.
— Что бы ты сделал?
— Я бы им показал!
— Какой бычок! — усмехнулся Матье.
Они улыбнулись друг другу, но Пинетт вдруг помрачнел, и в его
глазах мелькнуло недоверие.
— Ты сказал, что мы тебе отвратительны.
— Я не имел в виду тебя.
— Ты имел в виду всех.
Матье все еще улыбался.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
745
— Ты со мной собираешься драться?
Пинетт, не отвечая, наклонил голову.
— Бей, — предложил Матье. — Я тоже ударю. Может, это нас
успокоит.
— Я не хочу причинять тебе боль, — раздраженно возразил
Пинетт.
— Как хочешь.
Левая ступня Пинетта блестела от воды и солнца. Они оба на
нее посмотрели, и Пинетт зашевелил пальцами ноги.
— У тебя забавные ступни, — сказал Матье.
— Совсем маленькие, да? Я могу взять коробок спичек и
открыть его.
— Пальцами ног?
-Да.
Он улыбался; но приступ бешенства вдруг сотряс его, и он
грубо вцепился в лодыжку.
— Я так и не убью ни одного фрица! Скоро они припрутся, и им
останется только меня задержать!
— Что ж, это так, — сказал Матье.
— Но это несправедливо!
— Это ни несправедливо, ни справедливо — это просто факт.
— Это несправедливо: мы расплачиваемся за других, за парней
из армии Кора и за Гамелена.
— Будь мы в армии Кора, мы поступили бы так же, как они.
— Говори за себя!
Он расставил руки, шумно вдохнул, сжал кулаки, и надувая
грудь, высокомерно посмотрел на Матье:
— Разве у меня такая рожа, чтобы удирать от врага?
Матье ему улыбнулся:
-Нет.
Пинетт напряг продолговатые бицепсы светлых рук и
некоторое время наслаждался своей молодостью, силой, храбростью. Он
улыбался, но глаза его оставались беспокойными, а брови
нахмуренными.
— Я бы погиб в бою.
— Так всегда говорят.
Пинетт улыбнулся и умер: пуля пронзила ему сердце. Мертвый
и торжествующий, он повернулся к Матье. Статуя Пинетта,
погибшего за родину, повторила:
— Я бы погиб в бою.
746
Жан Поль Сартр
Вскоре энергия и гнев снова разогрели это окаменевшее тело.
— Я не виноват! Я сделал все, что мне предписали. Не моя вина,
что меня не смогли толком использовать.
Матье смотрел на него с какой-то нежностью; Пинетт был
прозрачным на солнце, жизнь поднималась, опускалась, вращалась так
быстро в голубом дереве его вен, он, должно быть, чувствовал себя
таким худым, таким здоровым, таким легким: как он мог подумать
о безболезненной болезни, которая уже начала его глодать, которая
согнет его свежее молодое тело над силезскими картофельными
полями или на автодорогах Померании, которая заполнит его
усталостью, грустью и тяжестью. Поражению учатся.
— Я ничего ни у кого не просил, — продолжал Пинетт. — Я
спокойно делал свою работу; я не был против фрицев, я их в глаза не
видывал; нацизм, фашизм — я даже не знал, что это такое; а когда я
в первый раз увидел на карте этот самый Данциг, я был уже
мобилизован. Ладно, наверху есть Даладье, который объявляет войну, и
Гамелен, который ее проигрывает. А что там делаю я? В чем моя
вина? Может, ты думаешь, они со мной посоветовались?
Матье пожал плечами:
— Уже пятнадцать лет все видели, что война приближается.
Нужно было вовремя умело взяться, чтобы избежать ее или
выиграть.
— Я не депутат.
— Но ты голосовал.
— Конечно, — неуверенно ответил Пинетт.
— За кого?
Пинетт промолчал.
— Вот видишь, — сказал Матье.
— Мне нужно было пройти военную службу, — раздраженно
оправдывался Пинетт. — А потом я заболел: я мог проголосовать
только один раз.
— А в тот раз ты это сделал?
Пинетт не ответил. Матье улыбнулся.
— Я тоже не голосовал, — тихо сказал он.
Выше по течению солдат выжимал рубашки. Он их завернул в
красное полотенце и, посвистывая, поднялся на дорогу.
— Узнаешь, какую песенку он насвистывает?
— Нет, — ответил Матье.
— «Мы будем сушить белье на линии Зигфрида».
СМЕРТЬ В ДУШЕ
747
Оба засмеялись. Пинетт, казалось, немного успокоился.
— Я добросовестно работал, — сказал он. — И не всегда досыта
ел. Потом я нашел это место на транспорте и женился: жену-то мне
нужно кормить, а? Знаешь, она из хорошей семьи. Хотя поначалу
между нами не все ладилось... Потом, — живо добавил он, — все
утряслось; я вот к чему клоню: нельзя же заниматься всем
одновременно.
— Конечно, нет! — согласился Матье.
— Как я мог поступить иначе?
— Никак.
— У меня не было времени заниматься политикой. Я
возвращался домой усталый как собака, потом шли ссоры; к тому же, если ты
женат, надо ублажать жену каждый вечер, разве нет?
— Наверное, да.
— Так что ж?
— А ничего. Вот так и проигрывают войну.
Пинеттом овладел новый приступ злобы.
— Не смеши меня! Даже если бы я занимался политикой, даже
если бы я только это и делал, что бы изменилось?
— По крайней мере ты бы сделал все возможное.
— А ты сделал?
-Нет.
— А если бы и сделал, ты сказал бы, что это не ты проиграл
войну?
-Нет.
— Так как же?
Матье не ответил, он услышал дрожащее пение комара и
помахал рукой на уровне лба. Пение прекратилось. «В самом начале
я тоже думал, что эта война — болезнь. Какая глупость! Это я, это
Пинетт, это Лонжен. Для каждого из нас это он сам; она сделана по
нашему образу и подобию, и у нас та война, которую мы
заслужили». Пинетт длинно шмыгнул носом, не спуская взгляда с Матье;
Матье подумал, что у него глупый вид, но разъярился против себя.
«Довольно! Довольно! Мне надоело слыть человеком, который ясно
все понимает!» Комар танцевал вокруг его лба — смехотворный
венец славы. «Если бы я воевал, если бы я нажал на гашетку, где-то
упал бы человек...» Он дернул рукой и залепил себе хороший
шлепок по виску; он опустил руку и увидел на указательном пальце
крошечное кровавое кружевце, человек, у которого кровью истека-
748
Жан Поль Сартр
ет жизнь на булыжники, шлепок по виску, указательный палец
нажимает на курок, разноцветные стекла калейдоскопа резко
останавливаются, кровь испещряет траву на тропинке, мне надоело! Мне
надоело! Углубиться в неизвестное действие, как в лес. Действие.
Действие, которое возлагает ответственность и которое никогда
полностью не понимаешь. Он страстно проговорил:
— Если бы что-то нужно было сделать...
Пинетт с интересом посмотрел на него:
-Что?
Матье пожал плечами.
— Нет, ничего, — ответил он. — В данный момент — ничего.
Пинетт надевал носки; его белесые брови хмурились. Он вдруг
спросил:
— Я тебе показывал свою жену?
— Нет, — сказал Матье.
Пинетт встал, порылся в кармане кителя и вынул из бумажника
фото. Матье увидел довольно красивую женщину с суровым
выражением лица и намечающимися усиками. Поперек фотографии
она написала: «Дениза — своей куколке, 12 января 1939 года».
Пинетт покраснел:
— Она меня так называет. Не могу ее от этого отучить.
— Но хоть как-то она должна тебя называть.
— Это потому, что она старше меня на пять лет, — с
достоинством пояснил Пинетт.
Матье вернул ему фотографию.
— Она хороша.
— В постели она потрясающая, — сказал Пинетт. — Ты даже не
можешь себе представить.
Он еще больше покраснел. Потом смущенно добавил:
— Она из хорошей семьи.
— Ты мне это уже говорил.
— Да? — удивился Пинетт. — Я тебе это уже говорил? Я тебе
говорил, что ее отец был преподавателем рисования?
-Да.
Пинетт старательно положил фото в бумажник.
— Меня это огорчает.
— Что тебя огорчает?
— Ей будет неприятно такое мое возвращение.
Он скрестил руки на коленях.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
749
— Хватит тебе! — сказал Матье.
— Ее отец — герой войны четырнадцатого года, — продолжал
Пинетт. — Три благодарности в приказе, награжден крестом. Он об
этом все время говорит.
— Ну и что?
— А то, что ей будет неприятно такое мое возвращение.
— Бедный дурачок, — сказал Матье. — Ты вернешься еще не
скоро.
Гнев Пинетта выветрился. Он грустно покачал головой.
— Лучше уж так. Я не хочу возвращаться.
— Бедный дурачок, — повторил Матье.
— Она меня любит, — говорил Пинетт, — но у нее трудный
характер: она много о себе воображает. Да еще ее мамаша королеву из
себя корчит. Жена должна тебя уважать, верно? Иначе она устроит
из дома ад.
Он вдруг встал:
— Мне надоело здесь. Ты идешь?
— Куда это?
— Не знаю. К остальным.
— Пойдем, если хочешь, — неохотно согласился Матье.
Он, в свою очередь, встал, они поднялись к дороге.
— Смотри-ка, — сказал Пинетт, — вот Гвиччоли.
Гвиччоли, расставив ноги, приставив руку козырьком ко лбу и
смеясь, смотрел на них.
— Вот это шутка! — сказал он.
-Что?
— Вот это шутка! Попались, как дураки.
— Ты о чем это?
— О перемирии, — все еще смеясь, сказал Гвиччоли.
Пинетт засветился:
— Это была шутка?
— Маленькая такая! — сказал Гвиччоли. — Люберон
притащился к нам надоедать; он хотел новостей, ну мы ему их и дали.
— Значит, — оживился Пинетт, — никакого перемирия нет?
— Перемирия нет и в помине.
Матье краем глаза посмотрел на Пинетта:
— Что это меняет?
— Это меняет все, — сказал Пинетт. — Вот увидишь! Вот
увидишь — это меняет все.
750
Жан Поль Сартр
Четыре часа
Никого на бульваре Сен-Жермен; никого на улице Дантона.
Железные шторы даже не опущены, витрины сверкают: просто
хозяева, уходя, сняли щеколду с дверей. Было воскресенье. Уже три
дня было воскресенье: на всю неделю в Париже был только один
день. Совершенное воскресенье, какое-то немного более
напряженное, чем обычно, немного более искусственное, слишком
молчаливое, уже полное тайного застоя. Даниель подходил к большому
магазину шерстяных изделий и тканей; разноцветные клубки,
расположенные пирамидой, начали желтеть, они пахли чем-то старым;
в соседней лавке выцветали пеленки и блузки; мучнистая пыль
скапливалась на полках. Длинные белые дорожки бороздили
стекла. Даниель подумал: «Стекла плачут». За стеклами царил
праздник: жужжали мириады мух. Воскресенье. Когда парижане
вернутся, они найдут гнилое, упавшее на их мертвый город воскресенье.
Если только они вернутся! Даниель дал волю страстному желанию
хохотать, желанию, с которым он с утра прогуливался по улицам.
Если только они вернутся!
Маленькая площадь Сент-Андре-дез-Ар лениво предавалась
солнцу: среди ясного света была темная ночь. Солнце — это
искусственность, вспышка магния, которая прячет ночь, оно должно
погаснуть через двадцатую долю секунды, но почему-то не гаснет.
Даниель прижал лоб к большой витрине Эльзасской пивной, я здесь
завтракал с Матье: это было в феврале, во время его отпуска, здесь
все кишело героями и ангелами. Он в конце концов различил в
полумраке колеблющиеся пятна: это были бумажные скатерти на
подвальных столиках-грибах. Где герои? Где ангелы? Два железных
стула остались на террасе; Даниель взял один за спинку, отнес на
край тротуара и сел, как рантье, под военным небом, в этой белой
жаре, которая была пронизана воспоминаниями детства. Он
чувствовал, как в спину магнетически давит тишина, он смотрел на
пустынный мост, на запертые на висячий замок ящики набережных,
на башенные часы без стрелки. «Они должны были бы ударить по
всему этому, — подумал он. — Всего несколько бомб, чтобы нагнать
на нас страху». Чей-то силуэт проскользнул вдоль префектуры
полиции по другую сторону Сены, словно несомый движущимся
тротуаром. Строго говоря, Париж не был пуст: он был населен
маленькими минутами-поражениями, которые брызгами разлетались
во всех направлениях и тотчас же поглощались под этим светом
СМЕРТЬ В ДУШЕ
751
вечности. «Город полый», — подумал Даниель. Он чувствовал под
ногами галереи метро, за собой, перед собой, над собой — дырявые
скалы: между небом и землей тысячи гостиных в стиле Луи-Филипп,
столовые в стиле ампир, угловые диваны скрипели в запустении,
можно было помереть со смеху. Он резко обернулся: кто-то
стукнул по витрине. Даниель долго смотрел на большую витрину, но
увидел только свое отражение. Он встал со сжавшимся от
странной тревоги горлом, но не слишком недовольный: забавно
испытывать ночные страхи среди бела дня. Он подошел к фонтану
Сен-Мишель и посмотрел на позеленевшего дракона. Он подумал:
«Все дозволено». Он мог спустить брюки под стеклянным
взглядом всех этих черных окон, вырвать камень из мостовой и бросить
его в витрину пивной, он мог крикнуть: «Да здравствует
Германия!», и ничего не произойдет. Самое большее на седьмом этаже
какого-нибудь здания к окну прильнет испуганное лицо, но это
останется без последствий, у них не осталось сил возмущаться:
приличный человек наверху повернется к жене и равнодушно
скажет: «На площади какой-то тип снял штаны», а она из глубины
комнаты ему ответит: «Не стой у окна, мало ли что может
произойти». Даниель зевнул. Может, разбить витрину? Лучше будет
видно, когда начнется грабеж. «Надеюсь, — подумал он, — они все
предадут огню и зальют кровью». Даниель еще раз зевнул: он
чувствовал в себе беспредельную и тщетную свободу. Мгновениями
радость обжигала ему сердце.
Когда он удалялся, с улицы де ла Юшетт вывернула целая
процессия. «Теперь они перемещаются обозами». С утра это уже
десятый. Даниель насчитал девять человек: две старухи несли плетеные
корзинки, две девочки, трое усачей, суровых и жилистых; за ними
шли две молодые женщины, одна красивая и бледная, другая
восхитительно беременная, с полуулыбкой на губах. Они шли
медленно, никто не разговаривал. Даниель кашлянул, и они обернулись к
нему все разом: в их глазах не было ни симпатии, ни осуждения,
одно лишь недоверчивое удивление. Одна из девочек наклонилась
к другой, не переставая смотреть на Даниеля, она прошептала
несколько слов, и обе восхищенно засмеялись; Даниель чувствовал
себя кем-то необычным, серной, остановившей на альпинистах
медленный девственный взгляд. Они же, отжившие, призраками
прошли и сгинули в пустоте. Даниель пересек мостовую и
облокотился на каменный парапет у входа на мост Сен-Мишель. Сена
сверкала; очень далеко на северо-западе над домами поднимался
752
Жан Поль Сартр
дым. Внезапно зрелище показалось ему невыносимым, он
развернулся, двинулся назад и стал подниматься по бульвару.
Процессия исчезла. Молчание и пустота насколько хватает глаз:
горизонтальная бездна. Даниель устал, улицы шли в никуда; без
людей все они были похожи друг на друга. Бульвар Сен-Мишель,
вчера еще длинная золотая лава, казался дохлым китом брюхом
кверху. Даниель чеканил шаги по этому толстому, полому и
вздутому животу; он принудил себя вздрогнуть от наслаждения и громко
сказал: «Я всегда ненавидел Париж». Напрасно: вокруг ничего
живого, кроме зелени, кроме больших зеленых лап каштанов; у него
было пресное и слащавое ощущение, что он идет по подлеску. Его
уже коснулось гнусное крыло скуки, когда он, к счастью, увидел
бело-красный плакат, приклеенный к забору. Он подошел и прочел:
«Мы победим, потому что мы сильнее всех!» — развел руками и
улыбнулся с наслаждением и облегчением: они бегут, они бегут, они
продолжают бежать. Он поднял голову и обратил улыбку к небу, он
дышал полной грудью: процесс, длившийся уже двадцать лет,
шпионы, затаившиеся всюду, чуть ли не под его кроватью; каждый
прохожий был свидетелем обвинения, судьей или тем и другим
одновременно; все, что он говорил, могло быть обращено против
него. И вдруг — это беспорядочное бегство. Они бегут, свидетели,
судьи, так называемые порядочные люди, они бегут под солнцем, и
лазурь грозит им самолетами. Стены Парижа еще кричали о
гордости и заслугах: мы самые сильные, самые добродетельные, столпы
демократии, защитники Польши, человеческого достоинства и ге-
теросексуальности, железный путь будет прегражден*, мы будем
сушить белье на линии Зигфрида. На стенах Парижа плакаты еще
трезвонили о выдохшейся славе. Но они, они бегут, обезумев от
страха, они распластываются в траншеях. Они будут молить о
пощаде, о прощении. Но при этом они будут уверены, что честь
останется при них, еще бы, все потеряно, кроме чести, вот мой зад,
можете дать мне пинка, но честь неприкосновенна, хотя ради
сохранения собственной жизни я буду лизать вам сапоги. Они бегут, они
уползают. А я, воплощение порока, царю над их городом.
Он шел, опустив глаза, он ликовал, он слышал, как совсем рядом
с ним по мостовой скользили машины, он думал: «Марсель сейчас
подтирает своего ребенка в Даксе, Матье, должно быть, в плену.
Брюне, вероятно, погиб, все мои свидетели мертвы или рассеяны; я
* Имеется в виду высказывание президента Совета Поля Рейно в апреле
1940 года, когда он обещал не допустить немцев до рудников Норвегии;
вскоре немцы заняли всю Норвегию. — Примеч. ред.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
753
торжествую...» Вдруг у него мелькнуло: «Откуда машины?» Он
резко поднял голову, сердце его гулко забилось, и он увидел их. Они
стояли, чистые и важные, по пятнадцать или по двадцать солдат на
длинных грузовиках с маскировкой, которые медленно катились к
Сене, они проезжали, прямые, стоя, они скользнули по нему
невыразительным взглядом, а за ними ехали другие, другие ангелы,
совсем одинаковые и одинаково на него смотревшие. Даниель
услышал издалека военную музыку, ему показалось, что все небо
заполняется военными флагами, и он вынужден был опереться на ствол
каштана. Один на этом длинном проспекте, один француз, один
гражданский, а на него взирает вся вражеская армия. Он не боялся,
он доверчиво отдавался этим тысячам глаз, он думал: «Наши
победители!», и его обуяло наслаждение. Он стойко ответил на их
взгляд, он навек усладился этими светлыми волосами, этими
загорелыми лицами с глазами, подобными ледниковым озерам, этими
узкими талиями, этими невероятно длинными и мускулистыми
бедрами. Он прошептал: «Как они красивы!» Он уже не касался
земли, они подхватили и подняли его, они прижимали его к груди
и к плоским животам. С высоты что-то покатилось кубарем: это был
древний закон. Рухнуло общество судей, стерт приговор;
беспорядочно бегут жалкие солдаты в хаки, защитники прав человека и
гражданина. «Какая свобода!» — подумал он, и его глаза
увлажнились. Он был единственным уцелевшим после краха. Единственный
человек перед этими ангелами ненависти и гнева, этими
смертоносными ангелами, взгляд которых возвращал ему детство. «Вот новые
судьи, — подумал он, — вот новый закон!» Какими ничтожными
казались над их головой чудеса мягкого неба, невинность
маленьких кучевых облаков: это была победа презрения, насилия,
злонамеренности, это была победа Земли. Прошел танк, величественный
и медленный, покрытый листвой, он едва урчал. Сзади на нем сидел
совсем молодой парень; набросив китель на плечи, закатав до локтя
рукава гимнастерки, он скрестил на груди красивые голые руки.
Даниель ему улыбнулся, парень с суровым видом долго смотрел на
него, потом вдруг, когда танк уже удалялся, тоже начал улыбаться.
Он быстро порылся в кармане брюк и бросил какой-то маленький
предмет, который Даниель поймал на лету: это была пачка
английских сигарет. Даниель так сильно стиснул пачку, что почувствовал,
как сигареты крошатся под его пальцами. Он все улыбался.
Невыносимое и сладостное волнение поднялось от бедер и застучало в
висках; взгляд его затуманился, он, немного задыхаясь, повторял:
754
Жан Поль Сартр
«Как нож в масло, они входят в Париж, как нож в масло». Перед его
затуманенным взглядом прошли другие, новые лица, потом еще и
еще, все такие же красивые; они нам причинят Зло, начинается
царство Зла, царство наслаждения! Ему хотелось быть женщиной,
чтобы бросать им цветы!
Крикливый взлет чаек, мать твою, дёру, дёру, улица опустела,
шум кастрюль заполнил ее до краев, стальная молния избороздила
небо, они проходят между домами, Шарло, прильнув к Матье,
крикнул ему в темноте риги: они летят на бреющем полете. Жадные и
апатичные чайки слегка покружили над деревней, ища добычу,
потом улетели, волоча за собой свою кастрюлю, которая прыгала с
крыши на крышу, затем осторожно выглянули лица, люди
выходили из риги, из домов, иные прыгали в окна, все кишело, точно на
ярмарке. Тишина. Они все были здесь в тишине, почти сто человек,
инженерные части, радисты, разведчики, телефонисты, секретари,
наблюдатели, все, кроме шоферов, которые со вчерашнего дня
ждали за баранками своих машин; они сели — для какого спектакля? —
посреди дороги, поджав ноги, так как дорога была мертва и машины
больше не проходили по ней, одни сели на обочине, на
подоконники, а другие стояли, прислонившись к стенам домов. Матье сидел
на скамеечке у бакалейного магазина; Шарло и Пьерне
присоединились к нему. Все молчали, они собрались, чтобы быть вместе и
смотреть друг на друга; они видели друг друга такими, какими
были: большая ярмарка, слишком спокойная толпа с сотней
побледневших лиц; улица обугливалась от солнца, корчилась под
развороченным небом, жгла пятки и ягодицы; люди отдались на
волю солнца; генерал остановился у врача: третье окно второго
этажа было его глазом, но они плевали на генерала, они смотрели
друг на друга и внушали друг другу страх. Они страдали от
сдерживаемого порыва куда-то двигаться, никто об этом не говорил, но
ожидание гулкими ударами стучало им в грудь, его ощущали в
руках, в бедрах, оно было болезненным, как ломота, это был волчок,
который крутился в сердцах. Кто-то из них вздохнул, точно собака,
которой снится сон; он сказал во сне: «В интендантстве есть мясные
консервы». Матье подумал: «Да, но их приказано охранять
жандармам», а Гвиччоли ответил вслух: «Эх ты, дурень, там поставили
жандармов охранять дверь». Другой мечтательно и сонно
проговорил: «Вон булочная, там есть хлеб, я видел буханки, но хозяин
забаррикадировал свою лавку». Матье продолжил сон, но молча: он
СМЕРТЬ В ДУШЕ
755
представил себе турнедо, и его рот наполнился слюной; Гримо
немного приподнялся, показал на ряды закрытых ставней и сказал:
«Что у них случилось в этом захолустье? Вчера они с нами
разговаривали, теперь прячутся». Накануне дома зевали, как устрицы,
теперь они захлопнулись; внутри мужчины и женщины
притворялись мертвыми, потели в темноте и ненавидели их; Ниппер сказал:
«Если нас победили, это не значит, что мы чумные». В желудке у
Шарло заурчало, Матье сказал: «У тебя желудок урчит». И Шарло
ответил: «Он не урчит, он вопит». Резиновый мячик влетел в их
круг, Латекс поймал его на лету, затем появилась маленькая
девочка лет пяти-шести и робко посмотрела на него. «Это твой мячик? —
спросил Латекс. — На, возьми его». Все смотрели на нее, Матье
захотелось посадить ее на колени; Латекс постарался смягчить свой
голос: «Ну, иди сюда! Иди ко мне на колени». Отовсюду
послышался шепот: «Иди! Иди! Иди!» Малышка не шевелилась. «Иди, мой
цыпленок, иди, иди, моя курочка, иди!» «Ну и ну! — сказал
Латекс. — Мы уже детей пугаем». Мужчины засмеялись и сказали ему:
«Это ты ее пугаешь своей рожей!» Матье смеялся, Латекс повторил
нараспев: «Иди, моя конфетка!» Вдруг, охваченный бешенством, он
крикнул: «Если не подойдешь, я мячик не отдам!» Он поднял мяч
над головой, показывая ей, и сделал вид, что кладет его в карман,
девочка заголосила, все встали, все начали кричать: «Отдай его!
Подлец, ты заставляешь ребенка плакать, нет, нет, положи в карман,
забрось его на крышу!» Матье, стоя, размахивал руками, Гвиччоли
с глазами, блестящими от бешенства, отстранил его и стал перед
Латексом: «Отдай ей его, сукин сын, мы не дикари!» Матье в ярости
топнул ногой; Латекс успокоился первым, он опустил глаза и
сказал: «Не сердитесь! Я отдам его». Он неловко бросил мяч, тот
ударился о стену, отскочил, девочка схватила его и убежала.
Спокойствие. Все снова сели, Матье уселся, грустный и успокоенный; он
думал: «Мы не чумные». Ничего другого в голове: ничего другого,
кроме чужих мыслей. Временами он был только тоскливой
пустотой, а в другие минуты становился всеми, его тревога утихала,
чужие мысли текли тяжелыми каплями в его голове, катились изо рта,
мы не чумные, Латекс вытянул руки и грустно смотрел на них: «У
меня шестеро, понимаете, старшему семь лет, и я в жизни не поднял
на них руку».
Они снова сели, чумные, голодные, потускневшие под обжитым
небом против этих больших слепых домов, которые источали
ненависть. Они молчали: им только и оставалось молчать, отвратитель-
756
Жан Поль Сартр
ным насекомым, пачкающим этот прекрасный июньский день.
Терпение! Придет избавитель. Он очистит все улицы средством от
насекомых. Лонжен показал на ставни и промолвил: «Они ждут,
когда фрицы придут избавить их от нас». Ниппер откликнулся:
«Держу пари, что с фрицами они будут любезнее». И Гвиччоли:
«Еще бы! Если уж и быть оккупированными, так лучше, если это
будут победители. Так веселее, и потом, торговля пойдет на лад. От
нас же только несчастья». «Шесть детей, — сказал Латекс, —
старшему семь лет. Я никогда их не наказывал». Гримо сказал: «Нас тут
ненавидят».
Шум шагов заставил всех поднять головы, но они сразу же
опустились, и майор Пра пересек улицу среди опущенных голов. Никто
ему не отдал честь; он остановился у дома врача, и взгляды замерли
на его подкладных плечах, когда он поднял железный молоток на
двери и три раза постучал. Дверь приоткрылась, и он проскользнул
в дом через узкую щель; от пяти часов сорока пяти минут до пяти
часов пятидесяти шести минут все офицеры штаба по одному,
напряженные и смущенные, проходили между солдатами, при их
приближении все опускали головы и сейчас же приподнимали.
Пэйен сказал: «У генерала праздник». Шарло повернулся к Матье
и сказал: «Что они там затевают?» Матье ответил: «Заткнись!»
Шарло посмотрел на него и замолчал. После прохода офицеров
солдаты еще больше потускнели и поникли; Пьерне с беспокойным
удивлением смотрел на Матье: он обнаруживает на моих щеках
свою собственную бледность.
Послышалось пение, Матье вздрогнул, пение приблизилось.
Пока дерьмо лежит в горшке,
В комнате вонь будет всюду.
Тридцать молодцов показались из-за угла улицы, пьяные, без
винтовок, без кителей и пилоток; они широким шагом спускались
по улице, они пели, вид у них был злой и радостный; лица красные
от солнца и вина. Когда они заметили этих серых личинок, тихо
копошащихся у самой земли и поднимавших к ним
многочисленные головы, они резко остановились и перестали петь. Здоровый
бородач сделал шаг вперед; он был до пояса гол и черен, с шарами
мускулов, на шее блестела золотая цепочка. Он спросил:
— Вы что, попередохли?
Никто не ответил; он отвернулся и сплюнул, он шатался, ему
было трудно сохранять равновесие.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
757
Шарло, близоруко щурясь, посмотрел на них и спросил:
— Вы из наших?
— А вот это из наших? — спросил бородач, хлопая себя по
ширинке. — Мать твою так! Нет, мы не из ваших, не то нам было бы
паршиво.
— Откуда вы идете?
Тот неопределенно махнул рукой:
— Оттуда.
— Там были потери?
— Сто чертей! Нет, потерь не было, кроме капитана, который
удрал, когда запахло жареным, а мы сделали то же, только в другую
сторону, чтобы его не встретить.
Парни позади бородача хохотали, а два молодца нахально
запели:
Волочи яйца по земле,
А член в кулаке сожми.
Мы уходим на войну
На охоту за блядьми.
Все головы повернулись к окну генерала; Шарло испуганно
замахал рукой:
— Замолчите!
Парни замолчали, так и не закрыв ртов, они покачивались, лица
у них мгновенно стали изнуренными.
— Там офицеры, — пояснил Шарло, показывая на дом.
— Срал я на ваших офицеров! — громко сказал бородач.
Его золотая цепочка блестела на солнце; он опустил взгляд на
солдат, сидевших на дороге, и добавил:
— Если они вас достали, ребята, пошли с нами, а то они вас
доконают.
— С нами! — повторили его товарищи. — С нами! С нами! С
нами!
Наступило молчание. Взгляд бородача остановился на Матье.
Матье отвел глаза.
— Так что? Кто идет? Раз, два, три!
Никто не пошевелился. Бородач с презрением заключил:
— Вы не мужики, а мудаки. Пошли, парни, я не хочу здесь
покрываться плесенью: меня от них блевать тянет.
Они двинулись дальше: все расступились, чтобы пропустить их.
Матье снова положил ноги на скамейку.
758
Жан Поль Сартр
«Волочи яйца по земле...»
Все смотрели на окно генерала: несколько лиц приникло к
оконному стеклу, но офицеры не показались.
«Мы уходим на войну...»
Они исчезли: никто не проронил ни слова; песня в конце концов
затихла. Только тогда Матье вздохнул.
— Прежде всего, — не глядя на товарищей, сказал Ниппер, — это
не говорит о том, что мы не уходим. Вот так-то!
— Нет, — возразил Лонжен, — говорит.
— О чем?
— Что мы не уходим.
— Почему?
— Нет бензина.
— Для офицеров он всегда есть, — заметил Гвиччоли. — Баки
полные.
— А наши грузовики без бензина.
Гвиччоли резко засмеялся:
— Естественно.
— Я вам говорю, что нас предали! — крикнул Лонжен, напрягая
слабый голос. — Предали, выдали немцам, предали!
— Хватит, — устало сказал Менар.
— Хватит! — повторил Матье. — Хватит!
— И потом, черт бы вас побрал! — подхватил телефонист. —
Перестаньте все время болтать об отступлении. Еще посмотрим. Все
может быть.
Матье представлял себе, как все они идут по дороге и поют,
может, срывают цветы. Ему было стыдно, но это был общий
большой стыд. Он не казался ему таким уж неприятным.
— Мудаки, — сказал Латекс, — он назвал нас мудаками, этот
малый. Нас, отцов семейства! А ты видел цепочку у него на шее? Да
он гомик! Можешь не сомневаться.
— Слушайте! — перебил его Шарло. — Слушайте!
До них донеслось гудение самолета, усталый голос прошептал:
— Прячьтесь, ребята. Они начинают по новой.
— Это уже второй раз с утра, — заметил Ниппер.
— Ты считал? Я уже и не считаю.
Они неспешно встали, прислонились к двери, вошли в
коридоры. Самолет на бреющем полете пролетел над крышами, шум
уменьшился, они вышли, вглядываясь в небо, и снова сели.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
759
— Истребитель, — сказал Матье.
— Берегись! Берегись! — крикнул Люберон.
Издалека послышался сухой треск пулемета.
— Противовоздушная оборона?
— Противовоздушная оборона, как же! Это из самолета
стреляют.
Они переглянулись.
— Не очень-то разумно разгуливать по дорогам в такой день, как
сегодня, — сказал Гримо.
Никто не ответил, но глаза у всех блестели и кривая ухмылочка
гуляла по губам. Минутой позже Лонжен добавил:
— Они далеко не ушли.
Гвиччоли встал, сунул руки в карманы и, разминаясь, три раза
согнул колени; он поднял к небу пустое лицо со злой складкой
вокруг губ.
— Куда ты идешь?
— Прогуляться.
— Куда?
— Туда. Посмотрю, что с ними случилось.
— Остерегайся макаронников!
— Не бойся.
Он лениво удалился. Всем хотелось пойти с ним, но Матье не
осмелился подняться. Наступило долгое молчание; лица вновь
порозовели; солдаты оживленно поворачивались друг к другу.
— Ишь размечтались: прогуливаться по дорогам, как в мирные
времена.
— На что они рассчитывали, а? Что дойдут пешком до Парижа?
Есть же ухари, которым море по колено.
— Будь это возможно, мы бы и без них так поступили.
Они замолчали, нервные и напряженные; они ждали; худой
высокий парень прислонился к железной шторе бакалейной лавки,
руки его дрожали. Вскоре тем же небрежным шагом вернулся
Гвиччоли.
— Ну что? — крикнул Матье.
Гвиччоли пожал плечами: люди поднялись на руках и обратили
на него сверкающие глаза.
— Убиты, — сказал он.
-Все?
— Откуда мне знать? Я не считал.
Он был бледен, его одолевала отрыжка.
760
Жан Поль Сартр
— Где они? На дороге?
— Мать вашу! Пойдите сами посмотрите, если вы такие
любопытные.
Он сел; на его шее блестела золотая цепочка; он поднес к ней
руку и покрутил между пальцами, потом резко выпустил. Он как
бы с сожалением сказал:
— Иначе это сделали бы санитары-
Бедняги! Цепочка блестела, завораживала. Кто-нибудь скажет:
«Бедняги!»? Это было у всех на устах; у кого-нибудь хватит духа
сказать: «Бедняги!»? Пусть даже не от чистого сердца? Золотая
цепочка сверкала на загорелой шее; злоба, ужас, жалость, обида
вращались по кругу, это было жестоко и удобно; мы — идеал
паразита: наши мысли отупляются, становятся все менее
человеческими; волосатые и мохноногие мысли шныряют повсюду, прыгают из
одной головы в другую: сейчас паразит проснется.
— Деларю, черт бы тебя побрал! Ты что, глухой?
Деларю — это я. Он резко повернулся; Пинетт издалека ему
улыбнулся: он видит Деларю.
-А!
— Иди сюда!
Он вздрогнул, внезапно одинокий и обнаженный человек. Я. Он
сделал движение, чтобы прогнать Пинетта, но против него уже
образовалась группа; глаза паразита изгоняли его, они смотрели на
него удивленно и свирепо, как будто никогда его не видели, как
будто видели его сквозь толщу тины. «Я стою не больше, чем они,
я не имею права предавать их».
— Иди же.
Деларю встал. Непередаваемый Деларю, совестливый Деларю,
преподаватель Деларю шагом направился к Пинетту. За ним болото,
зверь с двумястами лапами. За ним двести глаз: он спиной
чувствовал страх. И снова тревога. Она началась осторожно, как ласка, а
потом скромно и привычно расположилась в полости желудка. Это
было ничто: пустота. Пустота в нем и вокруг него. Он разгуливал в
разреженном газе. Бравый солдат Деларю поднял свою пилотку,
бравый Деларю провел рукой по волосам, бравый солдат Деларю
обратил к Пинетгу изнуренную улыбку:
— Что случилось, балда?
— Тебе весело с ними?
-Нет.
— Почему же ты с ними?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
761
— Все одинаковые, — сказал Матье.
— Кто одинаковый?
— Они и мы.
— И что же?
— Тогда лучше держаться вместе.
Глаза Пинетта сверкнули.
— Я не такой, как они! — сказал он, вздернув подбородок.
Матье промолчал. Пинетт сказал:
— Пошли.
— Куда?
— На почту.
— На почту? А что, тут есть почта?
— Есть. На том краю деревни есть почтовый пункт.
— А что ты хочешь делать на почте?
— Не волнуйся, увидишь.
— Она наверняка закрыта.
— Для меня будет открыта, — сказал Пинетт.
Он просунул руку под руку Матье и увлек его.
— Я нашел одну малышку, — добавил он.
Его глаза блестели лихорадочным блеском, он изысканно
улыбался.
— Я хочу вас познакомить.
— Зачем?
Пинетт строго посмотрел на него:
— Ты ведь мой приятель, разве нет?
— Конечно, — сказал Матье. Он спросил: — Твоя малышка
работает на почте?
— Да, она барышня с почты.
— Мне казалось, что ты не хочешь затевать с женщинами?
Пинетт натянуто засмеялся:
— Раз уж не воюем, нужно же как-то проводить время.
Матье повернулся к нему: Пинетт выглядел фатоватым.
— Ты сам на себя не похож, старина. Не из-за любви ли ты так
изменился?
— Что ты! Мне еще повезло. Ты бы видел, какие у нее груди:
класс. И образованная: по географии и по математике она тебе сто
очков вперед даст.
— А как же твоя жена? — спросил Матье.
Пинетт изменился в лице.
— В задницу! — грубо сказал он.
762
Жан Поль Сартр
Они подошли к двухэтажному домику, ставни были закрыты,
щеколда с двери снята. Пинетт постучал три раза.
— Это я! — крикнул он.
Он, улыбаясь, повернулся к Матье:
— Она боится, что ее изнасилуют.
Матье услышал, как повернули ключ.
— Заходите быстро, — произнес женский голос.
Они окунулись в запах чернил, клея и бумаги. Длинная
перегородка с проволочной сеткой наверху делила комнату на две части.
В глубине Матье различил открытую дверь. Девушка отступила и
закрыла ее за собой; слышно было, как щелкнул замок. Некоторое
время они оставались в узком коридоре, предназначенном для
посетителей, потом девица снова показалась под прикрытием, в своем
окошке. Пинетт нагнулся и прижал лоб к решетке.
— Вы нас наказываете? Это не слишком любезно.
— Да! — ответила она. — Нужно проявлять благоразумие.
У нее был красивый голос, теплый и густой. Матье увидел, как
блестят ее черные глаза.
— Значит, — заключил Пинетт, — нас боятся?
Она засмеялась.
— Не боюсь, но и не доверяю.
— Это из-за моего друга? Но он как раз такой, как и вы, он
служащий: вы среди своих, это должно вас успокоить.
Он говорил галантерейным тоном и тонко улыбался.
— Ну же, — попросил он, — просуньте хотя бы пальчик через
решетку. Только палец.
Она просунула через решетку длинный худой палец, и Пинетт
поцеловал ноготь.
— Прекратите, — сказала она, — или я его уберу.
— Это будет невежливо, — ответил он. — Мой друг просто
должен пожать вам палец.
Он повернулся к Матье.
— Позволь представить тебе мадемуазель-которая-не-хочет-
назвать-своего-имени. Это храбрая маленькая француженка: она
могла бы эвакуироваться, но не захотела бросить свой пост — вдруг
она понадобится.
Он поводил плечами и улыбался: он все время улыбался. Его
голос был мягким и певучим, с легким английским акцентом.
— Здравствуйте, мадемуазель, — сказал Матье.
Она сквозь решетку пошевелила пальцем, и он пожал его.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
763
— Вы служащий? — спросила она.
— Я преподаватель.
— А я почтовая работница.
— Вижу.
Ему было жарко, и он скучал; он думал о серых и медлительных
лицах, которые он оставил там, позади.
— Эта мадемуазель, — сказал Пинетт, — несет ответственность
за все любовные письма в деревне.
— Ой, да какие уж тут любовные письма, — скромно возразила
она.
— Что ж, — продолжал Пинетт, — живи я в вашей дыре, я бы
посылал любовные письма всем здешним девушкам, чтобы
послания проходили через ваши руки. Вы были бы почтальоном любви.
Он неуверенно рассмеялся:
— Почтальон любви! Почтальон любви!
— Ну уж нет! — протестовала она. — Это удвоило бы мою работу.
Наступило долгое молчание. Пинетт сохранял небрежную
улыбку, но вид у него был напряженный, взгляд шарил по комнате.
С решетки свешивалась на шпагате перьевая ручка, Пинетт взял ее,
обмакнул в чернила и написал несколько слов на бланке почтового
перевода.
— Вот, — сказал он, протягивая ей бланк.
— Что это? — спросила она, не пошевелившись.
— Ну возьмите же! Вы почтовая служащая: выполняйте свою
работу.
В конце концов она взяла бланк и прочла:
— «Оплатите тысячу поцелуев мадемуазель Имярек...» Фу
ты! — воскликнула она, обуреваемая гневом и безудержным
смехом. — Испортил мне бланк!
Матье все это до смерти надоело.
— Что ж, — не выдержал он. — Я вас покидаю.
Пинетт смутился.
— Как, ты уходишь?
— Мне нужно вернуться.
— Я пойду с тобой, — поспешно сказал Пинетт. — Да! Да! Я
пойду с тобой.
Он повернулся к девушке.
— Я вернусь через пять минут: вы мне откроете дверь?
— Боже, какой невыносимый! — простонала она. — Все время то
туда, то сюда. Решайтесь наконец!
764
Жан Поль Сартр
— Ладно, ладно! Я остаюсь. Но запомните: это вы попросили
меня остаться.
— Я вас ни о чем не просила.
— Просили!
-Нет!
— До чего осточертело! — сквозь зубы процедил Матье.
Он повернулся к девушке:
— До свидания, мадемуазель.
— До свидания, — довольно холодно ответила она.
Матье вышел с пустой головой. Наступала ночь; солдаты сидели
в прежних позах. Он прошел среди них, и снизу раздались голоса:
— Какие новости?
— Никаких, — ответил Матье.
Он дошел до своей скамейки и сел между Шарло и Пьерне. Он
спросил:
— Офицеры все еще у генерала?
— Все еще там.
Матье зевнул; он с грустью посмотрел на людей, погруженных
в тень; он прошептал: «Мы». Но это больше не действовало: он был
один. Он откинул голову и посмотрел на первые звезды. Небо было
нежным, как женщина, словно вся любовь земли поднялась к небу;
Матье сощурился:
— Ребята, звезда падает. Загадывайте желание.
Люберон выпустил газы.
— Вот оно, мое желание, — отозвался он.
Матье снова зевнул.
— Ладно, — сказал он, — я пошел спать. Ты идешь, Шарло?
— Даже не знаю: вдруг мы этой ночью уходим, я предпочитаю
быть готовым.
Матье грубо засмеялся:
— Балбес!
— Ладно, ладно, — поспешно согласился Шарло. — Иду.
Матье вернулся в ригу и одетым бросился в сено. Ему до
смерти хотелось спать: когда он был несчастлив, его всегда тянуло в сон.
Красный шар начал вращаться, женские лица наклонились с
балкона и тоже завращались. Матье снилось, будто он — небо; он
свешивался с балкона и смотрел на землю. Земля была зеленой с белым
животом, она делала блошиные прыжки. Матье подумал: «Только
бы она меня не трогала». Но она подняла огромную пятерню и
схватила Матье за плечо.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
765
— Вставай! Быстро!
— Который час? — спросил Матье. Он чувствовал на своем лице
горячее дыхание.
— Десять двадцать, — сказал голос Гвиччоли. — Тихо вставай,
иди к двери и смотри, чтоб тебя не увидели.
Матье сел и зевнул.
— Что такое?
— Офицерские машины ждут на дороге в ста метрах отсюда.
— Ну и что?
— Делай, что говорю, сам увидишь.
Гвиччоли исчез. Матье протер глаза, он тихо позвал:
— Шарло! Шарло! Лонжен! Лонжен!
Ответа не было. Он встал, пошатываясь со сна, и пошел к двери.
Она была широко распахнута. В тени прятался какой-то человек.
— Кто здесь?
— Это я, — сказал Пинетт.
— Я думал, ты сейчас трахаешься.
— Она ломается; до завтрашнего дня я ее не одолею. Боже
мой, — вздохнул он, — я уже весь рот разодрал от улыбок.
— Где Пьерне?
Пинетт показал на темное крыльцо на другой стороне улицы.
— Там, с Лонженом и Шарло.
— Что они там делают?
— Не знаю.
Они молча ждали. Ночь была холодной, луна стояла ясная.
Напротив них под крыльцом смутно шевелились какие-то тени.
Матье повернул голову к дому врача: окно генерала было закрыто, но
бледный свет проникал из-под двери. Я, я здесь. Время
обрушивалось со своим пугающим будущим. Осталась только мигающая
местная протяженность. Не было больше ни Мира, ни Войны, ни
Франции, ни Германии: только бледный свет под дверью, которая,
может быть, сейчас откроется. Откроется ли? Все другое не
считалось, у Матье не осталось ничего, кроме этого крохотного
будущего. Откроется ли она? Нечто вроде радости проникло в его
иссушенную душу. Откроется ли она? Это было важно: ему казалось,
что дверь, открывшись, даст наконец ответ на все вопросы, которые
он задавал себе всю жизнь. Матье почувствовал, что дрожь радости
вот-вот зародится во впадине его ягодиц; ему стало стыдно, он
смиренно сказал себе: «Мы проиграли войну». И тут же Время
было ему возвращено, маленькая жемчужина будущего раствори-
766
Жан Поль Сартр
лась в огромном и зловещем настоящем. Прошлое, Будущее,
покуда хватает глаз, от фараонов до Соединенных Штатов Европы.
Его радость угасла, угас свет под дверью, дверь заскрипела,
медленно повернулась, открылась в темноту; тень затрепетала под
козырьком крыльца, эхо хрустнуло, на улице, как в лесу, затем
улица снова погрузилась в тишину. Слишком поздно: приключения
не произошло.
Через некоторое время на крыльце появились какие-то фигуры;
один за другим офицеры спускались по ступенькам; первые
остановились посреди дороги, поджидая остальных, и улица
преобразилась: 1912 год, гарнизонная улица в снегу, поздно, ночной праздник
у генерала закончился; красивые, как картинки, лейтенанты Сотен
и Кадин держались под руку; майор Пра положил руку на плечо
капитана Морона, они приосанивались, улыбались, любезно
позировали под лунным магнием, еще раз, последний раз, я снимаю всю
группу, вот и все. Майор Пра резко повернулся на каблуках,
посмотрел на небо, поднял вверх два пальца, словно благословляя
деревню. Потом вышел генерал, полковник тихо закрыл за ним дверь:
дивизионный штаб был в полном составе — двадцать офицеров, это
был снежный вечер с чистым небом, танцевали до полуночи, самое
прекрасное воспоминание гарнизонной жизни. Маленькое войско,
крадучись, зашагало. На втором этаже бесшумно открылось окно;
кто-то в белом высунулся наружу, глядя, как они уходят.
— Ну и дела! — прошептал Пинетт.
Они шли спокойно, с тихой торжественностью; на их лицах
статуй, сверкавших от луны, было столько одиночества и столько
молчания, что смотреть на них было святотатством; Матье
почувствовал себя виноватым и очистившимся.
— Ну и дела! Ну и дела!
Капитан Морон замешкался. Услышал ли он что-то? Его
большое грациозное сутулое тело немного покачалось и повернулось к
риге; Матье видел, как блестели его глаза. Пинетт что-то
пробормотал и хотел было броситься наружу. Но Матье схватил его за
запястье и сильно сжал. Еще мгновение капитан прощупывал взглядом
сумерки, потом отвернулся и равнодушно зевнул, похлопывая по
губам кончиками пальцев в перчатках. Прошел генерал, Матье
никогда не видел его так близко. Это был высокий импозантный
мужчина со сланцеватым лицом, тяжело опиравшийся на руку
полковника. Затем вышли ординарцы, неся сундучки; шепчущаяся и
смеющаяся группа младших лейтенантов завершала шествие.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
767
— Офицеры! — почти громко сказал Пинетт.
«Скорее боги», — подумал Матье. Боги, которые возвращаются
на Олимп после короткого пребывания на земле. Олимпийский
кортеж углубился в ночь; электрический фонарик образовал
танцующий круг на дороге и погас. Пннетт повернулся к Матье; луна
освещала его красивое лицо, искаженное отчаянием.
— Офицеры!
— Да, вот так.
Губы Пинетта задрожали; Матье боялся, что тот разрыдается.
— Ну! Ну! — сказал Матье. — Ну, дуралей, приди в себя.
— Пока сам не увидишь такое — не поверишь, — прошептал
Пинетт. — Мир перевернулся.
Он схватил руку Матье и сжал ее, как будто цеплялся за
последнюю надежду.
— Может быть, шоферы откажутся уезжать?
Матье пожал плечами: моторы уже загудели, это было похоже
на приятное пение цикад, очень далеко, в глубине ночи. Через
некоторое время машины тронулись, и шум моторов понемногу затих.
Пинетт скрестил руки:
— Офицеры! Теперь я начинаю верить, что с Францией все
кончено.
Матье отвернулся; тени гроздьями отделялись от стены, солдаты
молча выходили из переулков, ворот, риг. Настоящие солдаты,
служившие второй год, плохо одетые, плохо сложенные, скользившие
по темной белизне фасадов; за минуту вся улица заполнилась. У всех
были такие печальные лица, что сердце Матье сжалось.
— Идем, — сказал он Пинетту.
— Куда?
— Наружу, к ребятам.
— К черту все! — огрызнулся Пинетт. — Я пойду спать, у меня
нет настроения трепаться.
Матье заколебался: ему хотелось спать и сильная дергающая
боль терзала ему голову: он предпочел бы спать и ни о чем не
думать. Но у солдат был такой понурый вид, он видел, как их спины
барашками волновались в лунном свете, и он снова почувствовал,
что он один из них.
— А я хочу трепаться, — сказал он. — Спокойной ночи!
Он пересек улицу и затесался в толпу. Меловой свет луны
освещал ошеломленные лица, никто не разговаривал. Вдруг отчетливо
послышался шум моторов.
768
Жан Поль Сартр
— Они возвращаются! — воскликнул Шарло. — Они
возвращаются!
— Да нет, дурак! Они поехали по департаментской дороге.
Солдаты все-таки прислушивались со смутной надеждой. Шум
уменьшился и исчез. Латекс вздохнул:
— Все кончено.
— Наконец-то мы одни! — пошутил Гримо.
Никто не засмеялся. Кто-то тихо и тревожно спросил:
— Что с нами будет?
Никакого ответа; людям было наплевать, что с ними будет; у них
была другая забота, смутная тоска, которую они не умели выразить.
Люберон зевнул; после долгого молчания он сказал:
— Что толку тут стоять? Пошли бай-бай, ребята, бай-бай!
Обескураженный Шарло широко развел руки.
— Ладно! — согласился он. — Я иду спать, но это с отчаяния.
Мужчины беспокойно смотрели друг на друга: у них не было
никакого желания разлучаться и никакого повода оставаться
вместе. Вдруг кто-то горько сказал:
— Они никогда нас не любили.
Человек сказал это за всех, и все разом заговорили:
— Да! Да! Да! Ты правильно говоришь, ты попал в точку. Они
нас никогда не любили, никогда, никогда, никогда! Враги для них —
не фрицы, а мы; мы прошли всю войну вместе, а они нас бросили!
Теперь и Матье повторял с остальными:
— Они никогда нас не любили! Никогда!
— Когда я смотрел, как они уходят, — говорил Шарло, — мне
стало так тошно, что я чуть не упал замертво.
Легкий беспокойный шум покрыл его голос: это было не совсем
то, что нужно было сказать. Теперь нужно было вскрыть нарыв, не
следовало больше останавливаться, нужно было сказать: «Нас
никто не любит. Никто нас не любит: гражданские нас упрекают в том,
что мы не сумели их защитить, наши женщины не гордятся нами,
наши офицеры нас бросили, деревенские жители нас ненавидят, а
фрицы приближаются во мраке». Нужно было сказать: «Мы козлы
отпущения, побежденные, трусы, паразиты, подонки общества, мы
безобразны, мы виноваты, и никто, никто в мире нас не любит».
Матье не осмелился, зато Латекс сзади него спокойно произнес:
— Мы изгои.
Отовсюду раздались голоса; они повторяли жестоко, без
жалости:
СМЕРТЬ В ДУШЕ
769
— Изгои!
Голоса умолкли. Матье смотрел на Лонжена без особой причины,
просто так, потому что тот стоял напротив него, а Лонжен смотрел
на него. Шарло и Латекс смотрели друг на друга, все смотрели друг
на друга, все как будто ждали чего-то, как будто еще оставалось что-
то сказать. Но говорить было уже нечего, и вдруг Лонжен улыбнулся
Матье, а Матье ответил на его улыбку; улыбнулся Шарло,
улыбнулся Латекс; у всех на губах луна заставила расцвести бледные цветы.
Понедельник, 17 июня
— Пошли, — сказал Пинетт. — Ну, пошли.
-Нет.
— Ну! Ну! Пошли же.
Он умоляюще и призывно смотрел на Матье.
— Не приставай к человеку, — ответил Матье.
Они были вдвоем под деревьями посреди площади, напротив
них церковь, справа мэрия. У мэрии, сидя на первой ступеньке
крыльца, мечтал Шарло. На коленях у него была книга. Медленным
шагом прогуливались солдаты, по одному или маленькими
группками: они не знали, куда себя деть. У Матье была тяжелая голова,
как с похмелья.
— У тебя такой вид, будто ты не в духе, — заметил Пинетт.
— Так оно и есть, — подтвердил Матье.
Возникло изнуряющее опьянение дружбы: люди пламенели под
луной, ради этого стоило жить. А потом факелы погасли; они пошли
спать, потому что им не оставалось ничего другого и потому, что у
них еще не было привычки любить друг друга. Теперь наступил
следующий после праздника день, впору было покончить с собой.
— Который час? — спросил Пинетт.
— Десять минут шестого.
— Черт! Я уже опаздываю.
— Что ж, пошевеливайся, иди.
— Я не хочу идти один.
— Боишься, что она тебя побьет?
— Не в том дело, — сказал Пинетт, — не в том дело...
Не видя их, прошел сосредоточенный Ниппер, глядя куда-то
внутрь себя.
— Возьми Ниппера, — предложил Матье.
770
Жан Поль Сартр
— Ниппера? Ты что, с ума сошел?
Они проследили глазами за Ниппером, изумленные его
незрячим видом и танцующей походкой.
— Спорим, что он сейчас зайдет в церковь? — спросил Пинетт.
С минуту он подождал, затем хлопнул себя по ляжке.
— Заходит, заходит! Я выиграл!
Ниппер исчез; Пинетт с озадаченным видом повернулся к
Матье.
— С утра, кажется, их там собралось больше пятидесяти. Время
от времени кто-нибудь выходит помочиться и тут же возвращается.
Как ты думаешь, что они там выделывают?
Матье не ответил. Пинетт почесал голову.
— Хочется посмотреть хоть краем глаза.
— Ты уже опаздываешь на свою тайную встречу, — съязвил
Матье.
— Ну ее к ляду, эту встречу, — мгновенно отозвался Пинетт.
Он небрежно удалился; Матье подошел к каштану. Большой
тюк, брошенный на дороге, — вот и все, что осталось от
дивизионного штаба; и такое в каждой деревне, фрицы, проходя, подберут
их. «Чего они ждут, черт побери! Пусть бы уж побыстрее!»
Поражение стало обыденным: оно было в солнце, в деревьях, в
воздухе и еще в скрытом желании умереть; но у Матье со вчерашнего
дня еще оставался во рту слегка ослабевший вкус братства.
Приближался начальник почтовой службы подразделения с двумя
поварами по бокам; Матье посмотрел на них; тогда, в темноте, под
луной они улыбнулись ему. Но теперь этого не было; их жесткие
лица, казалось, говорили: не стоит обольщаться луной и ночными
красотами, каждый за себя, а Бог за всех, мы на земле не для
развлечения. Это тоже были типичные жертвы послепраздничного
похмелья. Матье вынул из кармана перочинный ножик и начал
обрезать кору каштана. Ему хотелось где-нибудь в этом мире
оставить свое имя.
— Ты вырезаешь свое имя?
-Да.
— Ха! Ха!
Солдаты засмеялись и прошли. За ними шли другие, которых
Матье никогда не видел. Странные, плохо выбритые, с
поблескивающими глазами; один из них хромал. Они пересекли площадь и
сели на тротуар перед закрытой булочной. Затем подошли новые и
новые, которых Матье тоже не знал, без винтовок, без обмоток, с
СМЕРТЬ В ДУШЕ
771
серыми лицами и засохшей грязью на башмаках. Их хотелось
полюбить. Пинетт, подойдя к Матье, бросил на них
недоброжелательный взгляд.
— Ну что? — спросил Матье.
— Церковь переполнена. — Он с разочарованным видом
добавил: — Они поют.
Матье сложил ножик; Пинетт спросил:
— Хочешь вырезать свое имя?
— Хотел, — сказал Матье, кладя ножик в карман. — Но на это
уходит слишком много времени.
Высокий молодец остановился рядом с ними, у него было усталое
расплывчатое лицо: туманность над расстегнутым воротничком.
— Привет, ребята, — мрачно сказал он.
Пинетт молча уставился на него.
— Привет, — отозвался Матье.
— Здесь есть офицеры?
Пинетг засмеялся.
— Ты слышишь? — спросил он у Матье. Он повернулся к
подошедшему и добавил: — Нет, старина, нет. Нет офицеров, у нас тут
своя республика.
— Вижу, — сказал солдат.
— Из какого ты дивизиона?
— Из сорок второго.
— Сорок второго? — удивился Пинетт. — Никогда про такой не
слышал. Вы где?
— В Эпинале.
— Тогда почему вы здесь?
Солдат пожал плечами, Пинетт вдруг обеспокоенно спросил:
— Ваш дивизион придет сюда? С офицерьем и всем этим
борделем?
Солдат засмеялся и показал на четырех солдат, сидевших на
тротуаре.
— Вот он, наш дивизион, — сказал он.
Глаза Пинетта сверкнули.
— В Эпинале бои?
— Были, сейчас там, должно быть, тихо.
Он повернулся и присоединился к своим товарищам. Пинетт
проводил его взглядом.
— Сорок второй, ты о нем что-нибудь знаешь? Я о таком ничего
не слышал.
772
Жан Поль Сартр
— Это еще не значит, что можно смотреть на него свысока, —
сказал Матье.
Пинетт пожал плечами.
— Откуда-то вылазят какие-то субъекты, которых ты даже не
знаешь, — с презрением сказал он. — У нас не позиции, а проходной
двор.
Матье не ответил: он смотрел на царапины на стволе каштана.
— Ну! — сказал Пинетт. — Пойдем же! Мы пойдем втроем в
поле, там никого нет: там будет хорошо.
— Что мне там делать, между тобой и твоей милахой? Для ваших
утех я не нужен.
— Мы же не сразу этим займемся, — жалобно возразил
Пинетт. — Сначала нужно поговорить.
Он резко прервал себя:
— Посмотри-ка! Ну посмотри же! Еще один чужак.
К ним шел низкорослый приземистый солдат, он держался
очень прямо. Испачканная кровью повязка скрывала его правый
глаз.
— Может быть, мы в центре большого сражения? — сказал
Пинетт, и голос его дрожал от надежды. — Может быть, наконец
начнутся бои?
Матье не ответил. Пинетт окликнул типа с повязкой:
-Эй!
Солдат остановился и посмотрел на него единственным оком.
— Там была драчка?
Солдат смотрел на него, не отвечая. Пинетт повернулся к Матье.
— Из них ничего невозможно вытянуть.
Солдат пошел дальше. Через несколько метров он остановился,
прислонился спиной к каштану и соскользнул на землю. Теперь он
сидел, уткнувшись подбородком в колени.
— Плохо дело, — сказал Пинетт.
— Подойдем, — предложил Матье.
Они подошли.
— Плохо, старина? — спросил Пинетт.
Солдат не ответил.
— Эй! Тебе плохо?
— Мы тебе поможем, — сказал Матье.
Пинетт наклонился, чтобы взять его под мышки, и тут же
выпрямился.
— Все, нет смысла.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
773
Солдат продолжал сидеть с широко открытым глазом и
приоткрытым ртом. Он будто бы тихо улыбался.
— Нет смысла?
— Конечно. Посмотри сам.
Матье наклонился и приложил ухо к груди солдата.
— Ты прав, — согласился он.
— Что ж, — сказал Пинетт, — нужно закрыть ему глаза.
Он сделал это кончиками пальцев, прилежно, вжав голову в
плечи и выпятив нижнюю губу. Матье глядел на него и не смотрел
на мертвого: мертвый больше не шел в счет.
— Можно подумать, что ты это делал всю жизнь, — сказал он.
— Уж чего-чего, а мертвых я навидался! — ответил Пинетт. — Но
это первый с тех пор, как идет война.
Мертвец с закрытым глазом улыбался своим мыслям. Умереть,
казалось, легко. Легко и почти весело. «Но тогда зачем жить?»
Вокруг все заколебалось: живые, мертвые, церковь, деревья. Матье
вздрогнул. Чья-то рука коснулась его плеча. Это был все тот же
высокий крепыш с мутным лицом, вылинявшими глазами он смотрел
на мертвеца.
— Что с ним?
— Он умер.
— Это Жерен, — объяснил тот.
Он повернулся на восток.
— Эй, ребята! Идите скорее!
Четверо солдат подбежали к нему.
— Здесь мертвый Жерен! — крикнул он им.
— Проклятие!
Они окружили мертвого и недоверчиво смотрели на него.
— Как это он не упал?
— Иногда это случается. Иногда умирают даже стоя.
— Ты уверен, что он мертв?
— Они так сказали.
Все одновременно склонились над мертвым. Один щупал его
пульс, другой слушал сердце, третий вынул из кармана зеркало и
приложил его ко рту, как в детективах. Убедившись, что солдат
умер, они выпрямились.
— Мать твою так! — выругался, качая головой, высокий.
Все они покачали головами и хором повторили:
— Мать твою так!
Низенький толстяк повернулся к Матье:
774
Жан Поль Сартр
— Он протопал двадцать километров. Будь он ленивым, он бы
еще жил.
— Он не хотел, чтобы его схватили фрицы, — сказал, как бы
извиняясь, Матье.
— А что фрицы? У фрицев тоже есть полевые госпитали. Я с ним
разговаривал по дороге. Из него кровь хлестала, как из резаной
свиньи, но он ничего не слушал. Он доверял только себе.
Собирался вернуться домой.
— Куда это домой? — спросил Пинетт.
— В Каор. Он там был булочником.
Пинетт пожал плечами.
— Во всяком случае, это не та дорога.
— Да уж точно.
Они замолчали и пристально, в замешательстве, смотрели на
мертвого.
— Что будем делать? Похороним его?
— А что ж еще?
Они взяли его под мышки и под колени. Он все еще им
улыбался, коченея на глазах.
— Мы вам поможем.
— Не стоит.
— Да! Да! — живо сказал Пинетт. — Нам все равно нечего делать,
это нас отвлечет.
Высокий солдат твердо посмотрел на него.
— Нет, — возразил он. — Это наше дело. Он из наших, значит,
именно мы должны его похоронить.
— Где вы его закопаете?
Низенький толстяк мотнул головой, показывая на север:
— Там.
Они пустились в путь, неся труп: они тоже казались
мертвецами.
— Кстати, — сказал Пинетт, — может, он был верующим?
Они недоуменно посмотрели на него. Пинетт показал на
церковь.
— Там полно кюре.
Высокий солдат с достойным и суровым видом поднял руку:
— Нет. Нет. Никого не вмешивать. Это наше дело.
Он сделал пол-оборота и пошел за остальными. Они пересекли
площадь и исчезли.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
775
— Что было с парнем? — крикнул Шарло.
Матье обернулся: Шарло поднял голову и положил книгу рядом
с собой на ступеньку.
— Он умер.
— Глупо, — сказал Шарло, — а я и не подумал посмотреть; я
только увидел, когда его уносили. По крайней мере он не из наших?
-Нет.
— А, ну ладно.
Матье и Пинетт подошли к нему. Из окна мэрии раздавалось
пение и неслись нечеловеческие вопли.
— Что там происходит? — спросил Матье.
Шарло улыбнулся.
— Обычный бардак, — сказал он.
— И ты можешь читать?
— Я только просматриваю, — скромно признался Шарло.
— А что это за книга?
— Это Волабелль.
— Я думал, ее читает Лонжен.
— Лонжен! — фыркнул Шарло. — Лонжену не до чтения.
Большим пальцем он через плечо показал на мэрию.
— Он там, пьяный в стельку.
— Лонжен? Он же не пьет.
— Что ж, пойди посмотри сам.
— Который час? — спросил Пинетт.
— Тридцать пять шестого.
Пинетт повернулся к Матье.
— Ты не идешь? Ручаюсь, что нет.
— И правильно ручаешься. Я не иду.
— Тогда проваливай!
Он обратил на Шарло красивые близорукие глаза.
— Как это мне осточертело.
— Что тебе осточертело, дуралей?
— Он нашел себе бабу, — пояснил Матье.
— Если она тебе осточертела, можешь сбагрить ее мне.
— Не могу, — сказал Пинетт. — Она в меня втюрилась.
— Тогда выпутывайся сам.
Пинетт яростно передернулся, повернулся к ним спиной и
ушел, Шарло, улыбаясь, проводил его взглядом:
— Он нравится женщинам.
776
Жан Поль Сартр
— Да уж, — хмыкнул Матье.
— Я ему не завидую, — сказал Шарло. — Я сейчас при одной
мысли вскочить на бабу...
Он с любопытством посмотрел на Матье:
— Говорят, от страха член напрягается.
— И что?
— Со мной по-другому: у меня съеживается.
— Ты боишься?
— Нет. Но что-то давит мне на желудок.
— Ясно.
Шарло вдруг схватил Матье за рукав; он понизил голос:
— Мне нужно тебе что-то сказать. Сядь.
Матье сел.
— Знаешь, некоторые несут несусветную чушь, — тихо сказал
Шарло.
— Какую чушь?
— Знаешь, — смущенно продолжал Шарло, — это действительно
чушь.
— Но что именно?
— Так вот, капрал Кабель говорит, что фрицы нас кастрируют.
Он засмеялся, не сводя с Матье глаз.
— Что ж, — согласился Матье. — Это и в самом деле чушь.
Шарло продолжал смеяться:
— Знаешь, я этому не верю. Слишком много работы им будет.
Они замолчали. Матье взял томик Волабелля и пролистал его;
он втайне надеялся, что Шарло даст ему почитать книгу. Шарло
небрежно спросил:
— А своих евреев они кастрируют?
-Нет.
— А я слышал, что да, — тем же тоном сказал Шарло.
Вдруг он схватил Матье за плечи. Матье не смог вынести этого
перекошенного от ужаса лица и опустил взгляд.
— Что они со мной сделают?
— То же, что с остальными.
Наступило молчание. Матье добавил:
— Разорви свой военный билет и выкинь бляху.
— Это уж давно сделано.
— Тогда что еще?
— Посмотри на меня, — сказал Шарло.
Матье не решался поднять голову.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
777
— Я тебя прошу посмотреть на меня!
— Я смотрю, — сказал Матье. — И что?
— У меня сильно еврейский вид?
— Нет, — ответил Матье, — у тебя не еврейский вид.
Шарло вздохнул; из мэрии, шатаясь, вышел солдат, спустился
по трем ступенькам, пропустил четвертую и, промчавшись между
Шарло и Матье, упал посреди мостовой.
— Да он пьян! — сказал Матье.
Солдат приподнялся на локтях, и его вырвало, затем голова его
упала, и он больше не шевелился.
— Они свистнули вино в интендантстве, — объяснил Шарло. —
Ты бы видел их, когда они шли тут с графинами, не знаю уж, где они
их взяли, и с большим тазом, полным вина! Смотреть было
противно.
В одном из окон первого этажа появился Лонжен, он рыгнул. У
него были красные глаза и одна щека совсем черная.
— Ты посмотри, на кого ты похож! — строго крикнул ему Шарло.
Лонжен уставился на них, щурясь; когда он их узнал, он
трагически воздел руку:
— Деларю!
-Что?
— Я осрамился.
— Тогда уйди оттуда.
— Я не могу, помоги мне.
— Иду, — сказал Матье.
Он встал, прижимая к себе томик Волабелля.
— У тебя доброты больше, чем нужно.
— Нужно же убить время.
Он поднялся на две ступеньки, и Шарло крикнул ему в спину:
— Эй! Отдай моего Волабелля.
— Ладно, не кричи так громко, — раздосадованно отозвался
Матье.
Он бросил ему книгу, открыл дверь, вошел в белостенный
коридор и остановился, пораженный: кто-то крикливым и сонным
голосом пел «Артиллериста из Меца». Это ему напомнило
психиатрическую больницу в Руане в двадцать четвертом году, когда он
навещал свою тетку-вдову, сошедшую с ума от горя: и там
сумасшедшие пели в палатах. На левой стене под решеткой висел плакат, он
подошел и прочел: «Всеобщая мобилизация» — и подумал: «Еще
недавно я был гражданским». Голос то засыпал, оседал, булькал,
778
Жан Поль Сартр
пресекался, то просыпался в крике. «Я был гражданским, это было
давно». Матье смотрел на плакат, на два маленьких перекрещенных
флага, и представил себя в пиджаке из альпага и с крахмальным
воротничком. Он никогда не носил ни того ни другого, но сейчас
представлял себе гражданских именно такими. «Мне было бы
противно вновь стать гражданским, — подумал он. — Впрочем, это
вымирающая раса». Он услышал, как Лонжен крикнул: «Деларю?»,
увидел открытую дверь слева и вошел. Солнце было уже низко; его
длинные пыльные лучи делили комнату на две части, не освещая
ее. От резкого запаха вина у Матье перехватило горло, он
сощурился и сначала различил только полевую карту, пятном темневшую на
белой стене; потом он увидел Менара — тот сидел, свесив ноги, на
невысоком шкафу, и размахивал солдатскими башмаками в
багровом свете заката. Это именно он пел; его обезумевшие от веселья
глаза вращались над открытой пастью; голос выходил из него сам,
он высасывал из Менара, как огромный паразит, внутренности и
кровь; вялый, с обвисшими руками, Менар ошалело смотрел на
этого паразита, который неудержимо исторгался из его рта. В
комнате не было никакой мебели: должно быть, со столами и стульями
уже расправились. Все приветственно заорали:
— Деларю! Здорово, Деларю!
Матье опустил глаза и увидел людей. Один сидел в собственной
блевотине, другой храпел, вытянувшись во весь рост; третий
прислонился к стене, у него, как и у Менара, был открыт рот, но он не
пел; седоватая борода росла от уха до уха, на носу пенсне, глаза
закрыты.
— Здорово, Деларю! Деларю, здорово!
Справа от него другие солдаты были в не менее аховом
положении. Гвиччоли расселся на полу, котелок, наполненный вином,
стоял меж его раздвинутых ног; Латекс и Гримо сидели по-турецки;
Гримо держал свою кружку за ручку и бил ею по полу в такт пению
Менара; Латекс до запястья запустил руку в ширинку. Гвиччоли
что-то сказал, но все заглушил голос певца.
— Что ты говоришь? — спросил Матье, приставив рупором руку
к уху.
Гвиччоли бросил яростный взгляд на Менара:
— Помолчи хоть минуту, идиот! У меня уже барабанные
перепонки лопаются.
Менар перестал петь. Он жалобно сказал:
— Я не могу остановиться.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
779
И тут же затянул «Девушки из Камаре».
— Хороши мы! — сказал Гвиччоли.
Он был не слишком смущен; на Матье он смотрел скорее с
гордостью.
— А у нас тут весело! — сказал он. — Здесь все веселые; мы
хулиганы, горячие головы, банда скандалистов!
Гримо одобрил его кивком и засмеялся. Он старательно, как на
иностранном языке, выговорил:
— С нами не соскучишься.
— Вижу, — сказал Матье.
— Хочешь опрокинуть стаканчик? — предложил Гвиччоли.
Посередине комнаты стоял медный таз, заполненный красным
вином из интендантства. В тазу что-то плавало.
— Это таз для варенья, — сказал Матье. — Где вы его взяли?
— Не твое дело, — огрызнулся Гвиччоли. — Так ты пьешь или
нет?
Он изъяснялся с трудом, и у него глаза закрывались сами собой,
но агрессивный вид он сохранял.
— Нет, — сказал Матье. — Я пришел увести Лонжена.
— Куда увести?
— Подышать свежим воздухом.
Гвиччоли взял свой котелок двумя руками и опустошил его.
— Уводи, я мешать не буду, — сказал Гвиччоли. — Он все время
что-то мелет о своем брате и всем надоел. Помни, у нас банда
весельчаков, а унылых пьянчуг нам не нужно.
Матье взял Лонжена за руку.
— Ну, пошли!
Лонжен с раздражением высвободился.
— Минутку! Дай мне привыкнуть.
— Ну, привыкай, — сказал Матье.
Он повернулся и бросил взгляд на шкаф. За стеклами он увидел
толстые тома, покрытые холстиной. Есть что почитать. Он бы стал
читать все, что угодно: даже Гражданский кодекс. Шкаф был заперт
на ключ: Матье тщетно попытался его открыть.
— Разбей стекло, — посоветовал Гвиччоли.
— Нет! — зло отказался Матье.
— Чего ты, бей! Скоро увидишь, будут ли фрицы так
церемониться.
Гвиччоли повернулся к остальным:
— Фрицы все спалят, а Деларю боится шкаф разбить.
780
Жан Поль Сартр
Солдаты загоготали.
— Буржуа! — с презрением процедил Гримо.
Латекс потянул Матье за китель.
— Эй, Деларю! Иди посмотри.
Матье обернулся:
— Что посмотреть?
Латекс вынул член из ширинки.
— Смотри! — сказал он. — И сними перед ним шляпу: у него
шесть достижений.
— Каких достижений?
— Шесть толстячков. И каких красавчиков: каждый весил чуть
ли не восемь кило; а теперь я не знаю, кто их будет кормить? Но вы
нам сделаете других, — сказал он, нежно склонившись над
членом. — Вы нам сделаете еще дюжину, шалунишка вы наш!
Матье отвел взгляд.
— Сними шляпу, слабак! — гневно крикнул Латекс.
— У меня нет шляпы, — ответил Матье.
Латекс обвел взглядом комнату.
— Шестерых за восемь лет. Кто больше?
Матье вернулся к Лонжену.
— Ну как? Готов?
Лонжен мрачно посмотрел на него:
— Я не люблю, когда меня торопят.
— Я тебя не торопил, ты сам меня позвал.
Лонжен ткнул ему пальцем под нос.
— Я тебя не слишком люблю, Деларю. Я тебя никогда особенно
не любил.
— Взаимно, — парировал Матье.
— Хорошо! — удовлетворенно сказал Лонжен. — Так мы, может,
столкуемся. Прежде всего почему бы мне не пить? — спросил он,
глядя на Матье с подозрением. — Какой мне интерес не пить?
— На тебя вино тоску нагоняет, — сказал Гвиччоли.
— Если я не буду пить, будет хуже.
Менар горланил:
«Коль умру, схороните меня
В погребке с хорошим вином...»
Матье посмотрел на Лонжена.
— Ты можешь пить сколько хочешь, — сказал он ему.
— Чего? — разочарованно пробурчал Лонжен.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
781
— Я говорю, — крикнул Матье, — пей сколько хочешь: мне на
это начхать!
Матье подумал: «Мне остается только уйти». Но он не мог на
это решиться. Он наклонялся над ними, вдыхая сильный
сладковатый запах их опьянения и несчастья; он подумал: «Куда я пойду?»,
и у него закружилась голова. Они не внушали ему отвращения, эти
побежденные, которые пили до дна горечь своего поражения. Если
кто-то и внушал ему отвращение, так это он сам. Лонжен нагнулся,
чтобы поднять свою кружку, и упал на колени.
— Гадство!
Он дополз до таза, окунул руку в вино по локоть, вытащил из
вина мокрую кружку и, склонившись над тазом, стал пить.
Подбородок его дрожал, и вино стекало в таз из углов рта.
— Ой, как мне плохо... — сказал он.
— Тебе надо сблевать, — посоветовал Гвиччоли.
— Как ты это делаешь? — спросил Лонжен; он был бледен и еле
ворочал языком.
Гвиччоли засунул два пальца в рот, склонился на бок, захрипел,
и его вырвало слизью.
— Вот так, — сказал он, вытирая рот тыльной стороной ладони.
Лонжен, все еще стоя на коленях, переложил кружку в левую
руку, а правую засунул в горло.
— Эй! — крикнул Латекс. — Тебя сейчас вырвет в вино!
— Деларю1 — крикнул Гвиччоли. — Толкни его! Толкни его
побыстрей!
Матье толкнул Лонжена, и тот упал, не вынимая пальцев изо
рта. Все ободряюще смотрели на него. Лонжен вынул пальцы и
рыгнул.
— Не меняй руку, — посоветовал Гвиччоли. — Потерпи, уже
подходит.
Лонжен закашлялся и побагровел.
— Ничего не подходит, — возразил он, заходясь от кашля.
— Ты нам осточертел! — в бешенстве крикнул Гвиччоли. — Не
умеешь блевать, не надо пить!
Лонжен порылся в кармане, стал на колени, потом присел на
корточки у таза.
— Что ты делаешь?! — закричал Гримо.
— Охлаждающий компресс, — пояснил Лонжен, вытаскивая из
чана носовой платок со стекающими каплями вина. Он приложил
его ко лбу и детским голосом попросил:
782
Жан Поль Сартр
— Деларю, пожалуйста, завяжи мне его сзади.
Матье взял платок за два уголка и завязал его на затылке Лон-
жена.
— Ага, — сказал Лонжен, — так лучше.
Платок скрывал его левый глаз, струйка красного вина катилась
вдоль щек и по шее.
— Ты похож на Иисуса, — смеясь, сказал Гвиччоли.
— Это уж точно, — отозвался Лонжен. — Я тип вроде Иисуса
Христа.
Он протянул свою кружку Матье, чтобы тот ее наполнил.
— Нет уж, — возразил Матье, — ты уже и так нахлестался.
— Делай, что говорю! — крикнул Лонжен. — Делай, что говорю,
прошу тебя! — Он добавил ноющим голосом: — Видишь, у меня
хандра!
— Сто чертей! — крикнул Гвиччоли. — Дай ему скорее выпить,
иначе он опять начнет к нам приставать со своим братцем.
Лонжен надменно взглянул на него:
— А почему бы мне не говорить о моем брате, если я хочу? Не
ты ли мне запретишь?
— Ох, отстань! — взмолился Гвиччоли.
Лонжен повернулся к Матье.
— Мой брат в Оссегоре, — объяснил он.
— Значит, он не солдат?
— Еще чего — он белобилетник. Сейчас прогуливается в
сосновом бору со своей женушкой; они говорят друг другу: «Бедному
Полю не повезло», и они милуются, думая обо мне. Что ж, я им
покажу бедного Поля!
Он на минуту сосредоточился и заключил:
— Я не люблю своего брата.
Гримо расхохотался до слез.
— Чему ты смеешься? — раздраженно спросил Лонжен.
— Ты, может быть, запретишь ему смеяться? — возмутился
Гвиччоли. — Продолжай, дружок, — по-отечески сказал он Гримо, —
веселись, смейся, мы здесь собрались повеселиться.
— Я смеюсь из-за своей жены, — пояснил Гримо.
— Плевал я на твою жену, — сказал Лонжен.
— Ты говоришь о своем брате, а я хочу поговорить о своей
жене.
— А что с твоей женой?
Гримо приложил палец к губам:
СМЕРТЬ В ДУШЕ
783
-Тсс!
Он наклонился к Гвиччоли и доверительно сказал:
— У меня жена страшна, как черт.
Гвиччоли хотел было что-то сказать.
— Ни слова! — повелительно сказал Гримо. — Страшна, как черт,
и нечего тут спорить. Подожди, — добавил он, приподнимаясь и
пропуская левую руку под ягодицы, чтобы добраться до заднего
кармана брюк. — Я сейчас тебе ее покажу, будешь блевать от
омерзения.
После нескольких бесплодных попыток он опять сел.
— Повторяю, она страшна, как черт, поверь мне на слово. Я же
не буду тебе врать, какой мне в этом интерес?
Лонжену стало любопытно.
— Она действительно такая страшная? — спросил он.
— Говорю тебе: как черт.
— А что в ней безобразного?
— Все. Сиськи до колен, а зад до пяток достает. А если б ты видел
ее кривые ноги, кошмар! Она может мочиться, не раздвигая ног.
— Тогда, — сказал Лонжен, — ты мне ее перепульни, такая баба
как раз для меня, я всегда вожжался только со страхолюдинами,
красотки — для моего брата.
Гримо лукаво прищурился.
— Нет уж, я тебе ее не перепульну, мой дружочек. Потому что
если я тебе ее отдам, не факт, что я найду другую, поскольку я тоже
не красавец. Такова жизнь, — заключил он, вздохнув. — Нужно
довольствоваться тем, что имеешь.
— «Такова, — запел Минар, — такова жизнь, которую ведут
добрые монахи».
— Такова жизнь! — повторил Лонжен. — Такова жизнь! Мы
мертвецы, вспоминающие свою жизнь и, сучья мать, жизнь у нас
была не шибко красивая.
Гвиччоли бросил свой котелок ему в лицо. Котелок слегка
коснулся щеки Лонжена и упал в таз.
— Смени пластинку! — злобно рявкнул Гвиччоли. — Мне тоже
тошно, но я никому в душу с этим не лезу. Мы сейчас веселимся,
усек?
Лонжен повернул к Матье отчаянные глаза.
— Уведи меня отсюда, — тихо сказал он. — Уведи меня отсюда!
Матье нагнулся, чтобы схватить его под мышки, но Лонжен
извивался, как уж, и вывернулся.
784
Жан Поль Сартр
Матье потерял терпение.
— Мне это осточертело! — разозлился он. — Так ты идешь или
нет?
Лонжен лег на спину и лукаво посмотрел на него:
— Тебе очень хочется, чтобы я ушел, а? Очень хочется?
— Мне наплевать. Я хочу только, чтобы ты решил наконец что-
то одно.
— Что ж, — сказал Лонжен. — Выпей стаканчик. Пока я
размышляю, у тебя есть время выпить.
Матье не ответил. Гримо протянул ему свою кружку.
— Спасибо, — ответил Матье, отказавшись жестом.
— Почему ты не пьешь? — изумился Гвиччоли. — Здесь хватит
на всех: тебе нечего стесняться.
— Просто не хочу.
Гвиччоли засмеялся:
— Он говорит, что не хочет! Ты разве не знаешь, дурень, что мы
банда пей-через-не-хочу?
— Нет, пить я не буду.
Гвиччоли удивленно поднял брови:
— Почему они хотят, а ты нет? Почему?
Он сурово посмотрел на Матье:
— Я тебя считал посмышленей. Деларю, ты меня
разочаровываешь!
Лонжен приподнялся на локте.
— Разве вы не видите, что он нас презирает?
Наступило молчание. Гвиччоли поднял на Матье вопрошающий
взгляд, затем вдруг всем телом осел, веки его опустились. Он
нехорошо улыбнулся и, не открывая глаз, сказал:
— Кто нас презирает, может убираться вон. Мы никого не
задерживаем, мы здесь среди своих.
— Я никого не презираю, — возразил Матье.
Он остановился: «Они пьяные, а я не пил». Это вопреки его воле
внушало ему чувство превосходства, и Матье ощутил стыд. Он
стыдился своего терпеливого голоса, которым принуждал себя
говорить с ними. «Они напились, потому что им невмоготу!» Но кто
мог разделить их несчастье? Разве что такой же пьяный, как они.
«Не надо было приходить сюда», — подумал он.
— Он нас презирает! — с наигранным гневом повторил
Лонжен. — Он здесь, как в кино, он смеется над пьяными дураками,
которые несут околесицу...
СМЕРТЬ В ДУШЕ
785
— Говори за себя! — оборвал его Латекс. — Я не несу околесицу.
— Да брось ты, — устало сказал Гвиччоли.
Гримо задумчиво посмотрел на Матье:
— Если он нас презирает, я ему сейчас отолью на кумпол.
Гвиччоли засмеялся.
— Тебе отольют на кумпол, — повторил он. — Тебе отольют на
кумпол.
Менар перестал петь; он соскользнул со шкафа, с загнанным
видом огляделся, потом, казалось, успокоился, испустил
облегченный вздох и, отключившись, рухнул на пол. Никто не обратил на
него внимания: все смотрели прямо перед собой и время от времени
бросали на Матье злобные взгляды. Матье просто не знал, как
поступить: он пришел сюда без задних мыслей, стараясь помочь Лон-
жену. Но он должен был бы предвидеть, что вместе с ним сюда
проникают срам и скандал. Эти типы увидели себя его глазами; он
уже не говорил на их языке, но, однако, сам того не желая, стал их
судьей и свидетелем. Ему внушал отвращение этот таз, полный вина
и мусора, хоть он и упрекал себя за это отвращение: «Кто я такой,
чтобы отказываться пить, когда мои товарищи пьяны?»
Латекс задумчиво погладил себя по нижней части живота.
Вдруг он повернулся к Матье с вызовом в глазах; затем поставил
котелок в развилке ног и начал болтать членом в вине.
— Я его вымачиваю — это его укрепит.
Гвиччоли фыркнул. Матье отвернулся и встретил насмешливый
взгляд Гримо.
— Что, никак не поймешь, куда попал? — спросил Гримо. — Ты
нас не знаешь, приятель: от нас можно всего ожидать.
Он наклонился вперед и, заговорщицки подмигнув, крикнул:
— Эй, Латекс, спорим, что ты теперь не выпьешь этого вина!
Латекс подмигнул в ответ.
— Еще чего!
Он поднял котелок и шумно выпил, наблюдая за Матье. Лонжен
ухмылялся, все улыбались. Они выпендриваются передо мной.
Латекс поставил котелок и причмокнул языком:
— Еще вкуснее!
— Ну как? — спросил Гвиччоли. — Что ты на это скажешь?
Разве мы не весельчаки? Разве мы не лихие ребята?
— И это еще не все, — сказал Гримо. — Ты еще не все видел.
Дрожащими руками он пытался расстегнуть ширинку; Матье
нагнулся к Гвиччоли.
786
Жан Поль Сартр
— Дай мне твой котелок, — тихо сказал он. — Я буду веселиться
с вами.
— Он упал в таз, — раздраженно сказал Гвиччоли. — Тебе нужно
его выловить.
Матье погрузил руку в таз, пошевелил пальцами в вине, пошарил
на дне и вытащил полный котелок. Руки Гримо замерли; он
посмотрел на них, потом сунул их в карманы и посмотрел на Матье.
— То-то! — смягчившись, сказал Латекс. — Я так и знал, что ты
не удержишься.
Матье выпил. В вине были какие-то мелкие и бесцветные
шарики. Он их выплюнул и снова наполнил котелок. Гримо
добродушно смеялся.
— Кто на нас посмотрит, — сказал он, — нипочем не удержится —
обязательно выпьет. Его завидки возьмут.
— Лучше пусть завидуют, чем жалеют, — сказал весельчак
Гвиччоли.
Матье помедлил, спасая муху, увязшую в вине, потом выпил.
Латекс смотрел на него с видом знатока.
— Это не пьянка, — заметил он, — это самоубийство.
Котелок был пуст.
— Мне очень трудно опьянеть, — сказал Матье.
Он наполнил котелок в третий раз. Вино было густым, со
странным сладковатым привкусом.
— Вы случайно туда не напрудили? — охваченный подозрением,
спросил Матье.
— Ты что, спятил? — возмутился Гвиччоли. — Ты думаешь, мы
можем испортить вино, а?
— Да нет, — ответил Матье. — А в общем, мне плевать.
Он выпил залпом и отдышался.
— Ну как? — с интересом спросил Гвиччоли. — Теперь стало
лучше?
Матье покачал головой:
— Пока нет.
Он взял котелок и, сжав зубы, наклонился над тазом и тут
услышал за спиной насмешливый голос Лонжена:
— Хочет нам показать, что он повыносливей нас.
Матье обернулся:
— Неправда! Я пью, чтобы развеселиться.
Лонжен сидел весь одеревеневший; повязка сползла на нос. Над
повязкой Матье видел неподвижные округлые глаза старой курицы.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
787
— Я тебя не слишком люблю, Деларю! — сказал Лонжен.
— Ты это уже говорил.
— Ребята тоже тебя не слишком любят, — добавил Лонжен. —
Они при тебе робеют, потому что ты образованный, но не думай, что
они тебя любят.
— За что им меня любить? — сквозь зубы процедил Матье.
— Ты все делаешь не как все, — продолжал Лонжен. — Даже
напиваешься — и то по-другому.
Матье недоуменно посмотрел на него, затем повернулся и
бросил котелок в стекло шкафа.
— Я не умею пьянеть! — громко сказал он. — Не умею — и баста.
Вы же видите, что не умею.
Никто не проронил ни слова; Гвиччоли положил на пол осколок
стекла, который упал ему на колени. Матье подошел к Лонжену,
твердо взял его за руку и поставил на ноги.
— Что такое? Какое тебе дело? — крикнул Лонжен. —
Занимайся своей задницей, эй ты, аристократ!
— Я пришел увести тебя, — настаивал Матье, — и я уйду с тобой.
Лонжен яростно отбивался.
— Оставь меня в покое! Говорю тебе, отпусти меня! Отпусти,
сучий потрох, или я разозлюсь.
Матье стал тащить его из комнаты, Лонжен поднял руку и
попытался ткнуть ему пальцем в глаза.
— Мерзавец, — разозлился Матье.
Он отпустил Лонжена и залепил ему два не слишком сильных
подскульника; Лонжен обмяк и повернулся вокруг своей оси; Матье
схватил его на лету и водрузил его на плечи, как мешок.
— Видите, — сказал он. — Я тоже, если захочу, могу корчить из
себя весельчака.
Он их ненавидел. Он вышел и спустился по ступенькам
крыльца со своей ношей. Шарло, увидев его, расхохотался.
— Что с братишкой?
Матье перешел через дорогу и положил Лонжена у каштана.
— Сейчас лучше? — спросил Матье.
Лонжена снова вырвало.
— Вот... так легче... — сказал он между двумя позывами.
— Я тебя оставлю, — сообщил Матье. — Когда кончишь блевать,
постарайся хорошенько выспаться.
Он запыхался, когда подошел к почтовой конторе. Он постучал.
Пинетт открыл ему с восхищенным видом.
788
Жан Поль Сартр
— Ага! — обрадовался он. — Решился наконец.
— В конечном счете да, — ответил Матье.
В тени за Пинеттом появилась почтовая служащая.
— Мадемуазель сегодня уже не боится, — сказал Пинетт. — Мы
слегка прогуляемся по полям.
Девушка бросила на него мрачноватый взгляд. Матье ей
улыбнулся. Он подумал: «Я ей не слишком симпатичен», но ему это было
в высшей степени безразлично.
— От тебя пахнет вином, — заметил Пинетт.
Матье, не отвечая, засмеялся. Девушка надела черные перчатки,
заперла на два оборота дверь, и они пустились в путь. Она
положила ладонь на руку Пинетта, а Пинетт дал руку Матье. Солдаты,
проходя, приветствовали их.
— У нас воскресная прогулка! — крикнул им Пинетт.
— Ага! — ответили они. — Без офицеров — каждый день
воскресенье.
Молчание луны под солнцем; грубые гипсовые изображения,
расположенные по кругу в пустыне, напомнят будущим породам,
чем был род человеческий. Продолговатые белые руины будут
плакать бороздками своих жировых черных выпотов. На северо-
западе триумфальная арка, на севере романский храм, на юге мост,
ведущий к другому храму; вода в бассейне загнивает, торчит
каменный нож, устремленный в небо. Из камня; из камня, засахаренного
в сиропе истории; Рим, Египет, каменный век — вот что останется
от достославного места. Он повторил: «Вот что останется», но
удовольствие его притупилось. Нет ничего монотоннее катастрофы;
Даниель начинал к ней привыкать. Он прислонился к решетке, еще
счастливый, но усталый, с лихорадочным привкусом лета на языке:
Даниель гулял весь день; теперь ногам трудно было его нести, и
все-таки надо было идти. В мертвом городе следует ходить. «Я
заслужил эту маленькую удачу», — сказал он себе. Не важно что, но
что-нибудь да расцветет для него одного на углу улицы. Но, увы,
ничего не было. В пустыне всюду посверкивали дворцы: кое-где
подпрыгивали голуби, незапамятные птицы, ставшие камнями,
потому что кормились статуями. Единственной оживляющей
нотой в этом каменном пейзаже был нацистский флаг над отелем
«Крийон».
О! Штандарт цвета кровоточащего мяса на шелке морей и
арктических цветов.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
789
Посередине кровавого лоскута белый круг, точно круг от
волшебного фонаря на простыне моего детства; посередине круга
клубок черных змей, Аббревиатура Зла, моя Аббревиатура. Каждую
секунду в складках стяга образуется красная капля, она отделяется,
падает на покрытие из щебенки: добродетель кровоточит. Он
прошептал: «Добродетель кровоточит!» Но его это уже не так
забавляло, как накануне. Три дня он не заговаривал ни с кем, и его радость
отвердела; на мгновение усталость затуманила ему взгляд, и он
подумал, не вернуться ли? Нет. Он не мог вернуться: «Мое
присутствие требуется повсюду». Надо идти. Он с облегчением воспринял
звучный разрыв неба: самолет блестел на солнце, это была смена, у
мертвого города был и другой свидетель, он поднимал к небесам
тысячи мертвых голов. Даниель улыбался: это его самолет искал
среди могил. «Это только для меня одного он здесь». Ему хотелось
броситься на середину площади и замахать платком. Хорошо бы
они начали бомбить! Это было бы воскрешение, город огласился бы
шумом работающей кузницы, изысканные цветы зацепились бы за
фасады. Самолет пролетел; и вокруг Даниеля вновь образовалась
планетарная тишина. Идти! Идти без остановки по поверхности
этой остывшей планеты.
Он пошел дальше, волоча ноги; пыль отбеливала его туфли. Он
вздрогнул: прижав лоб к какому-нибудь стеклу какой-то праздный
генерал-победитель, сложив руки за спиной, может быть, наблюдал
за этим туземцем, заблудившимся в музее парижских реликвий. Все
окна стали немецкими глазами; он выпрямился и пошел упругим
шагом, для смеху немного виляя бедрами: «Я хранитель
Некрополя». Тюильри, набережная Тюильри; перед тем как перейти улицу,
он по привычке повернул голову налево и направо, но ничего не
увидел, кроме тоннеля из листвы. Он собирался ступить на мост
Сольферино, когда остановился, и сердце его забилось: удача!
Дрожь пробежала от подколенной впадины до затылка, руки и ноги
похолодели, он застыл и затаил дыхание, вся его жизнь
сосредоточилась в зрении: он пожирал глазами стройного юношу, который
невинно стоял к нему спиной, склоняясь над водой. «Дивная
встреча!» Даниель был бы меньше взволнован, если бы вечерний ветер
обрел голос и окликнул его по имени, или если бы облака
начертали его имя на сиреневом небе, настолько было очевидно, что это
дитя оказалось здесь для него, что его длинные широкие руки,
выглядывавшие из шелковых манжет, были словами его тайного язы-
790
Жан Поль Сартр
ка: «Он дан мне». Малыш был длинный и кроткий, светлые
взъерошенные волосы и круглые, почти женские, плечи, узкие бедра,
твердый, крупный зад, очаровательные маленькие ушки; ему могло
быть лет девятнадцать-двадцать. Даниель смотрел на его уши и
думал: «Дивная встреча», он испытывал некий страх. Все его тело
притворялось мертвым, как насекомые, которым грозит опасность;
самая большая опасность для меня — красота. Его руки все больше
и больше холодели, железный обруч опоясал шею. Красота, самая
скрытная из ловушек, предлагала себя с улыбкой соучастия и
легкости, подавала ему знак, принимая ожидающий вид. Какая ложь:
этот нежный беззащитный затылок никого не ждал; он только
ласкался о воротник куртки и наслаждался самим собой, они
наслаждались самими собой, своим теплом, эти стройные горячие светлые
бедра, которые угадывались под серой фланелью. Он смотрит на
реку, он думает, необъяснимый и одинокий, как пальма; он мой, хоть
он меня не знает. Даниеля затошнило от тревоги, и на какой-то миг
все закачалось: крохотный и далекий ребенок звал его со дна
пропасти; его звала красота; Красота, моя Судьба. Он подумал: «Все
начнется сначала. Все: надежда, несчастье, стыд, безумства». И тут
он вспомнил, что Франция обречена: «Все дозволено!» Тепло
потекло от живота к кончикам пальцев, усталость исчезла, кровь
застучала в висках. «Единственные видимые представители
человеческого рода, единственные выжившие представители исчезнувшей
нации, мы неизбежно заговорим друг с другом: что может быть
естественнее?» Он сделал шаг вперед к тому, кого уже окрестил
Чудом, он помолодел и стал добрым, он отяжелел от
возбуждающего откровения, которое нес ему малыш. И почти сразу же Даниель
остановился: он заметил, что Чудо дрожало всеми членами,
конвульсивное движение то отбрасывало его тело назад, то прижимало
живот к балюстраде, наклоняя затылок над водой. «Маленький
дурачок!» — раздраженно подумал Даниель. Мальчик не был
достоин этой чрезвычайной минуты, он не совсем в ней
присутствовал, ребяческие заботы отвлекали эту душу, которая должна быть
открыта прекрасной новости. «Маленький дурачок!» Вдруг Чудо
странным вымученным движением подняло правую ногу, словно
собираясь перешагнуть через парапет. Даниель изготовился
прыгнуть, когда малыш беспокойно обернулся и застыл с поднятой
ногой. Он заметил Даниеля, а Даниель увидел его несчастные глаза на
белом как мел лице; малыш с секунду колебался, его нога опусти-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
791
лась, царапнув камень, и он небрежно пустился в путь, волоча руку
по выступу парапета. «Ты хочешь покончить с собой!»
Восхищение Даниеля заморозилось в одночасье. Всего-то:
мерзкий обезумевший мальчишка, не способный вынести последствий
своих глупостей. Приступ желания напряг Даниелю член: он пошел
за мальчиком с ледяной радостью охотника. Он холодно ликовал;
он словно освободился и очистился и стал насколько возможно
коварным. В принципе он предпочитал это, но он развлекался,
храня обиду на малыша: «Ты хочешь покончить с собой, маленький
идиот? Ты думаешь, это легко! Большим ловкачам, чем ты, это не
удалось». Мальчик осознал его присутствие за своей спиной; теперь
он делал большие лошадиные шаги, он шагал очень широко и очень
напряженно. Посреди моста он вдруг заметил, что его правая ладонь
касается балюстрады: ладонь поднялась, напряженная и вещая, он
ее насильно опустил и засунул в карман и пошел дальше, втянув
голову в плечи. «У него подозрительный вид, — подумал Дани-
ель, — именно такими я их и люблю». Молодой человек ускорил
шаг; Даниель поступил так же. Жестокий смех рвался наружу: «Он
страдает, он спешит с этим покончить, но не может, потому что за
ним иду я. Иди, иди, я тебя не оставлю» В конце моста малыш
поколебался, потом пошел по набережной Орсэ; он приблизился к
верху лестницы, доходящей до берега, остановился, с нетерпением
повернулся к Даниелю и стал ждать. Молниеносно Даниель увидел
очаровательное лицо, аккуратный нос, маленькие вялые губы,
гордые глаза. Даниель потупился с видом святоши, медленно
приблизился, прошел мимо мальчика, не глядя на него, затем через
несколько шагов бросил взгляд через плечо: мальчик исчез. Даниель
неспешно перегнулся через парапет и увидел его на берегу: опустив
голову, тот созерцал кольцо для швартовки, по которому задумчиво
постукивал ногой; нужно как можно быстрее спуститься, не дав
себя заметить. К счастью, в двадцати метрах была другая лестница,
узкий железный трап, скрытый выступом стены. Даниель медленно
и бесшумно спустился; все это его безумно развлекало. Внизу
лестницы он прижался к стене: мальчик, стоя у кромки берега, смотрел
на воду. Сена, зеленоватая с серыми отблесками, катила странные
предметы, мягкие и темные; было не так-то соблазнительно
нырнуть в эту больную реку. Мальчик нагнулся, поднял голыш и бросил
его в воду, затем продолжил свое маниакальное созерцание. «Ладно,
ладно, это будет не сегодня; через пять минут он сдрейфит. Дать ли
792
Жан Поль Сартр
ему на это время? Спрятавшись, ждать, когда он проникнется своей
низостью, а когда удалится, разразиться взрывом смеха? Нет, это
рискованно: он может возненавидеть меня навсегда. Если я сейчас
же брошусь на него, чтобы помешать ему утопиться, он будет
благодарен, что я счел его способным на самоубийство, даже если он для
проформы поворчит; но главное, надо помешать ему оставаться
наедине с самим собой». Даниель провел языком по губам, глубоко
вдохнул и выскочил из укрытия. Молодой человек в ужасе
обернулся; он бы упал, если бы Даниель не схватил его за руку; мальчик
пробормотал:
— Я вас...
Но, увидев Даниеля, он, казалось, успокоился; в его глазах ужас
уступил место бешенству: он боялся увидеть другого.
— В чем дело? — высокомерно спросил он.
Даниель не смог ему сразу ответить: желание перехватило ему
дыхание.
— Юный Нарцисс! — с трудом проговорил он. — Юный
Нарцисс!
Немного погодя он добавил:
— Нарцисс слишком сильно наклонился, еще немного — и он
упал бы в воду.
— Я не Нарцисс, — возразил мальчик. — Вестибулярный
аппарат у меня в норме, и я могу обойтись без ваших услуг.
«Он студент», — подумал Даниель. Он грубо спросил:
— Ты хотел покончить с собой?
— Вы что, с ума сошли?
Даниель начал смеяться, и мальчик покраснел.
— Оставьте меня в покое! — мрачно проговорил он.
— Когда захочу, тогда и оставлю! — сказал Даниель, решив не
отступаться.
Мальчик опустил красивые глаза, и Даниель едва успел
отскочить назад, чтобы избежать удара каблуком. «Он лягается! —
подумал Даниель, обретя равновесие. — Он лягается наугад, даже не
глядя на меня». Он был в восторге. Они молчали, тяжело дыша;
мальчик стоял, опустив голову, и Даниель мог любоваться его
удивительно тонкими волосами.
— Вот как? Мы подло лягаемся, точно женщина?
Мальчик покачал головой справа налево, будто бы тщетно
пытался ее поднять. Через некоторое время он подчеркнуто грубо
сказал:
СМЕРТЬ В ДУШЕ
793
— Идите к чертовой матери.
В его голосе было больше упрямства, чем уверенности, но в
конце концов он поднял голову и посмотрел Даниелю прямо в
глаза со смелостью, которая сама себя пугала. Тут же взгляд его
скользнул в сторону, и Даниель мог вдоволь созерцать это красивое,
хмурое, но как бы покорившееся лицо. «Гордость и слабость, —
подумал он. — И злонамеренность. Буржуазное личико, потрясенное
отвлеченным заблуждением; очаровательные черты, но лишенные
благородства». В этот самый момент он получил удар ногой по икре
и не смог удержаться от гримасы боли:
— Ах ты, гаденыш! Надрать бы тебе задницу хорошенько!
Глаза мальчика блеснули:
— Только попробуйте!
Даниель начал его трясти:
— И попробую! Если мне захочется прямо сейчас снять с тебя
штаны, уж не ты ли мне помешаешь?
Мальчик сильно покраснел и засмеялся:
— Я вас не боюсь.
— Черт возьми! — воскликнул Даниель.
Он схватил юношу за затылок и попытался нагнуть его вперед.
— Нет! Нет! — крикнул мальчик отчаянно. — Нет, не надо!
— А ты будешь еще пинать меня?
— Нет, только оставьте меня.
Даниель позволил ему выпрямиться. Малыш держался смирно;
вид у него был затравленный. «Ты уже познал удила, мой
жеребеночек; кто-то оказал мне услугу, начав дрессировку до меня. Отец?
Дядя? Любовник? Нет, не любовник: позже мы будем это обожать,
но пока что мы еще девственник».
— Итак, — сказал Даниель, не отпуская его, — ты хотел
покончить с собой. Почему?
Мальчик хранил упорное молчание.
— Дуйся сколько угодно, — продолжал Даниель. — Что мне до
этого? Во всяком случае, ты уже упустил эту возможность.
Мальчик улыбался своим мыслям бледной многозначительной
улыбкой.
«Мы топчемся на месте, — раздосадованно подумал Даниель, —
нужно выйти из тупика». Он снова начал его трясти.
— Почему ты улыбаешься? Говори!
Юноша посмотрел ему в глаза.
— Отпустите меня, пожалуйста.
794
Жан Поль Сартр
— Охотно, — сказал Даниель. — Я готов отпустить тебя сию
минуту.
Он ослабил хватку и сунул руки в карманы.
— Ну? — спросил он.
Мальчик не шевелился, по-прежнему улыбаясь. «Он дурачит
меня».
— Послушай, я прекрасно плаваю, я уже спас двоих, причем
одного во время шторма на море.
Мальчик издал девчоночий смешок, странный и неестественный.
— Да у вас мания всех спасать!
— Может, и так, — согласился Даниель. — Может, и мания.
Ныряй! — добавил он, раздвигая руки. — Ныряй же, раз тебе
приспичило. Я позволю тебе немного нахлебаться, и ты увидишь, как это
приятно. Потом я не спеша разденусь, прыгну в воду, оглушу тебя
кулаком и полумертвого вытащу.
Он засмеялся.
— Ты должен знать, что неудавшиеся самоубийцы редко
предпринимают еще одну попытку. Когда я приведу тебя в чувство, ты
об этом и помышлять не будешь.
Мальчик шагнул к нему, словно намереваясь его ударить.
— Кто вам дал право говорить со мной таким тоном? Кто вам
дал на это право?
Даниель продолжал смеяться.
— Ха! Ха! Кто мне дал на это право? Подумай! Подумай
хорошенько!
Он вдруг сжал ему запястье.
— Пока я здесь, ты не сможешь покончить с собой, даже если
будешь сгорать от такого желания. Я — хозяин твоей жизни и
смерти.
— Вы не всегда будете рядом, — со странным видом сказал
мальчик.
— А вот тут ты ошибаешься, — возразил Даниель. — Я буду
рядом всегда.
Он вздрогнул от удовольствия: он уловил в красивых ореховых
глазах проблеск любопытства.
— Даже если я и вправду хочу покончить с собой, что вам до
этого? Вы меня не знаете.
— Ты же сам сказал: у меня мания, — весело ответил Даниель. —
У меня мания мешать людям делать то, что они хотят.
Он с доброй улыбкой посмотрел на юношу:
СМЕРТЬ В ДУШЕ
795
— Значит, это так серьезно?
Мальчик не ответил. Он изо всех сил старался не заплакать.
Даниель был так растроган, что едва не заплакал сам. К счастью,
мальчик был слишком погружен в себя и не замечал этого.
Несколько секунд Даниелю удалось сдерживать желание погладить его по
волосам; затем его правая рука сама собой покинула карман и
щупающим жестом слепого легла на светлую голову. Даниель отдернул
руку, как будто обжегся. «Слишком рано! Это оплошность...»
Мальчик сильно затряс головой и сделал несколько шагов вдоль берега.
Даниель ждал, затаив дыхание: «Слишком рано, дурак, явно
слишком рано». Он озлился и решил наказать себя: «Если он захочет, я
дам ему уйти, не сделав ни движения». Но как только он услышал
первые рыдания, он подбежал к юноше и обвил его руками.
Мальчик прижался к его груди.
— Бедный малыш! — промолвил потрясенный Даниель. —
Бедный малыш!
Он отдал бы правую руку, чтобы утешить его или заплакать
вместе с ним. Через некоторое время мальчик поднял голову, он
больше не плакал, но две слезы катились по его чудесным щекам;
Даниель хотел бы собрать их двумя движениями языка и выпить
их, чтобы почувствовать соленый вкус этого горя. Молодой человек
недоверчиво посмотрел на него:
— Как вышло, что вы здесь очутились?
— Я проходил мимо, — ответил Даниель.
— Значит, вы не солдат?
Даниель нахмурился.
— Их война меня не интересует.
Он быстро продолжил:
— Я тебе кое-что предложу. Ты все еще готов покончить с
собой?
Мальчик не ответил, но выглядел мрачно и решительно.
— Очень хорошо, — сказал Даниель. — Тогда слушай. Я
забавлялся, пугая тебя, но я ничего не имею против самоубийства, если
оно продумано, и мне нет дела до твоей смерти, поскольку я тебя не
знаю. Я не стал бы тебе мешать, если б у тебя были на то веские
причины.
Он с радостью увидел, как молодой человек побледнел. «Ты
решил, что уже отделался от меня?» — подумал он.
— Смотри, — продолжал он, показывая на большую оправу
своего перстня. — У меня там яд. Я всегда ношу этот перстень, даже
796
Жан Поль Сартр
ночью, и если я попаду в ситуацию, когда мои честь и
достоинство...
Он остановился и отвинтил оправу. Мальчик смотрел на две
коричневые таблетки с недоверием, полным гадливости.
— Расскажешь мне свою ситуацию. Если я сочту твои мотивы
основательными, одна из этих таблеток — твоя: это все-таки
приятнее, чем ледяная ванна. Хочешь ее сейчас? — спросил он так,
словно резко изменил мнение.
Мальчик, не отвечая, провел языком по губам.
— Хочешь? Я тебе ее дам; ты ее проглотишь на моих глазах, и я
тебя не покину до самого конца. — Он взял его за руку и сказал:
— Я буду держать тебя за руку и закрою тебе глаза.
Мальчик покачал головой:
— А кто мне докажет, что это яд?
Даниель рассмеялся молодым легким смехом:
— Боишься, что это слабительное? Глотай, сразу убедишься.
Мальчик не ответил: щеки его были по-прежнему бледными, а
зрачки расширенными, но он кокетливо и неискренне улыбнулся,
посмотрев искоса на Даниеля.
— Так ты не хочешь?
— Не сразу.
Даниель завинтил перстень.
— Дам, когда захочешь, — холодно проговорил он. — Как тебя
зовут?
— Вы хотите, чтобы я назвал свою фамилию?
— Только имя.
— Что ж, если это необходимо... Филипп.
— Так вот, Филипп, — сказал Даниель, просовывая свою руку
под руку молодого человека, — раз тебе нужно объясниться, пойдем
ко мне.
Он подтолкнул его к лестнице и легко заставил подняться по
ступенькам; затем они под руку прошли по набережным. Филипп
упрямо смотрел вниз; он снова задрожал, но жался к Даниелю,
касаясь его бедром при каждом шаге. Красивые туфли из пекари,
почти новые, но которым по крайней мере год, хорошо скроенный
фланелевый костюм, белый галстук, голубая шелковая рубашка.
Это была мода тридцать восьмого года на Монпарнасе, прическа
нарочито небрежная: во всем этом не так уж мало нарциссизма.
Почему он не в армии? Безусловно, слишком молод; но, возможно, он
старше, чем выглядит: у угнетенных детей детство затягивается. Во
СМЕРТЬ В ДУШЕ
797
всяком случае, к самоубийству его толкает явно не нищета. Когда
они проходили мимо моста Генриха IV, он быстро спросил:
— Ты хотел утопиться из-за немцев?
Филипп, казалось, удивился и покачал головой. Он был красив,
как ангел. «Я тебе помогу, — страстно подумал Даниель. — Я тебе
помогу». Он хотел спасти Филиппа, сделать из него мужчину. «Я
дам тебе все, что имею, ты узнаешь все, что знаю я». Центральный
рынок был пуст и черен, он больше ничем не пах. Но город в чем-то
изменился. Часом раньше был конец света, и Даниель чувствовал,
что он участник Истории. Теперь улицы приходили в себя, в этот
переломный час, когда в агонии недели и солнца возвещается
прекрасный, совсем новенький понедельник, Даниель прогуливался,
словно в довоенное воскресенье. Что-то начнется: новая неделя,
новая любовь. Он поднял голову и улыбнулся: стекло в огне
дарило ему закат, это был знак; чудесный запах раздавленной клубники
вдруг наполнил ему ноздри, это был другой знак; чья-то тень бегом
пересекла улицу Монмартр, еще один знак. Каждый раз, когда
фортуна ставила на его пути лучезарную красоту ребенка — Бога,
небо и земля лукаво подмигивали ему. Он изнемогал от желания,
дыхание его пресекалось на каждом шагу, но он так привык молча
идти рядом с ничего не подозревающими молодыми людьми, что в
конце концов полюбил свое долготерпение предвкушающего му-
желюба. «Я подстерегаю тебя, ты наг в ложбине моего взгляда, я
владею тобой на расстоянии, ничего не отрывая от себя, я
овладеваю тобой своим обонянием и зрением; я уже знаю твою узкую
талию, я ее ласкаю неподвижными руками, я погружаюсь в тебя, а
ты об этом даже не подозреваешь». Он нагнулся, чтобы вдохнуть
аромат этого склоненного затылка, и вдруг был поражен сильным
запахом нафталина. Он сейчас же выпрямился, охлажденный, но
заинтригованный: он обожал сочетания волнения и сухости,
обожал нервозность. «Посмотрим, хороший ли я следователь, —
весело подумал он. — Вот молодой поэт, который хочет броситься в
воду в тот день, когда немцы вступают в Париж: почему?
Единственный, но основательный признак: его костюм пахнет
нафталином, значит, он его давно не носил. Но зачем переодеваться в день
своего самоубийства? Потому что он не хотел надевать то, что
носил еще вчера. Стало быть, это была военная форма, из-за которой
его могли бы схватить. Он — солдат. Но что он здесь делает?
Мобилизованный из отеля «Континенталь» или из службы
министерства авиации, он уже давно сбежал бы в Туре вместе с остальными.
798
Жан Поль Сартр
Но тогда все ясно. Совершенно ясно». Он остановился, показывая
на ворота:
— Вот и пришли.
— Не хочу, — резко сказал Филипп.
-Что?
— Не хочу идти к вам.
— Ты предпочитаешь, чтобы тебя задержали немцы?
— Не хочу, — повторил Филипп, глядя себе под ноги. — Мне
нечего вам сказать, и я вас не знаю.
— Ах, вот оно что, — протянул Даниель. — Вот оно что!
Он двумя руками взял его за голову и насильно приподнял ее.
— Ты меня не знаешь, зато я тебя знаю, — сказал он ему, — я сам
могу рассказать тебе, что с тобой произошло.
Он продолжал, погрузив свой взгляд в глаза Филиппа:
— Ты был в северной армии, началась паника, и ты удрал.
Потом, вероятно, не было возможности снова найти свой полк. Ты
вернулся домой, твоя семья смылась, и ты переоделся в
гражданское и прямиком пошел утопиться в Сене. Не потому, что ты
сверхпатриот, но тебе невыносима мысль, что ты трус. Разве я ошибся?
Мальчик не двигался, но глаза его еще больше расширились, и
у Даниеля пересохло во рту, он чувствовал, что тревога
поднимается в нем, как прилив; он повторил скорее громко, чем уверенно:
— Разве я ошибся?
Филипп что-то промычал в ответ, но тело его расслабилось;
тревога отступила, от радости у Даниеля перехватило дыхание, его
сердце заметалось и заполошно заколотилось в груди.
— Пойдем ко мне, — прошептал он, — я знаю лекарство.
— Лекарство от чего?
— От всего. Я могу научить тебя многому.
У Филиппа был усталый и успокоенный вид; Даниель
подтолкнул его к воротам. Красивых ребят, за которыми он охотился на
Монмартре или Монпарнасе, он никогда еще не решался приводить
к себе домой. Но сегодня консьержка и большая часть жильцов
улепетывала по дорогам между Монтаржи и Жьеном, сегодня был
праздник. Они молча поднялись. Даниель вставил ключ в скважину,
не выпуская руки Филиппа. Он открыл дверь и посторонился:
— Входи.
Филипп нерешительно вошел.
— Дверь напротив — это гостиная.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
799
Он повернулся к нему спиной, запер дверь на ключ и положил
его в карман. Когда он присоединился к Филиппу, тот стоял перед
этажеркой и заинтересованно разглядывал статуэтки.
— Потрясающе!
— Неплохие, — согласился Даниель — Они действительно
неплохие. Но, главное, они настоящие. Я их сам купил у индейцев.
— А это? — спросил Филипп.
— Это портрет умершего ребенка. В Мексике, когда кто-нибудь
умирает, зовут специального художника для мертвых. Он рисует
труп с чертами живого человека. Вот что из этого получается.
— Вы были в Мексике? — спросил Филипп с оттенком
уважения.
— Я прожил там два года.
Филипп с восторгом смотрел на портрет красивого, бледного и
гордого ребенка, который из лона смерти возвращал ему свой
взгляд с уверенностью и серьезностью посвященного. «Они похожи
друг на друга, — подумал Даниель. — Оба светловолосые, оба
дерзкие и бледные, один на картине, другой против нее, ребенок,
который хотел умереть, и ребенок, который действительно умер,
смотрят друг на друга; смерть была тем, что их разделяло: ничто,
плоская поверхность полотна».
— Потрясающе! — повторил Филипп.
Невероятная усталость вдруг сразила Даниеля. Он вздохнул и
опустился в кресло. Мальвина прыгнула ему на колени.
— Вот! Вот! — сказал он, гладя ее. — Умница моя, Мальвина,
красивая моя.
Он повернулся к Филиппу и слабым голосом сказал:
— В баре есть виски. Нет, справа, маленький китайский
шкафчик; там. Там же и стаканы. Обслужи нас; побудь горничной.
Филипп наполнил два стакана, один протянул Даниелю и
остался стоять перед ним. Даниель залпом выпил виски и почувствовал
себя лучше.
— Будь вы поэтом, — сказал он ему, внезапно переходя на
«вы», — вы бы почувствовали, что в нашей встрече есть некая
предопределенность.
Мальчик кокетливо засмеялся:
— Кто вам сказал, что я не поэт?
Он смотрел Даниелю прямо в глаза: с того момента, как он
вошел в комнату, вид и манеры его изменились. «На него наводят
800
Жан Поль Сартр
робость отцы семейства, — раздосадованно подумал Даниель, — он
больше меня не боится, потому что догадался, что я таковым не
являюсь». Он сделал вид, будто колеблется.
— Я вот что думаю, — задумчиво проговорил он, —
заинтересуешь ли ты меня?
— Вы лучше бы подумали об этом немного раньше, — ответил
Филипп.
Даниель улыбнулся:
— Время еще есть. Если ты мне наскучишь, я выставлю тебя вон.
— Не стоит труда, — сказал Филипп.
Он направился к двери.
— Останься, — окликнул Даниель. — Я хорошо знаю, что я тебе
нужен.
Филипп спокойно улыбнулся, вернулся и сел на стул. Поппея
прошла мимо него, он поймал ее и посадил себе на колени, причем
она не сопротивлялась. Он ласково, с наслаждением погладил ее.
— Большой плюс для тебя, — удивленно сказал Даниель. — В
первый раз она позволяет такое.
По физиономии Филиппа скользнула извилистая фатоватая
ухмылка.
— Сколько у вас кошек? — спросил он, потупив взор.
— Три.
— Большой плюс для вас.
Он чесал голову Поппеи, и та начала мурлыкать. «Этот шпане-
нок выглядит более непринужденно, чем я, — подумал Даниель, —
он знает, что нравится мне». Он резко спросил, чтобы привести его
в замешательство:
— Итак? Как это произошло?
Филипп выпустил Поппею, раздвинув колени; кошка
спрыгнула и убежала.
— Что ж, — ответил Филипп, — вы все угадали. Добавить
больше нечего.
— Где ты был?
— На севере. Место, которое называется Парни.
-Ну и?
— Там мы держались два дня, а потом появились танки и
самолеты.
— Одновременно?
-Да.
— И ты испугался?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
801
— Да нет. Возможно, страх — это что-то другое.
Его лицо посуровело и постарело. Опустошенными глазами он
смотрел в пустоту.
— Все бежали, и я побежал с ними.
— А потом?
— Я шел пешком, потом меня подобрал грузовик, потом я снова
шел; в Париже я третий день.
— О чем ты думал, когда шел?
— Ни о чем.
— Почему ты ждал до сегодняшнего дня, чтобы покончить с
собой?
— Я хотел еще раз увидеть мать.
— Ее нет в городе?
— Да, ее нет в городе.
Он поднял голову и дерзко оглядел Даниеля.
— Вы ошиблись, приняв меня за труса, — резко отчеканил он.
— Правда? Тогда почему ты убежал?
— Потому, что бежали все остальные.
— Однако ты собирался наложить на себя руки.
— Да, собирался.
— Почему?
— Слишком долго объяснять.
— Кто тебя торопит? Налей себе еще виски.
Филипп выпил еще. Щеки его порозовели. Он усмехнулся.
— Если бы речь шла только обо мне, мне было бы безразлично,
трус я или нет. Я пацифист. Что такое военная доблесть?
Отсутствие воображения. Солдаты — мужественные люди, но это
настоящие скоты. Сущее несчастье — родиться в семье героя.
— Понимаю, — сказал Даниель. — Твой отец — кадровый офицер.
— Офицер запаса, — поправил его Филипп. — Но он умер в
двадцать седьмом году от ран, полученных на войне: он был
отравлен газами за месяц до перемирия. Эта славная смерть ввела
мою мать в искушение: в 1933 году она снова вышла замуж — за
генерала.
— Она рискует разочароваться, — заметил Даниель. — Генералы
умирают в собственной постели.
— Только не этот, — с ненавистью сказал Филипп, — этот —
второй Байар*: он совокупляется, убивает, молится и ни о чем не
думает.
* Знаменитый французский полководец XV века.
802
Жан Поль Сартр
— Он на фронте?
— А где ж еще? Он должен сам стрелять из пулемета или
ползти наперерез врагу во главе своих соединений. Он не успокоится,
пока не перебьет всех людей до последнего.
— Он, наверное, брюнет, волосатый, с усами.
— Абсолютно точно, — сказал Филипп. — Женщины обожают
его, потому что от него несет козлом.
Они, глядя друг на друга, рассмеялись.
— У меня такое впечатление, что ты не очень-то его любишь, —
сказал Даниель.
— Я его ненавижу, — отчеканил Филипп.
Он покраснел и пристально посмотрел на Даниеля.
— У меня эдипов комплекс, — добавил он. — Типичный случай.
— Ты влюблен в свою мать? — недоверчиво спросил Даниель.
Филипп не ответил: у него был значительный и роковой вид.
Даниель наклонился вперед.
— А, может, в отчима? — мягко спросил он.
Филипп подскочил и побагровел; потом разразился смехом,
глядя Даниелю в глаза:
— Ну и шуточки у вас!
— Не сердись, — посмеиваясь, сказал Даниель — Так что из-за
него ты хотел покончить с собой?
Филипп снова засмеялся.
— Вовсе нет! Совершенно нет!
— Тогда из-за кого? Ты бежишь к Сене, потому что тебе не
хватило храбрости, и тем не менее заявляешь, что ненавидишь
храбрых. Ты боишься его презрения.
— Я боюсь презрения моей матери, — сознался Филипп.
— Твоей матери? Я уверен, что она к тебе снисходительна.
Филипп, не отвечая, закусил губу.
— Когда я положил руку тебе на плечо, ты сильно испугался, —
сказал Даниель. — Ты решил, что это он, не так ли?
Филипп встал, глаза его сверкали.
— Он... он поднял на меня руку.
— Когда?
— Еще не прошло и двух лет. С тех пор я все время чувствую его
за собой.
— Ты никогда не видел себя во сне голым в его объятиях?
— Вы с ума сошли! — искренне возмутился Филипп.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
803
— Во всяком случае, он явно держит тебя в руках. Ты на
четвереньках, генерал сидит на тебе верхом и заставляет тебя гарцевать,
как кобылу. Ты никогда не бываешь самим собой: то ты думаешь,
как он, а то наоборот. Пацифизм. Да тебе плевать на него. Ты бы о
нем и не подумал, не будь твой отчим военным.
Он встал и взял Филиппа за плечи.
— Хочешь, я тебя освобожу?
Филипп отстранился, он снова выглядел настороженным.
— Как вы это сделаете?
— Я тебе уже сказал, что многому могу научить тебя.
— Вы психоаналитик?
— Что-то вроде этого.
Филипп покачал головой.
— Предположим, что это правда, но с какой стати вы мной
заинтересовались? — спросил он.
— Видишь ли, я любитель человеческих душ, — улыбаясь,
ответил Даниель. И с волнением добавил: — Твоя душа должна быть
очаровательна, надо только освободить ее от всего, что ей мешает.
Филипп не ответил, казалось, он был польщен; Даниель сделал
несколько шагов, потирая руки.
— Пожалуй, — с веселым возмущением сказал он, — начнем с
ликвидации всех ценностей. Ты студент?
— Был им, — ответил Филипп.
— Юриспруденция?
— Литература.
— Очень хорошо. Тогда ты понимаешь, что я хочу сказать:
методическое сомнение, да? Систематическая безнравственность — как
у Рембо. Мы разрушаем все. Но не на словах: действиями. Все, что
ты заимствовал, рассеется как дым. Что останется, то и будешь ты.
Согласен?
Филипп с любопытством посмотрел на него.
— Ты в таком положении, что ничем не рискуешь, не так ли?
Филипп пожал плечами.
— Ничем.
— Превосходно, — сказал Даниель. — Я тебя принимаю. Мы
сейчас же начнем спускаться в ад. Но не советую, — добавил он,
бросая на него пронзительный взгляд, — полностью делать ставку
на меня.
— Не так уж я глуп, — парировал Филипп, отвечая на его
взгляд.
804
Жан Поль Сартр
— Ты излечишься, когда отбросишь меня, как ошметки, — сказал
Даниель, не спуская с него глаз.
— Разумеется, — откликнулся Филипп.
— Как старые ошметки! — смеясь, повторил Даниель.
Оба они засмеялись; Даниель наполнил стакан Филиппа.
— Сядем здесь, — вдруг предложила девушка.
— Почему здесь?
— Здесь мягче.
— Вот оно что, — сказал Пинетт. — Они любят, когда мягко, эти
барышни с почты.
Он снял китель и бросил его на землю.
— Вот, садись на китель — так помягче.
Они опустились на траву на краю пшеничного поля. Пинетт
сжал в кулак левую руку, уголком глаза наблюдая за девушкой,
сунул большой палец в рот и сделал вид, будто дует: его бицепс
вздулся, будто его накачали насосом, и девушка немного посмеялась.
— Можешь потрогать.
Она робко положила палец на руку Пинетта: мышца тут же
осела, и Пинетт зашипел, словно шар, выпускающий воздух.
— Ой! — произнесла девушка.
Пинетт повернулся к Матье:
— Представляешь себе, что бы выкинул Морон, если бы увидел,
как я без кителя сижу на обочине!
— Морону не до тебя, — ответил Матье, — он все еще
улепетывает.
— Если он улепетывает быстро, значит, я ему порядком
осточертел!
Наклонившись к барышне, он пояснил:
— Морон — это наш капитан. Он сейчас тоже на природе.
— На природе? — удивилась она.
— Да, он считает, что так лучше для здоровья. — Пинетт
ухмыльнулся. — Мы сами себе хозяева: некому больше нами командовать,
теперь делай что хочешь — если угодно, можно пойти в школу и
сделать бай-бай на постели капитана; вся деревня наша.
— Но ненадолго, — уточнил Матье.
— Тем более надо этим воспользоваться.
— Я предпочитаю остаться здесь, — сказала девушка.
— Но почему? Говорю тебе, никому до этого нет дела.
— В деревне пока еще есть люди.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
805
Пинетт высокомерно смерил ее взглядом:
— Ах да! Ты ведь служащая. Ты должна дрейфить перед
начальством. Нам же, — сказал он, улыбаясь Матье с продувным видом, —
не с кем церемониться, у нас ни кола ни двора. Ни стыда ни совести.
Мы уходим: вы же остаетесь, мы уходим, совсем уходим, мы
перелетные птицы, цыгане. Верно? Мы волки, хищные звери, мы злые
серые волки, ха!
Он сорвал травинку и пощекотал ею подбородок девушки; потом
запел, глубоко заглядывая ей в глаза и не переставая улыбаться:
— А кто боится большого серого волка?
Девушка покраснела, улыбнулась и запела:
— Только не мы! Только не мы!
— Ха! — обрадованно сказал Пинетт. — Ха, куколка! Ха, —
продолжал он с отсутствующим видом, — маленькая куколка,
маленькая куколка, мадемуазель Куколка!
Внезапно он замолчал. Небо было красным: на земле было
прохладно и сине. Под руками, под ягодицами Матье чувствовал
запуганную жизнь травы, насекомых и земли, большие шершавые
влажные волосы, полные вшей: под его ладонями была голая
тревога. Загнаны в угол! Миллионы людей загнаны в угол между
Вогезами и Рейном, они лишены возможности быть людьми; этот
заурядный лес переживет их, поскольку выжить в этом мире могли
только пейзаж, луг или какая-нибудь безличная сущность. Под
руками трава манила к себе, как самоубийство; трава и ночь,
которую она придавит к земле, и плененные мысли, которые бегут во
весь опор в этой ночи, и этот паук-сенокосец, качающийся рядом с
его башмаком, расколовшийся всеми своими огромными лапами и
вдруг исчезнувший. Девушка вздохнула.
— Что с тобой, малышка? — спросил Пинетт.
Она не ответила. У нее было благопристойное взволнованное
личико, длинный нос и маленький рот с немного оттопыренной
нижней губой.
— Что случилось? Ну, что случилось? Скажи мне, что?
Она молчала. В ста метрах от них, между солнцем и полем шли
четыре солдата, темные в золотой дымке. Один из них остановился
и повернулся на восток, стертый светом, не черный, а скорее
сиреневый на фоне багрового заката; он был с непокрытой головой.
Шедший следом наткнулся на него, подтолкнул вперед, и их торсы
поплыли над колосьями, как корабли; третий шел за ними, подняв
руки, отставший четвертый хлестал колосья тросточкой.
806
Жан Поль Сартр
— И тут они! — сказал Пинетт.
Он взял девушку за подбородок и посмотрел на нее: глаза ее
были полны слез.
— Да ты никак разнюнилась?
Он старался говорить с ней по-военному грубо, но ему не
хватало уверенности: с его детских губ слова слетали, пропитанные
пошлостью.
— Они сами из глаз льются, — сказала она.
Он привлек ее к себе.
— Ну, не надо плакать. Разве мы плачем? — смеясь, добавил он.
Она положила голову на плечо Пинетта, и он гладил ее по
волосам, вид у него был горделивый.
— Немцы вас уведут, — сказала она.
— Еще чего!
— Они вас уведут... — плача, повторила она.
Лицо Пинетта посуровело:
— Мне ничья жалость не нужна.
— Я не хочу, чтоб вас увели.
— Кто тебе сказал, что нас уведут? Ты просто увидишь, как
дерутся французы: ты будешь в первых рядах зрителей.
Она подняла на него большие расширенные глаза; ей стало до
того страшно, что она перестала плакать.
— Вам не нужно драться.
— Неужели?
— Вам не нужно драться, война закончилась.
Он насмешливо посмотрел на нее:
— Да что ты говоришь!
Матье отвернулся, ему хотелось уйти.
— Мы только вчера познакомились... — продолжала девушка.
Ее нижняя губа дрожала, она склоняла вытянутое лицо, у нее
был благородный, испуганный и печальный вид, как у лошади.
— ...а завтра... — сказала она.
— Ну, до завтра еще... — возразил Пинетт.
— До завтра только одна ночь.
— Вот именно: ночь, — сказал он, подмигивая. — Есть время
поразвлечься.
— Мне не хочется развлекаться.
— Тебе не хочется развлекаться? Это правда, что тебе не
хочется развлекаться?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
807
Она смотрела на него, не отвечая. Он спросил:
— Ты страдаешь?
Она продолжала смотреть на него, приоткрыв рот.
— Из-за меня? — спросил он.
Он наклонился к ней с немного суровой нежностью, но почти
сразу же выпрямился, скривив губы, у него был злой вид.
— Ну-ну! — сказал он. — Не надо печалиться, куколка: придут
другие. Одного потеряешь, десятерых найдешь.
— Другие мне не нужны.
— Ты передумаешь, когда их увидишь. Знаешь, они мировые
парни. И хорошо сложенные! Плечи широченные, бедра узкие!
— О ком вы говорите?
— О фрицах, конечно!
— Это не люди.
— А кто они такие, по-твоему?
— Для меня они животные.
Пинетт улыбнулся.
— Ты не права, — проговорил он степенно, сохраняя
объективность. — Это красивые парни и хорошие солдаты. Французов они
не стоят, но солдаты они что надо.
— Для меня они животные, — повторила она.
— Что ты заладила: «животные, животные», — сказал он ей, —
тебе же потом неловко будет, когда изменишь мнение. Пойми, это
победители. Выигрывает более сильный, с ним нельзя бороться,
нужно к нему приспособиться, и ты сама этого захочешь. Пойди-ка
спроси у парижанок! Поверь мне, они сейчас славно развлекаются!
Они воюют, задрав ноги кверху.
Девушка резко высвободилась.
— Вы мне противны!
— Какая муха тебя укусила, малышка? — спросил Пинетт.
— Я француженка! — гордо отчеканила девушка.
— Парижанки тоже француженки, но это им не мешает
развлекаться.
— Оставьте меня! — сказала она. — Я хочу уйти.
Пинетт побледнел и начал ухмыляться.
— Не сердитесь, — заговорил Матье. — Он просто хотел
подтрунить над вами.
— Он все врет, — возмутилась она. — За кого он меня
принимает?
808
Жан Поль Сартр
— Не очень-то приятно быть побежденным, — мягко сказал
Матье. — Нужно время, чтобы привыкнуть. Знаете, обычно он так
мил, этот ягненок.
— Ха! — отозвался Пинетт. — Ха! Ха!
— Он ревнует, — объяснил Матье.
— К ним? — смягчившись, спросила девушка.
— Конечно, он думает обо всех этих хлыщах, которые
попытаются ухаживать за вами, пока он будет бить щебень.
— Или лежать в земле, — осклабился Пинетт.
— Я вам запрещаю погибать! — воскликнула она.
Он улыбнулся.
— Ты говоришь, как женщина, — сказал он. — Как маленькая
девочка, как совсем крошка, — добавил он, щекоча ее.
— Злой, — вскрикивала она, извиваясь от щекотки, — Злой!
Злой!
— Не волнуйтесь из-за него, — раздраженно продолжал
Матье. — Все произойдет очень просто, к тому же у нас нет
боеприпасов.
Они одновременно повернулись к нему и бросили на него
одинаковый ненавидящий и протрезвевший взгляд, словно он помешал
им совокупляться. Матье сурово посмотрел на Пинетта; через
некоторое время Пинетт опустил голову и недовольно вырвал пучок
травы между своих коленей. По дороге фланировали солдаты, один
нес ружье, он, балагуря, держал его, как свечку.
— Что, слабо? — крикнул маленький брюнет, коренастый и
кривоногий.
Солдат взял обеими руками ружье за ствол, покачал с минуту,
точно клюшкой для гольфа, и сильно ударил прикладом по
булыжнику, который отскочил шагов на двадцать. Пинетт смотрел на их
забавы, нахмурив брови.
— Некоторые совсем распоясались, — заметил он.
Матье не ответил. Девушка положила руку Пинетта себе на
колени и потрогала ее.
— У вас обручальное кольцо, — сказала она.
— Ты что, раньше его не видела? — спросил он, немного сжимая
РУку.
— Видела. Вы женаты?
— Раз уж у меня обручальное кольцо.
— Понятно, — грустно сказала она.
— Смотри, что я сделаю со своим обручальным кольцом.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
809
Он, гримасничая, потянул себя за палец, сорвал кольцо и
зашвырнул его в пшеницу.
— Ой! — потрясенно охнула девушка.
Он взял со стола нож, у Ивиш шла кровь, он нанес себе сильный
удар в ладонь, жесты, жесты, маленькие потравы, вот к чему шло
дело, а я-то помышлял о свободе, он зевнул.
— Оно было золотое?
-Да.
Она приподнялась и легко поцеловала его в губы. Матье
выпрямился и сел.
— Я удаляюсь! — сказал он.
Пинетт беспокойно посмотрел на него.
— Останься еще немного.
— Я тут лишний.
— Останься же! — настаивал Пинетт. — Тебе ведь все равно
нечего...
Матье улыбнулся и показал на девушку:
— Она не очень-то хочет, чтоб я остался.
— Она? Ну, конечно, хочет, ты ей очень нравишься.
Он наклонился к ней и сказал ей настойчиво:
— Это друг. Он тебе нравится, правда?
— Да, — подтвердила девушка.
«Она меня ненавидит», — подумал Матье: и все же остался.
Время больше даже не текло, оно вздрагивало, опустившись на эту
рыжую долину. Слишком резкое движение — и к Матье, как
приступ застарелого ревматизма, снова вернутся его проблемы. Он лег
на спину. Небо, небо розовое и никакое; если бы можно было упасть
в небо! Делать нечего, мы создания низа, все зло идет оттуда.
Четыре солдата, которые шли вдоль хлебов, повернули вокруг
поля, чтобы выбраться на дорогу, и вышли гуськом на луг. Они
были из технической службы. Матье их не знал; капрал, шедший во
главе, был похож на Пинетта, он был тоже без кителя и расстегнул
гимнастерку на волосатой груди; следующий, загорелый брюнет,
набросил китель на плечи, в левой руке он держал колосок, правой
выбирал из него зерна; он перевернул ладонь, высунул язык и
движением головы подобрал эти маленькие золотые веретенышки.
Третий, более высокий и постарше остальных, расчесывал пальцами
светлые волосы. Солдаты шли медленно, мечтательно, с цивильной
гибкостью; блондин опустил руки, он перестал теребить волосы и
ласково провел руками по плечам и шее, как бы наслаждаясь ли-
810
Жан Поль Сартр
ниями своего тела, наконец выпрыгнувшего под солнце из
бесформенной военной упаковки. Они остановились почти одновременно,
один за другим, и посмотрели на Матье. Матье почувствовал, как
под взглядами этих юнцов он превращается в траву, он был лугом,
на который глазели животные. Брюнет сказал:
— Я потерял свою портупею.
Его голос не потревожил этот тихий нечеловеческий мир: это
было не слово, а всего лишь один из тех шелестов, из которых
состоит тишина. С губ блондина слетел такой же шелест:
— Не волнуйся, фрицы ее подберут.
Четвертый подошел бесшумно; он остановился, поднял лицо, и
оно отразило пустоту неба.
— Эх! — произнес он.
Он сел на корточки, сорвал мак и прикусил стебель. Вставая, он
увидел Пинетта, прижимавшего к себе девушку, и засмеялся:
— Лихая охота!
— Довольно лихая, — признал Пинетт.
— Делается прохладно, а?
— Это точно.
— Ну и пусть.
Четыре лица изобразили чисто французское понимание, потом
это выражение сменила полная праздность, и четверка, покачивая
головами, удалилась. «В первый раз за всю жизнь они отдыхают», —
подумал Матье.
Они отдыхали от форсированных маршей, от осмотров
обмундирования, от муштры, отпусков, от ожиданий, от надежд, они
отдыхают от войны и от прежней усталости: от мира. Среди хлебов,
на опушке леса, на окраине деревни отдыхают другие группки
солдат: по полю проходили вереницы выздоравливающих.
— Эй! Пирар!
Матье обернулся. Пирар, ординарец капитана Морона,
остановившись, мочился у обочины; он был бретонский крестьянин,
скаредный и грубый. Матье с удивлением посмотрел на него: закат
обагрил его землистое лицо, глаза были расширены, он утратил свое
недоверчивое и хитрое выражение; может быть, в первый раз он
смотрел на знаки, прочерченные в небе, и на таинственный шифр
солнца. Светлая струя лилась из его, казалось, забывшихся вокруг
ширинки рук.
— Эй! Пирар!
Пирар вздрогнул.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
811
— Что ты делаешь? — крикнул капрал.
— Дышу свежим воздухом.
— Ты мочишься, свинья! А здесь барышни.
Пирар опустил глаза на свои руки, изобразил удивление и
поспешно застегнулся.
— Я не нарочно, — оправдывался он.
— Я не в претензии, — сказала девушка.
Она свернулась клубочком на груди Пинетта и улыбнулась
капралу. Ее платье задралось, но она и не думала его одернуть;
сплошная невинность. Они смотрели на ее бедра, но по-доброму, с
грустным восхищением: это были ангелы, у них были отрешенные
взгляды.
— Ладно, — сказал брюнет. — Что ж, привет. Мы пойдем гулять
дальше.
— Аппетит нагуливаем, — смеясь, добавил высокий блондин.
— Приятного аппетита! — пожелал Матье.
Они засмеялись: все знали, что в деревне больше нечего было
есть — все резервы интендантства были разграблены в первые
утренние часы.
— Аппетита у нас хватает.
Они не двигались; они перестали смеяться, и в глазах капрала
мелькнула некая тревога: казалось, они боялись уходить. Матье
чуть не предложил им сесть.
— Пошли! — преувеличенно спокойным голосом сказал
капрал.
Они пустились в путь, направляясь к дороге; они уходили
быстро, словно ящерица, в прохладе вечера: через этот разрыв
вытекло немного времени, немцы существенно продвинулись,
железная пятерня сомкнулась на сердце Матье. Затем течение
остановилось, время вновь свернулось, остался только парк, в котором
прогуливались ангелы. «Как здесь пусто!» — подумал Матье. Кто-
то огромный вдруг убежал, оставив Природу под охраной солдат
второго года службы. Голос звучит под древним солнцем: умер
великий Пан, они ощущали такую же пустоту. Кто умер на этот
раз? Франция? Христианство? Надежда? Земля и поля тихо
возвращались к своей изначальной бесполезности; эти люди казались
лишними среди полей, которые они не могли ни обрабатывать, ни
защищать. Все выглядело новым, и, однако же, вечер был
окаймлен черной кромкой следующей ночи. Но в сердце этой ночи, быть
может, уже нацелилась на землю комета. Будут ли их бомбить?
812
Жан Поль Сартр
Кто может ждать от фрицев особых церемоний! Первый ли это
день замирения или последний? Хлеба, маки, чернеющие до
окоема, все, казалось, рождалось и умирало одновременно. Матье
пробежал взглядом эту безмятежную неопределенность и подумал:
«Это рай отчаяния».
— У тебя губы холодные, — сказал Пинетт.
Склонившись над девушкой, он целовал ее.
— Тебе зябко? — спросил он.
-Нет.
— Тебе нравится, когда я тебя целую?
— Да. Очень.
— Но тогда почему у тебя губы холодные?
— Правда, что фрицы насилуют женщин? — спросила она.
— Ты с ума сошла.
— Поцелуй меня! — страстно сказала она. — Не хочу больше ни
о чем думать...
Она обхватила руками голову Пинетта и, запрокидываясь,
увлекла его за собой.
— Куколка! — бормотал он. — Куколка!
Он сразу же навалился на нее, Матье не видел ничего, кроме их
волос в траве. Но почти сейчас же показалось лицо Пинетта, злая и
торжествующая маска; глаза бессмысленно и слепо смотрели на
Матье, они были переполнены одиночеством.
— Мой дорогой, иди ко мне, иди... — простонала девушка.
Но лицо Пинетта не опускалось, напряженное, белое, незрячее.
«Он делает мужскую работу», — подумал Матье, глядя в эти
потемневшие глаза. Пинетт всем телом навалился на женщину, он
вдавливал ее в землю, он сливал ее с землей, с колышущейся травой;
он покрыл луг, распластавшийся под его животом, она окликала его,
а он молча врастал в нее, она была водой, женщиной, зеркалом,
отражающим на всей своей поверхности целомудренного героя
будущих сражений, самца, славного непобедимого воина; Природа,
тяжело дышащая, опрокинутая навзничь, прощала ему все его
поражения, она шептала: «Мой дорогой, иди же ко мне, иди». Но Пинетт
намеревался играть в мужчину до конца, он упирался ладонями о
землю, и его укороченные руки казались плавниками, он
приподнимал голову над этой говорливой покорностью, он хотел внушать
восхищение, быть отражаемым, он алкал, чтобы его желали снизу,
в полутьме, безотчетно, он не хотел понять, что земля питает его
тело своим животным теплом, он готов был тревожно вплыть в
СМЕРТЬ В ДУШЕ
813
пустоту и подумать: «А что теперь?» Девушка обвила его шею
руками и надавила на затылок. Голова нырнула в блаженство, луг
замкнулся. Матье бесшумно встал и ушел; он пересек луг, он стал
одним из ангелов, которые прогуливались по еще светлой дороге
между пятнами тополей. Пара исчезла в черной траве; прошли
солдаты с букетами; один из солдат на ходу поднял букет к лицу,
погрузил нос в цветы, вдохнул свой досуг, свое горе, свою
никчемность, бесполезность. Ночь обгладывала листву, лица: все были
похожи друг на друга; Матье подумал: «И я на них похож». Он
прошелся еще немного, увидел, как зажглась звезда, и задел
незнакомого посвистывающего солдата. Тот обернулся, Матье увидел его
глаза, и они улыбнулись друг другу, это была вчерашняя улыбка,
улыбка братства.
— Прохладно, — сказал тот.
— Да, — отозвался Матье, — холодает.
Им не о чем было говорить, и солдат двинулся дальше. Матье
проводил его взглядом; неужели необходимо, чтобы люди все
потеряли, даже надежду, чтобы прочесть в их глазах, что человеку
что-то еще предстоит? Пинетт совокуплялся; Гвиччоли и Латекс,
мертвецки пьяные, валялись на полу в мэрии; одинокие ангелы
прогуливали по дорогам свою тоску: «Никому я не нужен». Он
опустился на землю на обочине дороги, потому что больше не знал,
куда идти. Ночь вошла ему в голову через рот, через глаза, через
ноздри, через уши: он был теперь никем и ничем. Больше чем
ничем — только несчастьем и ночью. Он подумал: «Шарло!» и вскочил
на ноги; он оставил Шарло наедине с его страхом, и ему стало
стыдно; я корчу из себя фаталиста перед этими пьяными свиньями, а в
это время Шарло там совсем один, он втихомолку трепещет, а ведь
я мог бы его приободрить.
Шарло сидел на том же самом месте: он склонился над книгой.
Матье подошел к нему и провел рукой по его волосам.
— Ты портишь себе глаза.
— Я не читаю, — сказал Шарло. — Я думаю.
Он поднял голову, и его толстые губы едва заметно
раздвинулись в улыбке.
— О чем ты думаешь?
— О своем магазине. Интересно, его разграбили?
— Маловероятно, — успокоил его Матье.
Он показал рукой на темные окна мэрии.
— Что они там делают?
814
Жан Поль Сартр
— Не знаю, — ответил Шарло. — Там давно уже тихо.
Матье сел на ступеньку.
— Не очень-то хороши наши дела, а?
Шарло грустно улыбнулся.
— Ты вернулся из-за меня? — спросил он.
— Мне тошно. Я подумал, что тебе, возможно, нужна компания.
Это бы меня устроило.
Шарло, не отвечая, покачал головой.
— Хочешь, чтобы я ушел? — спросил Матье.
— Нет, — сказал Шарло, — ты мне не мешаешь, но и помочь не
можешь. Что ты можешь сказать? Что немцы не дикари? Что
нужно сохранять мужество? Все это я и сам знаю.
Он вздохнул и осторожно положил книгу рядом с собой.
— Только если б ты был евреем, ты смог бы меня понять.
Он положил руку на колено Матье и извиняющимся тоном
пояснил:
— Это не я боюсь, это страшится внутри меня моя
национальность. С этим ничего не поделаешь.
Матье замолчал; они сидели бок о бок, молчаливые, один
растерянный, другой никому не нужный, они ждали, когда их поглотит
темнота.
Был тот час, когда предметы теряют свои очертания и тают в
зыбком тумане вечера; окна скользили в полутьме долгим, едва
приметным движением, комната была легкой шлюпкой, она блуждала;
бутылка виски казалась ацтекским божком, Филипп — длинным
бесцветным растением, чуждым опасений; любовь была гораздо
больше, чем любовь, и дружба была не совсем дружбой. Невидимый
в тени Даниель говорил о дружбе, он весь обратился в теплый и
спокойный голос. На минуту он остановился, переводя дыхание, и
Филипп воспользовался этим, чтобы сказать:
— Как темно! Вам не кажется, что можно бы зажечь свет?
— Если только не отключено электричество, — сухо сказал
Даниель.
Он неохотно встал: наступил момент подвергнуться испытанию
светом. Он открыл окно, склонился над пустотой и вдохнул фиалок
тишины: «Столько раз на этом самом месте я хотел бежать от себя
и слышал, как нарастают шаги, они шагали по моим мыслям». Ночь
была мягкой и дикой, плоть, столько раз растравляемая ночью,
понемногу зарубцевалась. Ночь полная и девственная, прекрасная
СМЕРТЬ В ДУШЕ
815
ночь без людей, превосходный красный апельсин без зернышек. Он
с сожалением закрыл шторы, повернул выключатель, и комната
возникла из мрака, предметы обрели свой облик. Лицо Филиппа
натолкнулось на глаза Даниеля, зрачки Даниеля отразили эту
шевелящуюся огромную голову, свежеподстриженную, перевернутую,
полные недоумения глаза были зачарованы Даниелем, словно
видели его впервые. «Нужно действовать осторожно», — подумал
Даниель. Он смущенно поднял руку, чтобы положить конец всей
этой фантасмагории, запахнул борта пиджака пальцами и
улыбнулся: он боялся быть изобличенным раньше времени.
— Что ты на меня так смотришь? Как по-твоему, я красивый?
— Да. Очень, — спокойно ответил Филипп.
Даниель обернулся и удовлетворенно увидел в зеркале свое
мрачноватое породистое лицо. Филипп потупился, он прыснул,
прикрыв рот ладошкой.
— Ты смеешься, как школьница.
Филипп осекся. Даниель недовольно спросил:
— Почему ты засмеялся?
— Просто так.
Он захмелел от вина, неуверенности, усталости. Даниель
подумал: «Он созрел. Если все делать как бы в шутку, похожую на
мальчишескую возню, малыш позволит опрокинуть себя на диван,
позволит ласкать, целовать за ухом: он будет защищаться только
безумным смехом». Даниель резко повернулся к нему спиной и прошелся
по комнате: «Нет, слишком рано, очевидно рано, без глупостей!
Завтра он снова попробует покончить с собой или попытается убить
меня». Перед тем как вернуться к Филиппу, он застегнул пиджак и
натянул его на бедра, чтобы скрыть очевидность своего волнения.
— Ну вот! — сказал он.
— Вот, — отозвался Филипп.
— Посмотри на меня.
Он погрузил свой взгляд в его глаза, удовлетворенно покачал
головой и медлительно произнес:
— Ты не трус, я в этом убежден.
Он выпрямил указательный палец и ткнул им Филиппа в
грудь.
— Как ты мог впасть в панику? Нет! Это на тебя не похоже. Ты
просто ушел; ты предоставил события самим себе. Почему ты
должен погибать за Францию? А? Почему? Тебе ведь наплевать на
Францию, а? Разве не так, маленький озорник?
816
Жан Поль Сартр
Филипп неопределенно покачал головой. Даниель снова стал
ходить по комнате.
— Теперь с этим покончено, — с веселым возбуждением
продолжал он. — Конечно. Баста. Тебе выпал шанс, которого у меня в
твоем возрасте не было. Нет, нет, — сказал он, живо взмахнув
рукой, — нет, нет, я не имею в виду нашу встречу. Твой шанс — это
историческое совпадение: ты хочешь подорвать буржуазную
мораль? Что ж, немцы пришли, чтобы помочь тебе. Ха! Ты увидишь,
как здесь пройдутся железной метлой; ты увидишь, как ползают на
брюхе отцы семейства, ты увидишь, как они лижут сапоги и
подставляют жирные зады под пинки победителей; ты увидишь своего
распластавшегося отчима: он — великий побежденный этой войны,
теперь ты сможешь его по-настоящему презирать.
Он хохотал до слез, повторяя: «Как здесь пройдутся железной
метлой!» — затем резко повернулся к Филиппу.
— Мы обязаны их любить.
— Кого? — испуганно спросил Филипп.
— Немцев. Они наши союзники.
— Любить немцев, — повторил Филипп. — Но я... я их не знаю.
— Терпение, скоро мы их узнаем: мы будем обедать у гауляйте-
ров, у фельдмаршалов; они будут возить нас в больших черных
«мерседесах», а парижане будут топать пешком.
Филипп подавил зевок; Даниель затряс его за плечи.
— Нужно любить немцев, — твердил он ему с напряженным
лицом. — Это будет твое первое духовное упражнение.
У мальчика был не слишком взволнованный вид; Даниель
отпустил его, раскинул руки и сказал лукаво и торжественно:
— Пришло время убийц!
Филипп снова зевнул, и Даниель увидел его заостренный
язык.
— Я хочу спать, — с извиняющимся видом сказал Филипп. —
Уже две ночи я не смыкаю глаз.
Даниель подумал было рассердиться, но он тоже устал, как
уставал после каждой новой встречи. Он так долго желал Филиппа,
что теперь чувствовал тяжесть в паху. И он заспешил остаться
один.
— Очень хорошо, — сказал он, — я тебя оставляю. Пижама лежит
в ящике комода.
— Не стоит труда, — вяло сказал мальчик, — мне нужно
возвращаться.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
817
Даниель, улыбаясь, посмотрел на него:
— Поступай, как хочешь; но ты рискуешь наскочить на патруль,
и кто знает, что они с тобой сделают: ты красив и привлекателен, а
немцы все любят мальчиков. И потом, даже если предположить, что
ты попадешь домой, ты там найдешь то, от чего хочешь бежать. На
стенах фотографии твоего отчима, а комната твоей матери
пропитана ее духами.
Филипп, казалось, не слышал его. Он попытался встать, но
снова упал на диван.
— А-а-а-х! — протяжно зевнул он.
Он посмотрел на Даниеля и с растерянным видом ему
улыбнулся:
— Наверное, мне лучше остаться.
— Тогда доброй ночи.
— Доброй ночи, — зевая, сказал Филипп.
Даниель пересек комнату, проходя мимо камина, он нажал на
лепное украшение, и полка книжного шкафа повернулась вокруг
своей оси, открыв ряд книг в желтых переплетах.
— Это — ад, — сказал он. — Позже ты все прочтешь: там
говорится о тебе.
— Обо мне? — не понимая, переспросил Филипп.
— Да. О тебе и твоей истории.
Он толкнул полку и открыл дверь. Ключ остался снаружи.
Даниель взял его и бросил Филиппу.
— Если боишься воров или привидений, можешь запереться, —
насмешливо сказал он.
Он закрыл за собой дверь, дошел в темноте до своей спальни,
зажег лампу у изголовья и сел на кровать. Наконец-то один! Шесть
часов ходьбы и еще четыре часа эта изматывающая роль злого
принца: «Я смертельно устал». Он вздохнул от удовольствия побыть
одному; радуясь, что его никто не слышит, он уютно застонал: «Как
же ломит яйца!» Пользуясь тем, что его наконец не видят, он сделал
плаксивую гримасу. Потом улыбнулся и откинулся назад, как в
хорошей ванной: он привык к этим долгим отвлеченным желаниям,
к этим бесплодным и скрытым эрекциям; он по опыту знал, что
будет меньше страдать, если ляжет. Лампа образовала круг света на
потолке, подушки были прохладными. Даниель, расслабленный,
полумертвый, улыбающийся, отдыхал. «Спокойно, спокойно: я
закрыл входную дверь на ключ, и он у меня в кармане; впрочем, он
рухнет от усталости, он будет спать до полудня. Пацифист: поду-
818
Жан Поль Сартр
мать только! В целом все прошло не слишком блестяще.
Определенно существовали ниточки, за которые следовало потянуть, но я
не смог их найти». Натаниели, Рембо — тут Даниель был мастак;
но новое поколение приводило его в замешательство: «Какая
странная смесь: нарциссизм и социальные идеи, это же
бессмысленно». Тем не менее в общих чертах все обернулось не так уж
плохо: мальчик был здесь, под замком. Если он будет сомневаться,
основательно разыграем карту последовательного распутства. Это
всегда немного захватывало, это льстило: «Ты будешь моим, —
подумал Даниель, — я уничтожу твои принципы, мой ангелочек.
Социальные идеи! Посмотрим, во что они превратятся!» Эта
остывшая горячность давила ему на желудок, и чтобы избавиться
от нее, он прибег к цинизму. «Будет превосходно, если я смогу
сохранить его надолго; я должен освободиться от узды, мне нужен
кто-то под рукой постоянно. Поиск юношей на ярмарках, в
заведениях и кафе типа «Графф и Тото», «Голубой дружок», «Мариус»,
«Особое чувство»: с этим покончено. Покончено с выжиданиями
на подходах к Восточному вокзалу, с тошнотворной
вульгарностью солдат-отпускников с грязными ногами: я остепеняюсь».
(Кончен Ужас!) Он сел на кровати и стал раздеваться. «Это будет
серьезная связь», — решил он. Ему хотелось спать, он был спокоен,
он встал, чтобы взять постельное белье, и убедился, что спокоен,
он подумал: «Любопытно, что я не испытываю тревоги». В этот
миг кто-то стал за его спиной, он обернулся, никого не увидел, и
ужас парализовал его. «Еще раз! Еще один раз!» Все начиналось
сызнова, он знал все наперечет, он мог все предвидеть, мог по
минутам рассказать обо всех несчастьях, которые его постигнут, о
долгих, долгих обыденных годинах, скучных и безнадежных,
которые его ждут, о позорном и мучительном конце: все это он знал.
Он посмотрел на закрытую дверь, он терзался, он думал: «На сей
раз я от этого околею», и во рту у него была желчь предстоящих
страданий.
— Хорошо горит! — сказал старик.
Все были на дороге — солдаты, старики, девушки. Учитель
тыкал тростью в сторону горизонта; на конце трости вращалось
рукотворное солнце, огненный шар, скрывающий бледную зарю. Это
горел Робервилль.
— Хорошо горит!
-Да! Да!
СМЕРТЬ В ДУШЕ
819
Старики топтались на месте, заложив руки за спину, и говорили:
«Да! Да!» низкими, спокойными голосами. Шарло выпустил руку
Матье и сказал:
— Какая беда!
Один старик ответил:
— Такая уж доля крестьянина. Когда нет войны, жди беды, от
града или мороза; для крестьян нет мира на земле.
Солдаты щупали в темноте девушек, понуждая их смеяться; за
спиной Матье слышал крики мальчишек, которые играли на
опустевших улицах деревни. Подошла женщина, на руках у нее был
ребенок.
— Это французы подожгли? — спросила она.
— Вы что, мамаша, тронутая? — сказал Люберон. — Это немцы.
Какой-то старик недоверчиво покачал головой:
— Немцы?
— Да-да, немцы, фрицы!
Старик, казалось, не слишком этому верил.
— В ту войну немцы уже приходили. И ничего особенного не
натворили: это были неплохие парни.
— С чего бы нам поджигать? — возмущенно спросил
Люберон. — Мы же не дикари.
— А зачем им поджигать? Где им тогда на постой становиться?
Бородатый солдат поднял руку:
— Это, наверное, нашим идиотам вздумалось пострелять. Если
у фрицев есть хоть один убитый, они сжигают всю деревню.
Женщина обеспокоенно повернулась к нему.
— А вы? — спросила она.
— Что мы?
— Вы-то не собираетесь наделать глупостей?
Солдаты расхохотались.
— Мы — другое дело! — убежденно сказал один из них. — С нами
можете считать себя в полной безопасности. Мы знаем, что к чему.
Они заговорщицки переглянулись:
— Мы знаем, что к чему, мы знаем песню.
— Вы думаете, мы станем искать ссоры с фрицами накануне
мира?
Женщина гладила головку ребенка: она неуверенно спросила:
— Значит, наступил мир?
— Да, мир, — убежденно сказал учитель. — Наступил мир. Вот
во что нужно верить.
820
Жан Поль Сартр
По толпе пробежала дрожь; Матье услышал за спиной робкое
дуновение почти радостных голосов:
— Это мир, мир!..
Они смотрели, как горел Робервилль, и повторяли друг другу:
война окончена, это мир; Матье посмотрел на дорогу: она
вырывалась из ночи на двести метров, текла в неясной белизне до его ног
и уходила омывать за его спиной дома с закрытыми ставнями.
Красивая дорога, полная случайностей и смертельная, красивая дорога,
во всяком случае, в одном направлении. Она вновь обрела
первозданную дикость античных рек: завтра она принесет в деревню
корабли, загруженные убийцами. Шарло вздохнул, и Матье, ничего
не сказав, сжал ему руку.
— Вот они! — сказал чей-то голос.
-Кто?
— Фрицы, говорю тебе: вот они!
Тень зашевелилась, солдаты-стрелки с ружьями в руках по
одному выходили из черной воды ночи. Они продвигались
медленно, осторожно, готовые стрелять.
— Вот они! Вот они!
Матье толкнули, сдвинули с места: широкое и беспорядочное
колебание началось в толпе вокруг него.
— Бежим, ребята! — крикнул Люберон.
— Ты что, спятил? Они нас увидели, остается только их ждать.
— Ждать их? А они в нас будут стрелять, да?
Толпа единодушно удрученно вздохнула; пронзительный голос
учителя прорезал ночь:
— Женщины — назад! Мужчины, бросьте винтовки, если они у
вас есть! И поднимите руки вверх.
— Вы, кретины! — закричал возмущенный Матье. — Вы что, не
видите, что это французы?
— Французы...
Все мгновенно остановились, затоптались на месте, потом кто-
то вслух усомнился:
— Французы? Откуда они взялись?
Это были французы, человек пятнадцать под командованием
лейтенанта, У них были почерневшие и суровые лица. Деревенские
жители выстроились по обочинам дороги и недружелюбно
смотрели, как проходит этот отряд. Французы, да, но они идут из чужих и
опасных мест. С ружьями. Ночью. Французы, которые выходят из
тени войны и приводят войну в это уже умиротворенное селение.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
821
Французы. Может быть, парижане или бордосцы; вовсе не немцы.
Они прошли между двумя изгородями из вялой враждебности, ни
на кого не глядя; вид у них был гордый. Лейтенант отдал приказ, и
они остановились.
— Какая здесь дивизия? — спросил он.
Он ни к кому лично не обращался. Все промолчали, и он
повторил вопрос.
— Шестьдесят первая, — неприязненно ответил кто-то.
— Где ваши командиры?
— Удрали.
-Что?
— Удрали, — повторил солдат с явной издевкой. Лейтенант
скривился и не стал настаивать.
— Где мэрия?
Шарло, как всегда предупредительный, приблизился:
— Слева, в конце улицы. Метров сто пройдете — там будет
мэрия.
Офицер резко обернулся к нему и смерил его взглядом:
— Что это за манера говорить со старшим по званию? Где ваша
выправка? Вы что, подавитесь, если скажете «господин
лейтенант»?
Несколько секунд царило молчание. Офицер смотрел Шарло в
глаза; вокруг Матье люди глазели на офицера. Шарло стал по
стойке смирно.
— Слушаюсь, господин лейтенант.
— Вот так.
Офицер обвел круг презрительным взглядом, подал знак, и
маленький отряд тронулся дальше. Люди молча смотрели, как он
углубляется в ночь.
— Значит, с офицерами еще не покончено? — огорченно спросил
Люберон.
— С офицерами? — повторил чей-то нервный и горький голос. —
Ты их не знаешь, они еще долго будут пудрить нам мозги.
Одна из женщин вдруг закричала:
— Неужто они собираются здесь сражаться?!
В толпе раздался смех, и Шарло добродушно сказал:
— О чем вы говорите, мамаша: они же не сумасшедшие.
Снова наступила тишина, все лица повернулись к северу. Робер-
вилль, одинокий, недосягаемый, уже почти мифический,
незадачливо горел в чужой стране, по другую сторону границы. Потасовка,
822
Жан Поль Сартр
бойня, пожар — все это годится для Робервилля, но с нами такого
случиться не может. Медленно, небрежно люди отделялись от
толпы и направлялись к деревне. Они возвращались, сейчас они
вздремнут, чтобы быть бодрыми, когда ранним утром притащатся фрицы.
«Какая гадость!» — подумал Матье.
— Ладно, — сказал Шарло, — я пойду.
— Ты идешь спать?
— Да, пожалуй.
— Хочешь, я пойду с тобой?
— Не стоит, — зевая, ответил Шарло.
Он удалился; Матье остался один. «Мы рабы, — подумал он, —
рабы». Но он не сердился на своих товарищей, они не виноваты:
десять месяцев отбыли они на каторжных работах, теперь менялась
власть, и они переходили в руки немецких офицеров, они будут
отдавать честь господину фельдфебелю и господину оберлейтенанту;
и тут не было большой разницы: каста офицеров интернациональна;
каторжные работы продолжаются, только и всего. «Я на себя
сержусь», — подумал Матье. Но он упрекал себя потому, что так можно
было поставить себя выше других. Снисходительный ко всем,
суровый к себе: еще одна уловка гордыни. Невиновный и виноватый,
слишком суровый и слишком снисходительный, бессильный и
ответственный, солидарный со всеми и отвергнутый каждым,
совершенно здравомыслящий и полностью одураченный, раб и господин.
Кто-то схватил его за руку. Это была девушка с почты. Ее глаза
горели.
— Помешайте ему, если вы его друг!
-А?
— Он хочет сражаться; помешайте ему!
Пинетт появился за ней, бледный, с потухшими глазами и злой
ухмылкой.
— Что ты хочешь делать, дуралей? — спросил Матье.
— Я же вам говорю, он хочет сражаться, я сама это слышала: он
подошел к капитану и сказал, что хочет сражаться.
— Какому капитану?
— Который только что прошел со своим отрядом.
Пинетт ухмылялся, заложив руки за спину:
— Это был не капитан, а лейтенант.
— Ты и вправду собираешься сражаться? — спросил у него
Матье.
— Вы все мне осточертели! — ответил Пинетт.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
823
— Вот видите! — воскликнула девушка. — Видите! Он сказал,
что хочет сражаться. Я сама слышала.
— Но откуда вы знаете, что тот отряд собирается сражаться?
— Значит, вы их не видели? Это ясно по их глазам. А он, —
сказала она, показывая пальцем на Пинетга, — он меня пугает, он
просто чудовище!
Матье пожал плечами.
— Что я должен сделать?
— Разве вы ему не друг?
— Разумеется, друг.
— Если вы его друг, вы должны ему сказать, что теперь у него
нет права погибать!
Она уцепилась за плечи Матье.
— Теперь у него нет на это права!
— Почему это?
— Вы прекрасно знаете.
Пинетт жестоко и вяло улыбнулся:
— Я солдат и обязан сражаться: солдаты для того и существуют.
— Тогда не нужно было меня соблазнять!
Она схватила его за руку и добавила дрожащим голосом:
— Ты мой!
Пинетт высвободился:
— Я ничейный!
— Нет, — настаивала она, — ты мой. — Она повернулась к Матье
и лихорадочно заговорила: — Ну втолкуйте же ему это! Объясните
ему, что теперь у него нет права погибать. Вы обязаны ему это
сказать!
Матье молчал: она наступала на него, лицо ее пылало; в первый
раз она показалась Матье привлекательной.
— Вы строите из себя его друга, но вам все равно, что с ним
произойдет!
— Нет, мне не все равно.
— По-вашему, правильно, если он побежит палить, как
мальчишка, по целой армии? И если бы это ему хоть что-то дало! Вам
ведь известно, что никто уже не сражается.
— Да, я знаю, — сказал Матье.
— Так чего же вы ждете? Скажите ему!
— Пусть он спросит мое мнение.
— Анри! Я тебя умоляю, попроси у него совета, он старше тебя,
он должен знать!
824
Жан Поль Сартр
Пинетт поднял руку, собираясь отказаться, но тут его осенило,
он опустил руку и с притворным видом сощурился, таким Матье
его еще не видел.
— Ты хочешь, чтобы я обсудил этот вопрос с ним?
— Да, потому что меня ты не слишком любишь и не слушаешь.
— Ладно. Согласен. Но тогда уйди.
— Почему?
— Я не хочу ничего обсуждать при тебе.
— Но почему?
— Потому! Это не женское дело.
— Это мое дело, потому что речь идет о тебе.
— Черт! — крикнул Пинетт, выведенный из себя. — Ты мне
надоела!
Он ткнул Матье локтем в бок. Матье быстро сказал:
— Вы можете никуда не уходить, мы с ним пройдемся по дороге,
а вы подождите нас здесь.
— Да, а потом вы не вернетесь.
— Ты рехнулась! — сказал Пинетт. — Куда мы можем уйти? Мы
будем в двадцати метрах от тебя, ты сможешь нас все время
видеть.
— А если твой друг посоветует тебе не сражаться, ты его
послушаешь?
— Конечно, — ответил Пинетт. — Я всегда делаю так, как он
скажет.
Она повисла на шее у Пинетта.
— Поклянись, что вернешься! Даже если решишь сражаться?
Даже если твой друг тебе это посоветует? Что угодно, только бы
увидеть тебя! Клянешься?
— Да, да, да.
— Скажи, что клянешься! Скажи: я клянусь.
— Клянусь, — сказал Пинетт.
— А вы, — обратилась она к Матье, — вы клянетесь мне его
привести?
— Естественно.
— Постарайтесь побыстрее, — просила она, — и не уходите
далеко.
Они сделали несколько шагов по дороге в направлении Робер-
вилля; кустарники и деревья выступали из темноты. Через
некоторое время Матье оглянулся: прямая, напряженная, почти скрытая
СМЕРТЬ В ДУШЕ
825
ночью, девушка старалась различить их в сумерках. Еще шаг — и
она полностью стерлась. В этот момент она крикнула:
— Не уходите слишком далеко, я вас больше не вижу!
Пинетт начал смеяться; он рупором приложил ладони ко рту и
затрубил:
— Ого! Ого-го! Ого-го-го!
Они пошли дальше. Пинетт все еще смеялся:
— Она хотела убедить меня, будто она девственница; потому и
весь шум.
— Понятно.
— Но это она так говорит. Я что-то этого не заметил.
— Бывают такие девушки: думаешь, что они врут, а потом
оказывается, что они и на самом деле девственницы.
— Рассказывай! — ухмыляясь, усомнился Пинетт.
— Такое случается.
— Скажешь тоже! Но даже если и так, то навряд ли такое
странное совпадение произошло именно со мной.
Матье улыбнулся, не отвечая; Пинетт боднул головой пустоту.
— И потом, пойми: я ведь ее не изнасиловал. Когда девушка
серьезная, ты можешь сколько угодно кобелиться. Взять, к примеру,
мою жену, мы оба умирали от желания, но до самой брачной ночи
все было чисто.
Он рубанул воздух рукой:
— Ну хватит об этом — у девчонки в одном месте свербило, и я
считаю, что оказал ей услугу.
— А если ты сделал ей ребенка?
— Я? — изумился Пинетт. — Скажешь тоже! Ты меня не знаешь!
Я мужик правильный. Моя жена не хотела детей, потому что мы
бедны, и я научился владеть собой. Нет, — сказал он, — нет. Она
получила свое удовольствие, я — свое: мы квиты.
— Если у нее это действительно в первый раз, — сказал Матье, —
едва ли она получила такое уж удовольствие.
— Что ж, тем хуже для нее! — сухо сказал Пинетт. — Тогда она
сама виновата.
Оба замолчали. Через некоторое время Матье поднял голову,
пытаясь в темноте поймать взгляд Пинетта.
— Это правда, что они будут сражаться?
— Правда.
— В деревне?
826
Жан Поль Сартр
— А где ж еще?
Сердце Матье сжалось. Он вдруг подумал о Лонжене, который
блюет под деревом, о Гвиччоли, который валяется на полу, о Любе-
роне, который, глядя, как горит Робервилль, кричал: «Наступил
мир!» Матье зло засмеялся.
— Почему ты смеешься?
— Да ребята еще не знают, — сказал Матье. — То-то для них
будет сюрприз.
— Еще бы!
— Лейтенант согласен тебя взять?
— Да. Если у меня будет с собой винтовка. Он мне так и сказал:
«Приходи, если у тебя есть винтовка».
— Ты твердо решил?
Пинетт свирепо засмеялся.
— Но послушай... — начал было Матье.
Пинетт резко повернулся к нему:
— Я совершеннолетний. И не нуждаюсь в советах.
— Ладно, — сдался Матье. — Что ж, вернемся.
— Нет, — отрезал Пинетт, — иди вперед!
Они сделали еще несколько шагов. Вдруг Пинетт сказал:
— Прыгай в кювет!
-Что?
— Давай! Прыгай!
Они прыгнули, вскарабкались на насыпь и очутились среди
хлебного поля.
— Слева есть тропинка, она ведет в деревню, — объяснил
Пинетт.
Матье споткнулся и упал на колено.
— Мать твою так! — выругался он. — В какую глупость ты
хочешь меня втравить?
— Не могу больше видеть ее рожу, — ответил Пинетт.
С дороги до них донесся женский голос:
— Анри! Анри!
— Вот пристала! — чертыхнулся Пинетт.
— Анри! Не бросай меня!
Пинетт потянул Матье за руку, и они распластались меж
колосьев; было слышно, как девушка бежит по дороге; колос царапнул
щеку Матье, какая-то мелкая зверушка юркнула между его рук.
— Анри! Не бросай меня, делай что хочешь, только не бросай
меня, вернись! Анри, я буду молчать, обещаю тебе, только вернись,
СМЕРТЬ В ДУШЕ
827
не бросай меня так! Анри-и-и-и! Не бросай меня, не поцеловав на
прощание!
Девушка, задыхаясь, прошла совсем рядом с ними.
— К счастью, еще нет луны, — прошептал Пинетт.
Матье вдыхал сильный запах земли; под его руками земля была
влажной и мягкой, он слышал хриплое дыхание Пинетта и думал:
«Они будут сражаться в деревне». Девушка крикнула хриплым от
волнения голосом еще два раза и вдруг повернулась и побежала в
противоположном направлении.
— Она тебя любит, — сказал Матье.
— Ну и хрен с ней! — ответил Пинетт.
Они встали, на северо-востоке, над колосьями, Матье увидел
мигающий огненный шар. «Если у фрицев есть хоть один убитый,
они все сожгут».
— Ну что? — с вызовом спросил Пинетт. — Не хочешь пойти ее
утешить?
— Она меня раздражает, — ответил Матье. — И потом, в любом
случае трахальные истории меня сегодня не увлекают. Но ты
напрасно трахнул ее, если тут же ее бросаешь.
— К черту! — взвился Пинетт. — Тебя послушать, так я всегда
не прав.
— Вот тропинка, — сказал Матье.
Какое-то время они шли молча, затем Пинетт заговорил:
— Луна!
Матье поднял голову и увидел другой огонь на горизонте — это
был серебристый пожар.
— Из нас хорошая мишень получается! — сказал Пинетт.
— Во всяком случае, — проговорил Матье, — не думаю, что они
появятся раньше, чем утром.
Через некоторое время, не глядя на Пинетта, он добавил:
— Вас ухлопают всех до единого.
— Что ж, война идет, — хрипло ответил Пинетт.
— Как раз нет, — сказал Матье, — как раз война больше не
идет.
— Перемирие пока не подписано.
Матье взял Пинетта за руку и легко пожал ее пальцами; рука
была ледяной.
— Ты уверен, что хочешь вот так погибнуть?
— Я не хочу погибать, я хочу убить хоть одного фрица.
— Это почти одно и то же.
828
Жан Поль Сартр
Пинетт, не отвечая, высвободил руку. Матье хотел заговорить,
у него мелькнуло: «Он погибнет ни за что», и сердце сжалось. Но
вдруг ему стало холодно, и он промолчал: «А по какому праву я
должен ему мешать? Что я могу ему предложить?» Он повернулся
к Пинетту и тихо свистнул: Пинетт был вне досягаемости; он
вслепую шел в свою последнюю ночь; он шел, но не продвигался — он
уже пришел; его смерть и его рождение соединились, он еще шел
под луной, а солнце уже освещало его раны. Пинетт перестал бежать
за самим собой, он весь сосредоточился в себе самом, весь целиком,
кряжистый и обтекаемый. Матье вздохнул и молча взял его за руку,
взял за руку молодого служащего метро, благородного, мягкого,
отважного и нежного, убитого 18 июня 1940 года. Он ему
улыбнулся из глубины прошлого. Пинетт улыбнулся ему в ответ. Матье
увидел его улыбку и ощутил себя страшно одиноким. «Чтобы
разбить раковину, отделяющую его от меня, нужно не желать никакого
иного будущего, кроме его будущего, никакого иного солнца, кроме
того, которое он увидит завтра в последний раз; чтобы жить
одновременно каждую минуту, нам нужно обоим хотеть умереть одной
и той же смертью». Он медленно сказал:
— В сущности, я должен был бы идти на бойню вместо тебя.
Потому что мне больше незачем жить.
Пинетт весело посмотрел на него; они вновь стали почти
ровесниками.
— Тебе?
— Да, мне. Я ошибся с самого начала.
— Что ж, — проговорил Пинетт. — Тебе остается только пойти
со мной. Все стираем и начинаем снова.
Матье улыбнулся.
— Все стираем, но ничего не начинаем снова, — сказал он.
Пинетт обнял его за шею.
— Деларю, дружочек, — горячо зашептал он, — пошли со мной,
пошли. Знаешь, мне доставит удовольствие, если мы будем рядом:
других я не знаю.
Матье колебался: умереть, перейти в вечность из этой
исчерпанной жизни, умереть вдвоем... Он покачал головой:
-Нет.
— Что нет?
— Я не хочу.
— Трусишь?
— Нет, просто, по-моему, это глупо.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
829
Рассечь руку ножом, забросить свое обручальное кольцо в поле,
постреливать во фрицев — а что дальше? Крушить, увечить: нет, это
не выход; безрассудный поступок — это не свобода. Если бы только
я мог быть смиренным.
— Почему это глупо? — раздраженно спросил Пинетт. — Я хочу
убить фрица; в этом нет ничего глупого.
— Ты можешь убить их хоть сто, война все равно проиграна.
Пинетт ухмыльнулся:
— Но я спасу свою честь!
— Перед кем?
Пинетт шел молча, опустив голову.
— Даже если тебе воздвигнут памятник, — сказал Матье, — даже
если положат твой прах под Триумфальной аркой, разве это стоит
того, чтобы сгорела вся деревня?
— Пускай горит! — разозлился Пинетт. — На то и война!
— Но там женщины и дети.
— Им просто нужно удрать в поле. Эх! — сказал он с дурацким
видом. — Да пропади все пропадом!
Матье положил ему руку на плечо:
— Так-то ты любишь свою жену?
— А при чем здесь моя жена?
— Подумай о ней, ведь ты погибнешь.
— Отстань! — крикнул Пинетт. — Мне надоела твоя лобуда. Если
это последствия твоего образования, то я рад, что у меня его нет.
Они достигли первых домов деревни; Матье вдруг тоже
сорвался на крик.
— Мне надоело! — проорал он. — Мне надоело! Надоело!
Пинетт остановился и взглянул на него:
— Что это на тебя нашло?
— Ничего, — ошарашенно ответил Матье. — Крыша поехала.
Пинетт пожал плечами.
— Нужно зайти в школу, — сказал он. — Винтовки в учебном
кабинете.
Дверь была открыта; они вошли. На плиточном полу вестибюля
спали солдаты. Пинетт достал фонарик; на стене обозначился
светящийся круг.
— Это здесь.
Винтовки были свалены в кучу. Пинетт взял одну, долго изучал
ее при свете фонарика, взял другую, старательно осмотрел и ее.
Матье было стыдно, что он сорвался: нужно сохранять хладнокро-
830
Жан Поль Сартр
вие и трезвый рассудок. Беречь себя для чего-то дельного.
Безрассудные поступки ни к чему не ведут. Он улыбнулся Пинетту.
— У тебя такой вид, будто ты сигару выбираешь.
Довольный выбором, Пинетт повесил винтовку на плечо.
— Я беру эту. Пошли отсюда.
— Дай-ка мне твой фонарик, — попросил Матье.
Он провел лучом фонарика по куче винтовок: у них был
скучный, казенный вид, как у пишущих машинок. Трудно было
поверить, что такая штука может быть смертоносной. Он наклонился и
взял первую попавшуюся.
— Что ты делаешь? — удивился Пинетт.
— Сам видишь, — ответил Матье. — Беру винтовку.
— Нет, — сказала женщина, захлопнув у него перед носом
дверь.
Он, опустив руки, остался на крыльце с удрученным видом,
который напускал на себя, когда не мог больше внушить кому-то
робость, он прошептал: «Старая ведьма», достаточно громко, чтобы
я его услышала, но достаточно тихо, чтобы не услышала его она, нет,
мой бедный Жак: что угодно, но не «старая ведьма». Опусти, сейчас
же опусти свои голубые глаза, посмотри себе под ноги —
справедливость, твоя красивая мужская игрушка, разбилась вдребезги,
возвращайся к машине своим бесконечно скорбным шагом, я знаю:
добрый Бог тебе кое-что задолжал, но вы разберетесь в день
Страшного суда (он возвратился к машине своим бесконечно скорбным
шагом). Что касается «старой ведьмы», то тут было бы что-то
другое, Матье сказал бы: «старая перечница», «старая мымра», «старая
калоша», но не «старая ведьма», ты завидуешь его словечкам; нет,
Матье ничего не сказал бы, люди открыли бы нам двери и уступили
бы кровати, простыни, рубашки, он сел бы на краю постели,
положив плашмя большую руку на красное стеганое одеяло, и, краснея,
сказал бы: «Одетта, нас принимают за мужа и жену», а я бы ничего
не ответила, он бы предложил: «Я лягу на полу», а я бы сказала:
«Нет, не надо, ночь так коротка, не надо, ляжем в одной постели»;
иди, Жак, закрой мне глаза, раздави мою мысль, заполни меня, будь
властным, требовательным, жадным, только не оставляй меня с ним
наедине, он пришел, он спустился по ступенькам, такой
прозрачный, такой предрекаемый, что походил на воспоминание, ты
потянешь носом, подняв правую бровь, ты побарабанишь по капоту, ты
пристально посмотришь на меня, он по-своему потянул носом, по-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
831
своему приподнял бровь, у него свой глубокий и задумчивый
взгляд, он был здесь, он склонился над ней: он плавал в этой
большой грубой ночи, которую она ласкала кончиками пальцев, он
плавает, непрочный, обычный, стародавний, я вижу сквозь него
темную крепкую ферму, дорогу, бродячую собаку, все ново, кроме
него, это не муж, это общая идея; я его зову, но он не спешит на
помощь. Она улыбается ему, потому что им всегда нужно улыбаться,
она предлагает ему спокойствие и ласковость природы, доверчивое
жизнелюбие счастливой женщины; снизу она растворилась в ночи,
как бы рассеялась в этой огромной женской ночи, которая таилась
где-то в ее сердце: Матье; он не улыбнулся, он потер нос, этот жест
он позаимствовал у брата, она вздрогнула: «Откуда эти мысли, я
сплю на ходу, я еще не превратилась в циничную старуху, мне
просто приснилось», слова исчезли в глубине ее горла, все забыто, на
поверхности ничего не осталось, только их обоюдная спокойная
общность. Одетта весело спросила:
— Ну как?
— Ни в какую. Они утверждают, что у них нет риги, но я-то ее
видел, их ригу. Она там, в глубине двора. Неужели я похож на
разбойника с большой дороги?
— Знаешь, — сказала она, — после четырнадцати часов поездки
мы навряд ли так уж хорошо выглядим.
Он более внимательно посмотрел на нее, и под его взглядом она
почувствовала, что нос ее загорается, как фара; сейчас он скажет,
что у меня покраснел нос. Он сказал:
— У тебя мешки под глазами, бедняжка моя. Ты, должно быть,
очень устала.
Она живо вытащила из сумочки пудреницу и внимательно
посмотрелась в зеркальце, от моего вида испугаешься: при свете луны
лицо ее казалось изукрашенным темными пятнами; некрасивость
еще ладно, но грязь она ненавидела.
— Что будем делать? — спросил Жак в замешательстве.
Она вынула пуховку и слегка провела ею по скулам и под
глазами.
— Что хочешь, — сказала она.
— Я спрашиваю у тебя совета.
Он на лету схватил руку, которая держала пуховку, и, властно
улыбаясь, остановил ее. Я прошу у тебя совета, на этот раз я прошу
у тебя совета, каждый раз, как я прошу у тебя совета, мой бедный
друг, ты же знаешь, что все равно сделаешь иначе. Чтобы сформу-
832
Жан Поль Сартр
лировать свое мнение, ему необходимо критиковать мнение
других.
Она предложила наугад:
— Поедем дальше, может быть, встретим более любезных людей.
— Большое спасибо! Хватит и этих. Фу! — зло фыркнул он. —
Ненавижу крестьян.
— Тогда, может быть, будем ехать всю ночь?
Жак сделал большие глаза:
— Всю ночь?
— Завтра мы были бы в Гренобле, мы могли бы отдохнуть у
Блерьо, двинуться в путь после полудня и переночевать в Кастел-
лане, а послезавтра быть в Жуане.
— И не думай об этом!
Он напустил на себя серьезность и добавил:
— Я страшно устал. Я усну за рулем, и мы проснемся в кювете.
— Я могу тебя сменить.
— Дорогая, уясни наконец, что я никогда не позволю тебе вести
машину ночью. С твой близорукостью это было бы убийством.
Дороги забиты телегами, грузовиками, автомобилями, а ведут их
люди, которые никогда не сидели за рулем и теперь от страха
побежали куда глаза глядят. Нет, нет, тут нужна мужская реакция.
Открылись ставни, и в окне возникло чье-то лицо.
— Дадите вы нам спокойно поспать? — раздался грубый
голос. — Поищите другое место для болтовни, черт бы вас побрал!
— Благодарю вас, — сказал Жак с оскорбительной иронией, —
вы очень любезны и гостеприимны.
Он сел в машину, хлопнул дверцей и резко газанул. Одетта
покосилась на него: лучше было молчать; Жак гнал машину со
скоростью восемьдесят километров в час, потушив все огни, так как он
опасался воздушного налета. К счастью, было полнолуние; ее вдруг
бросило к дверце.
— Что ты делаешь?
Он, почти не притормозив, бросил машину на поперечную
дорогу. Они ехали еще некоторое время, потом Жак резко затормозил
и поставил машину в конце дороги под густыми деревьями.
— Мы будем спать здесь.
— Здесь?
Он открыл дверцу и, не отвечая, вышел. Она выскользнула за
ним, воздух был довольно прохладным.
— Ты хочешь спать снаружи?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
833
-Нет.
Она с вожделением посмотрела на черную мягкую траву,
наклонилась и потрогала ее, как воду.
— Послушай, Жак! Нам будет так хорошо; можно вынести из
машины одеяла и подушку.
— Нет, — повторил он. И твердо добавил: — Мы будем спать в
машине, неизвестно, кто сейчас бродит по дорогам.
Она смотрела, как он, заложив руки в карманы, ходит взад-
вперед молодым пританцовывающим шагом; дьявольская скрипка
играет в деревьях, Жак вынужден прыгать и танцевать в такт этой
мелодии. Он повернул к ней озабоченное и постаревшее лицо,
взгляд его блуждал. «У него неуверенный вид; кажется, ему
стыдно». Он вернулся к машине, и молодость и горячность магического
инструмента завладели им, он явно взбодрился. «Знаю, он
ненавидит спать в машине. Но кого он наказывает? Себя или меня?»
Она чувствовала себя виноватой, не зная почему.
— Отчего у тебя такое лицо? — спросил он. — Мы на больших
неоглядных дорогах, нас ждут приключения: чем ты недовольна?
Она опустила глаза: «Я не хотела уезжать, Жак, я не боюсь
немцев, я хотела остаться дома; если война продлится, мы будем
отрезаны от Матье, мы даже не будем знать, жив ли он». Она сказала:
— Я думаю о своем брате и о Матье.
— В данный момент, — с горькой улыбкой сказал Жак, — Рауль
в Каркассоне, в своей постели.
— Но Матье...
— Вбей себе в голову, — ответил Жак раздраженно, — что мой
брат поступил на нестроевую службу и, следовательно, не
подвергается никакой опасности. Он попадет в плен, только и всего. Ты
воображаешь, что все солдаты герои. Увы, мой бедный дружок,
Матье сейчас марает бумагу в каком-нибудь штабе; там так же
спокойно, как в тылу; может быть, он даже в большей безопасности, чем
мы в данный момент. На их жаргоне это называется «блиндаж».
Впрочем, я только радуюсь за него.
— Быть пленным нелегко, — сказала Одетта, не поднимая глаз.
Он важно посмотрел на нее:
— Не заставляй меня говорить то, чего я не говорил! Судьба
Матье меня весьма волнует. Но по характеру он основательный и
расторопный. Да, да, гораздо расторопнее, чем ты думаешь — у него
повадки рассеянного чудака, но я его знаю лучше, чем ты: во всех
его постоянных смятениях есть доля позы, он постоянно играет
834
Жан Поль Сартр
роль; очутившись в плену, он найдет себе хорошее местечко, я в этом
уверен, он станет секретарем у какого-нибудь немецкого офицера
или же будет поваром... это будет как раз по нему. — Он улыбнулся
и с готовностью продолжил: — Поваром, да, поваром; это как раз по
нему! Если хочешь понять сущность моей мысли, — доверительно
добавил он, — я считаю, что плен пойдет ему на пользу; он оттуда
вернется совсем другим человеком.
— Сколько времени это продлится? — сдавленно спросила
Одетта.
— Откуда мне знать?
Он покачал головой и добавил:
— Одно могу тебе сказать: не думаю, чтобы война продлилась
долго. Ближайшая цель немцев — Англия... а Ла-Манш очень узок...
— Англичане будут защищаться, — сказала Одетта.
— Конечно, конечно. — Он сокрушенно развел руками. — Я не
уверен, должны ли мы этого желать.
А чего мы должны желать? Чего должна желать я? Сначала все
казалось таким простым: она думала, что следует желать победы,
как в 1914 году. Но победы, казалось, никто не хочет. Она весело
улыбнулась, когда увидела, как ее мать улыбалась при новостях о
наступлении на Нивелль, она настойчиво повторяла: «Да, мы
победим! Определенно, мы просто не можем не победить». Это
чувство внушало ей отвращение к себе самой, потому что она
ненавидела войну, даже победоносную. Но люди в ответ на ее рассуждения
молча качали головами, словно она проявляла бестактность. Тогда
она замолчала и постаралась, чтобы о ней все забыли; она слушала,
как они говорили о Германии, об Англии, о России, ей не удавалось
понять, чего они хотят; она думала: «Будь он рядом, он бы мне все
объяснил». Но его рядом не было, он даже не писал: за девять
месяцев он прислал Жаку два письма. Что он думает? Он должен
знать, он должен понимать. А если и он не понимает? Если никто
не понимает? Она резко подняла голову, она рассчитывала, что у
Жака будет тот вид сытой уверенности, который иногда ее еще
успокаивал, она хотела бы прочесть в его взгляде, что все идет
хорошо, что у людей есть доводы, от нее ускользающие. На что
надеяться? Разве победа союзников действительно на руку одной
России? Она вопрошала это слишком знакомое лицо, и вдруг оно ей
показалось новым: она увидела его глаза, потемневшие от волнения;
в уголках губ затерялась толика надменности, но это была
надменность сконфуженного ребенка, пойманного с поличным. «Что-то с
СМЕРТЬ В ДУШЕ
835
ним происходит, ему не по себе». Со времени их отъезда из Парижа
он был какой-то странный, то слишком вспыльчивый, то слишком
мягкий. Ее ужасало, когда мужчины выглядели виноватыми. Жак
сказал:
— До смерти хочется курить.
— У тебя нет сигарет?
-Нет.
— Держи. У меня есть еще четыре.
Это были «Де Резски»; он покривился и неохотно взял.
— Солома! — сказал он, кладя пачку в карман.
При первой его затяжке Одетта вдохнула запах табака: желание
курить высушило ей горло. Долгое время, когда она уже перестала
его любить, ей еще нравилось чувствовать жажду, когда он пил
рядом с ней, голод, когда он ел, желание спать, когда он спит рядом,
это ее успокаивало; он присваивал ее желания, освящал их и
удовлетворял способом более мужским, более нравственным и более
решительным. А теперь...
Она, усмехнувшись, попросила:
— Дай мне по крайней мере одну.
Он, не понимая, посмотрел на нее, потом поднял брови:
— Ой! Прости, бедняжка моя, я сунул их в карман машинально.
Он вынул пачку.
— Оставь ее себе, — сказала она, — дай мне одну.
Они молча курили. Одетта боялась самой себя; она вспоминала
страстные и непреодолимые желания, томившие ее, когда она была
молодой. Может быть, они вернутся. Жак два-три раза кашлянул,
чтобы прочистить горло: «Он собирается со мной говорить. Но он,
как всегда, не спешит». Одетта терпеливо курила: «Он вползет в
тему разговора, как краб, боком». Жак выпрямился, придал лицу
соответствующее выражение и сурово посмотрел на нее.
— Бедная моя Одетта! — сказал он.
Она принужденно улыбнулась ему; он положил ей руку на
плечо.
— Теперь ты должна признать, что мы совершили безрассудный
поступок.
— Да, — сказала она. — Да, это был безрассудный поступок.
Он неотрывно смотрел на нее. Потом потушил сигарету о
ступеньку машины и раздавил окурок ногой; он подошел к Одетте и
сказал настойчиво, как бы желая убедить ее в справедливости своих
слов:
836
Жан Поль Сартр
— Нам ровным счетом ничто не угрожает.
Она не ответила; он продолжал в наставительной, но мягкой
манере:
— Я уверен, что немцы поведут себя безупречно; они просто
посчитают это своим долгом.
Именно так Одетта всегда и думала. Но она прочла в глазах
Жака ожидание: он ждал от нее опасения. Она сказала:
— Но разве узнаешь заранее? А если они предали Париж огню
и мечу?
Он пожал плечами:
— С чего бы это? Вот уж эти дамские страхи!
Он наклонился и терпеливо объяснил ей:
— Постарайся понять, Одетта: в Берлине скорее всего захотят
сразу же после перемирия сделать Францию одним из партнеров
оси Рим — Берлин — Токио; возможно, там рассчитывают на наш
авторитет в Америке, чтобы удержать Соединенные Штаты от
участия в войне. Ты меня внимательно слушаешь? Короче говоря, даже
разбитые, мы имеем определенные козыри. К тому же, — добавил
он со смешком, — представятся возможности и для наших
политиков, если они еще не утратили своих амбиций. Итак, в этих
условиях просто невозможно представить себе, чтобы немцы рискнули
пойти на бессмысленную жестокость и восстановили против себя
французское общественное мнение.
— Я тоже так думаю, — ответила Одетта не без раздражения.
-Да?
Он посмотрел на нее, прикусив губу; вид у него был настолько
смущенный, что она поспешно добавила:
— Но все же откуда такая уверенность? Вообрази, что в них
начнут стрелять из окон...
Глаза Жака сверкнули:
— Если бы существовала опасность, я бы, конечно, остался в
Париже; я смирился с отъездом, ибо был убежден, что оснований
для тревоги нет.
Одетта вспомнила, как он с демонстративным хладнокровием
вошел в гостиную и степенно сказал, дрожащей рукой прикуривая
сигарету: «Собирай вещи, машина внизу, через полчаса мы
уезжаем». Куда он клонит? Жак слегка ухмыльнулся.
— И потом, — как бы заключил он, — бежать — значит покинуть
свой пост.
— Но у тебя не было никакого поста.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
837
— Ты забыла, что я ответственный по кварталу, — сказал он. Он
оттолкнул ладонью возможное возражение. — Я знаю, это
несерьезно, и я согласился только по настоянию Шампенуа. Но даже в этом
качестве я мог бы быть полезным. К тому же мы обязаны подавать
пример другим.
Она неприязненно смотрела на него: «Что ж, да, да, да, ты
должен был остаться в Париже, не рассчитывай, что я буду тебе
возражать». Он вздохнул:
— Но что сделано, то сделано. Только в идеале есть обязанности,
не противоречащие друг другу. Прости, что я морочу тебе голову,
бедняжка. Это неизбежные мужские сомнения.
— Я вполне в состоянии их понять.
— Естественно, дитя мое, естественно. — Он улыбнулся ей
сурово и отчужденно, потом взял ее за запястье и успокаивающе
добавил:
— А что, в конце концов, могло бы со мной случиться? В худшем
случае всех трудоспособных мужчин угнали бы в Германию, ну и
что? Матье там хорошо. Правда, в отличие от меня у него не
барахлит сердце. Помнишь, как этот дурак-майор освободил меня от
военной службы? Я чуть не лопнул от бешенства, я был готов на
все, что угодно. Помнишь, как я был разъярен?
-Да.
Он сел на ступеньку машины и обхватил голову руками, он
смотрел прямо перед собой.
— Шарвоз остался, — сказал он, глядя в одну точку.
-А?
— Он остался. Я встретил его сегодня утром в гараже. Он
удивился, что я уезжаю.
— Он совсем другой человек, — проговорила она машинально.
— Да, действительно, — с горечью согласился он. — Он ведь
холостяк.
Одетта стояла слева от него, она смотрела на его голову, кожа
местами просвечивала под волосами, она подумала: «Ах, вот оно
что!»
У него были бегающие глаза. Он сказал сквозь зубы:
— Мне некому тебя доверить.
Она напряглась:
— Что ты сказал?
— Я говорю: мне некому тебя доверить. Если бы я решился
отпустить тебя одну к твоей тетке...
838
Жан Поль Сартр
— Ты хочешь сказать, — дрожащим голосом проговорила она, —
что ты уехал из-за меня?
— Иначе я не мог, — ответил он.
Он с нежностью посмотрел на нее:
— В последние дни ты была такой нервной: ты меня просто
пугала.
Она онемела от изумления: «Ради меня? Но с какой стати?»
Жак продолжал с лихорадочной веселостью:
— Ты все время закрывала ставни, мы весь день жили в темноте,
ты копила консервы, я буквально наступал на банки с сардинами...
А потом, мне кажется, что твое общение с Люсьенной причиняло
тебе много вреда; когда она уходила от нас, ты становилась совсем
другой: она с придурью, малость не в себе и очень уж верит всяким
страшным историям про немцев — об отрубленных руках,
изнасилованиях и тому подобному.
Я не хочу. Я не хочу говорить ему то, чего он от меня ждет. С
чем я останусь, если признаю, что презираю его? Она сделала шаг
назад. Он остановил на ней стальной взгляд, он как бы понуждал
ее: «Ну, скажи это. Скажи же!» И снова под этим орлиным взглядом,
под взглядом своего супруга она почувствовала себя виноватой;
что ж, возможно, он подумал, что я хочу уехать, возможно, у меня
был испуганный вид, возможно, я действительно боялась, не
сознавая этого. Что здесь правда? До сих пор правдой было то, что
говорил Жак; если я больше этому не верю, чему мне верить? Она
проговорила, понурившись:
— Мне не хотелось оставаться в Париже.
— Тебе было страшно? — доброжелательно спросил он.
— Да, мне было страшно.
Когда она подняла голову, Жак смотрел на нее, посмеиваясь.
— Ладно! — сказал он. — Все это не так уж скверно; правда, ночь
под открытым небом нам не совсем по годам. Но мы еще молоды и
можем увидеть в этом некое очарование. — Он легко погладил ее по
затылку. — Помнишь Иер в тридцать шестом году? Мы спали в
палатке, но это одно из моих самых дорогих воспоминаний.
Одетта не ответила: она судорожно ухватилась за ручку дверцы
и стиснула ее изо всех сил. Жак подавил зевок:
— Как поздно. Может быть, ляжем?
Она утвердительно кивнула. Прокричал какой-то ночной зверь,
и Жак разразился хохотом.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
839
— Как это по-сельски! — сказал он. — Располагайся на заднем
сиденье, — добавил он заботливо. — Ты сможешь немного вытянуть
ноги, а я буду спать у руля.
Они сели в машину: Жак запер на ключ правую дверцу и
накинул цепочку на левую.
— Тебе удобно?
— Очень.
Он вытащил револьвер и, ухмыляясь, осмотрел его.
— Вот ситуация, которая восхитила бы моего старого пирата
деда, — сказал он. И весело добавил: — Все мы в семье немножко
корсары.
Она промолчала. Жак развернулся на своем сиденье и взял ее
за подбородок:
— Поцелуй меня, моя радость.
Она почувствовала его горячий открытый рот, прильнувший к
ее рту; он слегка лизнул ей губы, как раньше, и она вздрогнула; в то
же время она почувствовала, как его рука скользнула ей под мышку,
лаская ей грудь.
— Моя бедная Одетта, — нежно проговорил он. — Моя бедная
девочка, моя бедная малютка.
Она откинулась назад и сказала:
— Мне до смерти хочется спать.
— Спокойной ночи, любовь моя, — ответил он, улыбаясь.
Жак повернулся, скрестил руки на руле и уронил голову на
руки. Она сидела, выпрямившись, угнетенная: она выжидала. Два
вздоха, это еще не сон. Он еще шевелится. Она не могла ни о чем
думать, пока он бодрствует и думает о ней; я никогда ни о чем не
могла размышлять, когда он рядом. Готово: он трижды по-своему
пробурчал; она немного расслабилась — он всего лишь животное.
Теперь он спал, спала война, спал мир людей, живший в этой
голове; выпрямившись в темноте между двумя меловыми стеклами на
дне лунного озера, Одетта бодрствовала, очень давнее
воспоминание всплыло в ее памяти: я бежала по розовой тропинке, мне было
двенадцать лет, я остановилась с бьющимся от беспокойной радости
сердцем и громко сказала: «Я необходима». Одетта повторила: «Я
необходима», но она не знала, для чего; она попыталась думать о
войне, ей казалось, что сейчас она найдет истину: «Разве это правда,
что победа на руку только России?» Она оставила эту мысль, и ее
радость сменилась отвращением: «Я об этом слишком мало знаю».
840
Жан Поль Сартр
Ей захотелось курить. Скорее всего от нервозности. Желание
разбухало, у нее защемило в груди. Желание сильное и неодолимое,
как во времена ее капризного детства; он положил пачку в карман
пиджака. Зачем ему курить? Вкус табака у него во рту должен быть
таким скучным, таким иллюзорным, мне закурить важнее. Она
наклонилась к нему; он посапывал; она запустила руку ему в карман,
вытащила сигареты, потом, сняв цепочку, тихо открыла дверцу и
выскользнула наружу. Свет луны сквозь листву, пятна луны на
дороге, свежее дуновение, этот крик животного — все это мое. Она
зажгла сигарету, война спит, Берлин спит, Москва спит, Черчилль,
Политбюро, все наши политики спят, все спит, никто не видит мою
ночь, я необходима; банки с консервами — это для моих подшефных
солдат. Одетта вдруг заметила, что ей противен табак; она сделала
еще две затяжки, потом бросила сигарету: она уже сама не знала,
почему ей так хотелось курить. Листва тихо шумела, поле
поскрипывало, как паркет. Звезды казались живыми, ей было страшновато;
Жак спал, и она понемногу обретала непонятный мир своего
детства, заросли вопросов без ответов; это он знал названия звезд,
точное расстояние от Земли до Луны, сколько жителей в квартале,
их жизнь, их занятия; он спит, я его презираю, но сама я не знаю
ничего; она чувствовала себя затерянной в этом непостижимом
мире, в этом мире, где можно было только видеть и трогать. Одетта
побежала к машине, она хотела сейчас же его разбудить, разбудить
Знание, Экономику, Мораль. Она положила ладонь на ручку,
склонилась над дверцей и сквозь стекло увидела широко разинутый рот.
«Зачем?» — подумала Одетта. Она присела на ступеньку и, как
каждый вечер, принялась думать о Матье.
Лейтенант бегом поднимался по темной лестнице; они бежали и
делали повороты вслед за ним. Лейтенант остановился в полном
мраке и уперся затылком в люк; и их ослепил яркий серебристый свет.
— Следуйте за мной.
Они выскочили в холодное светлое небо, полное воспоминаний
и легких шумов. Чей-то голос спросил:
— Кто здесь?
— Это я, — сказал лейтенант.
— Смирно!
— Вольно, — приказал лейтенант.
Они очутились на квадратном настиле на вершине колокольни.
По углам кровлю поддерживали четыре столба. Между столбами
СМЕРТЬ В ДУШЕ
841
шел каменный парапет метровой высоты. Повсюду было небо. Луна
отбрасывала косую тень столба на пол.
— Ну как? — спросил лейтенант. — Здесь все в порядке?
— В порядке, господин лейтенант.
Перед ним стояли трое, длинные, худые, с винтовками.
Матье и Пинетт смущенно держались позади лейтенанта.
— Мы остаемся здесь, господин лейтенант? — спросил один из
троих стрелков.
— Да, — ответил лейтенант. И добавил: — Я поместил Кессона
и еще четверых в мэрии, остальные будут со мной в здании школы.
Дрейе обеспечит связь.
— Какие будут распоряжения?
— Огонь ведите сильный. Не жалейте боеприпасов.
— Что это?
Приглушенные возгласы, шарканье ног: звуки шли снизу, с
улицы. Лейтенант улыбнулся:
— Этих штабных прихвостней я загнал в погреб мэрии. Им там
будет тесновато, но это только на одну ночь: завтра утром боши, как
только покончат с нами, получат их целехонькими.
Матье смотрел на стрелков: он стыдился за своих товарищей, но
все трое были невозмутимы.
— В одиннадцать часов, — продолжал лейтенант, — жители
деревни соберутся на площади; не стреляйте в них. Я их отправлю на
ночь в лес. После их ухода — огонь по всем, кто появится на улице.
И ни под каким предлогом не спускайтесь: иначе мы будем стрелять
в вас.
Он направился к люку. Стрелки молча рассматривали Матье и
Пинетта.
— Господин лейтенант... — начал Матье.
Лейтенант обернулся.
— Я о вас забыл. Эти люди хотят сражаться с нами, ^- сказал он
остальным. — У них есть винтовки, и я им выдал патронташи.
Смотрите сами, как можно использовать этих двоих. Если они будут
плохо стрелять, отберите у них патроны.
Он дружелюбно посмотрел на стрелков.
— Прощайте, ребятки. Прощайте.
— Прощайте, господин лейтенант, — вежливо сказали они.
Он секунду поколебался, качая головой, потом, пятясь,
спустился по первым ступенькам лестницы и закрыл за собой люк. Три
стрелка смотрели на Матье и Пинетта без любопытства и без особой
842
Жан Поль Сартр
симпатии. Матье сделал два шага назад и прислонился к столбу.
Винтовка ему мешала, иногда он нес ее с излишней небрежностью,
иногда держал ее, как свечу. В конце концов он осторожно положил
ее на пол. Пинетт присоединился к нему; оба повернулись спиной
к луне. Три стрелка, наоборот, стояли лицом к свету. Черная сажа
пачкала их бледные лица; у них был неподвижный взгляд ночных
птиц.
— Можно подумать, что мы в гостях, — сказал Пинетт.
Матье улыбнулся; три стрелка ответили на его улыбку. Пинетт
подошел к Матье и шепнул ему:
— По-моему, мы им не слишком нравимся.
— Кажется, да, — согласился Матье.
Оба смущенно замолчали. Матье наклонился и увидел прямо
перед собой темные барашки каштанов.
— Сейчас я их разговорю, — сказал Пинетт.
— Сиди спокойно.
Но Пинетт уже подходил к стрелкам.
— Меня зовут Пинетт. А это Деларю.
Он остановился, ожидая ответа. Самый высокий кивнул, но
никто из троих себя не назвал. Пинетт прокашлялся и сказал:
— Мы пришли сюда сражаться.
Стрелки продолжали молчать. Высокий блондин насупился и
отвернулся. Пинетт растерянно спросил:
— Что нам надо делать?
Высокий блондин откинулся назад и зевнул. Матье заметил, что
он был в чине капрала.
— Что нам надо делать? — повторил Пинетт.
— Ничего.
— Как ничего?
— Пока ничего.
— А потом?
— Вам скажут.
Матье им улыбнулся:
— Мы вам надоедаем, да? Вы хотели бы остаться одни?
Высокий блондин задумчиво посмотрел на него, потом
повернулся к Пинетту:
— Ты кто?
— Служащий метро.
Капрал издал короткий смешок. Но глаза его оставались
серьезными.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
843
— Ты уже считаешь себя гражданским? Подожди немного.
— А, ты имеешь в виду в армии?
-Да.
— Я наблюдатель.
— А он?
— Телефонист.
— Нестроевой?
-Да.
Капрал прилежно посмотрел на Матье, словно ему было трудно
сосредоточить на нем внимание.
— Что у тебя не в порядке? С виду ты довольно крепкий...
— Сердце.
— Вы когда-нибудь стреляли в людей?
— Никогда, — признался Матье.
Капрал повернулся к своим товарищам. Все трое покачали
головами.
— Мы будем стараться изо всех сил, — сдавленным голосом
проговорил Пинетт.
Наступило долгое молчание. Капрал смотрел на них, почесывая
голову. В конце концов он вздохнул и, казалось, решился. Он встал
и отрывисто сказал:
— Меня зовут Клапо. Подчиняться нужно мне. Эти двое — Шас-
серьо и Дандье; вам нужно делать только то, что вам скажут, мы
сражаемся уже пятнадцать дней, и у нас есть опыт.
— Пятнадцать дней? — недоверчиво переспросил Пинетт. — Как
это произошло?
— Мы прикрывали ваше отступление, — пояснил Дандье.
Пинетт покраснел и понурился. Матье почувствовал, как его
челюсти сжались. Клапо объяснил более примирительным тоном:
— Операция прикрытия.
Они молча переглянулись. Матье было неловко; он думал: «Мы
никогда уже не станем такими, как они. Они сражались пятнадцать
дней подряд, а мы в это время удирали. Теперь мы можем лишь
присоединиться к ним, когда они дадут свой последний фейерверк.
Но такими, как они, мы уже не станем никогда. Наши внизу, в
погребе, они там догнивают в позоре и стыде, и наше место среди них,
а мы их в последний момент бросили — гордость не позволила».
Он наклонился и увидел черные дома, поблескивающую дорогу; он
повторил про себя: «Мое место там, внизу, мое место там, внизу»,
но в глубине души знал, что нипочем не сможет спуститься. Пинетт
844
Жан Поль Сартр
сел верхом на парапет, наверное, чтобы выглядеть
порешительнее.
— Слезь оттуда! — сказал Клапо. — Ты нас обнаружишь.
— Так ведь немцы еще далеко.
— Много ты знаешь! Говорю, слезь.
Пинетт недовольно спрыгнул с парапета, и Матье подумал:
«Они нас никогда не примут». Пинетт его раздражал: он мельтешил,
болтал, когда нужно было стушеваться, затаить дыхание и заставить
забыть о себе. Матье вздрогнул: мощный взрыв, густой и тяжелый,
толкнулся ему в барабанные перепонки. Потом второй, третий, от
этих металлических звуков пол сотрясался под его ногами. Пинетт
нервно засмеялся:
— Зря пугаешься. Это башенные часы бьют.
Матье перевел взгляд на стрелков и с удовлетворением отметил,
что и они вздрогнули.
— Одиннадцать часов, — сказал Пинетт.
Матье знобило, он озяб, но это было даже приятно. Он был
очень высоко в небе, над крышами, над людьми, было темно. «Нет,
я не спущусь. Ни за что на свете не спущусь».
— Вот гражданские и уходят.
Они все перегнулись через парапет. Матье увидел, как черные
животные движутся под листвой, как по дну моря. На главной
улице бесшумно открывались двери, и мужчины, женщины и дети
выскальзывали на улицу. Почти все несли тюки или чемоданы. На
мостовой образовались маленькие группки: похоже, они чего-то
ждали. Потом все они слились в одну длинную процессию, которая
неторопливо тронулась к югу.
— Как на похоронах, — сказал Пинетт.
— Бедняги! — вздохнул Матье.
— Не волнуйся за них, — сухо заметил Дандье. — Они еще
вернутся. Немцы редко поджигают деревни.
— А там? — напомнил Матье, показывая в сторону Робервилля.
— Там — другое дело: крестьяне стреляли вместе с нами.
Пинетт засмеялся:
— Значит, там было не так, как здесь. Здесь мужики дали
слабину.
Дандье посмотрел на него:
— Вы же не сражались: это все-таки не гражданское дело.
— А кто виноват? — сердито воскликнул Пинетт. — Кто виноват,
что мы не сражались?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
845
— Этого я не знаю.
— Офицеры! Это офицеры проиграли войну.
— Не говори худо об офицерах, — вмешался Клапо. — Ты не
имеешь права так о них говорить.
— А чего с ними церемониться?
— Не говори о них так при нас, — твердо сказал Клапо. —
Потому что я тебе вот что скажу: все наши офицеры полегли там,
кроме лейтенанта, и это не его вина.
Пинетт хотел объясниться; он протянул руки к Клапо, потом
опустил их.
— С вами не договоришься, — сказал он удрученно.
Шассерьо с любопытством посмотрел на Пинетта:
— А вы зачем сюда притащились?
— Сражаться, я тебе уже говорил.
— Но почему? Вас же никто не принуждал.
Пинетт лениво ухмыльнулся.
— Просто так. Чтобы поразвлечься.
— Что ж, поразвлечетесь! — жестко сказал Клапо. — Это я вам
гарантирую.
Дандье презрительно засмеялся.
— Ты только послушай их: они, значит, пришли сюда к нам в
гости поразвлечься, посмотреть, что такое бой; они собираются
прострелить мишень, как в стрельбе по голубям. И их к этому даже не
принуждали!
— А тебя-то, дурня, кто принуждает сражаться? — спросил у
него Пинетт.
— Мы — совсем другое дело, мы стрелки.
— Ну и что?
— Если ты стрелок, то должен сражаться до конца. — Он
покачал головой: — А иначе получается, будто я стреляю в людей ради
собственного удовольствия.
Шассерьо посмотрел на Пинетта со смесью недоумения и
отвращения:
— Ты понимаешь, что вы рискуете своей шкурой?
Пинетт, не отвечая, пожал плечами.
— Потому что, если ты это понимаешь, — продолжал
Шассерьо, — ты еще больший мудак, чем кажешься. Нет никакого смысла
рисковать своей шкурой, если тебя к этому не принуждают.
— Нас принудили, — резко сказал Матье. — Принудили. Нам все
надоело, и потом, мы уже просто не знали, что делать.
846
Жан Поль Сартр
Он показал на школу под ними:
— Для нас был один выбор: колокольня или погреб.
Дандье, казалось, смягчился; его черты немного разгладились.
Матье продолжал наседать:
— А что бы сделали на нашем месте вы?
Они не ответили, Матье настаивал:
— Что бы вы сделали?
Дандье покачал головой:
— Может, я и погреб выбрал бы: ты убедишься, тут будет не до
забавы.
— Наверняка, — сказал Матье, — но, уверяю тебя, совсем не
сладко сидеть в погребе, когда другие сражаются.
— Не спорю, — согласился Шассерьо.
— Да, — признал Дандье. — Там уж не до гордости.
Теперь они выглядели не так враждебно. Клапо рассматривал
Пинетта с неким удивлением, затем отвернулся и подошел к
парапету. Лихорадочная суровость его взгляда исчезла, он выглядел
куда мягче, чем прежде, кротко смотрел он на тихую ночь, на
детскую, почти сказочную сельскую местность, и Матье не знал,
мягкость ночи отражалась на этом лице или же одиночество этого лица
отражалось на этой ночи.
— Эй, Клапо! — позвал Дандье.
Клапо выпрямился и вновь обрел суровое обличье.
-Что?
— Пойду сделаю обход нижнего квадрата: я там кое-что увидел.
-Иди.
Когда Дандье поднял люк, до них донесся женский голос:
— Анри! Анри!
Матье склонился над улицей. Запоздавшие жители бежали во
всех направлениях, как обезумевшие муравьи; на дороге рядом с
почтой он увидел маленькую тень.
— Анри!
Лицо Пинетта почернело, но он промолчал. Женщины взяли
девицу за руки и попытались ее увести. Она кричала, отбиваясь:
— Анри! Анри!
Потом она вырвалась, бросилась в почтовую контору и закрыла
за собой дверь.
— Мать твою так! — сквозь зубы процедил Пинетт.
Он поскреб ногтями по камню парапета.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
847
— Ее нужно отправить с остальными.
— Да, — ответил Матье.
— С ней случится несчастье.
— А кто в этом виноват?
Пинетт не ответил. Крышка люка приподнялась, и кто-то сказал:
— Помогите мне.
Они откинули крышку назад: из темноты показался Дандье; на
спине он нес два соломенных тюфяка.
— Вот что я нашел.
Клапо впервые улыбнулся, он, казалось, был в восторге.
— Какая удача, — сказал он.
— И что вы хотите с этим делать? — спросил Матье.
Клапо удивленно посмотрел на него.
— А для чего, по-твоему, служит соломенный тюфяк?
Жемчужины нанизывать?
— Вы будете спать?
— Сначала перекусим, — сказал Шассерьо.
Матье смотрел, как они суетятся вокруг тюфяков, вытаскивают
из рюкзаков мясные консервы — разве они не понимают, что скоро
умрут? Шассерьо достал консервный нож, быстрыми и точными
движениями открыл три банки, потом они сели и вытащили из
карманов ножи.
Клапо через плечо бросил взгляд на Матье.
— Хочешь есть? — спросил он.
Матье ничего не ел уже два дня; слюна заполнила ему рот.
— Я? — переспросил он. — Нет.
— А твой приятель?
Пинетг не ответил. Перегнувшись через парапет, он смотрел на
почту.
— Валяйте, — сказал Клапо, — лопайте, жратвы достаточно.
— Тот, кто сражается, — добавил Шассерьо, — имеет право
пожрать.
Дандье порылся в своем рюкзаке, вынул оттуда две консервные
банки и протянул их Матье. Матье взял их и хлопнул Пинетта по
плечу. Пинетт подпрыгнул:
— Что такое?
— Это тебе, ешь!
Матье взял консервный нож, который ему протянул Дандье,
нажал им на закраину из белой жести и изо всех сил надавил. Но
848
Жан Поль Сартр
лезвие соскользнуло, выскочило из желобка и натолкнулось на
большой палец его левой руки.
— Какой ты неумеха, — проворчал Пинетт. — Очень больно?
— Нет, — сказал Матье.
— Дай мне.
Пинетт вскрыл обе банки, и они молча стали есть у столба, не
решаясь сесть. Они рыли мясо ножами и накалывали куски на
острие. Матье добросовестно жевал, но горло его занемело: он не
чувствовал вкуса мяса, и ему было трудно глотать. Сидя на
тюфяках, трое стрелков старательно склонялись над своей едой; в свете
луны их ножи блестели.
— Полегоньку, — мечтательно сказал Шассерьо, — мы же едим
на церковной колокольне.
На церковной колокольне. Матье опустил глаза. Под ногами у
них витал запах камней и ладана, там было свежо, и в таинственных
сумерках слабо светились витражи. Под ногами у них теплились
доверие и надежда. Было холодно; он видел небо, он вдыхал небо,
он думал вместе с небом, он чувствовал себя голым на леднике, на
большой высоте; очень далеко под ними простиралось его детство.
Клапо запрокинул голову, он ел, глядя в небо.
— Посмотри на луну, — вполголоса сказал он.
— Что? — спросил Шассерьо.
— Луна сегодня не больше, чем обычно?
-Нет.
— А мне показалось, что больше.
Вдруг он опустил глаза:
— Идите есть с нами, стоя не едят.
Матье и Пинетт помешкали.
— Идите! Идите к нам! — настаивал Клапо.
— Пошли! — сказал Матье Пинетту.
Они сели; Матье почувствовал у своего бедра тепло Клапо. Они
молчали: это была их последняя трапеза, и она была священна.
— Есть еще ром, — сказал Дандье, — немного: как раз по глотку
на каждого.
Они стали передавать по кругу флягу, и каждый прикладывал
губы к горлышку. Пинетт наклонился к Матье.
— Думаю, они нас приняли.
-Да.
— Они неплохие парни. Мне они нравятся.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
849
— Мне тоже.
Пинетт выпрямился, охваченный гордостью: его глаза блеснули.
— Мы были такими же, если бы нами командовали как надо.
Матье посмотрел на лица стрелков и покачал головой.
— Разве неправда?
— Может, и так, — согласился Матье.
Пинетт поглядел на ладони Матье и тронул его за локоть.
— Что с тобой? У тебя кровь идет?
Матье бросил взгляд на свои ладони: он рассек большой палец
на левой руке.
— А! — сказал он. — Это, наверно, консервным ножом.
— И ты не остановил кровь, дуралей?
— Я ничего не почувствовал, — сказал Матье.
— Ну и ну! — ворчливо восхитился Пинетт. — Что бы ты без
меня делал?
Матье посмотрел на свой большой палец, как бы удивляясь, что
еще имеет тело: он уже ничего не чувствовал: ни вкуса мяса, ни
вкуса спиртного, ни боли. «А я считал, что я стеклянный». Он
засмеялся:
— Однажды в танцзале у меня тоже был нож...
Он остановился. Пинетт удивленно посмотрел на него.
— И что?
— Ничего. Мне не везет с режущими инструментами.
— Дай руку, — сказал Клапо.
Он достал из своего рюкзака рулон бинта и голубую склянку.
Потом вылил обжигающую жидкость на палец Матье и перевязал
ранку бинтом. Матье зашевелил пальцем-куклой и, улыбаясь,
подумал: сколько хлопот, чтобы кровь не пролилась раньше времени!
— Ну вот! — сказал Клапо.
— Ага, — откликнулся Матье.
Клапо посмотрел на часы.
— Спать, ребята: скоро полночь.
Они окружили его.
— Дандье! Ты останешься с ним на карауле, — сказал он,
указывая на Матье.
— Слушаюсь.
Шассерьо, Пинетт и Клапо легли рядом на тюфяках. Дандье
вытащил из своей амуниции одеяло и набросил его на всех троих.
Пинетт сладострастно потянулся, лукаво подмигнул Матье и
закрыл глаза.
850
Жан Поль Сартр
— Я буду наблюдать здесь, — сказал Дандье. — А ты там. Если
начнется стрельба, ничего не делай, не предупредив меня.
Матье отошел в угол и пошарил глазами по местности. Он
подумал, что скоро умрет, и это показалось ему странным. Он смотрел
на темные крыши, мягкое свечение дороги между синими
деревьями, на всю эту плодородную необитаемую землю и думал: «Я
умираю ни за что». Шелковистый храп заставил его вздрогнуть: парни
уже спали; Клапо с закрытыми глазами, помолодевший,
бессмысленно улыбался; Пинетт тоже улыбался. Матье склонился над ним
и долго смотрел на него; он думал: «Жалко!» На другой стороне
площадки Дандье наклонился вперед, уперев руки в ляжки, в позе
стража ворот.
— Эй! — тихо окликнул его Матье.
— Чего?
— Ты был вратарем?
Дандье удивленно повернулся к нему:
— Как ты узнал?
— Видно по твоей стойке.
Он добавил:
— Ты хорошо играл?
— Если бы повезло, перешел бы в профессионалы.
Они махнули друг другу рукой, и Матье вернулся на свой пост.
Он думал: «Я умру ни за что», и ему было жалко самого себя. За
один миг его воспоминания промелькнули, как листва на ветру. Все
его воспоминания: «Я любил жизнь». Где-то в глубине его мучил
тревожный вопрос: «Имел ли я право бросить товарищей? Имею ли
я право умереть ни за что?» Он выпрямился, оперся обеими
ладонями о парапет и зло затряс головой. «Надоело. Тем хуже для тех,
кто внизу, тем хуже для всех. Кончены угрызения совести,
благоразумные ограничения: никто мне не судья, никто не думает обо
мне, никто не вспомнит меня, никто не решит за меня». Он все
решил сам без угрызений совести, с полным пониманием дела. Он
решил, и в этот момент его щепетильное и жалостливое сердце
кубарем покатилось с ветки на ветку; нет больше сердца: все кончено.
«Я понял, что смерть была тайным смыслом моей жизни, я жил,
чтобы умереть; я умираю, чтобы засвидетельствовать, что жить
невозможно; мои глаза погасят этот мир и закроют его навсегда».
Земля поднимала к этому обреченному запрокинутое лицо,
распахнутое небо текло сквозь него со всеми своими звездами; но
Матье стоял на посту, пренебрегая этими ненужными дарами.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
851
Вторник, 18 июня, 5 часов 45 минут
— Лола!
Как каждое утро, она проснулась с отвращением, как каждое
утро, она возвращалась в свое старое гниющее тело.
— Лола! Ты спишь?
— Нет, — ответила она, — который час?
— Без четверти шесть.
— Без четверти шесть? И мой маленький хулиган уже
проснулся? Мне его подменили.
— Иди ко мне! — сказал он.
«Нет, — подумала она. — Я не хочу, чтобы он ко мне прикасался».
— Борис...
«Мое тело вызывает у меня омерзение, даже если оно не
вызывает омерзения у тебя, это жульничество: оно гниет, а ты этого не
замечаешь, но если бы ты знал, оно внушало бы тебе ужас».
— Борис, я устала...
Но он уже обхватил ее за плечи; он давил на нее. «Ты сейчас
войдешь в рану. Раньше, когда он ко мне прикасался, я становилась
как бархатная. Но теперь мое тело — высохшая земля: под его
пальцами я даю трещины и рассыпаюсь, он мне делает больно». Он
разрывал ее внутренности, он орудовал в ее животе, как ножом, он
выглядел одиноким и одержимым, точно насекомое, точно муха,
которая поднимается по стеклу, падает и вновь поднимается. Она
чувствовала только боль; он тяжело дышит, он взмылен, он
наслаждается; он наслаждается в моей крови, в моей боли. Она подумала:
«Черт побери! У него не было женщины полгода, он совокупляется,
как солдат в борделе». Что-то на миг зашевелилось в ней, подобие
взмаха крыльев, но тут же прошло. Он приклеился к ней, двигались
только ее груди, потом он резко отпрянул, и груди Лолы издали
звук снимаемой медицинской банки, ее разбирал смех, но. она
взглянула на лицо Бориса, и смеяться расхотелось: он был такой суровый
и напряженный, он занимался любовью, как другие напиваются, он
явно пытается что-то забыть. В конце концов он рухнул на нее, как
мертвец; она машинально погладила ему затылок; она была холодна
и равнодушна, но чувствовала гулкие удары колокола, которые во
весь размах вздымались от живота к груди: это в ней колотилось
сердце Бориса. «Я слишком стара, я чересчур стара». Вся эта
гимнастика показалась ей комичной, и она ласково его оттолкнула.
— Пусти меня.
852
Жан Поль Сартр
-А?
Он поднял голову и удивленно посмотрел на нее.
— У меня неважно с сердцем, — сказала она. — Оно слишком
сильно бьется, а ты меня душишь.
Он ей улыбнулся, прилег рядом и остался лежать на животе,
закрыв глаза и уткнувшись лбом в подушку, в уголке рта
получилась чудная складка. Она приподнялась на локте и посмотрела на
него: он выглядел так интимно, так привычно, что ей хотелось за
ним наблюдать не больше, чем за собственной рукой; я ничего не
почувствовала. И даже вчера, когда он появился во дворе, такой
красивый, я ничего не почувствовала. Ничего, даже того
лихорадочного вкуса во рту, даже той плотной тяжести в животе; она
смотрела на это слишком знакомое лицо и думала: «Я одинока».
Маленькая голова, маленькая головенка, где так часто гнездились
затаенные скрытные секреты, сколько раз она брала ее в руки и сжимала;
она неистовствовала, она вопрошала, заклинала, она хотела бы
вскрыть ее, как гранат, и полизать то, что было внутри: в конечном
счете секрет испарялся и, как в гранатах, оставалось немного
сладковатой водицы. Она злобно глядела на Бориса, она злилась, что он
не сумел ее расшевелить, она смотрела на горькую складку в уголке
его рта: «Если он утратит свою веселость, что у него останется?»
Борис открыл глаза и улыбнулся ей:
— Я страшно доволен, что ты наконец со мной, моя безумная
старушка.
Она улыбнулась ему в ответ: «Теперь секрет есть у меня, а ты
сколько угодно можешь пытаться его у меня выудить». Борис встал,
откинул простыни и внимательно посмотрел на ее тело; он слегка
коснулся ее грудей; Лола смутилась.
— Как из мрамора, — промолвил он.
Лола подумала о мерзком животном, которое ночью
размножалось в ее утробе, и кровь прилила к ее щекам.
— Я горжусь тобой, — сказал Борис.
— Почему?
— Как почему? Ты здорово надула этих госпитальных крыс.
Лола усмехнулась:
— А они у тебя не спросили, что ты делаешь с этой старухой?
Они не приняли меня за твою мать?
— Лола! — с упреком сказал Борис. Он засмеялся, вспомнив
что-то забавное, и печать молодости на миг вновь возникла у него
на лице.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
853
— Что тебя так развеселило?
— Франсийона вспомнил. У него девушка что надо, ей еще нет
восемнадцати; так вот он мне сказал: «Если хочешь, давай тут же
махнемся».
— Он очень любезен, — сказала Лола.
Какая-то тревога облаком скользнула по лицу Бориса, и глаза
его потемнели. Она неприязненно посмотрела на него: «Да, да, у
тебя, как и у всех, есть свои маленькие заботы. Но что он сделает,
если я признаюсь ему в своих? Что ты сделаешь, если я тебе скажу:
«У меня опухоль матки, ее нужно оперировать, а в моем возрасте
это может кончиться худо». Ты вытаращишь свои блядские
глазища, ты скажешь: «Это неправда!» Я тебе скажу, нет, это правда,
тогда ты скажешь, что операцию делать нельзя, что есть надежные
лекарства или облучение, что я слишком мнительна. А я тебе скажу:
«Я вернулась в Париж не для того, чтобы взять деньги в банке, а
чтобы проконсультироваться у Ле Гупиля, и он был категоричен».
Ты мне скажешь, что Ле Гупиль кретин, что к кому угодно, но не к
нему надо было обращаться, ты будешь возражать, протестовать,
трясти головой с затравленным видом и в конце концов ты
замолчишь, загнанный в угол, ты будешь смотреть на меня ошалевшими,
полными ненависти глазами». Она подняла обнаженную руку и
схватила Бориса за волосы.
— Ну, маленький хулиган! Рожай. Признавайся, что у тебя не
так.
— Все хорошо, — фальшиво бодро ответил он.
— Ты меня удивляешь. Не в твоих привычках просыпаться в
пять часов утра.
Он неуверенно повторил:
— Все хорошо...
— Но я не вижу, — сказала она. — Ты что-то собрался мне
сказать, но тебе хочется, чтобы я тебя об этом попросила.
Он улыбнулся и положил голову ей под мышку. Вдохнул и
сказал:
— Ты хорошо пахнешь.
Она пожала плечами:
— Ну так что? Будешь говорить или нет?
Он затравленно мотнул головой. Она замолчала и, в свою
очередь, легла на спину: «Что ж, не говори! Какое это имеет для меня
значение? Он говорит со мной, он спит со мной, но умру я все
равно одна». Она услышала его вздох и повернула к нему голову. У
854
Жан Поль Сартр
Бориса было угрюмое и печальное лицо — таким она его еще не
видела. Лола без всякого воодушевления подумала: «Ладно!
Придется тобой заняться». Ей предстоит его расспрашивать,
выслеживать, угадывать выражение его лица, как в те времена, когда она его
ревновала, усердствовать, чтобы он наконец выложил ей то, в чем
он и сам жаждет признаться. Она села:
— Ладно! Дай мне халат и сигарету.
— Зачем халат? Такая ты гораздо лучше.
— Дай халат. Мне холодно.
Он встал, голый и загорелый, она отвела глаза в сторону; он взял
халат у изножья кровати и протянул ей. Она его надела; он секунду
поколебался, потом влез в брюки и сел на стул.
— Ты сыскал девственницу и собираешься на ней жениться? —
спросила Лола.
Он посмотрел на нее с такой растерянностью, что она
покраснела.
— Ладно, выкладывай, — сказала она.
Короткое молчание, и она продолжила:
— Что ты собираешься делать, когда тебя отпустят?
— Я женюсь на тебе, — ответил он.
Она взяла сигарету и закурила.
— Зачем? — спросила она.
— Мне необходима респектабельность. Я не могу привезти тебя
в Кастельнодари, если ты мне не жена.
— А что ты собираешься делать в Кастельнодари?
— Зарабатывать на жизнь, — сказал он строго. — Нет, кроме
шуток: я буду преподавателем в коллеже.
— Но почему в Кастельнодари?
— Увидишь, — ответил он. — Увидишь. Это будет именно в
Кастельнодари.
— И ты хочешь, чтобы я звалась мадам Сергин и чтобы, надев
шляпу, я нанесла визит директору школы?
— Он называется принципал. Да, именно это тебе и предстоит.
А я в конце года буду произносить речь на церемонии по
присуждению премий.
— Гм! — хмыкнула Лола.
— Ивиш переедет жить к нам, — сказал Борис.
— Но она же меня не переносит.
— Не спорю. Но тут уж ничего не поделаешь.
— Это она так решила?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
855
— Да. Она изнемогает от скуки у свекра и свекрови; они ее
доводят до безумия; ты бы ее не узнала.
Наступило молчание; Лола искоса наблюдала за ним.
— Вы обо всем договорились? — спросила она.
-Да.
— А если мне это не понравится?
— Лола, ну что ты такое говоришь? — удивился он.
— Раз речь идет о том, чтобы жить вместе, то ты, конечно,
считаешь, что я всегда буду в полном восторге.
Ей показалось, что в глазах Бориса затеплился слабый огонек.
— А разве нет?
— Да, это так, — сказала она. — И все же, мой маленький
хулиган, ты слишком уверен в своих чарах.
Огонек в его глазах погас; он уставился на свои колени, и Лола
обратила внимание, как двигаются его челюсти.
— А тебе эта жизнь понравится? — спросила она.
— Я буду счастлив, если мы всегда будем вместе, — галантно
ответил Борис.
— Но ты говорил, что испытываешь отвращение к
преподаванию.
— А чем другим еще могу я теперь заняться? Я тебе скажу все
как есть, — продолжал он. — Пока я воевал, я не задавал себе
вопросов. Но теперь я задумываюсь: для чего я создан?
— Ты хотел заниматься литературой.
— Я никогда об этом не думал всерьез; в сущности, мне нечего
сказать. Понимаешь, я думал, что война еще продлится и меня
убьют, и теперь я захвачен всем этим врасплох.
Лола внимательно посмотрела на него.
— Ты жалеешь, что война закончилась?
— Она не закончилась, — сказал Борис. — Англичане еще воюют;
не пройдет и полгода, как в войну втянутся и американцы.
— Но для тебя, во всяком случае, она закончилась.
— Верно, — подтвердил Борис. — Для меня закончилась.
Лола продолжала пристально смотреть на него.
— Для тебя и для всех французов, — добавила она.
— Не для всех! — с жаром возразил он. — Те, что сейчас в
Англии, будут сражаться до конца.
— Понимаю, — сказала Лола.
Она затянулась и бросила окурок на пол. Потом тихо спросила:
856
Жан Поль Сартр
— У тебя появилась возможность оказаться там?
— Лола! — воскликнул Борис восхищенно и благодарно. — Да, —
признался он, — да. Такая возможность появилась.
— Но каким образом?
— Цинк*.
— Какой цинк? — не понимая, переспросила она.
— Около Мариньяна, между двумя возвышенностями, есть
маленький частный аэродром. Там две недели назад приземлился
военный самолет; он был неисправен. Теперь он в порядке.
— Но ты не летчик.
— У меня есть друзья-летчики.
— Какие друзья?
— К примеру, Франсийон, с которым я тебя вчера познакомил.
А еще Габель и Террасе.
— И они предложили тебе улететь с ними?
-Да.
— И что еще?
— Я отказался, — поспешно ответил он.
— Правда? Может, ты отказался, сказав себе: надо сначала
подготовить старуху?
-Нет.
Он нежно посмотрел на нее. Редко у него бывали такие глаза с
поволокой: «Когда-то я бы все отдала ради такого его взгляда».
— Хоть ты и сумасшедшая старуха, — сказал он ей, — но я не могу
тебя покинуть. Без моего пригляда ты наделаешь массу глупостей.
— Ах, вот оно что! — воскликнула Лола. — И когда же мы
поженимся?
— Когда захочешь, — равнодушно ответил он. — Главное, чтобы
мы были женаты к началу занятий.
— Занятия начинаются в сентябре?
— Нет, в октябре.
— Очень хорошо, — сказала Лола. — У нас еще есть время.
Она встала и принялась расхаживать по комнате. На полу
валялись окурки со следами губной помады: нагнувшись, Борис
подбирал их с глупейшим видом.
— Когда должны лететь твои товарищи? — спросила она.
Борис старательно раскладывал окурки на мраморном ночном
столике.
— Завтра вечером, — не оборачиваясь, ответил он.
* Самолет (военный жаргон).
СМЕРТЬ В ДУШЕ
857
— Так скоро! — изумилась она.
— Что ж, тут нужно действовать быстро.
— Так скоро!
Она дошла до окна и открыла его: она смотрела на
покачивающиеся мачты рыбацких лодок, на набережную, на розовое небо и
думала: «Завтра вечером». Оставалось разорвать еще одно
крепление, одно-единственное. Когда крепление будет разорвано, она
обернется. «Какая разница: завтра вечером или в любой другой день», —
подумала она. Вода тихо колыхала цветные разводы утренней зари.
Вдалеке Лола услышала сирену парохода. Когда она почувствовала
себя окончательно свободной, она повернулась к нему:
— Если ты хочешь уехать, то я не стану тебя удерживать.
Фраза далась ей нелегко, но теперь Лола ощутила пустоту и
свободу. Она смотрела на Бориса и думала, не зная почему: «Бедный
мальчик, бедный мой мальчик». Борис резко встал. Он подошел и
схватил ее за руку:
— Лола!
— Ты мне делаешь больно, — сказала она.
Он отпустил Лолу, но посмотрел на нее с неким подозрением.
— А ты не будешь от этого страдать?
— Буду, — рассудительно ответила она. — Я буду страдать, но
лучше это, чем твое преподавание в Кастельнодари.
Казалось, он немного успокоился.
— Ты тоже не смогла бы там жить? — спросил он.
— Да, — ответила она. — Я тоже.
Он ссутулил плечи, руки его беспомощно повисли; впервые у него
был такой вид, будто ему мешает собственное тело. Лола была
признательна ему, что он не демонстрирует в открытую свою радость.
— Лола! — повторил он.
Он положил руку ей на плечо; ей захотелось сбросить его руку
с плеча, но она сдержалась. Она ему улыбалась, она еще
чувствовала тяжесть его руки, но он уже ей не принадлежал, он был в Англии,
они оба уже были по-своему мертвы.
— Знаешь, я ведь отказался! — дрожащим голосом проговорил
он. — Я отказался!
— Знаю.
— Я не буду тебе изменять, — сказал он. — Я ни с кем, кроме
тебя, не буду спать.
Она улыбнулась.
— Мой бедный мальчик.
858
Жан Поль Сартр
Теперь он был уже лишним. Ей хотелось бы, чтоб уже наступил
завтрашний вечер. Вдруг он хлопнул себя по лбу.
— Какой же я осел!
— В чем дело? — спросила она.
— Я не еду! Я не могу ехать!
— Почему?
— Ивиш! Я же тебе сказал, что она хочет жить с нами.
— Борис! — в бешенстве выкрикнула Лола. — Если ты не
остаешься ради меня, я запрещаю тебе делать это ради Ивиш.
Но это была злость той, прежней Лолы, и она тут же угасла.
— Я позабочусь об Ивиш, — спокойно сказала Лола.
— Ты возьмешь ее с собой?
— А почему бы и нет?
— Но вы же друг друга не выносите?
— Это не имеет значения.
Лола почувствовала, что ужасно устала. Она сказала:
— Оденься или ляг, ты простудишься.
Он взял полотенце и начал растирать себе торс. У него был
ошеломленный вид. «Забавно, — подумала она, — он только что
решил свою участь». Она села на кровати; Борис энергично
растирался, но лицо его оставалось угрюмым.
— Что еще не так? — спросила она.
— Все хорошо, — сказал он. — Просто я трушу!
Она с трудом встала, поймала его за чуб и подняла ему голову.
— Посмотри на меня. Что еще не так?
Борис отвел глаза.
— Ты ведешь себя странно.
— Почему странно?
— Ты совсем не рассердилась, узнав, что я уезжаю. И это меня
шокирует.
— И это тебя шокирует? — повторила Лола. — И это тебя
шокирует?
Она расхохоталась.
6 часов утра
Матье заворчал, сел и почесал голову. Пел петух, солнце было
теплым и радушным, но стояло еще низко.
— Хорошая погода, — сказал Матье.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
859
Никто не ответил: все они стояли на коленях у парапета. Матье
посмотрел на часы и увидел, что уже шесть; до него доносился
отдаленный монотонный гул. Он опустился на четвереньки и подполз
к товарищам.
— Что это? Самолет?
— Нет, это они. Моторизованная пехота.
Матье приподнялся над их плечами.
— Осторожней! — предупредил Клапо. — Не высовывайся: у них
есть бинокли.
В двухстах метрах от первых домов дорога отклонялась на
запад, затем исчезала за поросшим травой пригорком, затем снова
возникала между высокими строениями мукомольни,
прикрывавшими ее, а затем шла к северо-западу и наискось приближалась к
деревне. Матье увидел машины, но так далеко, что они казались
неподвижными, он подумал: «Это немцы!» и испугался. Странный
страх, почти мистический, подобие священного ужаса. Тысячи
чужих глаз пожирали деревню. Глаза сверхчеловеков и насекомых.
Матье был охвачен ужасной и очевидной мыслью: «Они увидят мой
труп».
— Они будут здесь через минуту, — помимо воли сказал он.
Никто ему не ответил. Через некоторое время Дандье
проговорил тяжело и медлительно:
— Мы долго не продержимся.
— Назад! — приказал Клапо.
Они отступили на несколько шагов, и все четверо сели на
тюфяк. Шассерьо и Дандье, одинаковые, как близнецы, и Пинетт, уже
похожий на них: у всех был одинаковый землистый цвет лица и
одинаковые ласковые пустые глаза. «Наверно, у меня такие же
ланьи глаза», — подумал Матье. Клапо присел на пятки; он говорил
им через плечо:
— Фрицы остановятся у въезда в деревню, сейчас они пошлют
на разведку мотоциклистов. Ни в коем случае не стреляйте в них.
Шассерьо зевнул; та же зевота, мягкая, как рвота, приоткрыла
рот Матье. Он попытался избавиться от ужаса, раззадорить себя
злостью, он сказал себе: «Мы бойцы, черт побери! Мы не жертвы!»
Но это была ненастоящая злость. Он снова зевнул. Шассерьо с
симпатией посмотрел на него.
— Начинать всегда трудно, — сказал он. — Потом, сам увидишь,
пойдет получше.
Клапо повернулся и присел на корточки напротив них.
860
Жан Поль Сартр
— Будет точько один приказ, — сказал он им, — защищать
школу и мэрию; нельзя допустить, чтобы они туда приблизились.
Сигнал подадут наши товарищи снизу, и как только они начнут
стрелять, палите, не дожидаясь приказа. И запомните: пока они смогут
сражаться, мы будем играть только роль прикрытия.
Они смотрели на него внимательно и послушно.
— А потом? — спросил Пинетт.
Клапо пожал плечами:
— Потом...
— Вряд ли они долго продержатся, — сказал Дандье.
— Нельзя знать заранее. Возможно, у них есть небольшая
пехотная пушка; нужно не дать им установить ее. Будет трудно, но если
все получится, им тоже будет туго, потому что дорога и площадь
образуют угол.
Он снова стал на колени и дополз до парапета. Спрятавшись за
столб, он наблюдал за деревней.
— Дандье!
-Что?
— Иди сюда.
Не оборачиваясь, он объяснил:
— Мы с тобой берем их в лоб. Шассерьо станет справа, а Деларю
слева. На случай если они попытаются нас обойти, Пинетт станет с
другой стороны.
Шассерьо подтащил тюфяк к парапету; Матье стал коленями на
одеяло.
Пинетт разъярился:
— Почему я должен поворачиваться к этим говнюкам
спиной?!
— Не ной, — сказал Шассерьо. — А вот мне солнце будет светить
прямо в рыло.
Распластавшись у своего столба, Матье лежал лицом к мэрии;
слегка наклоняясь направо, он хорошо видел дорогу. Площадь была
зловещей ямой теней, ловушкой; ему было тяжело на нее смотреть.
В каштанах пели птицы.
— Осторожно!
Матье затаил дыхание: два черных мотоциклиста в касках
въезжали на улицу, два сверхъестественных всадника. Напрасно Матье
пытался различить их лица: у них не было лиц. Две тонкие талии,
четыре параллельных длинных бедра, пара круглых обтекаемых
голов без ртов и глаз. Они передвигались механическими рывками,
СМЕРТЬ В ДУШЕ
861
с негибким благородством кукол на шарнирах, приближаясь к
циферблату старых башенных часов в ожидании своего часа. И час
вот-вот настанет.
— Не стрелять!
Мотоциклисты, треща моторами, объехали земляную площадку.
Ничто не зашевелилось, кроме стайки взлетевших воробьев: это
иллюзорное место притворялось мертвым. Матье завороженно
думал: «Это немцы». Они прогарцевали перед мэрией, проехали
прямо под Матье, который видел, как подрагивают на рулях их
массивные кожаные лапы, и въехали на главную улицу. Через некоторое
время они снова появились, очень прямые, как бы привинченные к
тряским седлам, и на полном газу помчались по дороге, по которой
только что приехали. Матье был доволен, что Клапо запретил
стрелять: они казались ему неуязвимыми. Птицы, еще немного попор-
хав, спрятались в листве. Клапо сказал:
— Это к нам.
Заскрежетали тормоза, хлопнули дверцы, и Матье услышал
голоса и шаги; он впал в омерзение, которое походило на сон, его
так и тянуло закрыть глаза. Он смотрел на дорогу сквозь
полузакрытые веки и чувствовал себя почти умиротворенным. Если мы
спустимся, бросив винтовки, они нас окружат и, может быть,
скажут: «Французские друзья, война закончена». Шаги приближались,
они нам ничего не сделали, они и не думают о нас, они нам не
желают зла. Он совсем закрыл глаза: ненависть сейчас брызнет до
неба. Они увидят мой труп, они будут пинать его ногами. Он не
боялся умереть, он боялся ненависти.
Готово! В ушах сильно хлопнуло, он открыл глаза: улица была
пуста и молчалива; он попытался убедить себя, что ему снится сон.
Никто не стрелял, никто...
— Сукины сыны! — прошептал Клапо.
Матье вздрогнул:
— Какие сукины сыны?
— Те, из мэрии. Они слишком рано выстрелили. Должно быть,
со страху, иначе они бы их пропустили.
Взгляд Матье с трудом поднялся вдоль шоссе, скользнул по
мостовой, по пучкам травы между булыжниками, вплоть до угла
улицы. Никого. Тишина; деревня в августе, все люди в поле. Но он
знал, что по другую сторону этих стен замышляют его смерть; они
жаждут причинить нам как можно больше зла. Он снова
погрузился в доброту: он любил всех — французов, немцев, Гитлера. В вязком
862
Жан Поль Сартр
полусне он услышал крики, сопровождаемые сильным взрывом и
грохотом стекол, потом снова хлопки выстрелов. Он стиснул
пальцы на винтовке, чтобы не выронить ее из рук.
— Слишком рано гранату, — сквозь зубы сказал Клапо.
Теперь хлопало без остановки; фрицы стали стрелять вовсю;
взорвались еще две гранаты. «Если бы это могло остановиться хоть
на минуту, чтобы я овладел собой». Но вокруг стреляло, хлопало,
взрывалось все пуще; в его голове все быстрее и быстрее крутилось
зубчатое колесо: каждый зубец был выстрелом. «Боже мой!
Неужели ко всему я еще и трус?» Он обернулся и посмотрел на своих
товарищей: сидя на корточках, на пятках, бледные, с глазами
суровыми и горящими, Клапо и Дандье наблюдали. Пинетт повернулся
спиной, шея его была напряжена; его трясло, то ли от пляски
святого Витта, то ли от безудержного смеха: его плечи подпрыгивали.
Матье укрылся за столбом и осторожно наклонился. Ему удалось
не закрыть глаза, но он не мог принудить себя повернуть голову в
сторону мэрии; он смотрел на пустынный и спокойный юг, он
мысленно бежал к Марселю, к морю. Прогремел еще один взрыв, что-то
сухо скатывалось вниз по черепицам колокольни. Матье вытаращил
глаза, но дорога внизу мчалась во весь опор, предметы бежали,
скользили, перемешивались, удалялись, это был сон, невидимая
могила углублялась и притягивала его, это был сон, огненная
дорога вращалась, вращалась, как колесико продавцов вафельных
трубочек, он намеревался проснуться в своей постели, когда
заметил жабу, которая ползла к мэрии. С минуту Матье безразлично
смотрел на распластанное животное, потом жаба превратилась в
человека. Матье чрезвычайно четко видел две складки на бритом
затылке, зеленый китель, ремень, мягкие черные сапоги. «Должно
быть, он пробрался полями и теперь ползет к мэрии, чтобы бросить
гранату». Немец полз на локтях и коленях, правой поднятой рукой
он сжимал палку с металлическим цилиндром в форме котелка на
конце. «Но, — сказал Матье, — но, но...»; дорога перестала течь,
колесо остановилось, Матье рывком вскочил, вскинул винтовку,
глаза его затвердели: прочно стоя в мире сильных, он держал врага
на мушке и спокойно целился ему в поясницу. На лице у него
промелькнула едва заметная ухмылка превосходства: знаменитая
немецкая армия, армия сверхлюдей, армия саранчи была этим жалким
типом, трогательным в своей неправоте, он все больше увязал в
своем невежестве и суетился с комичным усердием ребенка. Матье
СМЕРТЬ В ДУШЕ
863
не спешил, он с любопытством разглядывал свою жертву, у него для
этого было достаточно времени: немецкая армия уязвима. Он
выстрелил, немец странно прыгнул на живот, вытянув вперед руки: у
него был вид человека, который учится плавать. Увлекшись, Матье
выстрелил еще, и бедный малый, сделав два или три плавательных
движения, выпустил из рук гранату, которая, не взорвавшись,
покатилась по шоссе. Теперь немец вел себя смирно, безвредный и
смехотворный, околевший. «Я его успокоил, — вполголоса сказал
Матье, — я его успокоил». Он глядел на мертвого и думал: «Они
такие же, как все!» И он почувствовал прилив мужества.
На его плечо легла чья-то рука: Клапо пришел посмотреть на
работу любителя. Он, покачивая головой, рассматривал околевшее
животное, потом обернулся:
— Шассерьо!
Шассерьо подполз к ним на коленях.
— Понаблюдай немного здесь, — приказал Клапо.
— Мне не нужен Шассерьо, — обиженно заметил Матье.
— Это только начало, — пояснил Клапо. — Если их придет
много, одного тебя не хватит.
Раздалась пулеметная очередь. Клапо поднял брови.
— Э! — сказал он, возвращаясь на свое место. — Начинают
стрелять по-настоящему.
Матье повернулся к Шассерьо.
— Что ж, — оживленно сказал он, — думаю, мы фрицам зададим
жару.
Шассерьо не ответил. У него был отяжелевший, грубый, почти
сонный вид.
— Ты что, не понимаешь, что они тянут время? — раздраженно
спросил Матье. — Я думал, что они сразу уплатят нам по счету.
Шассерьо удивленно поглядел на него, потом посмотрел на
часы.
— Не прошло и трех минут, как проехали мотоциклисты.
Возбуждение Матье спало; он стал смеяться. Шассерьо
наблюдал, Матье смотрел на своего мертвеца и продолжал смеяться. В
течение долгих лет он напрасно пытался действовать: у него
постепенно крали его действия; крали бессчетно. Но на сей раз у него
ничего не похитили. Он нажал на гашетку, и на сей раз нечто
произошло. «Что-то бесповоротное», — подумал он, продолжая
смеяться. Его барабанные перепонки были изрешечены взрывами и кри-
864
Жан Поль Сартр
ками, но он их едва слышал; он с удовлетворением смотрел на
своего мертвеца. «Он чувствовал, что умирает, мать его так! Он
понял, этот малый, понял!» Его мертвец, его работа, след его
пребывания на земле. Его охватило желание убивать еще: это легко и
забавно; он хотел бы погрузить всю Германию в траур.
— Осторожно.
Вдоль стены полз человек с гранатой в руках. Матье
прицелился в это странное вожделенное существо; его сердце гулко
колотилось в груди.
— Гадство!
Промазал. Предмет скрючился, стал растерявшимся
человеком, который озирался по сторонам, ничего не понимая. Тут
выстрелил Шассерьо. Немец расслабился, как пружина, вскочил на
ноги, подпрыгнул, быстро вращая рукой, бросил гранату и рухнул
на спину прямо посреди мостовой. В тот же миг выскочили стекла,
на ослепляюще тусклом дне Матье увидел тени, извивающиеся на
первом этаже мэрии, потом в глазах у него потемнело, замелькали
какие-то желтые пятна. Он был в ярости — Шассерьо запоздал.
— Вот блядь! — повторял он в бешенстве. — Вот блядь!
— Не злись, — сказал Шассерьо. — Он тоже промахнулся,
ребята на втором этаже.
Матье моргал глазами и тряс головой, чтобы избавиться от
ослеплявших его желтых пятен.
— Осторожно, — сказал он, — я слепну.
— Пройдет, — успокоил Шассерьо, — целься, мать-перемать, в
типа, которого я подстрелил, если он побежит.
Матье наклонился; теперь он видел немного лучше. Фриц лежал
на спине с широко открытыми глазами и подергивался. Матье
приложил приклад к плечу.
— Не сходи с ума! — сказал Шассерьо. — Не переводи зря
патроны.
Матье недовольно опустил ружье. «Он, может, еще выпутается,
этот выблядок!» — подумал он.
Дверь мэрии широко распахнулась. На пороге появился
человек, он продвигался с некой вальяжностью. Он был обнажен по
пояс: казалось, с него содрали кожу. С его багровых шероховатых
щек свисали ошметки кожи. Вдруг он начал вопить, два десятка
винтовок выстрелили одновременно, человек в дверях зашатался и
ничком рухнул на ступеньки крыльца.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
865
— Это не из наших, — сказал Шассерьо.
— Нет, — сдавленным от бешенства голосом сказал Матье. — Он
из наших. Его зовут Латекс.
Его руки дрожали, глаза болели; дрожащим голосом он
повторил:
— Его звали Латекс. У него было шестеро детей.
Внезапно он наклонился, прицелился в раненого, который,
казалось, глядел на него широко раскрытыми глазами.
— Ты заплатишь за него, сволочь!
— Ты что, чокнулся?! — крикнул Шассерьо. — Я же тебе сказал:
не переводи патроны.
— Отстань! — отмахнулся Матье.
Он не торопился стрелять: «Если этот мерзавец меня видит, ему
сейчас погано». Он прицелился тому в голову и выстрелил: голова
немца разлетелась, но конечности продолжали двигаться.
— Сволочь! — крикнул Матье. — Сволочь!
— Осторожно, мать твою! Посмотри налево.
Появились пять или шесть немцев. Шассерьо и Матье начали
стрелять, но немцы изменили тактику. Они прятались по углам и,
казалось, выжидали.
— Клапо! Дандье! Сюда! — позвал Шассерьо. — Здесь хреново!
— Не могу, — отозвался Клапо.
— Пинетт! — крикнул Матье.
Пинетт не ответил. Матье не посмел обернуться.
— Осторожно!
Немцы сделали перебежку. Матье выстрелил, но они уже успели
пересечь улицу.
— Черт побери! — крикнул Клапо. — Поддеревьями полно
фрицев. Кто их пропустил?
Все промолчали. Под деревьями копошились, и Шассерьо
выстрелил наугад.
— Без катавасии их оттуда не выбить.
Из школы начали стрелять; укрывшись за деревьями, немцы им
отвечали. Из мэрии больше не стреляли. Земля на улице тихо
дымилась.
— Не стреляйте по деревьям! — крикнул Клапо. — Только
патроны зря тратите!
В эту минуту у фасада мэрии, на уровне второго этажа
разорвалась граната.
866
Жан Поль Сартр
— По деревьям карабкаются, — сказал Шассерьо.
— Если это так, — ответил Матье, — мы их накроем.
Он пытался что-нибудь рассмотреть сквозь листву; он увидел,
как чья-то рука описала дугу, и тут же выстрелил. Слишком поздно:
мэрия взорвалась, окна второго этажа были выбиты; глаза Матье
снова заволокла желтизна. Он выстрелил наугад: он видел, как
большие зрелые плоды перемещаются с ветки на ветку, но не
различал, падают они или спускаются.
— Из мэрии больше не стреляют, — сказал Клало.
Они прислушивались, затаив дыхание. Немцы непрерывно
стреляли, но мэрия не отвечала. Матье вздрогнул. Значит, погибли.
Куски кровавого мяса на развороченном полу в пустых залах.
— Мы не виноваты, — сказал Шассерьо. — Их было слишком
много.
Внезапно клубы дыма повалили из окон второго этажа; сквозь
дым Матье различил красно-черные языки пламени. В мэрии кто-то
начал кричать, голос был пронзительный и почти беззвучный, голос
голосящей женщины. Матье почувствовал дурноту. Шассерьо
выстрелил.
— Ты с ума сошел! — крикнул ему Матье. — Зачем ты стреляешь
по мэрии? Ты же сам ругал меня, что я перевожу зря патроны!
Шассерьо нацелился на окна мэрии и трижды выстрелил в
языки пламени.
— Не могу больше выносить этого крика, — ответил Шассерьо.
— Он все равно кричит, — сказал Матье.
Застыв, они вслушивались. Голос ослабел.
— Кончено.
Но вдруг вопли возобновились, страшные, нечеловеческие
вопли. Они начинались на басах и поднимались до визга. Матье, не
удержавшись, тоже выстрелил в окно мэрии, но безрезультатно.
— Стало быть, он не хочет подыхать! — сказал Шассерьо.
Вдруг крики затихли.
— Уф! — вздохнул Матье.
— Кончено, — сказал Шассерьо. — Загнулся.
Ни под деревьями, ни на улице ничто больше не шевелилось.
Солнце золотило фронтон горящей мэрии. Шассерьо посмотрел на
часы.
— Семь минут, — сказал он.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
867
Матье изнемогал от жары, он превратился в сплошной ожог.
Прижимая руки к груди, он медленно опускал их вниз, до живота,
чтобы убедиться, что цел и невредим. Вдруг Клапо сказал:
— Они на крышах.
— На крышах?
— Как раз напротив нас, они стреляют по школе. Черт, этого еще
не хватало!
— Чего?
— Они устанавливают пулемет. Пинетт! — крикнул он.
Пинетт отполз назад.
— Давай сюда! Сейчас будут обстреливать ребят из школы.
Пинетт стал на четвереньки: он смотрел на них с отсутствующим
видом.
Лицо его было землисто-серым.
— Плохи дела? — спросил Матье.
— Наоборот, все отлично, — сухо ответил он.
Пинетт прокрался к Клапо и стал на колени.
— Стреляй! — распорядился Клапо. — Стреляй по улице, чтобы
отвлечь их. А мы займемся пулеметом.
Пинетт, не говоря ни слова, стал стрелять.
— Целься, мать твою! — рявкнул Клапо. — Кто же с закрытыми
глазами стреляет?
Пинетт вздрогнул и, казалось, сделал над собой огромное
усилие; щеки его чуть порозовели; вытаращив глаза, он прицелился.
Рядом с ним Клапо и Дандье палили безостановочно. Клапо издал
победный крик.
— Готово! — закричал он. — Готово! Его песенка спета.
Матье прислушался: полная тишина.
— Да, — сказал он. — Но и ребята больше не стреляют.
Школа молчала. Три немца, прятавшиеся за деревьями, бегом
пересекли улицу и распахнули дверь школы. Они вбежали туда и
вскоре высунулись из окон второго этажа, они размахивали руками
и что-то кричали. Клапо выстрелил, немцы скрылись. Через
несколько минут впервые с утра Матье услышал возле уха свист пули.
Шассерьо посмотрел на свои часы.
— Десять минут, — сказал он.
— Да, — отозвался Матье. — Это начало конца.
Мэрия горела, немцы заняли школу; было ощущение, будто
Францию разгромили вторично.
868
Жан Поль Сартр
— Стреляйте, мать-перемать!
Немцы осторожно выглядывали у входа на главную улицу. Шас-
серьо, Пинетт и Клало выстрелили. Головы мгновенно исчезли.
— На этот раз они нас засекли.
Снова тишина. Долгая пауза. Матье подумал: «Что они
замышляют?» На главной улице четыре убитых, поодаль еще два: это все,
что мы смогли сделать. Теперь пора завершать работу: погибнуть
самим. А что это такое для немцев? Десять минут задержки в
предусмотренном графике.
— Сзади! — вдруг предостерег Клапо.
Маленькое приземистое чудовище, сверкая на солнце, катилось
к церкви.
— Schnellfeuerkanon*, — сквозь зубы сказал Дандье.
Матье пополз к ним. Они стреляли, но никого не было видно:
казалось, пушка катится сама. Они стреляли для очистки совести,
потому что еще не кончились патроны. У них были прекрасные,
спокойные, усталые лица, их последние лица.
— Назад!
Внезапно слева от пушки появился крепыш без кителя. Он не
пытался укрыться: он спокойно отдавал распоряжения, поднимая
руку. Матье резко выпрямился: этот человек с незащищенной шеей
искушал его.
— Назад, ползком!
Зев пушки медленно приподнялся. Матье не пошевелился: он
стоял на коленях и целился в фельдфебеля.
— Ты что, не слышишь?! — крикнул ему Клапо.
— Спокойно! — проворчал Матье.
Он выстрелил первым, приклад винтовки толкнулся ему в
плечо; раздался сильный взрыв, как эхо его выстрела, он увидел пламя,
потом услышал долгий мягкий шум разрыва.
— Мимо! — сказал Клапо. — Слишком высоко взяли.
Фельдфебель барахтался, суча ногами. Матье, улыбаясь,
смотрел на него. Он собирался его прикончить, но тут появились два
солдата и унесли его. Матье пополз, пятясь, и лег рядом с Дандье.
Клапо уже поднимал люк.
— Живее! Спускаемся!
Дандье покачал головой:
— Внизу нет окон.
* Скорострельная пушка (нем.).
СМЕРТЬ В ДУШЕ
869
Они переглянулись.
— Надо беречь патроны, — сказал Шассерьо.
— Много их у тебя осталось?
— Две обоймы.
— А у тебя, Дандье?
— Одна.
Клапо закрыл люк.
— Ты прав, надо их экономить.
Матье услышал сзади хриплое дыхание; он обернулся: Пинетт
сильно побледнел и тяжело дышал.
— Ты ранен?
Пинетт яростно взглянул на него.
-Нет.
Клапо внимательно поглядел на Пинетта.
— Если хочешь спуститься, дружок, то никто тебя не держит.
Никто больше никому ничего не должен. Но, понимаешь, это наши
патроны. И мы не можем их терять задарма.
— Мать твою так! — выругался Пинетт. — С какой стати я
спущусь, если Деларю остается?
Он дополз до парапета и принялся беспорядочно стрелять.
— Пинетт! — крикнул Матье.«
Пинетт не ответил. Над ним свистели пули.
— Брось, — сказал Клапо. — Это его отвлекает.
Пушка пальнула еще дважды. Они услышали над головой
глухой удар, от потолка отвалился кусок штукатурки; Шассерьо
вытащил часы.
— Двенадцать минут.
Матье и Шассерьо доползли до парапета. Матье сел на
корточки рядом с Пинеттом, Шассерьо стоял справа от него,
наклонившись вперед.
— Не так уж плохо: двенадцать минут продержались, — сказал
Шассерьо. — Не так уж плохо.
Воздух засвистел, заревел, ударил Матье прямо в лицо:
тяжелый и горячий, как каша. Матье сел на пол. Кровь ослепила его,
руки были красны до запястий; он тер глаза, и кровь на руках
смешивалась с кровью на лице. Но это была не его кровь: Шассерьо
сидел без головы на южной части парапета; из его шеи, булькая,
пузырилась кровь.
— Я не хочу! — закричал Пинетт. — Не хочу!
870
Жан Поль Сартр
Он вскочил, подбежал к Шассерьо и ударил ему в грудь
прикладом. Шассерьо зашатался и опрокинулся через парапет. Матье
видел, как он падает, и не испытывал волнения: это было как бы
начало его собственной смерти.
— Не жалей патронов, ребята! — крикнул Клапо.
Площадь вдруг заполнилась солдатами. Матье снова занял свой
пост и стал стрелять. Дандье стрелял, стоя рядом с ним.
— Ну и мясорубка, — смеясь, сказал Дандье.
Вдруг он выпустил винтовку, и она упала на улицу, а он
привалился к Матье, повторяя:
— Дружище! Дружище!
Матье оттолкнул его движением плеча, Дандье упал назад, и
Матье продолжал стрелять. Он еще стрелял, когда на него рухнула
крыша. Балка упала ему на голову, он выпустил винтовку из рук и
упал. «Пятнадцать минут! — думал он в бешенстве. — Я отдал бы
все, что угодно, чтобы продержаться пятнадцать минут!» Приклад
винтовки торчал из груды развороченного дерева и обломков
черепицы, он притянул его к себе: винтовка была липкая от крови, но
заряженная.
— Пинетт! — крикнул Матье.
Никто не ответил. Обвал крыши загромождал всю северную
часть настила, обломки и балки завалили люк; с зияющего потолка
свисала железная перекладина; Матье был один.
— Мать-перемать! — громко сказал он. — Мы обязаны
продержаться пятнадцать минут.
Он подошел к парапету и стоя начал стрелять. Это был
подлинный реванш: каждый выстрел мстил за его прошлые ошибки.
«Выстрел за Лолу, которую я не осмелился обокрасть, выстрел за
Марсель, которую я посмел оставить, выстрел за Одетту, с которой
я не решился переспать. А этот — за книги, которые я не дерзнул
написать, этот — за путешествия, от которых я отказался, этот — за
всех людей скопом, которых я почти ненавидел и старался понять».
Он стрелял, заповеди разлетались на глазах, бах, возлюби
ближнего, как самого себя, бах — в эту гадскую рожу, не убий, бах — в
этого поганого типа напротив. Он стрелял в Человека, в
Добродетель, во весь Мир: Свобода — это Ужас, пылало здание мэрии,
пылала его голова; пули свистели, он был свободен, как воздух, земной
шар взорвется, и я вместе с ним, он выстрелил, посмотрел на часы:
четырнадцать минут тридцать секунд; ему не о чем было больше
СМЕРТЬ В ДУШЕ
871
просить, кроме как о полуминутной отсрочке, как раз столько
понадобится, чтобы выстрелить в этого импозантного и такого
горделивого офицера, который бежит к церкви; он выстрелил в красавца-
офицера, во всю Красоту Земли, в улицу, в цветы, в сады, во все, что
он любил. Красота уродливо дернулась, и Матье выстрелил еще
раз. Он выстрелил, он был чист, всемогущ, свободен. Пятнадцать
минут.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Ночь, звезды; красный огонь на севере, это горит деревушка. На
востоке и западе длинные языки пламени, сухие и мигающие: это
их орудия. Они везде, завтра они со мной разделаются. Он входит
в уснувшую деревню, пересекает площадь, подходит к первому
попавшемуся дому, стучит — нет ответа, давит на ручку — дверь
открывается. Он входит, закрывает дверь; темнота. Спичка. Он в
прихожей, из темноты смутно выступает зеркало, он видит в нем
свое лицо: мне давно пора побриться. Спичка тухнет, но он успел
различить лестницу слева. Он наугад приближается: лестница
изгибаясь, ведет вниз. Брюне спускается, делает поворот, замечает
смутный рассеянный свет; он делает еще один поворот: погреб.
Оттуда пахнет вином и грибами. Бочки, куча соломы. Тучный
крестьянин в ночной рубашке и брюках сидит на бочке рядом с полуодетой
блондинкой, на руках у нее ребенок. Они смотрят на Брюне, открыв
рты: они боятся, крестьянин вдруг говорит: «Моя жена больна». —
«И что?» — спрашивает Брюне. «Я не хотел, чтобы она провела ночь
в лесу». — «Ты это мне говоришь? — удивляется Брюне. — Но мне
плевать». Теперь он в погребе. Крестьянин недоверчиво смотрит на
него: «А чего вы хотите?» — «Переночевать», — отвечает Брюне.
Крестьянин, скривившись, продолжает на него смотреть. «Вы
офицер?» Брюне молчит. «Где ваши люди?» — подозрительно
спрашивает крестьянин. «Погибли», — говорит Брюне. Он подходит к куче
соломы, крестьянин недоумевает: «А немцы? Где они?» —
«Везде». — «Я не хочу, чтобы они вас здесь нашли». Брюне снимает
китель, складывает его, кладет на бочку. «Вы слышите?» — кричит
крестьянин. — «Слышу», — отвечает Брюне. — «У меня жена и
ребенок: я не хочу за вас расплачиваться». — «Не волнуйся», — гово-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
873
рит Брюне. Он садится, женщина ненавидяще глядит на него: «Есть
французы, которые будут сражаться наверху, вы должны быть с
ними». Брюне смотрит на нее, она натягивает ночную рубашку на
грудь и кричит: «Уходите! Уходите! Вы проиграли войну, а теперь
по вашей милости убьют нас». Брюне ее успокаивает: «Не
волнуйтесь. Разбудите меня, когда немцы будут здесь». — «И что вы
будете делать?» — «Пойду сдаваться». — «Стыдоба! — говорит
женщина. — Ведь сколько тех, что погибли». Брюне зевает, потягивается и
улыбается. Уже неделю он воюет без сна и почти без еды, двадцать
раз он едва не погиб. Но теперь война проиграна, и есть работа,
которую предстоит выполнить. Много работы. Он ложится на
солому, зевает, засыпает. «Пошевеливайтесь, немцы здесь», — говорит
хозяин. Брюне открывает глаза, он видит толстое красное лицо,
слышит хлопки и взрывы. «Они здесь?» — «Да. — Он злится. — Я
не могу оставить вас у себя». Женщина неподвижна. Она смотрит
на Брюне свирепыми глазами, прижимая к себе уснувшего у нее на
руках ребенка. «Сейчас уйду», — говорит Брюне. Он встает, зевает,
подходит к подвальному оконцу, роется в своем рюкзаке, вынимает
оттуда осколок зеркала и бритву. Крестьянин смотрит на него,
остолбенев от негодования. «Вы что же, еще и бриться здесь
собираетесь?» — «А почему бы и нет?» — спрашивает Брюне. Хозяин
краснеет от гнева: «Говорю же вам, меня расстреляют, если найдут
вас здесь». Брюне говорит: «Я быстро». Крестьянин тянет его за
руку, выталкивая из погреба: «Нечего! У меня жена и ребенок, если
б я знал, я бы вас не впустил». Брюне рывком освобождается, он с
отвращением смотрит на этого толстого рохлю, который
упорствует в своем желании жить, который будет жить при любом режиме,
покорный, околпаченный, упрямый, будет жить неизвестно для
чего. Мужик бросается на него, и Брюне отбрасывает его к стене:
«Отстань, или я ударю!» Теперь крестьянин держится тихо, он
тяжело дышит, съежившись, он вращает глазами алкоголика, от него
несет острым запахом смерти и навозной жижи. Брюне начинает
бриться без мыла и воды, кожа горит; рядом с ним дрожит от страха
и ненависти женщина, Брюне торопится: если я затяну, она сойдет
с ума. Он кладет бритву в рюкзак: лезвие послужит еще два раза.
«Видишь, я закончил. Не стоило устраивать такой шум».
Крестьянин не отвечает, женщина кричит: «Уходите, гад такой, трус
поганый, из-за вас нас расстреляют!» Брюне надевает китель, он
чувствует себя чистым, обновленным, он напряжен, выбритое лицо его
покраснело. «Уходите! Уходите!» Он отдает честь двумя пальцами
874
Жан Поль Сартр
и говорит: «И все-таки спасибо». Потом он поднимается по темной
лестнице, пересекает прихожую: входная дверь широко открыта;
снаружи белый водопад дня, непрерывный стрекот пулеметов, а в
доме темно и прохладно. Он приближается к входной двери:
необходимо нырнуть в эту пену света. Маленькая площадь, церковь,
памятник погибшим, навоз у дверей. Между двумя темными
домами идет важная магистраль, вся розовая от утренней зари. Там
немцы, человек тридцать суетятся, они похожи на рабочих в разгар
работы, они стреляют по церкви из скорострельной пушки, а с
колокольни стреляют в них, грохот, как на строительной площадке.
Посреди площади под перекрестным огнем французские солдаты
без кителей идут на цыпочках мелкими торопливыми шагами, как
будто дефилируют на конкурсе красоты. Они поднимают бледные
руки над головами, и солнце просвечивает у них между пальцами.
Брюне смотрит на них, потом на колокольню, справа от него
пылает большая постройка, он чувствует жар на щеке, он матерится.
Потом спускается по трем ступенькам крыльца. Все: его берут в
плен. Он держит руки в карманах, они тяжелее свинца. «Руки
вверх!» Немец целится в него из винтовки. Брюне краснеет, руки
его медленно поднимаются, вот они уже над головой: «Они мне
заплатят за это кровью, скоты». Брюне присоединяется к французам
и приплясывает вместе с ними, все выглядит ненастоящим, как в
кино: эти свистящие пули не могут убить, пушка стреляет
холостыми патронами. Один француз делает реверанс и падает, Брюне
перешагивает через него. Он неспешно огибает угол коричневого дома
и выходит на главную улицу в тот момент, когда обрушивается
колокольня. Нет больше ни фрицев, ни стрельбы, кино
закончилось, это обыкновенная деревня, он снова сует руки в карманы.
Теперь он опять среди своих. Шумная толпа маленьких французов
в хаки, немытых, небритых, с черными от дыма лицами, они
смеются, шепчутся, шутят, покачиваются барашки их обнаженных голов,
полицейские пилотки, ни одной каски: они узнают друг друга,
здороваются: «Я тебя видел в Саверне в декабре». — «Эй! Жирар,
привет, не попади мы в плен, может, и не встретились бы снова, как там
Лиза?» Скучающий немецкий солдат с винтовкой на ремне
охраняет это стадо крохотных побежденных, размашистыми и
медленными шагами он сопровождает их торопливую рысцу. Брюне рысит
вместе с другими, но ростом он не уступает фрицу и так же хорошо
побрит. Розовая дорога течет между травами, ни дуновения ветерка,
тяжкая жара поражения. От людей сильно пахнет, они о чем-то
СМЕРТЬ В ДУШЕ
875
судачат, птицы поют. Брюне поворачивается к соседу, тихому
толстяку, который дышит ртом. «Откуда вы?» — «Мы шли из Саверна,
ночь провели на фермах». — «А я пришел сюда совсем один, —
говорит Брюне. — Странно, я думал, что деревня пуста». Молодой
загорелый блондин идет за два ряда от него, он по пояс обнажен, с
большим кровоточащим струпом между лопаток. За спиной Брюне
слышатся несмолкающий оживленный шум, смех, крики, шарканье
подошв о землю, это похоже на шум ветра в деревьях. Он
оборачивается: теперь позади него тысячи людей, их собрали отовсюду — с
полей, деревушек, ферм. Плечи и голова Брюне одиноко
возвышаются над этой волнообразной долиной. «Меня зовут Мулю, —
говорит толстяк, — я из Бар-ле-Дюа». Он гордо добавляет: «Я знаю эту
местность». У дороги горит ферма, черное пламя бьется на солнце,
воет собака. «Слышишь пса? — спрашивает Мулю у своего
соседа. — Его заперли внутри». Сосед явно с севера, блондин, не
слишком низкорослый, с молочно-белой кожей, он похож на фрица,
который его охраняет. Он хмурит брови и обращает большие голубые
глаза на Мулю: «А?» — «Собака там, внутри». — «Ну и что? Это
всего лишь собака». «Уа, уа! уа! уа!» На сей раз это не лай собаки:
это голосит молодой человек с обнаженной спиной. Кто-то
увлекает его и прикрывает ему рот рукой, Брюне успевает увидеть его
большое бледное испуганное лицо и глаза без ресниц. «Шарпен,
ему, кажется, худо», — говорит Мулю северянину. Северянин
смотрит на него: «А?» — «Я говорю: Шарпену, твоему товарищу, худо».
Северянин смеется, зубы у него белые: «Он всегда был малость не
в себе». Дорога идет в гору, их сопровождает сильный запах
разогретого камня, сожженного дерева, за их спиной продолжает
завывать собака. Они взбираются на вершину косогора; вниз ведет
пологий спуск. Мулю показывает пальцем на бесконечную колонну:
«Ну и дела! Откуда они взялись?» Он поворачивается к Брюне:
«Сколько их?» — «Не знаю. Может, десять тысяч, а может, больше».
Мулю недоверчиво смотрит на него. «Ты можешь это определить
на глаз, приблизительно?» Брюне думает о дне взятия Бастилии, о
Первом мая: тогда размещали специальных людей на бульваре
Ришар-Ленуар, и те подсчитывали число демонстрантов по
длительности прохождения. Когда ты среди них, это молчаливые и
теплые толпы. А это скопище шумное, но холодное и безжизненное.
Он улыбается и говорит: «У меня есть навык». — «Куда нас
ведут?» — спрашивает северянин. — «Не знаю». — «Где фрицы? Кто
командует?» Фрицев нет, кроме десятка солдат, растянувшегося
876
Жан Поль Сартр
вдоль дороги. Огромное стадо скользит до подножия косогора, как
бы повинуясь собственной тяжести. «Забавно», — говорит Мулю. —
«Действительно, — отзывается Брюне, — забавно». Они могли бы
броситься на немцев, задушить их и убежать полями, но зачем? Они
идут напрямик, куда ведет их дорога. Вот они уже внизу косогора,
в ложбине; теперь они поднимаются, им жарко. Мулю вынимает из
кармана связку писем, скрепленную резинкой, и с минуту вертит ее
в больших неловких пальцах. Пот местами пропитал бумагу,
фиолетовые чернила кое-где выцвели. Он снимает резинку и, не читая,
начинает методично рвать письма на мелкие кусочки, которые
постепенно разбрасывает жестом сеятеля. Брюне следит глазами за
плавным полетом обрывков; большая часть падает, как конфетти,
на плечи солдат, а оттуда им под ноги; один кусочек секунду
порхает и падает на пучок травы. Трава немного пригибается —
получается маленький балдахин. Другие письма валяются вдоль дороги,
разорванные, смятые, свернутые в шарик, они в кюветах, среди
разбитых винтовок и помятых касок. Когда почерк размашист и
крупен, Брюне ухватывает походя слова: ешь хорошенько, не ходи без
головного убора, Элен приехала с детьми, в твоих объятиях, любовь
моя. Вся дорога — длинное оскверненное любовное письмо.
Маленькие мягкие чудовища ползут по земле и глядят глазами без
зрачков на веселое стадо побежденных: противогазы; Мулю локтем
толкает Брюне и показывает на противогаз: «Все-таки повезло, что
не пришлось ими пользоваться». Брюне не отвечает. Мулю ищет
других собеседников: «Эй! Ламбер!» Солдат, идущий впереди
Брюне, оборачивается, Мулю показывает ему на противогаз без
комментариев, они начинают смеяться, и люди вокруг них хохочут тоже:
они их ненавидели, этих мерзких паразитов, они их боялись, и,
однако, их нужно было холить, ухаживать за ними. Теперь они лежат
у них под ногами околевшие, пленные смотрят на них, и это им
напоминает, что война закончена. Крестьяне, которые пришли, как
всегда, работать в поле, глазеют на колонну, опираясь на лопаты;
Ламбер веселится, он им кричит: «Привет, папаша! У нас
демобилизация». Десять голосов, сто голосов повторяют с неким вызовом:
«У нас демобилизация, демобилизация! Домой возвращаемся».
Крестьяне ничего не отвечают, кажется, что они их даже не слышат.
Кучерявый блондин столичного обличья спрашивает у Ламбера:
«Как ты думаешь, сколько их?» — «Мало, блондинчик, мало», —
говорил Ламбер. — «Ты так считаешь? Ты в этом уверен?» —
«Только посмотри. Где они, эти субчики, которые должны нас охранять?
СМЕРТЬ В ДУШЕ
877
Если бы мы были вправду пленными, ты б увидел, как бы нас
обложили». — «Тогда почему они нас взяли в плен?» — спрашивает
Мулю. — «В плен? Они нас не брали в плен: они нас просто
отодвинули в сторону, чтобы мы не болтались у них под ногами, пока
они наступают». — «Даже если и так, — вздыхает блондинчик, — это
может долго продлиться». — «Ты с ума сошел! Они даже за нами не
угонятся — так быстро мы удираем». У него игривый вид, он
ухмыляется: «Фрицы не волнуются, для них это просто прогулка:
подружка в Париже, стаканчик вина в Дижоне, рыбная похлебка в
Марселе. Конечно, в Марселе все и закончится, там им придется
остановиться: впереди море. Тогда-то они нас и отпустят. К
середине августа будем дома». Блондинчик качает головой: «Еще два
месяца. Так долго». — «Скажи, ты что, очень торопишься? Они
должны еще восстановить железнодорожные пути». — «Плевал я на
пути, — говорит Мулю, — если дело только в этом, я прекрасно
вернусь пешком». — «Мать твою, а я нет! Я иду уже две недели, мне
это уже до задницы, я хочу отдохнуть». — «Тебе, значит, не хочется
побаловаться со своей девчонкой?» — «Скажешь еще! А чем я буду
это делать? Я слишком долго шел, и у меня в штанах уже ничего не
осталось. Я хочу только спать, и один». Брюне слушает их, смотрит
на их затылки, он думает, что предстоит много работы. Тополя,
тополя, мост через ручей, тополя. «Хочется пить», — говорит Мулю. —
«Не столько пить, — отвечает северянин, — сколько есть, я со
вчерашнего дня ничего не ел». Мулю семенит и потеет, он тяжело
дышит, снимает китель, перекидывает его через руку, расстегивает
гимнастерку и с улыбкой говорит: «Теперь можно снять китель, мы
свободны». Внезапная остановка; Брюне натыкается грудью на
спину Ламбера. Ламбер оборачивается; у него круглая борода,
живые глаза под густыми черными бровями: «Смотри куда прешь,
осел. Ты что, слепой?» Он нагло разглядывает форму Брюне: «С
офицерьем покончено. Теперь никто не командует. Тут все равны».
Брюне равнодушно смотрит на него, и тот замолкает. Брюне
прикидывает, чем он мог заниматься на гражданке. Мелкий
коммерсант? Служащий? Во всяком случае, он из среднего класса. И их
сотни тысяч таких: никакого чувства авторитета и личной
порядочности. Нужна будет железная дисциплина. Мулю спрашивает:
«Почему мы остановились?» Брюне не отвечает. Этот тоже мелкий
буржуа, совершенно подобный другому, но еще глупее: с ними
работать будет трудно. Мулю вздыхает от удовольствия и
обмахивается: «Может, успеем присесть?» Он кладет на дорогу рюкзак, са-
878
Жан Поль Сартр
дится на него; подходит немецкий солдат, поворачивает к ним
удлиненное, красивое и невыразительное лицо, его голубые глаза
источают подобие симпатии. Он старательно выговаривает:
«Бедные французы, война кончилась. Возвращайтесь домой.
Возвращайтесь домой». — «Что он говорит? Он говорит, что мы скоро
вернемся домой, конечно, мы скоро вернемся домой, черт побери,
Жюльен, ты слышишь, мы возвращаемся домой, спроси у него,
когда, эй! Спроси у него, когда мы вернемся?» — «Скажи, фриц,
когда мы вернемся домой?» Они говорят ему ты, раболепно и в то
же время фамильярно. Вся победоносная армия в лице одного
солдата. Немец бесстрастно повторяет: «Возвращайтесь домой,
возвращайтесь домой». — «Но когда, а?» — «Бедные французы,
возвращайтесь домой». И снова в путь, тополя, тополя. Мулю стонет,
ему жарко, он хочет пить, он устал, он хотел бы остановиться, но
никому нельзя тормозить это упрямое шествие, которым никто не
управляет. Какой-то солдат стонет: «У меня раскалывается голова»,
но продолжает идти. Болтовня замедляется, прерывается долгими
паузами, они жалуются друг другу: «Мы что, до Берлина будем так
идти?» Но они идут; они следуют за теми, кто впереди, их
подталкивают те, кто сзади. Деревня, груда касок, противогазов и винтовок
на главной площади. — «Это Пудру, я здесь проходил позавчера», —
говорит Мулю. — «Смотри-ка, а я вчера вечером, — говорит
блондин, — я был на грузовике: на порогах стояли люди, и вид у них был
враждебный». Они и сейчас здесь, подле своих домов, стоят,
скрестив руки, безмолвные. Черноволосые и черноглазые женщины в
черных платьях, старики. Они смотрят. Перед этими соглядатаями
пленные распрямляются, лица их становятся циничными и лихими,
они машут руками, смеются, кричат: «Привет, мамаша! Привет,
папаша! У нас демобилизация, война закончена, всем привет». Они
проходят и салютуют зевакам, они строят глазки девицам, шлют им
зазывные улыбочки, а соглядатаи смотрят и молчат. Только жирная
и добродушная бакалейщица шепчет: «Бедные парни». Северянин
блаженно улыбается, он говорит Ламберу: «Хорошо еще, что мы не
на севере». — «Почему?» — «Они бы бросали нам в рожи что
попало». Показалась колонка, и десять человек, сто человек выходят
из рядов, идут пить. Мулю тотчас нетерпеливо бежит туда, он
неловко наклоняется; они изнемогают от усталости, их плечи
подрагивают; вода стекает по их лицам. Часовой ждет с отсутствующим
видом. Они остались бы в деревне, если бы только захотели и если
бы у них хватило мужества выдержать взгляды селян. Но нет, они
СМЕРТЬ В ДУШЕ
879
поодиночке возвращаются, они торопятся, словно боятся потерять
свое место; Мулю бежит, как женщина, крутя коленями, они
толкаются, смеются, кричат, скандальные и дерзкие, как уличные парни;
их рты раскрываются, как обнажающиеся раны, у них
сконфуженные глаза побитых собак. Мулю вытирает губы и говорит:
«Хорошо!» Он удивленно смотрит на Брюне: «Ты не пил? Ты не хочешь
пить?» Брюне, не отвечая, пожимает плечами; жалко, что это стадо
не окружено пятьюстами солдатами с примкнутыми штыками,
которыми кололи бы задницы запоздавшим, жаль, что их не пинают
прикладами: это вернуло бы их к реальности. Он смотрит направо
от себя, налево, он оборачивается, среди этого леса заброшенных,
пьяных, искаженных бесшабашным весельем физиономий он ищет
лицо, подобное своему. Где товарищи? Коммуниста узнаешь с
первого взгляда. Хоть бы одно лицо. Одно-единственное лицо, суровое
и спокойное человеческое лицо. Но нет: маленькие, юркие, жалкие,
они идут, наклонившись вперед, скорость увлекает их хилые
неприкаянные тела, так называемый галльский интеллект запечатлен на
их грязных лицах; вытягивая складки губ в нитку, сужая и
расширяя ноздри, наморщив лбы, сверкая глазами, они оценивают,
определяют, спорят, судачат, критикуют, взвешивают все за и против,
смакуют возражения, настаивают и делают выводы, этот
бесконечный силлогизм, в каждой голове свои доводы. Они идут послушно,
они разглагольствуют на ходу, они с виду спокойны: война
закончена; потерь не было; немцы, кажется, не слишком гнусные. Они
спокойны, потому что сразу же оценили своих новых хозяев; их
лица снова начинают источать галльскую сметливость, ибо это
чисто французский предмет роскоши, которому в нужное время
можно будет обучить и фрицев — с некоторой пользой для себя. Тополя,
тополя, солнце припекает, полдень: «Вот они!» Ум примолкает, все
стадо стонет от наслаждения, это не крик, даже не вздох: нечто
вроде радостного обвала, тихого шелеста листвы, гнущейся под
дождем. «Вот они!» — проходит через всю колонну, переходит из
головы в голову, как хорошая новость, вот они, вот они! Ряды
сжимаются, переливаются на обочину, длинная гусеница вздрагивает:
немцы проезжают по дороге на мотоциклах, на танкетках, на
грузовиках, выбритые, отдохнувшие, загорелые, с красивыми,
спокойными и рассеянными лицами, похожими на альпийский луг. Они ни
на кого не смотрят, их взгляд прикован к югу, они углубляются во
Францию, молча вытянувшись, только их транспортируют задарма,
это моторизованная пехота, да, так можно вести войну, а посмотреть
880
Жан Поль Сартр
на их пулеметы, ого! А маленькие пушки, ух ты! Вот это да,
неудивительно, что мы проиграли войну. Толпа восхищена немецкой
мощью. Она себя чувствует не такой виноватой: «Они непобедимы,
никуда не денешься, непобедимы». Брюне смотрит на этих
очарованных побежденных, он думает: «Это строительный материал. Он
немногого стоит, но что делать — другого у меня нет». Можно
работать везде, и, безусловно, есть в этой мешанине и такие, которых
можно использовать. Немцы прошли, колонна немного сползает с
дороги, вот они на баскетбольной площадке, людские черные
горошины, они садятся, они ложатся, они мастерят из майских газет
большие шляпы от солнца; можно подумать, что публика занимает
дешевые места на ипподроме, или гуляющие заполняют Венсенн-
ский лес в воскресенье. — «Как это вышло, что мы
остановились?» — «Не знаю», — отвечает Брюне. Он с раздражением
смотрит на эту толпу, на разлегшихся людей, ему не хочется садиться,
но это глупо, не нужно их презирать, это значит сорвать операцию,
и потом, кто знает, как все обернется? Он должен беречь силы, он
садится. Сзади него проходит немец, потом другой: они смотрят на
него, дружески смеясь, и с покровительственной иронией
спрашивают: «А где же ваши англичане?» Брюне смотрит на их черные
мягкие сапоги, он не отвечает, и они уходят; длинный фельдфебель
остается сзади и повторяет чуть ли не с укоризненной грустью: «А
где же англичане? Бедные французы, где же ваши англичане?»
Никто ему не отвечает, и он долго качает головой. Когда фрицы уже
далеко, Ламбер цедит сквозь зубы: «В моей заднице эти англичане,
и как ни беги, они тебя обосрут». — «Как же! — говорит Мулю. —
А?» — «Англичане, — объясняет он, — может, и обосрут фрицев, но
в конце концов попадут в наше положение, и выхода у них не
будет». — «Это еще не известно». — «Конечно, известно, балбес! Это
точно. Они корчат из себя храбрецов, потому что сидят на своем
острове, но подожди немного, увидишь, что будет, когда немцы
пересекут Ла-Манш. Раз французский солдат не мог устоять, где уж
там англичанам!» Где же товарищи? Брюне одиноко. Вот уже десять
лет ему не было так одиноко. Он хочет есть и пить, но ему совестно,
что он хочет есть и пить; Мулю поворачивается к нему: «Скоро они
дадут нам пожрать». — «Ты думаешь?» — «Кажется, фельдфебель
сказал: скоро будут раздавать хлеб и консервы». Брюне улыбается:
он уверен, что им ничего не дадут. Пусть все они слюнями изойдут,
пусть на стенку лезут от голода. Вдруг некоторые пленные встают,
за ними другие, потом встают остальные, и все снова отправляются
СМЕРТЬ В ДУШЕ
881
в путь; Мулю в ярости, он бурчит: «Кто сказал: отправляться?»
Никто не отвечает. Мулю кричит: «Ребята, постойте, они нам дадут
поесть». Но слепое и глухое стадо уже вышло на дорогу. Они идут.
Лес; бледные рыжеватые лучи пробиваются сквозь листву, три
брошенные пушки семьдесят пятого калибра еще обращены на восток;
пленные довольны, потому что есть тень; мимо проходит полк
немецких саперов. Блондинчик, тонко улыбаясь, смотрит, как они
шагают, он наслаждается, взирая на своих победителей
полузакрытыми глазами, он играет с ними, как кошка с мышкой, он
развлекается своим превосходством; Мулю хватает за руку Брюне и трясет
ее: «Там! Там! Серая труба». — «И что?» — «Это Баккара». Он
становится на цыпочки, рупором складывает руки у рта и кричит:
«Баккара! Ребята, входим в Баккара!» Люди устали, солнце бьет им
в глаза, они послушно повторяют: «Баккара, Баккара», но, в
сущности, им наплевать. Блондинчик спрашивает у Брюне: «В Баккара
кружева делают что ли?» — «Нет, — говорит Брюне, — здесь есть
производство стекла». — «А! — говорит блондинчик с
неопределенным и уважительным видом. — Понятно!» Город чернеет под
голубым небом, лица грустнеют, кто-то печально говорит: «Как-то
странно сейчас видеть город». Они идут по пустынной улице;
осколки стекла устилают тротуар и мостовую. Блондинчик
ухмыляется, он показывает на осколки пальцем и говорит: «Вот оно,
производство стекла в Баккара». Брюне поднимает голову: дома
невредимы, но все стекла выбиты, сзади него кто-то повторяет: «Да,
странно видеть город». Мост, колонна останавливается; тысячи глаз
поворачиваются к реке: пять голых фрицев плещутся в воде,
барахтаются, испуская негромкие крики: двадцать тысяч серых и потных
французов в военной форме смотрят на эти животы и ягодицы,
которые десять месяцев были защищены преградой из пушек и
танков, а сейчас спокойно, нагло и беззащитно выставляют себя
напоказ. Они видят только это: уязвимую плоть своих победителей.
Толпа исторгает тихий и глубокий вздох. Они без гнева вынесли
шествие армии-победительницы на победоносных танках; но эти
голые фрицы, которые играют в воде в чехарду, выглядят
оскорбительно. Ламбер, склонясь над парапетом, смотрит на воду и шепчет:
«А хорошо бы сейчас скупнуться!» Это даже не желание: это всего
лишь вздох мертвеца. Полуживая, забытая, погребенная в затухшей
войне толпа снова трогается в путь в нестерпимом пекле и в
завихрениях пыли. Со скрипом открываются ворота, сквозь дрожащий
воздух из глубины огромного двора приближаются стены, Брюне
882
Жан Поль Сартр
видит казарму с закрытыми ставнями; он проходит вперед, его
толкают сзади, он оборачивается: «Не толкайтесь, все войдем». Он
проходит через ворота, Мулю радостно смеется: «На сегодня — все».
Закончено чередование гражданских и победителей, тополей и
сверкающих на солнце рек, они похоронят меж этими стенами
осточертевшую грязную войну, они будут вариться в собственном соку,
без свидетелей, сами по себе. Брюне идет, его толкают, он
продвигается в глубь двора и останавливается у подножия длинной серой
скалы, Мулю тычет его локтем в бок: «Это казарма жандармерии».
Сотня закрытых жалюзи; крыльцо с тремя ступеньками ведет к
двери с висячим замком. Слева от крыльца, в двух метрах от
казармы, небольшая кирпичная крепостная стена высотой в один и
длиной в два метра, Брюне подходит к ней, прислоняется. Двор
заполняется, непрерывный поток уминает остальных, оттесняет их к
стене казармы; но идут еще и еще; вдруг тяжелые створки ворот
поворачиваются вокруг вереи и закрываются. «Готово, — говорит
Мулю, — мы дома». Ламбер смотрит на ворота и с удовлетворением
говорит: «Некоторые не смогли войти: им придется спать снаружи».
Брюне пожимает плечами: «Какая разница, спишь ты во дворе или
на улице...» — «Это не одно и то же», — возражает Ламбер.
Блондинчик одобрительно кивает. «А мы здесь, — объясняет он, — мы не
снаружи». Ламбер набавляет цену: «Можно сказать, мы в доме,
только без крыши». Брюне делает крутой поворот: мягким склоном
двор спускается к крепостной стене. На гребне стены, в ста метрах
друг от друга, высятся две сторожевые вышки: они пусты. Ряд све-
жеустановленных колышков, между которыми натянута железная
проволока и веревки, делит двор на две неравные части.
Сравнительно узкая полоса между крепостной стеной и колышками
остается незанятой. На другой части, между колышками и казармой,
скопились все. Людям не по себе, у них вид неловких визитеров,
они не решаются сесть; они держат в руках рюкзаки и амуницию;
пот стекает по их щекам, хваленое галльское остроумие покинуло
их лица, солнце слепит их пустые глаза, они пытаются скрыться от
прошлого и ближайшего будущего в маленькое неудобное
временное небытие. Брюне гонит прочь мысль о том, что хочет пить, он
положил свой рюкзак наземь и, засунув руки в карманы,
насвистывает. Сержант отдает ему честь; Брюне в ответ улыбается, но на
приветствие не отвечает. Сержант подходит ближе: «Чего ждем?» —
«Не знаю». Сержант — высокий худой человек с большими глазами,
потускневшими от важности; его костистое лицо пересекают усы; у
СМЕРТЬ В ДУШЕ
883
него энергичные вышколенные движения. — «Кто здесь
командует?» — спрашивает он. «А кто, по-вашему? Фрицы». — «А среди
наших? Где ответственный?» Брюне смеется ему в лицо: «Ищи
ветра в поле». Глаза сержанта тяжелеют от презрительного упрека: он
хотел бы побыть заместителем командира, соединить опьянение
повиновения с усладой отдавать приказы; но Брюне вовсе не хочет
больше командовать; его командованию пришел конец, когда погиб
последний из его людей. Теперь в голове у него другое. Сержант
нетерпеливо спрашивает: «Почему этих бедолаг держат здесь на
ногах?» Брюне не отвечает; сержант бросает на него яростный
взгляд и решается все взять на себя. Он держится вызывающе,
складывает руки рупором и кричит: «Всем сесть! Передать дальше!»
На него обеспокоенно оборачиваются, но никто не двигается. —
«Всем сесть! — повторяет сержант. — Всем!» Люди с сонным видом
садятся; голоса повторяют эхом: «Всем сесть!»; толпа нестройно
усаживается. Крик кружится над головами, «Всем сесть!» доходит
до другого конца двора, натыкается на стену и непонятным образом
возвращается перевернутым: «Всем встать! Оставайтесь на ногах,
ждите распоряжений». Сержант беспокойно смотрит на Брюне: там,
у ворот, у него объявился конкурент. Люди резко встают,
поднимают рюкзаки и, загнанно озираясь, прижимают их к груди. Но
большая часть продолжает сидеть, те, кто встал, садятся снова. Сержант
созерцает свою работу с фатоватым смешком: «Главное —
приказать». Брюне смотрит на него и говорит: «Садитесь, сержант».
Сержант хлопает глазами, Брюне повторяет: «Садитесь, есть приказ
садиться». Сержант колеблется, затем соскальзывает на землю
между Ламбером и Мулю: он охватывает руками колени и,
приоткрыв рот, смотрит на Брюне снизу вверх. Брюне ему объясняет: «Я
не сажусь, потому что я офицер». Брюне не хочет садиться:
судороги сводят ему ноги от икр до бедер, но он все равно не хочет
садиться. Он видит тысячи спин и лопаток, он видит шевелящиеся
затылки, подрагивающие плечи, эту толпу сотрясает нервный тик. Он
смотрит, как это скопище людей варится в собственном соку и
трепещет, он думает без скуки и без удовольствия: «Это материал».
Они напряженно ждут; они больше не кажутся голодными: жара,
должно быть, иссушила им желудки. Они боятся и ждут. Чего они
ждут? Приказа, катастрофы или ночи: чего угодно, только бы это
освободило их от них самих. Высокий резервист поднимает бледное
лицо, он показывает на вышки: «Почему там нет часовых? Куда они
делись?» Некоторое время он ждет, солнце затопляет его запроки-
884
Жан Поль Сартр
нутые глаза; в конце концов он пожимает плечами и говорит сурово
и разочарованно: «У них такой же бардак, как и у нас: организация
ни к черту». Единственный стоящий, Брюне смотрит на головы и
думает: «Товарищи здесь, они затеряны, как иголки в стоге сена,
нужно время, чтобы их обнаружить и сгруппировать». Он смотрит
на небо и на черный самолет в небе, затем опускает глаза,
поворачивает голову и замечает справа от себя высокого человека,
который тоже остался на ногах. Это капрал; он курит сигарету. С
грохотом пролетает самолет, толпа, перевернутая, как поле, становится
из черной белой, расцветает: на месте жестких темных голов
расцветают большие камелии: блестят очки, вспышки стекла среди
цветов. Капрал не пошевелился: он горбит широкие плечи и
смотрит себе под ноги. Брюне с симпатией замечает, что он выбрит.
Капрал оборачивается и, в свою очередь, смотрит на Брюне: у него
большие глаза с темными кругами; если бы не приплюснутый нос,
он был бы почти красив. Брюне думает: «Я где-то видел это лицо».
Но где? Он не может вспомнить, он видел столько лиц! Он
перестает вспоминать: это не имеет особого значения, к тому же капрал
глядит на него, как на незнакомого. Вдруг Брюне кричит: «Эй!»
Человек поднимает глаза: «Что?» Брюне недоволен: он вовсе не
собирался окликать этого человека. Просто он тоже стоял,
довольно чистый и выбритый... «Иди сюда, — холодно говорит Брюне. —
Если хочешь стоять, можешь прислониться к стенке». Капрал
нагибается, поднимает свое снаряжение и подходит к Брюне,
перешагивая через тела. Он здоровяк, но немного жирный; он говорит:
«Привет, старина». — «Привет», — отвечает Брюне. — «Я здесь
размещусь», — решает тот. — «Ты один?» — спрашивает Брюне. —
«Мои люди погибли», — отвечает крепыш. — «Мои тоже. — говорит
Брюне. — Как тебя зовут?» — «Что?» — переспрашивает капрал. —
«Я спрашиваю, как тебя зовут?» — «А, понял! Шнейдер. А тебя?» —
«Брюне». Они молчат. «Зачем мне понадобилось звать этого
малого, он будет меня только стеснять». Брюне смотрит на часы: пять
часов, солнце прячется за казармой, но небо по-прежнему пылает.
Ни облачка, ни содрогания: мертвое море. Все молчат; вокруг
Брюне люди пытаются уснуть, спрятав голову в руки, но тревога им
мешает: они выпрямляются, вздыхают или начинают чесаться.
«Эй! — говорит Мулю. — Эй! Смотрите!» Брюне оборачивается:
позади него, под конвоем немецких часовых вдоль стены проходит
с десяток офицеров. «Значит, они еще остались? — спрашивает
блондинчик сквозь зубы. — Значит, не все драпнули?» Офицеры
СМЕРТЬ В ДУШЕ
885
молча удаляются, ни на кого не глядя; люди криво ухмыляются и
при их приближении отворачиваются: можно подумать, что они
боятся друг друга. Брюне ищет взгляд Шнейдера, и они друг другу
улыбаются. Внизу, у земли, слышна какая-то перебранка: это
сержант переругивается с блондинчиком. «Все, — говорит
блондинчик. — Кто на автомобилях, кто на мотоциклах — все они смылись,
а нас оставили в дерьме». Сержант скрещивает руки: «Неприятно
слышать это. Все-таки неприятно». — «Это нам сказали сами
фрицы, — отвечает блондинчик. — Они нам сказали, когда взяли нас в
плен: французская армия — армия без командиров». — «А та война,
разве ее не командиры выиграли?» — «То были другие». — «Такие
же! Только войска у них были другие». — «На что намекаешь?
Значит, это мы проиграли войну? Или капралы с сержантами? Ну,
говори, ты ведь один из них». — «А! — отвечает сержант. — Я и говорю:
вы побежали от врага и предали Францию». Ламбер, который их
молча слушал, покраснел и наклонился к сержанту: «А скажи-ка,
дружок, как случилось, что ты оказался здесь, если ты не удрал?
Может, ты считаешь, что погиб на поле брани и что мы сейчас в
раю? А я думаю, что тебя взяли в плен, потому что ты не успел
улепетнуть». — «Я тебе не дружок: я сержант и гожусь тебе в отцы.
К тому же я не улепетывал, меня взяли, когда у меня кончились
патроны». Со всех сторон к ним подползают пленные; блондинчик,
смеясь, призывает их в свидетели: «Вы слышите?» Все смеются.
Блондинчик поворачивается к сержанту: «Да, папаша, да, ты
подстрелил двадцать парашютистов и в одиночку остановил танк. Я
тоже могу приврать: доказательств-то нет». Сержант показывает на
своем кителе три светлых пятна, его глаза сверкают: «Медаль за
воинскую доблесть, Почетный легион, крест за боевые заслуги, я их
получил в четырнадцатом году, когда всех вас еще на свете не было:
вот мои доказательства». — «А где они, твои награды?» — «Я их
сорвал, когда подошли немцы». Вокруг него все кричат; они лежат
на животах, задирают ноги к затылкам, как тюлени; они орут, их
лица от напряжения краснеют; сержант сидит по-турецки и
возвышается над ними, один против всех. «Эй! Скажи, балбес, — кричит
один из пленных, — ты думаешь, я собирался воевать, когда радио
папаши Петэна трубило нам в уши, что Франция попросила
перемирия?» И другой: «А ты бы хотел, чтобы мы погибали, пока
генералы торгуются с фрицами о жирных кусках для себя в
историческом замке?» — «А почему бы и нет? — запальчиво кричит
сержант. — В конце концов, война для того и есть, чтобы убивать лю-
886
Жан Поль Сартр
дей, разве не так?» Секунду они молчат, ошеломленные и
негодующие; сержант этим пользуется и продолжает: «Давно уже я за вами
наблюдаю, парни сорокового года, все вы пройдохи, шалопайские
рожи, бузотеры. С вами не смели разговаривать как надо; вам надо
было, чтобы капитан снял кепи в руку и обратился бы к вам на
такой манер: «Тысяча извинений, вас не слишком затруднит
отправиться в наряд?» Я говорил себе: «Внимание! Скоро начнется
катавасия, и что будут делать мои храбрецы-командиры?» А еще и эта
глупость: отпуска! Когда я увидел, что начинаются отпуска, я сказал
себе: дело дрянь! Отпуска! Экие цацы! Их, видите ли, отпускали в
койки к девкам, чтобы те вас малость порасслабили. Разве в
четырнадцатом у нас были отпуска?» — «Да, были, именно что были». —
«Откуда ты это знаешь, сопляк? Ты там был?» — «Я там не был, но
мой старик был, и он рассказывал». — «Значит, твой старик воевал
в Марселе. Потому что мы ждали отпусков два года с лишним, а их
все откладывали неизвестно почему. Ты знаешь, сколько времени я
провел дома за четыре с лишним года войны? Двадцать два дня. Да,
двадцать два дня, мой мальчик, удивляешься? И еще меня считали
везучим». — «Ладно, — сказал Ламбер, — только не пересказывай
нам свою биографию». — «Я вам не пересказываю свою биографию,
я вам только объясняю, почему мы выиграли ту войну, а вы
проиграли эту». Глаза блондинчика блестят от гнева: «Раз ты такой мудрый,
ты, может, объяснишь нам, почему вы проиграли мир?» — «Мир?» —
удивленно переспрашивает сержант. Все вокруг кричат: «Да! Мир!
Мир! Ты проиграл мир». — «Вы, — говорит блондинчик, — вы,
старые вояки, как вы защитили своих сыновей? Вы заставили за это
заплатить Германию? Вы ее разоружили? А Рейнская область? А
Рур? А испанская война? А Абиссиния?» — «А Версальский
договор? — подхватывает долговязый парень с конусообразным
черепом. — По-твоему, я его подписал?» — «А что, я?» — возмущенно
смеясь, говорит сержант. — «Да, ты! Конечно, ты! Ты голосовал,
разве нет? А я вот не голосовал, мне только двадцать два года, я ни
разу еще не голосовал». — «Что это доказывает?» — «Это
доказывает, что ты голосовал как мудак и что именно ты ткнул нас носом
в это дерьмо. У тебя было двадцать лет в запасе, ты мог
предотвратить эту войну, а что ты сделал? Потому-то я тебе и говорю,
приятель, что мы друг друга стоим; будь у меня командиры и оружие, я
бы сражался не хуже тебя. А чем я сражался? У меня даже патронов
не было». — «А кто в этом виноват?! — взрывается сержант. — Кто
голосовал за Сталина? Кто бастовал из-за ерунды, лишь бы доса-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
887
дить хозяину? Кто требовал повышения зарплаты? Кто
отказывался от сверхурочных? Автомобили подавай и велосипеды, да?
Подружки, оплачиваемые отпуска, воскресенья за городом, молодежные
турбазы, кино? Вы были отъявленными лентяями. Я же работал
даже по воскресеньям, и всю свою собачью жизнь...» Блондинчик
багровеет, он на четвереньках приближается к сержанту и кричит
ему в лицо: «Повтори, что я не работал! Повтори! Я сын вдовы,
стервец! И я ушел из школы в одиннадцать лет, чтобы помогать
матери!» Пожалуй, ему наплевать, что он проиграл войну, но
обвинения в лени он не снес. Брюне думает: «Как знать, может, и из
этого удастся кое-что извлечь». Сержант тоже стал на четвереньки,
и они кричат одновременно, чуть ли не упершись лбами. Шнейдер
наклоняется, как бы желая вмешаться; Брюне кладет ладонь ему на
руку: «Оставь: это от нечего делать». Шнейдер не настаивает, он
выпрямляется, бросая на Брюне странный взгляд. — «Ну, будет
вам, — говорит Мулю, — вы еще подеритесь тут». Сержант со
смешком садится. «Да, — говорит он, — ты прав. Немножко поздновато
драться: если он хотел драки, нужно было приниматься за немцев».
Блондин пожимает плечами и, в свою очередь, садится. «Слушай!
У меня от тебя живот разболелся!» — говорит он. Наступает долгое
молчание; они сидят бок о бок, блондин вырывает пучки травы и
забавляется, сплетая из них косы; остальные некоторое время ждут,
потом на карачках возвращаются на свои места. Мулю
потягивается и улыбается; он говорит примирительным тоном: «Все это
пустяки, ей-богу, пустяки». Брюне думает о товарищах: они проигрывали
сражения, стиснув зубы, от поражения к поражению они шли к
победе. Он смотрит на Мулю: «С этой породой я не знаком». Он
испытывает необходимость говорить: Шнейдер рядом, и Брюне
обращается к нему: «Видишь, не стоило вмешиваться». Шнейдер не
отвечает. Брюне ухмыляется, он передразнивает Мулю: «Все это
пустяки». Шнейдер не отвечает: его тяжелое красивое лицо
остается безучастным. Брюне злится и поворачивается к нему спиной: он
ненавидит пассивное сопротивление. «Есть хочется», — говорит
Ламбер, Мулю показывает пальцем на пространство, отделяющее
крепостную стену от колышков; он говорит медленно и усердно,
будто декламирует стишок: «Еда придет вот оттуда, решетка
откроется, войдут грузовики, и нам будут бросать хлеб через
проволоку». Брюне краем глаза смотрит на Шнейдера и смеется: «Ты
видишь, — повторяет он, — волноваться нет причин. Поражение,
война — все это несерьезно, в счет идет только еда». Насмешливое
888
Жан Поль Сартр
выражение на миг мелькает на лице Шнейдера. Он удивленно
говорит: «Что они тебе сделали, старина? По-моему, ты им не шибко
симпатизируешь». — «Они мне ничего не сделали, — сухо
возражает Брюне. — Но я слышу их разговоры». У Шнейдера глаза
опущены на правую полузакрытую ладонь, он смотрит на свои ногти и
говорит грубым равнодушным голосом: «Трудно помогать людям,
если не испытываешь к ним симпатии». Брюне хмурит брови:
«Должно быть, мою физиономию часто видели на первой полосе
«Юманите», и меня легко узнать». — «Кто тебе сказал, что я хочу им
помочь?» Лицо Шнейдера гаснет; он вяло говорит: «Все мы должны
друг другу помогать». — «Безусловно», — соглашается Брюне. Он
раздражен на самого себя: прежде всего он не должен был злиться.
К тому же напрасно он обнаружил свой гнев перед дурнем, который
отказывается его разделить. Он улыбается, он успокаивается, он
говорит, улыбаясь: «У меня претензии не к ним». — «Тогда к кому
же?» Брюне внимательно смотрит на Шнейдера и отвечает: «К тем,
кто их одурачил». Шнейдер зло усмехается. Он поправляет: «Кто
нас одурачил. Все мы в одинаковом положении». Брюне чувствует,
как снова растет его раздражение, он почти задыхается, но
продолжает добродушным тоном: «Может быть. Но, знаешь, я не строил
себе особых иллюзий». — «Я тоже, — говорит Шнейдер. — Но что
это меняет? Одураченные или нет, все оказались здесь». — «Какая
разница, где мы?» — удивляется Брюне. Теперь он совершенно
спокоен, он думает: «Везде, где есть люди, для меня найдется свое место
и работа». Шнейдер перевел глаза на ворота и замолчал. Брюне
смотрит на него без неприязни: «Что он за фрукт? Интеллектуал?
Анархист? Чем он занимался на гражданке? Жирноват, немного
небрежности, но в целом он держится неплохо: может, и послужит
нам на пользу». Наступает вечер, серый и розовый на стенах,
неизвестно какой в городе, которого они не видят. У людей
неподвижные глаза; они смотрят на город сквозь стены; они ни о чем не
думают, они больше не шевелятся, великое воинское терпение
снизошло на них вместе с вечером: они ждут. Раньше они ждали почты,
отпуска, немецкой атаки, и так они по-своему ждали конца войны.
Война закончилась, а они все ждут. Теперь они ждут грузовиков,
нагруженных хлебом, немецких часовых, перемирия, они ждут,
просто чтобы сохранить маленький кусочек будущего перед собой,
чтобы не умереть. Очень далеко, в вечере, в прошлом, звонит
колокол. Мулю улыбается: «Эй, Ламбер! Может, это перемирие?» Лам-
бер начинает смеяться; они понимающе перемигиваются. Ламбер
СМЕРТЬ В ДУШЕ
889
объясняет остальным: «Мы решили, что устроим пирушку до усрач-
ки!» — «Мы ее провернем в день мира», — говорит Мулю.
Блондинчик смеется при этой мысли, он говорит: «Я не буду просыхать
недели две!» — «Какие там недели две! — зашумели вокруг него. —
Не две и не месяц, мы все тогда упьемся, мать-перемать!» Нужно
будет терпеливо разрушать все их надежды, уничтожать все их
иллюзии, заставить их осознать все их кошмарное положение,
отвратить их от всех и всего наносного и прежде всего от них самих.
Только тогда... На сей раз на него смотрит Шнейдер, он как будто
читает его мысли. Жесткий взгляд. Брюне отвечает на его взгляд.
«Это будет трудно», — говорит Шнейдер. Брюне ждет, подняв
брови. Шнейдер повторяет: «Это будет трудно». — «Что будет
трудно?» — «Сделать людей сознательными. Мы не класс. Мы только
стадо. Мало рабочих: крестьяне, мелкие буржуа. Мы даже не
работаем: мы заняты невесть чем». — «Не волнуйся, — невольно говорит
Брюне. — Мы будем работать...» — «Да, конечно. Но как рабы, это
совсем не та работа, которая раскрепощает, и мы никогда не станем
им опорой. На какое общее действие мы способны? Забастовка
придает забастовщикам сознание собственной силы. Но даже если все
французские пленные будут сидеть сложа руки, немецкой
экономике от этого не станет хуже». Они холодно смотрят друг на друга;
Брюне думает: «Значит, ты меня узнал, тем хуже для тебя, я буду
тебя остерегаться». Вдруг ненависть воспламеняет лицо Шнейдера,
но оно тут же гаснет. Брюне так и не знает, кому она была
адресована. Чей-то удивленный и восхищенный голос: «Фриц!» — «Где?
Где?» Все поднимают головы. На левой сторожевой вышке
появился солдат в каске, с автоматом в руках и гранатой в сапоге; другой
идет за ним с винтовкой. «Что ж, — говорит кто-то, — они не
слишком торопились нами заняться». У всех облегченный вид: вот и
вернулся мир людей со своими законами, своими правилами и
запретами; это хоть по-человечески. Все смотрят на другую вышку.
Она еще пуста, но люди доверчиво ждут, как ждут, когда откроется
окошечко почты или проедет голубой экспресс. На уровне стены
появляется каска, потом две: два чудища в касках, они вдвоем несут
пулемет, устанавливают его на треноге и нацеливают на пленных.
Никто не боится; люди занимают свои места: две вышки оснащены,
бодрствующие часовые на гребне стены возвещают ночь без
приключений; никакой приказ не вытащит пленных из сна, чтобы
снова погнать по дороге; они чувствуют себя в безопасности.
Высокий малый в очках в металлической оправе вытащил из кармана
890
Жан Поль Сартр
требник и, бормоча, принялся читать его. «Вербует», — думает Брю-
не. Но гнев его поверхностен и по-настоящему его не затрагивает.
Он отдыхает. Впервые за пятнадцать лет день тянется медленно,
заканчивается прекрасным вечером, и нет необходимости что-то
делать. Былой досуг поднимается откуда-то из его детства, небо
здесь невысокое, оно лежит на стене, совсем розовое, близкое. Брю-
не глядит на него с неким смущением, потом смотрит на людей,
которые шевелятся у его ног, все они шепчутся, складывают и
раскладывают свое снаряжение: эмигранты на палубе парохода. Он
думает: «Они не виноваты», и ему хочется им улыбнуться. Он
чувствует, что у него болят ноги, он садится рядом со Шнейдером,
расшнуровывает обувь. Он зевает, он чувствует, что его тело
бесполезно, как это небо, он говорит: «Холодеет». Завтра он возьмется
за дело. На земле сыро, он слышит негромкое пощелкивание
трещотки, пощелкивание неравномерное и частое, он слушает его,
пытается найти в нем какой-то ритм, от нечего делать воображает,
что это морзянка, и вдруг понимает: «Это кто-то стучит зубами».
Он выпрямляется; перед собой он различает совершенно голую
спину с черным струпом, это тот человек, который кричал на
дороге, он подползает к нему: у того гусиная кожа. «Эй!» — окликает
его Брюне. Человек не отвечает. Брюне вынимает из рюкзака свой
свитер. «Эй!» — он касается голого плеча, человек начинает вопить;
он оборачивается и смотрит на Брюне, тяжело дыша, сопли текут
из ноздрей до рта. Брюне впервые видит его лицо: это красивый,
совсем молодой парень с синими щеками и глубокими, но
лишенными ресниц глазами. «Не волнуйся, дружок, — мягко говорит
Брюне. — Я просто хочу дать тебе свитер». Тот боязливо берет
свитер, послушно натягивает его на себя и остается неподвижным,
растопырив руки. Рукава слишком длинны, они прикрывают ему
кисти рук. Брюне смеется: «Подкати их». Малый не отвечает, он
продолжает стучать зубами; Брюне берет его за руки и закатывает
рукава. «Это будет сегодня вечером», — говорит тот. — «Вот как? —
спрашивает Брюне. — А что будет сегодня вечером?» — «Нам
устроят бойню», — отвечает парень. — «Ладно, — говорит Брюне. —
Ладно. Ладно». Он роется в карманах парня, вынимает грязный, в
пятнах крови носовой платок, выбрасывает его, берет свой
собственный и протягивает его: «А пока высморкайся». Парень
сморкается, кладет платок в карман и начинает бессвязно бормотать.
Брюне ласково гладит его по голове, как гладят животное,
приговаривает: «Ты прав». Тот успокаивается, его зубы больше не стучат.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
891
Брюне поворачивается к его соседям: «Кто его знает?» Маленький
брюнет с живым лицом приподнимается на локтях. «Это Шар-
пен», — говорит он. — «Присматривай за ним, — просит Брюне. —
Как бы он не наделал глупостей». — «Ладно, буду за ним
приглядывать», — соглашается брюнет. — «Как тебя зовут?» — «Вернье». —
«Что ты делал до войны?» — «Я был наборщиком в Лионе».
Наборщик: один шанс из трех; я с ним завтра потолкую. «Доброй
ночи», — говорит Брюне. — «Доброй ночи», — отвечает наборщик.
Брюне возвращается на свое место. Он садится и подводит итог:
Мулю — определенно коммерсант, от него толку мало. От сержанта
тоже: неисправимый, видимо, близок к фашиствующим типам.
Ламбер: бузотер. Сейчас в состоянии полного разложения, циник.
Но попробуй привлечь. Северянин: из крестьян. Не стоит труда.
Крестьян Брюне не любит. Блондинчик: Ламбер и он — два сапога
пара; но блондинчик умнее, и потом, он имеет уважение к труду,
можно считать, дело в шляпе. Наборщик даже, возможно, молодой
товарищ. Брюне бросает взгляд на Шнейдера, который неподвижно
курит, широко открыв глаза. «С этим посмотрим». Священник
положил требник, теперь он говорит; лежащие рядом с ним три
молодых человека набожно внемлют ему. Уже минус трое: «Он
превзошел меня в скорости, во всяком случае поначалу. Им везет, —
думает Брюне, — они могут работать в открытую; в воскресенье они
устроят мессу». Мулю вздыхает: «Сегодня вечером они уже не
приедут». — «Кто?» — спрашивает Ламбер. — «Грузовики, уже
слишком темно». Он ложится на землю и кладет голову на рюкзак.
«Подожди, — говорит Ламбер, — у меня есть палатка. Сколько
нас?» — «Семеро», — отвечает Мулю. — «Семеро, — размышляет
Ламбер, — все на ней уместятся». Он расстилает палатку у крыльца:
«У кого есть одеяла?» Мулю вынимает свое, сержант и северянин
разворачивают свои; у блондинчика нет, у Брюне тоже. «Ничего, —
говорит Ламбер, — устроимся». Из тени выделяется робкое
улыбающееся лицо: «Если вы мне позволите лечь на палатке, я тоже
поделюсь своим одеялом». Ламбер и блондинчик холодно смотрят
на постороннего. «Нет, тебе не хватит места», — говорит
блондинчик. И Мулю любезнее добавляет: «Понимаешь, мы тут все свои».
Улыбка исчезает в темноте. Так всегда: свои. Внутри толпы
образовалась группа, случайная, без подлинной дружбы, без настоящей
солидарности, но уже обособленная от других; и Брюне в ней. «Иди
сюда, — зовет его Шнейдер, — накроемся одним одеялом». Брюне
колеблется: «Мне пока не хочется спать». — «Мне тоже», — говорит
892
Жан Поль Сартр
Шнейдер. Они сидят бок о бок, а другие между тем заворачиваются
в свои одеяла. Шнейдер курит, пряча сигарету в руке, чтобы не
заметила охрана. Он вынимает пачку «Голуаз», протягивает ее Брюне.
«Хочешь сигарету! Прикуривать иди за стенку, а то заметят».
Брюне хочется курить. Тем не менее он отказывается: «Благодарю. Пока
не буду». Он не станет играть в школяра, ему уже не шестнадцать
лет; и потом подчиняться немцам в мелочах — значит признать их
власть в целом. Зажигаются первые звезды; по другую сторону
стены издалека слышится трескучая музыка, музыка триумфаторов.
На двадцать тысяч изнуренных тел накатывается сон, каждое тело
подрагивает, как волна. Это темное волнение ворчащей морской
зыби. Брюне надоедает безделье; звездное небо он видит как бы
между прочим. Спать тоже не хочется; зевая, он поворачивается к
Шнейдеру, и вдруг взгляд его становится внимательным, он встает:
Шнейдер расслабился, его сигарета погасла, снова он ее не зажег, и
она повисла, приклеившись к его нижней губе; он грустно смотрит
на небо; отличный момент узнать, что у него за душой. «Ты из
Парижа?» — спрашивает Брюне. — «Нет». — Брюне напускает на себя
непринужденный вид и говорит: «Я живу в Париже, но я из Ком-
блю, рядом с Сент-Этьеном». Пауза. Помолчав, Шнейдер как бы с
сожалением говорит: «Я из Бордо». — «Ага! — отзывается Брюне. —
Я хорошо знаю Бордо. Красивый город, но довольно скучный. Ты
там работал?» — «Да» — «И что ты делал?» — «Что я делал?» —
«Да». — «Служил клерком. Клерком у адвоката». — «Вот как», —
говорит Брюне. Он зевает. Нужно будет исхитриться заглянуть в
его военный билет. — «А ты?» — спрашивает Шнейдер. Брюне
вздрагивает: «Я?» — «Да». — «Представитель». — «И что же ты
представлял?» — «Да так. Все понемногу». — «Так я и думал».
Брюне опускается, прижимаясь к стене, садится, подбирает колени к
подбородку и говорит уже отдаленным голосом, как будто перед
сном подводит итог дня: «Такие дела». — «Такие дела», — тем же
тоном повторяет Шнейдер. — «Хорошую нам задали порку», —
говорит Брюне. — «Это уж точно», — соглашается Шнейдер. —
«Высекли что надо, — говорит Брюне, — хорошо еще, что все так быстро
кончилось: кровь могли бы пустить и посильнее». Шнейдер
ухмыляется: «Они будут пускать нам кровь постепенно: результат будет
тот же». Брюне бросает на него быстрый взгляд: «Что-то у тебя
разговоры пораженца». — «Я не пораженец, просто констатирую факт
поражения». — «Какого поражения? — спрашивает Брюне. —
Никакого поражения и в помине нет». Он останавливается; он рассчи-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
893
тывает, что Шнейдер будет возражать, но он ошибается. Шнейдер
лениво смотрит себе на ноги: окурок все еще висит в уголке его рта.
Теперь Брюне уже не может остановиться: ему необходимо развить
свою мысль; но это уже другая мысль. Если бы этот дурак спросил
у меня прямо, я бы сразу насадил его на гарпун; теперь ему говорить
противно: слова будут скользить, не затрагивая эту большую
инертную массу. «Французы считают войну проигранной из чистого
шовинизма. Они всегда воображали, что они лучшие в мире, и
когда их непобедимая армия получает трепку, они убеждают себя, что
все потеряно». Шнейдер неопределенно хмыкает, Брюне решает,
что этого достаточно. Он продолжает: «Война только начинается,
старина. Через полгода будут воевать от Кейптауна до Берингова
пролива». Шнейдер смеется. Он спрашивает: «И мы?» — «Да, и мы,
французы, — продолжает Брюне, — мы возобновим войну, но
другими методами. Немцы вознамерятся поставить нашу экономику на
военные рельсы. Пролетариат может и должен этому помешать».
Шнейдер никак не реагирует; его атлетическое тело остается
невозмутимым. Брюне этого не любит: тяжелые озадачивающие паузы —
это не его специальность, он создан бороться на собственном поле;
он хотел вынудить Шнейдера заговорить, а в конечном счете сам
выдал свои затаенные мысли. Он, в свою очередь, замолкает,
Шнейдер тоже продолжает безмолвствовать: это может длиться
бесконечно. Брюне начинает беспокоиться: эта голова или слишком пуста,
или слишком заполнена. Недалеко от них кто-то слабо завывает. На
этот раз молчание прерывает Шнейдер. Он говорит с некой
теплотой: «Ты слышишь? Он сам себя принимает за пса». Брюне
пожимает плечами: к чему умиляться парню, погруженному в сны,
нельзя терять времени. «Бедные люди, — продолжает Шнейдер
медлительным страдающим голосом. — Бедные люди!» Брюне молчит.
Шнейдер продолжает: «Они никогда не вернутся домой. Никогда».
Он поворачивается к Брюне и с ненавистью смотрит на него. «Эй! —
смеясь, говорит Брюне. — Не смотри на меня так: я тут ни при чем».
Шнейдер тоже начинает смеяться, его лицо смягчается, глаза
гаснут: «Это верно, ты тут ни при чем». Оба умолкают; Брюне меняет
тактику, он приближается к Шнейдеру и тихо его спрашивает:
«Если ты так думаешь, почему ты не пытаешься бежать?» —
«Брось!» — говорит Шнейдер. — «Ты женат?» — «У меня даже двое
детей». — «Ты не ладишь с женой?» — «Я? Мы обожаем друг
друга». — «Тогда в чем дело?» — «Брось! — повторяет Шнейдер. — А
ты? Ты собираешься бежать?» — «Еще не знаю, — отвечает Брю-
894
Жан Поль Сартр
не, — позже будет видно». Он пытается разглядеть лицо Шнейдера,
но во дворе стоит полная темнота; совершенно ничего не видно,
кроме темной тени сторожевых вышек на фоне неба. «Пожалуй, я
посплю», — зевая, говорит Брюне. — «Давай, — одобряет Шней-
дер. — Тогда и я тоже». Они ложатся на полотно палатки,
подталкивают свои рюкзаки к стене; Шнейдер разворачивает одеяло, и они
в него заворачиваются. «Спокойной ночи», — говорит Шнейдер. —
«Спокойной ночи». Брюне поворачивается на спину и кладет
голову на рюкзак, глаза у него открыты, он чувствует тепло Шнейдера,
он догадывается, что у Шнейдера открыты глаза, он думает:
«Необходимо заняться этим фруктом». Он прикидывает, кто из них
двоих кем манипулировал. Время от времени между кустарниками
звезд небо прочерчивают маленькие светящиеся вспышки;
Шнейдер тихо шевелится под одеялом и шепчет: «Ты спишь, Брюне?»
Брюне не отвечает, он ждет. Проходит минута, и он слышит сиплое
похрапывание: Шнейдер спит, Брюне бодрствует один,
единственный источник света среди этих двадцати тысяч ночей. Он
улыбается, закрывает глаза и забывается, в лесочке смеются два араба: «Где
Абд-эль-Керим?» Старуха отвечает: «Не удивлюсь, если он сейчас
в магазине одежды». Действительно, он там мирно сидит перед
прилавком, но при этом вопит: «Убийцы! Убийцы!» Он рвет пуговицы
на своем бурнусе; каждая пуговица, подпрыгивая, вспыхивает и
взрывается. «За стену, быстрей!» — торопит Шнейдер. Брюне
садится, чешет голову и вдруг понимает, что ночь нашпигована
звуками. — «Что случилось?» — «Быстрей! Быстрей!» Брюне
отбрасывает одеяло и распластывается рядом со Шнейдером за стеной.
Чей-то голос повторяет: «Убийцы!» Кто-то кричит по-немецки,
затем сухо щелкают автоматы. Брюне рискует бросить взгляд поверх
стены, при свете вспышек он видит скопление скрюченных
деревьев, которые тянут к небу узловатые и корявые ветви, глаза у него
болят, голова пуста, он шепчет: «Вот оно, страдающее
человечество». Шнейдер тянет его назад: «Какое там страдающее
человечество: они хотят нас всех перебить». Кто-то рыдает: «Как собак! Как
собак!» Автомат больше не стреляет. Брюне проводит рукой по лбу
и окончательно просыпается: «Что происходит?» — «Не знаю, —
отвечает Шнейдер. — Они пальнули дважды: первый раз, возможно,
в воздух, но второй в нас». Вокруг них шумят джунгли: «Что такое?
Что такое? Что это было?» Самозваные командиры отвечают:
«Замолчите, не двигайтесь, оставайтесь лежать»; сторожевые вышки
чернеют на фоне молочного неба, на них люди, которые их стерегут,
СМЕРТЬ В ДУШЕ
895
держа палец на курке автомата. Стоя на коленях за стеной, Брюне
и Ш ней дер видят вдалеке круглый глаз электрического карманного
фонарика. Он приближается, раскачиваемый невидимой рукой, он
освещает серые плоские личинки. Два хриплых голоса говорят по-
немецки; Брюне получает свет фонарика прямо в лицо;
ослепленный, он закрывает глаза, голос спрашивает с сильным акцентом:
«Кто кричал?» Брюне говорит: «Не знаю». Встает сержант, он
чувствует себя торжественно и под электрическим светом держится
очень прямо, он одновременно корректен и сохраняет необходимую
дистанцию: «Один солдат сошел с ума, он начал кричать, его
товарищи испугались и вскочили, тогда часовой и выстрелил». Немцы
не поняли; Шнейдер говорит с ними по-немецки, немцы ворчат и
тоже что-то произносят; Шнейдер поворачивается к сержанту:
«Они спрашивают, есть ли среди нас раненые». Сержант
выпрямляется, быстрым и точным движением складывает руки вокруг рта
и кричит: «Сообщите о раненых!» Со всех сторон ему отвечают
слабые голоса, внезапно зажигаются два прожектора, они освещают
двор феерическим светом, разглаживающим распростертую толпу;
двор пересекают немцы с носилками, к ним присоединяются
французские санитары. «Где сумасшедший?» — по слогам спрашивает
немецкий офицер. Никто не отвечает, но сумасшедший здесь, он
стоит, его белые губы дрожат, слезы катятся по его щекам, солдаты
становятся по обе стороны и уводят его, он ошалело подчиняется,
вытирая нос и губы платком Брюне. Привстав, люди смотрят на
этого страдальца, которому предстоит страдать еще; все здесь
пахнет поражением и смертью. Немцы исчезают, Брюне зевает; свет
щиплет ему глаза; Мулю спрашивает: «Что они с ним сделают?»
Брюне пожимает плечами, Шнейдер говорит: «Нацисты
сумасшедших не жалуют». Снуют санитары с носилками, Брюне говорит:
«Наверное, можно снова лечь». Они ложатся. Брюне смеется: на том
месте, где он лежал, дыра в палаточном полотне. Дыра с
порыжевшими краями — это пулевое отверстие. Он показывает его, Мулю
зеленеет от ужаса, руки его дрожат: «Ого! — восклицает он. — Ого!»
Брюне, улыбаясь, говорит Шнейдеру: «Так или иначе, ты спас мне
жизнь». Шнейдер не улыбается, он смотрит на Брюне серьезно и
несколько растерянно и медленно говорит: «Да. Я спас тебе
жизнь». — «Что ж, спасибо», — произносит Брюне, заворачиваясь в
одеяло. — «Лично я, — решает Мулю, — буду спать за стеной».
Прожекторы внезапно тухнут, лес скрипит, хрустит, шумит,
шепчет, Брюне встает, глаза его полны солнцем, голова — сном, он
896
Жан Поль Сартр
смотрит на часы: семь часов утра, люди суетятся, складывают
палатки, скручивают одеяла. Брюне чувствует себя грязным и
вспотевшим: он потел ночью, и его рубашка прилипает к телу. «Мать
твою за ногу! — говорит блондинчик. — До чего жрать охота». Мулю
меланхолически вопрошает взглядом закрытые ворота: «Еще один
день без жратвы!» Ламбер в ярости открывает глаза: «Не каркай».
Брюне встает, осматривает двор, видит скопление людей вокруг
поливального шланга, подходит: совершенно голый толстяк
поливает себя водой, по-бабьи взвизгивая. Брюне раздевается,
дожидается своей очереди, получает в спину и живот упругую холодную
струю; он, не вытираясь, одевается, идет держать шланг и обливать
трех следующих. Но под душ стремятся немногие: люди дорожат
своей ночной испариной. «Чья очередь?» — спрашивает Брюне.
Никто не отвечает, он зло опускает шланг и думает: «Как они себя
распустили!» Он смотрит вокруг себя, он размышляет: «Вот. Вот
они, люди». С ними будет нелегко. Он берет китель под мышку,
чтобы спрятать нашивки, и подходит к группе пленных, которые
разговаривают вполголоса. Брюне решается прощупать почву.
Девять шансов против одного, что они говорят о жратве. Брюне не
станет на это сетовать: еда — прекрасная отправная точка; это
просто и конкретно, это подлинно: голодный человек как воск. Но они
говорят не о жратве; высокий худой человек с красными глазами
узнает его: «Это ты был рядом с сумасшедшим, верно?» — «Ну,
был», — говорит Брюне. — «А что он, собственно, сделал?» — «Он
закричал», — отвечает Брюне. — «И это все? Суки! А в итоге
четверо убитых и двадцать раненых». — «Откуда ты знаешь?» — «Это
нам сказал Гартизе». Гартизе — коренастый человек с дряблыми
щеками, у него серьезный и печальный взгляд. «Ты санитар?» —
спрашивает Брюне. Гартизе утвердительно кивнул головой: да, он
санитар, фрицы увели его в конюшни за казармой, чтобы ухаживать
за ранеными. «Один скончался у меня на руках». — «Какая все-таки
гнусность, — говорит один из пленных, — сдохнуть здесь за неделю
до демобилизации». — «За неделю?» — спрашивает Брюне. — «За
неделю. Ну за две, если хочешь. Ведь нас наверняка отошлют по
домам, раз они не могут нас кормить». Брюне спрашивает: «А что с
сумасшедшим?» Гартизе плюет себе под ноги: «Лучше не
спрашивай». «Что с ним?» «Они хотели заставить его замолчать, один
закрыл ему рот рукой, тогда тот его укусил. Ой! Мамочки! Если б ты
их видел! Они начали вопить на своей тарабарщине, друг друга не
слыша, они толкнули его в угол конюшни, и все начали лупить его
СМЕРТЬ В ДУШЕ
897
кулаками, прикладами, под конец они все хохотали, а были там и из
наших, которые их подначивали, потому что, как они говорили, все
началось из-за этого выблядка. В конце концов вместо физиономии
у него было месиво, один глаз выбит, они положили малого на
носилки и унесли, не знаю куда, но, должно быть, они еще с ним по-
развлекались, потому что я слышал, как он орал до трех утра».
Санитар вытаскивает из кармана маленький предмет, завернутый в
обрывок газеты: «Посмотрите». Он разворачивает бумагу: «Это зуб.
Я его нашел утром на том месте, где они его выбили». Он
старательно заворачивает зуб, кладет его в карман и говорит: «Я сохраню его
на память». Брюне поворачивается к ним спиной и медленно
возвращается к крыльцу. Мулю кричит ему издалека: «Ты знаешь
итог?» — «Какой итог?» — «Итог этой ночи: двадцать убитых и
тридцать раненых». — «Черт подери!» — вскрикивает Брюне.
«Неплохо», — говорит Мулю. Он улыбается, довольный непонятно чем,
и повторяет: «Для первой ночи совсем неплохо». — «Но зачем им
расходовать патроны? — спрашивает Ламбер. — Если они хотят от
нас избавиться, у них есть одно простое средство: нужно только дать
нам подохнуть с голоду, что они и делают». — «Они нас не оставят
подыхать с голоду», — говорит Мулю. — «Что ты об этом знаешь?»
Мулю улыбается: «Делай, как я: смотри на ворота, это тебя
отвлечет, и потом, именно оттуда придут грузовики». Шум мотора
заглушает его голос. «Смотри — самолет!» — кричит северянин. Это
самолет наблюдения, он летит на высоте пятидесяти метров,
черный и блестящий, он пролетает над двором, делает поворот на левое
крыло; два раза, три раза; двадцать тысяч пар глаз следят за ним,
весь двор поворачивается вслед за ним. «Они часом не собираются
нас бомбить?» — говорит кучерявый безразличным тоном. — «Нас
бомбить? — повторяет Мулю. — Но зачем?» — «Затем, что они не
могут нас накормить». Шнейдер, щурясь, смотрит на самолет; он
говорит, кривясь от солнца: «Думаю, скорей всего они нас
фотографируют...» — «Чего?» — спрашивает Мулю. Шнейдер лаконично
объясняет: «Военные корреспонденты...» Толстые щеки Мулю
багровеют, его страх перерастает в бешенство, внезапно он вскакивает,
протягивает руки к небу и начинает орать: «Покажите им язык!
Ребята, покажите им язык! Кажется, они нас действительно
фотографируют». Брюне забавляется: дрожь гнева пробегает по толпе;
один вытягивает над головой кулак, другой, опустив плечи и
выставив живот, просовывает руку в ширинку и выставляет наружу
большой палец как член; северянин становится на четвереньки,
898
Жан Поль Сартр
опустив голову и выставив зад: «Пусть фотографируют мою
задницу». Шнейдер смотрит на Брюне. «Как видишь, — говорит он, — мы
еще полны энергии». — «Чепуха, — возражает Брюне, — это еще
ничего не доказывает!» Самолет исчезает в солнечном сиянии.
«Значит, — говорит Мулю, — мою рожу увидят во «Франкфурте-
ре?» Ламбер куда-то уходит, вскоре он возвращается, очень
возбужденный: «Кажется, тут можно задешево меблироваться». —
«Что?» — «За казармой куча мебели, матрацы, жбаны, кувшины для
воды, только наклонись и бери, но поторопимся, пока их еще можно
слямзить». Он смотрит на своих товарищей блестящими глазами:
«Пошли, ребята?» — «Согласен», — отзывается кучерявый,
вскакивая на ноги. Мулю не шевелится. «Идем же, Мулю!» — зовет
Ламбер. «Нет, — отвечает Мулю. — Я экономлю силы. Пока не поем, с
места не двинусь». — «Тогда стереги вещи», — говорит сержант. Он
встает и бегом догоняет остальных. Когда они доходят до угла
казармы, Мулю вяло кричит им: «Вы только напрасно тратите силы,
ишаки!» Он вздыхает, строго смотрит на Шнейдера и Брюне и
шепотом говорит: «Я даже не должен был кричать». — «Пойдем», —
предлагает Шнейдер. — «А что мы будем делать с кувшином для
воды?» — спрашивает Брюне. «Пойдем просто разомнем ноги». По
другую сторону казармы есть второй двор и длинное двухэтажное
строение с четырьмя дверями: это конюшни. В углу вперемешку
свалены в кучи старые соломенные тюфяки, матрацы, раскладушки,
расшатанные шкафы, колченогие стулья. Солдаты толкаются
вокруг этого хлама; один из них идет через двор, волоча за собой
матрац, другой несет ивовую корзину. Брюне и Шнейдер обходят
конюшню и обнаруживают заросший травою холмик. «Залезем на
него?» — спрашивает Шнейдер. — «Залезем». Брюне чувствует себя
неловко: «Чего хочет этот парень? Дружбы? Это мне уже не по
возрасту». Наверху холмика они видят три свежие могилы.
«Видишь, — говорит Шнейдер, — они убили только троих». Брюне
садится на траву рядом с могилами. — «Дай мне нож». Шнейдер дает,
Брюне открывает его и начинает отпарывать нашивки.
«Напрасно, — говорит Шнейдер, — унтер-офицеры освобождаются от
работы». Брюне, не отвечая, пожимает плечами, кладет нашивки в
карман и встает. Они возвращаются в первый двор: люди
устраиваются каждый по-своему; один смазливый юноша с наглым видом
раскачивается в кресле-качалке; к растянутой палатке два человека
подтащили стол и два стула: они азартно играют в карты; Гартизе
сидит по-турецки на персидском прикроватном коврике, испещрен-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
899
ном ожогами. «Напоминает блошиный рынок», — говорит Брюне. —
«Или восточный базар», — уточняет Шнейдер. Брюне подходит к
Ламберу: «Что вы принесли?» Ламбер с гордостью поднимает
голову. «Тарелки!» — говорит он, показывая стопку выщербленных
тарелок с почерневшим дном. — «Что вы хотите с ними делать? Есть
их?» — «Пускай, — говорит Мулю. — Может, от этого скорее
жратву подвезут». Утро все не кончается: люди впали в оцепенение; они
пытаются спать или лежат на спине с открытыми
остановившимися глазами, повернувшись лицом к небу; они хотят есть. Кучерявый
вырывает траву, растущую между булыжниками, и жует ее;
северянин вынул нож и вырезает кусок дерева. Группа пленных разжигает
огонь под ржавым котелком, Ламбер встает, идет посмотреть и
разочарованный возвращается: «Суп из крапивы, — объясняет он,
опускаясь между кучерявым и Мулю. — Этим не наешься». Смена
немецких часовых. «Они идут есть», — с отсутствующим видом
замечает сержант. Брюне садится рядом с наборщиком. Он
спрашивает его: «Ты хорошо спал?» — «Неплохо», — отвечает тот. Брюне с
удовольствием смотрит на него: у наборщика опрятный и чистый
вид, веселый блеск в глазах; два шанса из трех. «Я все хочу тебя
спросить: ты работал в Париже?» — «Нет, — отвечает тот, — в
Лионе». — «А где именно?» — «В типографии Левро». — «А! — говорит
Брюне. — Только ее я и знаю. Вы там организовали прекрасную
стачку в тридцать шестом году, дерзко и хорошо провели ее».
Наборщик смеется довольно и горделиво. Брюне спрашивает: «Тогда
ты должен знать Перню». — «Перню, профсоюзного делегата?» —
«Да». — «Еще бы!» Брюне встает: «Пойдем пройдемся, мне нужно
с тобой поговорить». Когда они заходят в другой двор, Брюне
смотрит ему прямо в глаза: «Ты коммунист?» Наборщик колеблется,
Брюне выкладывает: «Я Брюне из «Юманите». — «Вот оно что, —
говорит наборщик, — так я и думал...» — «Здесь есть еще
товарищи?» — «Два или три». — «Решительные люди?» — «Стойкие из
стойких. Но я их вчера потерял в толпе». — «Постарайся их
отыскать, — говорит Брюне. — И приходи ко мне с ними: нам нужно
перегруппироваться». Он возвращается и садится рядом со Шней-
дером; он искоса бросает на него взгляд, лицо Шнейдера спокойно
и невыразительно. — «Который час?» — спрашивает Шнейдер. —
«Два часа», — отвечает Брюне. — Посмотри на пса», — говорит
кучерявый. Большая черная собака пересекает двор, высунув язык;
люди недоуменно смотрят на нее. «Откуда она взялась?» —
спрашивает сержант. — «Не знаю, — говорит Брюне. — Может, она была
900
Жан Поль Сартр
в конюшне». Ламбер приподнимается на локте, он озадаченно
следит за собакой и говорит как бы самому себе: «Собачье мясо не
такое поганое, как считают». — «А ты его ел?» Ламбер не отвечает: он
раздраженно отмахивается, затем с обреченным видом снова
ложится на спину: двое игравших у палатки в карты бросают их на стол и
с небрежным видом встают, один из них несет под рукой палаточное
полотно. «Не догонят», — говорит Ламбер. Собака исчезла за
казармой; они, не торопясь, следуют за ней и исчезают из поля зрения.
«Поймают? Не поймают?» — спрашивает северянин. Несколько
позже оба возвращаются: они обмотали полотном объемистый
предмет и несут его за края, как гамак. Когда они проходят мимо
Брюне, из полотна падает красная капля и растекается по
булыжникам. «Плохое полотно, — замечает сержант. — Оно должно быть
непромокаемым». Он качает головой, ворчит: «Все не так, как надо.
Как тут выиграть войну?» Двое бросают свой сверток в палатку.
Один вползает в нее на четвереньках, другой идет за дровами для
костра. Кучерявый вздыхает: «Эти-то выживут». Брюне засыпает,
но внезапно просыпается от крика Мулю: «Вот оно! Жратва».
Ворота медленно открываются. Человек сто встают: «Грузовик».
Въезжает грузовик, замаскированный цветами и листьями, весна,
тысяча человек поднимаются, грузовик проезжает между крепостными
стенами и шлагбаумом. Брюне встает, его толкают, увлекают, несут
до железной проволоки. Грузовик пуст. В кузове голый до пояса
фриц лениво смотрит, как они подходят. Загорелая кожа, светлые
волосы, длинные веретенообразные мышцы, на вид он роскошный
парняга, один из тех красавцев, которые полуголыми катаются на
лыжах в Сен-Морице. Тысяча пар глаз поднялась к нему, это его
забавляет: он с улыбкой смотрит на этих сумрачных голодных
животных, которые толпятся у перекладин своей клетки, чтобы лучше
его разглядеть. Через некоторое время он наклоняется назад и
заговаривает с часовыми на вышке, которые ему, смеясь, что-то
отвечают. Толпа ждет, покоренная, она подстерегает движения своего
господина, постанывает от нетерпения и предвкушения. Фриц
наклоняется, берет со дна грузовика буханку плоского солдатского
хлеба, вынимает из кармана нож, открывает его, точит о сапог и
отрезает ломоть; позади Брюне кто-то тяжело задышал. Фриц
подносит ломоть к носу и притворяется, что с наслаждением его
вдыхает, полузакрыв глаза, животные урчат, Брюне чувствует, как его
горло стискивает гнев. Немец снова на них смотрит, улыбается,
берет ломоть между указательным и большим пальцем плашмя, как
СМЕРТЬ В ДУШЕ
901
метательный диск. Он слишком близко прицелился, скорее всего
нарочно, ломоть падает между грузовиком и колышками. Люди уже
наклоняются, чтобы проскользнуть под железную проволоку;
часовой с вышки что-то грозно выкрикивает и целится в них из
автомата. Люди замирают, прижавшись к шлагбауму, с открытыми ртами
и безумными глазами. Мулю, прижатый к Брюне, шепчет: «Это
плохо кончится, я хочу уйти». Но напор толпы прижимает его к
Брюне, он тщетно старается высвободиться и кричит: «Назад!
Назад, идиоты! Разве вы не видите — сейчас снова начнется то, что
было ночью». Немец на грузовике отрезает другой ломоть, бросает
его, тот вертится в воздухе и падает между поднятых голов; Брюне
схвачен огромным водоворотом, он чувствует, что его толкают,
пихают, пинают; он видит Мулю, которого затягивает в воронку — тот
поднимает вверх руки, как будто тонет. «Мерзавец! — думает
Брюне. — Мерзавцы!» Он хотел бы бить кулаками и ногами
окружающих его людей. Падает второй ломоть, третий, люди дерутся; один
здоровяк вырывается, он зажал ломоть в кулаке, его ловят,
окружают, он засовывает весь кусок в рот, подталкивая его тыльной
стороной ладони, чтобы засунуть целиком; его отпускают, он медленно
уходит, вращая ошалевшими глазами. Фриц забавляется, он
бросает ломти направо и налево, он делает обманные движения, чтобы
подзадорить толпу. Кусок хлеба падает к ногам Брюне, старший
капрал видит его, он ныряет, толкая Брюне; Брюне хватает его за
плечи и прижимает к себе. Свора уже кидается на хлеб,
валяющийся в пыли. Брюне ставит ногу на хлеб и припечатывает его к земле
подошвой. Но десять рук хватают ногу, отодвигают ее, подбирают
перемазанные землей крошки. Старший капрал яростно отбивается:
у его башмака упал другой кусок. «Отпусти меня, мудило!
Отпусти!» Брюне держит его крепко, капрал пытается его ударить,
Брюне отражает удар локтем и сжимает капрала изо всех сил: он
удовлетворен. «Ты меня душишь...» — беззвучно хрипит тот. Брюне
продолжает его стискивать, он видит над своей головой белый
полет ломтей хлеба, он доволен, чувствуя, как капрал слабеет в его
руках. «Все», — говорит кто-то. Брюне выпрямляется: немец
закрывает нож, Брюне разжимает руки: капрал шатается, делает два шага
в сторону, чтобы обрести равновесие, и кашляет, в злобном
недоумении глядя на Брюне. Брюне улыбается; капрал смотрит на его
плечи, колеблется, потом бормочет: «Мудило...» — и отворачивается.
Толпа медленно расходится, разочарованная, недовольная.
Несколько счастливчиков еще стыдливо жуют, прикрывая рот рукой
902
Жан Поль Сартр
и по-детски озираясь. Старший капрал стоит у колышка; кусок
хлеба валяется в угольно-черной пыли между грузовиком и
шлагбаумом; он смотрит на него. Немец спрыгивает с грузовика, идет
вдоль стены, открывает дверь будки. Глаза капрала блестят: он
подстерегает. Часовые отвернулись, он становится на четвереньки,
проскальзывает под железную проволоку, вытягивает руку;
раздается крик: часовой прицеливается в него. Он хочет отступить назад,
но другой часовой делает ему знак оставаться на месте. Капрал
ждет, бледный, задом кверху, с вытянутой рукой. Немец из
грузовика вернулся, он, не торопясь, подходит, поднимает капрала одной
рукой, а другой бьет наотмашь по лицу. Брюне хохочет до слез. Кто-
то сзади него говорит: «А ты нас не очень-то любишь». Брюне
вздрагивает и оборачивается. Это Шнейдер. Молчание; Брюне
следит глазами за старшим капралом, которого фриц сильными
пинками подгоняет к лачуге, потом Шнейдер говорит безразличным
тоном: «Мы хотим есть». Брюне пожимает плечами: «Почему ты
говоришь «мы»? Ты кидался на эти куски хлеба?» —
«Естественно, — отвечает Шнейдер, — как и все». — «Неправда. Я тебя
видел», — говорит Брюне. Шнейдер качает головой: «Кидался я или
нет, не важно». Брюне, опустив глаза, трет землю подошвой, чтобы
затоптать крошки в пыль; какое-то странное чувство заставляет его
поспешно поднять голову; в этот самый миг что-то гаснет в глазах
Шнейдера, остается только слабый отсвет ненависти,
утяжеляющий его лицо. Шнейдер говорит: «Да, мы обжоры! Да, мы трусливы
и раболепны! Но разве это наша вина? У нас все отняли: работу,
семьи, обязанности. Чтобы быть мужественным, нужно быть чем-то
занятым, иначе это не жизнь, а сон. Нам нечего делать, мы не можем
даже зарабатывать на еду, но тебе на нас наплевать. Мы живем в
полусне; если мы и трусливы, то только в этом полусне. Дай нам
работу, и ты увидишь, чего мы стоим». Фриц вышел из будки; он
курит; старший капрал, хромая, выходит следом: он несет лопату и
кирку. «У меня нет для вас работы, — говорит Брюне. — Но даже
без работы можно держать себя достойно». Верхняя губа Шнейдера
дергается в нервном тике. Он улыбается. «Я тебя считал большим
реалистом. Конечно, ты можешь держать себя достойно. Но что это
меняет? Ты никому не поможешь, это лишь потешит твое
самолюбие. Разве что, — иронично добавляет он, — ты рассчитываешь на
притягательность примера». Брюне холодно смотрит на Шнейдера.
Он его спрашивает: «Похоже, ты меня узнал?» — «Да, — признает-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
903
ся Шнейдер, — ты — Брюне из «Юманите». Я не раз видел там твою
физиономию». — «Ты читаешь «Юманите»?» — «Случается». —
«Ты из наших?» — «Нет, но я и не из ваших врагов». Брюне
хмурится. Он медленно возвращается к крыльцу, перешагивая через тела:
изнуренные голодом и раздражением, люди снова легли; они
мертвенно бледны, их глаза блестят. Около своей палатки два игрока в
карты начали партию в манилью; под столом видны кости и пепел.
Брюне краем глаза смотрит на Шнейдера; он пытается обнаружить
на этом лице непринужденность, поразившую его накануне. Но он
уже слишком присмотрелся к этому крупному носу, к этим щекам:
его первое впечатление исчезло. Он говорит сквозь зубы: «Ты
знаешь, что значит быть коммунистом, когда попадешь в лапы
нацистов?» Шнейдер, не отвечая, улыбается. Брюне добавляет: «С
болтунами мы будем беспощадны». Шнейдер, продолжая улыбаться,
говорит: «Я не из болтунов». Брюне останавливается, Шнейдер
тоже останавливается. Брюне спрашивает: «Хочешь работать с
нами?» — «А что вы собираетесь делать?» — «Скажу позже.
Сначала ответь». — «Попробовать можно?» Брюне пытается разгадать это
большое, гладкое, немного вялое лицо, он говорит, не спуская глаз
со Шнейдера: «Это не всегда весело». — «Мне нечего терять, —
отвечает Шнейдер. — И потом, я буду хоть чем-то занят». Они
садятся, затем Шнейдер ложится, положив руки под затылок; он говорит,
закрывая глаза: «Но дело не в этом. К сожалению, ты нас не
любишь, вот что мне не по душе». Брюне тоже ложится. «Что это за
субъект? Сочувствующий? Гм1 Но ты сам так сказал, — думает он. —
Ты сам сказал. И теперь я тебя уже не выпущу». Он засыпает,
просыпается, вечер, он снова засыпает, ночь, солнце; он встает, смотрит
вокруг, пытается вспомнить, где он, вспоминает и чувствует, что
голова его опустела. Блондинчик сидит, у него отупевший и
зловещий вид, его руки висят между раздвинутых ног. «Плохи дела?» —
спрашивает Брюне. — «Плохи, чувствуешь себя как в дерьме. Как
по-твоему, дадут нам сегодня утром поесть?» — «Не знаю». — «Или
они хотят уморить нас голодом?» — «Не думаю». — «Мне скучно! —
вздыхает блондинчик. — Я не привык ничего не делать!» — «Тогда
пойди помойся». Блондинчик без восторга смотрит в сторону
шланга: «Будет холодно». — «Иди же». Они встают, Шнейдер спит,
Мулю спит, сержант лежит на спине, широко открыв глаза, он
покусывает усы; на земле тысячи глаз, просто открытых и таких,
которые вытаращены от жары и солнца; блондинчик пошатывается:
904
Жан Поль Сартр
«Черт, я уже еле держусь на ногах, я сейчас взлечу в воздух». Брю-
не разворачивает поливальный шланг, укрепляет его на
водопроводном кране, поворачивает кран. Движения даются ему с трудом.
Блондинчик раздевается догола; он весь твердый и волосатый, с
большими шарообразными мышцами. Под холодной струей его
кожа розовеет и сжимается, но лицо остается серым. «Теперь
меня», — говорит Брюне. Блондинчик берет шланг и говорит:
«Какой он тяжелый!» Он роняет его и снова ловит. Потом направляет
струю на Брюне, ноги его дрожат, внезапно он выпускает шланг. Он
говорит: «Нет, уже сил не хватает». Они одеваются. Блондинчик
долго сидит на земле с обмоткой в руке, он смотрит на воду,
текущую между булыжниками, он следит за мутными канавками и
говорит: «Мы теряем силы». Брюне закрывает кран, помогает ему
встать и ведет к крыльцу. Ламбер проснулся, он, смеясь, смотрит на
них: «Вы шатаетесь, как пьянчуги!» Блондинчик падает на палатку,
он ворчит: «Меня вконец вымотало, больше ты меня в это не
втравишь». Он смотрит на свои большие волосатые дрожащие руки:
«Вот видишь». — «Пойди погуляй», — говорит Брюне. — «Как бы
не так!» Блондинчик заворачивается в одеяло и закрывает глаза.
Брюне уходит на задний двор; он пуст; тридцать кругов по двору
спортивным шагом. На втором круге у него начинает кружиться
голова; на девятнадцатом он вынужден прислониться к стене; но он
держится, он хочет укротить свое тело, он шагает до конца и
наконец, запыхавшись, останавливается. Удары сердца отдают в голову,
но он счастлив: «Тело создано, чтобы повиноваться; я буду это
делать каждый день, доведу круги до пятидесяти». Он не чувствует
голода, и он счастлив, что его не чувствует: «Сегодня мой пятый
день голодовки, я держусь вполне прилично». Он возвращается в
передний двор. Шнейдер все еще спит с открытым ртом; пленные
лежат неподвижно и безмолвно, они кажутся мертвецами. Брюне
хотел бы поговорить с наборщиком, но тот еще спит. Он собирается
сесть; сердце его все еще так же бешено колотится; северянин
начинает смеяться. Брюне оборачивается: северянин чему-то смеется,
склонив голову над палкой, на которой он что-то вырезает; он уже
вырезал дату; сейчас он вырезает острием ножа лепестки цветов.
«Чему ты веселишься? — спрашивает Ламбер. — Тебе что, очень
смешно?» Северянин продолжает смеяться. Он объясняет, не
поднимая глаз: «Я смеюсь, потому что уже три дня не срал». — «Это
нормально, — успокаивает его Ламбер. — Чем бы ты срал?» — «А
есть такие, что срут, — говорит Мулю. — Сам видел». — «Это счаст-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
905
ливчики, — объясняет Ламбер. — Они наверняка пронесли с собой
мясные консервы». Сержант выпрямляется. Он смотрит на Мулю
и дергает себя за ус: «Ну что? Где же твои грузовики?» — «В
дороге, — отвечает Мулю. — Уже неподалеку». Но в его голосе нет былой
уверенности. «Могли бы и поторопиться, — говорит сержант. —
Иначе они нас в живых не застанут». Мулю не сводит глаз с ворот;
слышится жидкое певучее бульканье, Мулю извиняется и поясняет:
«Это у меня в брюхе!» Шнейдер проснулся. Он трет глаза,
улыбается и бормочет: «Кофе с молоком...» — «И с рогаликами», —
добавляет кучерявый. — «А я бы предпочел хороший суп, — мечтает
северянин. — И немного красного вина в нем». Сержант
спрашивает: «Ни у кого нет сигарет?» Шнейдер протягивает ему пачку, но
Брюне раздраженно его останавливает — он не любит
индивидуальной щедрости: «Лучше положи ее для общего пользования». — «Как
хочешь, — соглашается Шнейдер. — У меня полторы пачки». — «А
у меня пачка», — говорит Брюне. Он вынимает ее из кармана и
кладет на подстилку. Мулю вынимает из рюкзака коробочку из
белой жести и открывает ее: «У меня осталось семнадцать штук». —
«Это всё? — спрашивает Брюне. — Ламбер, а у тебя?» — «Ничего
нет», — говорит Ламбер. — «Не ври! — протестует Мулю. — Вчера
вечером у тебя была полная пачка». — «Я дымил всю ночь». —
«Враки! Я слышал, как ты храпел». — «Пошел ты на... — возмущается
Ламбер. — Я согласен дать сигарету сержанту, если у него нет, но я
не хочу их выкладывать для общего пользования, в конце концов
это мое дело». — «Ламбер, — говорит Брюне, — ты можешь забрать
свою палатку и мотать отсюда, но если ты хочешь остаться с нами,
тебе придется вести себя как члену коллектива и отдать все, что
имеешь, в общее пользование. Давай свои сигареты». Ламбер
передергивает плечами и яростно бросает пачку на одеяло Шнейдера.
Мулю считает сигареты: «Двадцать четыре. Это по одиннадцать на
брата и еще три по жребию. Распределим?» — «Нет, — говорит
Брюне. — Если ты их распределишь сейчас, найдутся такие, что
выкурят их до вечера. Я их беру на хранение. Вы будете получать по
три штуки в течение трех дней; две на четвертый день. Согласны?»
Все смотрят на него. Они смутно понимают, что обретают
руководителя. Брюне повторяет: «Согласны?» В конце концов им на это
начхать, они хотят есть, вот что их интересует сейчас. Мулю
пожимает плечами и говорит: «Согласен». Другие одобряют кивком
головы. Брюне раздает по три сигареты каждому и остальные кладет
в свой рюкзак. Сержант закуривает, делает четыре затяжки, гасит
906
Жан Поль Сартр
сигарету и кладет за ухо. Северянин берет одну из своих, разрывает
бумагу и сует табак в рот. — «Чтобы обмануть голод», — объясняет
он, жуя табак. Шнейдер ничего не говорит. Брюне думает: «Из него
выйдет толковый новобранец». Он размышляет о Шнейдере, а
потом еще о чем-то; он вдруг пытается вспомнить, о чем именно, но
это ему так и не удается. Минуту он сидит с остановившимся
взглядом, с горстью гальки в руке, потом тяжело встает: проснулся
наборщик. «Ну как?» — спрашивает Брюне. — «Не знаю, где они, —
отвечает наборщик. — Я трижды обошел двор и не смог их
найти». — «Продолжай искать, — говорит Брюне. — Не падай духом».
Он снова садится, смотрит на часы, удивляется: «Не может быть.
Который час на ваших, ребята?» — «Четыре тридцать пять», —
отвечает Мулю. — «Значит, вот оно что, вот оно что. Четыре тридцать
пять, а я еще ничего не сделал, я думал, что сейчас десять часов
утра». Ему кажется, что у него украли время. А тут еще наборщик
не нашел своих товарищей... Как все здесь медленно. Медленно,
нерешительно, сложно; чтобы поставить дело, понадобятся месяцы.
Небо лазурное, солнце палит вовсю. Но мало-помалу оно блекнет,
небо розовеет, Брюне смотрит на небо, он думает о чайках, ему
хочется спать, голова гудит, ему не хочется есть, он думает: «Я не
хотел есть в течение дня», он засыпает, он видит сон, что хочет есть,
он просыпается, нет, он не хочет есть, он ощущает скорее легкую
тошноту и огненный обруч вокруг головы. Небо голубое и веселое,
воздух свеж, очень далеко, в деревне, хрипло кричит петух, солнце
спряталось, но его лучи текут золотистым туманом над гребнем
стены, по двору еще простираются длинные фиолетовые тени.
Петух замолчал, Брюне думает: «Какая тишина», на мгновение ему
кажется, что он один в мире. Он с трудом приподнимается и
садится; вокруг него люди, тысячи неподвижных лежащих людей.
Можно подумать, что это поле брани. Но у всех глаза широко открыты.
Вокруг себя Брюне видит запрокинутые лица, растрепанные
волосы, выжидающие взгляды. Он поворачивается к Шнейдеру и видит
его остановившийся взгляд. Он тихо зовет: «Шнейдер! Эй!
Шнейдер!» Тот не отвечает. Брюне видит издалека длинную, мягкую,
брызгающую змею: поливальный шланг. Он думает: «Нужно
умыться». Его голова тяжела, ему кажется, будто она тянет его назад, он
ложится, ему чудится, что он плывет. «Нужно умыться». Он
пытается встать, но тело больше ему не подчиняется; руки и ноги
обмякли, он их больше не чувствует, они лежат рядом с ним, как
посторонние предметы. Солнце показывается над стеной: «Нужно умыть-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
907
ся», его бесит, что он валяется, как мертвый среди мертвых, с
открытыми глазами, он сжимается, напрягает мышцы, рывок — и вот
он стоит, ноги подкашиваются, он потеет, делает несколько шагов,
боится упасть. Он подходит к наборщику и говорит: «Привет!»
Наборщик со странным видом выпрямляется и смотрит на него.
«Привет!» — повторяет Брюне. — «Привет». — «Ты не хочешь сесть? —
спрашивает наборщик. — Ты плохо себя чувствуешь?» —
«Хорошо, — отвечает Брюне. — Прекрасно. Я предпочитаю стоять». Он не
уверен, что сможет подняться, если сядет. Наборщик садится, у него
живой свежий вид, ореховые глаза блестят на красивом девичьем
лице. «Одного я нашел, — весело говорит он. — Его зовут Перрен.
Он железнодорожник из Орлеана. Он потерял своих товарищей, но
он их ищет. Если найдет, они в полдень придут втроем». Брюне
смотрит на часы: десять часов, он вытирает рукавом потный лоб, он
говорит: «Превосходно». Ему кажется, что он хотел сказать другое,
но он уже не знает, что именно. С минуту он, покачиваясь, стоит
перед наборщиком, повторяя: «Превосходно! Это превосходно!», и
потом с пылающей головой медленно уходит, он тяжело падает на
палатку и думает: «Я не умылся». Шнейдер привстает на локте и с
тревогой смотрит на него: «Тебе плохо?» — «Нет, — раздраженно
отвечает Брюне. — Нет, нет. Все в порядке». Он вынимает платок и
расправляет его на лице, прикрываясь от солнца. Ему не хочется
спать, во всяком случае, не очень. Его голова пуста, и ему кажется,
что он стремительно спускается в лифте. Кто-то кашлянул у него
над головой. Он срывает платок: это наборщик с тремя другими
парнями. Брюне удивленно смотрит на них, он говорит низким
голосом: «Уже полдень?» Потом он пытается встать: ему стыдно,
что его застали врасплох; он вспоминает, что небрит, что он такой
же грязный, как все остальные; он делает неимоверное усилие над
собой и встает. «Привет», — говорит он. Парни с любопытством
взирают на него; это как раз такие ребята, каких он любит: сильные
и чистые, с жесткими глазами. Отличные инструменты. Они
смотрят на него, он думает: «Здесь у них никого нет, кроме меня» — и
сразу чувствует себя лучше. Он говорит: «Пройдемся немного?»
Они следуют за ним. Он поворачивает за угол казармы, идет в глубь
другого двора, он оборачивается и улыбается им. «А я тебя знаю», —
говорит смуглый бритоголовый малый. «Мне тоже показалось, что
я тебя где-то видел», — откликается Брюне. «Я приходил к тебе в
тридцать седьмом году, — говорит бритоголовый, — меня зовут
Стефан; я был в интернациональной бригаде». Остальные тоже
908
Жан Поль Сартр
представляются: Перрен из Орлеана, Деврукер, шахтер из Ланса.
Брюне прислоняется к стене конюшни. Он смотрит на них,
разочарованно отмечая, что они слишком молоды. Он думает, хотят ли
они есть. «Итак? — говорит Стефан. — Что нужно делать?» Брюне
смотрит на них, он не может вспомнить, что хотел им сказать; он
молчит, он читает удивление в их глазах, наконец он разжимает
зубы: «Ничего. Пока что делать нечего. Надо объединиться и
поддерживать контакты». — «Хочешь пойти с нами? — спрашивает
Перрен. — У нас есть палатка». — «Нет, — живо откликается
Брюне. — Останемся, где мы есть, и попытайтесь повидать как можно
больше людей, выявляйте товарищей, постарайтесь узнать, кто чем
дышит. И никакой пропаганды. Еще рано». Деврукер кривится:
«Чем они дышат? Да только жратвой». Брюне кажется, что его
голова начинает вспухать; он прикрывает глаза и говорит: «Все еще
может измениться. В ваших секторах есть священники?» — «Да, —
говорит Перрен. — В моем. И они уже занимаются своими
странными делами». — «Пусть, — говорит Брюне. — Не высовывайтесь.
И если они будут подкатывать к вам, не спроваживайте их.
Понятно?» Они кивают, и Брюне им говорит: «Встретимся завтра в
полдень». Они смотрят на него и немного колеблются, он говорит им с
оттенком раздражения: «Идите! Идите! Я остаюсь здесь». Они
уходят. Брюне смотрит, как они удаляются, он ждет, когда они завернут
за угол, чтобы выдвинуть вперед ногу: он не уверен, что вот-вот не
рухнет. Он думает: «Тридцать кругов спортивным шагом». Он,
качаясь, делает два шага, злится, кровь приливает к лицу, по голове
будто кто-то бьет молотком: «Тридцать кругов — и сейчас же!» Он
отрывается от стены, делает три шага и шлепается на живот. Потом
встает и снова падает, разодрав себе руку. Тридцать кругов каждый
день. Он цепляется за железное кольцо, вделанное в стену, встает и
собирается с силами. Десять кругов, двадцать кругов, ноги его
подкашиваются, каждый шаг похож на падение, но он знает, что рухнет,
как только остановится. Двадцать девять кругов, после тридцатого
он бегом огибает угол казармы и замедляет шаг только тогда, когда
входит в передний двор. Он перешагивает через тела, доходит до
крыльца. Никто не шевелится: это пласт издохших рыб, всплывших
брюхом кверху. Он улыбается. Он тут один стоящий. «Теперь
нужно побриться». Он поднимает рюкзак, подходит к окну, берет
бритву, ставит осколок зеркала на подоконник и бреется всухую; он
жмурится от боли. Бритва падает, он наклоняется, чтобы поднять
ее, роняет зеркало, оно разбивается у его ног, он опускается на ко-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
909
лени. На этот раз он знает, что не сможет больше встать. Он на
четвереньках добирается до своего места и опрокидывается на
спину; его сердце колотится в груди как сумасшедшее. При каждом
ударе огненное острие сверлит череп. Шнейдер молча
приподнимает ему голову и просовывает свое свернутое одеяло ему под
затылок. Проплывают облака; одно похоже на монашенку, другое — на
гондолу. Его тянут за рукав: «Вставай! Мы переезжаем». Он, не
понимая, встает, его подталкивают к крыльцу, дверь открыта;
непрерывная волна пленных втекает в казарму. Он чувствует, что
поднимается по лестнице, он хочет остановиться, его толкают сзади,
чей-то голос говорит ему: «Выше». Он оступается, падает руками
вперед. Шнейдер и наборщик подхватывают его и несут. Он хочет
высвободиться, но у него для этого нет сил. Он говорит: «Я не
понимаю». Шнейдер тихо смеется: «Тебе надо поесть». — «Как и вам,
не больше». — «Ты выше и крепче, — говорит наборщик, — Тебе
нужно больше жратвы». Брюне уже не может говорить; они его
несут до чердака. Длинный темный коридор пересекает казарму с
одного конца до другого. С каждой стороны коридора — каморки,
отделенные друг от друга перегородками с просветом. Они входят
в одну из них. Три пустых ящика — это все. Окон нет. Через каждые
две-три каморки есть слуховое окно; окно соседней каморки
наделяет их косым светом, отражающим на полу крупные тени
деревянных решеток. Шнейдер растягивает свое одеяло на полу, и Брюне
падает на него. На секунду Брюне видит лицо наборщика,
склонившегося над ним, он ему говорит: «Не оставайся здесь, устройся
подальше, а встреча завтра в полдень». Лицо исчезает, и начинается
сон. Тень решеток медленно скользит по полу, скользит и кружит
по простертым телам, взбирается на ящики, кружит, кружит,
бледнеет, ночь поднимается вдоль стен; сквозь решетки слуховое окно
кажется синяком, бледным синяком, черным синяком, и потом
вдруг ясным и веселым глазом; решетки возобновляют свой
хоровод, они кружат, тень кружит, как фонарь маяка, зверь в клетке, на
миг возникают шевелящиеся люди, потом они исчезают, пароход
отправляется от берега со всеми этими каторжниками, околевшими
от холода в своих клетках. Вспыхивает пламя спички, из сумерек
выскакивают слова, написанные красными буквами наискось на
ящиках: «ОСТОРОЖНО! СТЕКЛО!», в соседней клетке
шимпанзе прижимают любопытствующие лица к решеткам, они тянут
длинные руки сквозь прутья, у них грустные и морщинистые глаза,
обезьяна — это животное, у которого самые грустные глаза после
910
Жан Поль Сартр
человеческих. Что-то случилось, он хочет понять, что случилось,
катастрофа? Какая катастрофа? Может, солнце потухло? В клетках
чей-то голос напевает: «Однажды вечером я вам скажу что-нибудь
приятное». Катастрофа, все вовлечены в нее, какая катастрофа? Что
будет делать партия? Это восхитительный вкус свежего ананаса,
молодой, немного веселый детский вкус, он жует ананас, он мнет
его сладкую волокнистую упругую мякоть, когда я его ел в
последний раз? Я любил ананасы, это как беззащитное дерево без коры; он
жует. Молодой жесткий вкус нежного дерева тихо поднимается из
глубины его горла, как нерешительный восход солнца, расцветает у
него на языке, он хочет сказать что-то, что он хочет сказать, этот
солнечный сироп? Я любил ананасы, о! давно, это из той поры,
когда я любил лыжи, горы, бокс, маленькие парусные яхты,
женщин. Стекло. Что стекло? Все мы хрупки, как стекло. Вкус на
языке кружит, солнечный водоворот, старый забытый вкус, я себя
забыл, муравейник солнца в листьях каштанов, дождь солнца на моем
лбу, я читал в гамаке, позади меня белый дом, позади меня Турень,
я любил деревья, солнце и дом, я любил вселенную и счастье, о!
когда-то. Он шевелится, он барахтается: «Я должен что-то сделать,
я должен что-то сейчас же сделать». Срочная встреча, но с кем? С
Крупской. Он снова падает: «СТЕКЛО». Что я сделал со своими
любимыми; они мне говорили: «Ты нас недостаточно любишь». Они
меня подловили, они избавили от кожуры мой молодой нежный
побег, клейкий от сока, когда я выйду отсюда, я съем целый ананас.
Он наполовину привстает, у меня срочная встреча, он снова падает
в спокойное детство, в парк, раздвиньте травы и вы увидите солнце;
что ты сделал со своими желаниями? У меня нет желаний, я еще
существую, но сок мертв; обезьяны вцепились в решетки и смотрят
на него лихорадочно блестящими глазами, что-то произошло. Он
вспоминает, он приподнимается и кричит: «Наборщик!» Он
спрашивает: «Наборщик пришел?» Никто не отвечает, он снова падает
в клейкий сок, в СУБЪЕКТИВНОСТЬ, мы проиграли войну, и я
здесь подохну, над ним склоняется Матье, он шепчет: «Ты нас
недостаточно любил, ты нас недостаточно любил»; обезьяны хохочут,
ударяя себя по ляжкам: «Ты ничего не любил, нет! Ничего!» Тень
решеток медленно кружит по его лицу, тень, солнце, тень, его это
забавляет. Я принадлежу партии, я люблю товарищей; для других
у меня нет времени, у меня встреча. «Однажды вечером я вам скажу
что-нибудь приятное, однажды вечером я вам скажу, что вас
люблю». Он сел, он тяжело дышит, он смотрит на них, Мулю бессмыс-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
911
ленно улыбается, подняв лицо к потолку, свежая тень ласкает его,
скользит вдоль щеки, от солнца у него блестят зубы. «Эй! Мулю!»
Мулю продолжает улыбаться, он, не шевелясь, говорит: «Ты их
слышишь?» — «Что именно?» — спрашивает Брюне. —
«Грузовики». Он ничего не слышит; он боится этого всеобъемлющего
желания, которое вдруг его захлестывает: желания жить, любить, ласкать
белые груди. Шнейдер лежит справа от него, он зовет его на
помощь: «Эй! Шнейдер!» Шнейдер спрашивает слабым голосом:
«Совсем плохо?» Брюне говорит: «Возьмешь сигареты в моем рюкзаке.
По три в день». Его бедра медленно скользят на пол, он
обнаруживает, что лежит, откинув голову, он смотрит в потолок, я их люблю,
конечно, я их люблю, но они должны накрыть на стол, что значит
это желание? Тело, смертное тело, лес желаний, на каждой ветке
птица, они подают вестфальскую ветчину на деревянных тарелках,
нож нарезает мясо, когда нож вынимают, чувствуешь легкое
прилипание влажного дерева, они меня подловили, я только желание,
все мы в дерьме, и я подохну здесь. Какое желание? Его
приподнимают, его сажают, Шнейдер заставляет его проглотить суп: «Что
это?» — «Ячменный суп». Брюне начинает смеяться: вот что это
было, вот оно что. Это огромное преступное желание было всего-
навсего голодом. Он засыпает, его будят, он ест суп во второй раз.
Он чувствует ожоги в желудке; решетки кружат, голос умолк; он
говорит: «Кто-то пел». — «Да, — говорит Мулю. — Он больше не
поет. Он умер, — говорит Мулю. — Его вчера унесли». Еще суп, и
на сей раз с хлебом. Он говорит: «Мне лучше». Он самостоятельно
садится, он улыбается. «Детство, любовь, «субъективность» — все
это было ничем, просто галлюцинации от голода. Он весело
окликает Мулю: «Значит, грузовики в конце концов пришли?» — «Да! —
говорит Мулю, — да!» Мулю скребет плоский солдатский хлеб
перочинным ножом, он его ковыряет, местами делает выемку, он
словно скульптор. Он объясняет, не поднимая глаз: «Это хлеб на
добавочную порцию, он заплесневел. Если съесть это непрожарен-
ным, начнется понос, но сейчас по крайней мере есть чем срать». Он
протягивает ломтик хлеба Брюне, другой засовывает в свой
большой рот и гордо говорит: «Шесть дней мы были без жратвы. Я от
этого чуть не рехнулся». Брюне смеется, он думает о
«субъективности». «Я тоже», — говорит он. Он засыпает, его будит солнце, он
еще чувствует слабость, но может встать. Он спрашивает:
«Наборщик приходил ко мне?» — «Знаешь, в эти дни мы не очень-то
обращали внимание на гостей». — «Где Шнейдер?» — спрашивает
912
Жан Поль Сартр
Брюне. — «Не знаю». Брюне выходит в коридор, Шнейдер
разговаривает с наборщиком, и оба смеются. Брюне с раздражением
смотрит на них. Наборщик подходит к нему и говорит: «Мы со Шней-
дером провели кой-какую работу». Брюне поворачивается к Шней-
деру и думает: «Этот везде пролезет». Шнейдер ему улыбается и
говорит: «Мы тут немного поискали с позавчерашнего дня, нашли
новых товарищей». — «Гм! — скептически хмыкает Брюне. —
Нужно будет их увидеть». Он спускается по лестнице, Шнейдер и
наборщик спускаются следом. Во дворе он останавливается, ослеплен-
но щурится: день стоит прекрасный. Сидя на ступеньках крыльца,
люди мирно курят, у них совсем домашний вид, они отдыхают после
тяжелого недельного труда; время от времени кто-то качает головой
и роняет несколько слов; тогда все начинают вслед за ним качать
головами. Брюне со злостью смотрит на них: «Готово! Вот они и
приспособились». Двор, вышки, стена — это принадлежит им, они
сидят на пороге своих домов и с медлительной крестьянской
рассудительностью обсуждают деревенские происшествия: «Что
можно сделать с таким вот народом? У них страсть к обладанию; их
бросают в тюрьму, и через три дня уже не понять, узники они или
хозяева тюрьмы». Другие прогуливаются по двое или по трое, они
идут быстро, они судачат, смеются, размахивают руками: это
щеголяющие буржуа. Проходят, ни на кого не глядя,
вольноопределяющиеся в нестандартной форме, и Брюне слышит их
благовоспитанные голоса: «Нет, старина, прошу прощения, они не объявили себя
банкротами; правда, поговаривали, что объявят, но Национальный
банк помог им выбраться из затруднения». В большом окружении
двое в очках играют в шахматы, положив доску на колени; лысый
человечек читает, хмуря брови; время от времени он кладет книгу
и возбужденно листает огромный том. Брюне подходит сзади:
оказывается, том — это словарь. «Что ты делаешь?» — спрашивает
Брюне. «Учу немецкий». Вокруг поливального шланга совсем голые
парни кричат, смеются и толкаются; облокотившись на колышек,
эльзасец Гартизе беседует по-немецки с часовым, который слушает
его и одобрительно кивает. Достаточно было куска хлеба! Один
кусок хлеба — и этот зловещий двор, где агонизировала
побежденная армия, превратился в пляж, в солярий, в праздничное гулянье.
Два совершенно голых человека загорают, лежа на одеяле; Брюне
захотелось пнуть их в побронзовевшие ягодицы: подожгите их
города, их деревни, уведите их в плен — они повсюду будут неистово
восстанавливать свое маленькое жалкое благополучие, благополу-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
913
чие бедняков; поработайте-ка с такими! Он поворачивается к ним
спиной и переходит в другой двор; он тут же останавливается,
ошеломленный: спины, тысячи спин, звенит колокольчик, и тысячи
голов покорно склоняются. «Ну и дела!» — говорит он. Шнейдер и
наборщик начинают смеяться: «А, да! Сегодня воскресенье. Мы
хотели сделать тебе сюрприз». — «Вот оно что! — говорит Брюне. —
Воскресенье!» Он оторопело смотрит на них: какое упрямство! Они
себе измыслили мифическое воскресенье, воскресенье городов и
деревень, потому что увидели в календаре, что сегодня воскресенье.
В том дворе сельское воскресенье, воскресенье главной улицы
провинциального городка, а здесь воскресенье в церкви, не хватает
только кино. Он поворачивается к наборщику: «Сегодня вечером
нет кино?» Наборщик улыбается: «Члены христианской
молодежной организации разожгут "костер"». Брюне сжимает кулаки, он
думает о попах, он думает: «Пока я был болен, они здорово
поработали. Нельзя болеть». Наборщик застенчиво говорит: «Нынче
прекрасный день». — «Безусловно», — сквозь зубы цедит Брюне.
Безусловно, прекрасный день. Прекрасный день надо всей Францией:
вывороченные и искореженные рельсы блестят на солнце, солнце
золотит пожелтевшие листья вывороченных с корнем деревьев,
вода сверкает на дне воронок от бомб, мертвые разлагаются в
хлебах, их животы поют под безоблачным небом. Вы уже забыли?
Люди — это резина. Все подняли головы, теперь говорит
священник. Брюне не слышит, что он говорит, но он видит его красное
лицо, седые волосы, очки в железной оправе, сильные плечи; он его
узнает: это субъект с требником, которого он заметил в первый
вечер. Он подходит. В двух шагах от него горящие глаза, смиренный
вид, усатый сержант благоговейно внемлет: «...что многие из вас
верующие, но я знаю также, что есть и другие, которые слушают
меня из чистого любопытства, чтобы кое-что узнать или просто
убить время. Все вы мои братья, мои дражайшие братья, братья по
оружию и братья в Боге, я обращаюсь к вам всем, католикам,
протестантам и атеистам, так как слово Божье предназначено
решительно для всех. Завет, который я обращаю к вам в этот день скорби
и день Господа, — это завет Господа нашего, он состоит из двух
простых слов: «Не отчаивайтесь!..», ибо отчаяние есть не только
смертный грех против бесконечной божественной доброты: даже
неверующие согласятся со мной, что это еще и покушение человека на
самого себя и, если можно так сказать, нравственное самоубийство.
Среди вас, мои дорогие братья, несомненно, есть и такие, кто был
914
Жан Поль Сартр
обманут еретическим утверждением, что в удивительном
следовании событий нашей истории нет ничего, кроме скопления
случайностей, лишенных значения и связи. Сейчас они повторяют, что мы
были разбиты, потому что нам не хватило танков и самолетов. О
таких Господь сказал, что имеют уши, да не слышат, имеют глаза, да
не видят, и, вне сомнений, когда гнев Божий обрушился на Содом
и Гоморру, в нечестивых городах нашлось немало закоренелых
грешников, которые утверждали, что огненный дождь,
превративший их города в пепел, был всего лишь метеором или
атмосферными осадками. Братья мои, не грешили ли они против самих себя?
Если бы молнии упали на Содом случайно, тогда все труды
человека, все, что создано им, может быть обращено в ничто слепыми
силами природы и без всякого смысла. Зачем тогда строить? Зачем
сеять? Зачем создавать семью? Так думаем сейчас мы, побежденные
и плененные, униженные в нашей законной национальной
гордости, без известий от дорогих нам людей. Неужели вам кажется, что
все это только игра бездушных сил, что все это не имеет высшей
первопричины? Если бы это было правдой, друзья мои, нам
следовало бы предаться отчаянию, ибо нет ничего более приводящего в
отчаяние, ничего более несправедливого, чем страдать ни за что. Но,
братья мои, я спрашиваю у этих вольнодумцев: «А почему нам не
хватило танков? Почему нам не хватило пушек?» Они, без
сомнения, ответят: «Потому что мы их недостаточно производили». И тут
вдруг спадает покров с лица нашей многогрешной Франции,
которая уже четверть века как забыла свой долг и своего Бога. Почему
действительно мы оказались не готовы к войне? Потому что мы не
работали. А откуда идет, братья мои, эта волна лени, которая
обрушилась на нас, как саранча на поля египетские? Все потому, что
мы были расколоты внутренними раздорами: рабочие, ведомые
циничными подстрекателями, стали ненавидеть своих хозяев;
хозяева, ослепленные сребролюбием, мало заботились о законнейших
нуждах рабочих, коммерсанты завидовали служащим, служащие
жили, как омела на дубе; наши избранники в палате депутатов
вместо того, чтобы спокойно обсуждать общественные интересы,
противоборствовали, оскорбляли друг друга, иногда доходили до
рукоприкладства. Но откуда, мои дорогие братья, это столкновение
интересов, откуда эта нравственная распущенность? А все это
потому, что гнусный материализм распространился по стране, как
эпидемия. А что такое материализм, если не состояние человека,
отвернувшегося от Бога: он думает, что родился из земли и что он
СМЕРТЬ В ДУШЕ
915
вернется в землю, он ни о чем не заботится, кроме как о своих
земных интересах. Я отвечу нашим маловерам: «Вы правы, братья мои:
мы проиграли войну, потому что нам не хватило материального. Но
вы правы только частично, потому что ваш ответ
материалистический, и именно потому, что вы материалисты, вы были побеждены.
И это Франция, старшая дочь Церкви, которая некогда вписала в
историю непрерывную череду своих ослепительных побед; но
Франция без Бога познала поражения 1940 года». Он делает паузу;
люди молча слушают, открыв рот, сержант одобрительно кивает.
Брюне переводит взгляд на священника; он поражен его
триумфальным видом: его сияющие глаза озирают аудиторию из конца в
конец, щеки попунцовели, он вздымает руку и продолжает свою
речь с особым пылом: «Итак, братья мои, оставим мысль, что наше
поражение — дело случая: это одновременно наше наказание и наш
грех. Не случайно, братья мои, говорю: это кара; вот добрая весть,
которую я вам сегодня несу». Он выдерживает еще одну паузу и
вглядывается в обращенные к нему лица, чтобы оценить
произведенный эффект. Потом наклоняется и вкрадчиво продолжает: «Я
должен признать, что это весть жестокая и неприятная, но тем не
менее это весть благая. Разве тому, кто считает себя невинной
жертвой катастрофы и, не понимая сути, ломает руки, не сообщают
добрую весть, когда открывают ему, что он всего лишь искупает свою
вину? И потому говорю вам: возрадуйтесь, братья мои!
Возрадуйтесь из глубины ваших страданий, ибо если есть вина, есть также и
искупление. И я вам говорю: возрадуйтесь еще, возрадуйтесь в Доме
Отца вашего, так как есть и другая причина возрадоваться. Наш
Господь, который страдал за всех людей, который взял на себя наши
грехи и который еще страдает, чтобы их искупить, наш Господь
избрал вас. Да, всех вас, крестьян, рабочих, мещан, которые не совсем
невинны, но и не самые виноватые, он избрал вас для несравненной
судьбы: по его воле ваши страдания, подобно его страданиям,
искупят грехи и ошибки всей Франции, которую Бог не перестал
любить и которую он наказал с тяжелым сердцем. Братья мои, здесь
надо выбирать: или вы будете стенать и рвать власы свои, причитая:
почему именно со мной случилось это несчастье? Со мной, а не с
моим соседом, который был многогрешным богатеем, не с
политиками, которые привели мою страну на край гибели? Если вы будете
рассуждать так, то вам только и остается умереть в ненависти и
злобе. Или же вы сами себе скажете: мы были ничем, а теперь мы
избранные страдальцы, страстотерпцы, мученики. Мы как те ни-
916
Жан Поль Сартр
спосланные небом избранники, как те, кого Господь всегда
призывал во Франции, когда она бывала на волосок от гибели...» Брюне
уходит на цыпочках. Он находит Шнейдера и наборщика у стены
казармы. Он говорит: «Этот знает свое дело» — «Еще бы! —
отзывается наборщик. — Он обитает в двух каморках от меня, по вечерам
только его и слышно, за это время он набил себе руку». Мимо
проходят двое — высокий сухопарый с вытянутым черепом и пенсне на
носу и маленький толстяк с высокомерно поджатыми губами.
Высокий говорит мягко и степенно: «Он очень хорошо говорил. Очень
просто. И он сказал именно то, что нужно». Брюне начинает
смеяться: «Черт возьми!» Они делают несколько шагов. Наборщик
недоверчиво смотрит на Брюне; он спрашивает: «Итак?» — «Итак? —
повторяет Брюне. — Что ты думаешь об этой проповеди?» — «В ней
есть и хорошее, и плохое. В каком-то смысле он работает на нас: он
им объясняет, что плен не будет увеселительной прогулкой; и я
полагаю, что он будет твердить об этом и дальше: это в его интересах,
как и в наших. Пока эти парни будут думать, что в конце месяца они
увидят свою подружку, ничего нельзя сделать». — «Да?» Наборщик
слегка выпучил красивые глаза, щеки его стали серыми. Брюне
продолжает: «С этой стороны все в порядке. Вы даже можете
использовать его проповеди. Отводите людей в сторону и с глазу на глаз
говорите им: «Слышал попа? Он сказал, что придется туго».
Наборщик с тревогой спрашивает: «Так ты думаешь, все это надолго?»
Брюне сурово смотрит на него: «Ты веришь в сказки?» Наборщик
молчит, он глотает слюну; Брюне поворачивается к Шнейдеру и
продолжает: «Хотя, с другой стороны, я не думал, что они так
быстро ему поддадутся, я рассчитывал, что они захотят предугадать
события. Что ж, плевать! Но его проповедь — настоящая
политическая программа: Франция — старшая дочь Церкви, а Петэн — вождь
французов. И это неприятно». Он бросает быстрый взгляд на
наборщика: «Что о нем думают в твоем окружении?» — «Его очень
любят». — «Вот как?» — «Его не в чем упрекнуть. Он делится всем,
что имеет; но всегда дает это почувствовать. У него постоянно такой
вид, будто он говорит тебе: я даю тебе это из любви к Богу. Лично я
предпочитаю вовсе не курить, чем курить его табак; но я один
такой». — «Это все, что ты о нем знаешь?» — «Но дело в том, —
извиняющимся тоном говорит наборщик, — что он на месте только
вечером». — «А где его носит днем?» — «Он бывает в медпункте». —
«Как, теперь есть медпункт?» — «Да, в другом здании». — «Он что,
санитар?» — «Нет, но он приятель майора, он играет в бридж с ним
СМЕРТЬ В ДУШЕ
917
и двумя ранеными офицерами». — «Ха-ха! — смеется Брюне. — И
что об этом говорят ребята?» — «Они ничего не говорят: они
догадываются, но не хотят этого знать. Я узнал это от Гартизе,
санитара». — «Ладно, что ж, ты им выскажешь все без обиняков; ты у них
спросишь, как это получается, что попы всегда путаются с
офицерами». — «Согласен». Шнейдер уже давно смотрит на них, странно
улыбаясь. Он говорит: «Другое здание — это там, где фрицы». —
«А!» — восклицает Брюне. Шнейдер поворачивается к наборщику;
он продолжает улыбаться: «Теперь ты понимаешь, что ты должен
сказать: поп бросает своих товарищей, чтобы подхалимничать перед
фрицами». — «Ну, знаешь ли, — вяло говорит наборщик, — я не
думаю, что он там видит много фрицев». Шнейдер с притворным
нетерпением пожимает плечами: Брюне кажется, что он просто
забавляется. «А вот у тебя есть право разгуливать по зданию
фрицев?» — спрашивает Шнейдер у наборщика. Тот, не отвечая,
пожимает плечами. Шнейдер торжествует: «Вот видишь! Мне плевать на
его замыслы: может, он хочет спасти Францию. Но объективно он —
французский пленный, который проводит дни с врагами. Вот о чем
должны знать товарищи». Наборщик в замешательстве
поворачивается к Брюне. Брюне не нравится тон Шнейдера, но ему не
хочется вступать с ним в спор. Он говорит: «Действуй осторожно. Не
пытайся в данный момент подорвать его авторитет. Впрочем, их
здесь больше пятидесяти, тебя все равно не хватит. Изловчись
сказать в разговоре, что поп думает, будто мы не скоро вернемся домой,
а он это знает, потому что якшается с офицерьем и точит лясы с
фрицами. Пусть ребята мало-помалу уразумеют, что поп для них —
чужой. Понял?» — «Да», — говорит наборщик. — «Есть кто-нибудь
из наших в комнате священника?» — «Да». — «Он смышленый?» —
«Еще бы!» — «Пусть он позволит заговаривать себе зубы, пусть
делает вид, что поддается, нам необходим информатор».
Прислонившись к стене, он некоторое время размышляет и говорит
наборщику: «Сходи за товарищами. Двумя или тремя. Новыми». Когда
они остаются одни, Брюне говорит Шнейдеру: «Я бы предпочел
немного подождать; через месяц-другой люди как раз созреют. Но
попы слишком сильны. Если мы не начнем сейчас же, то потеряем
темп. Ты по-прежнему согласен работать с нами?» — «Работать над
чем?» — спрашивает Шнейдер. Брюне хмурит брови: «Я считал, что
ты хотел работать с нами. Ты передумал?» — «Я не передумал, —
отвечает Шнейдер. — Я просто спрашиваю тебя, над чем вы
собираетесь работать?» — «Что ж, — говорит Брюне, — ты слышал попа?
918
Жан Поль Сартр
Он тут не одинок: через месяц будут повсюду. Более того, я не
слишком удивлюсь, если фрицы подберут среди нас двух-трех
Квислингов и заставят на себя работать. До войны можно было
противопоставить солидные организации, партию, профсоюзы, комитет
бдительности. Здесь же ничего нет. Стало быть, речь идет о том, чтобы
хоть что-то воссоздать. Естественно, это часто будет сводиться к
разглагольствованиям, я всегда этого очень не любил, но у нас нет
выбора. Итак: обнаружить здоровые элементы, организовать их,
приступить к подпольной контрпропаганде — вот ближайшие цели.
Развернуть две темы: мы отказываемся признавать перемирие;
демократия — единственная форма управления, которую мы можем
сегодня принять. Пока не следует идти дальше: поначалу нужно
быть осторожными. Я же обязуюсь найти товарищей из
коммунистической партии. Но есть еще другие: социалисты, радикалы, все,
кто более или менее «слева», а также сочувствующие, как ты».
Шнейдер холодно улыбается: «Слабые». — «Скажем так:
умеренные». Брюне торопится добавить: «Но можно быть умеренным и
честным. Я не уверен, что говорю на их языке. У тебя этой
трудности не будет, потому что это твой язык». — «Согласен, — говорит
Шнейдер. — Короче говоря, речь идет о частичном возрождении
духа Народного фронта?» — «Это было бы не так уж плохо», — не
возражает Брюне. Шнейдер качает головой и уточняет: «Значит,
такой будет моя работа. Но... ты уверен, что она твоя!» Брюне
удивленно смотрит на него: «Моя?» — «Ладно! — безразлично говорит
Шнейдер. — Если ты в этом уверен...» — «Объяснись, — просит
Брюне. — Я не люблю околичностей». — «Но мне нечего объяснять.
Я только хотел спросить: что делает компартия в данный момент?
Каковы ее указания, ее директивы? Предполагаю, тебе они
известны?» Брюне, улыбаясь, смотрит на него: «Ты отдаешь себе отчет в
ситуации? Немцы в Париже уже две недели, вся Франция вверх
дном: одни товарищи убиты или в плену, другие ушли бог знает
куда со своими дивизиями, в По или Монпелье, третьи в застенках.
Если хочешь знать, что делает партия в данный момент, я тебе
скажу: она в состоянии реорганизации». — «Понятно, — вяло говорит
Шнейдер. — А ты со своей стороны пытаешься сблизиться с
товарищами, которые находятся здесь. Это превосходно». — «Ладно, —
заключает Брюне, — если ты согласен...» — «Но, старина, конечно,
я согласен. Тем более что это меня мало касается. Я не коммунист.
Ты мне говоришь, что партия реорганизуется: большего я не
спрашиваю. Но на твоем месте я хотел бы знать... — Он шарит в кармане
СМЕРТЬ В ДУШЕ
919
кителя, как будто ищет сигарету, потом вынимает руку и опускает
ее вдоль стены. — На какой базе она реорганизуется? Вот в чем
вопрос». Он добавляет, не глядя на Брюне: «Ведь Советы вступили в
союз с Германией». — «Да нет же, — нетерпеливо говорит Брюне. —
Они всего лишь заключили пакт о ненападении, к тому же
временный. Поразмысли немного, Шнейдер: после Мюнхена у СССР не
было другого выхода...» Шнейдер вздыхает. «Знаю, я знаю все, что
ты мне скажешь. Ты мне скажешь, что Советы потеряли доверие к
союзникам и что они выгадывают время, чтобы собрать силы и
вступить в войну с фрицами. Разве не так?» Брюне колеблется. «Не
совсем так, — говорит он, — скорее, я думаю, что СССР понимает,
что фрицы на него нападут». — «Но ты считаешь, что Советы
делают все, чтобы это отсрочить?» — «Полагаю, да». — «Но тогда, —
медленно произносит Шнейдер, — я бы на твоем месте не был так
уверен, что партия сейчас непоколебимо займет антинацистскую
позицию; это могло бы повредить Советам». Он останавливает на
Брюне тусклые глаза. Сегодня у Шнейдера притуплённый,
меланхолический взгляд, но его трудно выдержать. Брюне раздраженно
отворачивается. «Не строй из себя большего глупца, чем ты есть. Ты
хорошо знаешь, что речь не идет об определенной официальной
позиции, партия на нелегальном положении с тридцать девятого
года, и ее деятельность останется подпольной». Шнейдер
улыбается: «Да, подпольной. Но что это значит? К примеру, будут
подпольно печатать «Юманите»? Но пойми, из десяти тысяч
распространенных экземпляров каждый раз по меньшей мере сотня попадет в
руки немцев, это неизбежно: будучи на нелегальном положении,
можно еще как-то скрыть место выпуска листовок, типографии,
редакцию и прочее, но не сами листовки, потому что они для того
и существуют, чтобы распространяться. Через три месяца гестапо
будет знать абсолютно все о политике французской компартии». —
«И что из этого? Они не смогут вменить это в вину СССР». — «А
Коминтерну? — спрашивает Шнейдер. — Ты считаешь, что между
Молотовым и Риббентропом не было разговора о Коминтерне?» Он
говорит без всякой агрессивности, нейтрально. Однако в его мягкой
настойчивости есть что-то настораживающее. «Не будем строить из
себя доморощенных стратегов, — говорит Брюне. — Что Риббентроп
сказал Молотову, я не знаю, я у них под столом не сидел. Но вот что
я знаю наверняка — потому что это просто очевидно — между СССР
и партией отношения прерваны». — «Ты в этом уверен?» —
сомневается Шнейдер. Через мгновение он добавляет: «Но даже если
920
Жан Поль Сартр
сегодня отношения прерваны, они вполне могут быть
восстановлены завтра. На то и Швейцария». Месса закончилась, солдаты,
молчаливые и отрешенные, проходят мимо. Шнейдер понижает голос:
«Я убежден, что нацистское руководство считает СССР
ответственным за деятельность французской компартии». —
«Предположим, — говорит Брюне. — И что из этого следует?» — «Представь
себе, — продолжает Шнейдер, — что СССР, желая выиграть время,
прикажет коммунистам Франции и Бельгии молчать». Брюне
пожимает плечами: «Прикажет! Как ты себе представляешь
отношения между СССР и компартией? Разве ты не знаешь, что в партии
есть ячейки, а в них люди, которые имеют право дискутировать и
голосовать?» Шнейдер улыбается и терпеливо произносит: «Я не
хотел тебя обидеть. Скажу иначе: представь себе, что компартия, не
желая создавать трудности СССР, сама обяжет себя молчать...» —
«Это будет ново». — «Не так уж ново. Как вы вели себя при
объявлении войны? А с тех пор положение СССР ухудшилось. Если
Англия капитулирует, у Гитлера будут развязаны руки». — «У
СССР было время подготовиться. Он надеется на блиц». — «Ты в
этом уверен? Этой зимой Красная Армия выглядела не слишком
убедительно. К тому же ты сам признал, что Молотов тянет
время...» — «Если между СССР и компартией, как ты утверждаешь, все
же существуют определенные отношения, в нужное время
товарищи будут осведомлены о степени подготовленности Красной
Армии». — «Товарищи, да. Там, в Париже. Но не ты. А здесь работаешь
ты». — «Куда ты, в конце концов, клонишь? — повышает голос
Брюне. — Что ты хочешь всем этим сказать? Что наша
коммунистическая партия стала профашистской?» — «Нет, но победа фашистов
и германо-советский пакт — это два факта, которые могут партии
не нравиться, но к которым она должна приноравливаться. А ты
ведь пока не знаешь, как она намерена к ним приноравливаться». —
«Стало быть, мне сидеть сложа руки?» — «Я этого не сказал, —
возражает Шнейдер. — Мы просто рассуждаем...» Помолчав, он чешет
большой нос и продолжает: «Но западным демократиям компартия
отнюдь не милее, чем нацисты, хоть и по другой причине. Пока
было возможно говорить об альянсе СССР и западных демократий,
вы избрали защиту политических свобод и борьбу с фашистской
диктатурой. Эти свободы иллюзорны, ты это знаешь не хуже меня.
Но сегодня демократии на коленях, СССР сблизился с Германией,
Петэн взял власть, и партия вынуждена продолжать работу в
фашистском и профашистском обществе. А ты, оставшись без руково-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
921
дителей, без директив, без контактов, без новостей, по собственной
инициативе избираешь прежнюю, явно устаревшую позицию.
Только что мы говорили о духе Народного фронта, но Народный фронт
умер. Умер и погребен. Он имел смысл в тридцать шестом году, в
тогдашнем историческом контексте. Сегодня в нем нет решительно
никакого смысла. Будь осторожен, Брюне, ты намерен работать в
потемках». Его голос стал резким; но внезапно он сменил тон и
мягко продолжил: «Вот поэтому я у тебя и спрашивал, уверен ли ты
в своей работе». Брюне начинает смеяться. «Брось! — говорит он. —
Все это не так ужасно. Сгруппируем людей, попытаемся
противостоять попам и нацистам, а дальше будет видно: задачи возникнут
сами собой». Шнейдер одобряет его кивком головы. «Конечно, —
соглашается он. — Конечно». Брюне смотрит ему в глаза. «Меня
беспокоишь именно ты, — говорит он. — По-моему, ты отъявленный
пессимист». — «Да что я! — безразлично произносит Шнейдер. —
Если хочешь знать мое мнение, я думаю, что все, что мы будем
делать, не имеет никакого политического значения: ситуация
слишком сложная, и мы мало что знаем. Те из нас, кто вернется,
обнаружат уже как-то организованное общество, со своими кодексами и
мифами. Мы бессильны. По крайней мере в этом смысле. Но с
другой стороны, если мы сможем придать немного мужества
товарищам, если мы помешаем им впасть в отчаяние, если мы сейчас дадим
им смысл жизни, пусть даже иллюзорный, тогда игра стоит свеч». —
«Что ж, хорошо! — говорит Брюне. — Ладно! — добавляет он,
помолчав. — Я пойду немного прогуляюсь, я сегодня впервые вышел.
До скорого». Шнейдер двумя пальцами отдает ему честь и уходит.
«Дух отрицания, интеллектуал, необходимо было основательно им
заняться. Странный тип: то такой дружественный, такой теплый, то
ледяной, почти циничный, где я его видел? Почему он говорит
«товарищи» о людях из партии, а не твои товарищи, как это следовало
ожидать от него? Нужно все же заглянуть в его военный билет». В
шумном дворе люди выглядят как в воскресные дни; на всех
выбритых, вымытых лицах одно и то же отсутствующее выражение.
Они ждут, и их ожидание построило по другую сторону крепостной
стены целый гарнизонный город с садами, борделями и кафе.
Посреди двора кто-то играет на гармонике, танцуют пары, город-
призрак вздымает крыши и кроны над крепостной стеной, он
отражается на незрячих лицах этих танцоров-призраков. Брюне
поворачивает назад, возвращается в другой двор. Тут смена декораций:
церковь переместили; парни горланят и, как сумасшедшие, бегают
922
Жан Поль Сартр
взапуски. В конце концов Брюне поднимается на холмик за
конюшней, он смотрит на могилы, здесь он чувствует себя покойно. На
утрамбованную землю бросили цветы, впритык поставили три
маленьких креста. Брюне садится между двумя холмиками, мертвые
распластаны под ним, это его успокаивает; для него тоже однажды
придет день успокоения и невиновности. Он откапывает открытую
ржавую банку из-под сардин, потом бросает ее: «Нынче воскресенье
для пикника и посещения кладбища; я гулял по холму, подо мной в
городе взапуски бегали дети, и их крики доносились до меня. Где
это было?» Он не знает; он думает: «Он прав, я буду работать в
потемках». А где выход? Не делать вообще ничего? При этой мысли
все в нем бунтует. В конце войны я вернусь и скажу товарищам:
«Вот и я. Я выжил». Ну и дела. «А если бежать?» Он смотрит на
стены, они не слишком высоки: потом достаточно будет добраться
до Нанси, Пуллены меня спрячут. Но под ним три мертвеца, дети
кричат в этой вечной низине: он прикладывает ладонь к свежей
земле, он решает остаться. Нужна гибкость. Сплотить парней,
присматриваться к ним, вернуть им уверенность и отвагу, во всяком
случае, взбунтовать их против перемирия, а потом, в зависимости
от обстоятельств, изменить линию. «Партия нас не бросит, —
думает Брюне. — Партия не может нас бросить». Он в полный рост
ложится, как мертвый, на мертвых: он смотрит на небо; затем встает,
медленным шагом спускается, он думает о том, что одинок. Смерть
витает вокруг него, как запах, венчающий воскресенье; впервые в
жизни он чувствует смутную вину. Вину за то, что одинок, вину за
то, что думает и живет. Вину за то, что не погиб. За крепостными
стенами черные бездыханные дома с выколоченными глазами:
вечность камня.
А эти клики воскресной толпы звучат вечно. Один Брюне не
вечен, но вечность осеняет его, словно чей-то взгляд. Он ходит;
когда он возвращается, уже смеркается, он гулял весь день, ему
нужно было что-то в себе убить, он не знает, удалось ли ему это:
когда ничего не делаешь, невольно размягчаешься. Коридор
чердака пахнет пылью, каморки гудят, это остатний хвост воскресенья.
На полу целое небо, усеянное звездами: люди курят во мраке.
Брюне останавливается и говорит, не обращаясь ни к кому в
отдельности: «Будьте осторожны. Постарайтесь не поджечь барак». Люди
недовольно ворчат — этот голос давит сверху им на плечи; Брюне,
сбитый с толку, замолкает, он чувствует себя лишним. Он делает
еще несколько шагов; красная звездочка выпрыгивает и мягко ка-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
923
тится ему под ноги, он тушит ее башмаком; ночь тихая и синяя, окна
вырисовываются во мраке, сиреневые, как пятна, которые плывут
перед глазами, когда слишком долго смотришь на солнце. Он не
может найти свою каморку, он кричит: «Эй! Шнейдер!» — «Сюда!
Сюда! — отзывается чей-то голос. — Это здесь!» Он возвращается,
кто-то совсем тихо поет себе под нос: «На дороге, на главной
дороге пел молодой человек». Брюне думает: «Они любят вечер».
«Сюда, — говорит Шнейдер, — пройди немного, и ты дома». Он
входит, смотрит сквозь решетки на слуховое окно, он думает о
газовом фонаре, который зажигался, когда ночь была синей. Он
молча садится, смотрит на слуховое окно; газовый фонарь, где это
было? Вокруг него шепчутся люди. Утром они кричат, вечером
шепчут, потому что они любят вечер; вместе с ночью, крадучись, в
большой темный ящик входит Покой, Покой и былые годы; можно
даже подумать, что они любили свою прежнюю жизнь. «Я бы, —
говорит Мулю, — выпил сейчас хорошую кружку пива. В этот час я
пил бы ее в «Кадран Бле» и глазел на прохожих». — «Кадран Бле»,
это где?» — спрашивает блондинчик. — «Где Гобелен. На углу
проспекта де Гобелен и бульвара Сен-Марсель, если помнишь». — «А!
Да, там есть кинотеатр «Сен-Марсель»?» — «В двухстах метрах; еще
бы я его не знал, я живу напротив казармы «Лурсин». После работы
я возвращался домой перекусить, а потом снова выходил, шел в
«Кадран Бле», а иногда в «Канон де Гобелен». Но в «Кадран Бле»
есть оркестр». — «В кино «Сен-Марсель» бывали первоклассные
развлечения». — «Еще бы. Там выступали Трене, Мари Дюба, я
видел ее собственной персоной у выхода, у нее был вот такусенький
маленький автомобильчик». — «И я туда ходил, — говорит
блондинчик. — Я живу в Ванве, когда ночь была хорошей, я
возвращался пешком». — «Это не близко». — «Не близко, но я молодой». — «Я
же, — говорит Ламбер, — не скучаю по пиву, я никогда его особенно
не любил. Вот вино — другое дело! Я мог заложить за воротник
литра два. Иногда три. Но прежде мне нужно его просмаковать.
Представляешь себе, если бы сегодня вечером было вино. Хороший
первач». — «Ну и дела! — поражается Мулю. — Три литра!» — «Ну
и что?» — «Когда я выпиваю больше одного, у меня начинается
изжога». — «Это потому, что ты пьешь белое». — «А! Верно, —
признается Мулю. — Белое. Я другого и не знаю». — «Не нужно далеко
ходить. Слушай, моей мамаше шестьдесят пять лет, мы живем
вместе. Так вот, в таком-то возрасте она, представь себе, еще выпивает
литр вина за день. Только, конечно, это красное». С минуту он мол-
924
Жан Поль Сартр
чит, мечтает. Остальные тоже мечтают; они спокойно слушают, не
пытаясь прервать никого, а говорят, обращаясь ко всем. Брюне
думает о Париже, об улице Монмартр, о маленьком баре, куда он,
выходя из «Юманите», заходил выпить вязкого белого вина. «В
такое воскресенье, как сегодня, — говорит сержант, — я пошел бы с
женой на наш огород. У нас есть огород в двадцати пяти километрах
от Парижа, немного за Вильнёв-Сен-Жорж, там отличные овощи
растут». Грубый голос по другую сторону решетки подтверждает:
«Еще бы! Там везде прекрасная земля!» — «В это время мы обычно
возвращались, — говорит сержант. — Или, может, чуть раньше, как
раз при заходе солнца; я не люблю ездить при фонарях. Жена везла
на руле велосипеда цветы, а я клал овощи на багажник». — «А я, —
говорит Ламбер, — по воскресеньям никуда не выходил. На улицах
толчея, и потом, я работаю по понедельникам, а Лионский вокзал
не близко». — «Что ты делаешь на Лионском вокзале?» — «Я в
справочном бюро: здание, которое чуть в стороне. Если захочешь
немножко попутешествовать, то заходи ко мне, и я сделаю тебе
билет заранее. Даже накануне: я тебе это устрою». — «А я, — говорит
Мулю, — не смог бы остаться дома, я сдох бы со скуки. Дело в том,
что я живу бобылем». — «Даже по субботам, — говорит Ламбер, —
часто бывает, что я никуда не выхожу». — «А как же девочки?» —
«Девочки? Я их привожу к себе». — «К себе? — недоверчиво
переспрашивает блондинчик. — А что же твоя старуха?» — «Она
помалкивает. Она нам варит суп, а потом уходит в кино». — «Вот
здорово! — говорит блондинчик. — Она у тебя молодчина! А моя мать,
если встречала меня с девчонкой, давала мне тумаков, даже когда
мне было восемнадцать лет». — «Ты тоже живешь с матерью?» —
«Уже нет. Я женился». Помолчав, он говорит: «Сегодня вечером мы
бы тоже никуда не пошли. Мы бы трахались». Наступает долгое
молчание, Брюне слушает их; он чувствует себя обыденным и в то
же время каким-то вневременным, он говорит почти застенчиво: «А
я в это время был бы в бистро на улице Монмартр и пил бы белое
вино с друзьями». Никто не отвечает. Кто-то металлическим
голосом поет песню «Моя хижина». Брюне спрашивает у Шнейдера:
«Кто этот парень?» Шнейдер говорит: «Это Гассу, сборщик налогов,
он из Нима». Малый продолжает петь, Брюне думает: «А Шнейдер
так и не сказал, что он делает по воскресеньям». Внезапно
раздается долгий мелодичный зов, что это? Белеет стекло слухового окна,
на белый пол отбрасывает тень решетка; три часа утра. Виноград-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
925
ники кучерявятся под лунной дымкой, Аллье плещется о свои
островки, в Пон-де-Во-Флервилль виноградари, пританцовывая,
ждут трехчасового поезда, Брюне весело спрашивает: «Что это?»
Он вздрагивает, потому что кто-то ему отвечает: «Тише. Тише.
Слушай!» Я не в Маконе, в своей постели, это не летние каникулы.
Снова долгий чрезмерно откровенный зов: три свистка
вытягиваются, растягиваются, длятся. Что-то случилось. Чердак шумит,
огромное животное шевелится на полу; в глубине безликой ночи
крик наблюдателя: «Поезд! Поезд! Поезд!» Значит, вот что это
было: первый поезд. Что-то начинается: отвлеченная ночь сейчас
погустеет и оживет, она запоет снова. Все начинают говорить
одновременно. «Поезд! Первый поезд! Пути восстановлены! Нужно
признать, фрицы быстро сработали! Немцы всегда были хорошими
работниками. Послушайте, в их интересах все снова привести в
порядок. На этом поезде мы увидим Францию. Мы поймем, куда он
идет, в Нанси, а может, в Париж? Эй, ребята, а если в нем пленные,
пленные, которые возвращаются по домам, вы только представьте
себе!» Поезд идет там, снаружи, неизвестно куда, и весь большой
темный дом насторожился. Брюне думает: «Это товарный поезд»;
он из суеверия пытается забыть свое детство; он пытается
представить себе ржавые вагоны, брезент, скопище чугуна и стали; но у него
ничего не выходит; при голубом свете ночника, среди запахов
колбасы и вина, спят женщины, в коридоре курит мужчина, и ночь,
прильнув к окнам, посылает ему его изображение; завтра утром —
Париж. Брюне улыбается, он снова ложится, завернувшись в свое
детство, под шелестящим светом луны, завтра Париж, он дремлет в
поезде, положив голову на мягкое голое плечо, он просыпается в
шелковом свете, Париж! Он скашивает глаза влево, не двигая
головой: шесть летучих мышей зацепились лапами за стены, их крылья
опали, точно юбки. Тут он просыпается полностью: летучие мыши —
это черные тени повешенных на стену кителей; естественно, Мулю
не снял свой китель, попробуй его заставь снять его хотя бы на ночь.
Или сменить гимнастерку, в конце концов он определенно напустит
на нас вшей. Брюне зевает, еще одно утро, что же это было ночью?
А! да, поезд. Он резко вскакивает, отбрасывает одеяло и садится.
Его тело одеревенело, всюду зигзагообразная ломота, деревянная
радость его окоченевших мышц, как будто жесткость пола перешла
в его плоть; он потягивается и думает: «Если я выживу, никогда
больше не буду спать в кровати». Шнейдер еще спит, открыв рот,
926
Жан Поль Сартр
вид у него страдальческий; северянин бессмысленно улыбается;
Гассу — волосы взлохмачены, глаза красные — собирает крошки
хлеба на одеяле и ест их; время от времени он открывает рот и трет
большим пальцем кончик языка, чтобы убрать волос или
шерстинку, попавшие на хлеб; Мулю озадаченно чешет голову, угольные
дорожки подчеркивают его морщины, кажется, что глаза у него
подведены: надо найти средство заставить его умываться; блондинчик
щурится с хмурым и недоуменным видом, вдруг его лицо озаряется:
«Вот это да!» Из-под одеяла торчит только его голова, у него
удивленный и восхищенный вид.
«Что такое, дурачок?» — спрашивает Мулю. — «Да такое, что у
меня стоит», — отвечает блондинчик. — «Стоит? — недоверчиво
переспрашивает Мулю. — Ну конечно! Как носовой платок?»
Блондинчик отбрасывает одеяло, сорочка задрана над его белыми
волосатыми ногами. «Ей-богу, правда, — подтверждает Мулю. —
Счастливчик!» — «Счастливчик? — с недовольным видом говорит
Гассу. — По-моему, это скорее несчастье!» — «Не завидуй! — хохочет
блондинчик. — Ты бы очень хотел, чтобы это несчастье случилось с
тобой». Мулю трясет Ламбера за руку, Ламбер вскрикивает и
подскакивает: «А?» — «Смотри», — говорит Мулю. Ламбер протирает
глаза и удостоверяется. «Черт! — восхищенно произносит он.
Потом смотрит еще: — Можно потрогать?» — «Мне это будет
неприятно», — возражает блондинчик. — «А он случаем не
искусственный?» — «Искусственный! Искусственный! — с омерзением
повторяет блондинчик. — На гражданке я каждое утро просыпался с
дубиной в два раза больше этой». Он лежит на спине, скрестив руки,
глаза полузакрыты, на губах детская улыбка. «А я уже начинал
беспокоиться, — сознается он, созерцая сквозь ресницы свой член,
который движется в такт с его дыханием. — Я ведь женат». Все
смеются. Брюне отворачивается, гнев подступает у него к горлу.
Мулю говорит: «А я ходил в бордель: если у меня больше стоять не
будет, значит, на шлюх не придется тратиться». И они снова
смеются. Блондинчик небрежно, по-отечески гладит член и заключает:
«Земной рай!» Брюне резко поворачивается к блондинчику и
говорит ему сквозь зубы: «Спрячь немедленно!» — «Чего?» —
изумляется тот голосом, отяжелевшим от сладострастия. Насмешник Гассу
передразнивает Брюне: «Спрячьте эту грудь, мне ее видеть
невыносимо!» — «Все вы свиньи!» — сухо говорит Брюне. Они
поворачиваются к нему, они смотрят на него, а Брюне думает: «Я им
неприятен».
СМЕРТЬ В ДУШЕ
927
Гассу что-то бормочет. Брюне наклоняется к нему: «Что ты
говоришь?» Гассу не отвечает, Мулю примирительно тараторит:
«Время от времени не грех поговорить и о любви, это отвлекает». —
«Только импотенты болтают о любви, — обрывает его Брюне. —
Надо не болтать, а трахаться. Когда есть возможность». — «А когда
нет?» — «Тогда о ней молчат». У всех смущенный и замкнутый вид;
медленно, неохотно блондинчик натягивает одеяло. Шнейдер все
еще спит; Брюне наклоняется над северянином и расталкивает его,
тот ворчит и открывает глаза. «Пора на гимнастику!» —
напоминает Брюне. — «Уже?» — удивляется северянин. Он встает и берет
китель, они выходят во двор. Перед одним из бараков наборщик,
Деврукер и три стрелка ждут их. Брюне кричит им издалека: «Все
в порядке?» — «Все в порядке. Ты слышал поезд сегодня ночью?» —
«Да, — раздраженно отвечает Брюне. — Слышал». Но его
раздражение быстро проходит: они молоды, подвижны, опрятны; наборщик
с некоторым кокетством надел пилотку набок. Брюне им улыбается.
Моросит; в глубине двора толпа ждет мессу Брюне с удовольствием
отмечает, что людей поменьше, чем в первое воскресенье. «Ты
сделал, что я тебе сказал?» Деврукер, не отвечая, открывает дверь
барака: он разбросал на полу солому, и Брюне вдыхает влажный запах
конюшни. «Где ты ее взял?» Деврукер улыбается: «Приходится
вертеться». — «Это хорошо», — говорит Брюне; он дружески
смотрит на них. Они входят, раздеваются, остаются только в трусах и
носках; Брюне с удовольствием погружает ноги в хрупкую мягкость
соломы и распоряжается: «Начинаем!» Люди выстраиваются
спиной к двери. Брюне напротив них, считая, делает движения. Они
повторяют за ним, он слышит их ритмичное дыхание. Брюне
удовлетворенно смотрит, как они приседают на пятки, заложив руки за
затылок, крепкие, с длинными веретенообразными мышцами,
Деврукер и Брюне самые сильные, но у них скованные мышцы;
наборщик слишком тощий; Брюне рассматривает его с некоторой
тревогой, но потом в голову ему приходит одна мысль, он выпрямляется
и кричит: «Стой!» Наборщик явно доволен, что можно
остановиться, он тяжело дышит. Брюне подходит к нему: «Послушай! Ты
слишком худой!» — «С двадцатого июня я потерял шесть
килограммов». — «Откуда ты знаешь?» — «В санчасти есть весы». — «Тебе
нужно прибавить в весе, — говорит Брюне. — Ты слишком мало
ешь». — «А что делать?» — «Есть очень простое средство. Каждый
будет отдавать тебе часть своей порции». — «Я...» — начинает
наборщик. Брюне прерывает его: «Считай, что я врач, и предписываю
928
Жан Поль Сартр
тебе усиленное питание. Все согласны?» — спрашивает он,
повернувшись к остальным. «Согласны», — отвечают они. «Хорошо,
значит, по утрам ты будешь обходить каморки и собирать нашу
складчину. Только без опозданий». Наклон и вращение туловища;
через некоторое время наборщик уже шатается. Брюне хмурит
брови: «Что еще?» Наборщик улыбается с извиняющимся видом:
«Тяжеловато». — «Не останавливайся, — говорит Брюне. — Главное —
не останавливайся». Туловища вращаются, как колеса, голова вверх
и потом между ног, затем опять вверх и снова между ног. Довольно!
Они ложатся на спину, чтобы сделать упражнения для живота,
закончат задним мостиком; это их забавляет, им кажется, будто они
занимаются американской борьбой. Брюне чувствует, как работают
мышцы, долгая легкая боль тянет ему пах, он счастлив; это
единственный хороший момент дня, черные балки потолка катятся
назад, солома прыгает ему в лицо, он вдыхает ее желтый запах, его
руки прикасаются к ней далеко-далеко впереди ног. «Давайте! —
подгоняет он. — Давайте!» — «Тянет», — говорит стрелок. «Тем
лучше. Давайте! Давайте!» Он встает: «Твоя очередь, Марбо!» Мар-
бо до войны занимался американской борьбой; по профессии он
массажист. Он подходит к Деврукеру, хватает его за талию; Девру-
кер смеется от щекотки и падает назад, запрокинув руки. Теперь
очередь Брюне, он чувствует эту теплую хватку на своих боках и
отбрасывается назад. «Нет, нет, — говорит Марбо. — Не сжимайся.
Тут нужна гибкость, черт побери, а не сила». Брюне вытягивает
бедра, раздается хруст, он слишком стар, слишком напряжен, он
едва касается земли кончиками пальцев. Он встает все же
довольный, он потеет, поворачивается к ним спиной и подпрыгивает на
месте. «Остановитесь!» Он резко оборачивается: наборщик потерял
сознание. Марбо осторожно кладет его на солому и говорит с
легким упреком: «Для него это слишком тяжело». — «Да нет, —
раздраженно возражает Брюне. — Просто у него нет навыка».
Впрочем, наборщик открывает глаза. Он бледен и с трудом
дышит. «Ну как, дружок?» — заботливо спрашивает Брюне. Наборщик
доверчиво ему улыбается: «Порядок, Брюне, порядок. Я прошу
прощения, я...» — «Ладно, ладно, — говорит Брюне, — все будет в норме,
если ты будешь больше есть. На сегодня все, ребята. А теперь
спортивным шагом марш в душ». В трусах, взяв под мышку одежду, они
бегут к шлангу; они бросают одежду на палаточное полотно, делают
из него непромокаемый сверток и принимают душ под моросящим
дождем. Брюне и наборщик держат металлический наконечник и
СМЕРТЬ В ДУШЕ
929
направляют струю на Марбо. Наборщик бросает на Деврукера
озабоченный взгляд и, кашлянув, сообщает Брюне: «Мы хотели бы с
тобой поговорить». Брюне поворачивается к нему, не выпуская
наконечника; наборщик опускает глаза, Брюне слегка раздражен: он
не любит внушать кому-то страх. Он сухо говорит: «Сегодня в три
часа дня, во дворе». Марбо растирается лоскутом от гимнастерки
цвета хаки и одевается: «Эй, ребята, есть какие-то новости!»
Высокий чернявый человек разглагольствует среди группы пленных.
«Это Шабош, секретарь, — говорит очень возбужденный Марбо. —
Пойду узнаю, что там». Брюне смотрит, как он удаляется: дурак,
даже не удосужился замотать обмотки: держит их по одной в
каждой руке. «Как ты думаешь, что это?» — спрашивает наборщик. Он
говорит равнодушным тоном, но голос его выдает: таким голосом
они говорят сто раз на дню, это голос их надежды. Брюне пожимает
плечами: «Может, русские высадились в Бремене, или англичане
попросили перемирия: это ничего не меняет». Он неприязненно
смотрит на наборщика: паренек умирает от желания
присоединиться к остальным, но не смеет. Брюне не растроган его робостью: «Как
только я повернусь спиной, он сбежит туда, станет перед Шабошем,
вытаращив глаза, раздувая ноздри, широко открыв уши, будет
внимать всеми дырками». «Полей на меня», — просит Брюне. Он
снимает трусы, его плоть ликует под влажным градом, шариками града,
миллион маленьких шариков плоти, сила; он растирает тело
руками, глаза его устремлены на зевак; Марбо проскользнул в середину
группы, он поднимает к оратору курносый нос. Боже, если бы
только они могли утратить надежду; если бы только им было что
делать.
До войны работа была их пробным камнем и определяла истину
и их отношение к миру. Теперь, когда они ничего не делают, они
верят, что все возможно, они витают в облаках, они больше не
знают, что такое реальность. Вот прогуливается троица парней, гибких
и медлительных, они продвигаются длинными естественными
волнообразными движениями, с бессмысленными улыбками на губах,
да проснулись ли они? Время от времени с их губ, как во сне,
слетает слово, и кажется, что они этого не замечают. О чем они
мечтают? С утра до вечера они вырабатывают, как автотоксин, какую-
нибудь сенсацию, которой они лишены; изо дня в день они
рассказывают друг другу историю, которую они перестали делать:
историю, полную неожиданных развязок и крови. «Вот так». Струя
опускается, пена пузырится между булыжниками, Брюне вытира-
930
Жан Поль Сартр
ется, Марбо возвращается с видом незрячим и горделивым к ним.
Он с минуту топчется на месте, потом решается заговорить. Говорит
он с притворным безразличием: «Скоро будут свидания». Лицо
наборщика рдеет: «Что? Какие свидания?» — «Встречи с семьями». —
«Неужели? — насмешливо спрашивает Брюне. — И когда же?»
Марбо быстро встает и лихорадочно смотрит на него: «Сегодня». —
«Конечно, — говорит Брюне. И уже заказали двадцать тысяч
кроватей, чтобы пленные могли потрахаться с женами». Деврукер
смеется; наборщик не смеет не смеяться, но взгляд его становится
плотоядным. Марбо спокойно улыбается: «Это точно, — говорит он. —
Официально! Так сказал Шабош». — «А! Раз это сам Шабош
сказал!» — продолжает язвить Брюне. — «Он говорит, что сегодня
утром вывесят специальные объявления». — «Да, прямо на моей
заднице», — говорит Деврукер. Брюне ему улыбается. У Марбо
удивленный вид. «Нет! Серьезно, так говорит Гартизе, а ему об этом
сказал водитель немецкого грузовика, они вроде бы прибывают из
Эпиналя и из Нанси». — «Кто это они?» — «Да семьи! Они
приехали сюда на велосипедах, на двуколках, в товарном поезде, пришли
пешком, они спали в мэрии на соломенных тюфяках и утром пошли
умолять немецкого коменданта. Смотри, — говорит он. — Смотри!
Вот объявление». Какой-то человек приклеивает листок на дверь,
наплыв, толпа теснится вокруг крыльца; Марбо широким жестом
показывает на дверь. «Ну что? — ликующе спрашивает он, — на
твоей заднице приклеено объявление? На твоей?» Деврукер
пожимает плечами. Брюне медленно натягивает гимнастерку и брюки,
раздраженный, что ошибся. Он говорит: «Пока, ребята. Закроете
кран». И спокойно идет присоединиться к толпе, которая
переминается с ноги на ногу у двери; остается надежда, что все это, как и
многое другое, только утка. Брюне ненавидит маленькие
незаслуженные удачи, которые время от времени приходят, чтобы одарить
трусливые душонки: добавочная порция супа, посещение семей, все
это осложняет работу. Издалека над головами он читает:
«Комендант лагеря разрешает пленным свидания с семьями (прямые
родственники). Для этого будет оборудован зал первого этажа.
Посещения будут происходить — до нового приказа — в воскресенье, с
четырнадцати до семнадцати часов. Они ни в коем случае не
должны превышать двадцати минут. Если поведение пленных не
оправдает эту исключительную меру, она будет приостановлена». Годшо
поднимает голову со счастливым ревом: «Нужно отдать им
должное: они не сволочи». Слева от Брюне маленький Галлуа начинает
СМЕРТЬ В ДУШЕ
931
похихикивать странным полусонным смехом. «Чему ты
смеешься?» — спрашивает Брюне. — «Э! — говорит Галлуа. — Наступает.
Мало-помалу наступает». — «Что наступает?» У Галлуа смущенный
вид, он делает неопределенный жест, прекращает смеяться и
повторяет: «Наступает». Брюне рассекает толпу и идет по лестнице:
вокруг него в сумерках первого этажа все кишит — настоящий
муравейник; подняв голову, Брюне видит руки бледно-голубого цвета
на перилах и длинную спираль голубых лиц, он толкается, его
толкают, он подтягивается вверх, держась за перекладины, его
придавливают к перилам, которые начинают прогибаться; весь день люди
поднимаются и спускаются без малейшего повода; он думает:
«Ничего не поделаешь: они еще недостаточно несчастны». Они стали
собственниками, рантье, казарма принадлежит им, они организуют
вылазки на крышу, в погреба, они нашли в подвале книги. Конечно,
в медпункте нет лекарств, и на кухне нет продуктов, но есть
медпункт, есть кухня, есть секретариат и даже парикмахеры: они
чувствуют, что ими руководят.
Они написали семьям, и уже два дня каждый настроен на время
своего городка. Когда комендатура предписала всем перевести часы
на немецкое время, они поспешили подчиниться, даже те, кто с
июня в знак траура носил на руке остановившиеся часы: эта
неопределенная продолжительность, которая росла, как сорняк,
милитаризовалась, им одолжили немецкое время, настоящее время
победителей, то же самое, что в Данциге, в Берлине: священное время.
Они недостаточно несчастны: их арестовали, ими руководят, их
кормят, их разместили, ими управляют, они ни за что не отвечают.
Сегодня ночью был этот поезд, и вот скоро приедут семьи, привезут
множество консервов и утешений. Сколько криков, плача,
поцелуев! «Им это было очень необходимо; до сих пор по крайней мере
они были непритязательны. Теперь они почувствуют, что чего-то
стоят». У их жен и матерей было время создать себе великий
героический миф о Пленном, они их им заразят. Брюне поднимается на
чердак, идет по коридору, входит в свою клетку и со злостью
смотрит на своих товарищей. Они здесь, лежат, как обычно, они
бездействуют, мечтают о своей жизни, они хорошо устроены и
околпачены. Ламбер поднял брови, с недовольным и удивленным видом
он читает книжку «Образцовые девочки». Достаточно одного
взгляда, чтобы понять, что новость еще не дошла до чердака. Брюне в
нерешительности: рассказать или нет? Он представляет себе
загоревшиеся глаза, их плотоядное возбуждение. «Они все равно это
932
Жан Поль Сартр
скоро узнают». Он молча садится. Шнейдер вышел умываться,
северянин еще не вернулся, остальные удрученно уставились на него.
«Что еще случилось?» — спрашивает Брюне. Они отвечают не
сразу, Мулю, понизив голос, говорит: «В шестом вши». Брюне
вздрагивает и кривится. Он и без того возбужден, а теперь нервничает
еще больше. Он резко говорит: «Я не хочу, чтобы они проникли
сюда». Потом вдруг останавливается, закусывает нижнюю губу и
неуверенно смотрит по сторонам. Никто не реагирует; лица,
повернувшиеся к нему, остаются тусклыми и неопределенно
сконфуженными. Гассу спрашивает: «Скажи, Брюне, что будем делать?» «Да,
да, вы меня не слишком любите, но когда случается неприятность,
вы идете за мной». Он более мягко отвечает: «Вы же не захотели
переселиться, когда я вам это советовал...» — «Переселиться
куда?» — «Есть свободные каморки. Ламбер, разве я не просил тебя
посмотреть, свободна ли кухня на первом этаже?» — «Кухня! —
восклицает Мулю. — Спасибо, спать на каменном полу, чтоб от этого
появились колики, и потом, там полно тараканов». — «Это лучше,
чем вши. Ламбер, я с тобой разговариваю! Ты там был?» — «Да». —
«И что?» — «Занято». — «Конечно, надо было сходить туда неделю
назад». Он чувствует, что щеки его багровеют, голос повышается,
он кричит: «Здесь не будет вшей! Здесь их не будет!» — «Ладно,
ладно! — говорит блондинчик. — Не горячись: это не наша вина».
Но сержант, в свою очередь, кричит: «Он прав, что орет! Он прав!
Я прошел всю войну четырнадцатого года, и у меня никогда не было
вшей, и я не хочу их заиметь по вине таких молокососов, как вы, вы
даже не умеете мыться!» Брюне взял себя в руки, теперь он говорит
спокойным голосом: «Нужно принять срочные меры». Блондинчик
ухмыляется: «Мы согласны, но какие?» — «Первое, — говорит
Брюне, — вы все каждое утро будете ходить мыться. Второе: каждый
вечер каждый будет искать у себя вшей». — «Что это значит?» —
«Вы раздеваетесь догола, берете кители, трусы, сорочки и смотрите,
нет ли в швах гнид. Если вы носите фланелевые пояса, учтите, там
они преимущественно и селятся». Гассу вздыхает: «Весело!» —
«Ложась спать, — продолжает Брюне, — будете вешать свои вещи на
гвозди, включая сорочки: мы будем спать голыми под одеялами». —
«Мать твою так! — протестует Мулю. — Но я подхвачу бронхит».
Брюне живо поворачивается к нему: «Перехожу к тебе, Мулю. Ты —
готовое гнездо для вшей, так продолжаться не может». —
«Неправда! — верещит Мулю, задыхаясь от возмущения. — Неправда,
у меня их нет». — «Очень даже может быть, что сейчас их у тебя нет,
СМЕРТЬ В ДУШЕ
933
но если в радиусе двадцати километров появится хоть одна, она
прыгнет именно на тебя, это так же точно, как то, что мы проиграли
войну». — «С какой стати? — с недовольным видом возмущается
Мулю. — Почему ко мне, а не к тебе? Не вижу причин». — «Есть
одна, — говорит Брюне громовым голосом, — ты грязен как
свинья!» Мулю бросает на него злобный взгляд, он открывает рот, но
все остальные уже смеются и кричат: «Он прав! Ты воняешь, ты
смердишь, от тебя несет немытой шлюшкой, ты грязнуля, ты
отбиваешь у меня аппетит, я не могу есть, когда смотрю на тебя».
Мулю выпрямляется и оглядывает их. «Я моюсь, — удивленно
говорит он. — Может, я моюсь побольше вашего. Только я не
раздеваюсь догола посреди двора, как некоторые, чтобы пофорсить».
Брюне сует ему палец под нос: «Ты вчера мылся?» — «Ну
естественно». — «Тогда покажи ноги». Мулю подпрыгивает до потолка:
«Ты случаем не чокнутый?» Он подбирает под себя ноги и садится
по-турецки на пятки: «Еще чего, так я и покажу тебе ноги!» —
«Снимите с него ботинки!» — приказывает Брюне. Ламбер и
блондинчик бросаются на Мулю, опрокидывают навзничь и прижимают
к полу. Гассу щекочет ему бока. Мулю дрыгается, вопит, пускает
слюну, смеется, охает: «Хватит! Хватит, ребята! Не дурите! Я
терпеть не могу щекотки». — «Тогда, — говорит сержант, — веди себя
спокойно». Мулю затихает* его еще сотрясает дрожь; Ламбер
садится ему на грудь; сержант расшнуровывает ему правый ботинок и
сталкивает его, появляется нога, сержант бледнеет, роняет ботинок
и быстро встает. «Какая мерзость!» — говорит он. — «Да, —
повторяет Брюне, — мерзость!» Ламбер и блондинчик молча встают, они
восхищенно и удивленно смотрят на Мулю, а тот, спокойный и
важный, садится. Из соседней клетушки раздается сердитый голос:
«Эй! Ребята из четвертой! Что вы там делаете? У вас воняет
прогорклым маслом». — «Это Мулю разувается», — простодушно
поясняет Ламбер. Они смотрят на ногу Мулю: из дырявого носка
торчит черный большой палец. «Ты видел его подошву? —
спрашивает Ламбер. — Это уже не носок, это сетка». Гассу дышит через
платок. Блондинчик качает головой и повторяет с некоторым
уважением: «Ну и сволочь! Ну и сволочь!» — «Хватит! — говорит
Брюне. — Спрячь!» Мулю поспешно засовывает ногу в ботинок.
«Мулю, — серьезно продолжает Брюне, — ты представляешь
опасность для общества. Сделай одолжение, пойди прими душ, и
немедленно. Если через полчаса ты не помоешься, то не получишь
еды, а сегодня ночью будешь спать в другом месте». Мулю с нена-
934
Жан Поль Сартр
вистью смотрит на него, но встает, он уже не возражает, а только
говорит: «Так, значит, ты здесь командуешь?» Брюне ему не
отвечает; Мулю выходит, все смеются, кроме Брюне; он думает о вшах:
«В любом случае у меня их не будет». — «Который час? —
спрашивает блондинчик. — Я зверски хочу есть». — «Полдень», — отвечает
сержант. «Полдень — это время раздачи, кто сегодня в наряде?» —
«Гассу». — «Давай пошевеливайся, Гассу». — «Еще есть время», —
тянет Гассу. — «Давай пошевеливайся, когда ты в наряде, нас всегда
обслуживают последними». — «Ладно!» Гассу раздраженно
натягивает пилотку и выходит. Ламбер снова погружается в чтение.
Брюне чувствует, как нервный зуд пробегает у него между лопаток;
Ламбер, читая, чешет ляжку, блондинчик внимательно смотрит на
него. «У тебя вши?» — «Нет, — говорит Ламбер, — это просто от
мнительности». — «Глянь, — признается блондинчик, — у меня тоже
зудит». Он чешет шею. «Брюне, у тебя ничего не чешется?» —
«Нет», — говорит Брюне. Все молчат, блондинчик скребется,
судорожно улыбаясь, Ламбер читает и почесывается; Брюне засовывает
руки в карманы, но не чешется. Гассу появляется на пороге с
беспокойным видом: «Вы что, надо мной смеетесь?» — «Где хлеб?» —
«Какой хлеб? Чертов осел, внизу никого нет, кухня на запоре».
Ламбер поднимает обеспокоенное лицо: «Что, снова начнется, как
в июне?» Их суеверные слабые души всегда готовы поверить в
самое худшее или в самое лучшее. Брюне поворачивается к сержанту:
«Который час на твоих?» — «Десять минут первого». — «Ты уверен,
что твои часы ходят?» Сержант улыбается и снова охотно смотрит
на свои часы. «Это швейцарские», — просто поясняет он. Брюне
кричит людям из соседней клетушки: «Который час?» — «Десять
минут двенадцатого», — отвечает кто-то. Сержант торжествует:
«Что я вам сказал?» — «Ты нам сказал: десять минут первого,
дурак», — злобно говорит Гассу. «Ну да: десять минут первого по
французскому времени и десять минут двенадцатого по фрицевско-
му». — «Болван!» — яростно выкрикивает Гассу. Он перешагивает
через Ламбера и падает на одеяло. Сержант продолжает: «Не буду
же я отрекаться от французского времени, когда Франция оказалась
в дерьме!» — «Французского времени больше нет, идиот! От
Марселя до Страсбурга фрицы заставили всех принять свое». —
«Может, и так, — мирно, но упрямо говорит сержант. — Но тот, кто меня
заставит сменить мое время, еще не родился на свет». Он
поворачивается к Брюне и объясняет: «Когда фрицы получат хорошую
трепку, все вы будете счастливы его восстановить». — «Эй! — кричит
СМЕРТЬ В ДУШЕ
935
Ламбер. — Посмотрите на Мулю — прямо светский человек». Мулю
возвращается розовый и свежий, с воскресным видом. Все смеются:
«Ну как, Мулю, хорошая была?» — «Что?» — «Вода». — «Да, да, —
рассеянно говорит Мулю, — очень хорошая». — «Прекрасно, —
говорит Брюне. — Так вот, отныне ты каждое утро будешь показывать
нам ноги». Мулю делает вид, что не слышит, он многозначительно
и загадочно улыбается. — «Есть новости, ребята, только не
падайте!» — «Что? Что? Новости? Какие новости?» Лица блестят,
краснеют, расцветают, и Мулю сообщает: «Будем принимать гостей!»
Брюне бесшумно встает и выходит, за его спиной кричат, он
ускоряет шаг, погружается в ползучий лес лестницы, двор переполнен,
люди медленно кружат под моросящим дождем; все они смотрят в
середину круга, по которому бредут; во всех окнах внимательные
лица: что-то случилось. Брюне затесывается в толпу и тоже
начинает кружить, но без любопытства: каждый день на этом самом
месте что-то происходит, люди останавливаются и, кажется, чего-то
ждут, другие кружат около них, Брюне кружит среди других,
сержант Андре ему улыбается: «Глянь, вот и Брюне, держу пари, что
он ищет Ш ней дера». — «Ты его видел?» — живо спрашивает Брюне.
«Еще бы, — смеясь, отвечает Андре. — Он тебя тоже ищет». Потом
поворачивается к остальным и ухмыляется: «Эти — два сапога пара,
всегда вместе или гоняются друг за дружкой». Брюне улыбается:
два сапога пара, почему бы и нет? Ему легко дружить со Шнейде-
ром, потому что эта дружба не отнимает у него времени: это как
знакомство на пароходе, оно ни к чему не обязывает; если они
вернутся из плена, то больше никогда не увидятся. Дружба без
претензий, без прав, без ответственности: так, немножко тепла под
ложечкой. Он кружит, Андре молча кружит рядом с ним. В центре
этого медленного водоворота находится зона абсолютного
спокойствия: люди в шинелях сидят на земле или на рюкзаках. Андре
мимоходом останавливает Клапо: «Что это за парни?» ^- «Их
наказали». — «Наказали? За что?» Клапо нетерпеливо
высвобождается: «Говорю тебе, наказали». Они снова начинают кружить, не
спуская глаз с этих неподвижных и молчащих людей. «Наказали! —
брюзжит Андре. — В первый раз вижу наказанных. За что их
наказали? Что они сделали?» Брюне сияет: Шнейдер здесь, его
оттеснили к краю водоворота, и он, потирая нос, изучает группку
наказанных. Брюне очень нравится эта манера Шнейдера
наклонять голову набок; он с удовольствием думает: «Сейчас
побеседуем». Шнейдер очень умен. Умнее, чем Брюне. Ум не так уж важен,
936
Жан Поль Сартр
но это делает общение приятным. Он кладет руку на плечо Шней-
дера и улыбается ему; Шнейдер хмуро отвечает на его улыбку.
Брюне подчас задается вопросом, испытывает ли Шнейдер
удовольствие, общаясь с ним: они почти не расстаются, но если
Шнейдер и испытывает симпатию к Брюне, он проявляет ее не часто.
В глубине души Брюне признателен ему за это: он ненавидит
выставляемые напоказ сантименты. «Ну как? — спрашивает Ан-
дре. — Отыскал своего Шнейдера?» Брюне смеется, Шнейдер
невозмутим. Андре обращается к Шнейдеру: «Послушай! За что они
наказаны?» — «Кто?» — «Эти парни». — «Они не наказаны, —
поясняет Шнейдер. — Ты разве не видишь? Это эльзасцы. Гартизе в
первом ряду». — «А! Вот как! — говорит Андре. — Вот оно что!» У
него удовлетворенный вид, некоторое время он стоит рядом с ними,
засунув руки в карманы, довольный, что теперь он в курсе дела,
потом начинает волноваться: «Но почему они там?» Шнейдер
пожимает плечами: «Пойди спроси у них сам». Андре медлит, потом
неспешным шагом приближается к ним, изображая безразличие.
Напряженные и встревоженные эльзасцы сидят прямо, вид у них
неуверенный, шинели растопырены, как юбки, вид у них всех как у
эмигрантов на палубе парохода. Гартизе сидит по-турецки, положив
плашмя ладони на ляжки, на его широком лице вращаются круглые
куриные глаза. «Ну как, парни, — говорит Андре, — что нового?» Те
не отвечают; озадаченное лицо Андре покачивается над их
опущенными головами. «Что нового?» Молчание. «Я думал, что есть
новости, когда увидел вас вместе. Эй, Гартизе!» Гартизе поднимает
голову и надменно смотрит на него. «Чего это вы, эльзасцы, собрались
вместе?» — «Нам приказали». — «А шинели, личное имущество, вам
что, приказали их взять?» — «Да». — «Зачем?» — «Не знаю». Лицо
Андре багровеет от возбуждения: «Но вы имеете хоть какое-то
представление, чего от вас хотят?» Гартизе не отвечает; позади него
нетерпеливо переговариваются по-эльзасски. Оскорбленный, Андре
напрягается. «Ладно, — язвит он. — Зимой вы не были такими
гордыми, вы не болтали на вашем наречии, а теперь, когда мы разбиты,
вы уже разучились говорить по-французски». Никто даже не
смотрит на него; эльзасский язык — как протяжный и естественный
шелест листвы на ветру. Андре ухмыляется, глядя на эту
разномастную кучку. «Сегодня незавидно быть французом, так, парни?» —
«Не волнуйся за нас, — живо откликается Гартизе, — мы здесь
долго не останемся». Андре колеблется, хмурит брови, ищет
жесткий ответ и не находит его. Он поворачивает назад и возвращается
СМЕРТЬ В ДУШЕ
937
к Брюне: «Вот оно что». За спиной Брюне раздаются раздраженные
голоса: «Зачем тебе понадобилось с ними разговаривать? Нужно
было оставить их в покое, это боши». Брюне смотрит на них;
бледные и раздраженные лица, прокисшее молоко: зависть. Зависть
мещан, мелких торговцев, сначала они завидовали служащим,
потом специалистам, получившим освобождение от мобилизации.
Теперь эльзасцам. Брюне улыбается: он смотрит на эти
распаленные обидой глаза, они досадуют, что они французы, и все-таки это
лучше, чем пассивное смирение; даже зависть может быть
плодоносной. «Они разве что-то тебе должны или нахамили тебе?» — «А
что, нет? Я видел, как кое у кого из них было мясо в первые дни,
они его жрали у нас под носом, они готовы были оставить нас
подыхать с разинутыми ртами». Эльзасцы слушают; они
поворачивают к французам белесые покрасневшие физиономии; вероятно,
будет драка. Раздается хриплый крик: французы отхлынули назад,
эльзасцы вскочили на ноги и стали по стойке смирно: на
ступеньках крыльца появился немецкий офицер, долговязый и хрупкий,
на некрасивом лице сидят впалые глаза. Он что-то говорит,
эльзасцы слушают, побагровевший Гартизе вытягивает шею. Французы,
не понимая, тоже слушают с интересом, полным почтения. Их гнев
утих: они осознают, что присутствуют на некой официальной
церемонии. А церемония — это всегда лестно. Офицер говорит, время
идет, этот странный, чопорный и священный язык звучит как
церковная латынь; никто больше не смеет завидовать эльзасцам: они
приобрели достоинство хора. Андре качает головой, офицер
вещает, кто-то говорит: «Их тарабарщина не так уж безобразна». Брюне
не отвечает: это обезьяны, они не могут удержать гнев более пяти
минут.
Он спрашивает Шнейдера: «О чем он?» — «Говорит, что они
свободны». Голос коменданта вырывается патетическими рывками
из его мрачного рта; он кричит, но глаза его не блестят. «Что он
говорит?» Шнейдер тихо переводит: «Благодаря фюреру Эльзас
вернется в лоно своей матери-родины». Брюне оборачивается к
эльзасцам, но у них медлительные лица, вечно запаздывающие за
чувствами. Однако двое или трое заметно покраснели. Брюне
забавляется. Немецкий голос взлетает и низвергается, перепрыгивает
с места на место, офицер поднял руки над головой, он отбивает ритм
локтями в такт своему победоносному голосу, все растроганы, как
в те минуты, когда под военную музыку проносят знамя; два кулака
открываются и взмывают в воздух, люди вздрагивают, офицер во-
938
Жан Поль Сартр
пит: «Хайль Гитлер!» У эльзасцев остолбеневший вид; Гартизе
поворачивается к ним и испепеляет их взглядом, потом
поворачивается к коменданту, выбрасывает руку вперед и кричит: «Хайль!»
Наступает неуловимая тишина, и тут же поднимаются еще руки;
Брюне невольно хватает Шнейдера за запястье и сильно сжимает
его. Теперь кричат все эльзасцы. Но одни выкрикивают «Хайль» с
неким энтузиазмом, а другие просто открывают рот, не издавая ни
звука, как люди, которые в церкви лишь делают вид, что поют. В
последнем ряду, опустив голову, засунув руки в карманы, со
страдающим видом стоит какой-то высокий малый. Потом руки
опускаются, Брюне отпускает запястье Шнейдера; французы молчат,
эльзасцы снова становятся по стойке смирно, лица у них цвета
белого мрамора, ослепшие и глохшие под золотым ореолом их волос.
Комендант отдает приказ, колонна трогается, французы
расступаются, эльзасцы проходят маршем между двумя шеренгами
любопытных. Брюне оборачивается, он смотрит на ошеломленные лица
своих товарищей. Он хотел бы прочесть на них ярость и гнев, но
видит всего лишь мерцающее желание. Вдалеке открылись
решетчатые ворота, немецкий комендант стоит на крыльце и с
добродушной улыбкой смотрит на удаляющуюся колонну. «Ну и дела! —
говорит Андре. — Ну и дела!» — «Мать твою так, — бурчит какой-то
бородач, — а вот меня угораздило родиться в Лиможе...» Андре
качает головой, он повторяет: «Ну и дела!» — «А что, что-то не так?» —
спрашивает у него повар Шарпен. «Ну и дела!» — повторяет Андре.
У повара веселый и оживленный вид; он спрашивает: «Послушай-
ка, если бы надо было крикнуть «Хайль Гитлер» и тебя освободили
бы, ты бы крикнул? Ведь это ни к чему не обязывает. Кричишь одно,
а думаешь другое». — «Я-то? — говорит Андре. — Конечно, я бы
крикнул что угодно, но они — другое дело, они — эльзасцы, у них
долг по отношению к Франции». Брюне делает знак Шнейдеру; они
уходят и уединяются в соседнем дворе, пока пустынном. Брюне
прислоняется спиной к стене под площадкой напротив конюшен;
недалеко от них на земле сидит, обвив колени руками, долговязый
солдат, у него редкие волосы и заостренная голова. Но он им не
мешает. У него вид деревенского дурачка. Брюне смотрит себе под
ноги и говорит: «Ты видел двух эльзасских социалистов?» —
«Каких социалистов?» — «Среди эльзасцев мы обнаружили двух
социалистов; Деврукер вступил с ними в контакт на прошлой неделе,
и они были настроены по-боевому». — «И что?» — «Они вскинули
руку вместе с остальными». Шнейдер молчит; Брюне задерживает
СМЕРТЬ В ДУШЕ
939
взгляд на деревенском дурачке, у этого молодого человека точеный
нос с горбинкой, нос богача; на его изысканном лице, вылепленном
тридцатью годами безбедной буржуазной жизни, с хитрыми
морщинками, впадинами и изгибами мыслящего существа, застыло
растерянное спокойствие животного. Брюне пожимает плечами:
«Все время одна и та же история: однажды соприкасаешься с
человеком, он согласен; на следующий день — пшик, он меняет комнату
или же делает вид, будто вовсе с тобой не знаком». Он показывает
пальцем на дурачка: «Я привык работать с людьми. Но не с этим».
Шнейдер улыбается: «Это работало инженером у Томпсона. Что
называется, мальчик с будущим». — «Что ж, — говорит Брюне, —
теперь его будущее осталось позади». — «Сколько нас реально?» —
спрашивает Шнейдер. — «Говорю тебе, никак не могу точно узнать;
цифра неустойчива. Ну, предположим, сотня». — «Сотня на
тридцать тысяч?» — «Да, сотня на тридцать тысяч». Шнейдер задал
вопрос безразличным тоном; он никак не комментирует, однако
Брюне не осмеливается на него посмотреть.
«Ситуация развивается неблагоприятно, — продолжает
Брюне. — Судя по тридцать шестому году, мы должны были бы
сгруппировать добрую треть пленных». — «Сейчас не тридцать шестой
год», — говорит Шнейдер. «Знаю», — соглашается Брюне. Шнейдер
трогает ноздрю кончиком указательного пальца: «Дело в том, что
мы вербуем преимущественно крикунов. Этим объясняется
нестабильность наших сторонников. Крикун не обязательно
недовольный; наоборот, он рад возможности покричать. Если ты ему
предложишь сделать вывод из того, что он говорит, он с тобой,
естественно, согласится, согласится, чтобы ты не подумал, что он
сдрейфил, но как только ты поворачиваешься к нему спиной, он
превращается в пустоту: я убеждался в этом много раз». — «Я
тоже», — подтверждает Боюне. «Нужно вербовать
непримиримых, — говорит Шнейдер, — всех честных людей левых взглядов,
которые читали «Марианну» и «Вандреди»* и верили в
демократию и прогресс». — «Что ж, ты прав», — соглашается Брюне. Он
смотрит на кресты на вершине холмика, на траву, отлакированную
изморосью; он добавляет: «Время от времени я встречаю одинокого
парня, который волочит ноги с видом выздоравливающего, я
говорю себе: вот он. Но что поделаешь? Как только к ним подходишь,
они пугаются. Можно подумать, они никому и ничему не доверя-
* До войны — два основных левых еженедельника некоммунистического
толка.
940
Жан Поль Сартр
ют». — «Это не совсем так, — говорит Шнейдер. — Думаю, скорее
это от конфуза. Они знают, что их наголову разбили в этой войне
и что им никогда уже не подняться». — «В глубине души, —
размышляет Брюне, — они не стремятся возобновить борьбу: они
предпочитают уговорить себя, что поражение непоправимо, так им
более лестно». Шнейдер цедит сквозь зубы со странным видом: «А
что? Это утешает». — «Что?» — «Всегда утешает, когда думаешь,
что твое поражение — это поражение всего рода человеческого». —
«Самоубийцы!» — с отвращением говорит Брюне. «Возможно, —
соглашается Шнейдер и тихо добавляет: — но знаешь, Франция —
это именно они. Если ты их не перевоспитаешь, вся твоя
деятельность бессмысленна».
Брюне поворачивает голову и смотрит на дурачка, он смотрит
как завороженный на это пустое лицо. Дурачок плотоядно зевает и
плачет, собака зевает, Франция зевает, Брюне зевает: он перестает
зевать и, не поднимая глаз, тихо и быстро спрашивает: «Так нужно
продолжать?» — «Что продолжать?» — «Работу». Шнейдер резко и
неприятно смеется: «И ты это спрашиваешь у меня!» Брюне быстро
поднимает голову и еще успевает заметить на толстых губах Шней-
дера злорадную и горестную улыбку. Шнейдер спрашивает: «Что
бы ты делал, если бы все бросил?» Улыбка исчезла, лицо снова
стало гладким, тяжелым и безмятежным, мертвое море, я никогда не
разберусь в этом лице. «Что? Я бы бежал, присоединился к
товарищам в Париже». — «В Париже?» Шнейдер почесывает затылок,
Брюне живо спрашивает: «Ты думаешь, что там то же самое?»
Шнейдер размышляет: «Если немцы вежливы...» — «Скорее всего
что да. Можешь быть уверен, они помогают слепцам переходить
улицу». — «Тогда да, — говорит Шнейдер. — Да, там, вероятно, то
же самое». Он резко выпрямляется и смотрит на Брюне с холодным
любопытством: «На что ты надеешься?» Брюне напрягается: «Ни
на что; я никогда ни на что не надеялся, плевать я хотел на надежду:
просто я знаю». — «И что же ты знаешь?» — «Я знаю, что рано или
поздно Советский Союз вступит в дело, — говорит Брюне, — я знаю,
что он ждет своего часа, и я хочу, чтобы наши парни были
наготове». — «Его час прошел. До осени Англия рухнет. Если Советский
Союз не вмешался, когда еще оставалась надежда создать два
фронта, почему ты думаешь, что он вмешается теперь, когда ему
придется воевать в одиночку?» — «Советский Союз — страна
трудящихся, — говорит Брюне. — И русские трудящиеся не допустят, чтобы
европейский пролетариат остался под нацистским сапогом». —
СМЕРТЬ В ДУШЕ
941
«Тогда почему они позволили Молотову подписать германо-
советский пакт?» — «В тот момент ничего другого не оставалось.
Советский Союз еще не был готов». — «А что доказывает, что
сегодня он готов?» Брюне с раздражением бьет ладонью о стену: «Мы не
в Коммерческом кафе, — говорит он, — я не собираюсь спорить об
этом с тобой: я борец и никогда не терял времени на высокие
политические материи: у меня была своя работа, и я ее делал. В
остальном я доверял Центральному Комитету и Советскому Союзу;
и я не намерен меняться». — «Именно это я и говорил, — грустно
отвечает Шнейдер, — ты живешь надеждой». Этот умный тон
выводит Брюне из себя: ему кажется, что Шнейдер притворно
изображает грусть. «Шнейдер, — говорит он, не повышая голоса, —
всегда есть вероятность, что Политбюро в полном составе может
впасть в безумие. Но ведь также есть вероятность, что крыша этого
внутреннего дворика упадет нам на голову; однако ты не
посвящаешь свою жизнь наблюдению за потолком. После этого ты можешь
мне сказать, если тебе угодно, что ты надеешься на Бога или что
доверяешь архитектору, все это слова; ты хорошо знаешь, что
существуют естественные законы и что здания имеют привычку стоять,
раз их построили в согласии с этими законами. Но тогда почему ты
хочешь, чтобы я тратил время, постоянно думая о политике
Советского Союза и о моем доверии Сталину? Да, я доверяю ему, доверяю
Молотову, Жданову: в той же самой мере, в какой ты доверяешь
прочности этих стен. Иначе говоря, я знаю, что есть исторические
законы и что в силу этих законов страна трудящихся и европейский
пролетариат имеют одинаковые интересы. Впрочем, я об этом
думаю не часто, не чаще, чем ты думаешь о фундаменте своего дома:
пол у меня под ногами, крыша у меня над головой — вот та
уверенность, которая меня поддерживает, защищает и позволяет мне
преследовать конкретные цели, которые ставит передо мной партия.
Когда ты протягиваешь руку, чтобы взять свой котелок, твой жест
сам по себе уже демонстрирует всеобщий детерминизм; со мной то
же самое: малейшее из моих действий скрыто утверждает, что
Советский Союз стоит в авангарде мировой революции». Он с
иронией смотрит на Ш ней дера и заключает: «Что ж ты хочешь? Я всего
лишь борец». У Шнейдера по-прежнему унылый вид; руки его
повисли, глаза тусклы. Можно подумать, что он прячет подвижность
своего ума за медлительностью своей мимики. Брюне это часто
замечал: Шнейдер пытается замедлить свой ум, словно хочет
укоренить в себе некий вид терпеливого и упорного мышления, которое
942
Жан Поль Сартр
он, без сомнения, считает уделом крестьян и солдат. Зачем? Чтобы
до конца утвердиться в своей солидарности с ними? Чтобы
протестовать против интеллектуалов и хозяев? Из ненависти к
педантизму? «Что ж, — говорит Шнейдер, — борись, старина, борись. Только
твоя деятельность здорово походит на пустую болтовню в
Коммерческом кафе: мы с большим трудом завербовали сотню несчастных
идеалистов и теперь рассказываем им небылицы о будущем
Европы». — «Это неизбежно, — говорит Брюне, — пока они не работают,
пока мне им нечего поручить: да, мы разговариваем, устанавливаем
контакты. Подожди немного, когда нас перевезут в Германию,
увидишь, как мы примемся за работу». — «Да, да! Я подожду, — говорит
Шнейдер сонным голосом. — Я подожду: приходится только ждать.
Но попы и нацисты не ждут. И их пропаганда гораздо эффективней,
чем наша». Брюне устремляет взгляд в его глаза: «И что же? Куда
ты клонишь?» — «Я? — удивляется Шнейдер. — Да... никуда. Мы
просто толкуем о трудностях вербовки...» — «Разве я виноват. —
неистово вопрошает Брюне, — что французы — прохвосты, у которых
нет ни энергии, ни мужества? Разве я виноват...» Шнейдер
выпрямляется и прерывает его, лицо его ожесточается, он говорит так
быстро, при этом заикаясь, как будто это совсем другой человек, который
решил нанести Брюне оскорбление. «Нет... ты... Это ты негодяй! —
кричит он. — Именно ты! Легко чувствовать превосходство, когда
имеешь за собой партию, когда владеешь политической
фразеологией и когда привык к интригам, поэтому-то тебе так легко
презирать бедных, сбитых с толку парней». Но Брюне не смущается: он
просто упрекает себя за неосторожность. «Я никого не презираю, —
спокойно говорит он. — А что касается товарищей, то, разумеется,
я признаю для них некоторые смягчающие обстоятельства».
Шнейдер его не слушает: его большие глаза вытаращены, он на пределе.
И вдруг он начинает кричать: «Да, это ты виноват! Только ты!»
Брюне недоуменно смотрит на него: болезненный румянец
окрашивает щеки Шнейдера, это не просто гнев, скорее, это старая, давно
скрываемая родовая ненависть, которая ликует оттого, что наконец
дала себе волю. Брюне смотрит на это крупное разгневанное лицо,
лицо публично исповедующегося, он думает: «Сейчас что-то
произойдет». Шнейдер хватает его за руку и показывает на бывшего
инженера из компании Томпсона, продолжающего пребывать в
прострации. Наступает молчание, так как Шнейдер слишком
взволнован и не может продолжать; Брюне хладнокровен и невозмутим:
чужой гнев его всегда успокаивает.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
943
Он ждет; сейчас он узнает, что у Шнейдера на уме. Тот делает
над собой отчаянное усилие: «Вот один из них! Один из тех
негодяев, у которых нет ни энергии, ни мужества. Субъект вроде меня,
вроде Мулю, похожий на всех нас, но, конечно, не на тебя. Это
правда, что он стал негодяем, это правда, это настолько правда, что
он и сам в этом убежден. Только я его видел в Туле в сентябре, он
испытывал отвращение к войне, но он принимал на себя
ответственность, потому что считал, что у него есть причина воевать, и я тебе
клянусь, что это не был негодяй, и... и вот что ты из него сделал. Вы
все в сговоре: Петэн с Гитлером, Гитлер со Сталиным, вот вы им
совместно и объясните, что все они вдвойне виноваты: виноваты,
что воевали, и виноваты, что проиграли войну. Все причины,
заставившие их воевать, вы у них сейчас отнимаете. Этого бедного парня,
который думал, что отправляется в крестовый поход за Право и
Справедливость, вы теперь хотите убедить, что он по легкомыслию
позволил вовлечь себя в империалистическую бойню: он больше не
знает, чего хочет, он больше не сознает, что сделал. Не только армия
его врагов торжествует победу: торжествует их идеология; он же
остается здесь, он выпал из общества и истории, его идеи омертвели,
он пытается защититься, вновь продумать ситуацию. Но как? Вы
его оглупили, вы поселили в его душе смерть». Брюне не может
удержаться от смеха: «Но позволь, — спрашивает он, — кому ты это
говоришь? Мне или Гитлеру?» — «Я это говорю редактору «Юма-
ните», члену коммунистической партии, типу, который 29 августа
1939 года прославлял на двух колонках германо-советский пакт». —
«Вот мы и приехали», — говорит Брюне. «Да, приехали», —
соглашается Шнейдер. — «Коммунистическая партия была против
войны, ты это прекрасно знаешь», — мирно втолковывает ему Брюне. —
«Да, против войны. По крайней мере она об этом очень громко
кричала. Но в то же самое время одобряла пакт, который сделал
войну неизбежной». — «Нет! — упорствует Брюне. — Пакт был
нашим единственным шансом ей помешать». Шнейдер разражается
смехом, Брюне молча улыбается. Шнейдер резко обрывает смех:
«Да, смотри на меня, смотри же на меня; напусти на себя вид
смотрителя покойницкой. Сто раз я видел, как ты наблюдал за
товарищами ледяным взглядом, словно констатировал факт смерти. Что
же ты констатируешь на сей раз? Что я отброс исторического
процесса? Согласен. Если тебе угодно, отброс. Но не мертвый, Брюне,
к несчастью, не мертвый. Я обречен жить, сознавая свое падение, но
тебе никогда не понять всей переполняющей меня горечи. Это вы,
944
Жан Поль Сартр
механические люди, сверхчеловеки, превратили нас в отбросы».
Брюне молча смотрит на Шнейдера; Шнейдер колеблется, у него
суровые и испуганные глаза, кажется, сейчас у него вырвутся
непоправимые слова. Вдруг он бледнеет, взгляд его туманится, он
закрывает рот. Помолчав, он продолжает грубоватым, спокойным и
монотонным голосом: «Ладно, хватит! Все мы в дерьме, ты, как и я,
только это тебя и извиняет. Конечно, ты продолжаешь воображать
себя историческим деятелем, но ты пустотел. Коммунистическая
партия восстанавливается без тебя и на основах, которых ты не
знаешь. Ты мог бы бежать, но ты не смеешь, так как боишься
неизвестности. У тебя тоже смерть в душе». Брюне улыбается: нет, это
не так. С ним так легко не справиться, эти слова не имеют к нему
никакого отношения. Шнейдер молчит, его сотрясает дрожь: в
конечном счете ничего не произошло. Абсолютно ничего: Шнейдер ни
в чем не признался, ничего не открыл; просто он немного взвинчен,
только и всего. Что касается тирады о германо-советском пакте, то
такое Брюне слышит, может быть, в сотый раз начиная с сентября.
Дурачок, видимо, понял, что говорили о нем: он медленно
распрямляется и уходит на длинных паучьих конечностях, шагая боком, как
испуганное животное. Кто такой Шнейдер? Буржуазный
интеллектуал? Правый анархист? Не осознавший себя фашист? Фашисты
тоже не хотели войны. Брюне поворачивается к Шнейдеру: он
видит оборванного и растерянного солдата, которому нечего защи-
шать, больше нечего терять и который с отсутствующим видом трет
нос. Брюне думает: «Он хотел меня обидеть». Но это у него не
получилось. Он тихо спрашивает: «Если ты действительно думаешь
так, почему ты пошел с нами?» У Шнейдера постаревший
изнуренный вид; он жалким голосом говорит: «Чтобы не остаться одному».
Наступает молчание, потом Шнейдер, неуверенно улыбаясь,
поднимает голову: «Нужно же что-то делать, разве не так? Не важно
что. Можно не соглашаться по некоторым вопросам...» Он
замолкает. Брюне тоже молчит. Через некоторое время Шнейдер смотрит
на часы: «Время посещений. Ты идешь?» — «Не знаю, — говорит
Брюне. — Иди, может, я к тебе позже присоединюсь». Шнейдер
смотрит на него, как будто хочет сказать что-то еще, но
отворачивается и исчезает. Инцидент исчерпан. Брюне закладывает руки за
спину и гуляет по двору под моросящим дождиком; он ни о чем не
думает, он чувствует себя полым и звонким, он ощущает на щеке и
на руках мельчайшие брызги. Смерть в душе. Ладно. И что из того?
«Все это только психология!» — с презрением говорит он себе. По-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
945
том останавливается и начинает думать о партии. Двор пуст, зыбок
и сер, он пахнет воскресеньем; это изгнание. Вдруг Брюне
пускается бегом и мчится в соседний двор. Парни теснятся у шлагбаума и
молчат, все лица повернуты к воротам: они там, по ту сторону стен,
в тех же сумерках. В первом ряду Брюне видит мощную спину
Ш ней дера; он пробирается поближе, кладет ему руку на плечо,
Шнейдер оборачивается и приветливо ему улыбается. «А! —
произносит он, — вот и ты». — «Вот и я». — «Пять минут третьего, —
говорит Шнейдер, — ворота сейчас откроются». Рядом с ними
молодой ефрейтор наклоняется к своему товарищу и шепчет: «Может,
будут девочки». — «Мне приятно видеть гражданских, —
оживленно говорит Шнейдер, — это мне напоминает воскресенье в
школе». — «Ты учился в пансионе?» — «Да. Мы выстраивались в
шеренгу перед приемной, чтобы побыстрее увидеть родителей».
Брюне, не отвечая, улыбается: плевал он на гражданских; он доволен
потому, что вокруг него парни, это его греет. Ворота со скрипом
отворяются, по рядам пробегает разочарованный шепот: «И все?»
Их около тридцати: через головы Брюне видит, что они сбились
в черную кучку, укрывшись под зонтами. Два немца идут им
навстречу, улыбаясь, говорят с ними, проверяют документы, затем
сторонятся, пропуская их. Женщины и старики, почти все в черном,
похороны под дождем; они несут чемоданы, сумки, корзины,
накрытые салфетками. У женщин серые лица, суровые глаза, усталый
вид; они продвигаются мелкими шажками, поджав бедра, смущаясь
пожирающих их взглядов.
«Проклятие! Какие же они уродины», — задыхается
ефрейтор». — «Да нет, — говорит другой, — все равно есть чем заняться:
посмотри на зад вон той брюнетки». Брюне с симпатией смотрит на
посетительниц. Конечно, они некрасивы, у них хмурый и
замкнутый вид, можно подумать, что они пришли сказать мужьям: «Ты с
ума сошел, как ты угодил в плен? Как же мне теперь одной
управляться, да еще с ребенком?» Однако они пришли пешком или
приехали в товарняках, таща тяжелые корзины с едой; именно такие
неизменно приходят и ждут, неподвижные и безликие, у ворот
госпиталей, казарм и тюрем: смазливые куколки с зовущим взглядом
носят траур дома. На лицах этих людей Брюне с волнением
обнаруживает всю предвоенную нужду и нищету; у них были
тревожные, неодобряющие и преданные глаза, когда их мужья устраивали
сидячую забастовку, а они приносили им супа. Пришедшие
мужчины в большинстве своем крепкие, спокойные, приземистые старики.
946
Жан Поль Сартр
Они идут медленно, тяжело, но у них походка свободных людей:
когда-то они выиграли войну и чувствуют, что выполнили свой
долг. Это поражение — не их поражение, но они все же принимают
за него ответственность; они несут ее на своих широких плечах,
потому что, произведя на свет ребенка, нужно платить за стекла,
которые он разобьет; без гнева и стыда каждый из них пришел
повидать своего сыночка, совершившего очередную глупость. На этих
полукрестьянских лицах Брюне находит то, что потерял: смысл
жизни. «Я с ними говорил, они не спешили понять, они слушали с
тем же вдумчивым спокойствием, немного вдаваясь в мелочи; но то,
что они поняли, они больше не забывали». В его сердце сызнова
зарождается прежнее желание: «Работать, чувствовать на себе
взрослые одобрительные взгляды». Он пожимает плечами и
отворачивается от этого прошлого, он смотрит на других, на стайку
невротиков с невыразительными подергивающимися лицами: «Вот
мой удел». Поднявшись на цыпочки, они вытягивают шеи и следят
за посетителями взглядом обезьяньим, дерзким и одновременно
боязливым. Они рассчитывали, что война сделает их мужчинами,
дарует им права главы семьи и ветерана войны: это был
торжественный ритуал приобщения, их война должна была превзойти ту,
другую, Великую Мировую, слава которой подавляла их детство; они
рассчитывали, что она будет еще более великой, еще более мировой;
стреляя во фрицев, они бы исполняли ритуальный завет великих
отцов, с подобной мечтой вступает в жизнь каждое поколение. Но
они ни в кого не выстрелили, ничего не истребили, не получилось:
они так и остались несовершеннолетними, и вот здравствующие
отцы проходят перед ними; они вызывают зависть, ненависть,
обожание, внушающие страх, они снова погружают двадцать тысяч
воинов в подспудное детство лежебок.
Вдруг один из них оборачивается и обращает лицо к пленным:
у него густые черные брови и обветренное лицо, он несет на конце
трости узел. Он приближается, кладет руку на железную проволоку
и снизу смотрит на них большими, в красных прожилках, глазами.
Под этим взглядом животного, медленным, невыразительным и
суровым, пленные ждут, съежившись, затаив дыхание, собираясь
сопротивляться: они ждут пары оплеух. Старик говорит: «Ну вот и
вы!» Наступает молчание, потом кто-то бормочет: «Да, отец, вот и
мы». Старик вздыхает: «Вот беда-то!» Ефрейтор откашливается и
краснеет; Брюне читает на его лице то же судорожное недоверие.
«Да, папаша, вот и мы: двадцать тысяч молодцов, которым хотелось
СМЕРТЬ В ДУШЕ
947
стать героями и которые бесславно сдались без боя». Старик качает
головой и говорит медленно и проникновенно: «Бедолаги!» Все
расслабляются, улыбаются, все непроизвольно тянутся в сторону
старика. Подходит немецкий часовой, он вежливо дотрагивается до
руки старика, делает ему знак отойти, тот едва оборачивается: «Еще
минутку, сейчас». Он заговорщицки подмигивает пленным, те
улыбаются, они довольны, потому что старик сердечен и упрям, потому
что он — свой, и они чувствуют себя как бы свободными. Старик
спрашивает: «Не слишком тяжело?» И Брюне думает: «Ну вот,
сейчас они начнут плакаться». Но двадцать голосов весело
отвечают: «Нет, отец. Нет, нет, вполне терпимо». — «Ну что ж, вот и
хорошо, — говорит старик. — Вот и хорошо». Ему больше нечего им
сказать, но он остается на месте, грузный, каменистый, плотный;
часовой осторожно тянет его за рукав, но старик колеблется, он
озирает лица пленных, как будто ищет лицо своего сына; через
мгновение какая-то мысль созревает в его глазах, вид у него
неуверенный, и все же он произносит грубоватым голосом: «Знаете,
ребята, вы не виноваты». Пленные ничего не отвечают, они держатся
напряженно, почти по стойке смирно. Старик хочет уточнить свою
мысль, он продолжает: «У нас никто не думает, что это ваша вина».
Пленные по-прежнему молчат, и он говорит: «До свидания, ребята».
И после этого уходит. По толпе пробегает внезапная дрожь; все
пылко кричат: «До свидания, отец, до скорой встречи! До скорой
встречи! До скорой встречи!» Их голоса крепнут по мере того, как
старик удаляется, но он не оборачивается.
Шнейдер говорит Брюне: «Видишь?» Брюне вздрагивает: «А,
что?» Но он прекрасно знает, что ему сейчас скажет Шнейдер.
Шнейдер говорит: «Нам необходимо хоть немного доверия». Брюне
улыбается и говорит: «Разве у меня действительно вид смотрителя
покойницкой?» — «Нет, — отвечает Шнейдер, — сейчас — нет». Они
дружелюбно смотрят друг на друга, Брюне резко отворачивается и
говорит: «Посмотри на ту женщину». Она, прихрамывая,
останавливается, маленькая и седая, роняет свой тюк в грязь,
перекладывает в правую руку букет, который держала в левой, и поднимает руку
прямо над головой. Проходит минута, можно подумать, что эта
торжествующая рука, которая тянет ей плечо и шею, поднялась
помимо ее воли; наконец, неуклюже размахнувшись, она бросает
цветы в толпу. И они рассыпаются — полевые цветы, васильки,
одуванчики, маки: должно быть, она сорвала их на обочине дороги.
Пленные толкаются; они скребут землю и хватают стебли грязными
948
Жан Поль Сартр
пальцами; смеясь, они выпрямляются и показывают ей цветы, как
бы отдавая ей этим дань уважения. У Брюне перехватило горло; он
поворачивается к Шнейдеру и яростно говорит: «Цветы! А что было
бы, если б мы победили!» Женщина не улыбается, она поднимает
тюк и уходит, видна только ее покачивающаяся спина под
непромокаемым плащом. Брюне открывает рот, чтобы заговорить, но он
видит лицо Шнейдера и молчит. Шнейдер, толкая соседей,
выбирается из рядов. Что случилось? Брюне следует за ним, кладет ему
руку на плечо: «Что-то не так?» Шнейдер поднимает голову, и
Брюне отводит глаза, он смущен собственным взглядом, взглядом
смотрителя покойницкой. Он повторяет, глядя на ноги: «А? Что-то не
так?» Они стоят одни посреди двора под мелким дождем. Шнейдер
говорит: «Это тяжко». Молчание, потом он добавляет: «Тяжко
снова видеть гражданских». Брюне произносит, не поднимая глаз:
«Мне тоже». — «Нет, — говорит Шнейдер, — это совсем другое; у
тебя ведь никого нет». Помедлив, он расстегивает китель, роется во
внутреннем кармане, вынимает оттуда странный плоский
бумажник. Брюне думает: «Он все порвал». Шнейдер открывает
бумажник: там только одна фотография, размером с почтовую открытку.
Шнейдер, не глядя на нее, протягивает ее Брюне.
Брюне видит молодую темноглазую женщину. Она улыбается:
Брюне никогда не видел подобной улыбки. Женщина выглядит так,
будто отлично знает, что существуют концентрационные лагеря,
войны, пленные, согнанные в казармы; она это знает и все же
улыбается: всем побежденным, депортированным, пасынкам истории
дарует она свою улыбку. Однако Брюне напрасно ищет в ее глазах
подловатый унизительный отблеск милосердия; она улыбается им
доверчиво и спокойно, она улыбается их силе, как будто просит их
прощать победителей. За это время Брюне повидал немало
фотографий и немало улыбок. Война всех их сделала мертвенными, на
них стало невыносимо смотреть. На эту можно: улыбка родилась
только что, она адресована Брюне, одному Брюне. Брюне-пленному,
Брюне-отбросу, Брюне-победителю. Шнейдер склонился над его
плечом. Он говорит: «Она ветшает». — «Да, — соглашается
Брюне, — надо подрезать края». Он возвращает фотографию,
блестящую от измороси; Шнейдер старательно вытирает ее отворотом
рукава и кладет в бумажник. Брюне пытается определить: «Она
красива?» Он не знает, у него не было времени убедиться в этом.
Он поднимает голову, смотрит на Шнейдера и думает: «Она ему
улыбалась». Ему кажется, что он видит Шнейдера другими глазами.
СМЕРТЬ В ДУШЕ
949
Проходят двое пленных, очень молодых, это стрелки; они воткнули
маки в петлицы, они не разговаривают, у них немного комичный
вид первопричастников. Шнейдер провожает их взглядом; Брюне
колеблется, полузабытое слово поднимается откуда-то из глубины,
и он говорит: «По-моему, у них трогательный вид». — «Кроме
шуток?» — отзывается Шнейдер. Сзади них теснятся ряды
любопытных, посетители вошли в казарму. Шагая вперевалку, появляется
Деврукер в сопровождении Перрена и наборщика.
«Действительно, — думает Брюне. — Сейчас три часа». У всех троих замкнутые
лица; Брюне злится, что они уже переговорили между собой: этому
нельзя помешать. Он издалека кричит: «Ну как, ребята?» Они
подходят, останавливаются и смущенно переглядываются.
«Выкладывайте, о чем толковали, — быстро говорит он. — Что не ладится?»
Наборщик останавливает на нем взгляд красивых тревожных глаз;
выглядит он скверно. Он говорит: «Мы всегда делали то, что ты нам
поручал, так?» — «Так, — нетерпеливо подтверждает Брюне. — Да,
да. И что?» Наборщик не может больше ничего добавить, вместо
него, не поднимая глаз, говорит Деврукер: «Мы хотим продолжать
и будем продолжать, пока ты этого требуешь. Но это пустая трата
времени». Перрен говорит: «Они ничего не хотят слушать». Брюне
по-прежнему молчит, наборщик подхватывает безразличным
тоном: «Как раз вчера я поссорился с одним типом, потому что я
уверял его, что немцы отправят нас в Германию. Тип был
сумасшедший, он сказал, что я из пятой колонны». Они поднимают глаза и
упрямо смотрят на Брюне. «Представляешь себе, им даже нельзя
плохого слова сказать о немцах». Деврукер собирает все свое
мужество и смотрит Брюне в глаза: «Честно, Брюне, мы не отказываемся
работать, если мы плохо взялись, мы готовы снова начать по-
другому. Но пойми и нас. Мы ходим повсюду. За день мы обычно
успеваем поговорить с двумя сотнями человек, мы измеряем
температуру лагеря, ты же поневоле видишь меньше, ты не можешь
представить себе всего». — «И что дальше?» — «Дело в том настроении,
в котором находятся эти парни, если завтра освободят двадцать
тысяч пленных, то будет на двадцать тысяч нацистов больше».
Брюне чувствует, как жар опаляет его щеки, он поочередно смотрит на
них; он спрашивает: «Вы в этом уверены?» Все трое отвечают «Да»,
и он их спрашивает: «Все?» Они еще раз отвечают «Да», и он
внезапно взрывается: «В этом скопище людей есть рабочие и крестьяне,
стыдно думать, что все они станут нацистами, а если и так, то это
будет по вашей вине: человек не полено, понимаете, он живой, черт
950
Жан Поль Сартр
возьми, и его можно убедить; если вам не удается их обратить в
свою веру, значит, вы не умеете работать». Он поворачивается к ним
спиной, делает три шага, потом быстро возвращается к ним,
выставив палец: «Все дело в том, что вы принимаете себя за важных
персон. Вы презираете своих товарищей. Так вот запомните: член
нашей партии никого не презирает». Он видит их ошеломленные
лица, злится все больше и кричит: «Двадцать тысяч нацистов, да вы
с ума сошли! Вы не способны их изменить, пока вы их презираете!
Попытайтесь сначала их понять: у этих парней смерть в душе, они
уже не знают, что делать; они будут с первым, кто в них поверит».
Присутствие Шнейдера его раздражает; он говорит ему:
«Пошли!» и, уходя, оборачивается к остальным — те стоят в
молчаливом смущении: «Я считаю, что вы проявили невыдержанность. И
не лезьте ко мне больше со своими бреднями. До завтра». Он бегом
поднимается по лестнице, Шнейдер тяжело дышит сзади; он входит
в свою клетушку, падает на одеяло, протягивает руку и берет книгу:
«Их сестры» Анри Лаведана. Он усердно читает, строчку за
строчкой, слово за словом; он понемногу успокаивается. Когда начинает
смеркаться, он откладывает книгу и вспоминает, что не ел: «Вы
отложили мой хлеб?» Мулю протягивает ему хлеб, Брюне отрезает
кусок, который он должен завтра отдать наборщику, кладет его в
рюкзак и начинает есть; в дверном проеме появляются Кантрелль
и Ливар: наступило время гостей. «Привет!» — «Привет!» — не
поднимая головы, отвечают они. «Ну что? — спрашивает Мулю. — Что
вы нам скажете хорошенького?» — «Среди нас появились
наглецы! — говорит Ливар. — А кто будет расплачиваться? Натурально,
мы». — «Ага! — восклицает Мулю. — Стало быть, есть новости?» —
«Есть, — говорит Ливар, — один унтер сбежал». — «Сбежал?
Почему?» — изумляется блондинчик. Все смолкают, переваривая
новость, в глазах у них легкое замешательство, легкий ужас, как у
людей в усталой толпе в метро, когда какой-то сумасшедший начал
неожиданно лаять. «Сбежал», — медленно повторяет Гассу.
Северянин отложил палку, которую он вырезал. Он явно встревожен.
Ламбер молча жует, его остановившийся взгляд мрачнеет. Немного
погодя он говорит, неприятно ухмыляясь: «Всегда найдется кто-
нибудь, кто считает, что он торопится больше остальных». — «А
может, — иронизирует Мулю, — он любит пешие прогулки». Брюне
острием ножа выковыривает кусочки заплесневелого хлебного
мякиша и роняет их на одеяло; он чувствует себя неловко. В клетушке
потемнело; где-то снаружи, в мертвом городе, прячется затравлен-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
951
ный человек. Мы же здесь, мы едим, сегодня вечером мы ляжем
спать под крышей. Он неохотно спрашивает: «Как он убежал?»
Ливар значительно смотрит на него и говорит: «Угадай!» — «Но я
не знаю: может, через заднюю стену?» Ливар, улыбаясь, качает
головой, он медлит, потом ликующе произносит: «Через ворота, в
четыре часа дня, на глазах у фрицев!» Все ошеломлены. Ливар и
Кантрелль наслаждаются всеобщим изумлением, потом Кантрелль
резким голосом торопливо объясняет: «Его старуха пришла
повидать его и принесла ему гражданские шмотки; унтер переоделся в
стенном шкафу и потом вышел, взяв ее под руку».
— «И никто его не остановил?» — «Никто». — «А я, — говорит
Гассу, — если б только его узнал, когда он выходил, позвал бы
фрица и засадил бы его!» Брюне недоуменно смотрит на него: «Ты что,
чокнулся?» — «Чокнулся?! — запальчиво кричит Гассу. — Бедная
Франция! Человека обзывают чокнутым, когда он хочет выполнить
свой долг». Он обводит всех взглядом, чтобы убедиться, что его
одобряют, и с горячностью продолжает: «Ты увидишь, чокнулся ли
я, когда фрицы отменят посещения. А так они позволили
гражданским прийти, хоть и не обязаны были это делать. Что, ребята, разве
я не прав?» Мулю и Ламбер покачивают головами. Гассу суровым
тоном добавляет: «Я совершенно прав! И вот теперь, когда фрицы
поступили не по-сволочному, чем мы их отблагодарили? Нагадили
в протянутую руку. Они рассвирепеют и будут совершенно правы».
Брюне открывает рот, собираясь назвать его негодяем, но Шнейдер
бросает на него быстрый взгляд и кричит: «Гассу, ты отпетый
негодяй!» Брюне молчит, он горько думает: «Он поспешил оскорбить
его, чтобы помешать мне осудить его. На самом деле он не
осуждает Гассу, он никогда никого не осуждает: ему просто стыдно за них
передо мной; что бы ни случилось, как бы они ни поступили, он
всегда будет с ними заодно». Гассу разъяренно смотрит на Шнейде-
ра, Шнейдер отвечает ему тем же; Гассу опускает голову. «Ладно, —
цедит он. — Ладно. Пусть отменят посещения; мне на это наплевать:
мои-то старики в Оранже». — «И мне! — вмешивается Мулю. — Я
вообще сирота. Только надо все же думать и о товарищах». —
«Действительно, — говорит Брюне. — Золотые слова, Мулю, ты ведь так
тщательно моешься по утрам, чтобы твои товарищи не подхватили
вшей». — «Это разные вещи, — резко говорит блондинчик. — Мулю
грязнуля, я согласен, но он осточертел только нам. А тот парень
готов из-за себя посадить двадцать тысяч человек в дерьмо». —
«Если немцы его поймают, — говорит Ламбер, — и сунут в каталаж-
952
Жан Поль Сартр
ку, я не стану его жалеть». — «Представляешь себе, — говорит
Мулю, — за шесть недель до освобождения этот господинчик дает
деру. Мы ждем, а ему приспичило».
На сей раз сержант с ними согласен. «Таков уж французский
характер, — вздыхая, говорит он, — потому-то мы и проиграли
войну». Брюне ухмыляется, он им говорит: «Тем не менее вы хотели бы
быть на его месте, и вам стыдно, что вы на это не решились». — «А
вот и ошибаешься, — живо возражает Кантрелль, — если бы он
отважился на что-нибудь другое, не важно на что, выстрелить во
фрица, к примеру, тогда дело иное, можно было бы сказать: он
баламут, горячая голова, но он смел. Но этот фрукт спокойно уходит,
прикрываясь женой, как трус, это не побег, это злоупотребление
доверием». Ледяная дрожь пробегает по спине Брюне, он
выпрямляется и поочередно смотрит им в глаза: «Хорошо, раз так, я вас
предупреждаю: завтра вечером я улизну. Посмотрим, найдется ли
кто-нибудь, чтобы выдать меня». У пленных смущенный вид, но
Гассу не дает сбить себя с толку: «Мы тебя не выдадим, ты это
отлично знаешь, но учти — когда я выйду отсюда, то обязательно
задам тебе хорошую трёпку, потому что, если ты убежишь, это
обернется против нас». — «Трёпку, — оскорбительно смеется Брюне, —
трёпку, ты?» — «Да-да! Не заносись, если нужно, мы возьмемся
сообща». — «Ты поговоришь со мной об этом через десять лет,
когда вернешься из Германии». Гассу хочет что-то ответить, но Ливар
прерывает его: «Не спорь с ним. Нас освободят четырнадцатого, это
официальная дата». — «Официальная дата? — хохоча,
переспрашивает Брюне. — Тебе так и написали?» Ливар делает вид, что
отвечает не ему, он поворачивается к остальным и говорит: «Мне так не
написали, и все-таки это так». Лица в темноте сияют: радиолампы,
молочно-тусклые. Ливар смотрит на них с доброжелательной
улыбкой, потом объясняет: «Это сказал Гитлер». — «Гитлер?» —
повторяет опешивший Брюне. Ливар не обращает внимания на эту
реплику. Он продолжает: «Не то чтобы я его любил этого гада: конечно,
он наш враг. А что до нацизма, то я ни за, ни против: у немцев такое
может прижиться, но французскому темпераменту это не подходит.
Однако у Гитлера есть одно достоинство: он всегда делает то, что
говорит. Он сказал: пятнадцатого июня я буду в Париже; что ж, так
оно и вышло, и даже раньше».
«Он говорил, что освободит нас?» — спрашивает Ламбер.
«Конечно. Он сказал: пятнадцатого июня я буду в Париже, а
четырнадцатого июля вы будете танцевать со своими женами». Раздается
СМЕРТЬ В ДУШЕ
953
робкий голос, это голос северянина: «Наверное, он сказал иначе: мы
будем танцевать с вашими женами. Мы: мы, фрицы». Ливар с
пренебрежением смотрит на него: «А ты при этом присутствовал?» —
«Нет, — говорит северянин, — мне так сказали». Ливар ухмыляется,
Брюне у него спрашивает: «А ты при этом присутствовал?» —
«Естественно, присутствовал! Было это в Агено; у дружков был
радиоприемник; когда я к ним зашел, Гитлер только что сказал эту
фразу!» Он качает головой и охотно повторяет: «Пятнадцатого
июня мы будем в Париже, а четырнадцатого июля вы будете
танцевать со своими женами». — «Ага! — повторяют развеселившиеся
пленные, — пятнадцатого июня в Париже, а четырнадцатого июля
мы будем танцевать». Женщины, танцы. Втянув голову в плечи,
запрокинув лица, хлопая ладонями о палаточное полотно, люди
танцуют; пол скрипит, вращается и вальсирует под звездами между
массивными утесами перекрестка Шатоден. Размякший Гассу
наклоняется к Брюне и рассудительно говорит: «Понимаешь, Гитлер
ведь не идиот. Скажи, зачем ему миллион пленных в Германии?
Зачем ему лишний миллион ртов?» — «Чтобы заставить их
работать», — отвечает Брюне. — «Работать? С немецкими рабочими?
Представляю себе моральный дух фрицев, если они хотя бы малость
поговорят с нами». — «На каком языке?» — «Не важно, на каком,
на ломаном французском, на эсперанто: французский рабочий
хитрец, человек неуживчивый и недисциплинированный, он бы в два
счета научил фрицев уму-разуму, и можешь быть уверен, что Гитлер
это понимает. Уж кто-кто, а он не идиот! Это точно! Я, как и Ливар,
не люблю этого человека, но я его уважаю, а я так мало о ком могу
сказать». Пленные серьезно и одобрительно кивают: «Нужно отдать
ему должное, он любит свою страну». — «У этого человека есть
идеал. Не наш, конечно, но тем не менее это достойно уважения». —
«Все позиции достойны уважения, лишь бы только они были
искренними». — «А что за идеалы у наших депутатов? Набить себе
карман, погулять с девками и тому подобное. Они оплачивают свои
попойки нашими деньгами. У фрицев не так: ты платишь налоги,
но ты знаешь, на что идут твои деньги. Каждый год сборщик
налогов посылает тебе извещение: сударь, вы заплатили столько-то, так
вот, столько-то пошло на лекарства для больных или столько-то на
строительство такого-то участка автострады». — «Он не хотел с
нами воевать, — говорит Мулю, — мы сами ему объявили войну». —
«Даже не мы, а Даладье, и он даже не посоветовался с
депутатами». — «Об этом я и говорю. Значит, ты понимаешь, он не трус; он
954
Жан Поль Сартр
сказал: раз вы, ребята, меня задираете, пеняйте на себя. В два счета
он нам задал трёпку. Ну, хорошо. А теперь? Думаешь, он доволен,
заполучив миллион пленных? Послушай, через несколько дней он
нам скажет: вы мне мешаете, ребята, возвращайтесь-ка домой. А
потом он обернется против русских, и они схватятся между собой.
Думаешь, его интересует Франция? Она ему не нужна. Понятное
дело, он у нас отберет назад Эльзас — тут вопрос престижа. Только
я тебе скажу: плевать нам на эльзасцев; я всегда их не выносил».
Ливар беззвучно смеется: у него фатоватый вид «Между нами, —
говорит он, — будь у нас свой Гитлер...» — «Эх, дружок! — говорит
Гассу. — Гитлер и французские солдаты! Кошмар! Мы были бы
сейчас в Константинополе. Потому что, — добавляет он, игриво
подмигивая, — французский солдат — лучший в мире, когда им по-
настоящему командуют». Брюне думает, что Шнейдеру наверняка
стыдно, он не решается на него посмотреть. Он встает,
поворачивается спиной к лучшим солдатам в мире, он понимает, что ему тут
больше нечего делать; он выходит. На лестничной площадке он
колеблется, смотрит на лестницу, которая, извиваясь, углубляется
в сумерки: в это время ворота должны быть закрыты. В первый раз
он чувствует, что он пленный. Рано или поздно ему придется
вернуться в свою тюрьму, лечь на пол рядом с остальными и слушать
их бредни. Под ним шумит казарма, крики и пение проникают
сквозь перегородки. Сзади скрипит пол, и Брюне живо
оборачивается: в темном коридоре, пересекая последние отсветы дня, к нему
приближается Шнейдер.
Я ему сейчас скажу: «Ну что, неужели у тебя осталась наглость
их защищать!» Шнейдер уже рядом с ним, Брюне молча смотрит на
него. Он облокачивается на перила; Шнейдер облокачивается
рядом, Брюне говорит: «Прав Деврукер». Шнейдер не отвечает; а что
он может ответить? Улыбка, красные цветы под изморосью,
достаточно оказать им доверие, немного, да, конечно же, я тебе верю; он
яростно повторяет: «Нечего делать! Нечего! Нечего!» Конечно,
одного доверия недостаточно. Доверие к кому? Доверие к чему?
Нужны страдания, страх и ненависть, нужны бунт и бойня, нужна
железная дисциплина. Пусть им больше нечего будет терять, пусть
для них жизнь станет хуже смерти. Оба наклоняются над мраком,
пахнет пылью, Шнейдер, понизив голос, спрашивает: «Ты правда
хочешь бежать?» Брюне молча смотрит на него. Шнейдер говорит:
«Мне будет тебя не хватать». Брюне с горечью возражает: «Тебе
будет хорошо и одному». На первом этаже люди хором поют: «Вы-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
955
пьем стаканчик, выпьем второй во здравие пары влюбленной»,
бежать, поставить крест на двадцати тысячах пленных, дать им
подохнуть в дерьме, разве ты имеешь право когда-нибудь сказать: делать
больше нечего?
А если меня ждут в Париже? Он думает о Париже с
отвращением, сила которого его удивляет. Он говорит: «Я не сбегу, я сказал
это сгоряча». — «Если ты думаешь, что больше нечего делать...» —
«Всегда есть, что делать. Нужно работать там, где находишься, и с
теми средствами, которые есть под рукой. Позже все образуется».
Шнейдер вздыхает, Брюне вдруг говорит: «Это ты должен был бы
бежать». Шнейдер отрицательно качает головой, Брюне поясняет:
«У тебя на воле жена». Шнейдер снова качает головой; Брюне
спрашивает: «Но почему? Тебя ничто здесь не держит». Шнейдер
отвечает: «Повсюду будет только хуже». Выпьем стаканчик, выпьем
другой во здравие пары влюбленной. Брюне говорит: «Скорее бы
Германия!», и в первый раз Шнейдер повторяет с некоторым
стыдом: «Да. Скорее бы Германия! И к черту английского короля,
объявившего нам войну». Двадцать семь человек, вагон скрипит,
вдоль путей тянется канал. Мулю говорит: «А что, не так уж все и
разрушено». Немцы не закрыли раздвижную дверь, свет и мухи
проникают в вагон; Шнейдер, Брюне и наборщик сидят на полу у
дверного проема, свесив ноги наружу, стоит прекрасный летний
день. «Нет, — удовлетворенно говорит Мулю, — все не так уж и
разрушено». Брюне поднимает голову: Мулю стоит рядом и с
удовлетворением смотрит на проплывающие мимо поля и луга. Жарко, от
пленных скверно пахнет; в глубине вагона кто-то храпит. Брюне
наклоняется и видит, как в багажном вагоне блестят над стволами
ружей немецкие каски. Прекрасный летний день; все спокойно,
поезд идет, канал течет, местами бомбы изрыли дорогу, вспахали поле;
на дне воронок скопилась вода, в которой отражается небо.
Наборщик говорит сам себе: «Не так уж трудно спрыгнуть». Шнейдер
движением плеча показывает на винтовки: «Тебя подстрелят, как
зайца». Наборщик не отвечает, он наклоняется, как будто
собирается нырнуть; Брюне удерживает его за плечо. «Это было бы не так
уж трудно», — зачарованно повторяет наборщик. Мулю гладит его
по затылку: «Но ведь мы едем в Шалон». — «Это правда? Мы едем
туда?» — «Ты не хуже меня видел объявление». — «Но там не было
написано, что мы едем в Шалон». — «Нет, но было написано, что мы
остаемся во Франции. Верно, Брюне?» Брюне медлит с ответом: это
правда, позавчера на стене было вывешено объявление, подписан-
956
Жан Поль Сартр
ное комендантом: «Пленные лагеря Баккара останутся на
территории Франции». Тем не менее сейчас они в поезде, который идет
неизвестно куда. Мулю настаивает: «Так правда это или неправда?»
За их спинами нетерпеливо выкрикивают: «Ну да, это правда,
конечно, правда! Не валяйте дурака, вы сами знаете, что это правда».
Брюне бросает взгляд на наборщика и вполголоса говорит: «Это
правда». Наборщик вздыхает и произносит, облегченно улыбаясь:
«Любопытно, но я всегда чувствую себя как-то странно, когда еду в
поезде». Он смеется, повернувшись к Брюне: «Я, может, и ездил-то
раз двадцать за всю свою жизнь, но каждый раз это на меня
действует». Он продолжает смеяться, Брюне смотрит на него и думает:
«Дело дрянь».
Немного сзади, обхватив лодыжки, сидит Люсьен, он говорит
«Мои старики должны были приехать в воскресенье». Это тихий
юноша в очках. Мулю поворачивается к нему: «А разве не лучше
встретиться с ними дома?» — «Конечно, да, — отвечает тот, — но раз
уж они должны были приехать в воскресенье, я бы предпочел,
чтобы мы отправились в понедельник». Вагон возмущается: «Ишь ты
какой, он хотел бы остаться там на три дня дольше; мать твою так,
есть же такие, которые не знают, чего хотят: днем дольше, послушай,
а почему не до Рождества?» Люсьен мягко улыбается и объясняет:
«Понимаете, они уже немолодые, мне жаль, что они промучаются
понапрасну». — «Брось! — обрывает его Мулю. — Когда они
вернутся, ты уже будешь дома». — «Хорошо бы, — говорит Люсьен, — но
этого счастья мне не видать: с нашей мобилизацией фрицы
протянут по меньшей мере неделю». — «Как знать? *- говорит Мулю. —
Как знать? У фрицев это может быть быстро». — «А я, — мечтает
вслух Жюрассьен, — хотел бы поспеть домой к сбору лаванды».
Брюне оборачивается: вагон сизый от пыли и дыма, одни стоят,
другие сидят; сквозь кривые стволы ног он различает благодушные,
смутно улыбающиеся лица. Жюрассьен — сурового вида толстяк с
бритой головой и черной повязкой на глазу. Он сидит по-турецки,
чтобы занимать поменьше места. «Ты откуда?» — спрашивает
Брюне. — «Из Маноска, раньше служил на флоте, теперь живу с женой,
я не хотел бы, чтобы она собирала лаванду без меня». Наборщик
неотрывно смотрит наружу, он говорит: «Давно пора». — «О чем
ты?» — спрашивает Брюне. — «Давно пора нас отпустить». — «Ты
так считаешь?» — «У меня была такая хандра!» — жалуется
наборщик. Брюне думает: «И он тоже!», но видит его горящие запавшие
глаза, молчит и думает: «Все равно скоро догадается и он». Шней-
СМЕРТЬ В ДУШЕ
957
дер спрашивает: «Что это ты погрустнел?» — «Нет, ничего! —
отвечает наборщик. — Уже все в порядке». Он хочет что-то объяснить,
но ему не хватает слов. Он делает извиняющееся движение и просто
говорит: «Я ведь из Лиона». Брюне чувствует себя неловко, он
думает: «Я совсем забыл, что он из Лиона. Вот уже два месяца я
заставляю его работать и ничего о нем не знаю. Сейчас он совсем
раскис, и его тянет домой». Наборщик повернулся к нему, Брюне
читает в глубине его глаз нечто вроде смиренной тревоги. «Так мы
и правда едем в Шалон?» — снова спрашивает он. «Эй! Ты опять за
свое?» — сердится Мулю. «Брось! — говорит Брюне. — Даже если
мы едем не в Шалон, в конце концов мы все равно вернемся». —
«Только бы в Шалон, — твердит наборщик. — Только бы в Шалон».
Это похоже на заклинание. «Знаешь, — говорит он Брюне, — если
бы не ты, я бы уже давно сбежал». — «Если бы не я?» — «Ну да. Раз
появился ответственный партиец, я обязан был остаться». Брюне
не отвечает. Он думает: «Естественно, он не сбежал из-за меня». Но
это не доставляет ему никакого удовольствия. Тот продолжает:
«Сегодня я был бы в Лионе. Представляешь себе, я был
мобилизован в октябре тридцать седьмого, я уже забыл свою профессию». —
«Ничего, это быстро восстанавливается», — успокаивает его Люсь-
ен. Наборщик задумчиво качает головой. «Где там! — восклицает
он. — Не так уж быстро. Сами убедитесь». Он сидит неподвижно,
глаза его пусты, потом говорит: «По вечерам дома у моих стариков
я все начищал до блеска, я не любил сидеть сложа руки». Брюне
краем глаза косится на него: он утратил опрятный и бодрый вид,
слова вяло вытекают у него изо рта; пучки черной щетины как
придется торчат на его похудевших щеках. Туннель пожирает головные
вагоны; Брюне смотрит на черную дыру, куда врывается поезд, он
быстро поворачивается к наборщику: «Если хочешь бежать, самое
время». — «Что?» — переспрашивает наборщик. «Только тебе
нужно спрыгнуть, когда мы будем в туннеле». Наборщик глядит на
него, и тут все вокруг чернеет. Дым попадает Брюне в рот и глаза,
он кашляет. Поезд замедляет ход. «Прыгай! — кашляя,
приказывает Брюне. — Да прыгай же!» Ответа нет; свет сереет сквозь дым,
Брюне вытирает глаза, солнце ослепляет его; наборщик сидит на
том же месте. «Ну что ж ты?» — спрашивает Брюне. Наборщик
щурится и удивленно спрашивает: «А зачем? Ведь мы и так едем в
Шалон».
Брюне пожимает плечами и смотрит на канал. На берегу
ресторанчик, какой-то человек пьет, сквозь грабовую аллею видна его
958
Жан Поль Сартр
фуражка, стакан и длинный нос. Двое других идут по берегу; на них
шляпы-канотье, они спокойно беседуют и даже не поворачиваются
к поезду. «Эй! — кричит Мулю. — Эй! Парни!» Но их уже не видно.
Другое, совсем новенькое бистро под названием «Удачной
рыбалки». Ржущее дребезжание механического пианино режет слух Брю-
не и тут же исчезает; теперь его слышат фрицы из багажного вагона.
Брюне видит замок, которого фрицы еще не видят, он стоит в
глубине парка, белоснежный, с двумя остроконечными башнями по
бокам; в парке какая-то девчушка с обручем в руках серьезно
смотрит на состав: ее детскими глазами вся невиновная и обветшалая
Франция смотрит, как их увозят. Брюне глядит на девочку и
думает о Петэне; поезд катит сквозь этот взгляд, сквозь это будущее,
полное прилежных игр, добрых помыслов, мелких забот, он катит к
картофельным полям, фабрикам и военным заводам, к их мрачному
и подлинному будущему. Пленные за спиной у Брюне машут
руками: Брюне видит руки с платками во всех вагонах; но девочка не
отвечает, она прижимает к себе обруч. «Могли бы и
поздороваться, — говорит Андре. — В сентябре они были куда как рады, что мы
уходим рисковать своей шкурой ради них». — «Это так, —
соглашается Ламбер, — только вот шкура-то наша осталась целехонькой». —
«Ну и что? Разве мы виноваты? Мы французские пленные, мы
имеем право на приветствие». Какой-то старик ловит рыбу удочкой,
сидя на складном стуле; он даже не поднимает головы; Жюрассьен
ухмыляется: «А им все нипочем. Они живут себе помаленьку, тихо-
мирно...» — «Похоже на то», — говорит Брюне. Поезд идет через
мирную жизнь: рыбаки с удочками, ресторанчики, шляпы-канотье
и такое спокойное небо. Брюне бросает взгляд назад, он видит
брюзгливые, но очарованные лица. «Старик правильно делает, —
говорит Марсьяль. — Через неделю я тоже пойду на рыбалку». —
«На что ты ловишь?» — «На муху». Они видят свое освобождение,
они касаются его, глядя на этот почти привычный пейзаж, на эти
спокойные воды. Мир, мирные заботы, сегодня вечером старик
вернется с пескарями, а через неделю и мы будем свободны:
доказательства под рукой, вкрадчивые и сладостные.
Брюне не по себе: неприятно знать будущее в одиночку. Он
отворачивается, смотрит, как бегут шпалы параллельного пути. Он
думает: «Что я могу им сказать? Они мне просто не поверят». Он
думает, что должен был бы радоваться, что наконец они все поймут
и он сможет работать по-настоящему. Но он чувствует у своего
плеча и руки лихорадочное тепло тела наборщика, и его охватывает
СМЕРТЬ В ДУШЕ
959
мрачное отвращение, похожее на угрызения совести. Поезд
замедляет ход. «Что это?» — «Ага! — хвастливо говорит Мулю. — Это
стрелка. Мне ли не знать эту линию! Десять лет назад я был
коммивояжером и ездил по ней каждую неделю. Увидите: скоро мы
повернем налево. Направо поворот к Люневиллю и Страсбургу». —
«Люневилль? — спрашивает блондинчик. — А я думал, что мы как
раз должны проехать через Люневилль». — «Нет, нет, я же тебе
говорю, что хорошо знаю эту линию. Возможно, пути к Люневиллю
разрушены, мы проехали через Сен-Дье, чтобы обогнуть их, теперь
наверстываем». — «Направо Германия?» — тревожно спрашивает
Рамелль. «Да, да, но мы берем влево. Там Нанси, Бар-ле-Дюк и
Шалон». Поезд замедляет ход и останавливается. Брюне
оборачивается и смотрит на спутников. У всех добрые спокойные лица,
некоторые улыбаются. Только Рамелль, учитель музыки, кусает
нижнюю губу и с беспокойным и подавленным видом поправляет
очки. Тем не менее наступает молчание, и вдруг Мулю кричит: «Эй,
курочки! Один поцелуй, милашки, один поцелуйчик!» Брюне резко
оборачивается: их шестеро, в легких платьях, у них большие
красные руки и полнокровные лица, все шестеро смотрят на них из-за
шлагбаума. Мулю посылает им воздушные поцелуи. Но они не
улыбаются; толстая брюнетка, которая недурна собой, принимается
вздыхать, вздохи вздымают ее полную грудь; остальные смотрят на
них большими скорбными глазами; у всех шестерых лица кривятся,
как у ребенка, готового заплакать, а в общем, у них
невыразительные деревенские физиономии. «Ну же, куколки! — взывает Мулю. —
Сделайте доброе дело!» И добавляет, охваченный внезапным
вдохновением: «Вы не хотите послать поцелуй парням, которых увозят
в Германию?» Сзади него протестующие голоса: «Эй ты! Не
каркай!» Мулю оборачивается, весьма довольный собой: «Замолчите,
я им это говорю, чтобы они нам улыбнулись».
Пленные смеются, кричат: «Ну! Ну!» Брюнетка по-прежнему
смотрит на них испуганными глазами. Она неуверенно поднимает
руку, прикладывает ее к отвислым губам и выбрасывает вперед
механическим движением. «Крепче! — просит Мулю. — Крепче!»
Его по-немецки окликает сердитей голос; он поспешно прячет
голову. — «Заткнись, — говорит Жюрассьен, — из-за тебя закроют
вагон». Мулю не отвечает, он ворчит про себя: «До чего глупые бабы
в этой дыре». Состав, поскрипывая, медленно трогается, все молчат,
Мулю ждет, приоткрыв рот, поезд идет, Брюне думает: «Вот
подходящий момент!», резкий треск, толчок. Мулю теряет равновесие
960
Жан Поль Сартр
и цепляется за плечо Шнейдера, испуская победный крик: «Эй,
ребята, ура! Мы едем в Нанси». Все смеются и кричат. Раздается
нервный голос Рамелля: «Мы точно едем в Нанси?» — «Посмотри
сам», — говорит Мулю, показывая на путь. Действительно, состав
повернул налево, он описывает такую дугу, что, не наклоняясь,
можно увидеть маленький локомотив. «Ну и что дальше? Это
прямое сообщение?» Брюне оборачивается, лицо у Рамелля все еще
землистое, его губы продолжают дрожать. «Прямое? — смеясь,
спрашивает Мулю. — Ты что, считаешь, что нам устроят
пересадку?» — «Нет, но я хочу знать: больше не будут переводить
стрелки?» — «Будут еще дважды, — отвечает Мулю. — Один раз перед
Фруаром, другой в Паньи-сюр-Мез. Но можешь не волноваться: мы
едем налево, все время налево: на Бар-ле-Дюк и Шалон». — «Когда
же все будет ясно?» — «Да и так все ясно». — «Но как же с
переводом стрелок?» — «AI — говорит Мулю. — Ты имеешь в виду
вторую? Если мы возьмем направо, значит, это Мец и Люксембург.
Третья не считается: направо будет линия на Верден и Седан, там
нам нечего делать». — «Значит, — шепчет Рамелль, — теперь будет
вторая...» Он больше ничего не говорит, а только съеживается,
подобрав колени к подбородку с потерянным и озябшим видом. —
«Послушай, не трепи нам нервы заранее, — увещевает его Андре. —
Там будет видно». Рамелль не отвечает; в вагоне воцаряется
гнетущая тишина; все лица невыразительны, но немного искажены.
Брюне слышит переливчатый звук губной гармошки; Андре
подскакивает: «Нет! Не надо музыки!» — «Что, я не имею права
поиграть на губной гармошке?» — говорит кто-то в глубине вагона.
«Не надо музыки!» Молчание. Поезд тихо набирает скорость; он
проходит по мосту. «Кончился канал», — вздыхает наборщик.
Шнейдер сидя спит, голова его раскачивается из стороны в
сторону. Брюне скучает, он смотрит на поля, голова у него пуста; вскоре
поезд замедляет ход, и Рамелль выпрямляется, глаза его
растеряны: «Что это?» — «Не дергайся, — говорит Мулю. — Это Нанси».
Над вагоном вокзальный навес, рядом стена. Над короткой стеной
карниз из белого камня; над карнизом железная балюстрада с
просветами. «Наверху улица», — говорит Мулю. Брюне вдруг
чувствует, как его придавило огромной тяжестью. Люди наклоняются,
опираясь на него; в вагон врываются крупные хлопья дыма, Брюне
кашляет. «Посмотрите на парня наверху», — говорит Марсьяль.
Брюне пытается откинуться назад, но чувствует, как ему
упираются в голову, как чьи-то руки давят ему на плечи; действительно,
СМЕРТЬ В ДУШЕ
961
склонившись над балюстрадой, стоит какой-то мужчина. Сквозь
перекладины виден его черный пиджак и брюки в полоску. Он
держит кожаный портфель; ему лет сорок. «Привет!» — кричит
Марсьяль. — «Здравствуйте», — откликается мужчина. У него на
худом и суровом лице ухоженные усы, ясные, светлые голубые
глаза. «Привет! Привет!» — выкрикивают пленные. «Ну как, —
спрашивает Мулю, — как дела в Нанси? Много разрушений?» —
«Нет», — отвечает мужчина. «Вот и хорошо, — говорит Мулю. —
Вот и хорошо». Мужчина не отвечает. Он пристально, с
любопытством смотрит на них. «Жизнь наладилась?» — спрашивает Жю-
рассьен. В этот момент свистит локомотив, и мужчина
прикладывает козырьком руку к уху и кричит: «Что?» Жюрассьен делает
жесты над головой Брюне, чтобы объяснить, что он не может
кричать слишком громко; Люсьен говорит ему: «Спроси у него о
пленных в Нанси». — «Что, пленные?» — «Знает ли он что-нибудь о
пленных». — «Подожди, — говорит Мулю, — мы друг друга не
слышим». — «Быстрее спрашивай, поезд сейчас тронется». Свист
оборвался. Мулю кричит: «Как дела тут у вас? Наладились?» —
«Какое там! — отвечает мужчина. — Ведь в городе полно немцев!» — «А
кинотеатры хоть открылись?» — любопытствует Марсьяль.
«Что?» — переспрашивает мужчина. — «Сучий потрох! —
возмущается Люсьен. — Меня уже тошнит от твоих кинотеатров, оставь
в покое кинотеатры, дай мне поговорить». И он на одном дыхании
добавляет: «А как пленные?» — «Какие пленные?» — спрашивает
мужчина. — «Здесь не было пленных?» — «Были, но больше их
нет». — «Куда они уехали?» — кричит Мулю. Мужчина смотрит на
него немного удивленно: «В Германию, куда же еще?» — «Эй, вы
там! — увещевает Брюне. — Не толкайтесь!» Он двумя руками
упирается в пол; люди давят на него и все вместе кричат: «В
Германию? Ты что, рехнулся? Ты хочешь сказать в Шалон? В
Германию? Кто тебе сказал, что они уехали в Германию?» Мужчина не
отвечает, он спокойно смотрит на них. «Замолчите, ребята! —
призывает Жюрассьен. — Не кричите хором». Все умолкают, и
Жюрассьен кричит: «Откуда вы это знаете?» Раздается злобный выкрик:
немецкий часовой с примкнутым к винтовке штыком спрыгивает
с товарного вагона и бросается к ним. Это совсем еще молодой
парень, багровый от гнева, хриплым голосом он очень быстро
кричит что-то по-немецки. Брюне вдруг чувствует, что освободился от
огромного натиска, должно быть, люди поспешно сели снова.
Часовой умолкает, он стоит перед ними, прижав винтовку к ноге.
962
Жан Поль Сартр
Мужчина не уходит, он смотрит, склонившись над балюстрадой;
Брюне угадывает в сумерках вагона лихорадочные, чего-то ждущие
глаза. «Что за чушь! — шепчет Люсьен позади него. — Это просто
чушь». Мужчина стоит неподвижно, молчаливый и бесполезный,
однако полный тайной осведомленности. Локомотив свистит,
вихрь дыма врывается в вагон, поезд трогается и набирает ход.
Брюне кашляет; часовой ждет, когда багажный вагон приблизится
к нему, бросает в него винтовку; Брюне видит две пары рук,
которые выглядывают из серо-зеленых рукавов, они хватают его за
плечи и поднимают в вагон. «Прежде всего что он может знать, этот
мудак? Что он может об этом знать? Если они и уехали, он просто
видел, как они уезжают, вот и все». Гневные голоса взрываются за
спиной Брюне, Брюне молча улыбается. «Он это предполагает, вот
и все, — говорит Рамелль. — Он только предполагает, что они
уехали в Германию». Поезд наращивает скорость, он проходит вдоль
больших пустынных перронов, Брюне читает на вывеске: «Выход.
Подземный переход». Поезд идет. Вокзал мертв. У плеча Брюне
подрагивает плечо наборщика. Его вдруг прорвало: «Сволочь он —
говорить такое, если сам точно не знает!» — «Правильно, —
соглашается Марсьяль. — Чертова гнида!» — «И еще какая! —
подхватывает Мулю. — Так не делают. Нужно быть полным болваном...» —
«Болваном? — повторяет Жюрассьен. — А ты его видел? Уж поверь
мне, этот тип неглуп. Он прекрасно знает, что говорит». — «Что ты
имеешь в виду?» Брюне оборачивается, Жюрассьен зло
ухмыляется. «Да он из пятой колонны», — говорит он. «Слушайте, ребята, —
вмешивается Ламбер, — а вдруг он прав?» — «Заткнись, выблядок!
Если ты хочешь ехать к фрицам, езжай добровольцем, но не трепи
нервы другим». — «И потом, мать твою так, мы все узнаем по
переводу стрелок», — говорит Мулю. «А когда перевод? — спрашивает
Рамелль. Лицо у него позеленело; он похлопывает пальцами по
шинели. — «Через пятнадцать — двадцать минут». Молчание, все
ждут. У них суровые лица, остановившиеся взгляды, такими
Брюне не видел их со времен поражения. Все погружается в тишину,
слышен только скрежет вагонов. Жарко. Брюне хотел бы снять
китель, но не может, он зажат между стеной и наборщиком. Капли
пота стекают у него по шее. Наборщик говорит, не глядя на него:
«Эй! Брюне!» — «Чего?» — «Ты смеялся надо мной, когда
предложил мне спрыгнуть?» — «Вовсе нет», — отвечает Брюне.
Наборщик поворачивает к нему прелестное детское лицо, которое не
состарилось, несмотря на морщины, грязь и отросшую бороду. Он
СМЕРТЬ В ДУШЕ
963
говорит: «Я не смогу быть в Германии». Брюне не отвечает.
Наборщик повторяет: «Я не смогу там быть. Я там сдохну».
Брюне пожимает плечами и говорит: «Ты будешь делать то же,
что и все». — «Но там все передохнут! — кричит наборщик. — Все,
все, все!» Брюне освобождает руку и кладет ему на плечо. «Не
психуй, старина», — сердечно говорит он. Тот дрожит. Брюне
продолжает: «Если ты будешь так кричать, то нагонишь страх на
товарищей». Наборщик глотает слюну, у него послушный вид. Он говорит:
«Ты прав, Брюне». Он отчаянно и бессильно машет рукой и грустно
добавляет: «Ты всегда прав». Брюне улыбается ему Немного позже
наборщик тихо продолжает: «Значит, ты не шутил?» — «Когда?» —
«Когда ты мне сказал, чтобы я спрыгнул?» — «А! Не думай больше
об этом», — говорит Брюне. «А если бы я спрыгнул, ты бы на меня
рассердился?» Брюне смотрит на сверкающие стволы ружей,
которые торчат из багажного вагона. Он говорит: «Не делай глупостей,
тебя тут же укокошат». — «Дай мне рискнуть, — шепчет
наборщик. — Дай мне рискнуть». — «Сейчас не время...» — «Не важно, я
все равно сдохну, если попаду туда. Подыхать так подыхать...»
Брюне не отвечает; наборщик настаивает: «Скажи мне одно: ты на меня
рассердишься?» Брюне все еще смотрит на ружья и отвечает
медленно и холодно: «Да. Я на тебя рассержусь, и я тебе это запрещаю».
Наборщик опускает голову, Брюне видит, как дрожит его челюсть.
«Ну и подлец же ты», — внезапно вмешивается Шнейдер. Брюне
поворачивает голову: Шнейдер сурово смотрит на него. Брюне не
отвечает и прижимается к стойке; он хотел бы сказать Шнейдеру:
«Если я ему разрешу, его убьют, разве ты не понимаешь?» Но он не
может этого сделать, потому что наборщик его слышит; у него
неприятное чувство, что Шнейдер его осуждает. Он думает: «Это
глупо». Брюне смотрит на тощую шею наборщика и думает: «А если
он там и вправду сдохнет? Вот гадство! Я уже больше не тот». Поезд
притормаживает: перевод стрелок. Все точно знают, что это перевод,
но молчат. Поезд останавливается, тишина. Брюне поднимает
голову. Склонившийся над ним Мулю смотрит на путь, открыв рот; он
бледен. Из травы на насыпи несется стрекотанье кузнечиков. Три
немца спрыгивают на рельсы, чтобы размять ноги; смеясь, они
проходят мимо вагона.
Поезд трогается; немцы поворачивают и бегут догонять
багажный вагон. Мулю издает вопль: «Налево, ребята! Мы идем налево!»
Вагон дрожит и скрипит, кажется, что он сейчас оторвется от
рельсов. Брюне снова чувствует тяжесть десятка тел, навалившихся на
964
Жан Поль Сартр
него. Все вопят: «Налево! Налево! Мы едем в Шалон!» Из дверей
других вагонов высовываются черные от дыма радостные лица.
Андре кричит: «Эй, Шабо! Мы едем в Шалон!» И Шабо,
свесившись из четвертого вагона, смеется и орет: «Порядок, ребята,
порядок!» Все смеются. Брюне слышит голос Гассу: «Оказывается,
они боялись, как и мы». — «Видите, ребята! — говорит Жюрассь-
ен. — Тот тип был из пятой колонны». Брюне смотрит на
наборщика. Тот ничего не говорит, он все еще дрожит, по его левой щеке
катится слеза, прочерчивая полосу через налет угольной пыли и
грязи. Кто-то снова начинает наигрывать на губной гармошке,
другой поет в такт мелодии: «Мой солдатик, я тебе останусь верной».
Брюне охватывает страшная грусть, он смотрит на бегущие рельсы,
и ему хочется спрыгнуть. Вагон ликует, весь поезд поет. Совсем как
довоенные поезда-сюрпризы. Брюне думает: «Сюрприз будет в
конце». Наборщик испускает глубокий вздох облегчения и радости.
Он верещит: «А-ля-ля, а-ля-ля!» Потом хитро смотрит на Брюне и
говорит: «А ты-то думал, что мы едем в Германию». Брюне немного
напрягается, он чувствует, что задет его авторитет; но он ничего не
отвечает. У наборщика благодушное настроение, он живо
добавляет: «Каждый может ошибаться; я ведь тоже думал, как и ты». Брюне
молчит, наборщик посвистывает; немного погодя он говорит: «Я ее
предупрежу перед тем, как приеду сам». — «Кого это?» —
спрашивает Брюне. «Мою девочку, — отвечает наборщик. — Иначе она
упадет в обморок». — «У тебя есть девочка? В твоем-то
возрасте?» — «Конечно. Если б не война, мы бы уже поженились». —
«Сколько же ей лет?» — спрашивает Брюне. «Восемнадцать». —
«Ты с ней познакомился через партию?» — «Н-нет. На балу». —
«Она думает, как и ты?» — «О чем?» — «Обо всем». — «Я не знаю,
что она думает. По правде говоря, мне кажется, что она ни о чем не
думает: она еще ребенок. Но она славная и работящая, и потом... у
нее такая фигура!» Он немного мечтает, потом говорит: «Может, это
и нагнало на меня хандру. Я скучаю по ней. А у тебя есть подруга,
Брюне?» — «У меня на это нет времени», — отвечает Брюне. «Тогда
как же ты обходишься?» — Брюне улыбается: «Иногда случается,
но так, мимоходом». — «Я бы так жить не смог, — говорит
наборщик. — Разве ты не хочешь иметь свой дом, свою женушку?» —
«Этого у меня не будет никогда». — «Неужели?» — изумляется
наборщик. Он смущен и, как бы извиняясь, говорит: «Мне много не
нужно, ей тоже. Три стула да койка». Улыбаясь своим мыслям, он
добавляет: «Не будь этой войны, мы были бы так счастливы...»
СМЕРТЬ В ДУШЕ
965
Брюне злится и неприязненно смотрит на наборщика; на этом лице,
столь выразительном из-за худобы, он читает плотоядное желание
счастья. Он тихо говорит: «Эта война началась не случайно. И ты
хорошо знаешь, что нельзя счастливо жить, будучи угнетенным». —
«Да ну! — продолжает наборщик, — мы бы устроили себе уютную
норку...» Брюне повышает голос и сухо спрашивает: «Но тогда
почему ты коммунист? Коммунисты созданы не для того, чтобы
прозябать в норках». — «Я в партии ради других, — отвечает
наборщик. — В нашем квартале столько нищеты, и я хотел, чтоб это
изменилось». — «Когда вступаешь в партию, кроме нее, не существует
больше ничего, — говорит Брюне. — Ты должен был бы понимать,
какие обязательства ты на себя берешь». — «Но я и так понимаю, —
тихо отвечает наборщик. — Разве я когда-нибудь отказывался
делать то, о чем ты просил? Только когда я трахаюсь, партия не
должна стоять надо мной со свечкой. Бывают обстоятельства, когда...»
Он смотрит на Брюне и осекается. Брюне ничего не говорит, он
думает: «Он так рассуждает, потому что думает, что я ошибся. Я
обязан быть непогрешимым». Становится жарче, пот пропитывает
его гимнастерку, солнце бьет ему прямо в лицо: нужно выяснить,
зачем все эти молодые люди вступили в компартию: если из-за
великих идей, то неизбежен момент сомнений и колебаний.
А я, зачем я в нее вступил! Но право, это было так давно, что уже
не имеет значения, я коммунист, потому что я коммунист, вот и все.
Он высвобождает правую руку, утирает пот, осевший на бровях,
смотрит на часы: половина пятого. С этими объездами мы не скоро
доберемся до Шалона. Сегодня ночью фрицы, наверное, запрут
вагоны, и мы заночуем на запасных путях. Зевая, Брюне говорит:
«Шнейдер, почему ты молчишь?» — «А что, по-твоему, я должен
сказать?» — спрашивает Шнейдер. Брюне снова зевает, он глядит
на убегающие рельсы, бледное лицо смеется между шпал: ха, ха, ха,
голова его падает, но он тут же просыпается, у него болят глаза, он
отклоняется назад, чтобы укрыться от солнечных лучей, кто-то
произнес: «Смертный приговор», его голова опять падает, он
вдругорядь просыпается и подносит руку к мокрому подбородку: «Я
пустил слюну, наверно, я срал, разинув рот»; он испытывает
отвращение к самому себе. «Вылей!» Ему протягивают банку из-под мясных
консервов, она совсем теплая, он говорит: «Что это? А! Ясно». Он
ее опоражнивает, желтая жидкость льется на пути. «Эй!
Осторожней! Передай ее быстро сюда!» Он, не оборачиваясь, протягивает
банку, у него берут ее из рук, он хочет снова уснуть, но его хлопают
966
Жан Поль Сартр
по плечу; он снова берет банку и выливает. «Дай мне», — просит
наборщик. Брюне протягивает банку с трудом встающему
наборщику, вытирает влажные пальцы о китель; вскоре над его головой
опрокидывают жестяную банку, желтая жидкость льется,
рассыпается белыми каплями. Наборщик снова садится, вытирая пальцы.
Брюне кладет голову ему на плечо, он слышит звуки губной
гармошки и видит заросший цветами обширный сад, он засыпает. Его
будит толчок, он вскрикивает. «А?» Поезд остановился в поле.
«А?» — «Ничего, — говорит Мулю. — Можешь снова соснуть: это
Паньи-сюр-Мез». Брюне оборачивается, все спокойно, люди
привыкли к своей радости, одни играют в карты, другие поют, третьи,
молчаливые и завороженные, мечтают о разных разностях, их глаза
полны воспоминаний, которым они наконец дают волю; никто не
придает значения неожиданной стоянке. Брюне окончательно
засыпает, ему снится странная долина, где обнаженные и тощие, как
скелеты, люди с седыми бородами сидят вокруг большого костра;
когда он просыпается, солнце заходит за линию горизонта, а небо
стало сиреневым, две коровы бредут по лугу, состав все еще стоит,
люди поют, на насыпи немецкие солдаты рвут цветы.
Один плотный низенький крепыш приближается к пленным с
маргариткой в зубах, он улыбается им во весь рот. Мулю, Андре и
Марсьяль улыбаются ему в ответ. Немец и французы некоторое
время, улыбаясь, глазеют друг на друга, и вдруг Мулю обращается
к нему: «Cigaretten. Bitte schön Cigaretten*. Солдат колеблется и
поворачивается к насыпи; там торчат зады трех его
наклонившихся товарищей; он поспешно роется в кармане и бросает пачку
сигарет в вагон; Брюне слышит за спиной быструю возню, некурящий
Рамелль вскакивает и, осклабясь, кричит: «Dankeschön!»**
Маленький крепыш жестом призывает его замолчать. Мулю просит Шней-
дера: «Спроси у него, куда мы едем». Шнейдер говорит с солдатом
по-немецки, тот, улыбаясь, что-то отвечает; немцы перестали рвать
цветы и приближаются, каждый держит букет в левой руке
цветами вниз; это сержант и два солдата, у них развеселый вид, смеясь,
они вмешиваются в разговор. «Что они говорят?» — спрашивает
Мулю, тоже улыбаясь. — «Подожди немного, — нетерпеливо
останавливает его Шнейдер. — Дай мне понять». Солдаты о чем-то
шутят и неторопливо возвращаются к багажному вагону, сержант
останавливается помочиться у оси вагона, расставив ноги, он рас-
* Сигареты, пожалуйста, сигареты.
** Спасибо! (нем.)
СМЕРТЬ В ДУШЕ
967
стегивает ширинку, бросает взгляд на своих товарищей, и пока те
стоят к нему спиной, бросает в вагон пачку сигарет. «Ха! —
восклицает Марсьяль со счастливым хрипом. — Не такие уж они
подлецы». — «Это потому, что нас освобождают, — говорит Жюрас-
сьен, — они хотят оставить о себе добрую память». — «Может, и
так, — мечтательно отзывается Марсьяль. — Но на самом деле то,
что они делают, просто пропаганда». — «Что они сказали?» —
снова спрашивает Мулю. Шнейдер не отвечает, у него странный вид.
«Так что они сказали?» — повторяет Андре. Шнейдер с трудом
глотает слюну и говорит: «Они из Ганновера, воевали в
Бельгии». — «Они сказали, куда мы едем?» Шнейдер разводит руками,
виновато улыбается и говорит: «В Трев». — «Трев... — говорит
Мулю. — Где это?» — «В Палатинате», — отвечает Шнейдер.
Наступает неопределенное молчание, потом Мулю говорит: «Трев у
фрицев? Они тебя разыграли».
Шнейдер молчит. Мулю со спокойной уверенностью говорит:
«К фрицам не едут через Бар-ле-Дюк». Шнейдер не отвечает, Андре
небрежно спрашивает: «Так они пошутили или как?» — «Ты
прекрасно видел, что они шутили, — говорит Люсьен. — Они
смеялись». — «Они не шутили, когда мне так ответили», — неохотно
возражает Шнейцер. — «Ты не слышал, что сказал Мулю? — гневно
спрашивает Марсьяль. — Если едут к фрицам, то не проезжают
через Бар-ле-Дюк. Кто ж так едет?» — «Мы и не едем через Бар-ле-
Дюк, — говорит Шнейдер, — мы берем направо». Мулю начинает
смеяться: «Ну, нет! Как-нибудь я знаю эту дорогу получше тебя.
Направо Верден и Седан. Если все время ехать направо, можно
попасть в Бельгию, но только не в Германию!» Он оборачивается к
остальным с успокаивающим видом: «Я же вам сказал, что ездил по
этим местам каждую неделю. Иногда дважды в неделю. Иногда
дважды в неделю!» — добавляет он убежденно. «Конечно, — говорят
вокруг. — Конечно, он не может ошибиться». — «Мы едем через
Люксембург», — поясняет Шнейдер. Он говорит через силу, у Брю-
не создается впечатление, что он хочет наконец втолковать им
правду, он бледен и ни на кого не глядит. Андре подходит вплотную
к Шнейдеру и кричит ему прямо в лицо: «Но почему они сделали
этот объезд? Почему?» Сзади кричат: «Почему? Почему? Ведь это
глупо! Почему? Тогда нужно было просто ехать через Люневилль».
Шнейдер краснеет, он оборачивается к возбужденным товарищам:
«Я ничего об этом не знаю! Я ничего об этом не знаю! Ничего! —
гневно кричит он. — Возможно, пути повреждены, или другие ли-
968
Жан Поль Сартр
нии забиты немецкими эшелонами, не заставляйте меня говорить
больше того, что я знаю, и думайте, что хотите». Чей-то
пронзительный голос перекрывает все остальные: «Не стоит волноваться,
ребята, скоро все узнаем». И все повторяют: «Это правда, поживем —
увидим, не стоит зазря портить себе кровь». Ш ней дер садится; из
предпоследнего вагона показывается кучерявая голова, молодой
голос окликает их: «Эй! Ребята! Вам сказали, куда мы едем?» —
«Что он говорит?» — «Он спрашивает, куда мы едем».
В вагоне хохочут: «Вовремя он всполошился, у него нюх, самое
время об этом спрашивать». Мулю наклоняется, приставив рупором
руки ко рту, и кричит: «В мою задницу!» Голова исчезает. Все
смеются, потом смех утихает; Жюрассьен говорит: «Сыграем, ребятки?
Все лучше, чем гадать на кофейной гуще». — «Давай», — отвечают
ему Пленные садятся по-турецки вокруг свернутой вчетверо
шинели, Жюрассьен собрал карты, он сдает. Рамелль молча грызет ногти;
губная гармошка играет вальс; стоящий у внутренней стенки
пленный задумчиво курит немецкую сигарету. Он отрешенно говорит:
«Приятно курнуть». Шнейдер поворачивается к Брюне и виновато
сознается: «Я не мог им соврать». Брюне, не отвечая, пожимает
плечами, Шнейдер повторяет: «Нет, я не мог». — «Это ничего не
дало бы, — отвечает Брюне, — так или иначе, они сами об этом
скоро узнают». Он отдает себе отчет, что откликается слишком вяло;
он злится на Шнейдера из-за остальных. Шнейдер со странным
видом смотрит на него и говорит: «Жалко, что ты не знаешь
немецкого». — «Почему?» — удивляется Брюне. «Потому что ты рад был
бы сообщить им сам». — «Ошибаешься», — устало отвечает Брюне.
«Ты ведь так желал этого отъезда в Германию», — напоминает
Шнейдер. «Что ж, это правда, — признает Брюне, — я его желал».
Наборщик снова начинает дрожать, Брюне обнимает его за плечи и
неуклюже прижимает к себе. Кивком головы он показывает на него
Шнейдеру и говорит: «Замолчи». Шнейдер смотрит на Брюне,
удивленно улыбаясь; он как будто хочет сказать: «С каких это пор
ты стараешься щадить людей?» Брюне отворачивается, но снова
видит молодое алчущее лицо наборщика. Тот смотрит на него, губы
его шевелятся, на его помрачневшем лице таращатся большие
ласковые глаза. Брюне собирается ему сказать: «Вот видишь, разве я
ошибся?» Но ничего не говорит, а только, насвистывая, смотрит на
свои свесившиеся над неподвижными рельсами ноги; солнце
заходит, стало прохладней; мальчишка погоняет коров палкой, они
сначала бегут, но потом успокаиваются и величественно удаляются
СМЕРТЬ В ДУШЕ
969
по дороге; мальчик возвращается домой, коровы возвращаются в
стойло: какое страдание.
Очень далеко над полем кружат черные птицы: еще не все
мертвые похоронены. Брюне больше не знает, его ли это тревога или
тревога других; он оборачивается и внимательно смотрит на
пленных: серые и рассеянные лица почти спокойны, он узнает
отрешенный вид толпы, готовой заполыхать яростью. Он думает: «Хорошо.
Очень хорошо». Однако особой радости он не испытывает. Поезд
трогается, но через несколько минут опять останавливается.
Высунувшись из вагона, Мулю изучает горизонт и говорит: «Стрелки
в ста метрах». — «Ты что, не понимаешь, — говорит Гассу, — они
оставят нас здесь до завтра?» — «Настроение к тому времени будет
еще похлеще!» — замечает Андре. Брюне всей своей сутью
чувствует тягостную неподвижность вагона. Кто-то говорит: «Это уже
психическая война начинается». Сухой треск пробегает по вагону,
это чей-то смех. Но он тут же угасает; Брюне слышит невозмутимый
голос Жюрассьена: «Козырь и козырь!», он чувствует толчок,
оборачивается: рука Жюрассьена, держащая червонный туз, застыла в
воздухе, поезд пошел снова; Мулю поджидает. Вскоре эшелон
понемногу набирает скорость, затем два рельса вылетают из-под
колес, две параллельные молнии, которые сейчас затеряются слева
среди полей. «Сволочи! — кричит Мулю. — Сволочи! Сволочи!»
Люди молчат: они все поняли; Жюрассьен роняет туза на шинель и
разглаживает складку; поезд лихо катит с небольшой равномерной
одышкой под заходящим солнцем, лицо Шнейдера краснеет,
становится зябко. Брюне смотрит на наборщика и резко хватает его за
плечи: «Не делай глупостей, понял? Не делай глупостей, паренек!»
Щуплое тело корчится под его пальцами, он их сжимает сильнее,
тело расслабляется, Брюне думает: «Я его буду держать до ночи».
На ночь фрицы запирают вагон, а к утру он успокоится. Поезд идет
под сиреневым небом в абсолютной тишине; сейчас они уже знают,
знают во всех вагонах. Наборщик забылся, как женщина, на плече
Брюне. Брюне думает: «Имею ли я право мешать ему спрыгнуть?»
Но он не перестает сжимать плечи наборщика. Смех за его спиной,
голос: «А моя-то еще хотела ребенка! Нужно ей написать, чтоб на
нее влез сосед». Общий смех. Брюне думает: «Они смеются с горя».
Смех заполнил вагон, гнев возрастает; насмешливый голос
повторяет: «Какими же мы были идиотами! Какими идиотами!»
Картофельное поле, сталелитейные заводы, шахты, каторжные работы: по
какому праву?
970
Жан Поль Сартр
А по какому праву он его удерживает? «Какими же мы были
идиотами!» — повторяет кто-то. Гнев переходит от одного к другому,
нагнетается. Брюне чувствует, как под его пальцами покачиваются
худые плечи, перекатываются мягкие мышцы, он думает: «Он не
сможет этого перенести». По какому праву он его держит? Тем не
менее он сжимает его еще сильнее, наборщик говорит: «Ты мне
делаешь больно!» Брюне не ослабляет хватки: это жизнь коммуниста,
пока он жив, она принадлежит нам. Он смотрит на эту беличью
мордочку: пока он жив, да, но жив ли он? Он кончен, пружина
сломалась, он больше не сможет работать. «Отпусти меня! — кричит
наборщик. — Черт побери, отпусти меня!» Брюне осознает
собственную нелепость; он держит в руках эту оболочку: партийца,
который больше не сможет служить партии. Он хотел бы
поговорить с ним, переубедить его, помочь ему, но не может: его слова
принадлежат партии, это она придала им смысл; внутри партии
Брюне может любить, убеждать и утешать. Наборщик же выпал из
этой огромной световой зоны, Брюне больше нечего ему сказать.
Однако этот паренек еще страдает. Подыхать так подыхать... Эх!
Пусть он решится! Если он выкарабкается, тем лучше для него; если
нет, его смерть принесет пользу партии. Вагон смеется все громче;
поезд движется медленно; кажется, он вот-вот остановится;
наборщик неестественным голосом говорит: «Передай мне банку, мне
нужно отлить». Брюне не отвечает, он смотрит на наборщика и
видит смерть. Смерть, эту свободу. «Черт возьми, — говорит
наборщик, — ты что, не можешь передать мне банку? Ты хочешь, чтобы я
напрудил в штаны?» Брюне оборачивается, кричит: «Банку!» Из
темноты, светящейся гневом, появляется рука и протягивает ему
банку, поезд притормаживает, Брюне колеблется, он впивается
пальцами в плечо наборщика, потом вдруг отпускает, берет банку,
какими же мы все-таки были идиотами, какими идиотами! Пленные
перестают смеяться. Брюне чувствует жесткое царапанье у локтя,
наборщик поднырнул ему под руку, Брюне протягивает руку, но
хватает пустоту: серая масса, согнувшись пополам, опрокинулась,
тяжелый полет, Мулю кричит, тень расплющилась на насыпи, ноги
расставлены, руки крестом. Брюне слышит выстрелы, они уже
наготове, наборщик подпрыгивает, вот он уже стоит, черный,
свободный. Брюне видит выстрелы: пять жутковатых вспышек.
Наборщик начинает бежать вдоль поезда, он испугался, он хочет
вернуться назад. Брюне кричит ему: «Прыгай на насыпь, черт
возьми! Прыгай!» Весь вагон кричит: «Прыгай! Прыгай!» Наборщик не
СМЕРТЬ В ДУШЕ
971
слышит, он бежит, достигает уровня вагона, протягивает руку,
кричит: «Брюне! Брюне!» Брюне видит его глаза, полные ужаса, он ему
орет: «Насыпь!» Наборщик глух, он весь превратился в огромные
глаза, Брюне думает: «Если он успеет взбежать на насыпь —
уцелеет». Он нагибается: Шнейдер уже понял, он опоясывает его левой
рукой, чтобы не дать упасть. Брюне протягивает руки. Рука
наборщика касается его руки, фрицы трижды стреляют, наборщик мягко
заваливается назад, падает, поезд удаляется, ноги наборщика
подергиваются, замирают, шпалы и щебенка вокруг его головы черны
от крови. Поезд резко останавливается, Брюне падает на Шнейдера
и, стиснув зубы, говорит: «Они же видели, что он хотел подняться
в вагон. Они его ухлопали ради забавы». Тело там, в двадцати шагах,
оно уже предмет, уже свободно. Я бы устроил себе уютную норку.
Брюне замечает, что все еще держит банку в руке, он протягивал
руки наборщику, не выпуская ее. Она теплая. Брюне роняет ее на
насыпь. Четыре фрица выпрыгивают из багажного вагона и бегут к
телу; позади Брюне люди гудят: готово, гнев сорвался с цепи. Из
головного вагона вышло с десяток немцев. Они карабкаются на
насыпь, поворачиваются к поезду, в руках автоматы. Пленные больше
не боятся; кто-то вопит позади Брюне: «Сволочи! Сволочи!» У
толстого немецкого сержанта яростный вид, он нагибается,
приподнимает тело, отпускает его и пинает. Брюне резко оборачивается:
«Эй, вы! Вы так меня свалите на землю!» Человек двадцать давят
ему в спину. Брюне видит двадцать пар глаз, полных смертельной
ненависти: быть беде. Он кричит: «Не прыгайте, парни, вас убьют!»
Он с трудом встает, борясь с ними, кричит: «Шнейдер! Шнейдер!»
Шнейдер тоже встает. Они берут друг друга за талию и другой
рукой хватаются за косяки двери. «Мы вас не пустим!» Люди
напирают; Брюне видит всю эту ненависть, его ненависть, его орудие и
пугается. Три немца подходят к вагону и берут людей на прицел.
Пленные глухо гудят, немцы не сводят с них глаз; Брюне узнает
толстого кучерявого солдата, который бросил им сигареты: у него
глаза убийцы.
Французы и немцы смотрят друг на друга, это война, впервые,
начиная с сентября тридцать девятого года, это война. Давление
понемногу ослабевает, люди отступают, теперь ему легче дышать.
Подходит сержант, он кричит: Hinein! Hinein!* Брюне и Шнейдер
упираются в груди товарищей, за их спиной фрицы задвигают
дверь, вагон погружается в темноту, пахнет потом и углем, гнев не
* Назад! Назад! (нем.)
972
Жан Поль Сартр
утихает, ноги шаркают по полу, это похоже на идущую толпу. Брю-
не думает: «Они этого никогда не забудут. Это выигрыш». Ему
скверно, он тяжело дышит, глаза его открыты в темноту: время от
времени он чувствует, как они набухают — два больших апельсина,
которые вот-вот разорвут его глазницы. Он тихим голосом зовет:
«Шнейдер! Шнейдер!» — «Я здесь», — откликается Шнейдер. Брю-
не шарит вокруг себя, ему необходимо прикоснуться к Шнейдеру
Рука находит его руку и сжимает ее. «Это ты, Шнейдер?» — «Да».
Они молчат бок о бок, рука в руке. Толчок, поезд, поскрипывая,
трогается. Как они поступили с телом? Он чувствует у своего уха
дыхание Шнейдера. Внезапно Шнейдер убирает руку, Брюне хочет
ее удержать, но тот рывком высвобождается и растворяется в
темноте. Брюне остается один, одеревеневший и неуклюжий, а вокруг
жара, как в печной топке. Он стоит на одной ноге, другая зажата на
полу чужими ногами. Он не пытается ее высвободить, ему
необходимо остаться в переходном состоянии: он здесь только мимоходом,
его мысль только мимоходом в его голове, поезд только мимоходом
во Франции, неотчетливые мысли вспыхивают и падают вместе с
ним на рельсы, до того как он может их опознать, он удаляется,
удаляется, удаляется: именно на этой скорости жизнь терпима.
Полная остановка: скорость уменьшается и сходит на нет; он знает,
что поезд еще идет: эшелон скрежещет, стучит и дрожит; но Брюне
перестал чувствовать движение. Он в большом мусорном ящике,
кто-то пинает его. Позади, на насыпи, распласталось расстрелянное
тело; Брюне знает, что с каждой секундой они удаляются от него,
он хотел бы это почувствовать, но не может: все замерло. Над
мертвецом и неподвижным вагоном нависает ночь, единственное, что
еще живо. Завтра заря покроет их всех одной и той же росой,
мертвая плоть и ржавая сталь обольются тем же потом. Завтра прилетят
черные птицы.
Содержание
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ 5
ОТСРОЧКА 315
СМЕРТЬ В ДУШЕ 675
Сартр Жан Поль
ДОРОГИ СВОБОДЫ
Сборник