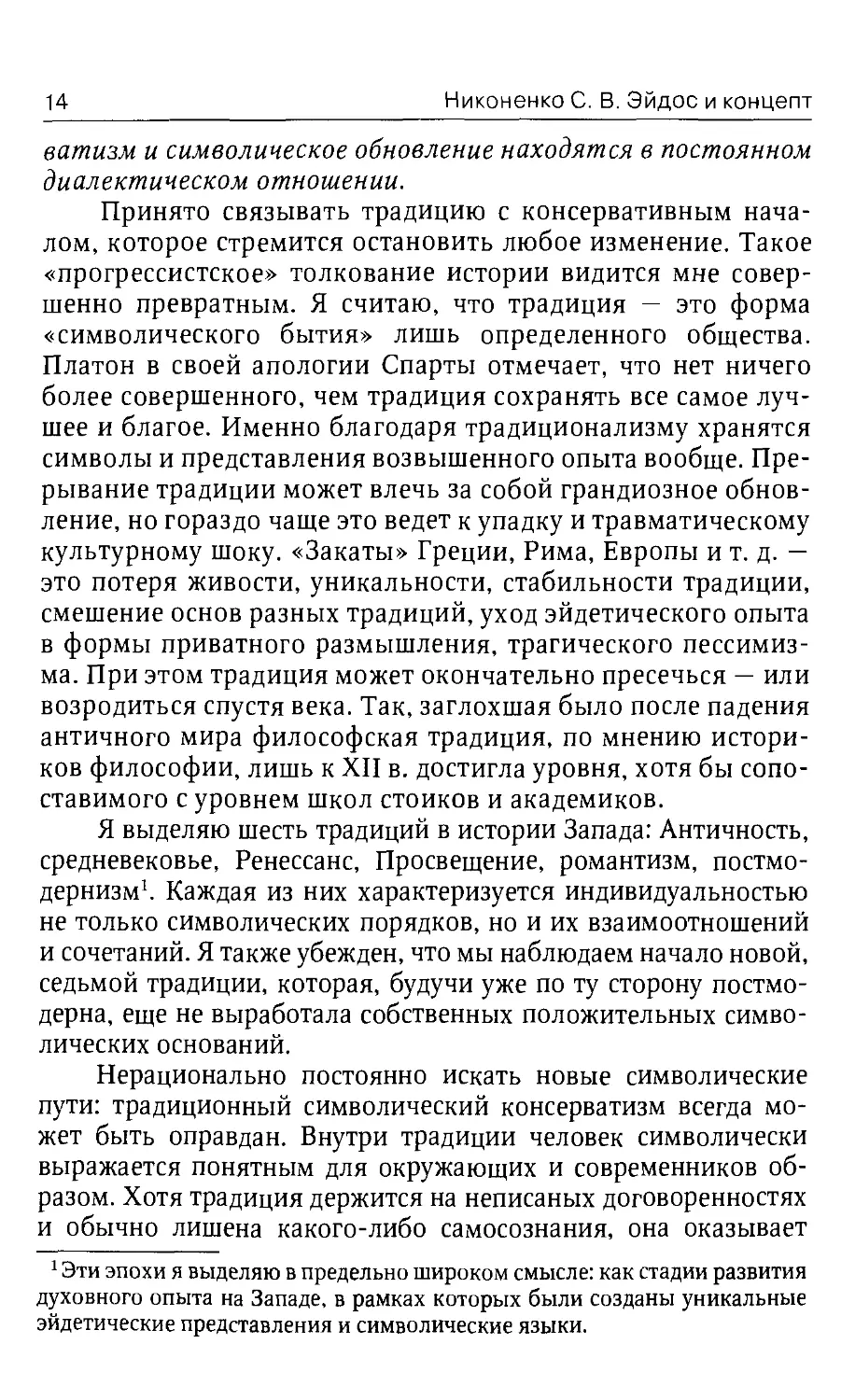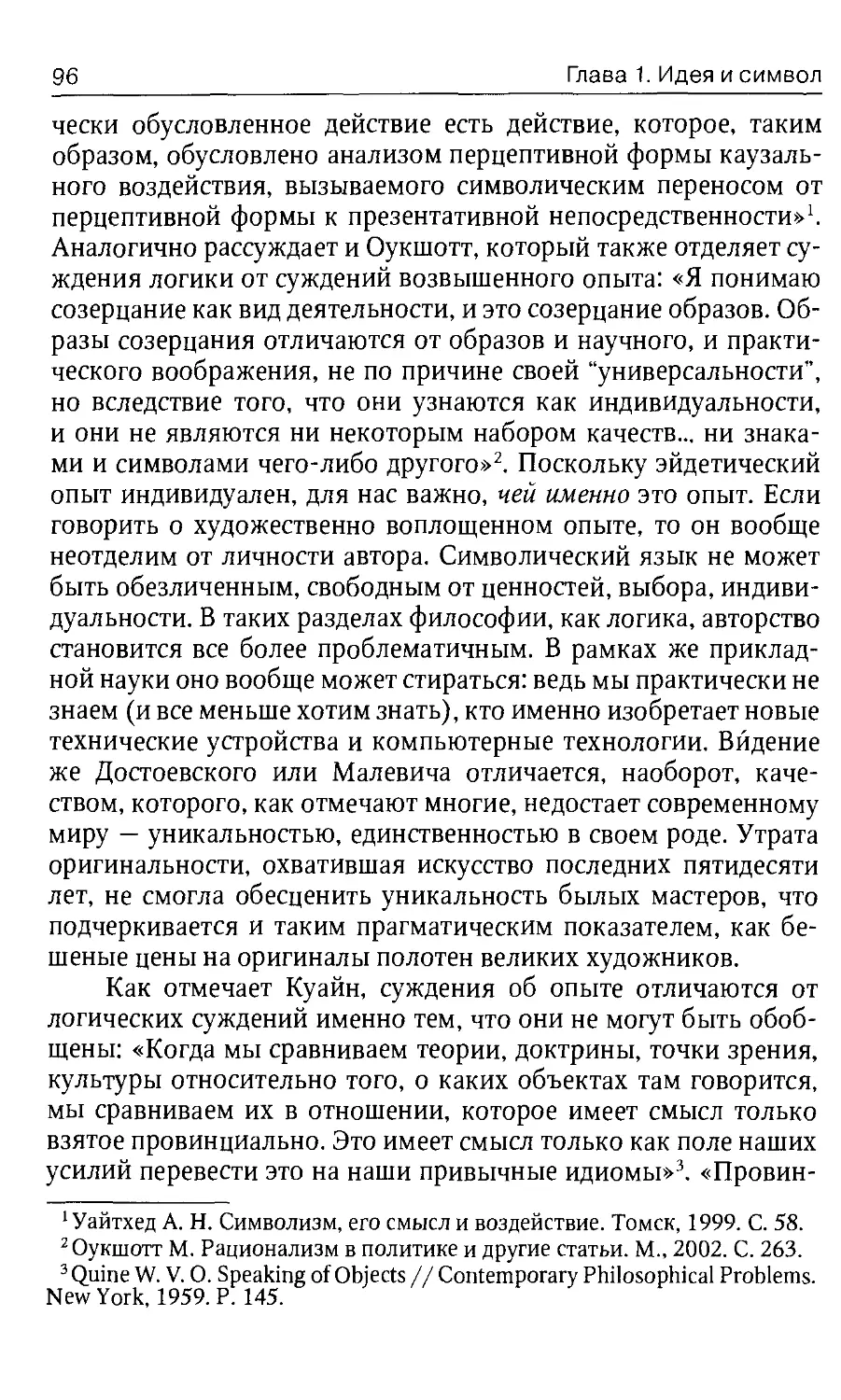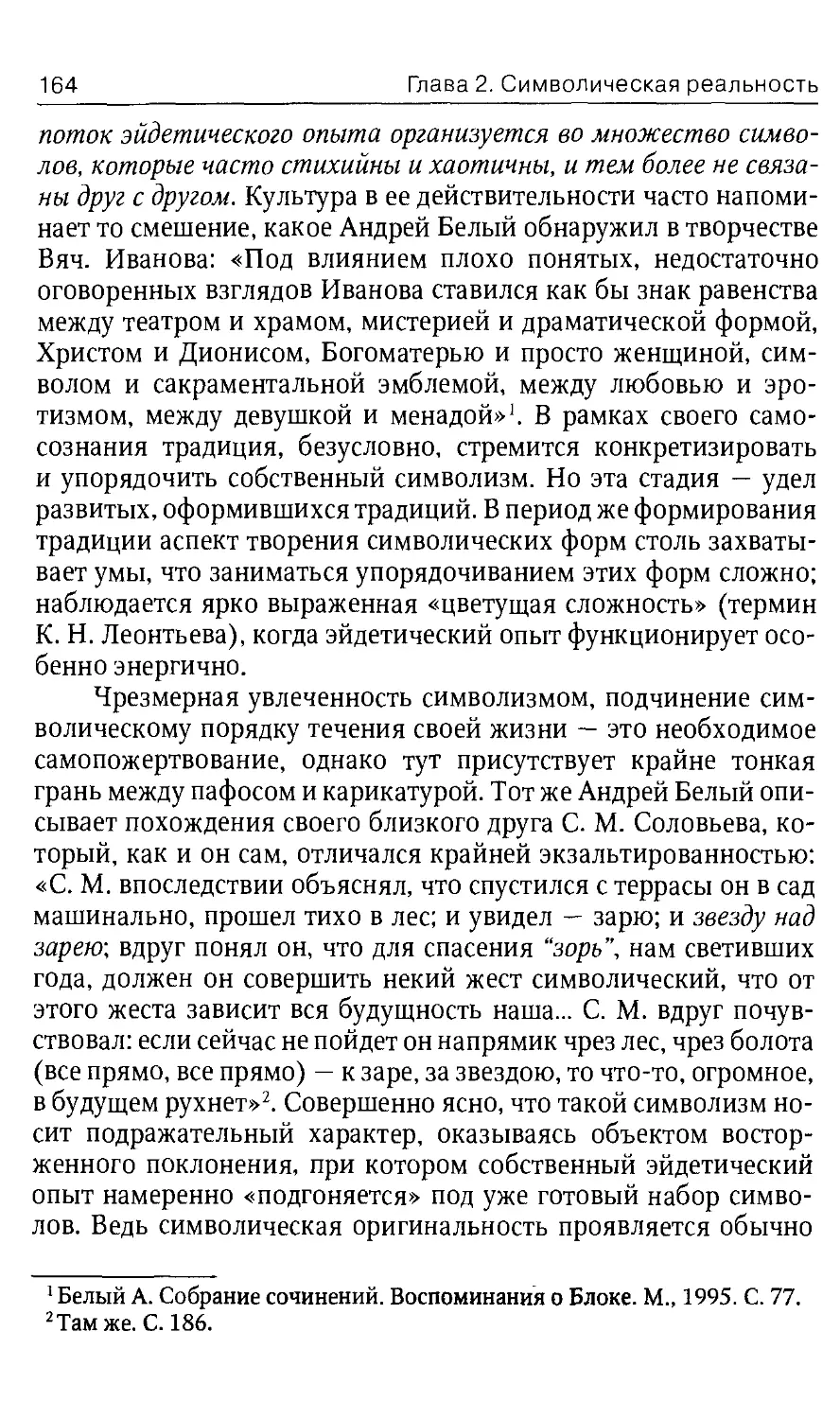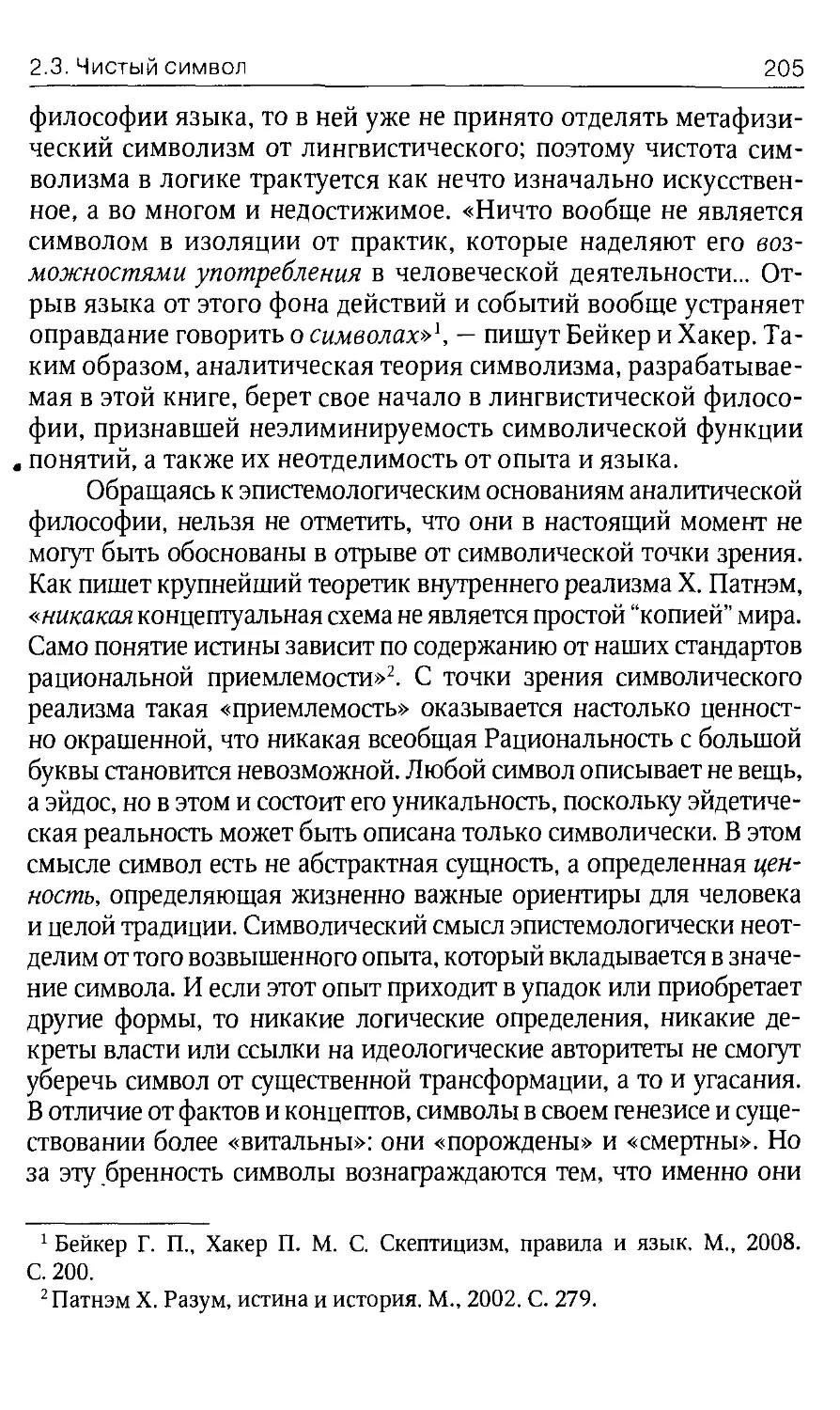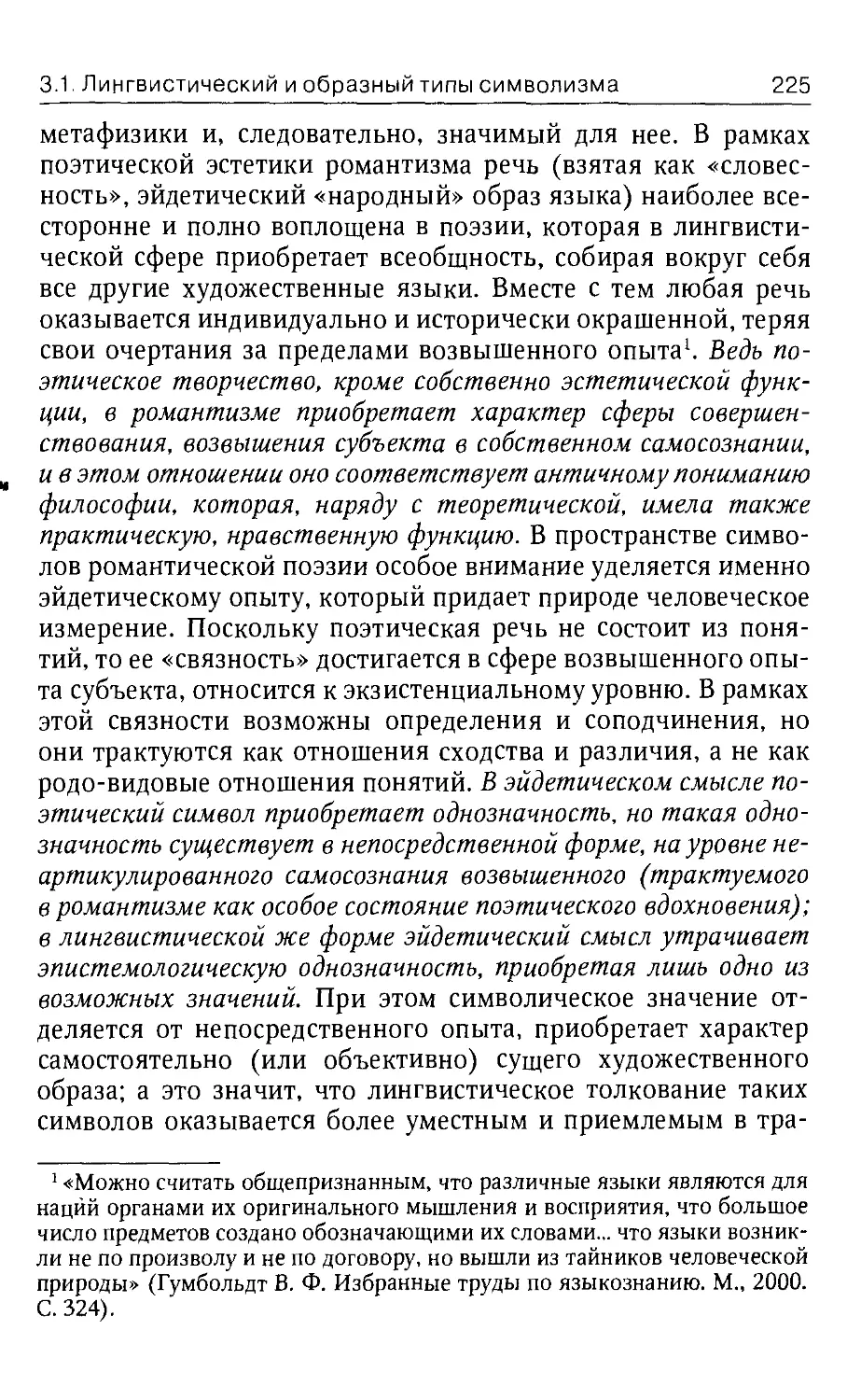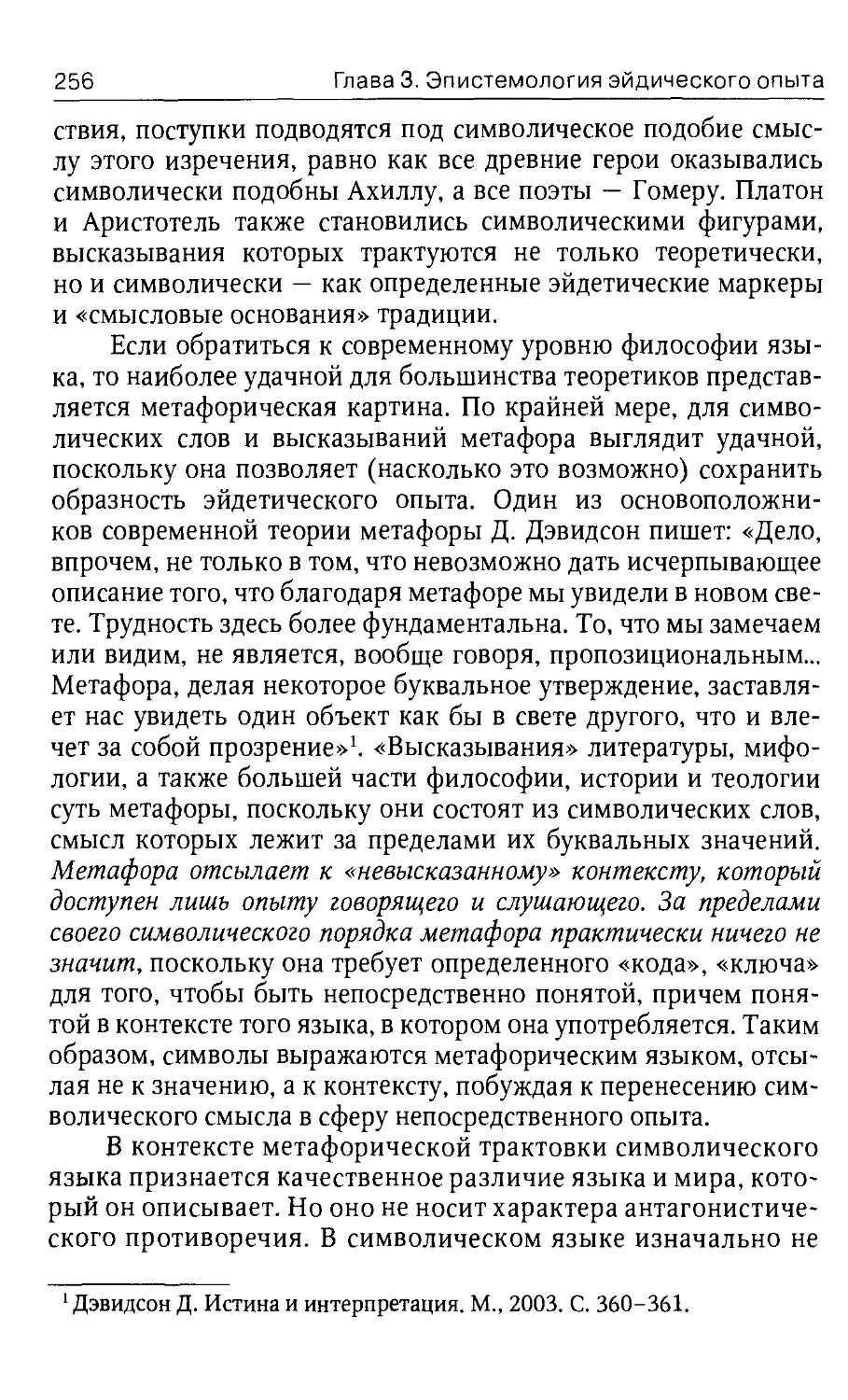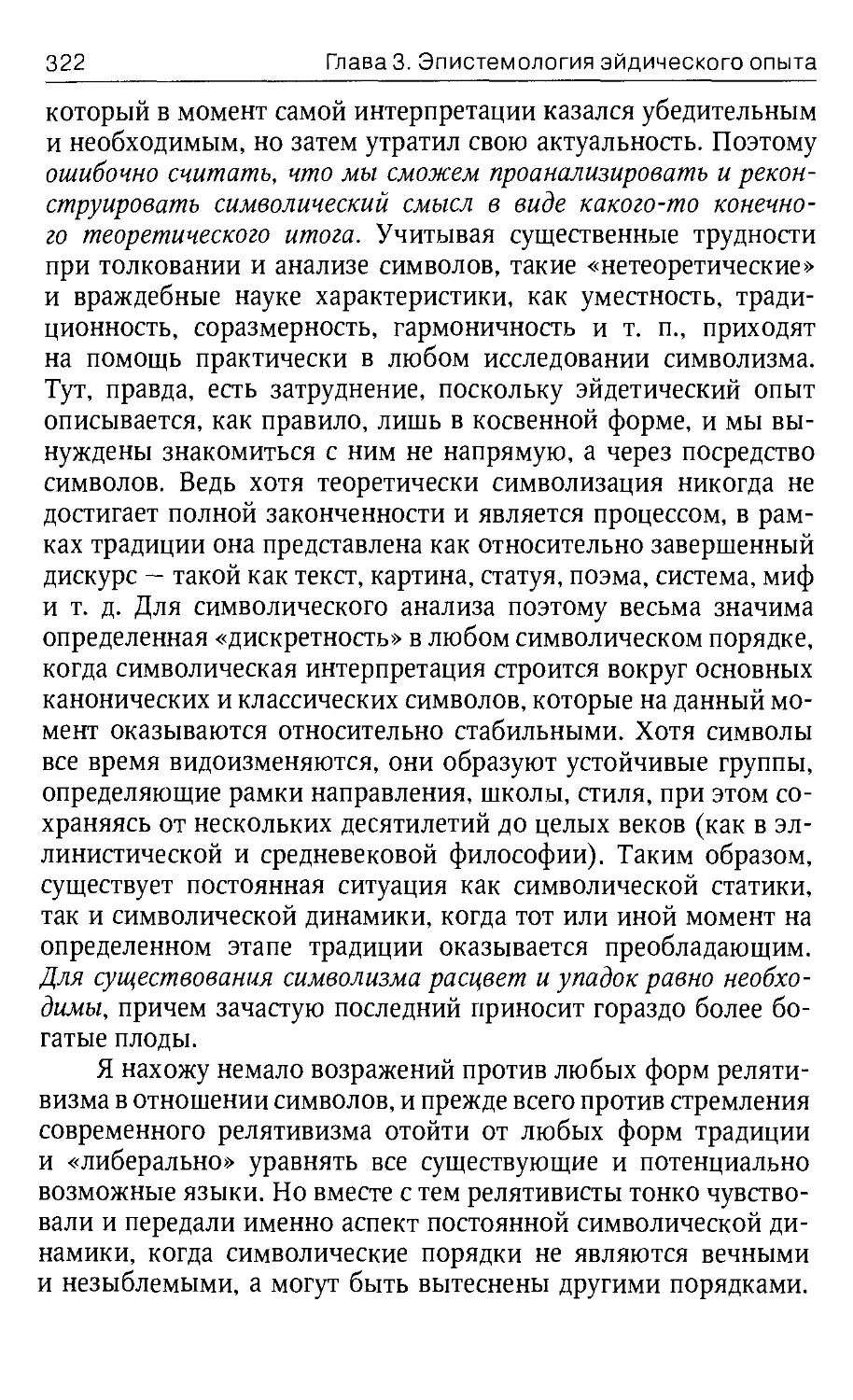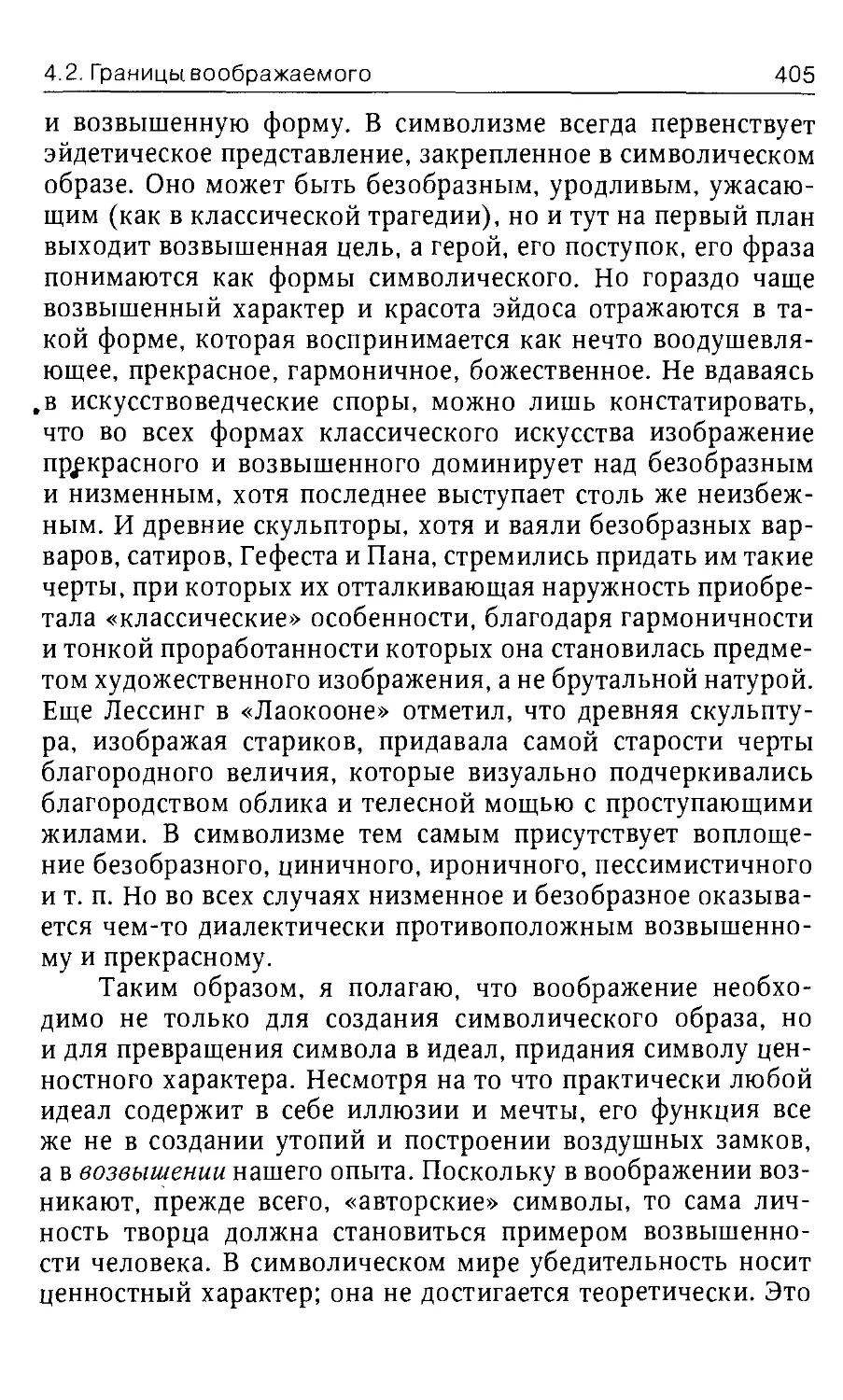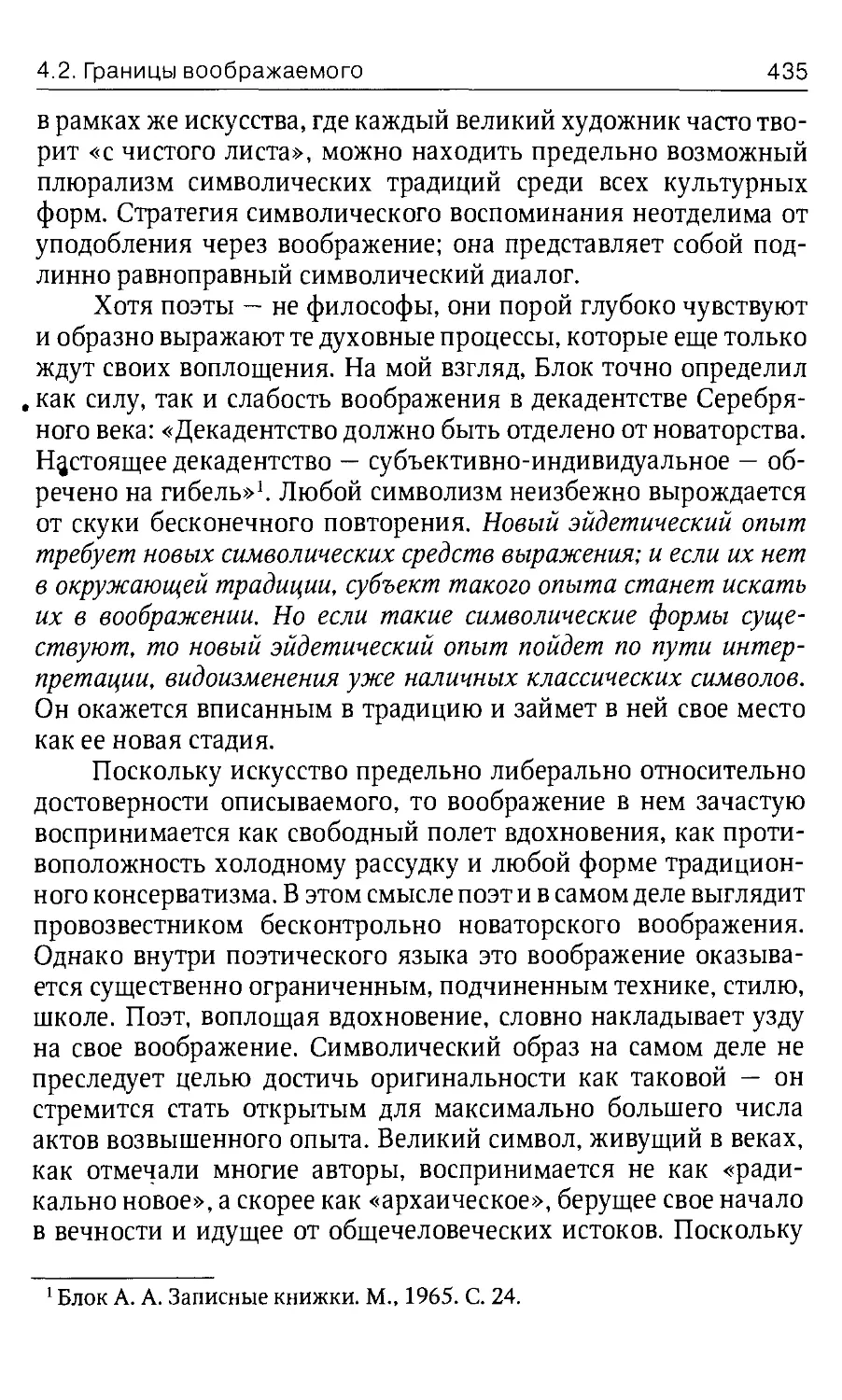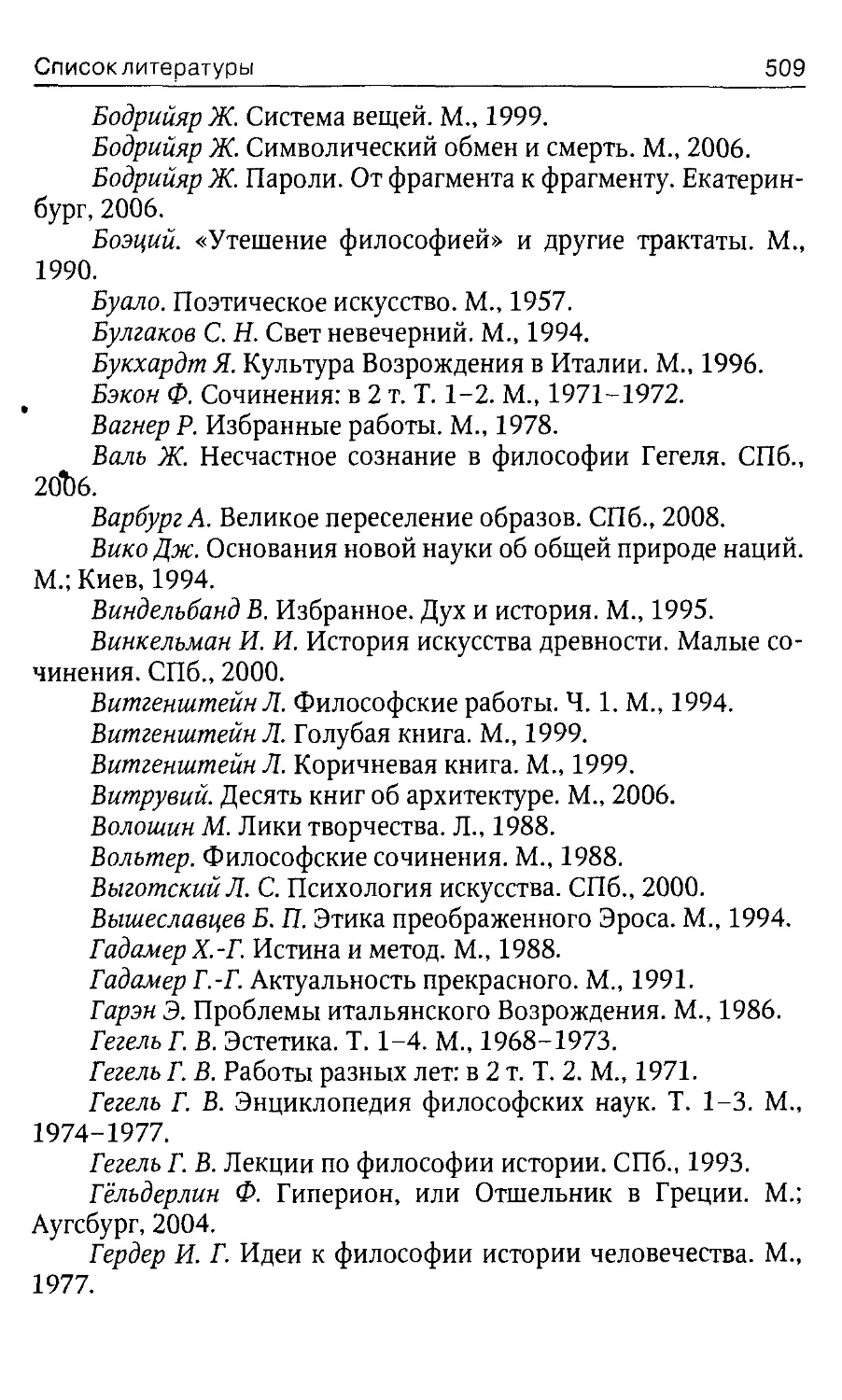Author: Никоненко С.В.
Tags: философия психология история философии культурология
ISBN: 978-5-88812-872-5
Year: 2017
Text
Кк «V С. В. Никоненко
ЭЙД о с
и
КОНЦЕПТ
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
СИМВОЛИЗМА В МЕТАФИЗИКЕ,
ИСТОРИИ, ИСКУССТВЕ
Никонерко Сергей Витальевич (р. 1971) доктор фило-
софских наук, профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Автор монографий: «Англий-
ская философия XX века» (СПб., 2003), «Аналитическая
философия. Основные концепции» (СПб.. 2007), «Со-
временная западная философия» (СПб.. 2007), «Реаль-
ность, символы и анализ. Философия по ту сторону пост-
модернизма» (СПб.. 2012).
НДДАТЕЛЬСТНО Г'Х! Л
М17
С. В. Никоненко
ЭЙДОС И КОНЦЕПТ
Эпистемологические основания символизма
в метафизике, истории, искусстве
Санкт-Петербург
Издательство РХГА
2017
УДК1
ББК 87.3
Н64
Никоненко С. В.
Н64 Эйдос и концепт. Эпистемологические основания симво-
лизма в метафизике, истории, искусстве. — СПб.: Изда-
тельство РХГА, 2017. — 522 с.
ISBN 978-5-88812-872-5
Монография доктора философских наук, профессора Санкт-Петербург-
ского университета Никоненко С. В. посвящена эпистемологическому иссле-
дованию символизма в философии, истории и искусстве. Представлена теория
эйдетического опыта как способности познания, лежащей в основе символизма.
В книге проводится исследование практически всех размышлений клас-
сиков философии о символизме: от Античности до наших дней. В книге также
изучаются эйдетические представления великих деятелей искусства: поэтов,
писателей, художников, архитекторов. В монографии показывается, что сим-
волизм и концептуализм имеют разные источники. Понятия суть порож-
дения рациональности, тогда как символы суть порождения возвышенного,
или эйдетического опыта. Устанавливается, что современные представления
о символизме — это идеалистические представления, сложившиеся в эпоху
романтизма. Они подвергаются подробному изучению и критике.
Автор показывает следующие положения: символы не имеют ничего обще-
го с концептами; они коренятся в собственной сфере сознания; они не
преследуют познавательных целей; человечество живет в рамках плюра-
лизма символических традиций; древнегреческий символизм был великой,
но вовсе не основополагающей традицией; символы существуют в соб-
ственном пространстве и времени, где правит интерпретация; символы
представляют собой формы выражения особого, эйдетического смысла;
символы творятся в таком опыте, который никак не может быть назван
«опытом» в любом эмпирическом смысле этого понятия.
В монографии исследуются взаимоотношения между символом, эйдосом и
возвышенным опытом, а также причины зарождения, видоизменения и
забвения символов. При этом символическое время, в конечном итоге, ле-
жит в основе истории и определяет все культурные трансформации. В книге,
написанной с позиций аналитической философии, показывается, что крите-
рии опыта относительно символов всегда первичны по отношению к кри-
териям языка. В качестве фундаментальной проблемы эпистемологии
гуманитарных наук автор выводит необходимость реконструкции не только
языка, но и эйдетического опыта, стоящего за тем или иным символом.
Для философов, культурологов, историков, искусствоведов, литературове-
дов, всех интересующихся проблемами эпистемологии, онтологии и культуры.
УДК1
ББК 87.3
В оформлении обложки использована картина
В. Д. Поленова «Античный пейзаж» (1906)
ISBN 978-5-88812-872-5
© С. В. Никоненко, 2017
© Издательство РХГА, 2017
Содержание
Введение........................................5
ГЛАВА 1. ИДЕЯ И СИМВОЛ
1.1. Концептуализм и символизм...............21
1.2. Символ как форма познания...............63
1.3. Знакисимвол............................101
Глава 2. СИМВОЛИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
2.1. Символ и вещь..........................115
2.2. Порядки символов.......................143
2.3. Чистыйсимвол...........................173
Глава 3. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ЭЙДЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА
3.1. Лингвистический и образный типы символизма.215
3.2. О неполноте значения символа...........267
3.3. Символический анализ...................293
Глава 4. ЭЙДЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК ИСТОРИЯ
4.1. Природа классического..................339
4.2. Границы воображаемого..................387
4.3. Жизньисмертьсимволов...................437
Список литературы.................................507
Summary...........................................520
ВВЕДЕНИЕ
Мы еще довольно далеки от понимания подлинной при-
роды символов. Символы крайне трудноопределимы как
в отношении их познавательной функции, так и в отноше-
нии той роли, которую они играют в культуре. К тому же
символы веками трактовались либо по аналогии с понятия-
ми, либо по аналогии с аллегорическими образами. Одним
словом, символы довольно непросто изучать теоретически:
ведь они всегда ценности, обобщения того или иного опыта.
В этой работе я пытаюсь в ходе эпистемологического иссле-
дования символов ответить на вопросы о сущности символа
и его месте в культуре. Я убежден, что символизм и концеп-
туализм следует трансцендентально разграничить, хотя бы
потому, что их источники в человеческой природе различны.
Несмотря на причудливый и порой совершенно запутанный
симбиоз символов и понятий, существует четкий критерий
их разграничения: понятия суть порождения рационально-
сти, тогда как символы суть порождения возвышенного, или
эйдетического, опыта.
При всех многочисленных экскурсах в метафизику, исто-
рию и искусство, эта книга — сочинение в области эпистемо-
логии, а не культурологии или истории философии. Я ставлю
задачу выяснить природу символа и генезис символических
форм, обосновать возникновение, функционирование и ин-
терпретацию символов, прежде всего, с точки зрения опыта,
а не языка. Символ — это всегда нечто качественно иное, чем
6
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
концепт, — но что именно? В чем его инаковость, в чем его
своеобразие? Ответы я нахожу только в эпистемологии.
Теория символизма — это часть философии, в которой
я вижу наибольшее число пробелов и неизученных обла-
стей1. Основоположник теоретического изучения симво-
лизма, Кант, связывает его с эстетической сферой и впер-
вые выделяет «способность суждения», которая позволяет
человеку познавать и продуцировать прекрасное и возвы-
шенное. Он помещает способность суждения в промежуток
между чувственностью и рассудком, дополняя таким образом
свое учение о чистом и практическом разуме. Одновремен-
но Кант ставит фундаментальную теоретическую проблему:
почему способность суждения нельзя трактовать ни как фор-
му эмпирического, ни как форму рационального познания?
Романтическая философия развивает идеи Канта в духе по-
следовательного идеализма. Символизм здесь оказывается
необходимым условием возникновения любой формы куль-
туры и теоретически выделяется в особую сферу, в которой
присутствуют собственные законы; при этом он рассматри-
вается как «стадия» в развитии идеи. От Канта до Кассирера
символизм интерпретируется исключительно с точки зрения
концептуализма: символы трактуются либо как особые по-
нятия, либо как предварительные, подготовительные ста-
дии генезиса понятий. Единственно возможной оппозицией
идеалистическому символизму выступали учения, которые
сводили символизм к иррациональным основаниям, связы-
вая символы с такими началами, как воля, бессознательное,
жизнь.
Таким образом, современные представления о симво-
лизме в целом — это идеалистические представления, сло-
жившиеся в эпоху романтизма, в рамках которых символы
присущи определенной сфере бытия, входят в те или иные
устойчивые символические порядки, связываются с деятель-
ностью гения, с жизнью народа. Символы в этой филосо-
фии — эстетические формы духа в его неуклонном развитии.
Но, несмотря на привлекательность романтической теории
1 Здесь и далее (кроме специально оговоренных случаев) имеется в виду
символизм вообще как философское понятие, а не символизм как течение
в литературе и искусстве.
Ведение.
7
символизма, я склонен считать ее во многом ошибочной. На-
пример, я не верю, что вся человеческая цивилизация имеет
исток в «великой Элладе»; я не полагаю, что даже родствен-
ные порядки символизма (например, художественные, ре-
лигиозные и др.) имеют общую природу; я не верю в суще-
ствование гениев как провозвестников божественного; я не
считаю, что символы рождаются и умирают; и, наконец, я не
вижу теоретической перспективы рассматривать символы
как формы или стадии генезиса концептов. Я доказываю,
что символы не имеют ничего общего с концептами; что они
коренятся в собственной сфере сознания; что символы не
преследуют познавательных целей; что человечество живет
в рамках плюрализма символических традиций; что древне-
греческий символизм был великой, но вовсе не основопола-
гающей традицией; что символы существуют в собственном
пространстве и времени, где доминирует интерпретация; что
символы представляют собой формы выражения особого,
эйдетического смысла; наконец, что символы творятся в та-
ком опыте, который никак не может быть назван «опытом»
в любом эмпирическом значении этого понятия.
В отличие от концепта, символ всегда уклоняется от одно-
значного определения. Но все-таки я рискну предельно общо
выразить смысл того, что я понимаю под словом «символ».
Символ — это языковое представление эйдетического образа,
которое выступает всеобщностью для определенных актов
возвышенного опыта, но при этом сохраняет индивидуальный
характер, поскольку сотворено с помощью творческого акта.
Символический смысл всегда метафоричен, причем языковое
выражение символа строится так, что эйдетический смысл
непосредственно дан уже в самом символе, а не определяет-
ся как нечто дополнительное по отношению к нему. Значение
символа постепенно «раскрывается» в историческом времени
и может видоизменяться в зависимости от различных интер-
претаций. Я также полагаю, что символическое само по себе
не является «альтернативой» рациональному, играя в куль-
туре иные роли. Символическое «альтернативно» концепту-
альному лишь с точки зрения академического мнения о при-
мате рационального, концептуального над всем прочим, как
в человеческой природе, так и в культуре в целом. На мой же
8
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
взгляд, любые концептуальные методологии следует приме-
нять к исследованию символов очень осторожно. Например,
аналитический подход, позволяющий выделять и определять
отдельные символы, вполне допустим, но не следует при этом
забывать, что никакой символ не существует в отрыве от тра-
диции и связи со многими другими символами. Как специ-
алист в области аналитической философии, исследовавший
эту традицию долгие годы, я пытаюсь установить, почему все
эпистемологические, логические, метафизические понятия
в сфере символизма приобретают специфические, порой су-
щественно иные «символические» значения. В свою очередь,
символический анализ требует и собственных категорий,
которые с точки зрения логики обычно трактуются как цен-
ностные, субъективные, нестрогие и т. д.
Среди всех классических теорий символизма особое
место занимает теория символических форм Эрнста Касси-
рера. На мой взгляд, Кассирер окончательно закрепил в фи-
лософском сознании убеждение, что символы нельзя иссле-
довать по аналогии с понятиями. Он также доказывал, что
практически в любой культуре символизм не является мо-
нолитным, а выстраивается вокруг нескольких символиче-
ских форм. В этой книге я использую родственный термин
«символические порядки», но понимаю его совсем иначе,
нежели Кассирер. Хотя можно доказать, что в любой разви-
той традиции возникают относительно стабильные и струк-
турированные символические порядки, я остаюсь плюрали-
стом в вопросе об их «сущности». В отличие от Кассирера,
который видел в языке, религии, мифе, науке, философии,
искусстве вечно сущие культурные формы, я полагаю, что
каждая традиция понимает эти формы по-своему и по-сво-
ему выстраивает приоритеты и взаимоотношения между
ними. Мало того, я доказываю, что в каждой традиции при-
сутствует неравномерное развитие символических поряд-
ков: некоторые из них могут и вовсе не сформироваться или
же оказаться крайне незначительными в рассматриваемой
культуре.
Обычно философию связывают с концептами, а поэзию
с символами. Платон хочет изгнать из своего государства
практически всех поэтов и художников, оставив лишь патри-
Ведение
9
отические и религиозные песнопения. Хайдеггер, напротив,
стремится поместить «поэтическое» в саму суть философии,
доказывая, что этим началом философия обладает в своих
истоках. Однако неверно как изгонять поэтов, так и созда-
вать поэтический миф. Поэт — это художник: он ничего не
доказывает, а только демонстрирует. Великая поэзия всегда
эйдетическая; поэтическое слово есть эйдетическая мета-
фора, когда лексический, образно-языковой и смысловой
компоненты синкретичны, неотделимы друг от друга. Поэт
ничего не «познает» в привычном смысле слова: он творит
символы, а не концепты. О поэтическом образе всегда судят
с позиции правдивости, совершенства, гармонии, красоты,
возвышенности. Однако из таких свойств поэтического сим-
волизма на самом деле не следует, что поэзия — это альтер-
натива философии.
Я предлагаю эпистемологию символизма с эмпириче-
ских позиций: любой символ вызывается к жизни определен-
ным опытом. Опыт также необходим и для понимания сим-
волов, поскольку для нас актуален только тот символизм,
которому мы готовы сопереживать. При этом я особо огова-
риваю статус того опыта, который функционирует в области
символизма. Уже у Платона и Аристотеля можно обнару-
жить фрагменты, в которых доказывается, что для понима-
ния сути нравственности, искусства и философии требуется
не обыденный чувственный опыт, а некий иной — развитый
или возвышенный. К примеру, неравнозначны два процесса
созерцания: обычное визуальное восприятие картины и ее
же восприятие в возвышенном опыте. Последнее направлено
не на визуальный, а на эйдетический образ. Концепт «возвы-
шенный опыт», предложенный Франком Анкерсмитом, мне
представляется удачным, поскольку подытоживает исследо-
вания этического и эстетического опыта, начиная с Канта.
Этот опыт назван «возвышенным» неслучайно: «возвышен-
ность» тут понимается романтически, как возвышенность
духа. Несмотря на частое употребление понятия «возвышен-
ный опыт», я стремлюсь преодолеть ту эстетическую, исто-
рическую и политическую ограниченность, которая присуща
системе Анкерсмита. Поэтому я понимаю под эйдетическим
опытом деятельность сознания, которая позволяет пред-
10
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
ставлятъ эйдос в непосредственной форме, то есть как совер-
шенный, прекрасный и возвышенный образ.
Символы многозначны, а символическое значение ни-
когда не может быть строгим. Если под «смыслом» символа
понимать всю возможную полноту эйдетического смысла,
то никакое значение символа не может совпадать с его смыс-
лом. Значение символа — это не обозначение области бытия,
а исторически изменчивое каноническое толкование, прием-
лемое лишь в этот момент и лишь в этой традиции. Одна-
ко нестрогость символического значения, которая кажется
недостатком для логики и рационалистической метафизи-
ки, позволяет символу быть открытым для трансформаций
и новых интерпретаций. Символ существует в традиции
в нормальном и естественном состоянии, когда возника-
ет гармоничный баланс между классическим постоянством
и свободой новых трактовок.
Значительное внимание уделяют мыслители разных эпох
проблеме сохранения и консервации символизма. На мой взгляд,
любой символ, отвечающий всесторонне и гармонично на за-
просы опыта, становится классическим в силу собственной эй-
детической глубины. Однако любая традиция практикует и ис-
кусственные методы хранения символизма, такие как отсылка
к преданию, мифу, откровению, авторитету, формирование иде-
ологии, создание институтов цензуры, общественного мнения,
различных авторитетных культурных учреждений и т. д. В этих
случаях классическое вырождается в ложноклассическое. Бла-
годаря искусственной поддержке символ может сохраняться,
приобретая определенную независимость от непосредственного
опыта. При этом символизм прошлой эпохи никогда не исче-
зает бесследно, а остается в виде интерпретированного симво-
лического прошлого, которое «задевает» наш опыт, порождая
устойчивые символические диспозиции. Тем не менее любые
попытки идеологического изменения символизма обречены на
провал, хотя и кажутся возможными как грандиозный социаль-
ный эксперимент по радикальному изменению или консервации
менталитета. Символизм может измениться и без приложения
внешних усилий, поскольку единственным подлинным мотивом
его трансформации выступает несоответствие содержания воз-
вышенного опыта символам традиции.
Ведение
11
Любая эпистемология восходит к онтологии, так как
все, что воспринимается, обладает референцией к миру за
пределами восприятия. Поскольку я называю возвышенный
опыт эйдетическим, то он обретает себя в эйдосе. Эйдос я по-
нимаю как прекрасную, возвышенную и совершенную форму.
Это представление об эйдосе соответствует идеям Платона,
Шеллинга и Лосева. Существенных отличий два. Первое за-
ключается в том, что я признаю за эйдосами только культур-
ное бытие', они не существуют как «мировые» сущности, как
некий изначально сущий «мир». Второе отличие: я трактую
эйдосы как изменчивые формы. Каждый модус эйдетическо-
го совершенства закончен в себе и застывает в неподвижно-
сти, но возможно различное совершенство одного и того же.
К примеру, пластическое совершенство женской красоты су-
ществует в нескольких эйдетических формах, но каждая из
них индивидуальна и завершена. Тем самым, вопреки иде-
алистической традиции толкования эйдоса, я придержива-
юсь реалистического учения, согласно которому эйдетиче-
ские представления существенно зависят от характера опыта
и традиции. Вероятно, эйдетические трансформации — са-
мые медленные изменения в человеческом мире, но они все
равно присутствуют. Ни о какой всеобщей эйдетике, на мой
взгляд, говорить не приходится.
Характерными особенностями эйдоса являются его
образность, целостность, простота. Философия, история
и искусствоведение наших дней слишком озабочены стрем-
лением к герменевтической расшифровке, желанием видеть
в эйдосе изначальную потаенность. Однако неисчерпаемость
и многозначность эйдетического смысла никак не конфлик-
тует с его простотой. Так, рассуждая о греческом искусстве,
Шеллинг отметил, что античные образы просты по форме,
но бесконечно разнообразны по содержанию и возможности
истолкования. Эйдетический смысл, будучи выражен через
символ, требует непосредственного воплощения, со-участия
человека, которое реализуется в постижении, уподоблении
и интерпретации.
Поскольку эйдос может быть выражен символически,
он наиболее явственен в искусстве, где образная и словес-
ная наглядность — неотъемлемое условие передачи смысла.
12
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
Вот лишь один пример: Раскольников Достоевского живет
и действует в Петербурге; хотя он, как персонаж, вымыш-
лен, он символически реален как типический образ. Образ
Раскольникова возникает в сознании писателя, но, художе-
ственно оформленный, оказывается самостоятельной и объ-
ективной сущностью. В этом смысле сам Раскольников есть
символическая личность: это не персона (в смысле живого
человека), но и не идея. Это художественный эйдетический
образ, смысл которого дан непосредственно для возвышен-
ного опыта автора и читателя. При этом литературный
герой как личность может символизировать гораздо более
абстрактный тип, находящийся уже на грани возможностей
представления вообще. Например, Онегин и Печорин — это
конкретные герои, тогда как «лишний человек» или «герой
нашего времени» — это предельная эйдетическая грандиоз-
ность, высшая степень эйдетической обобщенности, кото-
рая не всегда выразима даже при гениальном владении ху-
дожественным словом.
Поскольку эйдетический образ воспринимается непосред-
ственно, он не требует обязательного перевода на язык кон-
цептов или фактических представлений. Не следует «разъяс-
нять» эйдетические образы мифа, легенды, предания, эпоса,
поэзии, поскольку они «понятны всем» (тем, разумеется, кто
обладает таким опытом и живет в этой традиции). К приме-
ру, в древней аттической комедии Дионис не является в гла-
зах публики того времени «актером, играющим Диониса».
Актер и его персонаж приобретают полную тождественность.
Миф не знает разницы между образом бога самого по себе
и образом представления бога в народном сознании. Мы вла-
деем только тем или иным толкованием эйдетического обра-
за, но сам по себе этот образ, возникнув однажды, остается
в собственной неподвижности, пребывая вечно совершен-
ным, вечно застывшим, как улыбка Джоконды. Тем не менее
за пределами эйдетической метафизики такое совершенство
мало что значит. Здесь видится предельная возвышенность
нашей души, которую можно выразить лишь частично.
В практике культуры эйдосы понимаются через разнообраз-
ные символические интерпретации. При этом эйдетический
смысл настолько явлен, насколько гармонично соотносятся
Ведение
13
между собой эйдос, символ и акт возвышенного опыта. В та-
кие моменты полной неразличимости человеку может ка-
заться, что он сотворил или обрел божественное, абсолютное
совершенство.
Эйдос — это культурно объективный феномен, который
невозможен без человека. Но творение символов обычно
уходит в область предания, мифа, глубин народного духа,
приписывается непостижимости гения и т. п. Момент творе-
ния эйдетических представлений всегда деперсонализируется,
отделяется от субъективности, становится интерсубъек-
тивным и рано или поздно начинает трактоваться мифологи-
чески, теургически, приобретая трансцендентные источники
* своего происхождения. Эпистемологический механизм такого
культурного феномена, на мой взгляд, коренится в глубин-
ной потребности нашего опыта делать предмет представле-
ния автономным от непосредственности этого представле-
ния, что и порождает иллюзию.
В метафизическом представлении каждый эйдос имеет соб-
ственную сущность, следовательно, может быть представлен че-
рез один и только один символ. Я вывожу иную эпистемологию,
согласно которой символ выступает лишь образно-языковой
моделью закрепления эйдетического опыта и является лишь од-
ним из возможных способов определения эйдоса.
Любой символ не может рассматриваться в отрыве от
традиции, под которой я здесь понимаю сложную и неодно-
родную культурную форму, представляющую конгломерат
символических порядков, объединенных местом и време-
нем. Хотя каждый порядок в традиции индивидуален, они
все присущи одному и тому же «типическому» человеку,
одной и той же эпохе; поэтому их связывает родство и общ-
ность. При этом я трактую традицию исключительно как
символическое образование, которое в логическом смыс-
ле объединяет символы в довольно аморфное множество.
Традиция властвует над человеком, но не как форма сим-
волической общности, а как форма культурной практики,
определяющей тот или иной «троп» эйдетического опыта
человека. В этом смысле традиция — основополагающая
структура, которая консервирует, закрепляет символы, фор-
мирует человеческое мировоззрение. Традиционный консер-
14
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
ватизм и символическое обновление находятся в постоянном
диалектическом отношении.
Принято связывать традицию с консервативным нача-
лом, которое стремится остановить любое изменение. Такое
«прогрессистское» толкование истории видится мне совер-
шенно превратным. Я считаю, что традиция — это форма
«символического бытия» лишь определенного общества.
Платон в своей апологии Спарты отмечает, что нет ничего
более совершенного, чем традиция сохранять все самое луч-
шее и благое. Именно благодаря традиционализму хранятся
символы и представления возвышенного опыта вообще. Пре-
рывание традиции может влечь за собой грандиозное обнов-
ление, но гораздо чаще это ведет к упадку и травматическому
культурному шоку. «Закаты» Греции, Рима, Европы и т. д. —
это потеря живости, уникальности, стабильности традиции,
смешение основ разных традиций, уход эйдетического опыта
в формы приватного размышления, трагического пессимиз-
ма. При этом традиция может окончательно пресечься — или
возродиться спустя века. Так, заглохшая было после падения
античного мира философская традиция, по мнению истори-
ков философии, лишь к XII в. достигла уровня, хотя бы сопо-
ставимого с уровнем школ стоиков и академиков.
Я выделяю шесть традиций в истории Запада: Античность,
средневековье, Ренессанс, Просвещение, романтизм, постмо-
дернизм1. Каждая из них характеризуется индивидуальностью
не только символических порядков, но и их взаимоотношений
и сочетаний. Я также убежден, что мы наблюдаем начало новой,
седьмой традиции, которая, будучи уже по ту сторону постмо-
дерна, еще не выработала собственных положительных симво-
лических оснований.
Нерационально постоянно искать новые символические
пути: традиционный символический консерватизм всегда мо-
жет быть оправдан. Внутри традиции человек символически
выражается понятным для окружающих и современников об-
разом. Хотя традиция держится на неписаных договоренностях
и обычно лишена какого-либо самосознания, она оказывает
1 Эти эпохи я выделяю в предельно широком смысле: как стадии развития
духовного опыта на Западе, в рамках которых были созданы уникальные
эйдетические представления и символические языки.
Ведение
15
влияние на все символические представления. Мало того, при
обращении к традиции многие представления могут быть по-
няты лишь с позиций того особого менталитета, присущего ее
представителям. Традиция образует «символический мир» — со-
вокупность родственных символов, объединенных схожими эйде-
тическими представлениями.
В своем исследовании я обращаюсь к романтической
рецепции античности, которая представляет собой класси-
ческий пример символического диалога. Фундаментальная
теоретическая задача, которую выдвинули Лессинг и Вин-
кельман, заключается в понимании греческого символиз-
, ма с точки зрения самих греков. В результате возникло два
дискурса интерпретации, понимание которых чрезвычайно
значимо для постижения практически всех культурных про-
цессов последних двух веков. Во-первых, в романтизме сло-
жилось представление о всеобщей духовной истории, исто-
ком которой была древнегреческая цивилизация. Во-вторых,
появился «поэтический миф», согласно которому только гре-
ки были близки к подлинной сути бытия; поэтому романти-
ческий поэтический опыт приобрел характерные черты но-
стальгии, стремления воссоздать утраченную Грецию и в той
или иной мере духовно вернуться к ней.
Исследовав романтические интерпретации античности,
я прихожу к выводу, что, несмотря на попытки — от Нова-
лиса до Хайдеггера — возродить греческий символизм, этот
проект потерпел неудачу. Романтизм оказался не возрожде-
нием, а постепенной гибелью Греции в модерне, хотя эта ги-
бель приобретает возвышенные черты. Можно ли считать
эллинский мир «началом» духовной истории? Я отвечаю
отрицательно: греческое познание телесно, наглядно, образ-
но, а не отвлеченно, не погружено в «Я». Вопрос, существо-
вала ли вообще в Греции такая категория, как «личность»,
осознавал ли грек себя в качестве «Я», остается предметом
дискуссии. Греческий мудрец не отделяет свое мышление от
практики жизни; он не мыслит абстрактно, теоретически.
Аналогичным образом все искусства Античности не зна-
ют такого понятия, как «гений», а произведения подчас не
атрибутированы с точки зрения авторства. Символизм гре-
ков имел иные эпистемологические корни, и нам трудно по-
16
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
нять, почему греческие философы намеренно отказывались
от авторства, возводя свои учения к древним легендарным
личностям. Грек не является автором и гением, поскольку он
не «творит» символы, а «живет», «пребывает» в символизме
традиции.
Вывод: если символ оказывается вне родного символиче-
ского порядка, то он неизбежно меняет свое значение; он суще-
ствует уже в иной традиции, отвечает другому опыту. Гер-
меневтическое стремление к реконструкции исторического
символизма ценно для науки, но совершенно бесполезно
для жизни, в которой господствует принцип интерпретации
и символического приспособления к наличному эйдетиче-
скому опыту. Скрупулезный эпистемологический разбор раз-
ных интерпретаций античности привел меня к заключению,
что любая классическая символическая система может «вы-
нести» ограниченное количество переописаний, а затем по-
степенно затухает, окончательно теряя актуальность для
опыта. Каждая традиция стремится что-то помнить и что-то
забыть — но, в конце концов, забвение всесильно над любым
ностальгическим воспоминанием.
При работе с источниками стоило немалого труда, что-
бы в трудах классиков философии (а также других наук и об-
ластей культуры) вычленить фрагменты, содержащие рас-
суждения о символах. Эта работа, растянувшаяся на целых
два года, не пропала даром: я убедился, что интерес к симво-
лизму в разной степени существовал всегда. Практически все
значимые представления о символизме рассмотрены в пред-
лагаемой работе. Я убедился, что на фоне безраздельно го-
сподствующего концептуализма во все времена появлялись
авторы, которые считали, что сфера символов обладает ши-
рокой автономией. Таковы были Цицерон, Плутарх, Диоген
Лаэртский, Монтень, Ф. Бэкон, Ларошфуко, Вико, Винкель-
ман, Лессинг, Руссо, Новалис, Гёльдерлин, Шлегель, Кьерке-
гор, Ницше, Бергсон. Однако я не пытаюсь выстраивать от-
дельную символическую «историю философии», поскольку
ценные идеи я обнаружил также и у тех философов, которые
считаются последовательными концептуалистами, — таких
как Платон, Аристотель, Хрисипп, Плотин, Локк, Юм, Кант,
Шеллинг, Гегель и др. Я убежден, что «символический по-
Ведение
17
ворот», начатый романтиками, продолжается и в наши дни,
поэтому в книге рассматриваются представители всех совре-
менных школ, писавшие о символизме: Дильтей, Шпенглер,
Кассирер, Хайдеггер, Гадамер, Рикёр, Хабермас, Рассел, Уай-
тхед, Витгенштейн, Дьюи, Гудмен, Дэвидсон, Рорти, Серл,
Патнэм, Анкерсмит, Сартр, Фуко, Бодрийяр, Барт, Деррида,
Бадью, Эко и др. Здесь также представлены концепции сим-
волизма в русской мысли, созданные Белинским, Герценом,
Достоевским, Бердяевым, Шестовым, Розановым, Вяч. Ива-
новым, Андреем Белым, Блоком, Лосевым, Бахтиным и др.
Важные идеи я также почерпнул из книг историков, искус-
ствоведов, литературоведов, филологов. Привлечение про-
блем и трудов таких авторов, как Ю. М. Лотман, М. М. Бах-
тин, Ф. де Соссюр, Р. О. Якобсон, Й. Хёйзинга, Ю. В. Андреев,
Ф. Шахермайр, Г. К. Лукомский, Д. С. Лихачев, М. Ю. Гер-
ман, С. М. Даниэль, Б. М. Кириков и др., позволило насытить
исследование конкретикой, понять специфику символиче-
ской эпистемологии в разных гуманитарных дисциплинах.
В ходе работы над монографией я учитывал выводы сво-
их предыдущих трудов1. По стилю и теоретической манере
исследование примыкает к аналитической философии, раз-
вивая направление, которое я называю символическим реа-
лизмом.
Два отрывка из этой книги я опуоликовал в виде ста-
тей в рецензируемых изданиях и представил в виде докладов
в 2015 г.2 Я хочу выразить глубокую признательность Санкт-Пе-
тербургскому государственному университету и Русской хри-
стианской гуманитарной академии, предоставившим мне такую
возможность. Чрезвычайно плодотворными оказались также
1 Никоненко С. В. Английская философия XX века. СПб., Наука, 2003;
Никоненко С. В. Современная западная философия. СПб., 2007; Нико-
ненко С. В. Аналитическая философия. Основные концепции. СПб., 2007;
Никоненко С. В. Реальность символы и анализ. Философия по ту сторону
постмодернизма. СПб., 2012.
2 Генезис символического реализма // Вестник СПбГУ. Серия 17. 2015.
Выпуск 1; Понятие эйдетического опыта // XXIII Международная конфе-
ренция. Универсум Платоновской мысли: Платон и платонизм в контек-
сте современных стратегий историко-философского исследования. СПб.,
2015.
18 Никоненко С. В. Эйдос и концепт
дискуссии с моими коллегами. В разное время я обсуждал из-
ложенные здесь идеи с философами и историками, среди кото-
рых Р. В. Светлов, С. И. Дудник, Ю. М. Романенко, В. В. Савчук,
В. П. Никоноров, Т. В. Антонов, Д. Ю. Дорофеев, К. П. Шев-
цов, С. М. Левин, А. Н. Крюков, А. А. Синицын, А. В. Апыхтин,
А. В. Дьяков, Ю. С. Довженко и др. На стадии замысла, при об-
думывании идей будущей монографии, я многое вынес из бесед
с моим отцом, проф. В. С. Никоненко. Также мне помогла под-
держка родных и близких. Я исполнен чувства благодарности ко
всем, кто помог этой книге увидеть свет.
Санкт-Петербург
2016 г.
ГЛАВА 1
ИДЕЯ И СИМВОЛ
1.1. Концептуализм и символизм
Под концептуализмом я понимаю основную установку за-
падной философии, берущую начало в сочинениях Платона,
согласно которой содержание познания выражается в форме
понятий; под символизмом — широкий спектр разнообразных эй-
детических представлений, которые в виде символов, выражен-
ных в словесной или образной форме, закрепляют содержание
возвышенного опыта и часто вообще не могут быть «высказаны»
на концептуальном языке. Символизм, как я попытаюсь доказать
в этом разделе, нельзя понимать как форму концептуализма, су-
щественно зависимую от метафизики и самостоятельную только
в пределах мифологии и искусства. Метафизический идеал систе-
мы, в центре которой стоят понятия, во многом и по сей день при-
водит к существенному непониманию своеобразия и уникально-
сти символизма как формы познавательного отношения.
Характерная особенность греческого сознания — стремле-
ние во всем искать «древнее» происхождение, относить возник-
новение культурной формы к мифологическому или легендар-
ному источнику, к символическим структурам, смысл которых
дан непосредственно и обычно не концептуализирован. Так,
Диоген Лаэртский пишет: «Мусей, сын Евмолпа, первый, по
преданию, учил о происхождении богов и первый построил
шар; он учил, что все на свете рождается из Единого и разре-
шается в Едином»1. Это суждение отражает две существенные
' ’Диоген Лаэртский. I, 3.
22
Глава 1. Идея и символ
черты греческого строя мысли. Во-первых, отсутствие (даже
после Платона и Аристотеля) рационализма и логицизма как
стремления «отделить» формальное содержание понятия от
наглядных, образных представлений, что допускает значитель-
ную роль эстетического, «образного» рассмотрения тех сущно-
стей, которые в немецкой мысли трактуются как вполне «чи-
стые». Во-вторых, греки всегда уделяют внимание авторитету
богов или легендарных персонажей (Орфея, Мусея, Тесея, Ге-
ракла, Ликурга и др.), делая их «основоположниками» своих
учений. Можно допустить, что вплоть до Платона (а во многом
и после него) в греческой философии отсутствует представ-
ление идеи как чистого понятия; философское сознание посто-
янно прибегает к мифологическому и художественному опыту,
когда само понятие приобретает легендарное и эстетическое
измерение, воспринимается как телесно совершенный эйдос,
образно и словесно схватываемый символ, который зачастую
не нужно «доказывать» и «обосновывать» ввиду его непосред-
ственной убедительности. Парменидовский шар — это не по-
нятие в привычном нам смысле слова, которое можно строго
определить с точки зрения значения и референции. Шар — это
символический образ, форма эйдетического опыта, которая не
ставит целью быть выраженной теоретически и доказанной
экспериментально. На первый план здесь выходит «эстетиче-
ская» составляющая — совершенство самой фигуры, символи-
чески переносимое на совершенство всего мироздания, как со-
творенного богами по лучшему из всех возможных замыслов.
Парменидовский шар или картина Рафаэля, на мой взгляд, не
требуют доказательств и разъяснений в смысле концептуализ-
ма: они созданы с целью отобразить гармоничное и прекрас-
ное совершенство, они обращены к непосредственной нагляд-
ности возвышенного опыта, представляя собой эйдетическую
реальность. Мы должны «проникнуться» не столько истиной,
сколько глубиной, возвышенностью, совершенством эйдоса, и
при этом не отвлеченно, а (насколько это вообще возможно)
«пережить» данное событие в собственном опыте, который
разделяется нами с «народным» сознанием, символизмом со-
временной нам традиции.
Находясь на периферии рационального познания, символ
постепенно обретает собственные формы выражения, которым
1.1. Концептуализм и символизм
23
присущи ускользание от терминологического определения, аль-
тернативность, изначальная неопределенность и загадочность,
способные интриговать и вдохновлять, равно как и отталки-
вать туманной неясностью, отсылкой к неверифицируемым су-
ждениям. Ведь долгое время символы не подвергались точной
артикуляции. Они находились в сфере религии и оккультизма;
и лишь впоследствии появилось нечто, что можно назвать сим-
волическим самосознанием. Взятый с рациональной точки зре-
ния, символизм можно трактовать как невнятную, логически не
проясненную форму выражения и языка, которая убедительна
лишь непосредственно.
Когда символ приобретает эзотерическое измерение и ста-
новится загадочным, ему, как правило, приписывают мифо-
логическое происхождение, делая тем самым невозможной
научную дискуссию. Загадочность символа — не что иное,
как абсолютизация изначальной неполноты значения, нали-
чия не полностью высказанного смысла. Этот не вошедший
в значение «остаток» ложно объявляется непостижимым, са-
крализируется, становится отвлеченным, приобретая черты
фетиша и абстрагируясь от генезиса в недрах человеческого
сознания. На мой взгляд, именно такой ложный символизм,
несовместимый с принципом реализма, имеет в виду Платон,
выступая противником мифологии и поэзии и сторонником
чистой мысли. Он пишет: «А когда им будет пятьдесят, то
те из них, кто уцелел и всячески отличился — как на деле,
так и в познаниях, — пора будет привести к окончательной
цели: заставить их устремить ввысь свой духовный взор
и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо
само по себе, взять его за образец и упорядочить и государ-
ство, и частных лиц, а также самих себя»1. Платон приводит
пример Тинниха-халкидийца, который сочинил самый из-
вестный пеан, больше не написав ничего подобного за всю
жизнь2. Это трактуется как порыв идущего от муз вдохнове-
1 Платон. Государство. 540а.
2 «Лучшее подтверждение этому — Тинних-халкидиец: он никогда не
создал ничего достойного памяти, кроме одного лишь пеана, который
все поют, — почти прекраснейшее из всех песнопений; как он сам го-
ворит, то была просто “находка Муз”». Тут, по-моему, бог яснее всего
показал нам, что мы не должны сомневаться, что не человеческие эти
24
Глава 1. Идея и символ
ния, пассивным восприемником которого и был Тинних. Тем
самым, по Платону, человек не является свободным в любой
сфере художественного опыта, слепо следуя чувственности
и будучи игрушкой в руках высших сил. Выведя идеал фило-
софа, Платон не находит в своей системе места возвышенно-
му опыту, воплощенному в искусстве, ошибочно трактуя этот
опыт как форму раскрепощенной чувственности. В представ-
лении Платона, художник должен уподобиться пророку, ко-
торый доносит божественную красоту. Поэтому Платон сету-
ет, что вдохновение, идущее от муз, лишено простого вечного
совершенства творений Орфея и Мусея: даже у Гомера уже
наблюдается недостойное увлечение суждениями о богах
и достойных мужах с позиции частного мнения, следование
побуждениям чувственности, определенная изнеженность
вследствие пристрастия к красоте формы или слога. Платон
представляет себе чисто интеллектуальное совершенство
идеи, отрываясь от «телесности», эйдетического характера
античной мысли, формируя абстрактный, отвлеченный ме-
тафизический идеал. Безусловно, не следует абсолютизиро-
вать этот аспект учения Платона, постоянно прибегающего
к доказательствам из областей мифологии, преданий и ис-
кусства, но, по крайней мере, на словах Платон действитель-
но выступает первым в истории сторонником «очищения»
метафизики от символизма и выводом последнего «на пери-
ферию» познания и культуры. Необходимость существенно-
го ограничения символизма осознавал и Аристотель, одна-
ко, в отличие от Платона, он судит изначально реалистично,
утверждая неискоренимость символизма и необходимость
отвести ему должное и подобающее его роли место: «И древ-
ние утверждают, что разуметь и ощущать — это одно и то
же, как именно Эмпедокл сказал: Мудрость у них возрастает,
лишь вещи пред ними предстанут; и в другом месте: И здесь
возникает Мысль для познания мира у них»1. При сопостав-
лении Платона и Аристотеля сложности неизбежны, но мне
прекрасные творения и не людям они принадлежат; они божествен-
ны и принадлежат богам, поэты же не что иное, как толкователи воли
богов, одержимые каждый тем богом, который им владеет» (Платон.
Ион. 534d).
1 Аристотель. Метафизика. 427а.
1.1. Концептуализм и символизм 25
Аристотель представляется в большей степени сторонником
функционализма, согласно которому любая познавательная
форма должна соответствовать своему назначению и цели.
Аристотель далек от стремления «элиминировать» симво-
лизм как форму познания, доказывая, что он не враждебный,
а во многих случаях союзный и дружественный по отноше-
нию к логике и метафизике.
В мои задачи не входит исследование сложнейших пере-
плетений школ эллинистической философии — отмечу лишь,
что она пошла скорее по аристотелевскому пути, уделяя су-
щественное внимание эйдетическому опыту и символизму
и отводя им важное место в своей системе.
Типично для поздней античности суждение Ямвлиха:
«Необходимейшим у него [Пифагора. — С. Н.] считался спо-
соб обучения через символы. Этот стиль, поскольку он был
старинной манеры, ценился едва ли не у всех эллинов и осо-
бенно почитался в самых разных формах у египтян. По той
же причине к нему чрезвычайно серьезно относился и Пифа-
гор; надо только ясно расчленить скрытые намеки и сокро-
венные значения пифагорейских символов, [чтобы понять],
как много правильного и истинного содержится в них, когда
они раскрыты и освобождены от загадочной формы»1. Как
видим, своеобразие и самостоятельная роль символов не вы-
зывают никаких сомнений у неоплатоников. Однако симво-
лическое представление носит здесь все же вторичный, под-
чиненный характер, выступая на уровне «иллюстрирования»
идей; символ же становится эйдетическим средством, позво-
ляющим возвыситься до отвлеченной идеи, а не самостоя-
тельной категорией и единицей культуры. Можно сделать
вывод, что неоплатоновский символ рассматривается эстети-
чески — как прекрасная и возвышенная совершенная форма,
позволяющая не только осознать идею, но и передать ее на
образно-вербальном уровне, показать через опоэтизирован-
ную метафору (мировой души, восприемницы, женственно-
сти и т. п.). Именно с неоплатонизма в пространстве филосо-
фии начинается активный симбиоз не только с мифологией
1 Ямвлих. О пифагорейской жизни. 103 (цит. по: Фрагменты ранних гре-
ческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 491).
26
Глава 1. Идея и символ
и религией, но и с искусством. При этом мне представляется
спорной гипотеза «поэтического» характера античной мыс-
ли, художественного выражения метафизической мудрости.
Концептуализм, возникнув в античности, не выработал спо-
собов самостоятельного существования, отличных от образ-
ного и поэтического языка, от мифологического содержания
культуры. В свою очередь, поэтический язык еще не стал
предметом эстетического подхода и не занял место «фор-
мы познания». Античные поэтические истины убедительны
с точки зрения мудрости и традиции, совершенно не претен-
дуя на роль познавательной формы. И представляется вполне
здравым, что такой глубокий и освященный традицией язык
(достигший к тому же у великих поэтов невиданного ранее
совершенства, красоты и образности) используется как сред-
ство для передачи метафизических построений. Тем самым
кажущаяся «поэтичность» античного философского языка
и кажущаяся «философичность» древней литературы — это
результат синкретичное™, отсутствия ярко выраженного
разделения на то, что Кассирер обозначил как «символиче-
ские формы». Немецкие романтики и Хайдеггер подходили
к этому вопросу слишком пристрастно, стремясь доказать аб-
солютное превосходство античного строя познания, что мне
представляется бездоказательным: в истории вообще нельзя
обойтись без идеологических приоритетов, называя какое-то
время «изначальным» или даже «совершенным». Подобные
оценки Античности — тоже символические интерпретации,
значимые для нашей культуры, в которой греки таким об-
разом «живут», «обновляясь» в человеческой памяти. Но
с теоретической точки зрения достаточно ограничиться до-
пущением того, что Античность не знает чистого концепту-
ализма и демонстрирует постоянное смешение символиче-
ских и концептуальных построений, которые трудно, а порой
и невозможно отделить друг от друга.
Начиная с Платона и Аристотеля, средоточием символизма
выступает поэзия, которая постепенно приобретает роль наибо-
лее «чистого» и возвышенного искусства, играющего не только
собственно художественную, но и познавательную роль. Поэзия
рассматривается как средоточие эйдетического опыта в своей
непосредственности, голос самой души, особый вид слова, при-
1.1. Концептуализм и символизм
27
обретающего характер познавательного логоса. К примеру, гё-
тевский Фауст заявляет:
Когда в вас чувства нет, — все это труд бесцельный;
Нет, из души должна стремиться речь1.
Поэтическая душа представляет собой, прежде всего,
«чувство» как эйдетический опыт (а не ощущение как опыт
обыденный и повседневный), направленный на возвышен-
ное и прекрасное, на переживание его в собственной жизни
и стремление заглянуть в опыт других людей и поколений.
Гёте, как один из предтеч романтизма, подчеркивает, что
только «чувство» придает живой характер слову, противопо-
ставляя себя абстрактной рассудочности и трансценденции
вечных символов традиции2. В этом смысле «поэтическое»
у Гёте не рационально: как форма поэтического отношения
эйдетический опыт ставится выше чистого рассудка; он вы-
ступает ценностным, практическим основанием поэтическо-
го прозрения, сохраняя присущую опыту живость, экзистент-
ность, индивидуальность и изменчивость. Не случайно Гёте
и Кант испытали влияние Юма, учившего о живости и измен-
чивости опыта, индивидуальности даже однотипных актов
опыта, которые трудно трактовать с всеобщей точки зрения.
Вместе с тем Гёте избегает свойственного Юму психологиз-
ма, поскольку ведет речь не об индивидуальном изменчивом
впечатлении, а об особом состоянии поэтического вдохнове-
ния и прозрения: поэт ведь не рассуждает — он «про-чувству-
ет» эйдос; он его изображает в собственной символической
данности, а не в форме отвлеченной идеи. Как познаватель-
ная единица поэтический символ уступает научному термину
в описательной строгости и доказательности, но взамен он
приобретает именно непосредственный, человечный харак-
тер, особую неотстраненность и неотделимость от эйдоса.
Тем самым романтически представленная природа, выра-
женная философски как «инобытие идеи», в поэтическом,
1 Здесь’И далее «Фауст» цитируется в переводе Н. А. Холодковского.
2 «В пергаменте ль найдем источник мы живой?
Ему ли утолить высокие стремленья?
О нет, в душе своей одной
Найдем мы ключ успокоенья!».
28
Глава 1. Идея и символ
художественном смысле воспринимается как символический
космос, состоящий не из вещей, а из эйдосов; эти эйдосы,
в свою очередь, позволяют вступить с ними в понятный толь-
ко для опыта диалог, а порой даже ведут собственный диалог,
минуя человеческое участие, — «и звезда с звездою говорит».
Трансцендентальный реализм, «одухотворяющий» природу,
делает это только на уровне диалектики, то есть отвлеченно-
го категориального отношения, тогда как поэтический опыт
позволяет присутствовать в сфере эйдетического, не отделяя
себя (то есть свой возвышенный опыт) от действительно-
сти, которая понимается как мир совершенных форм1.
Романтизму, трансформирующему мировоззренческий
строй Нового времени, присуще противопоставление эсте-
тического и метафизического порядков, причем первый при-
обретает мощное философское звучание — вплоть до про-
граммного тезиса об особой глубине и истинности высокого
искусства. Гёте в беседе с Эккерманом особо подчеркивает
собственную альтернативность по отношению к языку логи-
ки и науки, несовместимость языков науки и поэзии: «Немцы
чудной народ! Они сверх меры отягощают себе жизнь глубо-
комыслием и идеями, которые повсюду ищут и повсюду суют.
А надо бы, набравшись храбрости, больше полагаться на впе-
чатления'. предоставьте жизни услаждать вас, трогать до глу-
бины души, возносить ввысь»2. Откровенность Гёте заходит
довольно далеко, и он отмечает, что непостижимость, ирра-
циональность, непонятность для разума суть свойства «по-
этичности» произведения, что романтик во всем стремится
отдаться во власть чувства и представлять мир через призму
охватывающего лирического состояния, через совершенное
и возвышенное символическое изображение. При этом такой
великий романтик, как Новалис, отмечает, что поэтический
символ сам по себе уже символичен, что он обладает непо-
средственной наглядностью, которая ясна только для момен-
1 Вспомним хрестоматийное определение Винкельмана: «Древние гре-
ки и римляне никогда не отступали от принципа благородной простоты»
(Винкельман И. И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб.,
2000. С. 359).
2 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Ереван,
1988. С. 521.
1.1. Концептуализм и символизм
29
та переживания, но не может быть истолкована посредством
рассудка, непредставима в виде «теории»1.
Представляется логичным, что «поэтическое» отно-
шение к миру перерастает границы собственно искусства
и рассматривается как принцип философии, то есть попада-
ет в сферу концептуального. В этом смысле сама философия
теряет свою логическую отвлеченность и «поэтизируется».
В романтизме наблюдается обратная по отношению к Плато-
ну и всему классицизму тенденция, когда ратующие за «воз-
рождение» античности романтики толкуют саму античность
, как «символическую» культуру, в рамках которой философия
и поэзия были едины в своих мифологических основаниях,
лишенных свойственных картезианству признаков формаль-
ной рассудочности. Здесь мы имеем дело с интерпретацией
и переописанием античности, которые вступают в диалог
с другими интерпретациями и претендуют на «понимание»
сути античности как таковой. Например, Гёльдерлин пишет:
«Философия не рождается из голого рассудка, ибо фило-
софия есть нечто большее, чем ограниченное познание су-
ществующего... Когда солнце красоты озаряет рассудок во
время его работы, как майский день, заливающий светом ма-
стерскую художника, то рассудок не предается мечтам и не
бросает свой подлинный труд, а радостно вспоминает о на-
ступающем празднике, когда он отдохнет, молодея в лучах
весеннего солнца»2. Подобный взгляд так и хочется назвать
фальсификацией как античности, так и самого предмета фи-
лософии. Но на самом деле он ничего не фальсифицирует,
поскольку относится не к самой античности, а к ее интерпре-
тациям, причем не с позиции теоретического доказательства
(хотя, возможно, романтики и полагали подобные положе-
ния доказанными), а с точки зрения поэтически выраженно-
го возвышенного опыта, ставящего на первый план не истину
и абсолютность, а человечность и красоту, подчиняющего
сам мир, понимаемый как эйдос, человечески окрашенным
1 «Выражение символ — само символично» (Новалис. Гейнрих фон
Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб., 1995. С. 155).
2 Гёльдерлин Ф. Гиперион, или Отшельник в Греции. М.; Аугсбург, 2004.
С. 83.
30
Глава 1. Идея и символ
категориям — таким, как молодость, ясность, жизненность
и т. п.
Суждения поэтов-романтиков и близких к ним по духу ав-
торов значимы еще и по той причине, что немецкий идеализм,
несмотря на признание всей значимости символизма, склонен
к построению систем, в которых, в свою очередь, концептуа-
лизм приоритетен по отношению к символизму: последнему
отводится определенное «место», некая «роль» в построении
здания метафизики и культуры. Однако, имея собственный
источник в сфере эйдетического опыта, символизм (как это
и показала практика романтизма) может существовать именно
как образная система, не требующая для своего понимания выс-
шей метафизики, а порой — и самого размышления. Обращен-
ность к непосредственности чувства — это и есть эйдетический
опыт в переживании, но выраженный не эмпирически, а через
возвышенный язык символов. Перенесение этой рецепции на
античность выступает интерпретацией вследствие того, что сама
античность понимается как некое смысловое целое, определен-
ная эйдетическая практика и установка — хотя античность вовсе
не была ни однородной, ни «поэтической», ни столь «близкой
к природе» или «самоуглубленной», как утверждает созданный
романтизмом поэтический миф.
Важен еще один аспект романтической рецепции антич-
ности. В последней отсутствовал плюрализм различных сим-
волических порядков. Поскольку все соседние культуры ока-
зывались либо чрезвычайно древними, либо варварскими,
греки существовали в собственной традиции, рассматривая
ее как общечеловеческое состояние. Для греков существова-
ли египтяне, варвары, герои, мудрецы, прорицатели, боги —
но эллины не вступали по отношению к ним в состояние
диспозиции и самоопределения; все эти персонажи просто
сосуществовали рядом с греками. Иногда у них было чему по-
учиться, чаще же они, напротив, служили дурным примером.
Греки не определяли свой символизм относительно другого
времени или народа, не стремились постигнуть «забытую»
или «исконную» суть Гомера или египетской премудрости,
которой учились Фалес, Пифагор и Платон. Немцы-роман-
тики, заложившие современный взгляд на генезис философии,
вносят идею историчности и символического (культурного)
4
1.1. Концептуализм и символизм 31
диалога. Они творят в рамках изначальной множественно-
сти символических миров, каждый из которых значим ровно
настолько, насколько он содействует построению концепту-
альной Системы. В этом смысле романтизм отводит грекам
определенное символическое «место» в истории, помещая
их в чуждую им роль «основоположников» философии духа,
приписывая под видом «восстановления аутентичности»
собственные идеологически окрашенные категории, в ко-
торых порой прослеживается в том числе и травматическая
озабоченность утратой свойственных древним мудрости, ве-
личия и простоты. Можно считать классическим положение
Шеллинга: «Символический образ предполагает предшеству-
ющую ему идею, которая делается символической благодаря
тому, что она становится объективно-исторической, созерца-
емой как нечто независимое. Как идея становится символи-
ческой, получая исторический смысл, так и, обратно, истори-
ческое может стать символическим только благодаря тому,
что оно связывается с идеей и становится выражением идеи;
так мы приходим к истинному и высшему понятию историче-
ской картины, под последней имеют обыкновение понимать
вообще все то, что мы до сих пор обозначали как аллегорию
и символ»1. Тем самым роль немецкого идеализма в создании
теории эйдетического опыта двойственна: с одной стороны,
именно в этой философии появляется сама идея возвышен-
ного опыта и символического отношения; с другой стороны,
символизм изначально существует под достаточно жестким
метафизическим контролем, и ему отводится как трансцен-
дентальное определение, так и фиксированное место в си-
стеме. Выражаясь метафорически, романтики отпускают
на волю поэтическое воображение, чтобы было еще увле-
кательнее его изловить и приручить. Конечно, здесь я веду
речь о философских аспектах эйдетического опыта. В прак-
тике поэзии, как показали приведенные выше мнения Гёте,
поэт, в сущности, приобретает здоровую безответственность
в смысле доверия к своему вдохновению и языку и нежела-
ния делать свой язык частью другого, пусть и более веского
языка. Романтическая поэзия представляет эйдос в его на-
1 Шеллинг Ф. Философия искусства. СПб., 1996. С. 260.
32
Глава 1. Идея и символ
глядности для возвышенного чувства, поэтому Гёте, Шиллер,
Байрон, Пушкин, как и другие поэты, причастные романтизму,
следуют не принципу истинности, а принципу правдивости:
соответствию того, что они пишут, не абстрактной истине
или положению дел, а точности описания своего переживания
или сопереживания другому лицу. Тогда как реальные истори-
ческие греки делали идеалом своей философии возвышенные
символы мудрости, благородства, героизма и прочих добро-
детелей, понимая их не абстрактно-теоретически, а «нагляд-
но», через сохраняющиеся в традиции предания, связывая их
с богами, героями и благородными мужами, а не с абстракт-
ными идеями1.
Часто символизм критикуют за то, что это — ярко вы-
раженная форма индивидуального отношения, допускаю-
щая огромное разнообразие трудно сопоставимых взглядов.
Индивидуальность в искусстве, к примеру, выражается тем,
что великий мастер творит собственный стиль, не сводимый
к стилям его предшественников и современников. Пушкин,
Достоевский и Толстой, Моцарт, Бетховен и Шопен, Бот-
тичелли, Рафаэль и Караваджо — это индивидуально окра-
шенные языки и индивидуальные символические миры, го-
раздо более далекие друг от друга, нежели системы великих
философов, теологов и ученых. Однако тут присутствует
момент саморегуляции символического разнообразия с уче-
том факторов традиции, когда формально возможно беско-
нечное множество символических языков, но на практике их
оказывается, как правило, немного. Даже поэзия, самая раз-
носторонняя и личностная символическая система, тяготеет
к оформлению в классический ряд тем и значений, по отно-
шению к которым сами гении оказываются великими «вари-
ациями», голосами в едином хоре, а не атомарными индиви-
дуальностями. Любой символ не может быть понят до конца,
равно как и любой великий художник столь же одинок, сколь
и возвышен; однако, взятые в рамках традиции, символиче-
ские миры оказываются близки, наподобие разных индиви-
1 Шеллинг пишет о специфике досократической философии: «Начиная
с Пифагора и далее вплоть до Платона, философия чувствует себя экзоти-
ческим растением на греческой почве» (Там же. С. 49).
1.1. Концептуализм и символизм
33
дуальностей, которые типизируются при рассмотрении в со-
циальном объединении.
Индивидуальность символического значения связана с воз-
можностью символа как подвергаться интерпретации, так
и входить в разные традиции, в каждой из которых он способен
обрести новые трактовки. Символ не определяется сам по
себе, вне эйдетического опыта и контекста языка, в кото-
ром он описывается. Это проявляется в том, что, в отличие
от термина, символ стремится к персонификации, отождест-
влению с личностью бога, героя, мудреца, поэта, гения и т. д.
Символизм не может сводиться к абстрактной внечелове-
wческой форме; однако, поскольку в западной культуре кон-
цептуализм, безусловно, доминирует, у символизма остава-
лось два пути: либо приобретать «философичную» форму
нестрогого учения, либо уходить в сферу эзотерического
и мистического. Именно последнее произошло в традиции
немецкого иррационализма, порывающей с рационалисти-
ческим идеализмом и видящей источником символизма не
опыт, а волю. Кьеркегор, тесно связанный с этой традицией,
пишет: «Современная эпоха, которая так модернизировала
христианство, одновременно модернизировала и вопрос Пи-
лата, и что потребность нашего времени найти нечто, за что
оно могло бы зацепиться, проявляется скорее в вопросе: “Что
есть безумие?” Когда приват-доцент, всякий раз, когда фалды
его сюртука напоминают ему о необходимости сказать нечто,
провозглашает: “de omnibus dubitandum est” и тут же создает
систему, каждое второе предложение которой подтверждает,
что этот человек никогда ни в чем не сомневался, — это от-
чего-то вовсе не считается безумием»1. Тем самым в недрах
позднего романтизма формируется представление о неразум-
ном, бессознательном источнике символизма, причем сам
символизм становится индивидуалистическим, не считаю-
щимся ни с чем, кроме творческого «Я». В результате тако-
го само-референциального противоречия универсалистский
символизм классической традиции сменяется релятивист-
ским символизмом модерна', поэтому логично, что именно
1 Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским
крохам». СПб., 2005. С. 212.
34
Глава 1. Идея и символ
эстетический принцип свободного творчества начинает вы-
ступать регулятором символизма.
Такой путь видится мне ошибочным и ведущим к пере-
производству маргинальных символических языков, которые
опыт просто не успевает освоить и сделать классическими
культурными формами. Несомненно, символ обладает непо-
средственной наглядностью, и средства его должны быть убе-
дительными. Можно, конечно, считать символ «истинным»,
но применительно к символу такой предикат мне кажется не-
допустимым. Когда я говорю: «Этот символ выражает истину
бытия», — то само это бытие оказывается подчиненным сим-
волу и выступает в лучшем случае символической картиной,
а в худшем — измышляется и подгоняется под значение симво-
ла в качестве его «онтологического» смысла. Символы вообще
не имеют никакого смысла вне эйдосов; поэтому критерием их
«истинности» выступает не доказательство, а достоверность,
убедительность, полнота выражения и прочие характеристики,
которые с точки зрения строгого рассудка кажутся либо «пси-
хологическими», либо, по крайней мере, эстетическими. Гегель
и Шеллинг считали символическое формой деятельности духа
и этапом формирования понятия, тогда как Ницше, Дильтей,
Т. Буркхардт, наоборот, начали с тем же универсалистским
порывом переописывать концептуализм и присваивать идее
свойства символа, что мне кажется не менее ошибочным. Так,
Буркхардт пишет: «Множество значений свойственно самой
сущности символа; и в этом заключается его преимущество
перед рассудочным определением... Символизм на самом деле
может быть лучше всего описан как доступное зрению отраже-
ние идей или прототипов, которые не могут быть выражены
полностью в чисто теоретических терминах»1. Здесь совершен-
но верно утверждается, что символизм не носит концептуаль-
ного характера, но из этого делается неверный вывод, будто бы
символ «глубже» и «истиннее» идеи. Перешедшие на позиции
культурного плюрализма философы сохранили привержен-
ность мифу о целостности и связности культуры, укорененному
в сознании интеллигенции. На самом деле не представляется
1 Буркхардт Т. Статьи // Метафизические исследования XV. СПб., 2000.
С. 181.
1.1. Концептуализм и символизм
35
возможным установить всеобщее, раз и навсегда определенное
отношение между символом и идеей, равно как и доказать не-
пременную взаимозависимость концептуализма и символизма.
Вполне можно представить себе случай крайней логической
увлеченности философа, творящего рафинированный логиче-
ский мир, полный однозначности и неприложимый к чему бы
то ни было в сфере опыта; равно как и наоборот: представить
практически «не мыслящего» художника или поэта, который
гениально изображает, не ставя себе цель концептуализиро-
вать. Тарский и Огюст Ренуар первыми приходят на ум как
ч примеры каждого из этих вариантов. И хотя случаи полного
* разделения символизма и концептуализма достаточно редки,
. они тем не менее могут встречаться. Аналогично можно допу-
t стить, что случаи абсолютного совпадения между символиче-
скими и концептуальными мирами также редки даже в рамках
одной традиции. Обычное культурное состояние — это нерав-
номерность развития и вежливое взаимное отчуждение между
символическими и концептуальными обоснованиями.
На мой взгляд, следует вообще уйти от старого вопроса
о первичности и вторичности, допустив относительно рав-
ноправное сосуществование разума и опыта, понятий и сим-
волов. Не существует ни единого концептуального, ни еди-
ного символического языка. Взаимодействие между ними
окрашивается в индивидуальные тона эпохи и во многом
зависит от интерпретации. Ни символы, ни понятия не обла-
дают большей «изначалъностъю» и приоритетным выходом
к «истине бытия», хотя бы потому, что никакой предначер-
танной истины бытия не существует, равно как и не суще-
ствует предопределенности в возникновении именно таких
богословских, метафизических, художественных и прочих
языков, какие были созданы человеком в различные исто-
рические периоды.
Стремление поздних разочарованных романтиков и идеа-
листов уделить внимание индивидуальному, особенному в куль-
туре должно быть оценено по заслугам: это значительный шаг
в развитии представлений о символизме, ведь еще Гегель и Шел-
линг трактовали символы как «формы идеи». Однако индиви-
дуальность символизма, как правило, утверждается неподходя-
щими методами, когда символизм трактуется «от противного»,
36
Глава 1. Идея и символ
как дополнение или противоположность концептуализма. Это
происходит вследствие стремления рассматривать символизм
как духовную активность (не важно, сознательную или бессозна-
тельную), тогда как источником символизма выступает особый
тип опыта. Так, например, Дильтей пишет: «Назначение наук
о духе — установить единичное, индивидуальное в историче-
ски-общественной действительности, распознать действующие
тут закономерности, установить цели и нормы ее дальнейшего
развития — может быть исполнено лишь с помощью искусствен-
ных приемов мышления и с помощью анализа и абстрагирова-
ния»1. На это можно возразить, что поэт вообще не мыслит об
индивидуальном — он его творит, опираясь на собственный дар,
вдохновение, переживание. Когда Пушкин восторженно пишет
о красоте и величии Петербурга, а в другой раз — о мрачном
и тягостном Петербурге, он не подчиняется намеренному «во-
площению индивидуального», а просто сообразует образы пред-
ставления с доминирующим лирическим переживанием, отчего
Петербург оказывается художественным эйдосом, представлен-
ным в разных модусах поэтического отображения* 2. Мерой под-
линности картины выступает не истинность, а правдивость,
искренность, образная глубина при простоте и совершенстве язы-
ковых средств — особая мера, позволяющая описать картину до-
статочно полно, но вместе с тем не столь исчерпывающе, чтобы
не оставить читателю возможности интерпретировать ее с по-
зиций собственного опыта. Символ вообще не «близок к вещам»:
его основанием выступает не вещь, а эйдос. Поэтому Петербург
Пушкина или Евгений Онегин — это именно эйдосы, а не «инди-
видуально интерпретированные вещи» и тем более не понятия,
«сущность» которых следует выводить из их смысла3.
'Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 2000. С. 304.
2 «Вопрос здесь не о правомочности в сфере искусства по частному обра-
зу судить об общем, такое суждение — это законное свойство искусства,
в этом состоит его символический смысл. Вопрос должен стоять об адек-
ватности образа эпохе и жизни общества» (Никоненко В. С. Труды по рус-
ской философии и литературе. СПб., 2014. С. 412).
3 Дильтей особенно выделяет такой аспект, как целостность поэтических
символов и душевной жизни вообще. Он пишет: «Сколь бы сложно ни состав-
лялась такая взаимосвязь душевной жизни, взаимосвязь эта воздействует как
целое на находящиеся в поле внимания представления и состояния: отдельные
составные такой взаимосвязи не мыслятся ясно и не различаются отчетливо,
1.1. Концептуализм и символизм
37
Идеалистическое учение о символах стремится рассма-
тривать их как формы культурного бытия, универсальные для
всей человеческой истории. Кассирер утверждает: «Каждая из
этих символических форм несводима к другой и не выводима
из другой, ибо каждая из них есть конкретный способ духовного
воззрения: в нем и благодаря ему конституируется своя особая
сторона “действительности”. Это, стало быть, не разные спосо-
бы, какими некое сущее в себе открывается духу, а пути, про-
торяемые духом в его объективации, или самооткровении»1.
Получается более «умеренная» и «слабая» форма идеализма,
согласно которой символизм исторически индивидуален и свое-
образен для каждой эпохи, но при этом он развивается в рамках
раз и навсегда установленных «форм». Такое предположение,
на мой взгляд, труднодоказуемо, а «символические формы» на
деле здесь выступают концептуальными по своему духу обоб-
щениями, которые распространяются на сферу символического.
С точки же зрения реализма, которую я отстаиваю, «формы»
символизма действительно жизнеспособны и могут сохраняться
веками. Но затем они все равно исчезают либо приобретут иное
содержание, порой при сохранении прежнего названия, когда
слово (допустим, «благородное») одно и то же, но значение его
уже частично или полностью иное. Еще более фантастическими
мне кажутся предположения иррационалистов, согласно кото-
рым символы и концепты «придуманы», утверждены и насаж-
дены волевым порывом, а также бессознательны по своей сути.
Это не что иное, как «вывернутая наизнанку» форма рацио-
налистического мифа о единой человеческой природе, только
здесь роль базиса играет «бессознательный» срез психики. Так,
Фромм доказывает: «Язык символов — это такой язык, с помо-
щью которого внутренние переживания, чувства и мысли при-
обретают форму явственно осязаемых событий внешнего мира.
Это язык, логика которого отлична от той, по чьим законам мы
живем в дневное время; логика, в которой главенствующими
являются не время и пространство, а интенсивность и ассоци-
сопряжения между ними не достигают света сознания, и тем не менее взаи-
мосвязь находится во владении личности и оказывает свое воздействие: все
пребывающее в сознании ориентировано на это целое» (Дильтей В. Собрание
сочинений: в 6 т. Т. 4. М., 2001. С. 313).
‘Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1. М.; СПб., 2002. С. 15.
38
Глава 1. Идея и символ
ативность. Это единственный универсальный язык, изобретен-
ный человечеством, единый для всех культур во всей истории»1.
Символизм вообще не склонен оформляться в виде логики —
вполне достаточно, если он будет убедительным для опыта
и востребованным в традиции. Символизм стремится индиви-
дуализировать эйдетический опыт — отсюда разнообразие тра-
диций и индивидуальных стратегий творчества. Редукция этого
океана символических языков к одному источнику, безусловно,
создает мощную убедительность метафизики. Однако, как мне
представляется, это противоречит практике, когда иногда про-
исходят революционные изменения не только типа символизма,
но и перечня источников этого символизма. Безусловно, если
придерживаться мифа о неизменности человеческого разума
и психики, можно в любой культурной форме выделять «созна-
тельное» или «бессознательное», а затем понимать это содер-
жание в рамках универсальной модели. Но это не что иное, как
идеология, стремление заключить разнообразие эйдетического
опыта в заданные извне рамки, вплоть до того, что безжалостно
игнорировать и элиминировать то, что в такие рамки не вписы-
вается2.
В отличие от идеи, эйдос видоизменяется вследствие из-
менчивости опыта и непредсказуемости возникновения новых
интерпретаций, что позволяет судить об историчности самих
эйдосов, которые суть «совершенные формы», но при этом из-
менчивы в отношении тех критериев, по которым мы судим об
их совершенстве. Метаморфозы интерпретации, опыта, изоб-
разительного языка ведут и к трансформации эйдоса (именно
эйдоса, а не просто портрета прекрасной женщины или красот
пейзажа). Отказавшись от эйдетического универсализма, мож-
но гораздо эффективнее и ближе к действительному положению
дел объяснить необъяснимое для универсализма видоизменение
форм. Речь идет не о неизменных символических формах, полу-
чающих различные интерпретации, а об изменчивости эйдосов;
1 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 183.
2 Характерным примером психоаналитического универсализма является
следующее положение Юнга: «Всякое расширение и укрепление рацио-
нального сознания, однако, уводит нас все дальше от истока символов. Его
превосходство мешает нам понимать символы. Такова сегодняшняя ситуа-
ция» (Юнг К. Г. Ответ Иову. М., 1995. С. 106).
1.1. Концептуализм и символизм
39
причем эта изменчивость, как правило, постепенна и консерва-
тивна, что создает дополнительные иллюзии по поводу правоты
идеалистов относительно неизменного и совершенного мира.
Характерная особенность эйдетического опыта состоит
в том, что символ не может быть полностью абстрагирован от
непосредственного переживания. Становясь формой традиции,
символ способен обособляться от опыта и приобретать само-
стоятельное существование, но, будучи отделенным от непо-
средственного понимания, рафинированным, он перестает «за-
девать», «волновать», побуждать выражать к нему какое-то
отношение. Поэтому «формализованный» символ оказывается
в любой традиции бесполезным; хотя, если судить с историче-
ской или метафизической точки зрения, он не может быть ци-
нично отвергнут как «ненужный», отживший1. Однако практика
социальной жизни свидетельствует о достаточно бесцеремон-
ном обращении с теми символами, которые больше не поддер-
живаются ни опытом, ни идеологией и вполне могут оказаться
«забытыми». Непосредственный эйдетический опыт и традици-
онная практика являются ритуалом поддержания функциониро-
вания символа почти в любой традиции. И поэтому утраченные,
забытые символы могут, спустя века, «ожить», но не в своей
подлинности, а полностью переработанными, или, напротив,
подвергнуться механическому цитированию, лишенному вся-
кой творческой самостоятельности. Поэтому крайне трудно
предсказать и спрогнозировать, какова будет коммуникация
различных символических систем, особенно если их разделяет
продолжительное время.
Поскольку символ лишен фиксированного и законченного
значения, он постигается и определяется иначе, нежели понятие,
тяготеющее к однозначному определению, одинаково понимае-
мое любым разумным человеком. Так, Рикёр пишет: «Я называю
символом всякую структуру значения, где один смысл — пря-
мой, первичный, буквальный, означает одновременно и дру-
гой смысл, косвенный, вторичный, иносказательный, который
1 Гадамер пишет о Хайдеггере: «Хайдеггер уникален среди всех учителей
философии нашего времени: вещи, которые он излагает на весьма свое-
нравном, подчас оскорбляющем все “высокообразованные” ожидания язы-
ке, всегда можно увидеть собственными глазами» (Гадамер Х.-Г. Пути
Хайдеггера: исследования позднего творчества. Минск, 2007. С. 25).
40
Глава 1. Идея и символ
может быть понят лишь через первый»1. Рикёр демонстрирует
наиболее типичный, образно-аллегорический подход к понима-
нию символа, когда его непосредственная данность свидетель-
ствует о скрытой подлинной сущности2. Несомненно, символ
нельзя свести к образному выражению, которое, собственно
и выступает его значением. Художественное произведение, на-
пример, содержит множество символов, которые предусматри-
вают интерпретацию, предполагают додумывание, угадывание,
приглашают к диалогу. Однако из этого вряд ли оправданно де-
лать вывод о контрасте буквального и иносказательного смысла.
Символ обладает собственным смыслом, который не явлен даже
для него самого; он — «вещь в себе». Но этот смысл, если допу-
стить его наличие, есть смысл, присущий данному символу: ни
прямой, ни переносный, а собственно-символический, обращен-
ный к целостной непосредственности восприятия эйдоса. Поэ-
тому, отмечая значимость методологии Рикёра, я позволю себе
уточнение: прямой и иносказательный смыслы символа столь
тесно слиты, что их нельзя выделить в две последовательные
дефиниции3. Чтобы понять картину Босха, требуется ее долго
расшифровывать и много интерпретировать; но сама эта карти-
на закончена в себе, раз и навсегда написана. Ее смысл — не-
кая завершенность, а пресловутый герменевтический «прирост
смысла» осуществляется только за счет новых интерпретаций.
Как отмечает другой представитель герменевтики, Гадамер,
«символы вовсе не обязательно должны быть изобразительны-
ми: они осуществляют свою функцию замещения исключитель-
но благодаря своему существованию и самопоказу, но от себя
они о символизируемом ничего не высказывают»4. Тем самым
символы, как и эйдосы, обладают собственным смыслом и соб-
1 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 18.
2 Это наглядно проявлялось в средневековой культуре. «Всякое действие,
всякий поступок следовал разработанному и выразительному ритуалу,
возвышаясь до прочного и неизменного стиля жизни. Важные события:
рождение, брак, смерть — благодаря церковным таинствам достигали бле-
ска мистерии» (Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М„ 1988. С. 7).
’Если обратиться к многочисленным аллегориям XV-XVI вв., то подход
Рикёра окажется вполне разумным. Но это лишь частный случай символи-
ческих языков.
4 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М„ 1988. С. 203.
1.1. Концептуализм и символизм
41
ственным бытием. Будучи отчуждены от человеческого бытия
и возвышенного опыта, они либо вымирают, либо, наоборот,
«освящаются» мифологическими или идеологическими сред-
ствами, приобретая мистический и «непостижимый» характер,
тщательно поддерживаемый и воспроизводимый в традиции1.
Поиск «изначального» смысла символа — многообещающее, но
лишенное конструктивности занятие, потому что, в отличие от
дефиниции концепта, значение символа «открыто» для разных
стратегий его толкования и помещения в разные культурные
контексты. В принципе, вполне достаточно сознавать само от-
личие символа от концепта, понимать его открытую и эйдети-
ческую природу: ведь в практике символизма нет прямой необ-
ходимости вдаваться в детальные теоретические дискуссии. Так
поэт, композитор, художник «понимают» тот символ, который
они ходят передать, переживают опыт восприятия эйдоса, но за-
ботятся не о теоретической адекватности отображения, а о наи-
лучших способах выражения этого смысла. Когда Врубель мно-
жество раз переписывал своего «Демона», он, конечно, думал
о соответствии своего изображенного демона «настоящему» де-
мону, но, думаю, был гораздо более озабочен убедительностью,
уникальностью и полнотой живописного воплощения образа.
Символические сущности, особенно выраженные в мифо-
логической или поэтической форме, не могут быть переданы
с ясностью и отчетливостью положений логического рассуд-
ка, поскольку берут начало в непосредственном переживании
и возникают «до» мысли и даже «до» языка, если иметь в виду
определенный язык, например язык поэзии или живописи2. Но,
признавая такой статус символических выражений, можно сде-
1 Мне непонятно, как трактовать такое суждение Гадамера о целостности
бытия иначе как мистически: «Символ же, познание символического смыс-
ла предполагает, что единичное, особенное предстает как осколок бытия,
способный соединиться с соответствующим ему осколком в гармоничное
целое, или же что это — давно ожидаемая частица, дополняющая до целого
наш фрагмент жизни» (Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
С. 299).
2 «Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклица-
ния, вздохи, полумысли, получувства. Которые, будучи звуковыми обрыв-
ками, имеют ту значительность, что “сошли” прямо с души, без переработ-
ки, без цели, без преднамеренья» (Розанов В. В. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.,
1990. С. 195).
42
Глава 1. Идея и символ
лать два ошибочных, на мой взгляд, допущения. Во-первых, воз-
никает возможность создать новый субстанционализм и выво-
дить символы из подсознательных основ человеческой психики
(таких взглядов придерживались Бергсон, Юнг, Фромм, Лакан).
Во-вторых, можно пойти по «онтологическому» пути и доказы-
вать существование абсолютной символической действительно-
сти, которая, наподобие мира идей Платона, существует вечно
и до человека1. Характерным примером выступает философия
Вячеслава Иванова, который утверждает: «Дионисийское нача-
ло, антиномичное по своей природе, может быть многообразно
описываемо и формально определяемо, но вполне раскрывается
только в переживании... Но состояние человеческой души может
быть таковым только при условии выхода, исступления из гра-
ней эмпирического я, при условии приобщения к единству я все-
ленского в его волении и страдании, полноте и разрыве, дыхании
и воздыхании»2. Оставив в стороне вопрос о столь мифической
сущности, как «дионисическое начало», я соглашаюсь с первым
положением, поскольку символ, если мы стремимся его опреде-
лить, должен быть помещен в понятийную структуру, разъяснен
или истолкован на концептуальном языке. Однако, взятый сам
по себе, символ не нуждается в определении; вполне достаточ-
но лингвистически корректного разъяснения путем указания на
образ, слово или знак, обращенные к непосредственному опы-
ту в его возвышенной форме. И, поскольку символ изначально
воспринимается как совершенная форма, совершенство эйдоса
закономерно психологически ассоциируется с чем-то вечным
и незыблемым. К примеру, великий шедевр живописи — ис-
кусствоведы здесь солидарны — обращен к «вечным смыслам»,
«вечно прекрасному» и, как предполагается, значимому для всех
поколений. Возвышенность опыта, как верно отмечает Кант
в учении об идеале чистого разума, невозможна без подведения
под эйдетический опыт убеждения в незыблемости и абсолют-
ности его творений. Но, следует заметить, Кант видит в этом за-
блуждение чистого разума, с чем я вполне согласен. Другое дело,
что он не стремился объяснить, почему именно символы в лю-
1 «Воззрение Платона на природу было больше поэтико-созерцательное,
нежели спекулятивно-наукообразное» (Герцен А. И. Сочинения: в 2 т. Т. 1.
М„ 1985. С. 292).
1 Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 29.
1.1. Концептуализм и символизм
43
бой традиции приобретают «вечный» смысл и подвергаются
мифологизации. Для Канта идеал — это построение чистого или
практического разума, безусловно возвышенное, в которое ра-
зум некритично верит. Но, на мой взгляд, возвышенность симво-
ла достигается не в разуме, а в эйдетическом опыте, поэтому она
легитимна как форма переживания, воплощенного в символи-
ческую форму и выраженная посредством определенного языка.
Возвышенность героического облика в античной скульптуре об-
ращена к непосредственному созерцанию образа и убеждению,
но никак не к доказательству. Не существует возвышенного,
прекрасного или идеального самого по себе: оно всегда пережива-
ется в эйдетическом опыте как нечто символическое, связанное
с реальностью эйдоса и потому конкретное, а не абстрактное.
Стремление отделить сферу возвышенного и прекрасного свой-
ственно рассудочному подходу, превращающему свойства эйдо-
са в свойства идеи. Равно как и учение о существовании вселен-
ского мира символов, свойственное таким идеалистам, как Вяч.
Иванов и Кассирер, базируется на вере в то, что данный симво-
лический порядок не частный, не случайный, не маргинальный,
а присущий вечным основаниям в особом «универсуме», кото-
рый понимается по аналогии с платоновским миром идей1. Мир
идей как концептуальное построение, в самом деле, вечен и аб-
солютен. Но мир эйдосов (берем это выражение как метафору,
поскольку такого мира нет), напротив, изменчив — в этом его
уникальность и значимость для тех познавательных форм, ко-
торые обращены к непосредственному схватыванию мира в его
конкретности и полноте.
Поэты склонны философствовать. Но их замечания о при-
роде символа наиболее ценны именно там, где они судят как
художники, а не как мыслители. Гёте и Блок доказывали, что
живой образ не может превратиться в рассудочную формулу.
Обращенный к непосредственному опыту, поэтический образ
связывается с волнующими душу, «задевающими» пережива-
ниями, которые из состояния аморфной совокупности долж-
ны превратиться в эйдетическую форму, — именно этим поэт
1 Андрей Белый понимает символы как универсум со своими собствен-
ными законами. «Символ есть всегда символ чего-нибудь: это «что-нибудь*
может быть взято только из областей, не имеющих прямого отношения
к познанию» (Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 36).
44
Глава 1. Идея и символ
особенно близок читателю. Обращаясь к поэзии, человек не-
посредственно угадывает через поэтическое слово то, что он
давно и неоднократно переживал, что его волновало, но оста-
валось непроявленным до знакомства с этим произведением.
Поэт, как носитель вербального эйдетического опыта, высту-
пает задушевно близким существом, которому можно доверить
глубоко личные мысли. Порой поэт оказывается своеобраз-
ным целителем души, объясняя прежде неясное, вдохновляя,
раскрывая правду, утешая тогда, когда слова повседневной
речи остаются бессильными. Поэт не имел бы такой власти над
человеческой душой, если бы придавал абсолютность своим
построениям, превращаясь во второго теолога или метафизи-
ка-идеалиста — ведь нет ничего более отталкивающего в мире
литературы, нежели напыщенная дидактика, рафинированная
высоконравственность, к тому же выраженная с прямолиней-
ной назидательностью. Что касается эйдетической определен-
ности, то великий поэт предпочитает о ней умалчивать, а по-
рой и сгущать пессимистические краски, делая эйдетическую
форму непостижимой, утраченной или забытой. Когда Блок
скорбит о падшей Прекрасной Даме, он не имеет в виду четкий
и определенный образ, который разложился и превратился
в другой образ с иными качествами — Блок переживает поте-
рю возвышенного, падение «культа» красоты и добра, идущего
еще от Данте и Петрарки. Сам эйдос Прекрасной Дамы, этой
поэтически интерпретированной Вечной Женственности,
будит в душе Блока такое щемящее ощущение утраты, ухода
и падения, что это производит необратимые трансформации,
как в самом символе, так и в поэтическом опыте. А посколь-
ку символическая трансформация в такой тонкой сфере, как
лирика, неотделима от травматического синдрома, то чувство
утраты оказывается той эйдетической составляющей, вокруг
которой строится новая поэтическая Женственность. Тем са-
мым этот процесс не поддается рассудочному измерению и не
является трансформацией понятий; здесь мы говорим об изна-
чально метафорических, не до конца неопределенных смыслах,
когда язык сопричастности, угадывания, аналогии оказывается
куда уместнее языка аргументации.
В русской религиозной философии, равно как и в рус-
ском искусстве начала прошлого века, символизм изначаль-
1.1. Концептуализм и символизм
45
но приобретает теургическое измерение и рассматривается
по аналогии с богословскими и отчасти метафизическими
построениями1. Уже достаточно было сказано о несостоя-
тельности убеждения в наличии вечной и неизменной ми-
фологической основы и вместе с тем естественности имен-
но мифологической структуры для эйдетического опыта как
формы традиции. В отличие от религиозных философов и бо-
гословов, опирающихся на незыблемость веры и в том числе,
незыблемость христианской символики, поэты и художники
лишены такой твердой почвы; поэтому они гораздо более
скептичны и прозорливы — особенно в отношении конкрет-
ности возвышенного опыта и образного представления эй-
досов. Лев Шестов, осмысляя суть художественного симво-
лизма по аналогии с греческим сознанием, пишет: «Истинно
сущее определяется в терминах истинно важного и истинно
ценного. Греки это знали, мы это забыли, до того забыли,
что, если и напомнить, мы все равно не поймем, о чем речь
идет. Мы так уверовали в свое мышление и в то, что наше
мышление, знающее только одно измерение, есть единствен-
но возможное, что к философии древних, чувствовавших еще
и второе измерение, мы относимся почти как к суеверию»2.
Блок, также находящийся в иронической оппозиции к рассу-
дочному мышлению, пишет:
Печальная доля - так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить...
1 Бердяев пишет: «Символическое познание, перебрасывающее мост
от одного мира к другому, есть познание апофатическое. Познание
в понятиях, подчиненным ограничительным законам логики, пригод-
но лишь для бытия, которое есть вторичная объективированная сфера,
и не пригодно для внебытийственной или сверхбытийственной сферы
духа» (Бердяев Н. А. Царство духа и царство кесаря. М., 1995. С. 214).
В другом месте: «Творчество не есть приспособление к этому миру,
к необходимости этого мира — творчество есть переход за грани это-
го мира и преодоление его необходимости» (Бердяев Н. А. Философия
свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 384).
2 Шестов Л. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 621.
46
Глава 1. Идея и символ
Шестов и Блок выступают против рассудочности по отно-
шению к возвышенному опыту, имея собственные резоны для
такой критики. Они понимают, что свойственная грекам про-
стота была утрачена последующими крупными традициями.
Оказалась также утеряна и непосредственность прекрасной
поэтической формы. Символы понимались либо по аналогии
с идеями, либо как зависимая часть теологической или науч-
ной концептуальной системы, что привело к абсолютизации
рассудка и некритичной вере в его неограниченные возможно-
сти. Оговоримся при этом, что вера в безграничные возможно-
сти иррационального «поэтического» отношения (к примеру,
у Хайдеггера) является столь же некритичным и догматическим
допущением. Эйдетический опыт, особенно в поэзии, важен
именно своей открытостью для самых различных интерпрета-
ций, мастерски созданной «неполнотой», позволяющей сопе-
реживать и достраивать смыслы, обращенностью к достаточно
темной и никогда не систематизированной сфере личных пере-
живаний. Возвышенный характер эйдетического опыта прояв-
ляется в простоте и целостности символа, который восприни-
мается непосредственно, разом, во всем величии совершенной
формы, но при этом не поддается вербализации и концептуа-
лизации, то есть переводу на язык иных выразительных форм1.
Поэтому если мы и знаем о символе как о чем-то реальном, — то
мы знаем это в целостном, возвышенном, порой интуитивном,
«внезапном», «озаряющем» представлении, которое не выходит
из своей непосредственности и остается в определенном смыс-
ле «невыразимым», опережая возможности образного языка, не
имея порой слов и знаков для создания убедительных аналогий. Не
все есть символ, но в рамках эйдетического опыта выстраива-
ется именно символическая картина мира, которая имеет тен-
1 Вышеславцев считает, что к символам следует относить категории
«правда» («правдивость»), «Существует рационалистический предрассу-
док, что всякое воображение, фантазия, миф — всегда иллюзорны и обман-
чивы... На самом деле миф и воображение имеют свой критерий истины.
И критерий истины здесь другой, чем в научном познании действитель-
ности. Здесь нужно говорить о критерии правды, а не научной истины, как
выражения эмпирического объекта. Критерий правды прежде всего имеет
аксиологическое значение, выражает ценность, а не реальное бытие» (Вы-
шеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 58).
1.1. Концептуализм и символизм
47
денцию превращаться в определенные миф, язык и традицию,
образовывать своеобразный «мир» и даже приобретать статус
фундаментальной исключительности1. Однако, разбирая суть
символизма, я склонен видеть коренные основания символа не
в мифе, не в традиции и не в языке, а в опыте и эйдетической
форме. В этом смысле символ соединяет образную или словес-
ную структуру с возвышенным представлением совершенной
формы, поскольку последняя не может существовать в устой-
чивом виде и приобретать незыблемые очертания. Если бы мы
могли не только возвышенно воспринимать эйдос, но еще и удер-
\ живать его форму в пространстве опыта, то символизм был бы
,Л' излишним. Как верно отмечает Максимилиан Волошин, «символ
ч‘ по своему внутреннему свойству не может быть объяснен фак-
, тической последовательностью своего возникновения; он взы-
вает нас к новым волнующим сближениям и аналогиям»2.
Но поскольку опыт — только непосредственно протекаю-
щий процесс, то он требует собственной реализации вне себя,
а именно в символической форме, которая способна как «удер-
жать» момент эйдетического опыта, так и вывести этот момент
за пределы текущей непосредственности, сделав его частью того
или иного языка, имеющего устойчивую определенность, благо-
даря чему возможны как интерпретации, так и аналогии с дру-
гими актами эйдетического опыта. Тут наблюдается сложное
взаимодействие между живым возвышенным опытом и тради-
цией, когда возможны взлеты и падения, ностальгическая бли-
зость и травматическая опустошенность, причастность и отще-
пенство.
Рассуждая о соотношении символа и понятия в контек-
сте обращения к русской мысли, я хотел бы особо рассмотреть
точку зрения А. Ф. Лосева, уделившего значительное внимание
определению природы символа. К тому же Лосев связывает
1В этом отношении моя позиция противоположна суждениям теоретиков
русского художественного символизма. «Отношение художника-символи-
ста к миру реальности точно определено словами Гёте: “Все преходящее
только символ”. Символизм, окончательно принятый и преступивший гра-
ни литературной борьбы, становится всеобъемлющим: все в мире — сим-
вол, все явления только знаки, каждый человек — одна из букв неразгадан-
ного алфавита» (Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 61).
2 Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 96.
48
Глава 1. Идея и символ
свою теорию символа с критикой отвлеченного концептуализ-
ма, которую проводит с позиций символического идеализма.
Лосев пишет: «Можно воплощать эйдос не методологически-ин-
струментально-логически и не картинно-осмысленно, но вы-
разительно, изваянно-эйдетически, со всеми теми моментами
наполнения и живописи, которые присущи эйдосу, когда он
начинает соотноситься с вне-эйдетическим меоном и становит-
ся символом»1. Лосев устанавливает различие концептуализма
и символизма, а также эйдетический характер символов. В этом
отношении Лосев вскрывает символический, эйдетический
и образный строй древнегреческой мысли в противополож-
ность рационалистической традиции Нового времени. Посколь-
ку Лосев является идеалистом и строит систему, символический
уровень познания у него выступает частью познания вообще;
и в этом отношении он стремится концептуализировать симво-
лизм, что, как мы уже показали, невозможно сделать без впа-
дения в существенные ошибки. Для Лосева эйдосы онтологиче-
ски существуют как мир совершенных форм, а символическое
представление рассматривается как одна из форм бытия идеи,
но не как самостоятельная форма. Подобная метафизическая
теория, восходящая еще к Платону, для меня неприемлема, по-
скольку символическое представление об эйдосе достижимо
только в его собственной конкретности, что возможно лишь
в особом опыте2. Концептуально выглядящая форма символа,
на мой взгляд, вторична по отношению к его живому восприя-
тию. И искусство, как наиболее конкретный тип эйдетического
опыта, передает эту живость в ее образной или словесной не-
посредственности, что отличает символ от сущей в абстрактной
форме, отвлеченной идеи. Лосев отмечает, что символ пред-
ставляет собой «живое целое», в противоположность механи-
ческой связности рассудка, однако трактует это целое мистиче-
1 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М„ 1990. С. 183.
2 «Отдельные смысловые элементы даны в эйдосе как живое целое, и по-
тому связь их убедительна. В логосе они даны в отрыве друг от друга,
и связь их, поскольку она мыслится в отрыве от живого общения с ними,
непонятна, хотя и таким образом установление ее не могло избежать со-
зерцания живого предмета, ибо ее неоткуда иначе и вообще взять. Эйдос
есть насыщенное изваяние смысла» (Лосев А. Ф. Из ранних произведений.
М., 1990. С. 218).
1.1. Концептуализм и символизм
49
ски (как выход к особому глубочайшему уровню бытия), но не
реалистически; поэтому его философия близка мировоззрению
русских символистов, для которых символ был изначально со-
кровенным, потаенным и таинственным. Я думаю, что Лосев
не принимает реализм и строгий аналитический метод в любой
форме, что выразилось в его контрастном противопоставлении
платонизма и аристотелизма: «И хотя аристотелизм по самому
существу своему вовсе не был абсолютно противоположен воз-
рожденческому мировоззрению и многие возрожденцы, опре-
деленно, им пользовались, тем не менее удобнее всего, глубже
всего, реальнее всего, человечнее всего и, в конце концов, ин-
тимнее всего был тогда именно платонизм, который очень часто
мог переходить в прямой энтузиазм по отношению к человеку,
природе и их красоте»1. Тем самым для Лосева важен именно
«человечный» характер философии, ее антропологический ха-
рактер, неотделимый от возвышенных идеалов. Тут очевидно
романтическое прочтение платонизма — в этом Лосев близок
к Хайдеггеру2. Поэтому, завершая экскурс о Лосеве, отмечу, что
мне представляется верным четкое разграничение символиче-
ского и концептуального познания, учение о символическом
характере культуры античности. Но выводы, которые он дела-
ет, кажутся бездоказательными, поскольку я убежден, что сим-
волизм имеет более конкретные и реалистичные корни, нежели
мистицизм и абсолютный идеализм. Близость символа, его цен-
ностный и возвышенный характер (вплоть до идеологического
пафоса и готовности бороться за его воплощение) обусловле-
ны именно не-отвлеченной, эмпирической сутью. Идеалисты
типа Лосева или Гуссерля ошибочно строят альтернативу: либо
символ принадлежит «низшему» миру чувственности, либо он
сопричастен миру рациональности. Между тем символический
уровень находится на собственном эпистемологическом месте
и выступает формой эйдетического, возвышенного опыта, не
смешивающегося ни с чувственностью, ни с рассудком.
Скептицизм относительно символов, при всем его песси-
мизме, кажется более убедительным, нежели символический
1 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М„ 1982. С. 253.
2 К тому же романтические и феноменологические влияния на их концеп-
ции довольно схожи.
50
Глава 1. Идея и символ
идеализм, утверждающий субстанциональность символов,
представляющий их как абсолютный мир, набор вековечных
символических форм. Пожалуй, символы — это действительно
самое устойчивое и долговременное культурное образование,
отчего порой они кажутся «вечными». Но это не что иное, как
форма идеологической мифологизации, выдача желаемого за
действительное, попытка — всегда насильственная — закон-
сервировать традицию и сам ход истории. Монтень, этот вели-
кий скептик, не разделял уверенности идеалистов: «Никогда не
существовало двух совершенно одинаковых мнений, точно так
же, как один волос не бывает вполне похож на другой и одно
зерно на другое»1. Равно как и другой «не вписавшийся» в исто-
рико-философские схемы француз, Ж. де Местр, замечает не-
что похожее: «И земля, непрерывно орошаемая кровью, есть
лишь громадный алтарь, где все живущее должно приносить-
ся в жертву, — без передышки, без отдыха, без меры, вплоть
до скончания веков»2. Конечно, порой мир идей тоже оказы-
вается ареной трагической борьбы. Но в нормальных услови-
ях так бывает редко. Мир метафизики достаточно отвлечен,
академичен и дистанцирован от пристрастий — символы же,
наоборот, выступают как предмет ценности и желания, а не-
редко их отстаивают ценой самой жизни. Бруно, Юм и Бергсон
отмечают, что символ неотделим от веры в возможность его
воплощения личным порывом, или энтузиазмом3. Маркс, Ниц-
ше и Дьюи, при всей разности их взглядов, так же утверждают,
что символы носят практический, ценностный и зачастую, иде-
ологический характер. Не случайна практика насильственного
устранения символов; при этом на первый план выходит унич-
тожение, разрушение знаков, подавление визуального, образ-
ного воплощения прежней символической традиции (снос хра-
мов, сжигание книг, устранение авторов и т. п.). Собственно,
и эллинизация, которая воспринимается как «мягкое» и «ци-
вилизованное» насаждение греческих ценностей, выступает
'Монтень М. Опыты. Избранные главы. М., 1991. С. 340.
2 Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998. С. 373.
3 «Эмоция, о которой мы говорили, — это энтузиазм движения вперед, эн-
тузиазм, благодаря которому эта мораль принимается некоторыми и затем
через них распространяется по свету» (Бергсон А. Два источника морали
и религии. М., 1994. С. 53).
1.1. Концептуализм и символизм
51
вовсе не безобидной символической экспансией, вытесняя
на периферию, обрекая на исчезновение целые пласты преж-
них традиций, создавая символическую унификацию на ме-
сте прежнего разнообразия. Символический универсализм,
культивируемый имперской властью, обычно приводит к вы-
рождению, застою, несоответствию между официальной сим-
воликой, «единственно правильным», освященным властью
образом мышления и живым эйдетическим опытом частного
человека — отсюда феномен символического скептицизма как
легальной формы борьбы с вырождающейся традицией. Поэ-
тому всегда не случайно появление таких скептиков, как Секст
Эмпирик, Монтень, Ларошфуко, Вольтер, Руссо, Юм, Гердер,
Милль, Рассел и др.
Символы могут быть жизненными только при непосред-
ственном переживании в опыте — это и есть подлинная акту-
альность символа. Вспомним балладу Стивенсона: вересковый
мед есть, пока жив хоть один пикт, знающий его рецепт. Инди-
видуальность символизма заключается в конкретности эйде-
тического опыта, выраженного через слова, образы или знаки,
помещенного в определенную традицию. Свобода индивиду-
альности в символизме заключается в отсутствии гнета со сто-
роны идеологической машины, насаждающей стандартизацию,
абстрактный символизм. На мой взгляд, между концептуализ-
мом и символизмом нет противоречия и конкуренции, если
они не стремятся поработить друг друга. Я разделяю канти-
анский подход, разделяющий источники метафизики и искус-
ства, а также придаю большое значение эмпирическим основа-
ниям. Конечно, вдохновение гения столь чисто и возвышенно,
что кажется мистически озаренным, но на самом деле это тоже
форма опыта, переживания прекрасного и возвышенного, но
такого переживания, в котором опытное содержание изна-
чально слито с эйдетической формой. Неверно представлять,
что сначала существует опыт сам по себе, а затем он получает
форму. Гениальность — это предельный случай неотделимости
переживания от символизации, и великое искусство — это пол-
ная слитность опыта и эйдоса, когда мы сопричастны этому
сохраняющемуся века возвышенному чувству, неисчерпаемой
красоте формы, воплощению полноты человечности в том или
ином ее аспекте.
52
Глава 1. Идея и символ
В современной культуре (в которой символизм воспринима-
ется как причастный сфере сакрального) основания символизма
наделены таинственностью1. Он контрастирует с рациональной
матрицей научного мышления, выступая идиосинкразически-
ми причудами в обществе конформизма и стандартизации. Од-
нако подобная таинственность возникает от непонимания сути
символизма. Для прошлых эпох, как полагает Хёйзинга, он был
естественным и воспринимался как чуть ли не форма быта, как
простой и достаточно однозначный мир. Для греческой или
средневековой культуры была характерна естественность сим-
волов, отсутствие излишнего воображения, когда мифологи-
ческая трактовка воспринимается как простое и общепонятное
основание и представляется через перечень всеми разделяемых
образов. Греческое сознание не знает аллегоризма в смысле
классического искусства Нового времени, поскольку тот поро-
жден рационалистической функцией искусства, необходимо-
стью образно-наглядной демонстрации идеи. Греки изобража-
ют на вазах богов или сюжеты троянского эпоса, не стремясь
чему-то научить, — они видят в богах и героях вечное основа-
ние жизни, но не умопостигаемое, а вполне зримое, которому
может быть причастен любой человек. Смысл аристотелевско-
го подхода к мудрой жизни заключается в глубокой естествен-
ности идеального мира, данного в непосредственном пережива-
нии, в ситуациях повседневности (именно поэтому Аристотель
более всего ценит непосредственность дружеского общения).
Греческий символизм (особенно этический) практически сво-
боден от идеи тайны и отсылок к бессознательному — он прост,
ясен и достигает классической однозначности. Поскольку непо-
средственного опыта и срока жизни достаточно для обретения
мудрости, нет нужды выходить за пределы индивидуального
совершенства. Всеобщность — это удел сферы божественного,
абсолютного; поэтому Платон относит идеи к запредельному,
1 «“Тайна” была центральной концепцией символизма. И конечно же,
символизм сегодня снова на повестке дня... Я имею в виду куда более
скромную, почти неощутимую манеру, в которой скопления объектов, об-
разов и знаков, представленные в современных инсталляциях, соскользну-
ли за последние годы с логики провокативного диссенсуса к логике, свиде-
тельствующей о соприсутствии тайны» (Рансьер Ж. Разделяя чувственное.
СПб., 2007. С. 94).
1.1. Концептуализм и символизм
53
а идеальный мир считает чисто умопостигаемым, символически
непостижимым. Отвлеченность и непостижимость чистой идеи
контрастирует для грека с конкретностью непосредственного
переживания, в которой присутствует не голая наличность эмо-
ции, а поиск гармонии и возвышенной красоты. При общем по-
нимании возникает цветущая индивидуальность, когда все вели-
кие мужи похожи, но каждый прославился по-своему, когда все
Афродиты прекрасны, но каждая из них индивидуальна. При-
чем черты возвышенного и прекрасного доводятся до предель-
ной ясности, которая передается через наглядные классические
образы. В античном символизме великий муж или прекрасная
богиня не имеют «внутреннего», скрытого, идеального «Я» —
они воспринимаются сразу и целиком, как непревзойденные
образцы совершенства, совершенные эйдосы человека, но окра-
шенные в тона индивидуальных интерпретаций, которые дела-
ют человечными даже богов. Сопричастность красоте — это
сохранение памяти о возвышенных и достойных делах и жизнь
среди прекрасных образов. Впоследствии, под влиянием христи-
анства и рациональной метафизики, эта непосредственная на-
глядность была интерпретирована как языческая наивность. От
Августина до Данте вызревало стремление к обретению чистой,
рафинированной красоты, что привело к существенному устаре-
ванию античного эйдетического опыта, который перестал рас-
сматриваться как классическое совершенство. От Античности
до нас дошли лишь осколки или удачные ренессансные, роман-
тические, неоклассические интерпретации. Среди рассчитанной
урбанизированной среды обитания порой мелькнет возвышен-
ное и спокойное величие петербургской Биржи, с рядами белых
колонн на фоне широкой северной реки. Или в Павловске, среди
густого леса, нас охватывает строгое вечное спокойствие, исхо-
дящее от черных скульптур, которые прекрасны, но именно ин-
дивидуально, человечно прекрасны — и потому воспринимают-
ся сразу и во всем своем соразмерном совершенстве. Но — еще
раз повторю — это лишь остатки того величественного симво-
лизма, ушедшего от нас греческого и римского эйдоса.
Когда Давид Юм учит о бесконечной изменчивости впе-
чатлений, он впервые стремится научно постигнуть суть пси-
хологической индивидуальности опыта и возвести ее в ранг
метафизического принципа. Исходя из установок эмпиризма,
54
Глава 1. Идея и символ
нет принципов, которые были бы вечными и неизменными,
поскольку опыт зависит от условий протекания в определен-
ном месте и времени. И хотя опыт имеет трансцендентальные
основания, без которых он не может быть понятным, он тем
не менее подчиняется логике наличной ситуации, захваченности
моментом, а потому и стремится к обретению полноты лишь
в этом моменте. Сравнивая дух с театром, Юм психологиче-
ски верно передает относительную конечность эмпирических
«картин», которые требуют непосредственного участия так же,
как, к примеру, спектакль — непосредственного просмотра1.
И если психологическая завершенность эмпирического ряда
обычно ничем не заканчивается, сменяясь другим рядом, то
в рамках эйдетического опыта подобная непосредственность,
захваченность и завершенность становятся необходимыми
и существенными. Ведь эйдетический опыт — как форма воз-
вышенного опыта — должен обладать психологической убе-
дительностью и побуждать нас пережить его, как бы «вовле-
кая» в себя. Читая Шекспира, мы, конечно, наблюдаем эйдосы
человеческих страстей, но, даже чуждые подобным страстям
сами, находим в них созвучие своим устремлениям, опреде-
ленную образную законченность. Здесь не просто созерцание
возвышенного переживания, но и особая форма поучитель-
ного («опыта» в монтеневском смысле), когда стихийная не-
посредственность чувственности приобретает определенное
«самосознание» в рамках героического образца. Поэтому эй-
детический опыт — наиболее стабильная форма опыта, спо-
собная быть «законсервированной» в форме художественного
эйдоса. Однако такой опыт жив и востребован, только если
он отражен в частной непосредственности переживания. Тем
самым эйдетический опыт, оформляясь в виде объективных
1 «Наша мысль еще более изменчива, чем зрение, а все остальные чувства
и способности вносят свою долю в эти изменения, и нет такой душевной
силы, которая оставалась бы неизменно тождественной, разве только на
мгновение. Дух — нечто вроде театра, в котором выступают друг за другом
различные восприятия; они проходят, возвращаются, исчезают и смеши-
ваются друг с другом в бесконечно разнообразных положениях и сочета-
ниях. Собственно говоря, в духе нет простоты в любой данный момент
и нет тождества в различные моменты» (Юм Д. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.,
1996. С. 298).
1.1. Концептуализм и символизм
55
эстетических феноменов, может существовать только при ком-
муникации с переживанием, за счет которого он приобретает
живой и индивидуальный характер. Практически бесконеч-
ное варьирование художественного эйдоса в авторском опыте
порождает свойственное искусству разнообразие, сводящееся
к ценности индивидуального изобразительного языка, особо-
го мира, видения. В отличие от идеи, символ всегда прекрасен
и возвышен. Он воспринимается как образ — без рефлексии
и целиком: тут все подчинено эйдетической целостности, необ-
ходимости «ослепить» нас совершенством, его непосредствен-
ной явленностью. Если рассуждать эпистемологически, то
именно в этом коренится суть самого восприятия художествен-
ного образа. Это отмечает Аддисон: «Тщетно было бы исследо-
вать, проистекает ли способность ярко воображать предметы
из какого-либо большого совершенства души или какой-либо
более чувствительной ткани в мозгу одного человека по срав-
нению с другим. Несомненно одно: великий писатель должен
родиться с этой способностью во всей ее силе и энергии, чтобы
быть в состоянии получать живые идеи от внешних предметов,
долго хранить их и в подходящий момент выстраивать в такие
фигуры и изображения, которые скорее всего поразят вообра-
жение читателя. Поэт должен с таким же старанием обогащать
свое воображение, с каким философ развивает свой ум»1.
Рассел и Уайтхед развивают линию Юма, выводя концепт
«знания по знакомству» и признавая за опытом символический
характер. Уайтхед пишет: «В общем, символы более обычные
элементы в нашем опыте, нежели значения»* 2. Символический
уровень познания относится к изменчивому, образному пред-
ставлению, но рассматривается в этих трудах в духе эмпири-
ческой традиции — как форма чувственного опыта3. При этом
лингвистическое отображение факта, напротив, обладает фик-
сированным значением, которое устанавливается идеально. На
'Аддисон Дж. «Спектейтор» //Из истории английской эстетической
мысли XVIII века. М., 1982. С. 208.
2 Whitehead A. N. Process and Reality. New York, 1967. P. 277.
3 Прежде всего, на уровне традиции и исторической эпохи: «Разнообра-
зие среди человеческих сообществ необходимо для возникновения побу-
дительных мотивов и материальных условий для Одиссеи человеческого
духа» (Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 270).
56
Глава 1. Идея и символ
наш взгляд, подобный дуализм символа и имени приводит к су-
щественным трудностям, вызванным именно тем, что у Рассела
и Уайтхеда (как и во всей ранней аналитической эпистемоло-
гии) отсутствует разделение на обыденную и возвышенную фор-
му опыта; и символизм они переносят на весь опыт вообще, а не
на исключительно возвышенный опыт. Поэтому образ (такой,
как уткозаяц) воспринимается в старом духе учения о непосред-
ственной символической наглядности кантианских школ, тогда
как символ — это особая, развитая форма опыта, несовместимая
с ощущением1. Я полагаю, что нет такого опыта, который не был
бы концептуально окрашен и не мог бы послужить исходным
материалом для символизации. Однако символы требуют не
просто опыта, а особого опыта, поэтому и проявляются наиболее
ярко в «необыденных», культурно развитых формах — таких,
как искусство, исторический опыт, миф. Переживание, непо-
средственная данность в опыте для символа воспринимается не
наглядно, а эйдетически. То есть с позиций классической эпи-
стемологии объект возвышенного опыта — косвенный объект,
взятый как наглядный или вербальный символ, а не как физи-
ческий объект. Античная скульптура созерцается как наглядная
совершенная форма, но не как слепок с натуры, а как воплоще-
ние гармонии, тем самым оказываясь за пределами обыденного
восприятия.
Как эйдос промежуточен между вещью и идеей, так про-
межуточен и возвышенный опыт, связующий чувственность
с рациональностью. Часто практикуемый редукционизм, сводя-
щий символы либо к одной только чувственной, либо к рацио-
нальной природе, кажется мне неверным. Здесь стоит глубоко
вдуматься в особенности концепций трех великих философов.
Во-первых, Платон не удовлетворяется мирами вещей и идей,
постулируя пусть и неопределенный, но особый мир эйдосов.
Во-вторых, Кант не удовлетворяется наличием двух дисциплин
1К примеру, эротическое искусство часто предназначалось для будуаров
знатных особ с совершенно понятными целями. Однако картины Рубенса
или Буше не могут быть предметом исключительно чувственного созерца-
ния — они воспринимаются, прежде всего, с точки зрения красоты изоб-
раженного человеческого тела самого по себе, а лишь затем эротическо-
го переживания, которое это тело вызывает. Буше заставляет любоваться
своими героинями, а не возбуждаться от вида чувственной наготы.
1.1. Концептуализм и символизм 57
философии (критики чистого разума и критики практического
разума), дополняя свое учение критикой способности сужде-
ния, которая учит о «промежуточной» сфере художественного
опыта. В-третьих, Уайтхед не удовлетворяется психологизмом
в трактовке восприятия и связывает опыт с моментом симво-
лизма. О чем свидетельствуют эти особенности, которые многие
критики объявляли «непоследовательными» или периферий-
ными? Предположу следующее: сфера символического не может
рассматриваться как рациональная, но вместе с тем она тре-
бует особого, специфического опыта — опыта, не похожего на
повседневные, обычные ощущения; опыта, который выводит нас
к сфере прекрасного и возвышенного, объектом которого высту-
пает не вещь, а «вещь, взятая в аспекте своего совершенства»,
то есть эйдетическая форма.
Возвышенный эйдетический опыт не должен восприни-
маться как «познавательная способность», поскольку механиче-
ское представление о сознании глубоко ложно. Дэвидсон верно
отмечает, что разделение на познавательные способности столь
же несостоятельно, как разделение на свое и чужое или на субъ-
ективное и объективное1. Доверие к другому языку или сопере-
живание возвышенному по своей природе коммуникативно, а не
статично, как особое состояние; это процесс постепенного «зна-
комства», порождающего все новые интерпретации2. И в этом
1 «Поскольку доверие является не просто свободным выбором, а услови-
ем для того, чтобы иметь работоспособную теорию, бессмысленно пола-
гать, будто, одобряя его, мы делаем серьезную ошибку. До тех пор пока мы
не имеем систематической корреляции предложений, истинных для носи-
теля языка, с предложениями, истинными для переводчика, мы вообще не
делаем никакой ошибки. Доверие воздействует на нас, хотим мы этого или
нет, и если мы стремимся понимать других, мы должны считать их в ос-
новном правыми... Конечно, истина предложений является относительной
к языку, но она объективна, насколько это возможно. Отказываясь от ду-
ализма схемы и реальности, мы не отбрасываем мир, а восстанавливаем
непосредственный доступ к знакомым объектам, чьи «гримасы» делают
наши предложения и мнения истинными или ложными» (Дэвидсон Д. Ис-
тина й интерпретация. М., 2003. С. 276-277).
2 «Я же утверждаю, что у нас вообще нет никаких идей до тех пор, пока
мы не объединены некоторой общей картиной мира. Я считаю ошибоч-
ным представление о том, что каждый из нас обладает заранее какими-то
собственными идеями, и мы вырабатываем язык, чтобы обнаружить, в чем
58
Глава 1. Идея и символ
плане возвышенный опыт подлинно человечен, поскольку он
побуждает нас, по меткому выражению Рорти, отказываться
общаться с внечеловеческой реальностью1. Безусловно, эйдети-
ческая реальность как таковая может быть и внечеловеческой.
Боги остаются богами, но вне человеческого измерения они на-
столько абсолютны и далеки, что неизбежно удаляются в иной
мир, становясь бестелесными духами и абстракциями, а гораздо
чаще — суровыми идолами. Пусть похождения греческих богов
и богинь не вяжутся с представлением о вечном совершенстве,
но они делают этих богов человечными. Так и у Аристофана
в «Мире» Гермес фигурирует в образе достойного и веселого
мужа, который лишен и тени высокомерия, обладая при этом
аристократическим достоинством; он по праву открывает сва-
дебный пир, увлекающий всех в карнавальное действо.
Рассуждая о внерациональных источниках философии,
И. Берлин особо выделяет творчество ранних немецких иссле-
дователей античности, которые предпочитали рассуждать не
о метафизике, а об истории и искусстве. Например, о Гердере
и Гамане он пишет: «Гердер заимствовал у Гамана его представ-
ление о том, что слова и идеи суть одно и то же. Процесс мыш-
ления состоит не в том, что человек сначала думает мыслями
и идеями, а затем подыскивает слова, в которые, так сказать,
“одевает” их, наподобие того, как примеряют перчатку, чтобы
пришлась впору руке. Гаман учил, что мыслить значит исполь-
зовать символы и что отрицание этого факта есть не столько за-
блуждение, сколько непонимание, потому что без символизма
непременно придешь к ошибочному разделению единого опыта
на отдельные сущности — к роковому учению Декарта, который
говорил о душе и теле, мысли и ее объекте, материи и сознании
так, как будто это независимо существующие явления»2. В сим-
мы сходимся и расходимся. Только с возникновением коммуникации по-
являются и идеи. Мы должны общаться и мыслить совместно. И если нам
это удается, мы совершаем великое дело» (Боррадори Дж. Американский
философ. М., 1999. С. 66).
1 «Наша достоверность будет вопросом, связанным с понятием разгово-
ра между людьми, а не вопросом взаимодействия с внечеловеческой ре-
альностью» (Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997.
С. 116).
2 Берлин И. Подлинная цель познания. М., 2002. С. 440.
1.1. Концептуализм и символизм
59
волизме мы обретаем высшую целостность представления; но
эта целостность возможна только в форме непосредственности
возвышенного опыта и выступает таковой лишь в эйдетическом
смысле. «Рождение Венеры» Боттичелли, «Афинская школа»
Рафаэля, «Бегство в Египет» Тициана воспринимаются целостно
в смысле эйдетической реальности, которая не сводится к одной
лишь видимости. Пространство этих картин как объект обы-
денного созерцания лишено всякой целостности и «распадается
на группы», составлено из нескольких самостоятельных ком-
позиций. Но целостность здесь проявляется как раз не в изоб-
разительности, не в эмпирической наглядности, а в определен-
ном «плане», который объединяет сюжет; поэтому «Афинская
школа» — не конгломерат философов, а символ античной мысли.
Рафаэль стремился передать именно единство и величие древ-
ней мысли, ее «дух», но на образном, художественном языке,
который требует особого восприятия, созерцания. Это созер-
цание включает в себя законченность, простоту, всеохватность,
убежденность в присутствии прекрасного или возвышенного
начала, явственность лирического или эпического мотива, клас-
сическую завершенность и даже определенный академизм.
Как отмечает Оукшотт, исторический мир во многом ли-
шен закономерностей, а порой и самого смысла, полон слу-
чайностей и непостижимых поворотов событий1. Но тут речь
идет никак не о символическом мире, который, наоборот,
эстетичен — в том смысле, что этот мир стремится обрести
законченность, классичность, стать собранием совершенных
форм, которые будут нетленны в веках. Именно в этом смыс-
ле немецкие классики приписывали образам искусства веч-
ность, соизмеримую разве что с вечностью понятий духа. На
мой взгляд, античная и романтическая трактовка символизма
различаются той ролью, которая отведена интерпретации. Ро-
мантическая трактовка — тоже классическая в том плане, что
чувство становится законченным в себе символом; но она всег-
1 «Однако “историческое” прошлое носит иной характер. Это сложный,
трудный для понимания мир, мир без единства чувств и ясного сюжета:
в нем события не имеют единого образца и замысла, никуда не ведут, не
указывают на предпочитаемое строение мира и не служат основанием для
практических выводов. Это мир, целиком состоящий из случайностей»
(Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 152).
60
Глава 1. Идея и символ
да интерпретирует, пропускает реальность через себя, особен-
но реальность художественную и историческую. В античной
же трактовке символ обретает эстетическую неподвижность,
словно восходя на некий пьедестал, отстраняясь от мира непо-
средственных переживаний, замыкаясь в собственном совер-
шенстве. Однако и в том и в другом случае присутствуют два
аспекта, свойственные только символу: эйдетический характер
и интерпретация. Просто в античной форме эйдос явлен для
интерпретации, а в романтической интерпретация сама стано-
вится как бы «путем к эйдосу».
Бодлер в знаменитом сонете «Соответствия» (программ-
ном для позднейших символистов) вводит поэтическую мета-
фору леса символов:
Природа — некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он1.
Подобным же образом представлял позднее Средневе-
ковье Хёйзинга. Мне эта метафора представляется чрезвы-
чайно убедительной. Эйдетический опыт только кажется
вечным, а символы — нетленными. Хотелось бы, безуслов-
но, чтобы символы приобрели логическую неизменность
идей — но это, увы, не их форма существования. На мой
взгляд, именно позднее Средневековье и Ренессанс оконча-
тельно закрепили духовную ситуацию поздней Античности,
когда оказался утраченным единый порядок символизма,
и символические миры начали конкурировать между собой,
обнажив различия собственных оснований. Начиная с эпохи
Возрождения, чистый символизм оказывается невозможным
в принципе, поскольку он уже выступает как форма «исто-
рического» сознания, проявляющаяся в интерпретации. По-
следняя при этом приобретает собственное измерение, что
делает ее не подражательной, а оригинальной2. Только ин-
терпретация способна ориентировать нас в «чаще» симво-
1 Перевод В. В. Левика.
2 В этом коренится огромная разница между подражательным искус-
ством римлян и оригинальным искусством мастеров Ренессанса.
1.1. Концептуализм и символизм
61
лов, поскольку она «выбирает» те из них, которые созвучны
собственной оригинальной основе. А это позволяет культуре
не останавливаться в постоянном комментировании и хра-
нении, а осуществлять обновление за счет интерпретаций,
ведущих к новым вариациям эйдетического опыта. Конеч-
но, вполне возможно стремление создать радикально новые
формы опыта (что характерно для модернизма), равно как
и радикально новые символические миры: было время, когда
Гомер и Пракситель выступали новаторами. Однако любой
новый символизм оторван от корней, если не связан с мифо-
логизированной традицией и не отвечает на запросы опыта.
В этом отношении появление любого возвышенного опыта
столь же не случайно, как и возникновение новой философ-
ской системы: символ ведь значителен ровно настолько, на-
сколько значительно то, что он символизирует; настолько,
насколько он человечен, то есть отвечает на высшие запросы
души человека, живущего в рассматриваемой традиции.
В заключении раздела я хотел бы обратиться к лично-
сти великого мыслителя, которому мы обязаны хранением
возвышенности античного духа и которого можно назвать
основоположником символизма, — речь, конечно же, о Ци-
цероне. Как метафизик Цицерон редко оригинален и обычно
только комментирует мысли древних философов. Но в чем
же тогда секрет его популярности? Что делает Цицерона учи-
телем стольких поколений? Слава его не столько в глубине
идей, сколько, прежде всего, в уникальной живости их из-
ложения. Будучи прекрасным оратором и писателем, Цице-
рон создал образ философа-моралиста, рассуждающего обо
всех явлениях жизни и повсюду ищущего истину. Цицерон
пишет не только о благе, добре, красоте и т. д., но, в отличие
от других этиков, исследует отдельные, частные проявления
моральной жизни: старость, дружбу, совесть, обязанности.
Он всегда не только мудрец, но и наставник, близкий каждо-
му человеку. Все идеи он представляет символически: через
возвышенные и прекрасные примеры из биографий великих
мужей, через описания жизни богов, исторические события.
Цицерон рассуждает по-особому: он не доказывает истины,
а скорее «показывает» их, выводя как эйдетические образы.
При этом он достигает особой лингвистической законченно-
62
Глава 1. Идея и символ
сти в описании возвышенных черт и поступков — и эти опи-
сания становятся после него неотъемлемыми смыслами тех
слов и выражений, которые он употребил, выступая идейной
данностью для поэзии, живописи и морали. В лице Цицерона
можно видеть воплощение иного, в целом ряде черт альтер-
нативного, проекта философии, основанного на приоритете
символического, а не концептуального представления.
1.2. Символ как форма познания
В предыдущем разделе мы пришли к выводу, что символы
и понятия имеют разные источники познания и не могут быть
сведены друг к другу. Здесь же хотелось бы остановиться на сим-
воле как особой познавательной форме. Нет сомнения, что сим-
вол не есть форма знания; он отражает иные установки и имеет
иные функции, нежели идея. Во многих философских школах
символы служат видом концептуального познания и рассматри-
ваются по образу и подобию идей — но это неверно: посколь-
ку, как мы установили, символы суть выражение эйдетического
опыта, то они берут начало вне разума. Вернее, с учетом теории
эйдетического опыта, сама рациональность требует пересмотра,
будучи несвободной от влияния символизма.
В античной философии эйдосы соответствуют определенным
местам в памяти души. Эйдос — воспоминание, миф, первообраз,
непосредственно явленный опыту, но неартикулированный, рассу-
дочно непостижимый. Восходящий к Мусею (по свидетельству Ди-
огена Лаэртского) образ шара воспринимается как эстетический,
телесный образ, представляемый по образу и подобию скульптур-
ного совершенства. При этом — я настаиваю — за этим шаром не
стоит никакого «идеального шара», образом которого он является.
Это —. эйдетический образ, непосредственно явленное геометри-
ческое совершенство формы; тут важно, что шар — совершенная
и гармоничная фигура, воспринимаемая одинаково с любой точки.
Умопостигаемый, идеальный шар — ненужная здесь абстракция,
которая не ведет к пониманию сути. Эйдос — это идеальная фор-
64
Глава 1. Идея и символ
ма, но ее идеальность заключена в особенностях опыта, усматри-
вающего в нем совершенство и представляющего образ шара как
эстетически определенный символ. При этом обращение к симво-
лу важно и для понимания сути отвлеченных идей. Как отмечает
Р. В. Светлов, «нужно сказать, что платоновский Сократ постоянно
пользуется “моделированием”, рассуждая о вещах высоких при по-
мощи бытовых примеров, за что его осуждают оппоненты»1.
В античной форме символизм сохраняет свою телесность и не-
посредственность переживания в опыте, что зачастую трактуется
в наши дни как созерцательная наивность. В действительности это
далеко не так: Платон и Аристотель четко разделяют чисто умопо-
стигаемое и то, что относится к эйдосу и требует обязательной зри-
мой формы. Глядя на Афродиту Книдскую, мы поначалу совсем не
думаем. Но парадокс заключается в том, что мы не просто смотрим
(то есть чувствуем), а сразу уделяем внимание созерцанию красоты
как наглядного целого, представленного в индивидуальном образе.
Поэтому такие сущности, как красота, дружба, любовь, у Платона
и Аристотеля рассматриваются как не поддающиеся теоретической
формализации. К примеру, Эрот определяется как порождение
в красоте, обладание красотой, обретение родственной души, что
неотделимо от особого возвышенного переживания. Абстрактную
красоту нельзя представить2. Афродита небесная — это чистый
и бесплотный идеал, которому никогда не суждено стать живым.
Афродита земная чувственно постигаема, в ней нет ничего возвы-
шенного. Поэтому для правильного представления и существует
эстетический возвышенный опыт, в рамках которого Афродита вы-
ведена как художественный эйдос, совершенство которого преоб-
ладает над всеми прочими особенностями восприятия3.
1 Светлов Р. В. «Политик» и элейское политическое искусство // Плато-
новский сборник. Т. II. М.; СПб., 2013. С. 168.
2 «Ведь тут снова вступает в силу известное уже положение, что угождать
следует людям умеренным, заставляя тех, кто еще не отличается умерен-
ностью, стремиться к ней, и что любовь умеренных, которую нужно бе-
речь, — это прекрасная, небесная любовь. Это — Эрот музы Урании. Эрот
же Полигимнии пошл, и прибегать к нему, если уж дело дошло до этого,
следует с осторожностью» (Платон. Федон. 187d).
3 В своей знаменитой картине Тициан сумел сгладить противоречия меж-
ду двумя Венерами. Небесная Венера у него не лишена прелести, а земная
Венера, хотя и представлена обнаженной, выглядит целомудренной и дев-
ственно чистой.
1.2. Симол как форма познания
65
Античный символ носит телесный и топологический ха-
рактер. Он не требует ничего, кроме правильного созерцания,
которое эпистемологически строится всегда по одному образу
и подобию. Предметом этого созерцания служит не вещь, а ее
эйдос, взятый в совершенном, опоэтизированном, возвышенном
аспекте, в результате чего устанавливается образная, символи-
ческая всеобщность. К примеру, все мужественные эллины при-
частны Аресу, Гераклу и Ахиллу, потому что те воспринимаются
как вполне реальные, но вместе с тем совершенные образцы, как
примеры для уподобления и подражания. Когда Сократ перед
Алкивиадом начинает рассуждать о храбрости самой по себе, он
/юкидает устойчивую символическую почву, трактуя храбрость
как идею, абстрактную добродетель. Это, без сомнения, прин-
ципиально иное отношение, поскольку символическое пред-
ставление храбрости требует воодушевляющего примера, веду-
щего душу к добродетели1. В символическом сознании, как оно
представлено у древних поэтов, лишь храбрые могут рассуждать
о храбрости, поскольку они ее постигли на собственном опыте.
Завещая путнику рассказать о нем и его воинах, Леонид обра-
щается не к «мужеству вообще», а к духу спартанцев, к граждан-
ской самоотверженности, вследствие чего мужество и доблесть
Леонида оказываются сопричастными сфере символического.
Впрочем, подобные эйдетически законченные портреты мужей
характерны для древней истории, когда на первый план выхо-
дили не факты, а возвышенные (или, наоборот, постыдные) по-
ступки2.
1 Интересна трактовка Ксенофонта. Добродетель (в образе богини) гово-
рит Гераклу: «Из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего
не дают без труда и заботы: хочешь, чтобы боги были к тебе милостивы,
надо чтить богов; хочешь быть любимым друзьями, надо делать добро
друзьям; желаешь пользоваться почетом в каком-нибудь городе, надо при-
носить пользу городу; хочешь возбуждать восторг всей Эллады своими
достоинствами, надо стараться делать добро Элладе; хочешь, чтобы земля
приносила тебе плоды в изобилии, надо ухаживать за землей...» (Ксено-
фонт. Разговор с Аристиппом об умеренности. Рассказ Продика о Геракле.
1,2,24). Тем самым Ксенофонт ближе к практическому, а не теоретическо-
му пониманию добродетели.
2 Отношение к истории в древности передает Марк Аврелий: «Все крат-
ковечно и вскоре начинает походить на миф, а затем предается и полному
забвению» (Марк Аврелий. Размышления. IV, 33).
66
Глава 1. Идея и символ
Топологичность символизма восходит к необходимости
мифологического освящения символа и относится еще к доэл-
линским временам. Рассуждая о минойском Крите, Ю. В. Андре-
ев пишет: «В понимании самих минойцев, все эти особенности
ландшафта были наполнены глубокой религиозной символикой
и воспринимались как неоспоримое свидетельство присутствия
самой великой богини — “матери-земли”, в лоне которой и рас-
полагался дворец. Архитектура дворца должна была восприни-
маться в этом случае как своего рода искусственное дополнение
к тем естественно-скульптурным формам, которые были созда-
ны вокруг него самой природой»1. Архитектурный символизм
святилища выступает древнейшей известной нам формой сим-
волизма, когда место воспринимается сакрально-мифологи-
чески, а не географически. Место расположения храма — это
«топос», то есть символическая точка, связанная с присутстви-
ем божества. И если в варварских культурах эта возвышенность
относится лишь к богам и лишена человечности, то у эллинов
она соразмерна человеку, вследствие чего храм становится не
только святилищем, но и творением искусства, воплощени-
ем гармонии и красоты. Дорический храм не впечатляет своей
грандиозностью и мощью — напротив, он изящен, гармоничен,
светел, слит с окружающей природой, окидывается взором сразу
со всех сторон2. То есть храм — это топологический символ, до-
ступный только созерцанию в эйдетическом опыте, требующий
сопричастности мифу и непосредственному участию в мисте-
рии. Когда исчезает этот опыт, храм пустеет, теряет свой искон-
ный символизм, приобретая иные функции, — или же погибает
от времени или рук человека.
Современные теории информации, начиная с теории треть-
его мира Поппера, учат, что информация может храниться веч-
но, будучи даже невостребованной, при условии возможности ее
распознавания. В определенной степени идеи — это основа такой
информации, поскольку концептуальный язык стремится исклю-
1 Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. СПб., 2002. С. 137.
2Греческий храм всегда хорошо «поставлен». Впоследствии, с уплотнени-
ем городской застройки, это искусство оказалось невостребованным. Лишь
изредка новые мастера приближаются к величию древних зодчих в «поста-
новке» сооружений. Среди удачных примеров — Вилла Ротонда Палладио,
Павловский дворец Камерона, Биржа Тома де Томона.
1.2. Симол какформа познания
67
чить любую частную трактовку. Квадрат как объект математики
мало изменился со времен Пифагора, тогда как символически
он приобретал самые различные интерпретации, многие из ко-
торых — как, к примеру, квадратура круга — имеют ныне чисто
историческое значение. Поэтому символы нельзя назвать ин-
формацией, это — объект символической памяти, которая «вспо-
минает» их самыми различными способами, а зачастую и пре-
дает полному забвению. В мифологическом символизме греков
практически нет репродукции и стремления к вечному хранению:
греки рассказывают одно и то же, как бы на разные лады. К при-
; меру, любая биография символична, поскольку она рассказана
в^озвышенной манере, что делает ее трудноотличимой от эпоса
в традиционном смысле слова. Биографии аргонавтов и героев
греко-персидских войн чрезвычайно схожи. При этом греками
совершенно не берется в расчет эпистемологическая проблема
сомнительности существования Ясона, Одиссея и прочих леген-
дарных лиц. И это не упущение греков, не недостаток научности
в истории, а следование иным канонам. Биография героев рассма-
тривается как сказание не просто о жизни, а об особой, символи-
ческой жизни, которая возвышенна и причастна божественному.
В этом отношении античный герой уподобляется романтическо-
му гению: оба они «отмечены богами», выступают избранными
«образцами» человеческого рода, достойными всяческого под-
ражания. В наше время такой символизм, конечно, недопустим
в сфере истории и философии, но он живуч и перекочевал в сферу
литературы, в которой по-прежнему герой выступает символиче-
ской фигурой, воплощающей в себе не человеческую личность,
а определенный эйдос, постижимый только при понимании его
«предназначения» и «судьбы».
Перед тем, как определить суть символического представле-
ния, нельзя не обратиться к общеизвестным историческим фактам,
согласно которым представления о мире и истории вплоть до Но-
вого времени носили символический характер и подчинялись ми-
фологическому (реже художественному) символизму, совершенно
не считаясь с логикой и рациональностью. К примеру, для Данте
характерно такое понимание истории: «В соответствии с расчетами
Р. Бенини Данте делил историю на две части. Первая — это 6500 лет
от сотворения Адама до 1300 г., вторая — от 1300 г. до Страшно-
го суда, также 6500 лет. В сумме 13000 лет. 1300 год представляет
68
Глава 1. Идея и символ
собой центр истории»1. Один из предшественников Данте Пифагор
так представлял числовую гармонию (по Э. Шюре): «Монада изоб-
ражает сущность Бога. Диада — его производительное свойство.
Последнее вызывает к жизни вселенную... Проявленный мир —
тройственен, ибо как человек состоит из трех различных элемен-
тов, сплавленных вместе, из тела, души и духа, так и вселенная
делится на три концентрические сферы: мир естественный, мир
человеческий и мир божественный»2. Если обратиться к алхимии,
то тут присутствуют такие толкования: «Правило: “Следуй также
предреченным правилам”. Толкование: “Считается, что планеты
и божества проявляют свою силу согласно неизменной иерархии.
За царством Меркурия, первой стадией Делания, следует царство
Сатурна... Затем правит Юпитер... вслед за ним Диана... или Луна,
в сверкающем одеянии из белых волос и снежинок. Далее трон пе-
реходит к Венере, чей цвет зеленый. Однако ее вскоре прогоняет
Марс... но и этого воителя в одежде цвета спекшейся крови низвер-
гает с трона Аполлон”»3.
В настоящее время подобные суждения воспринимаются двоя-
ко: либо как памятники прежних форм культуры, либо как занима-
тельные и зрелищные парадоксы. Наукообразное сознание совре-
менности еще только приходит к пониманию того факта, что, как
отмечает Ж. Ле Гофф, люди действительно живут и мыслят, исходя
из установлений собственной традиции, то есть не так, как это де-
лаем мы. Я подозреваю, что греки не сознавали «мифологичное™»
своего мышления. Любая форма исторического символизма прав-
дива в непосредственности опыта своего времени и концентрирует
в себе возвышенные представления, свойственные именно этому вре-
мени. В алхимии эйдетические компоненты воспринимаются как
форма связи веществ и планет. Равно как и моральный символизм
Ренессанса неотделим от поиска аналогий современности в древней
’ Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. М., 1990. С. 92.
2 Шюре Э. Великие посвященные. М., 1990. С. 257.
3 Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики
с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания. М., 2004. С. 321.
По И. Бехеру, химические элементы находятся в связи со знаками светил
и прочими символами. То же в книге «Каббала» (1663), где в виде слож-
ной аллегории изображены связи стихий, знаков Зодиака, химических ре-
акций, аллегорических фигур; на переднем плане мы видим изображение
человека с завязанными глазами.
1.2. Симол как форма познания
69
истории и исходит из презумпции исчерпанности учения о челове-
ке в трудах римских историков и поэтов. И вполне вероятно, что
«научные» формы современного символизма покажутся для опыта
наших потомков странными и фантастичными. Тем самым можно
заключить, что только философии духа вносит идею историчности
символов, приближаясь к пониманию их подлинности, — до того
символизм существовал в рамках замкнутых символических пара-
дигм, в которых обычно обращались к прошлому для свободного
и вольного заимствования. Ренессанс называют возрождением
античности, но греческая архитектура возрождена столь же воль-
но и некритично, сколь и «древние» детали быта, когда античные
и библейские герои облачены в средневековые одеяния. Только
в романтизме символическое в истории восстанавливается как ин-
дивидуально-сущее и подлежит исторической и художественной
реконструкции. Начиная с Гердера и Гёте, сама история трактуется
как смена символических эпох, а человек — как существо, живущее
в символическом мире культуры.
Гёте осознает художественный опыт как форму возвышен-
ного, непосредственного восприятия совершенства, выраженного
в конкретно-образной форме. Он пишет: «Художник, который по-
стоянно созерцает, чувствует и мыслит, видит предметы в их выс-
шем величии, в их наиболее выразительной действенности и чи-
стейших пропорциях, и когда он воспроизводит их, то его работу
облегчает метод, созданный им самим, воспринятый от предше-
ственников и заново им переосмысленный»1. Говоря о методе, Гёте
имеет в виду, конечно, особенности стиля и строя метафор, а не
метод в картезианском смысле слова — как набор правил для руко-
водства ума. При чтении сочинений Гёте об искусстве или его бесед
с Эккерманом создается впечатление, что он постоянно колеблется
в вопросе, можно ли считать искусство формой познания, — и это
существенно отличает Гёте от Канта. Поэтический мир представля-
ется автору «Фауста» как совокупность символов, которые откры-
ты для особого опыта, особого способа видения:
Лишь символ — все бренное,
Что в мире сменяется;
Стремленье смиренное
Лишь здесь исполняется;
’Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 189.
70
Глава 1. Идея и символ
Чему нет названия,
Что вне описания, —
Как сущность конечная,
Лишь все здесь проходит,
И Женственность Вечная
Сюда нас возводит.
Созерцая мир, художник передает образность совершенных
сущностей — поэтому он и стремится к возвышенному. Гёте перено-
сит свои эстетические взгляды и на философию природы, создавая
исходный романтический символический мир как одухотворенное
и возвышенное сущее. Рассуждая о природе, он глубоко проникает
в суть эйдетической реальности, которая скрыта для рассудочно-
го познания и открывается лишь живому возвышенному опыту.
Одухотворенность природы возможна только при рассмотрении
каждой вещи с точки зрения ее эйдетического начала; романтизи-
рованная природа одухотворена именно как символ, а не как идея,
и раскрыта для чувства, а не для разума. Как отмечает Гёте, лучшие
свои стихи он творил, совершенно не рассуждая. Ведь что такое ро-
мантизированный мир? Это проекция доведенного до совершенной
ясности чувства, достижение тождества душевной и природной со-
ставляющей в возвышенной форме. Шеллингианское тождество
мышления и бытия, будучи отвлеченной метафизической идеей,
воспринимается в романтизме живо и даже драматично: через от-
ношение отчужденности, борьбы и утраты. Гегель в связи с этим
отмечает «загадочность» символа, неспособность перевести его на
концептуальный язык, несоответствие между явственным значени-
ем и скрытым смыслом.
Характерное различие между античным и романтическим
символизмом я усматриваю, прежде всего, в разных трактовках
человеческого опыта. Античность знает мудреца, но не гения; гре-
ческий философ или поэт причастен космическому символиз-
му, традиции. Он внутри ее, а не вовне. К тому же грек не мыслит
возможности иных символических порядков. Великая личность
мудреца, конечно, достойна особого рассмотрения, но она поме-
щена в ряд других великих личностей, порой совершенно сливаясь
с ними, утрачивая собственную индивидуальность. Романтиче-
ский же символизм — это индивидуалистическая форма, и в этом
отношении он неразрывно связан с рационалистическим осозна-
нием «Я» как субъективного духа, выступающего субстанцией.
Если грек «растворен» в сущем, то романтик противостоит это-
1.2. Симол как форма познания
71
му сущему как собственной противоположности. Подчиненное
космическому символизму греческое сознание не выделяет «Я»;
в этом отношении оно мифологизировано, полностью растворено
в традиции, а потому совершенно не конфликтно, а, наоборот, со-
зерцательно и гармонично1. Тогда как романтизм по самой своей
сути есть бунт; и романтический символизм перенесен в сферу пере-
живания, которое рассматривается как символическое отображе-
ние деятельности духа. В этом смысле наблюдается героизация не
самой личности, а ее чувственного порыва, представленного не как
умудренное созерцание, а как отчаянное противоборство. Однако,
при всех противоречиях, романтический символизм необходим,
поскольку только в нем осознается индивидуальная составляющая
эйдетического опыта, зависимость символического от жизненной
непосредственности переживания и, как следствие, «пропускание»
символа через горнило собственного внутреннего мира, вследствие
чего этот мир «Я» становится не бесстрастным и гармоничным,
а, напротив, исполненным несчастья и трагичности. Романтическое
художественное сознание — несчастное сознание вследствие утра-
ты мифа и традиции, необходимости единоборства с миром, что
сопровождается ностальгическим переживанием утраты античной
гармонии и простоты. Все эти сложнейшие диалектические процес-
сы заметил Шеллинг, который так пишет о романтической живо-
писи: «Противоположность между античным и новым в только что
приведенном отношении можно было бы выразить и так: древние
поэтичны в пластике и, напротив, пластичны в поэзии... В картинах
новых художников присутствует экспрессия насильственного, те-
лесного действия. Картины античных художников, поскольку они
отмечены настроением спокойствия, именно поэтому действитель-
но поэтичны. С другой стороны, античные авторы даже и в поэзии
пластичны и, таким образом, гораздо полнее выражают родство
и внутреннее тождество словесного и изобразительного искусства,
чем новейшие»2. Свойственное Шеллингу филэллинство заставляет
его превозносить именно античный символизм; однако я признал
бы романтический символизм равно великим и необходимым, вы-
ступающим альтернативой и противоположностью античного эй-
1 «Мифологию вообще и любое мифологическое сказание в отдельности
должно понимать не схематически и не аллегорически, но символически»
(Шеллинг Ф. В. Философия искусства. СПб., 1996. С. ПО).
2 Шеллинг Ф. В. Философия искусства. СПб., 1996. С. 338.
72
Глава 1. Идея и символ
детического опыта. Я даже склонен предположить, что при резком
несоответствии традиционного символизма и запросов эйдетиче-
ского опыта возникает устойчивая неудовлетворенность, порожда-
ющая скорее романтические, нежели классические формы; и в этом
плане первыми «романтиками» (конечно, условно) можно назвать
римских поэтов I в. до н. э. (от Катулла до Овидия), уделяющих го-
раздо большее внимание непосредственности переживания, озабо-
ченных разложением и гибелью великого греческого символизма.
Таким образом, романтическое отношение теоретически может
появиться там, где эйдетический опыт опередил в своем развитии
символизм существующей традиции и, будучи гонимым, пока еще
не находит возможности создать новую традицию, иной символи-
ческий язык. Эйдетический опыт романтика индивидуалистичен
вследствие того, что он оказывается «лишним», несвоевременным,
но вместе с тем чрезвычайно перспективным и меняющим челове-
ческий образ, создающим новый стандарт возвышенности личности.
Трагическая ненужность Онегина или Печорина — это, прежде все-
го, их новый опыт, особая возвышенность, которая совершенно не
нашла себе места в обществе и потому полностью воплотилась в ин-
дивидуализме, самовыражении в виде «новых» идей. Не Онегин,
а возвышенный тип его личности оказался лишним и ненужным,
поскольку в обществе еще господствовали совсем другие понятия.
Поскольку Гёте, Байрон или Пушкин судят с позиций лирического
опыта, то они воспринимают сознание романтика как трагическое,
несчастное сознание, лишенное корней и оснований. В метафизи-
ке, вышедшей из романтизма, напротив, это сознание приобретает
черты возвышенного духовного героизма; трагический индивидуа-
лизм превращается в кредо жизни, необходимый этап самосознания
духа. Штирнер пишет: «Я — собственник своей мощи и только тог-
да становлюсь таковым, когда сознаю себя Единственным. В Един-
ственном даже собственник возвращается в свое творческое ничто,
из которого он вышел. Всякое высшее существо надо мной, будь то
Бог или человек, ослабляет чувство моей единичности, и только
под ослепительными лучами солнца этого сознания бледнеет оно»1.
И, как вторит ему Кьеркегор, несчастье оказывается абсурдным на
фоне романтической героизации: «Ведь несчастный — это тот, чей
идеал, чье жизненное содержание, полнота сознания, собственная
1 Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994. С. 353.
1.2. Симол как форма познания
73
сущность лежат где-то вне его самого. Несчастный всегда отсут-
ствует, он никогда не современен самому себе»1. Таким образом,
эйдетический опыт как форма индивидуального сознания тяготеет
к обособлению герметичного приватного мира, где человек высту-
пает господином и судией, совершенство которого всецело зависит
от собственных оценок.
Романтический поэтический миф интересен нам не только сам
по себе, но, прежде всего, как форма становления индивидуального
эйдетического опыта. Ведь в отличие от идеалистической метафи-
зики (с которой романтизм тесно связан), в сфере поэзии присут-
ствует непосредственность опыта и оперирование символами; по-
этический язык романтизма «мыслит» словесными образами. При
этом эйдетический опыт достигает полного обособления от тради-
ции и входит в стадию индивидуализма, когда символический мир
творится в духе гения, индивидуальности, творца, великой лично-
сти. Пристрастие романтизма к мифу и легенде только по видимо-
сти «восстанавливает» дух античности. На самом же деле романтик
творит новый миф — миф о самом себе, свою собственную мифи-
ческую биографию, «одиссею» духа. По словам Р. Вагнера, «не-
сравненно в мифе то, что он во всякое время остается правдивым,
а его содержание — при наибольшей краткости — неисчерпаемым.
Задача поэта заключается в том, чтобы выразить его»2. Миф антич-
ности — основа традиции; если он и имеет истоки, то они теряются
в глубине веков. Миф романтизма — это история субъективности,
смена стадий развития духа через противоречия и борьбу. Роман-
тический миф всегда трагичен, в отличие от античного мифа. Ро-
мантическая личность — это гений, а гений не знает ни пределов
своего опыта, ни собственного будущего, ни четко понимаемого про-
шлого. Древний грек, напротив, помещает свой индивидуальный
опыт в традиционную матрицу уже заранее предначертанного пути
жизни (показательны слова Солона о десяти семилетних периодах
жизни); поэтому субъективность грека — это уже «ставшее», где да-
ются четкие и простые ответы на моральные и социальные вопро-
сы, лишающие необходимости искать ответы внутри себя. Таким
образ.ом, античный эйдетический опыт не субъективен, а «тради-
1 Кьеркегор С. Или — или. СПб., 2011. С. 252.
2 Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978. С. 394. Схожая мысль высказана
Новалисом: «Учение о мифе содержит историю мира в его первообразе»
(Новалис. Фрагменты. СПб., 2014. С. 110).
74
Глава 1. Идея и символ
ционен»: он подчинен мифологическому началу и учению о пред-
назначении всего сущего, которое усваивается как неотъемлемая
часть традиции. Романтический человек — лишний, неустроенный
в мире субъект, который не имеет ни устойчивого положения в об-
ществе, ни ясного прошлого, ни надежного будущего; а его субъ-
ективный дух выражает себя в индивидуальном творчестве, кото-
рое и есть «божественное» в романтической личности. При этом
романтический эйдетический опыт изначально трагичен, поскольку
отнесен к воображаемому, а не реальному миру, и символы роман-
тического опыта могут сбыться только в трансцендентном мире.
Внутри индивидуального эйдетического опыта, без выхода вовне,
человек растворяется в эгоизме собственных символов и воспри-
нимает себя как вечную метафору, а не определенную сущность.
Романтический опыт лежит вне традиции, отчего рождается пес-
симизм, сочетающий в себе новое понимание человеческой возвы-
шенности и высокомерное презрение ко всему окружающему, в том
числе и к истинам классической философии. Ницше пишет: «Что же
такое, в конце концов, человеческие истины? — Это — неопровер-
жимые человеческие заблуждения»1.
При попытке определить, в чем заключается индивидуаль-
ный эйдетический опыт, важно обратиться к ностальгической теме
романтизма — утраченной великой античности, стремлению на-
делить античные символы новым романтическим звучанием. На-
чиная с Шеллинга, романтическое самосознание воспринимает
утрату мифологических оснований травматически, как осознание
нехватки, что обуславливает устойчивый скепсис по поводу пре-
тензий науки стать новой мифологией. При отсутствии мифа как
жизненной формы, части повседневности и культуры, сама потреб-
ность обрести мифологические основания должна быть вытеснена
в иную сферу, которой выступают поэзия и иррационалистическая
философия. Если в Новое время миф рассматривался как совокуп-
ность вековых заблуждений, то в романтизме миф — это самая
глубинная эйдетическая основа. Дильтей говорит о мифе: «Мифо-
логический способ представления образует реальную живую взаи-
мосвязь феноменов, наиболее важных для человека той эпохи. Он,
стало быть, дает нечто такое, чего не могут дать ни восприятие, ин
представление, ни действие в силу своей вовлеченности в повсе-
1 Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 622.
1.2. Симол как форма познания
75
дневное взаимодействие с объектами, ни даже язык»1. Реабилита-
ция мифологического сознания — это крупный исторический про-
рыв, позволяющий если не восстановить образ мышления греков,
то, по крайней мере, приблизиться к нему. Однако новейшая теория
мифологии как романтическая форма рассматривает миф с помо-
щью концептов понимания и языка, причем (что особенно важно)
даже не сам миф, а мифологическое сознание. А это, на мой взгляд,
является искажением античного мифа, который был деперсонифи-
цированным и представлял собой традиционную культурную фор-
му (что роднит его с эпосом). Это отчасти признает тот же Дильтей:
«Мифологический способ представления, как мы видели, предпо-
лагал наличие в причине свободной жизненности и душевной силы,
которых нет в нашем современном понимании причины в природ-
ном порядке»2.
Поскольку в условиях «конца Просвещения» и «постмодерна»
укрепляется осознание парадигмальности и необратимости исто-
рического развития, то реальный возврат к мифологии в античном
понимании совершенно невозможен. Мифология в наше время раз-
деляет участь многих исторических форм былого: она совершенно
лишена целостности и диффузно растворена в самых разных дис-
курсах3. Как отмечает Р. В. Светлов, можно увидеть определенное
сходство в понимании космоса эллинистической мифологической
космологией с одной стороны и современной кинематографиче-
ской фантастикой — с другой4. Это подтверждает уже высказан-
ный выше тезис, что романтизм творит новую субъективную ми-
1 Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 2000. С. 421.
2 Там же. С. 702.
3 «Чем дальше раздвигаются рамки этой феноменологии и чем дальше стре-
мится исследование проникнуть в ее фундаментальные и изначальные пласты,
тем яснее становится, что понятие души не является для мифа готовым и жест-
ким шаблоном, по которому он с необходимостью кроит все, что постигает,
но что оно скорее обозначает для него текучую и пластичную, поддающуюся
изменениям и формовке стихию, которая, по мере того как он с ней работает,
меняется, так сказать, у него в руках. Если метафизика, если “рациональная
психология” оперируют понятиями души как данностью, понимая ее как “суб-
станцию” с определенными неизменными “свойствами”, то мифологическое
сознание действует прямо противоположным образом» (Кассирер Э. Филосо-
фия символических форм. Т. 2. М.; СПб., 2002. С. 168).
4 См.: Светлов Р. В. Античный неоплатонизм и александрийская экзеге-
тика. СПб., 1996.
76
Глава 1. Идея и символ
фологию, ареной которой выступает литература, с этого времени
задающая матрицу сознания интеллектуалов. Вытеснение религии
и философии на вторые роли вызвано еще и тем, что художествен-
ный эйдос наиболее удовлетворяет «мифологическим» потребно-
стям возвышенного опыта и дает если не незыблемость оснований,
то незыблемость тропов и путей личного духовного становления.
Тем самым романтический миф сводится не к повторению, а к ин-
терпретации античности, когда античность «модернизируется»
и понимается через призму идеи субъективного духа.
Известно, что в романтической поэзии природа фигури-
рует как живое существо, вступающее с поэтом в разные фор-
мы диалога. К примеру, мир Лермонтова достигает предельной
одухотворенности: парус, утес, тучка, дубовый листок, звезда
реализуют собственную «вещность» через определенный сим-
волический голос, вступая друг с другом в коммуникативные
отношения1, которые понятны поэту, потому что человечны.
Трагически несчастный в собственном духе поэт именно в при-
роде ощущает гармонию, утраченную внутри2. Когда Лермонтов
пишет:
И звезда с звездою говорит,
мы чувствуем вместе с ним, что звезды не чужды нам, что это
не слепые порождения рока, что они человечны и мы всег-
да можем обратиться к ним, особенно в минуту собственной
опустошенности. Приписывание чувств и голосов вещам —
это не метафизическая «вещность», а наделение вещей соб-
ственной субъективностью, осуществление коммуникации
между эйдосами, которая, правда, не осознается, но открыта
для лирического чувствования. Романтическая поэтическая
мифология — это мифология лирическая, в отличие от эпиче-
ской по настрою мифологии греков. Романтический рок — это
индивидуальная история духа, и судьба космоса как одухот-
воренного начала.
1 «Хотя для субъекта достижима объективность, однако последняя вме-
сте с субъективностью остается человеческой и в распоряжении человека»
(Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М„ 1991. С. 16).
2 Отсюда и свойственная романтизму лирическая тема воспоминания
о детстве; ведь детство — это дорефлексивный период беззаботного сли-
яния с природой.
1.2. Симол как форма познания
77
Символические отношения между вещами не суть отноше-
ния вещей наподобие физического взаимодействия: тут вещи
взяты в особом значении и являются таковыми только «по
названию», на деле же это не вещи, а эйдосы. Это происходит
потому, что вещественный и эйдетический порядок слов линг-
вистически идентичен; поэтому символический характер эйде-
тического словоупотребления перемещается в те культурные
языки, в которых эйдетический опыт может конструировать
собственную реальность. Так или иначе, путь придумывания
эйдетической вербальной или «образной» терминологии, столь
характерный для художественного модернизма, представляется
,мне малоудачным, поскольку он наталкивается на непривычные
значения и ассоциации1. Куда перспективнее поступить иначе —
придать обычным словам символический смысл и «перевести»
их в пространство языка поэзии, живописи, метафизики и т. д.
Как отмечает Рикёр, «символическая функция — это, разумеется,
способность подчинять любой обмен (в том числе и обмен зна-
ками) одному закону, одному правилу, стало быть, одному ано-
нимному принципу, который стоит выше субъектов; но это так-
же и способность актуализировать данное правило в событии,
в инстанции обмена, прототипом которого является инстанция
дискурса... Используя часто забываемое слово “символ”, мы на-
помним: в своей социальной, а не сугубо математической форме
символизм включает в себя правило признания субъектами друг
друга»2. Мне представляется неубедительной идея, выдвинутая
некоторыми мыслителями (например, Кассирером и Юнгом),
согласно которой любой язык изначально символичен. Симво-
лический язык, как верно отмечает Рикёр, «выше» субъекта: это
язык дискурса, специализированный язык, который, если вос-
пользоваться терминологией Крипке, творит собственный мир,
1 Для идеалистов такая практика требует понимания языка как формы
бытия, а не только коммуникации. «Это есть скорее языковое сознание,
которое, по мере того как оно укрепляется, разрастается и проясняется,
накладывает отпечаток на восприятие и представление... Языковая симво-
лика открывает новый этап душевно-духовной жизни. Вместо примитив-
ной инстинктивной жизни, растворения в непосредственных впечатлениях
и сиюминутных потребностях, приходит жизнь в “значениях”» (КассирерЭ.
Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 21).
2 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М„ 1995. С. 402.
78
Глава 1. Идея и символ
в котором господствует принцип эссенциализма в отношении
того, как следует понимать значения символических слов.
Художественный символизм в своей наглядности и непосред-
ственности наиболее удобен для исследования деятельности возвы-
шенного опыта. Однако было бы неверным ограничиваться только
им: теологический, научный и политический виды символизма тоже
оперируют эйдосами. Равно как и метафизический символизм, осо-
бенно в его античной и средневековой формах, склонен представ-
лять идею не только умозрительно, но и эйдетически — то есть через
длинную череду «визуализаций», аналогий, метафор и прочих эсте-
тически окрашенных примеров. Эйдосом категории, как отмечает
Фреге, является «чистая мысль», взятая как ее смысл1. Но поскольку
чистая мысль может быть выражена не только языком логики (в ко-
тором символы отличаются однозначностью и воспринимаются как
чисто рациональные), но и посредством иных языков, то при «пере-
воде» содержания мысли мы прибегаем к разным типам изложения.
И символический тип становится важнейшим способом выражения
идеи, поскольку она именно в символическом языке приобретает
образно-конкретное измерение. Теряя абстрактность чистой мысли,
идея на символическом уровне получает не только иную форму, но
и иной тип воздействия: способность формировать миф, быть зало-
женной на уровне эйдетического опыта — то есть «осуществляться»,
«сбываться». Тут уместна аналогия с романтической любовью, ко-
торая — если обратиться к Петрарке — чиста, возвышенна, духовно
просветляет, но вместе с тем и несет страдания, особенно если этой
любви никогда не суждено сбыться. Как отмечают Шеллинг и Ге-
гель, любая идея содержит в себе момент необходимости практиче-
ского осуществления, реализации своей сущности в мире, который,
конечно, не может быть только природным миром, а является ми-
ром эйдетическим. Платон выдвинул теорию, согласно которой фи-
лософия ищет истину средствами одной только мысли; по этой же
причине он в своем «Государстве» практически полностью запретил
театр, поэзию и остальные искусства. Однако, на мой взгляд, Пла-
тон активно пользовался эйдетическими способами описаний идей,
создавая собственные мифы, постоянно апеллируя к примерам из
искусства, обращаясь к богам, жизнеописаниям героев и великих
мужей. Чистый идеализм — это не более чем абстракция, абсолю-
1 См.: Фреге Г. О смысле и значении // Фреге Г. Избранные работы. М., 1997.
1.2. Симол как форма познания
79
тизация возможности отделения разума от других познавательных
способностей. Я же придерживаюсь точки зрения, согласно которой
все способности, данные человеку, значимы для познания и вносят
в него свой вклад.
Один из тезисов моей работы состоит в том, что символиче-
ские слова и вещи приобретают иные свойства и отношения, нежели
обычные слова и вещи, будучи помещенными в сферу эйдетического
опыта. Там они обретают символическое, то есть прекрасное и воз-
вышенное, звучание. К примеру, Хёйзинга так описывает сред-
невековый символизм: «Символический способ мышления, как
самостоятельный и сам по себе равноценный, стоит рядом с при-
чинно-порождающим способом... Алые и белые розы цветут в окру-
жении шипов. Средневековый ум сразу же усматривает здесь сим-
волический смысл: девы и мученики сияют красою в окружении
своих преследователей. Как происходит это уподобление? Из-за
наличия одинаковых признаков: красоты, нежность, чистота, кро-
вавая алость роз те же, что у дев и мучеников. Но такая взаимосвязь
только тогда действительно обретает значение и полноту мистиче-
ского смысла, когда в связующем члене, то есть в данной особен-
ности, заключена сущность обоих терминов символического сопо-
ставления; иными словами, когда алость и белизна считаются не
просто обозначениями физического различия по квантитативному
принципу, но рассматриваются как реалии, как факты действитель-
ности»1. Хёйзинга показывает, что символическое сознание средне-
вековья рассматривает такую сущность, как цвет, не эмпирически,
а эйдетически. Цвет «видится» уже в контексте символических ас-
социаций, которые могут быть религиозными, моральными, поэти-
ческими, геральдическими и т. д. Что между ними общего? Думаю,
именно то, что цвет во всех случаях лишается своей физической
природы и трактуется исключительно с символической точки зре-
ния, поскольку в природе не заложено механизма сопоставления
белизны с девственной чистотой и невинностью2. Средневековое
1 Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М„ 1988. С. 223.
2 «В символическом мышлении есть пространство для неисчислимо-
го многообразия отношений между вещами. Ибо каждая вещь со своими
разнообразными свойствами может быть символом множества других ве-
щей... Символическое мышление осуществляет постоянное переливание
этого ощущения божественного величия и ощущения вечности — во все
чувственно воспринимаемое или мыслимое; оно поддерживает постоянное
80
Глава 1. Идея и символ
сознание особенно интересно определенной дидактичностью, то
есть не просто наличием символизма, но обязательной подробной
расшифровкой, описанием того, почему символ трактуется имен-
но так. Романтический же символизм, на мой взгляд, утрачивает
эту дидактическую простоту и однозначность, поскольку символы
здесь порождаются в недрах субъективности и представимы скорее
для внутреннего, нежели для внешнего взора; а это, в свою очередь,
делает их образную символизацию либо крайне затруднительной,
либо вообще карикатурной и штампованной — наподобие «кудрей
черных до плеч» Ленского.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что
в развитой культуре символизм приобретает собственные функ-
ции и смыслы, собственные способы изображения и механизмы
воздействия, отличные от механизмов функционирования рацио-
нальности в классическом смысле этого термина. Ведь эйдетиче-
ский опыт также способен достигать расцвета в мире символов,
приобретать собственное измерение и нести в мир великую мис-
сию — оставлять на долгие века вершины духа как представимые
эйдосы. Знаток ренессансного искусства А. Варбург по этому по-
воду замечает: «Итак, Боттичелли принял материальную обо-
лочку древней легенды, однако использовал ее для собственно-
го идеализированного мифотворчества, новый образ которому
задавала возрожденная греческая и латинская античность: го-
меровские гимны, Лукреций и Овидий... И в основе этого твор-
чества лежала прежде всего сама античная пластика, позволяв-
шая ему воочию увидеть, как греческие боги, совершенно в духе
Платона, водят свои хороводы в небесной высоте»1. Я бы согла-
сился с немецким искусствоведом в том, что эйдетический опыт,
доведенный до предельной высоты символического воплоще-
ния, приобретает мифотворческую функцию и начинает опре-
делять сознание на самом глубинном уровне, который можно
называть «бессознательным» или «архетипическим» (конечно,
не увлекаясь поиском универсалистских психоаналитических
обобщений)2. Варбургу вторит Шелер, который пишет: «Фило-
горение мистического ощущения жизни» (Хёйзинга Й. Осень Средневеко-
вья. М„ 1988. С. 226).
1 Варбург А. Великое переселение образов. СПб., 2008. С. 217.
2 К примеру, Фромм пишет: «Если, как я постараюсь показать, язык сим-
волов по праву может считаться настоящим языком, в действительности —
1.2. Симол как форма познания
81
софское познание по своей сущности есть асимволическое позна-
ние. Оно ищет бытия, так, как оно есть в себе самом, а не так,
как оно представляет себя в качестве голого момента заменяю-
щего его символа... Ведь для естественного мировоззрения мир
дан только в качестве исполнения возможных языковых сим-
волов»1. Тут, конечно, имеется в виду философское познание,
взятое как рационализм, а под «естественным мировоззрением»
вряд ли подразумевается обыденный опыт. В германской фило-
софии и художественной критике эпохи модернизма становится
очевидным, что символический мир не может быть объяснен
с помощью мира идей. Однако, рассуждая как идеалисты, Рикёр
и Хёйзинга, Т. Буркхардт и Варбург, Шелер и Хайдеггер стре-
мятся придать возвышенному опыту статус нового «основания
метафизики», вывести особый тип «поэтического мышления»,
тогда как эйдетический опыт (при всей связанности с мышле-
нием) функционирует по собственным законам, которые, если
судить по Канту, относятся не к разуму, а к «суждению». И мно-
гие особенности символизма, например отмеченная Хёйзингой
способность средневекового эстетического опыта превращать
любую вещь в любой из возможных символов, безусловно, не
укладывается в рационалистические представления, где все под-
чинено логической необходимости.
Мир эйдетического опыта с позиций рассудка кажется
расплывчатым, неопределенным и даже фантастическим, но
кто может доказать, что такой ангажированный взгляд на этот
мир правилен?2 Логика велика на своем месте; она во многом —
вершина не только теории разума, но и воплощение его возвы-
шенности. Равно как и образ романтического поэта способен
породить не только эстетическое наслаждение, но и погрузить
нас в глубокие раздумья, обнажив непонятую прежде часть на-
шей души.
единственным универсальным языком из всех, когда-либо созданных че-
ловеком, — то вопрос заключается именно в том, чтобы понимать его, а не
разгадывать, как если бы это был какой-то искусственный тайный код»
(Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 180).
'Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. С. 235-236.
2 «Понимание одним разумом без участия чувства есть понимание мерт-
вое, безжизненное и ложное, и нисколько не разумное, а только рассудоч-
ное» (Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 2. М., 1977. С. 101).
82
Глава 1. Идея и символ
Символ обладает собственным смыслом, но не значением,
если понимать под значением однозначность, дескриптивную
фразу. Флоренский полагает: «Бытие, которое больше самого
себя, — таково основное определение символа. Символ — это
нечто являющее собою то, что не есть он сам, большее его и, од-
нако, существенно чрез него объявляющееся»1. Будучи формой
возвышенного опыта, символ направлен на изображение, а не на
определение эйдоса; поэтому описание его смысла только кажет-
ся определением, а на самом деле уводит нас не к сокращению,
а увеличению числа возможных интерпретаций. Эйдетическое
бытие не больше и не меньше себя, поскольку к бытию невоз-
можно приложить никакие степени и величины. Символ «пре-
восходит себя» в отношении смысла тогда, когда отображает
совершенную форму (то есть «то, что не есть он сам» — в этом
смысле Флоренский прав), а подобное отображение неотдели-
мо от опыта и интерпретации, следовательно, тяготеет к мно-
гозначности, индивидуальности, а также существенно зависит
от традиции. Далее Флоренский пишет: «Это — символы. Они
суть органы нашего общения с реальностью. Ими и посредством
их мы соприкасаемся с тем, что было отрезано до тех пор от
нашего сознания. Изображением мы видим реальность, а име-
нем — слышим ее; символы — это отверстия, пробитые в нашей
субъективности»2. Безусловно, я отвергаю любые намеки на
мистическое объяснение природы символа, но Флоренский как
религиозный философ и глубоко верующий христианин имел
полное право на свои убеждения. Мне кажется, однако, что сим-
волы действительно представляют собой предельную для чело-
века реальность, какая только может быть воспринята в опыте.
Можно также признать, что символы — основа культуры, объ-
ективная в социальном смысле. Однако я сужу с эпистемологи-
ческой точки зрения и полагаю, что причина «прорыва» к под-
линной реальности заключается в том, что символы отображают
эйдосы. Об эйдосе никогда нельзя сказать строго, потому что он
открыт именно для возвышенного опыта и в нем представляется
как совершенный образ, несущий в себе эстетические и мифоло-
гические свойства, составляющие его собственную «метафизи-
1 Флоренский П. А. Сочинения. Т. 2. М., 1990. С. 287.
2 Там же. С. 344.
1.2. Симол какформа познания
83
ку». Я полагаю, что «онтологический» подход к символам усма-
тривает в них особую сферу бытия, наподобие природы и мира
идей, тогда как никаких заранее предначертанных символов нет,
а возможно, нет и сущих до человека и без человека эйдосов. Поэ-
тому символы — самая изменчивая и зависимая от исторического
среза форма духовной культуры; однако «внутри» определенной
традиции эта форма воспринимается вполне незыблемой, по-
рождая иллюзию незыблемости мира, частью которого она яв-
ляется. Так, к примеру, римский мир незыблем, но незыблем
исторически, как если бы мы всегда были готовы вспоминать
\ о Риме, словно переносясь в ту эпоху и живя в ней. Теоретиче-
л' ски существует возможность того, что Рим навсегда сохранится
• в исторической памяти, хотя из этого не следует, что так будет
на самом деле и что забвение не покроет деяния цезарей, как это
уже случилось с большинством сочинений досократиков.
Когда русские идеалисты вроде Флоренского или Шестова
рассуждают об особой жизненности символа, они правы лишь
относительно. Они не учитывают того, что концепт жизненно-
сти не годится для философского анализа хотя бы потому, что
и критикуемый ими рационалистический рассудок — тоже по-
рождение жизни. Шестов пишет: «Может быть, и в самом деле
можно обойтись без понимания? Может быть, логический ум
не добродетель, а порок»1. Подобная форма философии симво-
лизма кажется мне безнадежно устаревшей, потому что она от-
личается явной избыточностью в отношении роли символизма
и является попыткой приписать символу не свойственные ему
функции основания метафизики: никакая метафизика не может
быть основана на символе. Она также не может судить о сим-
волах, поскольку с ее точки зрения любые эстетические формы
отличаются наивной наглядностью. Однако творец мифа, ху-
дожник, поэт ничего не доказывает: он «показывает» символ
с позиций собственного опыта и языка, который, будучи эйде-
тической формой, оказывается рупором целой традиции. Реаль-
ность символизма заключается в том, что он дает предельные
основания мировоззренческим и коммуникативным практикам,
используя образную, демонстративную форму выражения. В ду-
ховно развитой традиции всегда существует широкая свобода
‘Шестов Л. Избранные сочинения. М., 1993. С. 444.
84
Глава 1. Идея и символ
интерпретаций символов, но сами символы довольно просты.
Например, можно по-разному судить о «Небесной и земной
любви» Тициана, но на уровне эйдетического опыта у нас сло-
жатся достаточно схожие представления о сути изображенно-
го, равно как и практически единодушное согласие в том, что
это полотно — шедевр живописи. И то, что авторское понима-
ние этой картины, равно как и трактовки современников, нам
не всегда известны, да и эпоха уже совершенно другая, вовсе не
«устраняет» это полотно из культурного оборота, а, напротив,
обогащает его новыми интерпретациями. Тем самым эйдети-
ческий опыт поддерживает символизм за счет интерпретаций,
совмещения разных планов опыта. Но такая интерпретация не
будет ни однозначной, ни, увы, вечной. Теоретически может
оказаться, что существующие интерпретационные языки будут
забыты, а новые не появятся. Это и есть забвение.
Символ, переходя в форму мифологемы, формирует куль-
турное сознание. В этом отношении поэтический символ пере-
дает эйдетическую форму с предельной непосредственностью,
что порождает особое возвышенное переживание глубинной
правдивости, которая тем не менее не может стать определен-
ной1. Непосредственность поэтического символа эпистемологи-
чески уникальна тем, что она явственно осознается внутренним
миром, в том числе за счет сложных и индивидуальных пере-
сечений с запросами личного опыта. Однако если поэтическое
слово поместить в любую «внешнюю» форму, что-то необрати-
мо утрачивается. Теоретически эйдетический опыт может во-
обще никак не выражаться и быть формой «в себе и для себя».
К примеру, представима ситуация, когда человек тонко и воз-
вышенно чувствует, но лишен возможности, силы или таланта
выразить себя — или же просто его жизненные обстоятельства
сложились не очень удачно. Обломов и Лаврецкий — люди
с чуткой и прекрасной душой, способные на подлинную чело-
1 Здесь важно то, что я не считаю необходимым наделение поэзии идеаль-
ной функцией. Лосев, к примеру, мыслит совершенно иначе, хотя я согла-
сен с его учением о неразделимости внешнего и внутреннего содержания
символа: «В символе самый факт “внутреннего” отождествляется с самым
фактом “внешнего”, между “идеей" и “вещью" здесь не просто смысловое,
но — вещественное, реальное тождество» (Лосев А. Ф. Из ранних произве-
дений. М„ 1990. С. 428).
1.2. Симол как форма познания
85
вечность и возвышенные чувства, но всё это остается внутри,
выражаясь зачастую в карикатурной форме. Таким образом,
сам по себе возвышенный опыт мало чего значит без достойной
реализации. Тут, я полагаю, можно присоединиться к мнению
романтиков о греческом искусстве, воплотившем вечную гармо-
нию, соразмерность формы и содержания. Но греческий эйдос
стремится к классической законченности и устраняет интерпре-
тации; возвышенность приобретает черты вечного величия, ко-
торое не оставляет места человеческой индивидуальности, де-
лая даже страсть предметом эйдетического любования. Эллины
считали, что символ сам по себе связывает нас с совершенным
• устройством мира, и у них не было никакого сомнения на этот
счет. Найдя классическое выражение, изображая совершенную
форму, греческое сознание затем просто многократно воспро-
изводит ее. Но когда эйдетический опыт все-таки медленно из-
менился, греческий символизм оказался совершенно не готов
к новому опыту и как живая символическая форма закономерно
умер. Почему в «Гиперионе» и «Паломничестве Чайльд-Гароль-
да» поэты так сокрушаются о гибели великой Эллады? Потому
что в романтическом сознании разворачивается картина умира-
ния самого совершенства, огромного величественного здания
культуры, которое было лишь начато. Это, конечно, преувели-
чение, но, пожалуй, лучшее в истории — интерпретация живая,
поэтичная, полная искренней горечи и страсти.
С эпистемологической точки зрения допущение реальности
мифологического не требует дополнения в виде учения об осо-
бом привилегированном доступе мифа к истине бытия. Греки, не
знавшие иного сознания, кроме мифологического, воспринима-
ли миф как естественную структуру, совершенно неотделимую
от мировоззрения человека. По словам А. А. Тахо-Годи, «нет
ничего удивительного в том, что, являясь одной из древнейших
форм освоения мира, греческая мифология имеет огромное са-
мостоятельное эстетическое значение»1. Для возвышенного опы-
та, особенно в сфере искусства, миф дает классические образцы
эйдетической определенности. Здесь присутствует ярко выра-
женная всеобщность, когда в каждом лице усматривают уподо-
бление тому или иному богу или герою. Однако это именно эсте-
1 Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 1989. С. 15.
86
Глава 1. Идея и символ
тическая (в кантовском смысле) всеобщность; в этом смысле
она далеко не всегда согласуется с рассудком. Напротив, с точки
зрения рассудка нелепо изобразить, к примеру, Суворова в рим-
ских доспехах (имею в виду знаменитый петербургский памят-
ник). Но такой облик полководца эстетически и мифологически
возможен и по-своему убедителен — как в художественном, так
и в идеологическом смысле. Облаченный в античные доспехи
Суворов оказывается причастен сонму древних великих пол-
ководцев, а необычность облика статуи идеологически выделя-
ет личность героя, выводя его за пределы любой обыденности.
Можно долго выяснять причины обожествления Геракла, но
если рассуждать с мифологической точки зрения, тут нет проб-
лемы, поскольку нет самой пропасти между богами и людьми, и,
вполне возможно, люди могут стать богами, а боги сойдут к лю-
дям. Когда в комедии Аристофана Гермес является действующим
лицом, то у греков не возникало никакого сомнения ни в реаль-
ности Гермеса, ни в возможности играть его на сцене. Это симво-
лический лик бога, который в своем театральном обличье совер-
шенно неотделим от собственного эйдоса, а потому воспринимаем
как нечто совершенно достоверное и уместное. В романтическом
поэтическом сознании сфера мифологического оказалась внутри
субъективного духа, полностью лишилась конкретного традицион-
ного фона и изобразительной действительности; она перенеслась
в сферу воображаемого. В романтическом мифе нет места весело-
му свадебному пиру, который умел во всей живости изобразить
еще Шекспир. Символическое сознание современности, сделав-
шее из художника гения, то есть полубога, а из философа идеоло-
га, демиурга идей, оказалось неспособным вывести содержание
мифологического за пределы маргинального, измышленного.
И поэтому современное сознание в мифологическом отноше-
нии достаточно убого. Р. В. Светлов отмечает: «Для современной
культуры литература во многом выполняет роль древнего мифа,
то есть такого слова, которое не понимается буквально, однако
оказывает мощное формирующее воздействие на сознание»1.
Стоит добавить, что литература играет ключевую роль в форми-
ровании представлений интеллектуального сообщества, возник-
1 Светлов Р. В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика.
СПб., 1996. С. 222.
1.2. Симол как форма познания
87
ших под влиянием романтической поэзии. В массовом сознании
литература сегодня не играет существенной роли, поскольку это
сознание определяется откровенно низкохудожественными об-
разцами, такими как фэнтези, детективы, бульварные романы
и т. д. Гибель романтического мифа, прослеживающаяся уже
у Лермонтова, Гоголя и Кьеркегора, связана, прежде всего, с тем,
что эйдетический опыт оказывается в вакууме субъективности,
будучи неспособным обрести себя в традиции. Эстетизм — по-
следнее прибежище романтического мировоззрения, которое
закономерно обращено к прошлому, к реально сущим возвышен-
ным образам; он подпитывается если не действительностью, то
возможностью обретения эйдоса. Дэвидсон и Гадамер вполне за-
кономерно подошли к определению современного сознания как
диалогического, интерпретационного, то есть живущего не по-
вседневностью, а исторической коммуникацией с эпохами, кото-
рые кажутся более возвышенными и тем самым восполняющими
травматический синдром, ощущение утраты и нехватки.
Романтическое сознание видит в символе возможность тво-
рения нового мира, в котором не вещи, а эйдосы будут править
людьми. Как отмечает Александр Блок, «символ должен стать
динамическим — обратиться в миф. Переход от символизации —
к символике. Теургическое искусство... Символизм есть воспоми-
нание поэзии о ее первоначальных целях и задачах»1. Русские
символисты обращают особое внимание на теургию, уподобляя
художественный и религиозный символические миры вечному
платоновскому миру эйдосов2. Во многом это теургическое тол-
кование символа породило и метафизические предположения
о символе как форме «присутствия», причастности «истине бы-
тия», которые, как я уже отмечал, совершенно бездоказатель-
ны. Но в защиту русских символистов хотелось бы сказать, что
они — художники, живущие возвышенным чувством; поэтому
они именно «чувствуют» символы как художественно целост-
ные образы, обладающие символической полнотой, совершен-
но убедительные сами по себе и даже укорененные в «народном
1 Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 168.
2 «Как первые ростки весенних трав, из символов брызнули зачатки
мифа, первины мифотворчества. Художник вдруг вспомнил, что был
некогда “мифотворцем”» (Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994.
С. 70).
88
Глава 1. Идея и символ
сознании», которое трактуется фольклорно, мифологически.
Нет сомнения, что Прекрасная Дама существует лишь в вообра-
жении. Но это не частное воображение, а особое, поэтическое,
в котором (как верно отмечает М. Бахтин) Прекрасная Дама
становится художественным эйдосом, приобретая черты эстети-
ческой законченности, абсолютности, совершенно отрываясь от
земного прототипа и воспринимаясь как нечто потустороннее,
недоступное и вместе с тем вечное, чистое, нетленно прекрас-
ное. Блок как последний великий поэт-романтик интересен тем,
что его образы не неподвижны и однопорядковы (как у Данте
и Петрарки), а трансформируются, подчиняясь особой эйдети-
ческой «логике», отображая сложную диалектику развития об-
раза и его символического смысла в контексте изменяющегося
личного опыта поэта. В частности, Блок прямо отмечает напря-
женный драматизм изменения поэтического образа Женствен-
ности. Равно как и сам этот образ никогда не оказывается про-
стым, будучи связан со многими другими образами, втягивая
в себя широкий круг духовных проблем, в том числе таких дале-
ких от привычной сферы романтики, как судьба интеллигенции,
России, революции и т. п. На мой взгляд, совершенно утопично
полагать, что романтический символ может быть столь же про-
стым и непосредственно убедительным, как древнегреческий.
Возможно, романтический символ тоже в своей глубине прост,
а человек просто не развился до такого уровня, чтобы чувство-
вать, как Лермонтов или Блок. Но как таковой современный ху-
дожественный символ обращен не к простоте, а к сложности;
и потому он не может застыть в классической определенности,
в автономности собственного смысла.
Художественный символизм рубежа XIX-XX вв. представ-
ляет собой последнюю созданную человечеством эстетическую
мифологию, в рамках которой модерн создает символический
мир, который оригинален, прежде всего, за счет экзистенциаль-
ной заостренности, особой степени чувствительности — вплоть
до вытеснения бессознательного. Символическое сознание мо-
дерна стремится вступить в коммуникацию со зрелыми традици-
онными символическими мирами прошлого — с Античностью,
Средневековьем, Ренессансом. Этим обусловлено то, что эпи-
стемология наших дней — это именно историческая эпистемо-
логия, не отделимая от символической коммуникации образов
1.2. Симол как форма познания
89
современности и прошлого. В ходе этого диалога закономерно
рождается враждебное здравому реализму, но эстетически убе-
дительное мнение, что экзистенциально окрашенный симво-
лизм модерна «возрождает» античный миф. Я полагаю, что не
стоит критиковать его откровенную маргинальность. Можно
привести, к примеру, суждение Вяч. Иванова: «Реалистический
символизм идет путем символа к мифу; миф уже содержится
в символе, он имманентен ему; созерцание символа раскрывает
в символе миф»1. На мой взгляд, в символическом сознании мо-
дерна нет ничего «мифологического», и тем более чего-то прямо
связанного с античной мифологией (кроме чисто неоклассиче-
ских, эстетически традиционных заимствований). Важно не кри-
тиковать эстетический символизм Иванова и Мережковского
или идею Хайдеггера о близости к грекам, а понять в чем состоит
суть этого мифологического голода, почему возникает необхо-
димость обращения к античному, фольклорному, мистическо-
му сознанию, в чем причина духовной нехватки, возникающей
в рациональном, научно ориентированном сознании Запада. На
мой взгляд, причина этой нехватки коренится в существенном
дисбалансе между развитием рассудка и эйдетического опыта,
характерном для эпохи модерна2. Бурное развитие логики, иде-
ологии и техники сопровождалось обеднением символической
сферы, которая оказалась загнанной в рамки субъективности,
а в культурном отношении — в рамки искусства, социально вос-
принимаемого как надстроечная, чисто декоративная функция.
Здесь я рискнул бы несколько поправить Хайдеггера, полагав-
шего, что рухнуло рационалистическое мировоззрение Нового
времени, оказался несостоятельным дух технически ориенти-
рованного разума, неспособного постичь бытие. Я бы добавил,
1 Иванов В. Родное и вселенское. М„ 1994. С. 157.
2 Этот феномен, правда, характерен именно для среды творческой ин-
теллигенции. Ханзен-Лёве пишет о символистах: «Итак, символиче-
ское — это действенность и имагинативное присутствие, оно не присуще
вещам и знакам на их “поверхности” в виде материальной субстанции,
а достигается лишь переживанием... Вне этой экзистенциальной ситуа-
ции, вне, например, ритуально-магических рамок... вне коллектива син-
хронно переживающих людей, вне “священного времени”, праздника,
“должного часа” символическое невидимо и остается “немым”» (Хан-
зен-Лёве А. А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. СПб.,
2003. С. 9).
90
Глава 1. Идея и символ
что обрушился и классический символический мир античности,
а все попытки «возродить» его (от Винкельмана до самого Хай-
деггера) оказались бесплодными. Эйдетический опыт современ-
ного человека еще долго будет находить созвучие великим об-
разцам мифа, искусства и философии былых эпох, но он требует
иных, новых форм. Нас охватывает в Эрмитаже особое чувство
возвышенного, сопричастности шедевру, мы словно окружены
прекрасным. Однако это — рафинированное сознание, способ-
ное понять величие символов прошлого, но уже не живущее
ими. И, что самое главное, современное сознание лишено спо-
собности оценить, что подлинно велико и возвышенно именно
в наше время. Когда Брунеллески строил Флоренцию, а Росси
и Тома де Томон — Петербург, они были лишены сомнения в ве-
личии собственной миссии и причастности сонму великих зод-
чих; сама современность уподоблялась в своем величии древним
совершенным образцам1. При этом классическая античность во
многом приобретала новые черты — такие, как, к примеру, не-
обыкновенная торжественность ампирного Главного штаба или
белой многоколонной Биржи. В наши дни эйдетический опыт
больше не может подпитываться историей. Историческая эпи-
стемология Гадамера и Анкерсмита становится анахронизмом,
потому что все внутренние резервы субъективного эйдетическо-
го опыта уже исчерпаны; требуется иная форма «человечности»,
иные символические способы самовыражения, менее баналь-
ные, нежели футуристический и постмодернистский жест.
В этом смысле следует быть особенно внимательными к эпи-
стемологии символизма, выведенной французскими мыслителя-
ми и, прежде всего, М. Фуко, который закономерно провозгласил
эпоху «конца субъективности». Фуко отмечает, что не существует
«должной», «необходимой» и «истинной» формы воплощения
возвышенного опыта, развенчивая тем самым миф о «вечном» ха-
рактере философских и культурных форм. Несмотря на постмодер-
нистские и релятивистские выводы, Фуко представляется мне бо-
1 В этом отношении они не были носителем той психологии, о которой
пишет Выготский: «Мы никогда не знаем и не понимаем, почему нам по-
нравилось то или иное произведение. Все, что мы придумываем для объ-
яснения его действия, является позднейшим примышлением, совершенно
явной рационализацией бессознательных процессов» (Выготский Л. Пси-
хология искусства. СПб., 2000. С. 35).
1.2. Симол как форма познания
91
лее реалистично мыслящим, нежели исторически ориентирован-
ные мыслители типа Хайдеггера или Рикёра, поскольку он совер-
шенно не видит возможности возвращения к ушедшему в историю
символизму. Он пишет: «Мы имеем дело с событиями разных
типов и уровней, взятыми в различной исторической сетке; уста-
навливающая однородность высказывания никоим образом не
предполагает, что с этого момента и на протяжении последую-
щих десятилетий или веков люди станут говорить и думать одно
и то же»1. Археологический интерес Фуко ставит на первый план
производство нового дискурса, мультипликацию интерпретаций,
а не обращение к какому-то уже сущему дискурсу как «истинно-
' му». В связи с этим Фуко нащупал сложнейшую проблему — проб-
лему изменчивости символических языков, которые могут нахо-
диться в отношении не преемственности, а практически полной
чуждости друг другу, когда новая эпоха просто «перестает гово-
рить» на оставленном ей в наследство символическом языке, когда
символы либо вымирают, либо консервируются в музеях, либо до
неузнаваемости меняют свое значение, оставаясь на словах вроде
бы теми же. То, что Фуко часто называет «Иным», представляет
собой неумолимое видоизменение любого языка. И, если гово-
рить о символах, то их изменение неизбежно ввиду «вызовов»,
исходящих от новых интерпретаций и новых актов возвышенно-
го опыта, не укладывающихся в наличные традиционные рамки.
Собственно говоря, символическая система никогда не может
устояться как совершенно законченная и неизменная традиция.
А поэтому эта система (или эпистема) всегда подвержена закону
изменчивости, когда новая форма эйдетического опыта требует
возникновения очередного «постмодерна», нового «ренессанса»,
вечного обновления. Безусловно, вера Фуко в то, что это будут
делать интеллектуалы, — пережиток прошлого романтического
века. Фуко переоценил возможности авторов, не учитывая, что
былых властителей дум — философов и поэтов — держат теперь
как рядовых преподавателей и работников2, а в некоторых обсто-
ятельствах даже судят за тунеядство, как это в свое время произо-
шло.с Иосифом Бродским.
1 Фуко М. Археология знания. СПб., 2004. С. 272.
2 Это закреплено и в юридическом языке: в университете в наше время
трудятся «научно-педагогические работники».
92
Глава 1. Идея и символ
Согласно Фуко, лингвистический смысл символов коре-
нится в «безмолвии»: «Все то, что дискурс может сформулиро-
вать, оказывается уже произнесенным в том предшествующем
полубезмолвии, которое упорно под ним сохраняется, но ко-
торое он перекрывает и заставляет умолкнуть... Первый мотив
обрекает исторический анализ дискурса быть поиском и повто-
рением первоистока, ускользающего от любого исторического
определения; другой — интерпретацией или подслушиванием
уже-сказанного, которое одновременно было и не-сказанным»1.
Молчание о смысле символа — констатация его нахождения
вне сферы языка, на уровне непосредственности опыта, кото-
рый порой случается без возможности быть наименованным
и описанным. Если говорить о рождении нового дискурса как
символической системы словесных образов, то практически лю-
бой такой дискурс зарождается в «невнятной» форме, когда он
непосредственно постигается, но еще нет языка, на котором он
может быть выражен. Эйдетический опыт сам по себе есть осо-
бое возвышенное переживание, которое, безусловно, неотдели-
мо от языкового выражения. Но парадокс в том, что для нового
эйдетического опыта в изобилии находятся слова, которые уже
понятны, традиционны, но всегда недостает тех, которые могут
ему соответствовать. Не случайно древний философ, христи-
анский святой, романтический поэт воспринимаются как люди
высшего порядка, несущие в мир новое слово (в смысле «лого-
са», символического имени эйдоса). Не лишена глубокого смыс-
ла фантазия Дж. Вико, который замечает о языке древних: «На
втором языке, соответствующем Веку Героев, по словам егип-
тян, говорили символами... Позднее в артикулированном языке
они составляют все богатство Поэтической Речи»2. Можно до-
пустить, что имена символов в самом деле могут настолько точ-
но именовать эйдос, что неотделимы от него, — но такое вряд
ли когда-то осуществится в реальности. Если бы все сущности
были наименованы, все поэтические образы исчерпаны, сы-
граны все симфонии и написаны все картины, то человечеству
угрожал бы самый страшный застой, какой только можно вооб-
1 Фуко М. Археология знания. СПб., 2004. С. 69.
2 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.-Киев,
1994. С. 164.
1.2. Симол как форма познания
93
разить. Не следует понимать Фуко по аналогии с его последова-
телями типа Делёза и Деррида — как деконструктивиста. Когда
Фуко отмечает, что роль интеллектуала состоит в подрыве дове-
рия к устоявшимся практикам и словам, он скорее констатиру-
ет факт, нежели к чему-то призывает, находясь в пространстве
ницшеанского и бергсонианского витализма. Когда в мир при-
ходит Романтик, то из этого мира обязательно уходит Грек. Но-
вое всегда не свободно от разрушения, варварства, стирания, за-
бвения, значительного количества неудачных проб, юношеско-
го максимализма, идеологической манифестации. Эпистемоло-
гически это значит одно: возникший новый эйдетический опыт не
устоялся в смысле символического наименования, не обрел став-
шего частью традиции языка, а потому порождает ощущение
экзистенциального беспокойства, пессимистической неуверен-
ности в собственной значимости, что многократно усиливается
с учетом консервативной составляющей той господствующей
традиции, в которой этот опыт возник. Следовательно, в период
зарождения символ практически неизбежно облекается в кос-
венные речевые структуры, определяясь через «нечто другое»,
используя сложный язык намеков, метафор, умолчаний, аллего-
рий и т. д. Эпистемологическая проблема не в эйдосе, который
в опыте представляется интуитивно, а в символическом выра-
жении этого опыта. Я устанавливаю закон, согласно которому
эйдетический опыт развивается быстрее, нежели символические
средства его выражения и, при неблагоприятных условиях, эйде-
тические новации могут вообще оказаться похороненными под
толщей традиционного языка. Примером может служить опыт
неоплатоников и некоторых схоластов (Абеляр, Оккам), кото-
рые встали перед суровой необходимостью приводить свои идеи
в «канонические» формы, что окончилось неудачей, консерва-
тизмом, нереализованным потенциалом. В истории практиче-
ски любой культурной формы символический язык находится
в ситуации сложной диалектики консервативной приверженно-
сти устоявшемуся и стремления к обновлению, когда Скептик
и Догматик будут равно необходимы, периодически одерживая
верх в вечной борьбе друг с другом. У. Эко в своих исследова-
ниях Средневековья не раз подчеркивает мудрость мыслителей
того времени, которые считали невозможным прийти к опреде-
лению символов и поэтому прибегали к сложному языку ино-
94
Глава 1. Идея и символ
сказаний, аналогий и аллегорий (принцип aliud dicitur, aliud
demonstrantur. «одно говорится, другое показывается»)1. Итак,
хотя метафизически можно представить ситуацию завершенно-
сти как всех актов эйдетического опыта, так и всех возможных
символических форм, такая ситуация не может воплотиться на
практике. Символы отличаются от идей образностью, неопреде-
ленностью и изменчивостью своих смыслов.
Эйдетический опыт возвышен и стремится к символиче-
ской завершенности, но это стремление — лишь движение к не-
кой идеальной точке. Учение об изменчивости эйдетического
опыта открыли эмпирики, хотя они ошибочно редуцировали
этот опыт к ощущениям. Локк пишет об изменчивости опыта:
«Ум не может долго задерживаться на одной неизменяющейся
идее. Если действительно идеи в нашем уме (пока мы имеем в нем
какие-нибудь идеи) постоянно меняются и текут в непрерывной
последовательности, то невозможно — возразит кто-нибудь —
долгое время думать о каком бы то ни было одном предмете»2.
Разумеется, «ум» здесь понимается в «практическом» смысле,
то есть как нечто неотделимое от внутреннего опыта. В отличие
от логически неизменного чистого разума, эйдетический опыт
изменчив; причем в эмпиризме постепенно усиливается тенден-
ция делать эту изменчивость все более значительной — вплоть
до допущения невозможности существования двух одинаковых
актов опыта, что доказывает Юм. Я бы не преувеличивал роль
этой изменчивости, поскольку здесь идет речь только об опыте
как способности. Среди бесконечного разнообразия актов опыта
наибольшую значимость все равно будут иметь только символи-
чески наименованные, культурно оформленные формы, линг-
вистически признанные способы выражения; поэтому сама по
себе возможность возникновения нового и уникального эйдети-
1 «Псевдо-Дионисий Ареопагит утверждает: хорошо, что вещи Боже-
ственные указываются нам через символы, воплощенные в несходных
формах — таких как лев, медведица или пантера... Одно говорится, дру-
гое показывается (aliud dicitur, aliud demonstrantur)-. подобный прин-
цип пленял средневекового человека гораздо более, нежели лиризм
в поэзии — современного... В этом символическом универсуме у всего
есть определенное место, все находится в соответствии друг с другом»
(Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004. С. 120).
2 Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М„ 1985. С. 236.
1.2. Симол как форма познания
95
ческого опыта представляется нам только возможностью, кото-
рую следует реализовать в символической форме. Так или иначе,
мы говорим о результате, а не процессе возвышенного опыта', мы
говорим о картине Рафаэля, а не о том новом опыте, который ей
предшествовал. Хотя этот опыт, безусловно, чрезвычайно важен
для понимания генезиса картины, мировоззрения художника
и даже постижения всей эпохи в целом. Но тут у нас ощущается
явная нехватка как информации о непосредственном опыте, так
и выразительных возможностей языка. Если Локк справедли-
во полагал, что язык неспособен точно передать оттенок вкуса
яблока или апельсина, то что же говорить о таком сложнейшем
явлении, как созерцание Ван Гога или Левитана? Символиче-
ский язык, на мой взгляд, обречен пребывать в состоянии систе-
матической неопределенности; а любая определенность — это
форма догматической уверенности, искусственной самоуспоко-
енности. Рассел как логик скорее сетовал по этому поводу, но
ему нельзя отказать в прозорливости в отношении опыта, когда
он пишет: «Итак, в процессе вашего образования мир слов все
больше и больше отделяется от мира чувств... Зато вы уже не
можете больше надеяться стать поэтом, и если вы попытаетесь
играть роль влюбленного, вы обнаружите, что ваш обезличен-
ный язык не очень пригоден для выражения испытываемых
вами чувств»1. Поэтический язык — это яркий пример такого
языка, который не может быть формализован, поскольку опи-
сывает не факты, а состояния возможного эйдетического опыта.
Этот язык символичен, так как стремится к максимальной пол-
ноте передачи содержания опыта, а не фактов; его предметом
выступают эйдосы, а не понятия. Поэтому мы не вступаем с поэ-
том в отношение «понимания» — мы вступаем с ним в этически
и эстетически окрашенное отношение конгениальности, со-чув-
ствия, внутреннего заочного диалога, когда другой стороной ди-
алога по отношению к поэту выступают наши собственные акты
эйдетического опыта2. Как верно отмечает Уайтхед, «символи-
1 Рассел Б. Человеческое познание. Киев, 1997. С. 16.
2 Витгенштейн считал, что достоверность таких представлений коренится
в структурах языка. «Иначе говоря, то, что некоторые вещи на деле не под-
лежат сомнению, принадлежит логике наших научных исследований... Моя
жизнь держится на том, что многое я принимаю непроизвольно» (Витген-
штейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 362).
96
Глава 1. Идея и символ
чески обусловленное действие есть действие, которое, таким
образом, обусловлено анализом перцептивной формы каузаль-
ного воздействия, вызываемого символическим переносом от
перцептивной формы к презентативной непосредственности»1.
Аналогично рассуждает и Оукшотт, который также отделяет су-
ждения логики от суждений возвышенного опыта: «Я понимаю
созерцание как вид деятельности, и это созерцание образов. Об-
разы созерцания отличаются от образов и научного, и практи-
ческого воображения, не по причине своей “универсальности”,
но вследствие того, что они узнаются как индивидуальности,
и они не являются ни некоторым набором качеств... ни знака-
ми и символами чего-либо другого»2. Поскольку эйдетический
опыт индивидуален, для нас важно, чей именно это опыт. Если
говорить о художественно воплощенном опыте, то он вообще
неотделим от личности автора. Символический язык не может
быть обезличенным, свободным от ценностей, выбора, индиви-
дуальности. В таких разделах философии, как логика, авторство
становится все более проблематичным. В рамках же приклад-
ной науки оно вообще может стираться: ведь мы практически не
знаем (и все меньше хотим знать), кто именно изобретает новые
технические устройства и компьютерные технологии. Видение
же Достоевского или Малевича отличается, наоборот, каче-
ством, которого, как отмечают многие, недостает современному
миру — уникальностью, единственностью в своем роде. Утрата
оригинальности, охватившая искусство последних пятидесяти
лет, не смогла обесценить уникальность былых мастеров, что
подчеркивается и таким прагматическим показателем, как бе-
шеные цены на оригиналы полотен великих художников.
Как отмечает Куайн, суждения об опыте отличаются от
логических суждений именно тем, что они не могут быть обоб-
щены: «Когда мы сравниваем теории, доктрины, точки зрения,
культуры относительно того, о каких объектах там говорится,
мы сравниваем их в отношении, которое имеет смысл только
взятое провинциально. Это имеет смысл только как поле наших
усилий перевести это на наши привычные идиомы»3. «Провин-
1 Уайтхед А. Н. Символизм, его смысл и воздействие. Томск, 1999. С. 58.
2 Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 263.
3 Quine W. V. О. Speaking of Objects // Contemporary Philosophical Problems.
New York, 1959. P. 145.
1.2. Симол как форма познания 97
циальность» суждений об эйдетическом опыте делает их отча-
сти «диссидентскими» в системе наукообразной академической
философии; эти суждения изучаются на ее «периферии», «про-
селочных дорогах». Ведь суждения об эйдетическом опыте, как
однажды заметил Куайн, уподобляются прорубленным дорогам
в джунглях и почти сразу зарастают за нашей спиной1. В совре-
менной мысли такими «периферийными» разделами выступают
философия литературы и философия истории. В рассуждениях
об историческом допускается большая свобода интерпретации,
нежели в таких формализованных разделах, как логика или фи-
лософия сознания.
В чем же заключается специфичность эйдетического опы-
та, рассматриваемого в рамках исторического исследования?
События прошлого не могут быть взяты в отрыве от их интер-
претации, определяемой историческим опытом. Коллингвуд
отмечает: «Картина предмета исследования, создаваемая исто-
риком... представляет собой некую сеть, сконструированную
в воображении, сеть, натянутую между определенными зафик-
сированными точками — предоставленными в его распоряже-
нии свидетельствами источников; и если этих точек достаточно
много, а нити, связывающие их, протянуты с должной осторож-
ностью... то вся эта картина будет постоянно подтверждаться
имеющимися данными»2. Таким образом, в историческом опы-
те выстраивается коммуникация между символами прошлого
и возвышенным историческим опытом. Как я уже доказывал,
любой символ может существовать в двух исторических фор-
мах: символ ушедшего прошлого, которое интересно только как
нечто случившееся и былое, и символ прошлого, актуальный для
современности. К примеру, события истории Парфянского цар-
ства по-своему значимы, но они практически несущественны
за пределами исторической науки — тогда как проблематика
платоновских школ актуальна до сих пор. Для большего удоб-
ства я буду принимать в расчет лишь второй случай, так как он
представляет собой не только форму истории, но и форму куль-
турного самосознания. Эйдетический опыт в истории выступа-
ет возвышенным опытом, поскольку история представляется
'См.: Куайн У. В. О. Преследуя истину. М„ 2014.
2 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 231.
98
Глава 1. Идея и символ
в виде нарратива, который вступает в разнообразные отноше-
ния и связи с нашим собственным мировоззрением. Как отме-
чает Ф. Анкерсмит, «нарративные интерпретации обращаются
к прошлому, а не корреспондируют и не соотносятся с ним (как
это делают утверждения)»1. Можно заключить, что нарратив
выступает не концептуальной, а символической структурой
и уподобляется скорее «рассказу», нежели научной теории. По-
скольку любая история избирательна в плане выделения прио-
ритетов, то невозможно отделить само прошлое от рефлексий
по его поводу, которые далеко не всегда могут быть нейтраль-
ны. Как отмечают С. Жижек и Ф. Анкерсмит, можно допустить
наличие ностальгического исторического опыта, который свя-
зывает нарратив с глубоким чувством утраты. Гиперион Гёль-
дерлина, «спрашивающий» в «Разговоре...» Хайдеггера, герой
Кундеры способны обратиться к историческому только в нос-
тальгическом смысле; прошлое для них выступает утраченным
или забытым прекрасным веком. Анкерсмит пишет: «Однако,
если ностальгический опыт прошлого понят как опыт различия...
мы получаем другую картину. Исторический опыт, как опыт
различия, обходится без историцистского или позитивистского
постулата о понимании прошлого как своего рода установлен-
ного объекта»2. Аналогично рассуждает и учитель Анкерсмита
X. Уайт: «Не существует аподиктически определенных теорети-
ческих оснований, опираясь на которые можно было бы обосно-
ванно вынести суждение о превосходстве одной из этих форм
над другими как более “реалистической”»3. Современное фило-
софское сознание в рамках гуманистической формы реализма
отбросило позитивистский подход к истории как науке, равно
как и постмодернистский подход к истории как маргинально-
му повествованию. Значимость нарративистской историософии
(при всей ее замкнутости) заключается в символической трак-
товке истории, понимаемой эстетически, то есть сквозь призму
возвышенного опыта, в результате чего на первый план выхо-
дит диалогическое отношение, в рамках которого истина не
1 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.,
2003. С. 121.
2Там же. С. 381.
3Уайт X. Метаистория. Екатеринбург, 2002. С. 20.
1.2. Симол как форма познания
99
может быть монополизирована. Вместе с тем нарративистская
философия истории далека от навязчивого герменевтического
синдрома превратить прошлое в такую сущность, относительно
которой следует достичь «понимания». Историческое иссле-
дование, как я утверждаю, вообще не должно вести к понима-
нию1 — оно может вести к осознанию корней, поскольку че-
ловек не ограничивается наличной символической данностью,
а выступает продуктом развития культуры, то есть сложных, по-
рой непредсказуемых трансформаций базовых символов. «Про-
шлое» для нас неизбежно носит мифологизированный характер,
будучи неотделимо от эстетического отношения негодования
или любования, отторжения или принятия, горечи утраты или
радости обретения. Если бы не было исторической избиратель-
ности, то человечество очень скоро задохнулось бы от избытка
символов — подобно тому, как лес оказался бы доверху завален
упавшими деревьями, если бы те не перерабатывались насеко-
мыми и микроорганизмами. Поскольку «прошлое» представля-
ет собой форму мифологии, оно неотделимо от интерпретации
и выступает как совокупность эйдосов. Прошлое перестает быть
«фактами» и становится эйдосом именно тогда, когда оно зна-
чимо для возвышенного опыта; в этом смысле давно ушедшая
эпоха может оказаться «своей», той, в которой человек (пусть
и несвоевременно) чувствует себя на своем месте. Досократики
для Хайдеггера, люди позднего Средневековья для Хёйзинги,
творцы Возрождения для Панофского — это конгениальные
персонажи, в отношении которых не возникает временного
и идеологического барьера. Как верно отмечает И. Берлин, мы
не можем быть открыты тому прошлому, которое нам совер-
шенно чуждо: «Цели, нравственные принципы многочисленны.
Но не до бесконечности: они должны находиться в пределах че-
1 «Задача историка подобна, если воспользоваться довольно банальным
сравнением, задаче модельера, который желает показать свои работы. Мо-
дельер использует манекены или, еще лучше, манекенщиц, чтобы проде-
монстрировать достоинства своих работ, то есть он использует вещи или
женщин, которые не являются частью самой одежды или платьев... Анало-
гичным образом и историк использует такие понятия, как “интеллектуаль-
ное движение", “Ренессанс”, “социальная группа" или “промышленная ре-
волюция", для того, чтобы “одеть прошлое”» (Анкерсмит Ф. Нарративная
логика. М., 2003. С. 129).
100
Глава 1. Идея и символ
ловеческого горизонта. В противном случае они окажутся вне
сферы человека. Если я столкнусь с людьми, которые покло-
няются деревьям, и не потому, что они — символы плодородия
или святы и обладают особой мистической жизнью и силой, или
же по причине того, что это священная роща Афины... то я не
знаю, что о них и подумать»1. Символы сопоставимы, только
если они затрагивают общие эйдосы. Без этого условия они как
бы не существуют, представляя собой совершенную чуждость.
Греки не были бы великими греками, не будь они истоком нас
самих. И ностальгия по поводу утраты величия былых симво-
лов требует осознания собственной недостаточности, пустоты
в окружающей культурной действительности, несоответствия
между опытом и традицией, отсутствия должных языковых вы-
разительных форм.
В символическом сознании нет стремления достигнуть ис-
тинного постижения. Здесь на первый план выступает комму-
никация, определенная родственность между нашим опытом
и опытом Других, представляющая собой потенциально откры-
тую интерпретационную структуру. Историческое понимание —
это понимание символическое, ускользающее от концептуаль-
ного схватывания в область нарратива и метафоры. В отличие
от концептуализма, символизм ставит иную культурную зада-
чу — глубину раскрытия человечности, со всеми вытекающими
отсюда достоинствами и недостатками.
1 Берлин И. Подлинная цель познания. М., 2002. С. 14.
1.3. Знак и символ
Современная философия уделяет серьезное внимание во-
просу о производстве и потреблении знака. В условиях суще-
ственного угасания символического сознания представляется
закономерным, что освободившуюся пустоту заполняют знаки,
которые, однако, никак не могут заменить символ, поскольку
обладают иной природой. У нас имеется естественная склон-
ность путать знаки и символы, а также воспринимать символы
как знаки.
По Аристотелю, знаки неразрывно связаны с именами
и являются их обозначением. Он пишет: «Имена имеют значе-
ние в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени.
А возникает имя, когда становится знаком, ибо членораздель-
ные звуки хотя и выражают что-то, как, например, у живот-
ных, но ни один из этих звуков не есть имя»1. Таким образом,
знак — это устойчивая графема имени, которая способна сохра-
няться в виде части языка, даже когда она никем не употребля-
ется. Теоретически возможен любой знак, но, как справедливо
отмечает Витгенштейн, только тот знак имеет смысл, который
понятен в смысле употребления в нашем языке, в смысле того
«соглашения», которое отмечает Аристотель. Видя дорожный
указатель со стрелкой и надписью «Санкт-Петербург», мы все
«соглашаемся» с тем, что здесь речь идет об указании направ-
ления движения в сторону этого города. Причем это указание
Аристотель. Об истолковании. II (16а).
102
Глава 1. Идея и символ
представляется настолько логичным и необходимым, что по-
нятно всем. Любой водитель знает, что указатели пути в такой
огромный город, как Петербург, начинают ставить за несколько
сотен километров. В связи с этим знак имеет ярко выраженную
тенденцию к «однозначности», и в этом смысле он выполняет
функцию сплочения носителей данного языка и данной тра-
диции.
В этом и заключается, по-видимому, главное отличие знака
от символа1. Знак находится полностью «под контролем» рас-
судка (по крайней мере, в смысле своего определения). Знак
тяготеет к усредненному пониманию и массовому использова-
нию; в этом плане он становится предметом потребления, лиша-
ясь индивидуальных черт. Я считаю сомнительным допущение,
что знак способен обладать эйдетическим смыслом и требует
для понимания любой формы возвышенного опыта: ведь знак
всегда соразмерен своему значению, тогда как символ характе-
ризуется неполнотой значения. Этот тезис, на мой взгляд, опро-
кидывает как утопические любые «эмблематические» тенден-
ции сделать знак подлинным именем символа. Такие попытки,
которые всегда возникают, сводят символизм к рассудочному
схематизму, подменяя возвышенное конкретно-чувственным.
Из этого не следует того, что знак ущербен в себе или что он не
нужен, — просто знакам следует отвести гораздо более скромное
место, нежели то, какое они занимают во многих философских
системах и художественных течениях. К примеру, по-своему
оригинально стремление поп-арта насытить картины знаками,
включив в них «массовые», «популярные» предметы, надпи-
си, образы. Но тут налицо практически полное символическое
стирание, поскольку баночная ветчина нам ничего не говорит,
кроме как о самой себе; в ней нет никакой загадки, недоговорен-
ности; ее не надо воспринимать как нечто уводящее к духовной
1 Гегель вводит такое различие между знаком и символом: «Знак есть
непосредственное созерцание, представляющее совершенно другое со-
держание, чем то, которое оно имеет само по себе; — пирамида, в которую
переносится и в которой сохраняется чья-то чужая душа. Знак отличен от
символа', последний есть некоторое созерцание, собственная определен-
ность которого по своей сущности и понятию является более или менее
тем самым содержанием, которое оно как символ выражает» (Гегель Г. В.
Энциклопедия философских наук. Т. 3. М„ 1977. С. 294).
1.3, Знаки символ
103
глубине. Снижение символической функции искусства неиз-
бежно приводит как к утрате возвышенного, так и к насыщению
знаками, а также крайней зависимости от конъюнктуры насто-
ящего момента. Ведь непросто представить себе, что офисные
«стекляшки» или консервные банки будут вызывать столь же
многозначные оценки и не терять актуальности долгие века —
как античный храм или взгляд Мадонны.
Тем не менее символы и знаки обычно смешиваются. Ти-
пичным в этом смысле можно считать высказывание Шпенгле-
ра: «Символы суть чувственные знаки, последние, неделимые,
а главное, невольные впечатления, имеющее определенное зна-
чение. Символ есть некая черта действительности, с непосред-
ственной внутренней достоверностью обозначающая для чув-
ственно-бодрствующих людей нечто такое, что не может быть
сообщено рассудочным путем»1. Шпенглер верно связывает
символы со сферой опыта, однако определяет символ через знак.
Поскольку знак есть нечто, во-первых, конкретное, а во-вторых,
установленное с определенным значением, то возникает стрем-
ление именно в знаке искать определенность природы символа.
Также закономерно стремление определять символ через знак,
представленный в виде изображения, эмблемы или аллегории.
Для чисто функциональных целей этого вполне достаточно.
К примеру, буква или цифра на экране компьютера именуется
символом, хотя на самом деле это знак; просто различия между
этими понятиями тут вводить не нужно.
Вопреки распространенному среди философов мнению,
я полагаю, что символ не может быть отождествлен со знаком,
1 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 324. Шопенгауэр также
смешивает знаки и символы. «Если между изображением и тем поняти-
ем, которое оно должно выражать, нет никакой связи, основанной на
подведении под это понятие или на ассоциации идей, а знак и означае-
мое связаны друг с другом совершенно условно, в силу положительного,
случайного установления, то этот незаконный вид аллегории я называю
символом... Так, роза — символ молчаливости, лавр — символ славы...
Когда, наконец, известные исторические или мифические деятели, или
олицетворенные понятия означаются раз и навсегда определенными сим-
волами, то, собственно, последним приличествовало бы название эмблем’.
таковы животные евангелистов, сова Минервы, яблоко Париса» (Шопен-
гауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания. М., 1900.
С. 247).
104
Глава 1. Идея и символ
поскольку символ обозначает эйдос1. Поэтому символ как тако-
вой не может быть чем-то «обозначающим» или «установлен-
ным»; он не предназначен иметь конвенциональную природу
и не может обладать формализованным, даже упрощенным зна-
чением, какое имеет, к примеру, дорожный знак. В связи с этим
символ всегда проигрывает знаку в определенности значения —
хотя иллюзия преобразования «неопределенного» символа
в «определенный» знак всегда возможна и является обычной
практикой любой традиции.
Трудность в вопросе о соотношении символа и знака воз-
никает также и потому, что они обладают разными критериями
строгости и четкости. Знак тяготеет к однозначности и унифика-
ции, тогда как символ, напротив, имеет тенденцию к нескольким
возможным определениям. Это обусловлено тем, что знак устанав-
ливается рассудком и относится к чувственному опыту; тогда как
символ не рассудочен и берет начало в возвышенном опыте. Как
пишет Гадамер, «отграничение символа от знака, приближаю-
щее его к изображению, кажется очевидным. Функции представ-
ления символа — это не простое указание на то, чего сейчас нет
в ситуации; скорее символ позволяет выявиться наличию того,
что в основе своей наличествует постоянно. Это показывает уже
изначальный смысл слова “символ”. Когда символом называли
опознавательный знак разделенных друзей-сотрапезников или
рассеянных членов религиозной общины, удостоверяющий при-
надлежность к ним, то такой символ, разумеется, обладал зна-
ковой функцией. Но тем не менее он — нечто большее, нежели
знак»2. На мой взгляд, символ не является чем-то «большим» по
отношению к знаку, поскольку знак может быть только средством
выражения символа и как таковой вообще с ним несопоставим.
Так как символ обозначает эйдос, то он неизбежно оказывается
формой его отображения в определенной сфере культуры, в опре-
деленной традиции и в определенном языке. И хотя символ может
быть неясным и туманным, он выступает формой закрепления
1П. Тиллих пишет: «Решающее отличие состоит в том, что знаки не соуча-
ствуют в той реальности, на которую указывают, а символы соучаствуют.
Следовательно, знаки можно заменить, исходя из целесообразности или
условия, в то время как символы заменить невозможно» (Тиллих П. Из-
бранное. Теология культуры. М„ 1995. С. 160).
2 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М„ 1988. С. 202.
1.3. Знак и символ
105
опыта, что придает ему относительно существующей традиции
статус объективности и даже необходимости. Эйдетический опыт
не может быть намеренным, «установленным», формально пред-
ложенным, утвержденным, что обычно бывает со знаками. Поэ-
тому я разделяю опасение Хайдеггера по поводу засилья знаков
в современной культуре и вытеснения знаками символов: «Если
представлять язык просто как означивание, то это позволяет при-
ступить к теоретико-информационной технизации языка. Беру-
щее отсюда начало устроение определенного отношения человека
к языку самым жутким образом осуществляет требование Карла
Маркса: дело в том, чтобы изменить мир»1. В самом деле, рассу-
дочно предложенный и установленный знак имеет волевую приро-
ду, он установлен декретом, он создан искусственно и закономерно
стремится застыть в однозначности своего употребления. Подме-
на символов знаками приводит к «фетишизму» знаков, ложной
уверенности в простоте и понятности символической сферы. Ведь
по своей природе знак стремится «убить» любую интерпретацию,
любой индивидуальный взгляд на себя. Знак, к примеру, не мо-
жет стать предметом искусства или метафизики, поскольку его
наглядность и определенность лишена всякой интерпретации
и не «приглашает» нас к возникновению чего-то возвышенного.
В определенном смысле подмена символа знаком неизбежно при-
водит к обеднению символа, к догматизации его значения, к унич-
тожению интерпретационного плюрализма.
Поскольку символ относится к реальности эйдоса, то он не
способен к передаче без обозначения полноты возвышенного
опыта, что наиболее очевидно в случае поэтических символов.
Поэтическое слово может быть названо «знаком», но даже при
таком статусе оно несет в себе символическую функцию. К при-
меру, Роман Якобсон пишет: «Поэту почудилось Чудо! В том,
как,урну с водой уронив... дева над вечной струею, вечно печальна
сидит. Внутренний дуализм знака снят: недвижность статуи вос-
принимается как недвижность девы, противоположение знака
и предмета исчезает, недвижность налагается на реальное вре-
мя и,осознается как вечность»2. Возможно, в лингвистическом
'Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М„ 1993. С. 293.
2 Якобсон Р. О. Стихи Пушкина о деве-статуе, вакханке и смиреннице //
А. С. Пушкин: Pro et contra. Т. II. СПб., 2000. С. 406.
106
Глава 1. Идея и символ
смысле поэтические слова и могут трактоваться как знаки, но
в целом Якобсон говорит о знаках, словно о символах. Посколь-
ку поэтический символ, выраженный через слово, обозначает
опыт переживания эйдоса, то грань между словом и эйдосом
настолько стирается, что ее трудно проследить1. Эйдетическое
слово обладает смыслом, выходящим за пределы привычного
употребления, поскольку оно выступает не словом, а словесным
изображением символа. Именно поэтому символ обозначает не
предмет или объект, а эйдос, то есть определенную сферу эйде-
тического опыта. Знак всегда обладает полнотой употребления;
в этом смысле он устанавливается конвенционально. Символ же
всегда — метафора эйдоса. Интуитивная полнота эйдетического
опыта не может покинуть стихию возвышенного переживания
и при словесном изображении обязательно утрачивает часть
своей непосредственности (несмотря на поэтическую образ-
ность и красоту)2. Тем самым, символ может стать лишь более
или менее удачной формой отображения и интерпретации эй-
детического опыта, который и есть эпистемологическая основа
любого возможного символизма.
В русском поэтическом символизме под знаками понимают-
ся символы. Это, конечно, не обходится без терминологической
путаницы. К примеру, Максимилиан Волошин так представля-
ет поэтический образ мира; «Всё в мире — символ, все явления
только знаки, каждый человек — одна из букв неразгаданного
алфавита. Вечный и неизменный мир, таинственно постигае-
мый душою художника, здесь находит себе отображение лишь
в текучих и преходящих формах»3. Совершенно ясно, что в этом
высказывании «знаки» и «символы» мало отличаются друг от
друга. Когда Александр Блок пишет:
Но не все читали зоревые знаки,
1 «Можно также обсуждать систему символов, потому что символ связан
с обозначаемой вещью рационально; в отношении же языка, системы про-
извольных знаков, не на что опереться» (Соссюр Ф. де. Курс общей линг-
вистики. Екатеринбург, 1999. С. 75).
2 Белинский однажды заметил, что обычный офицер искренне и непо-
средственно веселится на балу, а он — привыкший рефлексировать интел-
лигент — уже не способен отдаться простым радостям жизни с такой есте-
ственностью и незатейливой простотой.
3 Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 61.
1.3. Знак и символ
107
то под «знаками» он имеет в виду знамения, особые вселенские
предчувствия, указания на грядущие катаклизмы. Блоковские
знаки явленны, но всегда загадочны, неопределенны и не могут
быть «расшифрованы». Текучесть, неопределенность, метафо-
ричность — это типичные свойства поэтического символа. Ведь
именно в поэзии, лишенной эмпирической изобразительной
основы, неопределенность смысла символа проявляется со всей
полнотой и выступает его неотъемлемым свойством. Поэти-
ческая символическая неопределенность — это лакуна для за-
полнения в процессе интерпретации, позволяющая совместить
замкнутые в себе пространства опыта читателя и поэта. В этом
смысле поэтический символ (как и любой другой) изначально
сотворен для того, чтобы интерпретироваться различными спо-
собами; в этом смысле я склонен предполагать, что не существу-
ет такого символа, который не был бы многозначен.
Символы поэзии — не знаки, а метафоры и словесные об-
разы. Они указывают на непосредственное восприятие полноты
эйдоса. В этом отношении символ неисчерпаем и представим
через различные знаки, аллегории, эмблемы и образы — и этот
процесс мультиплицирования смыслов теоретически возможен
до бесконечности. Однако в действительности он конечен, по-
скольку в случае утраты своего содержания в виде непосред-
ственного эйдетического опыта символ способен стать либо
классической частью традиции, либо вообще оказаться в за-
бвении. Поэтому неполнота символа — это не мистическая за-
гадочность, а вполне оправданная ситуация ограниченности лю-
бой возможной интерпретации эйдетического опыта. Однако
каждая такая интерпретация «в себе и для себя» претендует на
полноту выражения эйдоса и в этом смысле выражает его содер-
жание в правдивой и убедительной форме. К примеру, древние
поэтические, мифологические и философские языки — это язы-
ки символические, поскольку их образы не являются рассудоч-
ными и формальными, а выступают наименованиями тождества
эйдоса и вещи, высказывания и действия1. В этом смысле значе-
1 «На втором языке, соответствующем Веку Героев, говорили символами:
к этим символам должны быть сведены Героические образы, то есть немые
подобия (Гомер называет их “знаки”), посредством которых писали Герои.
Следовательно, эти символы должны были быть метафорами, изображе-
ниями, подобиями, сравнениями; позднее в артикулированном языке они
108
Глава 1. Идея и символ
ние символа «сбывается» в непосредственности опыта, приоб-
ретая исчерпывающую полноту собственного содержания. От-
носительно возвышенного опыта можно сказать: нет никакого
аспекта опыта «за кадром», который не вошел бы в его эйдети-
ческое описание', поэтому поэтическое описание и соответствую-
щее событие оказываются неразделенными и тождественными
друг другу. Для греческого слова характерна краткость и просто-
та, при которых достигается тождество эйдоса и символа. Мож-
но, конечно, упрекнуть греческую философию в определенной
наивности, в незнании терминологических тонкостей и эписте-
мологических затруднений. Но если смотреть в эстетическом
аспекте, то именно так достигается та воспетая романтиками
классическая античная полнота, которая заключается в полном
тождестве возвышенного опыта с формой его воплощения.
Как отмечает Р. Барт, символическое сознание современ-
ности угасает и постепенно подменяется знаковым сознанием.
Ведь в своей однозначности знак может не просто создавать
иллюзию полноты обладания, но также выступать предметом
фабрикации и потребления. «Готовая» и определенная природа
знака начисто отучает интерпретировать и, наоборот, приучает
без особых раздумий «пользоваться». «Символическое сознание
видит знак в его глубинном, можно сказать, геологическом, из-
мерении, поскольку в его глазах именно ярусное залегание озна-
чаемого и означающего создает символ... Слово символ теперь
слегка устарело; его охотно заменяют выражениями знак и зна-
чение. Этот терминологический сдвиг свидетельствует о некото-
ром размывании символического сознания»1, — пишет Барт. Как
отмечает другой теоретик символизма, Г. Маркузе, знак, ставший
предметом потребления, оказывается и предметом вожделения2.
Обладание новым автомобилем, к примеру, перестает быть от-
составляют все богатство Поэтической Речи» (Вико Дж. Основания новой
науки об общей природе наций. М.; Киев, 1994. С. 164).
1 Барт Р. Нулевая степень письма. М., 2008. С. 221.
2 «Люди узнают себя в окружающих предметах потребления, находят
свою душу в своем автомобиле, стереосистеме, квартире с разными уров-
нями, кухонном оборудовании. Сам механизм, привязывающий индивида
к обществу, изменился, и общественный контроль теперь коренится в но-
вых потребностях, производимых обществом» (Маркузе Г. Одномерный
человек. М„ 1994. С. 12).
1.3. Знак и символ
109
ношением собственности и превращается в стремление удовлет-
ворения желаний. При этом для исполнения желания достаточ-
но лишь наличности присутствия, не сопровождаемой никакими
индивидуальными и возвышенными актами опыта. Потребление
знака лишено возвышенного начала и может рассматриваться
как просто «членство» во множестве допущенных к обладанию
этим знаком людей. Отсюда постепенно выработавшая при-
вычка к оперированию «готовыми» знаками: ведь пресловутое
«массовое сознание» — это вовсе не распространенные в народе
представления, а готовность довольствоваться общепринятым
и стирать собственную индивидуальность, которая всегда про-
являлась именно в эйдетических интерпретациях возвышенного
опыта. Ориентация современных авторов бестселлеров на по-
требление массовой аудиторией приводит, например, к превра-
щению произведения в предмет сбыта и потребления, к тиражи-
рованию усредненных, штампованных образов, в пространстве
которых господствует мода и популярность, а не стремление
к реализации индивидуального авторского опыта. «Стирание»
авторского лица среди знаков — это не предначертанный и не-
избежный процесс, а во многом сознательный выбор самих этих
авторов, сделавших критериями своего успеха не символическую
глубину, а наличие массового спроса1. Поэтому, на мой взгляд,
французские мыслители несколько преувеличивают власть
знаков в духовной культуре, поскольку, как ни подменяй сим-
вол знаком, это не приведет к успеху. Падение оригинальности
и глубины, отсутствие ярких индивидуальностей в творческой
сфере и упадок целых искусств на руинах технологий постмодер-
низма, наоборот, достаточно отрезвляют культурное сознание,
восстанавливая приоритеты символов. Ж. Бодрийяр отмечает:
«В нашей системе образов и знаков исчезают все основные гума-
нистические критерии ценности, определяющие собой вековую
культуру моральных, эстетических, практических суждений. Все
становится неразрешимым — характерный эффект господства
1 Ситуация только усугубилась с распространением Интернета и социаль-
ных сетей. К примеру, люди все чаще уже не читают «Войну и мир» или
«Гамлета», зато хорошо знакомы с отдельными цитатами в виде мемов, по-
стов. Интернет-пользователи всего лишь за одно десятилетие приучились
оценивать любые художественные достоинства исключительно на основа-
нии количества «лайков».
110
Глава 1. Идея и символ
кода, всецело основанного на принципе нейтрализации и неот-
личимости»1. Знаки приобретают несвойственную им функцию
восполнения нехватки символической реальности. Наделенные
чуждым им содержанием, они стремятся заполнить отсутствие
возвышенного эйдетического опыта и нехватку индивидуально-
го начала в интерпретации.
Готовые усредненные знаки резко контрастируют с сим-
волами, которые всегда отсылают к чему-то не до конца опре-
деленному и указывают на нечто большее, нежели они сами.
К примеру, рассуждая о средневековой культуре, У. Эко пишет:
«В символическом восприятии природа, даже в самых опасных
своих проявлениях, становится алфавитом, при помощи кото-
рого Творец сообщает людям об устройстве мира, о внеземных
благах, о том, какие шаги следует предпринять, чтобы найти
свое место в этой земной обители и заслужить небесную награ-
ду»2. Таким образом, символизм совершенно несовместим с по-
треблением однозначности знака; символ требует расшифровки,
интерпретации, достижения слитности между собой и содержа-
нием опыта. Как таковой символ выступает открытой струк-
турой, доступной новым возможным интерпретациям. Символ
также не может оказаться предметом производства и потребле-
ния, поскольку он актуален только для возвышенного опыта,
который сам по себе оказывается творчески насыщенным, ин-
дивидуальным, элитарным. Даже если современный музей мож-
но рассматривать как конвейер массового просмотра произве-
дений искусства, это не отменяет возможности появления таких
личностей, для которых произведение искусства оказывается
переживанием особого возвышенного опыта и предметом ин-
дивидуальной символической интерпретации. В конце концов,
иллюзия обладания знаками духовно обедняет, что приводит
к постепенному упадку власти такого знака и вытеснению знака
символом. Современный человек живет в сфере массовых, го-
товых и усредненных знаков, потребление которых приводит
к господству функционализма и прагматического рассудка; эй-
детический опыт оказывается в таких условиях «лишним» и по-
степенно загоняется в сферу исторического дискурса, будучи
1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006. С. 55.
2Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004. С. 115.
1.3. Знак и символ
111
связанным с культурным пространством давно минувших эпох.
Обращенность к историческому символизму, несмотря на яв-
ственный антикварный характер, значима именно потому, что
она, пусть и в таком виде, поддерживает эйдетический опыт, не
давая ему окончательно деградировать и угаснуть.
В связи с этим возросшая роль знаков (позволяющая даже
отстаивать тезис о «господстве знаков») — это культурно-
исторический перекос, который во многом уже в прошлом1. Не
обсуждая культурологические причины этого обстоятельства,
я склонен сделать эпистемологический вывод, согласно кото-
рому знаки необходимы исключительно в функциональном от-
ношении для тех сфер, где требуется искусственно установлен-
ная однозначность и устранение разночтений. Проникновение
знака за пределы формализованного употребления приводит
к наделению этого знака чуждым ему бытием2. В действитель-
ности же знак может успешно функционировать в том элемен-
тарном эмпирическом пространстве, которое ему отвели Локк
и Кондильяк3. Знаки обладают чувственной природой и служат
для придания простоты и однозначности коммуникации. До-
рожный знак «движение прямо» не указывает ни на что, кро-
ме установленного употребления, исключая какие-либо иные
соображения. Путаница между знаками и символами исчезает,
1 Один из кризисных феноменов описывает Бодрийяр: «В своей иде-
альности вещи и знаки эквивалентны друг другу и могут неограниченно
умножаться; они должны это делать, дабы ежеминутно пополнять нехват-
ку реальности» (Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999. С. 218).
2 «Ошибка, которую мы совершаем, может быть выражена так: мы ищем
употребления знака, но мы ищем его, как если бы оно было объектом, сосу-
ществующим со знаком» (Витгенштейн Л. Голубая книга. М„ 1999. С. 14).
3 «Я различаю три вида знаков. 1. Случайные знаки, или предметы, ко-
торые какие-то особые обстоятельства связали с теми или иными наши-
ми идеями таким образом, что эти предметы способны пробудить данные
идеи. 2. Естественные знаки, или возгласы, которые природа установила
для чувств радости, страха, боли и т. д. 3. Институционные знаки, или те,
которые мы сами вызвали и которые имеют лишь произвольную связь
с нашими идеями» (Кондильяк Э. Б. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М„ 1980. С. 99).
«Ибо человек может направлять свои мысли только либо на рассмотрение
самих вещей — для открытия истины; либо на вещи, которые находятся
в его собственной власти, то есть на свои собственные действия, для дости-
жения собственных целей; либо на знаки, которыми ум пользуется в том
и другом случае» (Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. 2. М., 1985. С. 201).
112
Глава 1. Идея и символ
если делать символ обобщением не чувственного, а возвышен-
ного (или эйдетического) опыта. Тогда сама природа символа
оказывается существенно иной и во многом резко контрасти-
рующей с природой знака. Вполне вероятно, что набор сим-
волов всегда относительно невелик и ограничен, равно как
и всегда может существовать идеологическая или догматиче-
ская тенденция свести символы к «символике», то есть к набо-
ру знаковых эмблем с «каноническими» толкованиями. Одна-
ко, несмотря ни на какие препоны, символ все равно рано или
поздно возвращается в сферу возвышенного, раскрывая свою
эйдетическую полноту.
Глава 2
СИМВОЛИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
2.1. Символ и вещь
Как уже показано в предыдущей главе, символы имеют своим
основанием не вещи, а эйдосы. Символическое познание не пости-
гает вещи — оно отображает их эйдетическую основу. Лес на кар-
тине Левитана — не просто совокупность деревьев, воспринятых,
а затем изображенных. Это пейзаж, то есть лес, представленный
в виде символического, а не наглядного образа. Именно поэтому он
воспринимается целостно, особым способом, при котором образ, не
теряя связи с субъективным, приобретает возвышенный характер
и становится самодостаточным. Я привел пример из живописи, по-
скольку в искусстве, на мой взгляд, уцелело то отношение к миру,
которое было свойственно эпохам с развитым символическим со-
знанием — Античности, Ренессансу, романтизму. В таком сознании
нет необходимости представлять вещь как объект, поскольку исти-
на о вещах лежит «за» ними; вещи лишь манифестируют свою эйде-
тическую природу, которая и является подлинной.
Тем самым символический язык не относится к явлениям —
он относится к сфере эйдосов. При этом вещь, возвышенная до
эйдоса, покидает свою феноменальную основу и становится
символом, который «очеловечивает» вещь, включая ее в про-
странство культуры. Вещь может быть наделена не только соб-
ственным, но и символическим смыслом. В этом отношении
она уже собственно не «вещь» в обыденном смысле слова: она
отныне функционирует с точки зрения эйдетической, а не фе-
номенальной природы. Можно допустить, что символизация
дематериализует, одухотворяет вещь, заменяя феноменальную
116 Глава 2. Символическая реальность
основу символической, возводя вещественную природу в форму
эйдетического совершенства, к ее прекрасной и возвышенной
форме. Придание вещам символического характера — это пере-
ход от феноменальной к эйдетической точке зрения на мир.
Концептуализм сводит вещи к понятиям, то есть трактует
как объективно сущие явления, постигаемые абстрактно. Сим-
волизм же не концептуализирует, а возвышает вещи, раскрывая
их эйдетическую форму, представляя ее в виде символа, сохра-
няющего как непосредственную явленность присутствия в опы-
те, так и возвышенную неисчерпаемость эйдетического смысла.
В живописном или поэтическом пейзаже достигается полное
соприсутствие с эйдетической сутью вещей, которое непости-
жимо с точки зрения фактов. Возвышенный опыт созерцания
мира преобразует мир в символическую форму, выводя на пер-
вый план совершенство эйдоса, в котором полностью исчезает
противоположность между природным и духовным началами.
О Мартосе говорили: «У него оживает мрамор». Здесь имеет-
ся в виду, что феноменальной природе придана такая степень
возвышенности, которая достигает совершенной формы и как
таковая может быть передана только образно-символически,
как совершенное воплощение эйдоса. И до тех пор, пока будут
существовать непосредственный эйдетический опыт и традиция
классической скульптуры, этот застывший в мраморе образ бу-
дет восприниматься как нечто одухотворенное.
Античная философия выводит на первый план эйдетическую
природу вещей, открытие которой приписывается еще досократи-
кам. Так, Филон Александрийский пишет о Гераклите: «По-моему,
колодец — символ науки, ибо природа ее не на поверхности, а в глу-
бине и не лежит у всех на виду, а любит прятаться где-то в незримом
месте»1. Тем самым то, что в современной эпистемологии называ-
ется «данными опыта», для Гераклита не только не имеет особой
значимости, но, напротив, выступает формой иллюзии, скрывая
подлинную суть вещей. Подобной точки зрения придерживается
и Платон: «Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его
вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сто-
рону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах
1 Филон Александрийский. О сновидениях. 1,6. // Фрагменты ранних гре-
ческих философов. Ч. 1. М„ 1989. С. 192.
2.1. Символ и вещь
117
будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он
видел раньше... Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит
и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел
раньше, чем в том, что ему показывают теперь?»1 Идеал мудре-
ца — это, прежде всего, способность видеть в вещах то, что не ле-
жит на поверхности, а скрыто. Мир есть не физическая данность,
а таящаяся за ней основа, доступная только особому, подготовлен-
ному взору. Тем самым философ вовсе не «постигает вещи» — он
постигает их сущностную природу, которая может быть выражена
символически. Как отмечает Р. В. Светлов, рассуждая о платонизме,
«обращенность одновременно к небесам и земле подчеркивается
платоновской концепцией колебания души между нисхождением
в земное существование — возвращением на небеса. Эта-то “дву-
направленность” и мешает однозначному определению. Поэтому
Платон обращается к образно-символическому языку»2. Несмотря
на свою сдержанность по отношению к искусству, Платон вынуж-
ден обращаться к образной, эстетической, форме передачи своих
мыслей. Эти мысли, взятые сами по себе, не могут быть выражены
иначе, как мистически, что, конечно, не во всем устраивало стре-
мившегося к рациональной ясности Платона. Поскольку эйдосы
непосредственно явлены только в опыте, то и сам вопрос об их ав-
тономном существовании приобретает достаточно запутанный ха-
рактер. Платон разрешает этот вопрос метафизически, доказывая
существование мира эйдосов и помещая эйдос в космологическую
схему. Однако, на мой взгляд, не может быть полной уверенности
в существовании эйдосов за пределами человеческого опыта и соз-
данного человеком мира. Сами по себе эйдосы суть объективная
реальность, но они представляют собой часть культурной, симво-
лической реальности и отдельно от человека невозможны. Отличие
моей позиции от теории Платона в том, что вещи, на мой взгляд,
изначально вовсе не имеют эйдетической природы. Эйдосы созда-
ются как символические обобщения возвышенного опыта, они су-
ществуют только как символы, которые в пространстве культуры
первичны по отношению к вещам и событиям. Рационалистическое
мировоззрение стремится устранить, прежде всего, символизм, эй-
1 Платон. Государство. 515е.
2 Светлов Р. В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика.
СПб., 1996. С. 49.
118
Глава 2. Символическая реальность
детическую точку зрения, отводя ей уже не философскую, а эстети-
ческую функцию, представляя символизм как форму психологиче-
ски, субъективно окрашенного, не лишенного идиосинкразических
сторон взгляда на мир, в котором совершенно отсутствует любая
объективность и достоверность. Коренное отличие Античности от
современности — это всеобще-символический характер всей духов-
ной культуры, в которой отсутствует выделение в особую сферу на-
уки или рациональной философии.
В религиозной и художественной практике символическая
функция полностью подчиняет себе феноменальную природу. Древ-
няя архитектура, к примеру, имеет исключительно символическое
значение, даже если в своем самосознании она не достигает эйдетиче-
ской точки зрения. Например, Ю. В. Андреев так пишет о расположе-
нии минойских дворцов: «Архитектура дворца в этом случае должна
была восприниматься как своего рода искусственное дополнение
к тем естественно-скульптурным формам, которые были созданы
вокруг него самой природой. Как памятник синтетического сакраль-
ного искусства минойский дворец может быть понят лишь в тесной
связи с ландшафтной архитектурой»1. Неотделимость от природного
окружения отличает и античные храмы, которые совершенны бла-
годаря не грандиозным размерам или дорогой отделке, а прекрасной
и гармоничной форме и полному соответствию своему предназна-
чению. С рациональной точки зрения кажется надуманным архи-
тектоническое учение о пятиглавии православных храмов; но в про-
странстве символического сознания именно такое расположение
куполов логично и оправдано, поскольку оно подчинено эйдетиче-
ской функции — образно передать роль Христа и четырех евангели-
стов. Если обращаться к средневековым, оккультным или масонским
представлениям, то логическому рассудку они вообще могут пока-
заться собранием домыслов и суеверий. Так, Бёме пишет: «Подобно
как солнце есть сердце жизни и начало всех духов в теле сего мира,
так Сатурн — начинатель всякой телесности и постижимое™... Ибо
дух зноя не мог возжечься, откуда происходит свет, а из света через
воду — любовь и кротость; но это было порождением строгой, холод-
ной и суровой яростности, и Сатурн есть иссушитель, губитель и враг
кротоста»2. В отличие от концептуализма, в символизме существует
'Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. СПб., 2002. С. 137.
2Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990. С. 387-388.
2.1. Символ и вещь
119
гораздо более разносторонняя связь различных порядков сущего;
поэтому физические элементы, мифологические сущности и мораль-
ные явления вполне могут быть взаимосвязанными и представлен-
ными на сложном языке символов и аллегорий1. В символическом
языке, если обратиться к значениям его слов, практически нет стрем-
ления к точности, ясности и однозначности. Символическое слово
всегда указывает на некую эйдетическую область, которая значи-
тельно «больше» или «глубже» обычного значения этого слова. Сим-
волическое слово — это лишь троп в эйдетический мир. Так, на языке
масонов, с его сложной системой образных и вербальных аллегорий,
шахматная доска — символ добра и зла, сломанная колонна — грехо-
падения, а циркуль — верного пути жизни. Когда возвышенный опыт
обретает эйдетическую форму и определенное место в традиции,
символические слова, образы и аллегории всегда оказываются вто-
ричными по отношению к тому смыслу, к которому они отсылают.
И наоборот: в вырождающейся традиции символы постепенно теря-
ют жизненность, постепенно загромождая символическое простран-
ство своими косными формами, теряя способность видоизменяться
и вдохновлять. Также можно наблюдать и наивность символизма,
свойственного молодым, нарождающимся (а потому еще совершен-
но неосмысленным) культурным формам. Например, ранний роман-
тизм проходит этап мечтательного, пасторального отношения к при-
роде, от которого не свободен еще Руссо. Э. Фукс, говоря об эпохе
абсолютизма, замечает: «Завтракали все вместе, обыкновенно под
сенью безлюдного леса. Под звуки музыки приступали к кадрилям
и рондам, готовясь к вечернему балу. В промежутках занимались
туалетом, игрой, едой, разнообразными развлечениями. То отправ-
лялись ловить рыбу, то на охоту, то на прогулку в темный зеленый
лес, всегда в компании богинь и нимф»2. Конечно, зрелое и эйдети-
чески выраженное отношение к природе, свойственное романтиз-
1 Фулканелли так описывает суть философского камня: «Традиционно его
имя — камень Философов — достаточно верно отражает его свойства и служит
ключом к его идентификации. Это действительно камень, так как внешне он
такой же, как все минералы. Это хаос Мудрецов, в котором заключены четыре
элемента, но в смешанном, беспорядочном виде.... Камень Философов имену-
ют также чешуйчатым черным драконом, ядовитым змеем, дочерью Сатурна»
(Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики с са-
кральным искусством и эзотерикой Великого Делания. М., 2004. С. 163).
2 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. М., 1994. С. 24.
120
Глава 2. Символическая реальность
му, совершенно свободно от подражательности и сентиментальной
мечтательности: романтический герой не подражает древнему греку,
а оказывается равной ему индивидуальностью.
Если грек не отделяет себя от природы, то, начиная с Руссо, ха-
рактер эйдетического представления о вещах меняется, и на первый
план выходит рефлексия над самим процессом опыта. «Обращение
к природе» романтизма — это субъективное переживание эйдети-
ческого смысла, концентрация не столько на эйдосе, сколько на ин-
дивидуальных оттенках эйдетического опыта, сопровождающаяся
ностальгическим ощущением утраты древней естественности и про-
стоты. Поскольку «естественность» античного мироощущения не
осознана в-себе-и-для-себя, постольку Античность не делает эйде-
тический опыт предметом теории познания. Грек не вносит ничего
субъективного в отображаемый эйдос — романтизм же усматривает
в природе духовную и эйдетическую основу, но она выводится путем
обращения к самосознанию, когда психологическое начало выступа-
ет первичным по отношению к началу космологическому. От этого
сам космос окрашивается в тона индивидуального возвышенного пе-
реживания, приобретая такое качество, как «одухотворенность». Не
случайно у Канта дух «вносит» идеальное начало в природу, которая
без него рассматривается как косная материя. Таким образом, можно
заключить, что в романтической парадигме присутствует не синкре-
тическое (а потому непосредственное, неосознанное) единство духа
и природы, а их противоречие, сопровождающееся эстетическим
выделением возвышенного опыта в особую символическую способ-
ность сознания. В этом смысле романтический символизм превос-
ходит символизм античный с точки зрения метафизической артику-
ляции эйдетического опыта как существенной части самосознания,
выступает формой анализа субъективного переживания, отчего
возникает диалектическое противоречие между духом и природой,
личностью и обществом, классическим и современным и т. д. Появ-
ляющийся в немецкой классической философии дух модерна — это
обращенность к субъективности эйдетического опыта и, как след-
ствие, переписывание всей истории с позиций этого субъективного
опыта. Грек живет «среди эйдосов», совершенно не отделяя себя от
них; романтик же находится в субъективном пространстве эйдетиче-
ского опыта, отделяя свое «Я» от остального космоса.
Если античный и ренессансный эйдосы представляют со-
бой совершенные и прекрасные формы, то романтизм трактует
2.1. Символ и вещь
121
эйдос как символическую вещь. Сама вещь, теряя свою мате-
риальную доминанту, становится символической или эйдети-
ческой и в этом смысле оказывается частью духовного образа
природы. Как отмечает Ницше, «существо природы должно
найти в себе символическое выражение; необходим новый мир
символов, телесная символика во всей ее полноте»1.
Поэтический пейзаж, где неприменимы наглядные изобра-
зительные средства, как нельзя более отвечает романтическому
стремлению изменить природу вещи, внести в нее дух трансцен-
. дентального идеализма. Картина мира оказывается сотканной из
вербальных образов и метафор, придающих реальности одухо-
творенность индивидуально окрашенного эйдетического опыта,
ставящего на первый план передачу лирического мироощущения,
ищущего в природе духовное созвучие с внутренним пространством
. возвышенного опыта. Эйдетический опыт романтизма не просто
отражает природу — он ее трансформирует, создавая новый — от-
личный от античного — духовный космос как нечто изначально
идеальное, сущее по законам духа. Лермонтовский поэтический
пейзаж как одна из вершин романтизма — это полное стирание
грани между вещью и переживанием, между телесностью и идеаль-
ностью поэтической формы. Белеющий в море парус, одинокий
утес, дубовый листок приобретают собственное самосознание, по-
скольку воспринимаются символически, как сущности, наделенные
собственным духовным бытием, а не отражением нашего. «Голос»
вещей, который в античности звучал в глухих предчувствиях все-
общего фатума, в романтизме обретен как нечто присущее самим
вещам, поскольку природа вещи начинает трактоваться как сим-
волическая природа, что позволяет вещам «от своего лица» выра-
жать себя, вступать в отношения между собой, коммуницировать
с переживаниями поэта и т. д. Гёте отмечает: «У художника двой-
ственные отношения с природой: он ее господин и он же ее раб.
Раб — поскольку ему приходится действовать земными средствами,
чтобы быть понятым, и господин — поскольку эти земные средства
он подчиняет и ставит на службу высшим своим замыслам. Ху-
1 Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 65. Это же другими сло-
вами: «Философски настроенный человек имеет даже предчувствие, что
и под этой действительностью, в которой мы живем и существуем, лежит
скрытая, вторая действительность, во всем отличная, и что, следовательно,
и первая есть иллюзия» (Там же. С. 60).
122
Глава 2. Символическая реальность
дожник являет миру целое. Но это целое не заготовлено для него
природой, оно плод его собственного духа, или, если хотите, опло-
дотворяющего дыхания господа»1. Трансцендентальный идеализм
и обращение к классической древности — это, прежде всего, новая
концепция природы, приоритет духовной природы вещи, трактуе-
мой как ее символическое самосознание, рассмотрение эйдоса как
созвучия между возвышенным опытом поэта и собственным «го-
лосом» вещи. Одухотворенность романтического космоса дости-
гается путем его очеловечивания, придания миру статуса, который
раньше признавался только за божественным и человеческим ду-
хом, стремление раскрыть природу не через экспериментирование,
а через прислушивание к «голосу» вещи.
Тем самым романтизм рассматривает себя не только как вос-
становление, но и как определенное завершение, обновление на-
следия классической античности и, прежде всего, завершение стро-
ительства символического универсума природы2. Это стремление
выражает Шеллинг: «Как в символах природы, так и в греческих
сказаниях интеллектуальный мир был заключен как бы в почке, он
был сокрыт в предмете и не выражен в субъекте. Напротив, хри-
стианство есть данная в откровении мистерия, и, как язычество по
своей природе экзотерично, так он по своей природе эзотерично»3.
Разумеется, «христианство» понимается у Шеллинга в духе «фи-
лософии религии», как форма трансцендентального идеализма.
Смысл положения Шеллинга (выражающего квинтэссенцию ро-
мантизма) в том, что античность достигла представления об эйдосе
как высшем совершенстве и дала миру непревзойденные классиче-
ские образцы, но как таковая она не достигла той степени развития
самосознания, при которой духовный опыт начинает осознавать-
ся как нечто самостоятельное по отношению к мировому бытию.
Символическая реальность культуры — та духовная форма, кото-
1 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Ереван,
1988. С. 512.
2 Хотелось бы особенно выделить аспект обновления греческого духа.
«Если для XVIII в. боги древности, мифология были во многом ходульны-
ми, искусственными и внешними украшениями поэтического слога и как
бы возмещали бедность фантазии, то Пушкин с самого начала стремился
представить их в качестве совершенно живых и реальных образов» (Нико-
ненко В. С. Труды по русской философии и литературе. СПб., 2014. С. 446).
’Шеллинг Ф. В. Философия искусства. СПб., 1996. С. 136.
2.1. Символ и вещь
123
рая оказалась достойной заменой древней мифологической осно-
ве. Придя к самодостаточности собственного возвышенного опыта,
романтический человек творит миф о самом себе как историю са-
мосознания духа, значимую для истории всего бытия. Романтиче-
ский миф — миф человека о генезисе самосознания, погруженность
в рефлексию по поводу эйдетического опыта, озабоченность соб-
ственным «Я», которое возвышено до символического, мирового
духа, объединяющего природное, духовное и божественное начала.
Символизация вещи в романтическом космосе достигается за счет
акцента на переживании этой вещи, исходя из наличия присущей ей
v индивидуальности. Романтический мир — как эйдетический кос-
(' мос — лежит за пределами наглядной видимости и открыт только
- внутреннему созерцанию. Это тонко подмечает Кьеркегор: «За ми-
ром, в котором мы живем, далеко на заднем плане лежит второй
мир, стоящий к первому в том же отношении, в каком находится
в театре дальняя сцена, — которую мы временами замечаем сквозь
действие, на просвет, — к обычной сцене, где разыгрывается все
представление. Сквозь тонкую завесу виден мир, как бы сотканный
из флера, — более легкий, эфирный, иного качества и свойства, чем
настоящий. Многие люди, телесно появляющиеся в действитель-
ном мире, принадлежат все-таки не ему, но тому, другому миру»1.
Отсюда и учение о поэте как гении — человеке с особой
судьбой, избранном для открытия глубинной сути вещей. Опыт
романтического поэта как гения полностью лишен частной, эм-
пирической составляющей и (по крайней мере, в моменты поэ-
тического озарения) представляет собой чистый эйдетический
опыт, достигающий в своей возвышенности полной нераздель-
ности переживания и его содержания, стирающий всякие пре-
грады и различия между представляющим и представляемым,
превращающий окружающий мир в лирический, то есть симво-
лический, пейзаж, в котором вещи выступают как индивидуаль-
ные эйдетические сущности.
Система Кассирера, неокантианца и крупнейшего немецкого
теоретика символизма, de facto завершает начатый романтизмом
проект символического одухотворения космоса и превращения
мира природы в мир культуры, или, по словам самого Кассирера,
«символического универсума»: «Человек живет отныне не толь-
1 Кьеркегор С. Или — или. СПб., 2011. С. 333.
124
Глава 2, Символическая реальность
ко в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф,
искусство, религия — части этого универсума, те разные нити, из
которых сплетается символическая сеть»1. «Близость к вещам», до-
стигнутая в романтизме, — это не что иное, как придание вещи но-
вого онтологического статуса символической сущности, имеющей
основанием не материальную, а эйдетическую природу, наиболее
полно раскрывающуюся в непосредственной явленности художе-
ственного (в частности, поэтического) представления. По сути дела,
романтический идеализм перестает трактовать вещь как форму ма-
терии, интерпретируя вещь «поэтически», «лирически» — как фор-
му возвышенного переживания. Отсюда, как закономерный итог,
начало расхождения путей искусства и науки: последняя все более
«отодвигается» на периферию духовных поисков, избирая приори-
теты в прикладных и технологических сферах. Сама свойственная
Просвещению материалистическая философия трактуется роман-
тизмом не как истина о мире, а как искусственно созданная модель,
удобная для точных наук, эффективная для экспериментов и техно-
логий, но вместе с тем мировоззренчески упрощенная, даже ущерб-
ная. Когда Хайдеггер произносит знаменитое: «Наука не мыслит»,
он имеет в виду, прежде всего, оторванность современной науки от
духовных приоритетов романтизма, стремящегося «очеловечить»
мир, преобразовать его в символический универсум культуры, а не
отстраненно постичь в собственной фактической данности. Ли-
шенная всякой «поэтичности», технологически ориентированная
наука оказывается доминирующей в рассудочной сфере производ-
ства, сфере чистого практицизма и, как таковая, выступает чуждой,
порой даже враждебной силой по отношению к сосредоточенному
в сознании интеллектуала эстетически ориентированному эйдети-
ческому опыту.
Вернемся, однако, к вопросу о символическом представ-
лении вещи. Обычно принято считать основной формой выра-
жения символа аллегорию, когда определенные знаки и вещи
отсылают к определенному эйдетическому смыслу. Например,
Й. Хёйзинга отмечает, что аллегория является основной фор-
мой символического сознания Средневековья: «Всякий реа-
лизм, в средневековом смысле, — это в конечном счете антропо-
морфизм. Когда мысль, приписывающая идее самостоятельное
1 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М„ 1998. С. 471.
2.1. Символ и вещь
125
существование, хочет стать зримой, она способна достигнуть
этого не иначе как прибегая к персонификации. Здесь происхо-
дит переход символизма и реализма в аллегорию. Аллегория —
это символ, спроецированный на поверхность воображения,
намеренное выражение — и тем самым исчерпание — символа,
перенесение страстного вопля в структуру правильного пред-
ложения»1. Тезис, который я хотел бы здесь доказать, следую-
щий: аллегория не может рассматриваться как символ — она
есть лишь средство выражения символа; аллегоризм, если он
подменяет собой символизм, неизбежно приводит к догматизму
и рассудочности в толковании символа, и столь же неизбежно —
,к упрощенному, сниженному уровню его понимания. Аллегория
намеренно задает смыслу символа конечность, сводит его к эм-
пирической наглядности и лингвистическому определению. На
самом деле никакая аллегория не может передать всей полноты
эйдетического опыта и исчерпать значение символа. В отно-
шении всех символов можно установить в качестве закона, что
их смысл нельзя редуцировать к какой-либо конечной образ-
ной наглядности или конечному лингвистическому описанию.
Когда отмечается, что в аллегории одно показывается, а другое
понимается, то это «другое» и есть признак немощи конкрет-
но-образного эстетического мышления в его претензии на пере-
дачу полноты символического смысла. Правда, надо признать,
что аллегория, взятая как средство выражения эйдетического
смысла, во многих случаях незаменима; но это происходит по
причине несовершенства нашего сознания и имеющихся у нас
выразительных средств, а не особого привилегированного ста-
туса аллегоризма.
Как верно отмечает Рикёр, «символам как таковым угрожает
либо слияние с воображаемым, либо превращение в аллегоризм»2.
Поскольку эйдетический опыт явственен только в своей непосред-
ственности, он может подменяться средствами своего выражения,
которые могут творить не более чем вымышленные сущности,
превращающие символы в порождение фантазии. Типичным при-
мером можно считать рассуждение Хайдеггера из статьи «Вещь»,
в которой он пишет: «В подносимой воде присутствует источник.
1 Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М„ 1988. С. 225.
2 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 94.
126
Глава 2. Символическая реальность
В источнике присутствует скала, в ней — темная дрема земли, при-
нимающей в себя дождь и росу неба. В воде источника присутству-
ет бракосочетание неба и земли. Оно присутствует в вине от плода
виноградной лозы, в котором взаимно вверились друг другу соки
земли и солнце небес»1. Хайдеггер вполне убежден, что раскрыва-
ет античный, мифологически окрашенный способ церемониаль-
ного употребления вина, поэтизирует античный пир как особое
действо. Однако, как ни хотелось бы верить в иное, это — просто
художественный вымысел, который литературно прекрасен, но со-
вершенно ничего не говорит о греческом символизме. Ведь пред-
метом подобных «античных» описаний служит не собственно
«античное» (которое содержало в себе собственный символизм),
а эйдетический опыт самого Хайдеггера, являющийся современ-
ной интерпретацией, переописанием2. Хайдеггеровская носталь-
гическая обращенность к античности демонстрирует затруднения,
возникающие при передаче или реконструкции исторического эй-
детического опыта, поскольку этот опыт давно прошел, а вокруг нас
господствует совершенно иной способ символизма. В этом случае
действительно воображение и маргинальное достраивание могут
оказаться единственными методами, без которых трудно обойтись,
но при таком типе исторического символизма легко как впасть в до-
мыслы, так и переиначить прошлую традицию на наш собственный
лад, наподобие того, как художники Ренессанса без зазрения сове-
сти рядили библейских героев в современные им одежды, а Шек-
спир именовал Тесея «герцогом Афинским». На мой взгляд, нужен
очень большой исследовательский такт, крайне осторожный под-
ход к тому символизму, который признан классической формой,
хотя бы потому, что его жизненность поддерживается не столько
наличным эйдетическим опытом, сколько определенной сложив-
шейся традицией. В любом случае я склонен допускать, что любые
'Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 320.
2 Хайдеггер судит об античном космосе с позиций мистицизма, который
обусловлен влиянием средневековой немецкой мистики и романтизма. Ка-
жется совершенно невероятным, что греки смотрели на вещи, например,
так: «Лишь когда человеческое существо в событии прозрения как озарен-
ное им отказывается от человеческого своеволия и бросает себя навстречу
озарившему его свету, прочь от самого себя, человек в своем существе на-
чинает отзываться на обращенное к нему озарение?» (Хайдеггер М. Время
и бытие. М„ 1993. С. 257).
2.1. Символ и вещь
127
схематизации, аллегории, маргинальные достраивания неизбежно
переописывают исторический символизм.
Поскольку символ замещает эйдос в сфере духа, то символиче-
ская реальность выступает эпистемическим отображением эйдосов.
Символическая реальность сотворена человеком на эйдетической
основе и в этом отношении — на определенном этапе формирова-
ния — приобретает отчужденность от субъекта, рассматриваясь как
нечто объективное. К примеру, в античности существовало стрем-
ление приписывать символы традиции не конкретному автору,
а богу или великому мужу древности. Это делалось для того, чтобы
придать предложенным эйдетическим смыслам характер мудрости
.веков, «освященной» традицией, сблизить истины поэзии и фи-
лософии с истинами мифа. Велика вероятность, что космологиче-
скую теорию шарообразности мира впервые предложил Парменид.
Однако, как символическая форма в рамках традиции, эта теория
обретает авторитетное и «древнее» происхождение, теряется в глу-
бине веков, будучи приписанной легендарному Мусею, — таким
образом она оказывается частью вечной незыблемой мудрости,
которой достаточно лишь воспроизводиться в разных вариациях.
Я склонен предположить, что подобный тип верификации в наше
время утерян', нам требуются иные мерила достоверности символа,
которые устанавливаются не в отношении традиции, а в отношении
эпистемологических критериев субъективности и объективности.
Лишенные непосредственного опыта проживания в таком мире, где
все подчинено мифу и традиции, мы, люди современности, ищем
основания символизма в самом процессе субъективного (или ин-
терсубъективного) эйдетического опыта, склонного постоянно об-
ращаться к истории для обретения хоть какой-то объективности.
В русской идеалистической философии присутствует учение
об особом мистическом восприятии символа, которое опирается
на сложный синкретизм античных, христианских и поэтических
практик. К примеру, Розанов дает такое определение мистической
природе вещи: «Значит, вещи, лица имеют соотношение, пока жи-
вут, но нет соотношения в них, так сказать, взятых от подошвы до
вершины, метафизической подошвы и метафизической вершины?
Это одиночество вещей еще ужаснее»1. В символическом представ-
лении, как мы уже установили, мир вещей трансформируется в мир
1 Розанов В. В. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М„ 1990. С. 279.
128
Глава 2. Символическая реальность
эйдосов: вещи тут оказываются «вещами» только по названию.
Кантовская вещь в себе, имеющая собственное и таинственное
для нас бытие, может приобретать мистические характеристики,
если выйти за пределы строгой метафизики в сферу художествен-
ного или религиозного представления1. В этом смысле кантовские
и розановские «одинокие» вещи, таящие от нас свою подлинность,
вполне могут разыграть собственную мистерию, оказаться в руках
рабов в пещере («Государство» Платона), ожить в произведениях
Гофмана или По. Ведь в мире вымысла эпистемологические кри-
терии задаются только исходя из пределов и возможностей наше-
го опыта. Любое самое фантастическое представление может быть
символически оформлено, если оно обретает устойчивую эйдети-
ческую форму и находит подходящий язык для своего выражения.
Символические представления о вещах не нуждаются в какой-либо
верификации с точки зрения фактов', отсюда — постоянная опас-
ность загромождения любой классической традиции самыми при-
чудливыми и немыслимыми представлениями.
Обращаясь к античности с позиций идеализма, Лосев пи-
шет: «Символ есть принцип бесконечного становления с ука-
занием всей той закономерности, которой подчиняются все
отдельные точки данного становления»2. Символ есть не что
иное, как фиксация эйдетического опыта в рамках определен-
ной традиции и языка. При этом (здесь я согласен с Лосевым)
совершенно не регламентируются способы символизации: каж-
дая традиция избирает свои допустимые методы. Поэтому Ло-
сев впадает в заблуждение, когда судит с позиций универсализ-
ма и доказывает приоритет мифологического типа символизма
как всеобщего и истинного типа3. С моей точки зрения, мифоло-
гический символизм — это один из основных типов символизма,
1 Уже у Гофмана вещи «оживают», приобретая собственный голос в про-
странстве сказки. В романтической литературе вещи обладают собствен-
ным самосознанием, способностью «высказывать» свою природу и всту-
пать в коммуникативные отношения с другими вещами.
2 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 35.
3 «Миф не есть метафизическое построение, но — реально, вещественно
и чувственно творимая действительность, являющаяся в то же время отре-
шенной от обычного хода явлений и, стало быть, содержащая в себе раз-
ную степень иерархийности, разную степень отрешенности» (Лосев А. Ф.
Из ранних произведений. М., 1990. С. 457).
2.1. Символ и вещь
129
но он вовсе не обладает никакой изначальной первичностью', мы
сами при желании (то есть волюнтарно, идеологически) объяв-
ляем тот или иной тип символизма «единственно правильным»
или «приоритетным». Я хотел бы предположить и даже устано-
вить в качестве закономерности следующее: в истории культуры
накоплен достаточный опыт для того, чтобы утверждать, что
вещи могут быть символизированы разными способами, всегда
либо конкурирующими друг с другом, либо находящимися во вза-
имном отчуждении. Сакрализация символа (любое учение о его
особой мировой значимости) — это идеологическая форма,
коллективный волевой акт традиции, предвзятое, но внутрен-
не оправданное и исторически необходимое возвеличивание.
С приходом другой эпохи прежние символы уже не будят ис-
креннего или надуманного пиетета, воспринимаемые как ушед-
шие исторические формы. Таким образом, «система вещей» —
это символическая система, представление об эйдетическом
космосе, постепенно складывающееся в определенные языко-
вые и традиционные формы, которые на определенном этапе
зрелости обязательно подвергаются идеологической обработке
и сакрализуются в качестве «вечных» оснований культуры. И на
смену низложенным «вечным» символическим основаниям по-
сле революционного брожения и прогресса неизбежно встанут
новые «вечные» символы — но лишь только для того, чтобы
быть разрушенными неумолимым потоком истории.
Если обратиться к русскому эстетическому символизму,
то в нем также преобладают мистические трактовки природы
символа. Вяч. Иванов определяет ее так: «Символ только тогда
истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем
значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератиче-
ском и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаго-
лемое, неадекватное внешнему слову»1. Символ действительно
не может быть до конца определен, но «беспределен» и «неис-
черпаем» он лишь потенциально, поскольку «определенность
смысла» символа — это достижение гармонии между эйдети-
ческим опытом и его выражением в определенном языке. Как
только такая гармония достигнута, пытливость в отношении
дальнейших определений может пойти на спад, и наличное зна-
1 Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 141.
130
Глава 2. Символическая реальность
чение станет «классическим», то есть устоявшимся в традиции.
Поэтому неисчерпаемость значения символа — это чисто мета-
физическое допущение, истинное само по себе, но противоречащее
культурной практике, предпочитающей оперировать догмати-
ческими определенностями. Что касается второй части опреде-
ления Иванова, то тут автор выступает скорее как поэт, нежели
как философ, и выражает эстетическую программу поэтическо-
го символизма, в которой неопределенные выражения и смыс-
лы являются допустимой и даже желательной нормой. На мой
взгляд, эйдетический смысл символа может быть крайне туман-
ным, но рано или поздно он будет либо конкретизирован, либо
постепенно сойдет со сцены, поскольку в рамках любой тради-
ции использование неопределенных символов (если только это
не делается намеренно, по идеологическим причинам) — непо-
зволительная роскошь, тормоз на пути стремления к символи-
ческой определенности.
Вяч. Иванов называет свой символизм «реалистическим»,
доказывая, что символы представляют собой высшую реаль-
ность. Он пишет: «Для реалистического символизма — символ
есть цель художественного раскрытия: всякая вещь, поскольку
она реальность сокровенная, есть уже символ, тем более глубо-
кий, тем менее исследуемый в своем содержании, чем прямее
и ближе причастие этой вещи реальности абсолютной. Для иде-
алистического символизма — символ, будучи только средством
художественной изобразительности, не более чем сигнал, дол-
женствующий установить общение разделенных индивидуаль-
ных сознаний»1. Ему вторит другой крупный теоретик симво-
лизма Андрей Белый: «Момент реализма всегда присутствует
в символизме; романтика и культ формы всегда присутствует
в нем. И оттого-то символизм отпечатлелся в литературе тремя
существенными лозунгами: 1) символ всегда отражает действи-
тельность; 2) символ есть образ, видоизмененный переживани-
ем; 3) форма художественного образа неотделима от содержани-
я»2. Подобные утверждения можно принимать только в рамках
эстетики; данные тезисы не имеют ничего общего с эпистемо-
логическим реализмом. Последний утверждает лишь то, что
1 Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 155.
2 Белый А. Символизм как миропонимание. М„ 1994. С. 257.
2.1. Символ и вещь
131
символы представляют собой форму реальности, доминирую-
щую в культуре. Однако тезис о том, что символы определяют
«природу вещей» и являются сутью бытия, мне представляются
крайне спорным. Поскольку художник замкнут в пределах сти-
ля и традиции и полностью ориентирован на интерсубъектив-
ное пространство культуры, то для него, в его восприятии, сим-
волы суть подлинная высшая реальность1. Однако не существует
достаточных доказательств для того, чтобы возводить художе-
ственный принцип в степень всеобщности метафизического
учения, и тем более, распространять эти принципы на прошлые
классические эпохи. К примеру, Розанов, много времени посвя-
тивший египтологическим штудиям, пишет: «В Египте, на одной
стене храма, был найден рисунок, который мы здесь помещаем
[изображено дерево, а в земле, там, где корни, — глаз. — С. Н.].
Как удивителен он! Как волнует! На вас смотрит глаз оттуда, где
всякий человек видит только зерно-, то есть зерно, из которого
выросло это и вырастает всякое дерево, приравнено к глазу,
объяснено через глаз, переименовано в глаз... Почему? Глаз ви-
дит путь, знает путь, ведет по пути — человека, как зерно, ве-
дет по пути дерево»2. Понятно стремление Розанова не только
описать, но также интерпретировать древний символизм. Взя-
тое как интерпретация, данное толкование вполне допустимо;
эпистемологическая ошибка, как я полагаю, начинается тогда,
когда интерпретация претендует на установление «подлинной»
природы символа и на монополию истинности. Значение симво-
ла — открытая смысловая структура, которая никогда не явля-
ется законченной, и только целенаправленное идеологическое
насилие может сделать символы однозначными, хотя подобная
однозначность недорого стоит.
Стоит особо отметить обращение русского художествен-
ного символизма от отвлеченной мечтательности к реализму,
сопровождающееся трагическим ощущением утраты прежнего
1 Об этом и пишет Андрей Белый, связывая символы, прежде всего, со
сферой творчества: «Символ есть образ, взятый из природы и преобразо-
ванный творчеством; символ есть образ, соединяющий в себе переживание
художника и черты, взятые из природы. В этом смысле всякое произведе-
ние искусства символично по существу» (Белый А. Символизм как миро-
понимание. М., 1994. С. 22).
2 Розанов В. В. Во дворе язычников. М., 1999. С. 21.
132
Глава 2. Символическая реальность
прекрасного идеала, погибшего в столкновении со «страшным
миром». Блок (в целом разделявший теоретические позиции
Вяч. Иванова и Андрея Белого и также уверенный в субстанци-
ональности символов) приходит к убеждению, что смысл сим-
вола во многом вне власти человека и вообще не может быть
определен. Как поэт Блок передает это через создание духовной
ситуации потери, утраты и забвения. Конец отвлеченного мечта-
тельного романтизма означает для него наступление холодной
трезвости, обретаемой ценой гибели романтической души. Как
и другие великие романтики, Блок приходит к пессимистиче-
скому воззрению на возможности человека постичь тайны мира,
реализовать запросы эйдетического опыта и обрести состояние
безмятежного духовного покоя. Вечное обновление, по Блоку,
представляет собой мистически понимаемое историческое вре-
мя, которое безжалостно сметает все устаревшие символические
формы и карает за любой отвлеченный идеализм. Блоковский
символический универсум неотделим от идеи гибели и возмез-
дия, ему присуще сложное (возможное только для лирического
поэта) противоречие между требованием вечного служения иде-
алу и противоположным ему требованием обратиться к трезвому
и суровому скепсису. В любом случае поэмы и поздние стихи Бло-
ка выводят неумолимую поэтическую логику краха веры в любой
из возможных символических миров.
В отличие от таких сфер, как точная наука, догматическая
теология или идеология, метафизические и эстетические сим-
волы не могут быть не только однозначно определены, но, ве-
роятно, вообще полностью выражены. К примеру, символиче-
ский смысл художественного произведения часто неотделим от
самого текста и не может быть сведен к краткому определению.
Это отмечает Ю. М. Лотман: «Если идейное содержание “Вой-
ны и мира” или “Евгения Онегина” можно изложить на двух
страничках учебного текста, то естественен вывод: следует чи-
тать не длинные произведения, а короткие учебники... Идея не
содержится в каких-либо, даже удачно подобранных цитатах,
а выражается во всей художественной структуре»1. Тем самым
основные символы любой традиции вообще не могут быть ре-
1 Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
С. 86-87.
2.1. Символ и вещь
133
дуцированы к кратким дефинициям, а требуют истолкования
в виде значительного текста и неотделимы от структуры этого
текста. Поскольку символ может быть отделен от других симво-
лов только абстрактно, то он вводится как обозначение не про-
сто конкретного эйдоса, но скорее связной совокупности эйдо-
сов, без которых он не может быть понят. Поэтому, к примеру,
определение идеи у Платона требует не формулировки, а целого
диалога, в котором идея, собственно, вообще не присутствует
в самодостаточном виде, а всегда выражена либо через поня-
тие, либо через душу, либо через мировое целое и т. д. Поэтому
эйдетическая определенность — в отличие от определенности
4 термина — неотделима от символического языка, установления
отношений с другими эйдосами, то есть требует учета связности
эйдетического контекста, который зачастую неартикулирован
и вообще трудноуловим.
Концептуализм никогда не сможет стать альтернативой сим-
волизму, поскольку базируется на иной способности познания,
преследуя при этом иные цели. Ушедший в наше время на второй
план символизм в условиях упадка мифологического и религиоз-
ного мировоззрения обретает свое место в художественной сфере,
которая обнаруживает несвойственные ей функции альтернатив-
ной системы ценностей, альтернативного взгляда на мир. Харак-
терной особенностью символизма в искусстве выступает то, что
последнее избегает всеобщности, уделяя особое внимание инди-
видуальной природе художественного эйдоса. Несмотря на то что
рассудочная критика Нового времени стремится свести символы
искусства к школам, стилям, типам, искусство — это пространство
реализации, прежде всего, личного, индивидуального эйдетиче-
ского опыта, неразрывно связанного с авторской атрибуцией. Это
отмечает Ортега-и-Гассет: «Но мы с вами уже знаем, чего стоит на
деле эта пресловутая “реальность” вещей; знаем, что вещь — это не
то, что мы видим: каждый видит вещи по-своему, а случается, что
и видение одного человека противоречиво... Я считаю, что искус-
ство — это процесс индивидуализации, поскольку вещи — res —
суть индивидуальности»1. В пространстве художественного эйдети-
ческого опыта, который отличается ярко выраженным авторским
и новаторским характером, вещи — это вовсе не вещи, а отнесенные
1 Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 74-75.
134
Глава 2. Символическая реальность
к определенным символам (языковым, звуковым или визуальным)
эйдетические формы. Искусство не ставит целью «познание» при-
роды вещей; его функция — изображение эйдетической природы,
вследствие чего картина мира существенно видоизменяется, являя
собой мир эйдосов. Когда Аристотель определяет прекрасное как
совершенство формы в индивидуальном, он имеет в виду неотде-
лимость художественного опыта от непосредственного обладания
эйдосом, его нахождения в пространстве возвышенного опыта, что
позволяет выделить эстетическую форму и даже отделить ее от фи-
зической «основы», которой неизбежно пользуется художник. Нет
сомнения, что индивидуализированный эйдетический опыт искус-
ства всегда относителен и наиболее очевиден лишь в сравнении
с более формализованными сферами культуры. Любой художник
связан традицией, жанром, стилем; он приходит в уже сформиро-
ванный до него мир. Но его назначение в этом мире — умножение
индивидуального в типическом, создание еще одной вариации, до-
стижение разнообразия в проявлении и реализации эйдетического
опыта. Если оформление школы и унификация взглядов консоли-
дирует науки и часто ведет к прорыву в будущее, то в художествен-
ной среде плодотворны корпорации, подобные древнегреческим
собраниям мужей, в которых, при определенном сходстве умона-
строения, сохраняется ярко выраженная индивидуальность, веду-
щая к постоянным спорам, к плюрализму взглядов. И напротив,
внешняя рассудочная сила идеологии, привнося в искусство меха-
ническое единообразие, искореняет или уничтожает все индиви-
дуальное, личное, приводя к опустошенности и даже гибели мира
художественных символов. Эйдетический опыт, если позволить
метафизическое обобщение, не может плодотворно развиваться
в условиях внешнего деспотического гнета; и свобода его индиви-
дуальных проявлений, как верно отметил Гегель, является одним
из главных условий возникновения духовного прогресса.
Как отмечает У. Эко, современная эпоха утратила симво-
лическое сознание, свойственное классическим эпохам прошло-
го: «Природа утрачивала свои семантические и сверхреальные
качества. Она перестала быть “лесом символов”, космос ран-
него Средневековья уступил место вселенной, которую мы мо-
жем назвать научной. Раньше было время, когда вещи обладали
ценностью не благодаря тому, чем они были, а благодаря тому,
что они означали. Но наступил момент, когда было понято, что
2.1. Символ и вещь
135
Божие творение было не организацией знаков и знамений, но
перераспределением форм»1. При нехватке средств выражения
символического сознания возникает не только альтернативный
концептуализму эстетический символизм, но также и стремление
утолить символический голод путем обращения к истории. Как
отмечал Ницше, великая эпоха обладает историческим сознани-
ем, но лишь в определенной мере, поскольку в историзме есть
опасность обращения времени вспять и жизни в прошлом, без
возможности создавать нечто новое, творить будущее. Поэтому
в наше время наблюдается довольно сложная диалектика обра-
щенности к исторической классике и модернизма, но при этом
утрачены классические принципы символической преемственно-
сти. К примеру, Средневековье и Возрождение базировались на
классической античности, однако преобразовывали ее, порой до
неузнаваемости изменяя. Античная архитектура не знала готиче-
ских соборов или дворянских палаццо с рядами арочных окон,
хотя эти совсем иные по облику сооружения, как отмечают все
крупные теоретики архитектуры, сохраняют классическую пре-
емственность. При том что сходства в облике и функции здесь
нет, но обнаруживаются эстетически однородные срезы с черта-
ми общности: ордер, декор, отделочный материал и т. д. Лишен-
ная же преемственности (как в художественном, так и в социаль-
ном смыслах) современная архитектура в своей «инаковости» не
содержит ничего «классического». Скопище стеклянных и бетон-
ных высотных и приземистых сооружений родственно варвар-
ским постройкам древности именно тем, что такое «зодчество»
выражает лишь утилитарные запросы, шокирует своей исключи-
тельно экономической функциональностью, не имея никакой эй-
детической основы, не выступая формой художественного опыта,
не содержа в себе мысль, вдохновение. Отсюда ярко выраженный
интерес к архитектуре великих стилей, который «раскручен»
и поддержан бурно разросшейся туристической индустрией2. На-
личие музеев, реставрация и каталогизация — при полном выро-
ждении современных оригинальных художественных форм —
1 Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004. С. 138.
2 Районы Парижа, Барселоны, Вены, Праги, Петербурга и других крупных
туристических центров, в которых нет исторической застройки, практиче-
ски не вызывают интереса у туристов.
136
Глава 2. Символическая реальность
создает особый антикварный подход к символам, помещенным
«под стекло» музеев. При этом забывается, что выставленные там
произведения — это творения художников, которые как для них
самих, так и для окружающих были чем-то конкретным, непо-
средственным, окружая людей не в музейной, а в самой что ни на
есть повседневной обстановке. Как верно отмечает Бодрийяр, че-
ловек Ренессанса жил среди прекрасных образов, тогда как наша
эпоха — только симуляция такой жизни, требующая особого, от-
деленного от всего прочего музейного пространства1. Он пишет:
«Со времен эпохи Возрождения, параллельно изменениям закона
ценности, последовательно сменились три порядка симулякров:
Подделка составляет господствующий тип «классической» эпохи,
от Возрождения до промышленной революции; Производство со-
ставляет господствующий тип промышленной эпохи; Симуляция
составляет господствующий тип нынешней фазы, регулируемой
кодом»2. Таким образом, я хотел бы вывести следующее положе-
ние: эйдетический опыт для нормального функционирования дол-
жен сохранять не только свое место в традиции, но также и свою
непосредственность. В условиях современности подобный опыт
наиболее полно сохранен в искусстве (вследствие определенной
свободы последнего, его легитимно частного характера, допуще-
ния авторской свободы и т. д.); однако и в этой сфере наблюдает-
ся постепенное угасание, что вызывает серьезную озабоченность
по поводу сохранения эйдетического опыта вообще. При ставшей
самоочевидной неспособности любого постмодерна освободить-
ся от того наследия, которое принято называть классической тра-
дицией, наиболее актуальной является проблема восстановления
символического сознания, которое не терпит ни отвлеченной
рассудочности, ни бесконтрольного волюнтаризма. Учитывая
уже столетнее временное расстояние от последнего подлинно ху-
дожественного исторического стиля — неоклассицизма, — само
воссоздание (хотя бы для начала в пространстве искусства) сим-
волического творчества и появление новой классической тради-
ции мне видятся весьма затруднительными, хотя к этому идеа-
1 «Именно принцип симуляции правит нами сегодня вместо прежнего
принципа реальности» (Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.,
2006. С. 44).
2Там же. С. 113.
2.1. .Символ и вещь
137
лу и устремлены последние тридцать лет лучшие умы и таланты
Запада.
Символизм не стремится «познать природу вещей», по-
скольку его предметом выступают не вещи, а эйдосы, интер-
претируемые в рамках определенных традиций и языка. Сим-
вол имеет эйдетическую природу, вследствие чего его значение
обретает себя не в определении, а в традиции, в реализации
в пространстве индивидуального и социального возвышенного
опыта. Поэтому я хотел бы конкретизировать следующее за-
труднение: математический и логический символ, на мой взгляд,
не имеет ничего общего с тем символом, о котором я веду речь
в настоящей книге. Это ни в коей мере не означает ненужности
или ложности логического символа — просто вследствие опре-
деленных недоразумений и перипетий философского языка по-
нятие «символ» в логике используется в некотором собственно
логическом смысле. К примеру, Рассел так говорит о природе
логического символа: «Можно предположить, что комплекс-
ность, по существу, должна иметь дело с символами или что она
в сущности психологична. Я не думаю, что можно серьезно на-
стаивать на какой-то из этих точек зрения... При логически кор-
ректном символизме всегда имеется определенное фундамен-
тальное тождество структур факта и его символа»1. Поскольку
логический символ является именем и замещает факт, то он по
своей природе скорее напоминает знак. Логический символ,
в отличие от символа вообще, относится к формальному рассуд-
ку. В трансцендентально-логическом смысле такой символ дол-
жен быть однозначным — но это установленная однозначность.
В формальном символизме нет ничего «естественного», равно
как и нет ничего возвышенного; это математическое действие,
введение понятия в язык. Если обратиться к расселовской логи-
ке, то не случайно именно математические термины являются
наиболее подходящими для логических операций: ведь такие
термины (особенно если они не имеют связи со словами обыден-
ного языка или уже существующими символическими словами)
лишены всякого символизма. Логические символы не отсыла-
ют ни к чему, кроме себя; они носят функциональный характер,
в отличие от символа вообще, который всегда отсылает к эйде-
1 Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999. С. 22.
138
Глава 2. Символическая реальность
тическому опыту и воплощается в возвышенной форме. Вит-
генштейн отмечает: «Картина изображает свой предмет изоб-
ражения извне (ее форма изображения — это ее точка зрения),
и поэтому она изображает его либо верно, либо неверно»1. Эй-
детический опыт и символ (как его воплощение) не могут быть
«внешним» отображением предметов: символ всегда «отсылает»
к непосредственности актуального или возможного, настоящего
или прошлого, выступая средоточием возвышенной, «человече-
ской» реальности, которая, взятая в своем высшем метафизиче-
ском воплощении, и есть эйдетический мир.
Мир эйдосов и мир логики равно сотворены человеком;
однако последний сотворен особым типом рассудка и поэто-
му не является всеобщим основанием человеческой природы,
в отличие от мира эйдосов, образующих основание культурно-
го бытия. Это вовсе не значит, что мир логики не может быть
возвышенным. Напротив, в ранней аналитической философии
логические построения окружены ореолом особой, возвышен-
ной красоты мысли. Однако эта возвышенная красота, выступая
эйдетической формой, является лишь метафизическим допол-
нением к логико-математической теории, которая не нуждается
в таких эпитетах и остается в пределах чистого схематизма. Тем
самым логические символы приобретают эйдетический смысл,
выходя за пределы логики, становясь частью определенной ме-
тафизики, попадая в область ценностей и т. д. Рассел, Витген-
штейн, другие логики видели неизбежные пределы дескриптив-
ное™, ограниченные возможности языка в области описания
фактов. К примеру, Айер пишет: «Реалистическое изображение
мира, согласно которому мир существует, чтобы его описыва-
ли и объясняли, представляется мне в некоторых отношениях
слишком упрощенным... Ибо содержание и структура фактов
определяется содержанием и структурой тех предложений, ко-
торые они призваны подтверждать... Что нам никогда не удаст-
ся сделать — это целиком выйти за пределы языка и с этой вы-
годной позиции рассмотреть мир для того, чтобы понять, какая
система лучше всего описывает его»2. Таким образом, логика
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // 2.173 (Витгенштейн Л.
Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 9).
2 Айер А. Дж. Философия и наука // Вопросы философии. 1962. № 1. С. 103.
2.1. Символ и вещь
139
постепенно приходит к критике собственных оснований в от-
ношении допущения однозначности языка. Языковая основа
логики оказывается на определенном уровне «не подлежащей»
формализации. Ошибочно полагать, что обыденный язык сим-
волически ясен и богат; но он, как обладая естественностью, так
и будучи частью традиции, содержит в себе, пусть и в банальной
форме, определенный символический «запас», уровень, прояв-
ляющийся и в таких возвышенных языках, как языки филосо-
фии, поэзии, мифологии и др.
Сторонники формализма в отношении понятий часто од-
новременно выступают и экстерналистами в отношении опы-
та1. Если оставаться в позитивистском убеждении, что сово-
купность точных описаний фактов и есть подлинная наука,
то подобный экстернализм оказывается вполне достаточным.
Проблемы начинаются, если пытаться с помощью данной
методологии толковать символизм. В таком случае действи-
тельно лучший способ — его «запретить», то есть свести к со-
вокупности субъективных и неверифицируемых суждений.
Поскольку символический смысл эйдоса не только метафори-
чен (следовательно, неоднозначен), но и отсылает к опреде-
ленному непосредственному опыту, то для «логической» трак-
товки символов более предпочтительны такие принципы, как
контекстуализм, лингвистический плюрализм и интернализм.
Символы как обозначения эйдосов тяготеют к достижению
определенности своих значений; но эта определенность никог-
да не сможет быть чем-то большим, нежели нечто приблизи-
тельное и индивидуальное. Без всякого сомнения, деспотиче-
ская рука власти способна навязать обществу «однозначную»
трактовку символа и даже карать за инакомыслие: история
знала много случаев преследования тех, кто не соглашался
с официальной идеологией и начинал трактовать символы
неортодоксально. Но та же история знала не меньше приме-
1 «Для любого экстерналиста относительно содержания, каким я склонен
быть, видимый пробел между ресурсами не семантической теории вычис-
ления и интенциональными состояниями, конечно, расширяется дальше.
Экстерналист добавит... что наблюдение, объяснения которого содержат
в себе только синтаксические утверждения, может объяснять только вну-
тренние, индивидуальные утверждения» (Peacocke С. Content, Computation
and Externalism // Mind and Language. 1994. Vol. 9. N 3. P. 307).
140
Глава 2. Символическая реальность
ров, когда, при прекращении идеологического гнета, старые
символы мгновенно разрушались, уступая дорогу новым. Ведь
символы — не монопольные знаки, а интерпретации эйдо-
сов; не существует трансцендентальных принципов какого-то
«универсального» типа символизма1. Эйдетический опыт, его
символические выражения, культурные традиции настолько
разнообразны и изменчивы, что можно с уверенностью допу-
стить, что символической консолидации человечества, скорее
всего, не произойдет; однако следует также допустить, что та-
кая консолидация может проводиться насильственными спо-
собами, с использованием рычагов власти или общественного
мнения. В человечестве господствует символическое разноо-
бразие, но порой наступают периоды, по крайней мере, внеш-
ней унификации, когда тот или иной символический язык ока-
зывается безусловно доминирующим и даже претендующим на
статус «вечного» основания. Далеко не всегда возникает сим-
волический плюрализм и расцвет творческого порыва; порой
общество существует в условиях подавляющего символическо-
го монополизма. Тем не менее ни одна символическая форма не
смогла вечно сохраняться в одном и том же виде. Исходя из это-
го, можно предположить, что наши символы тоже преходящи,
и тем более преходящи притязания тех, кто пожелал бы дать
миру вечные основания и принципы. Эйдетический опыт, если
он развивается в нормальных социальных условиях и в циви-
лизованном обществе, постоянно обновляется и всегда являет-
ся достаточно разносторонним, чтобы оказаться закованным
в какой-то монопольный символический язык.
Несмотря на невозможность строгого и точного опреде-
ления значения символа, не следует пренебрегать стремлением
1 В этом смысле мне представляется ложной теория символических «ге-
штальтов» С. Лангер: «Ни один символ не свободен от необходимости ло-
гического формулирования, от концептуализации, которую он передает; од-
нако простой и не менее великой его сущностью является его значение, как
элемент, необходимый для понимания данного символа... Символические
материалы, данные нашим чувствам, — это гештальты, или фундаменталь-
ные образные формы, которые позволяют нам объяснять столпотворение
чистых впечатлений от мира вещей и случайностей, принадлежат “пре-
зентативному” порядку» (Лангер С. Философия в новом ключе. М., 2000.
С. 89). Символ может существовать и без какой-либо концептуализации.
2.1. Символ и вещь
141
придать символическому смыслу высокую степень ясности и по-
нятности. На это требование обращает особое внимание Н. Гуд-
мен: «Сервантес, Босх и Гойя не меньше, чем Босуэлл, Ньютон
и Дарвин, принимают, разрушают, переделывают и снова при-
нимают знакомые нам миры, преобразуя их примечательными
и иногда причудливыми, но в конечном счете распознаваемы-
ми способами»1. «Распознаваемый» способ описания символа
не всегда практиковался в истории. Напротив, символы часто
трактовались в эзотерическом смысле, приобретая оттенок
таинственности, требуя определенного посвящения или при-
надлежности к особому кругу. На мой взгляд, греки, в отличие
от варваров, всегда стремились к простоте и ясности самых
сложных и возвышенных символов. Свободные от склонности
к шифровке, эллины сделали символы сферой возвышенного
опыта, но эта возвышенность являлась чем-то общепонятным,
свойственным сознанию «благородных мужей»2. Греческий
символ прост, ясен и человечен, но никак не упрощен и тем бо-
лее не рассудочен. Здесь ум обращается к прекрасным формам
и находит для них подобающее воплощение. Греки придавали
особое значение не только красоте и возвышенности эйдосов,
но и совершенству их символического воплощения. Отсюда
свойственное в наибольшей степени именно им стремление
к риторической красоте, совершенству телесной формы, пра-
вильности и пропорциональности всех частей, доскональности
и полноте диалектических построений и т. д. Мир эйдосов — это
и форма человечности, тот духовный универсум, по которому
судят не об отдельном человеке или даже народе, а об уровне
развития человечества в целом. Символический мир человечен-,
он не может без прямого насилия или утопических намерений
перестать отражать особенности нашего эйдетического опыта.
С точки зрения символического мировоззрения сама реаль-
ность воспринимается «очеловеченной», неотделимой от ее пе-
реживания в возвышенном опыте. Классик современной эписте-
мологии X. Патнэм по этому поводу пишет: «Это именно тот вид
1 Гудмен Н. Способы создания миров. М„ 2001. С. 220.
2 Хотя в греческих философских школах практиковалось выделение осо-
бых разделов, которые следует преподавать избранным и посвященным.
Об этом, в частности, ведет речь Александр в письме к Аристотелю (приво-
дится Плутархом: Pint. Alex. 7).
142
Глава 2. Символическая реальность
реализма, как я имею в виду, человеческую форму реализма...»1
Символическая реальность, хотя и обладает определенной
объективностью и способностью быть отчужденной от своего
творца, — это исключительно «человеческая» реальность. Я по-
лагаю, что такая реальность и есть открытый Платоном эйдети-
ческий мир.
Онтология символа ставит целью понять, каким образом
эйдетическая реальность становится целостным культурным
миром. В символически оригинальной культуре присутствует
ярко выраженное стремление к символическому холизму — объе-
динению ведущих символов той или иной традиции в целостный
язык, в рамках которого господствует не принцип атомарности
значений, а принцип взаимосвязанных значений символов. При
достижении символического холизма исчезает фрагментиро-
ванность духовного универсума. Великая эпоха представляется
гармоничной: в это время все сферы культуры, все символы со-
звучны друг другу. Ведь открытый греками духовный прогресс
есть не что иное, как появление новых символических форм
человечности, когда сам человек обнаруживает новые аспекты
собственного эйдоса.
1 Putnam Н. Philosophical Papers. Vol. III. Cambridge, 1983. P. XVIII.
2.2. Порядки символов
Символы никогда не относятся к одному всеобщему типу, хотя
в рамках классической традиции они приобретают определенную
взаимосвязанность, позволяющую вводить такие предельно ши-
рокие обобщающие нарративы, как «античность», «Новое время»,
«постмодерн» и т. д. В символическом универсуме присутствует
специализированность, возможность отнесения символа к опреде-
ленной сфере или «порядку», что дает возможность (с большой до-
лей условности) относить тот или иной символ к языку религии, ис-
кусства, философии и других сфер. В связи с этим все исследователи
символизма ставили вопрос о критериях выделения таких порядков
и определении своеобразия каждого из них. Я провожу здесь анализ
тех причин, благодаря которым символ не просто обозначает эйдос,
но и находит свое место в определенном символическом языке, что
позволяет отстаивать невозможность существования символа вне
определенного порядка.
Можно также выдвинуть следующий тезис: для классической
эпохи, когда эйдетический опыт развит, свободен и обретает свое
воплощение, характерно стремление к символическому холизму,
упорядоченности и взаимосвязанности символов (что делает их
«узнаваемыми», прежде всего, с точки зрения такого всеобщего по-
рядка). И наоборот, в переломные эпохи (такие, как эпоха модер-
на) господствует символический релятивизм с присущей ему раз-
розненностью порядков и отсутствием единого всеобщего языка.
Для определения сущности символических порядков я обра-
щусь, прежде всего, к античному символизму, поскольку именно
144
Глава 2. Символическая реальность
тогда в символизме возникает известная дифференциация. Антич-
ный символизм особенно значим тем, что он не знал рядом с собой
иного «цивилизованного» символизма, находясь в ситуации опре-
деленной духовной монополии, что позволило Аристотелю поста-
вить знак тождества между понятиями «грек» и «человек» (имеет-
ся в виду эйдетический, возвышенный образ человека). Греческий
символизм вырастает из мифологической основы, однако он суще-
ственно отличается от культурного фона, представленного бесчис-
ленными варварскими областями и древними деспотиями. Поэтому
я разделяю гегелевскую посылку о возникновении греческой мыс-
ли из особой свободы духа. Думается, греки достигли невиданной
ранее в древнем мире символической свободы, когда культура, хотя
и имеет божественных и легендарных основоположников, творится
всецело человеком. Хотя эллины не знали индивидуалистического
символизма, относя происхождение любых символов к богам, ге-
роям и просто великим мужам, мы впервые видим очеловеченный
культурный мир, в котором идеалы мудрости, красоты, личного
аристократизма и благородства, простоты и возвышенности жизни
оказываются первостепенными по отношению к варварским цен-
ностям, заключающимся в знатности, богатстве, кастовом укладе,
рабской покорности правителю и богам.
Если верить Дж. Вико, то древние поэты говорили не словами
и символами. Это предположение не совсем фантастично, как мо-
жет показаться на первый взгляд, поскольку отражает свойственное
греческой традиции стремление возводить все символы к леген-
дарным героям и мудрецам (Одиссей, Орфей, Мусей, Геракл, Те-
сей), а также к реальным лицам (Солон, Ликург, Фалес, Пифагор).
В связи с этим следует пересмотреть рационалистический подход
к истории античной мысли, согласно которому все ее лучшие тво-
рения могут быть отнесены к актам личного творчества. Великий
греческий философ действительно представляет собой средоточие
мудрости. Однако следует заметить, что он не выступает как «ав-
тор», отдельная творческая личность. Напротив, даже очевидные
собственные открытия греки обязательно «опирают» на уже сло-
жившуюся традицию: они как бы повторяют на новый лад то, что
уже открыто до них. К примеру, нам неизвестна космологическая
теория шарообразности вселенной до элейской школы. Но у Дио-
гена Лаэртского (который был гораздо более сведущ, чем мы, по-
скольку еще располагал некоторыми подлинниками досократиков)
2.2. Порядки символов
145
совершенно иное мнение: он возводит учение о шарообразности
космоса к легендарному Мусею, отчего теория Парменида приоб-
ретает характер толкования уже известного, созвучного с традици-
онным символизмом. Стремление найти «покровителя» для всех
наук и искусств, видеть его в том или ином боге (богине) или леген-
дарной авторитетной личности «сплачивает» изыскания античных
авторов в единую традицию, которая существует в рамках одного
языка и одного символического пространства, сложившегося дав-
ным-давно и столь истинного, что к нему следует лишь правильно
приобщиться.
Наиболее развитый символизм среди всех досократиков при-
(угствует у пифагорейцев. Он давно детально и добротно изучен.
Так, Единица — монада, соответствует точке; это символ Бога, число
Солнца и Зевса, творящая причина. Двоица — противоречие, изме-
нение, число Земли, символ воды, металлов, фантазии, молвы. Тро-
ица — основа пространства, красного цвета, священное число Герме-
са. Четверица — первоначало квадрата и пирамиды, число стихий,
сторон света, времен года, возрастов, символ Аполлона. При этом
нечетные числа посвящены мужским богам, а четные — женским.
Данный перечень, конечно, не исчерпывает сложного символизма
пифагорейцев. Не стремясь оценивать и расшифровывать эти поло-
жения, я хотел бы отметить следующее (что, как правило, усколь-
зает от увлеченных расшифровкой исследователей): число связы-
вается одновременно с несколькими символическими порядками
и в этом отношении изначально выступает не простым, а сложным
символом, не имеющим однозначного определения. Между матема-
тическими положениями, планетами, богами, полами и возрастами
людей нет никакой прямой связи, из чего можно сделать вывод: тут
присутствует особая, символическая связь, недоступная обыденно-
му рассудку (и даже кажущаяся абсурдной), но вполне естественная
для эйдетического опыта. Дело в том, что Пифагор (как и все греки)
рассуждает не с рациональной, а с эстетической точки зрения, ста-
вя на первый план не достоверное, а гармоничное. Символические
толкования Пифагора построены на предположении, что главные
роды сущего непременно взаимосвязаны, и эта взаимосвязь присут-
ствует в числах. Этот принцип никак не меняется и в трудах Плато-
на и Аристотеля. Среди всех символов выделяются самые главные,
и символ тем важнее других символов, чем тотальнее он охватывает
пространство эйдетического опыта, чем более полно он обозначает
146
Глава 2. Символическая реальность
образ мира. В конкретном виде эти символы могут обладать опреде-
ленной специализацией в сфере культуры (быть символами мифо-
логии, философии, политики, риторики, диалектики), но это вторич-
но по отношению к возвышенному смыслу символа. Един не просто
мир и не просто начало бытия: с Единым (задолго до появления этой
категории) связывается, прежде всего, целостность эйдетического
опыта и символического языка, воспринимаемого как нечто вечное
и установленное по воле богов.
Характерной особенностью греческого символизма выступа-
ет отнесение символов не к истинности или ложности, а к особому
достойному пути жизни. Как пишет Платон, «перед нами, точно пе-
ред виночерпиями, текут две струи; одну из них — струю удоволь-
ствия — можно сравнить с медом, другая — струя разумения, — от-
резвляющая и без примеси вина, походит на суровую и здоровую
воду. Вот их-то нужно постараться смешать как можно лучше»1.
Из данного положения можно сделать вывод: несмотря на наличие
противоположностей и диалектики, следует отделять истинное от
ложного и следовать только высшему символическому порядку,
который носит единый и всеобщий характер. В этом смысле антич-
ный символизм неотделим от совершенно непонятной нашему вре-
мени идеи «посвящения», «приобщения»: мудрец, поэт или великий
деятель ничего не изобретают, а только символически разъясняют
уже сущий истинный порядок. В связи с этим философия учит не
только о достижении истины, но и об обретении других нераздель-
но связанных с ней ценностей — таких, как благородство, красота,
благо, гражданское достоинство и т. д. Синкретичность античного
метафизического символизма так или иначе замыкается на исходя-
щем от богов и героев наборе ценностей и добродетелей, несовме-
стимых с чем-то внешним по отношению к особому идеалу аристо-
кратического благородства. Ю. В. Андреев пишет о возвышенной
простоте эллинского духа: «Самый большой и красивый греческий
храм, например афинский Парфенон, может показаться маленьким
и невзрачным, если поставить его рядом с вавилонским зиккуратом
или с могучим лесом колонн египетских храмов Луксора и Карна-
ка. Прославленные шедевры скульптуры в виде фризов все того же
Парфенона или Пергамского алтаря, пожалуй, покажутся слишком
сухими и даже безжизненными на фоне тех замысловатых сплете-
1 Платон. Филеб. 61с.
2.2. Порядки символов
147
ний сотен людей и животных, которыми были украшены порталы
и стены святилищ Древней Индии и Индокитая. А что сказать о не-
обычайно глубоких и сложных религиозных учениях и мифологи-
ях Древнего Востока? В сравнении с ними греческие мифы о богах
и героях производят впечатление незатейливых детских сказок»1.
Исходя из этого, можно сделать вывод о человечности и просто-
те древнегреческого символизма, который не требует для своего
выражения каких-либо внешних средств или чего-то выходящего
за пределы личных достоинств человека. Пренебрежение Фале-
са ямой под ногами при наблюдениях за светилами, отказ Солона
брать драгоценности Крёза, стремление Клеобула к абсолютной
справедливости — это, вероятно, поступки конкретных личностей.
Но как таковые они приобретают символическое значение, буду-
чи отнесенными к совершенным эйдетическим формам, становясь
классическими примерами, достойными для подражания деяниями
великих мужей.
Поскольку эйдетический опыт является возвышенным, то
он воплощен, прежде всего, в возвышенности самой человеческой
природы, в способности к духовному совершенствованию лично-
сти через обладание особым опытом. Числовые символы Пифа-
гора, элейская космология, изречения Гераклита, платоновская
Кормилица — это примеры не терминов, а эйдетических символов,
которые требуют, прежде всего, непосредственного постижения
и схватывания в возвышенном опыте2. Проигрывая другим цивили-
зациям в грандиозности и роскоши, греческая выделяется свободой
и стремлением к гармонии, будучи менее всего совместимой с деспо-
тической властью. Если и можно говорить об «индивидуализме»
греков, об их стремлении к личному прославлению, то последнее
важно как способность приобщиться к возвышенным образцам
божественной и человеческой природы, обрести возвышенное до-
стоинство. Античная духовная традиция обладает несгибаемой
1 Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998. С. 8.
2 «А о Кормилице скажем вот что: поскольку она и растекается влагой,
и пламенеет огнем, и принимает формы земли и воздуха, и претерпевает
всю чреду подобных состояний, являя многообразный лик, и посколь-
ку наполнявшие ее потенции не были ни взаимно подобны, ни взаимно
уравновешены и сама она ни в одной своей части не имела равновесия, она
повсюду была неравномерно сотрясаема и колебаема этими потенциями
и в свою очередь колебала их своим движением» (Платон. Тимей. 52d).
148
Глава 2. Символическая реальность
правдивостью, игнорируя все, что выходит за символические стан-
дарты образа возвышенного мужа. Так, многие герои достигают
совершенства в одних добродетелях (мужество, полководческий
талант, искусство управления), но терпят фиаско в достижении дру-
гих. К примеру, Александр, одна из самых крупных символических
личностей, превозносится как величайший герой и мудрый человек,
что, однако, не мешает сурово осудить его за ношение варварского
платья, властолюбие или проявления неоправданной жестокости.
Поэтому, если рассуждать об античных формах духовной культуры,
то, на мой взгляд, на первый план среди всех символических поряд-
ков выходит сложносоставной стандарт «достойного благородного
мужа» как вершина того, что можно обрести в человеческой жиз-
ни. Когда этот стандарт подвергается постепенному разложению,
он становится уделом мужей ушедших времен, далекого прошлого,
что, например, угадывается в ретроспективном характере сочине-
ний Плутарха. А уже Лукиан относится даже к божественному до-
стоинству с немыслимой для классических греков язвительностью.
Характерный пример лукиановского диалога: «Эрот: Если хочешь
нравиться, то не потрясай эгидой, не носи с собой молнии, а придай
себе возможно более приятный вид, прибрав с обеих сторон свои
курчавые волосы и надев на голову повязку; носи пурпуровой пла-
тье, золотые сандалии, ходи изящной поступью под звуки флейты
и тимпанов, и тогда увидишь, что у тебя будет больше спутниц, чем
менад у Диониса. Зевс: Убирайся! Не хочу нравиться, если для этого
нужно сделаться таким»1. По-видимому, здесь уже трудно разделить
богов и простых людей. Ведь только греческий философ, пусть и не
без доли позы и актерства, следовал своей философии в жизни, де-
лая свое учение не отвлеченной теорией, а символом пути и назначе-
ния человека. Реализуя свой эйдетический опыт, человек возвыша-
ется над самим собой и начинает относиться с пренебрежением ко
всему, что нельзя назвать подлинно возвышенным, даже если, как
все смертные, он и подвержен определенным порокам и слабостям.
Когда мы произносим расхожую фразу, что греческая философия
и искусство возвышали душу, нам уже непросто понять, что для гре-
ков и римлян этот путь был неотделим от сложного процесса само-
сознания и выстраивания символической картины — как собствен-
ной жизни, так и жизни своего народа.
’Лукиан. Разговоры богов. I.
2.2. Порядки символов
149
Характерной особенностью греческого символизма высту-
пает, как уже установлено, целостный универсализм. Все поряд-
ки символов сводятся к единой основе и группируются вокруг
символически истолкованного облика благородного мужа, во-
плотившего идею блага. Незыблемость и постоянство символи-
ческих основ, которые при достижении классической гармонии
и полноты больше не видоизменяются, а лишь воспроизводятся,
побудили эллинистических философов вывести учение о неиз-
менности символов, хранящихся в особой эйдетической памяти
души. Крупнейший теоретик искусства памяти Цицерон пишет:
«Спрятанные вещи легко обнаружить, если место их указано
и «обозначено; подобно этому, когда мы хотим сыскать доказа-
тельства, мы должны знать их “места” (этим словом Аристотель
назвал как бы хранилища, откуда извлекаются доказательства)»1.
Античный символический универсализм тем самым получает
в развитом платонизме метафизическое основание, поскольку
убежден в неизменности эйдетического космоса и познавательных
способностей души. В абсолютном сознании божества мир сим-
волов уже дан в своей полной завершенности — поэтому его не
следует «открывать», «обнаруживать» и даже «познавать»; на
первый план выходит не лишенное мистического характера уче-
ние о возможности приобщения к миру подлинных смыслов, тре-
бующее особых установок сознания и особого пути жизни.
Трагичность самосознания поздней античности заключа-
лась в том, что античный символический мир рассматривался
как единственно возможный, в котором истина обретает себя
целиком и в законченном виде. От гомеровской эпохи и до за-
ката язычества античный мир символов не сталкивался с равно-
ценным ему символическим универсумом. Вокруг существовали
древние деспотические империи, были также и варвары. Но гре-
ко-римская цивилизация обладала подлинно вселенским само-
сознанием, рассматривая собственный духовный мир как нечто
единственно возможное. Процесс создания великого антично-
го здания культуры, как однажды посетовал Ницше, был оста-
новлен в, самом начале. Замысел, согласно которому символи-
ческий универсализм Эллады станет уделом всего человечества,
не был реализован, несмотря на то что в Риме была достигнута
1 Цицерон. Топика. II, 6.
150
Глава 2. Символическая реальность
такая высокая степень консолидации и единения Средиземномо-
рья, о которой в наше время можно только мечтать. Есть нечто
особенно возвышенное в грандиозных описаниях постепенного
заката Римской империи, когда конформизм эллинского симво-
лизма пал под натиском христианства.
Можно до бесконечности сравнивать между собой символи-
ческие миры уходящей Античности и формирующегося христиан-
ства. Я бы отметил следующее обстоятельство: с появлением хри-
стианского богословия и завершением христианизации Восточной
Римской империи Античность столкнулась с небывалым ранее
вызовом, когда вобравшая греческие ценности, но базирующаяся
на фундаменте новой веры христианская символическая система
оказалась альтернативой предшественнице, вступив с ней в тоталь-
ную конкуренцию. Сейчас, спустя века, мы можем трезво оценить
это столкновение, признав как прогрессивные новшества христиа-
низации, так и погружение Западной Европы в новое варварство,
когда античные тексты доходили в арабском переводе, а римские
памятники разбирались на стройматериалы. Однако самые ранние
идеологи христианства, порвавшие с язычеством, смотрели на но-
вый порядок как на наступление века истины и благодати. Так, Тер-
туллиан пишет: «Итак: что Афины — Иерусалиму? Что Академия —
Церкви? Что еретики — христианам?.. В любознательности нам нет
нужды после Иисуса Христа, а в поисках истины — после Евангели-
я»1. В наше время принято считать, что резкая смена идей, влекущая
уничтожение прежних ценностей, свойственна постмодерну, тогда
как раньше (как утверждают) имела место плавная и постепенная
смена символических миров. Однако если оценить воинствующую
позицию Тертуллиана или Августина по отношению к язычеству,
то можно предположить, что, по крайней мере, на страницах бо-
гословских сочинений наступил первый в истории постмодерн, то
есть полное переописание прежних символов с учетом требований
новой победившей веры. Это переописание могло включать и фраг-
менты прежних учений, но в целом оно было радикальным отказом
от прошлого, когда казавшиеся вечными духовные ценности были
объявлены ложными, и на первый план (по крайней мере, в рамках
официальной идеологии) вышли новые символы, установленные
и контролируемые церковным авторитетом. Возможность замены
‘Тертуллиан. Избранные сочинения. М„ 1994. С. 109.
2.2. Порядки символов
151
одного «вечного» символического порядка другим, которая ока-
залась реальностью с утверждением христианства, — это истори-
ческий крах символического универсализма, начало новой духовной
эры, когда человечество уже живет при «новом» порядке, это утра-
та веры в существование единственно возможного символического
порядка. И хотя христианское Средневековье вытеснило языческие
институты, оно не смогло предать полному уничтожению антич-
ный символизм. Да, эти символы уже не имели под собой непосред-
ственного эйдетического опыта и традиционной основы, но все же
устояли. Поэтому на всем протяжении интеллектуальной истории
Запада, от Тертуллиана до Шестова, вопрос «Афины или Иеруса-
। лим?» остается принципиальным, предполагая мировоззренческий
выбор между двумя огромными символическими мирами.
Эпоха Ренессанса «возрождает» классическую античность
в условиях христианского символизма, выступая формой ее
тотального переописания. Внешняя обращенность к позднему
античному символизму приводит к тому, что заимствования из
классиков и их цитирование выступают содержанием для со-
вершенного иного эйдетического опыта, подчиненного индиви-
дуалистическому пониманию человека, а также христианским
установлениям. В этом отношении один из основоположников
Ренессанса Данте ничего не возрождает в своей космологи-
ческой концепции — он просто заимствует символическое на-
следие древности, чтобы доказать, что оно вполне согласуется
с христианской мудростью (а в некоторых случаях и дополняет
ее). В дантовской космологии на первый план выходят символы
рая и ада, что не мешает ему обращаться к аргументации Ци-
церона и Лукреция, делать героем поэмы Вергилия. По Данте,
земля состоит из «полушария воды» и нижнего «полушария
земли», внутри которого находится ад. Дальше идут светила
с соответствующей символикой: Луна (вынужденные нарушить
обет), Меркурий (деятельные), Венера (любящие), Солнце (му-
дрые), Марс (воинствующие), Юпитер (справедливые), Сатурн
(созерцатели), звездное небо (торжествующие). Выше всех Бог,
вокруг которого ангелы. Отождествление небесных светил с бо-
гами и моральными сторонами жизни восходит еще к пифаго-
рейскому символизму, но для христианских приоритетов Данте
прямое заимствование кажется чужеродным. Начиная с Данте,
западное человечество оказывается в ситуации постоянного
152
Глава 2. Символическая реальность
смешения античных и христианских символов, которое по са-
мой своей природе никак не может оказаться гармоничным.
Вместе с тем бурное развитие самоуглубленного эйдетического
опыта именно в переработанной античности находит ту необхо-
димую свободу и пафос личностного самовыражения, которое
отсутствовало в соборном духе раннехристианской идеологии.
Позднее Средневековье и Ренессанс создают новый тип антро-
пологически ориентированного символизма, где на первый
план выходит не следование традиционным ценностям (как
в Античности), а индивидуальное самовыражение субъектив-
ного духа. Принято приписывать Данте то набожность свято-
го, то стойкость древнего мужа; однако он не является ни тем
ни другим, выступая зачинателем новой культурной традиции,
в которой на первый план выходит то, что Фуко назвал «функ-
ция-автор», то есть символический мир, созданный отдельно
взятой гениальной личностью. Эйдетический опыт Ренессанса,
загроможденный античными ссылками и набожными пропо-
ведями, в действительности оказывается в ситуации раскрытия
всей меры своей субъективности, вследствие чего эта культура
отличается гуманизмом — эйдетической установкой, ориенти-
рованной на субъективность авторского опыта.
Подобная установка, сформировавшаяся у Джотто, Данте
и Петрарки, обретает свое оформление в виде зрелого символи-
ческого языка только в эпоху романтизма. В этом смысле мне
представляется вполне логичным, что наиболее ярким дости-
жением Ренессанса выступает не метафизика или религиозная
мысль, а искусство. Непосредственность субъективного опыта
в искусстве не требует иного символического выражения, кроме
полноты образа', поэтому она остается открытой для множества
возможных истолкований — как в случае с загадочной улыбкой
Джоконды, склоненной в умилении головы мадонны или тор-
жественно шествующей Весны1. В сфере же интеллектуальной
господствуют либо прямые заимствования эллинистической
латинской классики, либо эзотерические и мистические толко-
1 «Во все еще недостаточно рассмотренном “прикладном” искусстве эм-
блем и символов придворная культура Возрождения сумела создать некое
промежуточное звено между знаком и изображением, позволяющее об-
лечь в символическую форму проявления индивидуального душевного пе-
реживания» (Варбург А. Великое переселение образов. СПб., 2008. С. 161).
2.2. Порядки символов
153
вания космологических сюжетов. К примеру, с легкостью и не-
посредственностью живописного ренессансного символизма
резко контрастируют мистические штудии Я. Бёме, который пи-
шет: «Сердце Божие подобно солнцу, которое стоит неподвиж-
но на одном месте в форме шара; нет, Сердце Божие не имеет
ни объема, ни места, и также никакого начала, но тем не менее
оно подобно круглому шару, а не круглой окружности... А центр
природы... есть центр на кресте (крест везде в этой книге озна-
чает Троицу), и если снизу является синее, это означает веще-
ственность; если в середине красное — это означает Отца в бле-
ске огня; под ним желтое означает свет, блеск, величие Сына
Божия; и, наконец, темно-коричневое со смешением всех видов
означает царство тьмы в огне, в котором Люцифер возносится
выше Бога, не понимая величия и сердца Божия»1. Приведенный
отрывок наглядно демонстрирует явственный символический
эклектизм, для обоснования которого приведены как античные,
так и христианские понятия, и все подчинено идее расшифров-
ки изначальной загадки сущего и сокрытой истины мира. В этом
смысле ренессансное символическое сознание оказалось пре-
дельно усложненным, загроможденным символами прошлых
эпох; поэтому оно и не выработало собственного оригинально-
го языка за пределами искусства, оставаясь ареной грандиозной
подготовки новоевропейского сознания2. На мой взгляд, лишь
в романтизме символическое сознание достигло возвышенности
1 Бёме Я. О тройственной жизни человека. Уфа, 2011. С. 115.
2Панофски, наоборот, усматривает в этом позитивный аспект. Он пишет:
«Способ, получивший самое широкое распространение, можно назвать
перетолкованием классических образов. Эти образы либо наделялись но-
вым символическим содержанием светского, но определенно некласси-
ческого характера (свидетельство тому — бесчисленные олицетворения
и аллегории, появившиеся в ходе развития Возрождении), либо ставились
на службу исключительно христианским идеям... Это привело к тому, что
я предпочел бы назвать “псевдоморфизмом”: заведомо ренессансные об-
разы часто наделялись значением, которое, при всей их классицизирую-
щей наружности, не имело места в классических прототипах, хотя нередко
предвещалось классической литературой. Благодаря своим средневеко-
вым предшественникам, ренессансное искусство часто оказывалось спо-
собным перевести на язык образов то, что в классическом искусстве счи-
талось невыразимым» (Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб., 2009.
С. 124-125).
154
Глава 2. Символическая реальность
и простоты, свойственной грекам, но уже на новом фундаменте
реализации субъективного эйдетического опыта.
Античный, средневековый, ренессансный и романтический
символические порядки выступают парадигмальными, слож-
но организованными и неравномерно развитыми метапорядка-
ми, некими символическими эпистемами. Внутри каждой из них
возникают более частные символические порядки, как правило,
связанные с религиозной, художественной, политической, на-
учной и другими сферами. Эти порядки выглядят гораздо более
монолитными, обладая к тому же относительной самостоятель-
ностью. Ведь связь отдельных символических структур и языков,
сосуществующих в одну эпоху, вовсе не обязательно является необ-
ходимой. Тот или иной символический порядок может быть наи-
более развитым (и даже определять картину эпохи в целом — как
теология в Средневековье или искусство в Ренессансе), а другой —
оказаться ненужным и забытым. Стандартные учебники истории
написаны по принципу выделения главных сторон обществен-
ной жизни и описания каждой из них. Однако те или иные сто-
роны жизни, представленные как символические языки, могут
в определенную эпоху настолько деградировать, что кажутся ис-
чезнувшими; это можно отнести, например, к языкам политики
и искусства на Западе в VI в. н. э. Таким образом, я склонен пред-
положить, что господство идеалистической философии привело
к пагубной иллюзии в отношении символизма, согласно которой
в каждую эпоху выделяются одни и те же символические порядки,
рассматриваемые как необходимые и организованные. Нам часто
кажется, что современный нам символический порядок эпохи за-
ката постмодерна смутен и хаотичен, зато классические порядки
Античности и Ренессанса кажутся строгими и организованными.
Но если оказаться «внутри» тех порядков, то можно увидеть не
ожидаемую организованность, а подобную нашему мировосприя-
тию смутность. Так, на закате эллинской цивилизации в сознании
Цицерона и Плутарха (не говоря о компиляторах — Афинее, Авле
Гелии и Симпликии) присутствует эклектическая совокупность
огромного количества учений, мнений и сведений, в которой идеи
Платона и Аристотеля стоят бок о бок с толкованием примет, ком-
ментированием местных обычаев, фантастическими домыслами
или такими «дисциплинами», как умение произносить тосты или
приготовлять рыбу.
2.2. Порядки символов
155
Культурологические исследования конкретных типов сим-
волизма, начавшиеся с XIX в., на мой взгляд, не делают суще-
ственного различия между описываемыми порядками симво-
лов. В наше время по-прежнему господствует неокантианский
подход, согласно которому человек живет в мире «культуры».
В современной науке исследуются все известные формы симво-
лизма всех времен: от первобытного человечества до постмодер-
на. Однако в некоторых отношениях этот энциклопедический
подход превратен. Главной ошибкой культурологии выступает
убеждение, что символические порядки являются осознанны-
ми со стороны непосредственных участников этого порядка.
Как правило, это не так: человек, существуя внутри традиции,
обычно воспринимает ее как нечто естественное и само собой
разумеющееся. Эллины времен Платона вовсе не обладали та-
кими формами самосознания, чтобы символически определить
себя как «греки классической эпохи» или «греки эпохи расцвета
античной цивилизации». Если нет мощной идеологической вла-
сти, которая принудительно установит тот или иной символи-
ческий порядок как единственно легитимный и дозволенный,
то этот порядок складывается неравномерно и стихийно, но при
этом сохраняется естественность и свобода эйдетического опы-
1 та. К примеру, Хёйзинга пишет о средневековой одежде: «Позд-
нее Средневековье неизменно выражало в одежде стиль жизни
в такой мере, по сравнению с которой даже наши празднества по
случаю коронации кажутся лишь тусклым отблеском былого ве-
личия. В повседневной жизни различия в мехах и цвете одежды,
в фасоне шляп, чепцов, колпаков выявляли строгий распорядок
сословий и титулов, передавали состояние радости или горя,
подчеркивали нежные чувства между друзьями и влюбленны-
ми»1. Хёйзинга стремится доказать, что язык цветов и фасонов
был символическим языком. Несмотря на огромную историче-
скую значимость открытий голландского историка, я считаю
такое воззрение ошибочным. Несомненно, платье выражало эй-
детический образ монарха и представителя каждого сословия —
вплоть до возможности определить положение человека толь-
ко по одежде. Однако то, что Хёйзинга называет распорядком,
было жестко установлено и поддерживалось внешней властью.
'Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 60.
156 Глава 2. Символическая реальность
Возможно, распределение фасонов и цветов одежд, изначаль-
но стихийное, затем стало чем-то «установленным», вплоть до
преследования и осуждения тех, кто носил неподобающее ран-
гу и званию платье. Когда в буржуазный век началось размы-
вание прежних сословных границ и жены купцов и банкиров
стали щеголять дорогими платьями с бриллиантами, русские
аристократки продолжали следовать стремлению отделить себя
в отношении платья и начали, в противовес, одеваться подчер-
кнуто строго и изысканно. Тем самым, писаным или неписаным
путем постепенно устанавливаются стандарты символического
сословного самовыражения, которые, будучи установленными,
тем не менее не могут оставаться вечными и постоянно видоиз-
меняются под влиянием моды и субъективных воль правящих
кругов. В этом смысле я согласен с Рикёром, который пишет об
установлении господствующих символических порядков: «То,
что мы восславляем под названием основополагающих собы-
тий, — это, по существу, насильственные деяния, узаконенные
постфактум государством с непрочным правом, а в конечном
счете — самой древностью, старостью. Одни и те же события для
одних означают славу, для других — унижение. С одной сторо-
ны — восславление, с другой — проклятие»1. Таким образом, не
соображения истинности, красоты или меры, а декреты власти
и традиционные пристрастия зачастую определяют первенство
того или иного символического порядка.
В вопросе об установлении и трансформации символиче-
ских миров никогда нельзя сбрасывать со счетов такой фактор,
как случайные обстоятельства, поветрия моды и молвы. Порой
это происходит в достаточно очевидной форме, что позволило
Фуко вывести следующий принцип: «Дело не в предполагаемом
прогрессе разума, а в том, что существенно изменился способ
бытия вещей и порядка, который, распределяя их, предостав-
ляет их знанию»2. На мой взгляд, любой символический порядок
понятен для себя самого только на уровне непосредственного
эйдетического опыта. Что касается оформления этого опыта
и называния эйдосов символическими именами, то этот процесс
обычно стихиен и лишен самосознания. Нет никакого закона,
1 Рикёр П. Память, история, забвение. М„ 2004. С. 120.
2 Фуко М. Слова и вещи. М„ 1977. С. 40.
2.2. Порядки символов
157
согласно которому символические имена раз и навсегда могут
исчерпывающе наименовать соответствующие эйдосы. Любой
символический язык возникает вокруг запросов возвышенно-
го опыта, попадая в окружение уже сложившихся ранее язы-
ков. Сложные их столкновения приводят к воцарению нового
языка или забвению старого, но, так или иначе, видоизменя-
ют, обновляют символическую сферу, не давая ей превратить-
ся в загроможденное старыми символами пространство. При
этом в рамках нового языка пристрастно и порой совершенно
функционально адаптируются черты прежних языков. К при-
меру, классические приемы древней скульптуры, живописи,
'архитектуры были заимствованы в период новоевропейского
«классицизма». Но символические трактовки этих классиче-
ских форм оказались совершенно иными, нежели в Античности,
будучи приложенными к новому эйдетическому опыту. Этот
опыт по-своему уникален и не менее важен для человечества,
чем исходный античный. Храмоподобная белоколонная Биржа
в Петербурге, классическая бронзовая скульптура, спрятанная
в глуши дремучего Павловского парка, используют прежние
формальные приемы, но при этом выражают новый опыт. Ког-
да переход от регулярного к пейзажному парку, наметившийся
при королевских дворах конца XVIII в., связывают с «духом
свободного народа» (имеются в виду англичане), то речь идет
о смене не просто моды, но характера эйдетического опыта, ког-
да просвещенный представитель дворянского сословия осознает
себя индивидуально развитым субъектом, единственной в своем
роде личностью, символически перенося это символическое от-
ношение и на всю окружающую природу.
Несомненно, существуют отдельные эпохи, которые осо-
бенно внимательны к собственному символизму. Ренессанс —
в их числе. Ф. Йейтс пишет: «Сатурн был планетой меланхолии,
хорошая память была свойственна меланхолическому темпе-
раменту, и память являлась частью Благоразумия. В Театре это
показано в ряду Сатурна, где на уровне Пещеры мы видим рас-
пространенный символ времени — головы волка, льва и соба-
ки»1. Здесь мы видим сложно организованный символизм, тре-
бующий для своей расшифровки серьезных мифологических,
1 Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997. С. 213.
158
Глава 2. Символическая реальность
исторических, оккультных и прочих знаний. Такой символизм
отличается усложненностью, но одновременно и формальной
рассудочностью, стремлением к предельной детализации. Поэ-
тому при кажущейся сложности он неглубок, аллегоричен и на-
полнен типическими и повторяющимися знаками. Здесь сохра-
няется преемственность с древнейшими формами символизма.
Сравним с тем, что Леви-Стросс пишет о дикарях: «Хануну клас-
сифицируют местные формы птичьей фауны по 75 категориям,
они различают около 12 видов змей, 60 типов рыб... Тысячи
форм насекомых сгруппированы в 108 поименованных катего-
рий, из них 13 для муравьев и термитов»1. Для первобытного
и варварского символизма характерно отсутствие духовной са-
моуглубленности и вместе с тем усложнение связанного с мифо-
логией эмпирического порядка. Такой символизм распыляется
во внечеловеческих формах, делая их чрезмерно усложненны-
ми. И напротив, античность, достигая вершин духовной самоу-
глубленности, не нуждается в усложнении природного символи-
ческого порядка, а предельно упрощает его, делая соразмерным
нашей человечности. Для понимания природы мира и человека
тем самым не требуется усложненного, зашифрованного, мифо-
логизированного символического языка, равно как и особого
сословия тех, кто имеет монополию на присвоение или пони-
мание такого порядка. Для классической эпохи характерен отно-
сительно небольшой перечень символов, которые просты, возвы-
шенны и концентрируют в себе стремление к простоте и полной
осознанности эйдетического опыта. В Античности, Ренессансе,
романтизме не символический порядок подавляет человека,
а наоборот — человек господствует над символическим поряд-
ком и тем самым оказывается живущим в «гуманистическом»,
«человеческом» мире.
Становясь устоявшейся формой традиции, символический
порядок тяготеет к наглядности, к очевидности различий, к ал-
легоризму и фигуративное™. Наряду с подлинно возвышенным
всегда возникает более демократичный, сниженный, но при
этом общепонятный уровень символов, прямо соответствую-
щих определенным образам. На определенном этапе развития
такого символического порядка наступает период тиражирова-
1 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 115-116.
2.2. Порядки символов
159
ния, механического воспроизведения, при котором прежде воз-
вышенное становится всеобщим штампом, при этом неизбежно
изнашиваясь и даже опошляясь. Однако только при вхождении
в массовое сознание символизм может уцелеть: ведь в против-
ном случае он стал бы уделом небольшой аристократической
прослойки, группы избранных, возвышенных, посвященных.
В определенной степени они и творят культуру, но творят они
символы, которые еще не утвердились в народном сознании,
творят их в рамках собственной субъективности. Таким образом,
можно предположить, что наглядная образность, устойчивость
толкования, всеобщая понятность и прочие подобные критерии
, означают переход символизма от стадии генезиса в сознании
великих личностей к стадии традиции, культурной формы. Это
не хорошо и не плохо; мы не станем сетовать об измельчении
символов в массовом сознании и не станем превозносить гениев.
Просто следует признать, что по такому принципу утверждались
практически все известные нам порядки символов. Платой за
господство в традиции для символа неизбежно служит его «око-
стенение», выпадение из непосредственности эйдетического
опыта, вследствие чего талантливые новаторы уже не удовлет-
воряются такой символической формой.
В немецких идеалистических концепциях символизма сим-
волы рассматриваются как некие всеобщие сущности с раз и на-
всегда закрепленными значениями и порядками (такой, к при-
меру, является концепция Кассирера). Я считаю символический
универсализм ложным. Символы, на мой взгляд, достаточно
изменчивы в отношении запросов эйдетического опыта и могут
существенно трансформироваться даже в рамках одного поряд-
ка. Так, например, символы раннего и позднего романтизма вы-
ражены одними и теми же понятиями, образами, метафорами,
но с учетом характера эйдетического опыта их значение посте-
пенно приобретает оттенок все более выраженного пессимизма.
В качестве второго возражения отмечу также, что порядки сим-
волов, приоритет одного порядка над другими и взаимоотноше-
ния этих порядков не имеют раз и навсегда заданных закономер-
ностей. Тот или иной порядок символов господствует в традиции
лишь временно', причем некоторые старые символические поряд-
ки могут исчезать, а новые при этом только нарождаться. Так-
же возможны ситуации крайнего упадка, когда символические
160
Глава 2. Символическая реальность
порядки наличествуют лишь как нечто формальное (например,
как воспоминание об ушедшем прошлом), а традиция доволь-
ствуется варварскими формами. При этом, как в Западной Евро-
пе V-VII вв., наблюдается столь глубокий упадок эйдетического
опыта, что не удается даже воспользоваться наследием прошло-
го. Под влиянием идеализма западная цивилизация рассматри-
вается как единое культурное здание, возводимое по единому
плану, а культура — как нечто расчерченное на вечные «симво-
лические формы», которые выделяются по метафизическому
признаку. На мой взгляд, Европа, конечно, не знала ситуации
полного забвения прежних символических порядков, но зато ей
хорошо знакома смена приоритетов в этой области. Ведь после
того, как господствовали то языческая философия, то теология,
то рациональная наука, то романтическая поэзия, то техника,
следует полностью, как я полагаю, излечиться от веры в то, что
символические порядки могут существовать вечно.
Поскольку символы самодостаточны относительно своей
сущности, то они — как исторические формы — могут пережить
собственную традицию, существуя и тогда, когда питающий их
опыт давно исчез. Античность, это грандиозное собрание ве-
ликих символов, постоянно привлекается для символического
воспроизведения, при котором, конечно, ее символы остают-
ся таковыми только по видимости, будучи приспособленными
к запросам нового опыта и новой традиции. Все витки неоклас-
сицизма — это создание правдоподобной иллюзии «возвращения»
к истокам, сопровождающееся ностальгическим самообманом
обретения утраченных оснований. На самом же деле, если по-
смотреть на подобные процессы реалистично, — это сплошной
культурный ретроспективизм, при котором историческая под-
линность формально объявляется высшей задачей, но в реально-
сти безраздельно правит интерпретация, таким образом, внутри
отдельно взятой традиции символы воспринимаются как нечто
устойчивое и постоянное, но, если вообразить, что мы смотрим
на всю историю в целом, символические значения постоянно ви-
доизменяются. Так или иначе, традиция заимствует классические
символы прошлых эпох, но при этом она также «переписывает
историю» собственной эпохи, выступая формой интерпретации
самой себя. Степень же переописания символов находится в пря-
мой зависимости от запросов эйдетического опыта.
2.2. Порядки символов
161
Символизм мог стать подобием игры, если не был бы
укоренен в опыте и традиции. Масонская увлеченность ренес-
сансными оккультными символами и игрой в пифагорейское
братство посвященных оказалась вторичной в культуре того
времени потому, что служила лишь средством к раскрепоще-
нию умов и построению просвещенческого индивидуализма,
то есть находила свое обоснование не в себе самой, а в чем-то
более существенном. В любой традиции неизбежно возникают
символические практики, которые отличаются стремлением
»к загадочности, «зашифрованное™», нарочитой элитарности;
но эти символические мутации, интересные сами по себе, долж-
на восприниматься как девиации основного потока духовной
жизни, локальные дискурсы. Они могут войти в традицию,
а могут расшатывать ее извне, подготовляя ее смену; их назна-
чение — чисто служебное. На мой взгляд, существует такая мера
символической креативности и новизны, равно как и такая мера
эзотеричности и таинственности, за гранью которой любой сим-
волический порядок вырождается в увлекательную, захватыва-
ющую, но праздную игру, выступая чем-то экзотическим, но не
более того.
Символический порядок особенно явственно вырождается,
когда он прикрывает собой снижение духовных запросов, пор-
чу нравов и догматическую идеологию. Можно сформулировать
так: при утрате возвышенности опыта происходит вырождение
символического порядка. В позднем Риме при сохранении грече-
ского символизма как внешней декорации начинает господство-
вать идеология, риторика, сибаритский интерес (философские
концепции и жизнеописания великий мужей древности сосед-
ствуют с гастрономическими книгами, которые оказываются
равнозначными темами бесед на пирах). На мой взгляд, такой
выродившийся символизм уже не имеет отношения к подлин-
ному, естественному эллинскому символизму, декоративно
используемому совсем для других целей и в других условиях.
Поэзия, философия, политика уже служат не воспитанию воз-
вышенного мужа, а услаждению досуга императора и знати.
Внешний авторитет сильной власти способен, как показывает
история, довольно долго поддерживать иллюзию сохранения
преемственности с великой прошлой эпохой, демонстрируя
формальный интерес к прежнему символизму. Однако внешний
162
Глава 2. Символическая реальность
авторитет и массовое использование символа вовсе не означают
его подлинной значимости, поскольку эта подлинность бази-
руется не на декретах власти и не на классической образован-
ности, а на аутентичности возвышенного эйдетического опыта.
Цицерон, Овидий, Сенека и другие великие римляне проявля-
ли возвышенность опыта, равную великим эллинам; но это уже
частные проявления на фоне определенного культурного застоя
и даже упадка. Вырождающийся символизм практически всег-
да чем-то поддерживается, и это, как правило, господствующая
идеология, административный произвол, подражательное нача-
ло в культуре и искусстве, догматизм.
Символы могут прижиться в новой традиции, только если
они созвучны доминирующему в ней эйдетическому опыту.
В противном случае возможно либо чисто внешнее заимство-
вание, либо отчуждение. По поводу таких ситуаций Белинский
пишет: «Покажите дикарю фольгу и золото: он бросится на
фольгу, потому что она ярко блестит; покажите невежде белый
мрамор Аполлона Бельведерского и раскрашенную восковую
куклу: он удивится кукле, не обратив внимания на Аполлона»1.
Здесь мы имеем дело со случаем радикального непонимания,
поэтому такой случай относительно прост и очевиден. О более
сложном примере пишет X. Ортега-и-Гассет, выступая реши-
тельным критиком современных массовых художественных
музеев. Посещать музеи общепринято, но, как верно отмечает
испанский философ, большинство посетителей совершенно не
чувствует связи с искусством, просто гуляя по Лувру или Эрми-
тажу. Приведенный пример показывает, что художественное
наследие не может восприниматься внешне, без определенно-
го созвучия с возвышенным опытом. И хотя мы уже не можем
воспроизвести в себе опыт Тициана или Рембрандта, здесь вы-
страивается особое диалогическое отношение, в рамках которо-
го пространство картины приобретает эйдетическую интерпре-
тацию. На мой взгляд, только диалогическое отношение между
разными порядками символов является наиболее плодотвор-
ным и естественным, поскольку, при установлении коммуника-
ции, оно сохраняет индивидуальность того опыта, который сто-
ит за этими порядками. Здесь важна не степень заимствования
1 Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 7. М., 1981. С. 597.
2.2. Порядки символов
163
или внесения нового, а наличие особой символической связи,
которая устанавливается на уровне эйдосов, а потому непод-
властна ни времени, ни власти — ничему, кроме живущих в душе
представлений о прекрасном и возвышенном. К тому же любой
вновь возникающий символический порядок будет зависеть от
постепенно увеличивающегося количества уже сформировав-
шихся; поэтому диалог символических порядков выступает еще
и формой хранения исторической памяти. Ведь самый великий
и возвышенный символизм прошлого нельзя удержать, просто
консервируя его: он хранится только через выстраивание интер-
претационного дискурса.
В философии всегда будут существовать концепции, соглас-
но которым порядки символов имеют необходимый и всеобщий
характер. Например, Лосев выделяет следующие типы символов:
научные, философские, художественные, мифологические, ре-
лигиозные, «природа, общество и весь мир», «человечески-вы-
разительные» (жест, крик), идеологические, «внешне-техни-
ческие» (жезл, гудок, поклон). Подобная классификация мне
видится лишь одной из возможных, поскольку символы не
представляют собой совокупность единых и неизменных поряд-
ков, а каждый раз выстраиваются в новые структуры в любой
традиции. Поэтому отмеченные Лосевым порядки в конкрет-
ной традиции могут либо отсутствовать, либо существовать как
чисто заимствованные внешние формы. Это похоже на стойкое
стремление марксистов найти на всей арене истории философии
борьбу материализма и идеализма, при полном игнорировании
того факта, что таковых терминов и направлений до Нового вре-
мени вообще не существовало. В этом отношении мне гораздо
ближе положение структуралистов об индивидуальности эпи-
стем, если, конечно, под эпистемами понимать символические
порядки той или иной традиции.
Стремление выделить и конкретизировать символические
порядки плодотворно в исследовательских целях, но я вижу
в этом только метод, теоретический прием. И если переносить
такое .убеждение на культурную реальность, то, на мой взгляд,
возникает подмена этой реальности теми категориальными
структурами, которые мы создали. В реальности, конечно, ника-
кой стройности и гармонии символических порядков нет (или она
присутствует локально). Внутри духовно развитой традиции
164
Глава 2. Символическая реальность
поток эйдетического опыта организуется во множество симво-
лов, которые часто стихийны и хаотичны, и тем более не связа-
ны друг с другом. Культура в ее действительности часто напоми-
нает то смешение, какое Андрей Белый обнаружил в творчестве
Вяч. Иванова: «Под влиянием плохо понятых, недостаточно
оговоренных взглядов Иванова ставился как бы знак равенства
между театром и храмом, мистерией и драматической формой,
Христом и Дионисом, Богоматерью и просто женщиной, сим-
волом и сакраментальной эмблемой, между любовью и эро-
тизмом, между девушкой и менадой»1. В рамках своего само-
сознания традиция, безусловно, стремится конкретизировать
и упорядочить собственный символизм. Но эта стадия — удел
развитых, оформившихся традиций. В период же формирования
традиции аспект творения символических форм столь захваты-
вает умы, что заниматься упорядочиванием этих форм сложно;
наблюдается ярко выраженная «цветущая сложность» (термин
К. Н. Леонтьева), когда эйдетический опыт функционирует осо-
бенно энергично.
Чрезмерная увлеченность символизмом, подчинение сим-
волическому порядку течения своей жизни — это необходимое
самопожертвование, однако тут присутствует крайне тонкая
грань между пафосом и карикатурой. Тот же Андрей Белый опи-
сывает похождения своего близкого друга С. М. Соловьева, ко-
торый, как и он сам, отличался крайней экзальтированностью:
«С. М. впоследствии объяснял, что спустился с террасы он в сад
машинально, прошел тихо в лес; и увидел — зарю; и звезду над
зарею-, вдруг понял он, что для спасения “зорь”, нам светивших
года, должен он совершить некий жест символический, что от
этого жеста зависит вся будущность наша... С. М. вдруг почув-
ствовал: если сейчас не пойдет он напрямик чрез лес, чрез болота
(все прямо, все прямо) — к заре, за звездою, то что-то, огромное,
в будущем рухнет»2. Совершенно ясно, что такой символизм но-
сит подражательный характер, оказываясь объектом востор-
женного поклонения, при котором собственный эйдетический
опыт намеренно «подгоняется» под уже готовый набор симво-
лов. Ведь символическая оригинальность проявляется обычно
1 Белый А. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 77.
2 Там же. С. 186.
2.2. Порядки символов
165
в понимании того, каким образом существующие символы сле-
дует видоизменить и привести в соответствие с реальным, а не
воображаемым опытом. И хотя любая символическая реализа-
ция эйдоса носит лишь неполный характер, она должна достичь
настолько полного соответствия между опытом и его симво-
лическим воплощением, насколько это возможно. Я выступаю
сторонником символического скептицизма, согласно которому
ни один символический порядок не способен полностью удов-
летворить запросы нашего опыта, хотя и может претендовать
на статус вечного и всеохватывающего. Смена символических
порядков постоянно ощущается нами: вечное изменение будто
бы бросает вызов искомой гармонии, что порой даже приводит
в уныние. Как выразился Шатобриан, «человек не живет одной
и той же жизнью; у него их несколько, он переходит из одной
в другую, — такова его жалкая участь»1.
Без укоренения в опыте и практике традиции сотворение
символов оказывается наивной теургией, просто частным де-
лом. Это допустимо в искусстве, где каждый крупный худож-
ник должен творить, прежде всего, собственный язык, проявить
определенную оригинальность. Но даже здесь должны быть
разумные пределы — иначе начинается погоня за нарочитой
оригинальностью, проявляющаяся в потоке новых слов, жестов,
абсурдном опрокидывании классических авторитетов и других
приемах, которые особенно характерны для модернизма. По-
добное «символотворчество», как правило, проходит впустую,
хотя отдельные его плоды могут остаться в виде собрания ку-
рьезов. Любой символический порядок в чем-то маргинален
и исполнен чувства достигнутого универсализма. Однако боль-
шинство таких порядков (особенно в сфере искусства и фило-
софии) нуждаются в определенном «вызове», борьбе с другими
порядками — и тогда они могут оказаться на некоторое время
знаменем борьбы за прогресс. Однако неизвестен еще случай,
чтобы символический порядок, став монопольным, не обрек бы
себя на постепенное вырождение. Если традиция обладает сво-
бодным и развитым эйдетическим опытом, то на ее арене будет
наблюдаться дружба-вражда в чем-то родственных, но альтер-
нативных символических порядков. То их смешение, которое
1 Шатобриан Ф.-Р. де. Замогильные записки. М., 1995. С. 62.
166
Глава 2. Символическая реальность
обычно относят к постмодерну, нарочито выставляется как
нечто впервые случившееся в таком масштабе, тогда как в дей-
ствительности любой символический порядок находится в си-
туации стихийного и неравномерного развития, серьезно завися
при этом от факторов, которые не имеют прямого отношения
к эйдетическому опыту, — таких, как идеология, производство,
религиозная вера и т. д. Человечество существует в ситуации,
сложности и смешения символических порядков, и на этом фоне
особенно манящей кажется иллюзия упорядоченного символиче-
ского мира. Однако такая упорядоченность всегда может быть
отнесена лишь к классическому, древнему символизму, который
наделен особой мудростью и особым авторитетом, но давно из-
жит, оставив в наследство лишь прекрасную форму.
Как отмечает Фуко, в традиции наблюдается следующее
явление: «Короче говоря, можно предположить, что во всех об-
ществах весьма регулярно встречается своего рода разноуров-
невость дискурсов»1. Фуко связывает дискурс с идеей различия
символических порядков и идеологически окрашенной вла-
стью, которая освящает те или иные из них. Идеология — форма
контроля над вольными проявлениями субъективного опыта и
вместе с тем форма сохранения массового культурного дискурса.
Идеология в своем самосознании считает себя хранительницей
высших духовных ценностей, а не навязыванием определенных
символических значений. Для идеологии проявления частно-
го эйдетического опыта всех инакомыслящих — это самозван-
ство, опасное уклонение, которое следует всячески искоренять.
Вспомним, как преследовались сочинения Герцена, Чернышев-
ского или — в иную эпоху и по несколько иным причинам —
Бродского. Тем не менее я полагаю, что идеология вовсе не яв-
ляется главным символическим регулятором, хотя бы потому,
что она нечасто присутствует в сформировавшемся виде. Как
правило, новые символы и языки вступают в сложные взаимо-
отношения с авторитетом власти, религии, языка и тем самым
приспосабливаются к ним, регулируются естественным путем.
Радикально новый символический язык, если бы он не приспосаб-
ливался к существующим символическим порядкам традиции,
просто не смог бы стать понятным хотя бы небольшой части
1 Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 60.
2.2. Порядки символов
167
общества1. Несомненно, великий деятель творит свой собствен-
ный символизм, но тот обязательно возникает в тесной духов-
ной связи с деяниями предшественников и первоначально про-
является в уже сложившейся традиции, лишь потом становясь
чем-то «новым», а порой даже «лишним» или «революцион-
ным». Вслед за Гегелем я считаю себя историцистом и полагаю,
что ни один новый символический язык не возникает вне связи
с предшествующими, а кроме того, он требует определенного
вызревания в сфере эйдетического опыта, то есть существова-
ния на стадии «предпосылок».
Ведущий теоретик культуры постмодерна Ж. Бодрийяр
отмечает в качестве характерного признака современности сле-
дующее: «Мы прошли всеми путями производства и скрытого
сверхпроизводства предметов, символов, посланий, идеоло-
гий, наслаждений. Сегодня игра окончена — все освобождено.
И все мы задаем себе главный вопрос: что делать теперь, после
оргии?»2 На этот вопрос я бы не стал давать пессимистического
ответа, поскольку никакой «оргии», по большому счету, просто
не было. Наступило падение прежнего символического поряд-
ка, вызванное разъедающими проявлениями символического
релятивизма. Я склоняюсь к такому ответу: не надо делать ни-
чего. В условиях переходной эпохи «после» чего-то или «пе-
ред» чем-то самое лучшее, что может быть, это восстановление
здорового баланса между опытом и традицией. Поскольку ни
одна традиция не бывает вечной или исключительной, следует
предположить, что она вполне заменима новой. Но это долгий,
порой непредсказуемый процесс, который человек не способен
ни предугадать, ни смоделировать в виде «культурной револю-
ции». Растерянность при крушении того или иного классиче-
ского символического порядка, таким образом, представляется
чем-то вполне естественным и повторяющимся.
Если данный вид символизма является господствующим
в традиции, это не обязательно означает, что все будут ему
следовать. При определенных условиях возможно появление
1 Фуко так трактует смену символических традиций: «Дело не в предпола-
гаемом прогрессе разума, а в том, что существенно изменился способ бы-
тия вещей и порядка, который, распределяя их, предоставляет их знанию»
(Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 40).
2 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000. С. 7.
168
Глава 2. Символическая реальность
«лишних», не вписывающихся в традицию персонажей, которые
станут искать оформление своего опыта в чем-то другом, но, как
правило, в интерпретированных на собственный лад традици-
ях прошлого. К примеру, Монтень, будучи добрым католиком
и вельможей своего века, оказывается «несвоевременным», ре-
троспективно устремленным автором, обретая себя среди мужей
прошлого, творя труд, выступающий продолжением римской
этической традиции. В условиях зарождающегося дворянско-
го абсолютизма подобные теоретические увлечения считались
вполне возвышенными, а определенное ретроградство было
компенсировано умелым толкованием наследия на свойствен-
ный современности лад. Согласно Локку и Юму, в свободном
обществе человек волен выбирать себе убеждения по своему
вкусу (в том числе и любимую историческую эпоху), не особен-
но считаясь с общепринятыми мнениями. Так, Юм пишет: «Мы
выбираем себе любимого писателя так, как выбираем друга, ис-
ходя из склонности и расположения. Веселость или страстность,
чувство или рассудочность — какое бы из этих качеств ни преоб-
ладало в нашем характере, оно создает у нас особую симпатию
к писателю, с которым у нас имеется сходство»1. Юм выступает
здесь за возможность многоплановых и разнообразных форм
символической преемственности — по крайней мере, в сфере
искусства и философии. И если в области частных наук и логи-
ки такая свобода мне представляется почти недостижимой2, то
в области творения символов взаимоотношения с классическим
наследием кажутся гораздо более либеральными и зависимыми
от выбора и точки зрения. У такого либерализма, конечно, есть
пределы разумного, да и консерватизм традиции так или ина-
че постепенно смиряет многих вольнодумцев, делая вчерашних
буршей самыми отъявленными филистерами. Однако, опираясь
на суждение Юма, можно предположить, что существует спе-
цифическое символическое время — время зарождения, суще-
ствования и гибели символического порядка, при котором (на
любой стадии) возможно установление коммуникативных свя-
зей с символами других порядков или других времен. В тех или
1 Юм Д. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 638.
2 К примеру, в современной науке крайне трудно восстановить значи-
мость силлогистики или проблемы квадратуры круга.
2.2. Порядки символов
169
иных отношениях символическое время может не считаться ни
с фактами, ни с ходом истории, во многом по той причине, что
из всех человеческих способностей эйдетический опыт наибо-
лее зависим от выбора индивидуальности. Поэтому в символи-
ческой истории вполне возможны «ренессансы», когда символы
былого вдруг оживают, оказываются нетленными и дают побеги
новых интерпретаций.
Если задаться вопросом, что можно назвать «прошлым»,
то окажется, что это хаотичное множество разных символиче-
ских порядков, порождающее иллюзию бесконечного разнооб-
разия символических миров. На самом деле, прошлое можно
.рассматривать как совокупность всех находящихся в памяти
символов лишь с большой степенью условности. Символическая
память в нормальных условиях избирательна. Мне представля-
ется естественным такой вариант коммуникации с прошлым,
когда оно служит раскрытию и развитию нашего эйдетическо-
го опыта и помогает оформить этот опыт в виде определенного
символического языка1. Идея «чистого прошлого», которое не
выступает объектом переописаний и материалом для современ-
ного символизма, — это построение идеалистической мысли.
Так, Коллингвуд пишет: «Для людей, которым чужды истори-
ческие формы опыта, прошлое не существует. Для историка
же прошлое — то, за что он его принимает после тщательного
и критического размышления. Он не делает ошибки qua исто-
рик; единственная ошибка, допускаемая им, — это философская
ошибка перенесения в прошлое того, что фактически является
абсолютно современным опытом»2. При кажущейся правдопо-
добности суждения Коллингвуда и при всем нашем желании со-
блюдать этот принцип следует считаться не с теорией, а с прак-
тикой символизма, при которой прошлое никогда не хранится
в том виде, в каком оно состоялось, а либо переписывается и ис-
пользуется в новом контексте, либо сходит со сцены и забывает-
ся. Вполне достаточным условием успешного символизма будет
просто обеспечение разумной преемственности между разными
порядками символов и достаточная степень определенности
1 Хотя это и не исключает нейтрально окрашенной любознательности по
отношению к прошлому.
2Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М„ 1980. С. 149.
170
Глава 2. Символическая реальность
в отношении того, что присуще нашей, а что прошлой тради-
ции. Именно так советует Уайтхед: «Через символическое от-
ношение различные реальности, раскрываемые соответственно
двумя формами, являются либо идентифицированными, либо,
по крайней мере, соотнесенными друг с другом как взаимосвя-
занные элементы нашего окружения»1. После возникновения
оппозиции язычества и христианства человек уже не живет
в монолитном, простом и замкнутом символическом мире. При
наличии доминирующего символического порядка на сцене
культуры фигурируют и символы иных порядков, вследствие
чего возникает ситуация плюрализма, символического раз-
нообразия. Эйдетический опыт, когда он становится формой
коллективного сознания традиции, приобретает характерные
и устойчивые черты, постепенно формируя вокруг себя эйдети-
ческий мир. Но требование разнообразия и динамизма эйдети-
ческого опыта вынуждает не останавливаться на достигнутых
трактовках символов и пробовать новые пути. Можно выделять
как открытый, так и закрытый символические порядки. Одна-
ко наивна идея возможности одного и только одного порядка
или убеждение в том, что новый символический порядок будет
«прогрессивным» по отношению к старому. Новый порядок мо-
жет принести с собой упадок, а старый — пережить возрожде-
ние. В рамках символизма существуют собственные критерии,
собственная «логика», которая подчиняется законам интерпре-
тации и свободы, завися от запросов возвышенного опыта. И по-
тому вести речь о какой-либо необходимости и всеобщности
в эйдетическом мире следует с крайней осторожностью2. Любые
детерминации относительно генезиса, оформления символиче-
ского порядка и его взаимоотношений с другими порядками часто
единичны и не повторяются даже при схожих обстоятельствах.
В символическом мире господствует изначальная индивидуаль-
ность и сложность порядка, которая тем более имеет тенденцию
не оставаться неизменной. При этом зачастую не осознается,
1 Уайтхед А. Н. Символизм, его смысл и воздействие. Томск, 1999.
С. 17.
2 «Плюрализм более соответствует моральной и драматической насы-
щенности жизни» (Джеймс У. Введение в философию. Рассел Б. Проблемы
философии. М„ 2000. С. 93).
2.2. Порядки символов
171
что порядок уже изменился. И. Берлин рассуждает об этом так:
«У каждого поколения и в каждой ситуации свои собственные
взгляды на прошлое и будущее, зависящие от того, откуда оно
пришло, что оставило позади, куда грядет; и его ценности за-
висят от того же самого. Осуждать греков, римлян, ассирийцев
или ацтеков за то или иное безрассудство или порок — это, на-
верное, почти то же самое, что и утверждать, будто то, что они
делали, желали и думали, противоречит нашему собственному
взгляду на жизнь»1. Ему вторит другой теоретик культурных
процессов М. Оукшотт: «Однако “историческое” прошлое носит
иной характер. Это сложный, трудный для понимания мир, мир
без единства чувств и ясного сюжета... Это мир, целиком состоя-
щий из случайностей... Это картина, вычерченная во множестве
разных измерений»2. В нашей символической памяти хранятся
наиболее четкие и оформленные порядки, отчего возникает ил-
люзия, что все пространство символизма традиции строго и рас-
черчено, тогда как оно большей частью стихийно и аморфно.
Сложность, беспорядочность, противоречивость, плюрализм
характерны для всех великих традиций, и лишь потом симво-
лические порядки замирают в классическом совершенстве на
исходе своего исторического бытия. Пока символизм подпиты-
вается непосредственным эйдетическим опытом, он будет по-
стоянно видоизменяться и не сможет приобрести устойчивого
очертания, вызывая ощущение роста и постоянного брожения.
Как отмечает Макинтайр, говоря о нашей традиции, «дело не
просто в том, что мы живем согласно разнообразным и много-
численным фрагментированным концепциям; дело в том, что
они используются в одно и то же время для выражения конку-
рирующих и несовместимых социальных идей и политик и на-
полняют нас плюралистской политической риторикой»3. Толь-
ко та традиция становится классической, символы которой,
сохраняя преемственность с прошлым и свободу постоянного
обновления, подчиняются одному порядку, который воплоща-
ет в себе индивидуальность традиции, равно как и дает ответы
на наиболее актуальные запросы эйдетического опыта. Получая
1 Берлин И. Подлинная цель познания. М„ 2002. С. 173.
2 Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 152.
’Макинтайр А. После добродетели. М„ 2000. С. 342.
172
Глава 2. Символическая реальность
классический статус, символический порядок постепенно отми-
рает и сменяется другим, но при этом он может веками воздей-
ствовать на последующие порядки, причем предсказать, каково
будет это влияние, достаточно сложно.
Один из основоположников античного символизма Солон
написал стихотворение, в котором жизнь человека подчинена
строгому порядку. Вот оно:
Маленький мальчик, еще неразумный и слабый, теряет,
Чуть ему минет семь лет, первые зубы свои;
Если же Бог доведет до конца седмицу вторую,
Отрок являет уж признаки зрелости нам.
В третью у юноши быстро завьется, при росте всех членов,
Всякий в седмице четвертой уже достигает расцвета
Силы телесной, и в ней доблести явствует знак.
В пятую — время подумать о браке желанном мужчине,
Чтобы свой род продолжать в ряде цветущих детей.
Ум человека в шестую седмицу вполне созревает
И не стремится уже к неисполнимым делам.
Разум и речь в семь седмиц уже в полном бывает расцвете,
Также и в восемь — расцвет длится четырнадцать лет.
Мощен еще человек и в девятой, однако слабеют
Для веледоблестных дел слово и разум его.
Если ж десятое Бог доведет до конца семилетье,
Ранним не будет тогда смертный конец для людей1.
Античный символизм, существовавший в условиях духов-
ной монополии на статус «цивилизованной культуры», строг,
возвышен, упорядочен. Однако мы живем в условиях куль-
турного плюрализма, при котором возможно сосуществование
различных символических миров. Универсализм и плюрализм
в отношении символов — это теоретические подходы, имеющие
как достоинства, так и недостатки. Мне кажется, что современ-
ная плюралистическая модель символизма более гибкая и жиз-
неспособная. Мы всегда будем приспосабливаться к вызовам
и изменениям эйдетического опыта, находясь в ситуации измен-
чивых символических порядков.
1 Перевод В. В. Латышева.
2.3. Чистый символ
В настоящем разделе речь пойдет о возможности существо-
вания символов самих по себе, или чистых символов. В идеа-
листических концепциях символизма эйдосы и символы — ре-
альные сущности, занимающие определенное место в бытии
и познании. Следовательно, эти сущности обладают собствен-
ной природой и могут быть представлены сами по себе. Подоб-
ное убеждение настолько прочно вошло в нашу философскую
и художественную традиции, что практически не вызывает воз-
ражений. Однако мне это воззрение кажется спорным, а пози-
ция идеалистов от Платона до Кассирера, трактовавших симво-
лы по аналогии с чистыми идеями, — ошибочной. В отличие от
идеи, символ стремится быть не чистым, а возвышенным', поэ-
тому он стремится не обособиться в собственной определенно-
сти и стать чем-то абстрактным, а, напротив, пытается вовлечь
в собственное значение акты эйдетического опыта, которые
всегда непосредственны и конкретны. Символическая возвы-
шенность не может быть оторвана от опытной основы, иначе
символ превращается в нечто совершенно несовместимое с че-
ловеческим пониманием.
Основоположником теории чистого символизма выступает
Платон. Он пишет; «Представь себе теперь, что лиру разбили или
же порезали и порвали струны, — приводя те же доводы, какие
приводишь ты, кто-нибудь будет упорно доказывать, что гармо-
ния не разрушилась и должна по-прежнему существовать. Быть
того не может, скажет такой человек, чтобы лира с разорванны-
174
Глава 2. Символическая реальность
ми струнами и сами струны — вещи смертной природы — все еще
не существовали, а гармония, сродная и близкая божественному
и бессмертному, погибла, уничтожившись раньше, чем смерт-
ное. Нет, гармония непременно должна существовать»1. В соот-
ветствии со спецификой платонизма, в учении о гармонии нет
четкого разделения на концептуальное и символическое опре-
деления. Можно предположить, что Платон понимает гармо-
нию как идею. В этом смысле она является совершенно отвле-
ченной: гармония существует сама по себе, вне зависимости от
ее воплощения. Но, если учитывать практику искусства, с эсте-
тической точки зрения гармония неотделима от ее воплоще-
ния в художественном творении и, следовательно, может стать
предметом особого переживания, то есть чувствоваться. Платон
творит не только чистый идеализм, но и эстетическое учение об
особой возвышенности символа. Символический смысл, хотя
и неотделим от опыта, может отчуждаться от него, приобретать
собственное бытие, которое выступает отображением эйдетиче-
ской формы. Чистота платоновского символа — это его автоно-
мия как эйдетического образа, его принадлежность не индиви-
дуальному сознанию отдельно взятого творца, а коллективному
опыту традиции. Символ является «чистым» в том смысле, что
он не сводится к вещам и не подвластен идеям, даже если они
и присутствуют на образном и лингвистическом уровнях. Эйде-
тический смысл выражается в символической форме и не может
быть сведен к формальному определению. Он изначально мета-
форичен и подвержен дальнейшим интерпретациям, он совер-
шенно пуст без наличия непосредственного опыта, если он не
возвышает душу, не выводит человека к предельным высотам,
не воплощает в себе высшую красоту, благородство, человеч-
ность.
Сотворив эстетический символизм, поздний Платон при-
знал его заблуждением, особенно опасным в политическом
смысле. По мнению Платона, душа человека в символической
сфере не свободна ни от засилья мнений, ни от изнеженности, ни
от размягченности вследствие удовольствий. Проповедь позд-
него Платона против искусства достаточно сурова: «Считай, что
так бывает и с душой: всякий раз, когда она устремляется туда,
1 Платон. Федон. 85е.
2.3. Чистый символ
175
где сияют истина и бытие, она воспринимает их и познает, а это
показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область
смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет,
становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и ка-
жется, что она лишилась ума»1. Тем самым Платон разделяет ме-
тафизический и эстетический миры, считая чистым и подлинно
возвышенным лишь первый. Большую часть современного ему
искусства Платон осуждает, считая его ненужным для своего
идеального государства. Ориентируясь на спартанский идеал,
он полагает, что мусическое и гимнастическое искусства нужны
только в той мере, в какой они способствуют прославлению бо-
4 гов и достойных мужей. В прочих же случаях искусства ведут
человека к пороку, падению нравов и в конце концов пагубно
насаждают превратные мнения о богах и героях. Тем самым, ис-
кусство в системе позднего Платона приобретает две функции,
и Платон допускает только возвышенное, идеалистически окра-
шенное искусство, которое направлено к разуму и добродетели,
а не к удовольствию.
Итак, в платонизме искусство подчинено законам мира
идей и может быть определено как нравоучительное образное
представление идеи. Аристотель, при своем гораздо более либе-
ральном отношении к искусству, остается платоником в области
практической философии и склонен представлять добродетель
как символическое возвышенное отображение идеи. Так, он пи-
шет о дружбе: «Совершенная же дружба бывает между людьми
добродетельными и по добродетели друг другу подобными, ибо
они одинаково желают друг для друга собственно блага, по-
скольку добродетельны»2. Как видим, речь идет об идеальном
взаимоотношении между людьми, достигшими высокого уров-
ня духовного развития. Представление Аристотеля о дружбе
совершенно отвлеченно и может быть воплощено в любое вре-
мя, в любом обществе, где встретятся хотя бы два достойных
мужа. Вместе с тем дружба выступает здесь идеалом, который
настолько возвышен, что воспринимается как нечто абсолютно
законченное в себе и для себя, вызывая неизбежные сомнения
в его достижимости: Ларошфуко, рассуждая о любви как идеале,
1 Платон. Государство. 508d.
2 Аристотель. Никомахова этика. 1156b.
176
Глава 2. Символическая реальность
скептически заметил, что она похожа на привидение, поскольку
все о ней говорят, но никто ее не видел.
Тем самым символический идеализм трактует символы по
аналогии с понятиями. Он рассчитан исключительно на идеал
разумного человека и мало считается с запросами человече-
ского опыта. Трансцендентный мир символов, воплощающих
в себе этическое, эстетическое, политическое и другие стороны
совершенства, воспринимается как нечто божественное, абсо-
лютное. Когда Лосев пишет о Платоне: «Весь этот материал дает
возможность и повелительно требует классифицировать учение
Платона об идеях как чистейший символизм»1, — я понимаю та-
кой символизм как формально-логический, рассудочный, отвле-
ченный символизм, который метафизически понятен и опреде-
ленен, но не покидает пределов метафизики. Ведь в платонизме
эйдосы, символы и возвышенный опыт находятся в зависимом
положении, поскольку все подвластно миру идей.
Античная философская традиция, заложившая основы иде-
ализма, во многом повинна в том, что символизм долгое время
рассматривался как нечто «периферийное». Он допускался в ху-
дожественной сфере, но рассматривался как нечто упрощенное,
«наглядное». Все же великое в искусстве оценивалось с позиции
заключенного в произведении интеллектуального содержания.
На мой взгляд, только английские эмпирики и Кант реа-
билитировали возвышенный эйдетический опыт, доказали на-
личие познавательной функции искусства и заложили основы
теоретического изучения символизма как особой сферы чело-
веческой культуры. У Канта символ стремится стать чистым,
поскольку он воплощает эстетический идеал (данный a priori).
Однако обобщенность на символическом уровне — это не аб-
страктно всеобщее, а типическое с точки зрения эйдетического
опыта, выступающее как прекрасное и возвышенное и как тако-
вое всегда конкретное. Художественный символ как воплоще-
ние высшей гармонии и красоты неотделим от его переживания
в опыте — но это не простое чувственное, а особое возвышенное
переживание, направленное не на вещественную, а на эйдети-
ческую сторону мира. Когда говорят, что искусство возвышает
1 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.
С. 629.
2.3. Чистый символ
177
душу, подразумевается созвучность символа нашему опыту,
который в моменты собственной возвышенности находится на
вершине человечности, на уровне непосредственного облада-
ния эйдосом. В этом смысле символы воплощают в себе эйде-
тический мир, мир прекрасных и возвышенных сущностей (или
доведенных до эйдетической ясности противоположностей пре-
красного и возвышенного).
Хотя вершиной греческой мысли выступает идеализм,
. в сфере этических добродетелей греки ориентировались ско-
рее на эйдетические образцы героев и великих мужей, зало-
жив таким образом основы главного эйдоса — эйдоса человека.
Человеческое совершенство в греческой культуре — нечто не-
' посредственно явленное и вместе с тем простое, возвышенное,
аристократичное, несовместимое ни с заносчивостью, ни со
стремлением к подчеркиванию своего положения. Ю. В. Андре-
ев пишет: «Неудивительно, что соседние варвары смотрели на
греков как на странную породу то ли безумцев, то ли взрослых
детей, помешанных на состязаниях... Знатные персы из ближай-
шего окружения Ксеркса во время его похода на Грецию были
страшно удивлены, узнав от перебежчиков, что греки, вместо
того чтобы готовиться к отражению вражеского нашествия,
устраивают очередные игры в Олимпии. Еще больше удивились
они, когда им сообщили, что наградой победителю на играх
обычно служит простой венок из ветвей дикой оливы»1. В по-
нимании достоинства мужа греки исходят из символического
образа, который отсылает к эйдетическому совершенству и, как
таковой нуждается в обретении, а не во внешней демонстра-
ции: Солону не нужны ни дорогие платья, ни льстивые речи,
прославляющие его в веках, — он скромен, благороден и воз-
вышен. Тогда как Александр — это уже начало упадка симво-
лического образа великого мужа, ибо он нуждается в почестях,
славе, хочет захватить мир, одевается в варварские облачения
и т. д. И даже на закате эллинской культуры, когда уже не стало
прежней Греции, а целый ряд римских императоров явил при-
мер падения человеческой природы, появляется Марк Аврелий,
который с высоты своего положения полубога довольствуется
простотой, невзыскательностью, стремлением достичь самоу-
1 Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998. С. 188.
178
Глава 2. Символическая реальность
глубленного и добродетельного образа жизни. Убедившись, что
последний навсегда канул в Лету и в современном ему Риме не-
достижим, окруженный глубоко испорченными и порочными
людьми, Марк Аврелий закладывает основы ностальгического
и травматического этического опыта, который неотделим от
скепсиса, пессимизма и чувства утраты: «И нет, по-видимому,
ничего устойчивого, а рядом с нами бездна прошедшего и гря-
дущего, в которой все исчезает»1.
Чистое понимание символа противоположно другой его
трактовке, а именно эмпирической, когда символизм выводится
из сферы чувственности. Не следует смешивать экземплифи-
кацию и генезис символа в сфере возвышенного опыта с эмпи-
рически понимаемым символизмом, сводящим символическое
значение к наглядной, вещественной основе, а также к проявле-
ниям человеческих чувств и эмоций. В этом смысле греческий
символизм духовно возвышен (по крайней мере, в лице фило-
софов, поэтов, скульпторов, зодчих, политиков, военачальни-
ков — насколько нам о них известно). Эллинский символ бла-
городного мужа не отделен от переживания и идеологически
окрашенной трактовки гражданственности, однако он свободен
от оценки с точки зрения богатства и внешних благ. Лавровый
венок ничего не стоит по сравнению с золотым, но он бесценен
как признак достижения совершенства в добродетели и призна-
ния заслуг перед народом. Высшие символы в этом смысле не
вовлечены в «производство знаков», они неподвластны идеоло-
гическим штампам, не продаются и не покупаются, поскольку
их основа — эйдос человека, человеческий возвышенный образ.
Что Боттичелли или Тициану до того, что заказчиками их по-
лотен зачастую были алчные и подлые люди, падшие до самых
страшных преступлений? В обществе, где среди высшей знати
процветали всевозможные пороки, гении Возрождения творят
образ, преисполненный чистоты и человечности. Конечно, сим-
волами эпохи выступают разные события (в том числе — при-
менительно к Ренессансу — убийства и отравления); однако
о духовном уровне эпохи следует судить только по самым возвы-
шенным образцам. В этом отношении, по крайней мере в запад-
ной истории, известно много случаев, когда человек достигает
1 Марк Аврелий. Размышления. V, 23.
2.3. Чистый символ
179
высочайшего положения именно как символическая личность,
воплощая в себе образ гениального творца, мудреца, духовного
лидера.
Учение о чистоте символов возникает еще и на том осно-
вании, что высшие из них могут быть абстрагированы от своих
основ и рассматриваться сами по себе, по аналогии с идеями.
В самом деле, чем менее символ сводим к непосредственному
опыту, тем более он кажется «чистым», «духовным», трудновы-
разимым и едва постижимым, метафоричным и даже загадоч-
ным. Я объясняю это тем, что символ может быть связан лишь
косвенно с эйдетическим опытом, который он выражает. Без
сопровождения в опыте символ становится чем-то «абстракт-
ным», приобретая вид голой символической формы, отчего возни-
кает стремление не «переживать» символ через достижение воз-
вышенного, а «истолковывать» его, оставаясь нейтральным по
отношению к нему. Символическая сфера, в отличие от форма-
лизованного мира логики и науки, не может быть чем-то отстра-
ненным от человеческого опыта; за пределами запросов возвы-
шенного опыта область символов перестает оправдывать свое
назначение. Ведь символы — это не что иное, как обозначения
эйдосов в особом возвышенном языке, определяющем духовное
лицо традиции. Символический язык теоретически может быть
оторван от эйдетического опыта, но тогда он становится либо
исторической формой былого эйдетического опыта (который
можно отчасти восстановить по источникам в виде нарратива),
либо он оказывается отвлеченным языком, чистой символикой,
напоминающей увлекательную, но праздную игру.
Если обратиться к теологическому символизму, догматиче-
скому и направленному на постижение Абсолюта, то и тут воз-
никают существенные затруднения с представлением Бога через
чистые символы. Г. В. Флоровский цитирует Василия Великого:
«Нет ни одного имени, которое обнимало бы все естество Божие
и было бы достаточно для того, чтобы выразить его вполне»1.
Подобная точка зрения, если брать ее философский аспект, вос-
ходит к классической античности: ведь Платон и Аристотель
полагали, что невозможно полностью постичь природу совер-
шенного существа. Бог может быть осмыслен не только теоло-
1 Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV века. М„ 1992. С. 73.
180
Глава 2. Символическая реальность
гически (теология лежит вне нашего исследования), но и симво-
лически, то есть через эйдетический опыт. В рамках символизма
Бог представлен через образные структуры, для создания кото-
рых используются как художественные, так и мистические, эзо-
терические приемы. И если общение с Богом крайне затруднено,
то его эйдетическое представление восходит к символу демиур-
га и абсолютного всемогущего существа, творящего мир и чело-
века. Рассуждая с мистической точки зрения, Мейстер Экхарт
предвосхищает основы ренессансного восприятия Бога, кото-
рый, будучи трансцендентным, тем не менее вступает в контакт
с человеком на уровне сердца, а также может быть символически
представлен: «В этом едином Отец рождает Сына в глубочайшем
источнике. Там расцветает Святой Дух и там возникает в Боге
воля, которая принадлежит душе... Все вещи созданы из “ничто”.
Поэтому настоящий источник их — “ничто”»1. Мейстер Экхарт
здесь не обращается к схоластическому, рациональному мыш-
лению; он стремится представить Бога и его атрибуты как нечто,
что может переживаться в особом мистическом опыте. И хотя
такой опыт вдохновлен верой, он по своей сути также выступает
возвышенной формой и тем самым родственен опыту живопис-
ца, изображающего Мадонну или Христа. Мистические и ви-
зуальные образы, относящиеся к божественной сфере, следует
трактовать изначально символически, поскольку их назначе-
ние — установить особое co-переживание, раскрыть в человеке
божественный образ, который лишь в своей чистоте и величии
способен явиться нам. К примеру, глубокие задние планы на би-
блейских полотнах мастеров Возрождения — это не просто жи-
вописный прием, а нечто изначально символическое. Художник
стремится изобразить не пейзаж, а показать его глубиной и раз-
нообразием всемирный характер той сцены, которая развора-
чивается на переднем плане. Так, поклонение волхвов настоль-
ко значимо, что оно символически представлено как событие,
проходящее перед лицом всего мира, «видимое» особым сим-
волическим взором из всех мест Земли, даже расположенных за
далекими морями. И хотя эйдетические представления в рели-
гии не являются догматическими, часто нося светский характер,
они определяют самосознание традиции не в меньшей степени,
1 Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М„ 1991. С. 26.
2.3.Чистый символ
181
нежели церковные установления и теологические школы. Все,
что связано с божественным, изображается как символически
отстраненное от человека, вечное, замкнутое в себе, абсолютно
возвышенное, выведенное в виде изначально многозначного эй-
детического образа. Например, Дж. Неру пишет: «Образ Будды,
с любовью воспроизведенный тысячами рук в камне, мраморе
и бронзе, словно символизирует весь дух индийского мышления
или по меньшей мере один его жизненно важный аспект. Сидя-
щий на цветке лотоса, спокойный и безмятежный, выше стра-
стей и желаний, выше бурь и борьбы этого мира, такой далекий,
он кажется недосягаемым, недостижимым»1.
Природа символизма останется для нас закрытой, если мы
будем искать единственно возможные критерии истинности
в сфере концептуализма. В таком случае символизм оказыва-
ется наивной наглядностью, совокупностью нарочито затейли-
вых эмблем и сюжетов, ведущих наш ум к постоянным заблу-
ждениям. На самом же деле он основан на особой способности
возвышенного опыта и, как отметил Кант, на способности об-
разного схватывания истин в рамках эстетических форм. Даже
Лейбниц, убежденный сторонник рационалистического под-
хода, признает наличие иного способа постижения символов,
когда они воспринимаются и усваиваются непосредственно, как
целостные возвышенные «сюжеты»: «Мы мысленно пользу-
емся... словами (смысл которых нашему духу темен, или пред-
ставляется неполно) вместо соответствующих им идей, так как
нам кажется, что значение этих слов нам известно, объяснение
же их в данный момент не необходимо. Подобное познание
я обычно называю слепым или же символическим — познание,
которым пользуются в алгебре и арифметике, да и, пожалуй,
почти везде»* 2. Негативная окраска символов Лейбницем (что
вполне ожидаемо со стороны рационалиста) не отменяет тем не
менее определенной альтернативности символизма по отноше-
нию к концептуализму, когда символическое познание оказы-
вается изначально непосредственным и выводящим к той сфере
прекрасного и возвышенного, где господствуют не логические,
а эстетические критерии. После того как Кант определил суть
'Неру Дж. Открытие Индии. Кн. 1. М„ 1989. С. 201.
2 Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4 т. Т. 3. М., 1984. С. 103.
182
Глава 2. Символическая реальность
возвышенного эстетического опыта и отвел ему определенное
место в познании, сам характер немецкого рационализма изме-
нился, стремясь включить в себя учение о символическом. Кант,
с моей точки зрения, трактует символизм романтически — как
форму особого возвышенного опыта, которая в искусстве возво-
дит субъективный дух на такие высоты, с которых мир представ-
ляется как одухотворенная природа. В этом смысле кантовский
символизм неотделим от придания мировому духу жизненного,
волевого начала, метафизической трактовки символического
как способности одухотворения природы. Любопытно, что по-
следователь Канта Фихте рассуждает о символическом уже со-
всем иначе, нежели предшественник Канта Лейбниц. Это свиде-
тельствует о существенном сдвиге всей философской традиции
в сторону все большего включения в систему учения о симво-
лическом. Фихте пишет: «Высокая живая Воля, которую нельзя
назвать никаким именем, нельзя охватить никаким понятием,
я поистине смею возвысить свой дух к тебе, так как ты и я не-
раздельны. Твой голос звучит во мне, а мой, в свою очередь, зву-
чит в тебе, и все мои мысли, если только они истинны и хороши,
мыслятся в тебе»1. Таким образом, сфера возвышенного — это
мир эйдосов; и главный способ постижения этого мира — имен-
но возвышенный дух, как отмечает Фихте. При этом эйдетиче-
ский мир немецкого романтизма базируется на теологическом
фундаменте. В этом смысле — это христианский мир, который
требует от субъекта подвижничества, полной духовной самоот-
дачи, культивирования в себе особой возвышенной личности.
Гений романтической поэзии понимается как избранный субъ-
ект, символически постигший полноту абсолютного начала; но
это не сущий в рамках традиции и действующий герой, а суще-
ство глубоко чувствующее, переживающее, не имеющее опреде-
ленного места в мире, не знающее своего земного назначения,
а потому одинокое, «лишнее», несчастное. Романтический мир
не имеет той четкой расчерченности, незыблемого покоя, ко-
торый был характерен для античного символизма, когда сама
возможность какой бы то ни было динамики совершенно ис-
ключена, а смысл мироздания и жизни дан заранее, до прихо-
да в мир человека. Романтическая же личность только ищет,
1 Фихте И. Г. Сочинения: в 2 т. Т. 2. СПб., 1993. С. 208.
2,3. Чистый символ
183
обретает свою эйдетическую природу, которая заключается
теперь в индивидуальном духовном становлении, обретении со-
вершенной исключительности и возвышенности за счет ресур-
сов собственной личности, а не в следовании традиционным
ценностям. Чистота романтического порыва — это стремление
к очищению эйдетического опыта от всего мирского, социаль-
ного. Сам по себе романтизм есть символический индивидуализм,
когда внутренний мир великой личности рассматривается как
особая «история», некое восхождение к стадии гениальности,
когда созданные субъективным духом символы становятся уде-
лом новой традиции — но уже не общества аристократических
мужей, а общества неукорененной интеллигенции, живущей
символами, видящей в них смысл и назначение собственной
жизни. Романтический героизм — это не античный героизм,
требовавший особой воздержанности и скромности в следова-
нии обычаям и воле богов. Романтический героизм неотделим
от бушующих страстей, противопоставления себя социальному
порядку, что делается для достижения особенно убедительного
контраста между падшей телесной природой и возвышенной ду-
ховной. Назначение человека теперь меняет свой эйдетический
характер и мало затрагивает его частный образ жизни, взаимо-
отношения с обществом и государством, политическую позицию
и т. д. Эйдетический образ человека теперь оценивается исклю-
чительно с точки зрения индивидуального развития духа, что
вступает в особенно ощутимое противоречие с традиционными,
сословными, экономическими факторами. Ценность человека
после романтического символизма измеряется его способностью
к личной возвышенности в «эстетической» сфере (в кантовском
смысле слова), его способностью нести в мир новые символы, тво-
рить новые ценности.
Таким образом, символы кажутся чистыми, поскольку исхо-
дят из возвышенности и чистоты человеческого духа, из особого
эйдетического опыта. Однако, хотяэтотопытивозвышен —порой
до высот, которые кажутся уже божественными, — тем не менее
он не самодостаточен и нуждается в образной, лингвистиче-
ской или какой-либо другой основе, а также, при всем индиви-
дуализме современной эпохи, так или иначе связан уже суще-
ствующими символами, входит, пусть и в «либеральную», но
все же в определенную интеллектуальную традицию культуры.
184 Глава 2. Символическая реальность
Основа символизма, взятая как мир человека, природы, нрав-
ственности, Божества, может восприниматься относительно
неизменной — однако вечных символов не существует. Порой
они продолжают выражаться прежним языком и по видимости
схожи с предшествующими, но они суть не более чем эйдетиче-
ские интерпретации; а потому Онегин уже выглядит человеком
прошлого по сравнению с Печориным, каким по отношению
к самому Онегину казался Чацкий. В крупнейших символиче-
ских порядках — таком, например, как романтический, — есть
некие символические «якоря», к которому можно отнести рефе-
ренцию большинства символов. Но символизм, на мой взгляд,
никогда не может быть прописанным с универсалистской точки
зрения, и даже самые незыблемые символы рано или поздно из-
менят свое значение, а то и сойдут со сцены.
Для лучшего понимания природы возвышенного роман-
тического символизма и учения о чистом символе следует об-
ратиться к творчеству Гёте. Ведь именно он — основоположник
учения о новой форме возвышенной романтической личности.
Выведя в качестве конкретного воплощения таковой Шекспира,
Гёте, не жалея эпитетов, пишет о нем: «Да, Шекспир соревно-
вался с Прометеем! По его примеру черта за чертой создавал он
своих людей, но в колоссальных масштабах — потому-то мы и не
узнаем наших братьев, — и затем оживил их дыханием своего
гения; это он говорит их устами, и мы невольно узнаем их срод-
ство. И как смеет наш век судить о природе? Откуда можем мы
знать ее, мы, которые с детских лет все ощущаем на себе стяну-
тым и приукрашенным»1. Высказывание Гёте свидетельствует,
что Шекспир, будучи равным великим грекам, превращается во
вневременную символическую личность. Здесь на первый план
выдвигается гениальность Шекспира, которую я, конечно, не
склонен трактовать мистически, как особую избранность и бо-
жественную одаренность. На мой взгляд, Гёте особо отмечает
наличие индивидуального, несравненного по масштабу «взора»
Шекспира. Героический символизм романтизма сосредоточи-
вается на возвышенном в субъективном духе; при этом законо-
мерно также и выпадение романтического гения из традиции.
Нет сомнения, что «лишний» человек романтической поэзии,
1 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 338.
2.3. Чистый символ
185
обретая себя в стихии субъективного одиночества, совершен-
но не похож на древнегреческого героя, который также был
символической личностью, но никогда не отделялся от народа
и традиции1. Несмотря на маргинальную трактовку Шекспира
и превратное понимание греков, Гёте (как и все великие роман-
тики) следует своему пути: возвышают до стихийного героизма
эйдетический опыт великого человека.
В отличие от понятия, символ может существовать и упо-
требляться при неполном определении значения — достаточно
полноты того эйдетического опыта, который вызвал его к жиз-
ни. Поэтому символ — изначально нечто «недоговоренное» и не
а имеющее законченного определения. Можно даже допустить,
что подавляющее большинство символов вообще не введе-
ны в язык традиции через прописанные значения, что, без со-
мнения, открывает простор для самых разных интерпретаций
и толкований. Символ вообще не оценивается с точки зрения
истинности или ложности. Его значимость определяется тем,
насколько всесторонне он охватывает соответствующий опыт.
Если взять поэзию, то тут символизм не требует ни определе-
ний, ни объективности, ни даже правдоподобия. Это хорошо
понимал Гёте, который так рассуждал о поэтическом символиз-
ме: «Величие греков, — продолжал Гёте, — проявилось и здесь,
они придавали меньше значения верности исторических фак-
тов, нежели тому, как их разработал поэт... Так следовало бы по-
ступать и современным поэтам, а не интересоваться, обработан
ли уже какой-то сюжет или нет»2. Поэтический символизм тем
самым наименее связан с референцией по отношению к исто-
рическим и природным фактам. Будучи «автономным» в плане
собственной свободы, символ ни в коем случае не является про-
извольной фантазией, а подчинен логике определенного языка,
передающего возвышенный опыт. Только в таком смысле по-
этический символ оказывается не частным творением отдель-
1 По поводу поэтического одиночества гётевский Вертер судит так:
«Я ухожу в себя и открываю целый мир! Но тоже скорее в предчувствиях
и смутных вожделениях, чем в живых, полнокровных образах. И все тог-
да мутится перед моим взором, и я живу, точно во сне улыбаюсь миру»
(Гёте И. В. Страдания юного Вертера. М„ 1957. С. 20).
2 Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Ереван,
1988. С. 212-213.
186
Глава 2. Символическая реальность
ного поэта, а становится составляющей новой интеллектуаль-
ной традиции, которая удерживает в себе поэтические образы,
возвышенно трактуя их как предельные прозрения бытия. Ведь
тяготея к лингвистической форме, символ может отрываться
от своего эйдетического содержания, употребляться без всякой
экземплификации, приобретая метафизическую видимость чи-
стой идеальности. На самом же деле подлинный романтический
символизм стремится не замкнуться в вакууме субъективности,
а видит свою миссию в «очеловечивании» природы, раскрытии
«идеального начала» вещей. И если шеллингианская программа
трансцендентального идеализма на мировом уровне совершен-
но неосуществима, то в рамках поэтического (и любого другого
художественного) опыта она вполне реальна и достижима.
Не следует забывать, что эйдетический опыт — это лишь
возможность символизма, но не его действительность. Для воз-
никновения символизма требуется определенное творческое
усилие, которое либо растворено в традиции, либо персони-
фицировано. В последнем случае личность приобретает симво-
лическое значение творца части духовной традиции, оставаясь
зачастую в памяти гораздо дольше самой этой традиции. Греки
давно ушли, а воззрения их философов, изречения поэтов и ве-
ликих мужей продолжают жить в культуре. При этом вполне
вероятно, что личный эйдетический опыт Монтеня, Ларошфу-
ко, Бэкона, Винкельмана был довольно схож с опытом великих
древних мужей. Но говорить о тождестве традиций совершенно
не приходится, отчего эти изречения, равно как и эти личности,
становятся устойчивыми культурными штампами, маркерами
отсылки к давно ясной, до банальности повторенной максиме.
В таком контексте приход новоевропейского метафизическо-
го рационализма и последующего романтизма действительно
оказал огромную пользу, помогая «забыть» не подтвержденное
никаким опытом наследие, подведя под него новый фундамент
субъективного возвышенного духа. В плане исторической точ-
ности байроновские греки существенно уступают грекам в труде
Монтеня; но романтизированные греки — это форма оригиналь-
ной интерпретации, модернистского переописания. Романтики
сначала создали интерпретированных в собственном духе гре-
ков, а затем наделили их романтическим и ностальгическим
синдромом, чувством утраты былых величия, простоты и воз-
2.3. Чистый символ
187
вышенности. Еще раз повторю: греки немецких классических
философов и филологов, древние мужи в образах романтических
поэтов совершенно вымышлены; однако эта новая классицистиче-
ская (в традиции Винкельмана и Лессинга) «античность» осно-
вывается на реальности возвышенного опыта субъекта и служит
не воспроизведению исторической сцены, а только средством
интерпретации индивидуализированной возвышенности. Ког-
да Байрон, участвуя в войне за свободу Греции, метафорически
сравнивает себя со спартанцем, не стоит даже говорить о том,
насколько не похож английский лорд и романтик на живуще-
го в коммуне и презирающего искусства спартиата. Смысл тут
в том, что Байрон отождествляет со Спартой возвышенное пе-
реживание борьбы за свободу; и опыт Байрона, не находящий
ничего подобного в современности, требует бегства из Англии,
борьбы, героизма, которые, что особенно важно (ведь Байрон
не воин, а поэт), облекаются в такие символические формы, ко-
торые становятся созвучными эйдетическому опыту нарожда-
ющегося в романтизме интеллигентского сознания. Конечно,
метафорическое перенесение героической возвышенности на
сравнение со спартанцами придает этому героизму классиче-
ские черты, но «классическим» тут выступает не образ, а имен-
но возвышенный опыт, достижение поэтом не просто метафо-
рического, а вполне конкретного возвышения личности. Вместе
с тем следует учесть, что невозможно постоянно находиться на
таких вершинах опыта; поэтому романтический поэт создает
особую мифологию субъекта, когда за пределами вдохновения
и возвышенного опыта поэт оказывается ненужным, порочным
и несчастным существом. Все великие романтические поэты вне
своего творчества были «лишними» людьми, что вовсе не сви-
детельствует об их несовершенстве, а лишь об их человечности.
Ведь с точки зрения теории эйдетического опыта человек просто
не может постоянно находиться в непосредственности возвы-
шенного переживания; так или иначе такое состояние возникает
периодически и устойчиво связывается с принятыми в традиции
«эстетическими» принципами. Как верно отмечает Шопенгауэр,
подлинная возвышенность опыта довольно редка: «Логический
разум имеет всякий простак: дайте ему посылки, и он выведет
заключение. Но рассудок доставляет первичное познание, то
есть интуитивное, и в этом заключается вся разница. Вот почему
188
Глава 2. Символическая реальность
зерно каждого великого открытия и каждого всемирно-истори-
ческого плана является детищем счастливого мгновения»1. На
мой взгляд, большую часть своей жизни человек вообще не жи-
вет в возвышенном мире, но вместе с тем нет цивилизованного
человека, который не был способен — хоть иногда! — к возвы-
шенным переживаниям.
Мне кажется крайне сомнительным утверждение Фрейда:
«Необходимо принять только во внимание своеобразную пла-
стичность психического материала. Символ может проявиться
в сновидении не в символической форме, а в своем истинном
значении»2. Эйдетический опыт в самом деле может возникать
естественно и, скорее всего, обусловлен также особенностями
психики. Однако эйдетический опыт великой личности уже не
спонтанен, а взращен обучением и неотделим оттрадиции. Также
можно допустить, что за пределами конкретно-чувственных об-
разов отсутствует какой-либо естественный символизм, что вид-
но при изучении мировоззрения ребенка или малограмотного
человека. Эйдетический опыт достигает определенности эйдоса
только в символе; развитый символизм требует от его носителя
серьезной подготовки в рамках традиции и языка. Символиче-
ские интерпретации эйдосов, конечно, варьируются в зависимо-
сти от индивидуального опыта, однако эти вариации не позво-
ляют судить о полном отрыве от традиции. Следует признать,
что стремление найти генезис символизма в бессознательном
или в архаической традиции является измышлением немецкого
идеализма и совершенно не соответствует истории и практике.
Не существует никакой изначальной предрасположенности чело-
века к творению символов. Тем более не существует очерченных
раз и навсегда «регионов символов», в пределах которых суще-
ствуют «чистые» и «вечные» символы. Символизм базируется
на эйдетических интерпретациях и сложным способом (как пра-
вило, лишенным всякой методичности) регулируется традици-
ей, которая, как мы уже отмечали, пластична и подвержена пе-
ременам, но вместе с тем достаточно стабильна для того, чтобы
элиминировать чуждый ей символизм. Когда, к примеру, Юнг
проводит исследования архаического символизма и видит их
'Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. Т. 1. М„ 1901. С. 70.
2Фрейд 3. Толкование сновидений. Ереван, 1991. С. 220.
2.3. Чистый символ
189
сущность в бессознательном, это ценно для науки и понимания
внутреннего мира первобытного человека. Однако стремление
перенести архаический символизм на культурную сцену совре-
менности наталкивается на устойчивое сопротивление со сторо-
ны традиции, в рамках которой противопоставление цивилиза-
ции и варварства оказывается гораздо сильнее релятивистского
эстетического культа, уравнивающего примитивные и возвы-
шенные культурные формы. На мой взгляд, все эти затруднения
идеализма и иррационализма понимает Шпенглер: «Но сам пра-
символ неосуществим. Он пульсирует в чувстве формы каждого
человека, каждой общности, стадии, эпохи и диктует им стиль
всей совокупности жизненных проявлений. Он кроется в форме
государства, в религиозных мифах и культах, в идеалах этики,
формах живописи, музыки и поэзии, в основных понятиях вся-
кой науки, но не исчерпывается ими. Следовательно, его нельзя
понятийно изложить в словах, ибо язык и формы познания сами
суть производные символы. Каждый отдельный символ гласит
о нем, но обращаясь к внутреннему чувству, а не к рассудку»1.
Современное символическое сознание находится, с одной
стороны, в состоянии достаточно ярко выраженного смешения,
а с другой стороны — убеждено в наличии незыблемых симво-
лических форм. Классическим в этом смысле является учение
Кассирера, который сводит бытие культуры к совокупности
определенных «регионов», в каждом их которых доминирует
высший символ: «Человек живет отныне не только в физиче-
ском, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство,
религия — части этого универсума... Вместо того, чтобы опре-
делять человека как animal rationale, мы должны, следователь-
но, определить его как animal symbolicum»2. Соглашаясь с по-
следним положением, я вижу трудности с первым аргументом.
Я употребляю термин «символический мир» без субстанцио-
нального значения; никаких раз и навсегда определенных симво-
лических миров просто не существует. Идеалисты очерчивают
эти миры и считают их вечными. На мой взгляд, в рамках эпохи
символические «миры» — это порядки символов, которые по-
степенно сложились в недрах данной традиции и стали опре-
1 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М„ 1993. С. 338.
. 2Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 471-472.
190
Глава 2. Символическая реальность
делающими именно в ней. Но, поскольку все символические
порядки не вечны и не похожи друг на друга, то в следующую
эпоху могут возникнуть совершенно иные «миры», равно как
и иные вариации относительно прежних «миров». Кажущаяся
чистота символа — это его возвышенность, но также и опреде-
ленная автономность, освященость традицией, превращение
в классический, академический или идеологический автори-
тет. Как в политэкономии Маркса товарно-денежные отноше-
ния постепенно фетишизируются, отрываясь от создавших их
людей, так и символы склонны становиться фетишами. Можно
даже допустить в качестве эпистемологического принципа, что
классический символ прошлой эпохи воспринимается более
«чистым» и «законченным», нежели актуальный символ, нахо-
дящийся в стадии формирования и связанный с непосредствен-
ным возвышенным опытом.
По своей природе символ претендует на всеобщность
в смысле полноты отображения эйдоса. В этом отношении он
представляет собой охватывающую унификацию, которая по-
степенно обособляется, приобретает собственное бытие и отде-
ляется от опыта. Из этого возникает характерная иллюзия, буд-
то бы символ выведен дедуктивно, а опыт, напротив, как будто
«подстраивается» под него. На мой взгляд, это идеалистическое
положение неверно: хотя символы имеют собственную образ-
но-языковую природу, их происхождение индуктивно, а не де-
дуктивно; их основой выступают акты возвышенного опыта.
Идеалисты, ложно трактуя последний как уровень ментально-
сти, тем самым стремятся превратить символический мир в не-
кий «второй» идеальный порядок, существующий наряду с выс-
шим метафизическим порядком. На самом же деле символу не
требуется ни свойственная идее четкая дефиниция, ни всеобщ-
ность. Он должен быть настолько всеохватывающим, насколько
это возможно. Но при этом он всегда содержит в себе потенции
расширения и сужения значения, интерпретации, перетолкова-
ния. Равно как всегда есть возможность радикального отказа от
конкретного символа и создания иного символа. Так или ина-
че, все определяется характером опыта, его соответствием уже
существующему символизму, соотношением опыта и традиции.
Символ крайне затруднительно «переписать» полностью, но
вместе с тем затруднительно также воспринимать исторические
2.3. Чистый символ
191
символы в условиях иного опыта. По этому поводу Чернышев-
ский пишет: «Все произведения искусства не нашей эпохи и не
нашей цивилизации непременно требуют, чтобы мы перенес-
лись в ту эпоху, в ту цивилизацию, которая создала их; иначе
они покажутся нам непонятными, странными, но не прекрас-
ными. Если мы не перенесемся в Древнюю Грецию, песни Сафо
и Анакреона покажутся нам выражением антиэстетического
наслаждения... Если мы не перенесемся мыслью в патриар-
хальное общество, песни Гомера будут оскорблять нас циниз-
мом, грубым обжорством, отсутствием нравственного чувства.
Но греческий мир слишком далек от нас; возьмем ближайшую
«эпоху. Сколько у Шекспира, у итальянских живописцев такого,
что понимается и ценится только тогда, когда мы перенесемся
в прошедшее с его понятиями о вещах»1. Поскольку возможно-
сти исторического воображения всегда ограничены, то можно
предположить, что за пределами нашего опыта символизм будет
восприниматься как нечто чуждое. Но при определенных обсто-
ятельствах, в рамках традиции принято относиться с особым по-
чтением к древним классическим символам, как бы придавая им
санкцию вечной истины. Если же брать историческую сферу, то
тут также существует предположение, что исторический симво-
лизм реконструируется с позиций гипотетического опыта людей
того времени. И если для научных целей подобные убеждения
вполне оправданны, то с эпистемологической точки зрения они
допустимы с существенными оговорками. Несмотря на опреде-
ленную брутальность и натурализм, Чернышевский верно на-
мекает, что лишь в воображении можно «допустить» большую
часть античного символизма, поскольку и опыт, и традиция,
и культура современности совсем иные. Я считаю, что герменев-
тическая идея исторического воображения во многом истинна
и является зачастую самым удачным подходом, но, кажется,
даже в пределах искусства всегда затруднительно «перевопло-
титься» в носителя опыта иной традиции. Психологически мне
кажется это вообще невозможным, а порой даже и вредным. Это
не значит, что следует сосредоточиться на собственном симво-
лизме, предав пренебрежению или забвению все иные его типы.
Но это значит, что всегда выстраивается диалог символических
'Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 124.
192 Глава 2. Символическая реальность
порядков, который неизбежно инициируется с позиций нашего
эйдетического опыта и учитывает наши символы.
Витгенштейн полагает, что мир за пределами фактов, опы-
та и логики есть «мистическое». Сторонники существования
чистых символов базировали свое учение на допущении мисти-
цизма, относя символы к вечной божественной сфере, которая
доступна лишь для особого подготовленного опыта. Так, осново-
положник русского символизма Вл. Соловьев писал: «Истинная,
цельная красота может, очевидно, находиться только в идеаль-
ном мире самом по себе, мире сверхприродном и сверхчелове-
ческом. Творческое отношение человеческого чувства к этому
трансцендентному миру называется мистикою»1. Сфера эстети-
ческого тем самым в символическом идеализме приобретает ха-
рактер символического мира, который доступен лишь избран-
ным. В эстетическом учении Платона ведется речь об особой
избранности художниками музами. В романтической эстетике
утверждается уникальная природа гения, который способен об-
разно передать абсолютную истину. В результате получается,
что символы, равно как и эйдетический мир, уже присутству-
ют в мистической сфере, причем в неизменном виде. Требуется
лишь особым способом «проникнуть» в этот мир и, разумеет-
ся, уйти от бренной действительности. Соловьев совершенно
искренне пропагандирует совмещение символизма и крайней
отвлеченности: «Художники и поэты опять должны стать жре-
цами и пророками, но уже в другом, еще более важном и воз-
вышенном смысле: не только религиозная идея будет владеть
ими, но и они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее
земными воплощениями»2. В поэтическом мифе поэт, в самом
деле, отождествляет себя с пророком, провидцем, сопричаст-
ником божества. В романтическом сознании лишь в состоянии
поэтического вдохновения открываются подлинные символы,
которые затем отделяются и приобретают собственное бытие.
Высказывания Соловьева, как мне кажется, подкупают
отсутствием метафизической риторики: они как бы вскрыва-
ют анатомию идеалистического символизма. Если обратиться
к опыту Пушкина, то он действительно рассматривает состоя-
1 Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М„ 1988. С. 152.
2 Там же. С. 293.
2.3. Чистый символ
193
ние поэтического экстаза как «божественный глагол», резко
противопоставляя моменты творческого вдохновения всем про-
чим моментам жизни (которые, по контрасту, трактуются как
нечто низменное). В этом смысле Пушкин отображает саму суть
романтического эйдетического опыта, превозносящего возвы-
шенность субъективного духа, превращающего ее из личного
акта в мировое событие. И, что особенно ценно, эйдетический
опыт Пушкина приобретает поэтические формы, созвучные на-
рождающейся традиции, вследствие чего они воспринимаются
современниками как нечто предельно возвышенное. Однако
в рамках другого эйдетического опыта и с точки зрения иной
традиции подобный символизм уже не кажется абсолютным,
а воспринимается как определенный исторический этап. На мой
взгляд, тенденция к абсолютизации собственного символиз-
ма есть практически в любой традиции, а находясь внутри нее,
субъект крайне редко выходит за ее горизонт. Лишь с позиций
плюралистического реализма относительно традиций можно
предположить, что символизм вовсе не обладает мистической
природой, а наделен лишь предельной степенью возвышенного,
которая к тому же не строится по всеобщему шаблону, а зависит
от установлений традиции.
Современной философии порой свойственно утрировать
символические трансформации и абсолютизировать бренность
любого символизма. Лев Шестов, к примеру, рассматривает
культуру как набор локальных символических систем, которые
не объединены общими началами. Поэтому он, не без некото-
рой запальчивости, пишет: «Если Филипп II сжег на костре кучу
еретиков, то требовать теперь за них отчета — бессмысленно.
Они изжарились, и их дело безвозвратно, непоправимо, навсег-
да окончено. Тут уже никакой Гегель не поможет... Нужно либо
прямо отвернуться от всех этих печальных историй, либо, если
хочешь, чтобы в твою теорию необходимо вошли все существен-
ные элементы, из которых складывается человеческая жизнь, —
придумать что-либо вроде общей гармонии»1. Дело в том, что
Шестов, критикуя символический универсализм, переходит
к иной крайности и примыкает к символическому релятивизму.
Для него символы берут начало исключительно в индивидуаль-
1 Шестов Л. Избранные сочинения. М., 1993. С. 42.
194
Глава 2. Символическая реальность
ном воображении некоторых личностей; поэтому он не видит
определенных объективных законов существования и развития
символизма, считая символы лишь субъективными порождени-
ями: «Человеку нужно положительное, то есть такое, что сейчас
годится на потребу. И вовсе не истина! Обман и иллюзия умеют
служить людям не хуже, чем истина»1. Так называемый постмо-
дернизм — это абсолютизация романтической концепции гения
в духе релятивизма, когда любой автор рассматривается как
самостийный творец, не интересующийся ничем, кроме своего
внутреннего мира и не заботящийся о помещении своих симво-
лов в традицию2. В случае перехода на позиции индивидуали-
стического символизма в самом деле приватный эйдетический
опыт гипертрофируется до степени мировой ценности, но при
этом традиция растворяется в бессчетных маргинальных экспе-
риментах. Если в период романтизма было четкое разделение на
поэтов-гениев и просто поэтов, то, к примеру, русские футуристы
все без исключения провозглашали себя гениями. А поскольку
наличие традиции необходимо для существования культуры, то
такие самозваные гении творят лишь частный культурный экс-
перимент, девиацию, неестественное отклонение.
Символы выполняют функцию формирования и хранения
возвышенного и поэтому являются элементами «мифологии»
культуры. Любая традиция склонна освящать и мистифициро-
вать собственные символы, наделяя их мифологическим смыслом.
Мифология в этом смысле — не «часть» религии, а сфера наи-
более значимых символов, которые определяют представление
о возвышенном. На мой взгляд, мифология символизма суще-
ственно отличается от собственно религиозной мифологии: она
представляет собой стихийно сложившийся свод высших ценно-
стей, которые, как правило, отнесены к идеальной возвышенной
личности, называемой обычно «современным человеком». Чер-
1 Шестов Л. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 48.
2 Вышеславцев высказывает мысль, свойственную практически всем рус-
ским религиозным философам: «Таков закон творчества во всей его широ-
те (поэзии в широком смысле): оно творит из мечты, из фантастического
образа, из невозможного. Но здравый смысл называет невозможное “обма-
ном”: он научился жить среди “низких истин” ежедневности, но зато ниче-
го не изобретет, ничего не выдумает» (Вышеславцев Б. П. Этика преобра-
женного Эроса. М., 1994. С. 56).
2.3. Чистый символ
195
ты личности Печорина как «героя нашего времени» — это эйде-
тические характеристики нового человека, которые формируют
мифологизированное представление. Греки относят символизм
к богам, древним великим мужам; романтики возводят симво-
лизм к носителям героического духа, причем такие люди, вне
всякого сомнения, «обожествляются» и в условиях отсутствия
народной мифологии приобретают статус легендарных «выра-
зителей народного духа». Таким образом, мифологизация сим-
волизма неотделима от мистификации символов и личностей их
творцов, что оказывается совершенно оправданным, поскольку
индивидуалистический дух эпохи требует «якорей» культуры
« виде пантеона гениев.
Как видим, наделение символизма мифологической функ-
цией никак не свидетельствует о трансцендентном и чистом
источнике символов, а является сугубо культурной формой,
стремлением традиции к абсолютизации своих оснований. Од-
нако в русском идеалистическом символизме присутствует уче-
ние о всеобщем символическом порядке, который коренится
в мифе. Так, Лосев пишет о природе мифа: «Миф, несомненно,
живет каким-то своим собственным пониманием истины; и за-
ключается она в установлении степени соответствия текучей
эмпирии личности с ее идеально-первозданной нетронутостью.
Это — вполне ясно отличимая от всякой иной истинности чисто
мифическая истинность. В основе ее лежит истина чуда»1. Пред-
ставления о «чудесности» мифа я, конечно же, считаю фанта-
стическими, хотя и допускаю, что каждая традиция стремится
отнести их к сверхъестественному источнику. Лосев отмечает,
что миф берет начало в особом опыте, однако выведенная им
«изначально-первозданная нетронутость» мне представляется
крайне загадочной сущностью. Тут речь идет об эйдетическом
образе личности; но этот образ, как я уже установил, не явля-
1 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М„ 1990. С. 568. Сравните, как пи-
шет об этом же Шеллинг: «Всякое соприкосновение с обыденной действи-
тельностью или с понятиями этой действительности по необходимости
разрушает очарование самих этих существ [богов. — С. И.], ибо последнее
основано как раз на том, что для их действительности не требуется ничего,
кроме возможности, и что, следовательно, они живут в абсолютном мире,
который можно реально созерцать лишь с помощью фантазии» (Шел-
линг Ф. В. Философия искусства. СПб., 1996. С. 99).
196
Глава 2. Символическая реальность
ется неизменным, раз и навсегда данным. Внутри каждой тра-
диции присутствует свой возвышенный образ подлинной «из-
начальности» человеческой природы. Эти образы могут быть
взаимосвязанными, но могут и существенно отличаться друг от
друга (как античный, средневековый и новоевропейский обра-
зы человека).
Если обратиться к архаической мифологии, то там присут-
ствует естественное для человека понимание первоначального
бытия как хаотической массы. К примеру, космогония греков
такова: «Гесиод... называет среди тех, кто “зародился прежде
всего”, Хаос, Гею, Эрос и Тартар»1. Как видим, это достаточно
темные и стихийные начала, в которых нет ничего возвышен-
ного. Возвышенные мифологические формы возникают лишь
тогда, когда смутный эйдетический опыт приобретает высокую
степень самосознания и оформляется в виде гармонических
и совершенных символов. Таким образом, мифология как форма
символизма подчиняется той же логике развития, которая свой-
ственна любому символическому порядку: от смутного и неар-
тикулированного опыта она эволюционирует до конкретизиро-
ванного опыта, приобретая свою законченность в символически
четком пантеоне богов и функционируя до тех пор, пока сохра-
няется такой опыт. Но и при этом символизм не теряет своей
изначальной смутности и стихийной непосредственности, о чем
пишет Я. Э. Голосовкер: «Воображение смутно чувствовало не-
что необъяснимое, непостигаемое, но сущее в природе: оно не
зная знало... Но образ не давал прямого ответа. Тогда фантазия,
пользуясь комбинациями образов, создала ответ. С ее помощью
воображение изобрело миф: мир, в котором были скрыты ис-
тины, невыразимые по-обычному мыслью-словом. Оно создало
мир символов и символических существ, в которых выдумка со-
четается со смутно чувствуемым и предчувствуемым знанием ис-
тины»2. Итак, мифологизация символического порядка служит
цели придания символизму как более возвышенного, так и бо-
лее артикулированного и стабильного характера. Символизм
трансформируется в мифологию, которая на закате традиции
приобретает предельно развитую и усложненную форму. В свою
1 Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 1989. С. 26.
2 Голосовкер Я. Э. Логика античного мифа. Новосибирск, 1987. С. 154.
2.3. Чистый символ
197
очередь, смутные позывы нарождающегося эйдетического опы-
та еще не явленны для него самого: это некая кипучая энергия,
нечто «новое», но и «лишнее», не укладывающееся в традицию.
После этой начальной стадии символизм приобретает все более
четкие формы, облекается в возвышенные символы. В этом про-
цессе ведущую роль играют разные виды творческого вообра-
жения. Однако «выживает» лишь то воображение, которое ока-
зывается уместным в рамках традиции и новизна которого, при
всей радикальности, позволяет заложить основы новой моди-
фикации этой традиции, а то и способствовать ее смене. В связи
с этим я пытаюсь доказать, что наделение символа мифологиче-
ской функцией имеет под собой эпистемологические основания
и базируется на склонности абсолютизировать символ.
«Смутность» символов тем самым — это взгляд на симво-
лы с точки зрения логических критериев; и так смотреть на сим-
вол в корне неверно. Символ изначально не может быть четким
и определенным — он, напротив, склонен приобретать эзотериче-
скую, загадочную, мифологизированную форму. Он предпочитает
таить собственное происхождение и генезис (идеальный слу-
чай — отсылка к героическим древним временам). Будучи обозна-
чением эйдоса в традиции, «изнутри» возвышенного опыта, символ
не менее «ясен» (в плане степени убежденности), нежели матема-
тическое положение для ума. Поэтому проводимая в современных
гуманитарных науках «мифологизация» символов удаляет нас от
понимания эпистемологических корней символизма и навязыва-
ет нам неверную точку зрения. Лосев и Голосовкер верно отмеча-
ют, что народный мифологический символизм довольно смутен;
но это лишь один из видов культурного символизма. Символи-
ческие порядки теологии, философии, поэзии, музыки гораздо
более ясны и артикулированы, нежели мифологические постро-
ения. Символизм, с моей точки зрения, всегда бывает разным
в плане осознанности, лингвистической артикулированности, со-
знания наиболее характерных его представителей. В любой раз-
витой традиции сосуществуют как ясные, так и крайне туманные
символические порядки (как, к примеру, каббалистика в позднем
Средневековье и раннем Новом времени).
Ларошфуко с присущим ему скептицизмом отмечает, что
многие символы обычно пусты, хотя и освящены всеобщим
признанием. По его мнению, таково большинство психологине-
198
Глава 2. Символическая реальность
ских и моральных понятий1. Будучи понятными на уровне ин-
дивидуального опыта, они приобретают чисто метафорические
имена в коллективном сознании, а потому сами по себе мало что
значат. На самом деле, многие символы, которые фигурируют
в традиции и рассматриваются как чистые сущности, достаточ-
но сомнительны в отношении того, что они значат для опыта;
поэтому скептики выполняют великую миссию деконструкции
избыточного или отжившего символизма, решаясь говорить
о том, что назрело, или о том, что обсуждать обычно не при-
нято. К примеру, Вольтер пишет: «Канцлер Бэкон... пренебрег
в добрый час всем тем, что в университетах именуется филосо-
фией, и сделал все зависящее от него, чтобы эти общества, уч-
режденные ради усовершенствования человеческого разума,
перестали сбивать его с толку своими чтойностями, боязнью пу-
стоты, субстанциальными формами и всеми этими претенциоз-
ными словечками»2. Вольтер приводит научные и философские
термины: в мире строгих доказательств куда проще установить
нужность и ненужность понятий. В области искусства, мифо-
логии и религии дело, на мой взгляд, обстоит сложнее ввиду
гораздо менее артикулированной структуры языков этих сим-
волических порядков и более значительной роли воображения.
Действительно, и в мире литературы присутствует достаточно
жесткий естественный отбор, когда даже от классиков остаются
лишь единичные произведения и некоторые темы. Но затрудни-
тельно доказать, что образ Лермонтова или мысль героя Досто-
евского базируются на пустой «чтойности», поскольку символы
литературы изначально связаны с опытом, действительностью.
Таким образом, в рамках каждой традиции существуют разные
подходы к ее обновлению: кто-то рассматривает ее как механи-
ческий набор идеологически принятых символов, а кто-то, на-
против, усматривает в ней сложный и во многом непостижимый
мир, где трудно прогнозировать, что сохранится завтра, а что
окажется отжившим. На мой взгляд, нет никакого закона и пра-
вила, которое позволяет однозначно доказать, что этот символ
1 «Любовь прикрывает своим именем самые разнообразные человеческие
отношения, будто бы связанные с нею, хотя на самом деле она участвует
в них не более, чем дож в событиях, происходящих в Венеции» (Ларошфу-
ко Ф. де. Мемуары. Максимы. М„ 1993. С. 156).
2 Вольтер. Философские сочинения. М„ 1988. С. 106.
2.3. Чистый символ
199
переживет века, а тот, наоборот, канет в Лету. История знает
массу случаев, когда в традиции закреплялись формы массового
сознания и легковесные тексты, а подлинно глубокие прозрения
были уделом немногих и всячески третировались.
Поскольку символ многозначен, то его «простота» иная,
нежели простота концепта: это ясность непосредственного схва-
тывания при неполноте смысла. Тем самым, на мой взгляд, сим-
вол «ясен» для непосредственного эйдетического опыта (ив этом
смысле эйдетически прост). Но, будучи образно и лингвистически
выраженным, он неизбежно теряет эту ясность, поскольку тут
мы покидаем сферу опыта и переходим от возвышенности пере-
живания к возвышенности символа. Делёз отмечает: «Символ —
это водоворот, он затягивает нас своими кругами, доводя до того
интенсивного состояния, в котором вдруг возникает разгадка,
решение... Ведь символ — это мысль потоков, в противополож-
ность рассудочному и линейному процессу аллегорической мыс-
ли»1. В этом смысле символ не только выступает самодовлеющей
сущностью, но также находится в конце «воронки» эйдетиче-
ского опыта, которая «вращается» в своей непосредственности
до тех пор, пока опыт не получает символическое выражение.
При этом — что я хотел бы особо отметить — символ выражает
не только индивидуальный опыт личности, но и коллективный
опыт традиции2. Символическое измерение (по крайней мере,
в большинстве случаев) носит надличностный характер; а если
генезис символа связан с ярким основоположником, то такая
личность обязательно возвышается до абстрактного вырази-
теля «духа» всей традиции. По этому поводу Бодрийяр пишет:
«Символическое — это не понятие, не инстанция, не категория
и не “структура”, но акт обмена и социальное отношение, кла-
дущее конец реальному, разрешающее в себе реальное, а заодно
1 Делёз Ж. Критика и клиника. СПб., 2002. С. 37.
2 Здесь я понимаю под традицией почти то же самое, что Фуко от-
носит к эпистеме: «Во всяком случае, очевидно, что собственная суть
гуманитарных наук заключается не в человеке как привилегирован-
ном, по-особому сложном объекте. Создает их и отводит им особую
область вовсе не человек, а общая диспозиция эпистемы, именно она
находит им место, призывает и утверждает их, допуская тем самым
постановку человека в качестве объекта» (Фуко М. Слова и вещи. М.,
1977. С. 462).
200
Глава 2. Символическая реальность
и оппозицию реального и воображаемого»1. Я бы добавил, что
социальные символические механизмы традиции — это доволь-
но мощный фильтр, который не дает человечеству погрязнуть
в индивидуалистическом символизме: ведь в рамках эйдетиче-
ского опыта человек не является только индивидуальным логи-
ческим субъектом, а включается в символические дистрибуции
своей традиции, находит себя в отношении к ней. Конечно, ни-
кто не отменяет значимость авторства и возможности револю-
ционной неудовлетворенности наличными символами — однако
это скорее аномальные, нежели нормальные признаки симво-
лизма. В нормальных ситуациях символические порядки довольно
инертны, а символический консерватизм приветствуется в боль-
шинстве случаев. Трансформации в трактовке эйдоса обычно
происходят крайне медленно, а на жизни отдельно взятого поко-
ления — почти незаметно. Даже величайшие реформаторы при-
спосабливаются к уже сложившейся традиции и условиям на-
личного эйдетического опыта. Традиционный символический
порядок всегда весом, и его фетишизм настолько мощен, что
символические новации неизбежно сопровождаются встречной
реакцией, «отбрасыванием» к прежним традиционным убе-
ждениям. Символические порядки образуют эпистемические
структуры традиции, в рамках которых всегда присутствует как
экспансия иных (в том числе и ушедших в прошлое) традиций,
так и осторожность в допущении трансформаций. И хотя суть
этих метаморфоз определяется запросами эйдетического опыта,
нельзя сбрасывать со счетов того, что символические порядки
обладают собственным своеобразием и присущими только им
закономерностями. В любой традиции складывается сложно
сбалансированная система, в центре которой располагаются ба-
зисные эйдосы, представленные как символы. Эйдетический же
опыт выступает как источником, условием, так и ареной функ-
ционирования символов.
Хотя представители классического эмпиризма не разде-
ляют чувственный (ощущение) и возвышенный виды опыта,
нельзя пройти мимо их скептицизма относительно любых форм
отвлеченного символизма. Так, Локк пишет: «Наши сложные
идеи субстанций, будучи созданы все в отношении к существу-
1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006. С. 243.
2.3. Чистый символ
201
ющим вне нас вещам... реальны лишь постольку, поскольку они
являются такими сочетаниями простых идей, которые реально
соединены и существуют совместно в вещах вне нас. Наоборот,
фантастическими будут те, которые образованы из таких со-
вокупностей простых идей, что никогда не бывали соединены
в действительности»1. Можно предположить, что любой симво-
лизм без опытной основы оказывается чем-то абстрактным и не
может быть полностью понят. В пространстве художественного
опыта фантастический Страшный суд есть тем не менее реаль-
ность — но не вещественная, а эйдетическая, взятая как символ.
, Тем самым эйдетический опыт продуктивен и порождает особую
« символическую реальность. Однако возвышенный опыт не мо-
жет быть свободным от возможности воспроизведения, экзем-
плификации и коммуникации с другими родственными актами.
Не существует символа без экземплификации, но она отсылает
не к вещам, акэйдосам. Как отмечает Ч. Пирс, «чистые — в стро-
гом смысле — символы могут обозначать лишь уже знакомые
вещи, причем только в той мере, в какой они нам знакомы»2.
Например, поэтический пейзаж представляет собой вер-
бальную, образную и метафорическую эйдетическую видимость.
По этой причине он ни в коем случае не может быть интерпре-
тирован как описание физической действительности; поэти-
ческий пейзаж есть действительность эйдетическая. «Опоэти-
зированная» реальность не подчиняется эпистемологическим
критериям для обычного чувственного опыта, и в этом смыс-
ле она во многом «аномальна» по отношению к этому опыту.
К примеру, Александр Блок верно отмечает, что поэтический
образ Петербурга должен передавать ауру, настроение, оттенки
переживаний, а не быть составленным из названий улиц, описа-
ний городской жизни и т. п. В пушкинском образе Петербурга
присутствует законченная в себе возвышенность; причем при
создании этого образа реальные физические черты города лишь
мимоходом упоминаются, а на первый план выступает целост-
ность переживания, воплощенная в поэтической форме. И эта
поэтическая форма объединяет связный ряд неких свойствен-
ных только Петербургу эйдетических особенностей — таких,
1 Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 427.
2 Пирс Ч. С. Начала прагматизма. СПб., 2000. С. 243.
202
Глава 2. Символическая реальность
как буйные потехи Петра Великого, белая ночь, отражение ка-
менных громад в зеркале реки и т. д. На мой взгляд, символизм
всегда опрокидывает те ограничения, которые накладывают
на него чувственность и здравый смысл; причем самая откро-
венная фантастика (как у Гофмана, Гоголя, По, Достоевского,
Булгакова) может продуцировать эйдетическую реальность.
Однако я все-таки склонен допускать и то, что символизм дол-
жен стремиться к реалистичности, насколько это возможно. Юм
рекомендует: «Мы можем в представлении присоединить голо-
ву человека к туловищу лошади, но не в нашей власти верить,
что такое животное когда-либо действительно существовало.
Отсюда следует, что различие между вымыслом и верой заклю-
чается в некотором чувстве, или переживании»1. И в самом деле,
покидая почву эйдетического опыта, теряя связь с традицией,
языком, определенной школой, символизм оказывается чем-то
«фантастическим» в дурном смысле, неизбежно погрязая в из-
мышленных мирах. Конечно, во многих традициях возникает
мода на фрагменты откровенно отжившего символизма, на-
подобие того, как людей нашего века до сих пор влекут к себе
астрологические выкладки. Но таких «экзотических» символи-
ческих практик не может быть много, и они воспринимаются
как культурные реликты, курьезы, а не как нечто серьезное.
На мой взгляд, начиная с исторической эпистемологии
Коллингвуда, наблюдается переход философии от теории чув-
ственного опыта к теории возвышенного опыта, который по-
степенно начинает рассматриваться как единственный леги-
тимный опыт в пространстве истории и искусства. Коллингвуд
пишет о символическом порядке мифологии: «Миф, рассказы-
вая о событиях как следующих одно за другим в определенном
порядке, облекается в некоторую на первый взгляд временную
форму. Но эта форма является, строго говоря, не временной,
а квазивременной: рассказчик пользуется здесь языком времен-
ной последовательности как метафорой для выражения отно-
шений, которые не мыслятся им как временные в подлинном
смысле слова»2. Символическое пространство и время подчи-
няется целому ряду внешних факторов (таких, как, например,
1 Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 41.
2 Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 17.
2.3. Чистый символ 203
идеология, позиция духовной и светской власти, мода и т. п.),
но определяющим фактором выступает стремление оформить
представление об эйдосе. К примеру, в рамках символического
пространства вполне возможно, что, минуя целые века, опре-
деленные символы прошлого заимствуются и творчески пере-
рабатываются в новые формы (как было в эпоху Ренессанса).
Если говорить о логичности и закономерности символических
трансформаций, то на первое место здесь выходит диалог между
символическими порядками, отношения коммуникации и ин-
терпретации, при которых более ранний символ нельзя в пол-
ном смысле этого слова считать «основанием» или «причиной»
' предыдущего. Ведь даже откровенно заимствованные символы
(как, к примеру, формы античного искусства в эпохи Возрожде-
ния и новоевропейского классицизма) все равно обладают су-
щественной автономией, поскольку возникают в рамках иного
эйдетического опыта и выражают совершенно иную традицию.
Символические трансформации отличаются нелинейным ха-
рактером: бурные преобразования, «кипение» творческой энер-
гии, «золотые периоды» культуры могут смениться вековыми
застоями; причем все это возможно в рамках одного и того же
символического порядка.
На мой взгляд, кажущаяся чистота символа — иллюзия,
возникающая от неанализируемости символов, вызванная тем,
что, в отличие от концепта, символы самодостаточны и демон-
стрируются, а не определяются. Не существует ни простоты
символа, ни универсальной логики, по которой образуются
и определяются символы. Дж. Мур отмечает, что предельные
символические понятия вообще индивидуальны и автономны,
выступая метафизическими символами. Причем значение этих
символов оказывается тавтологическим: «Понятие “добро” не-
определимо, ибо оно — простое понятие, не имеющее частей
и принадлежащее к тем бесчисленным объектам мышления,
которые сами не поддаются дефиниции, потому что являют-
ся неразложимыми крайними терминами, ссылка на которые
и лежит в основе дефиниции»1. С моей точки зрения, «добро»
тут выступает не концептом, а символом. Классические эти-
ческие определения добра, сформулированные в гедонизме,
1 Мур Дж. Э. Природа моральной философии. М„ 1999. С. 46.
204
Глава 2. Символическая реальность
эвдемонизме, утилитаризме, и критикуемые Муром, вполне
легитимны в метафизическом плане, поскольку они строги, не-
противоречивы и позволяют выстроить всеобщую моральную
антропологию. Если обратиться к символическому пониманию
добра (например, к античному идеалу благородного мужа), то
оно может пониматься только в эйдетическом смысле, будучи
неотделимым от образа совершенного человека и практики мо-
ральных поступков. Следовательно, значения эйдосов не могут
быть определены по аналогии с метафизическими понятиями.
На эту трудность впервые натолкнулся Юм, когда доказал, что
моральные понятия крайне затруднительно свести к дефиници-
ям, учитывая практический, символический и традиционный
характер таких понятий. Символическое значение, как можно
предположить, обладает лишь формой мысли, но само по себе
к ней не относится и, следовательно, не может быть установлено
в логическом смысле.
Если говорить о логике, то только в ней и возможен чи-
стый символизм — но это искусственный, математизированный
тип символизма, который полностью помещен в сферу рассуд-
ка и не затрагивает опыта. Такой рафинированный символизм
и следует назвать «точным». Как пишет Витгенштейн, «и для
такого определения существенно лишь то, что оно есть просто
описание символов и ничего не высказывает об обозначаемом»1.
И в самом деле, если определение в рамках идеального языка
покидает почву простого соответствия (или описания факта),
то оно неизбежно попадает в сферу эйдетического опыта, при-
обретая свойства и качества того символизма, о котором я веду
речь и который можно считать «естественным» (поскольку он
базируется на эйдетическом опыте). Рассел совершенно верно
предполагает, что перемещение любого высказывания в сферу
«убеждений» приводит к тому, что принцип эмпиризма размы-
вается, и на первый план выходит уже не чувственный опыт,
а те или иные культурные практики. Что касается более поздней
‘Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 3.317 // Витгенштейн
Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 14. Рассел пишет о логическом
символе так: «Едва ли необходимо говорить, что определение дается не
предмету, а символу... Простой символ совершенно отличен от просто-
го предмета» (Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999.
С. 19).
2.3. Чистый символ
205
философии языка, то в ней уже не принято отделять метафизи-
ческий символизм от лингвистического; поэтому чистота сим-
волизма в логике трактуется как нечто изначально искусствен-
ное, а во многом и недостижимое. «Ничто вообще не является
символом в изоляции от практик, которые наделяют его воз-
можностями употребления в человеческой деятельности... От-
рыв языка от этого фона действий и событий вообще устраняет
оправдание говорить о символах»', — пишут Бейкер и Хакер. Та-
ким образом, аналитическая теория символизма, разрабатывае-
мая в этой книге, берет свое начало в лингвистической филосо-
фии, признавшей неэлиминируемость символической функции
понятий, а также их неотделимость от опыта и языка.
Обращаясь к эпистемологическим основаниям аналитической
философии, нельзя не отметить, что они в настоящий момент не
могут быть обоснованы в отрыве от символической точки зрения.
Как пишет крупнейший теоретик внутреннего реализма X. Патнэм,
«никакая концептуальная схема не является простой “копией” мира.
Само понятие истины зависит по содержанию от наших стандартов
рациональной приемлемости»1 2. С точки зрения символического
реализма такая «приемлемость» оказывается настолько ценност-
но окрашенной, что никакая всеобщая Рациональность с большой
буквы становится невозможной. Любой символ описывает не вещь,
а эйдос, но в этом и состоит его уникальность, поскольку эйдетиче-
ская реальность может быть описана только символически. В этом
смысле символ есть не абстрактная сущность, а определенная цен-
ность, определяющая жизненно важные ориентиры для человека
и целой традиции. Символический смысл эпистемологически неот-
делим от того возвышенного опыта, который вкладывается в значе-
ние символа. И если этот опыт приходит в упадок или приобретает
другие формы, то никакие логические определения, никакие де-
креты власти или ссылки на идеологические авторитеты не смогут
уберечь символ от существенной трансформации, а то и угасания.
В отличие от фактов и концептов, символы в своем генезисе и суще-
ствовании более «витальны»: они «порождены» и «смертны». Но
за эту бренность символы вознаграждаются тем, что именно они
1 Бейкер Г. П„ Хакер П. М. С. Скептицизм, правила и язык. М., 2008.
С. 200.
2 Патнэм X. Разум, истина и история. М., 2002. С. 279.
206
Глава 2. Символическая реальность
определяют суть традиции и того стандарта человечности, кото-
рый в ней существует. Символы обладают подлинной властью над
людьми, порой требуя жертвенного служения, оказываясь пово-
дом для нешуточных страстей и пролития крови. И. Берлин пишет
о Герцене: «Он писал, что в его время возникла новая форма чело-
веческих жертвоприношений — живые человеческие существа при-
носятся на алтари абстракций — таких, как нация, класс, прогресс,
движущие силы истории»1.
Символические структуры обладают значительной свободой
в определении эйдосов, отчего символы изначально определимы
различными способами. Это особенно заметно в сфере искусства,
где индивидуальность автора накладывает на все отпечаток уни-
кальности символического языка. Как пишет М. Оукшотт, «в моем
понимании поэт вообще не говорит о “вещах”... Он говорит не:
“Таковы были эти люди, вещи или события...” а: “Я создал эти об-
разы в своем воображении, я прочел их так, как это подобало им,
и я нахожу в них только наслаждение”»2. Конечно, как я уже не раз
отмечал, подобные вольности возможны лишь в художественных
языках — и то до определенной степени. Тем не менее я согласен
с тем, что символическая свобода — это во многом залог свободы
человека и общества в целом. Мне представляется, что символиче-
ский поиск никогда не может прекратиться', ведь это основа стрем-
ления нашего опыта к новым путям и горизонтам. Далеко не всегда
нужно что-либо искать: ведь есть традиция, установления кото-
рой часто кажутся нам истинными. Однако нельзя не согласиться
с Дж. Фаулзом: «Жизнь... все же не символ, не одна-единственная
загадка и не одна-единственная попытка ее разгадать, что она не
должна воплощаться в одном конкретном человеческом лице... что
жить нужно — из последних сил, с опустошенной душой... И снова
выходить — в слепой, соленый, темный океан»3. Таким образом,
символы — это, во-первых, плюралистические структуры (то есть
возможны альтернативные символы или толкования данного сим-
вола), во-вторых, это интерпретационные структуры, которые об-
ладают индивидуальностью, уникальным способом отображения
эйдоса и возвышенного опыта.
1 Берлин И. Подлинная цель познания. М., 2002. С. 20.
2 Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 271.
3 Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта. М., 2000. С. 456.
2.3.-Чистый символ
207
Теория возвышенного опыта сформировалась под влиянием
философских рассуждений об истории, а теория символизма так
или иначе строится вокруг интерпретации символов былых вели-
ких эпох. Ф. Анкерсмит, выводя эпистемологию исторического
исследования, пишет: «Возвышенный опыт — единоличный пра-
витель на своей территории, он больше не подзаконен эпистемо-
логической истине... Поэтому бессмысленно задаваться вопросом
об “истине (возвышенного) опыта”»1. Предложенная в этой книге
теория символизма имеет много общего с теорией Анкерсмита; но
я вывожу эпистемологию возвышенного опыта вообще, а не только
эпистемологию опыта в истории. Также я полагаю, что Анкерсмит
судит о возвышенном опыте «по контрасту» с логикой и тем самым
существенно зависим от полемики с эпистемологическими форма-
листами. Я же свободен от такой полемики (во многом благодаря
использованию опыта самого Анкерсмита) и полагаю, что крите-
рии истинности для символов существуют, просто еще недостаточ-
но разработаны философией2. Я пришел к выводу, что истинность
символа — это форма правдивости и непосредственной убедитель-
ности, связанная с полнотой интерпретации соответствующего
эйдоса, а также обретающая свое подтверждение в эйдетическом
опыте, характерном для определенной традиции.
В заключение главы я хотел бы обратиться к некоторым
примерам из области искусства, а не философии: где, как не
в этой сфере, мы стремимся обрести самые чистые и возвышен-
ные символы? К тому же, после того как Дюшан ввел в художе-
ственный оборот «готовые» предметы, сам вопрос об объекте
искусства как творении символических смыслов оказывается
открытым3. На мой взгляд, любая форма классического искус-
1 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 323.
2 Анкерсмит — сторонник полного выведения принципа бивалентности за
пределы теории возвышенного опыта. Он пишет: «Опыт возвышенно-
го живет в мире, не похожем на тот, где обитают истинность и ложность,
что я хотел бы специально подчеркнуть» (Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный
исторический опыт. М., 2007. С. 321).
3 «Дюшан первым осознал, что любой “готовый” предмет можно предста-
вить публике как “произведение искусства”... Наибольшую известность из
его произведений “искусства готовых материалов” получили “Сушилка для
винных бутылок”» (1914) и “Фаянсовый писсуар” (1917)» (Аппиньянези
Р. Знакомьтесь: постмодернизм. СПб., 2004. С. 35).
208
Глава 2. Символическая реальность
ства неизбежно носит возвышенный, эйдетический характер
и выводит слово, изображение, звук именно как символы. При-
ведем полностью уже цитированный сонет Бодлера:
Природа — некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами;
Как в чаще символов мы бродим в этом храме.
И взглядом родственным глядит на смертных он.
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.
Есть запах чистоты, он зелен, точно сад,
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен;
Другие — царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен, —
Там мускус и бензой, там нард и фимиам,
Восторг ума и чувств дают изведать нам.
Возвышенность художественного опыта есть эстетическая
возвышенность, которая может и не сочетаться с принятыми в об-
ществе моральными, религиозными и политическими идеалами.
Однако любой поэтический символ — будь это даже нечто низмен-
ное или безобразное (зло, роскошь, порок, кровопролитие) — всег-
да доводится до художественно выраженной эйдетической опреде-
ленности, обращенной к особому эстетическому чувству. Поэтому,
при кажущемся смешении, при кажущейся пестроте и всеядности,
при кажущемся смешении добра и зла, веры и безверия, прекрас-
ного и безобразного, художественные символы выстраиваются по
одним и тем же принципам, подчиняясь запросам эйдетического
опыта. В конце концов, художественный символизм, при всей сво-
ей возвышенности, обращен пусть и к просвещенному, но все же
массовому реципиенту. В случае же рафинированной и нарочито
эстетской возвышенности возникает явление, подмеченное шек-
спировским Ромео:
Да, в этом нерасчетлива была:
Ведь красота от чистоты увянет
И жить в потомстве красотой не станет.
О, слишком уж прекрасна и умна,
Умно-прекрасна чересчур она!1
1 Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.
2.3. Чистый символ
209
Можно предположить, что художественный символ должен
обладать определенной реалистичностью, чтобы быть понятым.
Даже лирические символы, при всей их интимной окрашен-
ности, обращены к сложному внутреннему миру переживаний
читателя и там находят свою реальность, выступая тончайши-
ми сущностями мира чувств. И хотя любое великое искусство
пребывает на высотах гения, на уровне шедевров, оно не может
жить лишь «неземной красотой», когда степень возвышенного
становится несовместимой массовым опытом человека данной
эпохи. Другое дело, что в таком случае произведение часто мо-
жет ждать ценителей в далеком будущем. Но тут все же нельзя
судить с абсолютной категоричностью. Вполне возможно, что
салонное и стремящееся лишь к изяществу искусство окажется
для потомков формой выражения менталитета, позволяющей
судить о целой эпохе (как это случилось, например, с рококо).
Вполне возможно, что признанный великий шедевр на опреде-
ленном этапе своего существования перестанет вызывать живые
для опыта ассоциации.
Для русского поэтического символизма также характерно
стремление создать отвлеченный символический мир, оторвать
этот мир от всего «земного», прославить художника как деми-
урга, творца, полубога. К примеру, Бальмонт в своем программ-
ном стихотворении пишет:
Будем как Солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому,
Будем лишь помнить, что вечно к иному,
К новому, к сильному, к доброму, к злому,
Ярко стремимся мы в сне золотом.
Будем молиться всегда неземному,
В нашем хотеньи земном!
Будем, как Солнце всегда молодое,
Нежно ласкать огневые цветы,
Воздух прозрачный и все золотое.
Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое,
Будь воплощеньем внезапной мечты!
Только не медлить в недвижном покое,
Дальше, еще, до заветной черты,
Дальше, нас манит число роковое
В Вечность, где новые вспыхнут цветы.
Будем как Солнце, оно — молодое.
В этом завет красоты!
210
Глава 2. Символическая реальность
Как уже установлено выше, характерной особенно-
стью художественного символизма является его «безответ-
ственность» в плане верификационных критериев, а порой
и жизненной, психологической и исторической правдивости.
В этом смысле художественные пространства великих авто-
ров вполне могут рассматриваться как «символические уни-
версумы», в рамках которых возникает не только собствен-
ный язык, но также и уникальный символический мир1. При
этом далеко не все сотворенное поэтом станет достоянием
культуры. Даже в наследии великого классика отнюдь не все
оказывается равноценным и значимым за пределами такого
свода, как «полное собрание сочинений». Даже такие тита-
нические гении, как Леонардо да Винчи, Шекспир, Пушкин,
изученные до черновиков и набросков, не создают монолит-
ные символические миры. Поэтому возвышенность художе-
ственного символа ничего напрямую не говорит ни о его ме-
сте в традиции, ни о его чистоте, и тем более о его влиянии на
современников и потомков. Художественный символизм, как
самый либеральный символический порядок, представляет-
ся довольно стихийным, но и тут действуют существенные
эпистемологические ограничения, с которыми следует счи-
таться. Художественный символизм должен по меньшей мере
быть выражен понятным образом и укладываться в опреде-
ленную традицию — в противном случае он либо останется
без внимания, либо превратится в диковинный курьез.
Пагубность отвлеченного символизма даже для поэтиче-
ского искусства хорошо демонстрирует раннее стихотворение
Блока:
1 Это свойственно не только русскому художественному сознанию эпохи
символизма. К примеру, У. Йейтс пишет: «Я могу теперь считать символы
не менее чем величайшей из всех сил, пользуются ли ими сознательно ма-
гистры магических наук или полубессознательно их наследники — поэт,
музыкант и художник. Сперва я пытался различать символы от символов,
то, что я называл символами по сути от символов по произволу. Но оказа-
лось, что это различение значит мало или вовсе ничего. Производят ли они
свою силу сами из себя, или у нее есть произвольная причина, не слишком
существенно, ибо они действуют, я так думаю, потому что Великая Па-
мять увязывает их с определенными событиями, настроениями и людьми»
(Йейтс У. Б. Видение. М., 2000. С. 96).
2.3. Чистый символ
211
Аграфа догмата
Я видел мрак дневной и свет ночной.
Я видел ужас вечного сомненья.
И господа с растерзанной душой
В дыму безверья и смятенья.
То был рассвет великого рожденья,
Когда миров нечисленный хаос
Исчезнул в бесконечности мученья, —
И всё таинственно роптало и неслось.
Тяжелый огнь окутал мирозданье,
И гром остановил стремящие созданья.
Немая грань внедрилась до конца.
Из мрака вышел разум мудреца,
И в горной высоте — без страха и усилья
Мерцающих идей ему взыграли крылья.
Это стихотворение философично, перегружено возвы-
шенной мистикой и должно порождать ощущение пребывания
в средоточии мироздания. Вместо этого мы видим стремление
создать «концепцию», изложить стихами космогонию. При
этом Блок к этому времени уже сформировался как лирический
поэт, создал возвышенный образ Прекрасной Дамы, продемон-
стрировав необыкновенную психологическую глубину в пони-
мании тончайших оттенков романтической любви. Впрочем,
любой крупный художник время от времени оказывается рабом
наличной традиции (в этом случае — так называемого соловьев-
ства). Однако впоследствии символизм Блока становится совер-
шенно самостоятельным и обретает полноту гармонии между
чувством, опытом и словом. Создавая самые фантастические
символические образы, причудливо пренебрегая фактической
и исторической правдивостью, Блок достигает тождества по-
этической метафоры и экзистенциального переживания. Это
приводит его к осознанию необходимости «реализма», к «обра-
щению к миру», но тут речь идет исключительно о лирическом
обращении. В одной из своих заметок Блок пишет: «Старый
символизм — окончился. Мы переходим в синтетический пери-
од символизма. Желательный символизм: символ должен стать
динамическим — обратиться ъмиф. Переход от символизации —
к символике. Теургическое искусство — закономерно не во имя
212
Глава 2. Символическая реальность
свое, а во имя святое — строящее мир. Планомерно — a realibus
ad realiora [«от реального — к реальнейшему». — С. И.]. Миф —
синтетическое суждение, где подлежащее — символ, а сказуе-
мое — глагол (или что-то интуитивно новое). Символизм есть
воспоминание поэзии о ее первоначальных целях и задачах...
а именно — практических. Искусство — практическая цель! По-
эзия практична и была первоначально практичной... Должное
будущее символизма — большой стиль, — в противоположность
“маленькому стилю” символизма»1. Как уже установлено в этой
главе, символ, беря начало в непосредственности эйдетического
опыта, затем функционирует как языковой образ эйдоса. Поэ-
тический миф символизма неотделим от сложной диалектики
воспоминания, надежды и суровой трезвости настоящего. Блок
пребывает в состоянии мучительной раздвоенности между воз-
вышенным символическим порядком и противоречащим ему
скептическим разочарованием. В связи с этим современный
символизм, берущий начало, в том числе, и в творчестве Бло-
ка, неотделим от ностальгического исторического отношения,
равно как и травматического синдрома утраты простоты эй-
детического опыта, его четкого места в традиции, социальной
значимости2. Но вместе с тем такой символизм демонстрирует
бесплодность надежд на обретение чистых символов — ведь их
просто нет. Если мы отринем иллюзию возможности обретения
чистого символа, возвышенность нашего опыта ничуть не по-
страдает от расставания с этим вековечным фантомом.
1 Блок А. Записные книжки. М.; Л., 1965. С. 168-169.
2 «Символ — “некая изначальная форма и категория", “искони заложен-
ная народом в душу его певцов”. Символ “неадекватен внешнему слову”.
Он “многолик, многозначен и всегда темен в последней глубине”. “Символ
имеет душу и внутреннее развитие, он живет и перерождается". Путь сим-
волов — путь по забытым следам, на котором вспоминается “юность мира”
(Платон). Поэт, идущий по пути символизма, есть бессознательный орган
народного воспоминания [здесь: все положения, взятые в кавычки, — вы-
писанные Блоком цитаты Вяч. Иванова. — С. Н.]» (Блок А. Собрание сочи-
нений: в 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 10).
Глава 3
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
ЭЙДЕТИЧЕСКОГО
ОПЫТА
3.1. Лингвистический и образный типы
символизма
В предыдущих двух главах установлено, что символизм во-
площается в лингвистической и образной формах, взаимно свя-
занных между собой. В настоящем разделе следует остановиться
на этом более подробно и попытаться доказать, что символиче-
ский образ, в отличие, к примеру, от визуального (или любого
другого чувственного образа), может пониматься только эйде-
тически, а воспроизводиться лишь через особый язык, в центре
которого находится идея метафоры.
Первая дошедшая до нас в оригинальном изложении теория
языка принадлежит Платону, который полностью подчиняет язык
концептуализму. Уделяя языку лишь служебную роль в выражении
идей, Платон пишет: «В таком случае и давать имена нужно так, как
в соответствии с природой следует давать и получать имена, и с по-
мощью того, что для этого природою предназначено, а не так, как
нам заблагорассудится»1. Имя обозначает сущность вещи, причем
для каждой вещи существует только одно подлинное имя: Платон
учит в «Кратиле» о существовании единственного подлинного язы-
ка, имена которого служат наименованиями эйдосов2. Тем не ме-
нее платоновский категориальный аппарат никогда не был четким
'Платон. Кратил. 387d.
2 В языке «Кратила» даже буквы, из которых составлено слово, подобра-
ны не случайно. «Ну, раз так кажется нам обоим, давай теперь рассмотрим
вот что: если, скажем, имя установлено хорошо, то оно должно содержать
подобающие буквы?» (Платон. Кратил. 387d).
216
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
и однозначным; мыслитель во множестве случаев прибегает к опре-
делениям через образы, синонимы, аналогии, придумывает мифы,
притчи, аллегории. Диоген Лаэртский пишет: «Часто и наоборот,
он [Платон. — С. И.] пользуется разными словами или обозначе-
ниями одного и того же — например, “идею” он называет и “образ”,
и “род”, и “образец”, и “начало”, и “причина”»1. Нам также извест-
но, что Платон был известным поэтом, вообще прекрасно владея
художественным словом. Но весьма вероятно, что такие качества
отличают раннего и среднего Платона: в «Государстве» он выступа-
ет убежденным сторонником концептуализма и противником боль-
шинства существующих в то время искусств.
Платон, как известно, осуждает большую часть поэзии
и допускает в своем государстве лишь гимны, прославляющие
богов и достойных людей. Театр, как он полагает, служит порче
нравов, отвлекает человека от гражданских обязанностей, вос-
питывает праздность и распущенность. Платон также негативно
относится и к риторике, рассматривая ее как одну из ложных
наук. Ориентируясь на Спарту, Платон восхищается краткостью
и четкостью речей спартиатов: «Таков был у древних способ
философствовать: лаконское немногословие»2. Впоследствии
идеал краткого и четкого изъяснения Зенон распространяет
уже на образ философа: «Кто-то сказал, что речи философов,
на его взгляд, слишком коротки. “Ты прав, — ответил Зенон, —
у них даже слова были бы короче, будь это возможно”»3. Тем
самым, не вдаваясь в детальные дискуссии, можно заключить,
что в платонизме слово полностью подчинено идее; идеалом же
выступают терминологическая четкость и ясность. В платони-
ческой традиции (по крайней мере, до возникновения христи-
анской теологии) отсутствуют рассуждения о языке как чем-то,
имеющем собственную специфику. Лингвистические и эсте-
тические формы подчинены концептуальным, а в рамках нео-
платонизма — и теологическим построениям4. Прославление
1 Диоген Лаэртский. III, 64.
2 Платон. Протагор. 343b.
3 Диоген Лаэртский. VII, 20.
4 «Так вот, узнать, каким образом следует изучать и исследовать вещи,
это, вероятно, выше моих и твоих сил. Но хорошо согласиться и в том, что
не из имен нужно изучать и следовать вещи, но гораздо скорее из них са-
мих» (Платон. Кратил. 439b).
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
217
лаконской краткости — это выражение метафизического идеала
максимальной емкости и простоты дефиниции. Античный сим-
вол — это сущность, которая заключена в совершенном имени,
обозначающем идею. Часто утверждают, что Платон определяет
идеи в «символической форме»1. Хотя он и прибегает к симво-
лическим приемам, я бы не согласился с таким утверждением.
Действительно, у Платона имена не обозначают идеи как тер-
мины; но неверно предполагать, что его идеи — нечто боль-
шее, нежели рода и виды сущего: сам Платон не раз отмечает,
что они носят исключительно умопостигаемый характер. Тем
самым, несмотря на отдельные замечания об образах и языке,
Платон выступает противником символизма и не признает на-
личия эйдетического опыта. Мир его эйдосов статичен, он игра-
ет служебную роль «помощников» идей в некоторых формах их
выражения, особенно в искусстве.
Представляется закономерным, что Платон «изгоняет»
художников и артистов из идеального государства, покуша-
ясь даже на абсолютный авторитет Гомера. На это есть много
объяснений; меня же интересует здесь только то, что Платон
усматривает несовместимость оснований концептуализма
и символизма, принося последний в жертву последовательности
и цельности своей системы. Аристотель, который гораздо боль-
ше внимания уделяет реализму, начинает судить о языке совер-
шенно иначе, нежели его учитель. И если в рамках метафизи-
ки он продолжает дело Платона, только усиливая требования
терминологической строгости, чистоты идеи и однозначности
определений, то в рамках практических наук он, напротив, пе-
реходит на позиции лингвистической образности и символиче-
ских форм выражения. В этой части своего учения Аристотель
наделяет слово метафорическим, а образ — эйдетическим смыс-
лами; поэтому, на мой взгляд, философский символизм берет
начало с «Никомаховой этики», «Поэтики», «Риторики» и дру-
гих сочинений Стагирита.
Если в мире формальных определений господствует необ-
ходимость и логика, то сам язык, по мнению Аристотеля, возни-
кает как конвенциональная система общения, а слова — как вер-
бальные знаки, не существующие до человека и вне человека;
1К примеру, А. Ф. Лосев.
218
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
«Имена имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет
никакого имени. А возникает имя, когда становится знаком, ибо
членораздельные звуки хотя и выражают что-то, как, например,
у животных, но ни один из этих звуков не есть имя»1. Можно
предположить, что генезис имен (особенно слов поэтического
языка) оказывается существенно иным, нежели происхождение
терминов, а риторические определения и фигуры существенно
отличаются от терминологических законов. В этике и рассужде-
ниях об искусствах, по Аристотелю, невозможно обойтись без
«примеров»; но даже при этом положения и выводы не будут
иметь характер строгих дефиниций, а скорее приглашать нас
к диалогу, обмену мнениями. К примеру, добродетель у Ари-
стотеля есть идея; однако, будучи стороной нашей жизни, она
не может быть отвлеченной и наряду с формальным, теорети-
ческим смыслом должна иметь символическое определение, об-
ращенное к практике и выводящее эйдетический образ носителя
такой добродетели. Конечно, следует крайне осторожно припи-
сывать Аристотелю разделение наук на два типа и выделение
практических наук (которое оформилось лишь в Новое время).
Однако следует допустить существенную разницу в методах ре-
шения теоретических вопросов в этих двух сферах и различие
идеалов, стоящих перед такими науками, как, например, логика,
с одной стороны, и поэтика — с другой. Нельзя списывать также
и то, что даже в «практических» науках Аристотель стремится
к предельно возможной строгости и четкости дефиниций и клас-
сификаций. Тем не менее, несмотря на эти оговорки, я склонен
предположить, что в рамках таких наук, как этика, политика,
поэтика и риторика, Аристотель считает допустимым и даже
правильным использовать язык символов и определяет этот язык
через понятие метафоры.
Аристотель определяет метафору следующим образом:
«Удачные выражения получаются из метафоры по аналогии
и из оборотов, изображающих вещь наглядно... Я говорю, что
те выражения представляют вещь наглядно, которые изобража-
ют ее в действии»* 2. Метафора — образное изображение вещей,
то есть она обладает конкретностью, в отличие от абстрактного
'Аристотель. Об истолковании. 16b.
2 Он же. Риторика. 1411b.
3.1. Лингвистический и образныйтипы символизма 219
понятия. Будучи лингвистической формой, метафора отражает
и связь слова с другими словами, а значит, она не может быть
определена сама по себе. Смысл метафоры тем самым — это
символический смысл, поскольку метафора направлена на со-
здание лингвистического образа эйдоса. Художественное слово
способно образно представить эйдос и не является «описани-
ем» в том значении, какое вкладывают в этот термин логика
и эпистемология. Метафора — скорее обращение к фрагменту
эйдетического опыта. Она есть фиксация его в лингвистическом
символе, открытом для разных интерпретаций, и вместе с тем,
схватываемым непосредственно, без разъяснений и доказа-
тельств. Ассоциации метафор, хотя и напоминают совокупности
понятий, обращены к опыту, целостной структуре языка и вы-
строены по принципу образной близости. В рамках большин-
ства развитых традиций состоящий из метафор художествен-
ный язык существенно отличается от прочих языков, порой
выступая альтернативой по отношению к языку теологии или
метафизики. Поскольку поэт и писатель символизируют воз-
вышенный опыт, то они больше заботятся об образной полноте
и законченности, нежели об определении. Как я уже отмечал,
художник скорее показывает, нежели доказывает', просто линг-
вистический символизм (в отличие от изобразительного) тре-
бует «визуализации» через воображение. Поэтический строй
метафор не имеет никакого «скрытого» и «второго» смысла,
спрятанного за буквальным значением, поскольку этот смысл
и есть подлинный, символический смысл. Таким образом, лишь
в наше время в философии языка выстраивается такая эписте-
мология метафоры, согласно которой ее смысл не объектный,
описательный и не иносказательный, переносный. Смысл мета-
форы — это символический смысл, и она функционирует по зако-
нам лингвистического символа.
Лингвистический символизм, который, начиная с позд-
ней Античности, становится суверенным способом изложе-
ния всех без исключения идей, выступает средством нагляд-
ного изображения, образного эйдетического представления,
вследствие чего использует аллегорические образы. Однако
аллегорический язык рассудочен в своих основаниях и сводит
метафору к конечному набору неизменных толкований. Ве-
роятно, древние аллегорические языки также преследовали
220
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
эйдетические цели, но, начиная с позднего Возрождения, ал-
легории вводятся с позиций рассудка и призваны установить
именно рассудочное согласие относительно символизма.
Отличие символа от аллегории в том, что аллегория сводит-
ся к общепринятому в данной традиции толкованию, кото-
рое завершено в себе самом. Тогда как символ, напротив, не
имеет такого толкования, выступая изначально открытой
сущностью. Аллегория предлагает свести сложное к просто-
му и успокоиться, тогда как символ, особенно поэтический,
как правило, «обрастает» многочисленными толкованиями.
Можно также добавить, что аллегория в рамках традиции
обеспечивает усредненный, массовый и потому общепонят-
ный уровень, тогда как символизм имеет тенденцию к эли-
тарности, функционированию лишь в высокоинтеллектуаль-
ном контексте.
Метафора тем самым есть лингвистическая эйдетическая
сущность, взятая в символическом значении. Поскольку чело-
век нуждается не только в концептуальном, но и в символиче-
ском самосознании, метафорический уровень языка оказыва-
ется центральным лингвистическим срезом символизма. Ведь
в символическом смысле человек — это тоже эйдетическая
сущность. Можно сказать, что в символизме человек выступа-
ет метафорой самого себя1. В рамках метафорического образа
самого себя человек, с одной стороны, находится в гармонии
со своим собственным и исторически заимствованным эйде-
тическим опытом, а с другой стороны, воспринимает себя как
бесконечно загадочную сущность. Не случайно в поэтическом,
а затем философском и изобразительном символизме форми-
руется устойчивая тенденция к иррационалистическому пони-
манию собственной сути, культивированию экзальтированной
загадочности субъективного мира, усилению экзистенциаль-
ной потаенности.
Не ставя целью делать далеко идущие историко-фило-
софские обобщения, я считаю тем не менее, что лингвистиче-
ский символизм зарождается в идейном пространстве эллини-
стической философии и литературы, когда философы впервые
1 Новалис прямо пишет: «Человек: Метафора» (Новалис. Гейнрих фон
Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб., 1995. С. 147).
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 221
поднимают проблему символизма, а литература обращается
к лирическим, интимным переживаниям. Эллинистическая тра-
диция возводит символизм к Аристотелю и стоикам. К примеру,
в одном источнике сообщается: «Клеанф говорит, что лучшими
примерами являются поэтические и музыкальные, — ибо фи-
лософское рассуждение хоть и способно в достаточной степени
открыть вещи божественные и человеческие, но совсем не имеет
собственных выразительных средств для описания божествен-
ного величия, мелодии и ритмы лучше всего достигают истины
созерцания божественных вещей»1. Нет никакого сомнения,
что в эллинистической мысли художественный опыт занимает
подчиненное, во многом второстепенное положение, а истины
। философии и религии остаются совершенными и незыблемы-
ми. Однако художественный символизм, на мой взгляд, имен-
но после перипатетиков и стоиков становится, если так можно
выразиться, менее отвлеченным и более «человечным», что
неизбежно вызывает резкое усиление морального и антропо-
логического вектора всех разделов философии. Можно сказать,
что долгие века символизм находится в положении «второй»
системы господствующих идей, отличаясь более литературным
и популярным, но вместе с тем зависимым от философии харак-
тером. Тем не менее, как видно из мнения Клеанфа, символиче-
ский, образный способ передачи идей окончательно становится
легитимным и занимает в рамках традиции место особого, так
1 называемого «художественного» сознания. Постепенно обо-
собляющаяся сфера «искусств» приобретает лингвистическую
специфику, в ней начинают господствовать литературные жан-
ры, такие, например, как книги застольных бесед Плутарха,
Афинея, Авла Геллия или сочинения Вергилия, Горация, Ови-
дия, Лукиана.
Теоретическое изучение символизма в поздней Антично-
сти шло, прежде всего, в пространстве риторики. Так, Цице-
рон окончательно оформляет наглядно-образный строй языка,
считая его наиболее допустимым в таких жанрах, как публич-
ная речь, литературное сочинение и даже этические трактаты.
Важным открытием Цицерона стало учение о символической,
образной языковой структуре, которая существенно отличает-
1 Филодем. О музыке. 28,1.
222
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ся от идеальной, привычной для философии, сущности слова:
«Память на слова менее важна для оратора... Зато память на
предметы — необходимое свойство оратора; и ее-то мы и можем
укрепить с помощью умело расположенных образов, схватывая
мысли по этим образам, а связь мыслей по размещению этих об-
разов»1. Таким образом, пусть и для риторических целей (а этой
сфере Цицерон отводит довольно скромное место в ряду наук),
язык обнажает свою образную структуру. «Образы», как их по-
нимает Цицерон, несомненно, связаны с платоновской теорией
эйдосов: это эйдетические образы, которые непосредственно
явлены для особого возвышенного опыта, который в рамках ис-
кусства приобретает характер «материи», чего-то совершенно
необходимого, обращающего на себя особое внимание. В этом
смысле, как верно отмечает Цицерон (которого можно считать
родоначальником теоретического символизма), речь орато-
ра должна состоять из таких риторических фигур и отсылать
к таким историческим примерам, чтобы тем самым «оживлять»
собственный эйдетический опыт слушателей, пусть он даже и не
столь возвышен, как опыт признанных великих мыслителей и по-
этов. Произведения Цицерона не замкнуты в собственном воз-
вышенном совершенстве — они адресованы опыту широкого чи-
тателя, определенному благородному образованному сословию,
и потому формируют не книжную и школьную стилевую мане-
ру, а закладывают новую философическую традицию, оказыва-
ясь востребованными долгие века, целые эпохи. Цицероновские
труды, пусть постепенно утрачивавшие свое живое содержание
и функционировавшие в рамках опыта других традиций, демон-
стрируют поразительную жизнеспособность классических сим-
волов, если последние выражены соразмерным для опыта язы-
ком и свободны от ограничений идеологии, места и времени.
Что касается лингвистического символизма, то позднее Сред-
невековье и весь Ренессанс оперируют символическими языками,
в рамках которых главные слова и образы имеют подчеркнуто эй-
детический характер и трактуются метафорически, с крайне огра-
ниченным допущением рассудочных определений и аллегоризма.
К примеру, Бёме мыслит исключительно на символическом язы-
ке: «Я уподобляю всю философию, астрологию и теологию, вме-
1 Цицерон. Об ораторе. 359 (88).
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 223
сте с матерью их, драгоценному дереву, растущему в прекрасном
саду... Сад этого дерева знаменует мир; почва — природу; ствол
дерева — звезды; ветви — стихии; плоды, растущие на этом дере-
ве, знаменуют людей; сок в дереве знаменует ясное Божество»1. Все
названные здесь объекты имеют символический смысл и не могут
пониматься по аналогии с вещами; речь идет об эйдетическом де-
реве, его ветвях, плодах. Аналогично пишет знаток ренессансного
символизма М. П. Холл о диаграмме «Эдип египетский», взятой из
книги А. Кирхера: «Кайма рисунка содержит названия животных,
минералов и растительных субстанций... Слова из заглавных букв
над линиями указывают, к какому телесному члену, органу или
болезни относятся лечебные растения или какая-либо другая суб-
станция. Благоприятные времена года показаны знаками Зодиака,
каждый дом которых делится на три декады. Их влияние символи-
зируется планетарными знаками, размещенными по обе стороны
фигуры»2. Почему же такой живой и образный язык символов (что
особенно наглядно, если судить по живописным произведениям
Босха, Брейгеля, Дюрера и др.) спустя пару веков выродился в са-
лонный аллегоризм, воспринимавшийся как часть модного увлече-
ния эзотерикой в светском обществе? Предложенная здесь теория
дает такой ответ на этот вопрос: вырождение символического язы-
ка происходит тогда, когда иссякает питающий его эйдетический
опыт, а традиция становится существенно иной. Поэтому в сенти-
ментальной литературе и масонских кругах символизм минувших
эпох поддерживается уже не наличием соответствующего опыта,
а модой и идеологией; причем даже особая серьезность, с которой
подходили к делу масоны и розенкрейцеры, так и не смогла «ожи-
вить» былые символы. В связи с этим я хотел бы повторить, что
лишь качественно новый и оригинальный эйдетический опыт мо-
жет живо воспринять прежние символические языки, выступив их
радикальной интерпретацией в новом ключе.
В рамках немецкого идеализма символические структуры
языка трактуются как формы концептуализма, а символическое
как таковое рассматривается как стадия формирования идеаль-
1 Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990. С. 3-4.
2 Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической,
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. СПб.,
1994. С. 173.
224
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ного. Вместе с тем, несмотря на очевидно ошибочное смешение
природы символического и концептуального, в системах Шел-
линга и Гегеля символическое (понимаемое, прежде всего, как
сфера эстетики) трактуется как необходимая стадия развития
идеи и в этом смысле приобретает качественную автономию.
Исследования символических оснований искусства, истории
и мифологии к тому же получают устойчивое основание в виде
нового типа опыта, понимаемого как чистое духовное созерца-
ние1. В этом отношении, если обратиться к «эстетическому»,
символический язык трактуется как «первоначальный» вслед-
ствие близости особой «способности суждения» или нагляд-
ному, образному представлению идеи. При этом утверждается
историцистская точка зрения на символизм, постулирующая на-
личие постепенной смены языков, традиций, стилей и т. д. В не-
мецком классическом идеализме зарождается герменевтическое
понимание истории духа, где всеобщая схема превращается
в нечто метафизически условное, тогда как конкретные стадии
истории начинают трактоваться как индивидуальные эпохи, от-
личающиеся свойственным только им символическим миром.
На мой взгляд, историцизм неотделим от символической точки
зрения, учитывающей тот факт, что ни опыт, ни символические
порядки не могут замереть в вечном покое. Ведь с точки зрения
историцизма даже обозначенные лингвистически одинаково
символы разных традиций обладают индивидуальными значе-
ниями, каждое из которых исторически детерминировано, но
вместе с тем глубоко своеобразно. Можно предположить, что
в романтической эстетической мысли символ уже не имеет од-
ного «исконного» значения, а выступает индивидуально окра-
шенной эйдетической структурой. Таким образом, символ по-
тенциально многозначен, причем часть этих значений реально
воплощается в практике культуры и оказывается исторически-
ми стадиями развития этого символа.
Поскольку романтизм неотделим от поэтического мифа
о великом гении, то особенно важен для романтиков литера-
турный язык, который уже в эстетической системе Канта от-
деляется как особый язык, имеющий тесные связи с языком
1В «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинг называет созер-
цание одной из «эпох» в истории самосознания духа.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 225
метафизики и, следовательно, значимый для нее. В рамках
поэтической эстетики романтизма речь (взятая как «словес-
ность», эйдетический «народный» образ языка) наиболее все-
сторонне и полно воплощена в поэзии, которая в лингвисти-
ческой сфере приобретает всеобщность, собирая вокруг себя
все другие художественные языки. Вместе с тем любая речь
оказывается индивидуально и исторически окрашенной, теряя
свои очертания за пределами возвышенного опыта1. Ведь по-
этическое творчество, кроме собственно эстетической функ-
ции, в романтизме приобретает характер сферы совершен-
ствования, возвышения субъекта в собственном самосознании,
и в этом отношении оно соответствует античному пониманию
философии, которая, наряду с теоретической, имела также
практическую, нравственную функцию. В пространстве симво-
лов романтической поэзии особое внимание уделяется именно
эйдетическому опыту, который придает природе человеческое
измерение. Поскольку поэтическая речь не состоит из поня-
тий, то ее «связность» достигается в сфере возвышенного опы-
та субъекта, относится к экзистенциальному уровню. В рамках
этой связности возможны определения и соподчинения, но
они трактуются как отношения сходства и различия, а не как
родо-видовые отношения понятий. В эйдетическом смысле по-
этический символ приобретает однозначность, но такая одно-
значность существует в непосредственной форме, на уровне не-
артикулированного самосознания возвышенного (трактуемого
в романтизме как особое состояние поэтического вдохновения);
в лингвистической же форме эйдетический смысл утрачивает
эпистемологическую однозначность, приобретая лишь одно из
возможных значений. При этом символическое значение от-
деляется от непосредственного опыта, приобретает характер
самостоятельно (или объективно) сущего художественного
образа; а это значит, что лингвистическое толкование таких
символов оказывается более уместным и приемлемым в тра-
1 «Можно считать общепризнанным, что различные языки являются для
наций органами их оригинального мышления и восприятия, что большое
число предметов создано обозначающими их словами... что языки возник-
ли не по произволу и не по договору, но вышли из тайников человеческой
природы» (Гумбольдт В. Ф. Избранные труды по языкознанию. М., 2000.
С. 324).
226
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
диции. Непосредственный эйдетический опыт сохраняет свою
однозначную тождественность с эйдосом, но она пребывает
«в себе», в «свернутом» виде, выступая лишь как форма пережи-
вания. Отсюда становится понятным и то, что романтический
поэт особенно трогает нас в тех случаях, когда его символиче-
ские образы находят созвучие с нашим опытом и духовными
исканиями. В этом случае поэт становится знатоком и враче-
вателем души, пережив наш собственный опыт, причем в сим-
волически выраженной и поэтому законченной в своей образ-
ности форме.
Э. Кассирер окончательно оформляет идеалистическое
учение о символическом характере языка, обращаясь к выска-
занной Вико идее о чисто символической природе языков эпо-
хи зарождения цивилизации. Кассирер пишет: «Человечество
не начинает с абстрактной мысли или рационального языка,
оно должно сперва пройти эпоху символического языка мифа
и поэзии. Первые нации мыслили не понятиями, а символиче-
скими образами: они говорили баснями, а писали иероглифа-
ми»1. Теория Кассирера выступает центральной теорией языка
немецкого символического идеализма не только вследствие
своей системности, но и ввиду того, что в ней завершается
целая эпоха идеалистического подхода к символам, когда по-
следние рассматривались как предварительные ступени в раз-
витии идеи. После Кассирера многие не согласные с ним мыс-
лители закономерно переходят на позиции иррационализма.
При этом символический язык в этой философии сохраняет
свой всеобщий и универсальный характер. Всеобщность сим-
волического языка, переведенную на уровень бессознательно-
го, доказывает Э. Фромм: «Язык символов — это такой язык,
с помощью которого внутренние переживания, чувства и мыс-
ли приобретают форму явственно осязаемых событий внеш-
него мира. Это язык, логика которого отлична от той, по чьим
законам мы живем в дневное время; логика, в которой главен-
ствующими категориями являются не время и пространство,
а интенсивность и ассоциативность. Это единственный уни-
версальный язык, изобретенный человечеством, единый для
всех культур во всей истории. Это язык со своей собственной
'Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 621.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
227
грамматикой и синтаксисом, который нужно понимать, если
хочешь понять смысл мифов, сказок и снов»1. Символический
язык, вследствие того, что символ никогда не бывает ясным
и полностью определенным, так или иначе тяготеет к мисти-
цизму и обычно окружен флером ложной загадочности. Од-
нако точка зрения, согласно которой в психике человека есть
неизменные структуры, вырабатывающие символы, кажется
мне еще более фантастической, нежели предположение Вико,
что древнейшие ученые мужи были столь мудры, что изъяс-
нялись лишь символами. Любые формы субстанционализма
в отношении эйдетического опыта мне кажутся крайне неправ-
доподобными. Эйдетический опыт я представляю именно как
развитый, исключительно человеческий опыт с особо ярко вы-
раженным ценностным и эстетическим акцентом; в этом смыс-
ле символизм оказывается в культуре не бессознательным, а
скорее сверхсознательным, находящимся выше усредненного
понимания. Неявленность эйдетического опыта и замкнутость
в субъективности вовсе не позволяет делать выводы, что в ос-
нове символизма могут лежать бессознательные структуры че-
ловеческой субъективности2, — ведь эту основу образуют эйде-
тические представления, которые возвышенны и совершенны,
что придает им вполне сознательную форму, пусть и не всегда
рационально проясненную.
Формирующийся в немецком идеализме герменевтиче-
ский подход, который долгое время оставался уделом искус-
ствоведов и филологов-классиков, оказался свободен как от
ложного символического универсализма, так и от стремления
окутать символизм ореолом бессознательности. В основе гер-
меневтики лежит идея, согласно которой любой символ может
быть отнесен к «текстам» соответствующей эпохи. При этом
постижение любого символа неотделимо от того языка и той
традиции, в рамках которой этот он был введен в культурный
1 Фромм Э. Душа человека. М„ 1992. С. 183.
2 Мое мнение расходится с суждением Юнга, который пишет: «Все, с чем
мы соприкасаемся, является не только тем или иным предметом, но и не-
ким символом. Символизация происходит потому, что, во-первых, каждый
человек обладает бессознательными содержаниями и, во-вторых, у ка-
ждой вещи тоже есть свои неизвестные стороны» (Юнг К. Г. Ответ Иову.
М., 1995. С. 298).
228
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
оборот. Герменевтический подход вполне совместим с символи-
ческим плюрализмом. И хотя мне кажется пережитком немец-
кого классического идеализма, идея возможной универсальности
«методологии понимания», герменевтика очень много сделала
для признания качественного своеобразия и индивидуальности
символических порядков и исторических эпох. В рамках гер-
меневтики символ всегда открыт для интерпретации, что от-
мечает, например, Хайдеггер: «Высказывание должно заим-
ствовать свою правильность у открытости: ибо вообще только
благодаря ей открытое может стать руководящим началом
для представляющего уподобления»1. При этом герменевтика
особое внимание уделяет именно лингвистической форме сим-
волизма, выводя символ как элемент целостного языкового
пространства или речи. Так, Гадамер полагает, что лингвисти-
ческий символизм как таковой вообще не нуждается в концеп-
туализации, поскольку он постижим для особой эйдетической
«наглядности»: «Языковая выразительность, обретаемая по-
ниманием благодаря истолкованию, не порождает какого-то
второго смысла рядом с понятым и истолкованным. Понятия,
которыми мы пользуемся при толковании, вообще не тема-
тизируются в понимании в качестве таковых. Их назначение
скорее — исчезнуть, растворившись в том, чему они, толкуя,
позволили заговорить»2. Таким образом, на уровне целостного
нарратива атомизм отдельных слов и высказываний исчезает,
и тогда «проступает» символический подтекст языка, который
относится ко всему нерасчленимому единству того или иного
символического порядка3. За уровнем концептуального смыс-
ла находится «второй» уровень символического понимания,
который и является основополагающим. Как отмечает Рикёр,
«лишь герменевтика, имеющая дело с символическими фигу-
рами, может показать, что эти различные модальности суще-
ствования принадлежат одной и той же проблематике, потому
что в конечном счете именно наиболее богатые символы обе-
1 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 14.
2Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 463.
3 «Всякий язык, воплощенный в речи, имеет место всегда лишь в качестве
слова, кому-либо сказанного, в качестве единого целого речи, поддерживаю-
щей коммуникацию между людьми, крепящей солидарность» (Гадамер Г.-Г.
Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 30).
3.1. Лингвистический и образныйтипы символизма 229
спечивают единство этих многочисленных интерпретаций»1.
Герменевтика, работая преимущественно с лингвистическим
символизмом, вскрывает наличие особой эйдетической ло-
гики, в рамках которой насыщенный символами и отсылаю-
щий к непосредственности возвышенного переживания язык
поэзии оказывается совершенным символическим языком.
Символический язык — это главная составляющая культурно-
> го облика эпохи. Он не может быть постигнут «извне», требуя
вступления в сложный диалог с нашим языком, вследствие ко-
торого рождается понимание на уровне опыта исходного языка.
\ Таким образом, символический смысл — это коммуникатив-
' ный смысл, поскольку ни один символ не может быть отделен
от своей «истории», состоящей из различный устоявшихся
в традиции интерпретаций.
Мне представляется, что герменевтике окончательно уда-
лось преодолеть метафизический облик «вечного» символа
и перейди к динамическому символическому плюрализму. Те-
оретически вполне можно предположить, что символ может
иметь одно и то же значение, но в действительности всегда воз-
никает несколько значений (неважно, синхронно или в разные
эпохи); причем они могут как находиться в конфликте, так и до-
вольно мирно сосуществовать. Реально символ определяется
через разъяснения в виде подобий, аналогий и значений, часть
из которых не обязательно смежны (хотя в идеале это и долж-
но быть) и схожи друг с другом. Высшие символы могут обо-
значаться эйдетическими маркерами, относящимися к разным
культурным сферам и языкам, что наблюдается, к примеру,
в отношении космологических принципов, приложимых и к фи-
лософии, и к теологии, и к поэзии. Но при любой сложности
и плюрализме в определениях символа можно говорить об их
общности определенной эпохи и традиции. При этом в лингви-
стическом отношении историческое время оказывается лишен-
ным каких-либо всеобщих векторов и измерений. Ведь история
знает много примеров, когда автор берет символы прошлого
для собственного языка, причем такая же свобода достигается
и относительно тех культурных регионов, из которых берутся
эти символы. «Опыты» Монтеня — классическое сочинение,
1 Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 36.
230
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
структура которого позволяет наглядно убедиться, что все на-
писанное в нем относится к особому символическому времени,
где выстраивается центральный символ индивидуальной нрав-
ственности и достойной жизни; причем ввиду этой цели Мон-
тень крайне либерально относится к источникам, их взаимосвя-
зи, их исторической атрибуции и т. д. Живописцы Возрождения
с наивной простотой рядили древних евреев в одежды знатных
дворян и зажиточных горожан. В Эрмитаже на полотне одно-
го из голландцев Христос, облаченный в ренессансные одеж-
ды, идет посреди типично нидерландского сельского пейзажа.
И здесь, конечно, художнику можно поставить в вину отсутствие
исторической осведомленности, но это было бы крайне непро-
дуктивно, поскольку в живописном символизме Ренессанса об-
раз достигает своей классической возвышенности в том числе
и будучи помещенным в такой исторический план, который
визуально окажется смешением эпох, а в смысловом отноше-
нии будет причастным вечности. На ренессансных полотнах мы
усматриваем не историческую, а символическую подлинность,
возвышенное выражение опыта, превращение классического
сюжета в визуальный эйдос, без которого этот сюжет уже не мо-
жет быть представлен.
Мне кажется также крайне сомнительным тезис о беско-
нечности интерпретации, выдвинутый в герменевтике. Как
отмечает Витгенштейн, когда-либо надо остановиться в во-
прошании и довольствоваться тем, что у нас есть1. Символи-
ческое определение должно быть когда-нибудь «остановле-
но», поскольку иначе оно не сможет обрести достаточную
стабильность и определенность, что не позволит ему войти
в традицию. Можно, конечно, предположить, что при этом
происходит некоторая усредненность и даже снижение уровня,
но носителем эйдетического опыта традиции выступает благо-
родный образованный класс, а не плеяда гениев. При этом, как
1 Хайдеггер считает совершенно иначе, утверждая бесконечность интерпре-
тации. «Артикулирующийся в языке процесс понимания окружен свободным
пространством, которое он [Хайдеггер. — С. И.] заполняет, давая все новые
и новые ответы на обращенное ему слово, но это пространство никогда не
может быть заполнено окончательно, “Многое еще нужно сказать” — таково
фундаментальное герменевтическое положение» (Гадамер Х.-Г. Пути Хайде-
ггера: исследования позднего творчества. Минск, 2007. С. 54).
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
231
показывают многочисленные исследования той же литерату-
ры, представители «образованной читающей публики» обла-
дают несравненно более высокой степенью культуры и возвы-
шенным опытом, нежели представители низов. А поскольку на
Западе, начиная с греков, духовный аристократизм конкури-
рует с аристократизмом сословным (и первый часто побеждает
последний), то помещенность символа в традицию — это ко-
нец, по крайней мере, первоначального этапа его определения,
обретение им спектра канонических значений, по поводу кото-
рых в дальнейшем и будет вестись дискуссия. Символ вообще
не есть объект бесконечного истолкования, поскольку его назна-
t чение — закрепить фрагмент эйдетического опыта, выступить
изображением эйдоса, что неотделимо от требования четкой
распознаваемости и выраженной традиционности. Символиче-
ский строй языка тяготеет к индивидуальности лишь в идеале,
потому что постулирование совершенно замкнутой в себе уни-
кальности символа противоречит исторической реальности
любой культурной формы, в рамках которой устанавливаются
те или иные традиционные символические значения. Однако
и каноничность символических значений также не более чем
условность: ведь символические порядки чем-то похожи на
разные государства, которые независимы, но постоянно всту-
пают в альянсы и конфликты, меняют границы, возникают
и исчезают, переживают периоды имперской мощи и неза-
метного прозябания. Учитывая значительную либеральность
символических критериев по отношению к строгости, символы
несравненно менее живучи в своем наличном обличии, нежели
концепты: последние, опираясь на относительно неизменные,
порой совершенно свободные от ограничений места и време-
ни структуры разума, могут закостенеть на сотни, даже тысячи
лет. Эйдетический опыт же, в отличие от мира метафизики, го-
раздо более динамичен и изменчив, хотя порой и здесь симво-
лические трансформации затягиваются на время, несовмести-
мое с кругозором целых поколений.
Как уже доказано в предыдущих главах, построения рус-
ских религиозных философов и идеалистов относительно транс-
цендентной и мистической сферы символического бытия, их
стремление к фундированию символа в мифе, а также теурги-
ческие взгляды на символы не выдерживают никакой критики
232
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
и являются плодом вымысла. Тем не менее в области изучения
частных форм языкового символизма русские мыслители впер-
вые пришли к пониманию специфики языкового эйдетического
образа, его диалогической природы, его взаимосвязи с контек-
стом и неотделимости от интерпретации. В качестве теоретиков
лингвистического символизма, учитывая специфичность рос-
сийской идеологии и довольно отсталой национальной акаде-
мической философии, на первых порах выступают литераторы,
публицисты, литературные критики. К примеру, Достоевский
в «Дневнике писателя» выводит ценные замечания относитель-
но возможности перевода художественного текста, предвосхи-
тившие открытия Соссюра, Якобсона и Куайна. Он пишет: «Я не
могу без смеха вспомнить один перевод (теперь очень редкий)
Гоголя на французский язык, сделанный в середине 40-х годов,
в Петербурге, г-м Виардо... Вышла просто какая-то галиматья,
вместо Гоголя. Пушкин тоже во многом непереводим»1. До-
стоевский, романы которого наполнены бесконечными спо-
рами и полемикой между сторонниками различных этических
и идеологических доктрин, задолго до того, как это было сде-
лано наукой, фактически создает учение об индивидуальном
строе авторского художественного языка. При этом Достоев-
ский, предвосхищая идеи Барта и Рорти, полагает, что не толь-
ко поэтический (что более очевидно), но и прозаический язык
отличается существенной неполнотой относительно возможно-
стей перевода. Достоевский понимает идеи (его романы часто
даже называют «идеологическими») исключительно символи-
чески — как ценностно окрашенные, экзистенциально прочув-
ствованные убеждения, ради осуществления которых герой спо-
собен решиться на всё. Идея у Достоевского не обосновывается
с точки зрения логического смысла. Один из героев «Преступ-
ления и наказания» замечает, что жизнь оказывается прежде
логики, и она всегда ускользает от однозначного понимания.
Герои Достоевского — это носители эйдетических образов, пре-
вратившиеся в символических персонажей и ставшие абсурдны-
ми адептами своих идеалов. Несмотря на кажущуюся интеллек-
туальность и публицистическую риторику, герои писателя не
мыслят отвлеченно, а достигают предельной степени родствен-
1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 287.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
233
ности своих убеждений и частной жизни, которая была неког-
да свойственна древнегреческим мудрецам. Герой оказывается
существом, порабощенным идеей, приносящим на ее алтарь всю
свою жизнь, будучи готовым, как Раскольников или Ставрогин,
даже на преступление. Эту характерную черту у Достоевского
по-своему подмечает Б. М. Энгельгардт: «Так именно и понимал
идею Достоевский. Она рисовалась его соображению каким-то
чудесным “духом, одаренным умом и волей”, поселяющимся
в человеке и по-своему перекраивающему весь его духовный об-
лик. Достоевский постоянно говорит о том, как “сильные" идеи
обрушиваются на людей и придавливают, уродуют их, словно
огромные камни, как бродят идеи в обществе, выходят на ули-
цу, кочуют из души в душу»1. Вне всякого сомнения, в своем пи-
сательском воображении Достоевский обычно не ставит целью
психологическую и историческую правдивость в научном смыс-
ле слова, превращая живых людей в эйдетические образы; но,
как я уже не раз отмечал, такое преувеличение — характерная
черта символизма, сосредоточивающегося именно на аспекте
возвышенного. Герои Достоевского балансируют на грани такой
степени возвышенного, которую почти невозможно вынести.
Как верно отмечает Энгельгардт, идея способна и «покалечить»
некоторых, хотя деление людей на сильные и слабые лично-
сти — это изначально довольно слабая идея. Столь же верно Эн-
гельгардт выводит Достоевского как знатока диалектики идей,
когда в «Бесах» изображается грандиозная панорама проник-
новения новых символов в отжившую традицию и вызванного
этим хаотического брожения: «Эти идеи медленно подтачивают
здание традиционной культуры: оно еще стоит, но уже откалы-
ваются от красивого целого и с торопливой веселостью летят
вниз отдельные безобразные куски, уже трещины покрывают
стены, странные шумы и шорохи нарушают благопристойную
тишину огромных покоев, повсюду сквозь искусную декоровку
проступают зловещие звуки, жить становится тревожно и жут-
ко»* 2. Действительно, я уже попытался вскрыть эпистемологи-
ческие основания символической трансформации, придя к вы-
воду, что катализатором большинства культурных революций
‘Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб., 1995. С. 289.
2 Там же. С. 290.
234
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
и реформ выступает резкое несоответствие запросов эйдетиче-
ского опыта символам существующей традиции, побуждающее
искать принципиально новые эйдетические формы и тем самым
порождающее поколение духовных диссидентов.
Для символизма, в отличие от концептуализма, характер-
на диалогическая форма, когда новые символические структу-
ры выступают интерпретацией уже существующих структур.
Если в рамках диалектического противоречия понятия антаго-
нистичны, то в символическом диалоге не существует ни ради-
кального противопоставления, ни изначально позитивной или
единственно правильной стороны. М. М. Бахтин утверждает
диалогичность структуры романов Достоевского, в которых
каждый значимый герой является носителем той или иной сим-
волической установки. Бахтин пишет: «Достоевский обладал ге-
ниальным даром слышать диалог своей эпохи или, точнее, слы-
шать свою эпоху как великий диалог, улавливать в ней не только
отдельные голоса, но прежде всего именно диалогические отно-
шения между голосами»1. Если отбросить идеологическую ан-
гажированность этих романов, то их пространство напоминает
образ, который я именую символической ареной традиции, ког-
да «на сцене» различные символические интерпретации вступа-
ют между собой в сложные и неоднозначные отношения. При
этом, однако, любая символическая точка зрения должна до-
стигать определенной образной и лингвистической внятности
(не обязательно совершенной и четкой), чтобы быть распозна-
ваемой и отличной от других возможных точек зрения2. Ина-
че неизбежна ситуация, о которой пишет Блок, касаясь своего
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.; Аугсбург, 2002.
С. 52.
2 Согласно Бахтину, вне контекста диалога в романе (то есть в лю-
бом ином контексте) образы Достоевского теряют свою подлинность:
«Мысль, вовлеченная в событие, становится сама событийной и приоб-
ретает тот особый характер “идеи-чувства”, “идеи-силы”, который соз-
дает неповторимое своеобразие “идеи” в творческом мире Достоевского.
Изъятая из событийного взаимодействия сознаний и втиснутая в систем-
но-монологический контекст, хотя бы и самый диалектический, идея не-
избежно утрачивает это свое своеобразие и превращается в плохое фило-
софское утверждение» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского.
М.; Аугсбург, 2002. С. 5).
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 235
друга Е. Иванова: тот «знал» всю истину и был очень глубоким
человеком, но при этом он либо молчал, либо говорил невнятно
и косноязычно, что, естественно, не оставило никаких шансов
реализовать это «знание». Таким образом, в диалогические от-
ношения (альянсы, конфликты, интерпретации) вступают лишь
такие символические точки зрения, которые, во-первых, четко
определены относительно опыта и эйдоса и, во-вторых, отли-
чаются распознаваемым и насколько возможно четким языком.
Именно такие позиции приобретают господствующее положе-
ние, становятся классическими, то есть существуют в некоем от-
носительно завершенном виде.
При символической интерпретации могут быть утрачены
«исторические» значения (важные для автора и его современ-
ников), но вместо них могут быть предложены другие, новые,
что обуславливает самостоятельную ценность интерпретаций.
Ведь классические символы прошлого не могут быть восприня-
ты буквально — они приспосабливаются к новым запросам опы-
та, к новой традиции. Обратимся к примеру из истории зодче-
ства: три архитектурных «классицизма» (палладианство, ампир
и неоклассицизм), основываясь на приемах греческого и рим-
ского зодчества, не копируют их механически, а перерабатыва-
ют, приспосабливая к радикально новому назначению палаццо,
королевского дворца, общественного здания или доходного
дома. При этом «заимствования» (которые сами по себе суть
оригинальные интерпретации) могут быть удачными и неудач-
ными, но они выглядят совершенно уместными и всегда пред-
почтительнее механического копирования старины. Культура
исчезла бы, если бы в ней безраздельно царили аутентичные по-
вторения без возможности нового прочтения и трансформации.
Символы могут перестраиваться, как порой это происходит со
зданиями. При этом постройка может «исчезнуть», приобретя
новый фасад и новое назначение, а может быть лишь частично
видоизменена, наподобие обращенных в христианские церкви
римских храмов и базилик.
В символических трансформациях всегда значимо то, как
они протекают именно на лингвистическом уровне. Ведь рабо-
тая с языком и текстами, можно достаточно наглядно фиксиро-
вать изменения в трактовке тех или иных символов и понятий.
К тому же не следует забывать, что некоторые лингвистические
236
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
трактовки приобретают идеологическую власть, будучи освя-
щены тем или иным авторитетом. В этом смысле символизм
оказывается и главной формой культурного фетишизма, когда
символы настолько подавляют человека, что ему кажется, будто
они вековечны и сотворены титаническими существами в неза-
памятные времена. При этом тенденция превращения символи-
ческого мира в нечто застывшее и подавляющее далеко не всегда
зависит от диктата светской или духовной власти. Символиче-
ский фетишизм как безусловное доминирование единственного
языка и самоизоляция его носителей возникает даже в самых
либеральных условиях. К примеру, В. В. Савчук так пишет о фе-
тишизме символов в среде современной неформальной моло-
дежи: «Ведь именно в маргинальных группах одежда из черной
кожи, пирсинг, сексуальные перверсии и наркотики становятся
всеобщей повинностью, реализующейся тотальнее, чем военная
мобилизация»1. Символический либерализм видится всеобщим
лишь в воображении либерально настроенных немецких герме-
невтиков или американских философов истории. В рамках же
социальной практики символы обычно выступают формой иде-
ологического закрепощения: они словно не пускают другие воз-
можные символы. Не следует переносить принципы интеллек-
туального сообщества, в рамках которых приняты свободные
и демократичные дискуссии, в область традиции; ведь за пре-
делами класса люди жаждут скорее догматической определен-
ности, очерченности кругозора и уверенности в правильности,
незыблемости и даже священности наличного порядка вещей.
В русской философии и литературе было не раз доказано, что
символические трансформации, хотя и назревают в толще на-
родной жизни, обычно осуществляются одиночками, «лишни-
ми людьми», диссидентами, которые воспринимаются властью
и народом как разрушители основ и опасные преступники.
На мой взгляд, не существует никакой лингвистической
меры выражения эйдетического опыта. Он может быть выражен
и кратко и очень пространно; важна сама суть удачного вопло-
щения. Монтень, заинтересовавшись, насколько кратко уместно
выражать свои мысли, так пишет о греках: «Афиняне, говорит
Платон, заботятся преимущественно о богатстве и изяществе
1 Савчук В. В. Топологическая рефлексия. М., 2012. С. 211.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
237
своей речи, лакедемоняне — о ее краткости, а жители Крита про-
являют больше заботы об изобилии мыслей, нежели о самом
языке: они-то поступают правильнее всего»1. Современными ис-
следованиями доказано, что мера пространности выражения за-
висит от избранного жанра, а прославляемая греками лаконская
краткость далеко не всегда уместна. Блок отмечает, что идеаль-
ная мера лирического стихотворения — двадцать строк. Но от
эпической поэмы, наоборот, требуется пространность. «Сред-
няя» мера подходит для реплик героев романа, трагедии и ко-
медии. Если же взять такой сложный жанр, как философский
текст, можно убедиться, что Ларошфуко и Витгенштейн про-
, славились краткими афоризмами; Аристотель и Гегель — про-
странными трактатами; Платон и Бруно предпочитали диалоги
с репликами средней длины. Таким образом, я считаю учение
о лингвистической мере выражения нашего опыта совершенно
софистическим, противопоставляя ему принцип соразмерности
эйдоса и его языкового выражения.
В рамках философии ставится вопрос не только о проис-
хождении символизма вообще, но и лингвистического сим-
волизма в частности. В настоящий момент не потеряла своей
актуальности просвещенческая теория, согласно которой пер-
воначальный язык был исключительно образным, а каждое сло-
во воспринималось не как имя, а как символ. К примеру, Руссо
пишет: «Прежде всего родился образный язык, а собственный
смысл слов был найден в последнюю очередь... Вначале разгова-
ривали только поэтическими образами, а рассуждать принялись
много позже»2. Нет никакого сомнения, что мифологический
язык, к примеру, гораздо менее отрефлексирован и закреплен
’ в отношении значений слов, нежели язык теологии или науки,
в которых ценится терминологическая ясность. Ранние языки
архаических эпох были обращены к чувственным образам3; их
эйдетический смысл оставался неявленным, а содержание язы-
ковых образов относилось к мифу. Тем самым, с моей точки зре-
1 Монтень М. Опыты. М., 1991. С. 148.
2 РусСо Ж.-Ж. Сочинения. Калининград, 2001. С. 91.
3 «При возникновении языков люди оказались перед лицом необходимо-
сти соединять язык жестов с языком членораздельных звуков и разговари-
вать лишь при помощи чувственных образов» (Кондильяк Э. Б. Сочине-
ния: в 3 т. Т. 1. М„ 1980. С. 258).
238
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ния, Руссо, Вико, Кондильяк и другие просветители правы лишь
частично. Они верно предполагали возникновение языкового
символизма на мифологической основе, однако существенно
ошибались, связывая этот символизм с поэзией. Ведь в то вре-
мя поэзия не существовала как сложившаяся традиция; вероят-
но, сущность «поэзии» оставалась неопределенной вплоть до
греков. Следовательно, если «древние» из высказывания Рус-
со и обращались к образному символизму, то он был гораздо
более примитивен. К тому же целый ряд ведущих историков,
филологов и философов отмечали, что архаические символы
речи следует уподоблять доэллинской скульптуре: в них нет со-
размерности, гармонии и изящества. Таким образом, я склонен
предполагать, что лингвистический символизм до Гомера и Ге-
сиода вряд ли вообще имел место, а поэтические формы он стал
принимать лишь в период расцвета классической поэзии и фи-
лософии. Я также полагаю, что мы вообще не сможем обнару-
жить исток лингвистического символизма, поскольку его как та-
кового не существует. Поэтому гораздо убедительнее выглядит
гипотеза о создании таких конкретных форм символизма, как
аллегоризм, поэзия, скульптура, живопись и т. д. Смутные пред-
посылки лингвистического символизма и остались бы таковы-
ми, если бы не появились Феогниды, Платоны, Фидии, которые
создали авторские языки, сумевшие найти отклик в традиции,
закрепиться в ней и впоследствии стать источником новых тра-
диций. Я убежден, что любые архаические формы символизма
лишены человечности и несоразмерны нашему опыту.
Эйдетический опыт, находясь в собственной стихии, на
определенном этапе потребовал особых форм символического
выражения, таких как миф или поэтический язык. Эти новые
формы выражения выступили первоначальными символами, на-
ходящимися на уровне «пред-чувствия», смутной и не осознан-
ной образности, что и породило у многих толкователей миф об
их «изначальности» и особой «глубине». Затем, начиная с досо-
кратической эпохи, наблюдается процесс постепенного отделе-
ния лингвистических символов от необходимости постоянного
указания на сопровождающий опыт, что приводит к достижению
определенной рафинированности символических образов, нача-
ла их хождения в традиции как форм языка, а затем и оформле-
ния в виде таких родов, как языки поэзии, политики, философии,
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 239
мифологии и т. д. Поэтому я полагаю, что лингвистический сим-
волизм не имеет никаких «естественных» основ, кроме эйдети-
ческого опыта', и на уровне символов этот опыт был именно соз-
дан, сотворен несколькими поколениями греков, причем (что,
как правило, и шокирует) беспредпосылочно. Разумеется, в силу
особенностей собственной традиции, греки классического пери-
ода относили символы к легендарному прошлому, к великим му-
жам былых времен. Не стоит особенно доказывать тот факт, что
это, во-первых, фигуральное отнесение, а во-вторых, оно совер-
.шенно не ставит целью что-либо научно обосновать, преследуя
лишь цели обращения к авторитету. Вплоть до эпохи модерна
сохранялась традиция «обращения к авторитету», когда создан-
ные вновь поэмы и философские концепции символически от-
сылались к далеким «основоположникам», таким как Платон,
Аристотель, Гомер, Геродот, Овидий, Августин, Шекспир и т. д.
Повторим еще раз: подобные отсылки к символическому исто-
ку следует понимать исключительно фигурально, не стремясь их
подтвердить или опровергнуть с точки зрения науки. Мало того,
для традиции необходимо, чтобы ее высшие ценности рассматри-
вались не как «только изобретенные», а как «существующие испо-
кон веков», что достигается, прежде всего, обращением к симво-
лическому «основоположнику».
Утверждая, что символы в своей конкретности — это про-
дукт творчества великих деятелей культуры, я ни в коем случае
не собираюсь принижать роль традиции, которая, конечно, го-
раздо более консервативна и осмотрительна в отношении сим-
волических «новаций». На мой взгляд, у символа вообще нет
шансов сохраниться, если он не отсылает к какому-то пункту
уже сложившейся традиции. Соссюр так пишет о языке: «Язык
устойчив не только потому, что он привязан к косной массе
коллектива, но и вследствие того, что он существует во време-
ни. Эти два факта неотделимы. Связь с прошлым ежеминут-
, но препятствует свободе выбора. Мы говорим человек и соба-
ка, потому что и до нас говорили человек и собака»1. Высшие
символы языка имеют немного общего с обыденными слова-
ми, о которых толкует Соссюр. Но мне кажется убедительным
предложенный им механизм консерватизма в отношении язы-
1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999. С. 76.
240
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ковых структур, когда повторение символа основано на авто-
ритете сложившегося словоупотребления и поэтому не требу-
ет дополнительной достоверности. Символические структуры
языка обладают собственным пространством и временем, ко-
торые задаются на символическом уровне и обращены к опыту
и традиции. Древние греки (кроме очень немногих скептиче-
ски настроенных ученых мужей) даже не задумывались о «до-
стоверности» мифологической картины мира, поскольку она
не была формой «познания», «теории». Это можно объяснить
и по аналогии со смысловым пространством лирического сти-
хотворения: стихи Гёте или Блока не нуждаются в верифи-
кации, подтверждении; они сбываются внутри собственного
символического пространства и обращены к достоверности
сопереживания в опыте. «Такой оттенок лирического пережи-
вания просто есть» — вот и вся достоверность стихотворения.
Философы не зря так много рассуждают о поэзии: ведь она есть
последний осколок того грандиозного образно-символического
мира, который был постепенно вытеснен иным, рациональным
интересом, во многом полностью искоренен, а в чем-то — от-
брошен на культурную периферию.
Язык имеет свой графический образ, выступающий как
письменное слово и текст. В современных исследованиях сим-
волизма считается классической точка зрения Р. Барта, выде-
ляющего качественные различия между устной и письменной
речью. Барт пишет: «Письмо и обычная речь противостоят друг
другу в том отношении, что письмо явлено как некое символи-
ческое, обращенное внутрь самого себя, преднамеренно наце-
ленное на скрытую изнанку языка образование»1. Подобные
взгляды высказывает и Поль де Ман, который отмечает следу-
ющее: «Фигуральная структура — не один из многих лингви-
стических модусов, но характеристика языка как такового»2.
Я полагаю, что выделение «текста» как особенного и приори-
тетного вида языка и наделение текстов высшим символиче-
ским смыслом — это результат стремления современной фило-
софии языка к «наглядности», тонкому разбору «источников»
и смыслов слов. С моей точки зрения, противопоставлениеуст-
1 Барт Р. Нулевая степень письма. М., 2008. С. 62.
2 Ман П. де. Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999. С. 129.
3.1. Лингвистический и образныйтипы символизма 241
ной и письменной речи выглядит совершенно бездоказательным.
Гомеровские поэмы и народные песни существовали достаточ-
но долго до того, как были записаны, но при этом они успешно
выполняли свою символическую функцию эпического «свода»
представлений о Троянской войне. Поэтому лингвистический
символизм отнюдь не всегда связан с текстами и письмом — он
присутствует скорее во всей «речи». К тому же сторонники те-
ории письма упускают, что устная речь имеет собственные за-
коны и каноны усвоения, равно как и транслируется другим
путем. К примеру, нежелание Сократа записывать свои беседы
акцентирует одну из самых существенных сторон не только его
учения, но и всей древнегреческой традиции в целом, в кото-
рой, вплоть до Аристотеля, личное общение между учителем
и учеником, слушание речей учителя ценилось гораздо выше,
чем обращение к книжному изложению1. В другом месте тот же
Барт выступает тонким знатоком символического языка, когда
отмечает природу символического сознания в целом: «Симво-
лическое сознание предполагает образ глубины; оно пережи-
вает мир как отношение формы, лежащей на его поверхно-
сти, и некой многоликой, бездонной, могучей пучины, причем
образ этот увенчивается представлением о ярко выраженной
динамике»2. На мой взгляд, если обратиться к языку, то он
всегда (даже в периоды символической консолидации) в чем-
то остается «смутным» и лишь частично символически выра-
женным; в основе артикулированного, символически осознан-
ного и структурированного языка лежит некая «рефлексия»,
заключенная в стремлении образно закрепить его содержание.
И эта неопределенность опыта порой порождает плодотворную
неудовлетворенность, побуждающую к новому лингвистиче-
1 «Находясь уже в Азии, Александр узнал, что Аристотель некоторые из
этих учений обнародовал в книгах, и написал ему откровенное письмо в за-
щиту философии, текст которого гласит: «Александр Аристотелю желает
благополучия! Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназна-
ченные только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от
остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны,
сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столь-
ко могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь здоров»»
(Плутарх. Александр. 7).
2 Барт Р. Нулевая степень письма. М., 2008. С. 224.
242
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
скому поиску или к новой интерпретации уже сущих символов.
У письма в этом отношении нет никаких «приоритетов» перед
устной речью, и тем более нет никакой более значительной
глубины. Письменность более сохранна в истории; устная же
речь более непосредственна и приближена к опыту, превосхо-
дя в этом отношении письмо. Если судить с позиций естествен-
ности, то люди предпочтут письму разговор, если только он не
затруднен объективными причинами. И даже чтение, в свою
очередь, может быть обращено к своей диалогической природе,
когда выстраивается заочный диалог между автором и читате-
лем, предшественником, оппонентом и т. д.
Для языка, взятого в той или иной развитой культурной
форме, характерно символическое перенесение человеческого
эйдетического опыта в пространство речи, которое приобретает
собственную «человечность», метафорически отнесенную уже
не к индивидуальному, а к коллективному субъекту («народ»,
«философы», «писатели», «художники», «люди эпохи Ренессан-
са» и т. д.). Тем самым символическое содержание языка деперсо-
нифицированно', даже если личность-основоположник все равно
остается на первом плане, то она трактуется как символическая
личность, приобретая некое возвышенное измерение. Симво-
лизм активно пользуется приемом метафорического отождест-
вления автора с теми символическими фигурами, которые он
создал. При этом зачастую наблюдается тенденция, когда образ
по своему масштабу значительно перерастает личность своего
творца; в этом случае уместно говорить о метафорическом пере-
носе символического смысла исключительно в словесное эйдети-
ческое пространство. Так, если обратиться к русской классиче-
ской литературе, то вполне уместны и плодотворны дискуссии
о литературных образах Чацкого, Онегина, Печорина, Базарова,
Раскольникова, Левина. При этом подобные диспуты развора-
чиваются в рамках исключительно эйдетического пространства,
в котором не только признается, что герои на самом деле «суще-
ствуют», но и наблюдается символическое отождествление лич-
ности автора и личности героя (не путать с буквальным отож-
дествлением!). Таким образом, хотя писатель и герой — разные
личности, возникает метафорическое отождествление опыта
автора и опыта героя, при котором наблюдается взаимный пе-
ренос черт автора на образ героя и наоборот.
3.1. Лингвистический и образныйтипы символизма
243
В условиях господства концептуализма само понимание
природы лингвистического и образного символизма оказывает-
ся проблемой. В наше время трудно осознать, что представления
нескольких классических эпох — от Античности до Ренессан-
са — были преимущественно символическими, а не концепту-
альными. В дальнейшем же символизм под натиском рациона-
листической метафизики, нового социального порядка, иной
традиции массового общества был вытеснен с ведущих ролей
в сферу искусства, лишь иногда проникая в философские и ре-
лигиозные концепции. К этому можно относиться совершенно
х по-разному: ведь хайдеггеровская ностальгия по утраченному
«' античному символизму — не менее ангажированная позиция,
нежели прогнозы марксистов и позитивистов о падении веко-
вых суеверий под натиском научного прогресса. Подобную ди-
алектику, тоже не без определенной пристрастности, вскрывает
Бодрийяр: «Новоевропейский знак... все еще, однако, симулиру-
ет свою необходимость, выдавая себя за связанный с миром. Он
грезит о знаках прошлого и желал бы вновь обрести их реальную
референтность, а вместе с ней и их обязательность', но обрести
ему удается лишь причинность — ту референциальную причин-
ность, реальность и “естественность”, которыми ему и придется
жить отныне. Но это отношение десигнации есть лишь симулякр
символической обязательности»1. И в самом деле, в условиях
рационалистического концептуализма символ должен «маски-
роваться» если не под понятие, то под определенную «ступень
развития» понятия, для того чтобы быть легитимным предме-
том рассмотрения. После утраты связи символизма с традицией,
в индивидуалистической культуре Запада оказались разорван-
ными вековые связи эпох, логика преемственности через интер-
претацию и сохранение основ. Символы Античности, Средневе-
ковья и Возрождения, несмотря на существенный интерес к ним,
выглядят чужеродными для нашего опыта; они не будят эйде-
тической конгениальности, причем даже в случае, когда речь
идет о непревзойденных шедеврах. Приведем пример: полотна
мастеров Ренессанса общепризнаны в качестве великих творе-
ний; вокруг них толпится публика; о них пишут статьи и моно-
графии. Однако они практически немы по отношению к нашему
'БодрийярЖ. Символический обмен и смерть. М., 2006. С. 115.
244
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
опыту, поскольку в нем символы Античности и христианского
Средневековья присутствуют крайне фрагментированно и не
составляют живой традиции. Ренессансная рецепция античной
живописи и архитектуры была символической интерпретацией,
сохраняющей через нее духовное родство с образцом и обрета-
ющей новый модус классики. Мне кажется, что не только на-
учные исследования ренессансного искусства, но и нарративы
(вроде тех, которые создавал У. Эко) не могут более «оживить»
утраченный символический язык. Вполне возможно, что буду-
щий эйдетический опыт (по крайней мере, пока произведения
этого периода хранятся в музеях и не утрачены традиции их
толкования) вернется к собственной свободе; тогда возникнет
новый виток неоклассицизма. Конечно, тут мы попадаем в об-
ласть предчувствий, но, к примеру, такой крупный теоретик
эстетического опыта, как Ж. Рансьер, считает, что мир движется
именно к неоклассической парадигме: «Ведь “конец образов” —
это не медиальная или медиумальная катастрофа, перед лицом
которой сегодня нужно воскресить неведомую трансцендент-
ность... Куда скорее конец образов — это исторический проект,
уже оставшийся позади»1.
Несмотря на то что огромные пласты символизма могут
быть утрачены, уничтожены, забыты или заменены новыми
символами, полная потеря символической преемственности,
абсолютное торжество «постмодерна» и «конец образов» не-
осуществимы на практике. Как правило, на уровне психологии
традиции новые образы воспринимаются как убийцы старого
сложившегося мира, который большей частью не требует за-
мены. В разные эпохи возникали периоды, которые можно ус-
ловно называть модернами или футуризмами (с той или иной
степенью отчетливости и явленности). Также, если взглянуть на
историю, то обычное дело — ситуация, когда базовые символы
традиции в период своего зарождения были гонимы идеологи-
ей и властью, вплоть до стремления их физически искоренить
и предать анафеме. Я, будучи сторонником умеренной диалек-
тики в отношении смены символических языков, стараюсь до-
казать, что стремление отречься от старого символического язы-
ка так или иначе уравновешивается идеализацией этого языка
1 Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб., 2007. С. 171.
3.1. Лингвистический и образныйтипы символизма 245
в различных «исторических» стилях. Любой модерн и постмо-
дерн способен «отречься» от прежних символов, не считаться
с ними, замкнуться лишь в себе самом, как будто не было исто-
рии, словно отбросив интерес к ней. Однако это только формы
отношения: сами исторические символы (взятые как символы
соответствующих прошедших традиций) не способны изменить
никакое «сбрасывание с корабля современности». Символиче-
ский смысл, который вложил Плотин в свои «Эннеады», конеч-
но, не существует в собственной и неизменной исконности. Но
этот смысл совершенно точно не может трактоваться произ-
вольно, с позиций совершенно другого символизма. А если он
и трактуется в жанре, который Рорти назвал «переописанием»,
а Деррида — «деконструкцией», то мы изначально имеем дело
с описательными нарративами, имеющими крайне отдаленное
отношение к Плотину. Таким образом, я хотел бы установить
в качестве закономерности следующее положение: новые симво-
лы выступают модерном по отношению лишь к той старой тра-
диции, в лоне которой они зародились. По отношению же к более
ранним традициям «переописания» таких символов уже крайне
условны. То есть философский постмодерн XX в. достаточно
эффективен в критике рационалистических и позитивистских
учений XIX в.; однако стремление постмодерна переписать исто-
рию Античности или Возрождения оказывается чисто внешним
вследствие отсутствия непосредственной связи между опытом
и языком этих традиций. Так и в философии принято полемизи-
ровать с современниками или недавно живущими мыслителями;
но попытки «опровергнуть Платона» (как это было, например,
в трудах Поппера и Деррида) — это совершенно неконструктив-
ный и откровенно идеологический проект.
Символические порядки не только с трудом поддаются
рационализации, но также несут в себе индивидуальность
эйдетического опыта, который характерен именно для этой
традиции и может отсутствовать в другой. И если на уров-
не метафизики возникает стремление «рационализировать»
символы, превратив их в тип особых «понятийных форм»,
то для традиции гораздо более подходят эмблематические
и аллегорические языки, носящие популярный, общепо-
нятный, но вместе с тем усредненный характер толкования
символов. Наряду с ошибочным стремлением рационализи-
246
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ровать символический язык возникает не менее ошибочное
стремление свести этот язык к сенсуалистическому уровню,
что характерно для классических эмпириков. Так, Бэкон пи-
шет: «Эмблема же сводит интеллигибельное к чувственному,
а чувственно воспринимаемое всегда производит более силь-
ное воздействие на память и легче запечатлевается в ней,
чем интеллигибельное»1. На мой взгляд, поднятый Бэконом
вопрос — это вопрос эпистемологической позиции. Эмпири-
ческий универсализм сводит все формы познания к впечат-
лениям чувственности; следовательно, символ должен быть
выражен языком, непосредственно убедительным для тех
или иных ощущений. В целом эмпирическая теория неплохо
объясняет обыденный, народный, массовый символизм, ко-
торый редко возвышается за пределы рядовых, сниженных
уровней понимания и толкования. Трудности с эмпириче-
ской трактовкой символов начинаются тогда, когда мы по-
падаем в область возвышенного опыта. Языки скульптуры,
живописи, паркового искусства требуют обязательной визу-
ализации. Но наглядное содержание не сводится к увиденно-
му, а отсылает к своему символическому смыслу и ассоци-
ациям в области эйдетического опыта. Поскольку символы
изобразительного искусства стремятся визуализировать не
вещь, а эйдос, то конкретно-чувственное содержание ока-
зывается подчиненным эйдетической цели. Оно может быть
безобразным, отталкивающим или даже совершенно аб-
страктным и не вызывающим ассоциаций с наблюдаемыми
предметами, — но все это служит предельно четкому выраже-
нию эйдоса. В случае же с музыкой и поэзией эмпирическая
картина символизма работает еще хуже, поскольку в этих
искусствах выстраиваются ряды внутренних впечатлений,
лишенных визуализации за пределами сферы воображения.
В лингвистическом символизме (который я считаю высшей
формой выражения символических образов) поэтическое
слово приобретает характер имени эйдоса, обращающегося
к нашему возвышенному опыту напрямую и не требующему
соответствий в области эмпирического опыта. В поэзии воз-
вышенный опыт усматривает эйдетическую природу, а поэ-
1 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1971. С. 329.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
247
тическое слово выступает символом, который в рамках этого
особого опыта прост и непосредственен. При этом словесные
фигуры приобретают особый, так называемый поэтический
и метафорический смысл, существенно отличающийся от
смысла тех же слов и выражений, если бы они фигурировали
в практике повседневного употребления.
Если говорить о новизне классического эмпиризма в трак-
товке языкового символизма, то, на мой взгляд, она заключает-
ся в особом внимании к механизму лингвистических привычек,
которые позволяют удерживать символические значения за счет
, постоянного воспроизведения их в языке. Локк пишет: «Сло-
^'ва от частого употребления легко вызывают идеи... От посто-
': янного употребления между определенными звуками и идеями,
1 которые ими обозначаются, образуется столь тесная связь, что
названия, когда их слышат, почти так же легко вызывают опре-
деленные идеи, как если бы сами предметы»1. Хотя английский
классик ведет речь об ассоциациях чувственного опыта, такой
механизм актуален и для возвышенного опыта. Причем, ско-
рее всего, именно в рамках последнего, свободного от частного
характера, возможен консенсус в отношении если не значения,
то употребления символических выражений. Если обратиться
к хрестоматийному примеру Хёйзинги, белая роза может вызы-
вать самые разные впечатления на уровне чувственного опыта.
Но в языке Средневековья было достигнуто согласие относи-
тельно ее аллегорического смысла как образа чистоты и невин-
ности; и в этом случае, очевидно, роза уже предстает перед нами
как определенный эйдос. Конечно, в рамках эйдетического опы-
та белая роза тоже может восприниматься по-разному, но здесь
индивидуальность реализуется в рамках устоявшихся симво-
лических трактовок. При этом не следует также забывать, что
Локк, выступив основоположником учения о лингвистическом
словоупотреблении, относился к языку критически и считал его
источником заблуждений, а не истины: «По непростительной
небрежности часто употребляют вообще без всякого определен-
ного смысла слова, с которыми правильность употребления язы-
ка связала очень важные идеи...Люди берут те слова, которые
находят в употреблении среди окружающих, и, чтобы не могло
1 Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 464.
248
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
казаться, что они не знают, что ими обозначается, употребляют
их уверенно»1.
И в самом деле, возвышенный смысл символов остается за-
крытым для типичного носителя общественного сознания прак-
тически любой эпохи: он требует существенной подготовки,
образования, определенного аристократизма и высокого уров-
ня духовного развития. Тем не менее в условиях невозможно-
сти полного понимания символической природы лингвистиче-
ские установления и повторения выступают мощным фактором
«привыкания» к символам и закрепления их как части тради-
ции. Путем «идолов площади», посредством повседневного
словоупотребления распространяются не только заблуждения
и предрассудки, но (пусть и на несколько сниженном уровне)
и символические представления искусства, религии, философии.
В церкви, музее, салоне или творческом клубе человек редко
взлетает до высот символических толкований, но здесь он все же
получает начальное представление о символических структурах
и порядках, усваивает самые простые символические смыслы
и значения, которые потом могут усложняться в его эстетиче-
ском развитии. Именно так формируется «образованное сооб-
щество», состоящее не только из Сократов, Оккамов и Шек-
спиров и способное сохранять и поддерживать символический
язык как форму возвышенного в культуре, а порой и участво-
вать — через выражение мнений и побуждений — в символиче-
ской жизни традиции, подготовляя новые поколения творцов
символов. И хотя я связываю генезис символов с выдающейся
творческой личностью, я не разделяю ницшеанского представ-
ления о персоналистическом аристократизме культуры. Самая
великая личность должна быть понятной и эйдетическому опы-
ту рядовых, но по-своему способных к возвышению души чита-
телей, собеседников, зрителей и т. д.
Само собой разумеется, что частое или всеобщее употребле-
ние символов ничего не говорит об их значимости, но именно
на этом уровне закладываются символические лингвистические
1 Локк Дж. Сочинения. Т. 1.. С. 549-550. Беркли судит еще более ради-
кально: «Может даже возникнуть вопрос: не служил ли язык более препят-
ствием, чем помощью успехам наук? Так как слова столь способны вводить
в заблуждение ум, то я решил в моих исследованиях делать из них возмож-
но меньшее употребление» (Беркли Дж. Сочинения. М., 1978. С. 168).
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 249
привычки, которые позволяют не просто переживать эйдетиче-
ский опыт, но и иметь определенный язык для его выражения.
Язык закрепляет «традиционность», за которой впоследствии
уже может и не стоять никакого живого опыта; однако даже фо-
нологическая воспроизводимость не бесплодна и поддерживает
определенный интеллектуальный тонус, побуждает искать более
удачные символы. На мой взгляд, Юм «реабилитирует» линг-
вистический символизм, готовя почву для немецких классиков,
у которых возвышенный опыт становится особой способностью
познания. Так, Юм пишет: «Люди редко любят от души то, что
очень отдалено от них и что совершенно не служит их личной
.выгоде; столь же редко можно встретить людей, способных про-
стить другим людям противодействие их интересам... Сейчас мы
можем ограничиться указанием на то, что разум требует такого
беспристрастного поведения, однако мы редко можем прину-
дить себя к нему и наши аффекты неохотно повинуются реше-
нию нашего разума»1. Таким образом, на уровне морального
или эстетического символизма человек следует не соображени-
ям высшей метафизической истины, а скорее тому, что принято
в существующей традиции. В этом отношении символические
порядки традиции усваиваются эмпирически (особенно через
практику языка) и обращены к непосредственности опыта. «Вы-
года», о которой пишет Юм и которая всегда возмущает сторон-
ников чистой морали, — это ни в коем случае не субъективный
меркантилизм или эгоизм. Это сложный механизм взаимодей-
ствия воли частного субъекта с символами традиции, которые
действительно большей частью принимаются вследствие пре-
бывания субъекта «внутри» этой традиции. Ведь когда Федон
говорил Сократу о несправедливости афинских законов, Сократ,
возможно, и признает эту несправедливость метафизически, но
как афинский гражданин он доказывает необходимость подчи-
нения той политической традиции, в которой он жил и творил
семьдесят лет, не желая толковать эти законы по-своему и под-
чиняясь им. Тем самым положение субъекта и конкретного акта
эйдетического опыта внутри традиции неизбежно отражается
и на опыте, и личности субъекта, что представляется разумным
и оправданным. Никакая культура не может обойтись без здо-
1 Юм Д. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1966. С. 620.
250
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ровой меры символического консерватизма — иначе она впала
бы в состояние хаоса. Равно как и символы принимаются не на
основе рациональных соображений, поскольку они суть ценно-
сти, требующие не только постижения, но и согласия, принятия,
достижения через них собственной личной возвышенности.
На уровне лингвистического символизма слово, хотя и име-
ет эйдетическое определение, обращено к понятности для опы-
та, а потому не нуждается в детальной дефиниции по аналогии
с терминами. Вполне достаточно того, что слово гармонично
выражает собственный эйдос и отсылает к акту (актам) опыта,
делая этот эйдос конкретным. Подобная символическая неопре-
деленность мне представляется нормальной; даже самые строгие
логики вынуждены с этим смириться. Как пишет Ф. К. С. Шил-
лер, «нам надо признать, что любое слово, какое только можно
употребить, потенциально двусмысленно»1. Многие философы
усматривают существенный конфликт между определенными
терминами и неопределенными символами, однако на лингви-
стическом и культурном уровнях особого конфликта не суще-
ствует: ведь рациональная метафизика и символические порядки
традиции играют различные роли и основаны на разных чело-
веческих способностях. К примеру, Рассел не склонен распро-
странять критерии теории дескрипций на все возможные языки.
«В целом было бы невероятно неудобно иметь язык, свободный
от двусмысленностей, а стало быть, верх милосердия, что мы
его не получили»2, — пишет он. Слово как символ ближе к есте-
ственности языка, в которой присутствует многозначность и на-
глядная образность; однако из этого не следует, что символиче-
ский язык — «естественный». Взятый в своих развитых формах,
он (в любой сфере традиции) является сотворенным; поэтому
символизм не относится к уровню обыденного языка, а лишь
пользуется порой этим языком, преобразовывая и видоизменяя
его. Символ роднит с обыденным словом неоднозначность, рав-
но как и существенная зависимость от употребления, непосред-
ственного присутствия в опыте языка. Но сам символический
смысл находится вне контекста обыденного языка, а в опреде-
ленном смысле носит вообще внеязыковой характер, поскольку
1 Schiller F. С. S. Logic for Use. New York, 1930. P. 214.
2 Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999. С. 21.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 251
ни опыт, ни эйдосы не суть языковые формы. С точки зрения
символического реализма, которого я придерживаюсь, сфера
символов существенно зависит от языка (а символы некоторых
порядков только посредством языка и могут быть выражены),
но является внеязыковой относительно своей сущности как выс-
шей формы культурной, человеческой реальности. В этом я со-
гласен с Расселом, который утверждает: «Слова предназначены,
хотя философы, кажется, склонны забывать этот простой факт,
для того, чтобы иметь дело с реальностью, отличной от слов»1.
На уровне символизма отличной от слов реальностью выступает
именно эйдетическая реальность.
В рамках аналитической философии, несмотря на ее ори-
ентацию на концептуализм, достигнуты существенные теоре-
тические успехи в закладке фундамента реалистического изу-
чения символизма. Однако аналитические философы от Мура
до Анкерсмита продолжают оставаться юмистами в трактовке
символизма, полагая, что он связан с определенным уровнем
психики и закрепляется через механизм лингвистической при-
вычки. К примеру, основоположник реалистического символиз-
ма Уайтхед пишет: «Символизм от чувственного представления
к физическим телам наиболее естественен и чаще встречается
среди других символических форм»2. Признавая существенные
заслуги Уайтхеда в области символического обоснования куль-
туры с позиций реализма, я категорически не согласен с тези-
сом о «естественности» символизма и присутствии его на уровне
обыденной образности. На мой взгляд, символизм предполагает
наличие развитого эйдетического опыта, а этот уровень, хотя
и потенциально достижим для человеческой души, никак не мо-
жет считаться естественным. К примеру, художник может от
природы обладать врожденным талантом и специфическими
особенностями созерцания: но этот талант реализуется в виде
полотна, написанного по определенным канонам, в опреде-
ленном жанре, с особым возвышенным смыслом, обращенным
к созерцанию зрителя и выстраиванию интерпретаций и т. п.
В приведенном сейчас перечне я не усматриваю ничего «есте-
ственного». Итак, подытожим сказанное выше: ошибочно трак-
1 Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999. С. 164.
2Уайтхед А. Н. Символизм, его смысл и воздействие. Томск, 1999. С. 8.
252 Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
товатъ символы не только как концептуальные построения,
но и как формы чувственности и искать корни символизма во
врожденных особенностях человеческой психики. Следует изба-
виться от заблуждений классического эмпиризма, выведя эм-
пиризм на качественно новый уровень метафизической теории
символизма и возвышенного опыта.
Но вернемся к исследованию механизмов запечатления
языкового символизма в сфере культуры. Здесь невозможно
обойти разрозненные заметки позднего Витгенштейна. Начнем
с того, что Витгенштейн отмечает существенное различие кон-
цептуального и символического языков. В рамках концептуаль-
ного языка имя может быть заменено другим именем, если те-
оретик считает новое более удачным. Старое имя в этом случае
просто уходит в архив, а на уровне практики забывается. В отно-
шении символов так не происходит, о чем и пишет Витгенштейн:
«Вспомни о неудобствах, испытываемых нами, когда меняется
правописание слов... Безусловно, не всякая знаковая форма глу-
боко запечатлена в нас. Знаки, например, в алгебре логики мо-
гут быть заменены любыми другими, и мы не станем глубоко
переживать это»1. Что означают загадочные слова: «глубоко за-
печатлена в нас»? Полагаю, что эта запечатленность находится
на уровне языкового контекста в целом, а если посмотреть еще
глубже — на уровне традиции и эйдетического мира. Поэтому
если символ удачно передает суть эйдоса, он не может быть за-
менен другим. Символические трансформации, как я не раз по-
казывал, происходят именно в случае дисбаланса между симво-
лом и эйдетическим опытом, что побуждает перетолковывать
старые символы и искать новые. Символическая неудовлетво-
ренность была и будет всегда, но периоды гармонии для каж-
дого символа вполне обычны. К примеру, символы платонизма
две тысячи лет сохранялись и только постепенно перестраива-
лись, дополнялись, демонстрируя тем самым поразительную
живучесть в нескольких разных традициях.
Для Витгенштейна важно доказать, что на уровне обыден-
ного языка правила логики существенно ослаблены, а грамма-
тические и символические структуры языка не преследуют та-
кого идеала, как строгость. В этом контексте значимо замечание
1 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 148.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 253
мыслителя о структуре русского языка: «В русском языке вместо
“Камень есть красный” говорится “Камень красный”; ощущают
ли говорящие на этом языке отсутствие глагола-связки “есть”
или же мысленно добавляют ее к смыслу предложения?»1 На
этот вопрос я могу ответить как носитель русского языка: нет,
не ощущают никоим образом. Русские употребляют «есть» не
мысленно, а символически — как смежность, расположенность
в общем пространстве, а не как предикат, свойство. «Красное»
оказывается чем-то находящимся вблизи камня и символи-
чески окрашивающим его. Ведь именно русский художник
Кандинский создал учение о живописном символизме цветов;
и в.этом учении красное, белое, синее — не предикаты одного
и того же камня (который как физический объект неизменен),
а некое сущностное свойство, превращающее по-разному окра-
шенные камни в совершенно разные камни. Тургенев также от-
мечает, что русский язык грамматически не строг и более волен
в отношении грамматической структуры, порядка определений
и слов, нежели западноевропейские языки, что выдает его бли-
зость к архаическим формам языка, меньшую степень артику-
лированное™ и строгости. Например, в философских переводах
на русский язык зачастую умышленно вводят связку «есть» ради
достижения большей строгости. Так, переводят не «чувство —
это мышление, взятое совершенно абстрактно», а «чувство есть
мышление, взятое совершенно абстрактно».
Причины лингвистического символизма Витгенштейн
приписывает загадочным, архаическим структурам донаучных
языков. В этом отношении он и в поздней философии судит как
логик, сравнивая структуры обыденных языков с языком сво-
его «Трактата». Витгенштейн пишет: «Мое описание имело бы
смысл, лишь если его понимать символически. — Я должен был
бы сказать: так мне представляется это... Но для чего пригодно
такое символическое предложение? Оно призвано подчеркнуть
разницу между причинной обусловленностью и логической обу-
словленностью. Мое символическое выражение, по сути, было
неким мифологическим описанием применения правила»2. Не-
сомненно, классик несколько утрирует и усиливает противоре-
'Там же. С. 88.
2Там же. С. 167-168.
254
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
чие. Символические описания могут включать в себя и струк-
туры мифа, однако во многих формах традиции они стремятся
к определенности и ясности. Только эта ясность действительно
другого порядка: она, как верно отмечает Витгенштейн, «пред-
ставляется», но на уровне не обыденного, а возвышенного опы-
та. Несмотря на склонность к мистификации символизма и пе-
реоценке роли обыденного языка, Витгенштейн дает, пожалуй,
адекватное представление о фрагментированности, царящей
в рамках современной культуры, о практически полном отсут-
ствии в ней целостности и единства: «Картина языка взросло-
го, которой мы располагаем, представляет собой расплывчатую
массу языка, его родной язык, окруженный дискретными или
более или менее ясно выделенными языковыми играми и тех-
ническими языками»1. Я согласен с Витгенштейном в том, что
лингвистический образ современного человека отличается ха-
отичностью, существенно уступая той целостности языкового
строя, которыми отличались такие представители былых клас-
сических традиций, как Цицерон, Монтень, Гёте и Гегель. Ведь
символический язык стремится к своей классической завершен-
ности, а высшей степенью завершенности является гармониче-
ский союз языков разных символических порядков, выражаю-
щих родственные друг другу эйдетические смыслы.
Символическое слово способно приобрести каноническое
или общепринятое значение, но оно никогда не может оказаться
незыблемым и свободным от правок и интерпретаций. На уров-
не опыта символ прост, как созвучный этому опыту образ, но
в лингвистическом оформлении он уже теряет непосредствен-
ность эйдетической природы, переставая быть «простым». Без
сопровождающего опыта лингвистический символизм стано-
вится своеобразным видом формализма и бесконечным спором
о словах. Так, в поэзии наше понимание ограничено, поскольку
«для нас» (то есть для нашего опыта) практически пусты те стро-
фы, которые не нашли в нас душевного отклика. Они прекрасны
сами по себе, и герметичность мира этих строф — во многом
наша вина. Но я привел этот пример (а подобная экзистенци-
альная ситуация знакома каждому), чтобы показать, насколь-
ко отвлечен лингвистический символизм, если он оказывается
1 Витгенштейн Л. Коричневая книга. М., 1999. С. 12.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
255
замкнутым в собственной среде. В какой-то степени наши пред-
ставления о символах не только традиционны, но и окрашены
в особенности индивидуальной избирательности опыта и его
запросов.
В древности особенно почитался принцип соответствия
слова и дела, причем тем самым слово приобретало характер
символического поступка, достойного упоминания и хранения
в исторической памяти. К примеру, когда Солон говорит Крёзу:
«Все свое ношу с собой», — то это — символический жест, дости-
жение полной гармонии между жизненным принципом и опы-
том такой жизни. Аналогичный случай — это «ритуальное»
наименование, когда слово совершенно неотделимо от опреде-
ленной последовательности действий и понятно лишь в таком
контексте. О таком словоупотреблении пишет Остин: «Скорее
дело здесь обстоит таким образом, что, говоря о том, что я де-
лаю, я тем самым совершаю это самое действие. Когда я говорю
“я называю это судно «Королева Елизавета»”, я не описываю
церемонию именования, но тем самым, собственно, именую»1.
В связи с этим можно констатировать существенное отличие
символического слова от термина: для символов не существует
разрыва между словом и его значением, между говорением и дей-
ствием. Поэтому символ нельзя трактовать «теоретически»;
его нельзя «абстрагировать», оторвать от возвышенного опы-
та и практики той традиции, к которой он относится. Символ
может быть постигнут лишь в сложном контексте других род-
ственных ему символов. Он не является дискретной величиной
и «атомом» нашего опыта. Скорее символ — это обозначение
определенной области эйдетического опыта, хотя границы ее за
редкими исключениями (например, догматическая теология),
как правило, довольно размыты. Несмотря на эту нечеткость,
которая так смущает строгих логиков, только в символическом
слове достигается гармоническая тождественность между прак-
тикой опыта и лингвистическим обозначением такой практики.
Я не раз замечал, что изречение древнего философа или стро-
фа великого поэта как гармонические символические фигуры
напоминают по своему характеру пословицу, поговорку, ста-
новится крылатыми выражениями. Так и все акты опыта, дей-
1 Остин Дж. Три способа пролить чернила. СПб., 2006. С. 264.
256
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ствия, поступки подводятся под символическое подобие смыс-
лу этого изречения, равно как все древние герои оказывались
символически подобны Ахиллу, а все поэты — Гомеру. Платон
и Аристотель также становились символическими фигурами,
высказывания которых трактуются не только теоретически,
но и символически — как определенные эйдетические маркеры
и «смысловые основания» традиции.
Если обратиться к современному уровню философии язы-
ка, то наиболее удачной для большинства теоретиков представ-
ляется метафорическая картина. По крайней мере, для симво-
лических слов и высказываний метафора выглядит удачной,
поскольку она позволяет (насколько это возможно) сохранить
образность эйдетического опыта. Один из основоположни-
ков современной теории метафоры Д. Дэвидсон пишет: «Дело,
впрочем, не только в том, что невозможно дать исчерпывающее
описание того, что благодаря метафоре мы увидели в новом све-
те. Трудность здесь более фундаментальна. То, что мы замечаем
или видим, не является, вообще говоря, пропозициональным...
Метафора, делая некоторое буквальное утверждение, заставля-
ет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что и вле-
чет за собой прозрение»1. «Высказывания» литературы, мифо-
логии, а также большей части философии, истории и теологии
суть метафоры, поскольку они состоят из символических слов,
смысл которых лежит за пределами их буквальных значений.
Метафора отсылает к «невысказанному» контексту, который
доступен лишь опыту говорящего и слушающего. За пределами
своего символического порядка метафора практически ничего не
значит, поскольку она требует определенного «кода», «ключа»
для того, чтобы быть непосредственно понятой, причем поня-
той в контексте того языка, в котором она употребляется. Таким
образом, символы выражаются метафорическим языком, отсы-
лая не к значению, а к контексту, побуждая к перенесению сим-
волического смысла в сферу непосредственного опыта.
В контексте метафорической трактовки символического
языка признается качественное различие языка и мира, кото-
рый он описывает. Но оно не носит характера антагонистиче-
ского противоречия. В символическом языке изначально не
‘Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М., 2003. С. 360-361.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
257
существует ни чисто лингвистической артикуляции слов, ни
выделения отвлеченного мира. Поскольку предметом симво-
лического языка выступают эйдосы, то они рассматриваются
только в контексте человеческого возвышенного опыта; по-
этому эйдетический мир не выступает внешней действитель-
ностью. Это — мир возвышенных образов, которые, даже
будучи объективными, не теряют своей исключительной че-
ловечности, составляя культурный универсум, выступающий
как нечто альтернативное универсуму природы. На уровне
символизма взаимное проникновение опыта и языка по-
s зволяет вести речь об особой реальности, в рамках которой
' концептуальные диспозиции либо не действуют, либо ока-
- зываются существенно иными. Поэт и художник, к примеру,
не дистанцируются от того, что они изображают, а обретают
себя в созданном стихотворении (картине, скульптуре, сим-
фонии, здании); равно как и читатель не отделяет свой опыт
от опыта героев романа, выстраивая сложные и во многом
индивидуальные диалогические связи приятия и неприятия,
уподобления и отторжения1. Поэтому Патнэм, на мой взгляд,
адекватно отражает подход к символическому языку, когда
пишет; «Я хочу сказать, далее, что элементы того, что мы на-
зываем “языком” или “разумом”, проникают так глубоко в то,
что мы называем “реальностью”, что сам проект представле-
ния нас как “картографов” чего-то “лингвистически незави-
симого”, с самого начала обречен на провал. Наподобие реля-
тивизма, но несколько иным способом, реализм невозможен
как попытка посмотреть на мир из Ниоткуда»2. Здесь есть
одно ценное замечание, которое выходит за пределы эписте-
мологии, но без которого нельзя понять предлагаемую здесь
теорию традиций и символических порядков: все традиции
и порядки обязательно окрашены в цвета сотворивших их
личностей и народов. В связи с этим символизм неотделим от
идеи культурного плюрализма. Я считаю глубоко неверным
тезис метафизики, согласно которому можно найти всеобщее
1 «Метафора — это акт отождествления: подлинное страдание поэта
“уравнивается” со страданием его символических фигур» (Ман П. де. Ал-
легории чтения. Екатеринбург, 1999. С. 37).
2Putnam Н. Realism with a Human Face. Cambridge, Mass., 1990. P. 28.
258
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
нейтральное основание, с позиций которого подлежат оценке
все символические языки и порядки. Мы всегда судим с опре-
деленной точки зрения; и природа тех символов, которые мы
разделяем, не является ни универсальной, ни вечной.
Наряду с достижениями, современная метафорическая
теория символического языка сдержит и некоторые затруд-
нения. Мне представляется спорным тезис современного реа-
лизма, согласно которому реальность мира наделяется имен-
но лингвистическими характеристиками. Я думаю, что мир
так или иначе окрашен нашими эйдетическими представле-
ниями — лишь при этом условии лингвистический симво-
лизм приобретает осмысленность. Нет необходимости опре-
делять онтологический статус символической реальности;
к тому же такая реальность не имеет простого определения
и всегда представляет собой сложный баланс опыта и язы-
ка, индивидуальный для различных эйдетических миров.
Символический реализм в США (Гудмен, Патнэм, Сёрл, Ан-
керсмит) сохраняет свой «лингвистический» характер, кото-
рый мне кажется анахронизмом. В моем представлении реа-
лизм из теории языка постепенно становится теорией опыта.
Второй характерной особенностью современных исследова-
ний символизма является витгенштейнианское отождествле-
ние символического языка с принципами обыденного слово-
употребления. Выше уже было доказано, что это не совсем
так. Добавлю, что обыденный язык лишь по видимости схож
со зрелым символическим языком, поскольку возникает об-
щая них парадигма «непосредственной понятности». Однако
в символическом языке «непосредственно понятным» ока-
зывается не контекст словоупотребления, а соответствующие
акты эйдетического опыта. К примеру, когда романтики при-
ходят к идее «народной поэзии», то речь не идет, конечно,
о народе как низшем слое общества с соответствующим ми-
ровоззрением и языком. На авансцену литературы выводятся
типические, эйдетические образы, которые воплощают в себе
народность не буквально, а символически, как носители «на-
родного духа». Белинский, к примеру, много раз отмечал, что
народность состоит не в описании быта ямщиков и кухарок,
а в представлении возвышенного духовного облика человека
из народа: его жизни, переживаний, помыслов.
3.1. Лингвистический и образныйтипы символизма 259
Символический язык возникает в контексте таких фе-
номенов, как общение, интерпретация, диалог, принятие
и отвержение. Такой язык неотделим от коммуникации.
В своих высших духовных типах традиция обнажает характер
непрестанного обмена символическими смыслами. Напри-
мер, в рамках философии и литературы выстраиваются слож-
ные диалоги со многими действующими лицами, каждое из
которых представляет собой индивидуальность. Чаще всего,
коммуникация вовсе не «объединяет» современников-фило-
софов или писателей; но совершенно ясно, что их миры ка-
ким-то образом пересекаются и вступают в отношения друг
с другом. Наряду с очной, возможна также и заочная комму-
никация, когда в процесс взаимодействия смыслов попадают
символы из других порядков или былых эпох. К примеру,
взаимоотношения русских славянофилов и западников, на-
ряду с прямой коммуникацией, пронизаны заочной коммуни-
кацией с историософскими образами Петровской и допетров-
ской эпох русской истории. Наконец, коммуникация зачастую
осложнена тем, что взаимодействия происходят по поводу
символов, смыслы которых идеологически окрашены. Так,
для западников и славянофилов «Россия» и «Европа» — это
символы, но вместе с тем и идеологические принципы, знаме-
на неких партий. И это при том, что эйдетические определе-
ния России и Европы крайне затруднены вследствие сложно-
сти и многоплановости как самих символов, так и стоящего за
ними опыта. Существенна не только эпистемология, но и пси-
хология в обосновании той власти, которую приобретают над
нами символы. Метафора сама по себе есть словесная фигура,
но она обладает символической властью, побуждая нас к опре-
деленному опыту. Метафора способна травматически пробу-
дить в нас тот опыт, который довольно мучителен и трагичен;
и хорошо, если это переживается в светлом, ностальгическом
ключе. Славянофилы не просто писали об утраченном сво-
еобразии самобытной русской культуры; она была для них
символом утраты и ностальгического воспоминания. Психо-
лог М. Холл так пишет об этом сложном душевном феноме-
не: «Обычно мы думаем, что метафоры функционируют не
столько как реальный язык, сколько как язык украшений.
Поэтому мы не принимаем их как серьезные описания. Па-
260
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
радоксально, но именно поэтому метафоры оказывают очень
сильное влияние на нашу жизнь и наши эмоции. Метафоры
функционируют на метауровне, а не на основном уровне»1.
Если на уровне значения и логического контекста выбор того
или иного языка формален и рассудочен, то метафорический
язык символов не только невозможен без выстраивания рядов
опыта и ценностных диспозиций, но также обращается к уже
сформировавшемуся уровню наших самых главных символи-
ческих представлений; а такое глубокое проникновение дале-
ко не всегда оказывается психологически комфортным или
желательным. Сколько раз бывало, как прочитанный стих,
просмотренный фильм, увиденная картина, неожиданная
встреча словно переворачивали нас, выбивая из привычной
колеи, обращая к глубоким переживаниям и раздумьям. Ху-
дожественный символизм в большей мере, чем какой-либо
другой вид символизма, способен не только изображать, но
и пробуждать, вызывать определенный эйдетический опыт.
И опять же, если судить с точки зрения современной психоло-
гии, слова поэта не взволновали бы нас, если бы у нас не было
уже заложенной душевной потребности. Как пишет психолог
Д. Бернс: «Повторяю: ни разу в жизни ни в малейшей степени
никого не расстраивали чужие слова! Какими бы жестокими
и беспощадными они ни были, власти над человеком, над его
самочувствием у них все равно нет\»2
Вместе с тем я не склонен преувеличивать роль диалога по
поводу символов. В некоторых концепциях философии языка
диалог становится исключительной формой смысловой ком-
муникации, что приводит к переоценке его роли. К примеру,
Рорти пишет: «Наша достоверность будет вопросом, связанным
с понятием разговора между людьми, а не взаимодействием
с внечеловеческой реальностью»3. Ему вторит Анкерсмит: «Я,
вероятно, более последовательный сторонник Рорти, чем он
сам. Я хотел бы вывести из его, на мой взгляд, долгожданной
и убедительной критики эпистемологической традиции ту воз-
1 Холл М. НЛП: золотые секреты скрытого влияния на подсознание и по-
ведение. СПб., 2009. С. 302.
2 Бёрнс Д. Хорошее самочувствие. М., 1995. С. 127.
3 Рорти Р. Философия и Зеркало природы. Новосибирск, 1997. С. 116.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
261
можность изучать мир, которая не опосредована языком, теори-
ей, традицией или чем-то еще»1. Мнение Анкерсмита, на мой
взгляд, уже существенно отличается от того, что утверждает
Рорти, который переводит всю символическую коммуникацию
в область волюнтаристских интерпретаций. Тут есть существен-
ные затруднения. Разговор и диалог в области символизма да-
леко не всегда носит очный характер; часто он либо заочный,
либо вообще обращен к историческому, литературному, мифо-
логическому персонажу. В этом случае символический диалог
инициируется интерпретатором, а вторая сторона обладает во-
ображаемым собственным голосом. Поэтому когда утвержда-
ется диалогическая природа символических интерпретаций,
сам диалог следует понимать метафорически, как форму рас-
крытия эйдетического смысла. Не все коммуникативные фор-
мы являются лингвистически оформленными, равно как и не
все символические взаимоотношения находятся в плоскости
диалога. Интерпретация — довольно разнообразный процесс,
а отмеченный Рорти «разговор» — это важный прием, но никак
не субстанциональное понятие, определяющее достоверность
о мире и языке.
Таким образом, я отвожу языку ключевую роль в выра-
жении любого возможного символизма, но не отделяю его от
других сторон коммуникации, опыта и традиции. Если язык
превращается в символическую самоцель, то все символы на-
чинают трактоваться как условные слова, что неизбежно ведет
к крайнему релятивизму и смешению самых разных символи-
ческих порядков. Типичный пример такого релятивизма — су-
ждение Рорти: «Если мы сопоставим примеры альтернативных
языковых игр — словарь политиков древних Афин со словарем
Джефферсона, этический словарь Св. Павла со словарем Фрей-
да... тогда нам будет трудно представить, что сам мир делает
один из этих словарей лучше другого, что мир выбирает меж-
ду ними... Мир не говорит. Говорим только мы»2. Как однажды
пошутил X. Патнэм, релятивист должен признать и взгляд, со-
гласно которому релятивизм есть ошибка. Рорти здесь отстаи-
1 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.,
2003. С. 13.
2 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 25.
262
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
вает уже несколько старомодный, но все еще популярный тезис,
согласно которому любой символизм релятивен по отношению
к языку и замкнут в своем лингвистическом мире. Подобная ато-
мистика языков у Рорти сопровождается свойственным пост-
модерну чисто идеологическим допущением возможности со-
вершенно свободного выбора между этими языками — напо-
добие того, как мы в магазине можем выбирать любой фасон
одежды. Однако такое представление о символизме мне пред-
ставляется настолько превратным, что не хочется тратить силы
на его опровержение (я уже делал это в другой своей книге1).
Рорти не сознает того, что судит с позиций собственного опыта,
который включает в себя лингвистический релятивизм, анти-
реализм, либерализм, прагматизм и многие другие убеждения.
В результате Рорти совершенно некритично переносит идеи
той постмодернистской и либеральной традиции, в которой
он мыслит, на совершенно иные традиции и языки. В этом от-
ношении Рорти как раз напоминает идеологически зависимых
и пристрастных авторов (к примеру, марксистов, которые рас-
сматривали всю историю философии как борьбу материализ-
ма с идеализмом, или Поппера, ангажированно превратившего
Платона в основоположника тоталитаризма). Теоретическая
несостоятельность такой методологии представляется очевид-
ной. Если и говорить о «научном» исследовании символизма,
то, по крайней мере, следует принимать как факт наличие иной
природы символических языков других традиций и по возмож-
ности исходить из тех эйдетических миров и символов, кото-
рые присущи этим языкам.
В контексте вышесказанного становится понятным, почему
современная неоклассическая парадигма философии вращается
вокруг проблематики исторической памяти. Нетрудно убедить-
ся в том, что, хотя любая история не свободна от идеологии, опи-
сания эпохи, не погружающие нас в ее тип символизма, совер-
шенно неконструктивны. Заслуга немецкого эллинофильского
романтизма в том, что в нем заложена идея рассуждения о гре-
ках с точки зрения самих греков, идея герменевтической рекон-
струкции символов этой великой эпохи. И эта идея оказалась
1 Никоненко С. В. Реальность, символы и анализ. Философия по ту сторо-
ну постмодернизма. СПб., 2012.
3.1. Лингвистический и образный типы символизма
263
настолько сильной, что способна уравновешивать бесконечные
«модернизмы» прошедших с тех пор полутора веков. В связи
с этим мне представляется наиболее плодотворной идея выстра-
ивания исторических нарративов, реконструирующих символы
прошлой традиции с максимальным воссозданием контекста их
применения. Предложенная X. Уайтом тропологическая страте-
гия исторического исследования все еще достаточно зависима
от прагматистских установок, помещая историка в роли неко-
его судьи и «распорядителя» исторических событий1. Однако
мне эта позиция близка отсутствием универсализма в отноше-
нии истории. Реконструировать былые формы символизма нам
полностью не удастся, но они должны быть восстановлены
настолько правдоподобно и близко к контексту языков той
эпохи, насколько это возможно. Также в нарративистской ме-
тодологии мне кажется плодотворным то, что ей удается уйти
от протопозитивистского понимания событий и источников
как «исторических фактов». В нарративе источники, события,
люди трактуются изначально символически, а в контексте соб-
ственной традиции они оказываются скорее символическими
«репликами», нежели незыблемыми основаниями. Ведь в своей
непосредственности великое деяние, творение, труд вовсе не яв-
ляются «историческими событиями» в патетическом значении
этого словосочетания. Внутри Античности даже такие гранди-
озные события, как завоевания Александра или труды Аристо-
теля, — это некая длящаяся непосредственность, производящая
впечатление на эйдетический опыт всей эпохи, но не получив-
шая своего конечного символического оформления. На мой
взгляд, львиная доля символов принадлежит исторической па-
мяти, потому что история обращается к зрелым и законченным,
классическим формам, в которых символизм велик, возвышен,
но и во многом завершен и больше не видоизменяется.
Возникновение нарративизма как союз между герменев-
тикой и аналитической философией языка, формирование
группирующейся вокруг истории неоклассической парадиг-
1 «Тропология — это теоретическое объяснение вымышленного дискур-
са, всех способов, какими различные типы фигур (метафора, метонимия,
синекдоха и ирония) создают типы образов и связи между ними, способ-
ные служить знаками реальности» (Уайт X. Метаистория. Екатеринбург,
2002. С. 8).
264
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
мы позволяет Ф. Анкерсмиту говорить о начале нового витка
исторического романтизма и возрождении утраченного духа
уважения к классическим источникам. Он пишет: «Ощущения,
убеждения и чувства историка дают ему плодородную почву, на
которой может расцвести исторический опыт. В этом смысле
наше исследование может рассматриваться как попытка снова
“романтизировать” историческую теорию после пережитой ею
в недавнем прошлом “рационализации” за счет лингвистических
подходов»1. Позиция Анкерсмита созвучна тому, что я понимаю
под суждением о «живучести» исторических символов, которые,
в случае подобия эйдетического опыта и наличия развитой фор-
мы историцистского сознания, могут «возродиться» (как это
произошло с символами Античности в условиях Ренессанса).
Историческая память символична и уравновешивает тенденцию
к забвению. И память, и забвение группируются вокруг симво-
лической коммуникации, во многом завися от родственности
(чуждости) возвышенного опыта столкнувшихся традиций.
В конце концов, никакой язык не способен передать всех от-
тенков возвышенного опыта и всех символических значений. В этом
отношении символическая действительность подобна тому, что мы
видим в концовках романов Джейн Остен: реальность в конечном
счете оказывается не такой, как о ней говорили2. Я полагаю, что
символическая сфера потенциально гораздо глубже и шире, чем ее
лингвистическое выражение; эйдетический опыт склонен опере-
жать язык в своем развитии. Эйдетический опыт трансформиру-
ется гибче, быстрее языка, поскольку ему, пребывающему в своей
непосредственности, достаточно протекать и быть переживаемым.
Человек часто представляет символами и образами то, что он по-
1 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 267.
2 «Не является ли недовольство современной философией языка, ее не-
способностью достичь уровня Рассела, Витгенштейна, Остина, Стросо-
на, Куайна и Дэвидсона пустой и удушливой схоластикой, в которой она
продолжает прозябать, топчась на одном месте, свидетельством того, что
сейчас мы упорно стремимся пробиться сквозь стены языковой тюрьмы?»
(Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М„ 2007. С. 7). В дру-
гом месте Анкерсмит высказывается так: «Одержимость языком и дис-
курсом поднадоела. Мы говорили о языке более ста лет. Пришло время
изменить объект исследования. Лично мне весьма интересна категория
исторического опыта» (Доманска Э. Философия истории после постмодер-
низма. М., 2010. С. 384).
3.1. Лингвистический и образный типы символизма 265
нимает и чувствует, но не может облечь в слова. Так же и слово,
выступая символом эйдоса, есть просто наиболее удачное его обо-
значение в данной традиции, но при этом вполне возможны (это
особенно явственно в философии) и другие удачные обозначения.
Из всех стратегий лингвистической трактовки символиз-
ма мне кажется наиболее уместной именно метафорическая,
рассматривающая символы как возвышенные эйдетические
метафоры языка определенной традиции. Анкерсмит пишет:
«Метафора “антропоморфирует” социальную, а иногда даже
физическую реальность и, осуществляя это, позволяет нам в ис-
тинном смысле этих слов приспособиться к окружающейся дей-
ствительности и стать для нее своими»1. Метафора оказывается
соразмерной и близкой эйдетическому опыту. Также она отра-
жает сложную недоговоренность, иносказательность, отстра-
ненность символа, который говорит нам нечто отличное от его
буквального значения. В этом смысле метафора разъясняется
тропологически, как форма пути к постижению эйдоса и пере-
живанию соответствующего возвышенного опыта. В метафоре
эйдос приобретает «человечность», получает измерение наше-
го опыта. Метафизически возможно представлять, что эйдосы
существуют отстраненно и сами по себе, как у Платона. Однако
если обратиться к поэтическому или моральному опыту, я убе-
жден в теоретической и практической бесплодности такого уче-
ния: ведь любые символические формы, не задевающие нашего
опыта, оказываются нам совершенно чужды — их как будто бы
не существует, они вне пределов нашего понимания.
Завершить раздел о лингвистическом и образном симво-
лизме хотелось бы обращением к проблеме молчания. Именно
советом молчать завершается «Трактат» Витгенштейна2. О том
же говорит мудрый Кент, герой шекспировского «Короля Лира»:
Совсем не знак бездушья молчаливость.
Гремит лишь то, что пусто изнутри3.
1 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М„
2003. С. 85.
2 «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (Витгенштейн Л.
Логико-философский трактат. 7 // Витгенштейн Л. Философские работы.
Ч. 1. М., 1994. С. 73).
3 Перевод Б. Л. Пастернака.
266 Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
Человек может обратиться лишь к тому символическому
содержанию, которое практически конструктивно, У любого
автора комментируют то, что он написал, а не то, что он «не
написал» или «мог бы написать». Однако вокруг любого круп-
ного символа — от эллинов и до наших дней — всегда остается
много «невысказанного» — того, что еще можно сказать, или
того, о чем молчали, считая самоочевидным. Мне кажется, что
обнаружение невысказанного — движущая сила символической
интерпретации, призванной заполнить лакуны в исследуемой
традиции и восстановить не только структуры говорения, но
и структуры молчания. В конце концов, все творцы символов
отчасти пифагорейцы, молчащие о себе самих и несущие печать
загадочности.
3.2. О неполноте значения символа
Символ выражает эйдетическое содержание и обращен
к опыту; он требует определения, которое существенно отлича-
ется от определения понятий. В настоящем разделе я стремлюсь
доказать, что большинство затруднений, связанных с символа-
ми, происходит по причине того, что их определяют как поня-
тия, стремятся приписать им строгие значения и свести в систе-
му — что, на мой взгляд, не соответствует природе символа.
Не менее загадочен историко-философский вопрос: поче-
му природу символа как таковую не исследовали вплоть до не-
мецкой классики, хотя развитые символические представления
возникали и прежде? На этот вопрос нет простого ответа. Так
или иначе, безусловно, косвенными методами природа симво-
ла исследовалась и до Канта (на многие из этих работ мы уже
ссылались в настоящем исследовании). Но тем не менее спра-
ведливым будет заключить, что символы использовались на
протяжении веков, но не становились при этом объектом теоре-
тизирования. Символизм как теоретический предмет возникает
лишь тогда, когда символ, покидая стихию собственной мифо-
логической, теологической, эстетической непосредственности,
начинает считаться особым доконцептуальным уровнем созна-
ния и рассматриваться как часть метафизической системы. При-
чины отсутствия теоретических исследований природы символа
коренятся также и в том, что символ на Западе всегда относили
к божественной, трансцендентной сфере, и потому считали его
заведомо непостижимым для конечного человеческого созна-
268 Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ния. Пожалуй, такую точку зрения выражает Ксенофан в сохра-
нившемся фрагменте своей поэмы:
Истины точной никто не узрел и никто не узнает
Из людей о богах и о всем, что я только толкую:
Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось,
Сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает1.
Невысказанность и непостижимость символа всегда на-
талкивалась не только на сферу мистического и сакрального,
но также приводила к постоянным лингвистическим затруд-
нениям, вследствие чего от Античности до Ренессанса гораздо
более уместным и убедительным считался не философический,
а художественный язык. Витгенштейн совершенно справедли-
во отмечает, что по мере роста всеобщности нам становится все
труднее высказываться о мире; а то, что относится к миру в це-
лом, следует отнести к «мистическому», то есть такому, о чем мы
ничего не может сказать конкретно.
При развитом символизме и богатом эйдетическом опыте
проблемы значения символа и символизма как основы культуры
не ставились, хотя и предпринимались отдельные, несистема-
тические попытки подобного рода. Оставляя в стороне вопрос,
почему древние так мало теоретизировали в области символи-
ческого, я хотел бы особо отметить такую общую особенность
античной, средневековой и ренессансной традиций, как исполь-
зование символов в виде чего-то само собой разумеющегося,
когда, к примеру, мифологический или аллегорический смыслы
символа никак не отделяются от смыслов понятий, и тем более
не противопоставляются понятиям. Лишь эпоха антагонизма
опыта и рассудка поставила вопрос о символизме и концепту-
ализме как альтернативных путях построения традиции. Лишь
осознавший себя в качестве субъекта дух мог «избрать» концеп-
туальную сферу своим порождением, противопоставив ей сим-
волизм, стремясь либо отбросить его, либо «переписать» сим-
волы на концептуальный язык.
От Канта до Кассирера символ понимается в духе концеп-
туализма, а его «неясность» трактуется рассудочно и аллего-
рически. На мой взгляд, только так можно поместить символы
1 Плутарх. Как слушать поэтов. 17е.
3.2. О неполноте значения символа
269
в метафизическую систему, но подобное понимание приводит
не к раскрытию смысла символа, а искажению его понимания.
Некорректно определять символы по аналогии с определениями
понятий. Символ и проявляется наиболее полно в искусстве,
поскольку критерии художественных языков «изобразитель-
ны» и «либеральны». Как пишет Кант, «объективного правила
вкуса, которое посредством понятий определило бы, что пре-
красно, быть не может. Ибо всякое суждение из этого источника
есть суждение эстетическое... Однако этот идеал красоты будет
лишь идеалом воображения именно потому, что он основан не
на понятиях, а на изображении; способность же изображать
есть воображение»1. В приведенном суждении Канта содер-
жится определяющая установка концептуализма в отношении
символа: символ рассматривается как продукт деятельности во-
ображения, а не мышления. Вследствие этого символы оказыва-
ются лишь косвенно значимыми для метафизики; рассудок как
бы отпустил их, признал чем-то навсегда ненаучным, лишил их
признаков истинности. В действительности символ тоже опре-
деляется и стремится к ясности собственного определения, но
критерии здесь существенно иные.
Будучи продуктом воображения, символ «не справляется»
с собственным содержанием; поэтому форма выражения этого
содержания всегда достаточно несовершенна и далека от пол-
ноты. Как отмечает Ф. Крейцер, символ в своей конечной фор-
ме обладает бесконечным содержанием. И если для изучаемо-
го Крейцером фольклора это явное преимущество, то в рамках
философии подобное свойство символизма воспринимается как
явный признак смысловой неопределимости и несовершенства.
В немецкой классической философии крайне затруднительно
найти применение символа за пределами сфер мифологии и ис-
кусства, поскольку туманность символа, его аллегорический
и метафорический характер резко контрастируют со строгостью
понятия. Поэтому Гегель выражает классический для немецкой
философии взгляд на природу символа, обвиняя его в двусмыс-
ленности и неясности, вследствие которых он рассматривается
лишь как ступень для формирования понятия: «Такая двусмыс-
ленность [символа. — С. Н] прекращается лишь тогда, когда ка-
'Кант И. Критика способности суждения. М., 1994. С. 100-101.
270
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ждая из обеих сторон получает определенное название, то есть
точно указывается, какая из них есть смысл и какая — образ,
и вместе с тем ясно устанавливается связь между ними... Эта
двусмысленность выступает в символе как таковом тем в боль-
шей степени, что образ, обладающий смыслом, называется сим-
волом преимущественно лишь в том случае, когда этот смысл не
выражен особо и не ясен сам по себе, как это бывает в сравне-
нии»1. В качестве классического примера можно привести при-
сущую Гегелю и Шеллингу диалектику, согласно которой преи-
мущественно символические по своей природе мифологические
построения в развитых геоцентрических религиях постепенно
приобретают концептуальную форму теологии.
Я не хотел бы вдаваться в теоретические споры с великими
немецкими классиками. Отмечу, однако, что считаю их воззре-
ние на символы превратным — вследствие того, что они видели
в символе несовершенную и неразвитую предварительную сту-
пень логического мышления, а не самостоятельную познава-
тельную форму, восходящую к способности возвышенного опы-
та. Но при всех разногласиях я с крайним почтением признаю,
что человечество должно быть особо благодарно Канту, Шел-
лингу, Гегелю, Шлегелю как основоположникам теоретического
изучения символов и выделения их в особую сферу философ-
ского интереса.
Если в немецкой философии символы рассматривались как
двусмысленные и неразвитые понятия, то в художественном ро-
мантизме — пусть и в частно-эстетической форме — символизм
обретает собственное значение, поскольку «поэтическое» про-
чтение символа придает ему возможность свободного раскры-
тия своей природы в стихии духовной жизни. Гёте, рассуждая
о своем творчестве, отмечает, что, создавая свои лирические
произведения, он старался как можно меньше мыслить и как
можно больше чувствовать. Романтический символ порожден
стихией возвышенного опыта и как таковой выражает всю пол-
ноту этого опыта, могучую силу возвышенного духа. Романтиче-
ский символ одухотворяет все на своем пути, и прежде всего при-
роду и историю, внося в них новую символическую всеобщность,
вследствие чего романтизм в столь разных искусствах, как по-
1 Гегель Г. В. Эстетика. Т. 2. М., 1969. С. 17-18.
3.2. О.неполноте значения символа 271
эзия, проза, музыка, живопись, скульптура, архитектура, садо-
во-парковый ландшафт, приобретает поразительную общность.
И в самом деле, независимые друг от друга, разные по жанровой
принадлежности творения Шиллера, Каспара Фридриха, Бетхо-
вена, Гонзаго объединены явно выраженной отсылкой любого
символизма к субъективному духу.
Для примера возьмем знаменитый Павловский пейзажный
парк — творение великих художников (Камерон, Бренна, Росси,
Гонзаго, Воронихин, Мартос). Это — одна из вершин романтическо-
го искусства, самое целостное и возвышенное творение романтиче-
ского ландшафта, которое выстроено на диалоге между чувствами
человека и окружающим пейзажем, когда возникает эмоциональ-
ное и смысловое созвучие, ощущение душевного родства с соору-
жениями и статуями, затерянными в лесной чаще. Противоречивая
игра, контраст настроений, доведенные в Павловске до предельного
совершенства, изначально требуют выполнения главного условия
посещения такого парка: прогулка в полном одиночестве1. Бренна
и Гонзаго распланировали огромные лесные районы, где почти нет
сооружений, где можно не встретить ни души. И хотя образ байро-
нической одинокой гробницы гораздо более многопланов в сфере
поэтического воображения, преимущество Павловска перед поэзи-
ей состоит в том, что (как это отметил Жуковский в своей элегии
«Славянка») можно, блуждая в лесной чаще, встретить эту одино-
кую гробницу в ее зримом воплощении, когда она порождает в душе
чувство совершенной полноты тоски и скорби:
И вдруг пустынный храм в дичи передо мной;
Заглохшая тропа; кругом кусты седые;
Между багряных лип чернеет дуб густой
И дремлют ели гробовые.
1 Хотя Павловский парк, как любое произведение искусства, представляет
собой гармоничную совокупность визуальных образов, следует отметить,
что на первый план в нем выходит именно субъективное переживание, со-
здание такого пейзажа, который будет соответствовать «одинокому мечта-
телю». Романтическая эстетика ландшафта строится не просто на создании
«естественных» картин, а на знании определенного «настроения», которое
они вызывают. Я определяю пейзажи Павловска как эйдетические образы,
в которых достигнута гармония трех составляющих: человеческого опыта,
ландшафта и искусства. Природа и культура, естественное и рукотворное
слиты здесь в нерасторжимой гармонии.
272
Глава 3.Эпистемология эйдического опыта
Воспоминанье здесь унылое живет;
Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою,
Оно беседует о том, чего уж нет,
С неизменяющей Мечтою.
Все к размышленью здесь влечет невольно нас;
Все в душу томное уныние вселяет;
Как будто здесь она из гроба важный глас
Давно минувшего внимает.
Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей,
Сей факел гаснущий и долу обращенный,
Все здесь свидетель нам, сколь блага наших дней,
Сколь все величия мгновенны.
После эстетического отступления вернемся к эпистемо-
логии. Неполнота значения символа в самом деле открывает
просторы для воображения и интерпретации. Поэтому символ
неотделим от своей конкретной формы; он сохраняет индивиду-
альное своеобразие, а потому не стремится стать частью системы,
и тем более чем-то «идеальным» в том смысле, как это устанав-
ливается в метафизике. Неполнота, многоплановость, разнообра-
зие толкований и интерпретация — это, я убежден, естествен-
ное состояние символа. И наоборот, когда символ приобретает
устойчивое и постоянное значение, это кажется подозритель-
ным. Здесь символ либо «освящается» религиозным авторите-
том, либо поддерживается идеологическими факторами, либо
просто догматически предписывается. Но в любом случае он
при этом теряет присущую ему «жизнь», перестает будоражить
наш возвышенный опыт и замирает как безмолвный памятник
ушедшего и чуждого нам далекого прошлого. В связи с этим не-
возможно переоценить значение поэтического и исторического
символизма эпохи романтизма, который не только обращался
к Греции, Риму, Средневековью, но стремился выступить фор-
мой эйдетической интерпретации, пробудить в душе не просто
теоретическое и отстраненное внимание, но со-переживание,
co-чувствие. И хотя умонастроения Гипериона кажутся порой
верхом наивности, в этом образе заложена особая правда и осо-
бая новизна: Гиперион хочет пережить опыт грека в своей душе;
он не является пассивным созерцателем; он выстраивает с Элла-
дой символический диалог. И древние образы в стихии нового ро-
мантического опыта оказываются не академически статичными
3.2, О неполноте значения символа
273
(как в классицизме XVIII в.), а одухотворенными, эмоционально
окрашенными. Таким образом, при всех недопустимых с точки
зрения науки искажениях романтизм сумел установить диалог
именно с опытом исторической эпохи, а не просто с событиями,
фактами, источниками. В нарождающейся немецкой герменев-
тике на первый план выходит не только историческая рекон-
струкция текста, но и реконструкция опыта человека изучаемого
периода. Ведь не случайно Байрон символически сопоставляет
свой поэтический опыт с опытом спартанца: он стремится при-
общиться к символической традиции уподобления через при-
общение к жизни великого мужа, что характерно для эллинской
аристократической морали. Отличие заключается в том, что
Байрон несравненно больше внимания уделяет переживанию,
а не поступку, — в духе именно романтической интерпретации.
И хотя Байрон не повторил подвига Леонида, он совершенно ра-
вен ему в возвышенности духа, поскольку постиг опыт антично-
го мужества и выразил его в иной форме (как поэт), которая для
своего времени не менее величественна.
Целостность значения символа непостижима для логиче-
ского рассудка; в пределах же эйдетического опыта она дана
ясно и непосредственно, причем сразу и со всей полнотой. Про-
блема (впервые поставленная Шеллингом) состоит в том, что,
покидая стихию возвышенного опыта, символ требует несвой-
ственных последнему средств выражения — например, лингви-
стических, образных и т. д. Поэтому определением символа за
пределами опыта оказывается «расширенное описание» соот-
ветствующего опыта через символические образы, которые уже
функционируют скорее по законам языка. К тому же символи-
ческая интерпретация возвышенного опыта изначально строит-
ся вокруг какого-то аспекта, который постепенно элиминирует
все прочие второстепенные для символизма, но реально сущие
в опыте аспекты. Вследствие этого символ логично стремится
к определенной «простоте»; но такая простота, делая символ
убедительным и действенным образом, обедняет многоплано-
вость стоящих за ним оттенков опыта, вследствие чего они не
прямо представлены в символе, а лишь «угадываются» в нем. Так
называемая «множественность интерпретаций символа» имеет
под собой, на мой взгляд, эмпирическую основу. Поскольку эй-
детический опыт никогда не бывает простым и однозначным,
274
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
некоторые его аспекты закрепляются в символе лишь косвенно,
лишь угадываются в нем, а то и вовсе скрыты другими, более за-
метными оттенками. В результате в поэтическом символе (беру
его для примера как наиболее богатый эмоциональными ню-
ансами) мы воспринимаем один-два «базовых», наиболее оче-
видных и оформленных аспекта; и лишь потом, в самых разных
прочтениях, видим другие, которые не столь очевидны и даже
ускользнули от нас при прежних прочтениях. Причем если го-
ворить о символическом языке великого лирического поэта,
то комбинации таких моментов эйдетического опыта, к тому
же наслоенные на диалогические связи с нашим индивидуаль-
ным опытом, оказываются разнообразными, неисчерпаемыми
и в чем-то даже непредсказуемыми. Одно и то же стихотворе-
ние Байрона, Лермонтова, Блока может наполнять нас самыми
разными сочетаниями чувств и переживаний, выстраивая перед
нашим духовным взором различные картины. В связи с этим,
хотя символы не могут оформиться в традиции без определе-
ния через какой-то базовый и убедительный аспект опыта, та-
кие определения никак не могут считаться «сущностью» симво-
ла хотя бы по той причине, что таковой изначальной сущности
просто нет.
Как возможно обнаружение все новых аспектов эйдетиче-
ского опыта, так вполне вероятно появление новых аспектов
значений, казалось бы, уже устоявшихся символов. Как я пы-
таюсь показать, это не псевдозагадочная «неисчерпаемость»
и «глубина», а просто констатация открытости и неполноты
символических значений, возможности все новых интерпрета-
ций и, как результат, явственной неустойчивости символической
сферы в любой известной нам традиции. Символическая сфера
не может оказаться исчерпанной потому, что неисчерпаемо мно-
гообразие эйдетического опыта и символических интерпретаций.
Это совершенно нормальная и естественная ситуация, которая
особенно плодотворна в искусстве и выступает отличительной
чертой периодов его процветания.
Подобную ограниченность в определении символического
значения усматривает Дильтей, хотя он и относит символы к об-
ласти специфических понятий: «И тут заявляет о себе централь-
ная трудность любого искусства истолкования. Целое творение
должно быть понято на основании отдельных слов и их сочета-
3.2. О неполноте значения символа
275
ний, а ведь уже полное понимание отдельного предполагает по-
нимание целого. Круг такой повторяется и в отношении отдель-
ного произведения к духовности и развитию его автора, и точно
так же он вновь возвращается в отношении этого отдельного
произведения к литературному жанру... Теоретически тут натал-
киваешься на пределы интерпретации, она выполняет свою за-
дачу лишь до известной степени»1. Если говорить о герменевти-
ческом истолковании, которое обращено либо к историческому
прошлому, либо к иной культуре, становится очевидным, что та
полнота выражения эйдетического опыта и непосредственности
символизма, которая присутствовала в момент создания текстов
(иди любых других культурных форм), оказывается утрачен-
ной. Мне, в отличие от немецких романтиков и идеалистов, не
представляется проблематичной определенная герметичность
греческой культуры, зачастую недоступной для понимания.
Я вижу в символах не формы понятий, а формы выражения эй-
детического опыта, то есть рассматриваю символы в нерасчле-
нимом единстве с их сопровождением в опыте. Поэтому утра-
ченностъ непосредственного эйдетического опыта греков есть та
самая герменевтическая проблема, о которой пишет Дильтей,
а вовсе не следствие недостаточной интерпретации. Мы уже не
можем столкнуться на уровне непосредственного переживания
с античным возвышенным опытом, равно как и не обладаем це-
лостностью эллинского символизма. Некоторыми путями все
это можно реконструировать, но только до известной степени
(а в большей мере это вряд ли необходимо, да и зачастую не-
возможно). Мы живем, вероятно, не в столь великую духовную
эпоху, как греки периода расцвета их культуры, но пребываем
в непосредственности эйдетического опыта и символизма наше-
го времени, способны воспринимать символы нашей традиции
как целостность, не задаваясь вопросом, что она собой пред-
ставляет.
Современная герменевтика тем отлична от герменевтики
XIX в., что уже не пытается смотреть на символы как формы
понятий, признавая их качественное своеобразие. Вместе с тем
герменевтика признает и определенное бессилие методов те-
оретического анализа для понимания символов — вследствие
1 Дильтей В. Герменевтика и теория литературы. М„ 2001. С. 252-253.
276
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
иной, нежели у понятия, онтологической природы символа. Всё
это приводит к вполне закономерному нагнетанию загадочно-
сти вокруг символа, вплоть до некоторого мистицизма и уче-
ния о «непостижимости» символизма как такового. По этому
поводу Э. Блох пишет: «Как будто в Символическом есть что-
то только от нас Сокрытое, себя показывающее и скрывающее
одновременно, а не Само-сокрытое в самой вещи, именно в той,
которую оно “выражает”... В самом объекте оно находится в со-
стоянии загадки, еще не найденного раскрытия»1. Не случайно,
что в художественном символизме (который справедливо рас-
сматривается как течение, связанное с романтизмом) был выра-
ботан сложный язык намеков, угадываний, призрачных тонов
и линий, безличных оборотов, двоящихся планов, загадочных
смыслов, структур додумывания со стороны читателя и т. д.
К примеру, у Блока периода второго тома стихов (время расцве-
та русского символизма) практически в каждом стихотворении
присутствуют изначально двусмысленные образы, фантастиче-
ские и театральные персонажи, безличные обороты. Читателю
оставлен широкий простор для воображения: кто «смеялся»,
что «клубится в красной пыли», кто именно «Та», которую
скрывает «висящий над городом грохот»? Лексически это вы-
ражается безличными конструкциями и намеренно нечеткими
эпитетами, явственной незаконченностью лирического плана,
которые словно оставляет нас перед неразрешимым вопросом.
Поэтому, как верно отмечает Гадамер, символизм современности
все более превращается в форму именно языкового, лингвистиче-
ского символизма, в рамках которого существенно расширяются
метафорические функции языка; и метафорическое (особенно
поэтическое) слово становится символическим обозначением,
фигурируя в традиции с определенным эйдетическим подтек-
стом. «Со времен романтизма уже невозможно представить себе
дело так, как если бы мы просто присоединили к нашему пони-
манию необходимые для истолкования понятия, черпая их по
мере надобности из некоего языкового запаса, где они уже ле-
жат наготове. Напротив, язык — это универсальная среда, в ко-
торой осуществляется само понимание»2, — пишет Гадамер.
1 Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург, 1997. С. 333.
2Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 452.
3.2. О неполноте значения символа
277
Если обратиться к русскому философскому символизму, то
он, в отличие от немецкого идеализма, тесно связан с религиоз-
ными и мистическими учениями. Символы не просто закрепля-
ют в культуре эйдетическую сферу — они также творят эту ткань
культуры и, более того, играют теургическую роль. Например,
Бердяев пишет: «Символизм есть творчество не завершенное,
не достигшее последней цели, не окончательно реализованное...
Дальше символизма — мистический реализм, дальше искус-
ства — теургия»1. Это положение может служить характерным
манифестом русского символизма, в котором философия рели-
гиозна, а искусство не просто отображает мир через символы,
.но и конструирует новый символический мир, творит «новую
жизнь». Русский символизм неотделим от грандиозной теурги-
ческой утопии по отношению к символам, которые призваны
создать подлинно одухотворенный космос, сотворить новый
культурный мир, соразмерный всем запросам души. В этом от-
ношении русский символизм эстетически возвышен, поскольку
он обращен к попыткам построения символической традиции
будущего, свободен и стихиен именно как эстетическое направ-
ление, раскрепощающее индивидуальный эйдетический опыт.
В русском искусстве Серебряного века наблюдается не только
бурное кипение эйдетического опыта (что особенно контра-
стирует с напряженной политической атмосферой), но и глубо-
чайший синтез разных искусств, объединенных общими умо-
настроениями, и особенно — тесный союз живописи и поэзии.
В рамках же философии вырабатывается учение о проективной
роли символизма, творящего ткань культуры, о необходимо-
сти не только метафизического, но и «живого» символическо-
го мира. Как пишет Андрей Белый, «живой символ искусства,
пронесенный историей сквозь века, преломляет в себе много-
образные чувствования, многообразные идеи. Он — потенциал
целой серии идей, чувств, волнений»2. В русском символизме,
наряду с мистическим пониманием символа как ключа к скры-
тым истинам бытия, вырабатывается особый художественный
язык изначально неопределенных, смутных, туманных образов
и метафор, которые оставляют огромный простор для достраи-
1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 450.
2 Белый А. Символизм как миропонимание. М„ 1994. С. 123.
278
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
ваний и додумываний. И этот хрупкий и зыбкий, в чем-то рафи-
нированный и утонченный символический язык контрастирует
с прозой жизни; а это свидетельствует, что русский символизм
был в том числе и способом бегства от действительности, тво-
рения особого метафизического и эстетического универсума,
который замкнут в себе, отделен от остальной жизни. На вер-
шинах русского символизма — у Блока, Брюсова, Мережковско-
го, Бенуа, Добужинского, Врубеля — поставлен вопрос, который
немецкий идеализм не ставил: может ли вообще человечество
жить символами? Не разрушают ли проза жизни, постоянные
социальные конфликты, да и само несовершенство человече-
ской природы символический мир? Не является ли последний
иллюзией, изысканным культом кучки эстетов и интеллектуа-
лов, несовместимым с мощным народным духом, выведенным
романтиками? Достаточно обратиться к поэзии зрелого Блока
или картинам Добужинского, чтобы понять, насколько при-
зрачна и утопична мечта о теургическом символизме, насколько
мало значат символы за пределами сложившихся веками тради-
ционных форм. Русский символизм — это крах утопии об уют-
ной жизни в эстетском мире культуры. В какой-то степени это
и приговор западным концепциям символизма, исполненным
духа идеализма и веры в значимость эстетического мира. Ведь
именно в России с особой остротой был поставлен вопрос о зыб-
кости, хрупкости символизма, который далеко не всегда может
устоять перед натиском новой волны варварства. Нацистские
костры из книг, уничтожение церквей большевиками, разруше-
ние памятников древности радикальными исламистами — все
эти символические акты брутального варварства были предска-
заны в русском символизме.
Таким образом, неполнота значения символа оказывается
и вечной трагедией самого символа: любой символ так и не об-
ретет своего окончательного определения. Мало того, ни один
символ не вечен и, по мере исчерпания своего содержания и уга-
сания возвышенного опыта, он исчезнет. Наконец — чем мы осо-
бенно обязаны русскому символизму, — символы в нем опреде-
ляют именно возвышенное, культурное сознание, как правило,
опережающее уровень развития общества в целом, контрастируя
(по крайней мере, в глазах самих символистов) с окружающими
темнотой, варварством, обскурантизмом, царством филистер-
3.2. О неполноте значения символа
279
ства и мещанской пошлости. В русском символизме, если отбро-
сить его выраженный эстетизм, ставится грандиозный вопрос:
может ли человек окончательно переселиться в символический
мир? Такой мир, который «предвиделся», «предчувствовался»
русскими символистами, связывается с ожидаемой ими револю-
цией (вспомним восход огромного красного шара, к которому
простирают руки люди на картине Юона «Новая планета»).
Если вернуться к метафизическим аспектам русского сим-
волизма, то в его рамках преодолено универсалистское учение
о простоте символа как формы порождения духа. В творчестве
А. Ф. Лосева символ трактуется идеалистически, но представ-
ляет собой изначально сложный и многомерный культурный
атом: «Эту особенность всякого живого символа мы называем
его многомерностью, которая является у нас, таким образом,
слиянием разнообразных структурно-семантических категорий
в одно нераздельное целое»1. При этом Лосев окончательно за-
крепляет тезис русского символизма, согласно которому только
в рассудочном определении символ конечен, прост и незыблемо
укоренен в культуре. Многомерность символа — это символиче-
ское значение со многими неизвестными. Когда возвышенный
опыт закрепляется в символе, символ функционирует в рамках
определенной сферы духовной культуры, жанра, школы и про-
чих традиционных форм. Но по своей природе символ стремится
только к полноте эйдетического воплощения, и, следовательно,
он не связан своим свершением с определенной культурной сферой.
Раскрытие символической природы не может осуществляться,
к примеру, только в философии. Если говорить об античном
дискурсе мудрости, то символическая фигура мудреца и этиче-
ская модель возвышенной жизни — это удел и философов, и по-
литиков, и храбрых воинов, и поэтов. В лице каждого из зна-
менитых мужей мудрость приобретает индивидуальные черты,
несводимые к некой замкнутой завершенности. Наряду с налич-
ной многоплановостью вполне может присутствовать и так на-
зываемое «отложенное» раскрытие символического аспекта, по-
рой отнесенное к далекому будущему. К примеру, в моральной
философии Ренессанса римские источники обретают не просто
1 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
С. 205.
280
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
вторую жизнь, но и принципиально новый оттенок нарождаю-
щейся индивидуалистической, интеллигентской нравственно-
сти, чуждой аристократическому самосознанию Античности.
Равно как и в архитектуре мастера Возрождения, зодчие класси-
цизма и архитекторы неоклассицизма, обращаясь к греческим
и римским оригиналам, не только копируют их, но и творчески
интерпретируют, развивают, приспосабливают к сооружениям,
имеющим специфически современные функции (палаццо, им-
ператорский дворец, парковый павильон, доходный дом, банк).
Таким образом, символ не просто многопланов в момент своего
актуального исторического существования, но также и облада-
ет проективной функцией, то есть способен приобретать совер-
шенно новые оттенки смыслов при изменении характера опыта
и традиции. При этом, хотя любой символ может вообще исчез-
нуть, проективная функция символизма чрезвычайно живуча
в культуре. К античному символизму неоднократно обращались
на Западе после веков упадка или иных символических иска-
ний — и каждый раз он успешно прививался на новой почве,
выступая наиболее явственной классической основой западной
цивилизации.
Хотя идеалистические построения в отношении символиз-
ма по-прежнему актуальны, следует отбросить учение о незыб-
лемой эйдетической сфере и вечных символах, тем более пред-
ставляя символизм как нечто укорененное в духе, — по аналогии
с теорией врожденных идей. Если что-то и «укоренено» в нас, то
это способность к возвышенному опыту и эйдетическим пред-
ставлениям. Но как такая способность будет реализовываться,
к каким формам она придет, — это уже не может быть постигну-
то или предсказано. Не существует никакого изначального смыс-
ла символа «в себе и для себя», равно как и нет никакого закона,
согласно которому эйдетический опыт должен реализоваться
в таких, и только таких символах. Неполнота значения сим-
вола — это онтологическая неполнота, изначальная неполно-
та эйдетического опыта, символического воплощения в образе
и т. п. В отличие от идеи, символ выступает качественно иной
определенностью — с нестрогими смысловыми очертаниями
и постоянной открытостью для новых векторов развития. Эйде-
тический мир — это не мир платоновских вечных образцов и не
кассиреровский мир вечных символических форм; он представ-
3.2. О неполноте значения символа
281
ляет собой текучее культурное пространство постоянных ва-
риаций и интерпретаций. Нет сомнения, что в художественном
сознании все должно быть так или иначе образно выражено; не-
полнота значения символа, его сложность и неопределенность
связывается здесь с идеей мистичности, воплощенной в гранди-
озных романтических и исторических картинах. Но с позиций
эпистемологии — никакой мистики, стоящей за неопределенно-
стью, глубиной и загадочностью символов, нет. Такое допуще-
ние надуманно и не выдерживает никакой критики.
Поскольку символ находит свое место в традиции и языке,
то он ассоциируется с другими символами, порой выступая ин-
ч терпретацией уже имеющихся. Символ крайне трудно выделить
как атомарный объект анализа; он неотделим от отношений
с другими символами настоящего, прошлого или даже иного
культурного и географического символизма. Все эти взаимоот-
ношения трудно классифицировать и тем более — просчитать.
Мое предположение заключается в том, что, вследствие конеч-
ности человеческой жизни, ограниченности любой культуры,
наличия идеологии и традиции, лишь наиболее явственные
символические определения возвышенного опыта становятся
общекультурным достоянием; что хватает времени и усилий
интерпретации только на установление наиболее явственных
исторических или межкультурных связей. Все прочее, не ме-
нее важное для любой развитой традиции, находится на втором
плане, хотя и необходимо для создания целостного культурного
фона. В судьбах символа всегда много неизвестных х, то есть еще
неясных или нераскрытых смыслов, будущих связей с другими
символами. В этом отношении история символов «человечна»,
напоминает непредсказуемые порой судьбы людей.
В идеалистическом символизме мне видится несостоя-
тельным представление о символической полноте. Символы
стремятся стать целостным и всеобщим языком, но это дости-
жимо лишь теоретически. В действительности же они гораздо
более фрагментарны и представляют собой конгломерат самых
различных сущностей, порой мало связанных между собой,
особенно если они относятся к разным культурным сферам.
Я настаиваю, что двусмысленность и неполнота — нормальные
критерии символа, в отличие от понятий. Это не хорошо и не
плохо — просто об эйдетическом опыте следует судить иначе,
282
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
нежели о рациональности. Если для понятия желательна одно-
значность, то для символа она зачастую означает застой и вы-
мирание; а многозначность и открытость, напротив, придают
символу жизнеспособность и актуальность. И хотя Ларошфуко
говорил не о символах, а о сложности и запутанности мораль-
ной жизни, его слова можно приложить к тому, о чем только что
шла речь: «Чтобы постичь окружающий нас мир, нужно знать
его во всех подробностях, а так как этих подробностей почти
бесчисленное множество, то и знания наши всегда поверхност-
ны и несовершенны»1.
Символы, играя существенную роль в формировании тра-
диции, достигают уровня «понимания» лишь в сознании немно-
гочисленных представителей интеллектуального сообщества.
Ведь зачастую не только люди высшего сословия, но и выдаю-
щиеся представители художественного мира или государствен-
ные мужи лишены адекватного представления об имеющихся
символах. Как тонко подметил Вольтер, «если бы кто решил,
что наиболее полной идеей человеческой природы обладают
философы, он бы очень ошибся: ведь, если исключить из их
среды Гоббса, Локка, Декарта, Бейля и еще небольшое число
мудрых умов, прочие создают себе странное мнение о человеке,
столь же ограниченное, как мнение толпы»* 2. Известные лично-
сти скорее не теоретизируют по поводу символов, а воплощают
их в себе, в своей жизни, образе, поступках. Леонид, Агесилай,
Александр, Цезарь, Наполеон — это символические фигуры; они
сами по себе суть символы. Если говорить о выделенной Пла-
тоном и Аристотелем практической сфере этики и политики, то
эйдетическое совершенство достигается в поступке, через упо-
добление, через символическую фразу, через надлежащий вы-
бор. Но такое воплощение эйдетического опыта довольно про-
блематично в теоретической форме; в большей части случаев
оно вообще не является проблемой. Это историки и моралисты
судят о великих мужах — сами же мужи поступают в соответ-
ствии со своими представлениями о конкретном моменте, ко-
торые могут быть возвышенными в меру понимания современ-
никами и авторитетными критиками, но которые сами по себе
’Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. М., 1993. С. 158.
2Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 227.
3.2. О неполноте значения символа
283
достаточно непосредственны и не содержат никакой самооцен-
ки. У Александра и Цезаря много великих поступков и изрече-
ний (при немалом, впрочем, числе постыдных). Все они стано-
вятся символическими актами, вокруг которых выстраивается
эллинистическая моральная, политическая, историческая тра-
диция. На мой взгляд, ошибка заключается даже не в том, чтобы
оценивать поступки Александра, а в том, чтобы делать эти оцен-
ки мерилом их символического значения. Да, Александр надел
персидское платье и порой впадал в негу и роскошь; но верным
символическим пониманием этих поступков будет отсутствие
однозначной категоричности. Нельзя судить об Александре
с позиций метафизической нравственности и политики, как это
делают моралисты, приводя в пример воздержанность и скром-
ность Солона. Солон бы не надел варварского обличения — но
Солон и не строил империи, и не «эллинизировал» варваров,
как Александр. Поэтому в отношении символов отсутствие од-
нозначности и полноты — это также и залог отсутствия догма-
тизма, применения индивидуализирующих методов изучения,
стремление избежать категоричных вердиктов и классифика-
ций. Смыслы символов «перспективны», будучи устремленны-
ми к обретению новых интерпретаций и модификаций, что де-
лает их не подлежащими любым категоричным трактовкам.
В рамках символического идеализма символ наделяется
скрытыми смыслами, вплоть до таких, о которых даже и не за-
думывается его создатель. Как пишет Камю, «нет ничего труд-
нее понимания символического произведения. Символ всегда
возвышается над тем, кто к нему прибегает: автор неизбежно
говорит больше, чем хотел»1. Поскольку символ выражается
в форме словесного или чувственно воспринимаемого обра-
за, то он приобретает природу, свойственную таким образам.
К примеру, метафорическое выражение стихотворения может
быть практически неисчерпаемым в плане приобретения все но-
вых и новых смысловых оттенков. Однако, несмотря на смыс-
ловое богатство символов, кажется сомнительной точка зрения
Камю, восходящая к шеллингианскому учению о гении. Если
говорить об авторском символе (например, символе литера-
туры), то автор выражает свой эйдетический опыт так, как он
’Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 93.
284
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
считает нужным и насколько он может (ведь и самый большой
талант небезграничен). Поэтому если сопоставлять содержание
авторского опыта и содержание символа, то литература, на мой
взгляд, — классический пример того, насколько заключенный
в произведении опыт героев богаче своего выражения, как мно-
го оттенков опыта не смогли уместиться в матрицу типического
выражения. Поэтому только реконструкция авторского эйдети-
ческого опыта (а никак не предположения, созданные на основе
лишь данности символа) ведет к подлинному пониманию при-
роды символа. Безусловно, Шеллинг создает великий эстетиче-
ский принцип, согласно которому гений способен с предельной
полнотой образно воплотить прозрение истины; однако такое
воплощение даже у гения никогда не станет полным и совер-
шенным. Я предположу, что любой великий символ, восходя-
щий к гению, — это только верхушка айсберга, скрывающая
сложный, многоплановый и не во всем воплощенный массив
содержания возвышенного опыта. Мало того, даже Леонардо
да Винчи или Байрон не смогли выразить в своих шедеврах все
оттенки собственного опыта, а Достоевский говорит о такой не-
возможности прямо, отмечая однажды, что именно самое важ-
ное в высказанной мысли так и останется под черепом и не вый-
дет наружу1.
Это не говорит о том, что неполнота значения символа
и даже явная невозможность понять его смысл должны перестать
вдохновлять нас на попытки обретения ясности. Современные
методологии понимания символов (герменевтическая, струк-
туралистская, нарративистская и др.) по-прежнему выполняют
функцию, заданную немецкими эстетиками эпохи романтизма:
понять символы автора лучше, чем он понимал их сам. В этом
смысле комментарии и интерпретации символов позволяют нам
увидеть их природу яснее, вскрывая на первый взгляд недогово-
ренные и неартикулированные смысловые аспекты или формы
1 «Во всякой гениальной или новой человеческой мысли... всегда оста-
нется нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы
исписали целые томы и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет;
всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего чере-
па и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может
быть, самого главного из вашей идеи» (Достоевский Ф. М. Идиот. М„ 1981.
С. 380).
3.2. О неполноте значения символа 285
опыта, которые их породили. Фуко относился к подобным ме-
тодологиям оптимистически: «И нельзя ручаться, что человек
не откроет когда-нибудь символические системы, столь четкие
и прозрачные, что в них растворится застарелая непрозрачность
исторических языков»1. Вероятно, я не до конца проникся иде-
ей всевозрастающей символической ясности в культуре, потому
что она не кажется мне убедительной. Она утопична, хотя бы
потому, что символы нашей традиции явственны для нас только
с точки зрения нашего непосредственного возвышенного опыта,
що никак не с точки зрения всех возможных смыслов и интер-
претаций. Поэтому «непрозрачность» исторических символи-
ческих языков будет постепенно сменяться иными проблемами,
которые станут на место прежних, по-прежнему затемняя сим-
волические интерпретации, задуманные быть «прозрачными»
и законченными. Фуко следует утопической мечте (высказан-
ной, к примеру, Вико, Руссо и Кантом) — перейти на такой язык,
чтобы «говорить символами», подобно древним легендарным
основоположникам наук и искусств.
Поскольку символ никогда не сбывается относительно
своего значения в момент своего появления, то предложенная
прагматистами проективная функция понятия применительно
к символу выглядит довольно здравой. Любой символ служит не
только определенным эйдетическим этапом и моментом завер-
шенности опыта, но он также всегда в чем-то «нов», «несвое-
временен», а потому сбывается относительно своего смысла при
дальнейшем развертывании в пространстве своей собственной
традиции или других последующих традиций, приобретая при этом
новые интерпретативные предикаты. По этому поводу основопо-
ложник аналитической теории символизма Уайтхед пишет: «Да-
лее, в языке наличествует некая неопределенность символизма.
Слово имеет символическую ассоциацию со своей собственной
историей, с другими своими смыслами и со своим общим статусом
в современной литературе»2. Учитывая, что подобные «ассоциа-
ции» (особенно на уровне лингвистического символизма) зача-
стую запутанны, неявны и многоплановы, то возникновение про-
стой и однозначной символической картины невозможно, если
1 Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 404.
2Уайтхед А. Н. Символизм, его смысл и воздействие. Томск, 1999. С. 60.
286
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
только мы при этом не будем идти на сознательные огрубления
и упрощения. Подобные затруднения не раз отмечал Рассел, хотя
он достаточно негативно относился к символизму по сравнению
с концептуализмом и логическим анализом: «В теории символиз-
ма есть много такого, что имеет важное значение для философии,
гораздо большее, чем я думал одно время. Я полагаю, что это зна-
чение почти всецело негативное, то есть оно заключается в том,
что при недостаточно бережном обращении с символами, при не-
достаточном осознании отношения символа к тому, что он сим-
волизирует, вы найдете, что приписываете предмету те свойства,
которые принадлежат только символу... Я думаю, что понятие
значения всегда более или менее психологично и что невозмож-
но получить ни чисто логическую теорию значения, ни, следова-
тельно, символизма»1. Рассел глубоко прав, отмечая «социаль-
но-психологический» характер символизма, хотя символы, как
я установил, относятся на эмпирическом уровне не к обыденному
чувственному, а к выделенному в особый вид возвышенному (или
эйдетическому) опыту. Рассел также совершенно верно отмечает,
что символизм создает собственную картину мира, приписывая
свойства символов «вещам». Но и здесь следует сделать важную
эпистемологическую оговорку: Рассел полагает, что символы на-
деляют своими свойствами именно «вещи» как факты, события
и физические объекты, тогда как на самом деле символы обра-
щены к «миру вещей» косвенно, относясь не к фактической, а эй-
детической природе вещей. Поэтому, отмечая сложность и глу-
бину поставленных Расселом символических проблем, я считаю,
что он смотрит на них с логической и рационалистической точки
зрения, что приводит к закономерному выводу о чуждости мира
символов миру логики и фактов. На мой взгляд, полученный
Расселом отрицательный ответ на вопрос о формализуемости
символизма побудил последующих аналитиков к выработке но-
вых стратегий анализа символических структур опыта и языка.
К примеру, Стросон, разрабатывая логические формы частных
высказываний, отмечает, что значение таких фраз существенно
«смягчено» как в отношении всеобщности, так и в отношении
правдоподобия в смысле точного описания фактов. Относитель-
но собственных имен и конкретных символических предметов
’Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999. С. 11-12.
3.2. О неполноте значения символа
287
Стросон предлагает новый способ логического употребления
высказываний, о котором пишет так: «Этот способ употребления
выражений я буду называть “индивидуально референтным упо-
треблением”»1. Если говорить о символах, то в них преобладают
индивидуальные структуры и способы референции, потому что
символ всегда конкретизирован как относительно своей инди-
видуальной эйдетической природы, так и относительно опреде-
ленного опыта, который за ним стоит. Символ всегда конкретен
в своей принадлежности традиции, определенной культурной
сфере, а внутри такой сферы вводится дополнительная конкре-
тизация в отношении жанра, школы, направления и т. п. Если
символы описывают мир и структуры сознания, то они это де-
лают определенным, «индивидуально окрашенным» способом.
Возможно, автору символа такой способ и кажется единственно
возможным (любой символизм замкнут на себе самом) — но та-
кая исключительность не имеет ничего общего с логической все-
общностью понятия.
Неспособность логики справиться с символизмом приводит
к пессимистическому взгляду на возможность логического ана-
лиза, особенно в том, что касается притязаний такого анализа
на всеобщность и исключительность. Здесь уместно обратить-
ся к следующему высказыванию позднего Витгенштейна: «Мы
узнаем: то, что называют “предложением”, “языком”, — это не
формальное единство, которое я вообразил, а семейство более
родственных образований. — Как же тогда быть с логикой? Ведь
ее строгость оказывается обманчивой? — А не исчезает ли вме-
сте с тем и сама логика? — Ибо как логика может поступиться
своей строгостью?»2 В настоящее время аналитическая теория
символизма уже не видит затруднения в поставленных Витген-
штейном вопросах, хотя бы потому, что логика не претендует
на роль всеобщего органона языка, из чего следует отсутствие
необходимости сопоставления всех возможных языков с логи-
ческим языком. Мне кажется, что символический язык никак не
задевает строгость логики; она совершенно не исчезает в тех
высказываниях, которые можно строго формализовать. Если
1 Стросон П. Ф. О референции // Метафизические исследования. Вып. 12.
Язык. СПб., 1999. С. 231.
2 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 126.
288
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
соблюдать принцип здорового невмешательства и не пытаться
в универсалистской манере приписывать символизму свойства
логики (или наоборот — понимать логику как форму символиз-
ма), то между ними наблюдается определенное содружество,
потенциальная совместимость, как, к примеру, это наблюда-
лось при сопоставлении систем Аристотеля, стоиков и сред-
невековых мыслителей. Не противоречат же строгие выводы
схоластической философии художественному символизму сред-
невекового искусства — хотя бы потому, что между этими сфе-
рами проведено четкое разграничение? Большинство проблем
в истолковании символов возникает от упорного стремления
трактовать символы по аналогии с понятиями и приписывать
им логические и метафизические характеристики последних.
На мой взгляд, Анкерсмит здраво разводит проблематику кон-
цептов и символов, когда в одном интервью высказывается так:
«То, что формула значит для точных наук, то нарратив значит
для историков»1.
В рамках нарративистского подхода к символизму удает-
ся преодолеть идеалистическое положение о символе как об-
разной форме концепта, приближаясь к изучению символизма,
исходящему из его собственной природы. Символические языки
существенно отличаются от концептуальных построений своей
конкретностью, связью с опытом, традиционным характером,
отсутствием строгой организации и системности. Вместе с тем
символический контекст, пусть и в диффузном виде, центриру-
ет родственные символы, поскольку символы одной традиции
как эмпирически, так и лингвистически строятся по схожим
канонам. Куайн совершенно верно отмечает, что «гавагай» не-
переводим на язык лингвиста, поскольку лингвист не владеет
контекстом дикарского языка. В рамках символического пере-
вода куайновское правило сохранения индивидуальности и це-
лостности контекста представляется совершенно необходимым.
Однако, если в рамках логики такие условия даже теоретически
невыполнимы (что позволяет Куайну говорить о невозможно-
сти перевода), то в рамках символизма выстраиваются подобия,
аналогии, родственные формы опыта, которые вводятся не по
1 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М., 2010.
С. 118.
3.2. О неполноте значения символа 289
принципу соответствия или тождества, а по принципу подобия
и схожести. Так, к примеру, символический «перевод» древнего
архитектурного языка на язык новоевропейского классицизма
совершенно не ставит во главу угла буквальность и точное ко-
пирование. Скорее здесь господствует принцип цитирования
через интерпретацию, когда последняя приобретает характер
самостоятельного архитектурного языка, связанного с антич-
ным языком сложными отношениями заимствования, подобия,
диалога, переописания и т. д. Любые формы символической
.коммуникации могут осуществляться лишь в диалогической
форме, когда отсутствует презумпция «правильности» языка.
История знает массу случаев уничтожений и варварских пере-
делок, вдохновлявшихся ложным идеологическим фундамента-
лизмом, имперским диктатом, чувством божественной правоты,
а потому вызвавших гибель целых пластов символов, непопра-
вимое обеднение культуры1. Когда Дэвидсон выступает с крити-
кой своего учителя Куайна, отмечая догматичность принципа
непереводимости, он призывает обращать внимание не только
на бездну чуждости языков, культур и эпох, но и на очевидные
случаи коммуникации, пересечений, диалогов и т. д.2
Релятивистский принцип множественности холистических
языков порождает в современной философии волюнтаристское,
совершенно лишенное всякой научной составляющей, отноше-
ние — как к логике, так и к символизму. К примеру, Рорти пишет:
«Холистические теории дают право каждому конструировать
его собственное маленькое целое — его собственную маленькую
парадигму, его собственную маленькую практику, его собствен-
ную маленькую языковую игру — и затем вползать в них»3. Как
я стараюсь доказать, при определенном стремлении к исключи-
тельности, символы открыты для диалога с другими символа-
ми, для последующих видоизменений, интерпретаций. Поэто-
му в символическом мире языки не существуют в замкнутости
и изоляции. Если судить с точки зрения Рорти и прочих постмо-
1 Иногда причины вандализма довольно банальны и сводятся к частной
выгоде или нерадивости, произволу чиновников — так в наше время под-
вергаются порче и даже уничтожению ценные памятники архитектуры Пе-
тербурга, Москвы и других городов России.
2См.: Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М., 2003.
3 Рорти Р. Философия и Зеркало Природы. Новосибирск, 1997. С. 235.
290
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
дернистов, гений (как автор ярко выраженного индивидуально-
го языка) стремится замкнуться в собственной исключительно-
сти. Но практика большинства развитых традиций показывает
скорее народный характер гения и великой личности, чьи черты
и свершения принадлежат целой эпохе. Гений сплачивает сим-
волы и разрозненные фрагменты опыта в некое целое, которое
затем сохраняется как форма традиции. Без всякого сомнения,
символизм существует в виде индивидуально окрашенной куль-
турной эпистемы. Как верно полагает Мунц, великая творческая
личность стремится раствориться в созданных символах, в са-
мой истории, в собственной традиции: «Ведь истина в том, что
нет никакого определенного лица, спрятанного за различными
масками каждого рассказчика истории, будь он историк, поэт,
романист или создатель мифов»1.
Значение символа — матрица для возвышенного опыта: оно
переносится на эйдос. Здесь присутствует опасность, что эйдос,
который порождает символ, станет восприниматься с точки зре-
ния свойств символа и будет ограничен этими свойствами, тогда
как в действительности эйдос определяется только условиями
и возможностями возвышенного опыта. Реалистический под-
ход к символизму, которого я придерживаюсь, устанавливает
первичность эйдоса по отношению к символу, вплоть до предпо-
ложения, что вполне возможны ситуации, когда эйдос уже есть,
но еще не обрел символического воплощения. В этом смысле,
как я полагаю, великая творческая личность обладает профети-
ческим даром: ее опыт и эйдетические представления опережают
символизм своей эпохи, отчего кажутся чем-то радикально но-
вым, несвоевременным, а порой (учитывая консерватизм любой
традиции) и «лишним». Далеко не всегда правильно переносить
значение символа на то, что он символизирует, то есть на эйдос:
в символическом реализме эйдосы суть независимая от симво-
лов реальность, нуждающаяся в последних для того, чтобы быть
понятой, для вхождения в пространство человеческой культу-
ры, но не для определения собственной сущности.
Художественные символы наиболее совершенны по своей
форме среди прочих символов, потому что они обращены ис-
ключительно к конкретному и особенному, выступая образны-
1 Munz Р. The Shapes of Time. Middletone, 1978. P. 16-17.
3.2. О неполноте значения символа
291
ми, а не абстрактными обобщениями. Поэтому приложимость
любых концептуальных критериев (и тем более слова «логика»)
к символу достаточно проблематична; это происходит оттого,
что до сих пор не выработан специальный язык для исследо-
вания символизма. В классической традиции (даже в сфере ис-
кусства) символ тяготеет к образу и подобию понятия; однако
такое подобие приводит к заковыванию символизма в чуждые
ему рамки, господству дидактики, рассудочности и аллегоризма.
В этом смысле романтизм представляется мне эпохой зарожде-
ния символического самосознания, когда символы, начиная
с символов искусства, постепенно обретают место в культуре,
исходя из своей собственной природы. Именно с эпохи роман-
тизма начинается и выработка теоретических методологий по-
нимания символизма, существенно отличных от рациональных
методов новоевропейской метафизики и науки.
Смысл символа обычно не существует в виде законченного
определения — он скорее схватывается непосредственно. В нем
присутствуют лакуны для иных возможных иных интерпрета-
ций, которым он может быть подвергнут в будущем: символи-
ческие «здания» строятся с изначальным расчетом возможных
трансформаций и перестроек. Набор ключевых символических
значений и стратегий понимания может существенно изме-
ниться при последующих интерпретациях. Так, образ великого
мужа — это сквозная символизация античности; но с каждым
новым этапом античной культуры этот образ претерпевает ме-
таморфозы, потому что меняется характер возвышенного опы-
та, что вызывает к жизни изменение символических трактовок,
выбор иных оттенков интерпретаций и критериев суждений.
Метафизический подход к проблеме символической непол-
ноты вполне способен привести к скептическим и пессимисти-
ческим выводам относительно возможности выражения глубин
нашего опыта. Именно так судит Тютчев:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.
292
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
Хотя никакое символическое выражение не может быть
полным или завершенным, я склонен принимать это как факт
жизни, как особенность человека, не давая этому никаких оце-
нок. Как верно отметил Кант, мы должны считаться с ограниче-
ниями нашего опыта и нашей природы. Неполнота выражения
нашего эйдетического опыта через символический язык может
быть установлена трансцендентально. Просто мы выступаем за
такой символизм, который будет видеть в символах лишь спо-
соб человеческого определения и освоения действительности,
а в культуре — не особую сферу бытия, а только форму чело-
веческой реальности. В символической незавершенности и не-
выразимости я усматриваю и позитивный смысл: стимул для
творческой пытливости и создания новых форм, не дающий че-
ловечеству застыть в вечной культурной успокоенности.
Любая символическая форма, любой символический язык
несут в себе собственную конечность и неполноту. Но эта фор-
ма есть воплощение данного опыта, данного момента и данной
традиции. Неполнота значения — это нормальное свойство сим-
вола. Гораздо хуже, если он фигурирует в догматическом значе-
нии, подкрепленном самообманом или властным авторитетом.
Символические миры — это нарративы, а не теории. Поэтому
они требуют выработки собственной методологии понимания,
о чем и пойдет речь в следующем разделе.
3.3. Символический анализ
Здесь пойдет речь о том, как следует истолковывать
и анализировать высказывания о символах. Методы мета-
физики, толковавшей символы по аналогии с понятиями,
как я постараюсь показать, если и применимы, то лишь с су-
щественными оговорками. Следовательно, символический
анализ требует методологии, которая исходит из природы
и языка символов. Такая методология, находящаяся в тени
«основного потока» метафизики, обычно признаваемая чи-
сто эстетической, существовала всегда, но особое развитие
получила лишь в постромантическую эпоху. И хотя в наше
время методы толкования символов разрабатывались не без
определенного успеха, теории символического анализа все
еще носят разрозненный и частно-научный характер. Поэ-
тому в настоящем исследовании я предлагаю эпистемологи-
ческую методологию анализа символов, положения которой
приложимы к любым символическим формам. Оговорюсь:
речь не идет о какой-либо форме методологического универ-
сализма. Я хочу создать лишь тропологический метод, кото-
рый позволит раскрыть сущность символов, их место в тра-
диции и возможные пути их последующей трансформации.
Античная культура, обладавшая, возможно, самым воз-
вышенным опытом в истории человечества, крайне мало те-
оретизировала о символах, подразумевая их как нечто доста-
точно простое и понятное через образную форму выражения.
Наиболее сложные представления о символических формах
294
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
можно обнаружить у стоиков — в тех положениях, которые
приписываются Зенону. О нем рассказывали: «Но Зенон счи-
тал достойными не все впечатления, а лишь те, которые об-
ладают особым свойством “обнаруживать” те вещи, которые
в них “представляются”... он называл это “схватыванием”»1.
Поскольку подобных суждений у более ранних авторов мне
обнаружить не удалось, я буду считать именно Зенона ро-
доначальником особой методологии, которая требуется для
толкования символических суждений. Хотя контекст этого
фрагмента во многом утрачен, речь здесь идет о разграни-
чении впечатлений на простые чувственные и более слож-
ные, особенные, посредством которых достигается целостная
образность. Именно такие впечатления характерны, прежде
всего, для художественного опыта, где значима целостность
созерцания, которая достигается сразу и непосредственно
(часто без полного ознакомления со всеми деталями). В вос-
ходящей к Платону, Аристотелю и Зенону эстетике целост-
ность представления, хотя и не покидает стихию чувствен-
ности, является одухотворенной формой представления; это
эстетическое учение неотделимо от этического принципа
возвышения личности в процессе приобщения к сфере пре-
красного и возвышенного. Целостность эйдетической формы
тем самым схватывается непосредственно и сопровождается
определенным гармоническим равновесием между впечатле-
нием от образа и нашим возвышенным опытом. Вне всякого
сомнения, Зенон в данном фрагменте ведет речь об индиви-
дуальном восприятии, об особых возвышенных впечатлени-
ях, которые возникают при созерцания красоты или добро-
детели. Характерно, что и в современной теории символизма
сохраняется зеноновское представление о непосредственном
схватывании. Так, Уайтхед пользуется этой категорией для
обозначения целостной спонтанности опыта и образуемых
чувственных данных. На мой взгляд, у возвышенного опы-
та имеется характерная особенность, которую надо учиты-
вать при анализе символов: если в рамках концептуального
представления, особенно в науке, опыт существенно отделен
от рациональности, то символ одновременно и воспринима-
1 Фрагменты ранних стоиков. Т. I. М., 1998. С. 28.
3.3. Символический анализ 295
ется, и понимается в сфере эйдетического опыта. Поэтому
неверно представлять, будто мы сначала воспринимаем сим-
вол как нечто наглядное и буквальное, а затем «раскрываем»
в нем иное сущностное значение. Символ постигается в виде
эйдетической формы, которая образна по своей сути, но ни-
как не «разложима» на момент «схватывания» и момент «ин-
терпретации этого схватывания». Простейший случай такого
рода, на мой взгляд, — это оперирование привычным словом
обыденного языка. При произнесении общеупотребитель-
ных слов мы настолько прочно впитали в себя их эйдетиче-
ские формы, что не отделяем произнесение (слушание) слова
от его понимания. Конечно, в случае восприятия прекрас-
ной художественной формы и опыт, и понимание будут су-
ществовать на гораздо более высоком уровне, но механизм
символических воздействий остается прежним. Восприятие
Джоконды настолько тесно включает в себя аспект «понима-
ния», что его совершенно невозможно отделить от аспекта
«восприятия»1. Взгляд на картину как возвышенный эйдети-
ческий образ отличается от взгляда на физический объект
именно тем, что это взгляд с позиций определенной установки
возвышенного опыта, взгляд через призму тех или иных симво-
лов, с позиций определенного «воззрения», которое соединяет
в себе как индивидуальные, так и традиционные представ-
ления. Возвышенный опыт есть «схватывание» потому, что
эйдетический опыт, эйдос и символ существуют изначально
слитно, а все попытки отделить их друг от друга возможны
лишь в абстракции.
Возвышенный эйдетический опыт имеет особый статус,
поскольку реализуется только через символы. Поэтому, если
я и говорю об «эмпирической» природе символа, то лишь
для того, чтобы отграничить символизм от рационально-
го мышления. Возвышенный опыт не имеет ничего общего
1 У Леонардо да Винчи есть высказывание о наличии особого опыта:
«Многие будут считать себя вправе упрекать меня, указывая, что мои до-
казательства’ идут вразрез с авторитетом некоторых мужей, находящихся
в великом почете, почти равном их незрелым суждениям; не замечают они,
что мои предметы родились из простого и чистого опыта, который есть
истинный учитель» (Леонардо да Винчи. Избранные произведения: в 2 т.
Т. 1. М., 2010. С. 105).
296
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
с сенсуалистическими установками, кроме того, что он так-
же переживается субъектом. В связи с этим совершенно ло-
гично выглядит затруднение, в которое попали Юм и Кант.
Поскольку эти классики выделяли чувственность и рассудок
как две исключительные формы деятельности сознания, то
возвышенный опыт не нашел своего места в их метафизиче-
ской схеме. Кант, наряду с чистым и практическим разумом,
приходит к необходимости допущения промежуточной «спо-
собности суждения», понимаемой как сфера суждений воз-
вышенного эстетического опыта. Несмотря на рассудочность
построений Канта, я согласен с его учением о том, что воз-
вышенный опыт покидает стихию чувственности, но вместе
с тем не входит в сферу мышления, образуя свой собствен-
ный мир. Если судить с трансцендентальной точки зрения,
«суждения вкуса» (то есть акты эстетического возвышенно-
го опыта, закрепленные в символах) действительно имеют
лишь форму логических суждений, не разделяя с последними
сущностную природу. Поскольку символ только выглядит
как нечто концептуальное, то следует избегать искушения
трактовать его как абстрактную «символическую форму»;
тем более рассматривать эту форму либо по аналогии с поня-
тиями, либо как особое «наглядное представление». В этом
и заключается существенная ошибка немецкой классической
метафизики: на самом деле возвышенный опыт не есть фор-
ма чувственного опыта. Следовательно, она является само-
стоятельной формой выражения сознания. В возвышенном
опыте предметом выступают вовсе не вещи, а эйдосы, взятые
как совершенные формы. Уже в античной скульптуре пред-
метом как вдохновения художника, так и созерцания зрителя
выступает совершенство формы, трактуемой через совершен-
ное воплощение красоты, меры, гармонии, целесообразности
и прочих эйдетических качеств. При этом красота Афроди-
ты, величие Зевса, мужество Ареса воспринимаются созерца-
нием именно эйдетически — как символические предикаты,
совершенно неотделимые от целостного содержания и при-
обретающие классическую форму выражения, позволяющую
возвышенному опыту именно так воспринимать эти предика-
ты во всех последующих случаях. Эстетические эйдетические
воплощения, разумеется, тоже изменчивы, но обычно не су-
3.3. Символический анализ
297
щественно, поскольку возвышенное созерцание, как прави-
ло, реализуется в конечном наборе символических качеств:
добродетели, характерные особенности пола, возраста, атри-
бутики и т. д. Наполеон или Суворов в образах античных ге-
роев не выглядят нелепо и анахронично именно потому, что
эти образы воспринимаются по законам эстетически возвы-
шенного, эйдетического созерцания, когда вполне реальное
величие Наполеона как полководца и государственного мужа
символически выражается через его причастность сомну ве-
ликих, а «античный» характер образа лишь подчеркивает,
усиливает, придает статуарную незыблемость возвышен-
ным качествам личности. Возвышенный опыт всегда требует
и возвышенных средств его символического выражения.
Символический мир изменчив, но это не означает, что для
него нет истины. Истина трактуется здесь не как соответствие
фактам или логическое свойство, а как наиболее удачное отоб-
ражение эйдоса. Некоторые символические формы эйдетиче-
ского отображения становятся «классическими», то есть служат
каноническими образцами для всех последующих символиче-
ских выражений подобного возвышенного опыта. Символизм
стремится к уподоблению символа эйдосу (неважно, в какой фор-
ме). Но поскольку эйдос не представляет собой чего-то вечно не-
изменного, хотя и чрезвычайно стабилен в пространстве опыта
и культуры, то символические трактовки неизбежно выступа-
ют и эйдетическими «вариациями». Так, к примеру, Афродита
Милосская, Афродита Книдская и Афродита Каллипига вдох-
новлены схожим возвышенным опытом и схожими мифоло-
гическими и символическими структурами понимания. Но эти
три Афродиты различны, поскольку в них присутствует момент
индивидуального взгляда скульптора, который делает саму Ки-
приду эстетической индивидуальностью. Если же обратиться
к миру живописи, поэзии, то здесь момент индивидуальной,
авторской интерпретации становится настолько существенным,
что оказывает влияние на саму эйдетическую форму, делая эти
интерпретации уже достаточно условно схожими или даже со-
вместимыми. Тем самым индивидуализация возвышенного
опыта неизбежно прорывается через все «классические» кано-
ны и начинает учитывать их лишь косвенно, ставя превыше все-
го свой собственный эйдетический мир.
298
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
Таким образом, при любом толковании символа следует
учитывать то обстоятельство, что символ (в отличие от кон-
цепта) хотя и обобщает, но воплощается в индивидуальном,
единичном, своеобразном содержании, что наиболее очевидно
в художественном символизме. Символ поэтому конкретен, но
ему нужна и определенная «абстрактность», трактуемая не как
логическая абстракция, а как возвышенная недвижность эйдо-
са. Иначе символ оказался бы рабом любой вариации индиви-
дуального возвышенного опыта и изменялся бы с этим новым
опытом. Он и на самом деле видоизменяется; однако любой
символ обладает и моментом смысловой «инертности», которая
достаточна для норм традиции, но не позволяет символу «ока-
менеть» в одном и том же значении.
Бахтин пишет: «Переживание, чтобы эстетически уплот-
ниться, положительно определиться, должно быть очищено
от нерастворимых смысловых примесей, от всего трансцен-
дентно значимого, от всего того, что осмысливает пережива-
ние не в ценностном контексте определенной личности и ко-
нечной жизни, а в объективном и всегда заданном контексте
мира и культуры»1. Здесь речь идет о структурно определен-
ном, выверенном опыте, который изолируется от своего но-
сителя и трактуется как некая самостоятельная субстанци-
ональная форма. При интерпретации возвышенного опыта
следует учитывать целый ряд трудностей — некоторые из
них мне кажутся почти неразрешимыми. Так, при утрате зна-
ния о символическом содержании непосредственного возвы-
шенного опыта неизбежно возникает определенный социо-
культурный разрыв. Даже современные нам люди могут быть
носителями иной психологии, иных национальных, религи-
озных, эстетических, метафизических и прочих убеждений,
что ставит между нами стены взаимного непонимания. Если
же говорить об исторической сфере, то тут непосредствен-
ный эйдетический опыт людей прошлого доходит до нас
со значительными лакунами. Как бы ни тосковал по этому
поводу романтический поэт, опыт греков ушел в прошлое
вместе с ними самими. Мы можем частично реконструиро-
вать этот опыт, обращаясь к памятникам литературы, фило-
1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 108.
3.3. Символический анализ 299
софским идеям, прочим источникам. Подобные нарративы,
восстанавливающие личность и опыт человека в истории,
на мой взгляд, всегда значимы — и в научном, и в мировоз-
зренческом отношениях. Однако такие реконструкции всегда
проводятся косвенными методами, исключающими прямой
диалог. Мы восстанавливаем собирательный образ «древне-
го грека» по отдельным источникам, на основании сведений
об отдельных личностях, причем сами эти источники высту-
пают формами интерпретации и часто оставлены теми, от
кого эти личности были весьма далеки — не только хроноло-
гически, но и духовно. Таким образом, огромный объем непо-
средственного возвышенного опыта любой великой традиции,
к большому прискорбию, навсегда уходит в Лету, и восста-
новить этот опыт, даже самыми титаническими усилиями,
практически невозможно.
В связи с этим символический анализ оказывается более
удачным методом исследования эйдетической сферы. В от-
личие от непосредственного возвышенного опыта, символы
подчиняются принципам образного представления, принци-
пам языка, положениям мифологии, религии, метафизики,
политики, искусства, науки; символы не зависят от частных
форм переживания и жизни, выступая неким культурным
«резюме», обычно переживающим своих авторов и целые
поколения людей. Можно заключить, что при толковании
символов следует учитывать содержание опыта в той сте-
пени, насколько оно поддается реконструкции; но приорите-
том все-таки должно выступать исследование символа, а не
опыта.
Символический анализ, да и все основные методы изу-
чения возвышенного опыта, возникли относительно недав-
но. У немецких классиков, романтиков, иррационалистов,
у Ницше и Дильтея, отсутствует детально разработанная
методология исследования символической сферы, хотя они
и уделяют символам большое внимание. Поэтому первой ме-
тодологией трактовки символов можно считать теорию сим-
волических форм Кассирера. Выводя метафизическое поло-
жение о символизме как основе культуры, Кассирер пишет:
«Только посредством этих символов и памятников мы можем
постигать религиозные, языковые, художественные смыслы.
300
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
Именно это взаимопереплетение составляет то, что мы вос-
принимаем как объект культуры»1. Кассирер хорошо пони-
мает, что символы в любых традициях и любых сферах куль-
туры носят «практический» характер и неотделимы от опыта
и деятельности людей. Но, как представитель кантианского,
трансцендентального идеализма, Кассирер отделяет символ
как понятие «наук о культуре» от символа в непосредствен-
ной и живой ткани традиции. Тем самым методология сим-
волизма оказывается по своей сути метафизической, а сами
символы трактуются в духе концептуализма — как особые
ценностно окрашенные понятия2. При этом важно отметить,
что Кассирер занимает позицию метафизического универса-
лизма, согласно которой набор базовых символов един для
всего человечества. Не вдаваясь в детальную полемику с Кас-
сирером и его сторонниками, я все же отмечу, что считаю
любую форму символического универсализма ложной, равно
как и не вижу причин выделять вечно сущие «символические
формы». Вместо этого я трактую символы как уникальные
эйдетические обобщения, совершенно не похожие на кон-
цепты, а также предлагаю нарративистскую методологию
анализа символов, учитывающую индивидуальность тради-
ций и отдельно взятых символических порядков. Моя трак-
товка гораздо ближе к «эстетической» интерпретации симво-
лизма Аристотелем и Юмом; она требует постоянного учета
опыта носителя традиции (будь то автор, великий человек
или просто «типичный представитель» определенной эпо-
хи, страны, общественной группы, опыт которого известен
нам); эта методология не идет в отношении традиций дальше
обобщения. А если символы традиции переходят в содержа-
ние иной традиции, то, как я убежден, этот феномен вовсе
не свидетельствует о вечности символов или символических
форм. Символы прежних традиций в новых традициях могут
фигурировать только как интерпретации, когда все слова
1 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 50.
2 «Культура постоянно создает в своем непрерывном потоке новые язы-
ковые, художественные, религиозные символы. Однако наука и филосо-
фия должны разлагать эти символические языки на их элементы, чтобы
сделать их понятными» (Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М„
1998. С. 94).
3.3. Символический анализ
301
и трактовки меняют свое значение, приобретают новые, со-
временные смыслы, зачастую глубоко отличные от «искон-
ных», забытых и покрытых пылью веков.
Герменевтическая методология, сохраняя идеалистиче-
ский характер, подходит гораздо ближе к раскрытию природы
символов, выводя учение об их индивидуальности и качествен-
ных отличиях от понятий. Герменевтика по-прежнему пресле-
дует цели создания универсалистской «методологии понима-
ния» (упорно желая сохранить идеалистическую всеобщность).
.Герменевтика также не преодолевает эстетического и историче-
ского характера, предпочитая работать с феноменами класси-
ческого искусства, особенно выраженного в форме текстов. Но,
так или иначе, герменевтическая философия на настоящий мо-
мент практически не имеет альтернатив в искусстве понимания
и истолкования символов, выступая классической формой фи-
лософии символизма.
Герменевтическая методология понимания символов
отказывается от атомизма по отношению к ним, свойствен-
ного другим методологиям атомизма. Любой символ может
рассматриваться только в широком контексте той традиции,
в которой он возникает и сохраняется; поэтому символы об-
разуют структуру, напоминающую холистическую структуру
языка, предложенную Якобсоном и Куайном. По этому по-
воду Рикёр пишет: «Символизм всегда чрезвычайно богат,
поскольку каждый символ потенциально может обозначать
все другие символы; символическое скорее находится между
символами»1. Символ никогда не отделен от связей с други-
ми символами; он выделяется лишь абстрактно. В этом смыс-
ле контекст литературного произведения — классический
пример символической целостности, когда его невозможно
сократить, равно как выдернуть из контекста какую-то сим-
волическую фигуру. К примеру, романы Толстого и Достоев-
ского в русской философии становятся не просто текстами
и определенными мировоззренческими матрицами, а идео-
логически окрашенными символами борьбы. В результате та
или иная часть романа Достоевского избирается интерпрета-
тором как символическое знамя; остальное же учитывается
1 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 92.
302
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
крайне мало. Михайловский, Соловьев, Бердяев, Набоков —
это классические примеры идеологической критики Достоев-
ского, крайне ангажированной формы интерпретации и тол-
кования его произведений. Да и сам Достоевский столь же
идеологично подошел к творчеству Пушкина, абсолютизи-
ровав образ Татьяны, перетолковав его на свой собственный
лад, возведя героиню на пьедестал высшей нравственности.
Подобные интерпретации чрезвычайно ценны именно как
интерпретации, но они не имеют никакого отношения к трез-
вому и взвешенному символическому анализу. Если гово-
рить о литературоведении, то в России Энгельгардт, Бахтин
и Лотман учат о таком типе литературной критики, который
совершенно свободен от идеологии (или какой бы то ни было
внешней интерпретации) и при этом исходит исключительно
из содержания текста и реконструкции опыта автора.
Нельзя рассуждать о герменевтике, не обращаясь к ху-
дожественному миру. В этой философской традиции искус-
ство выступает как форма не только наиболее выраженного,
но и наиболее свободного символизма, независимого даже
от фактических и логических ограничений. Гадамер пишет:
«Символическая репрезентация, осуществляемая искус-
ством, не нуждается в какой-либо зависимости от наличного
мира вещей. В том-то как раз и заключается отличительная
особенность искусства, что воплощаемое им, независимо от
того, богато или бедно оно ассоциациями или же вовсе лише-
но их, побуждает нас, как встреча с чем-то знакомым, оста-
новиться и выразить свое отношение»1. При понимании тек-
ста, по Гадамеру, на первый план выходит не его содержание
и даже не его правдоподобие, а выстраивание диалогической
связи между опытом автора и опытом интерпретатора. Та-
ким образом, любое понимание символа — это диалог, интер-
претация, которая не свободна и от ценностно окрашенного
отношения, такого, к примеру, как принятие или отвержение.
В практике символической коммуникации подобный диалог
крайне редко преследует цели «сохранения подлинности»
или «понимания истинной сути» интерпретируемого сим-
вола. С позиций того реализма, которого я придерживаюсь,
'Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М„ 1991. С. 304.
3.3. Символический анализ 303
следует существенно различать практику символической
коммуникации и метод научного исследования символов. За
пределами исторического, философского, литературоведче-
ского и прочих исследований, направленных на раскрытие
подлинности символа, существует практика налично сущей
традиции, в которой, как правило, господствуют ценности
и запросы текущего момента, а исторические символы либо
забываются (или уничтожаются), либо перетолковываются
по лекалам господствующей идеологии. Классическим слу-
чаем не теории, а практики символического «переописания»
может служить дошедшая до нас история об участии Неро-
на в олимпийских состязаниях, когда его по идеологическим
мотивам приравнивали к богам просто потому, что он почтил
игры своим вниманием. При этом сама идея олимпийского
состязания была варварски извращена, выступала только
ширмой для совсем иного символа — торжества абсолютной
власти.
Поскольку любой автор выступает как носитель совре-
менных ему ценностей и занимает определенную позицию,
то в герменевтической методологии принято делать позицию
интерпретатора максимально нейтральной. В связи с ролью
интерпретатора Хабермас пишет: «Интерпретаторы отка-
зываются от преимуществ привилегированной позиции на-
блюдателя, так как они сами, по крайней мере виртуально,
оказываются вовлечены в обсуждение смысла и значимо-
сти высказываний. Принимая участие в коммуникативных
действиях, они в принципе приобретают тот же статус, что
и те их участники, чьи высказывания они хотят понять»1.
Начальной точкой оказывается эйдетический опыт интер-
претатора. Но эта точка не есть нечто неподвижное: вполне
возможны корректировки этой позиции и другие интерпре-
тации. Однако, при очевидном присутствии здравого смысла,
позиция Хабермаса мне кажется утопической. Для внесения
определенности в любой символический анализ следует всег-
да относить его анализ к конкретной личности или школе,
к определенной «позиции», точке зрения, которая (взятая
1 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.,
2006. С. 43.
304
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
как интерпретация) сама становится символической. Если
бы не было таких конечных «точек», то атрибуция этих ин-
терпретаций оказалась бы настолько затруднительной, что
могла бы привести к неискоренимым затруднениям — вплоть
до полной потери ориентировки в перечне наиболее «утвер-
дившихся» в этой традиции трактовок. Поэтому, без всяких
симпатий к релятивизму или идеологической ангажирован-
ности, я выступаю сторонником «ограничения» позиции ин-
терпретатора, прежде всего, символическими установками,
определяющими суть самой интерпретации.
Совершенно ошибочно не только учить о вечном набо-
ре символических форм, но и искать абсолютные основания
символизма в структурах сознания. В современном модерниз-
ме и постмодернизме значимы психоаналитические диспо-
зиции, усматривающие генезис символов в архетипических
структурах психики. В результате символизм, который трак-
туется как нечто фундированное на уровне бессознательного,
не только возводится к первобытной архаике, но и метафи-
зически оказывается универсальным для всего человечества.
К примеру, Фромм трактует символизм так: «Так же и язык
символов: его не надо учить, его распространение не ограни-
чивается какими-то группами людей. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что на языке символов создаются мифы и сны
во всех культурах... Кроме того, символы, используемые
в этих различных культурах, обнаруживают поразительное
сходство, поскольку все они восходят к основным ощущени-
ям и эмоциям, которые испытывают люди»1. Я не выделяю
никаких «вечных» форм возвышенного опыта. Структуры
сознания, задействованные в эйдетическом опыте, и в самом
деле почти одни и те же — как для древнего римлянина, так
и современного человека. Но я отношусь к этому не более как
формальному условию, наподобие того, что любой человек
живет, дышит и т. п. При одних и тех же формах «природы
человека» возвышенный опыт определяется символизмом, ко-
торый индивидуален для каждой эпохи и традиции, изменчив,
может оформляться в различных и часто несовместимых друг
с другом символических языках и т. д. Поэтому путь обраще-
1 Фромм Э. Душа человека. М„ 1992. С. 188.
3.3. Символический анализ
305
ния к структурам «человеческой природы» (будь то созна-
тельное или бессознательное) не сулит больших перспектив
для символического анализа. На мой взгляд, даже первичные
символы существенно отличаются друг от друга в разных
исторических традициях, и при дальнейшем анализе эти раз-
личия только увеличиваются. Не существует никакого вечно-
го символизма, свойственного всем людям во все времена.
Символизм всегда создает эйдетическую, а потому «че-
ловечную» реальность. В природе отсутствуют эйдосы
, и символы; следовательно, они значимы исключительно как
формы человеческого бытия. Как отмечает Вяч. Иванов, «ре-
алистический символизм возводит воспринимающего ху-
дожественное произведение a realibus ad realiora — от низ-
шей действительности к реальности реальнейшей»1. На мой
взгляд, нет никакого особого смысла в сопоставлении мира
символов и мира вещей2. Символические «вещи» (напри-
мер, произведения искусства или предметы культа) имеют не
природную, а эйдетическую сущность. По этому поводу Вит-
генштейн в своей работе «О достоверности» выводит вооб-
ражаемый спор между Дж. Муром и католиком, которые ра-
зошлись по поводу того, является ли вино на богослужении
Кровью Христовой. Это несогласие — наглядная иллюстра-
ция того, что Мур видит в вине лишь физическую природу,
которая как таковая неизменна; тогда как католик воспри-
нимает вино в символическом смысле, подчиняя физическую
природу символической. Таким образом, можно вывести
в качестве регулятивного принципа символического анали-
за следующее: если символ представлен как наглядный образ,
то на первый план выходят не физические, а эйдетические его
характеристики. Применительно к лингвистическому сим-
волизму это принцип несколько корректируется: при анали-
зе словесного символа эйдетические значения первичны по
отношению к буквальным и описательным значениям.
Мне всегда кажется подозрительным символ, который
претендует на однозначность. Как правило, за этой одно-
значностью стоит то, что, собственно, не относится к при-
1 Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 306.
2 Эта проблема особенно волновала философов начала XX в.
306 Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
роде самого символа, а именно: теологический догмат,
идеологический лозунг или просто воля лица, наделенно-
го властью. Нормальная ситуация для символа — опреде-
ляться с помощью нескольких основных прочтений, внутри
каждого из которых возможны более частные вариации. Как
пишет Лосев, «эту особенность всякого живого символа мы
называем его многомерностью, которая является у нас, та-
ким образом, слиянием разнообразных структурно-семан-
тических категорий в одно нераздельное целое»1. В зависи-
мости от характера опыта, факторов традиции, культурной
сферы, принадлежности к той или иной школе и даже вви-
ду особенностей частного воззрения символы приобретают
различные определения. Если говорить о наиболее общих
из них, то один и тот же символ (например, «мир») может
существенно различаться в метафизике, теологии, науке,
искусстве, в разные эпохи, у разных мыслителей, писате-
лей и богословов и даже у тех, кого мы обычно записыва-
ем в единомышленники. Одно из назначений гуманитарных
наук — делать эти разнообразные символические вариации
явственными и по возможности классифицировать эти зна-
чения, устанавливая связи между ними. При этом я крайне
скептически отношусь к распространенному мнению, что
многомерность символа восходит к общему источнику: на
мой взгляд, создавая символические образы мира, авторы
обычно мало считаются друг с другом, исходя, прежде все-
го, из собственных воззрений и диспозиций.
Поскольку символы описывают не вещи, а эйдосы, то
выделение области «мира» происходит по эйдетическим
принципам, а не по принципам чувственного представления.
В этом отношении символическая область мира задается,
ограничивается эйдетическим опытом. В определенном смыс-
ле она и моделируется — наподобие того, как научный экспе-
римент уже не проводится в природных условиях, а требует
долгой лабораторной подготовки. В области визуальных ис-
кусств — будь то живопись или фотография, архитектура или
парковый ландшафт, скульптура или кино — символическая
1 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
С. 205.
3.3. Символический анализ
307
установка выступает определяющей, побуждая нас сосредото-
читься не на физических, а на эйдетических свойствах изоб-
раженного. К примеру, рассуждая о символической органи-
зации визуального поля, Мерло-Понти пишет: «Повторим
еще раз: край визуального поля — это не реальная линия.
Наше визуальное поле не выделено в нашем объективном
мире, не является одним из ее фрагментов с самостоятельны-
ми краями, наподобие пейзажа в окне»1. При символическом
анализе важно учитывать то, что не только слова и мысли, но
и «вещи» приобретают символическое измерение; и понимать
эти вещи следует, исходя из установок возвышенного опыта.
К примеру, фантастическое в литературе выступает не только
формой придуманного и воображаемого, но также призвано
«смоделировать» такие действия, высказывания, образы, си-
туации, которые раскроют именно эйдетическую суть. В свя-
зи с этим фантастика Гофмана, Гоголя или Достоевского,
где нарушаются все возможные физические законы приро-
ды, кажется уместной и оправданной, поскольку цель этой
фантастики лежит в области изображения эйдоса. Поэтому
в сфере символизма наблюдается высокая степень свободы
описаний, где, собственно, речь идет отнюдь не о вещах. Хотя
пространство картины раз и навсегда сотворено, смысл этого
пространства — не «в себе и для себя», а в сфере интерпрета-
ции, выстраивающей эйдетический нарратив по отношению
к содержанию воспринимаемого.
Хотя символическое пространство не является интуитивно
схватываемым, при определении целостного характера этого
пространства роль интуиции весьма значительна. Целостность
символизации понимается не рассудочно, а как нечто типиче-
ское, представляющее собой законченность формы эйдоса. По-
этому это пространство, пусть и сложно организованное, может
оказаться «символической ситуацией», которая воспринимает-
ся как относительно атомарное и законченное в себе культурное
образование. К примеру, Троянская война воспринимается как
нечто в себе и для себя завершенное в символическом образе го-
меровских поэм, равно как и симпосион понимается в связи с за-
конченным в себе описанием из платоновского «Пира». В клас-
1 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 357.
308
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
сическом театре, к примеру, реплика актера отсылает не только
к ее смыслу, но и к определенной законченности эйдетической
ситуации, которая представляется на сцене в виде символиче-
ского жеста. Поскольку главный герой в классическом театре
(это применимо и к литературе) есть типический эйдос, носи-
тель определенной стороны человеческой природы, то автору
не требуется вводить исчерпывающее определение его лично-
сти; многие характеристики либо конспективно набрасываются,
либо угадываются в опыте зрителя, а порой вообще остаются
открытыми для предположений1. Но в любом случае, каким бы
фантастическим ни был символ, он не окажется действенным
за пределами возможностей соответствующего эйдетического
представления.
Теперь я перейду к уже назревшему вопросу — к доказатель-
ству того, что критерии эмпирической эпистемологии в боль-
шинстве своем не подходят для понимания возвышенного опыта
и символизма. В рамках эмпиризма истина — это соответствие
чувственных данных и физического объекта. Но в сфере возвы-
шенного опыта истина относится не к вещам, а к эйдетическим
сущностям. К примеру, статуи или живописные сюжеты лишь
«изображают вещи», на самом же деле они могут быть поняты
только как эйдетические образы. Эмпирическую позицию в от-
ношении символизма выражает Бэкон, который пишет: «Эмбле-
ма же сводит интеллигибельное к чувственному, а чувственно
воспринимаемое всегда производит более сильное воздействие
на память и легче запечатлевается в ней, чем интеллигибель-
ное»2. Тем самым в эмпиризме присутствует критика чистой ра-
циональности по отношению к представлению, в рамках кото-
рой выделяется класс «простых идей», более живо воспринима-
емых чувствами, — речь идет также, разумеется, об этических,
эстетических и тому подобных идеях. Эмблематическая теория,
предложенная Бэконом, выражает наглядно-образный уровень
символизма и значима для понимания природы аллегорий и ви-
зуальных искусств. Однако уровень эмблематики представляет
1 Наподобие байроновского Лары, о котором спрашивают: «Кто он? За-
чем явился в этот круг?» Безличные обороты особенно любит Блок, пре-
доставляя читателю самому разгадывать: кто приходит, что таится, что
предчувствуется.
2 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М„ 1971. С. 329.
3.3. Символический анализ
309
собой очевидно упрощенное, а зачастую и усредненное изобра-
жение символа, который из эйдетической сферы как бы падает
до уровня наличной чувственной данности. В связи с этим стоит
рассмотреть возражение Локка против возможности неэмпири-
ческого начала любой идеи. Локк пишет: «Но и самая изощрен-
ная проницательность и самое широкое разумение не властны
ни при какой живости или гибкости мышления изобрести или
составить в душе хотя бы одну новую простую идею... точно так
же никакая сила разума не может разрушить уже находящиеся
, в душе идеи»1. На мой взгляд, возражение Локка актуально для
концептов, но эйдетического уровня оно не затрагивает. Несмо-
тря на явную связь между чувственно воспринимаемым чело-
веком и человеком, фигурирующем на картине художника, ху-
дожник изображает не самого человека, а его образ. Даже если
этот образ приближен к натуре, он включает в себя момент ин-
терпретации и символизации. Вспомним, как однажды четыре
немецких художника решили написать одинаковый пейзажный
вид, задавшись целью изображать видимую картину как мож-
но более буквально. В результате вышли три разные картины2.
Что говорить, если даже использование техники в современных
видах искусства не в состоянии исключить момент авторского
видения? К примеру, несколько известных петербургских фо-
тохудожников снимали вид из одной и той же мансарды и за-
тем обрабатывали снимки. В результате получились картины,
разные по композиции, манере, колориту, фокусировке и т. д.
Таким образом, эйдетический опыт функционирует по законам
символической интерпретации и в своих высших проявлениях
может оказаться уникальным и неповторимым. Если в мире
чувственности господствует относительное однообразие (ког-
да на уровне стимульной синонимии мы понимаем друг друга
без особых проблем), то в эйдетическом мире само восприятие
в сфере возвышенного опыта оказывается уникальным и зага-
1 Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М, 1985. С. 169.
2 «В своих воспоминаниях художник Людвиг Рихтер рассказал, как в мо-
лодости в Тиволи он вместе с тремя приятелями писал один и тот же пей-
заж. Все они решили не уклоняться от натуры и стремились воспроизвести
то, что видели, с наивозможной точностью. Тем не менее в результате по-
лучились четыре совершенно разные картины» (Кассирер Э. Избранное.
Опыт о человеке. М., 1998. С. 611).
310
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
дачным. Так, уникальная живописная манера, на мой взгляд,
преимущественно обусловлена вовсе не техникой и школой,
а неподражаемой индивидуальностью опыта художника, выра-
женной в манере письма и выборе сюжета. При этом нет ника-
кого сомнения, что и в рамках эйдетического опыта действует
рекомендация Юма о необходимости создания наиболее ярких,
впечатляющих и живых образов — хотя, если брать искусство,
такие образы обретают свою возвышенность никак не за счет
воздействия на чувственность.
Символы часто связаны с уникальным опытом выдающей-
ся личности, поскольку именно такое происхождение придает
символу возвышенный характер. Порой символы — даже при
анонимном или народном происхождении — умышленно отно-
сятся к легендарному «основоположнику»: богу, герою, проро-
ку, мудрецу и т. д. Целая культурная эпоха порой символически
отождествляется с символическим образом выдающейся лично-
сти. К примеру, в русской истории принято употреблять такие
термины, как «Петровская эпоха», «екатерининское время» или
«пушкинский век». При этом зачастую и то, что не имеет прямо-
го отношения к Петру или Пушкину, символически переносится
на их личности. Историки, например, установили, что Петр не
присутствовал на церемонии закладки Петербурга, — всем ру-
ководил Меншиков. То есть царь не был в буквальном смысле
основателем новой столицы. Но как символический акт основа-
ние Петербурга, вопреки фактической очевидности, связывается
с образом царя-преобразователя, с его могучим волевым реше-
нием. Именно так (то есть эйдетически) понимает это Пушкин
в своем «Медном всаднике», трактуя историческое событие как
символический миф1. В устной традиции древних греков было
обычным делом отнесение любого из искусств к личности ле-
1 Поэтический миф об основании Петербурга Пушкин усиливает описа-
нием местности. «На берегу пустынных волн...» — читаем мы у поэта. При
этом известно, что до основания Петербурга на его территории с давних
времен располагалось несколько деревень (Охта, Калинкина и др.), а на
месте Летнего сада стояла мыза шведского коменданта крепости Ниен-
шанц. Через будущую территорию Петербурга проходил почтовый тракт
Новгород — Выборг. Однако для такой эйдетической цели, как создание
убедительного образа царя-преобразователя, Пушкину понадобилось,
чтобы город был заложен в совершенно дикой и пустынной местности.
3.3. Символический анализ 311
гендарного (не важно, реального или вымышленного) основате-
ля; причем в рамках устной традиции такие личности довольно
быстро превращались в мифологических и легендарных персо-
нажей. Даже Платон и Аристотель не теряют связь с традицией
отнесения всех сторон культурной жизни к таким личностям, как
Орфей, Мусей, Ликург, Геракл, Одиссей, Ахилл, Гомер и др.
В эмпирической эпистемологии, начиная с Юма, присут-
ствует крайне размытое определение сущности «идеи». Под
идеями понимаются не только интеллектуальные, но любые
выраженные в какой-либо форме акты сознания. В связи
с этим символы в школе эмпиризма относятся к сфере осо-
бых идей, но понимаются сугубо эмпирически, как формы
опыта. К примеру, Дьюи так пишет об идеях: «Идеи — это
орудия. Как и в случае с другими орудиями, их ценность
заключается не в них самих, но в их способности к работе,
проявляемой в результатах их использования»1. Очевидно,
что Дьюи понимает под идеями совсем не то, что принято
в рационалистической традиции. Прагматистская трактовка
идей наделяет их практическими, идеологическими, эсте-
тическими, мировоззренческими и прочими функциями,
которые я отношу к сфере символов. Положение Дьюи тем
самым крайне сомнительно в отношении чистых идей, но со-
вершенно адекватно применительно к символизму. В самом
деле, символы суть исключительно ценностные эйдетические
формы, которые, прежде всего, указывают на определенный
опыт. Они также динамические формы, которые могут транс-
формироваться в случае изменения опыта, появления новых
интерпретаций или смены социальных условий. Прагматист-
ская трактовка понятий относит их к сфере символического
и трактует их как успешные интерпретации, убедительные,
уместные, ценностные понятия* 2.
'Дьюи Дж. Реконструкция в философии. М., 2001. С. 120.
2 «Основная предпосылка интеллектуалистов заключается в том, что ис-
тина представляет собой по существу пассивное, статическое отношение...
Истинные идеи — те, которые мы можем усвоить, подтвердить, подкре-
пить и проверить. Ложные же идеи — те, с которыми мы не можем этого
проделать... Истина какой-нибудь идеи — это не какое-то неизменное, не-
подвижное свойство, заключающееся в ней. Истина случается, происходит
с идеей» (Джеймс У. Воля к вере. М., 1997. С. 284).
312
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
Вместе с тем установки прагматизма мало помогут нам
в ходе символического анализа. Во-первых, прагматизм —
это идеологически окрашенное направление, которое трак-
тует понятия как символы, что, на мой взгляд, неверно. Ведь
не все есть символ: у понятий и символов разные функции
и разная природа. Поэтому попытки таких прагматистов,
как Дьюи, Куайн, Рорти, доказать, что не существует чистой
интеллектуальной сферы, а все понятия представляют собой
лишь элементы определенного языка, приводит к путанице
в трактовках понятий и символов, равно как и к бесперспек-
тивному релятивизму, постулирующему атомарность куль-
турных дискурсов и возможность произвольных интерпрета-
ций. К примеру, представление Рорти (на мой взгляд, особо
характерное для прагматизма) о том, что все символические
формы случайны и являются определенными культурными
«мутациями» (часть которых выживает в зависимости от
времени и случая), совершенно не берет в расчет такие эпи-
стемологические якоря (применительно к символизму), как
довольно стабильные способы функционирования возвы-
шенного опыта и инертность традиции.
Тем самым прагматистская методология толкования сим-
волов сильна своей оригинальной трактовкой практического
функционирования идей, но требует существенных корректиро-
вок в отношении теоретической интерпретации символизма. На
мой взгляд, такие философы, как Макинтайр, Патнэм и Дэвид-
сон (они часто называли себя прагматистами и начинали с этого
направления), преодолели почти все затруднения прагматизма
по поводу символов. К примеру, Патнэм доказывает, что вну-
тренний реализм учит о существовании особых мировоззрен-
ческих «перспектив», которые формируются преимущественно
в символической сфере1. Макинтайр, как основоположник со-
временных учений о традиции, понимает последнюю прагма-
тистски, но указывает, что именно она определяет рациональ-
ность, а не наоборот. Поздние прагматисты отделяют символы
от понятий, учат об особой символической реальности и — что
самое важное — преодолевают чисто лингвистическую трактов-
ку символизма, закладывая учение об эйдетическом опыте.
'См.: Патнэм X. Разум, истина и история. М„ 2002.
3.3. Символический анализ
313
Аналитическая философия, на первый взгляд довольно
далекая от символических проблем, позволяет сформулиро-
вать много вопросов в отношении символического анализа,
которые до ее возникновения не ставились. К примеру, при
любом символическом анализе следует учитывать такое от-
: меченное Расселом эпистемологическое затруднение, как от-
сутствие непосредственного знакомства с историческими со-
бытиями и историческими личностями, что превращает эти
события и личности в ложно мифологизированные обстоя-
тельства. Рассел пишет: «Таким образом, если мы, например,
высказываем утверждение относительно Юлия Цезаря, то
очевидно, что в нашем сознании находится не сам Юлий Це-
з*арь, так как он нам незнаком. У нас в сознании присутствует
некая дескрипция Юлия Цезаря: “человек, убитый в Мартов-
ские иды”, “основатель Римской империи” или, возможно,
просто “человек, имя которого Юлий Цезарь”»1. Поскольку
значение символа невозможно задать как дескриптивное, то
аллегория и метафора представляются наиболее уместными
лингвистическими фигурами для передачи именно символи-
ческих значений. Юлий Цезарь как человек и как политиче-
ский лидер — это две стороны личности, которые несводимы
одна к другой. Высказывания «Юлий Цезарь правил в Риме
в 49-44 гг. до н. э.» и «Юлий Цезарь способствовал переходу
от республики к принципату» различны. Второе положение
символично, поскольку здесь Юлий Цезарь теряет свои «фи-
зические характеристики» и превращается в символическую
политическую фигуру, обретая эйдетический образ вождя
и реформатора. В этом отношении Цезарь как бы принадле-
жит «истории Рима», становится символической эпохальной
«точкой», в отношении выстраиваются интерпретации.
Когда Рассел пишет предисловие к «Логико-философско-
му трактату», он отмечает, что Витгенштейн стремится создать
язык, в рамках которого достигается точный символизм, то есть
полное тождество между символом и фактом, который он обо-
значает. «Имеется вопрос: в каком отношении один факт (такой,
как предложение) должен стоять к другому, чтобы он мог быть
'Джеймс У. Введение в философию. Рассел Б. Проблемы философии. М„
2000. С. 196.
314
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
символом другого факта. Этот последний вопрос есть вопрос ло-
гики, и им-то и занимается м-р Витгенштейн. Он рассматривает
условия точного символизма, то есть символизма, в котором лю-
бое предложение ’’означает” нечто вполне определенное»1. В та-
ком абстрактном определении логического символа нет ничего
«символического» в эпистемологическом смысле слова. Логиче-
ский символ, по большому счету, есть знак, введенный в язык как
имя. Точно так же буква или цифра на клавиатуре компьютера
обозначается как «символ»; и здесь имеется в виду лишь то, что
это атомарный знак, выведенный на экран. Логический символ
назван символом просто по причине отсутствия другого слова
в языке, а отчасти и по недоразумению (поскольку математиче-
ская логика зачастую игнорирует проблемы, лежащие за ее пре-
делами). Таким образом, в понятии «логический символ» нет
ничего символического и отсылающего к эйдетическому опы-
ту. Понятие «логический знак» мне представляется куда более
уместным и не вступающим в сложные лингвистические отно-
шения с иными значениями слова «символ».
Рассуждая с формально-логической точки зрения, Рассел
продемонстрировал целый ряд классических затруднений,
игнорирование которых обычно приводит к ошибкам в ходе
символического анализа. Прежде всего, ошибочно приписы-
вать вещам эйдетические свойства. Рассел пишет об этом так:
«При недостаточно бережном обращении с символами, при
недостаточном осознании отношения символа к тому, что
он символизирует, вы найдете, что приписываете предмету
те свойства, которые принадлежат только символу»2. Дело
в том, что даже если эйдосы могут быть отнесены к вещам
(например, в изобразительном искусстве), то сама связь эйдо-
сов и вещей носит условный характер. Неверно представлять
эйдосы в платоновском духе — как совершенные образцы,
которым «подражают» все художники. Реальность художе-
ственного произведения, как бы реалистична она ни была,
продуцируется, исходя из опыта, сознания, воображения; она
творится как нечто, чего ранее не существовало. Свойства эй-
1 Рассел Б. Введение // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М„
1958. С. 12.
2 Он же. Философия логического атомизма. Томск, 1999. С. 11.
3.3. Символический анализ
315
детической реальности таковы, что эта реальность состоит
из символов. Символы не обозначают никаких «фактов»; они
закрепляют содержание возвышенного опыта через образные
эйдетические конструкции. Поэтому никакого «строгого зна-
чения» (за пределами намеренно введенной догмы) символы
не имеют. В отличие от понятий, символические значения
трактуются только как интерпретации, а не как определе-
ния. Конечно, возможны ситуации умышленного стремления
«определить» символ, приписать ему раз и навсегда задан-
ное значение. Наиболее очевидно это в сфере теологии, где
господствует презумпция догматического подхода и приори-
тета божественного откровения над опытом человека. Также
и Ъ рамках идеологии символы могут приобрести ярко выра-
женную волюнтаристскую «незыблемость»; причем отклоне-
ние от официальных трактовок становится здесь прецедентом
для карательных органов. Философы, художники, критики,
литераторы стремятся «прописать» значения символов, со-
здать «манифесты» школы, направления — вплоть до предпи-
саний, как трактовать бытие или учиться «правильно» писать
стихи1. В любой традиции сильны позиции консерватизма,
догматизма, идеологических факторов, которые «освящают-
ся» и трактуются как «вечные» формы. Символический ана-
лиз, на мой взгляд, должен учитывать все подобные причины
догматизации символических значений. Но все-таки по своей
природе символы стремятся к обретению свободы: это изна-
чально многозначные смысловые структуры, открытые для
новых интерпретаций.
Еще одной ошибкой, на которую указывает Рассел, явля-
ется стремление приписать сфере наших символов и понятий
существование за пределами сферы представления. «Когда,
например, я говорю; “Все греки являются людьми”, я не хочу,
чтобы вы предполагали, что эта пропозиция влечет существова-
ние греков. Ее необходимо подчеркнуто рассматривать как то,
что не влечет существование, которое должно быть добавлено
как отдельная пропозиция»2, — пишет Рассел. Это затруднение,
1К примеру, технике стихосложения обучал своих студийцев Н. С. Гу-
милёв.
2 Там же. С. 54.
316
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
в самом деле очень существенно и в некоторых отношениях
даже непреодолимо. Оно восходит к Юму и Канту, которые счи-
тали, что человек создает картину мира, прежде всего, на осно-
ве представления и переносит свойства этого представления на
мир. Как известно, Рассел строит математическую логику, руко-
водствуясь принципом метафизического реализма (предложен-
ного Дж. Муром), согласно которому мир фактов совершенно
независим от сознания.
Если говорить о естествознании, то здесь позиция Рассе-
ла выглядит совершенно уместной. Планете Уран совершенно
«безразлично», что она оказывается предметом астрономии
и различных теорий. Абстрактное, отстраненное отношение
к миру характерно для рационалистического понимания на-
уки и для языка теории дескрипций. Однако Рассел, на мой
взгляд, неверно переносит такие принципы на все суждения,
оставляя суждения, которые не вписываются в эти принципы,
за бортом здравого смысла. Символические суждения и в са-
мом деле не подходят для логических и естественнонаучных
целей, но это никак не свидетельствует об их ненужности —
у них просто совершенно иная функция и природа. Из имени
не следует существование вещи, тогда как из символа следу-
ет существование эйдоса. Символ неопределим абстрактно,
«сам по себе»: он обязательно указывает на эйдетическую
форму и на определенный «массив» опыта, необходимый
для ее усвоения. Лессинг в «Лаокооне», разграничивая жи-
вопись и поэзию, судит о художественном опыте как особен-
ном, эйдетическом опыте. Будучи не в состоянии понять ха-
рактерные особенности этого опыта, он тем не менее создает
классическое определение, согласно которому деятельность
искусства основана на продуктивном воображении, то есть
искусство создает собственную действительность, а не нахо-
дит ее в том или ином «готовом» виде.
Наконец, разберем упрек Рассела по поводу отсутствия та-
кого качества символических понятий, как точность. Достиже-
ние точности поздний Рассел считает невозможным даже для
формальных определений. Он пишет: «Полночь может быть
определена только посредством измерений, скажем хрономе-
тром; но ни одно наблюдение не является точным... Следова-
тельно, никто не мог точно знать, когда закончился девятна-
3.3. Символический анализ
317
дцатый век. Два взгляда могут быть приняты в этой ситуации:
первый, согласно которому существовал точный момент вре-
мени, когда девятнадцатый век закончился, и второй, согласно
которому точность иллюзорна, а точная датировка вообще кон-
цептуально не возможна»1. Если задаваться критериями точ-
ности как фактической достоверности, то предложение: «он —
автор Веверлея» действительно ничего не означает, поскольку
ничего в значении этой фразы не указывает на Вальтера Скот-
та2. На мой взгляд, и в символизме есть опасность догматически
.зафиксировать символическое значение или приписать свой-
ства символов совокупности определенных событий и действий.
Однако отмеченное Расселом затруднение не всегда актуально
для символизма: ведь символы никогда не претендуют ни на
точность, ни на объективность, ни тем паче на беспристраст-
ность. Символы изначально суть экстраполяции человеческого
опыта и мировоззрения — и как таковые они просто «не суще-
ствуют» до их укоренения в традиции. Говорить о символе, что
он «ничего не означает», можно не в том случае, когда он ниче-
, го не описывает, а только тогда, когда он не описывает соот-
ветствующего эйдетического опыта. Поэтому символы имеют
весьма условные значения, постоянно открытые для уточне-
ний и интерпретаций, которые, при кажущейся «нечеткости»,
довольно стабильны в своей сфере, опираясь на устойчивый
(в конкретном хронотопе) фундамент в виде непосредствен-
но протекающего опыта и принятой в данном обществе тради-
ции. Опыт и традиция «фундируют» символизм, что позволяет
ему иметь надежное основание и при этом сохранять свободу,
стремление к новизне. Художники, писатели и некоторые фило-
софы обозначают это качество символов через метафору «жи-
1 Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999. С. 112.
2 «Я использовал для доказательства противоположность имени “Скотт”
и дескрипции “автор Веверлея"... Центральная идея теории дескрипций со-
стояла в том, что фраза может обусловливать значение предложения, не
имея сама по себе никакого значения... Если бы “автор Веверлея” означало
“Скотт”, то '“Скотт - автор Веверлея” было бы тавтологией, а это не так.
Следовательно, “автор Веверлея" не означает ни “Скотт", ни что-либо дру-
гое, то есть “автор Веверлея” ничего не означает» (Рассел Б. Мое философ-
ское развитие // Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993.
С. 26).
318
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
вого опыта», трактуя символы как нечто, проживающее свою
«жизнь» в культуре. По Шпенглеру, к примеру, символы, утра-
тившие свою актуальность, постепенно «вымирают», а на их ме-
сте «нарождаются» новые, более уместные для запросов нового
опыта. Подобный «биологизм» в отношении символов, конеч-
но, связан с недостатками философского языка, не выработав-
шего категориальный аппарат специально для теории симво-
лизма. Однако метафорическое выражение «жизнь символов»
хорошо передает их изменчивый, текучий, непосредственный,
временный характер. Критерии символических трактовок не
формируют какой-то универсальной методологии, поскольку
все виды символизма носят исторически изменчивый характер.
Каждая традиция или каждый символический порядок требуют
введения особой специфической методологии исследования,
исходя из опыта, диспозиций и традиционных факторов, при-
сущих соответствующему предмету. Поэтому следует признать,
что символические значения обычно весьма нечетки; симво-
лы склонны наделять мир собственными свойствами; человек
замкнут в мире своих символических предпочтений и убежде-
ний — и т. д. и т. п. И если приверженцы строгих определений
склонны здесь делать позитивистские выводы о ненужности или
неполноценности символических форм, то это не что иное, как
ложная экстраполяция на сферу символизма таких критериев,
которые к ней не относятся.
Будучи основоположником теории символизма в анали-
тической философии, А. Н. Уайтхед развивает учение об изна-
чальной сложности эйдетического опыта. С его точки зрения,
символы возникают на уровне опыта и представляют собой
«схватывания» в форме образов. При этом содержание опыта
может быть выражено лишь частично. «Язык отстает от инту-
иции. Самое трудное для философии — выразить то, что само-
очевидно. Наше понимание опережает обычное употребление
слов»1, — пишет Уайтхед. То, что наш опыт требует для своего
выражения символический язык, — это уже эпистемологиче-
ская проблема, поскольку лингвистические критерии автоном-
ны по отношению к тому опытному содержанию, которое сим-
волизируется. Отсюда возникает софистическое положение,
'Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 377.
3.3. Символический анализ
319
что символы в действительности имеют чисто лингвистическое
происхождение и должны пониматься исключительно исходя
из своей словесной, визуальной или какой-либо иной образ-
ности. Тем не менее, несмотря на то что никакое языковое вы-
ражение символа не передаст всего содержания опыта, символ
имеет то преимущество, что может существовать автономно
и тем самым закреплять фрагменты эйдетических представле-
ний, сохранять их в традиции. Поэтому символ в виде лингви-
стической формы способен быть определенной вещью в себе,
. даже когда к нему не обращаются. К тому же символ, обладая
языковым значением, зачастую не требует сопровождения
в непосредственном опыте, подобно тому как произнесение
слова «стол» не требует обязательной визуализации и воспри-
ятия стола в момент произнесения. Таким образом, символы,
хотя и искажают часть опыта, подменяя его лингвистической
формой, выступают главным и основным историческим «бан-
ком памяти» культуры. Ведь содержание непосредственного
возвышенного опыта, несмотря на воспроизводимость, обла-
дает субъективной способностью быть замененным другим со-
держанием возвышенного опыта.
Символические значения во многом зависят от употреб-
ления в языке, а частое употребление делает эти значения,
с одной стороны, привычными и признанными, а с другой — ба-
нальными, изношенными. Язык всегда характеризуется консер-
ватизмом, смысловой инертностью, и чаще закрыт, нежели
открыт для корректировки символических значений. На мой
взгляд, совершенно обыденна такая ситуация, когда символ
сохраняется и воспроизводится в культуре, но при этом дав-
но утратил сопровождение в опыте, превратившись в автори-
тетную и совершенно необходимую конвенцию, за которой на
самом деле уже ничего не стоит. Поэтому вполне закономер-
но, что подточенные упадком символы могут обрушиваться
довольно внезапно, наподобие ветхого здания, которое долго
может казаться совершенно устойчивым — и вдруг мгновенно
рассыпается в пыль.
Символ задает ориентиры эйдетической точки зрения, ока-
зывая встречное влияние на опыт. Хотя, с моей точки зрения,
символ эпистемологически вторичен по отношению к опыту, он
находится на более высокой ступени развития и гораздо ближе
320
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
к природе эйдоса, нежели исходный массив возвышенного опы-
та. Символизация на лингвистическом уровне никак не отделя-
ется от интерпретации. В нормальной ситуации интерпретация
символического значения является перманентным процессом1.
Она напоминает функционирование способа употребления сло-
ва в витгенштейнианской языковой игре, когда оно никогда не
может окончательно устояться и всегда может быть изменено.
В связи с этим символический анализ способен, по-видимому,
реконструировать эволюцию символических значений и, если
удастся, определить причины, побудившие трансформировать
эти значения. Тем самым возможно умеренное применение
лингвистического символического редукционизма, когда, исхо-
дя лишь из символических смыслов, мы можем реконструиро-
вать как эйдос, так и опыт. Такой метод часто является, при всем
его несовершенстве, единственно возможным.
Приведем пример. Древних греков давно нет. Но, обладая
знанием о греческом символизме и его источниках, мы можем
частично реконструировать картину эйдетического опыта эл-
линов. Или другой пример: загадочный для нас великий поэт.
Здесь мы реконструируем его опыт и мировоззрение, исходя из
содержания его стихов. Тем самым поэт обретает символиче-
скую личность, наделенную особым опытом и возвышенными
переживаниями. При этом, что очень существенно, символи-
ческий анализ должен тщательно отделять обыденный опыт от
возвышенного, а символические смыслы — от любых эмпириче-
ских или понятийных характеристик. Символическая личность
поэта, конечно, обусловлена его психологическими и соци-
альными характеристиками, но все же она в известной степе-
ни автономна по отношению к ним. Одно из самых неудачных
предприятий в литературоведении, на мой взгляд, — стремление
многих исследователей связать содержание стихов или их сти-
листические особенности с житейскими, биографическими об-
стоятельствами поэта. Хотя теория поэтического вдохновения,
предложенная романтиками, идеалистична и даже мистична,
она гораздо ближе к сути поэзии как фиксации возвышенного
опыта на совершенно ушедшем от повседневности, особом по-
1 Так я понимаю отсутствие догматизма, идеологического или другого
принуждения.
3.3. Символический анализ 321
этическом языке. Одна из самых трудных сторон любого симво-
лического анализа — сохранить в интерпретации возвышенность
не только символа, но и того эйдетического представления, без
которого символ — просто форма.
Выбор между альтернативными символическими интер-
претациями часто затруднен (если, конечно, мы не ограничены
одной альтернативой). Многие авторы прославляют свободу
выбора и отсутствие символического тоталитаризма, однако
в такой ситуации субъект теряется и часто не готов каким-либо
образом определиться. Дж. Остин пишет: «Стало быть, употреб-
ление разных выражений для описания того, что мы видим,
.часто обусловлено не только разным уровнем знания, разной
проницательностью, разной готовностью рисковать или инте-
ресом к разным аспектам ситуации; оно может быть обусловле-
но и тем, что то, что мы видим, мы видим по-разному, видим
в разных аспектах, видим как это, а не как то»1. Хотя на уров-
не символизма значимы лингвистические критерии, схожие
по языковым ассоциациям, символы могут происходить из со-
вершенно разных сфер культуры. К примеру, в моральном дис-
курсе Ренессанса наблюдалось явное смешение античных (как
тогда говорили, языческих) и христианских понятий, что при-
водило к «диффузии» и постепенному объединению языческих
и христианских ценностей в рамках одного морального языка.
Как отмечает С. С. Гусев, «любой текст может быть погружен
во множество различных контекстов, иногда вовсе не связан-
ных между собой. Лишь достаточно длительное общение людей
(старающихся при этом понять позицию друг друга) приводит
к установлению взаимной достижимости возможных миров, но-
сителями которых люди являются»2.
Это создает существенные трудности при реконструкции
символических контекстов, часто напоминающие уравнения
со многими неизвестными. Наряду с исторической дистанцией,
наличием лишь косвенных свидетельств об опыте людей иных
стран и эпох, неполнотой источников (то есть с почти непре-
одолимыми затруднениями), часто приходится сталкиваться
с пластами интерпретаций, осуществленных с позиций опыта,
1 Остин Дж. Избранное. М., 1999. С. 215.
2 Гусев С. С. Логические основания коммуникации. СПб., 2015. С. 70.
322
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
который в момент самой интерпретации казался убедительным
и необходимым, но затем утратил свою актуальность. Поэтому
ошибочно считать, что мы сможем проанализировать и рекон-
струировать символический смысл в виде какого-то конечно-
го теоретического итога. Учитывая существенные трудности
при толковании и анализе символов, такие «нетеоретические»
и враждебные науке характеристики, как уместность, тради-
ционность, соразмерность, гармоничность и т. п., приходят
на помощь практически в любом исследовании символизма.
Тут, правда, есть затруднение, поскольку эйдетический опыт
описывается, как правило, лишь в косвенной форме, и мы вы-
нуждены знакомиться с ним не напрямую, а через посредство
символов. Ведь хотя теоретически символизация никогда не
достигает полной законченности и является процессом, в рам-
ках традиции она представлена как относительно завершенный
дискурс — такой как текст, картина, статуя, поэма, система, миф
и т. д. Для символического анализа поэтому весьма значима
определенная «дискретность» в любом символическом порядке,
когда символическая интерпретация строится вокруг основных
канонических и классических символов, которые на данный мо-
мент оказываются относительно стабильными. Хотя символы
все время видоизменяются, они образуют устойчивые группы,
определяющие рамки направления, школы, стиля, при этом со-
храняясь от нескольких десятилетий до целых веков (как в эл-
линистической и средневековой философии). Таким образом,
существует постоянная ситуация как символической статики,
так и символической динамики, когда тот или иной момент на
определенном этапе традиции оказывается преобладающим.
Для существования символизма расцвет и упадок равно необхо-
димы, причем зачастую последний приносит гораздо более бо-
гатые плоды.
Я нахожу немало возражений против любых форм реляти-
визма в отношении символов, и прежде всего против стремления
современного релятивизма отойти от любых форм традиции
и «либерально» уравнять все существующие и потенциально
возможные языки. Но вместе с тем релятивисты тонко чувство-
вали и передали именно аспект постоянной символической ди-
намики, когда символические порядки не являются вечными
и незыблемыми, а могут быть вытеснены другими порядками.
3.3. Символический анализ
323
К примеру, Рорти пишет: «Мне кажется, что заслугой Джеймса
и Дьюи было как раз упорствование в том, что никакой такой
универсальной точки обзора не существует — мы неспособны
подкрепить наши нормы, “укоренив” их в метафизическом или
научном истолковании мира»1. Любая традиция исходит из соб-
ственных ценностей. Они-то и выступают идеологическими,
далекими от метафизической истинности, но реально сущими
«корнями» символизма. Тем не менее нам всегда будет сложно
судить о символах с позиции универсализма. Несмотря на то что
символические миры на эпохальном уровне сохраняются столе-
тиями, они все же сменяются другими мирами. И в каждом та-
«ком символическом мире есть стремление решать все эйдетиче-
ские вопросы с позиций установок именно этого мира — именно
такую ситуацию и следует считать нормальной. Любая развитая
культура в период своей зрелости стремится к самоизоляции,
и лишь потом может начаться постепенная экспансия ценностей
этой культуры вовне, наподобие того, что наблюдалось в пери-
од деятельности Александра, положившего начало процессу эл-
линизации Востока.
Вместе с тем, несмотря на индивидуальность как символи-
ческих порядков, так и возвышенного опыта определенной тра-
диции, представить эту традицию существующей в полной изо-
ляции совершенно невозможно. Конечно, дальневосточные или
мезоамериканские цивилизации существовали веками в соб-
ственной самодостаточности — но это особый случай. Обычно
имеет место коммуникация между различными современными
друг другу культурами, которая не обходится без взаимного
влияния. Мало того, постоянное столкновение с другой культу-
рой способствует лучшему пониманию ценностей культуры соб-
ственной, как это наблюдалось в досократический период, когда
греки создавали свою философию, соотнося собственные идеи
с тем, что наблюдали и узнавали вокруг.
Мне кажется, что выдвинутый Дэвидсоном принцип дове-
рия как главной предпосылки успешной коммуникации весь-
ма актуален в методологическом отношении. Дэвидсон пишет:
«Различие точек зрения имеет смысл, если есть общая система
1 Рорти Р. Прагматизм, Дэвидсон и истина // Метафизические исследова-
ния. Выпуск 11. Язык. СПб., 1999. С. 277.
324
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
координат, которую они должны разделять»1. Если символи-
ческие порядки не имеют чего-либо общего друг с другом, как
в лингвистических смыслах, так и в области опыта, то они слов-
но отсутствуют друг для друга; эйдетические образы этих куль-
тур взаимно чужды, как могут быть далеки друг от друга пред-
ставители разных наций, убеждений, слоев общества, возрастов
и т. п. Вместе с тем в таком взаимно отстраненном сосущество-
вании нет никакой проблемы — проблема возникает тогда, ког-
да символические языки находят взаимные точки притяжения
и отталкивания либо, что более вероятно, вступают в прямую
конфронтацию друг с другом. К примеру, в Геродотовом рас-
сказе о визите Солона к Крёзу мы видим столкновение мораль-
ных ценностей благородного грека и царя варваров. Но это
столкновение остается лишь демонстрацией индивидуальных
предпочтений, которые при возникновении символического
контраста приобретают собственную классическую завершен-
ность. Хотя древние историки и рассказывают об «обращении»
Крёза к ценностям Солона впоследствии, в плену у Кира, мне
это представляется утопией, легендой, мифом о неизбежности
эллинизации всего варварского мира. Но обратимся к личности
и эпохе Александра Великого, то увидим не просто коммуника-
цию греческих и варварских ценностей, но начало их симбиоза
под эгидой нарождающегося имперского духа. Хотя Александр
считал себя носителем эллинской культуры (что само по себе
представляет увлекательную символическую проблему), его
политическая деятельность свидетельствует о стремлении сбли-
зиться с варварами, равно как и искоренить в империи различия
между последними и греками. Так или иначе, для символиче-
ского анализа последующих исторических событий особенно
важно то, что эллинские символы и ценности оказываются
в постоянной коммуникации с символическими представлени-
ями других народов; македонян, карфагенян, римлян и многих
других. Такие исторические и культурные эпохи, как эллинизм,
раннее христианство, Реформация, Возрождение, Просвещение,
1 Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М., 2003. С. 259. В другом месте:
«Я применяю Принцип Доверия более широко, а именно во всех случа-
ях. Примененный таким образом, он рекомендует нам, в наиболее общем
смысле, предпочитать те теории интерпретации, которые минимизируют
разногласия» (Там же. С. 18).
3.3. Символический анализ
325
постмодернизм, суть, прежде всего, грандиозные символиче-
ские преобразования, в ходе которых проявилось столкновение
различных символических порядков, вступающих между собой
в сложные и далекие от однозначности коммуникативные свя-
зи. Символические трансформации, на мой взгляд, вообще нельзя
трактовать с точки зрения прогресса-, они не могут вести к че-
му-то, однозначно более развитому, позитивному, лучшему
и т. п. Эпоха Возрождения принесла великие плоды в области
искусств, радикально обогатила политическую, религиозную,
.метафизическую жизнь, во многом возродила покрытые веко-
вой пылью ценности Античности. Однако ошибочно было бы
подходить к Возрождению с одной только меркой прогресса,
поскольку практически любая трансформация традиционных
символических порядков не протекает без срывов и неудач.
Так и великая в эстетическом отношении эпоха Ренессанса ока-
залась временем падения нравов в среде знати и горожан, что
красочно описывали Боккаччо, Мазуччо и другие писатели эпо-
хи. Любая символическая трансформация должна оцениваться,
прежде всего, с точки зрения той символической реальности,
которая возникла на месте прежней, с точки зрения новых (на
то время) символических языков и нового эйдетического опыта.
Я убежден, что лучше вообще обойтись без оценочных суждений,
без попыток сравнить по каким-то критериям разные символи-
ческие порядки. Совершенно достаточно бесстрастного научного
анализа символических трансформаций, ее предпосылок и ито-
гов. А там уж эпистемология символизма может предоставить
право судить, какая эпоха более или менее «прогрессивна» или
соответствует «общечеловеческим критериям» высшего раз-
вития. Я полагаю, что все великие эпохи были прогрессивны
по-своему, в рамках собственного понимания эйдетического
совершенства. Значение Хёйзинги в современной теории сим-
волизма состоит не только в его исторических изысканиях,
и даже не только в создании герменевтической культурологии,
но и в том, что он убедительно показал, что «упадническое»
и «темное» Средневековье обладает непревзойденным совер-
шенством и возвышенными эйдетическими представлениями,
реализованными в сфере религии и искусства. Для того чтобы
понять особую роль Хёйзинги, надо проникнуться идеей инди-
видуальности каждой из эпох, в рамках которой формируется
326
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
не только ее собственный символический язык, но и ее соб-
ственные представления о совершенстве.
К символу прилагаются иные критерии референции, неже-
ли к понятию. Символы суть языковые выражения эйдетиче-
ских образов; поэтому главным критерием истины здесь будет
не фактическая достоверность, а правдоподобие и соответствие
опыту. Поэт правдив, когда он создает поэтические образы, на-
ходящие отзвук в нашей душе и соответствующие таким ее сто-
ронам, которые иначе остались бы неосознанными и непрочув-
ствованными. Хотя символизм обладает как познавательной,
так и изобразительной функциями, его целью не является со-
здание картины мира, которая постигала бы последний иначе,
чем в эйдетической форме. Поэтому если прилагать к символиз-
му критерии научной достоверности (что глубоко неверно), то
символы кажутся недостоверными и бездоказательными, буду-
чи трактованы как вымышленные и мифические сущности. Од-
нако, если символический мир рассматривать в присущем толь-
ко им — эйдетическом — контексте, он бесконечно превосходит
любые построения науки и метафизики, поскольку в себе самом
достигает совершенной полноты и являет себя как возвышенная
красота и гармония. По поводу референции символических форм
Н. Гудмен пишет так: «Абстрактная картина типа созданных
Мондрианом ничего не говорит, ничего не обозначает, ничего
не изображает и не является ни истинной, ни ложной, но многое
показывает. Тем не менее показ или иллюстрирование, подобно
обозначению, являются референциальными функциями, и для
картин имеют силу почти что те же самые соображения, что
и для понятий и для предикатов теории: их уместность и зна-
чимость, сила и пригодность в сумме дают их правильность»1.
Здесь Гудмен закладывает основы реалистического символиз-
ма. Он всего лишь выделяет образы Мондриана как значимую
эпистемологическую проблему в связи с неспособностью при-
менить традиционные положения теории чувственного опыта.
Однако выводы, которые делает Гудмен, довольно спорны. Для
понимания суждений Гудмена можно обратиться к другому ху-
дожнику-модернисту — А. Модильяни. В отличие от носителя
научного опыта, Модильяни не стремился передать то, что есть
1 Гудмен Н. Способы создания миров. М„ 2001. С. 136.
3.3. Символический анализ
327
«на самом деле» в плане наглядной достоверности; он создает
живописную версию образной реализации собственного опыта.
Модильяни пишет так, как он видит мир своим эйдетическим
взором. Поскольку он художник, этот эйдетический взор лишен
момента рефлексии и полностью заключен в живописной фор-
ме, которая выступает эстетической индивидуальностью в рам-
ках определенной традиции и определенного стиля. Конечно,
мы можем сказать, что на картине Модильяни изображена жен-
щина, но это (если так можно выразиться) эйдетическая форма
женственности, прекрасный образ, выполненный в единствен-
ной в своем роде манере и трактовке. И поэтому никакой «ис-
тинности» в женщине Модильяни нет — есть еще одна вариация
художественного эйдетического образа Прекрасной Дамы. При-
чем, что особо важно, эта вариация уникальна и не может рас-
сматриваться в отрыве от этого существенного свойства. Можно
заключить, что символы связаны с экстенсионалом не строго —
по законам эйдетического, а не чувственного или логического
представления.
Неопрагматистская теория плюрализма концептуальных
схем всегда рождала теоретические споры среди философов.
Однако экстраполяция этой теории на сферу символов не вы-
зывает существенных вопросов. Символы существуют в рамках
объединений по эйдетическому, историческому и языковому
принципу, которые и есть традиции, выступающие «аналогом»
концептуальных схем, поскольку на эйдетический мир человек
смотрит с определенной «позиции». Даже древние мудрецы,
возвысившиеся в своем опыте над всеми свойственными чело-
веку ограничениями места и времени, которые называли себя
гражданами мира, рекомендовали следовать обычаям, нравам
и законам своей страны. Таким образом, если конкретно-исто-
рический горизонт концептуальной схемы остается проблемой
для науки, то традиционность символических порядков, за-
мкнутость человека в определенном наборе символов выступают
нормальной ситуацией жизни в мире культуры. Если бы не было
консерватизма традиции, то ни один, даже самый глубокий и со-
вершенный, символ не смог бы существовать. Даже если симво-
лы творят отдельные гении, должны быть механизмы сохране-
ния, несения этого символа, превращения его в неотъемлемую
часть духовности народа и т. д.
328
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
Несмотря на то что время романтизма прошло, мы еще
находимся во власти индивидуалистической парадигмы возвы-
шенного опыта, когда генезис символизма помещен в творче-
скую сферу гениальной личности. В определенной степени так
оно и происходит, особенно в сфере искусства. Тем не менее, на
мой взгляд, символ обретает свое подлинное бытие лишь тогда,
когда находит отражение в опыте людей и приобретает в этом
опыте разнообразные варианты возможных прочтений. Без от-
клика и рецепции даже гений подобен вопиющему в пустыне.
Поэтому, если мы анализируем символы истории или искусства,
нам важен не только момент рождения символа в творчестве
его создателя, но и то, как этот символ нашел отклик в опыте
современников, какой он возбудил интерес, на какие запросы
смог ответить, как видоизменил существующую традицию и т. д.
Символ всегда анализируется как нечто сложное, обладающее
целым спектром значений, прочтений и влияний; он прост лишь
в пространстве непосредственного возвышенного опыта. Начи-
ная с Канта, возвышенный опыт неотделим от своего воплоще-
ния, прежде всего, в сферах истории и искусства. Романтическая
теория гениальной личности уместна при анализе индивидуаль-
ного творчества, но она не проливает света на то, как символы,
созданные (что достоверно зафиксировано) отдельным великим
человеком, становятся частью традиции, а также культурного
сознания общества. Предложенная мною методология анализа
преодолевает затруднения индивидуалистического подхода. Не
умаляя заслуг гения, на первый план я ставлю все же эйдети-
ческий опыт той или иной традиции, а также уделяю серьезное
внимание тем духовным запросам, которые стоят перед опытом,
но на которые уже нет ответа в этой традиции. Возможно, кто-
то обвинит меня в социологическом подходе к символизму, но
я считаю, что символизм — это скорее удел человечества, неже-
ли отдельного индивида.
В свете этих мыслей я обращаюсь к заключительной теме
раздела. Прежде всего, полагаю важным высказаться по пово-
ду возвышенного исторического опыта в интерпретации Ф. Ан-
керсмита. На мой взгляд, в трудах этого мыслителя оконча-
тельно сформировалось представление о том, что историческое
исследование строится вокруг коммуникации между прошлой
и настоящей формами возвышенного опыта. При этом Ан-
3.3. Символический анализ
329
керсмит верно отмечает, что такие эпистемологические аспек-
ты опыта, как «описание» и «интерпретация», в рамках воз-
вышенного опыта не отделяются друг от друга. «Неверно, что
сначала есть прошлое, а затем — восприятие этого прошлого...
Опыт прошлого и прошлое как таковое (как потенциальный
объект исторического исследования) рождаются в один и тот
же момент, и потому можно сказать, что опыт конституирует
прошлое»1, — утверждает Анкерсмит. Он доказывает, что исто-
рическое исследование имеет особый объект — символическую
сферу прошлого, и этот объект не может рассматриваться «ней-
трально», наподобие физических объектов. История, по Ан-
керсмиту, — это исследование исторического опыта, а только
потом — реконструкция событий и анализ языковых форм. Тео-
рию Анкерсмита можно считать моментом перехода всей совре-
менной аналитической герменевтики от анализа языка к анализу
опыта. Этот новый «эмпирический» поворот (что важно особо
оговорить) может быть понят, только если держать в уме то об-
стоятельство, что речь идет не об обыденном чувственном, а об
эйдетическом (возвышенном) опыте, который стоит за всеми
историческими деяниями, текстами, достижениями культуры
и прочими символами. Важно, что само понимание всего ду-
ховного опыта приобретает те характеристики, которые рань-
ше уделялись только некоторым его формам, особенно худо-
жественным. И я полностью согласен с Анкерсмитом в том, что
никакое историческое исследование (особенно если речь идет
о творческой сфере) не будет достоверным, если не реконструи-
рован тот опыт, который стоит за дошедшей до нас символиче-
ской структурой. Вместо анализа символов как языковых форм
(что остается важным) следует перейти к анализу опыта в сфе-
ре символов, эпистемологически реконструировать взаимные
влияния опыта и символа вокруг общей для них эйдетической
сферы. Поэтому Анкерсмит считает, что возвышенный опыт
требует качественно иной эпистемологии, нежели привычная
эпистемология чувственного восприятия: «Итак, возвышенный
исторический опыт ближе чувствам и настроениям, чем знанию:
как и они, он скорее онтологичен, чем эпистемологичен, и по-
тому должен определяться скорее через то. что вы есть, чем че-
1 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М„ 2007. С. 156.
330
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
рез то, что вы знаете, каким знанием обладаете. Возвышенный
опыт — и исторический опыт — не предназначен для утоления
нашей жажды знания. Он вообще не служит никакой цели»1.
При чтении «Возвышенного исторического опыта» Ан-
керсмита не покидает ощущение, что автор стремится придать
возвышенному опыту некую «легитимность» в сфере сложив-
шейся проблематики и языка академической философии. Также
следует отметить, что взгляды Анкерсмита формируются под
существенным влиянием лингвистической философии и праг-
матистской философии истории, что обуславливает переход-
ный характер его теории, приводя к массе недоговоренностей,
а также обнаруживает определенную робость автора в трак-
товке возвышенного опыта (который Анкерсмит относит лишь
к области истории). Конечно, достижения такого выдающего-
ся мыслителя, как Анкерсмит, ярче высвечивают его недостат-
ки. Однако, в отличие от Анкерсмита, я стремлюсь освободить
эпистемологию символизма от связи только с исторической
сферой. Конечно, исторические формы символизма имеют су-
щественные преимущества, поскольку мы можем брать для ана-
лиза самые возвышенные и классические образцы, культурное
значение которых проверено веками и во многом неизменно.
Непосредственно переживаемый возвышенный опыт лишен
такого классического и завершенного характера; поэтому, воз-
можно, теория Анкерсмита не видит перспектив в исследовании
современного возвышенного опыта. Но у последнего — истори-
чески аморфного и во многом стихийного — есть существенное
эпистемологическое преимущество: существование в форме ак-
туальной, свершающейся непосредственности.
В традиционном измерении эйдетический опыт, как я уже
показал, может существовать целую эпоху, пережив своих твор-
цов и целые поколения их потомков. Но любой возвышенный
опыт постепенно теряет свою актуальность в прежнем виде,
видоизменяясь, входя в новые интерпретации, а порой и исче-
зая. Поэтому многие формы истории и в самом деле суть фор-
мы исторического возвышенного опыта, которые значимы
сами по себе или теоретически, но которые не находят отзвука
в опыте современности. В связи с этим я считаю, что эписте-
1 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 314.
3.3. Символический анализ 331
мология эйдетического опыта не должна иметь обязательного
исторического измерения', она представляет собой анализ воз-
вышенного опыта, эйдосов и символов вообще, независимо от
времени (хотя и с учетом его). Для нас не существует эйдоса
вне его восприятия в опыте; однако это восприятие «останавли-
вается» и «оформляется» в символе, который начинает играть
культурную роль эйдетического шаблона для всех последующих
родственных форм возможного опыта, становится устойчивым
и повторяемым. В символической сфере не изобретаются вело-
сипеды, хотя у всех на слуху модная трактовка искусства или
философии как творения чего-то нового из ничего. Благодаря
наличию эйдетических шаблонов возвышенный опыт воспро-
изводится раз за разом в определенной классической форме.
Сами эти повторения, значимые для жизни символа и поддер-
жания его существования, как правило, не несут в себе ничего,
кроме сохранения традиции, но вместе с тем, вполне вероятно,
и возникновения особых прочтений, некоторой «правки» этих
шаблонов. Поэтому если мы, к примеру, имеем в виду направле-
ние в живописи, литературе, философии, то подразумеваем при
этом родственность всех его представителей, допуская, однако,
наличие оригинальности и даже определенной исключительно-
сти в творчестве каждого из них.
Любой анализ обычно осуществляется из некой точки,
которая остается нейтральной к анализируемому объекту. Но
такое возможно лишь в науке, логике и отчасти в метафизи-
ке. В сфере символизма такой неподвижной точки просто нет.
Неверно полагать, что существует эйдетический опыт вообще
(как некая стихия), который затем оформляется в виде симво-
лов. Возможно, такая стадия и есть, но она мифологизирована
сначала романтиками, а затем психоаналитиками — я в ее су-
ществование не верю. Любым смутным и стихийным опытом
можно, в сущности, пренебречь, поскольку он либо постепенно
приобретет эйдетические формы (которые вполне могут отра-
зить эту стихийность), либо просто-напросто потеряет через не-
которое время свою актуальность для субъекта.
Анкерсмит находится в пространстве герменевтической
философии и разделяет свойственное ей акцентирование диа-
логического отношения между «интерпретатором» и истори-
ческим прошлым. Он пишет: «Исторический опыт — отзвук,
332
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
который “музыка прошлого”, его настроения и ощущения мо-
гут вызвать в историке, чей ум оказался выражен в той же то-
нальности»1. Совершенно очевидна определенная старомод-
ность такого подхода; даже во времена Хайдеггера, Гадамера
и Рикёра он уже не казался новым. На мой взгляд, символиче-
ский анализ может применяться и без акцентирования совре-
менности наличного анализирующего субъекта. У нас всегда
имеется собственный возвышенный опыт, который существен-
но отличается от опыта носителей других традиций. Частично
его можно — а в научных целях и нужно — реконструировать,
но мы вряд ли должны превращаться в камертоны. Античный
символизм вовсе не существует для того, чтобы быть понятым
нами или раскрываться через наш опыт. Как таковой он сбыл-
ся, завершился, миновал как актуальная традиционная форма.
Он стал для нас классическим содержанием, которое может
восприниматься или нет, которое может заимствоваться, а мо-
жет оказаться чем-то ненужным. Образцам античности можно
подражать, можно их творчески перерабатывать — а можно
и оставлять их без внимания. Мне кажется, что символический
анализ должен отказаться от такого предрассудка, как веры
в вечную значимость классических символов и того, что прошлое
продолжает сбываться в настоящем. Такая ситуация является,
с моей точки зрения, только одной из возможных форм сим-
волической коммуникации. Тем самым любая коммуникация
между символами не имеет простого определения. Она разно-
планова, а взаимоотношения между символами и аспектами
опыта всегда в чем-то индивидуальны и подлежат типизации
лишь с оговорками. Я могу только предположить, что симво-
лическая коммуникация может возникнуть при начале диалога,
при наличии подобия или даже родственности эйдетического
фона. Но каким конкретно образом она будет происходить,
предсказать сложно, поскольку символические взаимоотно-
шения индивидуальны. Нельзя, к примеру, сказать, что суще- * В
1 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 422.
В другом месте: «Опыт должен располагаться на траектории между субъек-
том и объектом. Кроме того, мы постарались доказать, что традиционная
эпистемология ставила целью распределить между субъектом и объектом
весь мир философа, так чтобы опыт не играл больше уже никакой роли»
(Там же. С. 430).
3.3. Символический анализ
333
ствует какая-то однозначно правильная стратегия понимания
Платона: в комментаторской традиции я вижу ряд альтерна-
тивных прочтений и интерпретаций, которые даже в рамках
одной школы и традиции плохо совместимы друг с другом. По-
этому, оставляя такие рассуждения, я хочу сослаться на учение
Виндельбанда об «индивидуализирующем методе» и отметить
неприменимость каких-либо всеобщих методологий для сим-
волического анализа. Как отмечает болгарский последователь
Анкерсмита Д. Гинев: «Конструкции репрезентаций есть ре-
, зультат практик, осуществляющихся внутри мира»1.
В отличие от логического анализа, символический анализ
не, строится на семантически нейтральном основании, кото-
рое Тарский предположил для логики. Любой интерпретатор,
если брать все возможные сферы символизма, занимает только
одну из возможных позиций. Тут на авансцену выходит прин-
цип «эпистемологии от первого лица» Сёрла, согласно которо-
му любая интерпретация «аспектуальна» и может быть понята
лишь в некоторой перспективе2. Но и наше «первое лицо» здесь
не является чем-то законченным, поскольку наш опыт измен-
чив, а его символические оформления еще не завершили ста-
новление. Для символического анализа очень важны классиче-
ские формы символической интерпретации — например, такие,
как формы заимствования и переработки античного искусства
в эпоху Ренессанса. Поскольку такие интерпретации уже отда-
лены от нас и превратились в некую завершенность, мы можем
следовать отстраненным от всякой современности искусство-
ведческим рассуждениям Варбурга или Панофского, ясно видя,
как античные художественные формы находили себе место
в новом эстетическом языке, как именно происходили эти ди-
алогические коммуникации, что именно заимствовалось, а что
перерабатывалось и т. п. Позиция же наличного интерпретатора
не может возвыситься до такой классической беспристрастно-
1 Гинев Д. Между феноменологией и постаналитической философией:
перспектива герменевтического реализма // Эпистемология и философия
науки. 2010. № 4. С. 29.
2 «Обращать внимание на перспективный характер сознательного опы-
та — это хороший способ напомнить себе о том, что всякая интенцио-
нальность аспектуальна» (Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002.
С. 131).
334
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
сти и наглядности: мы слишком погружены в себя, в свой опыт
и в текущие проблемы окружающей жизни.
Широко известны рассуждения Достоевского о соотно-
шении логики и жизни: «Живая душа жизни потребует, живая
душа не послушается механики... С одной логикой нельзя че-
рез натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их
миллион!»1 Писатель, конечно, эстетически преувеличивает:
на самом деле и «в жизни» не так уж много символических
форм, закрепляющих эйдетические представления той или
иной традиции. Однако Достоевский прав в том отношении,
что символические формы не являются однотипными и варьи-
руются гораздо шире, нежели концепты. Если взять логику
Аристотеля, схоластов, Гегеля, Милля, Рассела, то между их
трактовками, при всей разнице, намного больше родства,
нежели между художественными или религиозными симво-
лами тех эпох, в которые жили эти логики. Поле концепту-
ализма логически неизменно и рационально сконструирова-
но; тогда как символизм существенно зависит от множества
изменчивых факторов, связанных с традицией и возвышен-
ным опытом. На мой взгляд, любая традиция в период сво-
его высшего взлета стремится привести символические по-
рядки в состояние определенной унификации и даже придать
им статус вечного свода, сущего во все времена. Но это, как
верно отметил Шпенглер, начало определенного замира-
ния творческой энергии, исчезновение разнообразия форм
культуры. Это начало постепенного окаменения символиче-
ских форм, пышного и еще плодоносного «упадка», но уже
и начало все растущей неудовлетворенности возвышенного
опыта, брожения, появления «лишних» людей, конфликтов
старого и нового, определенной обветшалости и т. п. В свя-
зи с этим культурная ситуация, когда символизм оформился
в виде чего-то напоминающего «систему», — не благо, как
для философии, а наоборот — начало гибели такой застыв-
шей символической структуры. Авторитет, идеология, цер-
ковь, да и просто присущий любой традиции консерватизм
могут долго поддерживать относительно неизменный набор
символических форм, которые при этом подспудно и неза-
1 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 1990. С. 310.
3.3. Символический анализ
335
метно ветшают, вырождаются, пока новый опыт не сметет
их. Мало того, зачастую уничтожение старых символов идет
им на пользу и, как ни парадоксально, дает им вторую жизнь.
Лишенные идеологических подпорок символы ушедших эпох
могут обретать себя в иной традиции уже в форме свободно-
го творчества, выступая хранителями самого духа возвышен-
ного опыта как его бесспорные и классические свершения.
Современный реализм сочетает онтологический монизм
с гносеологическим плюрализмом. Символы различных язы-
ков или традиций могут по-разному описывать одну и ту же
область мироздания; однако при этом мир остается общим
основанием, которое не может быть узурпировано частным
языком. Выступая за плюрализм символических форм, сим-
волический реализм видит в нем свойство исключительно
человеческой реальности. То, что мир описывается по-разно-
му, значимо только в рамках человеческого, но не мирового
бытия. Можно сказать: мир — это то единственное, что объ-
единяет человечество и что не могут охватить наши симво-
лы. Однако для символического анализа подобная реалисти-
ческая установка выглядит чисто регулятивным принципом.
Достаточно только иметь в виду, что ни один символический
порядок не сможет оказаться содержанием «всей» культуры,
равно как и охватить все возможности человеческого воз-
вышенного опыта. Вполне вероятно, что все символические
порядки разных традиций стремятся решить сходные зада-
чи, подобные кантовскому вопросу о выяснении природы
Бога, человека и мира. Не будучи релятивистом, я — сторон-
ник плюрализма символических миров, каждый из которых
в чем-то самодостаточен и индивидуален. Наряду с символи-
ческой коммуникацией и открытостью для интерпретаций,
существует и момент символической самоизоляции, который
особенно важен для оформления порядков символов в виде
традиции.
Символические трансформации — предмет уже следу-
ющей главы. Завершая изложение предложенной здесь ме-
тодологии символического анализа, не могу еще раз не от-
метить, что любые эйдетические формы опыта не являются
чем-то постоянным и неизменным. Они трансформируются,
но символические формы, взятые сами по себе, организуя
336
Глава 3. Эпистемология эйдического опыта
процесс возвышенного опыта, кажутся неизменными на
фоне традиции. Символический анализ может пролить мно-
го света не только на лингвистическую природу символа, но
и реконструировать содержание эйдетического опыта, равно
как вскрыть механизм взаимной коммуникации символов.
Поэтому символический анализ никогда не является бес-
полезным, хотя и никогда не оказывается исчерпывающим,
а зачастую так «проясняет» природу символа, что вместо ис-
комой ясности лишь рождает новые проблемы, не принося
успокоения и не давая ответов на вечные вопросы.
Глава 4
ЭЙДЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
КАК ИСТОРИЯ
4.1. Природа классического
Под «классическим» я понимаю любой символ, передающий
содержание эйдетического опыта настолько полно и совершенно,
что способен быть связанным с любым подобным опытом в рам-
ках. собственной традиции. В этом разделе исследуется вопрос
о классической форме именно в отношении символов. Само по-
нятие классического многозначно: оно применяется к столь раз-
личным по своей природе сущностям, как художественное про-
изведение, философское направление, архитектурный стиль,
музыкальная форма, система образования и т. д. В результате
возникает терминологическая путаница, а также искушение
полагать, что классическое существует на конвенциональных
основаниях. На мой взгляд, классическое, главным критерием
которого выступает полнота и совершенство, постижимо только
в сфере символизма; это категория, понятная лишь для эйдети-
ческого опыта. Тем не менее остается проблема: почему не все
символические формы, а лишь некоторые оказываются клас-
сическими и на какие запросы отвечают именно классические
символы?
В идеализме классическое выступает как идеальная гармо-
ния — потому оно вечно и неизменно. Такое определение вво-
дится с чистых, рациональных позиций; символизм же тут носит
заведомо вторичный, подчиненный характер. Платон учит о су-
ществовании вечной гармонии, которая для него — метафизи-
ческое понятие, имеющее абсолютный и возвышенный харак-
тер: «Представь себе теперь, что лиру разбили или же порезали
340
Гпава 4. Эйдетический опыт как история
и порвали струны, — приводя те же доводы, какие приводишь
ты, кто-нибудь будет упорно доказывать, что гармония не раз-
рушилась и должна по-прежнему существовать... Нет, гармония
непременно должна существовать, и прежде истлеют без остатка
дерево и жилы струн, чем претерпит что-нибудь худое гармо-
ния»1. Платон мыслит в рамках радикального противопостав-
ления чувственного и умопостигаемого, поэтому он не может
отнести гармонию к сфере изменчивого и преходящего. Как
я уже не раз отмечал, древнегреческий символизм не имел себе
альтернатив. В таких культурных условиях мне представляет-
ся вполне допустимым полностью соединять порядки символов
и порядки идей в рамках универсалистского воззрения. Платон
строит свою теорию истины, блага, красоты, политики с точки
зрения абсолютного сознания; здесь нет никакой множествен-
ности, исключена даже вероятность плюрализма. Хотя Платон
вводит эйдосы, они носят у него вторичный характер и пости-
гаются рационально, а не через опыт. Обратим внимание, что
сам эйдос истории, который задается Платоном, — это прообраз
всеобщей истории, когда есть лишь один путь развития, лишь
один мир идей, лишь одна форма культуры. Перенося плато-
новские категории на сферу классического, мы можем его трак-
товать как сферу совершенных, вечных творений, воплотив-
ших в себе абсолютную гармонию. Однако нельзя не отметить,
что платоновский универсализм — совершенно совместимый
с идеей монополии греческой культуры — придает познанию,
искусству, деятельности безусловный масштаб, бесспорную
возвышенность. Платоновское учение о гармонии становится
идейным знаменем всех творческих людей, особенно непри-
знанных, гонимых, преследуемых за свои открытия, творения,
теории. Даже не разделяя платоновский универсализм, нельзя
не признать, что Платон задает такой символ возвышенного, ко-
торый ставит человеческое творение на предел непостижимой
абсолютности, придавая ему характер высшей и божественной
истины.
Хотелось бы избежать категоричных заявлений о ренегат-
стве Аристотеля по отношению к универсалистской позиции
Платона, особенно в области этики и эстетики. Тем не менее, ис-
1 Платон. Федон. 86а.
4.1. Природа классического
341
ходя из предложенной в этой книге теории исторических форм
символизма, полагаю правдоподобным следующее: Аристотель
и Александр (как его ученик и великий деятель) уже обладают
иным опытом, нежели Платон, а идея исключительной монопо-
лии греческой культуры у них начинает сочетаться с допущени-
ем эллинизации вчерашних варваров, превращением эллинства
в общечеловеческий, а не народный идеал. Как бы мы ни хотели
видеть в Аристотеле платоника, в практических разделах он су-
дит обо всем с позиций предложенной им «практической» рацио-
нальности, в рамках которой опыт становится значимым и су-
,, щественным. Кроме того, не оспаривая приоритет метафизики,
,' Аристотель связывает идею классического с двумя сферами:
историей и поэзией, поскольку именно в этих сферах человек, его
деяния и помыслы представляются в виде законченных эйдети-
ческих форм. Поэтому Аристотель пишет: «Из сказанного ясно
и то, что задача поэта — говорить не о том, что было, а о том, что
могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необ-
ходимости. Ибо историк и поэт различаются не тем, что один
пишет стихами, а другой прозою... нет, различаются они тем,
что один говорит о том, что было, а другой о том, что могло бы
быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо
поэзия больше говорит об общем, история — о единичном»1.
Здесь присутствует не только реабилитация значимости поэтов
(которую оспаривает поздний Платон), но также и рождается
идеализированное представление о поэте как духовном провид-
це, который способен в краткой и образной форме сотворить
символы о человеческой душе, жизни, о том, что ждет впереди.
Историк, по Аристотелю, тоже возвышен и является создателем
эйдетических образов, поскольку он выводит личности, деяния,
события как некие символические точки, вокруг которых груп-
пируются структуры нашей исторической памяти. Историк не
просто пишет хронику и летопись — он творит эйдетический об-
раз прошлого, в рамках которого греки и варвары, великие и по-
стыдные деяния приобретают вид определенной законченности.
Античная история, в отличие от современной, — это эпическое
повествование, в центре которого всегда стоят боги, герои и ве-
ликий народ. Кроме того, древняя история пишется с позиций
’Аристотель. Поэтика. 1451b.
342
Глава 4. Эйдетический опыт как история
возвышенного этического стандарта, что позволяет историку не
только описывать и превозносить, но и судить, как, к примеру,
осуждаются постыдные поступки самых великих личностей, та-
ких как Алкивиад, Александр, Цезарь.
Характерно, что Аристотель стремится судить о классиче-
ском, исходя из особенностей самого произведения, а не из мне-
ний и оценок. Нельзя что-либо провозгласить классическим: за
пределами идеологии или каких-либо форм духовного насилия
это невозможно. Конечно, классическое может существовать
как нечто традиционное или копирующее уже признанные об-
разцы, но главная причина возникновения классики носит эпи-
стемологический характер и коренится в символической сфере.
Я определю эту причину так: символ становится классическим,
когда воплощает полноту совершенства эйдоса на языке, понят-
ном в рамках данной традиции. Тем самым классическое кажется
неизменным не потому, что оно таковым и является, а потому,
что оно совершенно для своего эйдетического момента. В этом
отношении классическое воспринимается не только как пре-
красное и возвышенное, но и как соразмерное, простое, глубо-
кое.
В эллинистической философии ставится вопрос не только
о природе классического, но и о происхождении таких форм.
Повторю: в любой зрелой традиции имеется тенденция «освя-
щать» базовые символы, относя их происхождение к безуслов-
но авторитетной и легендарной личности — не важно, реальный
это человек, мифический персонаж или даже бог. У греков эта
особенность была развита особенно: не зря все искусства имеют
своих легендарных зачинателей и покровителей в лице богов.
Тем самым искусства приобретают бесспорный и высший ав-
торитет, что очень важно для поддержания традиции. Афиней
возводит зарождение греческого символизма к идеализирован-
ной гомеровской эпохе: «Жизнь простую и неприхотливую ве-
дут у него [Гомера. — С. Н.] все: цари и простолюдины, юноши,
старцы»1. Моральные, политические, художественные и про-
чие представления людей героической эпохи, по Афинею, со-
вершенно одинаковы, поскольку они находятся как бы внутри
исконно правдивого символического мира. Эти люди являются
1 Афиней. Пир мудрецов. I, 8f.
4.1. Природа классического
343
воплощением совершенства, причем они не подвергают послед-
нее рефлексии, отчего кажутся не людьми, а героями, полубо-
гами. Свойственную древним идеализацию гомеровского эпоса
поддерживает и Вико в своей концепции происхождения идей:
«Первыми Мудрецами греческого мира были Поэты-Теоло-
ги; они, несомненно, процветали раньше Героических Поэтов,
подобно тому как Юпитер был отцом Геркулеса»1. С позиций
эмпирической науки суждения Вико кажутся совершенно без-
доказательными. Но я не готов судить столь категорично, ког-
да речь идет о генезисе символического мира, тем более когда
источники безвозвратно утеряны. Мнение Вико проливает свет
на то, что задолго до семи мудрецов и эллинских поэтов уже
существовал особый эйдетический опыт, выраженный в изна-
чально многозначных символических словах и выражениях.
При этом как особенно важное следует отметить, что древний
исходный греческий символизм приобрел «народные» формы,
то есть был достаточно общепринятым, по крайней мере, среди
аристократии и образованных людей. По этому поводу Цицерон
утверждает: «Знаменитые семь мудрецов не сами провозгласили
себя, а были всенародно признанными таковыми во всех стра-
нах»2. Хотя символизм, особенно в сфере искусства, обычно за-
рождается в возвышенном опыте великой одаренной личности,
должны возникнуть и структуры эйдетического опыта, которые
сделают эту личность не только понятной, но и равной нацио-
нальным героям. Не стоит даже доказывать, что уровень раз-
вития «публики» в среднем существенно ниже, чем те высоты,
на которых парит гений. Но опыт гения и опыт публики оказы-
ваются подобными, созвучными, формируя сообща то, что ро-
мантики именовали «народным духом». Я хотел бы избавиться
в трактовках классического от любых форм мистического пре-
вознесения гениального и народного духа. Прозаические ме-
ханизмы, организующие культурную жизнь традиции — такие,
как: философские школы, театры, книги, журналы, выставки,
лекции и т. п., — придают любому символизму здоровую меру
популярности и даже форму некой всеобщности. Придание воз-
1 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев,
1994. С. 86.
2 Цицерон. О пределах блага и зла. И, 7.
344
Глава 4. Эйдетический опыт как история
вышенному опыту божественного характера, поиск легендарных
родоначальников первых символов, стремление возвести все сим-
волы к богам — это необходимые во многих традициях формы
легитимации символизма, как таковые совершенно оправданные,
хотя и не укладывающиеся в стандарты рациональности.
Классическое наиболее тесно связано с искусством не по-
тому, что только в этой сфере оно осуществимо, а потому, что
в искусстве опыт наиболее непосредственен, а эйдос дан как не-
что образно выраженное — тогда как в других символических
порядках эйдос выражается в косвенных формах. К тому же
наглядная образность искусства наиболее долговечна как фор-
ма побуждения для рецепции восприятия. Шедевр живописи
нагляден; в современном музее люди толпятся и разглядывают
Леонардо и Рафаэля, эмпирически видя то же самое, что видел
художник. Однако понятен ли им тот опыт, которым обладали
художник и его современники? Воспринимают ли они вообще
произведение живописи эйдетически? В случае современной
музейной индустрии мы оказываемся перед неоднозначными
и нерешенными вопросами.
В рамках учения о способности суждения Кант связывает
идею классического с требованием субъективной всеобщности:
классическое так или иначе «разделяется» всеми субъектами,
способными воспринимать искусство. Он пишет: «Следователь-
но, суждению вкуса, вынося которое мы сознаем, что оно сво-
бодно от всякого интереса, должно быть присуще притязание
на значимость для каждого, но не на всеобщность, направлен-
ную на объекты, другими словами, с суждением вкуса должно
быть связано притязание на субъективную всеобщность»1. Кант
прав в том, что всеобщность классического субъективна. Одна-
ко, строя универсалистскую систему, Кант подразумевает един-
ственно возможную классику. Несмотря на то что Кант создал
первую теорию эйдетического опыта, он ставит символизм в за-
висимость от рациональных эстетических критериев, которые
носят всеобщий и трансцендентальный характер. С позиций
кантовской философии мы не решим, к примеру, такой вопрос:
почему «классической» называют не только древнегреческую,
но и римскую, ренессансную, новоевропейскую, неоклассиче-
1 Кант И. Критика способности суждения. М„ 1994. С. 79.
4.1. Природа классического
345
скую архитектуру, каждая из которых оригинальна в том, что
творит собственные классические формы? В конце концов, от-
крытым остаются и другие вопросы: слушается ли практика ис-
кусства эстетических канонов? Не есть ли искусство нечто мно-
жественное в своих символических основаниях?
Гений с точки зрения предложенной здесь теории творит
новую классику, поскольку созданные им символы отвечают
на актуальные запросы еще только формирующегося эйдети-
ческого опыта. Новому опыту тесно в прежних формах, и он их
видоизменяет. Впрочем, релятивисты порой делают поспеш-
ные выводы. Даже высочайший гений (в любой сфере) вряд
ли способен радикально изменить традицию — мы склонны
преувеличивать новизну этих изменений. Так, к примеру, Де-
карт, которого идеалисты считают радикальным новатором,
изменившим картину философии, несомненно, является авто-
ром весьма оригинальных построений — но на уровне тради-
ции они не выглядят такими новыми. В области частных наук
Декарт существенно зависит от поздних ренессансных устано-
вок. Особенно бросается в глаза и то, что Декарт заимствует
свою терминологию из схоластической традиции, зачастую
меняя прежние определения, а порой совершенно удовлетво-
ряясь ими, как в случае определений метода, субстанции, ак-
циденции и т. д. Тем самым я хотел бы скорректировать рас-
пространенную, даже расхожую точку зрения на гения как
радикального новатора. Гений значим не только потому, что
он творит новый мир и новый язык, но и потому, что его фи-
гура центрирует настоящее, определяет собой эпоху, которая
будет восприниматься потомками как определенная традиция.
Отсюда привычные исторические обобщения — такие, как «го-
меровская эпоха», «пушкинская эпоха» — выступают на самом
деле «эпохами» творения индивидуально характерной символи-
ческой традиции, которая впоследствии фигурирует в качестве
классического фундамента для прочих традиций.
Если сильного творца не устраивает традиция, то он создает
новую форму символизма. Но инерция традиции столь сильна,
что даже у гения не все становится признанным: многие новации
не приживаются, не все оставленное им наследие равноценно.
Представляется интересной резкая критика, с которой Гёте об-
рушился на современную ему просветительскую художественную
346
Глава 4. Эйдетический опыт как история
идеологию, что особенно заметно и потому, что Гёте крайне редко
бывал столь резок: «Легкомысленный француз, еще более склон-
ный к ремеслу ветошника, обладает, по крайней мере, остроум-
ной способностью создавать из своей добычи что-то цельное;
он строит теперь чудо-храм св. Магдалины из греческих колонн
и немецких сводов... Как ненавистны мне наши художники, мас-
терящие подмалеванных кукол, — об этом не хочу и распростра-
няться. Они пленили глаза наших дам театральными позами,
неестественной окраской лица и пестротою одежд... Поэтому-то
гения больше всего воспитывает природа»1. Подлинно класси-
ческое может быть сдержанным, академичным и даже далеким
от повседневности, но оно не бывает подражательным. Поэтому
Гёте совершенно прав, когда выводит на сцену гения как суще-
ство, творящее только на основе собственного опыта и ставящего
этот опыт превыше всего. Но характерной особенностью гения
является и то, что он (хотя бы в некоторых творениях) оформ-
ляет свой новый опыт в форме возвышенного эйдоса, демон-
стрируя его через созданную им языковую форму. Поэтому гений
есть вершина эйдетической креативности в любой традиции, где
значимо проявление человеческой индивидуальности. Однако Гёте,
при всей своей правоте, несколько недооценивает деятельность
«рядовых» деятелей в рамках любой формы культуры. Эти де-
ятели творят как могут, но они приносят существенную пользу,
поддерживая традицию, воспроизводя классические образцы, ру-
ководя через журналы, музеи, театры, прессу запросами просве-
щенной публики и т. д. Мне кажется, это особенно сказывалось
в нашей национальной культуре трех прошедших веков. Кем бы
были Ломоносов, Пушкин, Достоевский, Чайковский, Менделе-
ев, Блок без скромных тружеников, деятелей «второго плана»,
без пытливой и любознательной публики, без поддержки самых
разных лиц — от простых сограждан до монархов? На фоне цензу-
ры и закрепощения публика и рядовые литераторы, художники,
философы значили очень много. Вне всякого сомнения, развитой
символизм может существовать в рамках замкнутой и ограничен-
ной школы, но он обретет свою силу и значимость для традиции
только тогда, когда складывается так называемое интеллигентное
сообщество, главное назначение которого и заключается в под-
1 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 71.
4.1. Природа классического
347
держании и формировании суждений вкуса и тех форм, которые
не просто есть, но и признаются классическими.
В немецкой классической философии гениальность свя-
зывается преимущественно с художественной деятельностью,
поскольку художник не только постигает, но и наглядно демон-
стрирует совершенство. Шеллинг и Гегель, определяя искусство
как раскрытие всеобщего через особенное, подчиняют худо-
жественную деятельность идее. Понятия прекрасного, гармо-
ничного, возвышенного, поэтичного раскрываются через уни-
кальную символическую форму, которая предстает как в своей
законченной классической полноте, так и в предельной кон-
кретности. В связи с этим, я согласен с положениями Гегеля, за
исключением того, что отношу сферу классического не к поня-
тию, а к символу; символ же, в свою очередь, рассматриваю как
нечто самостоятельное и иное, нежели понятие. Классическое,
таким образом, — это высшая символическая форма традиции,
которая концентрирует в себе возвышенный опыт. Определяя
классическое, Гегель пишет: «Конечной целью, к которой стре-
мится символическая форма искусства и с достижением которой
она разлагается и перестает быть символической, является клас-
сическое искусство... Все символическое искусство можно пони-
мать в этом отношении как непрерывную борьбу за соответ-
ствие между смыслом и образом, и различные его ступени суть
не только различные виды символического искусства, сколько
стадии и виды одного и того же противоречия между духовным
и чувственным»1. Гегель определяет классическую меру как
гармонию между идеальным и образным содержанием. Хотя
предложенная здесь теория иная по своей сути, и она не учит
о вечной гармонии, я считаю важным это положение классика
в том отношении, что классическое, на мой взгляд, не является
концептом. Это «символическое качество», который прилагает-
ся к определенному частному символу, выделяя его среди прочих.
«Классическим» можно назвать такой символ, который обнару-
живает возвышенность опыта с максимально возможной полно-
той в эйдетически совершенной форме. Мы не можем сотворить
что-либо более «прекрасное», нежели статуя Афродиты, не по-
тому, что здесь воплощена идея, и не потому, что нет иного пре-
1 Гегель Г. В. Эстетика. Т. 2. М., 1969. С. 27-28.
348
Глава 4. Эйдетический опыт как история
красного, а потому что наш эйдетический опыт не может пой-
ти в этом направлении дальше. Опыт как бы замирает в своей
возвышенной законченности; и любой «троп» опыта подобного
рода приходит к такой завершенности. Именно поэтому любая
«классика» конечна. Достигнув образцов высшей гармонии сим-
вола и опыта, она начинает существовать как нечто неизменное
«в себе и для себя». Но в практике традиции эта классическая
форма начинает воспроизводиться, тиражироваться, ей подра-
жают, она мельчает, лишается прежнего содержания, а именно
того непосредственного возвышенного опыта, который был
у поколения творцов. В связи с этим путь радикальной пере-
работки прежней классики, интерпретации с учетом запросов
нового опыта представляется естественным и плодотворным,
как бы ни сетовали те, кому жаль «погибшую» классику: ведь
у классики есть особенность закреплять и былой возвышенный
опыт. Пусть этот опыт не похож на наш, и даже в чем-то чужд
ему, — он все равно хранится в собственной символической за-
конченности.
В классическом произведении символ и эйдос неразрыв-
но слиты; поэтому такая слитность не может быть выражена
ни в какой лингвистической и образной форме — она может
быть лишь непосредственно постигнута через возвышенное
переживание. Нельзя полностью «истолковать» опыт гения.
В этом отношении классическое произведение, совершенное
в себе самом, служит истоком новых интерпретаций и актов
творения; между ними устанавливается связь через преем-
ственность. В этом отношении символы философии превос-
ходят символы поэзии и любого искусства, поскольку «клас-
сическое» здесь неразрывно связано с сохранением истин
предыдущих систем, обязательным включением былого опы-
та в актуальный опыт. Гегелевский проект всеобщей истории
философии — это грандиозно задуманный исторический эй-
дос мышления, когда здание философии творится во все вре-
мена всеми развитыми народами, при этом изменяясь и эво-
люционируя, а не разрушаясь, как вавилонская башня. Для
романтического символизма характерно создание грандиоз-
ных дискурсов — таких, как дух, природа и история, — ко-
торые, выступая в метафизике концептами, в рамках возвы-
шенного опыта приобретают символический характер. Ведь
4.1. Природа классического
349
доведенная до апофеоза человеческая страсть у романтика
соответствует той всеобщности абсолютного духа, которая
представлена в классической немецкой метафизике, только
здесь она выражена в иной, символической форме.
Рассуждая о классическом искусстве, Гегель пишет: «Клас-
сическое искусство стало воплощением идеала, соответствую-
щим понятию, завершением царства красоты. Ничего более пре-
красного быть не может и не будет»1. Еще раз следует отметить,
что в идеалистической эстетике все художественные формы суть
понятия. На мой взгляд, такой тезис навеян лишь универсалист-
ской метафизикой, стремлением создать метафизическую си-
стему, а не реальной многоплановой практикой культуры. Если
судить с позиций идеализма, то, начиная с Лессинга и Винкель-
мана, античное искусство берется в своей чистой законченно-
сти, представляя собой единственно возможную, непревзойден-
ную классику. Не оспаривая того, что греки создали во многом
непревзойденные символические воплощения возвышенного
опыта, я выступаю сторонником плюрализма классических си-
стем. Не существует никакой вечной и законченной классики.
Да, невозможно создать ничего «более прекрасного», но это
гегелевское положение значимо только для античного симво-
лического порядка, только для такого опыта и для таких сим-
волов. Поэтому ренессансное возрождение античного искусства
представляет для Гегеля и идеалистов колоссальную проблему.
Загнанные в единый и единственный метафизический стандарт,
прилагая критерии рациональности к символам, они не справ-
ляются с возникшим плюрализмом. В результате возникает
глубоко ложный постулат, что все классические формы на са-
мом деле суть стадии развития одного-единственного понятия.
Предложенная мною теория переводит все вопросы, связанные
с классическим, в сферу эпистемологии эйдетического опыта.
Для такой теории не существует проблемы в том, что на Западе
в искусстве, науке, философии и теологии возникло несколько
разных совершенных символических миров, каждый из кото-
рых является классическим сам по себе. Классические стадии
связаны отношениями диалога и интерпретации, но, прежде
всего, своеобразны в отношении опыта и символических язы-
1 Гегель Г. В. Ф. Эстетика: в 4-х т. Т. 2. М., 1969. С. 231.
350
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ков. Критерий гармонии, завершенности и полноты, который
прилагается к любому классическому, крайне слаб, чтобы не
допустить плюрализм равно совершенных эйдетических форм.
Поэтому вопрос о том, кто более классичен: Гомер, Данте или
Байрон — совершенно некорректен, поскольку каждый из них яв-
ляется классиком в рамках своей традиции, а их «классичность
вообще» — это условность, дань признания и уважения и зача-
стую ничего более. Мне кажется, что в искусстве, где эйдетиче-
ские миры личностны, индивидуальны, могут теоретически воз-
никать не только разные виды классики, но и очень непохожие
вариации внутри одной классической традиции. Так, признан-
ное первенство Пушкина не делает вторичными и менее зна-
чимыми Лермонтова, Баратынского, Батюшкова, Грибоедова.
Каждый из крупных поэтов — это творец индивидуально-эйде-
тического символического мира, особого языка и строя образов.
В этом смысле полнота, совершенство, гармония, новизна — это
эпистемологические критерии любого классического символиз-
ма. Так или иначе, в традиции должны существовать дистрибу-
тивные механизмы, которые выводят определенные символы
и символические порядки на вершину духовного опыта.
Не менее ошибочным мне представляется свойственное
всем немецким идеалистам — от Винкельмана до Хайдеггера —
рассмотрение греческого символизма как безусловной исход-
ной точки развития духа. Гегель пишет: «Греческая жизнь есть
истинный юношеский подвиг. Она открывается Ахиллесом, по-
этическим юношей, а реальный юноша, Александр Великий, за-
вершает ее»1. Здесь налицо как экстраполяция метафизической
схемы на историю, так и стремление определить греков, исходя
из всеобщего и единого основания. Да, до эллинов не существо-
вало столь возвышенного и цельного символизма. Не было даже
некоторых символических форм — таких, как поэзия, политика,
философия. Однако преувеличение роли греков и объявление
их символизма некой начальной точкой, неким вечным образ-
цом глубоко неконструктивно с исторической точки зрения.
Греки в своем самосознании в самом деле считали себя исклю-
чительным народом, но это еще не означает ни первородства, ни
единственно возможного культурного стандарта. Не углубляясь
1 Гегель Г. В. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 253.
4.1. Природа классического
351
в теоретические споры, я хотел бы отметить, что мы находимся
еще во власти грандиозного исторического мифа о великом про-
зрении, которое посетило один отдельно взятый народ, наподо-
бие того, как дух цивилизации «посетил» греков, а божествен-
ное откровение «выпало» на долю евреев. Хотя символические
представления варваров, древнейших египтян, народов Даль-
него Востока, Индии, Америки и даже Африки были куда ме-
нее возвышенными, лишенными такой целостности и степени
рефлексии, в области символизма нет никакой необходимости
придавать античным стандартам какое-либо исключительное
положение. Правильно было бы допустить, что античный сим-
волизм всегда будет прекрасным и возвышенным, даже если все
сговорятся ниспровергнуть его. Поэтому вся эта «метафизика
истока», сравнение греков с «колыбелью цивилизации», обра-
щение к раннему этапу эллинской культуры с целью разгадать
загадку человека, истории, мысли — результат фальсификации,
подгонки реальной символической эволюции под априорную
схему. При этом Хайдеггер, хотя и оказывается плюралистом,
не принимая учения об унификации традиций и концептуаль-
ных миров, остается всецело во власти сотворенного классиче-
скими философами и романтическими поэтами мифа о великом
и изначальном «истоке». На мой взгляд, историки, не строящие
таких обобщений, более здраво смотрят на греков. Да, полагают
они, эллины были самым передовым народом эпохи, но были
вокруг и персы, и египтяне, и римляне, и финикийцы, равно как
и народы, не вступавшие в контакт с эллинством до Александра,
а затем несколько веков вплоть до римлян. Такой плюрализм
представляется гораздо более здравым, поскольку выведенный
романтиками «народный дух» не есть нечто всеобщее, а лишь
некая собирательная особенность, индивидуальность симво-
лических порядков именно в этом народе, в этой стране и в это
время. Не прав ли Байрон, который в порыве пессимизма в од-
ном из своих величайших стихотворений «К музе вымысла»
отверг штампованные эллинские образы и эпитеты? Не прав ли
Моцарт, который, согласно известному анекдоту, спросил импе-
ратора, кого он предпочтет видеть в опере: веселого цирюльни-
ка или Геракла?
Греки создали относительно небольшой набор возвышен-
ных искусств, постепенно совершенствуясь и достигая класси-
352
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ческих образцов в каждом из них. Однако внутри диалектики,
риторики, пластики, театра у греков наблюдается чрезвычай-
ное разнообразие индивидуальных форм. Это делает любую
простую модель понимания эллинов (как у Гегеля, Маркса или
Хайдеггера) изначально обедняющей разнообразие греческого
духа. Гегель назвал греков «юношами» человечества, но нигде,
как у греков, не было развито учение о человеческом возрасте,
нигде не было такой диалектики юности и старости. Двуликий
Янус, не по годам умудренные молодые Платон и Александр,
интенция глубокой древности гомеровского эпоса, представле-
ние о былом золотом веке позволяют судить о том, что внутри
собственного символизма греки заботились исключительно
о собственном совершенстве, а все созданные ими «идеальные
образцы» суть не что иное, как эйдетические формы их духа.
Что по-настоящему оригинально, а порой и исключительно
у греков, так это то, что всё у них — формы искусства, всё так или
иначе связано с жизнью, совершенствованием личности. Всё
символическое у греков не отделено от опыта, а соответствует
ему; поэтому греческий философ, политик, военачальник, поэт
действует в полном согласии со своими убеждениями.
Романтически настроенные философы, отвергающие все-
общие схемы Шеллинга и Гегеля, хотя и превозносившие гре-
ков как исключительный народ, на мой взгляд, глубоко постиг-
ли особенности греческого эйдетического опыта. К примеру,
Шлегель отмечает, что при несомненном духовном превосход-
стве, греки (по крайней мере, великие мужи) выделялись про-
стотой, воздержанностью, незаурядным умом, гуманностью,
что передавалось всей традиции. Шеллинг отмечает такую
сторону античного символизма, всегда удивлявшую варваров:
«Эта святость прекрасных игр и эта свобода изображающе-
го искусства — признаки подлинно греческого. Всем же варва-
рам красота не представляется достаточной сама по себе.
У них нет чутья к безусловной целесообразности ее бесцель-
ной игры, и она нуждается у них в чужой помощи, во внешнем
подтверждении. Как у диких, так и у утонченных не греков ис-
кусство — только раб чувственности или разума»1. Подобное
суждение передает именно возвышенный характер греческого
‘Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 1. М., 1983. С. 131.
4.1. Природа классического
353
опыта, который настолько самодостаточен, что не нуждается
в чем-то материальном или авторитетном, который опирается
на идеал аристократического мужа, неизменно передающийся
с гомеровских времен. И сам этот идеал становится символиче-
ским. Сама великая личность, воплотившая собой какую-либо
сторону этого идеала, выступает важным акцентом символи-
ческой памяти, вокруг которой выстраивается символ. Шле-
гель, превознося простоту греков, отмечает, что великая лич-
ность приобретает мифологические характеристики, выступая
одним из эйдосов человека, воплощая в себе возвышенность,
которая более не знает места и времени. Новалис вторит Шле-
гелю: «Жизнь истинно канонического человека должна быть
насквозь символической»1.
Применительно к символизму вообще трудно предпо-
лагать, что один символ является причиной или следствием
другого символа. Каждый символ, особенно достигший клас-
сического статуса, имеет тенденцию замереть в собственной
самодостаточности. Между символами возникают диалоги-
ческие отношения коммуникации, интерпретация, созвучия,
отчуждения. К тому же такие отношения творятся носителями
живого опыта, отчего они никогда не свободны от ценностно-
го отношения. Символические коммуникации неотделимы от
чувства утраты, возрождения, преодоления веков, духовного
наставничества* 2. Если брать символы, сотворенные гениями,
то тут нормальным явлением (ни в коей мере не вымыслом)
является ситуация, когда Вергилий ведет Данте по лабиринтам
ада или Монтень общается с древними мудрецами, как будто
они гостят у него в замке. Символическое пространство и вре-
мя коммуникативны и подчиняются принципу хранения и от-
торжения', поэтому символы далекого прошлого могут вол-
новать и рождать комментарии, а символы поколения дедов,
совсем недавние — оказаться заброшенными и забытыми. Ведь
'Новалис. Фрагменты. СПб., 2014. С. 89.
2 «И только, когда есть возможность обозреть целый ряд происшествий
и уже не принимать все непосредственно, но вместе с тем и произвольно
не запутывать их действительное сцепление собственной фантазией, тогда
начинаешь замечать тайное сцепление минувшего и грядущего, тогда на-
чинаешь строить историю из надежды и воспоминаний» (Новалис. Генрих
фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб., 1995. С. 64).
354
Глава 4. Эйдетический опыт как история
именно такая временная диспозиция присутствует в романтиз-
ме: античность становится всем, Просвещение же оказывается
отторгнутым.
В рамках иррационалистической традиции, вызреваю-
щей в романтизме, гениальная личность — это, прежде всего,
божественное существо, титанический дух, творящий новые
символы. Поэтому момент генезиса символизма воспринима-
ется преувеличенно и откровенно волюнтаристски. Так, Кьер-
кегор высказывает мысль, типичную для поздних романтиков:
«Внешнее как таковое не имеет никакого значения для гения,
и потому никто не может его понять. Все зависит от того, как
он сам понимает это... И все же гений знает, что он сильнее все-
го мира... Таким образом, гений помещен за пределами всеоб-
щего. Он велик благодаря своей вере в судьбу, в то, что он либо
победит, либо падет»1. Подобная трактовка гения в настоящий
момент мне кажется совершенно несостоятельной, что, правда,
не отменяет того, что возможно появление людей с ярким ин-
дивидуальным возвышенным опытом и великим талантом. Ге-
ний, в сущности, не «творит классику» — он творит новые сим-
волические формы, по-новому оформляет эйдетический опыт.
Классика — это скорее категория, присущая традиции', и гений
становится классическим лишь тогда, когда его творчество ста-
новится эйдетическим каноном, который здесь и сейчас вос-
принимается как нечто незыблемое и образцовое. Случай тво-
рения символической формы гением специфичен именно тем,
что никто больше не высказывается на таком языке и никто не
может ответить на запросы опыта таким образом. Гений — это
носитель уникальной символической интерпретации; именно
уникальность оригинала Ван Гога или Пикассо в наше время
оценивается в миллионы долларов. В этом смысле гений пред-
ставляется незаменимым звеном любого символического об-
новления. Но все же, как бы ни был велик гений, нельзя отне-
сти все символическое творчество человечества только к нему.
Те, кого иррационалисты презрительно именуют массой, тол-
пой, ремесленниками, тоже значимы для символических про-
цессов: они имеют свой голос как те, кто формирует традицию,
а в чем-то даже оценивает самого гения. Отношения между ге-
1 Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 194.
4.1. Природа классического
355
нием и народом в норме похожи на отношения актера и публи-
ки, поэта и читателя, а не на отношения полубога и рабов.
Рассматривая природу классического, нельзя обойти вни-
манием фигуру Ницше: ведь в большинстве современных исто-
рических схем он трактуется как основоположник «некласси-
ческого» сознания. Я не ставлю здесь задачи подтвердить или
опровергнуть подобную оценку: мне она кажется преувеличен-
ной, а Ницше я ставлю в один ряд с индивидуалистическими фи-
лософами и поздними романтиками, что не отменяет уникаль-
ности его взглядов и титанического характера его творчества.
Хотя Ницше не любил Карлейля, на него оказала значительное
влияние теория героя и толпы: гений трактуется им как созда-
тель новых ценностей, масса же — как косное и консерватив-
ное начало. Для Ницше также характерно стремление к идеа-
лизации классических форм символизма, что у него уживается
с крайне субъективным и пристрастным отношением к гениям
разных эпох. К примеру, о греческих и современных филосо-
фах он пишет так: «Никто не осмеливается применить к самому
себе законы философии, никто не решается жить как философ,
обнаруживая ту простую верность мужа, которая заставляла ан-
тичного мыслителя вести себя как приличествовало стоику, где
бы он ни находился и что бы ни делал, если только он однажды
присягнул на верность стоической философии. Все же совре-
менное философствование носит политический и полицейский
характер и осуждено правительствами, церковью, академиями,
нравами и людской трусостью на роль только ученой внешно-
сти»1. Странно слышать такие суждения от мыслителя, за пле-
чами которого стоит солидная филологическая и историческая
подготовка. Я уже не раз отмечал, что в античной культуре лич-
ность приобретает ярко выраженный символический характер,
а философ, как высший тип личности, строит свою частную
и общественную жизнь в соответствии со своими взглядами.
Однако мне также не раз довелось показать, что такая форма
символизма возможна лишь в условиях исключительно древне-
греческого символического порядка. Переносить этот идеал на
все традиции просто нелепо. К тому же не следует забывать, что
греческую историю мы знаем главным образом по нарративным
1 Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990.994. С. 188.
356
Глава 4. Эйдетический опыт как история
источникам, в которых деятели, философы и поэты фигуриру-
ют в своей символической роли, подобно тому как в учебниках
истории короли всегда фигурируют только как короли. Стои-
ки, эпикурейцы, скептики не были ходячими воплощениями
собственных символических положений, хотя и ставили свою
жизнь на службу символу. Такие личности, как Платон и Ари-
стотель, начисто выпадают из ницшеанского «образа жизни»
философов по той причине, что никакого простого образа у этих
мужей не было. История сохранила нам свод анекдотов о Зеноне,
где он, по выражению Ницше, вел себя только как стоик. Но тут
речь идет о конструировании именно символической личности
Зенона; само слово «стоик» превращается в один из эйдетиче-
ских модусов человеческого совершенства. Для убедительности
символического образа совершенно необходима элиминация
всех остальных черт и обстоятельств жизни стоиков. Биография
великого романтического поэта, к примеру, тоже представляет
собой описание «пути» символической фигуры. Однако, будучи
менее удаленной от нас и более известной во всех деталях, эта
возвышенная символическая фигура видится как бы на фоне са-
мых разных, порой совершенно отталкивающих черт, а то и от-
кровенных пороков.
Для Ницше характерно преувеличение аристократизма
возвышенной личности, что, я полагаю, совершенно оправда-
но: символическая фигура присутствует в традиции как носи-
тель определенного эйдетического образа; и эта фигура не будет
иметь авторитета, если образ не окажется ярким, убедительным
и в чем-то преувеличенным, художественно и идеологически уси-
ленным. Для Ницше великая личность тесно связана с образом
духовного вождя: «Настоящие греческие философы — это досо-
кратики (с Сократом кое-что меняется). Все это знатные особы,
сторонившиеся народа и общественной нравственности, много
странствовавшие, строгие, вплоть до угрюмости, с медленным
взором, не чуждые государственным делам и дипломатии»1.
Свойственная немецким романтикам преувеличенная оценка
греков проявляется у Ницше и в суждениях о греческой куль-
туре в целом. «Вся работа античного мира напрасна-, у меня
нет слов, чтобы выразить чудовищность этого. — И принимая
1 Ницше Ф. Воля к власти. М„ 2005. С. 256.
4.1. Природа классического
357
в соображение, что эта работа была только предварительной
работой, что гранитом его самосознания был заложен лишь
фундамент к работе тысячелетий, — весь смысл античного мира
напрасен! К чему греки? К чему римляне?.. За одну лишь ночь
стало это только воспоминанием! Греки! Римляне! Благород-
ство инстинкта, вкус, методическое исследование, гений орга-
низации и управления, вера, воля к будущему людей»1, — пишет
Ницше. Я не берусь комментировать столь ангажированные
суждения, которые напоминают суждения предпочтения, а не
строгие и обоснованные выводы. В конце концов, Ницше пишет
с позиций романтического субъективизма; его воззрения зача-
стую имеют не философскую, а литературную убедительность2.
На мой взгляд, ностальгия романтиков по утраченной великой
Элладе ведет к конфликту со здравым смыслом, который под-
сказывает нам, что на Западе возникли новые традиции, что та-
ких традиций несколько и что интерпретации греков куда цен-
нее стремления им подражать. Сама идея «забвения» великого
истока, свойственная Гёльдерлину, Ницше, Хайдеггеру, — это
введение диспозиции с изначально явственным единственным
стандартом, единственным символическим языком и миром,
который приписывается такой мифической сущности, как «че-
ловеческое бытие». В рамках символизма присутствует история,
но она лишена какой бы то ни было всеобщности, и тем более
какого-то определенного истока предначертанного развития.
Тот символизм Нового времени, который привел к «забвению»
греческого духа, строится на основе другого опыта, иных симво-
лов. Это другой символизм', он также замкнут в себе, как и грече-
ский символизм в то время, когда он был актуальной традицией.
Так и хочется переиначить вопрос Дэвидсона о значимости пе-
ревода: для чего мы исследуем символы — чтобы доказать, что
мы утеряли великий исток, или для того, чтобы показать связь
с этим истоком?
Как мне видится, следование классическому образцу возмож-
но только с позиций собственного эйдетического опыта и сим-
1 Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 688-689.
2 «Поэтизировать философию и философизировать поэзию — такова
высшая цель всех романтических мыслителей» (Кассирер Э. Избранное.
Опыт о человеке. М., 1998. С. 624).
358
Глава 4. Эйдетический опыт как история
волического языка. Подражание мертвенно в силу отсутствия
коммуникации, «оживления» ушедшего посредством новой
и актуальной интерпретации. Рафаэль и Гёльдерлин могут счи-
таться античными, но на свой лад. Они античные не как греки,
а как великие интерпретаторы греков, которые сказали о них
нечто новое языком своего времени. Можно представить себе,
что мы реконструируем бывший эйдетический опыт, свойствен-
ный классику прошлого. Выше я уже показал, насколько это
затруднительно с научной точки зрения. Здесь же я предполо-
жу, что такая реконструкция во многом символически некон-
структивна; вполне достаточно понимания в меру нашего исто-
рического воображения и осознания инаковости классического
символизма Данте или Парменида. Я хотел бы отметить, что
ушедшая классика обладает одной уникальной способностью;
не дождавшись внимания к себе, она (при наличии сохранив-
шихся памятников) может существовать подспудно, «храниться
в архиве». Невозможно заранее предугадать, что будет востре-
бовано спустя века, а что забыто из совсем недавнего. Однако
ушедшая классика — это не архив информации, это архив сим-
волов, которые могут быть возрождены в новой форме, как это
и произошло, к примеру, в Ренессансе. При этом древняя клас-
сика проходит период омолаживания, восстанавливается, если
не как дух, то как форма.
Когда мы говорим, что классика вечна, а рукописи не горят,
такое суждение следует понимать как символ. Классика всегда
может быть интерпретирована и сохранена — но лишь теорети-
чески. На самом деле многое зависит от особенностей традиции.
Для Ренессанса характерно внимательное отношение к Антич-
ности, постоянное цитирование древних авторитетов и даже
подражание им. Постмодерну, напротив, свойственны символи-
ческие установки, согласно которым собственная исключитель-
ность текущего момента не требует ничего, что не относится
к этому моменту, — поэтому модернисты и постмодернисты не
нуждаются в диалоге с античной классикой. Поскольку не суще-
ствует ни универсальной, ни одной-единственной классики, то
и тезис о вечности творений Платона, Рафаэля, Шекспира ока-
зывается лишь фигуральным оборотом.
Классика вообще крайне редко уничтожается, даже если
уходит в небытие тот опыт, который ее питал или если ее хотят
4.1. Природа классического 359
«сбросить с корабля современности». Культурный потенциал
совершенной эйдетической формы — будь это великая личность,
текст, храм, картина, — очень значителен и обладает «инерци-
онным» воздействием на будущие традиции. Поэтому классика
совмещает радикально новаторский характер с мощным консер-
вативным потенциалом. Она служит якорем традиции не только
через интерпретацию и диалог, но и через повторение, простое
воспроизведение, выступая неким «безусловным основанием»
для данной традиции.
Теория культуры Шпенглера объясняет символические
формы по аналогии с циклами развития организма. Еще недав-
но принимаемое всерьез, сегодня это сравнение может считать-
ся не более чем метафорой. Символы являются «живыми», по-
скольку для своего существования они нуждаются в постижении
опытом и функционировании в культуре. Поэтому, когда Хёй-
зинга учит, что в позднем Средневековье символы «окаменели»,
утратив свою жизненную силу, он не философствует и не пере-
носит биологические понятия на историю, а просто вводит эй-
детическую метафору. Тем не менее если отбросить витализм,
то мысли Шпенглера о символических трансформациях класси-
ческих форм заслуживают особого внимания. Шпенглер пишет:
«Однако именно вопрос, почему большое искусство — аттиче-
ская драма вместе с Еврипидом, флорентийская пластика вместе
с Микеланджело, инструментальная музыка вместе с Листом,
Вагнером и Брукнером — имеет обычно столь внезапный и про-
изводящий впечатление символа конец, лучше всего способен
осветить органический характер этих искусств. Достаточно при-
стально вглядеться, чтобы убедиться, что о “возрождении” хотя
бы одного значительного искусства еще ни разу не было речи»1.
Выше я уже высказал предположение, что в условиях нового эй-
детического опыта классика может быть воспроизведена только
в форме интерпретации. Поэтому понятия вроде «возрожде-
ния», или понятия с приставкой «нео-» (неоренессанс, неоклас-
сика и т. п.), — это обозначения интерпретаций, фигуральные,
метафорические наименования. То, что Шпенглер понимает под
«концом» великой формы искусства, — это именно момент об-
ретения символами классического статуса, когда достигнута гар-
1 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 393.
360
Глава 4. Эйдетический опыт как история
мония между опытом и его символическим выражением; и такая
гармония исторически замирает как нечто завершенное в себе,
кажущееся незыблемым и вечным. В свою очередь, любой воз-
можный новый эйдетический опыт уже не станет изобретать ве-
лосипед, а обязательно использует сложившуюся классическую
основу для выстраивания диалога, в ходе которого и возникают
отношения интерпретации, принятия, отвержения, ностальги-
ческого воспоминания, реконструкции и многие другие. В конце
концов, Шпенглер совершенно прав в том, что каждая традиция
озабочена, прежде всего, собственным символизмом, равно как
и не в каждой традиции возникает интерес к прошедшим време-
нам: греки хранили «Илиаду»1, но не стремились раскапывать
Трою. В рамках их символической традиции историческое про-
шлое приобретало мифологический, легендарный и фольклор-
ный характер, воспринималось как форма предания, а потому
само место Трои было не археологической точкой, а символиче-
ским местом зарождения эллинского духа2.
Если посмотреть на теорию Шпенглера, то бросается в гла-
за явственный плюрализм культурных эпох, которые мысли-
тель (что свойственно немецкой метафизике) стремится подчи-
нить модели всеобщего закона. Я считаю, что осуществленные
за два века исторические исследования позволяют признать
в качестве неоспоримого тезис об индивидуальности культур.
И хотя все они когда-то возникали и исчезали, эти процессы не
имеют ни общего характера, ни какого-то простого набора при-
чин. Так или иначе, любой новый классик не только продолжает
прежнюю классику, но и затмевает ее, переписывает ее на свой
лад, ускоряя ее забвение. Шпенглер пишет: «Эти три исполина,
каждый на свой лад в своих собственных трагических заблужде-
ниях, пытались быть античными в смысле медичийской теории,
и каждый на свой лад разрушил эту грезу: Рафаэль — большую
линию, Леонардо — поверхность, Микеланджело — тело. В них
1 Александр Македонский положил в шкатулку, усыпанную драгоценны-
ми камнями, именно рукопись «Илиады», как самое ценное из того, чем
он обладал.
2 «Когда это греку могло бы прийти в голову заботиться о развалинах
Кносса и Тиринфа? Каждый знал “Илиаду”, но никому не приходило на
ум раскапывать холм Трои» (Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993.
С. 430).
4,1. Природа классического
361
заблудшая душа возвращается к своему фаустовскому исходу.
Они добивались меры вместо отношения, рисунка вместо воз-
душного и светового эффекта, евклидовского тела вместо чисто-
го пространства. Но евклидовски-статической пластики уже не
существовало. Она была возможна лишь однажды — в Афинах»1.
Как кажется, предложенная мною эпистемологическая теория
символизма решает эту проблему. В самом деле, упомянутые
здесь титаны Возрождения обладали собственным возвышен-
ным опытом и стремились облечь его в эйдетические формы.
Для этого они отталкивались от уже сложившихся форм антич-
ности, интерпретируя их. Можно ли было обойтись без отсылки
к античности — это другой вопрос. Теоретически Леонардо мог
бы творить наподобие постмодернистов, как будто до него не
было никакого другого искусства. Но практически (а в рамках
символизма это основополагающий фактор) складывается тра-
диция, согласно которой коммуникация, диалог, а иногда и цити-
рование античной классики становится залогом классичности
собственных творений. Тем более тут проявился художествен-
ный и исторический такт ренессансных мастеров, которые не
пытались спорить с великими античными формами, а стреми-
лись поставить рядом с ними столь же прекрасные и возвышен-
ные, но оригинальные произведения. Поэтому в рамках теории
эйдетического опыта Ренессанс понимается как диалогическое
взаимодействие двух классических традиций.
Любая форма может оказаться классической, если она от-
несена в наличной интерпретации к «великому прошлому».
Классика сама не осознает себя классикой, а только стремится
к самореализации. Так называемая «актуальная» классика (то
есть великие символические формы современной традиции),
как правило, не имеет интереса поместить себя в лоно всеобщей
истории. Возможны, конечно, редкие исключения, наподобие
того, как Данте помещал свое творчество, и в частности 1300 г.,
в общую схему мировой истории. В большинстве случаев то,
что мы знаем как классическое, в период своей молодости тоже
стремилось опереться на «древние» символические основания.
Классическая античность в своем эйдетическом самосознании
всегда опиралась на мифологическую сферу, а также на обсто-
гТам же. С. 450.
362
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ятельства из жизни героев, троянского эпоса или просто древ-
них легендарных великих мужей. Это стремление не было чисто
фигуральным, не было данью традиции — основания современ-
ных символических порядков намеренно экстраполировались
на великую древность. К примеру, хотя теорию шарообразно-
сти мира, вероятно, впервые разработал Парменид, Диоген Лаэ-
ртский, в духе античного подхода к истории, относит учение
о шаре к Мусею, который воспринимается им как вполне реаль-
ная личность.
Представления Хайдеггера об античной классике — это
завершение романтического мифа, попытка удержать от окон-
чательного распада античный эйдетический опыт путем ре-
конструкции через современный язык экзистенциальной
философии. О том, что Хайдеггер — сторонник романтизма,
свидетельствует не только культ Гёльдерлина, но и явное тео-
ретическое преувеличение роли греческой культуры. Хайдеггер
пишет: «Греческое есть раннее утро, когда само бытие прояс-
няет себя в сущем и принимает в свое призвание существо че-
ловека, которое, как причастное судьбе, имеет ход своего свер-
шения в том, как оно сохраняется в бытии и как упущенное из
него, оно никогда не бывает им захвачено»1. Впрочем, Хайдег-
гер не ставит здесь теоретической цели — он трактует досокра-
тический период символически, связывая его с эйдетическим
образом истока подлинного отношения к бытию. Он судит не
как философ, а как поэт, что также свойственно романтической
мысли: «Все искусство — дающее прибывать истине сущего как
такового — в своем существе есть поэзия. Сущность искусства,
внутри которой покоится художественное творение и покоится
художник, есть творящая истина, полагающаяся вовнутрь тво-
рения»2. У Хайдеггера можно найти много ценных мыслей о ха-
рактере и экзистенциальном протекании возвышенного опыта,
о его индивидуальных особенностях, об уникальности именно
античного опыта. Однако превознесение античной культуры
с позиций поиска истины бытия, сведение искусства к поэзии,
наличие всеобщей историко-философской схемы делают фило-
софию Хайдеггера исключительно субъективной, а во многих
1 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 40.
2 Он же. Работы и размышления разных лет. М„ 1993. С. 102.
4.1. Природа классического
363
чертах — ретроградной. На мой взгляд, никакая модель охва-
тывающего закона, никакая универсалистская схема не может
объяснить природу символизма и логику культуры. Тем более
схема Хайдеггера становится в один ряд с ангажированными
философскими концепциями, выделяющими один символизм
как исконный и подлинный, а другой — как ложный и упадни-
ческий. Время таких всеобщих идеологических схем в совре-
менной парадигме философии и гуманитарных наук, похоже,
безвозвратно прошло.
Тем не менее герменевтическая философия является
одной из главных школ, устанавливающих критерии того,
что можно считать классическим, а что нет. Характерной
особенностью классики выступает то, что она представляет
собой опыт традиции, выраженный в совершенной эйдетиче-
ской форме. При этом классика, выступая формой общепри-
знанного и даже унифицирующего в культуре, всегда связа-
на с творчеством определенной личности. То есть в рамках
классики присутствует диалектика личного, оригинального
и традиционного, уравнивающего начал. Классика оказы-
вается, с одной стороны, вершиной, новым словом, харак-
теризующим всю эпоху, а с другой стороны — устойчивым
символическим полем, к которому может обратиться любой.
Тем самым классике придают уникальность и творческая
личность, творящая символы, и структуры традиции, кото-
рые делают эти символы педагогической и просветительской
основой, лежащей в основании всех культурных форм. Как
пишет Гадамер: «Напротив, произведение искусства незаме-
нимо. Даже в эпоху технического тиражирования, в которую
мы живем, обладая возможностью общения с произведения-
ми высочайшего искусства через великолепные репродукции,
это остается истиной. Фотография или грампластинка — это
репродукция, а не репрезентация»1. Здесь я согласен только
с первым положением. На мой взгляд, характерной чертой
классики, особенно в искусстве, является ее всеобщность на
уровне возможности обращения и воспроизведения, ее опре-
деленная бесспорность как форма символического выраже-
ния, ее традиционность, восходящая к проверенным и ав-
1 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М„ 1991. С. 303.
364
Глава 4. Эйдетический опыт как история
торитетным источникам. К примеру, в архитектуре Запада
насчитывается четыре классических периода. Хотя каждый
раз создавалась оригинальная и новая классика (с большим
количеством форм, которых не было в Греции и Риме), такие
мастера, как Палладио, Росси и Щуко, уверенно и совершен-
но обоснованно цитировали элементы античного зодчества.
Это делалось вовсе не из стремления подражать — ведь сами
сооружения по назначению, плану и даже конфигурации
были совершенно иными — а из стремления «перебросить
мост» от стиля к стилю, создать новую репрезентацию (а по-
рой и интерпретацию) классического архитектурного языка.
Оттого, что здание Главного штаба Росси проникнуто духом
римского величия и военной мощи, здание венчает римская
квадрига, цитируются формы римского зодчества, сооруже-
ние не перестает быть новым, в смысле новой интерпрета-
ции, нового оригинального применения классических форм,
нового оформления пространства, причем не холмистого
Рима или гористых Афин, а совершенно иного по рельефу
Петербурга.
На определенном этапе повторения классических форм
этот процесс лишается своего творческого начала, а классиче-
ские символы перестают питать актуальный опыт, становясь
просто механическим цитированием символов былой традиции.
В случаях, когда новый опыт не приобретает нового эйдетиче-
ского оформления, обычно наступает явление, именуемое упад-
ком. В упадке завершается вовсе не классика, как обычно пола-
гают, а конкретная стратегия интерпретации классики. Опыт
ищет нового символического языка, но в традиции отсутствуют
возможности его возникновения.
На мой взгляд, упадок проявляется в двух формах. Первая
из них — это механическое и ставшее уже бессмысленным вос-
произведение отживших форм, которое поддерживается внеш-
ними подпорками, обычно исходящими от идеологии и власти.
Характерным примером может послужить «сталинский ампир»,
в рамках которого неоклассический художественный язык ли-
шен своей самостоятельности, а опыт зодчих скован идеологи-
ческими постулатами.
Второй случай гораздо более интересен. Именно в перио-
ды угасания классики появляются неклассические формы. Если
4.1. Природа классического
365
продолжить примеры из области архитектуры, то первым
таким неклассическим стилем следует считать готику. Го-
тика возникает как реализация запроса религиозного опыта
(поддерживаемого церковью), а именно: создать такой сим-
волический архитектурный язык, который будет свободен
от языческого влияния. В результате возникает готический
собор, в котором нет ничего античного; ведь до того антич-
ные базилики органично перестраивались в христианские
соборы. Несмотря на то что Гёте, Каспар Фридрих, По и про-
чие романтики превозносили готику как самобытное выра-
жение народного духа, само название стиля тонко подмечает
определенное варварство. Готика с ее стрельчатыми арками,
громадами вознесенных ввысь ажурных соборов, с витража-
ми и шпилями — это тоже великий стиль, но он замешан на
стремлении создать иную, совершенно альтернативную клас-
сику. Готика самобытна и классична, но варварски классична,
наподобие египетских пирамид или азиатских пагод. В готи-
ке нет ничего, претендующего стать основой последующих
художественных языков; готика эгоистична, замкнута в себе.
Хотя в период эклектики XIX в. и модерна возникли новые ин-
терпретации готики, приложенные уже к светским сооруже-
ниям, готика не достигает того, что присутствует в античном
художественном языке: спокойного гармоничного величия,
которое может стать неограниченным ресурсом для новых
интерпретаций, нового опыта и новых стилей. В связи с этим
я хотел бы завершить архитектурное отступление эпистемо-
логическим положением: любая новая форма символическо-
го языка при своем возникновении нова, и от этого кажется
неклассической; однако только те из новых форм утвердятся
в положении новой классики, которые гармонично сочетают
в себе оригинальность и обращенность к прошлому, что явля-
ется залогом «не эгоистичного» исторического бытия, откры-
тости для трансформаций в будущих символических языках.
Готика или современное неклассическое искусство оказыва-
ются замкнутыми в своем символическом выражении и при
смене возвышенного опыта уже не могут выйти за пределы
догматизма собственных выразительных форм.
Романтизм превозносит готику, выводя на первый план
гениальность, уникальную творческую индивидуальность. Ро-
366
Глава 4. Эйдетический опыт как история
мантизм уравнивает гения и героя1. В античности же все обсто-
яло иначе: автор стремился обрести не индивидуальное, а симво-
лическое имя, приобретая мифологизированный облик мудреца,
высказываясь не с позиций субъективности, а от лица всеобще-
го авторитета или даже богов. Древние философы, поэты, по-
литические деятели приобретали символическую личность, что
было неотделимо от добровольного снятия с себя печати ори-
гинальности. Платон, как вершина этой чуждой нам традиции,
пишет от имени божества2; многие греки и римляне символи-
чески уподобляли себя древним великим мужам и даже богам,
демонстрируя тем самым, что они, по сути, не создают ничего
нового, а просто вписаны в великую традицию как ее храните-
ли и продолжатели. И конечно, символической вершиной это-
го античного «отказа от авторства» выступает пифагорейство,
когда философ умаляется до полной анонимности, растворяется
в едином для школы символическом имени Пифагора, всецело
подчиняя ему свое эго. Не следует, однако, путать это с психо-
логически трактованной «скромностью»: греки и римляне вы-
соко ставят честолюбие и почет. Символическая анонимность
греков — это выведение классики как, прежде всего, формы тра-
диции, то есть не человеческого, а божественного, мифологиче-
ского творения. Для античности классика — это традиция, а не
шедевр гения. Именно по причине традиционности и нивелиров-
ки индивидуалистического начала античная классика столь уни-
фицирована, гармонично сбалансирована во всех культурных
феноменах, а во многом и столь долговечна.
Здесь мы попадаем в сферу вопросов высокой метафизики.
Такие философы, как Ницше, Шпенглер или Бергсон, строили
всеобщие культурфилософские модели спекулятивного ха-
рактера. Я предпочел бы отказаться от подобных построений;
допускаю при этом, что именно в античной классике присут-
1 «Гегель впервые возвышает до уровня философской проблемы процесс
освобождения модерна от внушающего воздействия со стороны внешних
по отношению к нему норм прошлого... Первое, что Гегель открывает в ка-
честве принципа нового времени, — это субъективность... Гегель считает, что
для модерна в целом характерна структура его отнесенности к самому себе,
которую он называет субъективностью» (Хабермас Ю. Философский дис-
курс о модерне. М„ 2008. С. 16-17).
2 Становится ясно, почему Платона наделили прозвищем «божественный».
4.1. Природа классического
367
ствуют уникальные черты, которые позволяли уже несколько
раз оригинально обновить духовную культуру Запада. Также
я считаю, что в других символических языках (таких, как го-
тика, «варварские», восточные формы) присутствует «клас-
сичность», но в иной — «закрытой», замкнутой в себе форме,
когда символический язык возникает, развивается и преходит
вместе с тем опытом, который их породил, а символы этого
языка долгие века стоят истуканами, впечатляя лишь вообра-
жение. Дело заключается в том, что особенно отмечали греки,
сравнивая себя с варварами, — в свободе, равно как и в осозна-
нии человечности, временности любых символических форм,
когда даже вечные символы угасают и даже сама гармония
ищет себе новых форм.
Мне кажется не случайной тенденция, которая наметилась
в последние десятилетия, а именно: отказ от глобальных про-
тивопоставленных друг другу дискурсов, таких как классика
и модерн, древнее и новое, реалистическое и антиреалистиче-
ское и т. п. Любые концептуальные рамки стремятся подогнать
под себя изначально сложный, многоплановый, а в чем-то даже
стихийный мир символической жизни традиции. Классическая
традиция представляет собой конгломерат разных, не всегда
пересекающихся, неравномерно развитых языков. Классика,
таким образом, плюралистична в себе и не может иметь ни-
каких общих признаков, кроме крайне «слабых» определений
и наименований. Классика также выступает в разных модусах:
она и самодостаточная символическая парадигма, и форма ин-
терпретации, и фундамент для новых форм, и даже в опреде-
ленных чертах «антиклассика» по отношению к былой клас-
сике, некий «модерн». Поэтому предложенная здесь теория
несколько отлична от предложенной Хабермасом в книге «Фи-
лософский дискурс о модерне». Я не считаю, что существовала
единая классика и последующий «век модерна» — я полагаю,
что периоды классики и модерна периодически сменяют друг
друга, и любая радикальная интерпретация классики, замешан-
ная на творческом протесте, ведет к возникновению локально-
го периода модерна.
Вообще, классика — это нечто изначально сложное. Это
не лишенный определенной запутанности и неравномерно-
сти в развитии конгломерат символических стратегий, а вовсе
368
Глава 4. Эйдетический опыт как история
не что-то упорядоченное, незыблемое, объединенное общим
принципом. Хабермас так пишет о диалектике классического
и неклассического: «Таким образом, эстетический спор между
“древними” и “новыми” искусствами находит элегантное раз-
решение: романтика — это “завершение” искусства, как в смыс-
ле субъективистского разложения искусства в рефлексии, так
и в смысле рефлексивного прорыва той формы изображения
Абсолютного, которая еще привязана к символическому... Ис-
кусство эпохи модерна — это действительно декадентское ис-
кусство, но именно благодаря декадансу оно продвинулось
вперед на пути к абсолютному знанию, в то время как классиче-
ское, античное искусство сохранило свою образцовость и все же
было равномерно преодолено»1. Кажется, эта мысль характерна
именно для возникающего в наше время символического типа
философии. Однако эту мысль я хотел бы развить в сторону бо-
лее гибкой диалектики классики и модерна, когда модерн есть
только временное состояние выражения нового эйдетического
опыта декадентским языком. Не случайно, к примеру, что в ар-
хитектуре модерн — после десятилетия поиска новых языков,
форм, материалов — вдруг начинает становиться все более стро-
гим, геометрически четким, однотонным, использующим ан-
тичный и ренессансный декор2. Декадентский, фрондерский па-
фос модерна, вызванный перекосом в сторону индивидуализма
и нарочитой новизны, постепенно уступает свое место неоклас-
сическому стилю, который приходит к балансу классического
и современного.
Вопрос, почему нечто считается классическим, не являет-
ся концептуальным вопросом. Поскольку классическим может
быть только символическое, то на первый план выходят эйдети-
ческие характеристики. В гегельянской эстетике, где символи-
ческое уравнивалось с художественным, уже были выработаны
критерии, согласно которым принципы верификации и призна-
ния классики существенно отличаются от теоретических прин-
ципов. Так, Белинский пишет: «Поэт мыслит образами; он не
1 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2008. С. 42.
2 В Петербурге, в отличие от других городов, модерн (за редкими исклю-
чениями) изначально стремится вписаться в классическую градострои-
тельную основу. Фасады сохраняют симметрию, а также строгий, сдержан-
ный декор со значительной долей античных и ренессансных форм.
4.1. Природа.классического 369
доказывает истины, а показывает ее. Но поэзия не имеет цели
вне себя — она сама по себе цель; следовательно, поэтический
образ не есть что-нибудь внешнее для поэта, или второстепен-
ное, не есть средство, но есть цель: в противном случае он не был
бы образом, а был бы символом»1. В довольно сложной диалек-
тике образа и символа «классическое» — это не образ, а именно
символ. Только символ обладает той эйдетической незыблемо-
стью, которая делает его отстраненным от любых субъективных
оценок и вместе с тем организует, направляет возвышенный
.опыт на пути следования канонам. Символ обладает образным
выражением, будь оно чувственно наглядным или лингвисти-
ческим; но сам по себе классический символ статичен, а не ди-
намичен, а его образная и языковая выраженность выступает
наиболее неизменной частью традиции. По легенде, Моцарт
однажды вспылил перед императором, заявив, что в искусстве
вечно повторяются одни и те же замшелые легенды о богах. На
что император ответил Моцарту, что боги вечны, поэтому их
изображение всегда достойно и уместно на подмостках театра.
Не намереваясь искать правых в этом споре, отмечу лишь, что
император тут выступает сторонником здорового консерватив-
ного начала, которое необходимо в традиции и над которым не
властен даже гений. Ведь классическое — это не только сово-
купность родственных символов. Классическое — это еще и ре-
гулятор тем, запросов, исканий, путей постановки и реализации
проблем, которые возникают перед опытом. Классика всегда
должна быть консервативнее актуальных поисков, поскольку
она сокращает возможный вред, которые наносят традиции из-
лишне частные, субъективные новации. Современные формы
культуры испытали такой релятивистский шок во многом по-
тому, что, в отличие от прежних эпох, позиции классики были,
как никогда, слабыми, а художники, философы, богословы ока-
зались полностью во власти своих частных устремлений и язы-
ков, которые субъективно (и иллюзорно!) казались правильны-
ми и легитимными.
Характерной особенностью модерна выступает стремление
не сообразовывать свои символические построения с символа-
ми классической традиции. Тут есть определенный резон и даже
1 Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 2. М., 1977. С. 192.
370 Глава 4. Эйдетический опыт как история
своя логика: таким образом символические языки могут посте-
пенно обновляться, а не коснеть в вечном немом спокойствии.
Белинский пишет: «В новом мире царила религия Христа и, ста-
ло быть, богов не было; но, несмотря на то, нельзя было напи-
сать никакого стихотворения, где бы не стреляли из лука амуры
и купидоны, не выли бореи, Нептун не вздымал моря, зефиры
не дышали прохладою и т. д. А почему? — потому что так было
у греков и римлян!»1 Здесь русский критик судит совершенно
верно. В самом деле, христианская религия и художественный
язык всегда находились в определенном противоречии, по-
скольку последний во многом сохранил античные, «языческие»
каноны. Однако Белинский, на мой взгляд, судит с позиций ге-
гельянской теории прогресса, в рамках которой духовно высшая
форма обязательно приводит к смене символического языка.
Однако это неверно, и сама практика таких важных в церков-
ной архитектуре стилей, как барокко и классицизм, наглядно
демонстрирует ложность тезиса гегельянцев. Собор Св. Петра
или Исаакиевский собор не перестают быть христианскими
храмами оттого, что их архитектура, живописное и скульптур-
ное убранство выдержаны в античных формах, — ведь эти фор-
мы сохраняются не потому, что они «должны» соответствовать
духу христианства, а потому, что они наиболее успешно реша-
ют эйдетические задачи: символизируют монументальность,
гармонию, вечность. Художественный язык якобы чуждой
античной формы, в свою очередь, придает визуализацию ми-
стическим, абстрактным формам христианской духовности.
Белинский не учел того, что мастерам Ренессанса нужно было
обладать подлинным вкусом и возвышенностью опыта, чтобы
перевести теологический язык христианских ценностей на изо-
бразительный язык живописи. И при этом переводе античные
формы оказались предметом интерпретации, результатом иного
опыта, приспособлением к иной традиции, а никак не внешним
и механическим копированием. Тем самым можно допустить,
что классическая основа в философии и искусстве — это именно
символические, эйдетические конструкции, претендующие не
на истинность, а на общепризнанность, к которым всегда мож-
но обратиться как к проверенным образцам, чтобы на их основе
1 Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 6. М., 1981. С. 82.
4,1, Природа классического
371
построить что-то новое, оригинальное, но оригинальное не как
нечто субъективное, а как вписанное в многовековую традицию.
Этим объясняется и тот факт, что символическое время в отно-
шении классического практически уравнивается с вечностью —
в том смысле, что классический ордер или тезис Платона могут
фигурировать и как древние, и как современные, наличные эй-
детические конструкции.
Белинский совершенно прав, отмечая, что художник не ну-
ждается в логических доказательствах, а только демонстрирует
содержание на символическом языке1. Если можно говорить об
истинности классики, то она проявляется в достижении такой
полноты и оригинальности, когда символ и его эйдетическое
содержание воспринимаются как нечто тождественное и завер-
шенное в себе. На идеалистическом языке (который можно счи-
тать классическим в философии) такая полнота, как правило,
абсолютизируется. Вл. Соловьев пишет: «В красоте — даже при
самых простых и первичных ее проявлениях — мы встречаем-
ся с чем-то безусловно-ценным, что существует не ради другого,
а ради самого себя, что самым существованием своим радует
и удовлетворяет нашу душу, которая на красоте успокаивает-
ся и освобождается от жизненных стремлений и трудов»2. Мое
расхождение с идеалистами состоит в том, что я определяю
категории классики — такие, как красота, гармония, вечность,
возвышенность, соразмерность — исключительно в канониче-
ском, а не в легитимном смысле. В «неклассические» периоды
такие каноны, как правило, нарушаются. Но творения таких
эпох — это тоже символические формы, которые могут впо-
следствии приобрести классический и традиционный характер.
1 «Искусство не допускает к себе отвлеченных философских, а тем менее
рассудочных идей: оно допускает только идеи поэтические; а поэтическая
идея — это не силлогизм, не догмат, не правило, это живая страсть, это —
пафос... В пафосе поэт является влюбленным в идею, как в прекрасное, жи-
вое существо, страстно проникнутым ею, — и он созерцает ее не разумом,
не рассудком, не чувством и не какою-либо одною способностью своей
души,,но всею полнотою и целостью своего нравственного бытия... Идеи
истекают из разума; но живое творит и рождает не разум, а любовь. Отсюда
ясно видна разница между идеею отвлеченною и поэтическою: первая —
плод ума, вторая — плод любви как страсти» (Белинский В. Г. Собрание
сочинений: в 9 т. Т. 6. М., 1981. С. 258).
2 Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 355.
372
Глава 4. Эйдетический опыт как история
«Авиньонские девицы» Пикассо, к примеру, далеки от вопло-
щения соразмерности, но это тоже символически насыщенное
искусство, за которым стоит новый опыт, новый язык, который
не стал классическим вследствие чисто художественных при-
чин, таких как чрезмерный отказ от естественной наглядности
человеческого образа или конфликт со структурами обыденно-
го восприятия.
Может ли вчерашнее модернистское искусство стать клас-
сическим? Не есть ли любой модернизм просто процесс превра-
щения искусства фрондеров в искусство бюргеров? Эпистемо-
логия символизма не дает и не может дать однозначного ответа.
Блок однажды возмутился по поводу критиков, писавших, что
образ Прекрасной Дамы превратился в образ проститутки, а за-
тем эволюционировал в образ России. Блок писал, что критики
и не представляют, как сложен и мучителен для поэтического
опыта переход одного образа в другой1. Критики здесь пря-
мо-таки олицетворяют стремление концептуализма строить
схемы, системы, выстраивать закономерные причинно-след-
ственные цепи, подчинять символы идеям и т. д. На самом деле
диалектика классического и неклассического в философии или
искусстве никогда не выводит на простые исторические схе-
мы. Напротив с позиций символизма «неклассические» пери-
оды — это время надрывной новизны, конфликта между опы-
том и языком, время неопределенности и раздробленности.
Как общество не может жить в состоянии вечной революции,
так и символические формы, вероятно, могут нормально суще-
ствовать лишь при наличии классики. Если обратиться к совре-
менному искусствоведению, то исследования показывают, что
в модернистской живописи некоторые направления возникали
как радикально неклассические, но затем постепенно превра-
щались в «остывший материал» и попадали на стены классиче-
ских музеев.
1 «До сих пор я встречаюсь иногда с рассуждениями о “превращении”
образа Прекрасной Дамы в образы следующих моих книг: Незнаком-
ки, Снежной Маски, России и т. д. Как будто превращение одного обра-
за в другой есть дело простое и естественное! И главное, как будто бы
сущность, обладающая самостоятельным бытием, может превратиться
в призрак, в образ, в идею, в мечту!» (Блок А. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 1. М.,
1960. С. 560).
4.1. Природа классического
373
Классика воплощает в себе представление о гармоничной
природе эйдоса; поэтому она воспринимается статично, как
нечто завершенное в себе. Изменения в такой сфере носят эпо-
хальный характер и случаются нечасто. Только в аспекте интер-
претации классика оказывается динамической, порождая новые
символы. Однако при этом интерпретация теряется в собствен-
ной наглядности и замыкается на собственной исключительно-
сти, что несколько умаляет ее масштаб по сравнению с исход-
ными образцами. Классическая проблема древнего и нового
, всегда будет решаться в сторону древних, поскольку новое еще
не «апробировано» перед лицом множества возможных вариа-
ццц опыта и эйдетических запросов. Классика представляет со-
бой общий строй символов — но это не система. Классика — сим-
волическое, а не логическое образование; поэтому классика — это
не объект теории, а предмет следования в опыте. Классика тре-
бует символической наглядности в репрезентации и конкретна
для непосредственного воспроизведения через возвышенный
опыт. К тому же классика творит свой собственный эйдетиче-
ский мир, который управляется принципом совершенства фор-
мы, а не объективности, истинности, доказательности. Как пра-
вило, классика узнаваема и довольно строго очерчена, но при
попытке теоретического определения ее облик становится ус-
ловным, даже размытым. К примеру, место Рафаэля в истории
живописи, его школа, стиль, сюжетные мотивы классифициро-
ваны и изучены; однако при ответе на вопрос: «Что он хочет ска-
зать своими полотнами?» — четкость неизбежно теряется, а на
первый план выходят собственно символические, эйдетические
трактовки. Именно поэтому вечно застывшее и «давно всем из-
вестное» классическое произведение многопланово для эйдети-
ческой интерпретации: каждое поколение может найти что-то
свое и поставить собственные вопросы, которые приведут к рас-
крытию не явленных прежде новых смыслов и прочтений.
Классические произведения не самодостаточны, хотя ка-
ждое из них индивидуально. При кажущейся незыблемости
любая классика возникла как интерпретация и антитеза; она не-
избежно станет и предметом новых интерпретаций. Самодоста-
точность и подлинность классического произведения тем самым
есть крайне трудноуловимая точка раскрытия его эйдетического
смысла, котораяможет бытълокалъна, аможет парадоксальным
374 Глава 4. Эйдетический опыт как история
образом растянуться на целые эпохи. В любом случае ни одно
классическое произведение не обходится без своего места в тра-
диции. Именно к традиции, а не к мистическим глубинам бытия
следует относить классику1. В современной философии произ-
ведение связывается с неким культурным пространством, кото-
рое существенно важно для понимания именно символической
функции. Как пишет В. В. Савчук: «Картина мира, открываю-
щаяся с помощью топологической рефлексии, вбирает опыт ху-
дожественного взгляда, а по ряду существенных характеристик
совпадает с целостной картиной мира человека архаического
периода... Это же наследует топологическая рефлексия, включая
основание мысли в саму мысль; она — рефлексия из определен-
ного места и времени, приоритетом имеющая контекст мысли
и чувства в их неразложимости на составляющие элементы, реф-
лексия, помещающая тело в дело мысли и сферу заботы»2. Тем
самым идеалистическая трактовка классики, согласно которой
любое произведение обращено к своему понятию и бытию, при-
обретая, таким образом, вечную и неизменную сущность, уже не
может объяснить символические процессы. Такие привычные
для классики предикаты, как «вечность», «незыблемость», «об-
щечеловеческое значение», «глубинное прозрение», «шедевр»
и т. п., на мой взгляд, больше не имеют всеобщего характера. Да,
эпоха — это огромное историческое и культурное пространство,
несоизмеримое с деятельностью человека и целого поколения,
но, исходя из накопленного на Западе опыта культурного плю-
рализма, было бы здраво не искать универсальные основания,
а допустить плюрализм классических парадигм.
1 Здесь я сужу совершенно иначе, чем Бердяев: «Конечно, Данте и Гёте
были символистами. Конечно, символизм можно вскрыть в самом су-
ществе всякого подлинного, большого искусства, в самой природе
творческого акта, рождающего ценность красоты. В искусстве творится
не новое бытие, а лишь знаки нового бытия, символы его... Символизм
указует на вечную трагедию человеческого творчества, на расстояние,
отделяющее художественное творчество от последней реальности су-
щего. Символ есть мост, переброшенный от творческого акта к сокро-
венной, последней реальности» (Бердяев Н. А. Философия свободы.
Смысл творчества. М., 1989. С. 449). Трудно доказать, что символиче-
ская реальность — последняя и сокровенная; на мой взгляд, это скорее
вопрос веры.
2 Савчук В. В. Топологическая рефлексия. М., 2012. С. 166-167.
4.1. Природа классического 375
Затеявшие «спор о древних и новых» французы зачастую до-
вольно скептически относились к классике, пытаясь вскрыть нега-
тивные последствия ее влияния на культуру. Они также спекулиро-
вали на том, что в качестве символических личностей фигурируют
люди недостойные и порочные. Ларошфуко пишет: «Сколько нес-
носных философов создал Диоген, краснобаев — Цицерон, стоящих
в сторонке бездельников — Помпоний Аттик, кровожадных мстите-
лей — Марий и Сулла, чревоугодников — Лукулл, развратников —
Алкивиад и Антоний, упрямцев — Катон!»1 Хотя мнение великого
скептика ангажировано, Ларошфуко верно отмечает, что цитирова-
ние и повторение классики достаточно быстро становится общим ме-
стом. В любой традиции, где возникает классика, заложен социаль-
но-психологическиймеханизмстремленияее«опрокинуть»;причем
направлен он не столько против гениев, сколько против эпигонов.
Радикальным вариантом является сознательное варварское уничто-
жение великого творения ради того, чтобы войти в историю, как
это было с Геростратом. Другая подобная личность — Зоил, о кото-
ром Буало пишет: «Совсем иначе обстоит дело с Зоилом, человеком
весьма желчным и до крайности самовлюбленным, ибо, насколько
можно судить по нескольким фрагментам из его критических сочи-
нений, которые дошли до нас, и по тому, что сообщают о нем древ-
ние авторы, он вознамерился опорочить творения Гомера и Плато-
на, ставя того и другого ниже самых заурядных писателей»2.
Таким образом, стремление тиражировать классику, под-
ражать ей, даже уничтожать ее — это формы нелегитимного, но
достаточно эффективного превращения в заметную личность.
Это может быть чрезвычайно полезное и значимое для куль-
туры академическое подражание, которое приводит к упоря-
дочиванию, комментированию классики, и становится формой
ее сохранения для потомков. Здесь следует особенно отметить
Цицерона, который, будучи великим собирателем и коммента-
тором, возвысил свои труды до основы классического образова-
ния. В этом же ряду следует упомянуть ренессансных мыслите-
лей, которые буквально извлекли из пыли античные проблемы
и тексты, а также труды историков философии последних двух
’ Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. М„ 1993. С. 212.
2 Буало Н. Критические размышления о некоторых местах из сочинений
ритора Лонгина // Спор о древних и новых. М., 1985. С. 289.
376
Глава 4. Эйдетический опыт как история
веков. Однако, в приведенных цитатах Ларошфуко и Буало име-
ется в виду умышленный плагиат, «грязные» методы прослав-
ления своего имени, и вообще — мертвенный застой подража-
тельного классицизма. Теория возвышенного опыта успешно
решает проблему появления в исторической памяти геростратов
и зоилов. Поскольку главной характеристикой эйдетического
опыта является возвышенность, то его противоположность —
низменность — также вызывает определенный интерес и может
обрести классические примеры. Герострат и Зоил желали, что-
бы их не забыли. Их желание сбылось, но важно, как именно
их вспоминают, — а это, прежде всего, символическое воспоми-
нание. Они становятся классическими примерами низменного,
которые также необходимы в традиции. Нечто подобное может
быть и проблемой футуризма, равно как и постмодернистского
искусства вообще — желание ниспровергнуть классические об-
разцы, которое нарочито позиционируется, становится симво-
лически более активным, нежели положительное содержание
самих произведений. На мой взгляд, классика, хотя и выступает
формой преемственности и интерпретации, всегда настолько
возвышенна, что не опускается до самоопределения через кри-
тику и деконструкцию. Классика творится как эйдетический
мир — положительный, прекрасный и завершенный в себе. Поэ-
тому эссенциализм в отношении классики представляется наибо-
лее удачным подходом.
Поскольку символическое имеет в своем основании эйдосы
и возвышенные формы опыта, то классическое свободно в отно-
шении таких концептуальных ограничений, как правдоподобие,
реалистичность, фигуративность и т. п. В эйдетической сфере
так называемое маргинальное не признается недопустимым,
если оно имеет под собой убедительную эйдетическую основу.
Так как для символа существует собственная форма простран-
ства и времени, то, к примеру, драма Шекспира с современны-
ми ему проблемами и страстями вполне может быть отнесена
к символическому месту и времени. Петербург Достоевского
и Блока — это, вне всякого сомнения, символический топос, при
отображении которого переживание героя значит несравненно
больше, нежели географические и исторические реалии. В ис-
кусстве рококо также творится особый мир, где небеса вечно
сини, люди нарядны, где все исполнено праздной гармонии,
4.1. Природа классического
377
красоты и веселья. И хотя было много критиков и резонеров,
упрекавших этот стиль в легкомыслии и фальшивости, именно
такое пространство и время наиболее уместно для эйдетического
опыта таких мастеров, как Фонтенель, Ватто, Буше, Фрагонар.
Живопись Кандинского или Клее практически полностью поры-
вает с фигуративностью, но этот язык тем не менее оказывается
равноценным классическому языку, поскольку опыт реализует-
ся в совершенной эйдетической форме. Нет никакого скрытого
релятивизма в том, что предикат «классическое» приписывается
совершенно разным произведениям и стилям (порой долгое вре-
мя считавшимся неклассическими). В рамках символического
поля классической традиции на первый план выходит совершен-
ная гармония символа и эйдоса, которая индивидуальна в своей
зависимости как от опыта, так и от языка.
При этом к классическим определениям, пусть и в гораздо
меньшей степени, приложимы такие критерии, как строгость,
четкость, наглядность, конкретность и т. д. Такое символическое
наименование, как «Ренессанс», охватывает целый «символиче-
ский мир» и потому выступает не более чем абстрактной фор-
мой. Тогда как «ренессансная живопись» — это уже нечто более
конкретное, хотя сама по себе она тоже огромный и труднообо-
зримый мир. Поэтому относить классическое качество к целой
эпохе и всей традиции всегда именно лингвистически проблема-
тично. Такие обобщающие конструкции необходимы как некое
символическое родовое имя, к которому можно отнести те или
иные символические порядки. Но само по себе это родовое имя
никогда не бывает простым и определенным. Удаляясь от актов
возвышенного опыта и конкретных эйдетических форм, человек
доходит до пределов своих возможностей и не может пойти да-
лее. Поэтому «античность», «ренессанс», «модерн» — это грань
горизонта нашего опыта, предельно общие символические имена,
во всей своей целостности, не постижимые, пожалуй, никем.
В классике главную роль играют шедевры, которые, если
взять практику культуры, сознательно тиражируются, разбира-
ются до азов, становятся пропедевтической основой. Таков удел
любой классики: проблема соотношения репродукции и ориги-
нала возникла еще в Риме при копировании греческих статуй.
На мой взгляд, тиражирование классики совершенно не затра-
гивает основ традиции, пока оригинал способен пробуждать
378
Глава 4. Эйдетический опыт как история
живой и содержательный эйдетический опыт. При этом не
важно, что это — Аполлон Бельведерский, воспринимаемый со-
временниками автора этой статуи, или тот же Аполлон, но сто-
ящий в Павловске среди северного леса. При вымирании опыта
формы репродуцирования сразу начинают казаться подража-
тельными, нарочитыми, сухими — в такие эпохи плодотворно
не удержание классики, а ее сознательное опрокидывание. Так
или иначе, с разной степенью благородства и кощунства, новый
опыт творит собственное символическое оформление с призна-
ками футуризма. При этом формы возвращения к классике мо-
гут выступить оригинальной интерпретацией, вдохнуть новую
жизнь в классические образцы, гармонизировать классическую
форму и запросы настоящего. К примеру, именно по этой при-
чине ведущие зодчие начала XX в. обратились от динамичного,
яркого, многообразного модерна к сдержанному, исторически
ориентированному неоклассицизму. Мастера вроде И. А. Фоми-
на, В. А. Щуко и А. Е. Белогруда видели в классической основе
именно эйдетическую форму, которая образно передавалась че-
рез серый однотонный фасад, сдержанный классицистический
декор, мощные и монументальные объемы здания банка или
доходного дома. Но важно то, что, при всех спорах и пристра-
стиях, классическое — это и форма интерпретации, а не нечто
раз и навсегда незыблемое. Поэтому и неклассические формы
готики, арабского зодчества, модерна, конструктивизма также
несут в себе классическую составляющую, которая убедительна
вследствие наглядности иного стандарта эйдетического совер-
шенства. Гёте считает готику великой и самобытной классикой,
Шлегелю же этот стиль кажется варварством. Подобные оценки
обусловлены, прежде всего, разными предпочтениями в выборе
символического языка (возвышенный опыт у этих авторов был
схожим — романтическим). При определении природы класси-
ческого никогда не следует упускать из виду, что именно счита-
ется таковым.
Классика выступает не только формой эйдетического со-
вершенства, но и одной из базовых составляющих традиции.
Когда отмечается традиционность классики, обращают вни-
мание на такие факторы, как авторитет, общепризнанность,
официальное покровительство властей. Классика также ассо-
циируется с академическим образом, выступая основой симво-
4.1. Природа классического
379
лического просвещения, наглядной формой выражения идео-
логии. К примеру, возникшая в романтизме теория народности
искусства была реализована в великих произведениях. Но как
форма классического для традиции она умышленно «типизи-
руется», приобретает усредненное, хотя и убедительное сим-
волическое воздействие. Можно привести в качестве примера
нарочитую народность русской литературы, доведенную до
медальных образов и прописных истин учебников. Добавим,
что в этот же период по всей Европе устанавливают памятни-
ки литераторам, собирателям фольклора; при этом тщательно
прорабатывается скульптурный образ духовного лидера. Также
можно отметить активное использование в архитектуре «народ-
ных» форм зодчества, появление в модерне и неоклассицизме
скульптурных и мозаичных сюжетов на тему «народной жизни»
с образами тружеников: крестьян, рабочих, многодетных мате-
рей и т. д. Тем самым обеспечивается усредненный уровень клас-
сики, который совершенно необходим, — иначе она осталась бы
навсегда уделом кружков творческой и интеллектуальной эли-
ты. Бесспорно, что Пушкин как гениальный поэт и Пушкин как
персонаж гимназического учебника — это совершенно разные
личности. Но гораздо важнее понять символическую необходи-
мость пропедевтических и идеологических форм классики. Прав-
да, такая форма классики может как просветить, так и отвратить
человека от возвышенного символизма. Предположу лишь, что
никакие массовые и типовые формы символизма не могут сму-
тить творческую личность, опыт которой подлинно возвышен.
Но для миллионов людей, не достигших такого уровня разви-
тия, для традиции в целом такие формы необходимы.
Английские эмпирики в своих эстетических воззрениях
обращали особое внимание не столько на саму классику, сколь-
ко на то, почему нечто считается классическим. Локк полагает,
что на первый план всегда выходят традиционные факторы:
человек приходит в мир, в котором уже сформированы опреде-
ленные представления, существует набор классических форм.
Не меньшую роль играет авторитет родителей, наставников,
высшего света. Правда, Локк совершенно не делает различий
между заблуждениями и полезными установлениями относи-
тельно механизмов их принятия и распространения: в обоих
случаях на первый план выходят привычка, традиционность,
380
Глава 4. Эйдетический опыт как история
авторитет1. Другой эмпирик, Юм, связывая всеобщность сим-
волических форм с социально-психологическими факторами,
пишет: «Человек, который входит в театр, сразу же бывает по-
ражен видом громадной толпы, участвующей в одном общем
развлечении, и благодаря уже одному этому виду обнаружива-
ет повышенную чувствительность или склонность откликаться
на каждое чувствование, которое он разделяет со своими ближ-
ними»2. Тем самым классика может трактоваться не как нечто
возвышенное, а как нечто «общепринятое». Трудно оспорить
правоту Локка и Юма в значимости конвенционализма и со-
циальных воздействий. Однако в приведенном высказывании
налицо абсолютизация таких факторов, придание им всеобще-
го характера, стремление обосновать их, исходя из социологи-
ческого принципа. На мой взгляд, в символизме традиционные
факторы играют определяющую, но не исключительную роль.
В Спарте, к примеру, пришлось особо тщательно прорабатывать
именно законы против проникновения извне всяческих нов-
шеств. Такое общество, с безусловным авторитетом и поддер-
живаемой неизменной традицией, вполне соответствует тому,
что Юм пишет о людях в театре. Однако символический тота-
литаризм — это несбыточная мечта: символические трансфор-
мации неизбежны, даже если их искусственно сдерживать. Хотя
человек в театре «заражается» общим умонастроением, такой
психологический механизм можно отнести лишь к обыденному
опыту; в своем возвышенном опыте человек в театре — инди-
видуальность, подчас с уникальным собственным восприятием.
Великая театральная постановка тем и отличается от низко-
пробного зрелища, что она объединяет людей в возвышенных
образах и переживаниях, побуждает думать и чувствовать че-
ловека как индивидуальность, а не как человека толпы. Более
поздний, уже романтически настроенный эмпирик Кольридж,
1 «Трудное дело — убедить кого-нибудь в том, что слова, которые упо-
треблял его отец, школьный учитель, приходский священник или другой
такой же почтенный наставник, не обозначают ничего реально существую-
щего в природе. В этом, быть может, не последняя причина того, что людям
так трудно отказаться от своих заблуждений, даже в чисто философских
вопросах, где их интересует лишь одно — истина» (Локк Дж. Сочинения: в
3 т. Т. 1. М„ 1985. С. 557).
2 Юм Д. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М„ 1996. С. 224.
4.1. Природа классического 381
гораздо тоньше судит о психологии восприятия классики: «Мо-
лодому человеку кажется, что великие творения прошлого соз-
даны людьми какой-то иной, неизвестной расы и что ему оста-
ется лишь покорно и смиренно взирать на них, как на горы или
звезды. Но сочинения современника, который, быть может,
лишь немногим старше и взращен в тех же условиях и правилах,
носят черты реальности, они вызывают чувство, которое можно
было бы сравнить с чувством настоящей дружбы к живому су-
ществу»1. Символический авторитет, отнесение символов к ве-
дцким легендарным личностям — это характерная особенность
многих традиций, особенно развитая у древних греков. Однако,
в случае великого таланта, творения новых возвышенных сим-
волов, такой автор приобретает символическое значение, ко-
торое пусть и менее величественно, чем у классиков прошлого,
но выражает актуальные устремления и запросы современного
эйдетического опыта. Хотя великий современник понятен не
всем (порой — совсем немногим), именно такая личность ста-
новится выразителем символической жизни эпохи, поскольку
здесь возвышенный опыт проявляется в наиболее адекватных
формах. Так называемым духовным лидером оказывается та-
кая личность, которая наиболее полно, совершенно и возвышенно
переводит в символы эйдетический опыт. Многим кажется, что
слава, идеология, авторитет выдвигают и поддерживают вели-
кую личность, но эти факторы все-таки вторичны (хотя и суще-
ственны). Как справедливо заметил Гораций,
Оставим же хвалы, ненужные поэту2.
В духовной жизни общества далеко не всегда присутствует
гармонический баланс между символическими ролями лично-
сти и традиции, между старым и новым. Как считает Макинтайр,
в каждой традиции возникают свои символические трансформа-
ции, связанные исключительно с локальной «рациональностью».
«Каждая традиция на каждой стадии своего развития может
выдвигать рациональное оправдание своих центральных тези-
сов в своих собственных терминах... Но не существует набора
1 Кольридж С. Т. Избранные труды. М., 1987. С. 43.
2 Пер. А. А. Блока.
382
Глава 4. Эйдетический опыт как история
независимых стандартов рационального оправдания, апеллируя
к которым могут быть разрешены споры между конкурирующи-
ми традициями»1, — пишет он. Я полагаю, что традиция создает
собственные обоснования не в «терминах» и не в сфере рацио-
нальности, как полагает Макинтайр, а в символических фор-
мах. Однако, если оставить это разногласие, Макинтайр верно
отмечает, что нет такой символической позиции, которая была
бы свободна от традиционной принадлежности. Любая класси-
ка склонна мнить себя абсолютной, законченной и вечной — но
это не более чем иллюзия. Классика обращена к будущему; ее
символы в момент возникновения, как правило, синкретичны
и требуют дальнейших уточнений и интерпретаций. По большо-
му счету, только спустя достаточное время, в период подведения
итогов, можно воспринимать классику как нечто очерченное, за-
вершенное в себе. Классика требует времени, дистанции, которая
измеряется не физическим, а символическим временем, то есть
мерой достижения символической завершенности и достаточной
полноты символических вариаций и интерпретаций. Поскольку
философия символизма не стремится догматически установить
какую-либо классику в качестве рационального или идеологиче-
ского образца, то она понимает классику как недостаточно четко
очерченный символический регион, который постоянно видоиз-
меняется и никогда не бывает монолитным.
Другое дело, что, при всей своей нестрогое™, классический
символизм отличается такими качествами, как целостность
и подобие различных символических порядков и языков. Поэ-
тому подлинно классическая эпоха вырабатывает единые сим-
волические каноны для всех культурных форм. В искусстве, как
наиболее образно наглядном типе символизма, это проявляется
в наличии единой тематики, единого общего стиля, определен-
ной подчиненности самых великих и талантливых образцов при-
нятым канонам. К примеру, живопись, архитектура и литерату-
ра Ренессанса представляют собой определенную целостность,
пронизаны общими темами, интересами, манерами, сюжетами;
поэтому мы видим не просто конгломерат гениальных индиви-
дуальностей, но и нечто общее, причем присущее только этой
1 Macintyre A. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, Indiana, 1988.
P. 351.
4.1. Природа классического
383
традиции. В книге «Старый Петербург» Г. Лукомский отмечает
удивительную цельность и соразмерность всех элементов ста-
ринных зданий столицы, которые особенно интересны в своей
совокупности, формируя неповторимый «строгий и стройный»
вид города1.
Нельзя не признать обоснованными сетования Макин-
тайра, который не видит такой целостности в современной
культуре: «Дело не просто в том, что мы живем согласно раз-
нообразным и многочисленным фрагментированным концеп-
циям; дело в том, что они используются в одно и то же время
для выражения конкурирующих и несовместимых социальных
идей и политик и наполняют нас плюралистской политической
риторикой, функция которой состоит в сокрытии глубины на-
ших конфликтов»2. Крайне трудно давать философские оценки
нашей эпохе, хотя такое искушение преследует многих мысли-
телей. Возможно, наша символическая традиция и в самом деле
не нуждается в наличии «большого стиля» или просто устала
от него. Комментируя суждение Макинтайра, я могу провести
лишь аналогию с относительно схожими периодами многости-
лья и символической многоплановости, а именно с поздним
Римом и эпохой Просвещения. Такие времена отличаются чрез-
вычайной символической насыщенностью и плодовитостью. Но
из-под этого космополитического разнообразия отчетливо про-
глядывают творческая немощь, отсутствие меры, релятивизм,
эклектичность и прочие особенности. Я не буду дидактически
объявлять все подобные эпохи упадочными, — напротив, они
полны реальными достижениями. Так, Рим распространил эл-
линское искусство по всему обитаемому (по тогдашним пред-
ставлениям) миру; эпоха Просвещения резко расширила образо-
ванное сословие, сделала культурную жизнь уделом народа, а не
ограниченной прослойки. И Рим, и абсолютистская Франция
приложили колоссальные усилия для насаждения разных форм
символизма. В нашей стране период Просвещения был симво-
лическим ренессансом: ведь именно тогда возникли универси-
теты, музец, театры, построен Петербург, появились русские
ученые, писатели, художники. Тем самым, если «фрагменти-
1 См.: Лукомский Г. К. Старый Петербург. СПб., 2002.
2 Макинтайр А. После добродетели. М„ 2000. С. 342.
384
Глава 4. Эйдетический опыт как история
рованность» символического дискурса представляет проблему,
это вовсе не свидетельствует, что такой период символически
пуст или, тем более, «несостоятелен» по сравнению с периодами
символической целостности и господства больших стилей. Есть
определенная логика символических трансформаций, соглас-
но которой в Европе уже в третий раз возникает напряженный
символический плюрализм, а символические порядки стремят-
ся к самоизоляции. Равно как есть определенная логика в том,
что Европа не в первый раз переживает эпоху культурного упад-
ка. В любом периоде истории присутствует своя эйдетическая
необходимость. Здесь мне кажется мудрой позиция Цицерона,
который, с присущим ему тактом и мерой осознал, что суть его
времени — быть эпохой составления великого классического
свода всей античной культуры.
Для полноты теоретической картины я хотел бы «дать сло-
во» и убежденному стороннику символического плюрализма,
каким был Р. Рорти: «Деррида отказывается от этого не пото-
му, что он “иррационален” или “потерялся в фантазиях” или не
в состоянии понять, о чем ведут речь Остин и Сёрл, а потому,
что он пытается создать себя, создавая свою собственную язы-
ковую игру, не хочет родить еще одного ребенка от Сократа,
быть еще одним примечанием к Платону. Он пытается вести
такую игру, которая бы перечеркнула различение между рацио-
нальным и иррациональным. Но как профессор философии, он
беспокоится о том, как справиться с этой ситуацией»1. Рорти
конструирует образ Деррида именно как символической лично-
сти — выразителя строя мыслей нашего времени. Таким выра-
зителем, по Рорти, выступает мыслитель, который оформляет
разрозненную множественность современного эйдетического
опыта в форме радикально релятивистской философии. Дерри-
да приобретает символический облик убежденного диссидента,
человека без всяких классических корней, совершенно не огля-
дывающегося на классику, творящего свой частный проект2.
1 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М„ 1996. С. 174.
2 «Гёте, Кьеркегор, Сантаяна, Уильям Джеймс, Дьюи, поздний Витген-
штейн и поздний Хайдеггер являются фигурами такого сорта. Они часто
обвиняются в релятивизме и цинизме. Они часто сомневаются в прогрессе,
и особенно относительно самых последних заявлений о том, что такая-то
и такая-то дисциплина наконец-то сделала природу человеческого позна-
4.1. Природа классического 385
Вместе с тем есть очень тонкая грань между «реляти-
визмом» как характерной особенностью постмодернистского
символизма и «релятивизацией», то есть умышленным низло-
жением всех символических форм до положения частных и ло-
кальных практик. Рорти совершенно не понимает этой грани:
как Вольтер делает всех героев «Философских повестей» (не-
зависимо от места и времени) похожими на современных ему
французов, так и Рорти изображает всех философов и художни-
ков релятивистами. Он пишет: «Никто вполне не уверен, явля-
ются ли вопросы, обсуждаемые современными профессорами
философии (любых школ), “необходимыми” вопросами или же
случайными построениями»1. Такое предположение, возможно,
уместно для времени Рорти, но его никак нельзя экстраполиро-
вать на эпохи платоновской Академии, немецкой классической
философии или Венского кружка. Философы этих периодов
просто не поняли бы Рорти, поскольку у них было совершен-
но иное понимание предмета философии. Таким образом, идеи
Рорти и релятивистов демонстрируют неспособность (и неже-
лание) теоретически осмыслить наличие совершенно иных сим-
волических диспозиций, и тем более попытаться посмотреть на
вещи со стороны этих диспозиций. В наше время часто задаются
вопросом: почему постмодернизм исчерпал себя? Одной из глав-
ных причин этого я считаю усталость традиции от культивиро-
вания разнообразия символических форм при самонадеянном
допущении собственной исключительности и презрительно-по-
требительском отношении к классическим формам прошлых
эпох. Поэтому не случайно и то, что постмодернизм сменяется
именно очередным неоклассицизмом, в основе которого лежит
поворот от языка к опыту.
Однако следует избегать излишнего внимания к полемике
вокруг проблемы постмодерна. Как я не раз отмечал, каждый
символический порядок неотделим от идеи собственной инди-
ния столь ясной, что разум теперь распространится на всю человеческую
деятельность... Они высмеивают классическую картину человека, картину,
которая содержит систематическую философию, поиск универсальной со-
измеримости в окончательном словаре» (Рорти Р. Философия и Зеркало
Природы. Новосибирск, 1997. С. 272).
1 Рорти Р. Историография философии: четыре жанра // Рассел Б. Исто-
рия Западной философии. Т. 2. Новосибирск, 1994. С. 316.
386
Глава 4. Эйдетический опыт как история
видуальности, и он не может ни стать всеобщим порядком, ни
вершить суд над иными порядками. Всегда существует различие
между интерпретацией как приспособлением и радикальным
переописанием как умышленным уничтожением. Символиче-
ское переописание не есть пример реализации собственной ис-
ключительности. Нормальной символической историей являет-
ся только история возвышенных символов и традиций, которые
различны, но равноправны.
Признаком классической эпохи выступает то, что ее симво-
лы несут в себе истину о человеке и мире, истории и жизни, по-
знании и творчестве. На мой взгляд, разные классические миры
наиболее способны объединяться вокруг эйдоса человечности.
Классика плюралистична, но это лишь обогащает эйдетический
опыт, придавая ему разнообразие и новые формы. Классика
преходит, но она и хранится, возрождается в новых обличьях.
Всегда будет актуальным вопрос Байрона из «Паломничества
Чайльд-Гарольда»: куда ушла великая Эллада, что от нее оста-
лось? На этот вопрос романтиков, который не перестает волно-
вать и нас, нельзя дать простого и однозначного ответа. Ведь
в символических трансформациях нет ни детерминизма, ни ли-
нейности, ни даже явственной закономерности. Относительно
классических символических миров нельзя вывести с необхо-
димостью закон, согласно которому в один период они будут
актуальны для возвышенного опыта, а в другой период опыт
останется к ним безучастен.
4.2. Границы воображаемого
Приступая к этому разделу, я хотел бы сразу оговорить его
предмет. Речь пойдет не о воображении вообще, а только о вооб-
ражении применительно к творению и пониманию символов. При
этом я не пытаюсь ни проследить логику воображения, ни от-
граничивать его от других человеческих способностей. Само по
себе воображение я беру в достаточно обыденном смысле сло-
ва — как способность создавать образы, сюжеты, представления
исключительно в сфере вымысла и фантазии.
Классическая философия изучала воображение преиму-
щественно в эстетическом смысле и относила его к конкрет-
но-чувственной деятельности сознания. Платон полагает,
что философия вообще не имеет ничего общего с воображе-
нием, поскольку она ничего не измышляет. Воображение —
это удел риторов, комедиографов и вообще людей, которые
потакают распущенности страстей. Тем самым Платон задает
классические рамки воображению, отграничивая его от мета-
физики и скептически оценивая его роль в искусстве, где оно
якобы отдаляет нас от таких качеств, как «простота» и «ис-
тинность». Лишь в простых формах мусического искусства,
славящих богов и великих людей, нет ничего недопустимо-
го1. Как видим, воображаемое для Платона — это не просто
фантастическое, но и измышленное, раскрепощающее чув-
1 «Там пестрота порождает разнузданность, здесь же - болезнь. А про-
стота в мусическом искусстве дает уравновешенность души, в области же
гимнастики — здоровье тела» (Платон. Государство. 404е).
388
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ственность, вводящее в заблуждение и опасное для религии
и государства. Эти причины побуждают философа вступить
в конфликт с поэзией и театральным искусством, практиче-
ски изгнав их из своего идеального государства. Платон пи-
шет: «Это напоминание пусть послужит нам оправданием пе-
ред поэзией за то, что мы выслали ее из нашего государства,
поскольку она такова. Ведь нас побудило к этому разумное
основание. А чтобы она не винила нас в жестокости и неоте-
санности, мы добавим еще, что искони наблюдался какой-то
разлад между философией и поэзией... Нельзя считать, буд-
то такая поэзия серьезна и касается истины. Слушающему ее
надо остерегаться, опасаясь за свое внутреннее устройство,
и придерживаться того, что нами было сказано о поэзии»1.
Можно повторить первоначальный вывод, который послу-
жит переходом к теории воображения символизма: Платон
отказывает воображению в рациональном статусе, отказыва-
ет искусствам в притязании на истину и относит воображе-
ние к сфере чувственности.
Начиная с эпохи романтизма, мы существуем в парадигме
философии, в которой искусство (и особенно поэзия) как фор-
мы познания несут в себе истину о бытии и мышлении. Вплоть
до Шеллинга искусство понималось как чисто художественная
деятельность, которая, как правило, подчинялась той или иной
внешней цели: наставлять, услаждать, окружать красивыми ве-
щами, украшать, быть формой престижа, служить религиозной
цели, прославлять власть, воспевать богов. Порой искусство
просто изображало природную и социальную действительность
на том или ином художественном языке, не ставя перед собой
никаких «познавательных» целей и задач. Таким образом, ис-
кусство в классические эпохи трактуется как свободная художе-
ственная деятельность, но с четко осознанной целью. Положе-
ние искусства также достаточно переменчиво: то оно процветает
и художники знамениты, то художник низведен до уровня ре-
месленника. При этом если воображение в искусстве все-таки
находило возможности применения, то оно тут же подвергалось
цензуре (а порой и самоцензуре) со стороны религии, филосо-
фии и просто идеологических установлений.
1 Платон. Государство. 607Ь-608а.
4.2. Границы воображаемого
389
С позиций строгого логического рассудка практически все
содержание искусства носит неправдоподобный и фантастиче-
ский характер, а поэзия крайне несостоятельна в своих притя-
заниях на всеобщность. Художник представляет собой не более
чем частное лицо, высказывающееся исключительно субъек-
тивно; а такая форма духовного выражения нуждается в руко-
водстве со стороны духовной и светской власти, в незыблемом
авторитете нравственности, в подчинении метафизическим
и эстетическим принципам. Поэтому мне представляются глу-
, боко несостоятельными спекуляции тех философов, которые
воспринимают искусство как спонтанную и свободную деятель-
ность. Я склонен доказывать скорее противоположное: любая
деятельность по созданию символов только по видимости яв-
ляется формой свободного воображения. На самом деле генезис
символа в основном строго обусловлен характером опыта, а так-
же эйдетическим представлением.
Далеко не любая форма воображения значима для сим-
волизма. Искусство дает тому наглядные подтверждения.
Развлекательные формы искусства не несут в себе никаких
символических целей и в лучшем случае могут выступать ху-
дожественным фоном для так называемого высокого искус-
ства. Также весьма затруднительно отнести к символически
значимому такую сторону искусства, как изящество. Подоб-
ное искусство, как правило, отличается избытком фантазии,
намеренным созданием такого мира, созерцание которого
будет услаждать чувства, пробуждать приятные эмоции, ра-
довать глаз, ласкать слух и т. д. Также крайне сомнительно
символическое призвание таких форм искусства, которые
имеют декоративную или прикладную цель. Тем самым
прорисовывается определенное трансцендентальное огра-
ничение символического в искусстве сферой уникальных,
авторских, совершенных, возвышенных образцов. При этом
символическая функция не должна быть отнесена к чему-то
внешнему — она присутствует в самом произведении, чаще
всего в образной, метафорической, аллегорической или лю-
бой другой неартикулированной форме. Конечно, есть тра-
диции и направления, в которых символическая функция
неотделима от восприятия произведения (например, сред-
невековая книжная миниатюра). Однако, как правило, сим-
390
Глава 4. Эйдетический опыт как история
волизм не сводится к символике, что особенно затрудняет
его понимание. Можно констатировать, что символизм при-
сутствует в большинстве великих художественных произве-
дений, но присутствует в неявленной, неартикулированной
форме. Поэтому эйдетические категории в приложении к ис-
кусству носят трудноуловимый характер, и в этих категориях
несомненна только их безусловная возвышенность, выража-
ющаяся как совершенная красота, гармония, соразмерность,
простота, завершенность.
Воображение творит образы, представления и даже целые
картины, но они носят эйдетический характер. Поэтому мож-
но эпистемологически ввести категорию возвышенного вообра-
жения, под которым понимается форма возвышенного опыта,
способная продуцировать эйдетические образы, не имеющие
прямой аналогии с уже существующими образами. Тем самым
возвышенное воображение, в отличие от воображения вообще,
подчинено эйдетическим целям и выражает себя исключитель-
но через символические образы.
Зададимся вопросом: почему Платон и новоевропей-
ские рационалисты так враждебны воображению? Почему
в современной науке и математической логике деятельность
воображения крайне принижена? Ответ заключается в том,
что задачей философии и науки выступает создание теории
на основании идей, фактов и законов, которые полагаются
как нечто действительно сущее. Следующий вопрос: почему
в рамках общественного сознания искусство воспринима-
ется как сфера свободного воображения? Ведь когда мы го-
ворим, что художник что-либо пишет, значение этого слова
включает в себя такой смысл, как «сочиняет». Так, в пуш-
кинскую эпоху «сочинитель» был синонимом «литератора».
Дело в том, что искусство традиционно сводится к сфере
чувственной спонтанности и его назначение видится в соз-
дании такой художественной действительности, которая
«придумана», «сочинена». Не зря в английском языке бел-
летристика именуется словом «fiction» — недвусмысленная
связь с фикциями, чем-то придуманным. Теория эпистемо-
логии символизма, предложенная здесь, носит компромисс-
ный характер. На самом деле любая форма эйдетического
выражения имеет символические цели. А «произвольная»
4.2. Границы воображаемого
391
и «совершенно свободная» деятельность художника реали-
зуется в определенной технике, относится к определенному
стилю, направлению и т. д. Таким образом, никакого чисто
индивидуалистического художественного представления не
существует — речь идет только о допустимой степени субъек-
тивного творческого самовыражения и характере языка. Мне
кажется, что возвышенное воображение — это деятельность
по продуцированию как можно большего разнообразия индиви-
дуальных эйдетических форм, стремление создать предельно
разнообразный конгломерат индивидуальных, но все-таки
в существенных чертах подобных символических образов.
Возвышенное воображение неразрывно связано с возвышен-
ным опытом и функционирует по его законам и принципам.
Поэтому следует принципиально различать возвышенное во-
ображение и фантазию.
В отличие от фантазии, возвышенное воображение пре-
следует исключительно эйдетические цели и направлено на
творение такого образа, который будет трактоваться как
символ, а не как объект чувственного представления. Если
возвышенное воображение использует вымысел и фантазию,
то лишь как вспомогательные, выразительные средства, как
правило, преследующие создание не только эйдетической, но
и образно-наглядной убедительности. Однако, в свою оче-
редь, если возвышенное изображение сбивается на дости-
жение внешнего эффекта, то возникают такие явления, как
аллегоризм, зрелищность, манерность; и в этом случае форма
полностью подавляет эйдетическое содержание, уводя вос-
приятие на путь не возвышенности, а чувственности.
В «Божественной комедии» Данте связывает художе-
ственное воображение с особым чувством, могучим порывом
души, который вдохновляется божественным светом1. Эта
точка зрения может считаться классической; и никто до Дан- * В
1 Воображенье, чей порыв могучий
Подчас таков, что, кто им увлечен,
Не слышит рядом сотни труб гремучей,
В чем твой источник, раз не в чувстве он?
Тебя рождает некий свет небесный,
Сам или высшей волей источен.
(Пер. М. Л. Лозинского).
392
Глава 4. Эйдетический опыт как история
те ее не высказывал в такой форме. Возвышенное вообра-
жение не приходит случайно — оно сродни состоянию вдох-
новения. Подлинное же вдохновение возможно лишь тогда,
когда человек преклоняется перед божественным. Тем са-
мым возвышенное вдохновение всегда обращено к абсолюту.
Данте развивает античный мифологический идеал искусства
в сторону христианского, теологического идеала. Подлин-
ное искусство может быть только высоким, возвышенным,
поскольку оно касается божественного мира, возвышает че-
ловека над грехом через созерцание чистой красоты. Теоло-
гический фундамент придает искусству миссию изображения
божественного через наглядные образы, поэтому эти образы
изначально понимаются как символические. В ренессансной
живописи и литературе символичны все образы и сюжеты.
Даже фоновый пейзаж на картинах с Мадонной, рождением
Христа, поклонением волхвов играет символическую роль:
глубина перспективы, множество разных пейзажных планов
символически указывают на всемирный характер изобража-
емого события. И если облик героев полотна отчасти спи-
сан с натуры, а отчасти вымышлен, то сам сюжет отсылает
к символическому смыслу, которому подчинено все целое.
Можно бесконечно восхищаться индивидуальной манерой
Боттичелли, Леонардо, Тициана, но все они изображают воз-
вышенную красоту, а сюжет картины всегда исполнен транс-
цендентного символизма. Причем это символизм может
быть как заимствованным из религии, так и чисто светским,
воплощая образы человека, властителя, политика, изобра-
жая то или иное моральное качество; может, наконец, ока-
заться простой, незатейливой бытовой зарисовкой. И даже
если на полотнах появляются уродство, несчастья, смерть,
то подобные феномены также изображаются в возвышен-
ной манере, в определенной эйдетической форме. Демоны,
старческие фигуры, сцены избиения младенцев, усекновения
главы Иоанна Крестителя и прочие жестокие библейские сю-
жеты в эйдетическом изображении подчинены возвышенной
символической цели, а уродство служит цели изображения
подчеркнутой эйдетической законченности.
На вопрос, в чем заключается наибольшая оправдан-
ность возвышенного воображения, можно дать не один ответ.
4.2. Границы воображаемого
393
Я считаю, что воображение творит разнообразие, множество
вариаций символических форм, которые в эйдетическом от-
ношении достаточно схожи. Воображение создает именно
множественность образов, каждый из которых оказывается
индивидуальным. Благодаря воображению художник не до-
вольствуется только наблюдаемым миром, так называемой
натурой, но может создать собственный мир. Хотя древнее
искусство выглядит каноничным и небогатым на разнообра-
зие форм по сравнению с ренессансным или современным
искусством, в нем также присутствует авторская индивиду-
альность, заключенная в том числе и в свободе воображения.
Не так много классических образов Афродиты, Аполлона,
Юпитера, но они все же не подобны друг другу и несут на себе
печать творческой индивидуальности. В эпоху Ренессанса,
хотя символическая цель по-прежнему доминирует в любом
виде искусств, наблюдается раскрепощение творческой ин-
дивидуальности, которая приводит к тому, что в пределах
классического или церковного канона становится возможна
свободная фантазия. Это делает многочисленных Мадонн не
похожими друг на друга, причем, если крупный мастер пишет
несколько Мадонн, каждая из них все равно индивидуальна.
Таким образом, в высоком классическом искусстве при род-
ственности языка, сюжета, канона наблюдается стремление
к индивидуальности выражения, к индивидуальности мане-
ры; при этом достигается высокий вкус и тонкая мера между
требованиями канона и уникальностью изображаемого. Во-
ображение тем самым позволяет взглянуть на эйдос с разных
сторон, и каждый такой взгляд обогащает представление,
оставаясь вместе с тем независимым от других взглядов. По-
этому возвышенный опыт — это главное эпистемологическое
условие возвышенного воображения. Из наличия возвышен-
ного опыта еще не следует, что будут сотворены великие сим-
волы и шедевры. Но если возвышенный опыт затухает, то
затухает и воображение: на его место сразу приходит подра-
жание, манерность, стремление к показной оригинальности,
ориентация на эмоцию, чувственность, начинает доминиро-
вать внешняя цель и т. д.
Любое воображение продуктивно и может быть реали-
зовано в форме образов. Однако чем отличается эйдетиче-
394
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ский образ от чувственно воспринимаемого? На мой взгляд,
без концепции возвышенного опыта на этот вопрос ответить
невозможно. Разумеется, я не имею в виду того, что обыч-
ная фантазия обязательно низменна, — я далек от противо-
поставления земной и небесной Венеры. Просто фантазия
вообще не покидает пределов чувственно воспринимаемой
картины мира, не апеллирует к чему-либо, кроме фабрика-
ции эмпирического представления, ярких эмоций, страстей.
И в этом отношении скорее даже отраден тот факт, что не
все должно быть возвышенным. Ведь даже в самых великих
шедеврах мы ценим такие составляющие, как необычные
сочетания красок, эмоциональный фон, эротизм, красивые
прически, пышные одеяния, второстепенные детали то есть
воспринимаем такие планы, которые совершенно косвенны
по отношению к символическому смыслу. Таким образом, во-
ображение участвует в создании символического образа лишь
тогда, когда оно, будучи свободным само по себе, подчинено эй-
детической цели. Эйдетическое представление и символизм
в существенных чертах трансцендентальны; однако способ
символического отображения эйдоса существенно зависит от
того, как он будет репрезентован. Воображение создает ва-
риацию символа, заключающуюся в индивидуальной и уни-
кальной образной и языковой форме. Эйдетический смысл
как таковой вообще не воображается — воображается образ-
но-лингвистическая картина этого эйдетического смысла.
Роль воображения при создании символа чрезвычай-
но важна, поскольку эйдетический опыт нуждается именно
в уникальном и оригинальном символическом выражении.
Поэтому воображаемый эйдетический мир на полотне клас-
сического мастера соответствует, прежде всего, уникальности
его видения, его опыта. Нам ценно, что именно Ван Гог, а не
кто-то другой так увидел звездное небо. И это небо со спира-
левидными завитками света оказывается не просто плодом
воображения, а авторским эйдетическим образом мира. Хотя
воображение творит порой абсолютную новизну и поража-
ет нас, в любом символизме оно всегда подчиняется эйдосу
как тому «оправданию», «высшему смыслу», ради которого
все вообще создается. В этом смысле возвышенное или симво-
лическое воображение всегда содержит момент собственного
4.2. Границы воображаемого
395
самоограничения, всегда стремится быть не «просто фантази-
ей», а выступать формой эйдетического представления.
Пожалуй, не в каждый век рождаются люди с таким
грандиозным воображением, каким обладал Гёте. Он даже
однажды сказал Эккерману, что при написании лирических
стихов полностью отдается стихии воображения и порыву
чувств, при этом стараясь не рассуждать и не размышлять.
Тем не менее Гёте вынашивал эстетическую идею критики
произвольного воображения. Он стремился создать «крити-
ку чувств», наподобие того, как почитаемый им Кант пред-
ложил критику разума. Гёте пишет: «Кант указал нам, что
существует критика разума и что у этого величайшего из всех
достояний, которыми владеет человечество, есть основания
недремно следить за собою. Какую огромную пользу принес
нам его голос, знает каждый по собственному опыту. А я хо-
тел бы — в этом же смысле — провозгласить задачей крити-
ку чувств, которая так необходима, если искусству вообще,
а немецкому в частности еще суждено когда-нибудь опра-
виться и бодрым шагом двинуться вперед»1. Я предлагаю
именовать маргинальным любое содержание фантазии, ко-
торое преследует исключительно создание вымысла. С точки
зрения предложенной Гёте максимы, маргинальное глубоко
враждебно подлинному искусству вследствие произвольно-
сти воображения, которое, при всей своей естественности, не
способно себя ограничить и возвыситься над собственным
содержанием. «Критическое» чувство (если так можно кате-
гориально развить Гёте) полностью возвышается над своим
содержанием и ставит его на службу символической цели.
Свобода поэтического чувства достигается не за счет произ-
вола фантазии, а за счет обретения возвышенного видения
мира2. Шеллинг судит об этом именно как философ, догова-
1 Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 588.
2 Это видение мира по своей сути рассудочно. «Французам здесь попе-
рек дороги станет рассудочность, им и в голову не придет, что фантазия
имеет свои собственные законы, которыми не может и не должен руко-
водствоваться рассудок. Если бы фантазия не создавала непостижимого
для рассудка, ей была бы грош цена. Фантазия отличает поэзию от прозы,
где может и должен хозяйничать рассудок» (Эккерман И. П. Разговоры
с Гёте в последние годы его жизни. Ереван, 1988. С. 233). Так же полага-
396
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ривая то, что оставляет невысказанным Гёте: «Всякий вымы-
сел требует какой-нибудь не зависящей от него основы, не-
кой почвы, из которой он произрастает; ничто не может быть
целиком и полностью вымышлено, взято из воздуха. Самая
свободная поэзия, которая измышляет из самой себя и пол-
ностью исключает любое отношение к подлинным событиям,
все же имеет свою предпосылку в обычных, действительных
происшествиях человеческой жизни»1. Можно констатиро-
вать, что в романтической концепции художественного сим-
волизма воображение и эстетическое чувство подчинены эй-
детической основе, которая в этой философии трактуется как
идеальное и возвышенное начало. Если отбросить роман-
тическую и идеалистическую риторику, то вырисовывается
следующее: воображение при создании символа необходимо
для создания образной и языковой уникальности; но сам сим-
вол трактуется эйдетически и требует возвышенного опыта.
Тем самым символ не теряет своей эйдетической сути, хотя
на уровне языка он может быть репрезентован множеством
различных способов. Воображение на символическом уров-
не, таким образом, эпистемологически выступает как прояв-
ление возвышенного опыта и подчинено тому эйдосу, вокруг
которого оно формируется. Как бы ни были фантастичны
и неповторимы художественные миры Босха, Брейгеля, Бай-
рона, Эдгара По, Достоевского, Дали — наше понимание
строится вокруг первичности эйдетического смысла. Мы не
теряем интенции к тому возвышенному смыслу, который ор-
ганизует изнутри весь визуальный ряд. На картинах Босха
изображены рай и ад, Страшный суд, страдания грешников —
так, как он их представляет. Воображение на своих предель-
ных высотах становится символическим: оно представляет
символ в виде неповторимой и законченной в себе формы,
содержание которой будет развертываться в эйдетическом
опыте интерпретатора. Если в наше время Босх интерпрети-
ет и Кант: «Чтобы представление, посредством которого дается предмет,
привело к познанию, необходимо воображение для объединения много-
образного в созерцании и рассудок для единства понятия, соединяющего
эти представления» (Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
С. 85).
1 Шеллинг Ф. Философия мифологии. Т. I. СПб., 2013. С. 15.
4.2. Границы воображаемого
397
руется как создатель уникальных визуальных образов, то это
не значит, что так его воспринимали современники и что соб-
ственные художественные задачи были именно таковы. На
первый план в авторской интерпретации ада у Босха выходил
религиозный опыт, символически изображенный сквозь оп-
тику экзистенциального представления. Визуальные эффек-
ты должны были эмоционально усиливать символический
контекст, выстраивая эйдетические образы греха, воздаяния,
адских мук. Конечно, не все творили в столь экспрессивной
И необычной манере, как Босх, но интенция эмоционального
сгущения красок ради убедительности эйдетического обра-
за это характерная особенность всей ренессансной живо-
писи.
Хотя свобода воображения выступает залогом создания
уникальной интерпретации, в сфере символизма воображе-
ние не является автономным. Основой воображения при соз-
дании символа выступает содержание возвышенного опыта,
эйдос, который оно затем «репрезентует» в символической
форме. Воображение творит символический мир, который
через язык раскрывает уникальность эйдетического содер-
жания. Последнее уже есть как форма возвышенного опыта,
но без воображения оно может остаться невыраженным, не
представленным в виде символа. В разных сферах символиз-
ма присутствует разная мера воображения и степень допуще-
ния его свободы, но нигде воображение не свободно от эй-
детических ограничений. Ренессансный пейзаж, Петербург
Достоевского, кубическое, супрематическое, сюрреалисти-
ческое пространства созданы воображением — но везде мир
предстает как законченный в себе и совершенный эйдос. Во-
ображение необходимо для придания уникальной образной
формы эйдетическому содержанию; «миры» тут конструиру-
ются по эйдетическим законам и принципам.
Если воображение как обычная фантазия творит нагляд-
ные, чувственно воспринимаемые образы, то воображение
в символической сфере не обладает такой наглядностью. За-
труднение состоит в том, что эйдос представляется в виде сущ-
ности, которая требует не просто созерцания, а переживания
как возвышенной формы. Символическое произведение искус-
ства, к примеру, никогда не сводится к собственной наглядно-
398 Глава 4. Эйдетический опыт как история
сти. Хотя оно именно таково, как воспринимается, его смысл ле-
жит в эйдетическом представлении, к которому оно прямо или
косвенно отсылает. Воображение необходимо для того, чтобы
реконструировать эти эйдетические представления, переведя их
из состояния непосредственной наличности в образно-симво-
лическую форму. Гегель, к примеру, осознавал всю сложность
символического представления и определил его так: «Символи-
зация, осуществляемая воображением, состоит в том, что в чув-
ственные явления, в образы оно вкладывает смысл, отличный
от их непосредственного смысла, но находящийся с ним в отно-
шении аналогии, и использует эти образы как выражение этого
иного смысла»1. Тем самым Гегель трактует символы как нечто,
чувственно воспринимаемое содержание которого вторично по
отношению к тому «смыслу», который и можно считать сим-
волическим. Символическое произведение — это только такая
форма, содержание которой несоизмеримо с ней и призвано от-
сылать нас к иному смысловому горизонту, в пределах которого
и происходит понимание. Символ в своей образной и лингви-
стической наглядности прост и может быть сведен к некоему
догматическому толкованию; но на уровне эйдетической ин-
терпретации он оказывается настолько сложным и многознач-
ным, что выходит за рамки любых устоявшихся представлений,
взаимодействуя со все новыми и новыми пластами опыта. Тол-
кование символа — это форма редукционизма, сводящая его
содержание к эйдетическому смыслу. Символическое же вооб-
ражение, когда оно продуктивно, напротив, есть попытка пред-
ставить символ в виде образной конечности. В этом отношении
символическое воображение подобно дедукции в концептуаль-
ной сфере: с разными целями и разными средствами и тут, и там
как бы из ничего творится некое законченное в себе построение.
И если дедуктивный вывод великого ученого доказывается экс-
периментально, то созданный в воображении гения символиче-
ский образ «сбывается» и обретает свою убедительность в раз-
ных оттенках эйдетического опыта.
Творение символа обусловлено целым рядом аспектов.
Содержание возвышенного опыта и эйдос необходимы по сво-
ей сути. Особенности уже сложившегося символизма, стиля,
‘Гегель Г. В. Работы разных лет: в 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 190.
4.2. Границы воображаемого
399
школы, языка, социальные условия, как правило, оказывают
существенное влияние на любой исторически последующий
символизм. Наконец, следует отметить, что существуют теоло-
гические, школьные и идеологические дискурсы, в рамках ко-
торых символизм прописывается догматически, а отступление
от догм осуждается или карается. Поэтому сторонники любой
формы детерминации символизма находят немало причин ве-
рить в это.
Однако я полагаю, что хотя бы некоторые символы тво-
рятся в свободном воображении человека. Роль воображения
не всегда явственна, но в рамках эйдетического опыта нет та-
когр феномена, как представление многообразного содержа-
ния в виде целостной и завершенной в себе образной формы.
Символ в воображении творится как целостная, завершенная
в себе образная сущность, которая стремится передать все
содержание соответствующего эйдоса. Таким образом, я по-
нимаю символ как образно-лингвистическую модель эйдоса,
творимую в творческом воображении и лишь затем вступа-
ющую в коммуникацию с другими символами и факторами
традиции. Поэтому, хотя так называемое эстетическое пони-
мание символа не является единственным, именно в предель-
но свободной для автора сфере искусства проявляется свобо-
да воображения; причем на уровне крупного таланта — это
индивидуальное воображение. Творя символ в воображении,
гений находит в окружающей традиции средства выражения,
убедительные для максимального числа людей, но отсылаю-
щие к новому эйдетическому опыту, который у большинства
еще не возник. Можно сказать, что такой символ направляет
эйдетический опыт будущего. А поскольку подобного опыта
как формы традиции еще нет (он может вообще не возник-
нуть), то символ приобретает характер маргинального, ле-
гендарного, сотворенного будто бы из ничего1.
Символ всегда кажется нереальным, описывающим ка-
кой-либо воображаемый мир, поскольку он указывает на эй-
детическую действительность, отличную от природной дей-
ствительности и существующую по иным законам. Пожалуй,
античный театр можно рассматривать как первую и наибо-
1 Бердяев определяет творчество как творение нового из Ничто.
400 Глава 4. Эйдетический опыт как история
лее масштабную попытку не только представить и описать
символ, но и воспроизвести сценическим языком ту эйдети-
ческую реальность, в рамках которой символ представляется
наиболее убедительным1. Поэтому древний театр в любом
своем жанре всегда был прост, строг, возвышен. На первый
план в нем выходило создание эйдетической картины, в про-
странстве которой сбывается образ актера. Поэтому не было
нужды ни в закрученном сюжете, ни в бурных страстях (хотя
они проявлялись, вероятно, зрителями), ни в богатстве сце-
нических приемов и эффектов. Хор же был несколько дис-
танцирован от сценического действия и «авторитетно вы-
сказывал» те или иные аспекты содержания возвышенного
опыта, возникающего при созерцании представления. Древ-
нее театральное представление как таковое не было драмой,
поскольку в трагедии и комедии не существовало объединя-
ющего «действия». Трагедия и комедия представляли собой
ряд эпизодов, каждый из которых был доведен до эйдетиче-
ской возвышенности в пределах избранного жанра. Сцени-
ческая реальность «Антигоны» или «Птиц» — это созданная
театральным языком особая реальность, являющая такой
мир, в котором и обретают смысл реплики и поступки героев.
Немецкие романтики, исследовав древний театр, единодуш-
но пришли к выводу, что после Менандра из театра исчезли
такие эйдетические качества, как возвышенность, соразмер-
ность, строгость, простота, народность и т. д. Театр посте-
пенно начал превращаться в представление, зрелище; лите-
ратурная и развлекательная составляющие стали подменять
мифологическую и народную основы.
В воображении творца — будь то личность или собира-
тельный субъект — должна заключаться еще одна существен-
ная особенность, а именно способность увлечь и повести за
собой опыт любого, кто приобщается к символу. При этом
символ оказывается такой ценностью, которая обращена не
к чувственности, а к возвышенному опыту, что обычно про-
является в «идеале», заложенном в этом символе; символ
1В Сатаровой драме актеры почта не говорили, зато много действовали
(плясали, пели, шествовали, разыгрывали мистерии) и создавали сцениче-
ский образ скорее своим обликом, нежели своими репликами.
4.2. Границы воображаемого
401
словно запускает функционирование возвышенного опыта
и выводит его к моментам нового самосознания. Юму при-
надлежит ставший классическим в психологии пример теа-
тра как объединяющего переживания, которым захвачено
множество людей. Я не уверен, что Юм имел здесь в виду
стадный инстинкт, жажду хлеба и зрелищ и прочие низмен-
ные проявления человеческой природы. Великая постановка
(которая в новом театре творится общими усилиями драма-
турга, актеров, режиссера, декораторов) призвана в той или
иной степени вывести человека из состояния субъективной
эмпирической обыденности и погрузить его в эйдетическое
созерцание. И пусть все происходит лишь на сцене, пусть
многое сбывается лишь в воображении, пусть воспевается
несбыточный идеал — важнее всего именно возвышенный
характер опыта, порождаемого действием. Не зря в театре
определенная часть действия именуется картиной: на сцене
разыгрывается фрагмент идеализированной эйдетической
реальности, которая соответствует символическим образам
героев, их репликам и поступкам. Эта реальность может быть
существенно связана с окружающим наблюдаемым миром,
а может быть совершенно фантастической, — на первый план
тут выходит не правдоподобие и не истинность, а гармония
между символом и эйдосом, что в конкретной практике сим-
волизма проявляется в гармонии между образно-языковым
строем символа и его переживанием в возвышенном опыте.
Объединяющее всех зрителей театральное действие вскры-
вает мощную консолидирующую роль символа. Причем эта
консолидация достигается, прежде всего, в воображении, на
уровне живого идеала, представленного как символически
явственная ценность. Можно подытожить, что предложенное
Кантом продуктивное воображение — это и есть способность
не просто обладать эйдетической реальностью, но и воспро-
изводить ее в символической форме.
Воображение творит эйдетические образы, которые мо-
гут и не восприниматься по аналогии с вещами. Однако такие
образы должны быть относительно легко распознаваемы,
иначе они не получат отклика в душах людей. Любое великое
творение искусства всегда в чем-то не понято до конца. Но
в классическом искусстве формы выражения замысла сооб-
402
Глава 4. Эйдетический опыт как история
разованы с человеческим представлением, тогда как в модер-
нистском искусстве эти формы становятся самодостаточными
и обретающими смысл только «в себе и для себя». К примеру,
«Черный квадрат» Малевича как шедевр одного из направле-
ний модернизма (в широком смысле) прямо не отсылает ни
к какой конфигурации опыта, поэтому возвышенность это-
го образа непонятна на уровне осознания, а символическое
понимание оказывается таким, что возможно практически
любое толкование. В результате в этот образ каждый вкла-
дывает содержание, воплощающее собственный опыт, отчего
сам квадрат оказывается «пустым» в потаенной неясности
своей сути. Конечно, в сфере искусства Малевич — гений,
создавший предельно многозначный абстрактный образ. Но
где гарантия, что вкладываемое нами содержание при пере-
живании символического пространства квадрата и есть его
эйдетическая подлинность? Таким образом, возникает суще-
ственная проблема в воображении современных авторов: не-
соответствие глубины символического содержания средствам
выражения этого содержания, что проявляется в «порабо-
щении» образа символическим содержанием и превращении
его в нечто не связанное с опытом. Классический художе-
ственный образ — это идеализированная действительность,
выражающая символ. Это тоже не воспроизведение действи-
тельности, однако такой образ соразмерен человеческому
опыту. Сам по себе человеческий опыт в его возвышенной
форме не есть раз и навсегда готовая, неизменная и транс-
цендентально очерченная форма. Но, к примеру, если изо-
бразительное искусство теряет фигуративность, то образы
начинают расплываться в красочные пятна, и на первый план
выходят новые способы понимания, такие как отмеченные
в лекциях Кандинского символические языки цветов, соче-
тания абстрактных и случайных криволинейных форм. При
этом такое истолкование имеет тенденцию к методологиче-
ской монополии. Как отмечает по этому поводу В. В. Савчук,
«авангард, отказавшись от сюжета, предмета, жизнеподобия,
в итоге стал уделом эстетов, знатоков, ценителей и коллек-
ционеров. Со временем авангардный художник, ощутив свою
невостребованность, утрату социально-критической функ-
ции, занимает гордую позицию элитарности и эзотеризма,
4.2, Границы воображаемого
403
презирая всех, кто равнодушен к его живописи»1. Символизм
тяготеет к человечности и наглядной образности не потому,
что он идет на поводу у чувственности и природы, а потому,
что он должен быть соразмерен как средствам своего выра-
жения, так и пониманию в традиции.
Символическое воображение способно не только на-
правлять опыт, но и уводить его в созданный им мир. По-
скольку символ есть форма возвышенного, несущая в себе
эйдетическое совершенство, то он неизбежно порождает
иллюзию возможности перестройки жизни так, чтобы она
протекала в этом символическом мире. Поскольку символы
представляют собой основу культуры и традиции, то симво-
лическое совершенство усиливается еще и психологически-
ми факторами, обретая ореол высшей человечности. Когда
мы говорим, что те или иные люди обладали «высокой куль-
турой», мы не только подчеркиваем реальный уровень их ду-
ховного развития, но и отмечаем, что они живут в этом мире,
в какой-то степени даже уходят в этот мир, жертвуя всем
прочим. Далеко не всегда и не в каждой традиции символиче-
ский мир становится чем-то подменяющим обычную повсе-
дневную жизнь, причем для целого класса, но это возможно
и подобное уже случалось в истории. Так, Хёйзинга пишет
о средневековой жизни: «Жизнь двора и аристократии укра-
шена до максимума с целью придать ей наибольшую привле-
кательность; весь жизненный уклад облекается в формы, как
бы приподнятые до мистерии, пышно расцвеченные яркими
красками и выдаваемые за добродетели»2. Всегда сложно
определить, на какой стадии подлинный и здоровый симво-
лизм традиции переходит в сладостный самообман иллюзии.
Жизнь в мире символов в самом деле представляет собой ми-
стерию, которая экзистенциально воспринимается переход
в новую форму бытия. Уже в Греции юноша, примкнувший
к философской школе, посещающий симпосионы, вовлекаю-
щийся в общественную жизнь зрелых мужей, учился не толь-
1 Савчук В. В. Концепт. Экспрессия. Картина // Савчук В. В., Курбанов-
ский А. А. Концептуальный экспрессионизм Валерия Лукки. СПб., 2008.
С. 18.
2 Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 44.
404
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ко знаниям и навыкам жизни, но и стремился уподобиться
символическому идеалу, который, хоть и никогда не был
прописан буквально, незримо присутствовал в традиции. Ан-
тичное этическое уподобление великим мужам — это форма
обретения иной, символической жизни, достойной во всех
смыслах. Воображение сочетается с идеей возвышенного,
конечно, не в форме мечтательности, а в стремлении сделать
возвышенный опыт основой собственного символического
образа. Александр, как известно, обладал довольно дерзки-
ми помыслами, осуществление которых было заведомо не-
возможно. И хотя ему не удалось завоевать мир, он направил
себя на осуществление таких целей, которые были гораздо
более реальны и представляли собой новые эйдетические
формы политики — как, прежде всего, построение империи
на основе эллинистических ценностей. Александр на практи-
ке пытался реализовать мысль из «Киропедии» Ксенофонта
о том, что великий добродетельный муж, в каком народе бы
он ни родился, следуя высшей мудрости, способен стать гре-
ком если не по происхождению, то по духу.
Многие авторы склонны видеть в символизме не более
чем форму коллективной иллюзии или ложного приукра-
шивания действительности, в которой на самом деле правят
деньги, власть, корыстные интересы и низменные страсти.
Если обратиться к живописи, то очень многие, даже подлин-
но великие, произведения могут пониматься с приземлен-
ной точки зрения: мол, Венеры и Сусанны изображались для
того, чтобы вывесить их в будуаре, а римские императоры —
для прославления королевской власти1. Поскольку искусство
сотворено людьми и оценивается влиятельными лицами сво-
его времени, то такой аспект и вправду присутствует. Однако
подобные оценки уводят символизм от самого существенно-
го — от возвышенного опыта. Независимо от цели, назначе-
ния, классовой сущности, даже оценок и мнений критиков,
подлинный художник «творит для вечности», превращая
любую обыденную форму в эйдетическую — прекрасную
1 «В образе Девы Марии можно было заодно изобразить и самый священ-
ный, возвышенный символ и служить миру, выставив самым пикантным
образом напоказ земную красоту» (Фукс Э. Иллюстрированная история
нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993. С. 147).
4.2. Границы воображаемого
405
и возвышенную форму. В символизме всегда первенствует
эйдетическое представление, закрепленное в символическом
образе. Оно может быть безобразным, уродливым, ужасаю-
щим (как в классической трагедии), но и тут на первый план
выходит возвышенная цель, а герой, его поступок, его фраза
понимаются как формы символического. Но гораздо чаще
возвышенный характер и красота эйдоса отражаются в та-
кой форме, которая воспринимается как нечто воодушевля-
ющее, прекрасное, гармоничное, божественное. Не вдаваясь
,в искусствоведческие споры, можно лишь констатировать,
что во всех формах классического искусства изображение
прекрасного и возвышенного доминирует над безобразным
и низменным, хотя последнее выступает столь же неизбеж-
ным. И древние скульпторы, хотя и ваяли безобразных вар-
варов, сатиров, Гефеста и Пана, стремились придать им такие
черты, при которых их отталкивающая наружность приобре-
тала «классические» особенности, благодаря гармоничности
и тонкой проработанности которых она становилась предме-
том художественного изображения, а не брутальной натурой.
Еще Лессинг в «Лаокооне» отметил, что древняя скульпту-
ра, изображая стариков, придавала самой старости черты
благородного величия, которые визуально подчеркивались
благородством облика и телесной мощью с проступающими
жилами. В символизме тем самым присутствует воплоще-
ние безобразного, циничного, ироничного, пессимистичного
и т. п. Но во всех случаях низменное и безобразное оказыва-
ется чем-то диалектически противоположным возвышенно-
му и прекрасному.
Таким образом, я полагаю, что воображение необхо-
димо не только для создания символического образа, но
и для превращения символа в идеал, придания символу цен-
ностного характера. Несмотря на то что практически любой
идеал содержит в себе иллюзии и мечты, его функция все
же не в создании утопий и построении воздушных замков,
а в возвышении нашего опыта. Поскольку в воображении воз-
никают, прежде всего, «авторские» символы, то сама лич-
ность творца должна становиться примером возвышенно-
сти человека. В символическом мире убедительность носит
ценностный характер; она не достигается теоретически. Это
406
Глава 4. Эйдетический опыт как история
хорошо понимали древние философы и романтические поэ-
ты, которые стремились столь тесно слить своё творчество
с собственной жизнью, что начинали влиять на современни-
ков и потомков своим символическим образом, вдохновляя
их уподобиться ему. Тем самым символ призван «повести за
собой» наш опыт, возвысить его, помочь обрести понимание
традиции и своего места в ней. А поскольку любой человек
ограничен местом и временем, обществом и традицией, да
и просто сроком своей жизни, то символическая личность
строится (пусть и на реальном основании подлинно возвы-
шенного и оригинального эйдетического опыта) через до-
стижение воображаемого (здесь это практически синоним
идеального) совершенства. В наше время, когда на первый
план вышли массмедийные, политические, рекламные и про-
чие «технологии» создания образов известных людей, уже
не философы, художники, богословы, ученые, а люди иных
амплуа определяют ценности и идеалы. Стали популярны
политики, миллионеры, артисты, футболисты, то есть те
персоны, подобные которым были и в классической Греции,
но не обладали тогда нравственным и эстетическим лидер-
ством, и тем более не олицетворяли эйдос человека. Ведущие
интеллектуалы наших дней ставят вопрос об отсутствии на
современном Западе великого искусства, фундаментальной
и единой философии, устойчивых религиозных основ и т. д.
Не вступая в спор по этой проблеме, отмечу ностальгический
характер исследований символизма последних пятидесяти
лет, обращенных к совершенству прошедших классических
эпох. Наше время в символическом отношении тоже значи-
мо, и для нас другой наличной эпохи все равно нет, но по
многим критериям символического совершенства эта эпоха
существенно уступает прошлым традициям. Однако это ни-
как не свидетельствует о том, что сейчас не могут возникнуть
совершенно новые символические формы (или творческие
интерпретации прежних), которые встанут в один ряд с ве-
ликими символами прошлого.
Немецкая философия истории во всех ее формах (геге-
льянской, кантианской, герменевтической, экзистенциальной)
придает символическому воображению еще и коммуникатив-
ную функцию. Зачастую символ не творится на пустом месте,
4.2. Границы воображаемого
407
а обращается к уже существующему символическому насле-
дию, перерабатывая его в новые формы или просто подражая
ему. В конце концов, первая известная нам платоновская эсте-
тическая концепция сводила искусство к подражанию. К при-
меру, в изящной словесности автор часто не ставит никаких
целей, кроме как воссоздать историческую эпоху или жизнь
героев, что неотделимо от воображаемого перевоплощения.
Способность «перевоплощаться» в человека из другого вре-
мени, народа, сословия развита у многих гениев; Белинский
отмечает ее у Пушкина: «Прочтите его чудную драматическую
поэму “Русалка”: она вся насквозь проникнута истинностью
русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую по-
эму “Каменный гость”: она, и по природе страны и по нравам
своих героев, так и дышит воздухом Испании; прочтите его
“Египетские ночи”: вы будете перенесены в самое сердце жизни
издыхающего древнего мира. Таких примеров удивительной
способности Пушкина быть как у себя дома во многих и самых
противоположных сферах жизни мы могли бы привести мно-
го, но довольно и этих трех»1. Разумеется, в рамках гегельян-
ского идеализма все народные формы духа подчинены еди-
ному закону; поэтому воображаемое перевоплощение — это
своеобразный перенос собственного субъективного духа в дух
народный. В принципе, как доказывает Белинский, гению под-
властно перевоплощение в дух любого народа и любого вре-
мени. И в самом деле, художественная, историческая, герме-
невтическая и тому подобные реконструкции могут отчасти
перенести нас в иную эпоху и страну. Однако, на мой взгляд,
это перевоплощение возможно лишь как временная пример-
ка на себя иной символической личности в пределах вообра-
жения. Так или иначе, когда Гёте или Пушкин переносят нас
в атмосферу Востока, они не становятся сами персами и ара-
бами, а лишь пытаются художественно передать эйдетический
опыт человека такой культуры. Однако при всех оговорках
историческая форма символического воображения остается
существенным, а порой и единственно возможным каналом
коммуникации традиций. К примеру, если источники утраче-
ны или, наоборот, их необозримо много, символическое вооб-
1 Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 6. М„ 1981. С. 277.
408
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ражение позволяет ввести как цельность, так и определенную
оригинальность в интерпретацию. Хайдеггеровские сочинения
о Гераклите и Пармениде — это грандиозная по замыслу кар-
тина символического воображения, попытка реконструкции
утраченных систем, стремление воссоздать образ философии
такой, какой она была в те времена. Но вместе с тем хайдегге-
ровский проект — это и наглядная демонстрация того, что сим-
волическое воображение таит в себе момент утопии, а также
веры в то, что все на самом деле было так, как это описывает-
ся. Проникновение к истокам бытия оказывается так же зага-
дочно, мистично и непостижимо, как и романтически тракто-
ванное вдохновение поэта. Хайдеггер пишет: «Отрешенность
от вещей и открытость тайне дадут нам увидеть новую почву,
которая однажды, быть может, даже возвернет в ином обличье
старую, сейчас так быстро исчезающую»1. Исходя из подоб-
ного суждения, здесь нельзя усмотреть что-то рациональное.
«Тайна» открывается лишь для особого опыта, в рамках кото-
рого она воспринимается как нечто вполне реальное. Конечно,
можно критиковать Хайдеггера за полную иррациональность
методологии, но, как это ни парадоксально, он оказывается
близок к пониманию сути вполне реальной символической
коммуникации: она действительно зачастую осуществляется
через попытку воссоздания истоков, обращение к классической
основе. Только Хайдеггер верил в возможность воскрешения
такого символизма, с чем я согласиться не могу: любое стрем-
ление возродить классику или вернуться к ней оборачивается
рождением новой, иной классики. Символический ретроспек-
тивизм — это распространенное явление традиции, которое
началось еще в Греции и Риме; но оно теряет смысл, если не
обращено к оригинальному и новому настоящему. Выдаю-
щиеся мастера петербургского неоклассицизма (И. А. Фомин,
В. А. Щуко, А. Е. Белогруд, М. М. Перетяткович, Ф. И. Ли-
дваль, С. С. Кричинский и др.) совершенно сознательно стре-
мились «не отступать ни на йоту» от классических ренессанс-
ных оригиналов. Однако новый художественный опыт, равно
как и новое назначение и даже габариты зданий породили не
механическое копирование, а творческую переработку антич-
1 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. ПО.
4.2. Границы воображаемого
409
ных и итальянских форм, что породило классическую завер-
шенность облика таких значимых для нашего времени зданий,
как банки и многоквартирные дома.
Романтическая концепция гениальной личности, обладаю-
щей чистым воображением, свободно творящей символы, имеет
под собой не культурологическую и эпистемологическую, а ме-
тафизическую, порой и теологическую основу. Чистое символи-
ческое воображение поэта — это сам по себе эйдетический опыт,
особое представление одаренной личности. На самом деле, нет
.гения без школы, без традиции, без тех, что будет его читать,
видеть, оценивать. Эпистемологически можно выразиться
так: любой гений творит символы в мире уже сущих символов
и определяет собственные символы через них. Поэтому кон-
цепция баланса между символическим воображением и симво-
лическим здравомыслием традиции мне кажется гораздо более
убедительной. Так или иначе, нельзя вывести никакого закона
или алгоритма, согласно которому новый эйдетический опыт
будет реализован в радикально новом наборе символов. При
творении символического образа могут привлекаться уже на-
личные символы; они могут быть переинтерпретированы; мо-
гут быть предложены новые символические ходы (способные
сначала показаться совершенно неклассическими). Уже при
создании основополагающих символов традиции эти три аспек-
та настолько тесно и неразрывно связаны, что их невозможно
отделить друг от друга.
Символический индивидуализм возникает, как правило,
в переходные периоды, когда запросы возвышенного опыта
уже не могут быть удовлетворены языком существующих сим-
волических форм. Подобные явления возможны практически
в любой традиции, но наиболее интересным случаем выступа-
ет, конечно, эпоха модерна, в которой символическое творче-
ство базируется на волюнтаристских основаниях. С распадом
традиционных символических форм, с падением авторитета
классики возникает эпоха символического вырождения, ко-
торую колоритно обрисовал Герцен: «В идеал, составленный
нами, входят элементы верные, но или не существующие бо-
лее, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть,
изящество аристократических нравов, строгая чинность про-
тестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь
410 Глава 4. Эйдетический опыт как история
итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов
и мрачная энергия террористов — все это переплавилось
и переродилось в целую совокупность других господствую-
щих нравов, мещанских»1. Исторический пессимизм Герцена,
столь привлекающий многие умы, обусловлен его убеждени-
ем в падении возвышенного начала и человечности культуры
в условиях империй. Высокие идеалы классических эпох при-
способляются к запросам, которые по сути уже не являются
возвышенными. К примеру, Ван Гог, как известно, продал
при жизни всего одну картину. Теперь же его полотна уходят
за миллионы долларов. Изменилась ли символическая сущ-
ность его творчества от такого резкого крена в оценках, в том
числе и в стоимости картин? Насколько можно считать ме-
щанами людей, которые, не будучи знатоками и экспертами,
приходят в музей Ван Гога в Амстердаме полюбоваться его
творениями? И становится ли нечто шедевром, если это —
признанный шедевр? Вне всякого сомнения, культура совре-
менности уже утратила традиции аристократизма; практиче-
ски развалились такие важные оценивающие структуры, как
мнение публики, общественности. Символизм современной
эпохи совершенно естественно вводит экономические и со-
циологические критерии значимости символов и, в частно-
сти, таких прежде бесценных предметов, как творения искус-
ства. При этом воображение творца произведения, и в самом
деле, зачастую уже не преследует возвышенных целей. Фаулз
ведь не зря сетовал на то, что в литературе царят «бестселле-
ры». Еще греческие авторы стали отмечать, что древний ат-
тический театр на определенном этапе измельчал, а актеры
стали профессионалами, потакающими самым низменным
вкусам и эмоциям толпы. Вторя Герцену, Ортега-и-Гассет
иронически отзывается о современной музейной культуре,
где мимо вывешенных творений великого искусства прохо-
дят целые «табуны» людей, которые совершенно не понима-
ют искусства, а пришли просто потому, что так принято. И не
написал ли, путешествуя по Италии, в своем дневнике Блок,
что «Тайная вечеря» постоянно закрыта ягодицами англий-
ских туристок?
'Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 4-5. М., 1982. С. 309.
4.2. Границы воображаемого
411
Проводя исключительно эпистемологическое исследова-
ние символизма, я в этой книге избегаю каких бы то ни было
оценок. Мне гораздо важнее понять, в чем сущность расцвета
и упадка культуры, какие символические цели и задачи ставит
и решает этот культурный этап, нежели давать оценки и судить
с позиций «вечной классики». Однако следует констатировать,
что для классической эпохи характерно стремление к единству
символических порядков и господству единой манеры стиля,
языка, к постановке объединяющих проблем. И наоборот, в эпо-
хи упадка недостаток классической мощи быстро заполняется
разрастающимися дискурсами, которые зачастую сотворены
лишь в сфере вымысла, что приводит к символическому инди-
видуализму и распаду традиции. Несут ли такие периоды нечто
новое? Обычно да. Можно ли считать эти периоды определен-
ным варварством, рьяным футуризмом, намеренным отказом
от творений «отцов»? Вероятно, и это справедливо. По крайней
мере, Достоевский с редкой для него беспристрастностью дал
такую оценку зарождающейся «неклассической» эпохе: «Право,
мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего
“обособления”. Все обособляются, уединяются, всякому хочется
выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное»1.
Совершенно очевидно, что Достоевский связывает индивидуа-
лизм и воображение, выступая в своей оценке сторонником тра-
диционализма. Но это не мешало поклонникам писателя, пылко
восхищаясь его идеями, развивать эстетский культ творческого
волюнтаризма. Шестов, превозносивший Достоевского, тем не
менее пропагандирует новый тип философии, базирующийся
на произволе и своеволии. При ослаблении традиции символи-
ческие эксперименты лишаются сдерживающих факторов и их
число резко умножается; при этом воображение становится
чем-то близким к частной фантазии, к сотворению маргиналь-
ного мира. Падение возвышенного в опыте и ослабление роли
традиции неизбежно оборачиваются смешением и столпотворе-
нием символических форм.
Нелепо считать символическое творчество чем-то бессо-
знательным лишь на основании того, что опыт, замысел и эйдос
1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Избранные страницы. М., 1989.
С. 180.
412
Глава 4. Эйдетический опыт как история
недостаточно ясны. Любой символ творится как нечто, опреде-
ленное далеко не полностью, имеющее изначально заложенные
смысловые лакуны для дальнейших уточнений и интерпретаций.
Символизм тем самым не имеет никакого простого определения
ни с точки зрения своего происхождения, ни с точки зрения сво-
ей сущности. Можно более или менее четко проследить гене-
зис, формирование, сопутствующий опыт для отдельно взятого
символа; символизм же в целом напоминает трудно уловимый
для понимания «строй» традиции. Символическое воображение
в постромантическую эпоху трактуется преувеличенно — но на
то есть свои резоны, в этом присутствует известная необходи-
мость. Хотя я близок к допущению, что избыток субъективного
воображения и вытекающий из него избыток символических
форм далеко не всегда приносит традиции пользу. Воображе-
ние, на мой взгляд, чрезвычайно важно как средство символи-
ческого плюрализма, создания разнообразных вариаций порой
одного и того же, как препятствие догматизму и застою и, в кон-
це концов, как нечто, придающее символу индивидуальность.
Но нормальная ситуация — это когда воображение только дает
импульс новому символу (интерпретации символа), приобрета-
ющему традиционные формы, выступающему в отношении сле-
дующего этапа уже чем-то классическим.
В традиции должна существовать гармония между клас-
сическим, старым и современным, новым. Равно как и в сим-
волизме должна присутствовать выстраиваемая вокруг эйдоса
гармония между символом и возвышенным опытом. Дальше
такой закономерности эпистемологическое исследование сим-
волов не идет; поскольку конкретное содержание символов
и их роль в конкретной традиции — это вопрос, выходящий за
его пределы. Эйдетическая форма представляется через сим-
вол — такой процесс находится вне сферы логики. Некоторые
русские идеалисты, например Я. Э. Голосовкер, мечтали создать
логику воображения. Голосовкер пишет: «Мой вопрос озна-
чает: существует ли в кругу наук наука “логика воображения”?
Исследовано ли вообще воображение.... В качестве способности
познавательной? Что скажет наука, если какой-либо мыслитель
выставит воображение в качестве высшей познавательной силы
разума?.. Многие философы-классики пренебрегали вообра-
жением в смысле его познавательной способности, более того,
4.2. Границы воображаемого
413
они видели в воображении помеху для познания, обвиняя его
во всех познавательных грехах»1. При всем стремлении разде-
лить заботу мыслителя о необходимости создания специфиче-
ской методологии исследования воображения и символов я не
могу согласиться с наличием логики в символизме. Это, на мой
взгляд, столь же утопично, как затея Витгенштейна обрести ло-
гику в обыденном языке. Эпистемология может лишь вывести
относительно типичные закономерности генезиса и развития
символов, но она изначально полагает символизм как сферу
рпытной возвышенности, которая в существенных чертах не
контролируется рассудком и управляется эйдетическими, а не
коцрептуальными принципами. Поэтому я готов поддержать
Голосовкера, лишь принимая «логику» как некую метафору (не
зря же она берется им в кавычки). В имагинативной действи-
тельности, где, как верно отметил Голосовкер, каждый символ
стремится стать абсолютом, а каждая символическая форма —
замкнуться в своей исключительности, не может быть никакой
логики в привычном значении этого предмета2.
В современных теориях символизма доминирует креати-
вистская модель, согласно которой символы обязательно тво-
рятся в субъективном воображении. Однако следует развести
символическое и так называемое имагинативное, маргиналь-
ное. Символическое воображаемо только в отношении пред-
ставления символа как законченного в себе образа. Но эписте-
мологическая основа символа — сам процесс символизации,
эйдетическое представление, опыт — вполне реальные процес-
сы. Воображение позволяет создать символ как нечто целостное
и завершенное в себе. Оно продуцирует образ и творит — но не
бытие символа, а его индивидуальную сущность, его «опреде-
ление». Не являясь сторонником исторического детерминизма,
я все же полагаю, что если бы, предположим, не было Данте,
то не существовало бы и целого величественного мира. Могло
быть нечто бледное, ординарное, невеликое, но все же эйдетиче-
ски подобное. Традицию никогда не поддерживают авторы, тво-
1 Голосовкер Я. Э. Логика античного мифа. Новосибирск, 1987. С. 10.
2 «В основе воображаемой, имагинативной действительности лежат иные
особые категории, но отнюдь не перспективные, а абсолютные, так как
в имагинативном мире нет места ни гипотезе, ни вероятности, ни апории»
(Голосовкер Я. Э. Логика античного мифа. Новосибирск, 1987. С. 18).
414
Глава 4. Эйдетический опыт как история
рящие новые маргиналии — они скорее ее разрушают. Традиция
поддерживается общностью опыта, эйдетических представле-
ний, и если маргинал отвечает на эти запросы, то он востребован
в традиции, которая склонна все более и более обращать его из
маргинала в классика.
Даже апологеты модернистских символических поряд-
ков признают, что им присущи такие сущностные качества,
как иллюзорность, разрозненность, произвол, волюнтаризм,
культ разрушения и т. д. Так, Бодрийяр пишет: «Давайте спро-
сим себя: а не находится ли за нашим обычным, заурядным,
банальным универсумом с тремя измерениями некая “инфра-
реальность”, некий другой — гораздо более тонкий и загадоч-
ный — мир, который является миром иллюзии и управляюще-
го ею злого гения?»1 Оставив в стороне маргинальные эпитеты
французского классика (лишь потому, что они не имеют от-
ношения к эпистемологии), обратим особое внимание на осо-
знание им иллюзорности постмодернистских символических
порядков. Наподобие поиска философских камней и вечных
двигателей2, построения постмодернистов осуществимы толь-
ко в воображении. При этом, теряя возвышенный характер,
переходя на языки чувственного и бессознательного, иллю-
зорность развивается до гипертрофированных форм. В конце
концов идеалом такого состояния выступает форма приватно-
го совершенства, где все, позволяя друг другу высказываться
свободно, слушают лишь себя.
Стремясь переписать предмет и историю философии
в виде истории интеллектуалов-одиночек, Делёз и Гваттари
обращают внимание на то, что изменилась именно символиче-
ская роль философии, что привело к иному пониманию как ее
предмета, так и ее места в традиции. Они пишут: «Философия
состоит не в знании и вдохновляется не истиной, а такими ка-
тегориями, как Интересное, Примечательное или Значитель-
ное, которыми и определяется удача или неудача»3. Тем самым
философская теория ставится наравне с модой, кино, бестсел-
1 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006. С. 172.
2 Кстати, весьма востребованная тема в современной беллетристике и кас-
совом кинопрокате.
3 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 2009. С. 96.
4.2. Границы.воображаемого
415
лерами и прочими культурными феноменами, мерилом кото-
рых служит популярность. Низведение возвышенного образа
философии до уровня того, что удовлетворяет запросам «хлеба
и зрелищ», может быть отнесено только к локальному и отно-
сительно недолгому периоду. И в самом деле, во Франции по-
степенно созрела усталость от волюнтаризма и вавилонского
смешения в «авторских» концепциях. Так, Ж. Рансьер пишет;
«Очень быстро жизнерадостная постмодернистская распущен-
ность, упоение постмодернизма карнавалом всевозможных
.личин-симулякров, смешений и скрещиваний превратились
в ревизию той свободы или самостоятельности, миссию во-
плотить которую возложил на искусство — или мог бы возло-
жить — модернистский принцип»1. Возведенный в самоцель
символический релятивизм порождает варварские, деструктив-
ные и популистские формы, которые, вследствие собственной
заурядности, вряд ли могут держаться продолжительное вре-
мя. Поэтому столь живая дискуссия о необходимости «прео-
доления» постмодернистского релятивизма может на сегодня
считаться практически завершенной. В свою очередь, никакая
традиция (в меру собственного развития) не в состоянии про-
существовать без наличия возвышенных символов, которые
духовно консолидируют и объединяют сообщество.
Тем не менее информационная революция — появление
компьютерных технологий, медиа, цифровых снимков, со-
циальных сетей, мультимедийных и интерактивных форм —
вероятнее всего, необратимо видоизменила «классические»
точки зрения на символизм. К примеру, в социальных сетях
стало модным помещать посредственные, но броские и обра-
ботанные в «Фотошопе» снимки. Также размещаются крайне
заурядные, но эмоциональные и доступные стихи, нравящиеся
массовому пользователю. Ни одна классическая репродукция,
никакое стихотворение Лермонтова не наберут столько «лай-
ков», «комментов», «перепостов» и прочих выражений симпа-
тии в Интернете. Известный сторонник множественности сим-
волических форм У. Эко выражает серьезную озабоченность
по поводу всеядности Интернета: «И наконец — царь всех
списков мира, Интернет, бесконечный по определению. Так
1 Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб., 2007. С. 30.
416
Глава 4. Эйдетический опыт как история
как постоянно находится в развитии, самая настоящая паути-
на, лабиринт, а не аккуратное древо, Интернет, увлекающий
в невообразимо мистическую, абсолютно виртуальную упоен-
ность»1. Подобные феномены свидетельствуют, что множество
актов опыта не достигают уровня возвышенного, а довольству-
ются наличной готовой данностью, тем, что продуцировано
и срежиссировано для массового потребления. В таких усло-
виях неизбежно появление отдельно взятых интеллектуалов,
которые творят, упорно ориентируясь на классические дискур-
сы; роль авторского символического воображения становится
все более элитарной. Современные студенты занимаются не
чтением, а копированием, не творчеством, а поиском инфор-
мации. Отсюда эпоха, пришедшая на смену постмодернизму,
закономерно находится в глубоком символическом застое,
в состоянии неопределенности. Тем не менее господству гото-
вых данных, предметов, шаблонов неизбежно приходит конец.
И если в наше время доминирует ностальгическая форма сим-
волического историзма, стремление обрести себя через диалог
с былой великой эпохой, то эйдетический опыт рано или позд-
но выработает и новые, собственные формы символического
воплощения. Одним из первых символических преодолений
постмодерна можно считать появление так называемой новой
архаики, когда люди сознательно отказываются от символов
технического прогресса ради того, чтобы ехать на работу на
велосипеде, не загрязнять окружающую среду, отказываться
от денежной работы ради любимой, но низко оплачиваемой
профессии, а то и просто ради увеличения досуга. Это гово-
рит о том, что появляются люди, не видящие в окружающей
их культуре символическую значимость. И если раньше тех-
нологические приемы в искусстве считались новым словом, то
в наше время они критикуются за отсутствие возвышенного
содержания, за смешение искусства и дизайна, за механиче-
ское тиражирование, за дегуманизацию среды обитания (это
особенно характерно по отношению к архитектурному стилю
хай-тек). Наряду с отказом от постмодернистских ценностей
обоснованно критикуется неспособность постмодернизма
1 Эко У. Vertigo. Круговорот образов, понятий, предметов. М., 2009.
С. 360.
4.2. Границы воображаемого
417
к коммуникации, налаживанию символических связей с про-
шлыми традициями. В архитектурном мире, к примеру, уже
нередки примеры того, как постройки времен конструктивиз-
ма и хай-тека сносятся либо по причине дегуманизации среды
(например, на Западе уже снесены практически все кварталы
многоэтажных блочных домов), либо по причине явного дис-
сонанса и «спора» с историческими памятниками. В архитек-
туре Петербурга сменилось пять стилей за относительно не-
долгую историю. Но все они (в том числе и модерн) имеют
.родственные, классические черты — тогда как здания послед-
них двадцати лет грубо диссонируют с ними, порой приводя
к деградации целых участков города. Не хочу повторяться, но
с эпистемологической точки зрения ни один символ не смо-
жет долго существовать, если он не приобретет возвышенную,
классическую форму и в какой-то мере не встанет в один ряд
с символами других классических эпох.
Воображение при творении символов можно выделить
в особый вид, поскольку оно подчинено эйдетической функции.
Воображение позволяет завершить создание целостной симво-
лической картины, создать завершенность и убедительность об-
раза. Ведь сам по себе эйдетический опыт, протекающий в соб-
ственной непосредственности, лишь смутно угадывает свою
эйдетическую сущность. На символическом уровне, наоборот,
эйдетическая сущность явлена как завершенная в себе и гар-
моническая целостность. В рамках эйдетического воображения
символы создаются словно от имени возвышенного, эйдетическо-
го субъекта', и через этот субъект человек осознает собственное
возвышенное начало, особенно явственное на фоне обыденно-
сти. К примеру, литературный герой, созданный в воображении,
оказывается олицетворением эйдетического образа, который
становится типической моделью, целостно усваиваемой на уров-
не символизма и закрепляющейся в традиции как определенный
человеческий тип. С эпистемологической точки зрения сужде-
ния о воображаемом Печорине или Раскольникове значимы как
суждения об эйдетических типах человека; поэтому вымышлен-
ный характер персонажа просто не принимается в расчет. Пози-
тивистские ограничения, запрещающие высказывать что-либо
за пределами сферы фактов, здесь, на мой взгляд, совершенно
неосновательны, поскольку эйдетическая реальность существу-
418
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ет по собственным законам. В принципе логические правила не
могут быть применены к символической сфере, поскольку сама
по себе эта сфера — область ценностного, возвышенного вообра-
жения, основанного на способности к представлению совершен-
ных эйдетических форм. Неокантианцы первыми заметили эту
особенность. Хотя они трактовали понятия «наук о духе» как
индивидуально окрашенные понятия (а не символы), имен-
но они теоретически обосновали невозможность применения
формально-логических и эмпирических методов к сфере так
называемого гуманитарного знания. Рискну предположить, что
в наше время концептуализм в обосновании символов уже прео-
долен, и для символизма требуется своя, специфическая логика
(хотя «логикой» она именуется уже чисто метафорически). Тем
самым если вернуться к воображению, то в сфере символизма,
сохраняя спонтанность и непредсказуемость, оно подчинено
цели раскрытия эйдетической сущности через образную и язы-
ковую символическую форму, а вне этой цели оно сразу стано-
вится избыточным, превращаясь в фантазию и фикцию.
Классические эмпирики, которые впервые создали пси-
хологическую теорию воображения, связывали последнее ис-
ключительно с чувственностью — как форму продуцирования
фантастических образов путем комбинации простых идей.
С такой точки зрения эмпирики трактуют все без исключения
воображаемые дискурсы. К примеру, Бэкон так пишет о фило-
софии в свете своего учения об идолах театра: «Сколько есть
принятых или изобретенных философских систем, столько по-
ставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные
и искусственные миры»1. Такая точка зрения просуществовала
века, а американские прагматисты разделяли ее еще совсем не-
давно. К примеру, Рорти всего лишь тридцать лет назад писал,
что все без исключения авторские труды (в любой сфере наук
и искусств) суть не что иное, как чистые маргиналии, не име-
ющие никакой ценности за пределами фантазии и успеха у пу-
блики2.
Если трактовать воображение как исключительно проду-
цирование фантазийных чувственных образов, то эмпирическая
1 Бэкон Ф. Сочинения: в 2-х т. Т. 2. М., 1972. С. 20.
2 См.: Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996.
4.2. Границы воображаемого
419
теория мне представляется эпистемологически убедительной.
Как верно отмечает Локк в своем знаменитом рассуждении, ис-
тина относительно таких выдуманных сущностей, как кентавры,
всегда будет несколько ущербной, поскольку тут речь не ведется
о вещах, сущих вне нашего сознания1. В определенной степени
следует признать также справедливость того, что чувственно во-
ображаемое комбинируется из образов реально воспринимае-
мых вещей, а пределы чувственности оказываются и пределами
воображения. По этому поводу Юм пишет: «Попробуем сосредо-
точить свое внимание на чем-то вне нас, насколько это возмож-
но; попробуем унестись воображением к небесам, или к край-
ним пределам вселенной; в действительности мы ни на шаг не
выходим за пределы самих себя и не можем представить себе
какое-нибудь существование, помимо тех восприятий, которые
появились в рамках этого узкого кругозора»2. Будучи основопо-
ложником научной психологии, Юм впервые теоретически объ-
яснил механизмы функционирования воображения: если, допу-
стим, какая-то сторона или деталь умышленно скрывается (или
о ней недоговаривают), то дух начинает увлекаться именно этой
деталью; загадочное и скрытое манят к себе гораздо сильнее яв-
ственного и очевидного3. Аналогично и в ситуации контраста:
мы называем «необычным», «новым», «оригинальным» нечто,
противоположное привычному и обыденному. На примере те-
атра, который в Новое время был явным лидером индустрии
зрелищ, Юм доказывает, что воображаемые страсти и события
на сцене воспринимаются и переживаются как вполне реальные,
1 То же самое пишет и Беркли: «Вы спрашиваете меня о том, находятся
ли книги в кабинете сейчас, когда их никто не видит. Я отвечаю: да. Вы
спрашиваете меня: а не ошибаемся ли мы, воображая вещи существующи-
ми тогда, когда они актуально не воспринимаются чувствами. Я отвечаю:
нет. Существование наших идей заключается в их воспринимаемости, во-
ображаемое™ и мыслимости... Но вы можете сказать, что тогда и химера
существует. И я отвечу, что она действительно существует в одном смысле:
ее воображают» (Беркли Дж. Сочинения. М., 1978. С. 44).
2 Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. М„ 1996. С. 125.
3 «Ничто так сильно не возбуждает аффекта, как сокрытие части его объ-
екта, когда мы как бы затемняем ее и в то же время оставляем на виду
часть, достаточную для того, чтобы расположить нас в пользу этого объек-
та, и в то же время оставляющую известную работу воображению» (Юм Д.
Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 174).
420
Глава 4. Эйдетический опыт как история
будучи разыгранными с яркой эмоциональной заостренностью
и единодушно поддержанными со стороны зрителей. Современ-
ные технологии в шоу-бизнесе, рекламе, кинематографе, туриз-
ме, социальных сетях убедительно демонстрируют, что на эм-
пирическом уровне воображение не является чем-то сложным,
загадочным. Здесь оно скорее носит массовый характер, когда
«готовый» образ становится матрицей для реализации индиви-
дуальных фантазий и чаяний.
Когда в эпоху романтизма складывается теория художе-
ственного опыта как особой качественно выраженной формы
познания, то эмпирическая теория воображения начинает по-
степенно подвергаться критике, хотя и с ярко выраженных
идеалистических позиций. Художественное воображение трак-
туется романтиками как специфическая форма продуцирования
образов в соответствии с законами искусства. Такое воображе-
ние начинает объясняться с точки зрения особого вдохновения
одаренной личности, приобретая черты возвышенного и не
смешиваясь с обыденным. А в сознании таких мыслителей, как
Рёскин, Эмерсон и Коллингвуд, воображение останется эмпири-
ческой способностью, приобретающей специфические качества
только в духовной сфере. Рёскин пишет: «У Пиндара, Гомера,
Данте и Скотта колоссальная сила фантазии отражается дев-
ственной чистотою мысли»1. Рёскин совершенно не объясняет,
почему так происходит, считая это само собой разумеющимся.
Следует отметить его стремление доказать, что воображение ве-
ликого поэта существенно отличается от обыденной фантазии
и при этом подчинено деятельности духа. В отличие от Рёскина,
писавшего о деятелях искусства, Коллингвуд рассуждает о вооб-
ражении историка, но, по сути, говорит то же самое: «Картина
прошлого, принадлежащая историку и представляющая собою
продукт его априорного воображения, определяет выбор источ-
ников, используемых в его работе»2. Таким образом, Рёскин
и Коллингвуд выделяют воображение художника и историка
в особый вид возвышенного, духовно окрашенного воображе-
ния. Это предположение вполне согласуется с высказанным
выше суждением о том, что в сфере символизма воображение
1 Рёскин Дж. Искусство и действительность. М., 1900. С. 19.
2 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 233.
4.2. Границы воображаемого
421
приобретает такие черты, которые не свойственны простой
фантазии. В этом смысле учение эмпирически настроенных
идеалистов позволило трактовать возвышенное воображение
в виде самостоятельного вида представления. В отличие от пре-
бывающей в сфере чувственности фантазии, такое воображение
творит образы по законам духа; оно позволяет представить идеи
в аспекте их образности, сделать их живыми и открытыми для
наглядного представления.
Хотя такие мыслители преодолевают эмпирическую трак-
товку воображения и учат о возвышенном воображении, они
подчиняют его рациональности и трактуют с точки зрения
концептуализма. На мой взгляд, это является существенной
ошибкой, поскольку воображение в сфере возвышенного опы-
та и в самом деле духовно, но именно как форма жизни в сим-
волическом мире. Тем самым в предложенной здесь теории,
возвышенное воображение создает символическую картину
эйдоса в своей предельной наглядности и гармонической це-
лостности, творя устойчивые образные маркеры для традиции.
Созданный в воображении герой понятен лишь для возвышенного
опыта, но как таковой он не имеет никакого определения в сфе-
ре духа, поскольку он есть символ, отображение эйдетической
формы. Воображение наполняет символическую сущность кон-
кретным содержанием как чем-то формально завершенным, но
вместе с тем бесконечно многозначным, которое будет вступать
в разнообразные диалогические связи, как с индивидуальным
эйдетическим опытом разных субъектов, так и с другими род-
ственными символами в рамках традиции. В этом отношении
воображение не только «финализирует» символ в виде за-
конченной в себе формы, но и выступает своеобразной вехой,
маркером для эйдетического опыта, позволяя всем родствен-
ным актам возвышенного опыта такого рода иметь ориентир.
К примеру, в любой традиции возникает опыт «лишнего» чело-
века, духовно опередившего свой век, но не сумевшего приспо-
собиться к реалиям жизни. Знакомство с таким возвышенным
опытом оказывается маркированным, то есть соотнесенным по
аналогии с уже существующим символическим воплощением.
Так, сосланный в Бессарабию Пушкин тяжело страдал, чувствуя
свою заброшенность и ненужность (в том числе, конечно, и не-
востребованность своего поэтического дара). Возникший опыт
422
Глава 4. Эйдетический опыт как история
Пушкина обрел себя и выстроился вокруг схожих переживаний
Овидия, также сосланного в этот регион двумя тысячелетиями
ранее, создав поэтический образ обреченного на забвение из-
гнанника. Тем самым совершенно индивидуальный опыт Пуш-
кина символически закрепился в диалогической связи с обра-
зами Овидия. Таким образом, практически в любой традиции
наш возвышенный опыт, хотя и прибегает к воображению, ру-
ководствуется, прежде всего, выстраиванием символических
диалогических связей с уже сущими символами', фантазия лишь
наполняет символ оригинальным содержанием, позволяющим
выделить образы с точки зрения индивидуальной интерпрета-
ции эйдетической сути.
Нет никакой меры, и тем более закономерности, в том, на-
сколько богатым и разносторонним должно быть воображение,
творящее символы. Ведь даже в рамках одной и той же тради-
ции в различных символических порядках возможны как яркое
разнообразие, так и относительная унификация. Можно лишь
предположить, что символическое воображение должно обеспе-
чивать достаточный плюрализм образов, трактовок и интерпре-
таций; мера же разнообразия относительна. В качестве регуля-
тивного принципа можно также установить, что при смене тра-
диций роль воображения существенно возрастает. В периоды
ломки символических порядков, как было установлено, эйдети-
ческий опыт в своем развитии уже не находит выражения в су-
щей традиции и ищет новые формы. Поскольку традиционные
формы еще не сложились, новый эйдетический опыт обретает
свою определенность не в реальных, а в воображаемых симво-
лических мирах. Ведь когда мы употребляем такой привычный
штамп, как «гений опередил свое время», то речь идет и о том,
что он создал в своем воображении такой символический мир,
который воплотится в жизни традиции значительно позже.
В рамках такого воображения и в самом деле можно предуга-
дать исторический вектор развития эйдетического опыта, дать
ему первоначальные символические определения. Наиболее яр-
ким случаем проективного символического воображения можно
считать творчество Руссо — тем более что он оставил автобио-
графические сочинения, в которых детально описал свой лич-
ный опыт. Читая «Исповедь» и «Прогулки одинокого мечтате-
ля», мы воспринимаем Руссо как человека нового типа и нового
4.2. Границы воображаемого
423
времени. Однако в этих сочинениях присутствует атмосфера ду-
ховного одиночества, непонимания, несоответствия веку, когда
поставленные цели носят утопический характер. Обостренное
воображение Руссо обрисовывает мир осознающей себя субъ-
ективности, взятой как самосознание одинокого, ранимого
и ни на кого не похожего существа, стремящегося укрыться от
мира в область частной жизни. Описывая, как его преследо-
вали и не давали поселиться на купленном острове, Руссо вы-
страивает такую структуру самосознания, в рамках которой он
. судит с точки зрения собственной эйдетической сущности. Вос-
принимая самого себя как эйдетическую форму человечности,
н^ровместимую с веком абсолютизма, Руссо превращает свою
частную жизнь в форму возвышенного, трактует ее как нечто
символическое. В нарождающемся романтическом сознании
уже становится очевидным, что опыт Руссо, эйдетический образ
человеческого совершенства — это самосознание субъективно-
го духа, и его «одинокая гробница» на острове в Эрменонвиле
становится одним из наиболее многозначительных прототи-
пов для образов романтического искусства. Но если судить
с эпистемологической позиции, любые суждения относительно
«предвосхищения» нового символизма выглядят крайне натя-
нутыми. В случае Руссо присутствует не только заслуженная
дань величию гения, но и очевидная «подгонка» его личности
под романтический стандарт, когда все прочее как бы элими-
нируется, приносится в жертву символической роли. Поэтому,
поскольку я пишу эпистемологическое исследование, а не ге-
роические биографии, я крайне осторожно допускаю, что опыт
некоторых одаренных людей может оказаться настолько выше
в своем развитии, что не сможет реализоваться в наличной тра-
диции и потребует нового символизма. Однако слабость такого
символизма, при всей его новизне, состоит в том, что он сбы-
вается как форма утопического совершенства. Поэтому подоб-
ный опыт и творимые в нем символы могут оказаться и не вос-
требованными временем, остаться на обочине символической
жизни традиции. Любой новаторский символизм — неизбежно
несвоевременный и «лишний». Он может таковым и остаться,
а может породить новую форму традиции; обычно же он оказы-
вается востребованным лишь частично. Так или иначе, симво-
лическое брожение, возрастание плюрализма, появление «лиш-
424
Глава 4. Эйдетический опыт как история
них» и «новых» авторов — это, как правило, верный признак
изменения традиции.
Характерной особенностью классического символизма
выступает то, что, будучи простым и понятным для опыта, он
оказывается содержательно разнообразным и неисчерпаемым.
В этом отношении, несмотря на существенное тождество в осно-
вополагающих символах (они закреплены традицией), сохраня-
ется авторская свобода при создании индивидуальных вариаций
прочтения и интерпретации. Ренессансная живопись довольно
строга как в отношении техники, так и в отношении выбора сю-
жетов; к тому же она строго контролировалась как церковью, так
и светской властью. Однако каждый великий мастер репрезенту-
ет одни и те же сюжеты по-разному. Именно воображение тво-
рит индивидуальную, ни на что не похожую манеру, определяя
тона, композицию, черты и облик героев. Классическое можно
характеризовать как единообразие канонов и жанровых харак-
теристик при возможности бесконечного разнообразия интер-
претаций и свободе авторского воображения. Тут присутствует
тонкая и всегда индивидуальная мера, которую великие творцы
символических форм старались не переходить, а тщательно со-
блюдать. Поэтому символическое, даже приобретающее тради-
ционную сущность, остается открытым для интерпретаций и не
полностью освоенным, оставляет лакуны, в которых возможно
новое творчество; оно оставляет открытой возможность поле-
мики, конкуренции. Подобные процессы, при некоторых общих
чертах, всегда протекают со значительным количеством инди-
видуальных особенностей; сами формы символических актов
воображения и интерпретации суть своеобразные «индивиду-
альности» в эйдетическом мире.
Сущностью эйдетического совершенства выступают такие
качества, как простота, соразмерность и гармония при прекрас-
ном и возвышенном характере символа. Поэтому воображение
само ограничивает полет фантазии при сотворении символов.
Хотя символ есть индивидуальная, а в некоторых случаях и не-
повторимая сущность, он приобретает реальность только в эй-
досе и открыт лишь для восприятия в возвышенном опыте. За
пределами полноты эйдетической реализации вполне возмож-
ны такие формы избыточного воображения, как излишества,
вычурность, манерность, псевдозагадочность, различные фор-
4.2. Границы воображаемого
425
мы намеренной непонятности и т. п. Величайшим шедеврам
искусства, как правило, свойственна сдержанность: в них нет
ничего, что можно назвать китчем, Арчимбольдо менее ве-
лик, нежели Тициан, потому что он оказывается заложником
избранной им уникальной манеры, которая, при всей ее ори-
гинальности, все же быстро утомляет. Тогда как остающийся
в рамках классических приемов Тициан чрезвычайно разносто-
ронен: каждая его картина воплощает в себе, прежде всего, за-
конченную образно-символическую картину эйдоса. Гений, вне
.всякого сомнения, не раб раз и навсегда избранного стиля и не
заложник собственной фантазии — он всегда выше их, посколь-
ку его цель — эйдетическое совершенство.
В символизме воображение функционирует скорее как
форма интерпретации, нежели как форма фантазии. Даже на
уровне гения здесь редко творится нечто радикально новое;
ново оно относительно подобного — того, что уже есть. Сим-
волическое воображение позволяет задать новые рамки и трак-
товки уже сложившегося символизма, причем некоторые из них
вполне могут оказаться уже символами будущей, еще только
складывающейся традиции. Поскольку символизм творится
в сфере возвышенного, то новые интерпретации далеко не всег-
да конкурируют со старыми. Драматизм, борьба и конфликты
символических трактовок возникают тогда, когда к символиз-
му примешиваются внешние факторы, такие как деньги, власть,
идеология, догматизм. Подлинный гений в своем воображении
менее всего хочет что-либо ниспровергать и с чем-то конку-
рировать; он просто ставит свои символы в один ряд с други-
ми. В сфере эйдетического воображения достигается не только
предельная свобода, но и предельная терпимость в понимании
и трактовке символизма.
Наряду с терпимостью к иным символическим трактовкам,
возвышенное символическое воображение достигает полной
свободы в отношении характеристик культурного пространства
и времени. Даже связанное строгими канонами воображение
способно творить символический мир, уникальный по смеж-
ности, соположенности и взаимоотношению образов. Образы
и канонические трактовки ренессансных Венер и Мадонн впол-
не узнаваемы, однако смысловые и композиционные особенно-
сти картин задаются исключительно в воображении. Поскольку,
426
Глава 4. Эйдетический опыт как история
как уже было показано, символы не могут иметь строгого опре-
деления, то определением служит максимально полный набор
тех вариаций и трактовок, которые наиболее значимы в данном
символическом порядке и в данной традиции. Однако перечень
таких трактовок всегда не завершен и открыт, пополняясь до
тех пор, пока жива традиция и пока актуальны запросы опыта.
Потом воображение начинает иссякать, а образы постепенно
отходят в разряд исторической классики. Но даже в отношении
отошедших в прошлое символов нельзя сказать, что воображе-
ние будущего не возродит их вновь. Романтическая литература,
зодчество модерна, философская герменевтика свободно обра-
щаются к Средневековью, «оживляют», заново интерпретируют
символы этой эпохи. И такие «возрождения» через века, вне
времени и пространства — просто при эйдетической необходи-
мости обратиться к соответствующему символизму — в истории
Запада случались не раз. Таким образом, наряду с проективным
символическим воображением, существует и ретроспективное
воображение. Запросы нового эйдетического опыта, при неу-
довлетворенности настоящими символическими языками, мо-
гут быть реализованными путем обращения к классике. Весь Ре-
нессанс сам по себе — грандиозная ретроспектива, когда новый
по содержанию возвышенный опыт постоянно сообразуется
с античным символизмом. При этом, как правило, проективный
и ретроспективный типы воображения довольно мирно ужива-
ются друг с другом: ведь в символическом мире нет такого яв-
ления, как прогресс. Можно установить исторические и интер-
претационные связи между символическими мирами, но нельзя
однозначно утверждать, что тот или иной тип символизма более
совершенен, нежели другой. Все они созданы в эйдетическом
воображении и соответствуют опыту и языку своих традиций;
в каждом из них есть нечто прекрасное, возвышенное, но и не-
что неразрешимое. Символизм Ренессанса был позже, нежели
символизм Античности, но утверждать, что он «более развит»
или «более прогрессивен», — это все равно что доказывать, что
Лермонтов «более художественен», нежели Пушкин. Как исто-
рические, так и современные друг другу родственные символи-
ческие формы скорее сосуществуют друг с другом, наподобие
того, как в Лувре или Эрмитаже гармонично соседствуют произ-
ведения разных школ и эпох.
4.2. Границы воображаемого
427
В философии последнего столетия господствует убеждение
в множественности и бесконечном разнообразии символических
порядков и языков, тогда как сущностное единство таких поряд-
ков утрачено и считается признаком «классической эпохи». По
этому поводу Оукшотт пишет: «Нет никакого “правильного”,
“настоящего”, “необходимого” порядка образов, приближение
к которому можно искать»1. В самом деле, универсалистская
теория символизма, согласно которой символы подчиняются
единому метафизическому стандарту, является ложной. Каждая
, традиция замкнута в собственном символизме и в нем находит
стандарты истинного, правильного и совершенного. Предло-
женная мною теория символизма ближе к плюрализму и скорее
согласуется с идеями Оукшотта, нежели с представлениями Геге-
ля и Кассирера. Тем не менее отмечу и существенное расхожде-
ние. Постмодернистская позиция Оукшотта есть символический
релятивизм; это воззрение лишено каких-либо эпистемологи-
ческих и трансцендентальных критериев символизма, который
тут воспринимается как образная и лингвистическая данность,
одна из многих существующих и возможных, причем мало свя-
занная с другими видами символизма. Каждый символический
порядок рассматривается как маргинальная, самодостаточная
и автономная структура. С падением трансцендентализма воца-
рился релятивизм, убеждение в дурной множественности сим-
волов и отсутствии у них общих корней.
Находясь в пространстве аналитической философии, Оук-
шотт трактует символическую сферу как преимущественно эсте-
тическую, связывая символизм с поэтическим творчеством. Его
теоретическая задача — доказать, что в рамках поэтической
словесности нельзя использовать логические и эпистемологи-
ческие критерии, применяемые к пропозициям. Так, в поэзии
ничего не доказывается, в ней не описывается наблюдаемый
мир, а также не выводятся критерии истины и необходимости.
Смысл поэзии — в символическом языке, который функциони-
рует по собственным законам и представляет собой лингвисти-
ческую субстанцию. Оукшотт пишет: «В моем понимании поэт
вообще не говорит о “вещах”... Он говорит не: “Таковы были эти
люди, вещи или события (возвращения Улисса, Дон Жуан, закат
1 Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 275.
428
Глава 4. Эйдетический опыт как история
на Ниле, рождение Венеры, смерть Мими, современная любовь,
Великая французская революция) на самом деле”, а: “Я создал
эти образы в своем воображении, я прочел их так, как это по-
добало им, и я нахожу в них только наслаждение’’»1. Поскольку
поэтический язык может оперировать исключительно симво-
лами, то поэтическое слово обозначает не вещь, а эйдос. Воз-
вращение Одиссея — это не фиксация маршрута судна, а сложно
составленный символический образ, где такие сущности, как
путь, жизнь, родина, понимаются с возвышенной точки зрения
и представлены как эйдосы. Возвращение на Итаку оказывает-
ся символом обретения родины; и этот символ подвергается са-
мым разнообразным вариациям и описаниям с позиций других
актов опыта, оставаясь классической и изначальной матрицей
для всех подобных ситуаций. Когда мы говорим, что символизм
описывает реальность, то речь идет исключительно об эйдети-
ческой реальности; поэтому любой редукционизм от символа
к вещи ложен. Если и можно говорить о символическом редук-
ционизме, то каждый символ можно свести к определенным ак-
там возвышенного опыта — и то лишь как к необходимому со-
провождению символа через актуальное переживание, но не как
к некой «сущности». Когда Пушкин, Достоевский и Блок творят
художественный образ Петербурга, мы имеем дело с эйдетиче-
ским представлением о нем. Петербург как символический об-
раз лишь косвенно подобен реальному городу; настоящий Пе-
тербург зачастую вообще не имеет тех черт, которые присущи
его художественному образу, эмоциональная насыщенность
которого может быть передана только как символ. Описание
Петербурга, таким образом, «раздваивается» на буквальное
и контекстуальное значения. При этом не следует забывать, что
Петербург как художественный образ отсылает к опыту в целом
и сам воспринимается как целостность; поэтому он вводится
в контекст произведения как законченная в себе эйдетическая
сущность, как некая совершенная действительность. И Пушкин,
и Достоевский, и Блок создали двойственный, противоречивый
облик имперской столицы, зачастую совершенно невнятный для
рассудочного восприятия. В одном стихотворении Пушкин или
Блок творят Петербург как прекрасный, гармоничный, совер-
1 Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М„ 2002. С. 271.
4.2. Границы воображаемого
429
шенный город, застывший в вечной красоте и гармонии; в дру-
гом — Петербург предстает мрачным, гнетущим, адским местом,
сотворенным на погибель, несущим бедствия и рождающим
тоску. С эйдетической точки зрения тем не менее здесь нет ни-
какого противоречия. С одной стороны, символический образ
Петербурга лишен однозначности, с другой — достигнута гармо-
ническая полнота символа и опыта. Эйдетические аспекты то-
ски и уныния приобретают в «городе пышном, городе бедном»
характер возвышенной и завершенной в себе связи, когда сим-
вол отсылает к опыту, а опыт, в свою очередь, придает содержа-
ние символу. Поэтому как восторг, так и уныние, порожденные
Петербургом, — это акты возвышенного переживания, реализо-
ванные в символах. Наподобие двуликого Януса, эйдетический
образ Петербурга берется в единстве противоречивых сторон,
но при этом каждая из них выступает самостоятельным и завер-
шенным в себе символом. Ведь, например, Пушкин совершенно
не стремится создать исчерпывающий, непротиворечивый или,
тем более, истинный образ Петербурга: у него возникает воз-
вышенное переживание, которое он воплощает в совершенной
и прекрасной поэтической форме. Другое возвышенное пере-
живание приобретает иную эйдетическую форму, но оно само
по себе никак не связано с предыдущим. Поэтому, если поднять
эпистемологический вопрос, речь идет о двух разных симво-
лических картинах Петербурга, которые, по большому счету,
связаны лишь тем, что переживания в разное время возникли
в душе Пушкина и что они относятся к одному и тому же (в гео-
графическом смысле) городу. Это, кстати, объясняет и такой
факт из истории живописи, как множество мадонн в творчестве
одного художника: каждая из них индивидуальна в отношении
опыта и той эйдетической интерпретации, которая в этот опыт
вложена; а потому выставленные в одном зале Эрмитажа мадон-
на Бенуа и мадонна Литта кисти Леонардо да Винчи схожи лишь
по косвенным признакам, будучи законченными в себе и авто-
номными художественными творениями.
Индивидуальность актов опыта и символического вооб-
ражения придают символизму бесконечное количество вари-
аций, создавая необходимое в традиции разнообразие форм.
Здесь опять следует согласиться с Оукшоттом, который так
определяет суть творения и выбора поэтических образов:
430
Глава 4. Эйдетический опыт как история
«Поэт собирает образы, как девушка букеты цветов, подби-
рая их только по тому, как они будут смотреться вместе»1.
В самом деле, критерием совершенства символа выступает
эйдетическое совершенство, то есть такие отмеченные еще
Платоном качества, как гармония, полнота, завершенность,
идеальность, красота, благородство, возвышенность и целый
ряд других. Сам набор этих эйдетических характеристик на-
глядно демонстрирует, что символ никак не регламентирован
относительно того, какие аспекты совершенства окажутся
наиболее существенными и определяющими его суть. Так или
иначе, это зависит не только от воображения творца, но и от
многих традиционных факторов, от вкуса, школы, стиля.
При этом возникает столь причудливая комбинация разных
оснований (если угодно — код), что она просто обречена ока-
заться индивидуальной и не похожей на уже существующие.
Даже на подражательном уровне искусство чрезвычайно раз-
нообразно; гении же и таланты творят совершенно несхожие
друг с другом миры.
В условиях господствующей и поныне релятивистской тео-
рии символизма особую роль приобретают классические симво-
лы былых эпох. Находясь в другом времени, они оказываются не
досягаемыми сами по себе и могут быть подвергнуты лишь ин-
терпретациям и переописаниям. В некотором смысле понятно,
почему в наше время исторический символизм оказывается про-
тивопоставлением установкам постмодернизма, находящегося
исключительнов пространстветак называемого актуального дис-
курса. Ведь никакие переописания и перетолкования творчества
Данте не затронут его творений, которые останутся такими, как
они есть, даже если все критики превратятся в зоилов и сгово-
рятся с сего дня считать их чем-то отжившим либо ничтожным.
Тем не менее любая историческая интерпретация творит соб-
ственные символические представления, неся в себе собствен-
ное воображение. Как пишет об истории Оукшотт: «’’История”
есть результат строгого и изощренного способа мышления
о мире, возникшего недавно из первичного интереса к нашему
окружению как содержащему намек на то, чего больше нет»2.
1 Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 267.
2 Там же. С. 152.
4.2. Границы.воображаемого
431
Характерной особенностью исторического дискурса выступает
то, что символы уже сложившейся традиции понимаются и ин-
терпретируются с точки зрения традиции существующей (если,
конечно, допустить, что речь идет о современном положении
самого историка). Я допускаю то, что символическая трактовка
того или иного исторического дискурса проливает свет, прежде
всего, на символизм интерпретатора и позволяет сделать суще-
ственные выводы о той традиции, в которой он живет.
Само по себе отношение к историческому дискурсу мо-
,жет быть различным. Если, к примеру, мы говорим о возро-
ждении и уподоблении, то тут возникает много разных моду-
соу интерпретации — равно как в случае, если мы относимся
к истории с позиции критики и деконструкции. Характерно
следующее: в классических традициях существует единство
в том, как надо интерпретировать историю. К примеру, Ре-
нессанс заимствует античные формы живописи и пласти-
ки. Хотя они по-разному трактуются крупными мастерами
и каждый из них вносит что-то свое, интерпретирует, «до-
писывает», — все равно здесь присутствует единая стилевая
манера и, что особенно важно, единство в понимании того,
каковы эти сюжеты и зачем они цитируются. И наоборот:
в так называемую неклассическую эпоху присутствует ин-
дивидуалистическое, маргинальное отношение к символам
былых традиций, а плюрализм интерпретационных подхо-
дов неизбежно гипертрофируется до степени релятивизма.
Если предельно кратко охарактеризовать символическое от-
ношение к истории со стороны постмодерна, то оно может
быть обозначено как ирония. По поводу иронии как «мето-
да» исторического исследования X. Уайт пишет следующее:
«Если можно сказать, что Ирония — это только одна из
множества возможных точек зрения на историю, каждая из
которых имеет веские причины для существования на поэ-
тическом и моральном уровне сознания. Ироническая пози-
ция начнет утрачивать статус необходимой точки зрения на
исторический процесс. Историки и философы истории будут,
таким образом, свободны концептуализировать историю,
постигать ее содержание, конструировать повествователь-
ные объяснения ее процессов в той модальности сознания,
которая в наибольшей степени соответствует их собствен-
432
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ным моральным и эстетическим ожиданиям»1. Ироническая
позиция базируется на убеждении в том, что символическая
коммуникация не преследует установления таких эйдетиче-
ских связей, которые можно считать необходимыми. Интер-
претация, будучи волюнтаристской по своей сути, принимает
в расчет исключительно собственный опыт. Рорти, к приме-
ру, учит о том, что «либеральный ироник» всегда готов при-
мириться с тем, что все символические построения (в том
числе и его собственные) единичны и случайны2 3.
Постмодернистский символизм теоретически значителен тем,
что плюрализм символических форм в нем достигает такой степе-
ни, которую можно считать предельной, — больше никакая тради-
ция выдержать не сможет1. Если человек классической традиции
на все эйдетические вопросы имел, как правило, один ответ (реже
два-три), то современность представляет собой поле из множества
относительно равноценных ответов, и особенно важное значение
теперь приобретает выбор какого-либо из них. Разумеется, вооб-
ражение здесь утрачивает эйдетические ориентиры и принимает
черты так называемого маргинального, то есть практически осу-
ществленного фантастического, в рамках которого на первый план
выходит радикальная новизна формы. Если итальянец Ренессанса
стремится встать в один ряд с древними классиками, то автор эпохи
постмодерна хочет создать нечто «исключительно собственное»,
трактуемое как радикально неклассическое. Практически все со-
временные направления в искусстве и философии могут рассматри-
ваться как неклассические, поскольку их основания строятся «от
противного», с позиций символического индивидуализма и стрем-
ления разрушить символическую интерпретацию между традици-
ями за счет предложения проекта с радикальной новизной. В той
культуре, которую Рорти называет «literary culture», символическая
коммуникация лишается своих трансцендентальных оснований;
эти основания носят лингвистический характер.
1 Уайт X. Метаистория. Екатеринбург, 2002. С. 500.
2 «Опоэтизированная культура не будет требовать, чтобы мы находили
реальную стену позади разрисованной, то есть реальные критерии истины,
а не критерии, которые являются лишь артефактом культуры» (Рорти Р.
Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 83).
3 Писатель В. Пелевин предложил метафору для современного образа
культуры — «клиповое сознание».
4.2. Границы воображаемого
433
Я не берусь оценивать истинность такого подхода; глав-
ное — что он возможен как теоретически, так и эпистемологи-
чески. Корни так называемого иронического или радикального
описания уходят в глубокую древность, когда деконструкция
проводилась не в теоретических дискуссиях, а куда более деспо-
тическими и варварскими методами. К примеру, разрушение
храмов и городов вполне может быть трактовано как ради-
кальное переописание, насаждение символов собственной тра-
диции на месте прежних. При более тонком подходе к истории
все прошедшие эпохи меряются на один-единственный аршин
современности. Так, у Цицерона все великие мужи древности
находятся в едином концептуальном и мировоззренческом
пространстве; у Вольтера в «Философских повестях» действие
разворачивается в странах, похожих на Францию, и во времена,
похожие на вольтеровскую эпоху. В масштабе символических
трансформаций во всей известной нам истории постмодернизм
перестает быть чем-то радикально новым и оригинальным,
а такие приемы, как деконструкция, переописание, ирония, ока-
зываются уделом довольно многих эпох. Символическая комму-
никация знает разные модусы, среди которых разрушение и от-
рицание — далеко не единственные. Историческое воображение
в символической сфере именно в эпохи разрозненности и реля-
тивизма выглядит наиболее благородным в том смысле, что оно
может открывать для нас былые миры гармонично соединен-
ных символов, жить в которых нам не довелось.
Вполне закономерным, если судить с эпистемологической
точки зрения, представляется тот факт, что как отдельно взятый
субъект, так и традиция в целом, достаточно быстро утомляются
и устают от чрезмерного многообразия разноплановых симво-
лических форм. Символическое воображение имеет естествен-
ные пределы, заданные свойствами возвышенного опыта и необ-
ходимостью определенности по отношению к символическим
основаниям традиции. Как правило, радикально и абсурдно
маргинальное довольно скоро отмирает, а прочее постепенно
входит в привычный символический горизонт и приобретает
классические трактовки. Если говорить об историческом вооб-
ражении, то оно, утомленное радикальным индивидуализмом
и иронией, неизбежно переходит в более умеренную, наррати-
вистскую форму, в рамках которой выстраивается диалог раз-
434
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ных традиций. Современная историческая герменевтика уже
не стремится судить с позиций собственной исключительности;
истину в ней уже не может сообщать кто-то один. Воображение
в нарративе приобретает ностальгические черты: стремление
удержать возвышенное представление о былой великой эпохе.
В целом современный нарративистский подход к истории — это
завершение поэтической идеи романтиков о ностальгическом
удержании великого греческого духа: пусть Эллада навсегда
ушла в прошлое — ее дух может быть воскрешен в простран-
стве воображения через сохранение традиции уподобления
великим символическим образцам. От современного историка
требуется скрупулезное воссоздание символического строя изу-
чаемой эпохи; причем оно должно осуществляться с герменев-
тической точки зрения, то есть восстановление исторического
символизма должно произойти на языке изучаемой эпохи. Хотя
в таком подходе есть нечто антикварное, он представляет собой
достаточно реалистичную картину нашего существования в та-
кой традиции, которая не замкнута в своей исключительности,
а стремится установить связи с прежними традициями в соб-
ственном самосознании. Если говорить о философии, то сегод-
ня, конечно, невозможен романтизм Хайдеггера, призывавшего
вернуться к «истокам» философии в лице досократиков. Это
сейчас немыслимо хотя бы потому, что никакого «истока» фи-
лософии как некой точки или некого всеобщего основания»про-
сто не существует. Любая символическая форма рассматривает-
ся в наши дни несколько иначе: как совокупность нескольких
символически выраженных традиций (или эпох), каждая из ко-
торых сохраняет собственную индивидуальность и своеобразие,
хотя и связана диалогическими отношениями с предшествую-
щими традициями. Если говорить проще, в нарративистском
и парадигмальном представлении об истории мысли у филосо-
фии не один, а несколько «истоков», каждый из которых фор-
мирует собственную эпоху, в пределах которой сосредоточены
огромные пласты интеллектуального творчества. Аналогично
можно рассуждать о символическом плюрализме в искусстве,
науке и религии, учитывая специфические особенности той или
иной символической формы. Так, в рамках религии плюрализм
практически невозможен: здесь особенно важны такие основа-
ния, как откровение, догматы, официальная позиция церкви;
4.2. Границы воображаемого
435
в рамках же искусства, где каждый великий художник часто тво-
рит «с чистого листа», можно находить предельно возможный
плюрализм символических традиций среди всех культурных
форм. Стратегия символического воспоминания неотделима от
уподобления через воображение; она представляет собой под-
линно равноправный символический диалог.
Хотя поэты — не философы, они порой глубоко чувствуют
и образно выражают те духовные процессы, которые еще только
ждут своих воплощения. На мой взгляд, Блок точно определил
как силу, так и слабость воображения в декадентстве Серебря-
ного века: «Декадентство должно быть отделено от новаторства.
Настоящее декадентство — субъективно-индивидуальное — об-
речено на гибель»1. Любой символизм неизбежно вырождается
от скуки бесконечного повторения. Новый эйдетический опыт
требует новых символических средств выражения; и если их нет
в окружающей традиции, субъект такого опыта станет искать
их в воображении. Но если такие символические формы суще-
ствуют, то новый эйдетический опыт пойдет по пути интер-
претации, видоизменения уже наличных классических символов.
Он окажется вписанным в традицию и займет в ней свое место
как ее новая стадия.
Поскольку искусство предельно либерально относительно
достоверности описываемого, то воображение в нем зачастую
воспринимается как свободный полет вдохновения, как проти-
воположность холодному рассудку и любой форме традицион-
ного консерватизма. В этом смысле поэт и в самом деле выглядит
провозвестником бесконтрольно новаторского воображения.
Однако внутри поэтического языка это воображение оказыва-
ется существенно ограниченным, подчиненным технике, стилю,
школе. Поэт, воплощая вдохновение, словно накладывает узду
на свое воображение. Символический образ на самом деле не
преследует целью достичь оригинальности как таковой — он
стремится стать открытым для максимально большего числа
актов возвышенного опыта. Великий символ, живущий в веках,
как отмечали многие авторы, воспринимается не как «ради-
кально новое», а скорее как «архаическое», берущее свое начало
в вечности и идущее от общечеловеческих истоков. Поскольку
1 Блок А. А. Записные книжки. М„ 1965. С. 24.
436 Глава 4. Эйдетический опыт как история
символы не вечны и не всегда находят свое место в новой тра-
диции, стратегия ностальгического воспоминания гармонично
уравновешивает стремление к творчеству новых символов. При-
знаком любой классической символической традиции выступа-
ет, прежде всего, гармоничный союз старого и нового, наличие
внутри традиции определенной символической эволюции. Гра-
ницы символического воображения не могут быть очерчены
трансцендентально, для всех возможных традиций, эпох, язы-
ков. Нам достаточно лишь осознавать, что для каждой тради-
ции, как правило, такие границы всегда присутствуют и могут
быть определены.
4.3. Жизнь и смерть символов
Поскольку любой символ когда-то возникает и когда-то
может исчезнуть, то закономерен теоретический интерес объ-
яснить причины этого феномена. В заключительном разде-
ле я попытаюсь не только проанализировать классические
и современные подходы к проблеме возникновения и унич-
тожения символов, но и взглянуть на этот вопрос с позиции
предложенной здесь теории эйдетического опыта — тем более
что символические трансформации крайне редко отличаются
простотой и всегда представляют собой довольно запутанную
проблему.
Хотя древние мыслители теоретически не исследовали
проблему возникновения и уничтожения символов, их размыш-
ления о трансформации идей и ценностей заслуживают особо-
го внимания. Согласно представлениям о роке, все сущее воз-
никает и уничтожается. Но, поскольку Античность знает лишь
один стандарт цивилизации и человечности, возникновение
и уничтожение понимается циклически: на смену уничтоженно-
му может прийти новое, но подобное ему. Так, потеря греками
азиатских полисов Эфеса и Милета трактуется как искоренение
цивилизации и приход на эти земли варварства. В свою очередь,
процесс колонизации и поход Александра интерпретированы
как вытеснение варварства и распространение цивилизации.
Историки могут обвинить меня в сознательном упрощении
сложных процессов, с чем я согласен, — однако упрощаю толь-
ко ради эпистемологической цели: мне важно показать, что все
438
Глава 4. Эйдетический опыт как история
возникновения и уничтожения культурных форм в Античности
понимаются с точки зрения универсалистской культурной па-
радигмы. Причем диалектика рока трактуется греками не кон-
цептуально, а символически. С одной стороны, все возникает
и неизбежно уничтожается; с другой стороны, все от века к веку
будет повторением одного и того же. Эти стороны противоре-
чия совмещаются в античном символизме без существенных
конфликтов.
Понимание конечности любых форм цивилизации дости-
гает своего завершения в римской философии. Римляне впер-
вые осознают, что символы могут гибнуть, подобно прочим
сущностям, и всем разрушение правит. Так пишет Сенека:
Все, что мы видим вокруг, пожрет ненасытное время;
Все низвергает во прах; краток предел бытия.
Сохнут потоки, мелеют моря, от брегов отступая,
Рухнут утесы, падет горных хребтов крутизна.
Что говорю я о малом? Прекрасную сень небосвода,
Вспыхнув внезапно, сожжет свой же небесный огонь.
Все пожирается смертью; ведь гибель — закон, а не кара.
Сроки наступят — и мир этот погибнет навек1.
Лукреций придает процессу возникновения и уничтоже-
ния виталистическое измерение, понимая зарождение и гибель
культурных форм по аналогии с рождением и смертью живых
существ:
В целом, однако, стоит нерушимо вещей совокупность
В силу того, что тела, уходящие прочь, уменьшают
Вещи, откуда ушли, а другие собой приращают:
Те — заставляя стареть, а эти — цвести им на смену,
Все же не медля и тут. Так весь мир обновляется вечно2.
Поскольку речь здесь ведется о духовных ценностях, то
поэтические аналогии позволяют сделать определенные вы-
воды о мировоззрении античного человека, которые могут
считаться также и теоретически достоверными. Все символы
не вечны. Они возникают и уничтожаются. Но на месте унич-
тоженного символа не может остаться небытие — символы
1 Цит. по: Античная лирика / Пер. Ю. Ф. Шульца. М., 1968. С. 461.
2 Лукреций. О природе вещей. II, 71-75 / Пер. Ф. А. Петровского.
4.3. Жизнь и смерть символов
439
обновляются в вечном круговороте. При этом можно допу-
стить, что в римском поэтическом сознании символические
трансформации понимаются по аналогии с видоизменения-
ми, происходящими в природе. Символы гибнут, наподобие
отдельных людей, городов, народов, но на их место приходят
новые люди, народы, города.
Единственная концепция, которая бросает вызов пред-
ставлениям о господстве фатума, — это концепция Плато-
на: идеи не подвержены возникновению и уничтожению;
юни существуют вечно и неизменно. В примере с гармонией
Платон доказывает божественный характер художественно-
го ^творения. То, что обычно называют духовными ценно-
стями, и то, что я называю символами, обретает свою сущ-
ность не в человеческом, а в божественном, идеальном мире.
Тинних-халкидиец сотворил свой пеан лишь потому, что он
был «одержим богами»: его посетила Муза. В своих концеп-
туальных основаниях символический мир, по Платону, об-
ретает абсолютное измерение, которое присуще не времени,
а вечности. На фоне традиционного греческого символизма,
в котором возникновение и уничтожение творится по воле
рока и богов, платоновский идеализм выглядит явной, оче-
видной противоположностью. Однако, несмотря на то что
учение о вечной гармонии не имеет под собой ничего, кроме
метафизических доказательств, именно оно лежит в основе
классического обоснования символизма. Что бы сотворили
великие гении, если бы они не были уверены в абсолютной
ценности, уникальности, исключительности, вечности своих
произведений? Даже если такое убеждение иллюзорно, оно
признавалось полезным в нескольких великих классических
традициях. Достоевский однажды предположил: если чело-
веку вдруг докажут, что его жизнь не имеет никакого выс-
шего смысла, то он должен выйти и повеситься, потому что
без прекрасного, возвышенного, благого, истинного человек
прожить не может.
Если мы подойдем к проблеме возникновения и уничто-
жения символов с позиции методов науки, придется конста-
тировать, что все символы когда-то возникли и, вероятно,
когда-то перестанут существовать. Для эмпирически ори-
ентированного историка такого положения, на мой взгляд,
440
Глава 4. Эйдетический опыт как история
вполне достаточно. Сложность заключается в исключитель-
но практическом характере такого допущения. Любые сужде-
ния о вечности и временности символов делаются не с точки
зрения вечности, а с позиций субъекта, выступающего но-
сителем символов той или иной традиции. Такие суждения
всегда носят ценностный характер, поскольку так называ-
емое объективное содержание здесь невозможно отделить
от эйдетической установки и опыта. Поэтому, когда Платон
и другие убеждены в вечности шедевров искусства, в неуничто-
жимое™ цивилизации, в величии философии, они исходят
не из фактов и реалий, а из символических установок, когда
воплотившее высшую гармонию произведение понимается
как совершенный, прекрасный, завершенный в себе эйдос.
Суждения о вечности или временности символов могут быть
высказаны не с научной, а с метафизической точки зрения,
и многое здесь определяется тем опытом, который пережи-
вает субъект этого суждения, равно как и символическими
установками традиции, в которой он живет.
Хотя история еще не знала вечных символических форм,
само представление о временном и преходящем характере все-
го сущего есть символ вечного изменения, поскольку тем самым
делается попытка определить эйдос самой истории человече-
ства. Идущее от Платона и развитое в эпоху романтизма учение
о причастности гениального творения вечности — это также
эйдетическая интерпретация исторического процесса, стремле-
ние построить историю вокруг гениальных личностей и произ-
ведений, понимаемых не как явления, а как символы. В конце
концов, под «вечностью» и «временностью» в этом споре не по-
нимается ничего концептуального: речь идет о метафорической
и символической форме воплощения эйдоса духовной истории.
Так, «вечность» понимается, конечно, не как способность оста-
ваться одним и тем же, а скорее как понятность для опыта всех
поколений, безусловная ценность, значимость, которая не может
быть переоценена и подвергнута сомнению. Тем самым идеа-
лизм учит о символической вечности, равно как реалисты —
о символической временности.
Тем не менее естественное вырождение или насиль-
ственное уничтожение символизма — феномен, свойствен-
ный любой культуре и цивилизации, независимо от того, как
4.3. Жизнь,и смерть символов
441
он объясняется. Даже Рим, Вечный город, пал. Вся античная
цивилизация, которая веками воспринималась как величе-
ственное творение великих мужей, исчезла. В поэтическом
смысле (например, у Байрона в «Паломничестве Чайльд-Га-
рольда») — это мировая трагедия человечества, гибель пре-
красного и совершенного мира; в эпистемологическом же
смысле — не более чем теоретическая задача, призванная
объяснить уже свершившееся. Поэтому я намерен решать ее
с предельной бесстрастностью, пытаясь найти реальные ос-
, нования в области теории эйдетического опыта.
Любую цивилизацию можно разрушить дотла, хотя эта
задача порой трудновыполнима. Историк Э. Томпсон рас-
сказывает об одном трагическом периоде в истории Рима:
«Именно тогда [в 546 г. н. э. — С. Н.] Вечный город на сорок
или более дней оказался необитаемым. Там не было нико-
го, кроме диких зверей»1. Иногда не дикие варвары, а вполне
цивилизованные греки и римляне предавались сознательно-
му символическому уничтожению. Так, Винкельман сообща-
ет об одном из деяний Калигулы: «Калигула, приказавший
низвергнуть и разбить статуи знаменитых римлян, которые
воздвиг Август на Марсовом поле, снимавший головы у са-
мых прекрасных статуй богов и заменявший их своей и даже
намеревавшийся истребить творения Гомера, едва ли может
считаться покровителем искусства»2. Пытаясь затмить сла-
ву Герострата, этот император выступил одним из римских
предтеч «деконструкции». Но, искореняя ценности физиче-
ски, он оказался бессильным уничтожить их прекрасный,
возвышенный, величественный характер. Сами по себе дея-
ния Калигулы символичны, но именно как момент низмен-
ного, момент наглядной символической противоположности
возвышенному. Калигула стал героем в области самоуправ-
ства, беззакония, разврата, клятвопреступления и прочих
нравственных проявлений, которые только и возможны
в качестве этой символической антитезы. Говоря о насиль-
ственном искоренении символов, не следует забывать также
1 Томпсон Э. А. Римляне и варвары. Падение Западной империи. СПб.,
2003. С. 77.
2 Винкельман И. И. История искусства древности. Малые сочинения.
СПб., 2000. С. 273.
442
Глава 4. Эйдетический опыт как история
об их естественной гибели, когда символы перестают соот-
ветствовать новому опыту и новой традиции, что, в сущно-
сти, и произошло в имперском Риме. Гердер пишет: «И они
пали, великие боги, Юпитер Олимпийский и Паллада Афина,
дельфийский Аполлон и аргосская Юнона, — храмы их об-
ратились в щебень, статуи — в груды камней, осколки кото-
рых напрасно ищут по сию пору. Они исчезли с лица земли,
и теперь, напрягая все силы, трудно представить себе, как
процветало это царство богов, как процветала их вера, какие
чудеса вершили они между самыми умными и проницатель-
ными народами. И если пали эти кумиры, эти самые прекрас-
ные идолы, каких рождало человеческое воображение, — не
падут ли и менее прекрасные? И кому уступят они место, ка-
ким идолам?»1 Тем самым символизм существует лишь тогда,
когда он поддерживается, сохраняется, когда он востребован
с точки зрения опыта, когда он соответствует установлени-
ям наличной традиции. Остался в прошлом расцвет полис-
ного строя, исчезли великие мастера искусства и философии,
пришла огромная деспотическая империя, на троне периоди-
чески оказывались личности вроде Калигулы, — все это об-
условлено новым опытом, требующим новых символов. Во
многих случаях этот новый опыт был низменным: так, к при-
меру, почитание великого мужа постепенно сменилось почи-
танием императора. Но, так или иначе, новый опыт потре-
бовал нового символического оформления, и оно неизбежно
оказывалось несовместимым с греческим символизмом —
тот оставался чем-то кроме официальной идеологии и набо-
ра культурных артефактов, но в реальности лишь единицы
римлян следовали этому символизму духовно, имели схо-
жий опыт. Поэтому Марк Аврелий, который, скорее всего,
во многих чертах уподоблялся древним благородным мужам
и вел жизнь философа, — это исключение из довольно обще-
го правила. Лицемерно уподобляясь древним героям, Нерон
в своем опыте (насколько мы можем судить по множеству
источников) считал себя полубогом, которому позволено
абсолютно все, который готов попрать все законы, в глазах
1 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М„ 1977.
С. 384.
4.3. Жизнь и смерть символов
443
которого не было ничего возвышенного. Можно ли судить по
Нерону и Калигуле о «человеке Рима», о римском символиз-
ме в целом? Вероятно, нет, поскольку при таких правителях
появлялись мужи, подобные Цицерону, и Сенеке, и Плинию
Младшему, и Овидию, и Горацию, и Тациту — то есть мужи,
которые несли в себе черты возвышенности и духовного ве-
личия. В любую эпоху возникают символические, завершен-
ные в себе, классические образы возвышенного и низмен-
ного, прекрасного и безобразного, никогда не находящиеся
.между собой в простых и однозначных отношениях и, как
правило, довольно причудливо переплетенные друг с другом.
Так и Александр, который, по мнению Монтеня, был одним
из благороднейших людей мира, совершил целый ряд же-
стоких и постыдных поступков, о чем французский философ
и сообщает. Я объясняю это тем, что личность Александра
с самого начала тщательно изучалась и многократно ком-
ментировалась, поэтому его облик и сохранил определенную
сложность, не был идеологически выправлен, доведен до ме-
дального совершенства и теперь являет нам далекий от одно-
значности портрет символической личности.
Великий символизм может быть разрушен, но может
быть и возрожден в прежнем виде. Возрождение былого сим-
волизма, вне всякого сомнения, есть такая же интерпрета-
ция, как и стремление его искоренить. Возрождение столь же
необходимо, как и искоренение, если судить о них как об ос-
новополагающих символических установках традиции. При
этом символическое уподобление классическим символам
не знает границ места и времени: опыт мастеров Ренессанса,
например, требовал реализации через обращение к антич-
ным формам в литературе, искусстве, философии. И это ока-
залось не ретроспективным, а выдающимся перспективным
историческим ходом. Неудовлетворенный средневековым
символизмом и не выработавший собственного языка опыт
деятелей раннего Возрождения обратился к древним формам
и языкам, творчески перерабатывая их на свой лад и посте-
пенно формируя собственный тип символизма. Тем самым
эйдетический опыт Ренессанса использует классические
формы как начальную платформу, как возвышенный идеал,
достойный уподобления. Именно через идею уподобления
444
Глава 4. Эйдетический опыт как история
следует понимать эпитафию, которую написал Пьетро Бембо
для надгробия Рафаэля:
Господу Всеблагому великому.
Рафаэля Санцио сына Джованни Урбинского
Выдающегося живописца, соперника древних,
Почти что дышащие образы созерцая,
Союз природы и искусства.
Процесс обращения к символам минувшей великой эпохи,
как я полагаю, ничего не говорит о вечности таких символов.
Просто следует констатировать, что такое обращение возмож-
но, а зачастую и оправданно. Кроче пишет: «Да, мертвая исто-
рия возрождается, минувшее становится нынешним, если того
требует сама жизнь. Древние римляне и греки покоились в сво-
их гробницах до тех пор, пока новая зрелость европейского
сознания в эпоху Возрождения не пробудила их к жизни. По-
коились забытыми, ненужными, непонятыми — примитивные,
грубые, варварские формы культуры, пока новый этап развития
европейского духа, названный романтизмом или Реставрацией,
не “проникся симпатией” к ним»1. Символическое наследие, ко-
нечно, не является «архивом», к которому можно обращаться,
когда заблагорассудится. Любое «возрождение» имеет под собой
основания в виде запросов возвышенного опыта, который оказы-
вается не удовлетворен символами собственной традиции. При
этом в символическом мире вовсе не парадоксально то, что новый
эйдетический опыт обращается к символизму давно отжившей
эпохи как к чему-то новому относительно момента символиче-
ского настоящего. Любое возрождение — это придание старым
символам характера нового опыта, которое, несмотря на порой
искреннее стремление всего лишь уподобляться и подражать,
на самом деле оказывается творческим переописанием, приспо-
соблением классических форм к языку нового времени, новой
творящейся классики.
Следует отличать акты вандализма от актов интерпрета-
ции символов, хотя в обоих случаях прежние символы изме-
няются. Переделка базилик в церкви, разработка Рафаэлем
теории и практики «древней живописи» — это интерпрета-
1 Кроче Б. Теория и история историографии. М„ 1998. С. 16.
4.3. Жизнь и смерть символов
445
ции, когда аутентичность прежнего символа видоизменяется
ради создания нового, но равноценного ему символа. Сим-
волические интерпретации более озабочены выстраиванием
диалогов и преемственности, нежели деконструкцией и пере-
описанием прошлого. Любой ушедший в прошлое символизм
может оказаться забытым, а может и войти в новую тради-
цию, пережив возрождение. Здесь нет никакой иной законо-
мерности, кроме выбора символических средств для реализа-
ции запросов эйдетического опыта.
. Исторический символизм является жизненным лишь тог-
да, когда он связан с запросами наличного возвышенного опы-
та у может стать предметом новой интерпретации. Если этого
не происходит, то никакие декларативные или идеологические
приемы не смогут остановить неизбежное вырождение: ведь
символическое забвение столь же естественно, как и возникнове-
ние новых символических форм. Но там, где существует возмож-
ность забвения и потери, возникает проблема хранения и удер-
жания от распада. В данном контексте музей как место хранения
исторического символизма приобретает особое значение. Нет
сомнения, что только благодаря музеям сохраняются ценные
подлинники, которые в других условиях, вероятнее всего, были
бы утрачены. Если говорить о памятниках культуры — таких,
как тексты, сооружения, произведения искусства, — то практи-
ка не знает иного способа их сохранения, нежели консервация
и последующее поддержание подлинного и неизменного обли-
ка. Поэтому, начиная с романтиков, вопросы вызывает не на-
личие музея как учреждения просвещенного общества и храни-
лища шедевров, а скорее попытки искусственного сохранения
ушедшего символизма, равно как и намерение собрать произ-
ведения разных стилей и эпох в одном месте. Заслуживает вни-
мания мнение Шлегеля: «Горестное зрелище видеть сокровища
редких и превосходных произведений искусства в их скоплении,
подобно обычной коллекции драгоценностей»1. Идея музея —
это эклектический подход к сохранению символических обра-
зов, порожденный идеологией Просвещения. Любая символи-
ческая интерпретация, как я полагаю, расставляет приоритеты
1 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2-х т. Т. 1. М., 1983.
С. 63.
446
Глава 4. Эйдетический опыт как история
относительно тех исторических символов, которые для нее яв-
ляются актуальными. Она вполне может включать в себя и идею
коллекции; но она вырождается, теряя новизну, если не вводит
различий между символическими порядками. Так, к примеру,
Ренессанс возносит античность, но вместе с тем отбрасыва-
ет готику. Гёте же, наоборот, крайне холоден к Возрождению,
зато находит созвучные ему смыслы в Средневековье и пылко
выступает за признание готики великим классическим стилем.
Подобные примеры свидетельствуют о вполне естественной ан-
гажированности интерпретаторов. Несмотря на то что, соглас-
но наукообразным канонам, любое историческое исследование
должно проводиться «с точки зрения объективности и фактиче-
ской доказательности», на практике так не бывает: во всем го-
сподствуют ценности.
Начиная с эпохи модерна, возникает убеждение в по-
лифонии, мозаичности переплетающихся между собой эпох
и культур; при этом стирается историческая дистанция, вво-
дятся ложные подобия, а отношение теряет признаки воз-
вышенного. Поэтому озабоченность представителей герме-
невтики сохранением исторической подлинности выглядит
актуально и оправданно. Рассуждая об античности, Хайдег-
гер, хотя и строит чисто метафизическую диспозицию про-
тивостояния двух великих типов философского символизма,
отмечает, что истоки греческой мысли следует изучать толь-
ко в контексте собственной традиции. Высказанная им идея
забвения не свободна от романтической надежды однажды
всё припомнить, что мне кажется эпистемологически уто-
пическим. Гораздо сложнее судит Рикёр, который связывает
забвение с памятью и судит о собирательном «историческом
опыте» человечества. Хотя подобная категория есть нечто
метафорическое, она близка к сути символической комму-
никации, поскольку символическая коммуникация не просто
проводится с позиций современного эйдетического опыта, но
также и является формой ностальгического удержания или
революционного отбрасывания. Символическая память, как,
впрочем, и память частного человека, не может быть бес-
страстным хранилищем информации. Она не просто изби-
рательна — она построена на основе диалектики забвения
и припоминания, в рамках которой такие отношения, как
4.3. Жизнь и смерть символов
447
возрождение, утрата, подлинность, приобщенность, связь
времен, обретают эйдетические формы. Я полагаю, что само
возникновение и уничтожение символов должно тракто-
ваться человечно — как сложные и неоднозначные (а подчас
и неотрефлексированные) взаимоотношения символических
порядков, в которых совершенно точно нет ни простоты, ни
какой-либо единственно правильной точки зрения.
При любом исследовании исторических форм симво-
лизма не следует забывать, что мы, хотя и вышли за преде-
лы романтизма и модерна, находимся под сильным влияни-
ем идей прошедших двух веков. Романтическое отношение
к историческому символизму не свободно от восторженного
порыва к сохранению великой подлинности, но оно всегда
возвышенно. При этом, однако, совершается характерная
эпистемологическая ошибка, ставшая столь естественной
и привычной, что ее практически не замечают. Суть ее та-
кова: поскольку романтики обладают возвышенным опытом
как чем-то фундаментальным и осознанным, они начинают
искать возвышенное и в других исторических эпохах, припи-
сывая опыту людей этих эпох свойства, которые на самом
деле отсутствовали. Если же, наоборот, романтики не нахо-
дят в прошлой эпохе следов возвышенного, они начинают ее
трактовать в сгущенных красках глубоко низменного. Подоб-
ное отношение поддерживается метафизическим допущени-
ем, согласно которому все символы суть формы духа, а исто-
рия — это «жизнь духа», движение к обретению мудрости
и самопознания. Отсюда формируется сам концепт культуры
как совокупности «духовных ценностей». Тем самым роман-
тическая философия, видящая во всем возвышенную духов-
ность, оказывается сама по себе символической точкой зре-
ния, формой интерпретации, которая может показаться даже
грандиозной фальсификацией. К примеру, Белинский пылко
восхищался романами Вальтера Скотта с их героически трак-
тованной романтикой рыцарства, но он же иронично громил
повести Масальского, на страницах которых грубые и боро-
датые стрельцы Смутного времени изъясняются красивым
риторическим языком и стремятся быть благородными ры-
царями. Конечно, с художественной точки зрения, в рамках
которой историческая реконструкция неотделима от вымыс-
448
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ла и языка, следует вводить критерии удачного и неудачного
исторического романа. Но с эпистемологической точки зре-
ния следует судить несколько иначе. Конечно, не стоит даже
ставить рядом опыт великого писателя и заурядного белле-
триста — но и тот и другой судят, прежде всего, с позиции
собственного понимания, выступая более или менее удачны-
ми интерпретаторами. Более того, я допущу, что лучше быть
заурядным интерпретатором, чем ставить утопическую зада-
чу писать роман «от лица» людей описываемой эпохи. Ведь
идеологически выверенный роман «Пётр I» А. Н. Толстого,
равно как и утонченные тексты Гессе и Эко, преследующие
самые что ни на есть благородные цели оживить прошлое
голосами героев этого прошлого, выглядят совершенно со-
фистическими именно с эпистемологической точки зрения.
В рамках эйдетического опыта единственным «естествен-
ным» отношением символических порядков (особенно силь-
но разнесенных во времени) может выступать диалогическое
отношение, интерпретация классического символизма с по-
зиций актуального возвышенного опыта. Когда же под ин-
терпретацией начинает пониматься реставрация, то она ока-
зывается подражательной и теряет возвышенный характер,
а вместе с ним и возможность создать нечто равное тому сим-
волизму, которому подражает. В этом я вижу существенное,
коренное различие между оригинальным и подражательным
в символической интерпретации. После греческой архитек-
туры возникло три великих классических периода в истории
зодчества. И все они, хотя и обращались к греческим фор-
мам и канонам, оказались оригинальными, вырабатывали
собственный классический язык. Флорентийские палаццо,
петербургские ампирные общественные здания, неокласси-
ческие банки — их символическая связь с греческим ордером
и портиком именно диалогична. Но при этом все они суть
сооружения, которые оригинальны и возникают впервые, то
есть все они становятся не только интерпретацией классики,
но и «новой» классикой.
Характерным выражением романтического сознания мне
представляется суждение Гёльдерлина: «И все же мы можем еще
стать как дети, и вернется еще золотой век чистоты, век свобо-
ды и мира, и есть еще на земле радость, есть место отдохнове-
4.3. Жизнь и смерть символов
449
ния! Разве человек не старится, не увядает, разве не похож он
на опавший лист, которому нет возврата к родимой ветке, ко-
торый ветер будет кружить, пока не завеет прахом? И все-таки
весна для него приходит опять! Не плачьте над тем, что совер-
шенно отцветает: скоро оно возродится»'. Хотя это — цитата из
художественного произведения, можно найти много подобных
суждений и в философских текстах. Ностальгическое обретение
истока, убеждение в цикличности развития культуры, главен-
ство законов духа — такие построения присутствуют и у Шел-
линга, и у Шпенглера, и у Хайдеггера, и у многих других. В связи
с этим, обращаясь к романтическому символизму, я особенно
пристально вслушиваюсь в иной, противоположный голос, хотя
и заглушаемый порой общей восторженностью и светлой наде-
ждой, — он допускает неудачу, разочарование, невосполнимую
утрату, невозможность обрести былую подлинность. Ведь ро-
мантизм — это еще и возвышенный пессимизм, который доводит
до абсурда идею преходящей и невосполнимой индивидуаль-
ности каждой символической эпохи. Романтические поэты не
были философами, но они глубоко чувствовали и обращались
к искренности собственного опыта; поэтому именно в поэзии за-
родилось сомнение в возможности обретения истоков. К приме-
ру, Байрон, хотя и связывает все свои надежды с великой Греци-
ей, создает поэтический эйдос особого трагически окрашенного
чувства глубокой, невосполнимой утраты, связывая это чувство
с выраженным травматическим синдромом, мощным и экс-
прессивным сетованием по поводу низвергнутого совершенно-
го мира — своеобразной детской травмой юного человечества.
Чрезвычайно двойственна такая строфа из «Паломничества
Чайльд-Г арольда»1 2:
Увы, Афина, нет твоей державы!
Как в шуме жизни промелькнувший сон,
Они ушли, мужи высокой славы,
Те первые, кому среди племен
Венец бессмертья миром присужден.
1 Гёльдерлин Ф. Гиперион, или Отшельник в Греции. М.; Аугсбург, 2004.
С. 49. Образ оторвавшегося от ветки, мятущегося листа распространен
в романтической поэзии. К примеру, такой сюжет присутствует у Леопарди
и Лермонтова.
2 Перевод В. В. Левика.
450
Глава 4. Эйдетический опыт как история
Где? Где они? За партой учат дети
Историю ушедших в тьму времен,
И это все! И на руины эти
Лишь отсвет падает сквозь даль тысячелетий.
Романтический символизм противоречив по той причи-
не, что, претендуя на учение о всеобщности символических
основ в духе, он осознает себя чем-то отличным от греческо-
го символизма, но объясняет это отличие утратой подлин-
ных основ и жизнью среди ложных символов. Предлагаемая
здесь теория свободна от таких противоречий, поскольку
допускает изначальный плюрализм символических языков,
порядков и эпох. В связи с этим следует допустить, что не
существует никакого вечного или совершенного символизма.
И сам греческий символизм — хотя он остается, вероятно,
самым возвышенным и непревзойденным — не есть исклю-
чительная символическая форма, незыблемый «стандарт»,
на основании которого измеряются символы всех остальных
эпох. Байрон судит как поэт, а не как историк и философ. Он
правдиво воплотил в процитированной строфе полноту свое-
го ностальгического опыта. При этом Байрон судит на языке
образов, метафорически связывая гибель Эллады с ушедши-
ми в небытие великими мужами. Поэтому он говорит о том,
что зачастую не хотят признать философы: он констатирует
смерть не символов Греции, а того опыта, который был у гре-
ков, творящих эти символы, равно как и отсутствие этого
опыта в современности. Став титаническими руинами, сим-
волы Греции оказались чужды, непонятны для нашего опы-
та, постепенно изнашиваясь, даже опошляясь. Байрон судит
о символах, творя собственные символы; поэтому его рассуж-
дение — не концептуальное умозаключение, не точка зрения.
Оно вообще не является чем-то теоретическим; это поэтиче-
ски выраженный эйдос утраты подлинности и трагического
разрыва времен, который убедителен не как форма чего-то
доказанного, а как форма чего-то прочувствованного.
В философском мире романтиков подобные пессими-
стические суждения, на наш взгляд, высказывает Кьеркегор.
И они резко контрастируют с оптимистическими надеждами
Шеллинга, Новалиса, Гёльдерлина. Мысль Кьеркегора впол-
4.3. Жизнь и смерть символов 451
не увязывается с приведенной выше строфой Байрона, когда
он пишет следующее: «Время наше весьма напоминает эпоху
распада греческого государства. Все еще продолжает суще-
ствовать, он никто уже больше ни во что не верит. Невиди-
мая духовная связь, сообщавшая вещам значимость, исчезла,
и потому само это время в равной степени комично и трагич-
но; трагично, поскольку мир гибнет, комично же, поскольку
он все еще длится»1. Кьеркегор — романтик, поскольку о ди-
алектике забвения и воспоминания он судит исключитель-
. но с позиции возвышенного переживания. При этом такое
переживание экзистенциально, то есть по определению не
может не затрагивать самого субъекта. Скептицизм Кьерке-
гора оригинален тем, что он выводит следующий принцип:
мы настолько замкнуты в собственном опыте, что выход за
его пределы оказывается тщетным и невозможным. Обраще-
ние к другому опыту оказывается тем самым безуспешным.
В связи с этим как надежда, так и воспоминание, как убежде-
ние в общности, так и констатация различия — абсурдные
крайности, несовместимые с практикой и психологией. Хотя
Кьеркегор доводит субъективизм до абсолюта, его суждения
о Греции эпистемологически глубоки. Констатируя утра-
ту «невидимой духовной связи», он отмечает, что мы стали
иными в плане субъективности. Великий классический мир
хранится как общепризнанная классика, но он уже не кажет-
ся вечным, потому что утрачен подпитывающий эту класси-
ку опыт, пошатнулась сама традиция. Тем самым символы,
даже если сохраняют видимость незыблемости, гибнут тогда,
когда возвышенный опыт видоизменяется до такой степени,
что он уже не может обрести себя в этих символах и неиз-
бежно стремится к символам новым. При этом, поскольку
символические трансформации лишь локально могут оце-
ниваться с помощью категорий прогресса и упадка, нет ни-
какой возможности утверждать, будет ли новый символизм
достойным преемником ушедшего или, напротив, ввергнет
человечество в темные века. Из подобных затруднений Кьер-
кегор тем не менее, находит не теоретический, а скорее «по-
этический», художественно выраженный выход, доказывая,
1 Кьеркегор С. Или — или. СПб., 2011. С. 489.
452
Глава 4. Эйдетический опыт как история
что при утрате реального символизма этот символизм может
жить в воображении. «Чем поэтичнее вспоминаешь о чем-
то, тем легче оно забывается; ибо поэтическое воспомина-
ние — это, собственно, лишь название для забвения. Когда
я вспоминаю о чем-то поэтически, с тем, что я пережил, уже
происходят некоторые изменения, благодаря которым в нем
исчезает все болезненное»1, — пишет он. Соблазнитель из
романа Кьеркегора, как известно, мечтал так романтически
выбраться из сердца девушки, чтобы создалось убеждение,
что не он бросил ее, а она отвергла его надежды2. Поэтому
«поэтическое воспоминание» Кьеркегора развивается по за-
конам психологии, литературы и никак не может считаться
теоретическим принципом. Любое поэтическое воспомина-
ние индивидуально окрашено и преследует самые частные,
порой абсурдные цели, развиваясь в пространстве воображе-
ния, а не реальности. Однако Кьеркегор обогащает представ-
ления о возвышенном опыте, описывая контекст его непо-
средственности, который не может никогда оказаться чем-то
выверенным, определенным и простым. Поэтому Кьеркегор,
не будучи эпистемологом, все же очень ценен для понимания
того, что любая историческая коммуникация — это не толь-
ко коммуникация символов и языков, но еще и коммуникация
форм опыта, с трудом поддающаяся теоретизированию. Мало
того, скептицизм и разочарованность Кьеркегора делают его
реалистом в вопросах психологии символической коммуни-
кации, когда ностальгическое приобщение к опыту великой
эпохи не может оказаться очищенным от субъективных при-
страстий. Обращение к великому классическому символизму
представляет собой сложную форму эйдетического само-
познания, обретение возвышенного в символе, в том числе
и путем своеобразного катарсиса, исцеления от болезненных
конфликтов и частных несовершенств.
Не существует возможности полного забвения: оно не
является волевым актом; нельзя заставить себя что-либо
1 Кьеркегор С. Или — или. СПб., 2011. С. 320.
2 «Однако действительно стоило бы выяснить, не может ли человек таким
образом поэтически выбраться из отношений с девушкой, чтобы заставить
ее гордиться, воображая, будто это она сама устала от данного отношения»
(Кьеркегор С. Или — или. СПб., 2011. С. 472).
4.3. Жизнь и смерть символов
453
забыть, равно как и навязать необходимость забвения. Заб-
вение — это вовсе не драматически интерпретированная
утрата. Это зачастую весьма обыденное событие, а именно:
осознание ненужности старых символов для нового опыта.
Если оценивать забвение не только ностальгически, то оно
представляется необходимым и даже оправданным. Забве-
ние — это форма «расчистки» символического пространства
от содержания, которое уже утратило актуальность. Не зна-
чит ли это, что окажется забытым и нечто безусловно вели-
кое, безусловно нужное? Скорее всего, как ни печально, так
и произойдет. До Ренессанса, до возникновения музеев и ар-
хеологии древний мир в самом буквальном смысле лежал
в забвении, покрываясь землей и травой. С эпистемологи-
ческой точки зрения может оказаться забытым любое сим-
волическое содержание, которое не затрагивает нынешнего
возвышенного опыта; причем обычно забывается все подряд.
Но дело в том, что в символическом забвении господствует
актуальный опыт, и только он определяет, что надо помнить,
а что забыть. Случаи полного забвения, конечно, столь же
редки, как и случаи полного хранения. Вероятнее всего, как
можно судить на примере символических трансформаций
в истории Запада, символическая память носит избиратель-
ный характер, но и то, что сохраняется, обычно подвергается
существенным изменениям, интерпретациям, переделкам.
В связи с этим следует особенно внимательно отнестись
к суждениям Ницше, который впервые довел учение о сим-
волической гибели до полноты метафизического принци-
па. Забвение, по Ницше, совершенно необходимый процесс:
«Немыслимо жить без возможности забвения вообще. Или,
чтобы еще проще выразить мою мысль: существует такая сте-
пень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая
степень развития исторического чувства, которая влечет за
собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов,
приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек, или
народ, или культура»1. Как я уже не раз отмечал, романти-
ческий символизм выражает программу максимализма. Если
постулируется универсализм, то он доводится до абсолют-
1 Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 163.
454
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ного идеализма; если выводится релятивизм, то он доходит
до степени радикального деконструктивизма. В современной
философской ситуации уже кажется неправдоподобным, что
такие мнения Ницше рассматривались как глубокие истины.
Конечно, забвение как таковое необходимо и естественно;
однако из этого никак не следует вывода о необходимости
тотальной и радикальной символической деконструкции, ко-
торую предлагает Ницше. Впрочем, мыслитель сам пишет об
этом так: «Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем
будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном —
о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глу-
бокой коллизии совести, о решении, предпринятом против
всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали
священным. Я не человек, я динамит»1. Налицо очевидное
преувеличение роли и степени символических трансформа-
ций. Конечно, в утопических представлениях довольно часто
возникали проекты тотального переустройства общества,
морали, религии или каких-то других форм культуры. Одна-
ко на практике почти всегда наблюдается постепенный про-
цесс реформ и трансформаций, когда новое достаточно долго
сосуществует со старым и медленно вытесняет его на перифе-
рию. Даже если оставить профетический тон Ницше, его про-
ект эпистемологически несостоятелен. Дело в том, что нахо-
дящийся в пространстве традиции человек просто не готов
к каким бы то ни было переоценкам собственного символиз-
ма. Эйдетический опыт может измениться довольно быстро,
но символическая основа традиции чрезвычайно инертна.
И новые поиски эйдетического опыта, по-видимому, будут
использовать уже сложившийся символизм настолько, на-
сколько это возможно. Радикалы вроде Ницше или Делёза
назовут это робким подражанием и отсутствием творческой
мощи. Однако такие оценки свидетельствуют скорее об уто-
пичности программы их авторов, нежели о понимании реа-
лий культуры. Вне всякого сомнения, современный кризис
символизма, который констатирует Ницше, довольно серье-
зен и влечет значительные трансформации. Но это — лишь
один из символических сдвигов, которых в истории было уже
1 Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М„ 1990. С. 762.
4.3. Жизньи смерть символов
455
немало. В историософии Ницше налицо стремление к трак-
товке деконструкции в манере универсализма — в качестве
некоего всеобщего и необходимого закона1.
Нигилистическая программа, которую Ницше проводит
в «Воле к власти», сама по себе есть символическая позиция.
По Ницше, опыт может существовать лишь в героической
форме, то есть всегда что-то превосходить, постоянно видо-
изменяться, разрушать и строить без конца. Одним словом,
Ницше доказывает необходимость тотального символиче-
ского динамизма. Не зря на основе ницшеанских идей рус-
ские мыслители начала XX в. выдвинули принцип, согласно
которому следует творить «новую жизнь», пропагандировать
постоянное творческое обновление. При этом, конечно, со-
вершенно не принималось в расчет всё, что выходит за преде-
лы интеллигентского сознания. Ведь действительно, крайне
заманчиво ввести диспозицию двух типов людей и доказы-
вать, что охранительное начало традиции — это удел рабов
и слабых личностей. Романтическое стремление к индивиду-
алистической переоценке традиционного символизма дости-
гает здесь степени абсурда. Принцип вечного возвращения,
который развивает Ницше, не подтверждается исследова-
ниями символических форм и противоречит несомненному
факту индивидуальности символических порядков. Закон
всеобщего повторения сформулирован так: «Дионис — это
обет во имя самой жизни, обещание ее: она будет вечно воз-
рождаться и восставать из разрушения»2, — пишет Ницше.
При этом действительно, на смену старому символизму будет
приходить новый, но он будет уже иным. «Вечное возвраще-
ние» на символическом уровне совершенно невозможно. Да,
за большинством символов стоят схожие дискурсы, такие как
религия, философия, искусство, политика и т. п. Тем не менее
как с точки зрения опыта, так и с точки зрения эйдетических
представлений новая традиция неизбежно переоценивает
прежний символизм, сохраняя его (в буквальном или преоб-
разованном виде) лишь фрагментарно.
1 В том же духе трактуются принципы развертывания абсолютной идеи,
классовой борьбы, вездесущего божественного промысла и т. д.
2 Ницше Ф. Воля к власти. М„ 2005. С. 551.
456
Глава 4. Эйдетический опыт как история
Общеизвестно, что Ницше пропагандирует наступление
новой эры человечества, о которой пророчит его Зарату-
стра. Однако порой Ницше выступает и сторонником гибели,
уничтожения любого символизма, да и человечества в целом.
Это не что иное, как свойственное романтическому симво-
лизму превознесение роли гениальной личности как суще-
ства, дающего человечеству закон высшей истины, и вытека-
ющее отсюда мизантропическое презрение ко всем прочим
людям. Ницше пишет: «Человек — незаметный, слишком вы-
соко о себе мнящий животный вид, время которого, к сча-
стью, ограничено; жизнь на земле в целом — мгновенье, эпи-
зод, исключение без особых последствий, нечто, что пройдет
бесследно для общей физиономии земли; сама земля, подоб-
но остальным небесным телам — зияние между двумя ни-
что, событие без плана, разума, воли, самосознания, худший
вид необходимого, глупая необходимость»1. У Байрона есть
мощное и экспрессивное стихотворение «Тьма», в котором
он обрисовывает пустоту обезлюдевшего мира. Лермонтов
также пишет о приходе страшной эпохи и человека с булат-
ным ножом, несущего смерть и разрушение. Да и, казалось
бы, безобидная экспрессия полотен романтической живопи-
си с готическими руинами возводит всеразрушающее время
в некий новый культ. Тем самым Ницше тут просто доводит
романтические художественные идеи, равно как и филосо-
фемы своих предшественников, до уровня метафизической
теории. При этом идеи Ницше о всеобщем разрушении пока-
зались бы безумными, если бы они не соответствовали фу-
туристическим и революционным интенциям эйдетического
опыта того времени, жаждущего скорейшего и радикального
обновления жизни.
Тем самым следует ввести в качестве принципа следую-
щее: никакие искусственные и умышленные проекты искорене-
ния существующего символизма и установления на его месте
нового не могут быть ничем иным, кроме как утопией. Нам
известны далеко не все обстоятельства жизни и деятельно-
сти древних законодателей, но всех их отличает одна харак-
терная особенность: явственный консерватизм, характерная
1 Ницше Ф. Воля к власти. М., 2005. С. 185.
4.3. Жизнь исмерть символов
457
для архаического дискурса незыблемость и повторяемость
основ уклада жизни от поколения к поколению. В этом смыс-
ле Платон, хотя и не снискал успеха в Сиракузах, выступа-
ет одним из символических законодателей, уподобившихся
Тесею, Солону, Ликургу; его неудача ничего не говорит об
отсутствии возвышенного и эйдетической глубины в предло-
женном им политическом символизме. Радикальные проекты
переустройства общества, характерные для тоталитарных ре-
жимов XX столетия, базируются на идеологии, откровенном
принуждении и насилии. Ведь как ни заставляй Бродского
или, например, Ахматову строить социализм, их собственный
огуят от этого не изменится. Лицемерное служение идеологи-
чески установленному символизму — это, при всей индустрии
принуждения, самый хрупкий символический режим, кото-
рый катастрофически рушится, как только исчезает внешняя
контролирующая сила. Ни один символический порядок не
может существовать вечно; все символы рано или поздно вет-
шают, исчезают, переделываются. Из этого следует лишь то,
что человечество, вероятнее всего (по крайней мере, начиная
с греков, история другого не знает), будет жить в условиях
постоянных символических трансформаций. При этом нельзя
сказать, что символизм будет сохраняться в неизменном виде
или, напротив, радикально переписываться. Символическая
интерпретация оставляет огромный зазор между заимствова-
нием и установлением радикально нового; сам по себе харак-
тер интерпретации зависит от соответствующих культурных
обстоятельств, которые всегда носят конкретный, а порой
даже индивидуальный характер.
Шпенглер, который считается классическим теоретиком
символических трансформаций, сохранил ницшеанский вита-
лизм, но построил культурологическую теорию, которая, на
мой взгляд, гораздо ближе к реалиям жизни, нежели к требо-
ваниям романтического максимализма. Он трактует все куль-
туры как индивидуальные социальные формы, которые, прав-
да, имеют схожую судьбу: «Есть расцветающие и стареющие
культуры, народы, языки, истины, боги, ландшафты, как есть
молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветви и листья, но нет
никакого стареющего “человечества”. У каждой культуры свои
новые возможности выражения, которые появляются, созре-
458
Глава 4. Эйдетический опыт как история
вают, увядают и никогда не повторяются»1. Теория Шпенглера
может оказаться достаточно продуктивной, если понимать его
виталистические суждения не буквально (как он сам считал),
а метафорически. Символы имеют прямое отношение к чело-
вечности, но никак не к жизни: в виталистическом отношении
жизнь вполне возможна без всякого символизма. Когда речь
идет о таких категориях, как «зарождение», «развитие», «упа-
док», «обветшание», — всё это метафоры, обусловленные как
определенным сходством в процессах, так и особенностями
языка. Символы возникают, видоизменяются, порой исчеза-
ют. Эти процессы обусловлены трансформациями в области
эйдетического опыта и возникновением новых символических
дискурсов. Если судить по Шпенглеру, цивилизация просто от-
мирает, и на смену ей приходит другая. Этот тезис вполне мо-
жет оказаться метафизически убедительным, поскольку исто-
рия не знает буквального возвращения отошедших в прошлое
культурных форм. Однако с эпистемологической точки зрения
такая позиция совершенно некорректна: отошедшие в прошлое
символические формы не умирают в том смысле, в котором
умирают живые организмы, — они просто становятся неакту-
альными в новой традиции и перестают отвечать на запросы
опыта; но при этом они продолжают храниться в исторической
памяти, при всей фрагментарности и избирательности послед-
ней. Если уж применять биологические категории к символиз-
му, то я хотел бы особо отметить поразительную живучесть
некоторых символов. Шпенглер описывает ситуацию, когда
Афины превратились в «туристический центр» Римской им-
перии, живший доходами, которые приносили приехавшие
поглазеть на древности богатые римляне и варварские цари2.
С этого периода начался процесс окончательного вырождения
греческого символизма, утраты сопровождающего его опыта,
превращения символов в формальные установления. Однако
1 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М„ 1993. С. 151.
2 «В обезлюдевших Афинах, живших туристическими доходами и бла-
готворительными фондами богатых чужеземцев (к примеру, иудейского
царя Ирода), путешествующая чернь слишком быстро разбогатевших рим-
лян глазела на творения Перикловой эпохи, в которых она смыслила не
более, чем американские посетители Сикстинской капеллы в Микеландже-
ло» (Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М„ 1993. С. 167).
4.3. Жизнь и смерть символов
459
после долгих веков забвения Ренессанс обращается к грече-
ским символам, стремясь подражать, реконструировать, ин-
терпретировать. Вопреки романтически настроенным теоре-
тикам символизма, пропагандирующим трагическую гибель
Эллады, в символическом отношении она жива; и будет жива
до тех пор, пока не исчезнет последний античный символ.
В этом отношении у Шпенглера иное, пессимистическое, ти-
пично романтическое представление: «Все ставшее преходяще.
Преходящи не только народы, языки, расы, культуры. Через
.несколько столетий не будет уже никакой западноевропейской
культуры... Civis Romanns, один из наиболее мощных симво-
лов античного бытия, просуществовал-таки в качестве формы
всего лишь несколько столетий... Всякое искусство смертно, не
только отдельные творения, но и сами искусства... Преходя-
ща любая мысль, любая вера, любая наука»1. На мой взгляд,
ошибка Шпенглера заключается в том, что он рассматривает
символические формы лишь в периоды их актуального суще-
ствования в соответствующей традиции — а это ведет к серьез-
ным упрощениям. На самом деле жизнь практически любого
великого символа двойственна: сначала он существует в поро-
дившей его традиции, затем — в новых традициях, подвергаясь
интерпретации и пересмотру. Так называемая жизнь символа
строится не по законам жизни вообще, а по законам эйдетиче-
ского опыта и исторической памяти. Я считаю, что теоретиче-
ски любой символ прошлой традиции (при условии сохране-
ния в исторической памяти и актуальности для опыта) может
быть возрожден; причем это возможно после веков забвения.
Правда, следует оговорить один важный аспект: символ обыч-
но возрождается не в буквальном, а в интерпретированном
значении.
В отличие от Шпенглера и Ницше, Хёйзинга понимает
жизнь и смерть символов как метафорические категории. Для
него смерть символов — это процесс утраты культурной иден-
тичности, когда для поддержания символизма требуются все
большие и большие идеологические ресурсы. Рассуждая о кон-
це средневековья, Хёйзинга пишет: «Завершающееся средневе-
ковье являет нам картину увядания всех этих идей. Весь мир
хТам же. С. 329.
460
Глава 4. Эйдетический опыт как история
становится полем действия всеохватывающей символизации
и покрывается каменными цветами символов. Но ведь симво-
лизм исстари имел склонность превращаться в нечто чисто ме-
ханическое... вырождаясь в болезнь ума, во что-то вроде про-
стого приличия»1. Любой символизм рано или поздно ветшает
и требует преобразований. Эйдетический опыт всегда возника-
ет в рамках традиции и связан с наличными символами; однако
опыт свободен в своем самоопределении. Возвышенный опыт
удовлетворяется уже существующими символами, только если
они соответствуют его запросам. Если же происходит разлад,
то требуются новые символические интерпретации. Конечно,
лишь немногие гении способны видоизменить эйдос и пред-
ложить радикально новые символы. Как правило, в культуре
осуществляется путь постепенных, медленных символических
трансформаций, когда застой и всеобщая повторяемость более
типичны, чем появление чего-то нового. Однако в некоторые
периоды ломки традиций может возникнуть такое явление
эйдетического опыта, которое обычно именуется культурным
подъемом. Тогда в относительно небольшой по времени пери-
од появляется целое поколение гениев, а символизм перестра-
ивается довольно радикально. Таких периодов в истории За-
пада было немало, но я бы особо отметил время досократиков
и романтиков. Пожалуй, за пределами этих периодов история
не знала такого числа гениев и столь мощного творения сим-
волов, радикально нового по отношению к прежней традиции.
Сторонники учения о возможности принципиального обнов-
ления символизма ссылаются, прежде всего, на эти периоды.
Я склонен считать, что следует рассматривать все возможные
варианты символических трансформаций. Если рассуждать
аналитически, на фоне всех известных нам символических
процессов периоды глубокого упадка и периоды революцион-
ного обновления случаются нечасто. Когда, к примеру, мы вво-
дим понятия «античность» или «античная культура», то здесь,
прежде всего, имеется в виду некая символическая и традици-
онная общность. Но при этом подразумевается и то, что внутри
этой парадигмы происходят постепенные, но неуклонные сим-
волические преобразования.
1 Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 227.
4.3. Жизнь и смерть символов
461
Не стоит забывать также, что символические порядки
внутри одной традиции развиваются неравномерно и обла-
дают относительной автономностью. Поэтому рассуждения
о прогрессе или упадке традиции в целом — это метафизиче-
ские положения, когда суждение выносится на основе пред-
ложенных критериев. Если же уклониться от таких обоб-
щений, мы сможем более или менее уверенно утверждать
наличие прогресса или упадка в рамках определенной куль-
турной формы, например философии или живописи. Еще
.лучше избегать сравнений символических порядков с точки
зрения теории прогресса: зачастую такие сопоставления ан-
гажированы и некорректны. Приведем несколько примеров
затруднительных ситуаций символической неравномерно-
сти развития. Принято считать, что поздний Рим пребы-
вал в состоянии упадка. Однако можно отметить целый ряд
символических порядков, в которых возникали построения,
являющиеся оригинальными, творческими, динамично раз-
вивающимися — например, военное дело, право, архитек-
тура, лирическая поэзия и многое другое. Эпоха Возрожде-
ния обычно трактуется как время бурного прогресса, однако
и здесь не все однозначно. Разложение феодальной поли-
тики приводит к тому, что дворы итальянских правителей
превращаются в арену бесконечных интриг и чудовищных
преступлений. Боккаччо, творя в «Декамероне» панораму
моральной жизни своего времени, фиксирует явно выра-
женное разложение нравов, в том числе и института брака.
Относительно ренессансной философии вообще трудно су-
дить, наблюдается ли здесь прогресс или регресс по отноше-
нию к схоластике — настолько эти типы философии несхожи
между собой. Как видим, корень суждений о прогрессе таков:
на основе бурного подъема в том или ином символическом
порядке делается вывод о «прогрессивности» эпохи в целом.
Кажется, пора отбросить такие теоретические подходы как
устаревшие: любая традиция не является ни формой очевид-
ного прогресса, ни формой очевидного упадка по отношению
к предыдущей. Традиции вообще не дискретны, а диффузно
проникают друг в друга. Символы внутри традиции развива-
ются зачастую только в пределах своего символического по-
рядка, причем это развитие неравномерно. При этом симво-
462
Глава 4. Эйдетический опыт как история
лы постепенно отмирающей традиции могут «задержаться»
на очень долгое время, далеко не всегда вступая в конфликт
с новыми символами, — обычно они дополняют друг друга
или просто сосуществуют. В неоклассической архитектуре
гигантский ордер, железобетонный каркас и банковское на-
значение здания гармонично совмещаются с декором, кото-
рый заимствуется из античности и Ренессанса. Мало того,
когда новый символизм стремится к собственной чистоте
и автономности, он может понести невосполнимые потери.
Так, архитектурный конструктивизм полностью отказыва-
ется от декора; однако пластические возможности формы
здания не обеспечивают эстетической выразительности в от-
ношении такой классической художественной характери-
стики, как изящество. Можно утверждать, что практически
все символические трансформации не могут быть подведены
под простые определения, особенно в отношении жизни или
смерти, прогресса или упадка.
В последнее время набирает силу дискуссия, можно
ли вообще считать «технически ориентированные» стили
в искусстве или идеологические дискурсы чем-то подлин-
но символическим. В некоторых отношениях по-прежне-
му классической выглядит позиция Хайдеггера, высказан-
ная полвека назад и отказывающая всему «техническому»
в праве на символическую роль: «Велика опасность, что
в наши дни люди глухи к речам проселка. Шум и грохот ап-
паратов полонили их слух, и они едва ли не признают его
гласом Божьим. Так человек рассеивается и лишается пу-
тей. Когда человек рассеивается, односложность простоты
начинает казаться ему однообразной... Простота упорхнула.
Ее сокровенная сила иссякла»1. Дело осложняется и тем,
что, по крайней мере, к концепту «поэтического» Хайдег-
гер подходит на основе суждений романтиков, в сущности
соглашаясь с ними. Ведь учение о «голосе вещей» выво-
дится из убеждения в одухотворенности природы, ее сораз-
мерности человеческому духу. Если судить исключительно
о поэзии, наличие собственного голоса, которым обладают
утесы, звезды, деревья и прочие объекты природы, дает
'Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 240.
4.3. Жизнь и смерть символов
463
новое лирическое содержание, делая природу созвучным
субъективности миром. В области философии (а Хайдеггер
судит онтологически) всё гораздо затруднительнее: ведь
философия, в отличие от поэзии, не может осуществлять
лирическое перенесение субъективности на такой физиче-
ский объект, как звезда, проселок или стоящая на диком се-
вере сосна. Тем самым предложенный Хайдеггером крите-
рий символической пустоты технического и символической
полноты поэтического вводится метафизически. Но есть
,и более существенный вопрос: насколько «техническое» ис-
кусство соответствует запросам актуального возвышенного
оп£1та? Почему в наше время классические формы искусства
вытесняются «техническими» формами авангарда, абстрак-
ционизма, дизайна, хай-тека, кино, фотографии? Оставляя
в стороне споры о том, что художественно, а что не художе-
ственно, равно как и вопрос, почему проселок хранит свою
«простоту», а автобан — нет, я констатирую, что символы
всегда приводятся в соответствие опыту и возникающим
эйдетическим представлениям. Опыт авангардистов явля-
ется антитезой опыту художников классических стилей; но
за пределами этого противопоставления он стремится об-
рести собственный символизм, который уж не обязательно
должен соотноситься с классическими формами символиз-
ма. Иначе говоря, и «технические» формы могут быть реа-
лизацией возвышенного опыта, превращаясь в символические
образы. Равно как и наоборот: «поэтические» символы могут
совершенно потерять свою актуальность на символической
сцене традиции, оказаться чуждыми для нового эйдетиче-
ского опыта.
В творчестве позднего Рикера романтически ориенти-
рованное учение о возникновении и уничтожении символов
достигает своей вершины, смыкаясь с проблемой истори-
ческой памяти и ответственности за ее хранение. При этом
Рикёр принципиально отказывается от простоого объясне-
ния символических процессов, считая их изначально слож-
ными и далекими от однозначности. «Общая характеристика
человеческого опыта, который размечается, артикулирует-
ся, проясняется во всех формах повествования, — это его
временной характер. Все, что рассказывается, происходит
464
Глава 4. Эйдетический опыт как история
и разворачивается во времени, занимает какое-то время
и то, что разворачивается во времени, может быть расска-
зано»1, — пишет Рикёр. Таким образом, опыт существует
в динамической, а не в статической форме. Когда говорится
об «актах опыта», речь идет об абстрактном выделении того
или иного момента из непрекращающегося процесса. Совер-
шенно обоснованно возникает вопрос: что Рикёр понимает
под «временем»? Насколько можно судить, время в его кон-
цепции — это, прежде всего, время актуального существова-
ния символа со всеми возможными интерпретациями. Гово-
рить о временном сдвиге, или исторической трансформации
вообще, можно лишь тогда, когда возникает либо новый сим-
вол, либо (что гораздо чаще) новая интерпретация прежнего
символа. Поэтому Рикёр ближе других современных фило-
софов подходит к толкованию исторического времени как
символического времени, процесса изменения эйдетических
форм. Насколько важен аспект интерпретации в историче-
ском символизме, свидетельствует следующее высказыва-
ние Рикёра: «Традиция, в той мере, в какой она сама обеспе-
чивает нисходящее движение от символа к догматической
методологии, находится на пути этого иссякшего времени...
Мифологизируя символ, традиция исчерпывает себя; она
возрождается благодаря интерпретации»2. Характерно, что
Рикёр совершенно отказывается от свойственных романти-
кам виталистических категорий, прилагаемых к символиче-
ским процессам. Да и саму основополагающую категорию
«понимание» он использует крайне осторожно, предпочи-
тая оперировать такими концептами, как интерпретация,
память, забвение. «Мифологизация» традиции, о которой
пишет Рикёр, — это процесс вырождения питающего симво-
лизм опыта и превращение символов в рассудочно трактуе-
мые аллегории. В принципе положение Рикёра согласуется
с предложенным здесь тезисом о том, что вырождающийся
символизм обладает существенной временной инерцией,
поскольку традиция утвердила его как форму идеологиче-
ски закрепленного авторитета.
1 Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995. С. 60.
2 Он же. Конфликт интерпретаций. М., 1995. С. 41.
4.3. Жизнь и смерть символов 465
Не менее глубоки суждения позднего Рикёра о том, что
следует понимать под «прошлым». Историческое время Рикёр
трактует не как форму понятия, а как эйдетический образ сим-
волической памяти. При этом любой символизм, по Рикёру,
неизбежно оказывается зависимым от исторического отно-
шения, учитывая постоянные и сложные диалоги, которые
выстраиваются между символами настоящего и символами
былых эпох: «Историческая репрезентация действительно
является присутствующим образом отсутствующей вещи; но
отсутствующая вещь сама раздваивается на исчезновение и су-
ществование в прошлом... И в этом смысле “прежде” означает
реальность, но реальность в прошлом»1. Мне кажется, язык,
которым пользуется Рикёр, несколько усложнен, и то же самое
можно выразить проще: символы прошлой традиции обладают
как собственным смыслом, который был присущ им в сопро-
вождающем их опыте, так и новым смыслом, возникающим
в ходе интерпретации с точки зрения опыта иной традиции. Так
называемый исторический дискурс по поводу символа может
оказаться, с одной стороны, относящимся к чему-то прошед-
шему, а с другой стороны — относящимся к чему-то актуаль-
но существующему. Я полагаю, что разделение символических
значений на подлинное, аутентичное и «подвергшееся интер-
претации» носит крайне условный характер и далеко не всегда
необходимо. Мое предположение отчасти ставит под сомнение
саму герменевтическую идею и задает вопрос: так ли необхо-
димо стремиться к реконструкции исторической подлинности
символа? Не перспективнее ли судить о символе с позиций на-
шей интерпретации? С некоторых точек зрения реконструкция
символа в своем «родном» значении — крупный теоретиче-
ский успех. Но в области практики такая реконструкция доста-
точно бесплодна, если содержание реконструируемого симво-
ла не оказывается предметом символической интерпретации.
Грандиозный проект «реставрации» полузабытого античного
символизма, предпринятый Ренессансом, оказался столь пло-
дотворным во многом потому, что «возрождение» греческих
и римских наук и искусств проводилось как форма интерпре-
тации, а не копирования.
1 Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 396.
466
Глава 4. Эйдетический опыт как история
Символические трансформации могут быть зафиксиро-
ваны, но они не обладают той или иной «логикой» в смысле
рационально установленной причинности. В отличие от кон-
цептуальных трансформаций, символические процессы про-
текают гораздо более «стихийно», поскольку существенно
зависят от тех векторов, которые приобретет эйдетический
опыт, равно как и от типа символического порядка, инди-
видуальных особенностей традиции. Нормальное условие
любого символизма — наличие гармонии между эйдосом
и символом, когда символическая основа органична и бога-
та, позволяя опыту обретать свое символическое воплощение
во все новых и новых вариациях. Любая великая символи-
ческая эпоха — «искренняя» в своих основаниях, посколь-
ку опыт и символ не только соразмерны друг другу, но еще
и обладают непосредственной убедительной силой. Символы
античной пластики, ренессансной живописи, архитектуры
модерна, трансцендентальной философии не нуждаются ни
в каких идеологических или властных подпорках; они захва-
тывали умы и души людей в силу исключительно собствен-
ной символической оригинальности и полноты. Тем самым,
хотя любой символизм поддерживается традицией, следует
разделять естественную и искусственную форму поддержа-
ния символизма. Одним из самых верных признаков симво-
лической смерти выступает то, что символ поддерживается
тем или иным авторитетом, а сам по себе уже утратил непо-
средственную актуальность. И если власть авторитета низла-
гается, то эти искусственные символы чрезвычайно быстро
подвергаются забвению и разложению. Об этом явлении тон-
ко высказался Розанов в «Апокалипсисе нашего времени»,
когда отметил, что «Русь слиняла в два дня. Самое большее —
в три», подразумевая, что такие «русские» установления того
времени, как православие, самодержавие и подобные им, на-
столько обветшали как культурные формы, что при падении
идеологических подпорок рухнули и сами эти символы. Поэ-
тому сетования романтиков о гибели великой Греции, о зака-
те величайшего периода в истории человечества и т. п. — это
откровенно предвзятые, глубоко некритичные суждения. Го-
раздо более здраво рассуждают те авторы, которые пытают-
ся вскрыть неизбежность упадка и разложения Греции как
4.3. Жизнь и смерть символов 467
традиции великой, но лишь одной из многих. Пора понять,
что все наши приоритеты в отношении традиций и эпох (осо-
бенно приоритет античной традиции) — не что иное, как
исключительно символические предпочтения, некие интер-
претации. При этом избежать такого отношения невозмож-
но, поскольку, в отличие, например, от естественных наук,
символическая история не имеет дело с неким незыблемым
набором фактов, с тем, что «на самом деле было». Ведь лю-
бая прошлая символическая традиция, равно как и наша соб-
. ственная, — это не монолит раз и навсегда зафиксированных
и скрепленных между собой событий. Скорее это сложный,
неорганизованный конгломерат разных и не равномерно
развитых символических порядков, причем как забытых, так
и сохраняющихся в наши дни посредством интерпретации.
Мифологизация истории характерна для любой тра-
диции, но особенно очевидна в периоды возникновения
и разложения традиций. Как уже отмечалось, отходящий
в прошлое символизм поддерживается тем или иным автори-
тетом — вплоть до преследования инакомыслящих. Но и на-
рождающийся символизм не так уж стремится позициониро-
вать себя в качестве «нового». Любой новый тип символизма
ищет себе обоснование в мифологизированной истории жиз-
ни и деятельности легендарных героев. Так, русский боль-
шевизм при формировании своей идеологии часто опирался
на исторический авторитет великих революционеров всех
времен. В большевистской России возник целый культ та-
ких героев-борцов, как Спартак, Робеспьер, Марат, Рылеев,
и многих других. Ведь новый символизм всегда оказывается
в неравном положении по отношению к наличной традиции,
что требует привлечения дополнительных идеологических
ресурсов, стремления приобщиться к тому, что покажется не
вновь выведенным символическим видом, а свойственным
чему-то вечному, не раз уже бывшему.
Хотя любой символ существует во времени и потенци-
ально способен к изменению, не следует забывать, что сам
по себе он — языковое отображение эйдоса, самодостаточно-
го и статичного в своей формальной природе. Полотно Лео-
нардо или Рафаэля — это предмет множества интерпретаций
и толкований. Но как законченная картина творение Рафаэ-
468
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ля всегда тождественно самому себе и завершено. Оно пред-
ставляет собой статическую точку в истории символического
порядка, видоизменяясь в символической интерпретации,
но будучи на момент творения эйдетически постоянным.
Если сказать то же самое герменевтическим языком, прирост
смысла достигается только за счет интерпретаций, но никак
не за счет изменения эйдетической сути. Аналогично обсто-
ит дело и с таким понятием, как эйдетическое совершенство.
В принципе Мадонна Рафаэля совершенна всегда. Другое
дело, что эйдетическое совершенство может быть, а может
и не быть актуальным для наличного возвышенного опыта
в той или иной степени. Если вообразить, что запросы на-
личного эйдетического опыта будут совершенно безразлич-
ны к Мадонне Рафаэля, то она, по меткому выражению Ларо-
шфуко о женщинах, может оказаться сокровищем, которого
никто не ищет. Можно ли считать, что наиболее совершен-
ной Мадонна казалась самому художнику и его современни-
кам? Здесь поднимается пресловутая проблема, поставленная
немецкими эстетиками: можно ли понять греков лучше, чем
сами греки понимали себя? Я отвечу осторожно: нам невоз-
можно превзойти современников Рафаэля (разумеется, обра-
зованных людей того времени) в плане той характеристики
опыта, которую Юм назвал живостью. Но в плане интерпре-
тации подобное сказать нельзя, поскольку она не может оце-
ниваться как более или менее совершенная: интерпретации
просто различны — связаны они между собой или нет; они
осуществляются с помощью разных символических языков.
Когда утверждается, что все символы рано или поздно
окажутся забытыми, наиболее важным мне представляется
то, как именно протекает процесс забвения. Лишь с эписте-
мологической точки зрения становится понятным, что сим-
вол не может существовать как актуальная форма культуры,
если затухает поддерживающий его опыт. Опыт ищет иного
эйдетического совершенства, и старый символ словно смеща-
ется на обочину истории. В некоторых формах символизма,
где образный ряд явственен и нагляден, прежние символы
буквально становятся старомодными, оказываясь, как вы-
ражаются искусствоведы, «остывшим материалом». Таким
образом, есть только одно проявление символической смер-
4.3. Жизнь и смерть символов
469
ти — утрата актуальности символа для эйдетического опыта.
Однако само протекание такого процесса может наблюдаться
в огромном количестве модусов и отличается индивидуаль-
ным сценарием. Скорость процесса забвения, степень вклю-
ченности символа в новые интерпретации, особенности тра-
диции и символического порядка и другие характеристики
символической динамики во взаимном сочетании создают
индивидуально окрашенные символические реалии. Невоз-
можно свести символические трансформации к какому-либо
, общему темпоральному принципу; нет никакой предначер-
танной необходимости в том, что один символ исчезнет, как
метеор, а другой будет существовать тысячи лет. Некоторые
философы современности (например, Куайн, Сёрл, Патнэм,
Фуко) пытаются подвести под символизм натуралистические
критерии, доказывая, что наиболее живучи дискурсы, груп-
пирующиеся вокруг естественных потребностей и особенно-
стей психической организации человека — таких, как власть,
производство, язык, секс, голод, война и т. д. Однако сами по
себе эти проявления индивидуальной и социальной природы
не суть символы: символами они становятся исключительно
в эйдетическом рассмотрении.
При этом натуралистическая гипотеза не работает в от-
ношении таких дискурсов, как философия. Ведь символы
платонизма — совершенно идеальные построения, которые
не только не базируются на натуралистических основаниях,
но, напротив, стремятся трансцендироваться от них. Тем не
менее символические построения платоновской философии
(идеальное государство, бессмертие души, вечная женствен-
ность, первоединое, шарообразный космос и т. д.) оказыва-
ются актуальными для всех известных нам философских тра-
диций, получая все новые и новые трактовки. Ричард Рорти
утверждает, что сохранение символа в культуре — вопрос
исторической случайности. Но это не совсем так: как сохра-
нение, так и гибель символа всегда закономерны, но законо-
мерность эта не логическая, а эйдетическая, которая с точки
зрения прагматического рассудка может и в самом деле пока-
заться чем-то стихийным.
Принято считать (с легкой руки теоретиков культурного
прогресса), что человечество эволюционирует за счет сохра-
470
Глава 4. Эйдетический опыт как история
нения самого значимого, самого ценного. Однако в символи-
ческой сфере подобного не наблюдается. В символической па-
мяти в самом деле могут храниться как чрезвычайно глубокие
эйдетические формы, так и нечто совершенно банальное. Сим-
волическая память традиции часто похожа на память челове-
ка, в которой порой откладывается что попало, а нужное и не-
обходимое, наоборот, может забываться. Характерны в этом
отношении сочинения таких авторов, как Афиней, Авл Гелий,
Диоген Лаэртский, Плутарх («Застольные беседы», «Греческие
вопросы»), представляющие собой настоящую мешанину самых
разнообразных фактов, преданий, обычаев, убеждений, теорий,
анекдотов, а то и откровенных вымыслов и суеверий. В эписте-
мологии символизма всегда следует допускать, что символи-
ческие формы традиции существуют в усредненной, довольно
неорганизованной форме, порой лишенной всякого самосозна-
ния. Нельзя представлять символические дискурсы с точки зре-
ния историка, культуролога, философа: они обычно видят в них
упорядоченное, теоретически оформленное целое, определен-
ное с точки зрения сущности и приоритетов. На самом же деле
развитая традиция — это конгломерат самых разных порядков
по своей организации и самосознанию: от фольклора и обыден-
ных представлений до философии и теологии.
В русской мысли проблема радикальных символических
трансформаций впервые поставлена Чаадаевым в его «Фи-
лософических письмах». Он создает образ Петра I как сим-
волической личности, которая практически с чистого листа
преобразует все формы русской жизни. При этом Чаадаев
доказывает, что в России символические формы насаждены
насильственно и поддерживаются мощным идеологическим
и карательным аппаратом: «Внутреннего развития, есте-
ственного прогресса у нас нет, прежние идеи выметаются но-
выми, потому что последние не вырастают из первых, а по-
являются у нас откуда-то извне»1. Если судить с формальной
точки зрения, то любой законодатель действует в какой-то
степени принудительно. Однако следует различать те симво-
лические преобразования, которые органично входят в тра-
дицию и оправданы с точки зрения опыта, от тех, которые
1 Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 21.
4.3. Жизнь и.смерть символов
471
вводятся, исходя из абстрактного властного рассудка. Чаада-
ев (как и многие русские) преклоняется перед Петром, пре-
жде всего, потому, что его преобразования имеют в основе
выраженный идеал — приблизить Россию к цивилизованной
Европе. Это не варварские реформы самовластного деспота,
а некий эйдетический социальный проект, поскольку За-
пад для Петра выступает идеалом, совершенной культурной
и политической формой, которая представляется самодоста-
точной и завершенной. Пушкин создает поэтический образ
.Петра и доводит его до совершенной эйдетической формы.
При этом пушкинский образ царя лишен всякой лакировки
и ртнюдь не официозен: он соединяет все черты противоре-
чивого характера царя, все особенности его деятельности,
все характерные моменты того времени и русской жизни
вообще. В сущности, славянофильство — столь же эйдетиче-
ская историческая позиция, в рамках которой вводятся такие
символы, как «Русь», «самобытность», «соборность», «до-
петровская Россия» и т. д. Я бы хотел особо отметить, что
так называемые историософские построения от Чаадаева до
Степуна — это не исторические дискурсы в смысле истории
как академической науки и не метафизические историософ-
ские выкладки, а выведение истории как символического об-
раза, то есть эйдетические построения. Поэтому, кстати, не
случайно, что в формировании символических воззрений на
историю участвуют также писатели, поэты, публицисты, ли-
тературные критики; поскольку русская историософия — это
скорее маргинальный, литературный и публицистический,
нежели научный жанр.
Русские мыслители неизбежно переносят в свои теории
частицу собственного опыта жизни в деспотической стране,
где многое меняется исключительно по прихоти самодержца
и его приближенных. Отсюда характерное для многих рус-
ских умов представление об истории как арене трагических
катаклизмов. В этом отношении широко за пределами Рос-
сии известны пессимистические воззрения Герцена, который
выводит учение о неизбежной гибели всех символов, всех
цивилизаций и культурных форм: «Древний мир жил в на-
стоящем, вспоминал часто былое, но о будущем не думал;
а если и являлась страшная мысль рока, преследовавшая его
472 Глава 4. Эйдетический опыт как история
беспрестанно, то это для того, чтоб толкнуть человека к на-
слаждениям»1. Будучи гегельянцем и веря в то, что история
никогда не стоит на месте, Герцен тем не менее совершен-
но исключает из своих воззрений учение о неуклонном про-
грессе. Все символические формы, все построения культу-
ры — это вершины истории человечества, но как таковые они
всегда одиноки в море низменных проявлений: мещанства,
филистерства, раболепия, верноподданничества и пошлости.
Хотя Герцен и называет учение Гегеля «алгеброй револю-
ции», он совершенно не верит в прогресс2. При этом Герцен
доказывает положение, с которым далеко не все согласятся:
пребывая внутри традиции, находишься в относительно за-
мкнутом культурном мире, где нет ни четких представлений
о будущем, ни определенного видения собственного прошло-
го. На страницах этой книги я не раз развивал тезис, схожий
с воззрениями Герцена. В самом деле, традиция обладает
стремлением к автономному бытию, превращая собственную
символическую основу в холистически организованный кон-
текст. В этом смысле мы находимся в коконе собственной
традиции, равно как и замкнуты в своем языке, неспособны
выйти за горизонт своей эпохи.
В русской мысли возвышенный исторический пессимизм
достигает масштабов, незнакомых западной мысли того вре-
мени. Некоторые реалисты стремятся вообще отказаться от
таких концептов, как высшие, духовные, вечные ценности.
Все символические построения оказываются ценностными
установками своего времени, которые для другой эпохи мо-
гут оказаться несостоятельными и даже комичными. Не сто-
ит судить об истории с позиций романтической веры в вы-
соты человеческого духа: опыт человека не столь возвышен,
как судят о нем романтики и идеалисты. Так, Чернышевский
пишет: «Гомеровы поэмы бессвязны; Эсхил и Софокл слиш-
ком суровы и сухи, у Эсхила, кроме того, недостает драма-
тизма; Эврипид плаксив; Шекспир риторичен и напыщен...
1 Герцен А. И. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1985. С. 334.
2 «Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно осво-
бождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского,
от мира преданий, переживших себя» (Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 4-5.
М„ 1982. С. 15).
4.3. Жизнь и смерть символов
473
О музыке нечего и говорить: Бетховен часто непонятен и ча-
сто дик: у Моцарта слаба оркестровка; у новых композиторов
слишком много шума и трескотни... Широкое, беспредель-
ное поле открывается тому, кто захочет доказывать слабость
всех вообще произведений искусства»1. Хотя Чернышевский
понимает возвышенное как результат эстетического преуве-
личения, равно как и утрирует недостатки классических тво-
рений, он это делает с целью доказать, что совершенное для
одной эпохи не кажется таковым для другой, что символи-
ческие представления всегда изменчивы и в мире нет ничего
’постоянного и вечного. Символическая интерпретация — это
всегда выражение ценностного, а порой и оценочного отно-
шЛшя, которое неизбежно включает в себя аспекты прене-
брежения, недооценки, равно как и превознесения и преу-
величения. Античная мысль для Монтеня, готика для Гёте,
Греция для Гёльдерлина — это объекты символических ин-
терпретаций, в которых преувеличение видно невооружен-
ным взглядом. Равно как и язычество для Тертуллиана, Про-
свещение для романтиков, новоевропейский рационализм
для Хайдеггера — это очевидные случаи соединения интер-
претации с a priori негативной оценкой. Поэтому я полагаю,
что такие натуралистические реалисты, как Чернышевский,
полезны именно тем, что доказывают возможность как по-
зитивной, так и негативной интерпретации одного и того
же культурного феномена. Лев Шестов, хотя и стоит на со-
вершенно иных идейных позициях, судит об историческом
символизме в столь же парадоксальной и скептической ма-
нере: «К суждению “отравили Сократа” уже никак нельзя до-
бровольно согласиться приставить печать вечности. И того
достаточно, если она продержалась в течение какого-нибудь
исторического периода. Она уж и то слишком долго зажи-
лась на свете — скоро ей 2500 исполнится. Обещать же ей
бессмертие, вневременное существование, которое не мо-
жет уничтожить никакое забвение, — кто взял на себя дерз-
новенное право раздавать такие обещания?»2 Аналогично
рассуждает Розанов: «Но представьте-ка войну “без конца”,
Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 125.
2 Шестов Л. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 355.
474
Глава 4. Эйдетический опыт как история
влюбленность, затянувшуюся до 90 лет, папство без рефор-
мации, Реформацию без отражения ее Тридентским собором.
И вот вещи “сгибаются на сторону”... “лукавят”, “дрожат”»1.
Все вышеприведенные авторы, на мой взгляд, переносят на
свои символические представления об истории собственный
эйдетический опыт, опыт интеллигентного и образованного
человека, живущего в тогдашней Российской империи, в от-
сталой стране. Русский исторический символизм неотделим
от идеи трагической гибели любой культуры, жестокого по-
давления частного человека бездушной государственной
машиной. Ведь совершенно не случайно сосланный в Бесса-
рабию Пушкин символически уподобляет себя Овидию, от-
правленному Августом в те же края. Через два тысячелетия
он обращается к поэтическому образу изгнанника, которого
властная рука императора навсегда лишила родины.
Наше рассмотрение проблематики смерти символов
в русской мысли будет неполным, если не дать слово тем,
кто хранил романтическую веру в вечные общечеловеческие
духовные ценности, остающиеся нетленными, несмотря ни
на что. Таким был Белинский, судивший об истории в це-
лом и о Греции в частности с позиций романтизма: «Умирает
прекрасная Греция, отчизна Гомеров и Платонов, опустели
ее дивные храмы, сброшены с пьедесталов ее мраморные
статуи; храмы сокрушились, и их развалины заросли травою,
а статуи взяла железная рука варвара-победителя; — но разве
умерла для нас она, эта прекрасная Греция? Разве развали-
ны ее храмов и обломки их колонн не свидетельствуют нам
о гармонии их размеров, о первобытной красоте роскошных
их форм?»2 Белинский пишет о Греции, как до него писали
Гёльдерлин, Байрон, Шеллинг, Шлегель. Эллада остается
для него вечно живой — как культура, давшая человечеству
высшие духовные символы. Однако, достаточно полно разо-
брав романтические представления, мы не дадим себе права
поддаться этим чувствам. Как традиция, как конгломерат со-
временных и соразмерных друг другу символических поряд-
ков, античность вообще и Греция в частности исчезли полно-
1 Розанов В. В. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 436.
2 Белинский В. Г. Сочинения: в 9 т. Т. 2. М., 1977. С. 157.
4.3. Жизнь и смерть символов
475
стью и безвозвратно. Духовные же их ценности подверглись
многочисленным интерпретациям, перетолкованиям на ма-
нер символических установок новых традиций; и они «жи-
вут» именно в таком измененном виде. Поэтому, вместо того
чтобы представлять Грецию как идеализированный мир, как
вековечный исток духовности, я склонен ценить греческий
символизм как великий, классический, во множестве черт
прекрасный и возвышенный дискурс — но дискурс прехо-
дящий, временный, один из многих других. К тому же сама
.античность слишком разнообразна, слишком продолжитель-
на, чтобы мы могли ее сформировать единый и непротиво-
речивый синтетический образ. В частности, Ю. В. Андреев
совершенно справедливо отмечает, что историкам до сих пор
мало что известно о «темных веках», которые тянулись от
Троянской войны до ранней архаики1. Вместо того чтобы
превращать Элладу в некий символический образ, подобно
романтикам, я ставлю более скромную эпистемологическую
задачу: получить представление о реальном опыте древнего
грека. Хотя эта задача трудновыполнима (а порой и невы-
полнима вовсе — как в случае с музыкой или утраченными
текстами), каждый вновь открытый историками фрагмент
подлинно греческого опыта мне представляется полезным
и актуальным, значимым и для нашего времени.
Печорин в «Герое нашего времени» замечает, что идеи —
«создания органические». Достоевский неоднократно демон-
стрирует, что идея в своей «жизни» — это не отвлеченное по-
нятие, а ценность и символ. Б. М. Энгельгардт, комментируя
романы Достоевского, подчеркивает, что идеи у него посто-
янно видоизменяются, возвышаются или мельчают в зависи-
мости от масштаба личности, выходят на улицу, становятся
предметом поклонения, жертвы и т. п.2 Сам Достоевский дает
нам ценные, художественно выраженные представления как
о зарождении, так и о смерти символов: «В следующем же по-
колении или через два-три десятка лет мысль гения уже охва-
тывает все и всех, — и выходит, что торжествуют не миллионы
людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные
1 См.: Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998.
2 См.: Энгельгардт Б. М.. Избранные труды. СПб., 1995.
476 Глава 4. Эйдетический опыт как история
и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная
вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтож-
нейшего из людей»1. Достоевский никогда не путает власть
идей и идеологию. В отличие от идеологии, которая исполь-
зует рычаги духовной или светской власти для поддержания
идей, «жизненная» идея сама властвует над душами и умами.
Хотя Достоевский в целом разделяет романтические умона-
строения относительно символов, он по-новому ставит вопрос
о так называемой символической власти. В подходе Достоев-
ского оригинально то, что в культуре, с его точки зрения, го-
сподствуют не деньги, не власть, не производство, а символы,
понимаемые человеком как жизненно важные ценности. Не
зря Ницше столь высоко ставил Достоевского: ведь немецкий
философ утверждает, что вокруг ценностей вращается мир.
Герой Достоевского — это символическая личность, эйдети-
ческое воплощение личности, его мировоззрение всегда стро-
ится вокруг той или иной господствующей ценности. Поэтому
диалоги главных героев перерастают рамки простых идейных
споров и становятся символическими диалогами между но-
сителями антагонистичных эйдетических моделей совершен-
ства. При этом, что характерно, для Достоевского значимы
исключительно возвышенные формы мировоззрения, которые
у него всегда разворачиваются на фоне вопиющей низменно-
сти. Раскольников, Иван Карамазов, Алеша Карамазов, князь
Мышкин, Ставрогин судят по-разному, но все они — возвы-
шенные и символические личности. Действие у Достоевского
разворачивается не в реальном пространстве и времени, а на
некой эйдетической сцене, которая сама становится символом
(будь то Петербург или Скотопригоньевск). Розанов пишет
об этом: «Это-то и сообщает его произведениям вековечный
смысл, неумирающее значение. Было бы анахронизмом в на-
стоящее время разбирать характеры, выведенные, например,
Тургеневым, хотя со времени их создания прошло немного лет:
они ответили на интересы своей минуты, были поняты в свое
время, и теперь за ними осталась привлекательность исключи-
тельно художественная. Мы их любим, как живые образы, но
нам уже нечего в них разгадывать. Совершенно обратное мы
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 1989. С. 349.
4.3. Жизнь и смерть символов
477
находим у Достоевского: тревога и сомнения, разлитые в его
произведениях, есть наша тревога и сомнения, и таковыми
останутся они для всякого времени»1. Герой «Мастера и Мар-
гариты» Булгакова в ответ на реплику, что Достоевский давно
умер, парирует: «Протестую, Достоевский бессмертен!» Речь
идет, конечно, о метафорически понимаемом бессмертии. Об-
разы и символы Достоевского уже давно не понимаются нами
так, как они понимались его современниками, а некоторые
произведения и частные особенности мировоззрения писателя
практически забыты2. Когда мы говорим о «вечности» симво-
лов великого писателя, то следует понимать под этим исклю-
чительно фигуральную форму выражения. Никто не сможет
ответить на вопрос, как долго будет продолжаться влияние
Достоевского на умы людей, но вполне допустимо предполо-
жить, что образы и суждения писателя будут актуальны до тех
пор, пока они вступают во взаимодействие с запросами нашего
опыта и нашими символическими представлениями. По мере
удаления современной традиции от той эпохи роль Достоев-
ского, вероятно, будет снижаться, хотя и об этом нельзя судить
с уверенностью. Не следует исключать и такого сценария: по-
сле относительного забвения Достоевский опять окажется ак-
туальным, востребованным для новых интерпретаций. Таков
удел великих классиков: периоды популярности и забвения
выпадают на их долю с известной периодичностью и примерно
в равной степени, подобно тому, как периоды радости и горе-
сти закономерно чередуются в нашей жизни.
При интерпретации символ «живет»; но он уже лишен той
изначальной формы, какой он обладал при появлении. Более
того — вообще не существует никакой «исконной» формы су-
ществования символа. Самая ранняя форма имеет лишь вре-
1 Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М.,
1996. С. 28. Хочу добавить от себя, что я совершенно не согласен с роза-
новской оценкой творчества Тургенева, но, чтобы не вдаваться в детали,
замечу лишь, что Тургенев также ставит эйдетические вопросы, которые
способны пережить свое время.
2 Так, многие его романы и повести, такие как «Записки из Мертвого
дома», «Игрок», «Подросток» и др., читаются куда меньше, чем четыре
прославленных романа: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»
и «Братья Карамазовы».
478
Глава 4. Эйдетический опыт как история
меннбе первенство, вставая в один ряд с другими последующи-
ми интерпретациями. К примеру, в символическом отношении
совершенно недопустимо вводить историко-философское раз-
деление на «подлинную» философию Платона и последующие
интерпретации в платонизме. Платон неоплатоников, Платон
Ренессанса, Платон Поппера — это различные, хотя и род-
ственные эйдетические образы мыслителя. Вероятнее всего,
символические представления меняются тем медленнее, чем бо-
лее они глубоки и совершенны. Зачастую, как в изобразительном
искусстве или исследованиях морали, образ человека ощутимо
видоизменяется, но символическая основа, равно как и струк-
туры эйдетического опыта остаются схожими.
В процессе любых символических трансформаций совер-
шенно неизбежно появление гениев и возникновение великих
творческих периодов, когда брожение возвышенного опыта
обретает адекватные и соразмерные ему формы. Когда мы
рассуждаем о жизни и смерти символов, не стоит забывать об
иллюзии, в которой живет человек всех известных нам эпох
и традиций: он считает собственные символы вечными и не-
изменными. Но такая иллюзия оправдана как защита нашего
опыта от постоянного искушения впасть в скепсис и цинизм
по отношению к символам. Ведь на фоне дискуссий о пост-
модерне и переоценке всех ценностей можно допустить, что
символический релятивизм опасен лишь для той культуры,
в которой утрачена вера в единство символической основы,
когда уже пали мифологизированные структуры убежденно-
сти в вечности собственного символизма. Наподобие того,
как Кант советовал поступать так, будто всем правит закон
добра, традиция поддерживается представлением, как будто
бы ее символы были, есть и будут всегда.
Фонтенель однажды остроумно заметил: «В самом деле,
что было бы, если бы все памятники древности сохранились?
Новые поколения не знали бы, где поместить свои»1. Ни одна
новая традиция не обходится без переделки и уничтожения
символов предыдущих традиций — порой самыми варвар-
скими методами. Вспомним, как по идеологическим сооб-
ражениям в городах СССР были снесены тысячи церквей,
1 Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979. С. 40.
4.3. Жизнь и .смерть символов
479
дворцов и зданий, выполненных в «упаднических» стилях.
Архитектура как наиболее видимая и сохраняющаяся форма
искусства позволяет наглядно убедиться, как меняется сим-
волическая функция зданий. К примеру, римский Пантеон,
базилики и некоторые другие здания в христианскую эпоху
были перестроены в церкви и дворцы, а оказавшиеся ненуж-
ными сооружения (вроде Колизея) оказались преданы за-
бвению и превратились в руины, став каменоломнями. Если
не обладать свойственным некоторым зодчим (особенно по-
стмодернистам) маниакальным стремлением воздвигнуть
нечто в районе старой исторической застройки, то сетование
Фонтенеля еще долго будет напрасным: загроможденность
символами не скоро начнет грозить человечеству, если новое
не станет разрушать прежнее, а будет искать для себя иные
места. Наоборот, сохраняющиеся остатки старины, ее симво-
лы и образы «мифологически» необходимы как нечто безу-
словно художественное и символически ценное, оставшееся
нам от предков. Символы не могут сохраниться полностью,
но некоторые из них создают такое важное отношение, как
преемственность, связывая эпохи и поколения, порождая
новые интерпретации. Если опять вернуться к архитектуре,
то в наш прагматичный и туристический век общепризнано,
что наибольшей привлекательностью пользуются города,
в которых сохранилась максимально цельная и подлинная
историческая застройка, созданная великими зодчими —
таковы Флоренция, Венеция, Париж, Прага, Барселона,
Санкт-Петербург и другие. Окраинные районы этих городов,
выстроенные в стиле функционализма, лишены всякой при-
влекательности. Следует, правда, заметить, что выросшие на
пустом месте (или на месте невзрачных деревень) новейшие
города — такие, как Нью-Йорк, Токио, Абу-Даби и другие —
несут на себе печать цельного, ярко выраженного и, что осо-
бо важно, не конфликтующего с прежней застройкой симво-
лизма1. Будучи консерватором и сторонником сохранения
всех памятников, я тем не менее считаю нелепыми решения
некоторых современных зодчих построить пригородный туа-
1 Противоречия между старой и новой застройкой особенно остро прояв-
ляются в таких туристических центрах, как Лондон, Берлин, Рим, Москва.
480
Глава 4. Эйдетический опыт как история
лет или торговый гипермаркет в классическом стиле, наго-
родив среди стеклянных павильонов ворота, триумфальные
арки, лепные фасады. Это столь же символически некоррек-
тно и неуместно, как втиснуть в классический двор Лувра
стеклянную пирамиду, которая выглядит инородным телом,
создавая эклектическое смешение старого и нового.
Не стоит абсолютизировать ни вечность, ни смертность
символов. Эйдетический опыт человечества — это самая
инертная система, которая только присуща нашей природе.
Характер опыта меняется довольно быстро, но основные
эйдосы — гораздо менее значительно, нежели символиче-
ское оформление. Поэтому эйдосу приписываются свойства
некой субстанциональной константы. Например, в области
этики или искусства принято считать, что человек в своем
образе меняется незначительно: мы можем понять мысли
Сенеки или сюжеты Караваджо, хотя они жили в иные эпо-
хи. Однако эйдосы видоизменяются', постепенно, медленно,
но неуклонно. Эйдетические сдвиги заметны лишь на зна-
чительном историческом расстоянии — как правило, после
того, как эпоха отошла в прошлое. Поэтому с точки зрения
нашей жизни эйдосы кажутся практически вечными; их из-
менения становятся наглядны только в масштабе всей исто-
рии, всей совокупности эйдетического опыта. Эйдетический
опыт и символизм — это динамические формы, которые по-
стоянно приобретают новые конфигурации и обличья, тог-
да как эйдос гармонизирует их избыточную динамику своей
статичностью. Получается, что в сфере символизма нет ни-
какого противоречия в том, что в огромном историческом
масштабе все меняется и гибнет, а в представлении отдель-
ного человека и отдельной традиции все кажется постоян-
ным и вечным.
Во французской философии классического периода, на-
чиная с Монтеня, утвердилось пессимистическое представле-
ние о судьбе любого символизма. Философы не жалеют кра-
сок и эпитетов, чтобы доказать зыбкость и временность всего
сущего. Так, Монтень пишет: «Давайте оглядимся вокруг: все
распадается и разваливается; и это во всех известных нам го-
сударствах, как христианского мира, так и в любом другом
месте; присмотритесь к ним, и вы обнаружите явную угрозу
4.3. Жизнь и смерть символов
481
ожидающих их изменений и гибели»1. В этом суждении Мон-
тень подражает римским стоикам, особенно Марку Аврелию.
В труде Монтеня античный моральный символизм соединя-
ется с ценностями христианства совершенно свободно и есте-
ственно, поскольку этический образ достойной частной жизни
представляется Монтеню значимым для всех людей и всех вре-
мен. Характерно и то, что Монтень не раз отмечает в качестве
причины упадка той или иной возвышенной формы не только
вырождение благородства, но и культурную усталость, загро-
.можденность устаревшими символами. В связи с этим гибель
символизма приобретает определенную мажорную тональ-
ность и трактуется как освобождение человечества от пут ста-
рого порядка ради установления нового. Лабрюйер по этому
поводу отмечает: «Довольно и двадцати лет, чтобы люди изме-
нили свое мнение о самых важных вещах, даже о таких, кото-
рые казались бесспорными и незыблемыми»2. Думаю, не стоит
тратить много времени, чтобы доказать, что подобный симво-
лический пессимизм — это не философия, а скорее возвышен-
ная установка о человечестве в его истории. Если исследовать
символы с точки зрения истории как науки, то можно доказать,
что, по крайней мере, основные символы существуют столетия,
периодически изменяя формы своего бытия в связи со сменой
традиций. Я рискну поэтому поправить Марка Аврелия, Мон-
теня, Лабрюйера и предположу: в самом деле, следующее по-
коление людей уже обладает качественно иным возвышенным
опытом, ищет новых эйдетических представлений, что вызыва-
ет переоценку, а порой и желание отбросить символы «отцов».
Однако на практике это воплощается в рамках традиции, ко-
торая уравновешивает все революционные и фрондерские по-
рывы; в результате чего новое постепенно становится все более
и более консервативным. Поэтому символический пессимизм
с философской точки зрения является ложной теорией. Дадим
слово самому знаменитому возвышенному пессимисту эпохи
романтизма — Шатобриану: «Что сталось с теми блестящими
и бурными эпохами, когда на земле жили Шекспир и Мильтон,
Генрих VIII и Елизавета, Кромвель и Вильгельм, Питт и Бёрк?
1 Монтень М. Опыты. М., 1991. С. 487.
2 Лабрюйер Ж. Характеры. СПб., 2008. С. 313.
482
Глава 4. Эйдетический опыт как история
Все это в прошлом; гении и ничтожества, ненависть и любовь,
роскошь и нищета, угнетатели и угнетенные, палачи и жертвы,
короли и народы — все спит в тишине, все покоится во прахе.
Как же жалка наша участь, если такая судьба постигает самых
ярких представителей рода человеческого»1. Такие суждения,
еще раз повторю, носят не научный и философский, а литера-
турный характер. Здесь сама история человечества — это эйде-
тический образ, который трактуется с точки зрения высокого
чувства и понимается как нечто мифологическое, не требую-
щее никаких доказательств, тем более — обоснования при-
чин. Ибо какие причины могут быть у рока, смены дня и ночи,
смены эпох? Франсуа Вийон, создавший знаменитые балла-
ды о дамах и мужах былых времен, остается исключительно
в пространстве поэтического дискурса, задавая вопрос: «Но где
же прошлогодний снег?» Если сопоставить баллады Вийона
с суждениями Шатобриана и Руссо, то очевидно их родство,
равно как и сходный характер «доказательств», подкрепляю-
щих такие убеждения. В конце концов, возвышенный симво-
лический пессимизм — это метафора всеобщего эйдетического
изменения, которая бросает вызов платоновской вере в веч-
ность и неизменность сущего. Можно признать классической
формулировку возвышенного пессимизма, данную Руссо: «Все
на земле — в непрерывном течении, которое не позволяет ни-
чему принять постоянную форму. Все изменяется вокруг нас.
Мы изменяемся сами»2.
На мой взгляд, постмодернистский релятивизм и декон-
структивизм современных французских философов (и мысли-
телей иных наций, примкнувших к ним) имеет тесную связь
с возвышенным символическим пессимизмом классического
периода, с верой во временность всех форм культурного бы-
тия. Французские мыслители не допускают никакого «осно-
вания», которое можно подвести под символизм в качестве
всеобщего принципа. Это отличает их от немецких философов,
которые всегда подводят под исследования исторического
опыта трансцендентальные основания. Также это не похоже
на идеи английских мыслителей, которые склонны опираться
‘Шатобриан Ф.-Р. де. Замогильные записки. М., 1995. С. 342.
2 Руссо Ж.-Ж. Избранное. М., 1996. С. 608.
4.3. Жизнь и смерть символов
483
на факты и суждения языка. Как отметил Фуко, в этой фило-
софии даже сам человек — не постоянная, а переменная дис-
курса. Сведение любого символического порядка или любого
традиционного символизма к дискурсу, эпистеме делает пред-
ставление о символической истории атомарным, дискретным,
когда каждая культурная практика замкнута исключительно
в собственном эйдетическом пространстве. При этом подоб-
ные релятивистские представления сложились довольно рано,
еще в период господства философии интуитивизма Бергсона.
• В качестве характерного суждения французского символиче-
ского релятивизма хотелось бы привести положение не Де-
лёза или Деррида, а ныне почти забытого Г. Лебона: «С точки
зрения философской все идеалы равноценны, потому что они
составляют только временные символы. Когда влияние греков
и римлян, в течение стольких веков фальсифицирующее евро-
пейский ум, наконец исчезнет из нашего воспитания и когда
мы научимся самостоятельно смотреть вокруг себя, то для нас
сделается ясным, что мир обладает памятниками, представля-
ющими по меньшей мере одинаковую эстетическую ценность
с ценностью Парфенона и имеющими для современных наро-
дов гораздо высший интерес»1. Если ввести такие метафори-
ческие понятия, как символическая статика и символическая
динамика, то можно утверждать, что момент символической
динамики в мысли Лебона существенно превосходит момент
статики. Лебон ратует за радикальный отказ от тех символов,
которые поддерживаются лишь традицией, будучи неактуаль-
ными для опыта.
Как было доказано выше, любые универсальные модели
символических трансформаций обречены на теоретический
провал. Учитывая программный тезис современной француз-
ской мысли о тождестве философии и литературы2, следует
воспринимать такие суждения как образные, художественные
обобщения. На мой взгляд, ошибочно понимать французскую
культурологию как форму науки или академической фило-
софии в привычном смысле этого слова. Труды Барта, Фуко,
Делёза, Бодрийяра, Деррида и др. — это философическая эссе-
1 Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С. 73.
2Высказан Сартром в книге «Что такое литература?» (СПб., 2000).
484
Глава 4. Эйдетический опыт как история
истина, в которой концептуализм никогда не играет ведущих
ролей. Так, Фуко приводит суждение, ставшее классическим:
«Человек, как без труда показывает археология нашей мыс-
ли, — это изобретение недавнее. И конец его, быть может, не-
далек»1. Я считаю, что перед нами не теоретическое, а «поэти-
ческое» обобщение, которое не может быть доказано в плане
какой бы то ни было верификации. Вместе с тем мы наблюдаем
у Фуко стремление создать эйдетическое представление: чело-
век здесь определяется как эйдос, как имеющая определенные
черты совершенная форма, как символ, когда-то возникший
и идущий к своему упадку. Тем самым Фуко отказывается
«концептуализировать» эйдос, придавая ему образную, мета-
форическую форму, рассуждая не позиции cogito, а с позиции
возвышенного представления.
Если подойти к суждениям французских культурологов
о судьбах символизма с эпистемологической точки зрения,
то можно утверждать, что все суждения о прошлом, равно
как и причинах, вызвавших к жизни настоящее, выводятся
исключительно с позиции актуального эйдетического опы-
та автора, без всякого стремления герменевтически перево-
плотиться в опыт субъектов других времен и народов. Это
убеждение вообще характерно для французской мысли и вос-
ходит еще к Вольтеру, который в «Философских повестях»
создал исторические портреты и описал времена и наро-
ды в манере, повергающей в шок любого ученого. Вольтер
убежденно полагал, что все люди всегда жили одними и теми
же ценностями просвещенного человека. В зависимости от
места и времени меняется лишь антураж, тогда как ценно-
сти просвещенного человека вечны. Ведь сказал же Моцарт
(как гласит анекдот) императору, видя его замешательство
по поводу того, что действие оперы «Похищение из сераля»
происходит на Востоке, да еще в гареме, следующую фразу:
«Не волнуйтесь, Ваше Величество. Все будет в духе немец-
кой добродетели». Хотя идеи структуралистов существенно
отличны от просветительских, по своей сути они столь же
«неисторичны». Р. Барт, как всегда тонко, высказывается
о самой сути французской мысли, когда пишет: «Все анахро-
1 Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 487.
4.3. Жизнь и смерть символов
485
ническое непристойно. Как божество (современное), Исто-
рия репрессивна. История запрещает нам быть несвоевре-
менными. От прошлого мы можем стерпеть только руины,
памятники, китч или ретро, каковое забавно; мы сводим его,
это прошлое, к одной лишь его подписи»1. Таким образом,
все отошедшие в прошлое символы уже непонятны нам, по-
скольку они совершенно чужды «актуальному» опыту. Они
лишь «забавляют» наш опыт, наподобие того, как людей
будет забавлять вид каравана диковинных азиатских и аф-
риканских животных, которых когда-то и в самом деле во-
дили по улицам Лондона или Петербурга. Мы можем сколь-
ку угодно упрекать Фуко, Делёза и Деррида в отсутствии
«правдивости», «исторического такта» и прочих критери-
ев — но подобные упреки для них совершенно неощутимы:
эти философы искренни в том, что они обо всем судят ис-
ключительно с позиции собственного субъективного опыта,
не делая из него нечто «вечное» и «универсальное», а судя
обо всем исключительно как частные люди. Поэтому в такой
философской традиции книга Ж. Бодрийяра под названием
«Забыть Фуко» выглядит знаковым текстом, отражающим
важнейший аспект. В этой книге утверждается, что наличная
символическая точка зрения ведет к «стиранию» всех других
типов символизма и оказывается формой забвения — но не
в трансцендентальном, хайдеггеровском смысле, как забве-
ние вечного истока. Здесь мы видим иное забвение: просто
стирание всего того, что утратило свою актуальность, а так-
же полную свободу переописания того «археологического»
материала, который значим для нас. Постмодерниста нель-
зя обвинять в предвзятости на тех же основаниях, на каких
мы не можем обвинить в предвзятости поэта: и тот и другой
искренни и правдивы в символической полноте выражения
своего опыта.
Сейчас, когда постмодернизм уже завершен, он все ме-
нее и менее кажется «новым», и приставки «пост-» утрачива-
ют свою актуальность как футуристически ориентированные
символические позиции. Как я доказываю, любое стремле-
ние к умышленному разрушению символизма есть декон-
1 Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М., 1999. С. 216.
486
Глава 4. Эйдетический опыт как история
струкция. При этом никогда не надо списывать со счета таких
факторов, как варварство, вандализм, уничтожение символа
по причинам идеологического или религиозно-фундамента-
листского характера. Современные мусульманские фанатики
демонстративно разрушили статуи Будды в Бамиане, архи-
тектурные памятники древней Пальмиры — это свидетель-
ствует о том, что варварство никуда не исчезло и в наши дни.
Некоторые павильоны и мостики императорских парков под
Петербургом, к примеру, восстановить крайне затруднитель-
но не из-за отсутствия средств на саму реставрацию, а из-за
нехватки денег на учреждение поста охраны. Так, к приме-
ру, отреставрированные, но не охраняемые павильоны парка
Гатчины за какие-то два десятилетия обратились в руины:
они были сломаны, испещрены надписями, всячески повреж-
дены1. Эпоха постмодерна осуществляет мощный «выплеск»
разрушительной энергии, когда исторические живописные
ландшафты уродуются упрощенной застройкой. В любом
большом городе мира можно убедиться, насколько силь-
но кубические, облицованные стеклом дома диссонируют
с историческими зданиями; деловая функция таких домов,
утилитарность фасадов подавляют любую художественность.
Деконструкция, этот пропагандируемый культ постмодер-
низма, зачастую преподносится как форма прогресса, отказ от
избитых, набивших оскомину классических форм. Однако это
не так: любая форма деконструкции несет с собой травмати-
ческий опыт и ведет к культурному шоку. О травматическом
опыте пишет С. Жижек: «Само существование символическо-
го порядка включает в себя возможность полного стирания,
“символической смерти” — уже не просто смерти “реального
объекта” в своем символе, а уничтожения, стирания систе-
мы означающих вообще»2. В случае деконструкции символы
уничтожаются умышленно, подобно тому, как большеви-
ки сносили церкви для искоренения религии. И хотя пост-
модернистски настроенные мыслители как граждане своих
1 В 2015 г. восстановлена Пиль-башня в Павловске. Поскольку долгие
годы павильон не охранялся, он стоял без соломенной крыши. Дирекция
парка сделала это сознательно: без должной охраны вандалы подожгли бы
солому, и памятник оказался бы утрачен.
2 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С. 136.
4.3. Жизнь и смерть символов
487
стран ратуют за толерантность и либерализм, в области те-
ории они нанесли существенный удар по классическим сти-
лям. Одна из главных проблем современной культуры — это
восстановление во многом разрушенных форм естественной
и органической преемственности символов и традиций. Но
травматический синдром постмодерна настолько силен, что
он может приобретать крайне пессимистические формы. Так,
Бродский и Кундера, пострадав от коммунистических режи-
мов, так и не смогли полностью оправиться от посттравма-
, тического синдрома. Светлое романтическое воспоминание
о прекрасном детстве как золотом веке сменяется мрачной
и .болезненной сосредоточенностью на травматических пе-
реживаниях. Кундера пишет: «Будущее — это лишь равно-
душная и никого не занимающая пустота, тогда как про-
шлое исполнено жизни, и его облик дразнит нас, возмущает,
оскорбляет, и потому мы его стремимся уничтожить или
перерисовать»1. Писательский ход Кундеры — это крупное
культурное событие, поскольку эйдетический опыт целого
поколения, искалеченный мощным идеологическим гнетом,
получает свое совершенное воплощение. Однако в наши дни
новое поколение, не заставшее социализма, уже не в состо-
янии сопереживать Кундере, видя в его текстах постоянные
сетования, если даже не нытье. В свою очередь, в современ-
ном российском сознании образ Бродского как диссидента
постепенно сменяется образом поэта как бунтаря, нонкон-
формиста, критика режима и т. д.
Вопрос об искусственном сохранении или разрушении
символизма носит важный теоретический характер, посколь-
ку следует установить меру могущества человека в отношении
символов. Понятно, что возвышенный опыт и эйдетические
представления искоренить невозможно. Символическую же
систему можно достаточно долго поддерживать силами иде-
ологии, всячески ограничивая формы инакомыслия. Такой
институт, как цензура, к примеру, неизбежно приводит к воз-
никновению в среде творческой интеллигенции так называе-
мой самоцензуры, когда мощный идеологический символизм
кажется безусловно истинным и авторитетным по сравнению
1 Кундера М. Книга смеха и забвения. СПб., 2009. С. 37.
488
Глава 4. Эйдетический опыт как история
с сомнениями маленького человека. Но здесь я хотел бы
остановиться на такой искусственной форме поддержания
символизма, как музеи. На мой взгляд, музейное хранилище
не имеет альтернатив, поскольку в обычных условиях мно-
гие известные нам памятники и шедевры были бы просто
утрачены. Любой памятник прошлого надо реставрировать,
консервировать, некоторые — предварительно раскапывать.
Еще в Риме в домах богатых патрициев появились первые
коллекции произведений искусства: греческие «оригиналы»
(на то время уже нуждавшиеся в реставрации) копировались
римскими скульпторами. Без этого копирования многие из
греческих скульптур были бы нам просто неизвестны. Одна-
ко любое собрание памятников — это искусственно сформи-
рованное множество, коллекция, которая сама по себе еще
ничего не говорит о том, как следует структурировать пред-
ставленные в ней памятники. Ведь сохранение памятника
еще не свидетельствует о том, что символизм, который вкла-
дывался в данный артефакт при его сотворении, может быть
понятным. Ведь даже в отношении известнейших шедевров
нормальной оказывается ситуация, когда сопровождающие
их творение акты опыта и эйдетические представления утра-
чены. Озабоченность эклектизмом в современных крупных
художественных музеях высказывали многие авторитетные
авторы. Приведу мнение У. Эко, который пишет: «Инопла-
нетянин, не знающий нашей концепции “изобразительного
искусства”, недоумевал бы, почему в Лувре собраны домаш-
няя утварь... образы божеств вроде Венеры Милосской, ланд-
шафты, портреты обычных людей, остатки захоронений,
в том числе мумии, изображения уродов, предметы культа,
изображения людей, подвергаемых истязаниям, картины
сражений, обнаженные тела»1. Нельзя сказать, что в таком
музее, как Эрмитаж2, экспонаты хранятся беспорядочно: экс-
позиции достаточно четко разнесены по времени, школам,
странам. Однако Эрмитаж как целое — это в определенной
степени механическое объединение, просто совокупность
художественного наследия разных времен и народов. При
1 Эко У. Vertigo. Круговорот образов, понятий, предметов. М., 2009.
С. 169.
2 Этот музей я знаю лучше, чем Лувр, описываемый Эко.
4.3. Жизнь и смерть символов
489
этом мы можем обратиться к тому или иному сегменту это-
го собрания, что дополнительно свидетельствует о том, что
разделы и экспозиции не объединяет какой-либо всеобщий
символизм.
Таким образом, механическое хранение «символической
информации» (музеи, библиотеки, медиатеки и т. п.) не ре-
шает проблемы сохранности символов. Подлинное хранение
неотделимо от родства в области опыта, когда классический
символ чем-то важен, чем-то значим для современных за-
просов, когда он побуждает интерпретировать его, развивать
или хотя бы относиться с выраженным уважением. К при-
црру, Ч. Камерон относился к античности не как антиквар,
а как художник-классик, применившего впервые в столь
колоссальных масштабах античные формы при возведении
двух огромных императорских резиденций (Царское Село
и Павловск). Архитектурные формы Павловска классичны
и восходят к греческим оригиналам, но при этом несут в себе
совершенно иную смысловую и символическую нагрузку,
выступая новой интерпретацией, новым витком классиче-
ского стиля вообще. Понятно, что великие символы следует
сохранять, даже музеефицировать; однако на первый план
тут должно выдвигаться не консервация артефакта, а со-
хранение его исторической символической роли. Эта зада-
ча мне представляется, как правило, невыполнимой, но тем
не менее ради установления символического диалога между
традициями, а также развития наук и искусств исторический
символизм должен сохраняться настолько полно, насколько
это возможно1. Ведь если судить с точки зрения текущего мо-
мента, то никогда нельзя безусловно установить, что «оправ-
данно» сберегать, а что, напротив, следует перестроить или
даже уничтожить. В современной России, к примеру, на веку
одного поколения Петербург во многом утратил свой все-
1В этом плане передовыми являются этнографические музеи, в которых
посетитель попадает в максимально аутентичную ситуацию, к примеру,
«старой голландской деревни». В музеях транспорта экспонаты частично
используются, создаются аттракционы, позволяющие посетителю «прока-
титься» на паровозе или старом трамвае. Классическая живопись органич-
но выглядит не в современных, а в дворцовых интерьерах, как, к примеру,
экспозиция ренессансной и французской живописи в Эрмитаже.
490
Глава 4. Эйдетический опыт как история
мирно известный классический, целостный, прекрасный об-
лик: особенно заметны утрата исторической небесной линии
и вторжение форм современной архитектуры в застройку на-
бережных и площадей.
Мы живем в конце огромной и сложной символической
эпохи, которая прошла под знаком господства романтизма.
А. Бадью озвучил опасения современной интеллигенции
по поводу того, что поэтические ценности утратили свою
актуальность, а символизм порабощен прагматическими
установками1. В самом деле, если подходить к символизму
исключительно прагматично, лишь с точки зрения необхо-
димости и запросов актуального опыта, то многие формы
прежнего символизма окажутся ненужными. Дьюи не зря
называл Бэкона «прагматистом за триста лет до прагматиз-
ма», потому что именно этот классик впервые выступил ре-
шительным противником хранения классического и исто-
рического символизма, доставшегося от предков. Он писал:
«Тщетно ожидать большого прибавления в знаниях от вве-
дения и прививки нового к старому. Должно быть соверше-
но обновление до последних основ, если мы не хотим вечно
вращаться в круге с самым ничтожным движением вперед»2.
Если судить об исторических и культурных представлениях
классического эмпиризма, то для этой философии характер-
на сенсуалистическая позиция, отказывающая возвышенно-
му опыту в таком статусе. Возвышенный опыт редуцируется
к формам чувственности, к ощущениям и эмоциям, что мне
представляется грубым заблуждением. Власть эмпирической
установки, редуцирующей возвышенные акты к обыденным
проявлениям чувственности, настолько велика, что даже вы-
дающийся романтик Кольридж подпал под чары эмпириз-
ма: «Даже самые возвышенные, внушающие благоговейный
ужас истины, имеющие вместе с тем и всеобщий характер,
слишком часто почитаются настолько истинными, что давно
лишились смысла и значения, — они мирно дремлют в от-
даленных закоулках человеческой души бок о бок с самы-
1 «Я стою на том, что век поэтов завершен» (Бадью А. Манифест филосо-
фии. СПб., 2003. С. 41).
2 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 17.
4.3. Жизнь и смерть символов
491
ми презренными и отчаянными глупостями»1. Но что может
быть критерием разграничения «истины» и «глупости»? Наш
опыт? Прагматические приоритеты, которые ставят перед
нами потребности жизни? К тому же не кажется ли совершен-
но утопической мечта о радикальном символическом обнов-
лении? Не вдохновляет ли такая мечта от века к веку всякого
рода тиранов, стремящихся войти в историю и прославиться
в веках? С позиций, выведенных в этом исследовании, у нас
нет никакой безусловной и абсолютной точки зрения, кото-
рая была бы возможна для «беспристрастной» оценки досто-
'инств и недостатков любого символизма. Равно как и нет
никакой гарантии, что ныне ненужный и погребенный под
слоем вековой пыли символизм не может быть возрожден
нашими потомками в той или иной новой интерпретации.
Мне кажется, эмпирики, оправданно критикуя построения
отвлеченного идеализма, вместе с водой выплескивают и ре-
бенка, обосновывая, что возвышенный опыт на самом деле
есть нечто надуманное и мифическое. Юм, а затем и Кант
окончательно и бесповоротно доказали, что возвышенный
опыт существует, и редукция его к другим формам познания
бесперспективна.
Если символы способны пережить свою эпоху, то сопро-
вождающий их опыт всегда может исчезнуть как непосред-
ственная форма. Как бы мы ни относились к эмпирическо-
му редукционизму, следует признать, что изменение опыта
людей неизбежно влечет за собой существенные изменения
в символизме. Даже если символ сохраняется, то он уже по-
нимается совершенно иначе. Теоретически возможна полная
утрата эйдетического опыта, и тогда символ остается исклю-
чительно оболочкой, порой поражая нас своей грандиозно-
стью, но и пугая своей непонятностью. Таков был минойский
символизм для эллинов — они от него мало что заимствова-
ли. При всем желании понять опыт людей, создавших сим-
волизм, совершенно непохожий на наш, мы вряд ли сможем
пойти за пределы исключительно формального, научного
представления. Конечно, если судить с позиций символиче-
ского универсализма, то придется решать такую задачу, как
'Кольридж С. Т. Избранные труды. М., 1987. С. 86.
492
Глава 4. Эйдетический опыт как история
втискивание древнего египетского символизма в схему все-
общей истории (что делает, к примеру, Гегель). Но этот тео-
ретический ход кажется мне совершенно бесперспективным.
Гораздо реалистичнее допустить, что на наш символизм вли-
яют некоторые формы прежнего символизма — и то не цели-
ком, а лишь фрагментарно.
Вместе с тем не стоит забывать, что исторический сим-
волизм доходит до нас не в своей непосредственной форме,
а «отредактированным», как некое «избранное», которое
к тому же берется завершенным в себе самом. Когда рас-
суждают о греках, как правило, не вспоминают о символи-
ческом монтаже, который проводился целыми поколениями
комментаторов, начиная с Хрисиппа и Цицерона. Мы пред-
ставляем греческий символизм как совокупность великих
вершин духа, но живая и непосредственная форма этого сим-
волизма учитывается редко. Из такого допущения вовсе не
следует, что эта форма была более приземленной, менее воз-
вышенной. Напротив, я хочу лишь подчеркнуть, что в опы-
те греков (который сам по себе не являлся чем-то простым
и однозначным) собственный символизм был совершенно
иным, нежели тот, который приписывали ему другие эпохи.
Любая великая традиция извне воспринимается как время
великих гениев и титанов, причем даже внутри традиции
существует механизм отнесения высших символов к леген-
дарному и героическому прошлому, что придает им особый
авторитет. Одним из первых этот символический ход описал
Карлейль: «Но ведь там, где вовсе нет книг, великий человек
лет через тридцать-сорок становится мифическим, так как все
современники, знавшие его, вымирают. А через триста, через
три тысячи лет!»1 Добавлю, что появление книг не только не
отменило социально-психологического механизма мифо-
логизации великой личности, но наоборот — ускорило его.
В самом деле, даже несомненные и достоверные источники
не обеспечивают нам непосредственного знакомства с тем
опытом, который их породил и сопровождал. Это все равно
что писать воспоминания о человеке, с которым нам не дове-
лось общаться. Известно, что Цветаева лишь однажды виде-
1 Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994. С. 25.
4.3. Жизнь и смерть символов
493
ла Блока на поэтическом вечере, но не решилась к нему по-
дойти. В результате Блок для нее остался идеализированной
личностью, находящейся на некоем пьедестале, что, правда,
нашло воплощение в прекрасном лирическом цикле «Стихи
к Блоку». Но, разумеется, поэтический образ Блока, создан-
ный Цветаевой, возник не на основе реального знакомства
и долгого общения с поэтом. Быть может, мое предложение
покажется невыполнимым, но я считаю, что избавление от
идеализированной романтической концепции великой лич-
ности и великого народа позволит нам прийти к лучшему по-
ниманию природы символизма. Мифологизация символизма
и.его творцов — это практически универсальная форма тра-
диции, позволяющая установить определенные символиче-
ские константы. Как говорил Блок в своей знаменитой речи
о Пушкине, жизнь поэта случайна, а его стихи бессмертны.
Но, к сожалению, стихи тоже смертны. Иллюзия бессмер-
тия ценностей совершенно необходима для любой традиции;
иначе та не имела бы определенности и чего-то, признающе-
гося неизменным, безусловным и абсолютно ценным.
Романтическая вера в бессмертие духовных ценностей
настолько сильна, что вполне можно придерживаться сле-
дующего дуализма: строгого логического рассудка в области
философии и идеализированного представления о вершинах
искусства и религии. Такой дуализм, на мой взгляд, харак-
терен для многих известных интеллектуалов, да и для боль-
шинства современных людей вообще. Дьюи пишет: «Поэзия,
искусство и религия — все это драгоценности. Их невозмож-
но сохранить, приковывая их к прошлому и бесплодно желая
восстановить то, что было разрушено ходом событий в науке,
промышленности и политике. Это цветы мыслей и желаний,
которые бессознательно соединяются в результате тысяч
и тысяч повседневных случаев и эпизодов, формируя уста-
новки воображения»1. Обратим внимание на триумвират: по-
эзия, искусство, религия2. И такое суждение Дьюи выводит
1 Дьюи Дж. Реконструкция в философии. М„ 2001. С. 161.
2 Бадью совершенно справедливо отмечает, что поэзия осталась «послед-
ним бастионом» для тех людей, которые хотят обрести универсальное ос-
нование для культуры. «Я выдвигаю следующий парадокс: вплоть до само-
го недавнего времени философия не умела мыслить вровень с капиталом.
494
Глава 4. Эйдетический опыт как история
на фоне своего радикального инструментализма, с позиций
которого в науке не может быть никаких «драгоценностей»,
никаких «цветов желаний».
Получается очевидный дуализм: в области концептуа-
лизма постулируется радикальный плюрализм, постоянная
смена теорий и методологий; в области символизма, наобо-
рот, допускаются универсальные ценности и дискурсы, веч-
но сущие для всех времен и народов. Я считаю такую точку
зрения совершенно несостоятельной: это не более чем фор-
ма иллюзии, стремление обрести безусловное начало среди
мира фрагментированных дискурсов. Хотя символы видоиз-
меняются по эйдетическим, а не логическим законам, и по-
тому их изменение обладает индивидуальной спецификой,
временность символов — это удел всего человечества. Сим-
вол может быть заимствован новой традицией лишь в ин-
терпретированной форме, что неизбежно влечет за собой его
видоизменение и обновление того эйдетического смысла, ко-
торый выступает его основанием.
В этом отношении символическая теория Уайтхеда вы-
ступает первой эмпирической доктриной, в рамках которой
отсутствует и эмпирический редукционизм в отношении
символов и стремление возвеличить поэтический символизм
как форму безусловного и незыблемого. Уайтхед считает, что
символическое видоизменение — это неизбежный процесс,
который позволяет избежать такого негативного явления,
как культурный застой. Он пишет: «Те общества, которые
не могут сочетать почтение к своим символам со свободой
их изменений, должны в конце концов распасться или под
воздействием анархии, или от медленного истощения жизни,
поскольку она, вплоть до самого интимного в самой себе, оставила поле
свободным для тщетных воздыханий о священном, для навязчивой идеи
о Присутствии, для смутного владычества поэмы, для сомнения в своей
законности... Философия оставила незавершенным “картезианское раз-
мышление”, заблудившись в эстетизации воли и пафосе свершения, судьбы
и забвения, потерянного следа. Она не захотела признать без экивоков аб-
солютность множественности и небытие связи. Она уцепилась за язык, за
литературу, за письмо как за последних возможных представителей апри-
орного определения опыта» (Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003.
С. 32-33).
4.3. Жизньи смерть символов
495
задушенной бесплотными призраками»1. Следует заметить,
однако, что символическая трансформация — это лишь ре-
гулятивный принцип. Я не могу с уверенностью утверждать,
что тот или иной символ будет обновляться и видоизменять-
ся. Он может не изменяться вообще и останется памятником
древней, забытой, совершенно чуждой нам формы возвы-
шенного. Он также может до определенной степени воспро-
изводиться в догматической форме, что особенно характер-
но для мифологического и теологического символизма. Хотя
Уайтхед в целом прав относительно зависимости жизни сим-
волизма от возможности его изменений, к символу нельзя
применить ни законов долженствования, достоверно спро-
гнозировать его будущее.
Но и Уайтхед оказывается ослепленным сиянием ро-
мантического идеала, возвышая греческий символизм над
современностью. Только греческий символизм у него не
неизменное, совершенное и прекрасное целое, а гармонич-
ная, соразмерная человеку и всегда логично видоизменяю-
щаяся культурная форма: <<Я считаю, что древние греки не
оглядывались на прошлое и не были консервативными. По
сравнению с соседними народами они были поразительно
не историчны. Они отличались умозрительностью, страстью
к рискованным приключениям, стремлением к новому. Наше
самое значительное отличие от греков заключается в том,
что мы — подражатели, в то время как они никого не копи-
ровали»2. К такому же мнению склонялись многие другие
интеллектуалы, в том числе такие профессиональные анти-
коведы, как А. Ф. Лосев, Я. Э. Голосовкер, А. А. Тахо-Годи,
В. Н. Ярхо, Ю. В. Андреев и др. Все они верили в «греческое
чудо». Я тоже верю в великую греческую культуру, которая
особенно дорога каждому философу. Но моя личная вера, по-
лагаю, совершенно не имеет отношения к теоретическому ис-
следованию символизма, а принципы, к которым я пришел,
противоречат этой прекрасной вере. Они гласят, что мы воз-
величили не греческий символизм, а позднейшие его интер-
претации: Греция для нас именно символ, эйдетическое лоно
1 Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М„ 1990. С. 63.
2Там же. С. 678.
496
Глава 4. Эйдетический опыт как история
культуры и человечества. Неверно полагать, что отсутствие
подражательности — это отказ от предыдущей традиции
и стремление ничего у нее не заимствовать. Греки в этом от-
ношении — не исключение; просто мы довольно плохо знаем
истоки этой великой цивилизации вследствие утраты боль-
шинства источников и отсутствия представлений о том, како-
вы были на самом деле Одиссей, Мусей, Орфей, Гомер, Тесей,
Биант, Клеобул, Солон, Фалес, Пифагор, Ликург за предела-
ми тех героизированных биографий, которые были созданы
через века после их жизни. О каком понимании «греческо-
го чуда» вообще может идти речь, если мы даже не уверены
в том, существовали ли вообще некоторые из великих осно-
воположников эллинского духа? Перед тем как верить в ис-
ключительность греков, следует помнить, что не может воз-
никнуть никакого совершенно оригинального символизма,
который бы не имел предпосылок в иных традициях — про-
шлых или соседствующих. Поэтому особенно ценны для нас,
например, сохранившиеся свидетельства о визитах Пифагора
и Платона в Египет.
Если судить в историческом масштабе, особенно относи-
тельно уже завершившейся традиции, то любой символ может
больше не сопровождаться опытом; после многократных по-
вторений символ неизбежно устаревает и может продолжить
существовать лишь двумя способами: либо подвергается но-
вым эйдетическим интерпретациям и начинает приспосабли-
ваться к новому опыту, либо поддерживается догматически-
ми или идеологическими средствами, признается в качестве
незыблемого авторитета. Копирование без интерпретации,
конечно, подрывает символическую значимость оригина-
ла, поскольку символ уже берется исключительно в своем
возвышенном значении без сопереживания ему. Вследствие
механического повторения любой символ становится об-
щим местом. В искусстве как наиболее образно конкретной
и динамичной сфере символизма пресыщенность однообраз-
ными повторениями наступает особенно скоро. Совершенно
оправданно, что каждый крупный автор творит в индивиду-
альной манере, равно как и создает разнообразные вариации
на одну и ту же тему. Тем не менее и эти вариации на опреде-
ленном этапе становятся настолько избыточными, что тре-
4.3. Жизнь и смерть символов
497
буется стилевое обновление, появление чего-то совершенно
нового. Когда мы говорим, что он берется в «классическом»
или «подлинном» значении, это означает то, что этот символ
искусственно выведен за пределы собственной исторической
динамики. При этом вариации эйдетического опыта эли-
минируются, а символическое значение, напротив, берется
в вечной и застывшей форме.
Современное философское сознание не обходится без
учета символизма, который уже не является дополнением
к метафизике, каким он был в XIX в. Теоретическую уста-
новку современного реализма как символического впервые
обосновал X. Патнэм: «Никакая концептуальная схема не
является простой “копией” мира. Само понятие истины за-
висит по содержанию от наших стандартов рациональной
приемлемости, а они, в свою очередь, опираются на наши
ценности и предполагают их»1. В философии внутреннего
реализма сфера ценностей и сфера символов соединены во-
едино, а символические суждения трактуются исключитель-
но как ценностные. Мне кажется, что это не что иное, как
пережиток влияния неокантианской философии и концеп-
ции Пирса. На самом деле, символические суждения — это,
прежде всего, суждения эйдетические, причем как таковые
они могут и не являться ценностями для той или иной тра-
диции. Судьба множества символов прошлых традиций схо-
жа: они ничего не значат для нас. Таким образом, не любая
ценность достигает уровня символа, и наоборот — не все
символы суть ценности. Тот символический реализм, о кото-
ром я веду речь, просто утверждает, что для возвышенного
опыта существуют такие объективные характеристики, как
эйдосы, символы, традиции, сложившиеся сферы культуры.
Можно ли придерживаться реализма вне символической точ-
ки зрения? Мне кажется, что, как бы ни преодолевала ана-
литическая философия учения о формальных и обыденных
языках, вполне возможно и допустимо словоупотребление,
либо умышленно освобожденное от любой символической
точки зрения, либо просто не достигающее такого уровня.
Более того, символический реализм, в отличие от метафизи-
1 Патнэм X. Разум, истина и история. М., 2002. С. 279.
498
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ческого реализма, допускает плюрализм относительно эйде-
тических образов мира. В рамках каждой крупной традиции
понятия «мир», «человек», «бог», «искусство» и т. п. уста-
навливаются с позиции опыта, присущего человеку только
этой традиции. В этом смысле мне довольно близка позиция
Макинтайра, который пишет: «Рациональность сама по себе
не есть ни теоретическая, ни практическая, но есть понятие
в истории. В самом деле, с тех пор как существуют различ-
ные традиции исследования в истории, существуют, наобо-
рот, рациональности, а не рациональность»1. Совершенно
очевидно, что Макинтайр понимает под рациональностью
вовсе не cogito — рациональность у него «символизируется»,
ставится в зависимость от индивидуального духовного строя
той или иной культуры. Правда, учение Макинтайра не очень
удачно в терминологическом отношении, потому что поста-
новка слова «рациональность» в множественное число линг-
вистически неудачна. К тому же трудно судить, присутство-
вала ли вообще рациональность в некоторых традициях. На
мой взгляд, вместо «рациональности» следует употреблять
категории, которые ближе к сущности именно традиции, та-
кие как «символические порядки», «эйдетические представ-
ления», «символические формы» и т. д.
Вне всякого сомнения, символическая интерпретация
в большинстве случаев не подчинена какому-либо постоян-
ному закону, а обращение к тому или иному символизму за-
частую обусловлено субъективным выбором. Не стоит спи-
сывать таких факторов, как вольное предпочтение гения,
мода, массовое сознание, медиатехнологии и др., когда опре-
деленные символы прошлой традиции именно считаются ос-
новополагающими. В самой традиции эти же символы могли
не иметь столь важного значения, быть вполне рядовыми
или вообще присущими какой-то локальной группе лиц.
Рассуждая о зарождении и смерти символов, следует учиты-
вать, что крайне трудно предсказать, когда именно символ
исторической традиции окажется наиболее востребованным,
да и будет ли он востребован вообще. Конечно, в научном
1 Macintyre A. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, Indiana, 1988.
P. 9.
4.3. Жизнь и смерть символов
499
дискурсе футурологией обычно не занимаются; зато охотно
вводят связи и формы преемственности традиций с точки
зрения принципа детерминизма. Для детерминизма, к при-
меру, Ренессанс не просто интерпретирует и заимствует ан-
тичность, но и «был обусловлен» античностью. Тут возни-
кает серьезная теоретическая проблема, которую поставил
А. Данто: «Какой опыт мог бы верифицировать предложение
“Петрарка дает начало Ренессансу”? Я не решился бы отве-
тить на этот вопрос. Скорее я сказал бы, что, хотя сейчас та-
, кое предложение в форме прошедшего времени осмысленно,
в момент свершения описываемого события оно было бы на
грани бессмыслицы. Строго говоря, не существует опыта,
верифицирующего данное предложение, если под верифи-
кацией мы подразумеваем переживание в опыте того, что
описывается данным предложением»1. В самом деле, любой
символ, поскольку он существует в той или иной традиции,
соответствует определенным эйдетическим представлениям.
И хотя любой символ может быть переписан с позиций дру-
гих представлений и способен изменить свой эйдетический
смысл, нет никакой «предопределенности» в векторе интер-
претации. Равно как и нельзя доказать, что символическая
традиция когда-то «берет начало» или «имеет конец». Нача-
ло и конец традиций — культурологический и исторический
факт; однако эти временные точки не относятся к какому-то
иному времени, кроме как к символическому. Поэтому не
является парадоксальным и то, что «зарождение» традиции
растягивается порой на целые века, равно как и упадок длит-
ся столетиями.
Здесь важно отметить следующее: эйдетический опыт
развитой традиции сложен и распределяется в разных сим-
волических порядках-, поэтому считать Петрарку и только Пе-
трарку основоположником Ренессанса нельзя. Как сложная
традиционная форма, Ренессанс не имеет ни простой причи-
ны, ни явственной начальной точки. Поэтому, кажется, древ-
ние были мудры, рассуждая о символических формах так:
они когда-то возникли, но очень давно, и будто бы все время
были. Рождение и смерть любого символа — это метафори-
1 Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. С. 66.
500
Глава 4. Эйдетический опыт как история
ческие понятия, не тождественные биологическому циклу
живого существа. Можно лишь сказать, что любой символ
порожден как символами прошлой традиции, так и смутны-
ми, неартикулированными представлениями возвышенного
опыта. Рождение и смерть символов — это процесс, не име-
ющий явного начала и конца, не протекающий в виде непре-
рывного ряда причин и следствий. Временные рамки, причи-
ны и следствия, точки начала и конца, фигуры основателей
и могильщиков традиций — все они домысливаются и допи-
сываются позже. Как утверждает Данто, «в намерения Ари-
старха не входило предвосхитить открытие Коперника, рав-
но как в намерения Петрарки не входило положить начало
эпохе Возрождения. Чтобы дать подобные описания, необ-
ходимы понятия, которые станут доступными только в более
позднее время»1. Таким образом, судить о жизни и смерти
символов, о начале и конце традиций можно лишь с поря-
дочной исторической дистанции; и сами такие точки зрения,
представляющие традицию как символ, оказываются интер-
претациями. Поэтому при обосновании символизма (и не его
одного) разумнее не искать явственного начала, а относить
зарождение к легендарным личностям, к теряющимся в глу-
бине веков народным представлениям, которые выражаются
настолько глубоко, что кажутся нам мифами.
Современная культура, открывшая информационные
технологии, вообще озабочена вопросом хранения данных
в максимально полном объеме. Так, к примеру, в мире со-
здано несколько мощнейших дата-центров, где на жестких
дисках хранится информация (причем многократно дубли-
рованная). Тем самым, как считают многие, проблема забве-
ния и утраты источников ныне полностью решена. Также по-
стоянно озвучивается точка зрения, что после медиального
поворота на первый план выходит образное («иконическое»)
представление, в хоте которого стирается различие между
оригиналом и его копией, между уникальным и типовым об-
разом и т. д.
Такие представления, на мой взгляд, характерны лишь
для традиции, в которой вера во временность и относитель-
1 Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. С. 164.
4.3. Жизнь и смерть символов
501
ность всех символов сочетается с убеждением в их маргиналь-
ности. Автор популярной американской книги о постмодер-
низме описывает этот феномен так: «Пророчество Вальтера
Беньямина, сделанное в 1936 г. о том, что, вследствие много-
кратного репродуцирования, произведения искусства поте-
ряют свою ауру, свою “самость” — не оправдалось. Наоборот,
мы наблюдаем абсолютно противоположный эффект. Мно-
гомиллионные суммы, которые платят за оригиналы, оказы-
ваются прямо пропорциональны количеству и доступности
их копий. Похоже, именно бессчетное число репродукций
и делает оригинал столь желаемым предметом обладания»1.
Т^м самым совершенно очевидно, что в эпистемологическом
смысле буквальные воспроизведения и копии никак не за-
трагивают символическую динамику. Повторение и уста-
лость традиции начинаются лишь тогда, когда тиражируются
и повторяются схожие «оригиналы», отчего символизм ока-
зывается избитым и утомительным. Ответ на вопрос, поче-
му же оригинал так дорого стоит, вне моей компетенции —
я лишь могу достаточно четко определить, почему оригинал
так высоко ценится. Причина в том, что оригинал полотна
великого художника — это уникальный символический мо-
мент оригинального эйдетического опыта, радикально новое
слово в рамках того или иного символического порядка и,
наконец, неповторимая, единственная в своем роде вариа-
ция. Все перечисленные характеристики идеальны, но в мире
рыночной экономики «абсолютная уникальность» выража-
ется в астрономической сумме денег. Чтобы оставить увле-
кательный, но не очень важный для эпистемологии вопрос:
«В какие суммы можно оценить символы и творения?» —
я обращусь к высказыванию Фукуямы, который обрисовал
антиутопический мир, в котором духовные ценности при-
выкли мерить на деньги, полный расчетливых потребителей:
«Конец истории печален. Борьба за признание, готовность
рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологи-
ческая борьба, требующая отваги, воображения и идеализ-
ма, — вместо этого — экономический расчет, бесконечные
технические проблемы, забота об экологии и удовлетворе-
1 Аппиньянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм. СПб., 2004. С. 48.
502 Глава 4. Эйдетический опыт как история
ние изощренных запросов потребителя»1. В целом можно
предположить, что не только идеология и прихоти тиранов
губят символизм, но и ситуации, когда символы служат ин-
тересам олигархических структур. Когда символизм стано-
вится сферой заработка и предметом сбыта, когда в качестве
меценатов и ценителей начинают выступать богатые люди,
то, как правило, ничего, кроме вырождения и упадка, не про-
исходит. Художественный символизм, безусловно, нуждает-
ся в больших материальных затратах, в поддержке богатых
и знатных заказчиков, в государственном субсидировании;
но реализует он себя лишь при наличии талантливых авто-
ров, которые совершенно свободны в своем творчестве. Воз-
можно, Меценат и вправду был идеальным покровителем
искусств, поскольку, давая деньги, не ограничивал свободу
творчества, позволяя мастерам выбиться из нужды и полно-
стью реализовать свой талант. И все же, как ни радужна эта
картина, столь гармоничные взаимоотношения заказчиков
и художников — скорее исключение, нежели правило. Новый
эйдетический опыт обычно не только непонятен, чужд свое-
му времени, но и окружен многочисленными препонами, вы-
нужден пробиваться и приспособляться. Даже такой гений,
как Моцарт, смог поставить оперу «Похищение из сераля»
лишь потому, что умело пользовался конъюнктурой, жела-
нием императора иметь при дворе крупного австрийского
композитора и развивать национальный театр.
Идеальные условия для формирования и развития сим-
волизма, которые порой возникают, обычно метафориче-
ски именуются «расцвет» и «подъем». Однако это еще не
значит, что в такое время обязательно придут новые гении,
а эйдетические представления разовьются. Тепличные усло-
вия, покровительство властей могут развратить творца, или,
что еще хуже, породить ту или иную «казенную» манеру.
И наоборот, символические новации могут родиться под
гнетом властей, цензуры, церкви и т. д. Поэтому новый эй-
детический опыт может возникнуть практически в любых
условиях, правда в благоприятной обстановке он развива-
ется быстрее. Здесь важен не набор обстоятельств, а скорее
1 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 148.
4.3. Жизнь и смерть символов
503
эйдетическая глубина и способность облечь ее в новые сим-
волические формы. Было бы негуманным забывать о том,
сколько авторов великих творений были лично несчастны,
гонимы, бедны, не поняты, не оценены — их личности вовсе
не стоит приносить в жертву некоему «символическому про-
грессу». Однако некоторые исследователи символизма верно
указывают, что лишь на пути дерзаний возможно культур-
ное обновление. Так, Лотман пишет: «Понимаете, там, где
нет опасности, нет и надежды. Где нет трагедии — там нет
счастья. Где нет разрыва, нет угрозы сорваться в общую ги-
бель, нет надежды на единение. Человечество все время как
бы играет этим. Играет на грани — на грани гибели Флорен-
ции или гибели Рима. Что вы делаете, безумцы, вы губите
Рим! Да, оказывается, Рим погибает, но тут возникает нечто
новое, чего бы не было, если бы Рим не погиб. То же самое
и мы сейчас... Но ведь можно погубить так, что ничего но-
вого не возникнет. Особенно в мире, где техническое раз-
витие сильно увеличивает возможности, может быть, силь-
нее, чем разумные способности ими пользоваться. Хватит
ли сил устоять... Гёте говорил, что в самоограничении виден
мастер. В чем мысль Гёте? Мастер — высшая ступень гения.
Гений обладает огромной разграниченностью. И когда суще-
ствует такой гигантский размах непредсказуемого, должен
включаться механизм самоограничения»1. В символических
трансформациях не существует безусловного прогресса и ре-
гресса', новый эйдетический опыт не является лучшим или
«более прогрессивным». Зачастую он просто встает рядом
с прежним символизмом как нечто не менее возвышенное,
но совершенно иное. Порой новый символизм довольно
варварски разрушает старый. Напрасно мы будем пытаться
убедить всех людей в непреходящей ценности классической
культуры. Всегда будут пылать костры из книг, всегда будут
Геростраты, всегда вандалы будут расписывать колонны па-
вильонов прекрасного Павловска. Бывает и так, что новые
символы оказываются частично оригинальными, а частично
интерпретациями или даже заимствованиями прежних сим-
1 Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
С. 449.
504
Глава 4. Эйдетический опыт как история
волов. Наконец, что отмечает Лотман, может последовать
гибель целого символического мира, наступить культурная
деградация. Все причины появления того или иного симво-
лизма, все символические трансформации индивидуальны;
к ним нельзя приложить какое-либо всеобщее мерило.
В символической сфере есть преемственность и отторже-
ние, но не существует прогресса и регресса. К примеру, очевид-
но, что новый идеал красоты не «лучше» или «совершеннее»
прежнего, а всего лишь соответствует представлениям данной
эпохи. Любое хранение символов возможно только в опыте тра-
диции-, любое символическое отношение — это интерпретация,
лишенная безусловного мерила истинности. Реконструировать
и оживить прежние символы — это возвышенная и благород-
ная задача, свидетельствующая о здоровом стремлении почи-
тать своих предшественников. Однако все это достижимо до
определенной степени, равно как и далеко не всегда необходи-
мо. Ведь наша символическая заинтересованность вызвана не
только кипением возвышенного опыта, но и щемящим ощуще-
нием нехватки, утраты, потери, невозможности уподобиться
великим мужам великих времен. Ностальгическая и травма-
тическая интенция символической памяти становится все бо-
лее очевидной, особенно в эпоху фрагментированной и эклек-
тичной символической реальности. Анкерсмит по этому поводу
замечает: «Новая идентичность во многом конституируется
травмой от потери прежней идентичности — и именно в этом
заключается ее главное содержание»1. И если возвышенный
опыт зачастую ищет себя в ностальгическом воспоминании, то
эйдетический смысл символа, наоборот, имеет тенденцию быть
понятым лишь в будущем, при жизни следующих поколений. Бах-
тин пишет: «Жизнь великих произведений в будущих, далеких
от них эпохах, как я уже сказал, кажется парадоксом. В процес-
се своей посмертной жизни они обогащаются новыми значени-
ями, новыми смыслами; эти произведения как бы перерастают
то, чем они были в эпоху своего создания. Мы можем сказать,
что ни сам Шекспир, ни его современники не знали того “ве-
ликого Шекспира”, какого мы теперь знаем»2. Бахтин понима-
1 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 443.
2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 350.
4.3. Жизнь и смерть символов
505
ет любую интерпретацию, как диалог, обогащающий ориги-
нал все новыми и новыми значениями. Но ведь дело-то в том,
что «оригинала как такового» не существует, а последующие
интерпретации Шекспира часто отталкиваются не от самого
Шекспира, а от эйдетических представлений интерпретаторов,
когда Шекспир используется как классический автор. Нет ни-
какой уверенности в том, что все будет происходить по словам
Бахтина. Конечно, хотелось бы верить в значимость великих
творений для многих поколений — но едва ли это так. Симво-
лическая история дискретна: она знает века забвения и в этом
смысле она не является ареной, где торжествуют справедли-
вость и логика. Другое дело, что любые символические интер-
претации всегда диалогичны: и интерпретируемое, и позиция
интерпретатора понимаются не как концепты, а как символы.
Любой символический диалог — это обмен опытом, обретение
сопереживания, нахождение общего языка, признание цен-
ности, достижение понимания, осознание потери. Однажды
в историческом самосознании людей что-то бесповоротно из-
менилось, и греки оказались «древними греками», хотя это во-
все не значит, что опыт «новых» преодолел опыт «древних»1.
Само именование греков как «древних» — это символическое
представление об ином эйдетическом совершенстве, которое,
как это ни печально, не оказалось единственно возможным.
Поэзия учит, что гибель и забвение — удел всего возвы-
шенного. Как пишет Джакомо Леопарди,
Но, познав паренье,
Я грущу о том,
Что нагрянут грозы —
Кану я в забвенье
С лепестками розы,
С лавровым листом2.
Философы, историки и поэты, жившие в разные вре-
мена, констатировали конечность самых священных сим-
1 «Та дистанция во времени, которая превратила греков в древних греков,
имела огромное преобразующее значение: она наполнена раскрытиями
в античности все новых и новых смысловых ценностей, о которых греки
действительно не знали, хотя сами и создали их» (Бахтин М. М. Эстетика
словесного творчества. М., 1986. С. 352).
2 Перевод А. Б. Махова.
506 Глава 4. Эйдетический опыт как история
волов, которые неизбежно гибнут. Героизация канувшего
в Лету символа — характерная черта подлинно возвышен-
ной интерпретации; она совершенно необходима для тво-
рения нового символизма. Все символы уйдут в небытие, но
символической смерти нет, ибо даже былой символ высту-
пает высшим совершенством, сияющим перед нами, как свет
далекой звезды.
Список литературы1
Авл Гелий. Аттические ночи. СПб., 2007-2008.
Айер А. Дж. Язык, истина и логика. М., 2010.
* Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993.
Аналитическая философия: становление и развитие. М.,
1998.
Андерсон П. Истоки постмодерна. М., 2011.
Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории. Л., 1990.
Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. Несколько штри-
хов к портрету греческой цивилизации. СПб., 1998.
Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир
в эпоху бронзы и раннего железа (III — начало I тыс. до н. э.).
СПб., 2002.
Андреева Е. Постмодернизм. СПб., 2007.
Анкерсмит Ф. Нарративная логика. М., 2003.
Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение ме-
тафоры. М„ 2003.
Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М.,
2007.
Античные риторики. М„ 1978.
Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001.
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972.
Аппинъянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм. СПб., 2004.
Апыхтин А. В. История настоящего. СПб., 2013.
Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1-2. М„ 1976-1978.
1 В списке литературы полностью перечислены только философские
источники. Также приводятся избранные труды по частным гуманитар-
ным наукам. Художественные произведения в списке, как правило, не от-
ражены — за исключением тех, что в равной степени принадлежат истории
философии.
508
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
Афиней. Пир мудрецов. В пятнадцати книгах. Т. 1-2. М.,
2004-2010.
Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003.
Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб., 2014.
Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М., 1999.
Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.,
2003.
Барт Р. Нулевая степень письма. М., 2008.
Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
Баттистини М. Символы и аллегории. М., 2008.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.;
Аугсбург, 2002.
Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 1-9. М., 1976-
1982.
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
Белый А. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. М.,
1995.
Бейкер Г. П., Хакер П. М. С. Скептицизм, правила и язык. М.,
2008.
БёмеЯ. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990.
Бёме Я. О тройственной жизни человека. Уфа, 2011.
Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1995.
Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.,
1989.
Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991.
Бёрк Э. Философское исследование о происхождении на-
ших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979.
Беркли Дж. Сочинения. М., 1978.
Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001.
Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001.
Берлин И. Подлинная цель познания. М., 2002.
Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. М.; Л., 1960.
БлокА. А. Записные книжки. М„ 1965.
Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатерин-
бург, 1997.
Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатерин-
бург, 1998.
Список литературы 509
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатерин-
бург, 2006.
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М.,
1990.
Буало. Поэтическое искусство. М., 1957.
Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994.
Букхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996.
Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1-2. М., 1971-1972.
Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. СПб.,
20t)6.
Варбург А. Великое переселение образов. СПб., 2008.
Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций.
М.; Киев, 1994.
Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995.
Винкельман И. И. История искусства древности. Малые со-
чинения. СПб., 2000.
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М„ 1994.
Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1999.
Витгенштейн Л. Коричневая книга. М., 1999.
Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2006.
Волошин М. Лики творчества. Л., 1988.
Вольтер. Философские сочинения. М., 1988.
Выготский Л. С. Психология искусства. СПб., 2000.
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994.
ГадамерХ.-Г. Истина и метод. М., 1988.
Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.
Гегель Г. В. Эстетика. Т. 1-4. М., 1968-1973.
Гегель Г. В. Работы разных лет: в 2 т. Т. 2. М„ 1971.
Гегель Г. В. Энциклопедия философских наук. Т. 1-3. М.,
1974-1977.
Гегель Г. В. Лекции по философии истории. СПб., 1993.
Гёльдерлин Ф. Гиперион, или Отшельник в Греции. М.;
Аугсбург, 2004.
Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.,
1977.
510
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
Герман М. Ю. Модернизм. СПб., 2005.
Герман М. Ю. Импрессионизм. Основоположники и после-
дователи. СПб., 2008.
Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 4-5. М„ 1982.
Герцен А. И. Сочинения: в 2 т. Т. 1-2. М., 1985-1986.
Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975.
Гнедин П. П. История искусств. Т. 1-3. СПб., 1897.
Голосовкер Я. Э. Логика античного мифа. Новосибирск, 1987.
Гордин А. М„ Гордин М. А. Александр Блок и русские худож-
ники. Л., 1986.
Гудмен Н. Способы создания миров. М., 2001.
Гусев С. С. Логические основания коммуникации. СПб.,
2015.
Даниэль С. Рококо. СПб., 2010.
Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 2009.
Делёз Ж. Логика смысла. М.; Екатеринбург, 1998.
Делёз Ж. Критика и клиника. СПб., 2002.
Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания.
М., 2004.
Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000.
Джеймс У. Воля к вере. М., 1997.
Джеймс У. Введение в философию. Рассел Б. Проблемы фи-
лософии. М., 2000.
Дидро Д. Сочинения: в 2 т. Т. 1-2. М., 1986-1991.
Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1,4. М„ 2000-2001.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаме-
нитых философов. М., 1979.
Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. М., 1990.
Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987.
Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. СПб., 2000.
Долинский М. 3. Искусство и Александр Блок. М„ 1985.
Доманска Э. Философия истории после постмодернизма.
М., 2010.
Дорофеев Д. Ю. Личность и коммуникация. Антропология
устного и письменного слова в античной культуре. СПб., 2015.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Избранные страни-
цы. М., 1989.
Список литературы 511
Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство
в контексте эпохи конца XIX-начала XX века. М., 2012.
Дьюи Дж. Реконструкция в философии. М„ 2001.
Дьяков А. В. Проблема субъекта в постструктуралистской
перспективе. Онтологический аспект. М., 2005.
Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М., 2003.
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.
Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. М„
2008.
Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа. Л., 1990.
Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985.
• Зайцев А. И. Греческая религия и мифология: курс лекций.
М., 2005.
Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995.
Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994.
Иванов В. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М.,
1982.
Ипполит Ж. Логика и существование. Очерк логики Гегеля.
СПб.,2006.
Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1-2. М„
2001.
Йейтс У. Б. Видение. М., 2000.
Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997.
Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
Кандинский В. О духовном в искусстве (живопись). Л„ 1989.
Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994.
Кассирер Э. Философия символически форм. Т. 1-3. М.;
СПб., 2002.
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
Кессиди Ф. От мифа к логосу: становление греческой фило-
софии. СПб., 2003.
Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна. СПб.,
2003. .
Клукерт Э. Садово-парковое искусство Европы. От антич-
ности до наших дней. М., 2008.
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.
512
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
Кольридж С. Т. Избранные труды. М., 1987.
Кондильяк Э. Б. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М., 1980.
Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998.
Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб., 1999.
Ксенофонт. Сократические сочинения. Киропедия. М.,
2003.
Ксенофонт. Лакедемонская полития. СПб., 2014.
Куайн У. В. О. Слово и объект. М„ 2000.
Куайн У. В. О. С точки зрения логики. М., 2010.
Кун Т. Структура научных революций. М., 2002.
Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства.
Сады и парки мира. М., 2008.
Курц П. Искушение потусторонним. М., 1999.
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие
к «Философским крохам». СПб., 2005.
Кьеркегор С. Или — или. СПб., 2011.
Лабрюйер Ж. Характеры. СПб., 2008.
Лавджой А. Великая цепь бытия. История идеи. М., 2001.
Лангер С. Философия в новом ключе. М., 2000.
Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы. М., 1993.
Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008.
Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4 т. Т. 3. М., 1984.
Леонардо да Винчи. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1.
М„ 2010.
Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии.
М„ 1957.
ЛибераА. де. Средневековое мышление. М., 2004.
Лиотар Ж. Ситуация постмодерна. СПб., 1998.
Лисовский В. Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия.
СПб., 2007.
Лихачев Д. С. Поэзия садов. М., 1998.
Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. 1-3. М., 1985-1988.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и позд-
няя классика. М., 1975.
Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство.
М„ 1976.
Список литературы 513
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии.
М„ 1993.
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура сти-
ха. Л., 1972.
Лотман Ю. М. и тартуско-московская семиотическая шко-
ла. М., 1994.
Лукиан. Сочинения. Т. 1-2. СПб., 2001.
Лукомский Г. К. Старый Петербург. СПб., 2002.
Лукреций. О природе вещей. М., 1983.
Макинтайр А. После добродетели. М., 2000.
Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения чело-
века. М., 2003.
Ман П. де. Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999.
Марк Аврелий. Размышления. Магнитогорск, 1994.
Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом. М., 2007.
Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. Вечные спут-
ники. М., 1995.
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
МестрЖ. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998.
Моммзен Т. История Рима. СПб., 1993.
Монтень М. Опыты. Избранные главы. М., 1991.
Мочулъский К. Кризис воображения. Томск, 1999.
Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII ве-
ков. М., 1971.
Мур Дж.Э. Природа моральной философии. М., 1999.
Несин В., Сауткина Г. Павловск Императорский и Велико-
княжеский. 1777-1917. СПб., 1996.
Никоненко В. С. Труды по русской философии и литературе.
СПб., 2014.
Никоненко С. В. Английская философия XX века. СПб., 2003.
Никоненко С. В. Аналитическая философия. Основные кон-
цепции. СПб., 2007.
Никоненко С. В. Реальность, символы и анализ. Философия
по ту сторону постмодернизма. СПб., 2012.
Никонова С. Б. Эстетическая рациональность и новое ми-
фологическое мышление. М., 2012.
514
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1-2. М., 1990-1996.
Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки ценностей. М.,
2005.
Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики
в Саисе. СПб., 1995.
Новалис. Фрагменты. СПб., 2014.
Нордау М. Вырождение. Современные французы. М„ 1995.
Ориген. О началах. М., 1993.
Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М„
1991.
Остин Дж. Избранное. М., 1999.
Остин Дж. Три способа пролить чернила. Философские ра-
боты. СПб., 2006.
Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М.,
2002.
Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. Т. II.
Павловский парк. СПб., 2005.
Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб., 2009.
Патнэм X. Разум, истина и история. М., 2002.
Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М., 1982.
Пирс Ч. С. Принципы философии. Т. 2. СПб., 2001.
Платон. Сочинения: в 3 т. Т. 1-3. М„ 1968-1972.
Платоновский сборник I, II. М.; СПб., 2013.
Плотин. Сочинения. СПб., 1995.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1-2. М„ 1994.
Плутарх. Моралии. М.; Харьков, 1999.
Позднее М. М. Психология искусства. Учение Аристотеля.
М.; СПб., 2010.
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.,
2002.
Прокл. Платоновская теология. СПб., 2001.
Пропп В. Морфология сказки. Л., 1928.
Пушкин в русской философской критике. М., 1990.
Райл Г. Понятие сознания. М„ 2000.
Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. СПб.-М., 2004.
РансьерЖ. Разделяя чувственное. СПб., 2007.
Рассел Б. Человеческое познание. Киев, 1997.
Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999.
Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999.
Список литературы 515
Рёскин Дж. Искусство и действительность. М., 1900.
Рёскин Дж. Лекции об искусстве. М., 2006.
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.
Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.
Рикёр П. Память, история, забвение. М„ 2004.
Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования по-
нятий. СПб., 1997.
Розанов В. В. Сочинения: в 2 т. Т. 1-2. М., 1990.
Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоев-
t ского. М„ 1996.
Романенко Ю. М. Онтология мифа. СПб., 2006.
Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996.
Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск,
1997.
РуссоЖ.-Ж. Избранное. М., 1996.
РуссоЖ.-Ж. Сочинения. Калининград, 2001.
Савченкова Н. М. Аналитика психического опыта. Пробле-
ма психической предметности в философии XX века и психоа-
нализе. СПб., 2009.
Савчук В. В. Философия фотографии. СПб., 2005.
Савчук В. В. Топологическая рефлексия. М., 2012.
Сантаяна Дж. Скептицизм и животная вера. СПб., 2001.
Сартр Ж.-П. Что такое литература? СПб., 2000.
Светлов Р. В. Античный неоплатонизм и александрийская
экзегетика. СПб., 1996.
Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб., 1998.
Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.
Сенека. Философские трактаты. СПб., 2001.
СёрлДж. Открывая сознание заново. М., 2002.
Слотердайк П. Критика цинического разума. М.; Екатерин-
бург, 2009.
Соловьев Вл. Сочинения в 2 т. Т. 1-2. М., 1988.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург, 1999.
Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения
(XV век). М., 1985.
Спор о древних и новых. М., 1985.
Стросон П. Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизи-
ки. Калининград, 2009.
Суинберн Р. Есть ли Бог? М., 2001.
516
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
Сурова Е. Э. Глобальная эпоха: полифония идентичности.
СПб., 2005.
Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 1989.
Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994.
Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М„ 1995.
Тодоров Ц. Теории символа. М., 1998.
Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991.
Томпсон Э. А. Римляне и варвары. Падение Западной импе-
рии. СПб., 2003.
Уайт X. Метаистория. Екатеринбург, 2002.
Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990.
Уайтхед А. Н. Символизм, его смысл и воздействие. Томск,
1999.
Фаулз Дж. Аристос. М., 2002.
Фихте И. Г. Сочинения: в 2 т. Т. 1-2. СПб., 1993.
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. 1-2. М., 1990.
Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV века. М., 1992.
Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме.
М., 1979.
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989.
Фрагменты ранних стоиков. Т. I—III. М., 1998-2010.
Фрейд 3. Толкование сновидений. Ереван, 1991.
Фрейд 3. Художник и фантазирование. М., 1995.
Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и рели-
гии. М„ 1980.
Фуко М. Слова и вещи. М., 1977.
Фуко М. Воля к истине. М„ 1996.
Фуко М. Археология знания. СПб., 2004.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренес-
санса. М., 1993.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный
век. М„ 1994.
Фулканелли. Философские обители и связь герметической
символики с сакральным искусством и эзотерикой Великого Дела-
ния. М„ 2004.
Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002.
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное дей-
ствие. СПб., 2006.
Список литературы 517
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2008.
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993.
Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. СПб.,
2003.
Ханзен-Лёве А. А. Русский символизм. Система поэтических
мотивов. СПб., 2003.
Хатчесон Ф„ ЮмД., Смит А. Эстетика. М., 1973.
Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.
Хёйзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
в Хинтикка Я. Логико-методологические исследования. М.,
1980.
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, гер-
метической, каббалистической и розенкрейцерской символиче-
ской философии. СПб., 1994.
Холл М. НЛП: золотые секреты скрытого влияния на подсо-
знание и поведение. СПб., 2009.
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
Цицерон. Философские трактаты. М., 1985.
Цицерон. Эстетика. М., 1994.
Цицерон. О пределах блага и зла. Парадоксы стоиков. М.,
2000.
Цицерон. Учение академиков. М., 2004.
Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989.
Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной те-
ории. М„ 2013.
Человек в мире чувств. М., 2000.
Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1986.
Шатобриан Ф.-Р. де. Замогильные записки. М., 1995.
Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1984.
Шварцкопф Ф. Метаморфоза данного: на пути к созданию
экологии сознания. М., 2000.
Шелли П. Б. Триумф жизни. М., 1982.
Шеллинг Ф. В. Сочинения в 2 т. Т. 1. М„ 1987.
Шеллинг Ф. Философия искусства. СПб., 1996.
Шеллинг Ф. Философия мифологии. Т. I—II. СПб., 2013.
Шеллинг Ф. В. Й. Изложение моей системы философии.
СПб., 2014.
518
Никоненко С. В. Эйдос и концепт
Шестов Л. Избранные сочинения. М., 1993.
Шестов Л. Сочинения: в 2 т. Т. 1-2. М., 1993.
Шефтсбери. Эстетические опыты. М., 1975.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 1-2. М., 1983.
Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004.
Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного
основания.М, 1900.
Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. Т. 1-4. М.,
1901-1910.
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993.
Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994.
Шуази О. Всеобщая история архитектуры. М., 2010.
Шюре Э. Великие посвященные. М., 1990.
Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жиз-
ни. Ереван, 1988.
Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 1998.
Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004.
Эко У. История красоты. М., 2005.
Эко У. Vertigo. Круговорот образов, понятий, предметов.
М., 2009.
Эко У. История иллюзий. Легендарные места, земли и стра-
ны. М„ 2014.
Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991.
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
Элиот Т. С. Назначение поэзии. М.; Киев, 1997.
Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб., 1995.
Эстетика немецких романтиков. М.; СПб., 2014.
ЮмД. Сочинения в 2 т. Т. 1-2. М., 1996.
Юнг К. Г. Ответ Иову. М., 1995.
Юнг К. Г. Символы трансформации. М„ 2008.
Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
Ямвлих Халкидский. Комментарии на диалоги Платона.
СПб., 2000.
Ямвлих. О Пифагоровой жизни. М., 2002.
Ямвлих. О египетских мистериях. М., 2004.
Bruner J. S. Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Mass.;
London, 1986.
Dummett M. The Logical Basis of Metaphysics. Cambridge,
Mass., 1991.
Список литературы 519
Grice Р. Studies in the Way of Words. Cambridge, Mass., 1989.
Hare R. M. The Language of Morals. Oxford, 1972.
Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge, 1980.
Macintyre A. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame,
Indiana, 1988.
McDowellJ. Mind and World. Cambridge, Mass.; London, 1994.
Munz P. The Shapes of Time. Middletone, 1978.
Peacocke C. A Study of Con cepts. Cambridge, 1992.
Putnam H. Realism with a Human Face. Cambridge, Mass.,
11990.
Schiller F. C. S. Logic for Use. New York, 1930.
Searle J. Intentionality. Cambridge, 1983.
Whitehead A.N. Process and Reality. New York, 1967.
Williams B. Moral Luck. Cambridge, 1981.
SUMMARY
The matter of the book is the epistemological analysis of sym-
bolism in philosophy, history and art. The author proposes the theory
of sublime experience as the specific capacity of human mind.
All the philosophy of symbolism is studied in this book. Some
main philosophers are: Plato, Aristotle, Cicero, Plutarch, Diogenes
Laertius, Dante, Bohme, Montaigne, Fr. Bacon, Locke, Hume,
Coleridge, Vico, Rousseau, Lessing, Winckelmann, Holderlin,
Novalis, Goethe, Kant, Schelling, Hegel, Schlegel, Kirkegaard, Ni-
etzsche, Dilthey, Spengler, Cassirer, Heidegger, Gadamer, Huizin-
ga, Ricoeur, Habermas, Ruskin, Whitehead, Russell, Wittgenstein,
Dewey, Goodman, Davidson, Rorty, Searle, Putnam, Ankersmit,
Sartre, Foucault, Bartes, Baudrillard, Derrida, Badiou, Ranciere,
Eco, Belinsky, Herzen, Dostoevsky, Vyacheslav Ivanov, Andrey
Bely, Blok, Berdyaev, Shestov, Rozanov, Roman Jacobson, Losev,
Bakhtin, Lotman etc.
There are different sources of symbolism and conceptualism.
Concepts are generated by rationality; symbols are born by sublime
experience. The author tries to prove some main points:
— symbols are not united with concepts;
— symbols are generated only by sublime experience;
— sublime experience is the eidetic experience;
— symbol is a linguistic image of eidos;
— eidos is the perfect, beautiful and sublime image;
— symbols are not a matter of knowledge;
— people live in different symbolical traditions;
Summary
521
— ancient symbolism is the great tradition. But it is not the main
one;
— symbols exist in its own historical space and time;
— any symbol may be re-interpreted;
— sublime experience is not like sensual experience;
— linguistic definition of symbols is a metaphor;
— realistic symbolism is proposed. Symbols are not metaphysi-
cal entities. They change in history;
— the method of symbolical analysis is proposed;
— any symbolism is possible only in tradition. Sublime experi-
ence has individual features in any tradition;
. — symbolical transformations have the main reason: the dis-
crepancy between sublime experience and ideology;
— there is no symbolical progress or regress;
— there is no so called symbolical death;
— any historical symbol may be restored in new tradition as
classical symbolical content. But this symbol is always re-interpreted;
— Hume and Kant are the founders of theoretical studies in
symbolism;
— Romanticism is the main contemporary symbolical paradigm;
— the main epistemological historical strategy is to try to restore
the authentic sublime experience;
— symbolical sense is not like symbolical meaning.
Nikonenko Sergey V. (born 1971) is a professor of philos-
ophy in Saint-Petersburg State University. The author of the
books: British Philosophy in the 20th Century (2003); Contempo-
rary Western Philosophy (2007); Analytical Philosophy: the Main
Theories (2007); Reality, Symbols and Analysis. Philosophy Beyond
Postmodernity (2012).
Научное издание
Никоненко Сергей Витальевич
ЭЙДОС И КОНЦЕПТ
Эпистемологические основания
символизма в метафизике,
истории, искусстве
Директор издательства Р. В. Светлов
Ответственный редактор А. А. Галат
Редактор Е. О. Стоянов
Корректор А. А. Борисенкова
Верстка А. И. Соловьевой
Художник О. Д. Курта
Подписано в печать 13.11.2017.
Формат 60x84 7i6. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32. Заказ № 964.
Издательство РХГА
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15
Тел.: (812) 310-79-29, +7(981)699-6595;
факс: (812) 571-30-75;
e-mail: rhgapublisher@gmail.com
http://irhga.ru
Отпечатано в типографии «Контраст»
192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38